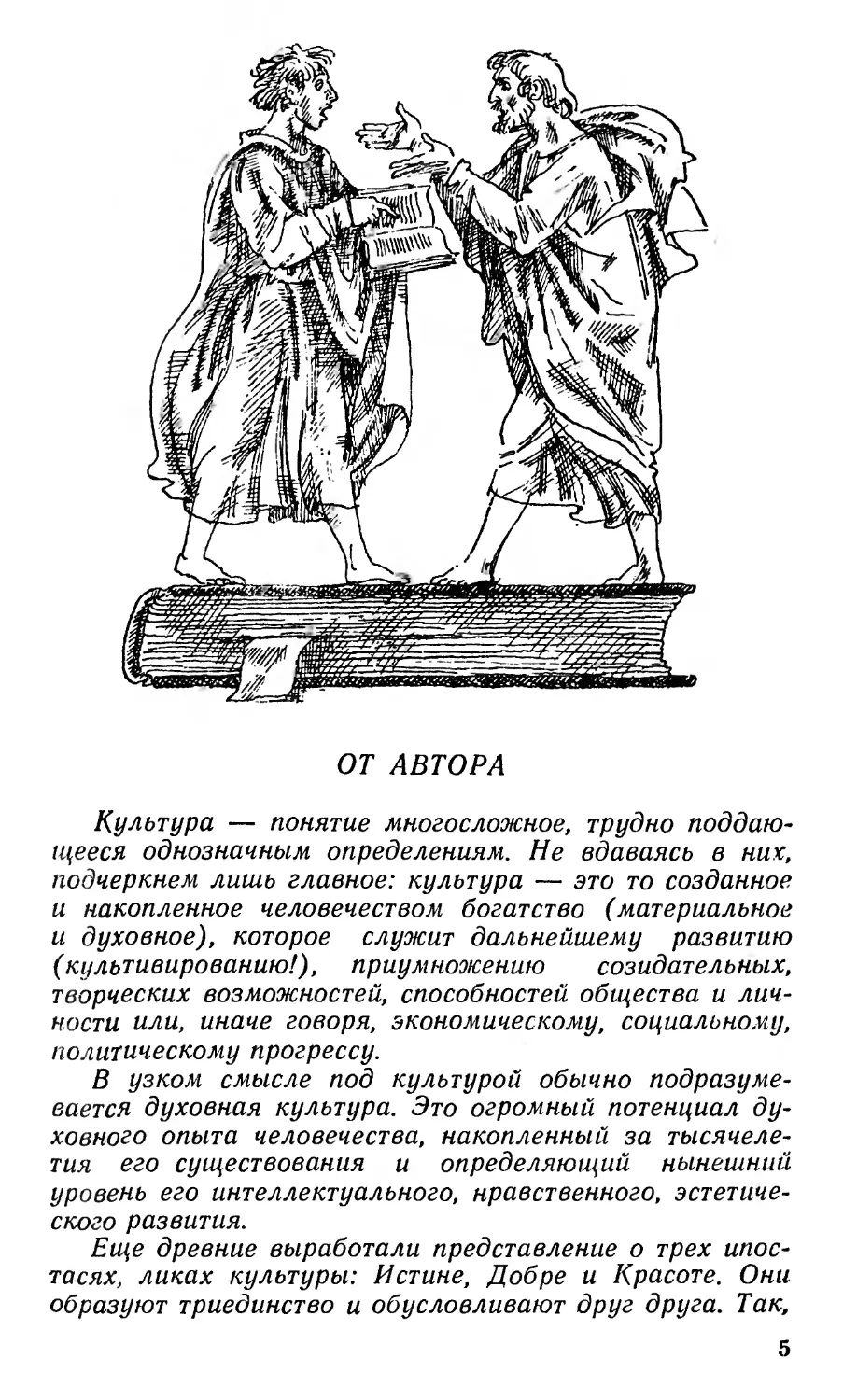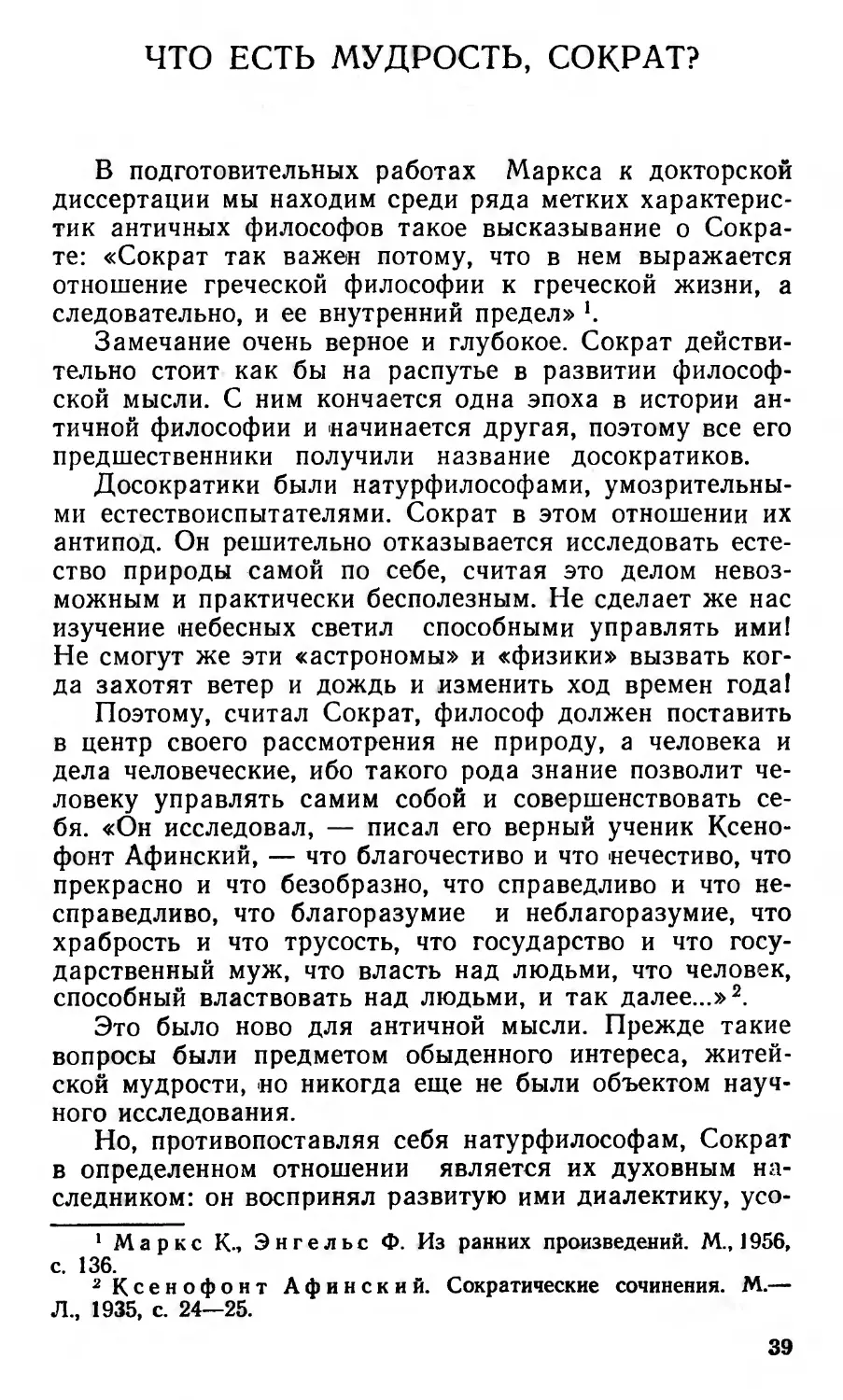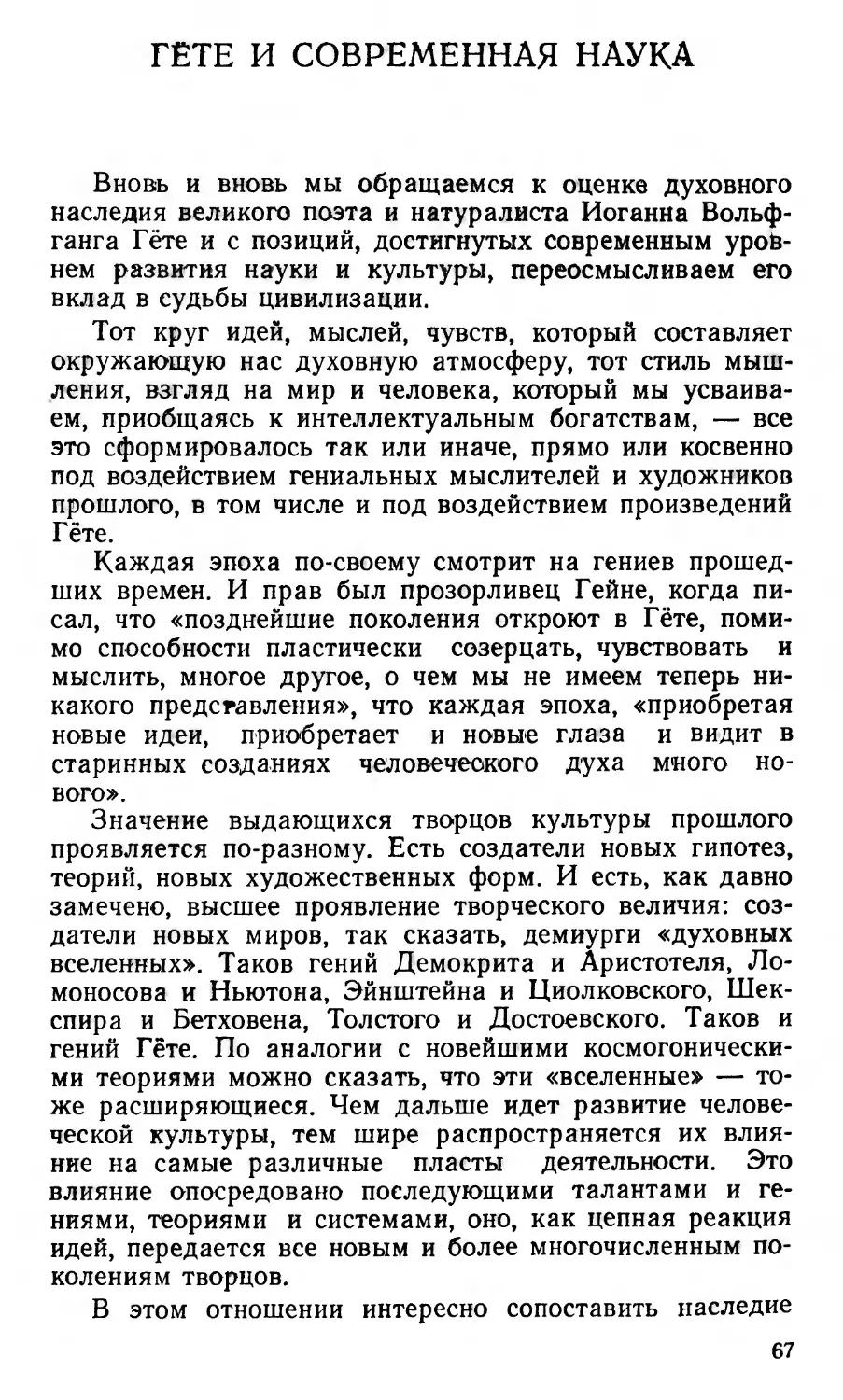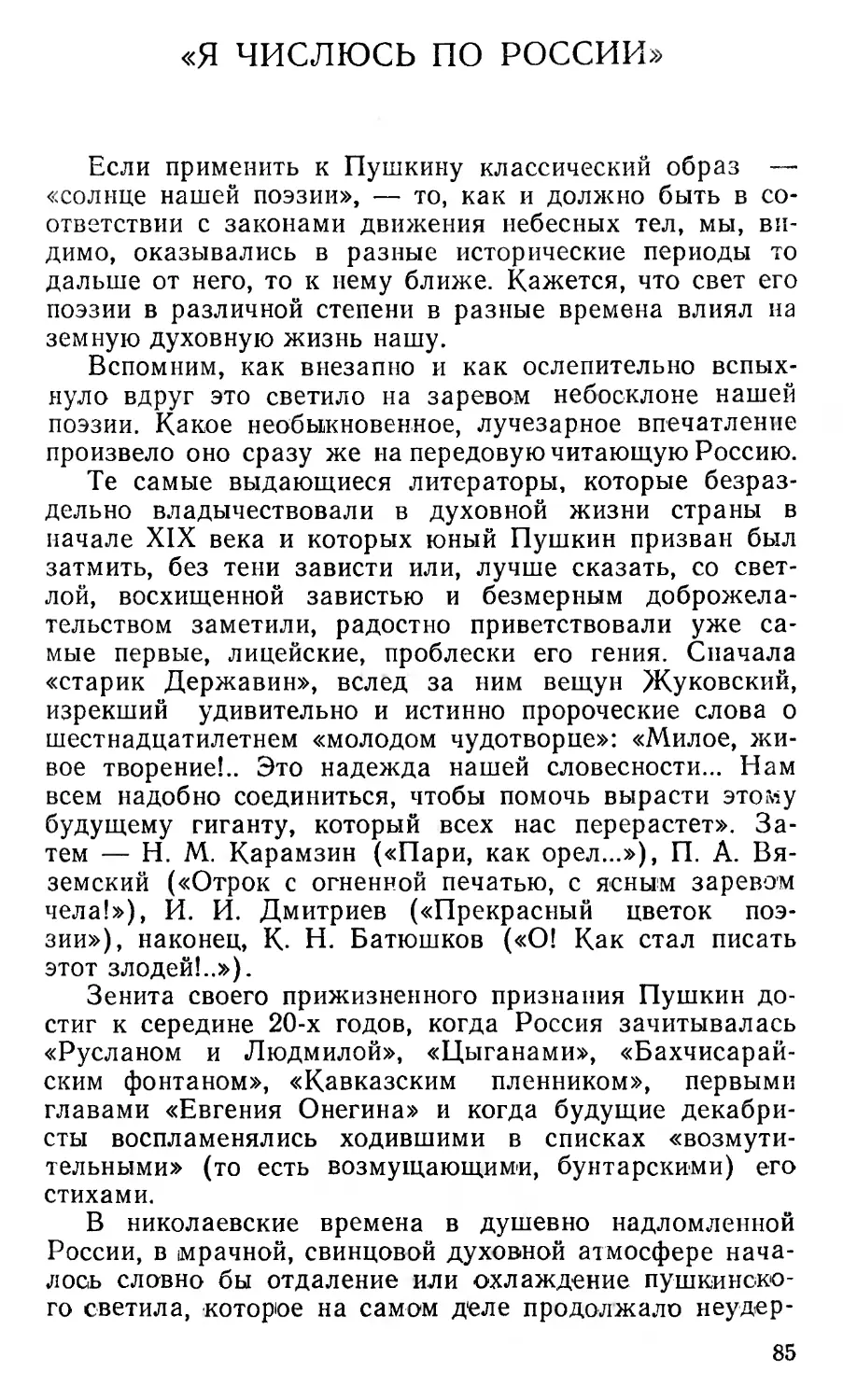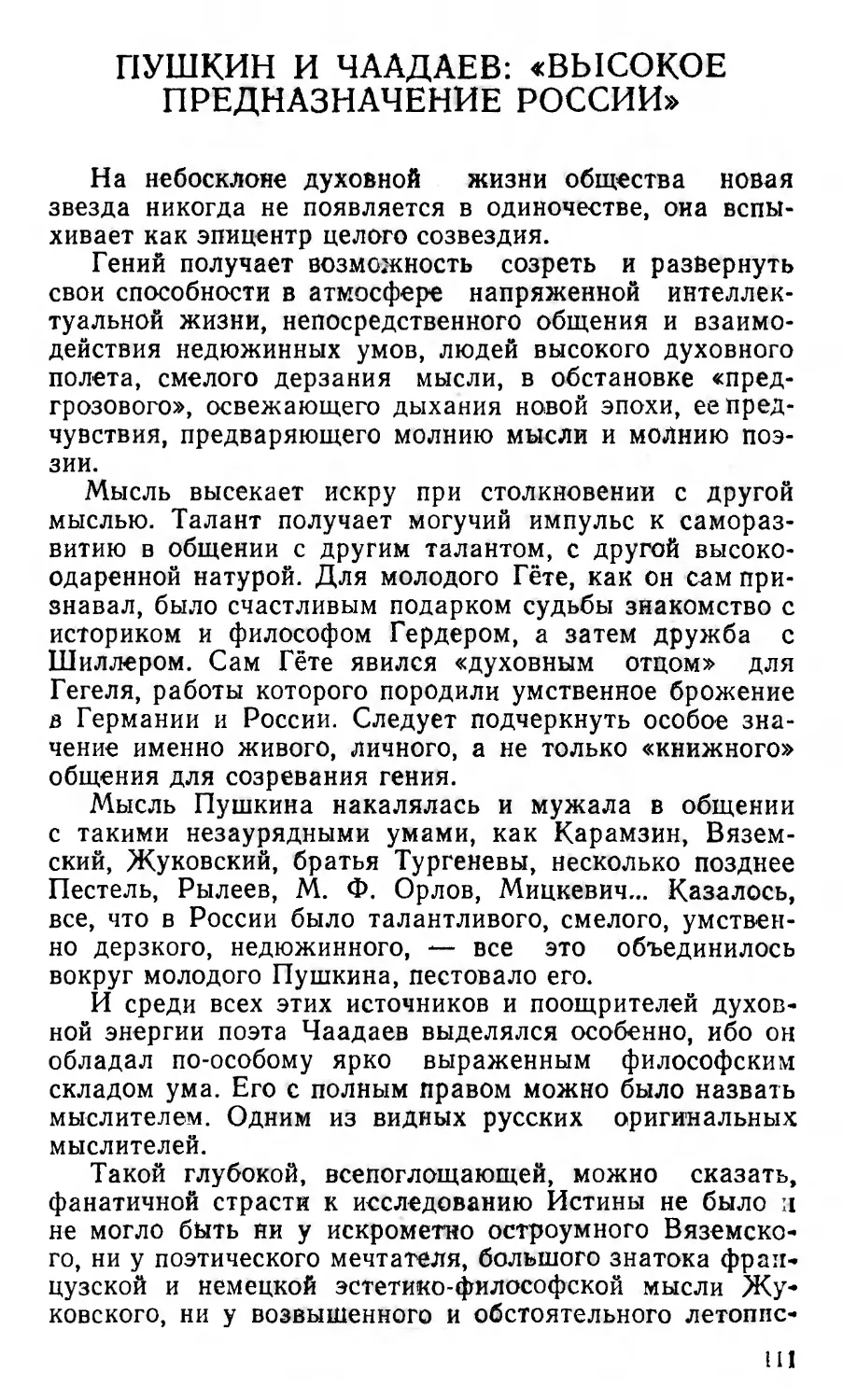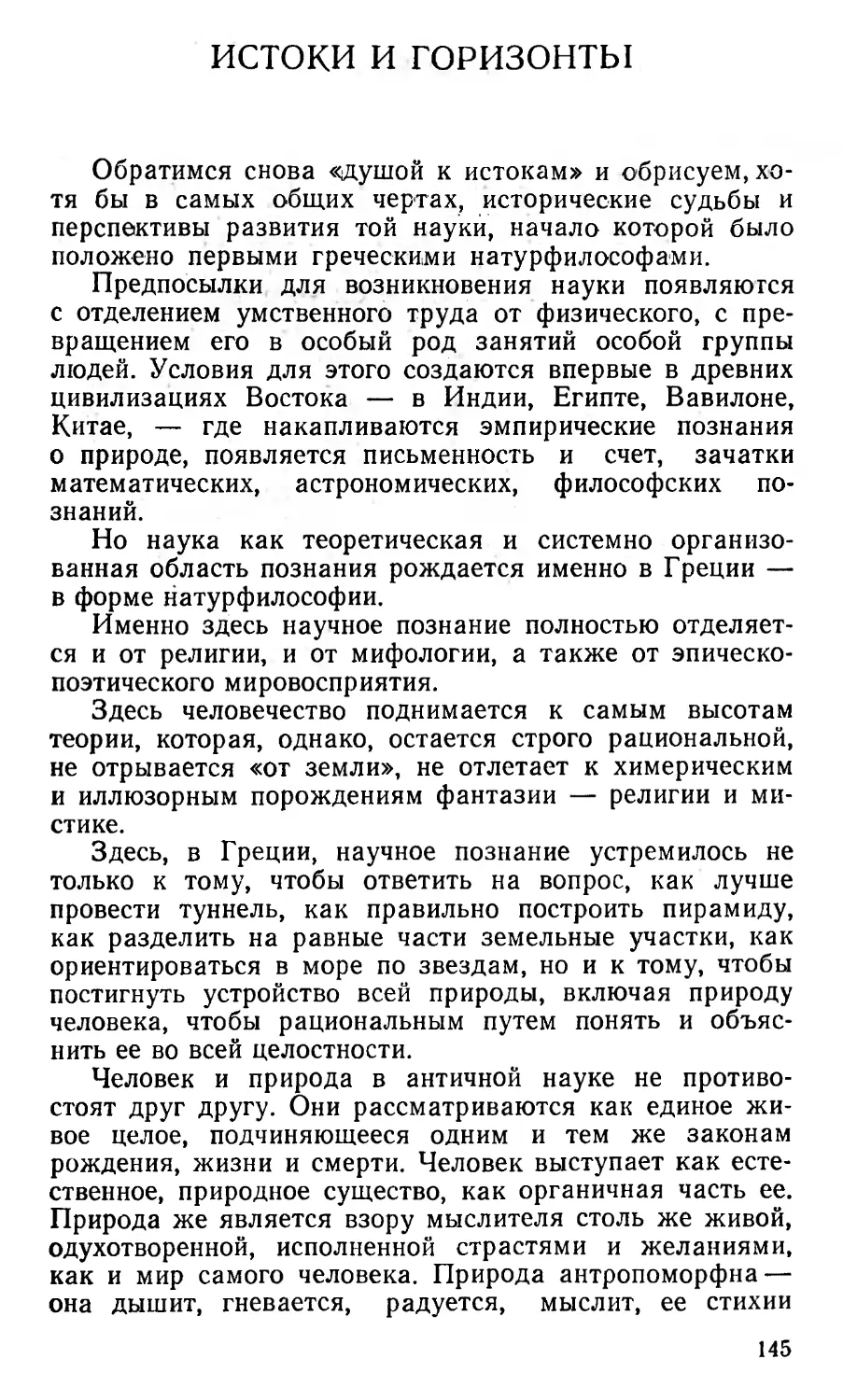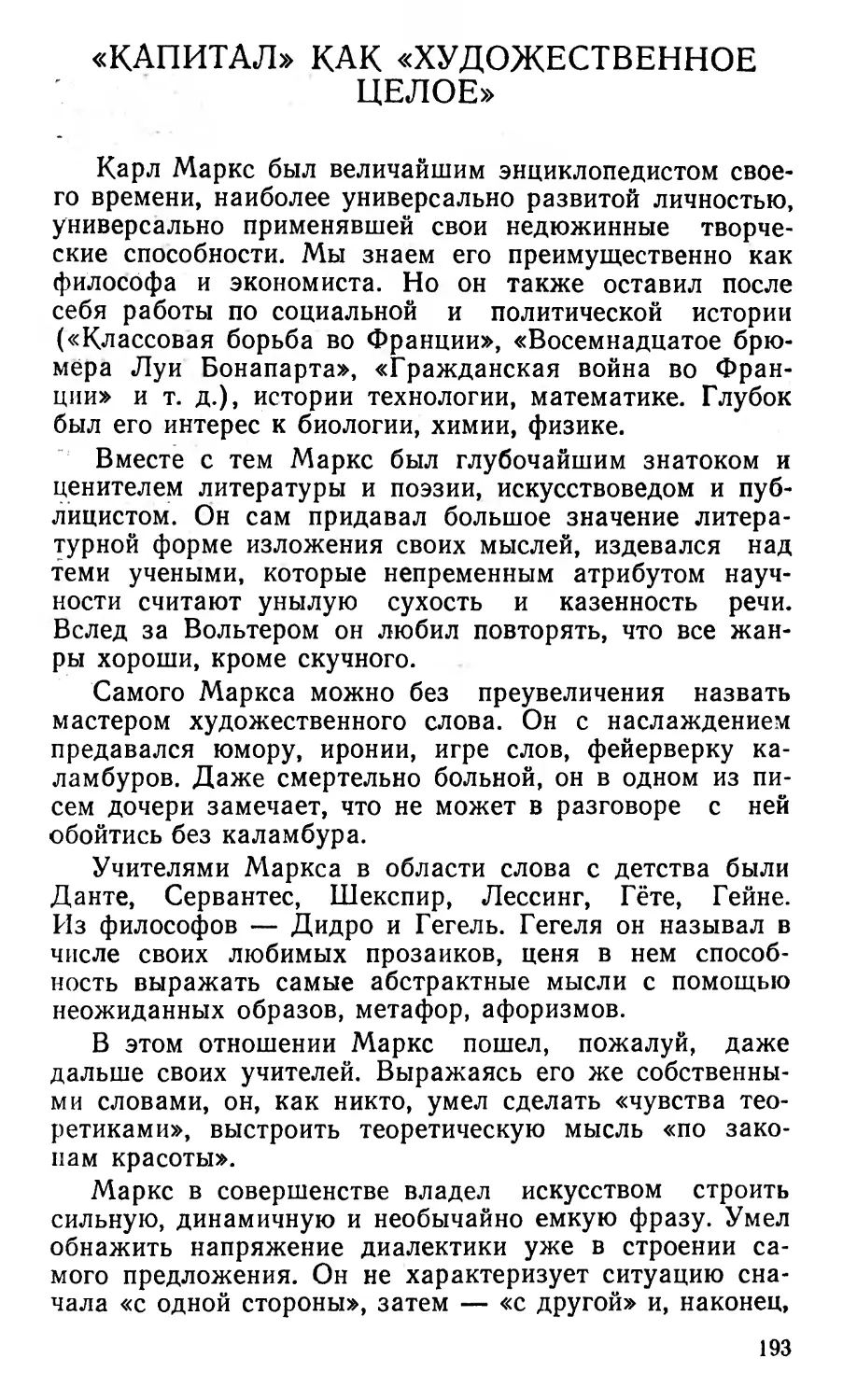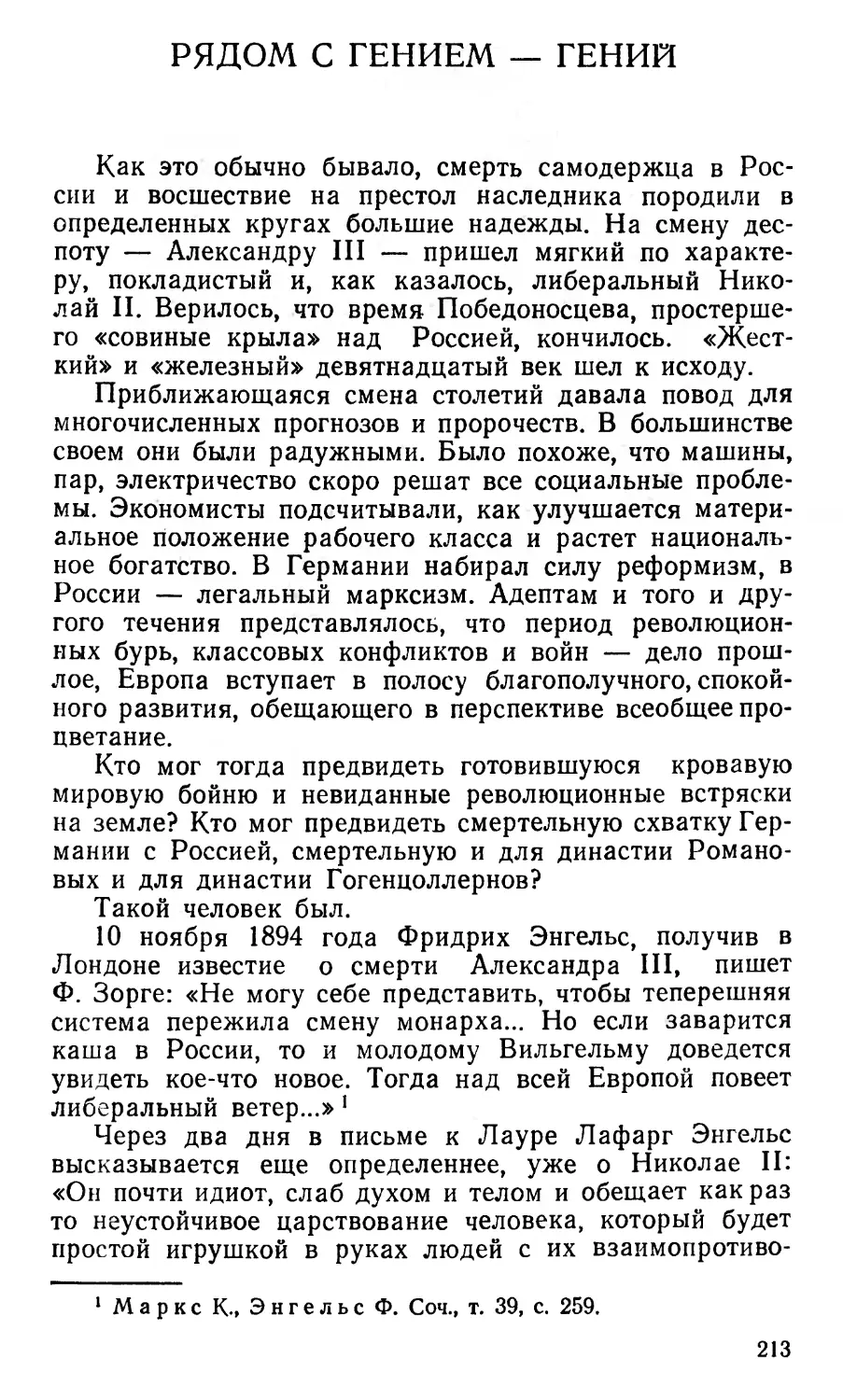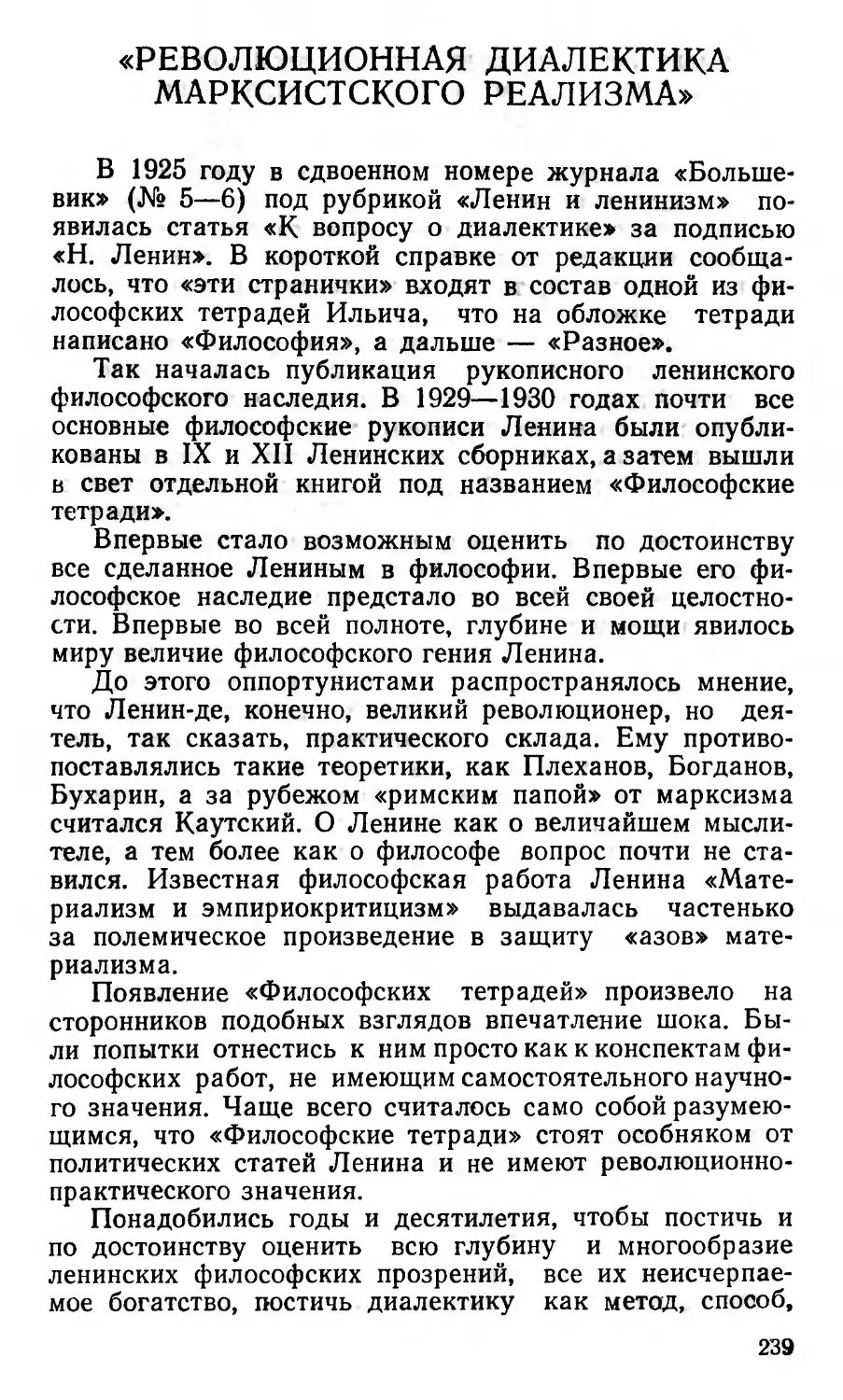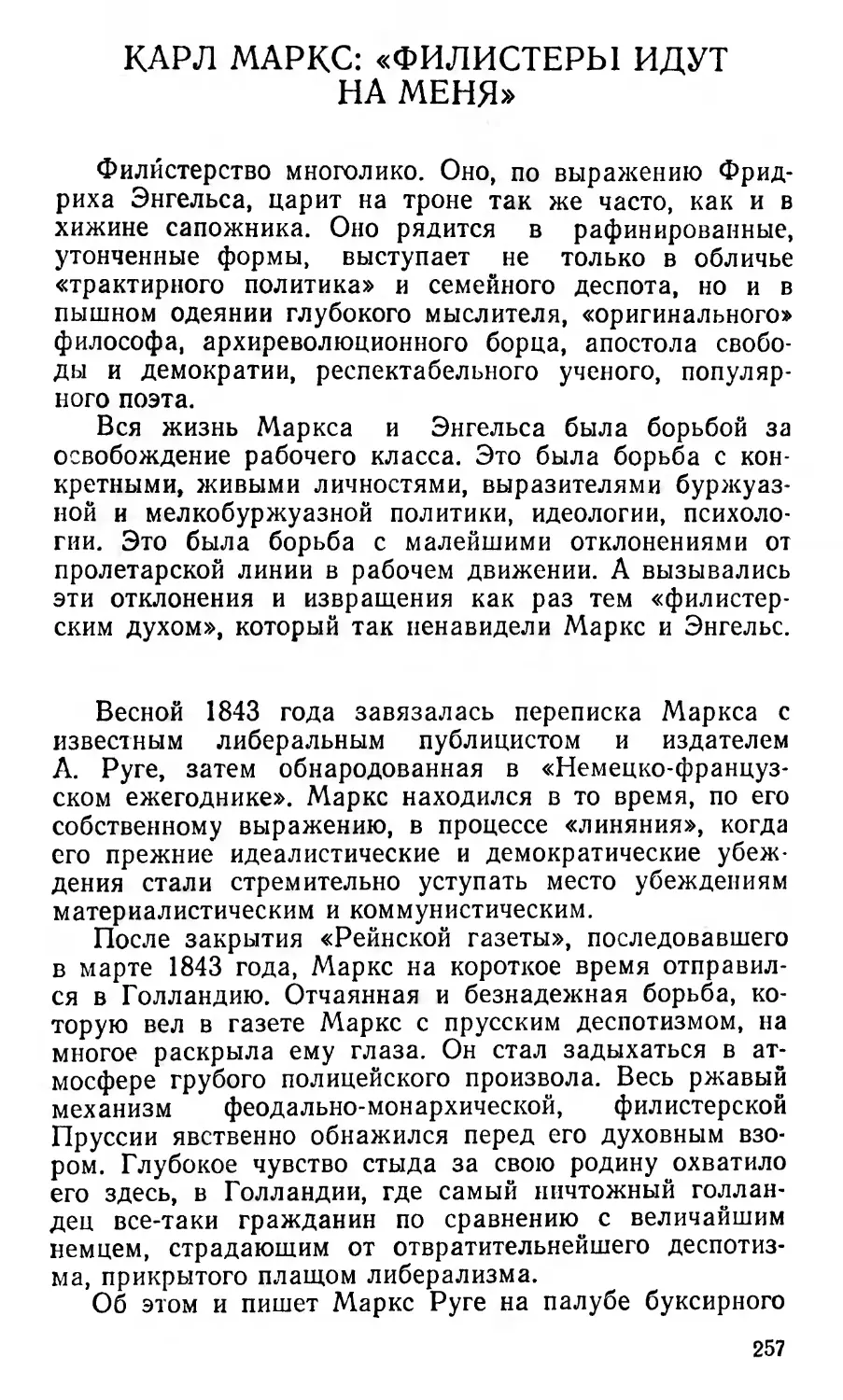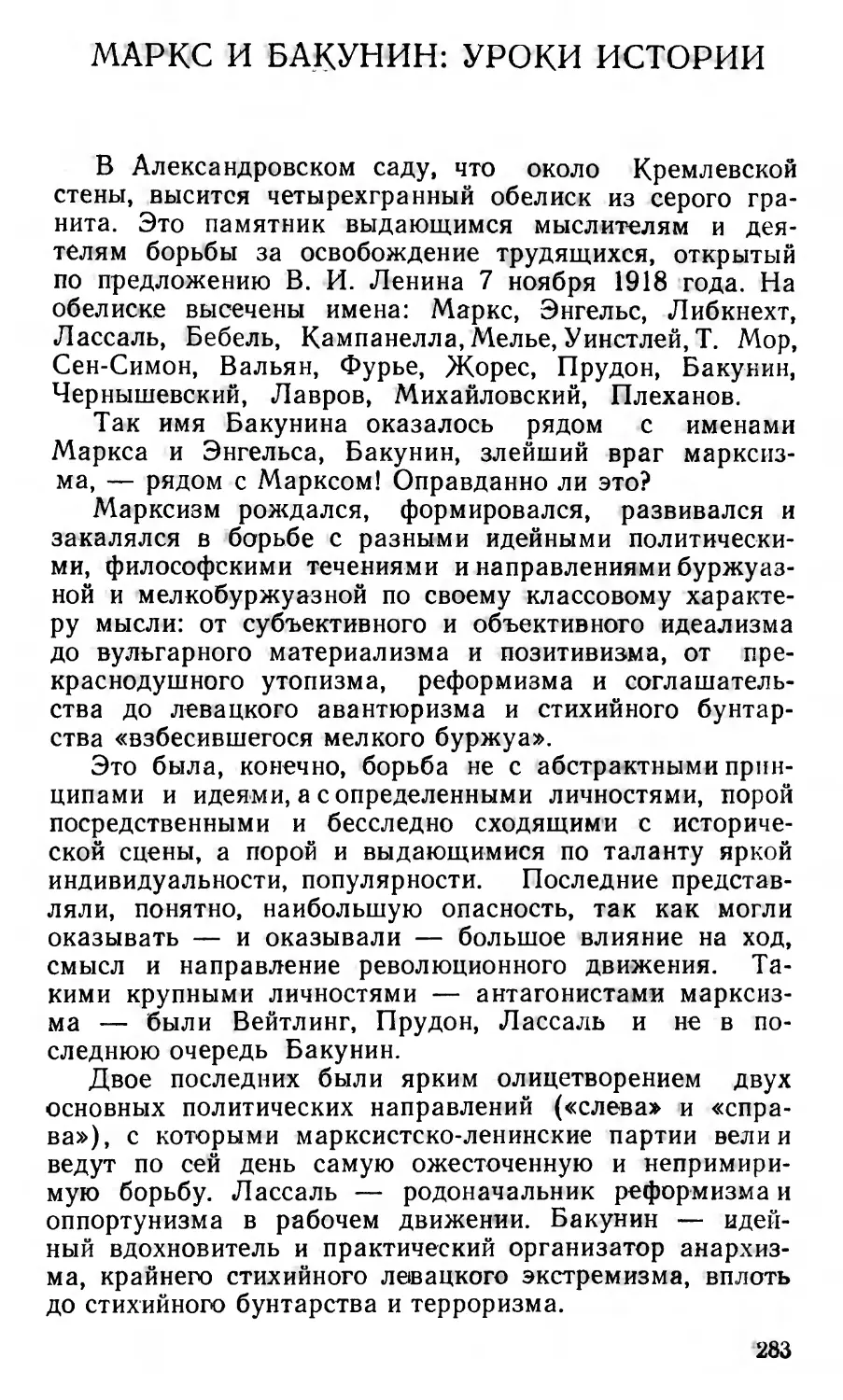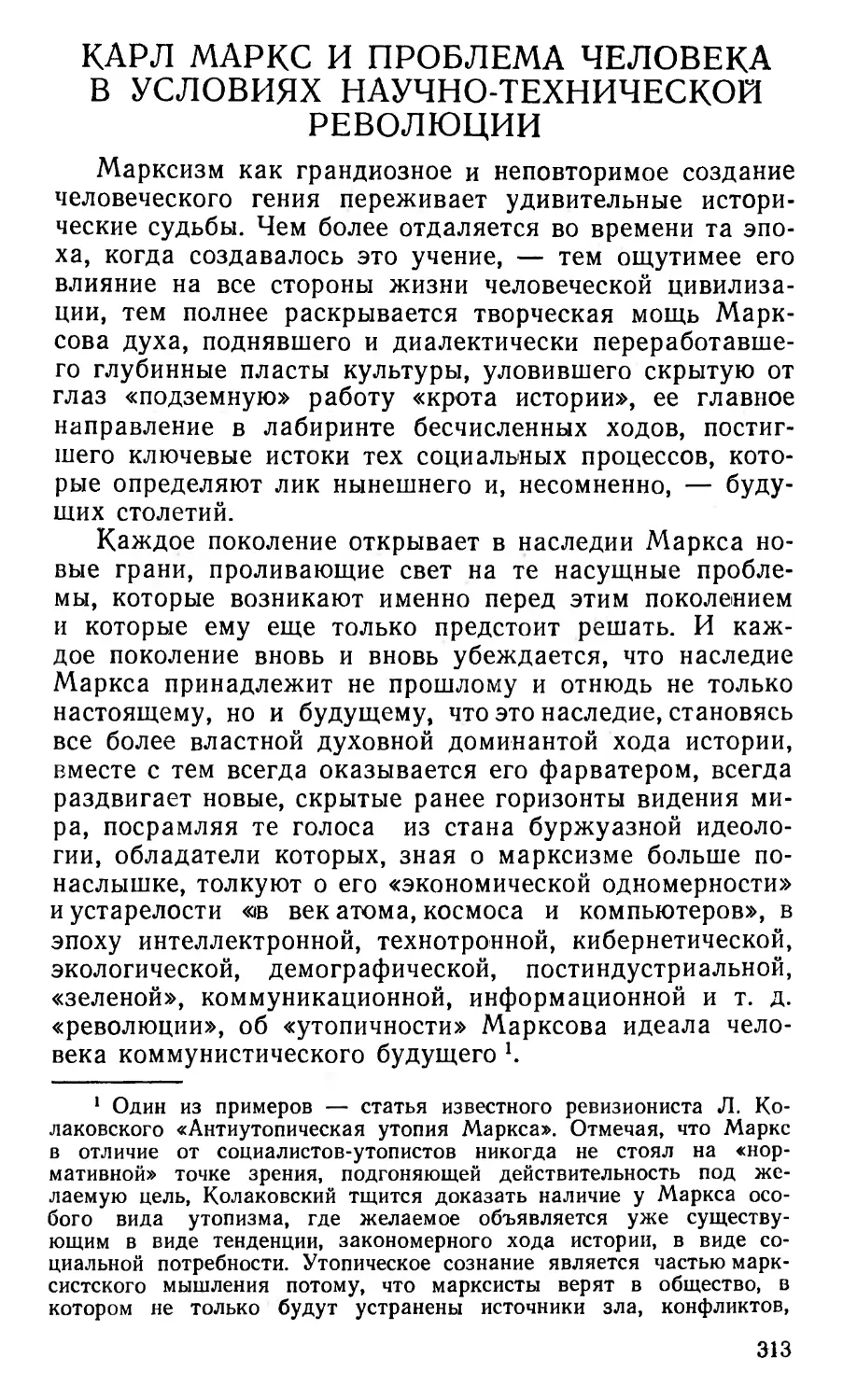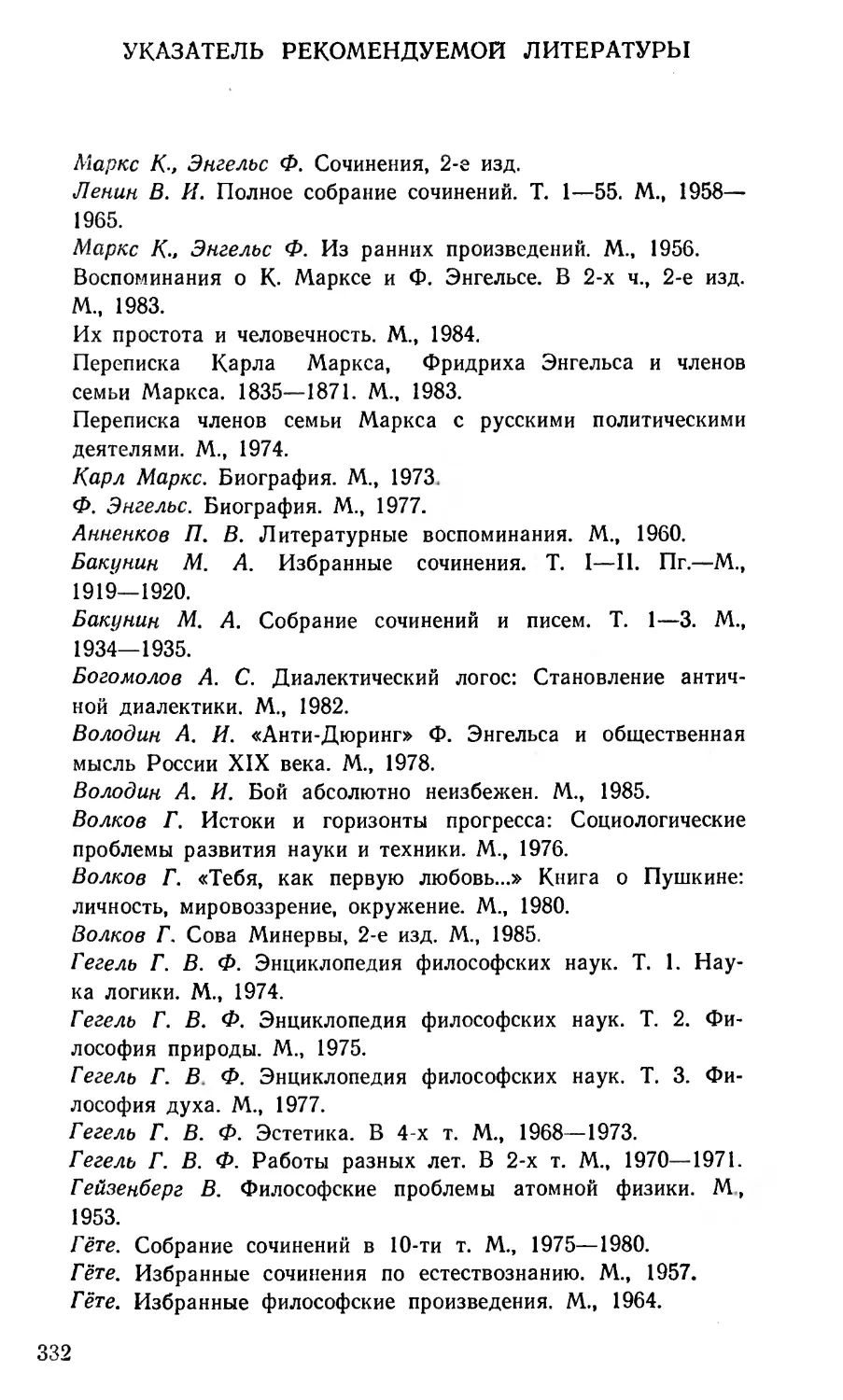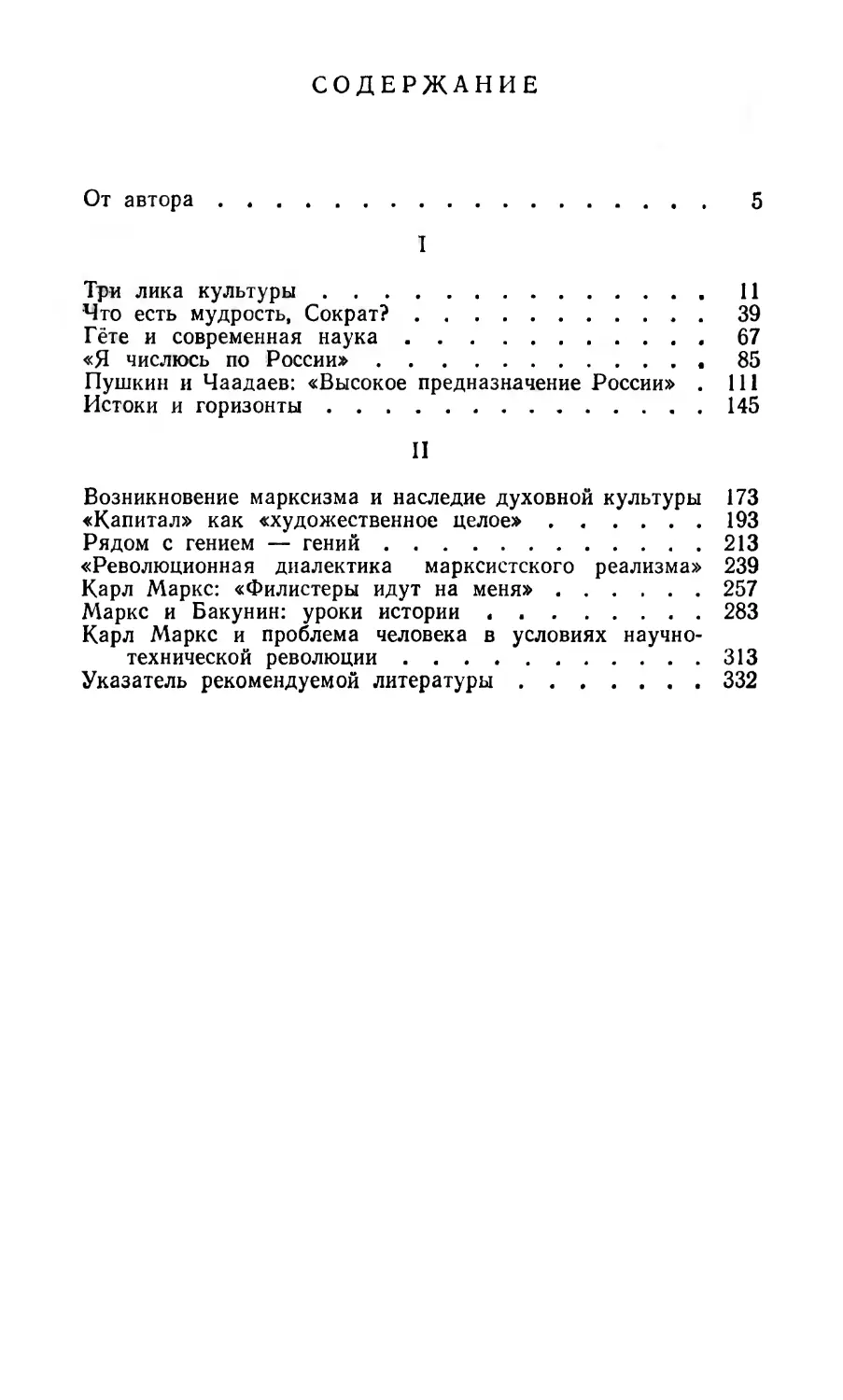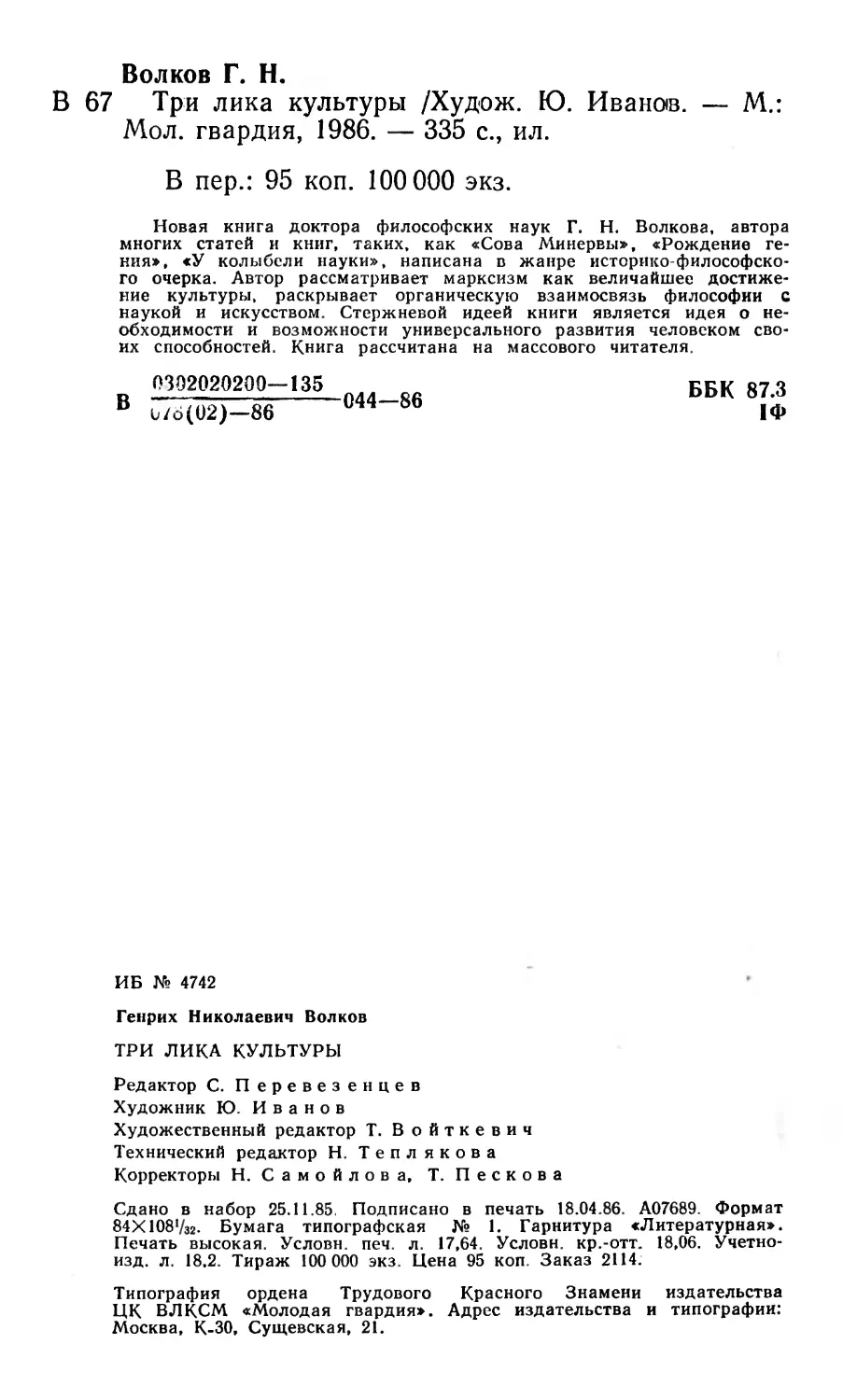Текст
Историко-философские очерки
Генрих Волков
ТРИ ЛИКА КУЛЬТУРЫ
МОСКВА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1986
87.3 В 67
0302020200- В 078(02)—86
Художник Ю. ИВАНОВ
135
044—86
© Издательство «Молодая гвардия», 1986 г.
ОТ АВТОРА
Культура — понятие многосложное, трудно поддающееся однозначным определениям. Не вдаваясь в них, подчеркнем лишь главное: культура — это то созданное и накопленное человечеством богатство (материальное и духовное), которое служит дальнейшему развитию (культивированию!), приумножению созидательных, творческих возможностей, способностей общества и личности или, иначе говоря, экономическому, социальному, политическому прогрессу.
В узком смысле под культурой обычно подразумевается духовная культура. Это огромный потенциал духовного опыта человечества, накопленный за тысячелетия его существования и определяющий нынешний уровень его интеллектуального, нравственного, эстетического развития.
Еще древние выработали представление о трех ипостасях, ликах культуры: Истине, Добре и Красоте. Они образуют триединство и обусловливают друг друга. Так,
5
подлинная Истинность всегда облекается в Эстетические формы и призвана служить Добру.
Эти стороны культуры нашли воплощение в различных сферах человеческой деятельности — в науке, философии, в искусстве. Их стали со временем противопоставлять друг другу. И в наше время остро идут дискуссии о соотношении науки и искусства, науки и нравственности, гуманизма. Высказываются суждения, что наука не может быть ни нравственной, ни безнравственной. Но ныне, как никогда ранее, ясно, что наука, не освященная высокой нравственной, гуманистической целью, грозит гибелью культуры, цивилизации. Наука должна быть формой реализации гуманизма, как и гуманизм есть условие подлинного расцвета науки. И искусство не есть нечто чужеродное по отношению к науке. Воображение, фантазия, интуиция, чувство прекрасного всегда сопутствуют научному поиску.
Марксистская философия дает нам образец органического сочетания высочайшей научности с истинным гуманизмом. К тому же идеи основоположников научного коммунизма выражены в подлинно художественной форме, отличаются блеском юмора, сатирической остротой, парадоксальностью диалектического мышления.
Марксизм в своих истоках и в своем развитии — система как понятийная, так и художественно-образная. Дар художественно-образного постижения мира у Маркса и Энгельса — это не нечто внешнее, «дополнительное» к их теоретическим поискам. Он составляет, так сказать, фермент этих поисков.
Марксизм — это органическое единство трех граней, ипостасей культуры: философии, науки и искусства. Он соединяет в себе научность, мудрость и эстетизм. Или, иначе говоря, Истину, Добро и Красоту. Отсюда и название книги: «Три лика культуры». Три лика, воплотившихся в марксизме.
Ныне в моде стали попытки фетишизировать науку и технику, всерьез говорится о возможности создания машин «умнее» человека. Но марксизм убедительно показал, что именно человек есть мера для мира науки и техники, а не наоборот. Стержневая идея историко-материалистического мировоззрения состоит в том, что подлинное богатство человеческого рода состоит не в вещах, которые человек создает, а исключительно в совокупности созидательных сил человека, или, как писал
6
Маркс, «в абсолютном выявлении творческих дарований человека».
Над различными аспектами проблем развития культуры, нашего духовного наследия автор размышлял в течение ряда лет в статьях, опубликованных на страницах различных центральных журналов. Эти статьи в виде историко-философских очерков легли в основу данной книги. Темы очерков разнообразны, но, думается, их можно объединить одной центральной идеей, высказанной В. И. Лениным: марксизме нет ничего по¬
хожего на «гсектантство» в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации». И в этой книге мне хочется поведать, как вплетается великое духовное наследие человечества в нашу современную жизнь, как оно ныне помогает осмыслить тенденции развития науки и техники, философии и искусства. Тут вспоминается призыв Жана Жореса: взять из истории огонь, а не пепел...
Книга состоит из двух разделов. Первый посвящен различным проблемам культуры вообще. Здесь также показаны и великие ее представители: Сократ, Гёте,
Пушкин. Сократ может помочь нам понять, что есть мудрость, а Пушкин — осознать эстетическую сторону культуры. Размышления о научной деятельности Гёте неожиданным образом приводят к осмыслению особенностей современной науки. А главное, мне хотелось показать, что гениальность этих людей заключалась в универсальном развитии ими своих человеческих возможностей и способностей и что гармоничное развитие личности должно быть нормой человеческой жизни.
Второй раздел целиком посвящен марксизму. Автору неоднократно приходилось писать о Карле Марксе, Фридрихе Энгельсе и Владимире Ильиче Ленине, об их научной и политической деятельности. В этой книге наиболее важной представляется мысль о том, что у нас есть полное основание говорить не только о научных, но и об эстетических предпосылках возникновения марксизма, не только о научности, но и об эстетизме этого учения. С этой точки зрения среди тех великанов, на «плечах» которых высится теория научного коммунизма, надо назвать, помимо Канта и Гегеля, Сен-Симона и Фурье, Смита и Рикардо, Фейербаха и Оуэна, также имена Эсхила и Софокла, Данте и Сервантеса, Шекспира и Мильтона, Гёте и Гейне.
7
Жизнь и деятельность основоположников единственного в истории научно обоснованного революционного учения была наполнена борьбой. И эту сторону, когда пишешь о марксизме, обойти никак нельзя. В ответе на вопрос (входящий в «исповедальную анкету») «Ваше представление о счастье» Маркс написал одно слово: «Борьба». На страницах этой книги читатель окажется в гуще полемики, в центре борьбы Маркса и Энгельса против филистерства, против мелкобуржуазного политиканства, борьбы В. И. Ленина за наследие марксизма, за его чистоту, за сохранение его «живой души» — диалектики. При этом автор стремился выделить, наряду с философскими и идейно-политическими, также и нравственные позиции классиков марксизма-ленинизма. Ведь их гуманистические идеалы и сегодня являются ориентирами в нелегком, но благородном труде на благо всего человечества — в созидании основ коммунистического общества.
...Я подумал, что чутье художника стоит иногда мозгов ученого, что то и другое имеют одни цели, одну природу и что, быть может, со временем, при совершенстве методов, им суждено слиться вместе в гигантскую чудовищную силу, которую трудно теперь и представить
А. П. ЧЕХОВ
ТРИ ЛИКА КУЛЬТУРЫ
Искусство, философия, естествознание... Мы привыкли строго разграничивать эти три основные формы человеческой культуры. Написаны горы книг и статей, где обосновывается это разграничение и обстоятельно прослеживается, в чем и как оно проявляется.
Одной из самых известных на Западе книг на эту тему явилась публицистически острая работа английского ученого и писателя Чарльза Перси Сноу «Две культуры и научная революция», в которой автор фиксирует раскол между гуманитарной и естественнонаучной культурами на две части, являющих собой как бы два полюса, две «галактики».
Но почему, собственно, только две части? Ведь философия и гуманитарные науки, к ней тяготеющие, не укладываются ни в культуру естественнонаучную, ни в художественную, обладают своим специфическим способом освоения мира и потому составляют, пожалуй, не менее суверенную — третью «галактику». Однако, в конце концов, речь не о том, на две или на три части делить человеческую культуру. Важно, что она делится.
Сноу пишет: «...На одном полюсе — художественная интеллигенция, на другом — ученые, и как наиболее яркие представители этой группы — физики. Их разделяет стена непонимания и иногда (особенно среди молодежи) антипатии и вражды, но главное, конечно, непонимания. У них странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общий язык даже в области чувств».
Сноу имеет в виду западную, в частности английскую, интеллигенцию. В среде советской интеллигенции, конечно, нет такого антагонизма, враждебности и непонимания, но тем не менее возникает же на страницах и нашей печати спор философов и естественников, физиков и лириков по целому ряду важнейших проблем: о перспективах и возможностях развития кибернетики, о мировоззренческой интерпретации тех или иных открытий науки, о границах вивисекции, о моральной стороне медицинских и биогенетических экспериментов на человеке, о взаимоотношении индустрии и природы. Обсуждается же на страницах «Литературной газеты» ro¬
ll
рячо и страстно вопрос: не беднеют ли в век науки и техники наши чувства? И ведь раскололись же читатели на два лагеря — «рационалистов» и «эмоционалистов», в зависимости от ответа на него!
И разве не сталкиваемся мы порой с гуманитарнофилософским высокомерием и пренебрежением к «профессиональной одичалости» и однобокости естественников, а с другой стороны — с тем «физико-математическим чванством», для которого вся наука делится на «естественную и противоестественную», либо на «физику и коллекционирование марок»?
И вот в обстановке, когда раскол (или, если хотите, мягче — разграничение) стал, кажется, большинством признаваемым фактом жизни человеческой цивилизации, когда сомневаться в этом многим представляется столь же абсурдным, как в существовании миров и антимиров, я все же позволю себе усомниться. Более того, я бы сказал, что ни двух, ни трех культур нет, а была, есть и будет лишь одна культура, ее единый феномен с тремя ликами — искусства, философии и частных наук.
При этом я вовсе не хочу заслужить традиционный упрек философам со стороны естественников в игнорировании фактов и следовать в этом отношении за молодым Гегелем, который согласно легенде воскликнул: «Тем хуже для фактов!» — когда планета, возможность существования которой он отрицал, исходя из пифагорейско-платоновской символики чисел, была все же открыта.
На мой взгляд, есть люди культуры и есть люди полу- культуры. Вот для последних и существует китайская стена между культурами, вот они-то и поставляют факты и мнения о расколе, пропасти искусства и науки.
Когда я использую выражение «люди полукульту- ры», то не хочу сказать ничего обидного и оскорбительного. Ни для кого не секрет, что есть специалисты, прекрасно знающие, скажем, электронику или кибернетику, но глухие к музыке, поэзии, живописи. И напротив, есть писатели и поэты, имеющие более чем смутное представление о современной физической картине мира. Сноу, будучи сам человеком большой культуры, называет их представителями двух культур. Ничего подобного: это представители двух полукультур!
В искусстве, как и в науке, есть к тому же разные уровни деятельности. Есть творцы, «генераторы идей»,
12
и есть исполнители. Есть исследователи и последователи. Есть композиторы и есть рядовые исполнители и оранжировщики. Есть Ньютон, Кант и Гегель и есть ньютонианцы, кантианцы, гегельянцы. Есть поэты и есть подражатели, истолкователи, комментаторы.
Первые — это те, кто двигает культуру вперед. Вторые — те, кто способствует этому движению (либо его тормозит), обслуживает его. И уж конечно, вторых больше, чем первых, особенно в наше время массовой тяги к искусству и науке.
И как бы ни был необходим и полезен труд этой второй группы, но он имеет свои особенности, обусловленные как уровнем способностей, так и, главным образом, вспомогательным, подсобным, узкоспециализированным характером задач, стоящих перед ними. Гений никогда не бывает узким и ограниченным своей областью интересов профессионалом. Талант редко бывает им.
Сноу и его коллеги опросили 30—40 тысяч специалистов в области точных и естественных наук и инженеров, занятых прикладными исследованиями. Большинству из опрошенных было меньше сорока лет. По преимуществу эти люди заняты решением узкоспециальных, исполнительских, нетворческих функций.
Естественно, что среднестатистические данные этого исследования свидетельствовали о «полукультурности» опрошенных, о неразвитости их художественного вкуса: «Искусство занимает в этой культуре довольно скромное место, правда за одним, но весьма важным исключением — музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография. Кое-что для ушей, немного для глаз. Книг тем не менее очень мало. И почти ничего из того, что составляет повседневную пищу писателей — почти никаких психологических и исторических романов, стихов и пьес».
Полагаю, что если бы подобный опрос был проведен среди ученых первой величины, он дал бы совсем иные результаты (Сноу и сам признает, что некоторые из крупных ученых, обладающих широтой взглядов и интересов, читают все интересное, что появляется в художественной литературе).
Но откуда же появляются «люди полукультуры»? Существуют же на это объективные причины? Да, существуют. Это и прогрессирующее разделение труда в науке, и перенесение в нее методов промышленного про¬
13
изводства с коллективным трудом и мощной экспериментальной техникой. Это и издержки системы образования, которая во многих капиталистических странах носит слишком рационалистический, утилитарный, приземленный, узкопрофессиональный характер. В некоторых наших школах в последние годы также заметен крен к рационализму и ранней профессионализации (школы с математическим, физическим уклоном), а художественная литература преподается нередко на таком уровне, что сызмальства притупляется интерес к ней.
Такое обучение исходит порой из предпосылки, что учить нужно прежде всего «делу», то есть тому, чем ученику потом предстоит заниматься, а все остальное лишь мешает «делу». И если мы, мол, готовим будущих физиков, то и учить их надо физике и математике, а литературу, историю искусства и эстетику пусть изучают будущие филологи и искусствоведы. Конечно, и физику невредно знать немного об образах героев Пушкина и Достоевского, и филолог должен бы иметь представление о теории относительности и теории информации, но это уже в виде приправы к основному блюду: считается хорошим тоном, скажем, в книгу по молекулярной биологии вставить литературные реминисценции!
В основе подобного подхода лежит традиционное представление об искусстве и науке как о двух самостоятельных и независимых сферах деятельности. Чуть ли не с детства впитываем мы убеждение, что существуют различные «предметы» и «дисциплины», что не только литература — это «особая статья» по сравнению с «наукой», но и сама наука делится на строго разгороженные части: математику, физику, химию, биологию, философию, социологию, политическую экономию и т. д. Перед нами с детства раскладывают всю накопленную человечеством культуру по полочкам, по школьным предметам, а затем по курсам, кафедрам, секторам, библиографическим ящичкам, по учебникам, первая задача которых — строго отграничить свою тематическую «вотчину», привлечь к ней побольше «верноподданных» и оградить ее всеми средствами от посягательств извне.
Нам предлагают как можно раньше определиться: каким сегментом деятельности мы ограничим всю свою дальнейшую жизнь, в соответствии с какой «полочкой» и «ящиком» мы будем избирать свои духовные интересы. И мы привыкаем к этому как к естественному и из¬
14
начальному ходу вещей. И забываем начисто, что »се это лишь наше собственное, субъективное, насильственное каталогизирование, что сама-то природа, как внешняя, так и собственная наша природа, знать ничего не знает о том, как мы ее рассекли, на какие удельные княжества дисциплин мы ее разделили для собственного удобства рассмотрения; что сама-то природа живет не по законам феодального общества, а по законам единого и гармоничного целого, к реализации которых стремится и человеческое общество, и отдельная личность.
Конечно, непременная предпосылка всякого творчества — это ограничение, ограничение кругом тех задач, которые берешься решить. Но безграничным должен быть тот духовный источник, из которого черпаются средства для их решения, универсальными — знания и способности, развитые и искусством, и философией, и частными науками.
В противном же случае ограничение оборачивается ограниченностью. И мы имеем дело с человеком, который со школьных лет и до гробовой доски остается в рамках избранного им «ящичка» и не высовывается из него ни на вершок. Он кропотливо и самозабвенно трудится на своем участке, вспахивает и перепахивает его, сортирует, измеряет,' считает, классифицирует, укладывает в таблицы каждый найденный факт и фактик. Его работа очень нужна и ценна, хотя часто он больше знает, чем понимает, больше слушает, чем улавливает мелодию, постигает краски, но не живопись, числа, но не математику, формулы веществ и соединений, но ые химию.
Обществу импонировала «цеховая ученость» потому, что это так хорошо согласуется с многовековой практикой в области материальной деятельности: «Не может сапоги тачать пирожник, а пироги печь сапожник». И «цеховые ученые» с неодобрением относятся ко всякой попытке исследователя раздвинуть рамки своей делянки, обозреть соседние участки, а то и все поле науки. Они пренебрежительно морщат нос, когда химик пишет статью об эстетической красоте формулы бензола, когда социолог обращается к античности, а физик твердого тела — к структуре французского стихосложения времен Франсуа Вийона. Все это квалифицируется как дилетантизм и легкомыслие, как нарушение законов профессионализма, за которое виновный негласно изгоняет¬
15
ся из соответствующей «гильдии». На деле же профессиональные способности исследователя от этого не страдают, а, как правило, только выигрывают.
Правда, само развитие науки в последние десятилетия нанесло сокрушительный (но далеко еще не смертельный!) удар этим традиционным представлениям. В ходе решения, например, различных кибернетических проблем переплетаются самым неожиданным образом такие науки и направления, которые никогда даже и близко не соседствовали друг с другом: эстетика и технология, социология и физиология, биология и приборостроение, физика и психология, лингвистика и математика. И столь же причудливую интеграцию дисциплин мы обнаруживаем при исследовании проблем овладения космосом, управления наследственностью, социального управления, управления природно-промышленным комплексом.
Несмотря на продолжающуюся дифференциацию наук, интегративные процессы в ней становятся ныне господствующими. И это обстоятельство предъявляет совершенно новые требования к системе образования. Сейчас все чаще и настойчивее звучат голоса в пользу подготовки специалистов широкого профиля (и в сфере материального производства, и особенно в сфере исследований) с умением владеть методами смежных наук, с гибким и незакостенелым в рамках определенной суммы знаний и навыков мышлением, способным переключаться на новые проблемы, с интеллектом, ориентированным не столько на то, чтобы знать, сколько на то, чтобы уметь творчески и плодотворно мыслить.
Не накладывает ли это на нас уже сейчас обязанность произвести соответствующую переоценку ценностей? Ведь те дети, которые сейчас сидят за школьными партами в начальных классах, через двадцать пять — тридцать лет будут определять лицо науки.
И если сам ход развития науки толкает ныне ученых к многостороннему изучению и охвату действительности, если в своих внутренних связях наука перестраивается в направлении все более органичного единства, то и ее внешние связи, и прежде всего связи с искусством, претерпевают аналогичные, хотя и менее заметные на первый взгляд изменения. Собственно говоря, связи эти никогда и не порывались, но в эпоху мозаичной культуры, обособленного, отчужденного существования различных областей человеческой деятельности они, эти
16
связи, действовали подспудно, как глобальные магматические и тектонические процессы под покровом земной коры со всей пестротой ее поверхности.
Мы почему-то привыкли считать, что универсальность — это исключительное и чуть ли не аномальное явление в истории развития общества. Если говорить о равноталантливой деятельности во всех основных сферах творчества, то это, возможно, и так. Но если вести речь об универсальном развитии способностей, то не обстоит ли дело совсем иначе? Не является ли этот универсализм на самом деле нормой, нарушаемой в силу тех или иных социальных условий, мешающих личности обнаружить полноту своих интересов и дарований? И лишь люди особой одаренности пробивались в прошлые времена через все препоны на пути к универсальному развитию своих способностей.
Да и так ли уж мало число многогранно и универсально развитых личностей в истории цивилизации, как это обычно представляется? Называются обычно имена Леонардо да Винчи, Ломоносова, Гёте, после чего с грустью добавляется сакраментальная фраза, что затем «времена универсалов миновали».
Во-первых, почему только эти имена? Я уж не беру античную эпоху, где почти каждый крупный философ был и геометром, и физиком, и астрономом, и поэтом. И не беру эпоху арабской культуры, где мы видим то же самое. И также такие полнокровные и колоритные фигуры европейского средневековья, как Фома Аквинский, Роджер Бэкон, протопоп Аввакум, Якоб Бёме (они и богословы, и мистики, и алхимики, и великолепные стилисты, и философы, и ученые, и даже изобретатели- конструкторы).
Обратимся к более близким временам.
Вот Галилей — родоначальник механистического естествознания. Будучи сыном известного в свое время музыканта и теоретика музыки, он вырос в атмосфере любви к искусству, которую пронес через все творчество. И не случайно именно он, Галилей, явился одним из творцов итальянского литературного языка. Ученый дружил с живописцами, скульпторами своего времени, в частности с известным флорентийским художником Л. Чиголи, и писал искусствоведческие работы. Так, он посвятил месяцы работы тщательному изучению и сравнению произведений Ариосто и Тассо.
Это ли не универсально развитая личность? И труд¬
17
но не согласиться с известным историком науки Эрвином Панофским, который, анализируя взаимовлияние науки и искусства в творчестве Галилея, пишет: «Если подход Галилея к науке оказал влияние на его эстетические суждения, то не мог ли его подход к эстетическим проблемам повлиять на его научные теории? Или же, чтобы быть более точным, не подчинялся ли он и как ученый, и как критик искусства одним и тем же определяющим тенденциям?» Конечно, это так!
А Ньютон — этот нелюдим и затворник, лишивший себя всяких человеческих радостей, этот механицист и индуктивист, не признававший никакого авторитета, кроме авторитета опыта, — уж он-то, наверное, был узким специалистом? Но помимо разносторонних научных занятий и изобретений, он продолжал и развивал атомистические идеи Демокрита на основе последовательного механицизма, был вместе с тем автором теологических трактатов. Он оказал такое влияние на философию и мировоззрение, как ни один профессиональный философ того времени.
Человек, который сумел объединить в единую теорию факты падения яблока, движения планет, полеты метеоритов, приливы океанов, уж, конечно, не страдал отсутствием живого воображения. Эйнштейн писал, что Ньютон сочетает в себе экспериментатора и художника. О способности Ньютона воспринимать мир не только строго рационально, но и поэтически говорит ясный и местами очень образный язык его произведений. Незадолго до смерти он говорил о себе: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что до поры до времени отыскиваю камешек более цветистый, чем обыкновенно, или красную раковину, в то время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным».
А Лейбниц, независимо от Ньютона разработавший дифференциальное и интегральное исчисление? Философ, логик, историк, публицист, юрист, географ, педагог, путешественник, политик, дипломат, алхимик, организатор научной работы и библиотечного дела, лингвист. Он додумался до двоичной системы исчисления и усовершенствовал одну из первых счетных машин.
И подобными же «целыми университетами» были Кеплер, Спиноза, Монтень, Паскаль. Это ему, Паскалю, философу и математику, публицисту и сатирику, мора-
18
листу и мистику, врагу ползучего эмпиризма и узости мысли, принадлежит глубоко верное определение великого человека: «Величие души обнаруживается не в том, что человек достигает какой-нибудь крайности, а в том, что он умеет сразу коснуться обеих крайностей и наполнить весь промежуток между ними».
Век XVIII также не был обижен универсально развитыми людьми: Вольтер, Бюффон, Дидро, Кант, Руссо, Лессинг... Век XIX — Пушкин, Гумбольдт, Гаусс, Гегель, Маркс, Энгельс, Герцен, Дарвин, Толстой, Бальзак, Максвелл...
Быть может, положение изменилось в нашем XX веке в связи с растущей специализацией, дроблением наук и научной проблематики, в связи с взрывоподобным ростом информации? Быть может, теперь оправдывается пропись, которой мы себя успокаиваем, что время универсалов миновало?
Не будем говорить об Эйнштейне. Его разносторонние интересы и способности (математика, физика, искусство, философия, история наук) хорошо известны. Но другие? Быть может, кто-нибудь назовет среди ученых первой величины человека, не выходящего за пределы своей специальности? Нильс Бор? Но он автор оригинальных статей по вопросам философии, биологии, искусства, психологии, по специальным проблемам. Циолковский? Кому не известно, что в нем слились самобытный мыслитель, астроном, математик, литератор и публицист. Или Вернадский — геохимик, эколог, географ, биохимик, организатор исследований, философ, историк и социолог науки. Или А. Чижевский — в молодости литератор, поэт, переводчик, талантливый живописец, а затем создатель гелиомедицины. Быть может, этот искомый тип ученого XX века — Джон Бернал, одна из универсальнейших голов за всю историю науки? Или Борн, Винер, Колмогоров, Семенов, Глушков? Где же он, узкий специалист?
Это, возможно, звучит парадоксально, но им является каждый из названных ученых. Каждый ученый в момент исследования конкретной проблемы действует как узкий специалист, то есть узко фокусирует для ее решения весь многообразный и разносторонний спектр своих знаний и способностей, развитых с помощью искусства, философии, частных наук.
Но если гений — это, как правило, универсально развитая личность, то не следует ли сделать отсюда и
19
обратный вывод: многогранное развитие способностей на основе активного освоения целостной культуры — вот единственный путь к творческим свершениям.
И, конечно, это касается отнюдь не только «светил», но и каждого исследователя, инженера, изобретателя. В свое время я познакомился в редакции «Литературной газеты» с многочисленными читательскими письмами на тему о «рационализме» и «эмоциональности» в век научно-технической революции. Мне запомнилось очень верное наблюдение Ю. Томина из Красноярска. «Я не встречал, — пишет он, — сколько-нибудь интересного и талантливого инженера, конструктора и т. п. — короче, «физика», который бы не был прежде всего законченным поэтом по натуре». А инженер В. Райберг из Москвы раскрывает эту мысль на примере собственной конструкторской деятельности: «Разве не должен я, составляя расчетную схему конструкции, увидеть, почувствовать ее всю как живой организм, представить себе поведение каждого ее элемента?»
Нередко интеллектуальную культуру человека противопоставляют его эмоционально-художественному развитию, исходят из того представления, что мир высоких эмоций и мир интеллекта — это нечто вроде песочных часов с двумя резервуарами и узким отверстием между ними. Если прибавилось в одном, то непременно отсыпалось в другом, и наоборот: если интеллект развит, то это, конечно, за счет эмоций. Я убежден, что дело обстоит совсем не так. Примитивизм в эмоционально-художественной сфере свидетельствует и о примитивном интеллекте, который если и развит, то в области рассудочных (запоминание, каталогизирование, счет, формально-логические операции), но не творческих способностей.
Человек усвоил какой-то минимум знаний в той узкоспециальной области, где ему предстоит работать: он хорошо разбирается, скажем, в технологических процессах своей отрасли. Он взял из необъятного моря духовных ценностей только то, что ему утилитарно, повседневно необходимо. При этом взял как уже готовое, чужое знание, только запомнил его, не подняв свой интеллект, свои творческие способности до такого уровня, когда возможно самостоятельное открытие для себя этого знания, а за этим возможно и открытие еще никем не открытого. Так появляется прилежный, но бездумный исполнитель, который со стороны может выглядеть
20
«образованным», «знающим», «толковым», «деловым». И кажется, что вот только с миром эмоций у него не все в порядке. Вот если бы он еще заинтересовался и искусством!
И если, скажем, встречаются люди, знающие «всю математику», но не понимающие ее духа, не владеющие методами математического мышления, то нередко этих же самых людей отличает и также чисто внешняя образованность (натасканность) в области искусства, когда человек с апломбом рассуждает о музыке Вагнера и ее отличии от музыки Дебюсси, но не чувствует, не воспринимает ее всеми струнами своей души, не живет этой музыкой. Искусство в таком случае так же не стало активным фактором формирования его личности, как не стала им и математика.
О роли искусства в творческом процессе стоит сказать особо.
Дому не приходилось читать биографии ученых, авторы которых прямо-таки умиляются, что светило, несмотря на всю свою одержимость наукой, все же «находит время» еще и писать стихи, музицировать, «баловаться» с красками, что Торричелли писал комедии и эпиграммы, Норберт Винер — художественные романы, что Чарлз Дарвин в молодости увлекался Шекспиром, Мильтоном, Шелли, что Эйнштейн играл на скрипке и любил Моцарта, Баха и Достоевского, а Нильс Бор — Гёте, Шекспира и Кьеркегора.
Но поражаться стоило бы в том случае, если бы создателями теории атомного строения, теории относительности, теоретической кибернетики были сухие рационалисты, лишенные дара художественно-эстетического восприятия мира.
И дело вовсе не в том, что многие видные ученые сами что-то пытались делать на ниве искусства. Комедии Торричелли не создали ему славы, Эйнштейн плохо играл на скрипке, а Винер писал слабые в художественном отношении романы. Но они не могли не заниматься этим самодеятельным творчеством, потому что искусство не только и не столько «хобби» в жизни ученого, как принято думать, не только и не столько форма приятного времяпрепровождения, не повод блеснуть своей многосторонностью, а то, что составляет закваску научного творчества, то, что двигает скрытую пружину мысли.
Искусство для ученого не брег отдохновения, не ост¬
21
ровок забвения в стремнине научного творчества, а скорее сокрытый от глаз наблюдателя родник, из которого эта стремнина берет исток и которым она постоянно питается.
Именно оно, искусство, развивает и воспитывает такие драгоценные для исследователя качества, как воображение, фантазия, интуиция. Именно оно способствует формированию ассоциативного, гибкого, объемного (а не линейного) мышления, стимулирует вместе с тем такие способности личности, которые служат надежной гарантией против рассудочного окостенения и «склероза» мысли.
Что такое, например, «чудодейственная интуиция», порождающая научные открытия? Конечно, ничего мистического в ней нет. Интуиция — это способность человека дорисовывать в своем воображении целое, прежде чем установлены и исследованы все его части, способность на основе нескольких фактов и данных экспериментов воссоздать в воображении всю целостную теоретическую систему. Причем воссоздать не произвольно, а по определенным законам, выражающим внутреннюю сущность этого целого, его природу, его гармонию, его красоту. Иначе говоря, интуитивно схваченный образ целого строится в соответствии с тем эстетическим и общефилософским представлением о мире, которое впитывалось исследователем на протяжении всей его жизни. И именно искусство воспитывает у ученого чувство гармонии и подсознательно напоминает о ней во время творческих исканий.
Великий французский математик Анри Пуанкаре очень верно подметил, что в процессе математического творчества «полезные комбинации — это самые красивые», что эстетическое чувство играет в этом процессе роль «тонкого решета», отсеивающего неверные решения.
Воображение, фантазия, интуиция — это крылья мысли, позволяющие ей сойти с традиционных троп, двинуться вперед. Познание, лишенное этих качеств, приобретает форму асфальтированного шоссе, по которому рассуждения и силлогизмы несутся с привычной легкостью заученного автоматизма и лишь утрамбовывают уже заезженные пути.
Мысль, отделенная от чувства, от эмоций — мертвая, безжизненная, машинная мысль, голая рассудочная логистика, не ведущая к новому знанию. С другой сторо¬
22
ны, эмоции, лишенные интеллекта, это либо отрицательные, извращенные эмоции скряги, садиста, убийцы, либо бредовые и параноичные аффекты.
И если, как мы видели, искусство находится вовсе не вне научного творчества, а присутствует в нем самом, то и напротив: возможно ли подлинное искусство, бьющее только на чувства? Разве бессмертие трагедий Шекспира, например, не в удивительно пластичном единстве художественной образности и глубокой мысли? Не в том разве, что они побуждают нас смеяться и негодовать, иронизировать и страдать, быть насмешливыми и жестокими — переживать всю возможную гамму чувств — и в то же время побуждают размышлять, сомневаться, взвешивать на весах разума и эмоций величайшие вопросы жизни и смерти, цели и смысла человеческого бытия?
И разве не этой же полнокровностью, гармоничностью мировыражения велик и наш Пушкин? Какая необыкновенная, яркая многогранность в его «магическом кристалле»! В нем оказались словно соединенными в единую вспышку все последующие лучи нашей поэзии и литературы: тонкий музыкальный лиризм Блока, фарфоровое изящество и легкость Фета, мятущаяся тоска Лермонтова, язвительный сарказм Гоголя, эпический размах и историзм Толстого, глубокий духовный драматизм Достоевского. И кто скажет, что «Борис Годунов» — это произведение только поэта, но не мыслителя?
Разве романы Бальзака не блестящие социологические и социально-психологические исследования, дающие полное представление о жизни классов и слоев целого общества? И Фридрих Энгельс имел полное право сказать, что из описаний Бальзаком истории французского общества (почти год за годом с 1816-го по 1848-й) «я даже в смысле экономических деталей узнал больше (например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых» 1.
Что представляют собой сократические диалоги Платона? К какому виду творчества их отнести — к философии или к искусству? А поэмы Парменида и Лукреция Кара? И куда отнести утопические произведения
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 36.
23
Мора и Кампанеллы? И как разложить между искусством и философией повести Вольтера, работы Кьеркегора, Ницше, Камю, Сартра?
Приведенные факты, в общем-то, не открывают Америки. Но не позволяют ли они постигнуть то, что всегда считалось тремя материками культуры, как единый континент? Не есть ли они одно из свидетельств внутренней целостности художественного, умозрительно-философского и строго рационального освоения мира, понятой еще в период мифологического синкретизма культуры древних цивилизаций и пробивающей себе путь вопреки всем неминуемым однобокостям профессионализма и разделения труда?
Человечеству известна такая историческая эпоха, когда зачатки искусства, философии и частных наук существовали в неразвитой слитности, а именно — в мифологии. Первобытная мифология (не путать с мифологией современной) — праматерь современной духовной культуры, ее первообраз, прафеномеи, то зернышко, из которого проклюнулось и развилось зрелое растение со стеблем, листьями, цветами.
Но если уж остановиться на этом незатейливом сравнении, то мы имеем дело со странным растением, которое сначала развилось из зернышка мифологии в цветок поэзии, затем пустило листья философии и лишь под конец образовало древо точного научного знания. Растение не оставалось неизменным, все более удалялись друг от друга его части, но питались они тем не менее одними и теми же соками своего времени. Их роднило, связывало то общее, что может быть названо «духом эпохи», «стилем творчества».
Будем конкретными и обратимся к определенным историческим эпохам.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на античную культуру, это поразительная идентичность бурного всплеска искусства и натурфилософии. К 550 году до нашей эры относится создание крылатой богини Ники с острова Делос — это первая попытка заставить камень улыбаться, первая скульптурная улыбка греческого гения! И к этому же времени относятся первые шаги греческих философов на поприще умозрительного, рационального постижения устройства мира. Пройдет всего только столетие — и мы окажемся в Афинах Пе¬
24
рикла, в эпохе высочайшего внутреннего расцвета Греции.
В этот период здесь была, очевидно, создана та социальная и духовная среда, которая благоприятствовала расцвету и искусства, и философии, и частных наук, а именно рабовладельческая демократия в ее наиболее «чистом» виде. Такой развитой демократии, какая была в Афинах Перикла, не знало в то время ни одно государство мира. Нигде свободному (существенная оговорка) человеку не дышалось так легко, нигде он не имел таких широких возможностей для проявления своей индивидуальности, как это было в Афинах и некоторых других государствах-полисах. Здесь человек почувствовал себя не безликой частью безликой машины деспотической государственности, а именно личностью, духовной неповторимостью.
Здесь вся социальная жизнь крайне неустойчива, полна смут, дискуссий, катаклизмов, политических переворотов. И не составляет ли главную особенность античной классической скульптуры по сравнению с египетской, например, этот динамизм, этот принцип движения и изменения, это радостно-чувственное удивление миру и желание удивить его пропорциями, гармонией, пластикой, неповторимостью черт индивидуального человеческого тела, неповторимостью его фигуры, его осанки, его позы, его улыбки?
И не видим ли мы также этот динамизм и антропоморфизм в качестве основных принципов философского истолкования мира у античных мыслителей от Гераклита до Сократа? Не предстал ли мир в воззрениях пифагорейцев, скажем, живым прообразом античных скульптур — телесным, гармоничным, страдающим и радующимся, мыслящим, разумно организованным в соответствии со строгими, математически измеримыми пропорциями? Не есть ли все мироздание в этих представлениях та же скульптура, созданная божественным резцом демиурга? И не подчинены ли также принципу гармонии поиски системности доказательств в геометрии?
Аналогичную взаимопроиизанность форм творчества единым стилем мы наблюдаем и в другие эпохи. Выражением одного мироощущения явилась средневековая схоластика, готическая скульптура, мистика и алхимия. А столетиями позже — ренессансные тенденции в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе и коперни- канско-галилеевский переворот в понимании устройства
25
Вселенной. Леонардо и Пико делла Мирандола, Рабле и Монтень, Кардано и Николай Кузанский разными средствами и жанрами выражали свободный от догматов, раскованный дух своего времени, устремленный в будущее, весь пронизанный трепетным ожиданием близкого небывалого обновления мира и человека.
Эпоха капиталистической индустрии принесла с собой и соответствующий духу времени стиль творчества. Человек, некогда стоявший в центре мироздания, бывший мерой познания самой природы, теряется вдруг в грохочущем мире машинной цивилизации и разветвленной системы бюрократической государственности. Он оказывается в словно вывороченном наизнанку мире, где вещи олицетворяют собой отношения людей, где собственные творения рук рабочего становятся отчужденной и чуждой силой, его угнетающей. Человек растерян, подавлен, но он и протестует, восстает против безликих циклопов, распоряжающихся его трудом, его жизнью, его судьбой. Все более неопределенным, иррациональным, непредсказуемым, не поддающимся оценке и контролю индивида становится ход событий, возрастает сложность социальных и технических систем, политических и экономических процессов, течение которых не подчиняется однозначным детерминантам.
И это мироощущение стало лейтмотивом искусства, философии и естествознания XIX и XX веков. Теория относительное™, отказ от наглядных представлений в квантовой механике, вероятностные методы и принцип неопределенностей в физике — все это перекликается с соответствующими принципами поисков в современном искусстве, стремящемся отразить жизнь в ее сложных, глубинных, не выступающих на поверхности процессах, разглядеть за внешней давностью, очевидностью субъективно неповторимые, причудливые, расплывчатые, остраненные, парадоксальные, фантастические, ирреальные и даже сюрреальные очертания. Миры Бора и Гейзенберга, Камю и Хайдеггера, Пикассо и Рериха, Хаксли и Булгакова в этом отношении сопоставимы, гомогенны, конгениальны.
Мало, однако, установить только полифоническое созвучие форм творчества. Гениально-интуитивное видение таких созвучий, их безмерная абсолютизация привели Шпенглера к антиисторической мысли о замкнутости в себе, изолированности, монадности культурных эпох, отсутствии преемственности и связи между ними.
26
Диалектически подвижное единство искусства, философии и частных наук, выражая и формируя «духовный климат» своего времени, вместе с тем чревато и всполохами последующих эпох культурного развития. И если три основных потока творчества протекают в едином русле культуры, то важно постигнуть существо этого явления именно в его подвижности, устремленности к новым горизонтам. Это поток, в котором все виды и формы освоения действительно смешивают свои воды, движутся вперед, подталкивая и обгоняя друг друга, создавая то стремительные водопады, то временные сравнительно тихие заводи, то круговерти, но никогда не прерывая поступательного исторического развития.
Есть и своя последовательность, своя логика в этом многоструйном движении. Известно, что точные науки создают задел для развития техники и технологии, открывают новые пути и новые возможности практического преобразования мира. Но теоретические открытия в области естествознания довольно часто предвосхищаются философскими, умозрительными гипотезами и построениями. Философия же — с точки зрения широкой исторической перспективы — в свою очередь, лишь следует за искусством в освоении новых форм постижения мира, новых граней, ракурсов и аспектов его видения, новых способов мышления.
Обратимся к фактам. Древнегреческая натурфилософия возникла как попытка рационально объяснить мир в качестве системно организованного целого. Учения Анаксимандра, Пифагора, Гераклита, Анаксагора, Платона, Демокрита — это именно философские системы, созданные в соответствии с тем или иным исходным принципом строения: апейрон, число, огонь, го- меомерии, идеи, атомы. Они представляли совершенно своеобразную форму познания в сравнении с довольно развитым, но эмпирическим по преимуществу научным знанием древних цивилизаций Египта и Вавилона (астрономические наблюдения и геометрические вычисления).
Где же истоки этой формы? Не встречаемся ли мы уже у Гомера и Гесиода с попытками представить мир как сложно организованную, саморазвивающуюся и целостную систему средствами мифологического и поэтического мышления?
В «Теогонии» Гесиода все великолепие и многообразие Вселенной возникает как порождение сочетаю-
27
щихся в жарких объятиях богов и богинь, которые сами — живое олицетворение стихийных сил природы: земли и неба (широкогрудая Гея и Уран), глубоких земных недр (Таргар) и сияющего дня (Гемера), шумного моря Понта и глубокого Океана. Вселенная эта возникает из некоего единства (Хаос) и управляется единым принципом (сладкоистомный Эрос или Мойра, судьба).
Античная натурфилософия облекает это миропонимание в рациональные формы, она отбрасывает наивный фетишизм и не удовлетворяется уже уподоблением генезиса Вселенной семейно-родовым отношениям, она поднимается на теоретический уровень познания, но тем не менее сохраняет те интуитивно верные представления, которые содержались в поэтически обработанной мифологии. Философия, так же как и мифология, выводит все многообразие мира из некоего единства, она также ищет некоторые организующие принципы его строения: это Логос Гераклита, Гармония пифагорейцев, Нус Анаксагора, Ананке Демокрита, Любовь и Вражда Эмпедокла.
Так теогония естественно переходит в космогонию, поэтически-сказочное восприятие мира выступает предтечей рационально-умозрительных систем. Чаще всего это таинство происхождения философских систем неявно, скрыто, но иногда оно проявляется и совершенно откровенно, как это имеет место, например, в космогонии Платона.
Космос по Платону — живое существо, наделенное душой и умом, и «родился он поистине с помощью божественного провидения». В центре его невидимая мировая душа, которая окутывает небо также и извне и дает начало «непреходящей и разумной жизни во все времена». Небесные тела, неподвижные звезды — не что иное, как «вечносущие божественные существа». Надмировая душа воплощается последовательно во все менее возвышенных формах творения: звезды, солнце и планеты, земля, олимпийские боги, люди (сначала мужчины, затем женщины) и, наконец, животное. Платон создает, я бы сказал, весьма нравоучительную теорию происхождения, где не люди развиваются из царства животных, а, напротив, животные происходят от тех людей, которые деградировали вследствие слабоумия, лени, безнравственности, легкомыслия. Тут уместно привести мудрую цитату: «А вот племя сухопутных живот¬
28
ных произошло из тех, кто был вовсе чужд философии и не помышлял о небесном, поскольку утратил потребность в присущих голове круговращениях и предоставил руководительство над собой тем частям души, которые обитают в груди. За то, что они вели себя так, их передние конечности и головы протянулись к родной им земле и уперлись в нее, а череп вытянулся или исказил свой облик каким-либо иным способом, в зависимости от того, насколько совершающиеся в черепе круговращения расстроились под действием праздности» К
Что поразительно в этой картине, так это единство организации космоса и микрокосмоса, Вселенной и человека. В человеке, как солнце в капле росы, отражается все мироздание с его строением, его гармонией, его умом и его душой. И высшим стремлением человека должно стать такое развитие собственного интеллекта, «дабы через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове... иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому...» 1 2.
Платон не скрывает кровной связи с мифологиче- ски-поэтическим мировосприятием, он прямо включает мифы в свою систему, его ход размышлений имеет ту же направленность и так же окрашен антропоморфизмом и анимизмом, как это имеет место у Гесиода. Его космогония воспринимается как род философской сказки.
Но обратите внимание на его метод!
Свою Вселенную Платон не строит часть за частью, конструируя из них механическое единство; он не рассекает также единое на все более мелкие части, нет, — он выводит из исходного целого все новые и новые формы существования столь же органически; как естественно порождает растущее дерево все новые ветки и плоды, как естественно человек воплощает замысел какой- либо вещи, ее идею в реальную вещь. Этот организми- ческий, биологический метод похож на действия того хирурга, которому удалось бы своим скальпелем последовательно отсекать части живого тела, не умертвляя их, а добравшись до мельчайшей его части, до гена,
1 Платон. Сочинения. М, 1971, т. 3, ч. I, с. 540.
2 Там же, с. 539.
29
увидеть и сохранить в нем все особенности развитого живого организма.
Естествознание только сейчас, в XX веке, едва «дотягивает» до подобного метода рассмотрения сложноорганизованных, целостных систем! Оно только подходит к осознанию того, что ключом к анатомии «мертвой», неорганической материи может служить анатомия природы живой, что сложность биологических систем сродни сложности внутриатомной организации.
А техника? Она все еще пребывает на уровне сум- мативных, агрегативных систем, в лучшем случае — с использованием довольно примитивных моделей обратных связей. Биологические принципы строения технических систем (саморазвитие, самоорганизация, само- модернизация) остаются пока еще предметом инженерной зависти, мечты и вожделений.
Современная математика ведет свою родословную от найденного древними греками системного подхода к геометрии при помощи вытекающих друг за другом доказательств от одного положения к другому, что нашло свое воплощение в «Началах» Эвклида. Но возьмем греческий орнамент периода крито-микенской культуры и архаики. Этот геометрический стиль в искусстве, возникший задолго до появления в Греции геометрии, эти попытки создать с помощью абстрактных форм и фигур, переходящих друг в друга, художественно цельный образ, некую пространственную гармонию — не предвосхищают ли они пифагорейское геометрическое мироздание и древнегреческую математику вообще? Не существует ли также преемственная связь между этим искусством и атомистикой Демокрита, которая ведь тоже строит свой вселенский орнамент из неделимых начал, отличающихся «формой, фигурой, величиной»?
Кстати, с атомистикой Демокрита связана и одна из отличительных особенностей естествознания нового времени. Ею является механистическое представление о Вселенной, все элементы которой соединены линейной, жесткой, причинной связью, так что, по мысли Лапласа, если бы человек знал положения и скорости всех частиц Вселенной на данный момент, то он мог бы с абсолютной точностью предсказать все последующие события: космические, физические, химические вплоть до исторических судеб человечества и конкретных действий каждого индивида. За полтораста лет до Лапласа аналогичный взгляд на мироздание обосновал философ Де¬
зо
карт. Вольтер вложил в уста Декарта следующее обращение к богу:
Ваш мир, — хоть он и блещет красотой, —
Но коль угодно вам, слеплю и я такой:
Материи кусок... и я, сомнений нет,
Создам стихии все, животных, вихри, свет, —
Узнать бы только мне движения закон...
Вольтеру было, конечно, хорошо известно, что философы, претендовавшие на подобный акт творения, существовали и задолго до Декарта: та же атомистическая система Демокрита являет собой далекий, но удивительно верный прообраз механистической, каузальной картины мира, созданной естествознанием XVII—
XVIII веков.
Вся Вселенная Демокрита выводится из простейших установок атомарности материи и каузальности связей. Здесь отсутствует всякий произвол и случайность, здесь все подчинено строгой причинности, здесь нет другого божества, кроме Ананке — необходимости, заранее запрограммированного, от века данного расписания хода всех вещей и событий. Демокрит строит свою Вселенную, как современный инженер сооружает агрегат по утвержденному проекту. Каждый «узел» системы должен работать надежно, однозначно и бесперебойно в заданном темпе и режиме. Мироздание — это словно вечно идущие часы, гигантский автомат или механический театр марионеток, где человек со всем своим своеобразием — лишь деталь, состоящая, как и все прочие части машины, из конечных атомов, все действия которого предопределены Ананке.
Откуда мог почерпнуть Демокрит подобное представление о мире? Не было ли оно в значительной степени навеяно ранней античной трагедией, произведениями Эсхила и Софокла, в которых с такой потрясающей эмоциональной силой выражена идея предначертанно- сти всей жизни и поступков человека, идея коллизии между Роком, Судьбой, Мойрой и тщетными, но героическими потугами человека противопоставить им свое «я», свою волю, ум и сердце. Ведь даже боги и те подчинены Судьбе, которая коварно осуществляет свои слепые и жестокие «законы» вопреки всем усилиям.
И не прослеживается ли, таким образом, идущая через века и тысячелетия преемственность между миром
31
Эсхила и Софокла — Вселенной Демокрита — механистической философией — механистическим естествознанием и системами технологии, где принцип механистической детерминированности связей получил наконец свое вещное и полное воплощение? Этот принцип последовательно переходил из области искусства в области философии, естествознания, техники. Ныне он изгоняется и из последней.
В современном научном мышлении господствуют представления о вероятности, сложной, полифонической, опосредованной детерминированности, стохастичности, многоплановости (а не линейности) развития процессов, о закономерностях, пробивающих себе дорогу через массу отклонений, случайностей, неожиданностей. Эти представления были первоначально развиты также средствами художественного освоения действительности. Если все поступки Эдипа расписаны судьбой еще задолго до его рождения, то Гамлет сам определяет линию своего поведения под влиянием многосложных непредсказуемых обстоятельств. Он часто и сам не знает, как именно поступит в следующую минуту. Но тем не менее во всех действиях его есть своя подспудная алогичная логика поведения, свой лейтмотив, трагическое звучание которого нарастает от акта к акту.
Философии, не говоря уже о других науках, тогда еще неведомо было подобное мироощущение. Она придет к нему столетиями позже.
Можно привести и более конкретные примеры. Мысль о сферичности Земли высказал еще пифагореец Филолай за два тысячелетия до Магелланова путешествия. При этом античный философ, очевидно, исходил из эстетических представлений о шаре как совершеннейшей из всех форм.
За восемнадцать столетий до опубликования Коперником своей книги «Об обращениях небесных сфер», знаменовавшей рождение современного естествознания, античный натурфилософ и астроном Аристарх Самосский писал: «Земля — это планета, которая, как и другие планеты, вращается вокруг Солнца; она совершает этот оборот в один год». Но разве не находим мы в еще более древних мифах и поэтическом народном творчестве зачатки наивного гелиоцентризма, обожествления Солнца, поклонения ему как верховной силе природы, истоку жизни, света, тепла, разума?
32
Известный английский математик и философ Бертран Рассел высказался как-то следующим образом: «Если бы Гомер и Эсхил не существовали, если бы Данте и Шекспир не написали ни строчки, если бы Бах и Бетховен остались безмолвными, повседневная жизнь большинства людей в наши дни осталась бы, в общем, такой же, какова она и сейчас. Но если бы не было Пифагора, Галилея и Джеймса Уатта, то наша повседневная жизнь была бы совершенно иной». Это величайшее заблуждение, в основе которого лежит как раз традиционное представление о несопоставимости миров искусства и науки, об их развитии «по непересекающим- ся параллелям». Я убежден, напротив, что без Гомера и Гесиода не было бы Пифагора и Архимеда, без причудливого мира, созданного фантазией Рабле и Сервантеса, Свифта и Мильтона, без гармоний Рафаэля и Микеланджело, без высокого драматизма Данте и Шекспира не было бы миров, созданных гением Галилея, Ньютона, Лобачевского.
Еще первый античный натурфилософ Фалес Милетский вопрошал себя: «Что быстрее всего на свете?» И ответствовал: «Мысль». Но что быстрее мысли? — спросим мы далее. Быстрее мысли оказывается образ. К тому же художественный образ нередко не только быстрее, но и вернее мысли, хотя он и значительно менее точен.
О любопытном факте рассказал Эм. Миндлин в своих воспоминаниях. В 20-х годах геологическая партия работала в районе Коктебеля, геологи познакомились с Максимилианом Волошиным и стали бывать у него. Увидев его коктебельские пейзажи, эти поэмы камней, скал, изломов, размывов почвы, геологи радостно переглянулись. Они нашли, что условный акварельный пейзаж Волошина дает более точное и правдивое представление о характере геологического строения района, нежели фотография! Они заказали ему целую серию акварелей. Ни одна из них не являлась изображением какого-либо определенного уголка. Но каждая с необычайной поэтической верностью передавала общий характер пейзажа — даже строения почвы! Это был какой-то доведенный до предельной поэтической выразительности условно-обобщенный пейзаж.
Мысль — это выпрямленный, раскрученный, размотанный клубок образа, это телеграфный столб, бывший некогда живым деревом с развесистой и причудливой
33
кроной. Но живые деревья мало годятся для того, чтобы быть опорой потока информации, тут «телеграфные столбы» понятий, законов, формул, геологических чертежей незаменимы: без них человечество также не продвинулось бы вперед.
Почему искусство может идти впереди науки в развитии новых способов духовно-практического освоения мира? Да потому, что оно ставит свои «эксперименты» с несравненно большей свободой, чем наука, оно не так жестко детерминировано природой объекта, с которым имеет дело, оно само его конструирует и переделывает, высвечивая его внутреннюю природу, привлекая для этого более гибкие, яркие и обширные ассоциативные связи, оно быстрее и полнее выражает зарождающийся дух новой эпохи, опираясь при этом на более глубокий пласт культурного наследия человечества.
Эта закономерность реализуется равно как в историческом творчестве целой цивилизации, так и в творчестве отдельной личности.
В творческом процессе ученого, создающего новую теорию, художественно-образная деятельность, работа фантазии, интуиции, игра ассоциаций предшествуют строго логической, «оформительной» работе мышления. Ученый действует сначала как художник и лишь затем как теоретик. Признания на этот счет мы находим у Менделеева, Кекуле, Пуанкаре, Эйнштейна, Бора.
Если сравнить рождение новой научной теории со строительством здания, то в этом процессе участвует и художественный, и философско-методологический, и логико-математический уровень мышления. От еще неясного, смутного, интуитивно схваченного прообраза здания, от самой общей, скорее чувствуемой, воображаемой, нежели осознаваемой его идеи, возникающей пока как увлекательное, волнующее видение новых архитектурных форм гармонии и красоты, через соотнесение этого образа со всем строем мировоззрения, со всей ситуацией в целом, то есть через попытку органически, естественно вписать здание в весь окружающий ландшафт миропонимания и общих принципов его жизни и развития, — через все это к окончательному логическому и математическому чертежу здания — таково движение теории.
Мы имеем, таким образом, следующую последовательность уровней (структурных звеньев) творческого мышления: дологический (художественно-образный, ин¬
34
туитивный), мировоззренческий (философский, методологический), фундаментальный (теоретический, логикоматематический) , прикладной (инженерно-конструкторский).
При этом каждый предшествующий уровень не только предваряет и порождает последующие, но и сопутствует им всем, пронизывает их, содержится в них в «снятом виде». Художественная деятельность сознания необходима и при мировоззренческой, и при логической, и при конструкторской работе мысли. Искусство и философия напоминают нашему «архитектору» о гармоничной ситуации в целом — на всех стадиях его работы.
Эта же последовательность уровней позволяет, на мой взгляд, понять структуру современной науки в ее соотнесении с искусством. В эпоху интеграции наук их членение по ведомственному, дисциплинарному принципу уже не оправдывает себя. На место ему приходит проблемный принцип членения, при котором для решения проблемы привлекается целый комплекс дисциплин и направлений исследования, но взятый на определенном уровне — либо методологическом, либо фундаментальном, либо прикладном. В каждой науке, достигшей определенной степени зрелости, могут быть вычленены эти уровни. Свой методологический, фундаментальный, прикладной уровень имеют кибернетика, физика, биология, социология, экономика. На каждом из них осуществляются специфические типы интегративных связей (горизонтальная интеграция). Вместе с тем растет взаимодействие и самих уровней исследования (вертикальная интеграция). Все же между прикладными исследованиями физических проблем и методологическими их исследованиями больше различия — как по содержанию самих проблем, так и в характере исследовательского труда, его организации, принципах планирования, финансирования, — чем между методологией физики, химии, биологии.
Философия (как и методология вообще) занимает в этой структуре посредствующее место — между искусством и фундаментальной теорией. Она и в самом деле наследует особенности как с той, так и с другой стороны. Она стремится разобраться в конечных причинах явлений, отразить их в теоретических понятиях и категориях. Но в то же время она, как и искусство, не ориентируется непосредственно на изменение мира вещей, на переделку природы, а ориентируется на изме-
35
нение внутреннего мира человека, преобразует его мышление. Как и искусство, философия тяготеет к целостному восприятию мира.
Отсюда специфика тех средств и форм освоения действительности, которыми пользуется философия. Она не чурается эмоционального языка, она сочетает объемное мышление образами с «линейным», строго логичным. Исторически философия возникает вслед за искусством и прежде естествознания.
И если занятия искусством развивают эстетическую сторону мышления, то занятия философией развивают способности к обобщениям самого высокого порядка, к диалектической гибкости понятий. Философия противостоит формализованным приемам точных наук, она дополняет их качественно иными средствами и возможностями познания. Философия призвана разрабатывать методы познания, протекающего на самом высокотеоретическом уровне, методы умозрительного синтезирования, Философия удовлетворяет нашу потребность в целостном охвате закономерностей мироздания, в едином постижении природы и общества. Она дает менее точную, но зато более полную, не раздробленную на осколки картину мира.
Искусство, предваряющее исторически и логически философию, идет в этом отношении еще дальше. Причем разные его виды и жанры занимают свое определенное место в этой последовательности — в зависимости от присущей им степени свободы в выражении действительности. Нильс Бор высказал в связи с этим глубокую мысль: «Можно сказать, что литературное, изобразительное и музыкальное искусства образуют последовательность способов выражения, и в этой последовательности все более полный отказ от точных определений, характерных для научных сообщений, представляет больше свободы игре фантазии».
Чем более «абстрактен» жанр искусства, тем больше у него степеней свободы в выражении мироощущения своей эпохи и больше возможностей в конструировании новых аспектов видения мира, больше простора фантазии. И, следовательно, тем больший забег вперед для него возможен.
Музыке, бесспорно, принадлежит в этом отношении первое место. Эйнштейн писал о «родственных» его гению творческих процессах в музыке и литературе, оказавших на него огромное влияние, и называл, в частно¬
36
сти, имена Достоевского, Моцарта, Баха (музыка Баха ассоциировалась у него со стройной логикой математических конструкций). Временной разрыв между Эйнштейном (1879—1955) и Достоевским (1821 —1881) — полстолетия. Между Эйнштейном и Моцартом (1756— 1791) — более века, от Баха (1685—1750) Эйнштейна отделяют двести лет. Родственный Эйнштейну творческий процесс искусство смогло выработать задолго до его появления!
За «искусством гармонии и звука» следует «искусство цвета» (живопись) и искусство слова (поэзия, художественная проза). Последнее непосредственно примыкает к мировоззренческому и методологическому структурному звену науки, представленному главным образом философией. Трудно, медленно и, быть может, с опозданием, но искусство XX века в муках рождает новые формы мышления по законам красоты. Большое видится на расстоянии, и только историкам будущего удастся, возможно, установить, как повлияли сегодняшние симфонии, поэмы, живопись, кинодраматургия, научная фантастика на формирование мышления людей науки XXI века.
Несомненно, однако, что «зона отчуждения» между искусством и наукой будет сужаться по мере изживания «цеховой учености», по мере того, как естествознание станет подниматься ко все более высоким уровням теоретического освоения действительности, где «мышление в понятиях» и «мышление в образах» не противостоят, а взаимно оплодотворяют друг друга.
Мы видели, что соединение рационального и художественного метода исследования и в прошлом порождало великую духовную силу гениев науки и искусства. Еще большие надежды мы возлагаем на этот сплав в будущем. И не пора ли сознательно «готовить» его уже в настоящем?
Познавай тот ритм,
что в жизни человеческой сокрыт.
АРХИЛОХ
Много в мире сил великих,
Но сильнее человека Нет в природе ничего.
СОФОКЛ
ЧТО ЕСТЬ МУДРОСТЬ, СОКРАТ?
В подготовительных работах Маркса к докторской диссертации мы находим среди ряда метких характеристик античных философов такое высказывание о Сократе: «Сократ так важен потому, что в нем выражается отношение греческой философии к греческой жизни, а следовательно, и ее внутренний предел» К
Замечание очень верное и глубокое. Сократ действительно стоит как бы на распутье в развитии философской мысли. С ним кончается одна эпоха в истории античной философии и начинается другая, поэтому все его предшественники получили название досократиков.
Досократики были натурфилософами, умозрительными естествоиспытателями. Сократ в этом отношении их антипод. Он решительно отказывается исследовать естество природы самой по себе, считая это делом невозможным и практически бесполезным. Не сделает же нас изучение небесных светил способными управлять ими! Не смогут же эти «астрономы» и «физики» вызвать когда захотят ветер и дождь и изменить ход времен года!
Поэтому, считал Сократ, философ должен поставить в центр своего рассмотрения не природу, а человека и дела человеческие, ибо такого рода знание позволит человеку управлять самим собой и совершенствовать себя. «Он исследовал, — писал его верный ученик Ксенофонт Афинский, — что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что безобразно, что справедливо и что несправедливо, что благоразумие и неблагоразумие, что храбрость и что трусость, что государство и что государственный муж, что власть над людьми, что человек, способный властвовать над людьми, и так далее...»1 2.
Это было ново для античной мысли. Прежде такие вопросы были предметом обыденного интереса, житейской мудрости, но никогда еще не были объектом научного исследования.
Но, противопоставляя себя натурфилософам, Сократ в определенном отношении является их духовным наследником: он воспринял развитую ими диалектику, усо¬
1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 136.
2 Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. М.— Л., 1935, с. 24—25.
39
вершенствовал ее, доведя до степени искусства, и сделал активным средством изучения этой новой области — мира человеческих дел, поступков, а главное — мира человеческого мышления. «Познай самого себя» — вот исходный пункт и кредо сократической философии.
Цель такой философии весьма практична: она должна объяснить людям, что есть добродетель, и помочь им стать добродетельными. Нет, не менторски осуждать их за «нечестивое» поведение, не порицать укоряюще, не увещевать — все это не дело философии. Она призвана подойти к проблеме добродетели не с религиозно-нравственной, а с чисто рациональной стороны, так как, по убеждению Сократа, добродетели можно и нужно учить, ибо пороки человека проистекают от незнания, невежества.
В подтверждение этой мысли Сократа Платон приводит один из своих прекрасных мифов.
Было такое время, когда боги существовали, а люди и животные еще нет, их боги еще лепили в подземелье. И перед тем как живым существам появиться на свет, стал Эпиметей, брат Прометея, распределять способности между ними: одним дал силу без быстроты, другим — быстроту без силы, третьих наградил способностью летать.
Но был Эпиметей не очень-то мудр и не заметил, что раздал все способности бессловесным тварям, а род человеческий еще ничем не украсил. И когда посмотрел Прометей на плоды трудов своего брата, то увидел, что человек наг и необут, без ложа и без оружия, а уже наступил предназначенный день, когда следовало человеку выйти на свет божий. И вот, чтобы помочь людям, решился Прометей украсть у бога-кузнеца Гефеста его искусство, а у богини мудрости Афины — ее. И подарил он людям это умение трудиться и мыслить, а также подарил им похищенный с неба огонь.
Так люди овладели умением поддерживать свое существование, они изобрели жилища, одежду, обувь. Но жить им было плохо, и многие гибли в борьбе со зверьем, так как люди «еще не обладали искусством жить обществом». Если собирались они вместе, то тут же начинались у них распри и вражда, и снова приходилось им расселяться и гибнуть.
Испугался тогда громовержец Зевс, что погибнет все людское племя, и решил ввести среди людей «стыд и правду, чтобы они служили украшением городов и дру¬
40
жеской связью». Все должны обучаться этому искусству и владеть им, а «всякого, кто не может быть причастным стыду и правде, убивать как язву общества» К
Вот почему самое ценное человеческое качество — это добродетель. Она есть умение хорошо поступать, а хорошо поступать умеет лишь тот, кто знает, как именно надо поступать.
Предшественники Сократа были и геометрами, и астрономами, и физиками, и врачами в одном лице. Они не выделяли для себя узкий, специальный предмет исследования, мироздание в целом было их лабораторией и объектом: от звезд на небе до семян на земле, от природы солнечных затмений до причин рождения мальчиков и девочек. Наука выступала еще недифференцированным единством, а философ — исследователем- универсалом, то есть мудрецом.
Начиная с Сократа картина меняется, философия постепенно обретает особый предмет, особый угол зрения, проводит «водораздел» с другими, быстро формирующимися науками. Она по-прежнему осуществляет свою верховную, царственную власть, но каждая из конкретных наук имеет уже свое «удельное княжество» в мире природы, развивает свои отличные от философских методы и приемы исследования.
Рубеж пролегает, в общем, там, где его наметил Сократ: философии — человек как социальное и мыслящее существо, а остальным наукам — природа, включая биологическую и физиологическую природу самого человека.
Философ с этого времени не только «любомудр», искатель и любитель мудрости, но и ее исследователь. Именно мудрость как ценнейшее отличительное качество человека составляет начиная с Сократа предмет пристального внимания философии. В чем состоит мудрость? Чем отличается знание истинное от неистинного? Каковы пути к истинному знанию? Каким образом лучше поставить средства мышления — понятия, категории — на службу познанию? Как усовершенствовать диалектику понятий для более верного отражения диалектики действительности? Как в общем понятии отразить единичное и как от единичного эмпирического факта подняться к предельно широкому обобщению? — вот проблемы, вставшие во всей своей сложности перед Со- кратом. 11 Платон. Соч., т. 1. М., 1968, с. 202—205.
41
Платон в одном из своих сократических диалогов называет философом и диалектиком того, кто «сумеет в достаточной степени различить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого; далее он различит, как многие отличные друг от друга идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга» К
Не только в развитии научного познания, но и в историческом процессе афинской общественной жизни в эпоху Сократа стал ощущаться некий внутренний «предел». Рабовладельческая демократия, едва достигнув своего расцвета, начала быстро вырождаться и загнивать. Отошли в область преданий не только гомеровские идеалы героизма и стойкости духа, но и потускнели возвещенные Периклом принципы справедливой и благородной государственности, служащей образцом для всего остального мира. Красивые речи ораторов не могли больше скрыть от всех той очевидности, что Афины жили грабительскими войнами, жестокой эксплуатацией рабов, погоней за барышами. Развитие индивидуальной свободы в таких условиях не могло больше идти по восходящей линии и вскоре начало вырождаться в крайний индивидуализм, откровенный карьеризм, лишенный всяких принципов, всякой гражданственности и патриотизма.
Одно из самых ярких свидетельств тому — судьба Алкивиада, считавшегося учеником Сократа. Обладая хитрым и изворотливым умом, большим даром красноречия, личным обаянием и неуемной жаждой славы, Алкивиад лестью и посулами стяжал любовь толпы, добился избрания стратегом. Но когда под влиянием наветов недругов отношение к нему афинян изменилось, он бежал в Спарту и возглавил военные действия против родины. Затем столь же коварно изменил и спартанцам, нашел укрытие у персидского сатрапа. Для достижения своих целей он не гнушался никакими средствами: ложью, убийствами, предательством, двурушничеством.
Как во всяком государстве, идущем к упадку, в Афинах начала разрастаться язва коррупции, взяточничества, сутяжничества, политической демагогии. Пелопоннесская война со Спартой кончилась позорно для Афин, 11 Платон. Соч., т. 2, с. 876.
42
и это еще более ускорило процесс социального разложения, усилило разочарование в прежних общественных идеалах.
«Человек в ночи зажигает себе свет» — гласит один из афоризмов Гераклита Темного. Пока рабовладельческая демократия переживала свой восход, солнце светило для всех, всех объединяло и согревало своим теплом, вдохновляло на совместные действия и далеко, ярко освещало заманчивые горизонты предстоящего пути. Но вот клонится солнце к закату, надвигаются сумерки, и отчетливая яркость и ясность дня стушевывается, предметы утопают и растворяются в непомерно огромных своих тенях. Беспросветным, призрачным и пугающим становится мир.
Тогда человек зажигает себе светильник — каждый для себя — и отгораживается им, этим кружочком желтого света, и от сумерек, и от других людей. Человек погружается в себя, в свои мысли, чувства, переживания, он хочет высветить факелом самосознания собственный внутренний мир и надеется увидеть в нем целую вселенную, надеется понять через строй своего мышления строй мироздания.
И потому человек в ночи зажигает себе свет. И потому вместо натурфилософии появляется философия человеческой субъективности. У самого Платона сохраняется еще интерес к миру в целом, но вся действительность окрашивается у него в сумеречные тона, становится лишь тенью некой «объективной субъективности».
Только Аристотель, словно последним солнечным лучом, обегает всю землю, подводит итог предшествующей натурфилософии, как и всему научному познанию. Яркая вспышка его могучего ума надолго сохраняется в сознании последующих поколений, в то время как в наступившей беспросветности загораются и потухают тусклые светильники: сократики, платоники, мегарцы, киники, стоики, киренаики, скептики, эпикурейцы.
Сократ стоит на полпути между этими полюсами античной философии. Он обращается к внутреннему миру человека, к его мышлению, но сохраняет при этом незамутненный, здоровый взгляд на вещи. Он любит рассуждать о добре и справедливости, но не впадает в плоское и пошлое, елейно-келейное морализаторство в духе позднейших философов, считавших себя последователями Сократа. Он ироничен, и эта ирония убийст¬
43
венна для самодовольного всезнания и живительна для ищущей мысли, она не перерастает во всеотрицающий скепсис софистов. Сократ — диалектик, он сумел довести до совершенства искусство сталкивать в спорах противоположные суждения, исследовать предмет в его многосторонности и противоречивости. Но эта диалектика не обращается у него ни в безбрежный релятивизм, ни в субъективизм, когда игра мысли идет безотносительно к действительности. Напротив, диалектика Сократа — это диалектика взаимоотношения мысли и действительности, единичного факта и обобщающего понятия.
В платоновской интерпретации сократовская диалектика единичного и всеобщего доходит до вывода о «порождающей» сущности общих понятий, об их первенствующем значении по отношению к материальной реальности. Здесь «чистое мышление» в своем безмерном порыве подняться над единичным, опьяненное и обольщенное собственной активностью и открывшимися возможностями творить духовный мир, и в самом деле начинает себя воображать творцом мира, уже не только духовного, но и материального. Так борьба с банальностями здравого смысла перерастает в заумь и бессмыслицу философского идеализма.
В отличие от Платона у Сократа, однако, всегда на первом плане его диалектический метод, а не идеалистическая система конструирования мироздания, чем он и ценен для нас. Тут следует напомнить, что Ленин, конспектируя раздел о Сократе в гегелевской «Истории философии», делает свой известный вывод: «Умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм. Диалектический идеализм вместо умный; метафизический, неразвитый, мертвый, грубый, неподвижный вместо глупый» 1.
В известном смысле Сократ лишь дополняет раннюю натурфилософию. Без него картина мира, созданная ею, была бы неполна, ибо в ней не было бы четко обрисовано место человека. Для ранних натурфилософов человек не выделялся из всего остального космоса и не представлял собой особого интереса, предмета специального изучения.
Сократ несколькими мазками дорисовал натурфилософскую картину мира, поставив в центр ее человека как средоточие всех загадок бытия. В этом отношении
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 248.
44
сократическая философия завершает собой раннюю классику, натурфилософский период развития античной мысли, и открывает в то же самое время новую страницу духовной истории античности.
«Греческая философия, — пишет Маркс, — начинается с семи мудрецов, к которым принадлежит ионийский натурфилософ Фалес, и она оканчивается первой попыткой выразить в понятиях образ мудреца (Маркс имеет в виду попытки Эпикура дать определение этого понятия. — Г. В.). Начало и конец есть софо (то есть мудрец. — Г. В.), но не в меньшей степени он и центр, средина, а именно Сократ» К
Уже одно это центральное местоположение сократической философии в историческом процессе развития Древней Греции делает ее особенно интересной, так как она выступает средоточием всей античной философии, она есть конец начального и начало конечного периодов ее развития. Вот почему Сократ, по мысли Маркса, не только идеальный образ мудреца-философа, но и сама «воплощенная философия».
Сократ выступает олицетворением и воплощением античной философской мысли еще и потому, что в его лице она впервые спустилась на землю. Софисты, а вместе с ними и Сократ демократизировали ее. Из элитарного занятия избранных она становится органической частью народной жизни.
Сократ был тем удивительным человеком, для которого жить — это и значило философствовать, а все философствование для него заключалось в том, чтобы жить и мыслить вслух, всенародно. Сократ пытался философски осмыслить самые будничные дела и даже низменные поступки человека. Сам он при этом свои собственные поступки и слова наполнял глубоким смыслом. Для него нет недостойных тем, а есть лишь умы, не достойные темы. Он не темный изрекатель головоломных афоризмов, не религиозный пророк, а просто общительный и умный собеседник, речь которого по-крестьянски проста и ясна. Он не проповедник добра и добродетели, а сам «воплощает в себе — как в своей жизни, так и в своем учении — цель, добро. Он мудрец, и таким он вошел в практическое движение»1 2.
Сократ едва ли не единственный философ своего
1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 131.
2 Там же, с. 135.
45
времени, который не написал ни строчки и тем не менее создал великолепнейшее и непревзойденное философское произведение, которым была его собственная жизнь. Да, свою собственную повседневную жизнь этот человек строил как совершенное философское произведение.
Сократ (469—399 гг. до н. э.) — выходец из простой, небогатой афинской семьи: его отцом был каменотес Софрониск, а матерью повитуха Фенарета. Последним обстоятельством Сократ весьма гордился, так как полагал, что повивальное искусство сродни диалектике, которая помогает мысли родиться.
Сократ рано приобщился к искусству и сам пробовал свои силы в качестве скульптора: в Афинском акрополе долгое время находились статуи граций, вышедшие из-под резца молодого Сократа. Ваяние, однако, он рассматривал лишь как побочное занятие и средство для приработка, все свое время отдавая философии, к которой его неудержимо потянуло еще с юности. По выражению Платона, он был одержим философским неистовством. Он прочитал все произведения старых философов, слушал лекции и беседы Анаксагора, Парменида, Зенона, Архелая, Продика, Протагора и других известных философов и софистов. Он брал уроки у учителей музыки, поэзии и слыл всесторонне образованным человеком.
Сократ тренировал не только свой дух, но и тело, занимаясь гимнастикой и физическими упражнениями. Своим здоровьем и силой он поражал окружающих даже в старости. Он был храбрым воином и участвовал в трех кампаниях Пелопоннесской войны, где в полной мере проявились его выносливость, стойкость и мужество. Об этих его качествах красноречиво поведал Алки- виад в речи, которую Платон воспроизвел в диалоге «Пир».
«Начну с того, — говорил Алкивиад, — что выносливостью он превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой.
Точно так же и зимний холод — а зимы там жестокие — он переносил удивительно стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком
46
и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними.«
А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили военачальники, спас меня не кто иной, как Сократ: не захотел бросить меня, раненого, он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого. Я и тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили награду тебе, — тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что я лгу, — но они, считаясь с моим высоким положением, хотели присудить ее мне, а ты сам еще сильней, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не тебя...» К
Сократ превосходно справлялся со своими гражданскими обязанностями, выборными должностями. Его честность вошла в поговорку: подкупить его было труднее, чем ранить Аякса мечом. Во время правления тридцати тиранов, будучи присяжным заседателем народного суда, он один нашел в себе мужество выступить против несправедливого смертного приговора десяти военачальникам.
До старости оставался Сократ бедным человеком, зимой и летом ходил босой, в изодранном хитоне, хотя и пользовался известностью и славой, едва ли не большей, чем кто-либо другой. По примеру софистов он мог бы сделать занятия философией источником больших доходов, но считал, что торговать мудростью еще хуже, чем продавать тело.
Его жена Ксантиппа, обессмертившая имя свое несравненной сварливостью, не уставала осыпать мужа бранью за то, что он пренебрегает хозяйством и заботами об увеличении достатка в семье во имя «пустословия». Когда вслед за руганью на лысину Сократа выливалось ведро помоев, он, добродушно посмеиваясь, говорил собеседникам, что этого следовало ожидать, ведь за громом обычно следует дождь.
В утешение себе он говаривал также, что, когда человеку попадается плохая жена, это делает его философом. Однажды Антисфен удивился семейному долготерпению Сократа и спросил его, как это он может жить с женщиной, сварливее которой на свете нет да, видимо, и не будет, и услышал такой ответ: 11 Платон. Соч., т. 2, с. 152—153.
47
— Люди, желающие стать хорошими наездниками, берут себе лошадей не самых смирных, а горячих: они думают, что если сумеют укрощать таких, то легко справятся со всеми. Вот и я... взял ее себе в том убеждении, что если буду переносить ее, то мне легко будет иметь дело со всеми людьми1.
И в самом деле, нравом Сократ обладал завидным, всегда оставаясь добродушным и слегка насмешливым собеседником, какие бы острые формы ни принимала дискуссия.
Занятия его казались странными. Однажды на улице он встретил юношу Ксенофонта, показавшегося ему даровитым.
— Скажи мне, — спросил Сократ, — где покупают
муку?
— На рынке, — ответил Ксенофонт.
— А масло?
— Там же.
— А куда надо пойти за мудростью и добродетелью?
Юноша задумался.
— Иди за мной, я покажу, — сказал Сократ.
Так Ксенофонт стал спутником и участником бесед Сократа, а после смерти учителя, так же как и Платон, воспроизвел для потомства некоторые из них.
Вся мудрость Сократа, вся его диалектика — в его беседах, в устных поединках. Он не считал нужным записывать свои мысли, создавать книги. В книгах живое слово и мысль омертвляются, предстают чем-то неизменным, данным раз и навсегда, а это претит диалектическому чутью Сократа. Для него исследование не утверждение каких-то постулатов и принципов, а сам процесс спора с конкретным собеседником, который возражает, вскрывает слабость аргументации, побуждает находить новые доводы. Письменное же произведение сходно с картинами живописца: они «стоят как живые, а спроси их — они величаво и гордо молчат». Так и книги — они «всегда отвечают одно и то же», — и для людей понимающих, и для тех, которым эта тема не под силу1 2.
Сократ обладал малопривлекательной и даже отталкивающей наружностью: был лыс, толст, имел большой выпирающий живот, мясистые губы, приплюснутый,
1 Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения, с. 212.
2 См.: Платон. Соч., т. 2, с. 217.
43
вздернутый нос и «рачьи» глаза навыкате. Но, несмотря на это, от него словно исходила притягательная магнетическая сила. К нему обращены умы и взоры молодежи. Он вызывает такое чувство восхищения и преклонения, на которое не могли рассчитывать самые признанные красавицы и баловни судьбы. Алкивиад в своем похвальном слове Сократу, которое уже цитировалось, говорит:
— ...Он не похож ни на кого из людей, древних или ныне здравствующих, — это самое поразительное. С Ахиллом, например, можно сопоставить Брасида и других, с Периклом — Нестора и Антенора, да и другие найдутся; и всех прочих тоже можно таким же образом с кем-то сравнить. А Сократ и в повадке своей, и в речах настолько своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно похожего на него. Сравнить его можно, как я это и делаю, не с людьми, а с силенами и сатирами * — и его самого, и его речи.
— ...В самом деле, если послушать Сократа, то на первых порах речи его кажутся смешными: они облечены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого наглеца-сатира. На языке у него вечно какие- то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, что речи эти божественны, что они таят в себе множество изваяний добродетели и касаются множества вопросов, вернее сказать, всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь высшего благородства * 1.
Сократ не был заправским краснобаем, этакой сладкоголосой сиреной, он не украшал свою речь ораторскими приемами наподобие многих известных софистов. Он говорил просто, казалось, бесхитростно, касаясь самых жизненных тем, но эффект его бесед был поразительный.
— Что касается меня, друзья, — говорил все тот же Алкивиад, — то я... под клятвой рассказал бы вам, что я испытывал, да и теперь еще испытываю от его речей.
♦Силены и сатиры (миф.) — козлоногие спутники бога Диониса (Вакха), изображались ваятелями в виде смешных фигурок-футляров, в которых обычно хранились драгоценности.
1 Платон. Соч., т. 2, с. 154.
49
Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов *, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабскую жизнь. А этот Марсий ** приводил меня часто в такое состояние, что казалось мне — нельзя больше жить так, как я живу... И только перед ним одним испытываю я то, чего вот уже никто бы за мной не заподозрил, — чувство стыда К
Другой собеседник Сократа — Менон — говорил ему так:
— Ты меня заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове у меня полная путаница. И еще, по- моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом, и всем на плоского морского ската: он ведь всякого, кто к нему приблизится и прикоснется, приводит в оцепенение, и ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое — я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела, и язык отнялся; не знаю, как тебе и отвечать* 1 2.
Прикидываясь простачком, который хочет научиться чужой мудрости, Сократ задавал, казалось бы, самые простые, но лукавые и каверзные вопросы, обнаруживая перед всеми слушателями невежество самодовольного собеседника, загоняя его в тупик противоречий.
Вот встречает Сократ знаменитого софиста Гиппия3, похваляющегося, что он мудрейший из всех философов, так как умеет заработать больше денег, чем кто-либо другой. Сократ приходит в восторг от того, что встретил столь «славного и мудрого» человека, и смиренно просит Гиппия помочь ему разобраться в одном вопросе, который он, Сократ, «по простоте своей» постичь бессилен, а именно: что есть прекрасное?
— Ведь ты-то, — льстит Гиппию Сократ, — это определенно знаешь, и, разумеется, это лишь малая доля твоих многочисленных знаний.
*Корибанты — жрецы и спутники фригийской богини Кибеллы, славящие ее в экстатических оргиях под звуки флейт.
** Марсий (миф.) — фригийский сатир, состязавшийся в игре на флейте с самим богом Аполлоном.
1 Платон. Соч., т. 2, с. 148.
2 Там же, т. 1, с. 383.
8 Там же, с. 149—186.
50
— Конечно, малая доля, Сократ, клянусь Зевсом, ничтожная, можно сказать, — отвечает ему с гонором Гиппий, не чувствуя подвоха. А затем выпаливает: — Знай твердо, Сократ, если уж надо говорить правду: прекрасное — это прекрасная девушка.
— Прекрасный, славный ответ, Гиппий, клянусь собакой! — восторгается Сократ. — Ну а разве прекрасная кобылица не есть прекрасное? А что такое прекрасная лира? Разве не прекрасное? Дорогой мой, а что такое прекрасный горшок?
Гиппий растерялся, а Сократ принимается за новый каскад искусительных вопросов. Прекрасный горшок безобразен, если сравнить его с прекрасной девушкой, не так ли? А самая прекрасная девушка безобразна по сравнению с родом богов? Гиппий вынужден согласиться и тем признать прямо противоположное тому, что он вначале утверждал. Вконец сбитый с толку, он заявляет, что прекраснее всего для мужа быть здоровым, богатым, пользоваться почетом и, похоронив своих родителей, быть пышно погребенным детьми.
— Ну и ну, Гиппий! — не сдерживая больше иронии, говорит Сократ. — Как изумительно, величественно и достойно тебя это сказано! Клянусь Герой, я в восхищении.
Затем он очень деликатно объясняет собеседнику, что если бы он, Сократ, дал подобный ответ, то его с полным основанием избили бы палкой. Ведь речь идет о прекрасном самом по себе, о том, что такое красота вообще. Столь же легко Сократ далее опровергает утверждения, что прекрасное — это золото, или мощь, или мудрость, или что-то приятное слуху и зрению.
Кажется, понятие прекрасного вот-вот будет поймано. Но Сократ всегда находит неприметные лазейки в сетях определений, сквозь которые прекрасное ускользает. С Гиппия окончательно сбита спесь, он уже не спорит, а только поддакивает, ожидая, что Сократ выдаст ему, наконец, готовую истину. Но Сократ заканчивает разговор обескураживающе:
— Итак, мне кажется, Гиппий, что я получил пользу от твоей беседы... ведь кажется мне, я узнал, что значит пословица «прекрасное — трудно».
Сократ не обладатель истины, не жрец ее, он лишь ищет правильный путь к истинным утверждениям, и он считает своим долгом рассеивать самодовольное заблуждение тех, кто претендует на окончательную истину.
51
Сократ при этом пользуется грозным и непобедимым оружием — иронией. По мысли Маркса, сократовская ирония выступает «в качестве диалектической ловушки, при посредстве которой обыденный здравый смысл оказывается вынужденным выйти из всяческого своего окостенения и дойти — не до самодовольного всезнайства, а до имманентной ему самому истины, — эта ирония есть не что иное, как форма, свойственная философии в ее субъективном отношении к обыденному сознанию» К
Эта ирония казалась идущей от какой-то загадочной, демонической силы Сократа, ставящей его над людьми, как бы талантливы и умны они ни были. Разгадка этого внутреннего превосходства, этой силы, скрытой за добродушной ухмылкой, в том, что сам Сократ неуязвим. Разрушая своими коварными вопросами утверждения собеседников, вынуждая их признавать в конце прямо противоположное тому, с чего они начинали беседу, и ставя их тем самым в смешное положение, Сократ как Олимпиец для простых смертных остается вне пределов досягаемости их критики. А происходит это по той очень простой причине, что он, как правило, в своих беседах не утверждает ничего определенного и незыблемого. Его собеседники не могут обнаружить у Сократа статической теоретической платформы, которую можно было бы выбить из-под ног ловким диалектическим или софистическим приемом. Он не раскрывает какую-либо систему воззрений, которую требуется утверждать, защищать и отстаивать. Вот почему Сократ всегда предпочитает спрашивать, а не отвечать.
«Знаете, — читаем мы у Платона о Сократе, — ему вовсе нет дела до того, красив ли кто, богат ли кто, обладает ли какими-либо другими преимуществами из числа тех, что прославляются толпою. Нет, ко всему этому он относится с таким презрением, какого никто себе и вообразить не может. Все такого рода ценности он признает ничего не стоящими, да и нас всех, уверяю вас, ни во что не ставит. Всю свою жизнь он, с одной стороны, не делает никаких утверждений, а с другой — постоянно подсмеивается над людьми, иронизирует над ними» * 2.
‘Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 198.
2 Платон. Пир, 216е, цит. по переводу А. Ф. Лосева. См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969, с. 76.
52
Из того факта, что Сократ стремится не утверждать, а разрушать утверждения других, не следует, однако, делать вывода о нем как о пустом насмешнике, как о циничном нигилисте, для которого вообще нет ничего святого, который удовлетворяется тем, что превращает значительное в ничтожное и смешное, ничего не предлагая взамен. Если бы Сократ был только зубоскалом и балаганным шутом, никто не принимал бы его всерьез. Но за его убийственной иронией отрицания чувствуется пульсация животворного родника, ощущается все время словно скрытое биение жизнеутверждающей мысли, во имя которой Сократ и ведет кропотливую работу выворачивания наизнанку привычных представлений и привычных способов мышления. В его сбивающих с толку речах все время чувствуется некая уверенность и основательность человека, который хотя и не имеет готового ответа на свои вопросы, но знает нечто большее, а именно: во имя чего идет поиск и в каком направлении и как именно его надо вести, что придает его иронии необоримую силу Антея.
Имея дело с Сократом, можно было бы воскликнуть словами Гамлета, обращенными к могильщику: «До чего досконален, бездельник! С этим народом надо держать ухо востро, а то пропадешь от двусмыслиц».
Эта внутренняя основательность Сократа исходит также из его убеждения о возможности (именно возможности!) рационального осмысления и постижения жизни во всех ее проявлениях, во всех, даже темных и мистических, сторонах и тончайших движениях человеческой души и интеллекта. Сократ убежден, что во всей пестроте жизненных переживаний есть нечто объединяющее, некий общий смысл, который может быть выражен единой идеей, понятием.
Мудрость, следовательно, заключается в том, чтобы в хитросплетении и хаосе человеческих поступков, дел, мыслей, в многообразных связях вещей видеть не только изменчивую текучесть, но и некую устойчивость, нечто напоминающее парменидовское Единое Бытие. Эта устойчивость, однако, не мертвая неподвижность и не голая очевидность эмпирического факта, а полная им противоположность.
Подвести собеседника к этой мысли нельзя, не разрушив химеры его обыденных представлений и предрассудков, чего Сократ и добивается с помощью своей иронии. Причем и тут он использует своего рода хит¬
53
рость. Она состоит в том, что сам он, Сократ, остается как бы в стороне, он предпочитает, чтобы человек сам сжег тех богов, которым только что поклонялся. А он лишь умело и осторожно подталкивает свою жертву к неминуемой развязке своими каверзными вопросами.
Получается странная картина, в которой есть что-то жутковатое. Будто не Сократ потешается над незадачливым спорщиком, а сама логика рассуждений иронизирует над ним. Сам логический ход мысли, диалектика доказательств, в которой участвуют двое, будто обретает самостоятельную силу и принуждает следовать за собой, приводит к совсем неожиданным и нежелательным выводам. Эта диалектика доказательств и есть неумолимый и беспощадный ироник сократовских речей. И Сократ будто бы и сам и обескуражен, удивлен и сражен Иронией Логики и уж нисколько не повинен в ней. Что вы! Он такая же жертва ее! Он и не подозревал, что поставит достойного собеседника в неловкое положение, это случилось помимо его воли, и он искренне сожалеет, но тут уж ничего не поделаешь!
Однако раз диалог зашел в тупик, следует поискать выхода из него. Когда Демон Логики смеется над людьми, им остается только одно: разобраться в причинах своего конфуза, выявить те фигуры умозаключений, где мысль оказалась негибкой, отточить ее и снова пуститься в азартный поединок.
Но чем более невинную, ангельски простодушную мину изображал Сократ на своей физиономии сатира, разоблачая невежество и высмеивая интеллектуальную неповоротливость своих собеседников, тем в большее раздражение он их приводил. Сам же скрывался за непроницаемой броней уничижительного утверждения:
— Я знаю только то, что ничего не знаю.
Это излюбленное выражение, кредо его собственной позиции. На суде (о котором речь впереди), отвечая своим обвинителям, Сократ рассказал о том, как он сделался искателем мудрости.
Однажды друг Сократа Херефонт вопросил дельфийского оракула: есть ли кто на свете мудрее Сократа? Пифия-прорицательница, говорившая, как верили греки, от имени бога Аполлона, ответила, что мудрее Сократа никого нет. Сократ узнал об этом и весьма удивился («потому что я сам, конечно, нимало не считаю себя мудрецом») и решил сам проверить речение оракула, понять, в чем же его истинный смысл.
54
Пошел он к известному государственному деятелю Афин, слывшему очень мудрым. Но когда побеседовал Сократ с ним, то ясно увидел, что этот человек только «кажется мудрым» и окружающим и, главное, самому себе. Сократ попробовал было показать этому человеку, что он заблуждается, считая, себя мудрецом, но труд этот оказался неблагодарным: Сократ заслужил лишь ненависть государственного деятеля и его почитателей.
Визит этот, однако, кое-что прояснил. «Уходя оттуда, я рассуждал сам с собой, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего хорошего и дельного не знаем, но он, не зная, воображает, будто что-то знает, а я если уж не знаю, то и не воображаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он...» 1
Затем пошел Сократ к другим людям, которые казались мудрее первого, но с ним произошло то же самое. Был он у политиков, философов, у поэтов и у ремесленников. Каждый из них в своем деле был искусен, но беда их состояла в том, что они считали себя мудрецами также и во всем прочем.
«И клянусь собакой, афиняне, должен вам сказать правду, я вынес вот такое впечатление: те, кто пользуется самой большой славой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию бога, чуть ли не лишенными всякого разума...»1 2.
С тех пор стал Сократ бродить по всему свету, «испытывая людей» на мудрость, и так как в вознаграждение за это получил он не почести и деньги, а ненависть и наветы уличенных глупцов, то дошел Сократ, по его собственным словам, до крайней бедности.
Испытывая других на мудрость, Сократ сам отнюдь не претендует на звание мудреца, оно, по его мнению, приличествует богу. Напротив, он считает себя мудрее других именно потому, что не является обладателем и жрецом вечной, абсолютной истины. Если человек самодовольно полагает, что на все он знает готовые ответы, то такой человек для философии погибший, ему незачем ломать голову в поисках наиболее верных понятий, незачем двигаться дальше по бесконечным лабиринтам мысли. Он почиет на лаврах истины, которые на поверку оказываются собранием самых убогих, плоских
56
1 Платон. Соч., т. 1, с. 88.
2 Там же, с. 88—89.
представлений обывательской премудрости. Так, почитающий себя мудрецом оказывается всего лишь премудрым пескарем.
Если же человек говорит: «Я знаю, что я ничего не знаю», это уже много. Такая позиция не дает покоя, она толкает в путь, она заставляет пускаться на поиски. «Я не знаю», — значит, я хочу знать, значит, я не принимаю на веру освященные традицией догмы. Решения мудрецов, как бы они ни были авторитетны, не мое знание, не мною добытое и пережитое. Знать, что говорят другие, значит, обладать памятью, но не умом. Я должен сам пуститься на поиски истины, должен не сидеть на плечах идущих, а быть в пути. И если я в пути, значит, истина со мной, хотя и всегда впереди меня.
Примерно так можно расшифровать смысл позиции Сократа, и это действительно исходный пункт философского отношения к миру.
«Я ничего не знаю» — это значит, что как бы далеко я ни продвинулся в одиссеях мысли, я не успокаиваюсь на достигнутом, не обманываю себя иллюзией, что поймал жар-птицу истины. Чем дальше я продвигаюсь, тем шире раздвигаются горизонты предстоящего. Чем основательнее я решаю проблему, тем больше новых вопросов встает передо мной. Значит, предстоящий путь в сравнении с пройденным не уменьшается, а все увеличивается. И на закате жизни я имею еще больше оснований, чем в начале своих исканий, сказать: «Я знаю, что я ничего не знаю». Через шестнадцать столетий после Сократа поэт и философ Востока Омар Хайям высказал эту мысль в следующем четверостишии:
Не была познанья жажда чуждой сердца моего Мало тайн осталось в мире, не доступных для него.
Семьдесят два долгих года размышлял я дни и ночи,
Лишь теперь уразумел я, что не знаю ничего К
Если самая большая мудрость, по Сократу, состоит в том, чтобы не обольщаться своим знанием, как бы велико оно ни было, не абсолютизировать его, а отдавать себе отчет в том, как мало ты еще знаешь, — то самое большое, самое позорное невежество — «воображать, будто знаешь то, чего не знаешь».
«Испытывая» чванливых и самодовольных обывателей древних Афин, демонстрируя им как в зеркале их 11 Хайям Омар. Рубайят. М., 1970, с. 63.
56
собственное ничтожество, Сократ вряд ли мог рассчитывать на благодарность. Когда у меняльных лавок завершалась очередная беседа и на глазах у любопытствующей толпы надутый софист, оратор, военный либо государственный деятель терял свой ореол мудреца и оказывался лишь жалким хвастуном, то добродушно посмеивающегося Сократа провожали не только восторженные взгляды, но и взгляды, полные ненависти.
Загадочный и страшноватый облик Сократа рисует А. Ф. Лосев: «В особенности не ухватишь этого человека в его постоянном иронизировании, в его лукавом подмигивании, когда речь идет о великих проблемах жизни и духа. Нельзя же быть вечно добродушным. А Сократ был вечно добродушен и жизнерадостен. И не тем бесплодным стариковским добродушием он отличался, которое многие принимают за духовную высоту и внутреннее совершенство. Нет, он был как-то ехидно добродушен, саркастически добродушен... Он что-то сокровенное и секретное знал о каждом человеке, и знал особенно скверное в нем. Правда, он не пользовался этим, а, наоборот, покрывал это своим добродушием. Но это — тягостное добродушие. Иной предпочитает прямой выговор или даже оскорбление, чем эти знающие ужимки Приапа, от которых неизвестно чего ожидать в дальнейшем.
...Его улыбки приводили в бешенство, его с виду нечаянные аргументы раздражали и нервировали самых бойких и самых напористых. Такая ирония нестерпима. Чем можно осадить такого неуловимого, извилистого оборотня? Это ведь сатир, смешной и страшный синтез бога и козла. Его нельзя раскритиковать, его недостаточно покинуть, забыть или изолировать. Его невозможно переспорить или в чем-нибудь убедить. Такого язвительного, ничем не победимого, для большинства даже просто отвратительного старикашку можно было только убить» К
Сам Сократ сравнил себя с оводом, который придан богом коню, большому и благородному, но обленившемуся от тучности и нуждавшемуся в том, чтобы овод его непрерывно подгонял, не давал ему желанного, но предательского покоя: «Вот, по-моему, бог и послал меня в этот город, чтобы я, целый день носясь повсюду,
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ.
Платон, с. 79—81.
В7
каждого из вас будил, уговаривал, упрекал непрестанно» *.
Образ точный, ибо Афины к концу V века миновали апогей своего расцвета. Времена военных побед и славы остались позади. А к концу его вслед за блистательным правлением Перикла последовали смутные годы бездарных правителей, тирании, олигархии, повсюду стали обнаруживаться признаки разложения, разочарования. Античная рабовладельческая демократия себя изживала. Будящая мысль сократовской философии могла еще причинить ей беспокойство, вызвать раздражение, но не предохранить от разложения. Сократ жил на перепутье эпох, когда старое еще достаточно сильно, а новое не достаточно ясно.
Особенно возненавидели Сократа те из софистов, которые сделали искусство доказывать правое и неправое своей профессией. Во времена Сократа такое искусство особенно ценилось в судах, где разбирались многочисленные тяжбы о долгах, а также размножившиеся доносы и кляузы о нечестивом поведении, ставшие язвой Афин. Софисты зарабатывали много денег, обещая легковерным быстро научить их словесным ухищрениям, с помощью которых легче выпутаться из щекотливого положения. Из своих знаний по логике и диалектике они сделали дойную корову. «Наивные» беседы Сократа лишали их и почестей, и учеников, и доходов. Трагический конец обличительной деятельности Сократа был неизбежен. В конце концов он всем стал поперек дороги: и надутым, тупым обывателям, и высокомерным «мудрецам», и софистам.
Кто покушается на самодовольство темных и пустых людей, тот сначала человек беспокойный, потом нестерпимый, наконец, преступник, заслуживающий смерти1 2.
Первым полушутливым, полусерьезным обвинением против Сократа явилась постановка в 423 году комедии Аристофана «Облака». В этой пьесе Сократ выведен софистом — мастером «кривых речей», который решает глубокомысленные вопросы: «пищит комар гортанью или задницей», «на сколько стоп блошиных блохи прыгают»; который отрицает богов, признавая за них облака, и развращает своих учеников, ибо воспитывает их в непочтении к родителям, религии и традициям, забива¬
1 Платон. Соч., т. 1, с. 100.
2 См.: Соловьев В. С. Собр. соч., т. 9, Спб, 1900, с. 211.
53
ет головы нелепицами и учит в своей «мыслильне» за большие деньги, как бы только «словчить и долгов не платить» К
Герой пьесы — старый Стрипсиад, обучившись у Сократа, послал к нему своего сына Фидиппида, который до этого увлекался только скачками и спортивными состязаниями, тренировал тело, а не ум. Однако, набравшись «сократовой» премудрости, сынок начал дубасить отца, оправдывая побои по всем правилам софистики. Родители наказывают детей, а старик — вдвойне ребенок. «Заслуживают старики двойного наказания, ведь непростительны совсем у пожилых ошибки»1 2.
Аристофан, выступая как представитель «простого народа» и «добрых старых традиций», видел во всякого рода «умничанье» и «новых веяниях» опасность законам и устоям афинской демократии и с присущим ему сатирическим талантом постарался эту опасность живописать. При этом он, как и зрители его комедии, не отличал софистики от философствования, кривоязычных умников от мудрецов. Вторые, конечно, опаснее для охранителей устоев. Ни один из крупных софистов не подвергался такого рода судебным преследованиям, которые выпали на долю Сократа. Софисты благоденствовали, а Сократ, разоблачавший их фокусы, изображался в глазах гогочущей и улюлюкающей толпы софистом. Хоть то и был свободный жанр комедии, но подобного рода обличение выглядело уже слишком серьезно и вызывало не только добродушный смех, но и иные эмоции.
Можно себе представить возмущенные крики зрителей, когда Фидиппид у Аристофана, избивая отца, разглагольствует:
Наук новейших мастерством как радостно заняться И научиться презирать закон, обычай старый!
Пока все помыслы мои ристаньям отдавал я,
Трех слов связать я не умел, ни разу не запнувшись.
Теперь от скачек отучил меня вот этот самый,
Я занялся сложеньем слов и мыслей изощренных И доказать могу, что сын отца дубасить вправе3.
И можно себе представить также восторг распаленной толпы, когда избитый и обманутый в своих чаяниях простодушный Стрипсиад бурно раскаивается, что «богов проспал... и на Сократа выменял», и призывает «по¬
1 Аристофан. Комедии, т. 1, М., 1954, с. 185—186.
2 Там же, с. 257.
3 Там же, с. 256.
скорее подпалить безбожников». Пьеса кончается зажигательным воплем Стрипсиада:
Коли, руби, преследуй! Много есть причин,
А главное, они богов бесчестили! 1
С тех пор в темных лабиринтах истории этот вопль филистеров не раз преследовал философов. Для самого Сократа комедия Аристофана отнюдь не осталась милой, невинной шуткой. Ее смех оказался убийственным в буквальном смысле слова.
Прошли годы, и «комедийное» обвинение Аристофана против Сократа было выдвинуто с фанатичной серьезностью в судебном порядке. Доносчиками выступили трое: молодой рифмоплет Мелет (замешанный в преследовании демократов во время правления тиранов), известный афинский кожевенник, богатый владелец мастерских Анит, слывший поборником государственных устоев, строгим блюстителем благонадежности и старинных идеалов общественной, религиозной и семейной жизни, а также малоизвестный оратор Ликон.
В один из дней 399 года до нашей эры жители Афин читали выставленный для всеобщего обсуждения текст: «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Мелет, сын Мелета, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из дома Ал опеки. Сократ обвиняется в том, что он не признает богов, которых признает город, и вводит других, новых богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое наказание — смерть». Любопытно, что обвинительную речь для Мелета, выступившего на суде первым, составил софист Поликрат. Мошенники мысли не простили Сократу его иронии, слишком разорительной для них.
Сократ воспринял весть о суде с «философским спокойствием». И на вопрос Гермогена: «Не следует ли тебе, Сократ, подумать о своей защите?» — ответил: «Разве тебе не кажется, что вся моя жизнь служит мне защитой?»
На суде, проходившем при большом стечении народа (одних только присяжных было 500 человек), Сократ также держался с достоинством и уверенностью. В ответ на витиеватые речи обвинителей, составленные по всем правилам ораторского искусства, Сократ сказал, что от него собравшиеся не услышат разукрашенной ре¬
1 Аристофан. Комедии, т. 1, с. 262.
60
чи, а будет он выступать просто, как привык говорить на площади у меняльных лавок. А затем неторопливо рассказал историю своей жизни — как ходил он среди людей разных профессий, испытывая их на мудрость, и заслужил лишь ненависть их.
— Вот почему накинулись на меня и Мелет, и Анит, и Ликон. Мелет негодует на меня из-за поэтов, Анит — из-за ремесленников, а Ликон — из-за ораторов.
Затем Сократ остановился на каждом из обвинений и показал их полную несостоятельность. Развивая свои доказательства, он не преминул поиронизировать не только над обвинителями, но и над своими судьями («клянусь Герой, какое изобилие людей, полезных для других!»).
Сократ, однако, не обольщался надеждой на благополучный исход судебного процесса, он прекрасно знал, что судят его не только по вздорным обвинениям, предъявленным ему. Причина более глубокая, и обвинителей у него значительно больше, чем значится официально. Тут голос его становится пророческим:
— ...У многих возникло против меня сильное ожесточение, о чем я и говорил вначале, это, будьте уверены, истинная правда. И если что погубит меня, так именно это: не Мелет и не Анит, а клевета и недоброжелательство многих — то, что погубило уже немало честных людей и, думаю, еще погубит. Рассчитывать, что дело на мне остановится, нет никаких оснований.
Сократ бесстрашно бросил вызов судьям и всем присутствующим, поставив неслыханный вопрос о собственной жизни и смерти. Предположим, что судьи отпустят его, Сократа, но с условием, чтобы больше он не занимался своими исследованиями и оставил философию, а иначе ему грозит смерть. Что тогда? Отвечая на этот свой вопрос, Сократ начинает говорить с несвойственной ему страстностью и произносит поразительные по мудрости, мужеству и красоте слова:
— ...Так вот, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам ответил: «Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее бога, чем вас, и, пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно: «Ты лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города, больше всех прославленного мудростью и могуществом, не стыдно ли тебе заботиться о
61
деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и почестях, а о разуме, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше?» И если кто из вас станет спорить и утверждать, что он заботится, то я не отстану и не уйду от него тотчас же, я буду его расспрашивать, испытывать, уличать... Если такими речами я порчу юношей, то это, конечно, вредно. А кто утверждает, что я говорю не это, но что-нибудь другое, тот говорит ложь. Вот почему я могу вам сказать: «Афиняне, послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет, но поступать иначе я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз».
В речах Сократа на суде, с большой художественной силой переданных Платоном, поражает то, что он сам сознательно и решительно отрезает себе все пути к спасению, он сам идет навстречу смертному приговору. В его рассуждениях подспудно бьется мысль: не меня, Сократа, судите вы, а самих себя, не мне выносите приговор, а себе, на вас ложится несмываемое клеймо. И ведь на самом деле, лишая жизни мудрого и благородного человека, общество себя лишает мудрости и благородства, себя лишает стимулирующей силы, ищущей, критической, беспокоящей мысли.
После того как суд признал его виновным, Сократу по обычаю нужно самому назначить себе наказание. Судьи не услышали от него обычных униженных просьб о помиловании, раскаяния, мольбы, уловок, к которым прибегают в таких случаях. Сократ продолжал быть иронически дерзким: оценивая свои «прегрешения», он говорил, что в его честь следовало бы дать такой торжественный обед, какой устраивается победителям Олимпийских игр. Ну а на худой конец, соглашается уплатить небольшой штраф из кармана своих попечителей и учеников (его собственный карман, как всегда, пуст). Наиболее вероятные решения суда — тюремное заключение и изгнание — Сократ решительно отклоняет.
И вот то, что почитателям и ученикам Сократа казалось чудовищно нелепым, невероятным, свершилось. Вынесен смертный приговор. Снова держит свою последнюю речь по-прежнему спокойный, добродушно улыбающийся Сократ:
— Избежать смерти нетрудно, афиняне, а вот что гораздо труднее — это избегнуть испорченности: она
62
настигает стремительней смерти. И вот меня, человека медлительного и старого (Сократу было тогда 70 лет.— Г. В.), догнала та, что настигает не так стремительно,— смерть, а моих обвинителей, людей сильных и проворных, — та, что бежит быстрее, — испорченность. Я ухожу отсюда, приговоренный вами к смерти, а мои обвинители уходят, уличенные правдою в злодействе и несправедливости.
У порога смерти Сократ пророчествует, что тотчас после его гибели постигнет афинян кара более тяжелая, чем та, которой его покарали.
— Вы думали, — говорит Сократ, — избавиться от необходимости давать отчет о своей жизни, избавиться от обличителей. Умерщвляя людей, вы не избавите себя от порицания. Такой способ самозащиты ненадежен. Гораздо лучше другой способ: не затыкать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше.
Последняя просьба Сократа — позаботиться о его сыновьях, чтобы не к деньгам они стремились, а к богатству духовному, чтобы не мнили о себе больше, чем они есть. И наконец, звучат его последние знаменитые слова на суде:
— Но уже пора идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а что из этого лучше, никому не ведомо, кроме бога.
Так жил и так умер Сократ.
Его гибель не просто трагедия невинно осужденного, это трагический конфликт мыслителя с обществом, философии с перезревшим строем, который чувствует опасность для себя даже в отвлеченных поисках истины, даже в иронически-критических рефлексиях разума, ибо сам этот строй перестал уже быть «истинным» и «разумным».
Сократ сам осудил себя на смерть и, уже осужденный, твердо отказался от реальной возможности бежать из тюрьмы и уйти в изгнание. Он добровольно дал распять себя на кресте «отеческих законов» и поступил мудро. Подчинившись законам, он лучшим образом продемонстрировал порочность этих законов.
Пророчество Сократа сбылось: позор пал на голову его судей, и прежде всего на головы обвинителей. Они, так же как тиран, судивший Зенона Элейского, были побиты каменьями и, как сообщает Плутарх, повесились, так как не вынесли презрения афинян, лишивших их «огня и воды».
63
Смерть Сократа явилась последним и самым обличительным, самым гениальным его философским произведением, вызывавшим глубокое брожение умов и могучий общественный резонанс на протяжении многих веков человеческой истории.
Юный ученик Сократа — Платон, присутствовавший на судебном процессе, испытал настолько сильное нравственное потрясение, что тяжело заболел. «Как жить дальше в обществе, которое карает за мудрость?» — вот вопрос, который встал перед Платоном во всей своей драматичности и который породил другой вопрос: «Каким должно быть общество, построенное в полном соответствии с мудростью?» Так родилась первая философская утопия о «справедливом» (для своего времени) общественном строе, оказавшая впоследствии большое влияние на возникновение и развитие утопического социализма.
Другое направление исторического резонанса гибели Сократа ведет к христианскому мифу об искупительной смерти Христа ради спасения человечества.
В истории философской мысли наследие Сократа вообще сыграло довольно противоречивую роль. Сократические идеи о важности духовного самоуглубления и самоочищения интерпретировал в свою пользу идеализм, с легкой руки того же Платона. Его поиски ответов на вопросы о добре и справедливости омертвились и вы- холостились в морально-этических догмах и заповедях религии и поучениях «отцов церкви», а также в благочестивых и ханжеских сентенциях стоиков, киренаиков, томистов. Его рассуждения о смысле жизни и смерти возродились в современном экзистенциализме.
Сократ был цельным человеком, для которого собственная жизнь была философской проблемой, а важнейшей из проблем философии был вопрос о смысле жизни и смерти. Не отделяя философии от действительности, от всех прочих сторон деятельности, он еще меньше повинен в каком бы то ни было расчленении самой философии. Его мировоззрение было столь же цельным, земным, жизненным, столь же полным и глубоким выражением духовной жизни античного мира.
Но то, чего не сделал сам Сократ, сделала за него история. Она хорошо потрудилась над тем, чтобы каталогизировать одни его высказывания как этические, другие — как диалектические, одни —- как идеалистические, другие — как стихийно-материалистические, од¬
64
ни — как религиозные, другие — как еретические. Его признавали «своим» самые разные идеологические течения, ему в вину ставились философские односторонности и однобокости, в которых Сократ не мог быть повинен. Но те критерии, которыми мы идеологически расчленяем философов нового времени на различные школы и направления, к Сократу, а тем более к его предшественникам, неприменимы.
История хорошо поработала также над тем, чтобы все мертворожденное в наследии Сократа довести до своих крайних пределов окаменелости, до канонизированных идолов массового сознания, оттенив тем самым живые и животворные родники сократовской мысли — его иронию и диалектику.
Природа и искусство — есть два мненья — Стремятся к близости; друг друга избегают. Премлю оба, ибо я питаю К односторонним взглядам отвращенье.
ГЁТЕ
ГЕТЕ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Вновь и вновь мы обращаемся к оценке духовного наследия великого поэта и натуралиста Иоганна Вольфганга Гёте и с позиций, достигнутых современным уровнем развития науки и культуры, переосмысливаем его вклад в судьбы цивилизации.
Тот круг идей, мыслей, чувств, который составляет окружающую нас духовную атмосферу, тот стиль мышления, взгляд на мир и человека, который мы усваиваем, приобщаясь к интеллектуальным богатствам, — все это сформировалось так или иначе, прямо или косвенно под воздействием гениальных мыслителей и художников прошлого, в том числе и под воздействием произведений Гёте.
Каждая эпоха по-своему смотрит на гениев прошедших времен. И прав был прозорливец Гейне, когда писал, что «позднейшие поколения откроют в Гёте, помимо способности пластически созерцать, чувствовать и мыслить, многое другое, о чем мы не имеем теперь никакого представления», что каждая эпоха, «приобретая новые идеи, приобретает и новые глаза и видит в старинных созданиях человеческого духа много нового».
Значение выдающихся творцов культуры прошлого проявляется по-разному. Есть создатели новых гипотез, теорий, новых художественных форм. И есть, как давно замечено, высшее проявление творческого величия: создатели новых миров, так сказать, демиурги «духовных вселенных». Таков гений Демокрита и Аристотеля, Ломоносова и Ньютона, Эйнштейна и Циолковского, Шекспира и Бетховена, Толстого и Достоевского. Таков и гений Гёте. По аналогии с новейшими космогоническими теориями можно сказать, что эти «вселенные» — тоже расширяющиеся. Чем дальше идет развитие человеческой культуры, тем шире распространяется их влияние на самые различные пласты деятельности. Это влияние опосредовано последующими талантами и гениями, теориями и системами, оно, как цепная реакция идей, передается все новым и более многочисленным поколениям творцов.
В этом отношении интересно сопоставить наследие
67
Гёте с вершиной человеческой мысли — марксистской философией, — выявить живительные токи, идущие от одной «духовной вселенной» к другой.
Говоря об идейных источниках (в ленинском смысле слова) формирования марксистской философии, мы называем имена Канта, Гегеля, Фейербаха. И бесспорно, что эти классические имена олицетворяют основной интеллектуальный ход мысли, от которого непосредственно берет начало революционный переворот в философии, совершенный К. Марксом и Ф. Энгельсом. Столь же бесспорно, однако, что одними этими именами дело не ограничивается, ибо марксизм согласно известным ленинским высказываниям — это результат критической переработки всего предшествующего духовного богатства, выношенного человечеством, всей предшествующей культуры. Иначе говоря, анализируя процесс формирования марксизма вообще и марксистской философии в частности, важно более тщательно исследовать достижения предшествующего духовного развития в целом, в единстве научно-теоретических, мировоззренческих, художественно-эстетических форм освоения мира.
С этой точки зрения особый интерес- представляет творчество Гёте, влияние которого на формирование марксизма мало исследовано. Могучее воздействие гения Гёте Маркс и Энгельс испытали на себе еще в детстве. Когда Гёте умер, Марксу было 14 лет, Энгельсу — 12. Слава поэта-натуралиста достигла тогда апогея. Вся атмосфера Германии была словно пропитана его идеями и образами. Будущие основоположники марксизма зачитывались произведениями Гёте, воспламенялись свободолюбивыми, гуманистическими, «прометеевскими» мотивами его произведений, смолоду проникались его широким, ясным, реалистическим воззрением на мир, фаустовским стремлением к поиску смысла жизни и истины, неукротимым желанием все охватить, познать, понять, вечно не удовлетворяясь достигнутым и всегда стремясь к новым вершинам, фаустовским убеждениям, что «в Деянии начало бытия», что «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».
Сама жизнь Гёте была живой легендой. Он прожил ее по-фаустовски. Она полна событиями, стремнинами и бурными водоворотами страстей. Она вся — приключение, захватывающий роман, тем более увлекательный
68
и неповторимый, что его герой сам талантливо и изобретательно отразил перипетии своих духовных и жизненных путей и перепутий в романах, лирике, драматургии, тем самым как бы удваивая, репродуцируя их.
Гёте умудрился в феодальной Германии, среди напудренных париков, чванливых и ограниченных сановников, завистливых светских хлыщей, узколобых чинуш, титулованных ничтожеств, венценосных мещан, прожить свою долгую жизнь с той лишенной всяких предрассудков естественностью, на которую способны были прежде, пожалуй, лишь античные поэты и мыслители.
Полагая, подобно Фаусту, что ключ мудрости не на страницах книг, подобно Фаусту же, Гёте живет в окружении античных героев и героинь, созданных его поэтической фантазией. Он не берет на вооружение готовые выводы и мысли древних греков, он хочет просто постигать мир столь же непосредственно, целостно, детски наивно, но мудро и глубоко, как они. Как они, Гёте и философ, и поэт, и деятель в одном лице в каждый момент своего бытия и творчества. Гёте жаждет охватить все. Он хочет испытать свои силы во всех видах и родах деятельности, вторгнуться в жизнь не наблюдателем, а активным участником. Он рвется исполнить все роли в театре жизни.
Чем только он не занимался, кем только он не был! Портретист, пейзажист, скульптор, архитектор, драматург, лирик, прозаик, мемуарист, критик, публицист, актер, режиссер, директор театра, переплетчик, окантов- щик, гравер, алхимик, физиономист, анатом, остеолог, цветовод, ботаник, физик, геолог, оптик, философ, астроном, юрист, историк, искусствовед, государственный деятель, финансист, организатор работ, директор библиотеки, путешественник... Проще сказать, кем он не был. Пожалуй, только математиком да полководцем. Казалось, Мефистофель действительно даровал ему не одну, а несколько жизней.
Конечно, поэту и мыслителю не пристало быть придворным, и мы не можем не чувствовать горечи, наблюдая Гёте в роли министра при дворе герцога Саксен- Веймарского. Гёте сам остро чувствует унизительность положения верноподданного служаки, хотя и пытается использовать данную ему власть для того, чтобы улучшить состояние дел. «Раз мы не можем дать дождя всей стране — надо поливать собственный сад», — скажет Гёте. И он добросовестно поливает сад герцогства
69
Веймарского. Он пытается хоть чем-то облегчить труд земледельцев и горняков, он предлагает реформы и проекты, он, по собственным словам, без конца латает и латает нищенский плащ, который того и гляди свалится с плеч. В сердцах он восклицает: «Ни одна душа не знает, с каким множеством врагов я сражаюсь, чтобы провести в жизнь хоть самую малость. О всевидящие боги, молю вас, не смейтесь, глядя на мои усилия, на борьбу и страдания! В крайнем случае улыбнитесь, но помогите мне».
Он сам понимает всю тщету своих реформаторских усилий. Все его человеколюбивые планы рушатся, все грандиозные намерения остаются без применения, а если и осуществляется что-то, то в таком жалком и извращенном виде, словно сам Мефистофель издевается над ним, обращая во зло и карикатуру добрые его дела и помыслы. Будто какие-то невидимые колдовские силы общества сводят на нет его практические шаги, направленные на то, чтобы улучшить это общество, чтобы воплотить гуманные идеи. Гёте сражается за человека и человечество, а силам этим подавай человечинку! И они всегда справляют тризну, они за трапезой.
Что это за силы, Гёте не знает, но как поэт глубоко чувствует и понимает весь трагизм и безысходность этой ситуации. И не потому ли его «Фауст» — это именно трагедия? Пресытившись всеми своими приключениями, утехами дарованной Мефистофелем молодости и победами, Фауст решает создать рай для народа в той части морского побережья, которую получает во владение. Он строит дворец, велит прорывать рвы, отвоевывать землю у моря и насаждать сады. Послушные слуги Мефистофеля быстро преображают уголок, но ценой за это оказывается жизнь двух беззащитных стариков — Филемона и Бавкиды. Ослепший Фауст спешит свершить задуманное, он призывает всех исполнить его план:
Прочь отвести гнилой воды застой —
Вот высший и последний подвиг мой!
Я целый край создам обширный, новый,
И пусть мильоны здесь людей живут,
Всю жизнь, ввиду опасности суровой,
Надеясь лишь на свой свободный труд.
Фауст радуется, слыша звон многочисленных лопат, он верит, что это толпы рабочих возводят вал, крепят насыпи, «кладут границу бешенству прибоя». И не подозревает, что на самом деле это лемуры роют ему, Фаусту, могилу*
70
Увы, такова судьба благих порывов в обществе, где «сатана свой правит бал»: для них заранее вырыта могила. Трагедия автобиографична. И Гёте сам сполна познал всю горечь разочарований в своей министерской деятельности. Он бежит от двора в Италию, вновь возвращается и вновь верой и правдой служит герцогу.
Гёте, этому великану, по словам Гейне, было не по себе в карликовом немецком государстве. Здесь он никогда не чувствовал себя свободно. О сидящем на троне Юпитере Фидия в Олимпии говорили, что, если бы он когда-нибудь внезапно встал, он проломил бы головой крышу храма. Таким же точно было положение Гёте в Веймаре: ему приходилось находиться в согнутом положении. И если бы он когда-нибудь восстал и выпрямился во весь свой могучий рост, то он пробил (бы его государственную крышу или, что еще вернее, разбил бы себе об нее голову. И немецкий Юпитер продолжал сидеть спокойно, спокойно приемля поклонения и воскурения,
Гёте весьма сдержанно отнесся к Великой французской революции. У него вообще сложилось свое, рассудительно-трезвое отношение к народным восстаниям и революциям. Гёте понимает, что на народ можно давить, но его нельзя подавить. И он не клеймит революции, подобно многим из числа «государственных мужей», как «бунт бессовестной и наглой черни», но он также меньше всего готов поднять решительный голос в защиту революций, как это делал, например, его учитель и друг Гердер.
Гёте не сторонник крайностей. Революции, по его мнению, — зло, ибо они сеют смерть и разрушение, несут хаос. А Гёте любит порядок, любит устойчивость в вещах и явлениях и в испуге шарахается от всего, что угрожает порядку. Но Гёте хорошо понимает, что «великие революции никогда не возникают по вине народа, а всегда по вине правительства». Следует ли отсюда вывод о праве народа на низвержение правительств? Возможно — да, возможно — нет.
Конечно, Гёте был для своего времени и для своего класса — идущей к господству буржуазии — гуманистом. Но это весьма ограниченный и ущербный гуманизм, даже в идеалах своих закрепляющий на века социальное неравенство, деление человечества на тех, «кто умеет управлять», тех, «кто идет за плугом» и тех, «кто сидит за колодкой». Как далеко реформаторскому «человеколюбию» Гёте до пролетарского гуманиз¬
71
ма Маркса, Энгельса, Ленина, предполагающего коренное, революционное преобразование всего общества с тем, чтобы свободное развитие каждого сделать условием свободного развития всех!
Как бы с течением веков ни менялись наши оценки творчества Гёте, его роли в развитии культуры, не потеряют своей верности и глубины слова, сказанные о нем Энгельсом. Да, «в нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и осмотрительным сыном франкфуртского патриция, достопочтенным веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключать с этим убожеством перемирие и приспосабливаться к нему» К Да, Гёте «то колоссально велик, то мелок; то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер» 1 2.
Да, жизнь и творчество Гёте — это и пример для восторженного юношеского подражания, но это и проявление того филистерского мира, который с юности внушал отвращение Марксу и Энгельсу, в борьбе с которым оттачивался и развивался их талант мыслителей и революционеров. От критики филистеров и филистерства Маркс и Энгельс, как известно, перешли к радикальной критике основ того общества, которое порождает филистерство, к коренному перевороту во всей системе взглядов на природу и общество, на исторические судьбы буржуазной цивилизации, на смысл и цели человеческого существования.
При этом многие гениальные провидения Гёте, развитые и критически переосмысленные, сыграли свою позитивную роль в выработке научного мировоззрения. Хотя Гёте нигде не представил свои философские воззрения в виде цельного учения, его поэтические и естественнонаучные произведения пронизаны глубокими философскими идеями. Энгельс поэтому имел все основания назвать Гёте «пророком» в новейшей философии3.
В Германии конца XVIII — начала XIX века, в которой идеализм был господствующей школой мышления, Гёте был одним из немногих, кто крепко держался «реа-
1 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 233.
2 Там же.
3 Там же, т. 1, с. 594.
72
диетического», как он говорил, то есть в основе своей материалистического мировоззрения, обогащая его при этом завоеваниями диалектики.
Один из самых «крайних» идеалистов, Артур Шопенгауэр, не раз беседовал с Гёте и впоследствии с раздражением записал: «Этот Гёте в такой степени был реалистом, что ему никогда и в мысль не могло прийти, чтобы предметы как таковые существовали лишь постольку, поскольку их представляет познающий субъект».
«Этот Гёте» никак не мог взять в толк такой элементарной вещи, что весь мир есть наше представление! Было отчего возмутиться порядочному идеалисту.
— Как, — сказал Гёте однажды Шопенгауэру, взглянув «своими очами Юпитера», — свет существует лишь постольку, поскольку Вы его видите? Нет! Вас бы не существовало, если бы свет Вас не видел.
Гёте считал себя последователем Спинозы, его учеником, его самым решительным почитателем. Шекспир, Спиноза и Линней — вот три кумира его юности, верность которым он пронес через всю жизнь и через все творчество: в поэзии (Шекспир), в философии (Спиноза), в естествознании (Линней). Верность не эпигона, а гения, который, вдохновляясь опытом предшественников, создает собственные миры.
Гёте освобождает пантеизм от оков рассудочности, сухого рационализма, от геометрической оформленности в атрибуты и модусы, в которые облек природу великий нидерландский мыслитель. «Полное спокойствие Спинозы, — писал он, — составляло контраст с моим вечным волнением, а его математический метод являлся противоположностью моему поэтическому способу мышления и изображения...». Если Гёте и продолжает пользоваться именем бога, то для него он не более как символ «разумной», закономерной организации вселенной.
Гёте сам называл себя «естествосозерцателем». Но гётевская созерцательность не ленивое и пассивное отражение природы, она предполагает активный диалог с природой, деятельную пытливость взора, воображения, интеллекта, предполагает и опыт, и эксперимент, и преобразование природы, проникновение — если надо, даже насильственное — в ее глубины, недра, тайники.
В той же степени, в какой Гёте решительно не приемлет абстрактные, схоластические «парения в эмпиреях», он не приемлет и безмыслие ползучего эмпиризма, который был в те времена на вооружении у многих
73
естествоиспытателей, не поднимавшихся выше перечисления и систематизации фактов, анатомирующих живое на части, но не проникающих в существо его процессов. Это о них Гёте сказал:
Во всем подслушать жизнь стремясь,
Спешат явленья обездушить,
Забыв, что если в них нарушить Одушевляющую связь,
То больше нечего и слушать.
Для Гёте и как для поэта, и как для натуралиста наибольший интерес представляет чувственное, реальное, единичное явление природы: этот цветок, это растение, этот череп, скелет, эта гамма цветов радуги на небе. Но в каждом единичном он пытается увидеть «следы», которые ведут к целому, «отпечатки», которые накладываются включенностью данного факта или явления в некоторую всеобщую связь, закономерность. И Гёте пытается разглядеть в единичном целое, понять и постигнуть его как закон.
Эмпирическая единичность для Гёте не одушевлена понятием и не облагодетельствована им сверху, как, например, у Гегеля, она сама носительница всеобщего, ибо в мире нет ничего изолированного: все связано со
всем. Если у Гегеля всеобщее порождает единичное и парит над ним, оставаясь все-таки чуждым косной материи, то у Гёте всеобщее — это закономерное в самой материи, оно — отношение, взаимосвязь единичностей, которая столь же объективна и материальна, как и сами эти единичные объекты. Это был крупный шаг вперед. Гёте, по существу, подошел к диалектико-материалистическому представлению о единичном и всеобщем, которое затем будет воспринято, сформулировано и развито марксистско-ленинской философией.
Изучение форм живой жизни с позиций диалектического представления о единичном и всеобщем приводит Гёте к идеям целостности, системной организации жизни. По его мысли, «согласованность целого», всех его частей делает каждое существо тем, что оно есть. В свою очередь, «каждое создание — лишь тон, лишь оттенок великой гармонии, которую надо также изучать во всей ее целостности, иначе каждая частность будет лишь мертвой буквой». Если применить современную терминологию, то такой подход означал, что человек должен быть понят как часть некой биосоциальной си¬
74
стемы, которая, в свою очередь, лишь составляющая системы всего живого.
Ко как же исследовать живое, органическое целое, не анатомируя его на части, не умерщвляя скальпелем анализа? Это тот же вопрос, который встал позднее перед Гегелем. И поэт-натуралист пролагает здесь те пути, по которым затем будет двигаться мысль философа.
Познание, по мысли Гёте, должно следовать ходу самой природы, ему предстоит проследить живое целое в его становлении, в его историческом развитии от самых простых форм к самым сложным. Те промежуточные формы, которые организм проходит на пути к своей развитой целостности, и есть живые «части» его системы. Тем самым дается ариаднина нить в хаосе различных живых форм, дается порядок, логика и соподчинение, последовательность их «вырастания» друг из друга, смена форм, или, как выражается Гёте, их метаморфозы.
Видеть становление вещей, любил повторять Гёте, — лучший способ их объяснить. Ставшее, взятое как таковое, мертво, оно немо. Но есть способ заставить его поведать о своих тайнах, проследить весь его «жизненный путь», всю «биографию», весь ход становления.
Следуя этим путем, Гёте совершает одно из своих научных открытий в биологии — обнаруживает межчелюстную кость у человека, ту самую кость, отсутствие которой выдавалось за решающий довод в пользу «особого» происхождения человека, «особой» его организации, не имеющей якобы ничего общего с организацией обезьян и других высших животных.
Гёте использовал метод, который впоследствии породил целую область науки — сравнительную анатомию. Как можно было доказать наличие межчелюстной кости у человека? Доказать, что она именно самостоятельное образование, а не часть другой кости? Разумеется, не схоластическими спорами о том, что называть отдельной костью, а отысканием промежуточных ступеней между двумя формами: где эта кость явно выделяется и где она совсем срослась с соседними частями. Гёте так и сделал: он сравнивал и располагал в ряд челюсти различных животных. Истина при этом явилась взору чувственно и зримо: человек находил собственное место в этом ряду, он вовсе не составлял исключения.
Так системный взгляд на организацию живого приводит Гёте к системному подходу при исследовании жи¬
75
вого. А в учении о метаморфозе растений системный подход уже явственно разворачивается у него в тот метод, который позднее был развит и разработан Гегелем и Марксом как метод восхождения от абстрактного к конкретному.
Проблема, заинтересовавшая Гёте, состояла в следующем. Мир растений исключительно разнообразен и многокрасочен. Нас окружают сотни, тысячи, десятки тысяч различных видов растений, отличающихся друг от друга и размером, и формой, и цветами, и узорами листьев, и многими другими признаками. Как упорядочить все это многообразие? Как найти общий принцип развития всего растительного мира, который позволил бы понять это многообразие в его единстве, позволил бы свободно и бегло «читать» книгу Природы?
Он стремился постигнуть внутреннее родство представителей растительного царства, то существеннейшее, что составляет основу всех его формообразований. Иначе говоря, он искал то «начало», тот исходный пункт, из которого можно было бы естественным путем вывести развитие всех растительных форм и каждого растения в отдельности. Он искал то простейшее (абстрактнейшее, оказал бы Гегель) ботаническое образование, которое, усложняясь, конкретизируясь, поднимаясь на все более высокие уровни организации, породило все богатство форм и видов флоры «мирового сада».
Гёте назвал это искомое начало «первофеноменом». Рассматривая различные виды растений, сопоставляя и сравнивая, изучая их рост, созревание, особенности, которые накладываются природными условиями, средой обитания, Гёте пришел к выводу, что «первофеноменом» любого растения является лист. На многочисленных примерах он показывает, что все фазы, через которые проходит растение от семени к цветку и плоду, есть лишь видоизменение и усложнение листа. Он убедительно аргументирует, что даже тычинки и пестики цветка имеют «листовую» природу.
Растение, оказывается, совершает в своем развитии путь восхождения от простого к сложному, от первого проклюнувшегося из семени листика к царственному великолепию и сложности цветка. Каждый новый узел растения органично вырастает из предыдущего, переходит, переливается в него так, что нигде нельзя поставить «межевой столб».
Идея «первофеномена» вплотную подводила Гёте к
76
эволюционной теории изменчивости видов, естественного, постепенного развития более организованных форм материи из простых.
Гёте назвал этот принцип принципом «возвышения» (AufSteigerung). Гегель увидел в нем тот самый закон, в соответствии с которым совершает свой путь познающий дух: метод теоретического воспроизведения предмета в его движении, в динамике, в генезисе, то есть метод восхождения от абстрактного к конкретному, реализованный в «Логике».
Сам Гегель в 1821 году так оценил метод Гёте: «Вы ставите во главу угла простое и абстрактное, что так удачно называете прафеноменом, затем раскрываете конкретные явления в возникновении их благодаря при- вхождению дальнейших сфер воздействия и новых обстоятельств и так управляете всем процессом, чтобы последовательный ряд шел от простых условий к более сложно составленным, располагаясь в определенном порядке, так что все запутанное является в полной ясности только благодаря такой своей декомпозиции. Выискивать своим чутьем этот прафеномен, освобождать его от всяческих прочих, случайных для него самого сопутствующих моментов, постигать его, как говорим мы, абстрактно — это я считаю делом великого духовного чувства природы, равно как метод такой вообще считаю поистине научным для познания в этой области».
Разве не описывает здесь Гегель и свой собственный метод диалектического воспроизведения предмета — метод восхождения от абстрактного к конкретному?
Гёте находится на другом полюсе от Гегеля-идеали- ста, и того же Гёте ничто не отделяет от Гегеля-диалек- тика. В сфере диалектики у них общие враги — механицизм, дуализм, агностицизм, ползучий эмпиризм. Они оба движутся в одном направлении в овладении диалектическим способом мышления, хотя и разными путями: Гегель сверху вниз, от эмпирея к эмпирии, Гёте — отталкиваясь от земного, предметного, чувственного.
«В начале было Дело» — не это ли является и принципом гётевского познания мира? Насчет роли практики в процессе познания у Гёте можно найти заявления, под которыми подписался бы и Маркс. Например: «Мо- им пробным камнем всякой теории остается практика».
И в самом деле, говоря о теоретических источниках
77
марксизма, не должны ли мы также иметь в виду наследие Гёте?
Для такой земной, ищущей, подвижной, деятельной, излучающей энергию натуры, как Гёте, принцип практики, активности, естественно, должен был стать отправным и центральным. Гёте просто не мог жить без того, чтобы дело не горело в его руках, чтобы не реализовывать тотчас же постоянно возникающие у него идеи. «Самое верное, — говаривал он, — это превращать в дело все, что есть в нас и у нас».
Впоследствии Маркс сумел освободить меч диалектики от ножен гегелевской системы, очистить от ржавчины идеализма, перековать так и таким образом, чтобы он мог не только повергать бесплотные тени понятий, но и стать боевым оружием познания и преобразования материальной действительности — сложнейших социальных и природных процессов. Как известно, Ф. Энгельс считал выработку Марксом метода восхождения от абстрактного к конкретному результатом, «который по своему значению едва ли уступает основному материалистическому воззрению» 1*
Что представляет собой этот метод? Это способ теоретического отображения предмета исследования соответственно его собственной структуре и логике развития, способ моделирования объекта на основе системного подхода.
Метод восхождения от абстрактного к конкретному применим не только в политической экономии, он действен всюду, где ставится, говоря словами Энгельса, задача «развить какую-нибудь науку в ее собственной, внутренней связи». Очевидно, каждая наука рано или поздно оказывается перед необходимостью обобщить весь накопленный в ее области материал, упорядочить, расположить, систематизировать его таким образом, чтобы стройно, последовательно воспроизвести в понятиях все стороны и свойства, все аспекты и закономерности исследуемого объекта.
Это важно не только для удобства изложения. В ходе такого упорядочения знаний о действительности она постигается глубже и полнее, схватывается на более высоком уровне теоретического осмысления. Кроме того, полученная теоретическая модель имеет то преимущество, что с ней можно ставить бесчисленные мысленные
1 Маркс К, Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 497,
78
эксперименты, вводя новые условия, параметры и характеристики и выясняя, как модель будет «себя вести» под влиянием этих факторов. Тем самым открывается двоякий путь — и к совершенствованию теории, и к практическому управлению объектом.
Более или менее ясное осознание всех этих практических и теоретических преимуществ системного подхода естественные науки начали обретать лишь в наше время. Они ощущают все более настоятельную потребность диалектически обработать, интегрировать разрозненные достижения на разных флангах научного исследования с помощью нового понятийного и методологического аппарата, включающего, в частности, системный, комплексный подход, обобщающий представления кибернетики и математики. Научное познание вовлечено в поиски таких фундаментальных законов, которые охватывали бы все более широкий класс явлений, не считаясь с традиционными дисциплинарными перегородками между науками.
На этом пути синтеза естествознание вступает в самые высокие сферы теоретического и метатеоретиче- ского мышления. Оно неизбежно встает перед задачей моделирования не только отдельных объектов, но и всего поля своего исследования. Такая задача уже в повестке дня современной физики, биологии, экологии. Метод восхождения от абстрактного к конкретному весьма эффективен для ее решения.
Во второй половине XX столетия в естествознании системный подход получил широкое распространение. Некоторыми западными учеными он был объявлен последним словом научной методологии, и кибернетики спорили с математиками и биологами, отстаивая приоритет в этой области.
При этом упускалось из виду то обстоятельство, что в методе восхождения от абстрактного к конкретному системный подход осуществлен на несравненно более высоком уровне, чем это имеет место в работах современных западных «киберфилософов», структуристов и системников. В методе восхождения от абстрактного к конкретному заложено, в частности, то преимущество, что с его помощью объект, воспроизводится не только как функционирующий, но и как исторически развивающийся, прогрессирующий.
Известный западный психолог и социолог А. Рапопорт, справедливо противопоставляя теоретико-систем¬
79
ное мировоззрение механистическому, считает возможным заявить: «Механистическое мировоззрение подверглось радикальной критике уже (!) в 20-х годах нашего века Альфредом Нортом Уайтхедом...» К Это «уже» следовало бы отодвинуть по крайней мере на 120—130 лет назад и отнести, в частности, к имени Гёте, который, как мы видели, не только подверг критике механистическое мировоззрение, но и продемонстрировал возможности иного подхода в самом процессе естественнонаучного поиска.
Научное творчество Гёте вообще оказалось удивительно созвучным тому стилю мышления в естествознании, который утверждается в XX веке под влиянием идей Эйнштейна и Бора и который противоположен в существенных своих характеристиках стилю, державшемуся в науке на протяжении двух веков под флагом идей Ньютона.
Гёте, как и Гегель, выступил непримиримым противником ньютонианства, подвергал его самой резкой критике, нимало не считаясь с тем, что Ньютон был непогрешимым божеством и вседержителем тогдашнего естествознания. В этой борьбе Гёте вынужден был пойти на то, чтобы поставить себя в положение интеллектуальной изоляции среди естественников, что вызвало острые драматические переживания в последние десятилетия его жизни. Тем не менее он настойчиво продолжал доказывать свою правоту и обличать Ньютона, как ребенок радуясь каждой поддержке, каждому одобрительному слову, которое раздавалось. Увы, поддерживали его, к сожалению, главным образом философы и натурфилософы — Шеллинг, Шопенгауэр, Гегель.
Мы знаем, что, оспаривая ньютоновскую теорию дисперсии света, Гёте заблуждался, и современные достижения науки ничего не изменили в этом факте. Однако фактом является и то, что в этом учении мы видим много интересных наблюдений, эмпирических обобщений, имеющих значение для перспектив развития физиологии восприятия цвета. Теперь повсеместно признается, что Гёте заложил основы этой науки1 2.
Однако в споре Гёте с Ньютоном для нас, людей XX века, важнее выяснить другое. Какой стиль мыш¬
1 Исследования по общей теории систем. М., 1969, с. 83.
2 См.: Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. М, 1953, с. 54—71.
80
ления отстаивает Гёте? Какую методологию исследования? Какое миропонимание? Чем разнится, так сказать, «вселенная Гёте» от «вселенной Ньютона»? Какая из них ближе нашему миропониманию?
Великий русский советский естествоиспытатель В. И. Вернадский в одной из предсмертных своих статей предпринял попытку пересмотреть место Гёте в науке с точки зрения новой исторической перспективы. Он обстоятельно и убедительно показал, в каких именно представлениях Гёте шел впереди своего времени и впереди всего XIX века.
Гёте был противником идеи всемирного тяготения в той ограниченно механицистской форме, в которой она вошла в сознание натуралистов XVIII и XIX веков. Он, как и Гегель, держался представлений о единстве пространства и времени, хотя и не формулировал специально своих соображений на этот счет. Он вообще был совершенно свободен от библейского и ньютонианского представлений о временной длительности Вселенной. В то время как Ньютон тщился исчислить начало и конец мира согласно Апокалипсису, Гёте одним из первых заговорил о миллионах лет существования Земли и человечества.
Для Ньютона и ньютонианцев Вселенная — механизм, который подлежит разложению на части и исчислению. Этот механизм устойчив, прочен, сочленен единожды и на века, сконструирован на основании одного принципа, по образу и подобию аксиоматического строения «геометрического царства». Для Гёте же Вселенная — это, как уже говорилось, подвижная, живая организованность, и потому для ее постижения методы механики и математики хотя и важны, но играют второстепенную, подсобную роль по сравнению с методами качественного, диалектического исследования.
Кроме того, «признание значения внутренних процессов, — считал Вернадский, — невидимых простому глазу и даже невидимых в микроскоп, в морфологических явлениях сближают новые искания в биологии с морфологическими представлениями Гёте». Ботанические опыты Гёте в оранжереях могут, по его мнению, рассматриваться как провозвестники экспериментальной ботаники XX столетия. То же и в геологии. По существу, и здесь наука нашего времени ближе к Гёте, чем господствующие представления всего XIX века, «ибо и вулканические явления, и процессы горообразо¬
81
вательные оказываются проявлениями земной коры, а не внутренности планеты. Жизнь, как и думал Гёте, играет в этих процессах огромную роль» Г
В своих воззрениях на органику Гёте также шел впереди своего времени. XVIII век рассматривал органический мир как состоящий из отдельных, обособленных друг от друга особей растений и животных. XIX век, познакомясь с микроорганизмами, пришел в конце концов к выводу, что живое пронизывает все окружение человека. XX век развил представление «о всюдности жизни», о том, что жизнь — это среда, которой мы дышим, в которой живем, это целый текучий океан, где все взаимосвязано. Что особая сфера, окружающая всю планету, — биосфера. Нет больше изолированных особей растений и животных, есть биологические сообщества организмов — от самых мельчайших до самых крупных. Живая сфера планеты имеет свои закономерности, круговороты, пульсации, свою структуру.
В. И. Вернадский, основоположник учения о биосфере, делает интересный вывод, что природа для Гёте была, в сущности, областью жизни, то есть биосферой. Поэт-натуралист рассматривал и воспринимал природу только постольку, поскольку она пронизана жизнью, поскольку она сама живое целое, поскольку она «бушевала» в нем как царство растений и животных. Шаг вперед, сделанный здесь Гёте, заключается в том, что у него заметен переход от представлений о флоре и фауне как о простой совокупности растений и животных к представлениям, что мир этот образует целостную систему, сам есть целый организм, непрерывная живая сфера, опоясывающая Землю.
Как и благодаря чему Гёте смог подняться к таким представлениям, которые в науке утвердились лишь в следующем столетии? Благодаря своему синтетическому постижению природы, в котором сливаются ее художественное, философское и теоретическо-экспериментальное постижения. Поэт-натуралист видит процессы и явления природы с широкой, обобщающей, синтезирующей точки зрения. К универсуму природы он также подходит универсально, вооруженный воззрением, полно и всесторонне открывающим глаза на то единое, что скрывается за самыми разнообразными и, казалось бы, 11 Вернадский В. И. Гёте как натуралист. См.: Бюллетень Московского общества испытателей природы. Новая серия, т. LI, отдел геологический, т. XXI <I). М., 1946, с. 34.
82
несовместимыми процессами. Идя от целостного ощущения, восприятия всего живого к частям, к структурной организации, Гёте всегда умудряется напасть «на след большого синтеза», стягивает миры минерального, растительного и животного царства в последовательность единого исторического образования, рассматривая биологические системы как исторически предшествующие социальной системе.
Такой подход, ломающий все и всяческие барьеры между объектами изучения различных дисциплин, внут- ринаучных цехов и ведомств, намечающий омелые обобщения с позиций системного рассмотрения, также роднит Гёте с наукой второй половины XX века.
Гёте — один из провозвестников науки, пронизанной гуманистическими целями, не противопоставляющей изучение природы изучению человека и общества, — той науки, которую предвидел Маркс, когда писал, что естествознание, став основой человеческой жизни, утратит свое «абстрактно материальное» направление и «станет основой человеческой науки», что «впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука» *.
Научно-техническая революция подтверждает этот прогноз, стимулируя интеграционные процессы между естественными и общественными науками, выдвигая со всей остротой вопрос о социальных последствиях практического приложения тех или иных научных достижений. В стремительной «цепной реакции» открытий, порождаемых научно-технической революцией, продолжают свою жизнь и великие идеи Гёте. 11 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 595—
И неподкупный голос мой Был эхо русского народа.
А. С. ПУШКИН
«Я ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ»
Если применить к Пушкину классический образ — «солнце нашей поэзии», — то, как и должно быть в соответствии с законами движения небесных тел, мы, видимо, оказывались в разные исторические периоды то дальше от него, то к нему ближе. Кажется, что свет его поэзии в различной степени в разные времена влиял на земную духовную жизнь нашу.
Вспомним, как внезапно и как ослепительно вспыхнуло вдруг это светило на заревом небосклоне нашей поэзии. Какое необыкновенное, лучезарное впечатление произвело оно сразу же на передовую читающую Россию.
Те самые выдающиеся литераторы, которые безраздельно владычествовали в духовной жизни страны в начале XIX века и которых юный Пушкин призван был затмить, без тени зависти или, лучше сказать, со светлой, восхищенной завистью и безмерным доброжелательством заметили, радостно приветствовали уже самые первые, лицейские, проблески его гения. Сначала «старик Державин», вслед за ним вещун Жуковский, изрекший удивительно и истинно пророческие слова о шестнадцатилетнем «молодом чудотворце»: «Милое, живое творение!.. Это надежда нашей словесности... Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет». Затем — H. М. Карамзин («Пари, как орел...»), П. А. Вяземский («Отрок с огненной печатью, с ясным заревом чела!»), И. И. Дмитриев («Прекрасный цветок поэзии»), наконец, К. Н. Батюшков («О! Как стал писать этот злодей!..»).
Зенита своего прижизненного признания Пушкин достиг к середине 20-х годов, когда Россия зачитывалась «Русланом и Людмилой», «Цыганами», «Бахчисарайским фонтаном», «Кавказским пленником», первыми главами «Евгения Онегина» и когда будущие декабристы воспламенялись ходившими в списках «возмутительными» (то есть возмущающими, бунтарскими) его стихами.
В николаевские времена в душевно надломленной России, в мрачной, свинцовой духовной атмосфере началось словно бы отдаление или охлаждение пушкинского светила, которое на самом деле продолжало неудер¬
85
жимо возгораться. Читающая публика, интеллектуальный уровень которой резко понизился, перестала понимать поэта, шедшего в своем развитии шагами великана. В 1836 году агент Третьего отделения в русской литературе Фаддей Булгарин зловеще прокаркал о Пушкине как о светиле, в полдень угасшем.
Мы знаем, что и после смерти Пушкина его путь к сердцу и уму широкого русского читателя был достаточно сложен. Мы помним о решительном неприятии Пушкина Д. И. Писаревым и радикально настроенными разночинцами-нигилистами, о манифесте футуристов, призывавших сбросить Пушкина «с парохода современности», о вульгарно-социологических работах 20—30-х годов нашего столетия, где Пушкин с примитивно понятых «классовых» позиций объявлялся то буржуазнолиберальным идеологом, то представителем нарождающегося «среднего» класса, то выразителем «помещичьей буржуазности» или даже «капиталистических тенденций прусского типа». Поэту высокомерно выговаривалось за недостаток революционности, непонимание законов развития общества, за «сервилизм» * и «примиренчество».
Но, говоря об «исторических судьбах» пушкинского наследия и понимая, чем вызваны все имевшие место крайности в его оценках, мы не можем не видеть и основной тенденции: от десятилетия к десятилетию и в XIX и в XX веках стремительно расширялась читательская аудитория Пушкина, росло его влияние на все сферы культуры, интенсивнее становилось облагораживающее, просветляющее воздействие его творений на духовный мир русского человека, или, по одному удачному выражению, «воспитание Пушкиным». Вместе с тем углублялось и наше постижение Пушкина и его эпохи, освобождаясь от односторонностей, становясь все более созвучным струнам его творчества, его личности, его гения.
И тут нельзя не отдать дань глубокой признательности советскому пушкиноведению, которое проделало неоценимую работу по исследованию жизни и творчества поэта, весьма активно продолжающуюся и поныне. В результате мы стали знать о Пушкине больше, понимать его лучше, чем предшествующие поколения.
* Сервилизм (лат. servilis — рабский) — раболепство, прислужничество, рабская угодливость.
86
Отдаляясь от Пушкина, мы к нему приближаемся.
Думается, никогда еще не переживала страна наша такого всенародного и горячего увлечения Пушкиным. Речь идет об устойчивом и нарастающем к нему «тяготении» как процессе, черпающем мощные импульсы в самой природе советского общества, его гуманистической многонациональной культуры.
И нечто удивительное, но и непреклонно естественное видится в том, что эстетические, нравственные, гуманистические идеалы поэта оказались настолько близки и созвучны идеалам новой, социалистической России,
Не в том ли, в частности, дело, что, став «старше», мудрее, пережив вместе с социалистической Отчизной великие исторические события и перемены, прочувствовав и оценив то выдающееся место, которое она теперь занимает в развитии всей человеческой цивилизации, в борьбе «разума» (говоря пушкинским языком) против «тьмы», мы, народ советский, остро, как никогда, ощущаем потребность «обратиться душой к истокам».
С Пушкина, можно сказать, «есть пошла русская земля», как земля, рождающая великих поэтов и писателей, мыслителей, светочей духа, как край, самобытными культурными достижениями которого множится культурное достояние всего человечества. С Пушкиным оформилось и им впервые выразилось в полной мере духовное самосознание народа, то есть осознание богатейших внутренних нераскрытых сил, талантов, возможностей, которым предстояло вырваться наружу и потрясти мир.
Поэтому Пушкин не просто один из поэтов наших и не просто величайший русский поэт. Это явление историческое. Это важнейшая узловая точка в развитии отечественной культуры, когда она из замкнутых своих пределов вышла впервые в открытое море мирового искусства, а вслед за тем под парусами пушкинской поэзии дерзко вырвалась во флагманы.
Россия и Пушкин. Немыслим Пушкин без России, как и Россия немыслима без Пушкина.
Один из лицеистов позднего выпуска поведал о таком символическом эпизоде. Осенью 1829 года он встретил Александра Сергеевича и задал вопрос:
— А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?
— Я числюсь по России, — ответил поэт.
Век XIX рождался в России с Пушкиным.
87
Гении и эпоха, их породившая. Эпоха и породившие ее гении. Одна из самых увлекательных и все еще загадочных проблем. В свое время молодой Энгельс задумался над тем, почему жалкая в социальном и политическом отношении пора конца XVIII — начала XIX века в Германии была тем не менее периодом расцвета немецкой литературы и философии. Можно спросить также, чем объясняется столь высокий взлет просветительской мысли и литературы во Франции 40— 70-х годов XVIII века — в столь тягостные для общественной и экономической жизни времена. И, напротив, эпоха Великой французской революции и наполеоновских войн оказалась в этом отношении намного скромнее. Социологам, культурологам, историкам предстоит еще разобраться в этом историческом парадоксе.
Но что тут бросается в глаза, так это две непреложные закономерности. Во-первых, и во Франции и в Германии взлет духовной культуры приходился на такой исторический период, который, хотя и выглядел как полоса экономического застоя и политического затишья, но затишья предгрозового, был кануном революционной встряски. Во-вторых, этот взлет совершался с той высоты, которая уже была достигнута в предшествующий период более развитыми в духовном отношении странами-соседями: Англией — для Франции, Францией и Англией — для Германии.
Закономерности эти обнаружились и в России, но, естественно, своеобразно.
С воцарением в 1801 году Александра I в различных уголках огромной империи как будто началась оттепель. Предлагались либеральные новшества, обсуждались проекты многообещающих реформ: «Дней алексан- дровых прекрасное начало» порождало надежду, что благородные идеалы эпохи Просвещения укрепятся наконец и на русской почве. Россия пробуждалась к активной духовной жизни. Первым признаком такого пробуждения было невиданно быстрое включение новых пластов населения в актив читающей публики и связанное с этим расширение издательской деятельности.
H. М. Карамзин уже в 1802 году обратил на это внимание в статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России». «За 25 лет перед сим, — писал он,— были в Москве две книжные лавки, которые не продавали в год ни на 10 тысяч рублей. Теперь их 20, и все вместе выручают они ежегодно около 200 000 рублей.
88
Сколько же в России прибавилось любителей чтения? Это приятно всякому, кто желает успехов разума и знает, что любовь ко чтению всего более им способствует».
Тираж газет увеличился в десять раз, и только в Москве их расходилось в начале века 6 тысяч экземпляров. Это, по мнению Карамзина, «без сомнения, еще мало, когда мы вообразим величие империи, но много в сравнении с прежним расходом; и едва ли в какой-нибудь земле число любопытных так скоро возрастало, как в России. Правда, что еще многие дворяне и даже в хорошем состоянии не берут газет; но зато купцы, мещане любят уже читать их. Самые бедные люди подписываются, и самые безграмотные желают знать, что пишут из чужих земель! Одному моему знакомцу случилось видеть несколько пирожников, которые, окружив чтеца, с великим вниманием слушали описание сражения между австрийцами и французами. Он спросил и узнал, что пятеро из них складываются и берут московские газеты, хотя четверо не знают грамоте; но пятый разбирает буквы, а другие слушают».
Действительно многое сдвинулось в духовном бытии России, новые пути и возможности подготовлялись для ее развития, поднимались молчавшие ранее интеллектуальные силы. Приходили в движение, включались в духовное брожение новые слои русского общества: мелкопоместное дворянство, чиновный люд, состоятельные и предприимчивые мещане. Литература ощущала токи живой жизни. Множится число литературных журналов, альманахов. Появляются первые профессиональные издатели и журналисты, хотя иметь заработок от литературы все еще считается зазорным. Зарождаются русская критика и публицистика — выразительницы общественного мнения.
Литература училась и учила читающую публику изъясняться по-русски, что было делом нелегким. Русский литературный язык еще только предстояло создать, прислушиваясь к звучанию народной, а не чужеземной речи. Державин, Фонвизин, Богданович, Дмитриев, Крылов, Карамзин, Батюшков, Жуковский стояли у истоков той революции в языке, которую призван был увенчать Пушкин.
Ему посчастливилось родиться как нельзя вовремя^. Он захватил весну русской культуры. «То было ранней весной, — писал А. В. Луначарский, — такой ранней, когда все еще покрыто туманом, когда в воздухе с не¬
89
обыкновенной силой кружились и роились болезнетворные микробы, — весной ветреной, серой, грязноватой. Но те, кто пришел раньше Пушкина, не видели весеннего солнца, не слышали журчанья ручьев. Не оттаяли их сердца, косны были их губы и бормотали в морозном воздухе неясные речи. А те, кто пришел после Пушкина, оказались в положении продолжателей, ибо самые- то главные слова Пушкин уже сказал».
Рождение Пушкина как поэта совпало с духовным рождением нации, с утверждением русского народа как народа великого и самобытного, призванного к гигантским историческим свершениям на мировой арене. Для этого утверждения понадобилось такое потрясение, как Отечественная война 1812 года.
К тому времени за два с небольшим десятилетия старая Европа пережила перемен и событий больше, чем за два столетия. В горниле битв, в крови сражений, во взлетах и падениях революционного порыва рождалась Европа новая, ковалась новая эпоха — эпоха быстрого буржуазного развития, индустриальной цивилизации. Лавина социальных изменений освежающей волной прокатилась по континенту и дала могучие стимулы обновления духовной жизни. Во всех ее областях обнаружились умы недюжинные, поднялись настоящие исполины — Гёте и Гойя, Гегель и Гейне, Бетховен и Стендаль, Байрон и Вальтер Скотт, Сен-Симон и Гумбольдт.
Россия, казалось, оставалась в стороне от той политической и духовной горячки, которой была охвачена остальная Европа.
Но вот армии Наполеона вторглись в Россию, самонадеянно двинулись к Москве. И проснулось вдруг и раскрылось все, что было в русском характере по-настоящему крупного, сильного, свободолюбивого, несгибаемого — истинно национального. Боль и горечь отступления, которому, казалось, не будет конца, вызвали бурный всплеск патриотического чувства. Огромная, неподвижная, словно окаменевшая в долгом летаргическом сне, империя содрогалась под ударами чужеземных войск. Душа народа восходила к самосознанию, чувству достоинства, гневу и действию, ожесточалась и мужала.
Нам из далекого нашего XX века трудно себе представить всю новизну и необычность того чувства, которое простой солдат выразил во фразе: «Вся Россия в
90
поход пошла!» Русский народ с невероятной силой, со всей щемящей остротой осознал себя единой нацией и нацией великой, осознал, что слава и величие России не в славе и величии царской фамилии, как внушали ему попы с амвона, а в мужестве и самоотверженности солдат, офицеров, партизан — словом, народных масс. Это чувство уверенности в могучих силах народных, столь мощно и столь всеобъемлюще проявившееся, никогда уже не оставляло нашего самосознания, питая убежденность в замечательном будущем Родины.
Воплощением этого самосознания и явился Пушкин.
Без войны 1812 года, вернее, без победы над Наполеоном в этой войне, Пушкина как великого национально-русского поэта не было бы, как не было бы и декабристов.
Вся бурливая и переменчивая полоса 1811—1817 годов, совершенно исключительная для России по насыщенности событиями и «клокотанию умов», была периодом лицейской жизни первого, пушкинского выпуска, вся она «прокатилась» через юное сознание, воспламенила сердца лицеистов, породив «души прекрасные порывы».
Декабристы — дети 1812 года, и Пушкин был сыном той же грозовой поры. Молнией политического действия в лице декабристов и молнией поэтического творчества в лице Пушкина разразилась это гроза спустя годы и ярко осветила Россию.
Гроза Отечественной войны отгремела, но сразу же начала сгущаться предгрозовая атмосфера иного рода: народ, освободивший свою землю и другие народы, требовал свободы и для себя. Казалось, не могла Россия после такого свершения остаться прежней! Не могла не сбросить унизительных оков крепостнического рабства и абсолютной монархии! Но, увы, все не только осталось по-прежнему, но стало еще хуже. Надвигалось мрачное время аракчеевщины. Это вызвало повсеместно глубочайшее разочарование и протест. Ширилась дворянская оппозиция правительству, возникали тайные союзы и общества.
Пушкин всегда оказывался в эпицентре «брожения молодых умов». Наверное, не было такого недюжинного ума в России, с которым Пушкин не установил бы самого близкого знакомства. Сразу же после лицея он в более или менее тесной связи с П. А. Вяземским, П. Я. Чаадаевым, Н. И. Тургеневым, А. С. Грибоедо¬
91
вым, М. Ф. Орловым, Ф. Н. Глинкой, А. И. Якубовичем, М. С. Луниным, М. П. Бестужевым-Рюминым...
И в южной ссылке он опять-таки отнюдь не на периферии, а в сердцевине освободительной мысли и действия. В его окружении — борцы против турецкого ига, в частности, будущий вождь греческого восстания Александр Ипсиланти. Он в дружбе с В. Ф. Раевским, в среде активных участников Южного тайного общества, ведет «метафизический, политический, нравственный» разговор с главою этого общества, рыцарем без страха и упрека П. И. Пестелем.
Трудно переоценить значение этого непосредственного живого общения Пушкина с передовыми людьми России для созревания его интеллекта, его таланта, его духовного мира. Словно и действительно, как желал того Жуковский, вокруг него объединилось все, что было в России умного, доброго, светлого, свободолюбивого, тираноборческого. Все это пестовало в течение многих лет гений поэта — до тех пор, пока он не созрел окончательно, не развернулся в полную мощь и силу в тиши михайловского уединения. Поэт и это заточение сумел поворотить на пользу своего духовного развития: книги доставлялись ему в Михайловское целыми телегами. И в работе над «Борисом Годуновым» настал момент, когда он смог сказать себе: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить». Это было в канун восстания на Сенатской площади.
Пушкин вдохновлялся идеями будущих декабристов и сам вдохновлял их своей поэзией. По точному выражению Д. Благого, он был первым литературным «декабристом» и добавим, первым «декабристом»-изгнанни- ком. У Александра I были основания преследовать поэта. Имея в виду тираноборческие стихи Пушкина конца 10-х и начала 20-х годов, Адам Мицкевич писал: «Безусловно, для того, чтобы отважиться написать нечто подобное в России, нужно больше смелости, нежели для того, чтобы поднять мятеж в Париже или Лондоне».
Пушкин, можно сказать, рано переболел самым радикальным декабризмом и, может быть, раньше всех почувствовал его обреченность.
После бурной, но краткой революционно-освободительной волны, охватившей Испанию, Португалию, Италию, Грецию, наступил период повсеместного торже¬
92
ства реакции под игом Священного союза. Царское правительство начало принимать карательные меры и против внутренней оппозиции. Жестоко подавлен бунт в Семеновском полку, затем в полку, входившем в дивизию М. Ф. Орлова. Сам Орлов был снят с командования дивизией. В. Ф. Раевский — политический единомышленник и друг Пестеля и Пушкина — брошен в тюрьму. Тогда-то впервые и вырвались из-под пера Пушкина стихи:
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды...
Час великого революционного действия еще «далеко не пробил». «Звезда пленительного счастья» еще за горизонтом. Народ глух к кличу свободы. Рано еще бросать семена свободы в «порабощенные бразды» — вот глубинный смысл этого произведения, написанного, по словам поэта, в подражание «умеренному демократу Иисусу Христу».
С горечью разочарования, гневом упрека звучат далее в этом стихотворении хлесткие, святотатственные, кощунственные, совершенно невозможные, казалось бы, в устах народного поэта строки...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
С обретенной высоты беспощадно-реалистического видения суровой правды жизни, гениальным эхом которого потом отзовется сатира Салтыкова-Щедрина, Пушкин с болью отказывается от былых романтических иллюзий насчет того, что вот-вот наступят «минуты вольности святой» и «на обломках самовластья напишут наши имена».
Но когда декабристы, как и Пушкин, вышедшие «рано, до звезды», все-таки решились на свой жертвенный вызов самовластью, поэт и сердцем и умом был с ними. Он понимал, что с «необъятной силой правительства» не совладать. Но понимал и то, что не пропадет их «скорбный труд и дум высокое стремленье», что, как вторил Пушкину А. Одоевский, «из искры возгорится пламя!».
Как мы знаем, эта пророческая мысль стала отправ-
93
ной для оценки исторического значения декабризма В. И. Лениным.
Конечно, в отношении поэта к декабризму, как и вообще в отношении к судьбам России, сказалось не только его художническое чутье, но и сложившийся к тому времени историзм и реализм пушкинского мышления.
Начало раздумьям Пушкина о путях исторического процесса было положено лекциями лицейских профессоров и особенно трудом H. М. Карамзина «История государства Российского». Книга его потрясла. В ней впервые прошлое России предстало как деяние могучего и самобытного народа, имевшего ярких государственных деятелей, воинов и полководцев. Этой историей можно было гордиться, оказывается, не меньше, чем французы гордились своей, а англичане — своей историей, она была полна славных и героических поступков людей мужественных, самоотверженных, целеустремленных. Все это изображалось Карамзиным сочными красками, прекрасным литературным языком. Именно Карамзин «заразил» юного поэта любовью к отечественной истории, стремлением понять ее в ее истоках и глубинных процессах, чтобы постичь настоящее и будущее России.
И все же, чем больше Пушкин размышлял над трудом Карамзина, тем двойственнее становилось отношение к нему. Смущала сквозная идея: вся история нашего народа представлялась Николаю Михайловичу историей становления государственности, сильной, единой, абсолютной власти. Такая власть была в глазах писателя высшим благом, обеспечивая единство, силу и величие самой России, ее уверенное поступательное развитие. С этой меркой он судил о событиях и личностях. И выступал, естественно, защитником самодержавия и противником всего, что угрожает устойчивости государственного механизма, усмиряющего гигантскую Русь, что чревато волнениями, расколами, распрями. Бунты и омуты, по его мнению, никогда не приносили России ничего, кроме зла.
Конечно, Карамзин как передовой человек своего времени защищал не всякий абсолютизм, а просвещенный, такой абсолютизм, который не противопоставляет свой произвол интересам общества в целом, а напротив, исходит из этих интересов как из высшего для себя закона. Рабство, рассуждал Карамзин, конечно, позор¬
94
ная вещь, но оно не устраняется мятежами и революциями. Свободу должно прежде всего завоевать в своем сердце, сделать ее нравственным состоянием души. Лишь тогда может быть благодетельно и реальное освобождение крестьян от рабства, освобождение «по манию царя».
Многое в этих рассуждениях было близко Пушкину, разделялось им. Многое затем долгие годы обдумывалось. Шел многолетний мысленный диалог с российским историком. Пушкину становилось все яснее и яснее, что, несмотря на реакционную тенденцию некоторых выводов, труд Карамзина — явление грандиозное, плод ума могучего, светлого, проникнутого любовью к родине, что им наложен отпечаток на всю духовную жизнь страны, что можно соглашаться или не соглашаться с историком, но нельзя недооценивать значение его научного подвига во славу России.
Пушкин видел свое призвание, свой художнический и гражданственный долг в том, чтобы продолжить дело Карамзина, в том, чтобы прояснить и осмыслить героические страницы русской истории, вселяя в сердца соотечественников законную гордость достойными делами предков, уверенность в величии прошлого, а значит, и грядущего России.
Поражаешься, как много у Пушкина произведений исторического звучания. Вся наша история проходит перед читателем: от древнейшей до трагедии декабризма. События европейской истории, особенно связанные с Французской революцией и войнами Бонапарта, также все время в центре размышлений поэта. Наконец, он заявляет о себе и как профессиональный историк.
Историческое миропонимание Пушкина не сразу сложилось в определенную и самостоятельную систему воззрений, оно развивалось и укреплялось с каждым новым этапом его творчества. Со времени создания «Онегина» и «Годунова» можно говорить с полным правом уже не только об историческом мироощущении Пушкина, но и о его историзме как сознательно реализуемом в творчестве принципе.
Историзм Пушкина складывается под влиянием веяний бурного XIX века, наследника Французской революции, под влиянием передовых идейных, философских, исторических и политических исканий отечественной и зарубежной мысли. В его библиотеке хранилось около четырехсот книг по истории.
95
Выдающиеся умы, представители социально-утопической (Сен-Симои, Фурье), философской (Гегель) и исторической (французские историки-романтики) мысли формировали в первые десятилетия XIX века новый взгляд на развитие общества как на прогрессирующую смену этапов, пытались выявить движущие силы этого прогресса. Историки-романтики (Тьерри, Гизо, Минье и др.), с работами которых Пушкин был хорошо знаком, приближались к пониманию роли классовой борьбы, масс и личности в истории. Но при этом все же продолжали уповать главным образом на «благое просвещение», на «успехи образованности», на роль общественного мнения.
Эти идеи в общем и целом были созвучны и историческому миропониманию, складывающемуся у Пушкина независимо от них. Еще в 1822 году в Кишиневе поэт высказался так: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский — тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Иначе говоря, гражданскую войну, войну классов он рассматривал как знамение времени и как залог, неминуемой победы народа.
Пушкин стремился постичь настоящее и будущее России в связи с ходом исторических процессов в Европе и в остальном мире. Не изолируя свою страну от этих процессов, он вместе с тем отчетливо видел и специфику ее исторического развития. Поэт допускал правоту Гизо, когда тот утверждал, что во Франции из века в век имел место последовательный прогресс в развитии просвещения и свободы. Но он решительно отказывался подогнать под эту «формулу Гизо» историю России. Она «требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада». Вольно или невольно, но Карамзин дал более соответствующую истории России версию: из века в век, из царства к царству шел «прогресс» в упрочении абсолютизма, деспотизма, закабалении крестьян, удушении свободы. Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, наконец, Николай I принимали тут «эстафету» друг от друга.
«Необъятная сила правительства, основанная на силе вещей», то есть на вековых традициях рабства и вер- ноподданничества, унижения личности и человеческого достоинства, на темноте и невежестве народа, — гро¬
96
мада самодержавия, освященная церковью, подпираемая штыками, охраняемая густой сетью жандармов, шпионов, наушников.
Но ведь были в той же России восстания Разина и Пугачева, было восстание декабристов, вспыхнул в 1831 году бунт военных поселенцев в Старой Руссе, бунт кровавый и жестоко потопленный в крови. До сих пор возмущенные крестьяне и оппозиционное дворянство выступали против правительства порознь. А если эти две силы объединятся?
Как-то в разговоре с великим князем Михаилом Павловичем Пушкин заметил:
— Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе.
Как согласовать, совместить «устойчивость» организации общества — «главное условие общественного благополучия» — с необходимостью «непрерывного совершенствования»? Вот вопрос, над которым бился Пушкин, несомненно, обладавший трезвым государственным умом, и который он так и не смог решить.
«Бунт и революция, — писал он Вяземскому, — мне никогда не нравились...» Надо, однако, иметь в виду, что писалось это в июле 1826 года, под свежим впечатлением разгрома декабристского восстания, и писалось в расчете на «полицейский глаз».
На самом деле, конечно, отношение Пушкина к революции и бунту много сложнее. Во всяком случае, оно лишено какой бы то ни было узкой ограниченности. Он рассматривает их на широком фоне исторического развития европейской цивилизации. И оценивает их как художник, историк и мыслитель, зорко различая не только тень и свет в происходящих событиях, но и весь спектр оттенков.
Таково его отношение и к трагедии декабристов. Сам он об этом достаточно прозрачно для подцензурного письма сказал в послании Дельвигу в начале февраля 1826 года: «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как фр. (анцузские. — Ред.) трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». Это значило, по-ви- димому, не впадать в безысходность и уныние. Не рисовать происходящего только черной или кровавой краской. Понимать причины происходящего. Верить, надеяться, что «скорбный труд» декабристов не пропадет, что «оковы тяжкие падут».
Да разве вся пушкинская поэзия не была бунтом,
97
призывом к бунту, воспеванием вольности и бунта? Разве не тянуло все время Пушкина к изображению мятежного человека, рвущегося за рамки обыденности, преступающего неправедный закон, дерзающего?
Всем творчествам своим, глубинными его мотивами Пушкин, конечно, бунтарь. Он, конечно же (и тут права Марина Цветаева!), на стороне Стеньки Разина, Пугачева и Дубровского. Он, конечно же, был бы, если б смог, 14 декабря 1825 года на Сенатской площади вместе со своими друзьями и единомышленниками. И разделил бы судьбу Пестеля и Рылеева, либо Пущина и Кюхельбекера.
Окончательно судить о взглядах Пушкина на бунт, на революцию следует не по цитатам из писем и произведений, не по официальным верноподданническим заявлениям, к которым поэта вынуждали обстоятельства, а всей мерой (и всей безмерностью) его творчества, его личности.
Известно, что Пушкин стремился исследовать средствами художника и ученого-историка стихию мятежей. После подавления восстания в Старой Руссе он обращается к истории Пугачева. Что хотел сказать этим трудом Пушкин? Тут надо обратить внимание на следующее.
Как историк он, по существу, опроверг официальную версию, согласно которой мятеж был вызван происками «Емельки», «злодейством» возмутившего народ. Напротив, Пугачев «снискался» для дела, которое уже объективно созрело в силу ряда социальных и политических причин. Не будь Пугачева, «снискался» бы другой «вожатый».
В этом взгляде на причины больших социальных потрясений и раскрылся зрелый пушкинский историзм.
Несправедливые притеснения правительства, правящего класса вызвали мятеж. Оно, а не казаки, виновно в нем. Вот главный вывод Пушкина! Так началась «пугачевщина», охватившая огромные пространства империи, поколебавшая «государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов».
«Весь черный народ был за Пугачева, — писал Пушкин, подводя итоги своему труду, — духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев
98
и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противу- положны». «Выгоды» — то бишь материально-классовые интересы.
Восстание Пугачева Пушкин вовсе не считал бесплодным. Сам поэт-историк говорит: «Нет худа без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен и в 1775 году последовало новое учреждение губерниям. Государственная власть была сосредоточена; губернии слишком пространные разделились: сообщение всех частей государства сделалось быстрее etc».
Строки эти, как и слова о том, что мятежникам не удалось склонить на свою сторону дворянство, были написаны в «Замечаниях о бунте», предназначенных специально для Николая I. Пушкин давал царю урок: Екатерина пошла на определенные, хотя и очень незначительные, реформы после пугачевского восстания; Николай не сделал никакого вывода ни из событий 14 декабря, ни из событий в Старой Руссе.
Желая извлечь из истории «пугачевского бунта» нечто ценное для настоящего и будущего России, Пушкин, конечно же, не сводил свою задачу к роли поучающего, морализующего историографа. Напротив, какое- либо предвзятое, тенденциозное отношение к историческому прошлому, стремление взять из него лишь иллюстрации для сентенций по поводу современных проблем было глубоко чуждо Пушкину как исследователю. Он требовал от историка «точных известий и ясного изложения происшествий», без всяких «политических и нравоучительных размышлений», требовал «добросовестности в трудах и осмотрительности в показаниях». Не субъективная позиция автора, а сама беспристрастно и объективно изложенная история должна была яснее ясного бросить свет не только на современные читателю больные проблемы, но и на сокровенные законы всего исторического процесса. В этом контексте, очевидно, и можно осмыслить замечания Пушкина о том, чтобы внести «светильник философии в темные архивы истории».
Размышляя о прошлом России, Пушкин утвердился в ясном понимании того, что люди отнюдь не свободны в выборе целей и средств своей деятельности. Великие люди тем более. Есть нечто, властно диктующее направление применению их энергии и воли.
99
Это нечто — назревшие потребности общественноэкономического развития, явно или неявно выраженные в общественном сознании, общественном мнении, или, как говорит сам Пушкин, «дух времени», «дух народа» является «источником нужд и требований государственных». Этот «дух народа», то есть назревшая потребность перемен, и вызывает к жизни энергию великих людей и крупных исторических деятелей, формирует их в качестве личностей определенного типа, играет их судьбой. Так, на исторической арене появляются Годунов, Лжедмитрий, Петр I, Пугачев... Потому-то — подчеркнем это еще раз — Пушкин, повествуя о Пугачеве, доискивается до социально-экономических и политических причин, вызвавших бунт, а не сводит дело к личным мятежным намерениям лихого донского казака. Он приводит «замечательные строки» из письма Бибикова к Фонвизину: «Пугачев не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен, важно общее негодование».
Причудливо переплетаются в сознании и подсознании поэта прошлое и современность, судьбы России и судьбы отдельных русских людей, брошенные в бурный поток истории, либо кружащихся в нем, либо стремящихся его обогнать, либо пытающихся плыть против течения, либо, наконец, направляющих его в новое стремительное русло. Последнее как раз — великое дело великого Петра.
Как и в Пугачеве, в Петре Пушкина привораживала мятежная натура, личность, не желающая плыть по течению. Пугачев с помощью восстания «черного люда» хотел занять трон московских царей. А Петр был «революционером» на троне, человеком, перевернувшим и перетряхнувшим Россию не снизу, а сверху. И это была единственная, по взглядам Пушкина, «революция» российская, увенчавшаяся успехом.
Петр I — «революционер». Но и тиран, деспот, самодержец. Властелин «полумира», строитель величайшей державы, но и душитель масс. Человек, разрушающий властью своей все старое, одряхлевшее в обществе и прокладывающий ему новые пути. Прекрасно сознавая всю многогранность и противоречивость этой исторической фигуры, восхищаясь ею и ужасаясь одновременно, Пушкин находит предельно лаконичные и емкие слова для ее характеристики: «Средства, которыми достигается революция, недостаточны для ее закрепления.
100
Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)».
Робеспьер и Наполеон, объединенные в Петре I! Тут целая концепция революции в разнообразных условиях России и Франции. И концепция необычайно смелая, оригинальная, глубокая. Попробуем реконструировать наиболее возможный ход пушкинской мысли, понимая всю условность этой операции.
Робеспьер — вождь мятежной Франции, олицетворяющий революцию как решительное устранение пут феодализма, как полное и последовательное уничтожение всего, что отжило и мешает нации двигаться вперед на ее восходящем этапе.
Но революция, совершая резкий прорыв в будущее, вместе с тем обгоняет свое время. Наступает момент отрезвления, когда необходимо заняться будничной работой при имеющихся условиях и предпосылках укрепления тех завоеванных результатов переворота, которые исторически оправданы, и отказа от тех, которые эту историческую необходимость предваряют. Начинается «обратный ход» истории.
И для этого, как правило, необходимы уже другие люди, иные характеры, иные натуры. Так, на смену Робеспьеру — сокрушителю феодальной монархии приходит Наполеон — созидатель великой империи и монархии буржуазной. Робеспьер — это буржуазная революция, чем она мечтала стать. Наполеон — это буржуазная революция, чем она стала, во что вылилась и воплотилась, переродясь. И в этом смысле, по Пушкину, Наполеон — ее «воплощение».
Так было во Франции конца XVIII — начала XIX века.
Россия же начала XVIII века совместила обе фигуры в одном лице. Обе задачи — и отрицающая, разрушительная, и созидательная, закрепляющая результаты преобразований, — проделаны здесь «сверху», волею и гением самодержца. Перед нами пример человека, который мог, казалось, предугадывать поворот в течении истории и повернуть страну в ее новое русло, мог, стало быть, стать «властелином судьбы» не только своей собственной, но и всей России. Он на «высоте уздой железной Россию поднял на дыбы».
И не только на дыбы, но и на дыбу. Как и Пугачев, Петр I у Пушкина угадан как бы в двойном освещении. Личность исполинская, творящая историю, и йндйвйд во власти обстоятельств. Просветитель и само¬
101
дур. Человек власти, этой властью развращенный, употребляющий ее на высокое и на низкое. Достойный человек, унижающий человеческое достинство в других людях. Такое примерно впечатление Пушкин вынес о Петре и сам резюмировал его следующим образом: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами, первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого,s самовластного помещика».
Обычно считается, что Пушкин «воспел» Петра, романтизировал и возвеличил его образ, являлся страстным почитателем того, кто был вместе «и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник», и преклонялся перед ним. Все так, но Пушкин был, пожалуй, и первым резким обличителем тирании Петра, его жестокости и самовластья. Поэт-историк отлично понимал, что объективная характеристика Петра цензурой не будет пропущена. За неделю до смерти в беседе с П. А. Плетневым он сказал: «...Историю Петра пока нельзя писать, то есть, ее не позволят печатать». И все-таки упорно работал над своим гигантским трудом, ни на йоту не отступая от истины.
Никто из царей русских не сделал столько для просвещения России, для избавления ее от варварства, для приобщения к европейской культуре, к ходу научно-технического и экономического прогресса, как Петр I. Но, пожалуй, никто так же ярко и полно не выразил своей жизнью, деяниями идею абсолютизма, неограниченной, сильной власти самодержца, олицетворяющего собой все государство и попирающего все и всяческие свободы.
«...Деспотизм, — замечает Пушкин, — окружает себя преданными наемниками, и этим подавляются всякая оппозиция и независимость». При таком неограниченном самодержавии, при таком могуществе, сосредоточенном в руках одного человека, размышлял поэт, Петру I нечего было «страшиться народной свободы, неминуемого следствия просвещения». И, вновь сравнивая двух великих «владык полумира», Пушкин замечает, что Петр I «презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».
102
Словно комментируя эту мысль Пушкина, Герцен писал: «Петр I — самый полный тип эпохи, или призванный к жизни гений-палач, для которого государство было все, а человек ничего; он начал нашу каторжную работу истории, продолжающуюся полтора века и достигнувшую колоссальных результатов». Слова эти можно было бы поставить эпиграфом к «Медному всаднику», да и не исключено, что именно этой пушкинской поэмой они и были навеяны Герцену.
После «Медного всадника» иначе стал смотреться величественный памятник Петру: всегда вздыбленный
конь готов размозжить передними копытами головы любых противников, всегда бдителен и строг взор медной главы императора. Ведь Пушкин в своей удивительной поэме, начав восторженным гимном делу Петра, кончает убийственнейшей иронией над «горделивым истуканом» самодержавия, которое лишается покоя от протеста маленького человека и тем самым делает себя смешным и жалким.
Из всего, что когда-либо было сказано о Пушкине, самым верным и глубоким представляется неожиданное и даже на первый взгляд парадоксальное суждение Гоголя: Пушкин — это «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».
Гоголь, конечно, меньше всего имел в виду воскурить своей формулой фимиам поэту, представить его идеальной личностью. Он хотел сказать нечто совсем иное. Пушкин в своих произведениях впервые показал миру — через себя, свою личность, свое мироощущение, — что такое русский человек. Каковы особенности национального склада его характера, его взгляда на вещи, его духовного мира. Как он чувствует, любит, страдает, тоскует. Каков его быт и нравы. Каковы те социальные вопросы, которые его волнуют, те идеалы, которыми он дышит и живет.
В первой половине XX века много было на Западе разговоров о «загадочной» русской душе. О ней заговорили потому, что увидели в русском человеке нечто неповторимо национальное, характерное именно для русских. А увидели это через призму великой русской литературы. Пушкин первый начал раскрывать эту «загадку».
А в начале XIX века никто на Западе, наверное, и не
ЮЗ
подозревал о какой-то особой «русской душе». В русских барах, разъезжающих по заграницам, видели богатеев из полуварварской страны, которые настолько ее стыдятся, что из кожи лезут вон, чтобы больше походить на иностранца, и у которых, видимо, родной язык настолько беден, что они даже между собой не говорят по-русски.
И вот явился поэт, который едва ли не с первых же своих юношеских стихов почувствовал неодолимое призвание стать «эхом» русского народа, рассказать не человечеству сначала, а самому этому народу, что же он собой представляет, какие силы дремлют в нем, какие возможности скрыты в его духовных тайниках. Показать ему прежде всего, как звучен, певуч, прекрасен русский язык, как он пластичен, как способен передать любые нюансы чувств и переживаний, любые переходы мысли, многообразные поэтические интонации других народов. Показать, какая бездна поэзии скрыта в русской истории, даже в ее бунтах и смутах.
Мы все ощутили себя русскими с появлением Пушкина. С ним мы почувствовали, что значит быть русским, с ним научились испытывать гордость за русский народ, за его славную историю. С ним исполнились веры в великое будущее России.
И теперь, когда протекла уже большая часть из отмеренных Гоголем 200 лет, в нашем сознании средоточием черт истинно русского человека, русского характера запечатлены образ самого Пушкина и образы его творений.
Но в чем эта «национальная стихия» русского характера, взгляда на вещи выражается? В чем его особенности? Сам Пушкин об этом сказал мимоходом так: «Отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться».
И веселое лукавство ума, и насмешливость, и живописный способ выражаться чудесным образом отразились, засверкали, заискрились в пушкинской поэзии, в сказках, в прозе. В них высказалось с неповторимой прозрачностью мироощущение русского человека, раскрылась подлинно сама душа русского народа. В них и его мудрость, и улыбчивость, и нравственная высота, на которой не живут жадность, зависть, глупость и торжествуют добро, красота, мужество. В них и несгибаемое достоинство, и бесшабашная удаль. И как заговорила
104
народная душа в пушкинских сказках, какие (возможности открылись у «мужицкого» языка! Его лаконизм, простота и живописность, озорное лукавство. Его напевность, пластичность, «складность».
Конечно, народность пушкинской поэзии вовсе не только в языковом колорите (поэт нечасто прямо обращался к нему) и не только в том, чтобы изображать быт и жизнь простонародную.
Тут опять-таки глубоко прав Гоголь, который, говоря о Пушкине как о национальном поэте, пояснял: «Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами».
Поэзия до Пушкина была «изящной словесностью» в буквальном смысле этих слов, была украшением, была назиданием, была воспеванием. С Пушкиным поэзия впервые стала революционеркой общественного сознания, не в смысле прямых призывов «на баррикады», а в смысле могучего воздействия средствами эстетическими. Пушкин открыл мир лирики — как резонанса струн народного духа. И ударил по этим струнам. И Россия удивленно заслушалась и зачаровалась.
Как бесконечно много сделал Пушкин одним только своим «Онегиным», одним только обликом Татьяны в нем, чтобы русский человек «через двести лет» стал таким, каким мечтал его видеть Гоголь! Татьяна — это в самом деле русская женщина в своем развитии, в каком она является постоянно в ходе исторического развития нашего общества. Прекрасное явление жизни, ставшее явлением большого искусства, художественного обобщения, приобретает само огромную нравственно притягательную силу, отражается в душах новых и новых поколений, как бы переливается в эти души, формируя их «по своему образу и подобию». Разве в каждой современной нашей женщине не отозвалось что-то от Татьяны?
Положительность, совершенство, духовная гармоничность, цельность Татьяны, ее смелость и верность в любви — и демон сомнения, неудовлетворенности, отри¬
105
цания, искушающий Онегина. Опять же — благоразумие, положительность, преданность, рассудительность, осмотрительность Савельича. И мятежность, неистовость, рисковость, непокорность силе обстоятельств у Пугачева. Тот же перепад противоположностей и крайностей видим мы в образах Пимена и Гришки Отрепьева, Кочубея и Мазепы, старого цыгана и Алеко, Лизы и Германа, Петра из «Медного всадника» и Евгения. В таком широком размахе двух могучих крыльев русской души и характера совершается полет пушкинского гения. Он и сам — «совпадение» этих противоположностей.
Личность Пушкина. Мы знаем, как стремительно мужал его литературный гений. Но вместе с этим столь же стремительно шло его нравственное и интеллектуальное самосовершенствование. Он был постоянно во власти этого процесса, тщательно скрываемого от посторонних глаз. Хотя порой и в его поэзии пробивались мучительные нотки душевного самобичевания («и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», — скажет поэт о себе отстраненно). Он лепил, формировал, пересоздавал из себя совсем другого человека, чем тот, который знаком нам по легкокрылой и легендарной его молодости. Однако черты детской непосредственности и, по его собственным словам, «простодушия до глупости» в нем были неизменно.
Величие творений Пушкина — в величии его сложной, многогранной, необыкновенно притягательной личности. В него — не только в его произведения, а именно в него самого — влюбляются новые и новые поколения.
Есть в пушкинском творчестве вообще, и прежде всего в его поэзии, одна характерная особенность, идущая от его собственной духовно-нравственной высоты. Поэт не расслабляет читателя, не вгоняет его в пустую мечтательность, в тоску и меланхолию, в тупик безысходности, не бьет по нервам. Он, обнажая бездны человеческой психологии, мятущееся состояние духа, все-таки удивительно жизнеутверждающ. Он оставляет свет надежды даже в безнадежных ситуациях. Как бы ни было самому поэту тяжело и безысходно, он остается — сквозь скрытые муки боли, тоски и отчаяния — щедрым дарителем света и тепла, мудрости и глубины, уверенности и достоинства. И скольким людям пушкинская поэзия помогла выжить, не сломиться, не согнуться в
106
самые тяжелые моменты? Они припадали к ней, как к чистому роднику, и заряжались энергией и надеждой.
Пушкин дал духу русского народа, так сказать, точку опоры.
Не все для нас приемлемо в оценке Пушкина Достоевским. Но в одном он прав. Общечеловеческое, гуманистическое содержание творчества Пушкина, всемир- ность и всечеловечность его гения («Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные») глубоко созвучны исторической тенденции, медленно, но верно пробивающей себе путь, — тенденции к интернационализации общественной жизни, а затем в итоге политических, экономических, социальных и культурных преобразований и к тому, чтобы «народы, распри позабыв, в великую семью соединились». Именно нашей стране выпала честь первой выразить эту историческую тенденцию, первой прокладывать путь в этом направлении. Пушкин словно интуитивно угадал своим творчеством эту будущность родной страны, которая и десятилетия спустя даже передовым умам мерещилась еще в туманной далекой дымке.
Прежде чем наша культура влилась в общеевропейскую и заняла в ней подобающее место, Пушкин своим творчеством породнил нас с достижениями других народов, вместил чужие гении в свою душу, чтобы братски помериться с ними силами, чтобы собственный свой гений развить в дружеском борении с ними, в усвоении их опыта и средств художественного мастерства, чтобы показать, что и на почве русской культуры возможны шедевры, сравнимые с самыми титаническими достижениями человеческого духа и относимые к ним.
Во времена Пушкина расхожей была мысль, что русский народ обладает одним талантом — даром переимчивости, усвоения чужого, рабского копирования иностранного. Мнение это было распространено и среди иностранцев, снисходительно рассуждавших о России, и среди самих русских. Пушкин своим творчеством опроверг версию о «пассивной женственности» русского начала, его якобы неспособности создать оригинальные образцы искусства, выработать собственные духовные ценности всемирного значения, обогатить человечество истинно русским вкладом в мировую цивилизацию и культуру.
107
Ибо пушкинская «всемирная отзывчивость» — это не способность заимствования и перелицовки, а та динамичность творческого усвоения, которая служит лишь разбегом по проторенной дорожке для головокружительного прыжка в неведомое, для взлета в такие сферы духовности, в которых человечество еще не бывало. И никогда не побывало бы без Пушкина. Без него не развернулись бы так смело последующие русские таланты, не ощутили бы в себе мятежного и властного призыва — не следовать только за Западом в художнических исканиях, а самим указывать, открывать и Западу и Востоку новые пути и возможности.
«Открыть новые миры, стремясь по следам гения» — вот сформулированное самим поэтом кредо в его отношении к кристаллам мирового искусства, вот тайна всемирное™ и всечеловечности его собственного гения.
Итак, с Пушкина началась современная российская культура, которая, впитав, усвоив лучшие достижения собственной и всей общеевропейской духовной жизни, на этой основе полно раскрывает особенности истинно самобытные, выражает подлинно национальное мироощущение и тем самым обогащает и мировую культуру.
Пушкин — это та узловая точка, где начинается нечто совершенно новое для духовной жизни России. Это, иными словами, та вершина на родной почве, к которой дороги ведут со всех концов мироздания и с которой открывается вид на далекие горизонты будущего. Дальнейший путь уже возможен был только с этой вершины, и с нее — к новым вершинам — двигалась затем литература нашей страны, порой отталкиваясь от Пушкина, отмежевываясь от него, полемизируя с ним, но всегда, вольно или невольно, меряя свои шаги от этой исходной точки, от того рубежа, который положен был им.
Все реки нашей литературы берут начало с этого водораздела, все они питаются на этой вершине и хотя и разбегаются в разные стороны, но несут в себе заряд, скорость, свежесть, полученные там. Вот почему с Пушкина наша культура развивалась столь стремительно, столь исполински.
Для десятков народов СССР Пушкин, будучи русским поэтом, в то же время и «свой», национальный, и не только потому, что каждый имеет у нас возможность читать его на своем родном языке, а и потому, что без знакомства с его творчеством вряд ли возможно было
бы теперешнее национальное — именно национальное! — самосознание не только русского народа, но и всех других социалистических наций и народностей нашей страны, присущее им чувство взаимного притяжения, потому что огромно его объединяющее влияние на раззитие всей многонациональной культуры Советского Союза.
Для русской, вернее даже сказать — общероссийской — культуры Пушкин был тем, чем Шекспир — для английской, чем Гёте — для немецкой.
В одной из последних своих статей Томас Манн писал: «Если бы меня спросили о гениях поэзии, которых я люблю и считаю моими избранниками, если бы даже надо было назвать только шесть имен, даже всего лишь четыре имени, я никогда не забыл бы Пушкина».
Эти четыре имени, вероятно, следующие: Гомер, Шекспир, Гёте, Пушкин.
Россия вспрянет ото сна...
А. С. ПУШКИН. «К Чаадаеву» (1818)
Россия! Встань и возвышайся!
А. С. ПУШКИН «Бородинск годовщина» (1831)
Освобождение Европы придет из России.
А, С. ПУШКИН. при чтении
«Путевых картин» Гейне» (1835)
ПУШКИН И ЧААДАЕВ: «ВЫСОКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РОССИИ»
На небосклоне духовной жизни общества новая звезда никогда не появляется в одиночестве, она вспыхивает как эпицентр целого созвездия.
Гений получает возможность созреть и развернуть свои способности в атмосфере напряженной интеллектуальной жизни, непосредственного общения и взаимодействия недюжинных умов, людей высокого духовного полета, смелого дерзания мысли, в обстановке «предгрозового», освежающего дыхания новой эпохи, ее предчувствия, предваряющего молнию мысли и молнию поэзии.
Мысль высекает искру при столкновении с другой мыслью. Талант получает могучий импульс к саморазвитию в общении с другим талантом, с другой высокоодаренной натурой. Для молодого Гёте, как он сам признавал, было счастливым подарком судьбы знакомство с историком и философом Гердером, а затем дружба с Шиллером. Сам Гёте явился «духовным отцом» для Гегеля, работы которого породили умственное брожение в Германии и России. Следует подчеркнуть особое значение именно живого, личного, а не только «книжного» общения для созревания гения.
Мысль Пушкина накалялась и мужала в общении с такими незаурядными умами, как Карамзин, Вяземский, Жуковский, братья Тургеневы, несколько позднее Пестель, Рылеев, М. Ф. Орлов, Мицкевич... Казалось, все, что в России было талантливого, смелого, умственно дерзкого, недюжинного, — все это объединилось вокруг молодого Пушкина, пестовало его.
И среди всех этих источников и поощрителей духовной энергии поэта Чаадаев выделялся особенно, ибо он обладал по-особому ярко выраженным философским складом ума. Его с полным правом можно было назвать мыслителем. Одним из видных русских оригинальных мыслителей.
Такой глубокой, всепоглощающей, можно сказать, фанатичной страсти к исследованию Истины не было и не могло быть ни у искрометно остроумного Вяземского, ни у поэтического мечтателя, большого знатока французской и немецкой эстетико-философской мысли Жуковского, ни у возвышенного и обстоятельного летопис-
111
ца Карамзина, ни у желчного скептика Николая Раевского, ни у политических радикалов Пестеля и Рылеева. Конечно, каждый из них по-своему и весьма щедро обогащал внутренний мир Пушкина, но именно Чаадаев, по удачному выражению одного из современников, «поворотил его на мысль».
Необыкновенно восприимчивый Протей — Пушкин жадно внимал беседам своих более опытных, начитанных старших товарищей, впитывал в себя их мудрость, спорил с ними и быстро, как-то незаметно перерастал их, оставляя далеко позади. Так происходило со всеми. Так случилось и с высокомерным, «недосягаемым» Чаадаевым.
Взаимовлияние двух таких интеллектов, как Чаадаев и Пушкин, их взаимопритяжение и отталкивание на протяжении двадцати лет (1816—1836) не могло не наложить свой отпечаток на духовную жизнь России. И. В. Киреевский, как-то написал П. Я. Чаадаеву: «Невозможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношениях к Вам».
Петр Яковлевич Чаадаев был словно создан для того, чтобы возглавлять умственное брожение своего времени, явиться вдохновенным пророком, ведущим за собой массы, либо мудрым государственным деятелем и законодателем. Но ирония судьбы и времени, в которое он жил, превратила его в конце концов в трагикомическую фигуру несостоявшегося гения — претенциозного чудака, сумасброда, человека «не от мира сего».
Юный Пушкин со своей поразительной интуицией сразу же понял это:
Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.
Они познакомились летом 1816 года в доме у Карамзиных: двадцатидвухлетний щеголь, корнет лейб-гвардии гусарского полка, овеянный славой боевых сражений Бородина, Тарутина, Кульма и Лейпцига, прошедший с победоносной русской армией весь путь до Парижа, — и семнадцатилетний юнец лицеист с горящими любопытством и восхищением глазами.
Как-то так получилось, что они быстро сблизились и, несмотря на разницу возрастов, стали приятелями, по-
112
том друзьями. Они встречались чуть ли не ежедневно — либо у Карамзиных, где маститый историк читал избранной публике рукопись своего многотомного труда, либо на веселых гусарских пирушках. А чаще всего бродили по тенистым аллеям царскосельского парка. За ними иногда увязывались и другие лицеисты, и Чаадаев шутя называл внимавших ему юнцов «философами-перипате- тиками».
Этот красавец гусар резко отличался от своих товарищей. Он не был большим охотником до бесшабашных и удалых развлечений. Его бледное, словно выточенное из мрамора, лицо с необыкновенно высоким прекрасным лбом было малоподвижно и носило отпечаток постоянных и глубоких размышлений. Широта его эрудиции удивляла. Он отлично знал не только труды французских просветителей, но и английских и немецких философов (Локка, Канта, Шеллинга) — по тем временам довольно редкое явление в среде русского дворянства; судил о сложнейших явлениях жизни с прозорливостью и убежденностью, с неколебимой уверенностью в своей правоте.
О чем могли беседовать юный поэт и мыслитель-гусар, рожденный «в оковах службы царской»? Какими идеями воспламенял Чаадаев Пушкина?
В то время Петр Яковлевич был, безусловно, одним из самых радикально мыслящих представителей нового поколения дворянской интеллигенции. С Запада он вывез поразившее его на всю жизнь впечатление: Европа являла слишком резкий контраст с крепостнической, самодержавной, непросвещенной Россией. Больно было за великий народ, проливший кровь за освобождение других народов, но продолжавший оставаться под игом жесточайшей деспотии. Ненависть к самодержавию, доходящая до мысли о цареубийстве («Он в Риме был бы Брут»), идеал демократии, свободного волеизъявления народа («...в Афинах Периклес»), — вот чем прежде всего вдохновлялся Чаадаев.
Но видимо, и тогда уже нередко находило на него мрачное облачко безысходного скептицизма, отчаянья, неверия в то, что можно что-то сделать существенное для счастья и свободы родины.
Эти приступы тяжелой меланхолии Пушкин исцелял веселым смехом и юным пламенным энтузиазмом. Не отголоском ли их споров явилось знаменитое первое послание «К Чаадаеву» с характерным призывом: «Това¬
113
рищ, верь»? Пушкин здесь не только провозглашает свою веру, но и убеждает старшего друга отвлечься от горьких дум и посвятить отчизне «души прекрасные порывы», он, поэт, убежден, что ночь над Россией не вечна, ч*о рухнет самовластье и напишут на его обломках имена Чаадаева и Пушкина. Пожалуй, ничего более «взрывного», огнедышащего, тираноборческого Пушкин никогда не писал. И не случайно связан этот прекрасный огненный порыв души поэта с именем Петра Чаадаева.
В первые послелицейские годы дружба с Чаадаевым продолжала крепнуть. Пушкин частенько засиживался в кабинете Петра Яковлевича в Демутовом трактире, что у Невского проспекта. Кабинет весь был уставлен книгами. Здесь у камина удобно было проводить время в неторопливой беседе и размышлениях. Перед умственным взором поэта развертывались во всей сложности проблемы политические, исторические, эстетические, философские, «метафизические». Чаадаев внушает, что поэзия есть мысль, облеченная в поэтическую форму, что истинный поэт — выразитель потребностей своего века, «духа времени» — должен постичь этот дух, направление дум и мыслей передовых людей эпохи, встать с ними вровень и возвыситься над ними. Его призвание — быть «властителем дум», раздвигать умственные горизонты человечества.
Об этих беседах Пушкин с благодарностью вспомнит в кишиневской ссылке. Во втором послании Чаадаеву (1821) он спешит заверить своего друга, что его советы не пропали даром, что он здесь «познал и тихий труд, и жажду размышлений», стремится «в просвещении стать с веком наравне». С трогательнейшими словами любви и признательности обращается поэт к Чаадаеву:
Ты сердце знал мое во цвете юных дней...
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому
любовь.,.
Поэт лелеет надежду вновь посетить кабинет «мудреца» и «мечтателя», бесстрастного наблюдателя ветреной толпы, «милого домоседа», и тогда вновь потекут «беседы прежних лет», «пророческие споры», вновь оживут «вольнолюбивые надежды».
114
Что касается Чаадаева, то время живого многолетнего общения с молодым поэтом он потом относил к лучшим, счастливым годам своей жизни.
В 1854 году, после того как биограф поэта П. Бартенев опубликовал материалы о юных годах жизни Пушкина и почти не упомянул при этом о Чаадаеве, тот был глубоко оскорблен. В своем письме к С. П. Ше- выреву Чаадаев говорит о том значении, которое имела дружба с Пушкиным для него самого, и дает понять, что именно роднило их духовно в те далекие времена: «Не пустое тщеславие побуждает меня говорить о себе, но уважение к памяти Пушкина, которого дружба принадлежит к лучшим годам жизни моей, к тому счастливому времени, когда каждый мыслящий человек питал в себе живое сочувствие ко всему доброму, какого бы цвета оно ни было, когда каждая разумная и бескорыстная мысль чтилась выше самого беспредельного поклонения прошедшему и будущему. Я уверен, что настанет время, когда и у нас всему и каждому воздастся должное...» «Пушкин гордился моею дружбою, — пишет Чаадаев и подчеркивает эти и последующие слова, — он говорил, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому...»
О каком «спасении от гибели» идет речь? Имеется в виду известный случай в биографии поэта, когда он был на грани самоубийства или цареубийства из-за грязной сплетни, пущенной Федором Толстым-Американцем, будто Пушкин был вызван в тайную канцелярию и высечен там. Можно представить себе, как тяжело ранен был этой клеветой самолюбивый поэт. В его бумагах сохранился черновик неотправленного письма Александру I. В нем, в частности, говорилось:
«До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным... в общественном мнении... мне было 20 лет в 1820 (году) — я размышлял... не следует ли мне покончить с собой или убить — В (Ваше Величество — Г. В.).
В первом случае я только подтвердил бы сплетни, меня бесчестившие, во втором... я не отомстил бы за себя, потому что оскорбления не было, я совершил бы преступление...»
С этими настроениями Пушкин и отправился тогда к Чаадаеву. Петр Яковлевич проявил еще одно свое незаурядное качество — «целителя душевных ран». Он вни¬
1 )5
мательно выслушал поэта, успокоил его, внушил, что в такой ситуации лучший выход — это гордое презрение к клеветникам и сплетникам, к людской молве, что этой грязью они не могут испачкать честного человека, а сами окажутся по уши в грязи. И что ему, Пушкину, великому поэту, — что ему до жалких ничтожеств, до грязных забав светской черни? Достойно ли вообще реагировать на это?
Пушкин, внимая своему старшему другу, успокаиваясь, словно взрослел, учился смотреть на вещи тем спокойным, снисходительным, мудрым, отстраненным взором, которым смотрел на мир Петр Чаадаев:
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне в торжественном
суде
Холопа знатного, невежды при звезде...
Мне ль было сетовать о толках шалунов,
О лепеганьи дам, зоилов и глупцов И сплетней разбирать игривую затею,
Когда гордиться мог я дружбою твоею?..
Как жаль, что не было Чаадаева рядом с Пушкиным в трагические месяцы перед его последней дуэлью! Быть может, «исповедальнику» Чаадаеву снова удалось бы как-то уврачевать душевные раны затравленного поэта (он был уверен, что спас бы Пушкина!)? Но Петр Яковлевич в это время сам переживал трагедию: за несколько месяцев до убийства Пушкина рукою Дантеса царское правительство духовно убило и Чаадаева — эдиктом царя Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим.
Судьба этого необыкновенно одаренного человека вообще сложилась странно. Ему прочили блестящую карьеру. Он был адъютантом командира гвардейского корпуса генерала Васильчикова. Александр I знавал молодого красавца и мудреца и благоволил к нему. В то же время Чаадаев близок и с будущими декабристами, они считают его своим.
Надо заметить, что усердная служебная карьера и оппозиция правительству не исключали тогда одно другого. Было время, когда Александр смотрел на тайные общества сквозь пальцы, сам любил пофрондировать, щегольнуть либеральной фразой и, похоже, не видел большой опасности в «забавах взрослых шалунов». 11 !б
В 1820 году, вскоре после высылки Пушкина из Петербурга, резко изменилась вдруг и жизнь Чаадаева.
Внезапно вспыхнуло восстание в лейб-гвардии Семеновском полку, где когда-то служил Чаадаев. Восстание было вызвано зверским обращением полковника Шварца с солдатами. С донесением о происшедших событиях был послан к царю Чаадаев. Вот тут-то и столкнулись непримиримо дела служебные и убеждения личные: Чаадаев должен был доносить на своих товарищей по оружию. Тут он, видимо, впервые пережил тяжелую душевную драму, о которой никто и не догадывался.
Кончилось все неожиданно для света. Чаадаев поручение выполнил, доклад царю о происшествии сделал, возможно изложив при этом свои взгляды на причины восстания. Ему предложили высокий пост флигель-адъютанта самого императора. Но... тут блестящий молодой офицер совершает поступок, совершенно непонятный скалозубам и Фамусовым: вместо благодарности и верноподданнических чувств ответил вежливьим, но непреклонным отказом и просьбой о немедленной отставке. Все были шокированы и ничего не могли^понять. А ларчик открывался просто: в душевной борьбе, обуревавшей Чаадаева, чувство чести и долга гражданина победило чувство долга и чести армейского служаки.
В письме к тетушке он объяснил свой «сумасбродный» поступок с предельной откровенностью: «Сначала не хотели верить, что я серьезно прошу отставки, затем поневоле пришлось поверить этому, но до сих пор никто не хочет понять, каким образом я мог решиться на это в то время, как я должен был получить то, чего я, по- видимому, так желал, чего все так добиваются и, наконец, того, что для молодого человека в моем чине считается самой лестной наградой... Дело в том, что по возвращении императора меня должны были действительно назначить флигель-адъютантом к нему, так говорил, по крайней мере, Васильчиков. Я считал более забавным пренебречь этой милостью, нежели добиваться ее. Мне было приятно высказать пренебрежение людям, пренебрегающим всем. Как видите, все это чрезвычайно просто... Вы знаете, что я слишком честолюбив, чтобы гоняться за чьей-нибудь милостью и за пустым почетом, связанным с нею».
Все «чрезвычайно просто»! Чаадаев совершил акт высокого гражданского мужества. Он своей отставкой дал пощечину царю и царской дворне и не скрывал,
117
что получил от этого громадное удовольствие честолюбца.
Что дальше? Теперь он — прототип Чацкого и Онегина — пошел «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Сел в карету и укатил сначала в имение своей тетушки, а затем в чужие края.
Петр Яковлевич побывал в Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Германии. Он познакомился с великими учеными и мыслителями Европы — Гумбольдтом, Кювье, Шеллингом... Всех поражал своим «резким, охлажденным» умом, самостоятельностью суждений, непохожестью на какие-либо устоявшиеся мнения. Шеллинг, бывший тогда в зените своей славы, нашел, что Чаадаев один из замечательных людей «нашего времени» и уж, конечно, самый замечательный из всех известных ему, Шеллингу, русских.
Петр Яковлевич, будучи в Европе, усердно изучал философию, историю искусств и историю религии, учения мистиков. Особенно углубился в религиозные искания, много размышлял.
Контраст между духовной и политической жизнью буржуазной Европы и крепостной России испепелял его сердце. Нищета и отсталость России казались ему теперь еще более разительными и безысходными, чем после первого его пребывания в Западной Европе.
В беседах с друзьями он не жалел мрачных красок, когда говорил о России. Один из них, Д. Н. Свербеев, встретившись с Петром Яковлевичем в Берне, с ужасом вспоминал, что тот «обзывал Аракчеева злодеем, высших властей — военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве».
Чаадаев вопрошал слушателей, сам же себе отвечая:
«Во Франции на что нужна мысль? Чтобы ее высказать. В Англии? Чтоб привести ее в исполнение. В Германии? Чтоб ее обдумать. У нас? Ни на что!»
В Россию Чаадаев вернулся как раз в то драматическое время, когда царь творил расправу над декабристами. Петра Яковлевича держали некоторое время под арестом, допрашивали, но отпустили за неимением явных улик. Царь не отправил его в ссылку, но Чаадаев сделал это сам, добровольно на многие годы заточив себя в «фиваиду» — темницу духовного уединения и полной отрешенности от мира. Он переживал острый
118
духовный кризис. Он мучительно искал выход из тупика, куда, как ему казалось, зашла Россия. Искал и не находил его. Он впал в глубокую депрессию. Ладья его «пристала к подножию креста»: он обратил свой взор к религии и мистике.
Наконец после пятилетнего отсутствия Чаадаев вновь появляется в Английском клубе и гостиных и имеет теперь вид человека, которому одному открылась горькая и трагическая «истина нашего времени». Что это за истина, читающая Россия узнала значительно позднее, в 1836 году, когда было опубликовано одно из «Философических писем» Чаадаева. Близкие же друзья и знакомые, в их числе Пушкин, знали, конечно, кредо Чаадаева еще в 1829—1830 годах, когда он обдумывал и излагал его на бумаге.
Известно, что в марте 1829 года Пушкин приезжает в Москву, видится с Чаадаевым, и наверняка тот открывается поэту. Но Чаадаева ждало разочарование: Пушкин отнюдь не в восторге от новых идей своего старшего друга, он вовсе не принимает их как божественное откровение, на что так надеялся в гордыне своей Чаадаев. Поэт не признал его пророком и мессией и отказался следовать за ним. Это был уже не тот лицейский Пушкин, который смотрел в рот своему старшему другу, ловя каждое его слово.
О постигшей Чаадаева неудаче в попытке приобщить Пушкина к открытой мыслителем «тайне века» явно говорит сохранившееся письмо к поэту от марта—апреля 1829 года. «Мое самое ревностное желание, друг мой,— пишет Чаадаев Пушкину, — видеть вас посвященным в тайны века. Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что человек, который должен господствовать над умами, склоняется перед мнением толпы, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути. Спрашиваешь себя: почему человек, который должен указывать мне путь, мешает мне идти вперед? Право, это случается со мной всякий раз, когда я думаю о вас, а думаю я о вас так часто, что устал от этого. Дайте же мне возможность идти вперед, прошу вас. Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на свете, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире найдите свет, который безусловно кроется во всех душах, подобных вашей».
Это слова мудреца — непосвященному, пастыря —
119
заблудшему. Слова человека, ослепленного прозрением истины, — незрячему, блуждающему в потемках. Так, с таким сознанием своего превосходства мог с Пушкиным говорить во всей России только Чаадаев.
Но Пушкин был уже не тот! Он уже давно не был юношей, не понимающим «своего века и своего призвания». Поэт шел шагами исполина в духовном развитии, уверенно вырабатывая собственную философию истории в тесной связи с интеллектуальными веяниями эпохи, на основе всего того ценного, чего достигла отечественная и зарубежная социально-историческая мысль.
Обращение поэта с середины 20-х годов к истории своей страны, к ее узловым, наиболее динамичным процессам, к ее наиболее ярким личностям (Годунов, Петр, Пугачев) не было самоцелью, диктовалось потребностью понять, осмыслить настоящее и будущее России в связи с развитием Европы и всей цивилизации. «В Пушкине было верное понимание истории, — писал П. А. Вяземский, — принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость». А. И. Тургенев ему вторит: «Я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Никто так хорошо не судил русскую историю».
Начало XIX века принесло с собой поистине революционную ломку всех прежних представлений о ходе развития человеческого общества. Именно тогда и стал складываться взгляд на общество как на организм непрерывно изменяющийся, развивающийся, прогрессирующий по определенным общим законам, то есть взгляд исторический. Сам XIX век получает общепризнанное название исторического в отличие от просветительского XVIII века.
Иван Киреевский, близкий знакомый Пушкина, призывал в 1829 году к уважению действительности, которое составляет «средоточие той степени умственного развития, на которой теперь остановилось просвещение Европы и которое обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа». «История, — продолжал он, — в наше время есть центр всех познаний, наук, естественное условие всякого развития; направление историческое обнимает все».
Ту же мысль еще более определенно высказал Белинский: «Век наш — по преимуществу исторический век. Историческое созерцание могущественно и неотразимо
120
проникло собой все сферы современного сознания. История сделалась теперь как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания; без нее стало невозможно постижение ни искусства, ни философии».
Историческое мышление, которое принес с собой XIX век, означало осознание того, что события, происходящие в настоящем, имеют своим истоком прошлое, что они этим прошлым течением процессов обусловлены, потому в истории народа кроется объяснение настоящего и указание на направление движения в будущем. Вместе с тем каждый новый период представляет собой нечто новое по сравнению с предшествующим, новую и, как правило, более высокую ступень общественного прогресса. Такой взгляд, теперь для нас само собой разумеющийся, был тогда откровением. Он резко отличался от просветительского мировоззрения XVIII века, которому ход развития общества не представлялся еще единой цепью социального прогресса. В просветительской системе исторические события стояли рядом друг с другом, а не вытекали одно из другого.
Большая заслуга в развитии исторического миропонимания принадлежала плеяде французских историков Реставрации, так называемой романтической школе. Эти историки пытались нащупать, понять движущие силы общественных процессов и видели их в «силе обстоятельств», которая складывается из переплетения и борения интересов миллионов людей, преследующих свои частные цели, из их противоречивых индивидуальных усилий. В итоге, однако, получаются общезначимые результаты, вырисовывается некая равнодействующая, определяющая сила в этом кажущемся хаосе событий. В клубке взаимосталкивающихся интересов французские историки усматривали борьбу не только индивидов, но и больших общественных групп, объединенных общими целями, то есть борьбу классов. Открытие классовой борьбы как движущей силы истории было выдающимся завоеванием общественной мысли того времени. Маркс и Энгельс, создавая исторический материализм, непосредственно отталкивались от идей французских историков и, как известно, прямо признавали это.
И в этой связи особый интерес и важность приобретает тот факт, что Пушкин был прекрасно осведомлен о всех течениях западной историографии и социальной мысли начиная с Вольтера, который, по его выражению, первым внес «светильник философии в темные архивы
121
истории». Пушкин имел возможность ознакомиться в петербургской библиотеке с такими его историческими работами, которые были неизвестны и западным авторам. Внимательно изучал Пушкин многих представителей старой школы историков: Юма, Робертсона, Гиббона, Сисмонди, Лемонте. Последнего он особенно ценил, восхищаясь его книгой о царствовании Людовика XIV. Одно время и Пушкин разделял предрассудки этой школы, считавшей, что законы, устанавливаемые правительством, являются первопричиной добродетелей и пороков народов, а потому все дело в том, чтобы «придумать» хорошую конституцию и убедить правительства принять ее (Сисмонди). В этих мечтах о «хорошей конституции», которыми, кстати, «болел» весь декабризм, было что-то от утопически-просветительского взгляда: выработать сначала разумную идею, а затем преобразовать общество в соответствии с ней.
Новая школа историков ставила вопрос иначе: конституции, законоположения не причина, а следствие общественных преобразований. Прежние историки выдвигали задачу изучить «природу человека», его страсти, чтобы понять природу общества, новая школа, напротив, считала, что природа определенного общества, «дух эпохи», дух времени создают и определенного человека, поэтому изучать нужно прежде всего именно общество на той или иной исторической стадии его развития, его особенности, его потребности, образ мыслей, его нравы, его психологию.
Этот поворот к новому взгляду на историю начался во Франции к концу первого десятилетия века и оформился в 20-х годах, то есть шел почти одновременно с формированием исторического мышления Пушкина.
Представителей новой школы Пушкин сразу же заметил, заинтересовался ими, следил за их публикациями. Основные идеи Вильмена, Тьерри, Гизо, Минье, Тьера, Баранта им осмысливаются почти сразу после их появления в печати. С Проспером де Барантом Пушкин познакомился в последние месяцы своей жизни лично и не раз беседовал с ним. Любопытно, что от проницательного взгляда Пушкина не ускользнуло даже то, что стимулом для поворота к новому миропониманию послужили французским историкам романы Вальтера Скотта. «Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста», — писал он в 1830 году.
122
Много позднее, уже после смерти нашего великого поэта, Огюстен Тьерри (отец идеи «классовой борьбы» во французской историографии, по выражению Маркса) признал, что действительно романы Вальтера Скотта впервые натолкнули его на новые исторические идеи. Тьерри писал: «Я глубоко восхищался этим великим писателем. Восхищение мое увеличивалось по мере того, как я сравнивал его изумительное понимание прошлого с убогой и тусклой ученостью крупнейших современных историков... С восторгом я приветствовал появление шедевра — «Айвенго». Вальтер Скотт бросил свой орлиный взгляд на тот исторический период, на который вот уже в течение трех лет были направлены все усилия моей мысли... Он поэтически изобразил одну сцену той долгой драмы, которую я старался воспроизвести с терпением историка. Все, что было правдивого в основе его произведения: общие черты эпохи, политическое положение страны, различные нравы и взаимоотношения людей, принадлежащих к разным классам, — все согласовалось с линиями плана, который складывался в то время в моем уме. Признаюсь, что посреди сомнений, сопровождающих каждую добросовестную работу, мое воодушевление и уверенность удвоились благодаря той косвенной санкции, которую получила одна из любимых моих идей со стороны того, кого я считаю величайшим из когда-либо существовавших мастеров исторического провидения».
Я не случайно привел эту цитату: она имеет отношение и к Пушкину, который в Михайловском зачитывался Вальтером Скоттом как «пищей для души». Она позволяет понять, какое влияние и в каком направлении могли оказать романы Вальтера Скотта на историческое мышление Пушкина. Поэт работал тогда над «Онегиным» и замышлял «Бориса Годунова». В обоих произведениях изображена именно определенная историческая эпоха определенной страны, формирующая людей, их умонастроения, цели, интересы, их психологический облик.
Пушкин не раз подчеркивал, что «Борис Годунов» — трагедия «романтическая». Но что вкладывал он в понятие «романтическая»? Не имел ли он в виду при этом свою солидарность с принципами новой школы историков, которая именовала себя романтической? Во всяком случае, «романтизм» трагедии понимался поэтом как ее историзм и реализм. Он писал: «Отказавшись до¬
123
бровольно от выгод, мне представляемых системою искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою), я старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием историч(еских) характеров и событий — словом написал трагедию истинно романтическую».
Верное изображение времени, эпохи, исторических характеров — это как раз то, чего требовали французские историки-романтики, вдохновляясь, в частности, произведениями Вальтера Скотта. Иначе говоря, Пушкин идет «вровень» с новым историческим миропониманием.
Тот факт, что в принципе идеи французских историков созвучны концепции исторического процесса, складывавшейся у Пушкина, не означал, однако, что он во всем с ними соглашался. Со многими их представлениями поэт-историк прямо или косвенно полемизирует.
Созвучна, конечно, историкам-романтикам мысль Пушкина, что «дух времени» является источником нужд и требований государственных. Пушкину, безусловно, импонировала также мысль Вильмена, родоначальника романтической историографии, что для того, чтобы понять великую историческую личность, нужно постичь эпоху, ее породившую, что историк в освещении минувших событий должен быть полностью беспристрастен, его задача не выбирать произвольно факты, чтобы доказать желаемое, а обрисовать возможно более объективную и полную картину происходившего, понять его причины.
Конечно, автор «Бориса Годунова» и «Истории Пугачева» согласен был и с мнением Тьерри, что субъект истории — сам народ.
Признавая человека орудием исторических обстоятельств, Пушкин, как и Барант, не снимает при этом вопроса о собственной нравственной ответственности личности за свои действия.
Французские историки, подчеркивая взаимообусловленность происходящих событий, их детерминированность, строгую логику, иногда слишком увлекались идеей фатальной предопределенности хода истории. Пушкин резонно видел в этом изъян. История, по его убеждению, вовсе не исключает случайностей, она полна ими. «Общий ход событий», их основное направление можно и должно историку «угадать», вывести из него «глубокие предположения, часто оправданные временем», но
124
невозможно «предвидеть случая, мощного, мгновенного орудия провидения». В противном случае «историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные».
За этим высказыванием у поэта-историка таятся, в сущности, глубокие размышления о взаимоотношении законов развития общества и законов природы, о том, в чем они сходны и в чем существенно различаются.
Далее. Мы не ошибемся, если предположим, что Пушкин разделял мнение Гизо о высшей ценности общественного мнения, «мнения народного» в движении истории, о просвещении народных масс как средстве решения социальных проблем, о грядущей победе идеалов справедливого и нравственного общества. Не спорил он и с тем утверждением Гизо, что во Франции из века в век имел место последовательный прогресс в развитии просвещения и свободы «сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец рассветающие века». Но можно ли под эту «формулу Гизо» подогнать и Россию? Тут Пушкин решительно против. История России, утверждает он, «требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада».
Что имел в виду Пушкин, нетрудно разгадать. О каком прогрессе свободы в истории России можно было говорить? Скорее, напротив, о «прогрессе» во все большем упрочении самодержавия, деспотизма, закабаления крестьян.
Иван Грозный покончил с многовековой вольницей торговых республик — Новгорода и Пскова. Борис Годунов отменил Юрьев день. Василий Шуйский впервые объявил себя самодержцем, Петр I — императором. По словам Пушкина, история представляет около Петра «всеобщее рабство», «все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою», «все дрожало, все безмолвно повиновалось». Наконец, Екатерина «раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции».
Вот он, «прогресс» по-российски! Можно ли его уложить в «формулу Гизо»?
К тому же, по убеждению Пушкина, в России не было феодализма в том виде, в каком он существовал, например, во Франции, где имела место независимость
125
феодалов от центральной власти, а «короли, избираемые вначале владельцами, были самовластны токмо в собственном участке». Общины имели привилегии. Отсюда сохранилась и в народе «стихия независимости».
Вот такого именно феодализма «у нас не было, и тем хуже», заключает поэт-историк. Он явно пытается разобраться, почему во Франции восторжествовала революция, а в России продолжало торжествовать и все укрепляться самодержавие.
Да, Россия имела и имеет собственную судьбу! Это не значит, конечно, что Пушкин отрывал Россию от хода развития европейских стран. Нет, просто он призывал не мерить ее «общим аршином».
А каково было мнение Петра Яковлевича Чаадаева о прошлом и будущем России?
Тут надо обратиться к его «Философическим письмам».
Больная, выстраданная в заграничных скитаниях и в ските духовного уединения мысль Чаадаева была, конечно, мыслью о бедственной судьбе России, о ее убожестве и отсталости. Это был «крик боли и упрека» (А. И. Герцен). Это было какое-то истерическое саморазоблачение, самораздевание, самоистязание национального русского чувства. То посыпание головы пеплом и раздирание одежд на себе, которым предаются при виде торжествующей смерти. Автор словно хотел, говоря словами Маркса, «заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу».
В конце опубликованного в 1836 году первого письма стояло «Некрополь», что значит «город мертвых». Автор держит суровую обвинительную речь русской истории, русскому народу, русской культуре, самому русскому человеку, его характеру.
Россия занимает огромные пространства между Востоком и Западом. Упираясь одним локтем в Китай, другим — в Германию, она должна была соединить в себе оба великих начала духовной природы, рассуждает автор. Но, продолжает он, ничего этого не произошло. Мы, русские, пришли в мир «подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас».
Русские, по мнению Чаадаева, будто бы ничего не унаследовали от мировой культуры, не развили ничего
126
своего на ее основе. Не дали миру ни мудрецов, ни мыслителей, «...ни одна полезна» мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины: ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь».
Чаадаеву мнилось, что Россия и истории-то как таковой не имела, ибо ее история не была прогрессом просвещения и цивилизованности. «Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности.,, периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства».
«Стих» разоблачения подхлестывал Чаадаева. Он распалялся все больше и больше, явно теряя чувство реальности: «Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы ею пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя».
Даже характер, даже взгляд русского человека представляется Чаадаеву неоформленным, неопределенным, неуверенным. И даже «в нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу»!
Итак, нет уже у России не только прошедшего, но и будущего. Тут впрочем, Чаадаев одергивал себя, задумывался и делал робкие оговорки вроде того, что нас, конечно, не постигнет ни китайский застой, ни греческий упадок. Но «...кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?».
Если отбросить крайности и экстравагантности ча- адаевского письма, то основная его мысль следующая. Россия не впитала еще в себя всего того духовного бо-
127
гатства, которое выработало человечество, не сделала его еще своим, оставив заимствованным, внешним. А в этом богатстве европейской культуры главное и ценнейшее достояние, по Чаадаеву, — это богатство нравственное, нравственно-религиозное, воспитанное усилиями католической церкви. Все беды России в конце концов оттого произошли, что в ней господствующей стала православная, а не католическая религия. Это-то и явилось причиной того, что Россия развивалась не вместе со всей Европой, а вне ее.
Вот до чего додумался Чаадаев и вот в какую «тайну века» пытался он посвятить Пушкина!
Нетрудно представить себе, что за реакцию вызвали у поэта «философические» откровения его давнего друга. Мог ли принять их человек, все творчество, весь гений которого брал исток свой из родника духовных сил народа, питался ими постоянно, вдохновлялся любовью к истории земли русской, к недюжинности характера русского народа, его ума и таланта?!
В октябре 1836 года поэт пишет Чаадаеву письмо (но не отправляет его), где прямо высказывает свое отношение к «философическим» идеям своего друга касательно русской истории. В самом ли деле явилась бедствием для России так называемая схизма, то есть разделение церквей на католическую и православную? Да, отвечает Пушкин, действительно схизма отъединила нас от остальной Европы и Россия долго не принимала участия в ее политической и духовной жизни. Но значит ли это, что Россия не сыграла никакой выдающейся роли во всемирной истории средних веков? Значит ли это, что она ничего не дала миру? Конечно, нет!
«...У нас было свое особое предназначение, — утверждает поэт в полемике с Чаадаевым. — Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех».
В черновом варианте письма имеется весьма важная фраза, бросающая свет на отношение Пушкина ко
128
всей «религиозной» аргументации Чаадаева: «Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам. Ну и прекрасно, но не следовало этого говорить».
Убеждением Чаадаева было: религия не имела у нас той силы и влияния, которое она получила на Западе, и это ужасно! Убеждением Пушкина: да, это так, ну и прекрасно!
Всем своим творчеством Пушкин отвергал излюбленную мысль Чаадаева, что религиозно-нравственная идея — источник прогресса в истории. Источник его, по Пушкину, в нуждах и требованиях народных. Тут столкнулись две философии истории.
И Пушкин продолжает свой заочный диалог с Чаадаевым.
В самом ли деле юная Россия не имела того периода «бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных», который составляет «героический период» европейских народов? В самом ли деле у нас нет славного исторического прошлого? Такой вывод Пушкин отвергает категорически и страстно:
«Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж?»
Чаадаев склонен скептически оценивать даже результаты Отечественной войны 1812 года и писал о Декабрьском восстании как о «громадном несчастье, отбросившем нас на полвека назад». Как ответить на это в письме, которое могло попасть в руки жандармов Николая? Мы знаем, что боль Пушкина о страдавших в Сибири товарищах никогда не утихала, что «скорбный труд» их он не считал напрасным и пропавшим для будущего. Отбросило ли восстание на Сенатской площади Россию назад, отъединило ли еще больше от остальной
129
Европы? Пушкин отвечает предельно лаконично, ссылаясь на «будущего историка»: «...и (положа руку на сердце) разве не находите вы что-то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что от (историк.— Г. В.) поставит нас вне Европы?»
Чаадаев патетически восклицает в своем письме: «И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители?» Пушкин не отвечает на это прямо,, но мы хорошо знаем, как он гордился именами Ломоносова, Новикова, Радищева* Карамзина...
Страстно защищая величие и значительность всего достигнутого Россией в ее политической и духовной жизни, Пушкин в то же время дает понять, что он вовсе не удовлетворен «деяниями» и политикой императора:
«Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератор — я раздражен* как человек с предрассудками — я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков такой, какой нам бог ее дал».
Тут наступает кульминация всего диалога. Оговорив свое принципиальное несогласие с рядом тезисов Чаадаева, поэт полностью разделяет чувства «боли и ужаса», которыми проникнуто письмо друга: страдания за унизительное, рабское, жалкое положение народа, который призван быть великим, отвращение ко всем мерзостям русской общественной жизни, к давящему гнету царского деспотизма, омертвляющему все живое, убивающему в зародыше все талантливое. Обо всем этом Пушкин говорит удивительно смело для «подцензурного» письма: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаянье. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».
Пушкинское неприятие «грустных вещей» русской общественной жизни гораздо определеннее и глубже по существу, чем чаадаевское. Чаадаев вовсе не напирал на отсутствие в России общественного мнения, свободы слова и печати. Пушкин же именно в этом видит существенное отставание России от Запада.
130
Чаадаев лишь сетовал по поводу отсутствия в России крупных мыслителей и мудрецов, великих идей и идеалов. А Пушкин говорит о причине этого —о циничном презрении к человеческой мысли и достоинству. Со стороны кого? Со стороны правительства, конечно, — царя и его окружения. И иронически звучат в этом контексте слова поэта о «сердечной привязанности» к царю! Какая уж тут сердечность, если поэт, по его собственным словам, глубоко оскорблен и раздражен.
Чаадаев, наконец, считает источником всех несчастий отсутствие в России идей «долга, справедливости, права, :порядка». Пушкин, отвечая ему, отбрасывает право и порядок. Чье право? Право на что? Прав у правительства хоть отбавляй. С «порядком» в николаевской России тоже все в порядке. И Пушкин опять-таки заостряет чаадаевскую мысль: пишет о равнодушии «ко всякому долгу, справедливости и истине». Говорить истину о бедах России в тогдашних условиях было невозможно.
Любопытно, что в некоторых пассажах чаадаевского письма явно чувствуется внимательный читатель пушкинских произведений. Так, Чаадаев восклицает: «Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте? Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного...»
Не списано ли все это с Евгения Онегина? Не навеяно ли его образом? Ведь это он, Онегин, — человек без «определенной сферы существования», без домашнего очага, без чего бы то ни было «прочного, постоянного». Вспомним при этом, что Онегин, ;в свою очередь, отчасти «списан» с самого Чаадаева и ему подобных. Круг замыкается, бумеранг возвращается.
Чаадаев, всматриваясь в художественный образ, прототипом которому послужил сам, приходит к широким теоретическим обобщениям, рисуя социально-психологический портрет целого поколения русских людей. И передает эстафету через несколько десятилетий русской истории Федору Михайловичу Достоевскому.
Достоевский для своих рассуждений о натуре русского интеллигента также отталкивается от образа Онегина и его предтечи в пушкинском творчестве — Алеко
131
из «Цыган». Уже в Алеко, по мысли Достоевского, Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того русского страдальца, который необходимо должен был появиться в «высшем обществе», оторванном от народа.
«Эти русские бездомные скитальцы, — развивал свою мысль Достоевский в речи при открытии памятника А. С. Пушкину в 1880 году, — продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского — интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, — конечно, пока дело только в теории».
Так художественные обобщения Пушкина своеобразно отразились в размышлениях Чаадаева и Достоевского.
Несмотря на всю туманность и абстрактность чаада- евской критики русской действительности, она произвела впечатление необычайное. Герцен сравнил действие ее с выстрелом, раздавшимся в темной ночи.
«Что, кажется, значат, — писал он, — два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай... Мысль томилась, работала — но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое lasciate ogni
132
speranza (оставьте всякую надежду). Появился наконец человек с душою, переполненною горечью; он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребальным красноречием, с убийственным спокойствием все, что накопилось за десять лет горького на душе образованного русского».
Да, «подтекстом» письма Чаадаева был протест против официальной идеи «самодержавия, православия и народности», против самодовольного, охранительного, «квасного патриотизма» (выражение пущено в ход Чаадаевым), который был глубоко чужд и Пушкину. Однако ничего бунтарского, мятежного в письме Чаадаева не было. Оно просто наполнено умом и талантом, интеллектуальной дерзостью. Но ум, дерзость вызывали всегда у Николая безотчетный страх.
В стране, где насаждали тупость бездумного исполнительства, серую посредственность, ура-патриотические и верноподданнические идеи, где выдвигали людей «без ума, без чувств, без чести», умный человек должен был казаться белой вороной. И если он видел и сознавал дикость и безумие окружающего его мира, то и мир смотрел на него глазами Фамусова и Скалозуба — видел в нем смутьяна и сумасшедшего. Впрочем, умник, смутьян и сумасшедший в глазах Фамусовых — синонимы.
Неудивительно поэтому, что Николай после опубликования в сентябре 1836 года статьи Чаадаева в журнале «Телескоп» высочайше повелел объявить его сумасшедшим.
В конце января 1837 года, как раз тогда, когда Пушкин доживал свои последние дни, Чаадаев не без сарказма описывал свое положение брату: «Статья вышла без имени, но тот же час была мне приписана или, лучше сказать, узнана, и тот же час начался крик. Через две недели спустя издание журнала прекращено, журналист и цензор призваны в Петербург к ответу, у меня по высочайшему повелению взяты бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим... Развязки покамест не предвижу, да и, признаться, не разумею, какая тут может быть развязка? Сказать человеку «ты с ума сошел» не мудрено, но как сказать ему «ты теперь в полном разуме»? Окончательно скажу тебе, мой друг, что многое потерял я невозвратно, что многие связи рушились, что многие труды останутся неоконченными и, наконец, что земная твердость бытия моего поколеблена навеки».
133
Что было дальше? Чаадаева скоро освободили от досмотра врача. Он снова бывает в свете. И снова, как вспоминал Герцен, стоит молча, сложив на груди руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, выделяясь своим неподвижным мраморным ликом, — «чело, как череп голый». Серо-голубые глаза его печальны и вместе с тем таят что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбаются иронически. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе, они бог знает отчего стыдились его неподвижного лица, его язвительного снисхождения.
К тому времени, когда знаменитое письмо вышло из печати — а вспомним, что опубликовано оно было через несколько лет после его написания, — взгляды Чаадаева на судьбы России уже несколько изменились. На многие вещи Чаадаев стал смотреть иначе: трезвее, глубже, прозорливее. В 1836 году он говорит о «философических» идеях уже как об «отчасти проржавевших и готовых уступить место более современным, более национальным».
Почему Петр Яковлевич все же опубликовал свое письмо в том виде, в каком оно было написано в 1829 году, без существенных поправок? Остается только догадываться. Вероятно, он надеялся на дальнейшие публикации, где расставит нужные акценты.
Факт состоит в том, что к моменту публикации письма его автор уже поднялся над собственным односторонне-негативным отношением к судьбам России. И произошло это не в последнюю очередь под влиянием бесед с Пушкиным. Случилось, следовательно, так, что не Пушкин пошел за Чаадаевым, как последний на то надеялся, а сам он за Пушкиным.
Чаадаева теперь особенно ранили сыпавшиеся отовсюду упреки в отсутствии у него патриотизма, чувства любви к родине. И он в 1837 году отвечает своим оппонентам блестящей и страстной «Апологией сумасшедшего», где о любви к родине говорится словами, под которыми, думается, подписался бы и Пушкин: «Больше чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа... Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло..,
134
Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы».
Читал ли Чаадаев к этому времени неотосланное письмо к нему Пушкина? Более чем вероятно. Текст письма был известен А. И. Тургеневу, Жуковскому и другим. После смерти поэта письмо находилось у Жуковского, известно, что Чаадаев 5 июня 1837 года просил Жуковского прислать ему хотя бы копию письма. Вряд ли Жуковский ему отказал. Письмо Пушкина так или иначе нашло своего адресата уже после смерти автора. В «Апологии сумасшедшего» мы явственно ощущаем, что Чаадаев все время имеет в виду это письмо, развивая аргументацию, уточняя свои идеи, поправляя себя.
О прошлом России он теперь говорит: «...я очень далек от приписанного мне требования вычеркнуть все наши воспоминания». О будущем России: «...у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совместным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества».
Против этого Пушкину нечего было бы возразить.
Как представлял себе будущее России поэт-историк? Каков был его социально-политический идеал?
Если для объяснения предшествующей истории России требовалась, по мысли Пушкина, «другая формула», нежели для истории Западной Европы, то, очевидно, надеялся он, и ее будущая история реализуется также по «другой формуле» — не через усвоение религиозно-нравственных ценностей католичества, не через гнусности буржуазной демократии и циничное торжество денежного мешка.
Буржуазный строй и буржуазную революцию для России Пушкин не принимал. Тем более не принимал
135
он и феодальной монархии. Думается, ему грезилось нечто среднее между псковской вечевой вольницей на новый лад и сен-симонистским идеалом общества, где царствует аристократия ума и талантов.
О том, что Пушкин был знаком с идеями утопического социализма еще в конце 20-х годов, свидетельствуют, в частности, следующие строки из воспоминаний Адама Мицкевича о нашем поэте: «Он любил рассуждать о высоких вопросах, религиозных и общественных, которые и не снились его соотечественникам. Очевидно, в нем происходил какой-то внутренний переворот. Как человек, как художник он, несомненно, находился в процессе изменения своего прежнего облика, или, вернее, обретения своего настоящего облика... Но к чему же он готовился?.. Что творилось в его душе? Проникалась ли она в тиши тем духом, который вдохновлял творения Манцони или Пеллико?.. А может быть, его воображение было возбуждено идеями в духе Сен-Симона или Фурье? Не знаю. В его стихотворениях и в разговорах можно было приметить следы обоих этих стремлений».
На «аристокрацию ума и талантов» Пушкин возлагал особые надежды, размышляя над путями дальнейшего преобразования общества. «Очевидно, — писал он в «Путешествии из Москвы в Петербург», — что ари- стокрация самая мощная, самая опасная — есть ари- стокрация людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристокрация природы и богатства в сравнении с аристокрацией пишущих талантов?.. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда... Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек...»
Любопытно, что идеи эти отразились в нереализованном замысле пьесы «Сцены из рыцарских времен». В ней поэт рассчитывал изобразить успешное восстание народа против феодалов. Причем успех восстания обеспечивает то, что во главе народа становятся поэт и изобретатель. Монах Бертольд изобретает порох, против которого не могут устоять стены рыцарских замков. В конце пьесы должен был появиться Фауст в качестве изобретателя книгопечатания. Весь план пьесы кончается словами: «Книгопечатание — та же артиллерия».
136
Как удалось выяснить в свое время Б. В. Томашевскому, слова эти заимствованы Пушкиным из мемуаров Ривароля, публициста времен Французской революции. Автор развивал мысль, что печать — одна из причин революции: «Почти всем обязаны свободе печати. Философы научили народ смеяться над духовенством, и духовенство было уже не в состоянии внушать уважение к королям: явный источник ослабления власти. Книгопечатание есть артиллерия мысли».
В самом деле, если невозможно создать армию слушателей, то возможно создать армию читателей.
Никакая власть не может устоять против всеразру- шительного действия типографического снаряда! Мог ли представить себе Пушкин, когда писал эти строки, предстоящую роль «типографического снаряда» в социальном переустройстве России? Думалось ли ему, какую роль сыграет русская художественная литература, публицистика, литературная критика, наконец, политическая печать в пробуждении революционного самосознания народа в ближайшие десятилетия русской истории?
«Ум человеческий не пророк, а угадчик», — ответил на эти и подобные вопросы как-то сам поэт.
Сохранилась чрезвычайно любопытная запись Пушкина по-французски, относящаяся, видимо, к последним годам его жизни. Вот она:
«Освобождение Европы придет из России, так как только там не существует вовсе предрассудок аристократии. В других местах верят в аристократию: одни, чтобы презирать ее, другие, чтобы ненавидеть, третьи, чтобы извлекать из нее выгоду, тщеславие и т. п. В России ничего подобного. В нее не верят, вот и все».
Запись найдена между страниц книги Генриха Гейне «Путевые картины». На этих страницах немецкий поэт рассуждает как раз о России. Резко изобличая реакционную политику Англии, Гейне иронически заключает, что в сравнении с ней даже международная политика Николая I выглядит революционной, а сам он чуть ли не знаменосцем свободы. Гейне имеет в виду русско- турецкие войны, которые способствовали освобождению Греции от турецкого ига.
Далее, продолжая рассуждать в ироническом тоне, Гейне обосновывает парадоксальный вывод, что и с точки зрения перспектив внутреннего развития крепостная Россия более свободное государство, чем буржуаз¬
137
но-демократическая Англия: «...Вся Англия застыла в своих, не поддающихся омоложению, средневековых учреждениях, за которыми аристократия окопалась и ждет смертного боя».
Гейне противопоставлял этому ситуацию в России, где свобода якобы развивается «на основе принципов» и где потомственная аристократия не имеет веса. Вот это место, без сомнения, и привлекло пристальное внимание Пушкина, результатом чего и явилась приведенная выше его запись: «Освобождение Европы придет из России...»
Пушкин, как всегда, предельно лаконичен, а здесь даже и загадочен. Запись нуждается в осмыслении и расшифровке, в реконструкции отсутствующих логических ходов. Что он имеет в виду, говоря об отсутствии -в России предрассудка аристократии и связывая его с освобождением Европы из России? О каком освобождении идет речь? Освобождении от чего?
Мы видели, какое значение для судеб России Пушкин придавал тому обстоятельству, что в ней потомственное дворянство — аристократия — не имеет силы и влияния на управление страной. Он рассматривал это как факт крайне отрицательный для освобождения России. Теперь же именно на этом факте он строит самые радужные прогнозы. Переменил ли он в корне мнение? Или он рассматривает проблему теперь в ином свете?
Он мог рассуждать примерно так.
В Англии потомственная аристократия, по существу, правит страной, восседая в палате лордов. Знатные фамилии во Франции, Италии и Испании также все еще имеют большой политический вес. Поэтому имеет силу и принцип конституционной монархии в этих странах. Поэтому во Франции, скажем, вновь воцарились Бурбоны. Аристократия не только ограничивает самодержавие, но и дает монархизму опору, прочность, является его фундаментом. Аристократия там испокон веков в почете, в силе, она у власти, ей поклоняются или ее ненавидят. Но так или иначе без нее не мыслится и сам институт монархизма.
«В России ничего подобного». Наемные сановники, которым сегодня доверяется власть, завтра бесследно исчезают и сменяются другими, которых никто не знал. Они сами по себе не представляют никакой силы, на них нет ореола законной власти, нет наследственного права распоряжаться судьбами страны. Они фавориты
138
и временщики, «калифы на час». Сегодня над страной тиранствует конюх императрицы Анны Иоанновны Бирон, завтра фаворит Анны Леопольдовны Миних... При Александре I ужас на страну долгое время наводит Аракчеев, при Николае I — Бенкендорф...
Беда стране, где раб и льстец Одни приближены к престолу...
Вспомним также и такие слова поэта: «Деспотизм окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость». Подавляется оппозиция легальная, законная* открыто влияющая на общественное мнение. Верно. Но это не значит, что она устраняется вообще, она лишь загоняется в подполье и становится значительно более опасной для существующего режима, чем оппозиция, открыто действующая. Одна из любимых, часто повторяемых мыслей Пушкина была та, что отсутствие в России легальной оппозиции, возможности открыто выражать общественное мнение привело к возникновению сети тайных обществ и к трагедии 14 декабря.
Николаевская же Россия в отношении свободы слова и свободы печати по сравнению с александровской что темная, удушливая ночь после сумерек. А следствием этого должно было быть неминуемое нарастание скрытого протеста, скопление взрывной энергии, не находящей естественного выхода. Значит, рано или поздно неминуемы бунт, мятеж, революция. И если осуществятся идеалы декабристов и установится в той или иной форме дворянское правление, то продержится ли оно долго в России? Нет! Потому что в аристократию в России не верят, потому что она в России никогда у власти не была и управлять не умеет. Потому что она не обладает достаточным авторитетом для этого.
Значит, следует неизбежный вывод: Россия быстрее избавится от реликтов и пережитков монархизма и аристократизма в политической жизни, чем страны Западной Европы. Великие перемены в ней будут более радикальны и глубоки, она быстрее и дальше сможет продвинуться по пути прогресса, чем западные державы, ревниво охраняющие лоскутья политического прошлого.
Не отсюда ли и вывод: «Освобождение Европы придет из России»?
Учитывая также тот известный Пушкину факт, что Россия в отличие от передовых стран Западной Европы
139
не знала в та время деспотии денежного мешка и финансовой плутократии, то и тут, казалось, есть у нашей страны преимущество в расчетах на будущее.
Так или примерно так можно реконструировать «задним числом» ход размышлений поэта, конспективно (конспиративно?) скупо переданных в приведенной записи. Конечно, это лишь одна из возможных расшифровок, приблизительно-вероятностно отражающая подлинные размышления Пушкина о будущем родной страны.
Однако если собрать и постараться свести в единую систему разрозненные высказывания Пушкина о России, какой бы он ее хотел видеть в будущем, то картина приобретает более определенные очертания.
Прежде всего будущая Россия для Пушкина — это:
Русь свободная, избавленная от рабства, крепостничества, угнетения.
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной Взойдет ли наконец прекрасная заря?
Русь просвещенная. Как мы знаем, Пушкин вкладывал в это понятие многостороннее содержание: образованность народа, улучшение системы воспитания, свободу печати и проявления общественного мнения, торжество разума и справедливости во всех формах общественного и государственного устройства. Разум, мудрость народная будут править государством, а не вельможная и чиновная спесь и глупость. Аристократия ума и талантов займет наконец надлежащее место в обществе. Просвещение коснется всех народов и народностей многонациональной страны и выведет их из того состояния, в котором пребывали «и финн, и ныне дикой тун- гуз, и друг степей калмык»;
Русь гуманная, где осуществятся задушевные мечты Пушкина о самодовлеющем значении человеческой личности, о ее достоинстве, самоценности, неприкосновенности, независимости, где никто «для власти, для лив- реп» не будет гнуть «ни совести, ни помыслов, ни шеи», где «самостоянье человека залог величия его»;
Русь могучая, победоносная.
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж; все стоит она!..
Победа! Сердцу сладкий час!
Россия! Встань и возвышайся!
140
Следовательно:
Русь великан. Не плетущаяся в хвосте у других держав, не действующая по их указке, а указывающая им своим примером путь социального и духовного прогресса.
В далекой перспективе:
Русь в условиях «вечной свободы» и «вечного мира».
Еще в 1821 году во время пребывания в Кишиневе Пушкин горячо исповедовал идею вечного мира. Так, Екатерина Орлова писала тогда брату о Пушкине: он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, что тогда не будет проливаться иной крови, кроме крови тех, кто пожелает войны.
В бумагах Пушкина имеется и его собственная запись на этот счет:
«1. Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же как им стало ясно рабство, королевская власть и т. п.
2. Так как конституции, — которые являются крупным шагом вперед человеческой мысли, шагом, который не будет единственным, — необходимо стремятся к сокращению численности войск, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, то возможно, что менее чем через 100 лет не будет уже постоянной армии».
Понятно, что Пушкин тут, следуя за французскими просветителями (аббатом Сен-Пьером и Руссо), исходит из абстрактного принципа разумности и неразумности социальных явлений. Раз рабство, королевская власть, войны не разумны, с ними будет покончено. Как только людям станет ясна «смешная жестокость войны», воцарится вечный мир, Руссо понимал, однако, что воцарению вечного мира будут препятствовать «частные интересы» и что его можно будет ввести в жизнь «только силой», «средствами ужасными и жестокими». И потому этот «прекрасный план» неосуществим.
Пушкин явно не согласен с этим последним выводом, и, по смыслу полемики с Руссо, его вовсе не пугает мысль об «ужасных средствах», то есть революции. По поводу же тех воинственных деятелей, которые в мире не заинтересованы, Пушкин пишет категорически:
«3. Что касается великих страстей и великих воинских талантов, для этого останется гильотина, ибо общество вовсе не склонно любоваться великими замыс-
141
лами победоносного генерала: у людей довольно других забот, и только ради этого они посгаййли себя под защиту законов». ь
Речь идет, по существу, о законах, карающих за проповедь войны.
Мысли эти явно перекликаются со строками из стихотворения «Наполеон»: «...и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал».
Наконец:
Русь в братской семье народов.
Пушкин, как и Адам Мицкевич, с которым он в конце 20-х годов делится «чистыми мечтами», думал
...о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы видим, следовательно, что Пушкин и в шедеврах своей поэзии, и в своих высоких мыслях и идеалах не принадлежит только XIX веку, он подлинно «русский человек в своем развитии», он прорастает живым побегом мысли через столетия и является к нам нашим современником и собеседником. Так же, как явится, думаю, и поколениям грядущим.
Великие произведения искусства, как и великие мысли, бессмертны. Они рождаются, чтобы стать вечными спутниками человечества.
Великие личности становятся современниками и собеседниками грядущих поколений потому, что полно воплощают все то прекрасное, доброе и истинное в народе, чему предстоит развиваться и крепнуть.
Удивительно сказал один крестьянин в конце прошлого века, размышляя о Пушкине: «В нем все вместе как-то есть, русская жизнь, добро и красота».
Было бы, конечно, неверно думать, что Пушкин во всем перетянул Чаадаева на сторону своих убеждений. Петр Яковлевич во многом остался на прежних позициях, и после смерти поэта он продолжал свои религиозно-нравственные искания, уповал на сошествие «царства божия» на землю российскую. Но в одном отношении в Чаадаеве произошел заметный сдвиг: он стал более оптимистично смотреть на будущее России, он верил теперь в ее великое предназначение.
Вся «Апология сумасшедшего» написана словно как
142
исповедь перед погибшим поэтом, словно как запоздалое признание его правоты. Учитель поэта почувствовал потребность признать победу над собой своего ученика. Такое, как мы знаем, не раз случалось при жизни Пушкина. Теперь произошло и посмертно.
И самое любопытное: одна из причин, по которой Чаадаев стал более уверенно смотреть, на судьбы России, в том, что ведь это она, Россия, подарила миру Пушкина.
«...Может быть, — роняет Чаадаев тоном извиняющегося, — преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».
Многолетний диалог двух умнейших людей России о предназначении и судьбах их родины заканчивается этим признанием как последним аккордом.
Греция, скошена ты многолетней военной
бедою,
Ныне в упадок пришла, силы свои подорвав.
Слава осталась, но Счастье погибло и пепел
повсюду,
Но и могилы твои также священны для нас.
СЕНЕКА
В ничто прошедшее не канет,
Грядущее досрочное манит,
И вечностью заполнен миг.
ГЕТЕ
истоки И ГОРИЗОНТЫ
Обратимся снова «душой к истокам» и обрисуем, хотя бы в самых общих чертах, исторические судьбы и перспективы развития той науки, начало которой было положено первыми греческими натурфилософами.
Предпосылки для возникновения науки появляются с отделением умственного труда от физического, с превращением его в особый род занятий особой группы людей. Условия для этого создаются впервые в древних цивилизациях Востока — в Индии, Египте, Вавилоне, Китае, — где накапливаются эмпирические познания о природе, появляется письменность и счет, зачатки математических, астрономических, философских познаний.
Но наука как теоретическая и системно организованная область познания рождается именно в Греции — в форме натурфилософии.
Именно здесь научное познание полностью отделяется и от религии, и от мифологии, а также от эпическо- поэтического мировосприятия.
Здесь человечество поднимается к самым высотам теории, которая, однако, остается строго рациональной, не отрывается «от земли», не отлетает к химерическим и иллюзорным порождениям фантазии — религии и мистике.
Здесь, в Греции, научное познание устремилось не только к тому, чтобы ответить на вопрос, как лучше провести туннель, как правильно построить пирамиду, как разделить на равные части земельные участки, как ориентироваться в море по звездам, но и к тому, чтобы постигнуть устройство всей природы, включая природу человека, чтобы рациональным путем понять и объяснить ее во всей целостности.
Человек и природа в античной науке не противостоят друг другу. Они рассматриваются как единое живое целое, подчиняющееся одним и тем же законам рождения, жизни и смерти. Человек выступает как естественное, природное существо, как органичная часть ее. Природа же является взору мыслителя столь же живой, одухотворенной, исполненной страстями и желаниями, как и мир самого человека. Природа антропоморфна — она дышит, гневается, радуется, мыслит, ее стихии
145
враждуют и притягиваются друг к другу. Из «спермы мироздания» рождается все многообразие сущего.
Человек оказывается «мерой вещей» не только в том узком гносеологическом смысле слова, о котором идет речь у софиста Протагора, но и в самом широком мировоззренческом плане. Античная наука мерит все явления природы человеком, пытаясь понять гос с помощью тех представлений и понятий, которые были выработаны для «самопознания» в ходе всей предшествующей истории. Принцип этот впервые был осознан и последовательно проведен Сократом, тогда как его предшественники пользовались им бессознательно.
То обстоятельство, что представления о наиболее высокой ступени развития материи применялись древнегреческими мыслителями для истолкования низших ее ступеней, что для них «анатомия человека» была ключом к «анатомии природы», на мой взгляд, лучше всего объясняет феномен древнегреческой науки, достигшей столь поразительно глубоких и верных результатов с помощью одних лишь умозрительных методов.
Античная мысль не знала неуемной, всепоглощающей страсти современной науки к переделке природы, к ее преобразованию, к «господству» над ней. Она довольствовалась наблюдением и объяснением окружающего мира и приспособлением его к своим нуждам. Но было бы неверно объявлять ее на этом основании «чистой наукой», «наукой для науки», а научные занятия — освобожденными от всяческих практических соображений полезности: этакой аристократической безделушкой, досужей умственной игрой пресытившихся снобов.
Даже при самом беглом знакомстве с древнегреческой культурой нельзя не заметить отношения к научным занятиям как к величайшей ценности, за обладание которой не жалко заплатить любую цену.
Знания для древнего грека ценны не потому только, что с их помощью можно делать нужные вещи или добывать больше золота и серебра в рудниках, хотя и это принимается во внимание, знания ценны прежде всего как орудие изменения духовного мира человека, как средство его совершенствования, расширения границ его видения. Знания, по убеждению греков, могут сами по себе сделать человека добродетельнее, сильнее. Знанию «свойственно управлять человеком».
И как тут снова не вспомнить Сократа! Сравнивая*
146
золото со знаниями, он отдает предпочтение последним:
«Нет, существует лишь одна правильная монета — разумение, и лишь в обмен на нее должно все отдавать: лишь в этом случае будет неподдельно и мужество, ш воздержанность, и справедливость: одним словом, подлинная доблесть сопряжена с разумом, все равно, сопутствуют ли ей наслаждения, страхи и все иное тому подобное или «е сопутствуют» *.
Благодаря знаниям человек становится выше другого не положением, богатством или родовитостью, не властью, а именно как человек, как личность. И это превосходство быстро обнаруживается в спорах, тяжбах, диспутах и дарует обладателю знаний уважение и почет сограждан, а следствием этого может быть и богатство, и высокое общественное положение.
Такое отношение к знаниям и научным исследованиям, разумеется, не сразу возобладало в Древней Греции, и еще во времена Сократа, как мы видели, антиинтеллектуализм аристофановских «Облаков» находил сочувствие и поддержку в толпе.
Но семена мудрости, посеянные первыми древнегреческими философами, давали все же богатые всходы, формируя и воспитывая в определенном направлении общественное сознание эллинов. Полководцы, государственные деятели, ораторы, даже купцы идут на выучку к философам и не жалеют времени, затраченного на овладение их учениями.
Когда сицилийский тиран Дионисий попал в беду и у него спросили, что дала ему мудрость Платона, он ответил: «Неужели тебе кажется, что я ничего не взял от Платона, если так спокойно переношу превратность судьбы?»1 2 3 * Александр Македонский высказался насчет ценности философии еще более определенно: «Я чту
Аристотеля наравне со своим отцом, так как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю обязан всем, что дает ей цену»8.
Ставя вопрос о ценности, о полезности, о практической приложимости научных исследований, мы тем самым пытаемся понять не только, изучает наука, но
1 Платон. Избранные диалоги. М., 1965, с. 342.
2См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. 1. М., 1961, с. 339.
3 См.: Розенбергер Ф. История физики, ч. I. М.—Л., 1934,
с. 43.
147
и для чего она это изучает. Во имя каких социальных потребностей, во имя какой конечной цели производятся в науке новые знания? Служат ли они главным образом и преимущественно производству вещей или прежде всего «производству» духовного мира самого человека?
Конечно, оба эти вида производства не противостоят абсолютно, они опосредуют друг друга. Конечно, на-, учные знания потребляются и для той, и для другой цели, но в разной мере в разные исторические периоды. В какой именно? Вот это и важно выяснить.
Наука в первый период своего развития ориентируется преимущественно на человека. Не в том смысле, что она ставит человека в центр мироздания, и не в том, что делает его исключительным объектом своего внимания. Наука ориентируется на человека, так как она ставит своей главной целью и задачей уяснить человеку «Логос» природы, частью которой он сам является, раздвинуть границы его мировоззрения, вооружить его знаниями о строении мира, о связи космоса и микрокосма, научить его гибкости понятий, адекватно отражающих диалектическую текучесть и изменчивость действительных процессов.
Объяснительная, мировоззренческая функция научной деятельности является главенствующей. Поэтому философия занимает место царицы наук. Механика, астрономия, прикладная геометрия хотя и служат весьма активно нуждам материальной практики, но не определяют лица всей науки.
Этот период личностной ориентации науки продолжается вплоть до первой индустриальной революции. Разумеется, наука не остается без изменений в столь длительное время, охватывающее античность, средневековье, Возрождение.
Эти изменения имеют место как в самой науке, так и в социальных условиях ее развития. В средневековье церковь делает науку своей служанкой, умозрительные методы вырождаются в схоластику. Затем возникает естествознание, пробуждается интерес к точным и экспериментальным методам. Но, однако, долгое время центральной функцией науки все еще остается мировоззренческая, ее основной целью — выработка общего представления о мире.
Макс Борн, развивая интересную мысль о «стилях» в науке, господствующих на протяжении длительных периодов истории, полагал, что и для античной науки,
148
и для последующей вплоть до Галилея, Ньютона, Лагранжа характерен единый «склад мысли». «Для греческих философов причина движения — сила, вызывающая движение, была неотделима от живого существа — человека или бога, прилагающего усилие. Более того, идея совершенства использовалась ими как база для объяснения фактов... Эра христианства принесла новые идеи и, безусловно, представляет собой особый период со своим собственным стилем; однако в области науки она апеллировала к древним и сохраняла антропоцентрический, субъективистский склад мысли. Идея совершенства воплощалась тогда в боге... Античный стиль исчез не сразу» Г
Мировоззренческая ориентация науки отлилась в определенную форму ее отношения с непосредственным производством материальных благ: теоретическая деятельность человека протекала вне прочной и систематической связи с материальным производством, над ним, занятия наукой носили элитарный характер. Классовое расслоение общества усугубило пропасть между умственным и физическим трудом, между теоретической деятельностью, которая боится запятнать себя «низменными» интересами, остается чисто умозрительной, и производственной практикой человечества, базирующейся на примитивном, ремесленном опыте и эмпирических знаниях и с подозрением относящейся к «бесплодным спекуляциям».
Новая эпоха в развитии научной деятельности начинается с того времени, когда окрепнувшее естествознание обнаружило, что может активно и определяюще влиять на развитие машинной техники и материального производства. Это повлекло за собой далеко идущие изменения во всем строе науки, характере ее взаимосвязей с другими социальными явлениями.
Из дочери мифологии и искусства, из «служанки» мировоззрения и богословия наука превратилась в служанку материального производства. Основной, доминирующей, хотя и не всегда осознанной, целью ее деятельности стало: постоянное и систематическое обновление, модернизация технической базы материального производства, разработка общетеоретических и социальных знаний для создания технических инноваций.
Это обстоятельство, то есть техническая ориентация 11 Б о рн Макс. Физика в жизни моего поколения. М., 1963, с. 228.
149
науки, приобрело решающее значение, оно как лейтмотив пронизало полифонический строй науки, придало ей единонаправленное в своем многообразии звучание.
Прежде всего соответственным образом изменилась структура науки. Появилась необходимость в «технических науках», прямо и непосредственно обслуживающих нужды материального производства, а со временем оформилось деление на фундаментальные науки, прикладные науки, опытно-конструкторские разработки.
Технизация науки шла в ногу с ее экономизацией. Рождавшееся буржуазное общество со своим торгаше- ски-меркантильным, утилитарным духом обнаружило в технизированной науке глубоко родственные черты. Общество, которое центром притяжения всех своих интересов сделало вещь, товар, а человека — лишь средством увеличения этого богатства, такое общество культивировало и соответствующую науку: науку как объект эксплуатации, средство увеличения прибылей. Постепенно наука стала новой и многообещающей сферой приложения и прироста капиталовложений.
В соответствии с этим общество, естественно, поощряло и субсидировало прежде всего технические исследования, дающие быструю стоимостную отдачу, а затем те теоретические области, которые их питали, то есть комплекс физико-математических и химических наук.
Именно эти науки выдвигаются на роль авангардных, лидирующих. Философия же и гуманитарные науки теряют тот царственный престиж, которым они обладали в доиндустриальный период.
Более того, создается иллюзия (хотя и объективно обусловленная), что только «позитивные» области и исчерпывают собой науку, а философия и гуманитарные знания ненаучны, противостоят науке, враждебны ей. Характерно, что в приведенной выше структуре технизированной науки (фундаментальное звено, прикладное звено, разработки), а ею ныне широко пользуются во всех странах и экономисты, и социологи, и прогнозисты, науковеды, для философской и гуманитарной проблематики вообще нет места.
Полушутя-полусерьезно Резерфорд говаривал, что все науки можно разделить на две группы, а именно: на физику и коллекционирование марок.
Утилитарно-техницистский «дух эпохи» искушает не только естествознание, но и философию. Свергнутая с трона наук, она делает тщетные попытки подражать ли¬
150
деру: то строит свои дедукции по «геометрическому методу» (Спиноза), то обращается к индуктивному методу точных наук (Локк), то пытается распространить механический принцип на человека, истолковать его как своего рода машину (французские материалисты), то объявляет себя точной «положительной» наукой (позитивизм), то ограничивает себя логико-математическими и структуралистскими операциями (неопозитивизм).
Но если для естественных наук техническая ориентация была животворной (особенно на первых порах), то для философии ее дыхание всегда было мертвяще. К счастью, целиком философию оно никогда не охватывало. Но это было одной из причин усугубляющегося разрыва между естествознанием и философией, между науками о природе и науками о человеке и обществе.
Кроме того, наука в индустриальный период распадается на целый ряд самостоятельных, обособленных дисциплин, что также было новым явлением. Прогрессирует техническое разделение труда в науке, когда место прежних универсалов заняли узкие специалисты, всю жизнь посвящающие либо теплотехнике, либо иммунологии, либо электроиндукции.
По мере того как организм технизированной науки становился все более зрелым, в ней развивались процессы, поразительно напоминающие промышленное производство. Научный труд стал в массе своей коллективным и индустриальным. Оформилась система централизованного руководства наукой, сходная с системой руководства промышленными предприятиями. Шел процесс централизации научных учреждений в крупные исследовательские комплексы.
В самом научном познании с XVII века утвердился метод, аналогичный тому, который господствовал в механической технологии: «рассекать природу на части, а не отвлекаться». Четко организованный, безупречно «логичный», ритмично функционирующий процесс промышленного производства становится (осознанно или неосознанно) образцом для стиля научного мышления.
Техническая ориентация науки привела к поистине революционным последствиям как для техники, так и для самой науки. Техника становится «опредмеченной силой знания» (Маркс) и все больше попадает в зависимость от успехов научно-исследовательской деятельности, что находит свое выражение даже в строении технических систем. Одновременно наука в своих лиди¬
151
рующих областях и непосредственным образом в специальных технических науках выступает как потенциальная техника, что также сказывается на формах, методах и строе научного мышления.
Интересно отметить, что между исторически определенным строем мышления и строением техники, очевидно, вообще существует известное соответствие. На первом этапе развития человеческого общества мы обнаруживаем простейшие орудия ручного труда — воплощение эмпирического опыта, технику, построенную в лучшем случае на механической взаимосвязи двух-трех составляющих элементов. В трудовом процессе орудия не связывались друг с другом в некое технологическое единство. Этой эмпиричности, разорванности на единичное, на отдельное соответствовал и эмпирический, фактологический, необобщенный характер знаний о природе. Формы мышления, базирующиеся на примитивных ассоциациях, на простом соотнесении друг с другом непосредственно наблюдаемых явлений, сопутствовали элементарным взаимосвязям и в технике.
Вслед за попытками создания философских, математических, астрономических теорий мы встречаемся также с образцами довольно сложных архитектурных и технических сооружений (дворцы, водопроводы, военные механизмы вроде знаменитых оборонных сооружений Архимеда, первые автоматические устройства вроде «театра автоматов» Герона Александрийского).
Однако, как бы ни были хитроумны эти сравнительно сложные сооружения и устройства, как бы ни поражали они наше воображение, они не определяли общую техническую базу того времени. Они вспыхивали праздничным фейерверком гениальной мысли и гасли, не изменяя технологического способа производства, основывающегося на ручном труде и примитивных ремесленных орудиях.
Аналогичным образом, как мы видели, над производством и вне его развивалось и теоретическое осмысление мира.
Машинное производство внесло подлинную революцию в спящее царство технологический эмпирии. Машина сама по себе представляет уже не простую, а сложную систему, образуемую жесткой взаимосвязью большого числа технических компонентов. Она образует прочное единство деталей, функционирующих в строго заданном ритме и четко определенной последователе-
152
ности. Кроме того, каждая машина функционирует только в связи C« целым комплексом других машин и приспособлений, как часть большой технологической системы.
Этой системности в строении машинной техники соответствовал, а исторически и предшествовал, системный характер научного знания, точные методы научно- исследовательской деятельности. Само строение технической базы в результате первой индустриальной революции оказалось в высшей степени адекватным строю научного мышления, базирующегося на строго логических и математически выверенных посылках, не допускающих двузначной трактовки.
Если ремесленный инструмент являлся, по существу, воплощенным эмпирическим опытом, то машина представляла уже воплощенную естественнонаучную теорию и рационально осмысленный опыт. Ее функционирование вызывает представление об ожившей фигуре формально-логического умозаключения либо о воплощенной и функционирующей математической формуле.
Нацеленность науки на готовый практический результат, конкретное техническое воплощение порождают специфический стиль научных публикаций, где царствует бесстрастная и «беспощадная» логика силлогизмов, математических формул, графиков и чертежей. В результате страницы многих научных статей и книг живо напоминают до блеска вычищенные, отполированные, строго стандартные (только что с конвейера) технические агрегаты — царство воплощенного формализма безукоризненно точного мышления.
Ход творческих поисков — раздумий, неудач, ошибок, как правило, остается за рамками такого изложения; здесь важен только «голый» результат. Здесь важно разложить мысли по полочкам: во-первых, во-вторых, в-третьих, выразить их предельно логично и экономично, но педантично обстоятельно, максимально осторожно, без грана преувеличений, без искры воображения и фантазии. (Воображение и фантазия нужны в самом процессе научного творчества, но не при изложении.)
Здесь важно, чтобы мысль последовательно разворачивалась по строгим законам формальной логики, не пропуская ни одной ступеньки в цепочках силлогизмов. Уяснив себе отправной пункт построений, их ход, направленность, читатель дальше уже может следовать по
153
этой лестнице, как по эскалатору. Такой стиль держит читателя в «ежовых рукавицах»:
Чтоб тихо он, без лишних дум И без цустого нетерпенья,
Всползал по лестнице мышленья...1
Кажется, что читателями таких публикаций должны быть не люди, а машины. И это отнюдь не мистификация. Это и в самом деле похоже на правду, потому что в конечном счете «адресатами» таких публикаций являются технические приложения науки, а люди (ученые-прикладники, инженеры и техники) выступают как посредствующее, передаточное звено, как средство, которым техника пользуется для своего оживления, функционирования и развития.
Тут снова вспоминается, снова звучит в ушах ядовито-иронический голос гётевского Мефистофеля:
Так фабрикуют мысли. С этим можно Сравнить хоть ткацкий, например, станок.
В нем управленье нитью сложно:
То вниз, то вверх снует челнок,
Незримо нити в ткань сольются;
Один толчок — сто петель вьются2.
Так техническая ориентация науки сказывается на стиле научного мышления. Так «мертвый труд» не только питается, подобно вампиру, соками живого труда, но и «омертвляет» его как в самом процессе непосредственной предметной деятельности (включение рабочего в техническую систему в качестве наделенного сознанием придатка, выхолащивание его труда), так и в науке (утилизация, технизация и обезличивание исследовательской деятельности). Живой процесс научной деятельности угасает в своих зафиксированных и опредме- ченных результатах, в то время как оживший фетиш техники получает далеко не призрачную власть над человеком науки и человеком труда.
В обществе, как известно, не существует резкой границы между исторически отживающим и нарождающимся. В то время как первый чувствует себя полным силы и энергии, уже стучится в дверь истории его преемник. Как сказано в Библии: «Смотри, ноги тех, кто тебя вынесет, уже стоят за дверьми».
1 Гёте. Фауст. Перевод Н. А. Холодковского. М., 1962, с. 109.
2 Там же, с. 110.
154
В рамках отживающей научной системы зарождается, усиливается, формируется принципиально новая система — то, что можно назвать «наукой будущего». Переходный период от одной системы к другой, который мы ныне переживаем, характеризуется (как всякий переходный период) обостренной противоречивостью развития, сложным переплетением противоположных черт, направлений, тенденций. Новое и старое не стоят у барьеров, как дуэлянты, они так крепко и тесно схватились, что не сразу поймешь, объятия ли это, борьба или просто сложность роста единого организма. Картина пестра, расплывчата, истинное значение ее еще вырисовывается на поверхности.
Однако лейтмотив технической ориентации науки, который отчетливо звучал на протяжении трех столетий, стал перебиваться сначала робкими, тихими, едва слышными звуками совсем иной мелодии. Эта мелодия с каждым годом крепла, набирала тональность и высоту звучания.
В ее лейтмотиве торжествующе зазвучала новая тема, тема человека, но не человека, механически отторгнутого и противопоставленного «мертвой природе». Это тема человека в гармонии с природой, тема человека как высшего порождения и выражения природы, как квинтэссенция ее.
И не звучат ли в этой мелодии знакомые нотки, вновь возвращающие нас к античному строю мысли?
Вопрос заслуживает того, чтобы его проанализировать, ибо, прояснив хоть немного черты грядущей науки, мы полнее сможем оценить и ее первые младенческие шаги.
Науку будущего провидел уже Гёте, когда писал, что «мы ничего не знаем о мире вне его отношения к человеку» 1, что «человек знает себя лишь постольку, поскольку он знает мир, который он постигает только в самом себе и себя только в нем»2. К такой, по существу, науке вслед за античными мыслителями устремилась в спекулятивном порыве «высокогорная» мысль немецкой классической философии.
В то время когда разрыв природоведения и человековедения дошел, казалось, до предела возможного, когда «технизация» науки шла по своей восходящей ли-
1 Гёте. Собр. соч., т. 10. М., 1937, с. 726.
2 Гёте. Избранные философские произведения. М., 1964,с. 276.
155
нии, когда еще только рождались первые позитивистские теории как философское оправдание технической ориентации науки, два молодых человека в противоположных концах Европы буквально одновременно (не только в один и тот же 1844 год, но и в те же летние месяцы того же года) лихорадочно исписывали страницы, на которых сквозь ростки блистательных прозрений брезжили контуры новой науки.
Этими людьми были 32-летний Герцен и 26-летний Маркс.
«Философия без естествоведения так же невозможна, как естествоведение без философии», — писал Герцен, развивая мысль о необходимости единства всей науки («наука одна: двух наук нет, как нет двух вселенных»), так как «человеческий мир» не отделен каменной стеной от мира природы, так как «все стремления и усилия природы завершаются человеком»
Молодой Маркс еще более последовательно провел идею о сущностном единстве наук. Он показал, что отчуждение философии (а философия в то время говорила от имени всего обществоведения, человековедения) от естествознания — явление временное, преходящее, хотя и исторически неизбежное. Естествознание было вынуждено «довершить обесчеловечивание человеческих отношений», но оно же, ворвавшись в человеческую жизнь посредством промышленности, преобразовало ее и тем самым «подготовило человеческую эмансипацию».
Маркс видит в этом движущееся противоречие, которое должно неизбежно разрешиться тем, что естествознание «впоследствии включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука»1 2.
В те времена, когда писались эти строки, они могли показаться лишь следствием романтической увлеченности авторов, сейчас они читаются нами как констатация реальных тенденций современной научно-технической революции. В ходе ее появляется все больше признаков начавшегося фронтального поворота науки в сторону человека — признаков новой целевой ориентации производимых в науке знаний.
В современной науке следует, на мой взгляд, вычле¬
1 Герцен А. И. Письма об изучении природы. М., 1946, с. 20, 29, 67, 68.
2 М а р к с К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 595—
596.
156
нять две стороны: ту науку, непосредственной целью которой является обновление техники, технологии, вещного мира богатства, и ту, которая умножает и обновляет интеллектуальное богатство человека, его творческие способности. Это членение отнюдь не равнозначно традиционному делению на естественные и гуманитарные области знания — ведь и естествознание оказывает могучее воздействие на духовный мир личности.
Говоря о науке, мы обычно имеем в виду ее первую сторону. Когда читаешь в газетах и журналах о «грандиозных», «захватывающих воображение» и т. д. успехах современной науки, то речь идет, конечно, об автоматизации и кибернетизации, об атомной энергетике, космических полетах и синтетических материалах, то есть о предметном воплощении науки.
Вторая сторона — личностное воплощение — остается словно за кулисами, и о ней не всегда даже вспоминают. Но роль этого «незримого агента» в последние десятилетия столь стремительно возрастает, что возникает вопрос: не меняются ли «кулисы» и «авансцена» местами? Не становится ли суфлер и дублер режиссером и главным героем всего исторического действия научно-технической революции?
Я думаю, что есть все основания ответить на эти вопросы утвердительно. Я думаю, что в науке, которая рождается и грядет, которая, подобно лирическому герою Александра Блока, устремлена к тому, чтобы «безличное — очеловечить, несбывшееся — воплотить» — человеческая, личностная ориентация явится определяющей чертой.
И, принимая это во внимание, я задаюсь вопросом: не стоит ли вся наука перед необходимостью перестроить себя в связи с целевой установкой на развитие человеческой личности? Перестроить свою структуру, свои связи с другими социальными институтами и при этом преобразовать сам стиль научного мышления, формы изложения получаемых данных?
Что означает личностная ориентация науки? Она отнюдь не означает, конечно, что наука перестает быть условием развития техники и материального производства. Напротив, ее народнохозяйственная, экономическая роль неизмеримо возрастает.
Если «технизированная» наука в общем и целом шла вслед за развитием техники и материального производства, то рождающаяся наука становится ведущей силой
157
развития материального производства, обгоняет его в своем движении. Для первой типична ситуация, когда, например, необходимость совершенствования паровых двигателей стимулировала в середине прошлого века теоретические работы по термодинамике. Для второй — положение, жогда целые отрасли промышленности: ‘радиоэлектроника, атомная энергетика, производство автоматики, ЭВМ, полимеров, гербицидов, медицинских препаратов —• возникают вслед за соответствующими направлениями теоретических исследований. И именно эти отрасли, представляющие «онаученное производство», постэкспериментальную базу науки, развиваются сейчас наиболее быстрыми темпами.
Иначе говоря, в наше время уже не столько наука ориентируется на технику, сколько техника — на науку. Развитие материального производства перестает быть самоцелью при социализме с социально-политической точки зрения. Оно перестает быть самоцелью и по отношению к науке на новом этапе ее развития.
Что же понимать под наукой, ориентированной на человека?
Эта сфера общественной деятельности, производящая знания для того, чтобы, во-первых, обновлять мир духовного богатства самого человека, развивать личность, ее интеллектуальные, творческие способности, расширять кругозор человека; чтобы, во-вторых, преобразовать материальные условия его существования в достойные человека, в «очеловеченную природу»; чтобы, в-третьих, совершенствовать собственную биологическую и социальную природу человека.
Во всех основных чертах нарождающаяся наука не есть простое продолжение и развитие принципов «технизированной» науки, а есть их отрицание (диалектическое) на основе прямо противоположных принципов.
Прежде всего снова коренным образом меняется системно-структурный организм науки. «Технизированная» наука сформировалась как совокупность различных «дисциплин», имеющих «свой» более или менее четко отграниченный предмет исследования. Еще несколько лет назад речь велась по традиции о «содружестве наук», «федерации наук», «конгломерате наук». Ныне такие понятия уже не представляются адекватными действительности. Формируется новое представление о едином, целостном организме всей науки — не о системе наук, а о системе Науки (или континууме науки), лишенной
158
дисциплинарных перегородок, структурно расчлененной по проблемному принципу. Именно этим обстоятельством вызваны к жизни направления исследований, предметом которых является функционирование всей науки в целом — науковедение и социология науки.
Мы окажемся в положении людей, повернувшихся лицом к прошлому, если будем считать, что дифференциация по-прежнему, как и 50—100 лет назад, определяет собой структурные изменения в науке. Она ныне, так сказать, царствует, но уже не правит. Подлинной распорядительницей отношений между науками все более явно становится интеграция. Дробление науки идет ускоряющимися темпами, но характер его уже иной: каждая вновь отпочковавшаяся область «перекидывает мостики» между двумя или многими дисциплинами, не имевшими до этого прямых контактов. Так сама дифференциация становится путем к интеграции наук.
В этом же направлении действуют методологические исследования — философия, математика, кибернетика, общая теория систем, теория информации, математическая логика, логика и психология науки, науковедение. Эти направления выполняют синтезирующую функцию.
Если конфедерация наук превращается на наших глазах в единую науку, структурно организованную по проблемному принципу, если господствующей становится тенденция к интеграции, то возникает естественный вопрос: имеется ли стержневая ось, к которой направлены центростремительные силы в бурно растущем организме науки? Кристаллизуется ли в насыщенном научными поисками «растворе» науки центральная проблема?
Исследователи, которые ставят вопрос подобным образом, не сомневаются в том, что центральная проблема науки складывается как проблема человека. Почему? Развитая структура науки должна, очевидно, отражать структуру уровней организации материи в генетической и логической взаимосвязи. Их можно изобразить в следующей последовательности: субатомный — атомный — молекулярный — геологический — биологический — социальный. Разумная жизнь является воплощением эволюции материи. Ноогенез (от слова «ноо» — разум) — венец и средоточие космогенеза. Более высокий уровень организации материи содержит в себе в «снятом виде» предшествующие. Он является ключом к постижению низших уровней.
159
По мнению ленинградского психолога Б. Г. Ананьева, проблема человека превращается «в общую проблему всей науки в целом, всех ее разделов, включая точные и технические науки» \ Мысль верная, ибо в человеке объединены механические, физические, химические, биологические и социальные закономерности, ибо в нем объединены природа и история, ибо, наконец, техника развивается как «очеловеченная природа» путем моделирования трудовых функций работающего человека.
Не является ли такой «антропоцентризм» в рождающейся науке полной противоположностью «техноцентризму» традиционной науки?
Начинающаяся интеграция естественных и общественных наук вольет новую кровь в оба «полюса» исследований. Живительный ток от естествознания к общественным наукам, о котором говорил еще Энгельс, дополнится живительным током от обществоведения и философии к естествознанию. Познание природы не может быть целостным, не может быть достаточно глубоким и адекватным, если из нее устраняется и ей противопоставляется существеннейшее качество развитой материи, если «мертвая материя» анализируется сама по себе, а не как сфера «преджизни», «предразума»:
Современная физика, для которой объект исследования превратился из статичного и механически динамичного в диалектически подвижный, неуловимо текучий — изменчивый, сложно организованный, вероятностный, «живой», идет к тому, чтобы применять к его изучению методы исследования биологических и социальных систем. Ныне уже не кажется такой экстравагантной мысль Тейяра де Шардена, высказанная им в предвоенные годы, что истинная физика та, которая когда-либо сумеет включить в цельное представление о мире тотального человека — человека в единстве его телесной и духовной организации1 2.
Такая позиция диаметрально противоположна убеждению, например, основоположника позитивизма Огюста Конта, ставшего символом веры для многих естествоиспытателей: плодотворны в научном отношении только те попытки, которые идут от природы к человеку, а не от человека к природе.
1 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1969,
с. 6.
2 Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1965, с. 37.
160
Интегральный характер приобретают не только внутренние, но и внешние связи рождающейся науки. Если «технизированная» наука, как показал Маркс в «Капитале», отчуждена от самих непосредственных производителей, то ныне мы наблюдаем обратную тенденцию: научные знания во все большей степени воплощаются не только в предметных, но и в личных элементах производительных сил. Интеллектуальное развитие совокупной рабочей силы общества выдвигается на первый план как фактор, во многом определяющий технологический, экономический и социальный прогресс общества. Обнаруживается, что даже с точки зрения экономической эффективности «человеческое воплощение» науки более выигрышно, чем ее техническое воплощение. Известно не совсем строгое, но в общем верное замечание американского экономиста Дж. Гэлбрейта, что доллар, затраченный на повышение интеллектуального уровня людей, как правило, увеличивает национальный доход больше, чем доллар, затраченный непосредственно на железные дороги, плотины, станки и другие материальные ценности.
Элитарные усилия одних только ученых и конструкторов новой техники в наше время уже не могут сдвинуть с места неимоверно разросшийся, тяжеловесный состав науки и ее воплощений. К нему должна подключаться интеллектуальная энергия инженеров, техников, организаторов производства и, главное, все более широких слоев рабочих и служащих.'.
Важнейшим показателем здоровья и силы современной экономики является уже не вооруженность производства техникой сама по себе, а вооруженность знаниями — уровнем применяемых на производстве знаний: естественнонаучных, технических, экономических, организационных, социологических и эстетических.
Эффективность самой современной, по последнему слову науки созданной техники может оказаться фиктивной там, где уровень производственных знаний недостаточен. Требование научно-технической революции заключаемся в том, что этот уровень должен опережать уровень технической вооруженности производства.
Уже одно это обстоятельство революционизирует наши представления о социальной роли распространения знаний, популяризации науки. Распространение знаний становится одной из самых крупных сфер общественной деятельности. Она занимает по числу занятых третье
161
место после промышленности и сельского хозяйства, а по темпам роста уверенно вышла на первое место.
Мы много говорим и пишем о внедрении науки в производство. Это действительно актуальнейшая задача. Но разве не заслуживает столь же большого внимания проблема «внедрения» научных знаний в самого человека?
Данные и выводы, получаемые теоретическими исследованиями, — это первичный, так сказать, «сырой» продукт науки. Сами по себе в том виде, в каком они получены, эти знания столь же мало годятся для воплощения в технике, как и для воплощения в человеке, В свое время наука оказалась вынужденной «достроить» специальные звенья — прикладные исследования и разработки, — чтобы доводить свою продукцию до промышленного потребления. Ныне наука нуждается в соответствующей обработке знаний для личностного по-, требления. Такая обработка из удела дилетантского любительства должна стать делом самой науки, одним из важнейших звеньев исследовательской деятельности.
Кровную, неотложную потребность в этом испытывает прежде всего школа. Как сделать гигантский массив знаний и культурных ценностей, накопленных человеческой цивилизацией, достоянием и интеллектуальным оружием каждой личности? Как сделать материал математики, физики, химии наиболее удобным для усвоения? Какова должна. 0ыть структура этих предметов? С чего начинать их изучение? Должна ли последовательность учебного материала воспроизводить историческую последовательность возникновения и развития знаний? Или учащиеся должны сразу же получать представление, пока элементарное, о современном их уровне? На чем следует делать упор: на знаниях или на методах их получения? Если на методах, то как в связи с этим перестраивать учебные курсы и учебники?
Аналогичные проблемы возникают и в других областях распространения знаний: в высшей школе, системе политпросвещения, в деятельности информационных центров и средств массовой коммуникации.
Далее. Технически ориентированная наука сформировалась в резком обособлении от других социальных институтов. Разорванность, противоречивость, отчужденный характер отношений классового общества накладывал неизгладимую печать на науку, которая являлась
162
«греховным детищем отчуждения», плодом общественного разделения труда, проявляющегося в различных формах социальных противоположностей. Ее возникновение и развитие основывалось прежде всего на противоположности умственного и физического труда, которая модифицировалась в дуализме практики и теории, целеполагания и реализации цели, творческих и нетворческих функций, производительного и непроизводительного труда, материального и духовного производства. Наука развивалась в мире отчуждения только как антипод, как противоположный полюс всему остальному миру, выступающему в качестве ненаучного, антинаучного, чуждого науке.
На крутом вираже современной научно-технической революции картина резко меняется. Не только материальное производство, но все без исключения отрасли общественной деятельности начинают подпадать под воздействие науки, перестраиваться в соответствии с ее требованиями. Промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания, транспорт, коммуникации, экономика, политика, организационная и социальная структура, сфера образования, система информации, принципы управления, планирования и финансирования во все растущей степени пронизываются наукой, испытывают ее влияние. Начинается эра сциентизации общества, то есть тотальной экспансии науки во все поры социального организма. Наука исполнена надеждой преобразовать мир по образу своему и подобию, сколько бы веков для этого ни потребовалось.
И надо сказать, что для этого есть все реальные основания, ибо уже при социализме создаются условия для того, чтобы вся политика, все управление обществом велось на строго научной основе, ибо коммунизм — это в первую очередь научно организованное и научно управляемое общество.
Науковеды пытаются прогнозировать, как велико будет число занятых в науке через 30 и более лет. Если экстраполировать современные темпы роста науки, то очень скоро мы, как и предсказывает наукометрия, исчерпаем все ресурсы... для экстенсивного роста. Так, ныне в науке и научном обслуживании в СССР занято более 4 миллионов человек. С 1950 по 1960 год число занятых в этой сфере увеличилось более чем в 2,5 раза, а в следующем десятилетии — несколько менее чем в 2 раза. Допустим, что в будущем этот темп роста
163
(удвоение за 10 лет) сохранится. Тогда окажется, что к концу века в сфере науки и научном обслуживании будет занято 24 миллиона человек, а между 30-ми и 40-ми годами следующего века прогнозируемое число превысит численность всего населения нашей страны.
Ясно, что такая односторонняя экстраполяция «не работает», ясно, что темп роста науки должен замедлиться. Он замедляется уже и сейчас по вполне понятной причине — в связи с тем, что наука переходит с экстенсивного на интенсивный путь своего развития, который также является характерным признаком рождающегося феномена.
Дальнейшее развитие науки будет осуществляться не столько за счет прироста институтов и расширения их контингента (хотя и этот рост будет иметь место), сколько за счет совершенствования принципов организации и управлении в науке, за счет отмеченного уже выше процесса сциентизации всех отраслей общественного производства.
Я думаю, что абсурдна сама по себе задача прогнозировать число занятых в науке, скажем, на первые десятилетия XXI века. Абсурдна потому, что сфера научной деятельности уже к тому времени будет иметь весьма и весьма «размытые» границы. Мы уже не сможем противопоставить человека, занятого в исследовательской лаборатории, человеку, занятому в материальном производстве, как научного работника ненаучному работнику. Труд инженера, техника, организатора производства, врача, педагога (если эти понятия еще сохранятся), вооруженный кибернетической техникой, будет заключаться преимущественно в поиске творческих решений на базе самых глубоких научных знаний, что сделает его разновидностью научно-исследовательской деятельности.
В этом смысле в науке когда-нибудь будет занято действительно большинство трудоспособного населения Земли, она станет доминирующей сферой производительной деятельности общества.
Если на ученом в традиционном смысле слова лежала и лежит печать профессиональной ограниченности, то положение будущего «ученого» иное. Наука, которая проникнет во все сферы производительной общественной деятельности и включит их в себя, перестанет быть формой особой деятельности, сферой приложения особых, профессиональных способностей. Если мы хотим, чтобы наука предстала как искусство, как то, что дает
цельность, отмечал еще Гёте, то «не следовало бы исключить из участия в научной деятельности ни одной человеческой способности». Он полагал, что в науке должны находить применение: дар прозрения, правильное наблюдение действительности, математическая глубина, физическая точность, глубина разума, острота рассудка, подвижная, рвущаяся вперед фантазия, радостная любовь ко всему чувственному К
Рождающаяся наука станет со временем сферой приложения универсальных способностей индивидов. Строго говоря, это будет уже не наука в собственном смысле слова, она ассимилируется обществом и, следовательно, растворится в нем.
Предсказанное классиками марксизма сближение философии и естествознания в последние десятилетия становится все более явным. Это сближение обусловлено встречными тенденциями как в философии, так и в естествознании.
Ни идеалистическая философия, достигшая венца своего развития в системе Гегеля, ни метафизический материализм французских просветителей не смогли проложить надежных путей к сближению с естествознанием. Требованиям, выдвигаемым стремительным развитием науки, не в силах удовлетворить и позитивизм, который плетется в хвосте естествознания и лишь интерпретирует найденную и развитую ими методологию, вместо того чтобы дополнять ее качественно иными методами познания.
Надежная платформа для союза с естественными науками была создана революционным переворотом в философии, совершенным Марксом и Энгельсом.
Почти все прежние философы, на каких бы гносеологических позициях они ни стояли, претендовали на создание всеобъемлющих и окончательных доктрин истолкования мира, которые должны были объяснить все сущее раз и навсегда. А отсюда посягательство философии на королевский трон в науке, на диктат в отношении частных дисциплин, которым предписывалось послушно сообразовывать свои исследования с общими философскими постулатами, в которых сами естественные науки не чувствовали никакой нужды.
1 См.: Гёте. Избранные философские произведения, с. 149.
165
Одни из таких философских доктрин начисто отрицали другие и, в свою очередь, подвергались отрицанию, потому что абсолютные догматы идеального конструирования мира никак не могли угнаться за действительностью и устаревали, прежде чем появлялись на свет.
Марксистская философия отбросила пустые претензии на создание незыблемой, закостенелой системы миропонимания. Человечество обрело философию, в которой отразился не серый, ограниченный слепок с действительности, а само развитие и изменение ее в пространстве и времени.
С марксизмом человечество обрело философию, которая впитала в себя также всю многовековую историю мучения мысли в поисках все более полного постижения диалектики мироздания.
Марксизм произвел революционный переворот в философии не только в содержательном смысле, но и в смысле ее ориентации, целей и задач. Марксизм показал, что то время, когда естествознание было неразвитым и философия могла витать над науками, поучая их, но не опираясь на их результаты, безвозвратно прошло. В истолковании и объяснении природных процессов философия должна уступить место точным наукам, а в истолковании общественных процессов — научному коммунизму и общественным наукам, базирующимся на принципах диалектического и исторического материализма.
Философия, таким образом, «растворяется» в естествознании и обществоведении. Но растворяется лишь до известных пределов, за которыми вырисовывается «терра инкогнита», на которую естественные науки претендовать не могут.
За философией, по выражению Энгельса, остается «царство чистой мысли», то есть «учение о законах самого процесса мышления, логика и диалектика»1. Философия наконец обретает свой специфический предмет, свои особые цели и задачи.
Значит ли это, что философия перестает быть наукой об отношении человека к миру, наукой о наиболее общих законах природы, общества и человеческого мышления? Нет, не значит. Ведь в «законах самого процесса мышления» отражаются и выражаются в «чистой форме» законы природы и общества, ведь диалектика
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 316.
166
мысли есть концентрированное выражение диалектики природы.
Из этого факта исходит глубокая ленинская идея о единстве и даже тождестве диалектики, логики и теории познания. Диалектические законы одни и те же и для природы, и для общества, и для процесса познания.
Каков же путь изучения диалектики мышления? Очевидно, нужно прежде всего осмыслить под определенным углом зрения и обобщить весь накопленный человечеством опыт в сфере духовного производства. Это тот путь, который В. И. Ленин определил в следующих емких словах: «Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники» 1.
В другом месте Ленин возвращается к этой мысли и несколько конкретизирует ее, намечая «те области знания, из которых должна сложиться теория познания и диалектика». Это «история познания вообще», «вся область знания», «история философии», следовательно, история отдельных наук, история умственного развития ребенка, история умственного развития животных, история языка, а также психология, физиология органов чувств. И тут же Ленин замечает, что «греческая философия наметила все сии моменты»2.
Из этого следует, что то поле, с которого марксистская философия призвана собирать урожай своих выводов и свершений, отнюдь не сужается. Напротив, оно расширяется, поскольку возрастает накопленный наукой объем мыслительного опыта, новых приемов и методов постижения действительности в самых разных областях познания.
Но это уже не «странная» наука «обо всем понемногу». Ее задача не просто в том, чтобы знать о мире в целом, опираясь на достижения других наук. Она призвана использовать достижения всего необозримого массива человеческого знания и на этой основе совершенствовать методы и приемы диалектического мышления на самом высоком уровне теоретического обобщения.
Таким образом, задача целостного отражения мира в марксистской философии отнюдь не исчезает. Мировоззренческая, а вместе с ней и прогнозирующая функ-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 131.
2 Там же, с. 314.
167
ции не отрицаются, а лишь теряют свое автономное самодовлеющее значение. Обе они воспроизводятся в снятом виде, то есть на новой основе — в методологической функции философии.
Понятно, что значение и престиж философии в связи с этим неизмеримо возрастают. Возрастают, так как философия находит наконец-то свое истинное место среди наук, не подменяя их и не царствуя над ними, а выполняя четко определенную и жизненно необходимую для успешного развития современного научного познания роль — роль науки, ведущей исследования на методологическом уровне.
Глубокие изменения произошли также и в естествознании, побудившие его обратиться лицом к философии.
По мере того как естественные науки из эмпирических становились теоретическими, они испытывали все большую необходимость в философии. Чем большего совершенства достигают науки в своем развитии, чем более фундаментальными законами они овладевают, тем большее значение приобретает в исследовательской деятельности аппарат абстрактно-теоретического мышления, формируемый диалектико-материалистической философией.
Одно из самых существенных отличий науки индустриального периода от науки античной и средневековой заключалось в том, что она выступила как экспериментальная в противоположность умозрительной науке. Тогда считалось, что обобщения должны лишь следовать за данными эксперимента и опыта, что не должно быть в теории ничего не исходящего из опытных фактов. Крушение этих представлений началось с работ Эйнштейна, Бора, Дирака, Шрёдингера.
Умозрительные методы мышления, в борьбе с которыми классическая современная физика рождалась и крепла (помните ньютоновское: «Физика, бойся метафизики!» и «Гипотез же я не измышляю»), вновь, как и во времена античности, оказались в самом ее сердце! Подымаясь до высоких уровней теоретического синтеза, физика вступает в область «чистого мышления», которую обслуживают с формальной стороны математика, а с содержательной — философия.
Незаметно для себя физика оказалась в кругу исконно философских проблем и философской терминологии: пространство и время, причинность и вероятность, дополнительность и неопределенность, прерывность и
168
структурность. Естествознание в лице прежде всего физики, кибернетики, математики конструирует ныне теоретические построения высокой и все растущей степени общности, в силу чего они приобретают мировоззренческий и, я бы даже сказал, натурфилософский характер.
Физика так тесно переплелась с философией, что сейчас в мире трудно найти такого крупного физика-теоретика, который не выступал бы хоть иногда в качестве философа. Для характеристики позиции крупных представителей современного естествознания по отношению к философии любопытно сделанное признание Макса Борна: «Любой современный ученый-естественник, особенно каждый физик-теоретик, глубоко убежден, что его работа теснейшим образом переплетается с философией и что без серьезного знания философской литературы это будет работа впустую. Этой идеей я руководствовался сам, старался вдохнуть ее в своих учеников, чтобы сделать их не какими-то приверженцами традиционной школы, а специалистами, способными к критике» К
И в физике, а вслед за ней и в других естественных науках крепнет убеждение, что поиски создания новых фундаментальных теорий, охватывающих еще более широкий класс явлений, упираются в поиск новых форм мышления, новых понятий и способов движения мысли, который ведет философия, обобщая достижения всей предшествующей науки.
Мы приходим таким образом к выводу, что в будущей науке философия призвана играть все более значительную роль. Начавшаяся смена ориентации в науке, в результате которой совершенствование техники и технологии станет задачей подчиненной, а на первый план выдвинется задача совершенствования биологической и социальной природы самого человека, регулирование общественных отношений, создание материальных и духовных условий для гармоничного развития личности,— эта смена ориентации предъявит особенно высокие требования к философии и к комплексу гуманитарных наук.
Мы видим, что по целому ряду вырисовывающихся уже сейчас черт (человеческая ориентация, высокий уровень обобщения, роль философии и методологии, интеграция) новый этап развития науки напоминает науку античного периода. Наука, как и все сущее, развивается
'Борн Макс. Размышления. «Литературная газета», 1970, № 19.
169
по диалектическому закону отрицания, она движется по спирали: завершая виток исторического развития, возвращается к его началу, но на неизмеримо более высоком уровне.
И тот факт, что начинающийся ныне этап развития науки предстает в качестве антипода предшествующему периоду, побуждает нас с особым интересом взглянуть на античную мысль, которая ведь тоже антипод технизированной науки, хотя и с другого исторического конца.
Не помогут ли и здесь истоки лучше понять горизонты?
Принципиальной важности факт заключается и в том, что перестройка социального феномена науки и переустройство мира на принципах социализма и коммунизма идут «в унисон». Оба эти процесса роднит нечто общее, что выявляется в отношении к человеку. Если социализм и коммунизм делают из человека не средство, а самоцель, ставят его в центр всей жизнедеятельности общества, если основной целевой ориентацией материального производства становится не производство ради прибыли, а производство ради удовлетворения потребностей человека, — то и в науке, как мы видели, происходит соответствующая переориентация.
Развитое коммунистическое общество — это социально, национально и хозяйственно интегрированный организм, созданный на научных основах, научно управляемый и научно осуществляющий свое взаимодействие с природой, свое расширенное воспроизводство. Это ассоциация, предоставляющая каждому все возможности для выявления, полнокровного развития и реализации своих творческих способностей.
Но что представляет собой такое общество, как не воплощение человечески ориентированной науки?
Мы отдаем должное науке прошлого, начиная с самых истоков ее развития. Мы все находимся под большим впечатлением успехов современной науки. Но еще большие надежды мы возлагаем на нее в будущем.
Для осуществления этих надежд нужно в конце концов только одно: чтобы мир науки был человечным, а человечность обретала силы в мудрости науки.
170
Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал критически, ни одного пункта не оставив без внимания.
Все то, что человеческой мыслью было создано, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди сделать не могли.
В. И. ЛЕНИН
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МАРКСИЗМА И НАСЛЕДИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Беспрецедентны исторические судьбы учения Карла Маркса. Бессчетное число раз «оспоренное» и «опровергнутое» учеными прислужниками буржуазии, оно повседневно «грубо, зримо» на деле подтверждалось всеми классовыми битвами XIX и XX веков. Истинность и правота его блестяще доказаны опытом Октябрьской революции в России и успешного строительства нового общества содружеством социалистических стран. Ныне это учение является знаменем и могучим боевым оружием мирового коммунистического движения.
В чем же причина всесилия марксистского учения? Как стало возможным, что марксизм так стремительно овладел умами и сердцами миллионов и миллионов людей во всех странах мира? Еще В. И. Ленин, как известно, исчерпывающе отвечал на это: учение Маркса всесильно, потому что оно верно, потому что оно точно выражает коренные интересы людей труда, потому что Маркс дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила, потому что он опирался на прочный фундамент человеческих знаний, достижений культуры, созданной всем развитием человечества.
Буржуазные идеологи немало постарались и продолжают стараться изобразить марксизм одним из многочисленных «измов», наподобие тех, которые множат сами. Они пытаются выдать марксизм за эдакое келейное учение, которое в узкоклассовых или даже групповых интересах гипертрофирует какую-либо одну — экономическую или политическую — сторону действительности, якобы закрывая глаза на всю ее многомерность. В соответствии с этим марксизм представляют как некую обочину развития общественной жизни и культуры, как нечто одномерное, а потому ей, культуре, будто бы и противостоящее.
С таких позиций атаки на марксизм идут и по сей день — даже со стороны тех, кто клянется именем Маркса: вот если бы марксизм дополнить экзистенциализмом или неопозитивизмом, структурализмом или фрейдизмом вкупе с дзен-буддизмом, «религией чувственности» или же просто религией! И «дополняют» и
173
пекут во множестве новые и новые «вроде-марксист- ские», то есть псевдомарксистские, теории.
Что ж, уже сам по себе этот факт знаменателен. Он еще раз воочию убеждает, что марксизм-ленинизм — это политическая, идеологическая, философская, культурная доминанта современной эпохи. Потому-то разномастные буржуазные или ревизионистские теории и вынуждены доказывать свое право на существование, так сказать, отправляясь от марксизма: либо рядясь в его одежды, либо ведя открытую борьбу с ним.
Марксизм-ленинизм явился подлинным средоточием духовной жизни человечества в силу того, что он возник как учение самого революционного класса — пролетариата, в силу того, что это мировоззрение наиболее полно и всесторонне отражает экономические и политические тенденции развития общества, что корни этого учения глубоко кроются в динамике классовой борьбы труда и капитала, а также в силу того, что оно выступает преемником величайших завоеваний человеческой мысли, что оно возникло на основе освоения и критической переработки всего того, чего человеческая культура достигла.
В марксизме, по словам Ленина, «нет ничего похожего на «сектантство» в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации» 1. Марксизм возник на этой столбовой дороге, или, иначе говоря, в главном русле течения мировой культуры и истории, и стал стремниной потока, ускоряющего движение человечества от своей предыстории к подлинной истории.
Приведенные выше слова Ленина взяты из его работы «Три источника и три составных части марксизма». Немецкую классическую философию, английскую политическую экономию и французский социализм Ленин называет здесь в качестве прямых и непосредственных источников марксизма. В самом деле, Маркс и Энгельс, создавая свое учение, прямо и непосредственно отталкивались от философии Гегеля и Фейербаха, от трудовой теории стоимости Смита и Рикардо, от классиков утопического социализма — Сен-Симона, Фурье и Оуэна.
Однако ограничивать становление марксизма совокупным воздействием только перечисленных имен и
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т, 23, с, 40.
174
направлений значило бы ограничивать само марксистское учение. Для всестороннего анализа этого процесса, как это и следует из точного смысла и духа ленинских высказываний, необходимо, очевидно, исходить из наследия духовной культуры в целом. И это обстоятельство, конечно же, сугубо важно иметь в виду при рассмотрении предпосылок возникновения марксизма и его истоков.
И если мы, например, говорим о философии Гегеля как об одном из прямых и непосредственных источников марксизма, то не можем не видеть, что она, в свою очередь, имела многочисленные и разносторонние истоки, уходящие в глубь веков, опиралась не только на культуру мышления, развитую ближайшими предшественниками — Кантом, Фихте и Шеллингом, но и вдохновлялась философско-эстетическими прозрениями многих других мыслителей, начиная с Пифагора и Гераклита. И как немыслима была бы философия Гегеля без Платона и Спинозы, так же немыслима она без Ньютона и Лейбница, без Руссо и Дидро, без Шекспира и Гёте, без Кювье и Гумбольдта.
Философия Гегеля вообще и развитый им диалектический метод в частности явились квинтэссенцией «духа эпохи», своего рода резюме истории человеческого познания, диалектических открытий в области естественнонаучного и художественно-эстетического освоения мира. Гегель произвел титаническую работу по диалектической обработке всего духовного наследия человечества, результатом чего и явились «Логика», «Философия природы», «Философия истории», «Философия права», «Эстетика».
Любопытно, что своим духовным отцом Гегель признавал не кого-либо из предшественников-философов, а поэта и естествоиспытателя Гёте. Чувственно-пантеистическое восприятие природы во многих поэтических творениях Гёте, несомненно, отразилось в философской системе Гегеля. А эволюционные идеи Гете, идеи метаморфозы растительного царства, развития из «прафено- мена» явились прообразом гегелевского метода восхождения от абстрактного к конкретному, того метода, который впоследствии Маркс, очистив от идеалистической ржавчины, сделал орудием исследования в «Капитале».
«Когда я оглядываюсь назад, на путь, который пройден мной в духовном развитии, — писал Гегель Гёте в 1825 году, — я вижу, что Вы вплетены в каждый шаг
175
этого пути, и я мог бы позволить себе назвать себя одним из Ваших сыновей. Мое мышление получило от Вас силы противостоять абстракции, а Ваши создания были теми маяками, по которым я направлял свое движение»1.
Признание Гегеля («противостоять абстракции») характерно. Его нередко принимают за эдакого скучного книжного червя и высушенного рационалиста, а между тем стиль мышления Гегеля хотя и тяжеловесен и «те- мен», но необычайно образен, объемен и словно согрет поэтическим чувством, а потому в чем-то родствен художественному мышлению. Сам мыслитель полагал, что философ, подобно поэту, должен обладать эстетическим даром, а иначе он не более как буквоед. И глубоко прав был А. И. Герцен, когда заметил: «Нет ничего
смешнее, что до сих пор немцы... считают Гегеля сухим логиком, костяным диалектиком вроде Вольфа, в то время как каждое из его сочинений проникнуто мощной поэзией, в то время как он, увлекаемый (часто против воли) своим гением, облекает спекулятивнейшие мысли в образы поразительное™, меткости удивительной»1 2.
Глубокая и неизменная признательность, которую Маркс и Энгельс питали к Гегелю, объясняется не только тем, что они были многим обязаны ему как диалектику, но и тем, что он являл собой колоритную фигуру оригинального и разностороннего мыслителя и «наряду с Сен-Симоном, был самым универсальным умом своего времени»3.
Сказанное о Гегеле относится — в большей или меньшей степени — и к другим непосредственным предшественникам марксизма: Сен-Симону, Фурье, Фейер¬
баху, Смиту, Рикардо. О разносторонности дарований и познаний первых трех говорить не приходится, это общеизвестно. Что же касается Адама Смита, то он, помимо экономических сочинений, создал «Теорию нравственных чувств» и оставил после себя черновые наброски всеобщей истории наук и искусств. А Давид Рикардо развил точный, логический стиль своих произведений благодаря постоянному увлечению математикой и естествознанием.
Таким образом, уже сами непосредственные источни-
1 Гегель. Работы разных лет. М., Мысль, 1971, т. 2, с. 473.
2 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. II. М., 1954, с. 381.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 23.
176
ки марксизма — немецкая классическая философия, французский утопический социализм и английская политическая экономия — явились своего рода концентратом достижений всей духовной культуры своего времени. Но подчеркнем еще раз: духовные предпосылки марксизма этими тремя источниками далеко не исчерпываются.
У Ленина имеется немало высказываний о том, что пролетарскую культуру можно строить только на основании культуры, созданной всем развитием человечества, что коммунизм является итогом, выводом из всей этой культуры. «Образцом того, как появился коммунизм из суммы человеческих знаний, является марксизм» К И когда Ленин подчеркивал, что коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество, то, конечно же, перед его умственным взором вставал прежде всего духовный путь развития первого коммуниста в полном смысле этого слова — Карла Маркса.
Известно, что Маркс рос в высокоинтеллектуальной атмосфере, с детства для него стали близкими имена Вольтера и Руссо, Расина и Лессинга, Спинозы и Локка, Канта и Гёте. Затем — знакомство с семейством Вестфаленов, в чьем кругу чтили Гомера, Шекспира, Сен-Симона. Все это стало духовной купелью будущего гения.
В университете он изучает юридические науки, но увлекается и эстетикой, поэзией, драматургией, философией, историей культуры. Он мечтает о профессии литературного критика, драматурга. Из сохранившегося письма к отцу от 1837 года мы узнаем о необыкновенно напряженной и разносторонней духовной работе юноши.
Он читает «Лаокоона» Лессинга, «Историю искусств» Винкельмана, «Скорбные элегии» Овидия вперемежку с книгой Реймаруса «О сложных инстинктах животных», «Немецкой историей» Людена, «Риторикой» Аристотеля, произведениями Бэкона, Шеллинга, Канта, Гегеля, переворачивает горы специальной юридической литературы. Поражаешься уже одному объему прочитанного за год!
Но Маркс не просто читал. Для него изучение новой
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 303.
177
области науки или культуры тотчас же превращалось в самостоятельное творчество в этой области. Чтение, изучение литературы не было для него пассивным ученическим процессом, а лишь стимулом, импульсом к собственной работе мысли и фантазии. Так, знакомясь с философией и правом, он стремится провести «некоторую систему философии права через всю область права» и лишь в качестве введения к этой теме пишет «злополучный опус, почти в триста листов». Знакомясь с историей искусства и историей философии, он в течение того же учебного года пишет диалог почти в двадцать четыре листа, в котором «в известной степени соединились искусство и наука»
Отметим, что первые опубликованные работы Маркса и Энгельса — это стихотворные опыты. Основоположники научного коммунизма сначала заявили о себе как поэты.
Поэтическое наследство юноши Маркса (недавно впервые полностью опубликованное в переводе на русский) довольно обширно и разнообразно. Здесь и тетради лирических стихов, посвященных «дорогой, вечно любимой Женни», и баллады, эпиграммы, сцены, и стихотворная трагедия «Оуланем», главы из романа «Скорпион и Феликс».
Эти литературные опыты, конечно, не были совершенны, что с беспощадной самокритичностью отмечал и сам юный поэт. И все же они представляют необычайный интерес для понимая^’'“процесса формирования Маркса, как своего рода зеркало внутреннего мира его личности, отражая отношение к окружающему, социальные симпатии и антипатии, складывающееся самосознание будущего революционного борца.
Его фантазия рождает нагромождение диких, неистовых страстей, гиперболический образ трагического героя, пригвожденного к огненному колесу вечности, мечтающего быть «тем, чего миры не знают, и побеждать их боль и скорбь немую гигантской мощью страждущей души» (трагедия «Оуланем»). Ожиданием бури и бунтарскими настроениями проникнуты его стихи;
Не, могу принять бесстрастно То, что для души как гром.
Не по мне покой и праздность,
Весь я там, где штурм и шторм.
1 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 40, с. 10, 15.
178
Все добыть — мое желанье:
Дар богов постичь стремлюсь,
Смело ринусь в глубь познания,
В мир гармоний и искусств.
(Перевод Н. В. Димчевского)
В главах из романа «Скорпион и Феликс» Маркс меткими штрихами рисует «истинно немецкую», «очень христианскую» семью, смеется над бесплодными умствованиями своих героев. Здесь уже проскальзывают блестки того сверкающего остроумия, которыми отличались зрелые публицистические работы Маркса. Он развивает мысль, что все великое имеет свою противоположность и вытесняется ею: гигант — карликом, гений — скучным филистером, герой Цезарь — актером Октавианом, император Наполеон — королем-буржуа Луи-Филиппом, философ Кант — «рыцарем» Кругом, поэт Шиллер — надворным советником Раупахом, а бесконечный мир Лейбница — классной комнатой посредственного эпигона Вольфа. Аналогично этому после кратковременной бури всегда надолго остается целое море ила и грязи.
Вспомним, с каким великолепным изяществом развил Маркс позднее, в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», этот сатирический образ!
В эпиграммах и стихах ясно звучит открытое неприятие Марксом мещанского мира с его ханжеской моралью, высмеивается «покойно глупая немецкая публика» с ее политической трусостью и склонностью совершать революции в книгах. В иронических подражаниях благочестивому пастору Пусткухену он объявляет настоящую войну воинствующей тупости духовенства, убогому домостроевскому миру религиозно-пиетической ортодоксии, для которой греховными и недостойными оказываются даже великие произведения Гёте и Шиллера.
Ранние литературно-эстетические увлечения Маркса — естественный и закономерный этап становления его личности и мировоззрения. Мир высокого искусства был первой школой его убеждений. В то время как Шиллер пробуждал в нем ненависть к произволу, насилию над обездоленными, Шекспир раскрывал сложный диалектический мир человеческих чувств и отношений, оттачивал его природный дар остроумия. Гёте побуждал соединять чувство с мыслью, причудливую игру фантазии с высокими раздумьями о смысле жизни и смерти,
179
мефистофелевскую усмешку над лицемерием расхожей морали с вагнеровской страстью к науке и верой в ее всемогущество. Гейне, которым Маркс зачитывался в университетские годы, оказал на него неизгладимое влияние бунтарским духом лучших своих произведений, беспощадной иронией, высмеивающей все пошлое и фальшивое. Вольнолюбивая, гражданственная поэзия Платена, Фрейлиграта, Гервега отразилась на политическом умонастроении Маркса того времени.
Эсхиловский Прометей — первый богоборец и мученик за счастье человечества — вдохновлял Маркса в конце 30-х — начале 40-х годов на критику религии. Гордый вызов Прометея — «по правде, всех богов я ненавижу» — он направил «против всех небесных и земных богов» Г «Суровый Дант» с его беспощадным бичеванием всех пороков современного ему общества, с его девизом «здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета», был невидимым духовным путеводителем и спутником Маркса в его теоретических странствиях по всем кругам капиталистического ада.
Можно поэтому, думается, с полным правом говорить не только о философских и социально-экономических, но и о художественно-эстетических предпосылках становления и формирования марксизма.
Роль искусства в развитии культуры мышления личности вообще необычайно высока. Именно искусство прежде всего формирует способности к целостному восприятию мира, к созидательной игре воображения, пробуждает фантазию, ассоциативно-образное мышление, воспитывает чувства гармонии и красоты, формирует интуицию и юмор. А все это такие способности, без которых не может быть подлинного творчества ни в одной из областей человеческой деятельности.
Художественно-образное мышление обладает большей свободой в способах освоения мира, потому что мышление образами — самая смелая, «экономная» и емкая форма мышления, формирующая способность видеть целое раньше его частей. И потому Данте и Сервантес, Мильтон и Шекспир, Гёте и Гейне давали Марксу и Энгельсу для постижения изображаемых ими эпох, быть может, больше, нежели некоторые мыслители тех времен.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 40, с. 153,
180
В литературе справедливо обращалось внимание на то обстоятельство, что сформулированные Марксом идеи о сущности денег были первоначально навеяны ему не столько трудами экономистов, сколько творчеством Шекспира и Гёте. В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» Маркс приводит впечатляющие отрывки из «Фауста» Гёте и «Тимона Афинского» Шекспира. «Шекспир, — говорит он, — превосходно изображает сущность денег» К Л1аркс имеет в виду, в частности, следующие строки великого драматурга:
Да, этот плут сверкающий начнет И связывать и расторгать обеты,
Благословлять проклятое, людей Ниц повергать пред застарелой язвой,
Разбойников почетом окружать,
Отличьями, коленопреклоненьем,
Сажая их высоко, на скамьи Сенаторов...
Деньги, отмечает Маркс, поэтически изображаются Шекспиром и Гёте как превращение всех природных и человеческих свойств в свою противоположность, как отчужденная мощь человечества. Деньги в качестве воплощения стоимости представляют собой «наложницу всесветную», всеобщее смешение и подмену вещей, то есть мир навыворот.
Так Шекспир и Гёте помогли молодому Марксу составить себе представление о сущности и роли денег в мире частной собственности. Это интуитивно верное, но еще общее, «размытое» представление было художественным прообразом строгой и стройной научной теории, которая получила свое воплощение в работе «К критике политической экономии» и в «Капитале». Любопытно, что и здесь Маркс вновь обращается к Шекспиру при анализе природы денег и цитирует те же строки из «Тимона Афинского», что и в рукописях 1844 года.
Школа воспитания искусством, как и школа воспитания философией, формирует культуру мышления, поднимает его на качественно более высокий уровень, делая его прозорливее и содержательнее, оттачивая способность видеть глубже и дальше, не терять за деталями и частностями главное, проникая в сущность вещей и явлений, постигать живое целое, которое всегда вита-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 148.
181
ет в воображении как предпосылка конкретного анализа. Такой была школа воспитания искусства для Маркса и Энгельса. Пройдя ее, они стремительно проделали путь к величайшим достижениям: диалектическому и
историческому материализму, к теории прибавочной стоимости, к научному коммунизму.
Страстность, эмоциональность, блестящее литературное мастерство Маркса и Энгельса немало способствуют убедительности и неувядаемой молодости их творений. В них глубокая мысль часто рождается, высвечивается и пронизывается художественным образом, в них непринужденно царят ирония, шутка, афоризм. Многие их статьи и особенно переписка искрятся неподражаемым юмором. И однажды, отвечая на филистерские выпады по поводу «мрачности» характера Маркса, Энгельс писал Э. Бернштейну: «Если бы этим болванам довелось прочесть переписку между Мавром и мной, они бы просто остолбенели. Поэзия Гейне — детская игрушка по сравнению с нашей дерзкой, веселой прозой. Мавр мог приходить в ярость, но унывать — никогда! Я хохотал до упаду, когда перечитывал старые рукописи» *.
Умению Маркса и Энгельса в нескольких штрихах дать глубокий психологический и социальный портрет личности могли бы позавидовать профессиональные литераторы самого высокого класса. В своих статьях и книгах, в «Капитале» Маркс воздал по заслугам целой своре филистеров от науки.,и политики. При этом мишенью его убийственной насмешки и неисчерпаемого остроумия становились и ничтожные люди. К Марксу целиком можно отнести слова, сказанные Гейне о Лессинге: «убивая» своих противников, он тем самым дарил им бессмертие, он как бы обволакивал малюсеньких писателишек остроумнейшей насмешкой, восхитительным юмором, и теперь они хранятся на веки вечные в его сочинениях, как насекомые, попавшие в кусок янтаря».
Говоря о художественно-эстетических предпосылках марксизма, надо, наконец, подчеркнуть и то обстоятельство, что глубокий интерес ко всем свершениям в искусстве Маркс и Энгельс неизменно сохраняли на протяжении всей своей жизни. Оригинальные эстетические, социокультурные воззрения, развитые ими, не просто
1 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 31.
182
сосуществуют с идеями научного коммунизма, а составляют, так сказать, животворящее начало нового мировоззрения, его идеалов подлинного гуманизма К
1844 год, когда переход Маркса от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму «совершается окончательно», можно назвать годом рождения научного мировоззрения. К этому времени в основе своей сложились и черты личности Маркса — величайшего революционера в науке и создателя науки о революции. К тому времени уже была проделана значительная часть работы по критическому переосмыслению всего духовного наследия прошлого.
Обратимся сначала к философии. Покинув в 1837 году «пляску муз и музыку сатиров», то есть свои литературные увлечения, Маркс приходит к выводу: «Без философии мне не пробиться вперед». Он понял, что не может сделать ни одного успешного шага в конкретной области науки, например в юриспруденции, не усвоив тех общих форм, в которых теоретическое мышление способно к самодвижению и вместе с тем к верному воспроизведению развивающегося объекта. В зрелые годы Энгельс высказал глубокую мысль, что дм я развития и усовершенствования способности теоретического мышления «не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей предшествующей философии» 1 2. Конечно, он отправлялся при этом от своего собственного жизненного опыта, как и от опыта Карла Маркса.
«Дух сомнения и отрицания», который порожден был знакомством юного Маркса с философией Гегеля, обратил его к истокам — к античным мыслителям. Он принимается за изучение Сократа, Платона и Аристотеля, штудирует тексты древних: Эмпедокла, Парменида,
Диогена Лаэрция, Плутарха, Симплиция, Фемистия, Цицерона, Стобея, Филопона, Лукреция Кара, Секста Эмпирика, Сенеки, Климента Александрийского.
Из всего многообразия учений и течений античности Маркс останавливает внимание на Демокрите и Эпику-
1 Эта сторона дела, без понимания которой вряд ли можно уяснить себе становление марксизма, хорошо раскрыта в книге Мих. Лифшица «Карл Маркс. Искусство и общественный идеал». М., 1972.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 366.
183
ре. Уже само это обращение к учениям крупнейших древнегреческих атомистов и материалистов свидетельствует о том, в каком направлении шли поиски нового мировоззрения. Система Гегеля не могла быть преодолена в рамках идеализма. И ни одно из идеалистических учений не могло помочь в этом отношении. Здесь мог выручить только материализм — вся материалистическая традиция, начиная от Эпикура, включая французский и английский материализм XVÏI и XVIII веков и кончая Фейербахом.
В «Святом семействе» (вторая половина 1844 года) Маркс и Энгельс как бы подводят своеобразный итог своему изучению предшествующей, главным образом материалистической, философии.
Маркс прежде всего показывает историческую преемственность материализма нового времени с Демокритом и Эпикуром. В Англии эта преемственность связана с именем Ф. Бэкона — «родоначальника английского материализма и всей... экспериментирующей науки», во Франции — с Гассенди, «восстановившим эпикурейский материализм».
Точные, меткие, остроумные характеристики Маркса сопровождают целую галерею имен мыслителей Англии и Франции, определяя место каждого из них в историческом развитии философской мысли, приведшем к возникновению диалектического и исторического материализма.
В Англии Гоббс выступает систематиком бэконовско- го материализма. Локк обосновывает принцип сенсуализма, а Коллинз, Додуэлл, Кауард, Гартли, Пристли уничтожили последние теологические границы локковского сенсуализма. Французы (Ламетри, Кондильяк, Гельвеций, Вольней, Дюпюи, Дидро) «цивилизовали» английский материализм, наделив его остроумием, красноречием, плотью и кровью. Французский материализм возник в открытой и острой борьбе против философии Декарта, Мальбранша, Спинозы, Лейбница, Локка, которым он вместе с тем многим во многом обязан своим возникновением. Однако, подчеркивая завоевания материалистической мысли, Маркс далек от того, чтобы игнорировать достижения идеалистической философии, прежде всего философии Гегеля.
Изучение философии логически обусловило интерес Маркса к утопическому социализму. В этой связи примечательна его мысль, что французский материализм
184
«вливается непосредственно» в социализм. Если человек, рассуждает он, черпает все свои знания, ощущения из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека. Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, обстоятельства сделать человечными.
К внимательному изучению идей утопического социализма Маркс приступил еще в 1842 году, работая в «Рейнской газете». Он погружается не только в труды Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но и Консидерана, Бабё- фа, Леру, Кабе, Дезами, Гея, Вейтлинга, Констана. Не удовлетворенный абстрактным конструированием общества будущего в работах социалистов-утопистов, Маркс стремится разобраться в жгучих социально-экономических и политических проблемах современности. Его внимание привлекают работы Прудона и Гесса.
Чтобы понять настоящее и будущее, оказывается необходимым обращение к истории. В Крейцнахе Маркс со свойственной ему обстоятельностью принимается за историков. Он изучает пятитомную «Историю германцев» И. Пфистера, «Историю республики Венеции» П. Дарю, «Историю Англии» И. Лаппенберга, книгу «Люди и нравы в Соединенных Штатах Северной Америки» Т. Гамильтона, трехтомную «Историю Франции» X. Хайнриха и многие другие работы, дающие представление об историческом развитии народов самых разных стран за два с половиной тысячелетия.
Ход всемирной истории начинает обретать в глазах Маркса свою логику развития, «последним словом» которой оказываются буржуазные революции в Англии и Франции». Маркс особенно тщательно исследует все, что касается французской революции, и сталкивается, наконец, с работами создателей концепции классовой борьбы в буржуазной историографии — Тьерри и Гизо.
В результате этой интенсивной интеллектуальной работы, внимательного анализа положения трудящихся масс в Германии, Франции, Англии и складывались основные контуры нового мировоззрения. На рубеже 1843—1844 годов Маркс, как известно, приходит к открытию всемирно-исторической миссии пролетариата как могильщика старого общества. Но одна область знаний оставалась еще за пределами внимания Маркса. Только после обращения к работам классиков полити¬
185
ческой экономии — Смита и Рикардо — становится возможным впервые изложить новое мировоззрение как нечто целое. Это изложение начато в «Экономическо-фи- лософских рукописях 1844 года», а затем продолжено в «Святом семействе» и «Немецкой идеологии».
Мы видим, что интерес Маркса последовательно перемещался от философии к социально-политическим, историческим исследованиям, наконец, к политической экономии. Это, разумеется, не означало, что «три составные части» марксизма возникали одна за другой. Марксизм, будучи цельным и стройным учением, формировался как единая система взглядов и представлений, в которой часть не возникает раньше целого, а развивается и совершенствуется вместе с ним. Хотя Маркс и начал выработку нового мировоззрения с философии, но решающий переворот в этой области, то есть создание диалектического и исторического материализма, стал возможен лишь в процессе формирования социально-политической и экономической сторон марксизма. Пока не были сформулированы идеи о пролетариате как движущей революционной силе современности и об экономических отношениях как базисе общества, до тех пор не было и не могло быть историко-материалистического учения об обществе, не могла возникнуть и материалистическая диалектика.
Но и тогда, когда новое мировоззрение было изложено и обосновано, оно, по выражению Ленина, оставалось лишь научной гипотезой. Только со времени создания «Капитала» материалистическое понимание истории стало доказанной научной теорией, социология впервые превратилась в науку.
Маркс как-то назвал «Капитал» «художественным целым» и имел для этого все основания. Эта книга действительно представляет собой образец логически и эстетически стройной архитектоники величественного «собора идей». Ясно и образно Маркс излагает самые сложные и абстрактные категории, делая их словно живыми персонажами своего напряженного по сюжету повествования х. В «Капитале» синтезирована история экономической — и далеко не только экономической! — мысли во всех своих течениях и проявлениях. Вся капиталистическая формация предстает перед читателем как 11 С этой точки зрения интересный анализ проведен М. В. Неч- киной в ее ранней работе «Капитал» Карла Маркса как художественное целое» («Печать и революция», кн. 5-я, М., 1927).
186
живая, в своем историческом зарождении и развитии, со сложными диалектическими коллизиями, с противоречиями производительных сил и производственных отношений, с антагонизмом буржуа и пролетариев, с политическими, юридическими и идеологическими институтами, охраняющими право предпринимателя на эксплуатацию рабочих.
В «Капитале» отражено все то духовное богатство, которое было освоено Марксом на протяжении целой жизни. Здесь предстали в нерасторжимом высшем синтезе три стороны марксистского учения. В «Капитале» вскрыта неумолимая логика движения капиталистического способа производства к своей неизбежной гибели. В нем мы видим диалектико-материалистический метод в действии. В нем содержится прочная теоретическая основа для политической борьбы трудящихся за свое освобождение, для долговременной стратегии мирового коммунистического движения *.
Работа над «Капиталом» знаменательна и еще в одном отношении. Интерес Маркса здесь вышел за пределы общественных наук. Ему пришлось углубиться в сферу наук естественных и технических.
Им, в частности, были изучены и использованы многочисленные источники по истории естествознания и техники. Маркс подверг кропотливому анализу длительный исторический процесс воплощения в технике и технологии достижений механики, химии, физики на протяжении XVI—XIX веков, выявил основные закономерности и тенденции развития техники и на основе чего и предсказал появление автоматизированных систем. Потребность в количественном выражении экономических законов побудила его специально заняться математикой и дать диалектическое истолкование дифференциального и интегрального исчисления.
Хотя марксизм носит имя одного человека, но это, как мы знаем, жизненный подвиг двоих. Между Марксом и Энгельсом существовало нечто вроде разделения труда. И если один из них исследовал ситуацию в Европе 40—50-х годов с экономической и политической точки зрения, то другой углублялся в анализ боевой мощи враждующих европейских государств, тактики и стратегии армий. Если один из них на многие годы с головой ушел в изучение сущности капиталистического
1 См. подробнее следующий очерк. — Ред.
187
производства, то другой постоянно держал в поле зрения новейшие достижения естествознания. Если Маркс изучал основы технологии и агрохимии, то Энгельс теоретические проблемы биологии, физики, химии, космологии.
«Маркс и я, — писал Энгельс, — были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой идеалистической философии сознательную диалектику и перевели ее в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием. Маркс был основательным знатоком математики, но естественными науками мы могли заниматься только нерегулярно, урывками, спорадически»1.
Как известно, гигантский труд по диалектическому обобщению естественнонаучных данных взял на себя в 70-х годах прошлого века Энгельс. В «Анти-Дюринге» и особенно в «Диалектике природы» дано философское осмысление достижений естественных наук. Прежде всего благодаря Энгельсу марксистское мировоззрение получило обоснование и с естественнонаучной стороны. Маркс придавал большое значение необходимости такого обоснования. Известен, например, его отзыв об основном труде Дарвина: «...Эта книга дает естественноисторическую основу для наших взглядов» 1 2.
Маркс и Энгельс, однако, не ограничивали задачу философии по отношению к естествознанию только обобщением накопленных наукой данных. Философия не просто следует за естествознанием, комментируя его успехи, она сама в определенной степени есть условие успешного развития естествознания. Диалектико-материалистическая философия — это такой метод мышления, который «навязывается» естествоиспытателям самим ходом развития конкретных областей знаний, как только они поднимаются на уровень теории. Диалектика является для естествознания наиболее адекватной формой мышления, ибо только она представляет собой аналог и тем самым метод объяснения происходящих в природе процессов. Энгельс приводит многочисленные примеры того, как философия предвосхищала за много веков те открытия, к которым затем пришло естество-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 10—11.
2 Там же, т. 30, с. 102.
188
знание. «Положения, установленные в философии уже сотни лет тому назад, положения, с которыми в философии давно уже покончили, часто выступают у теоретизирующих естествоиспытателей в качестве самоновейших истин, становясь на время даже предметом моды» К
Слова эти весьма актуально звучат и поныне. Естествознание, в свою очередь, оказывает мощное революционизирующее воздействие на философскую мысль, так что «с каждым составляющим эпоху открытием... в естественноисторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму»1 2. В эпоху научно- технической революции полностью подтверждается вывод Маркса и Энгельса о необходимости все более тесного союза философии и конкретных наук, союза естествознания и обществоведения для взаимного их обогащения и успешного дальнейшего прогресса.
Величайшее завоевание общественной мысли, марксизм, был создан подлинно универсальными личностями, не оставившими без внимания, без переработки ни одного существенного достижения в области духовной культуры. XIX век породил настоящих титанов в области науки и искусства. Но и на таком фоне многосторонняя и яркая одаренность, энциклопедичность основоположников марксизма выглядит уникальной. Им удалось проникнуть глубже современников в культурное наследие прошлого и в достижения современной им культуры и потому значительно обогнать свое время.
В самом деле, трудно назвать такую область духовно-практической деятельности, в которой не проявился бы универсальный гений основоположников марксизма. Мы с полным правом говорим о них как о революционерах и организаторах, публицистах и журналистах, философах и экономистах, социологах и историках, лингвистах и литературоведах. Мы знаем, что Маркс собирался, окончив работу над «Капиталом», написать «Логику», книги по истории философии, о творчестве Бальзака, драму, посвященную братьям Гракхам...
Свои энциклопедические познания, универсально развитые способности Маркс с присущей ему целеустремленностью сфокусировал на решении экономических проблем, что стало главным содержанием его научных
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 367.
2 Там же, т. 21, с. 286.
189
занятий. Узкий специалист никогда не смог бы создать нечто подобное «Капиталу».
В истории человеческой культуры не было явления, хоть в какой-то мере аналогичного марксизму. Прежние философы создавали теории, которые оставались достоянием лишь узкого круга «посвященных». Эти теории претендовали либо на объяснение отдельных сторон действительности, либо на конструирование недостижимого идеала.
Они создавали системы, которые должны были, по их фанатичному убежденнию, объяснить все сущее раз и навсегда. Они провозглашали абсолютные догматы истолкования мира и требовали безусловного поклонения им. Какие бы оттенки ни принимали спекулятивные построения у разных философов, их всех объединяло одно: неисторичность мышления.
Трагедия этих мыслителей заключалась в том, что их теории никак не могли угнаться за действительностью. Жизнь, повинуясь скрытым для них диалектическим законам, неумолимо шла вперед, а доктрины, которым надлежало покорить мир, безнадежно устаревали, едва появившись на свет. Что поделаешь: теория сера, но вечно зелено древо жизни!
Этот афоризм Гёте оказался уязвимым, когда Маркс соединил теорию с жизнью, с практикой, с революционным движением пролетариата, когда появилась теория, отражающая не отдельные факты действительности, не те или иные преходящие явления, а само живое ее развитие, само вечное и непрестанное ее движение и изменение.
Если попытаться коротко определить наиболее отличительное в марксистском мировоззрении, то это его последовательный антидогматизм и последовательный конкретный историзм. Люди, не понимающие этого в марксизме, обычно удивляются, что Маркс и Энгельс не оставили произведения, где бы «во всей полноте» была изложена система их взглядов на природу, общество и мышление, не оставили «катехизиса марксизма». Пытаясь восполнить этот «пробел», некоторые из них принялись за изготовление подобных «катехизисов», но, разумеется, ничего, кроме вульгаризации марксизма, из этой затеи не получилось. Ибо марксизм — это не собрание готовых ответов на все случаи жизни, это не застывшая теоретическая модель мироздания, не «общеобязательная» историческая схема; марксизм — это ме¬
190
тод познания, существующего в его непрестанном движении и изменении, постоянно развивающаяся теория революционного переустройства общественных отношений и орудие борьбы за такое переустройство. История человечества и ранее изобиловала революционными потрясениями, но до Маркса она не знала подлинно революционного мировоззрения. Развитие общества пошло иными путями, когда революционное движение масс и революционная мысль объединились. Марксизм стал теорией, преобразующей мир.
Идеи марксизма-ленинизма продолжают жить и бороться на нашей планете, они практически «прилагаются к жизни», претворяются в жизнь в странах мировой социалистической системы. Они, эти идеи, участвуют в деятельности революционных масс, в повседневном труде рабочего и крестьянина, ученого и инженера, писателя и поэта. Они помогают каждому осознать свое место в жизни и революционной борьбе. Они помогают избавить мир от всяческой социальной скверны и накипи, от войн, эксплуатации, нищеты и голода.
Но чистота марксистско-ленинской теории, ее непримиримость к каким-либо «измам», извращающим и выхолащивающим ее революционно-критический дух, вовсе не означают какой бы то ни было «замкнутости в себе», законсервированное™ этой теории. Возникнув исторически на основе усвоения и критической переработки культурного наследия человечества, марксизм-ленинизм продолжает развиваться, постоянно впитывая в себя лучшие достижения человеческого гения, воочию демонстрируя миру справедливость слов Гёте:
Наследовать достоин только тот,
Кто может к жизни приложить наследство.
Но жалок тот, кто копит мертвый хлам.
Судьба некоторых книг столь удивительна, способ, которым они сохраняются, столь необыкновенен, что и над ними, очевидно, властвует провидящий гений. Но и для них этот гений не внешняя, а живущая внутри их самих сила, это свойственное им добро, их собственное превосходство и связанная с этим необходимость существования.
Л. ФЕЙЕРБАХ
«КАПИТАЛ» КАК «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ»
Карл Маркс был величайшим энциклопедистом своего времени, наиболее универсально развитой личностью, универсально применявшей свои недюжинные творческие способности. Мы знаем его преимущественно как философа и экономиста. Но он также оставил после себя работы по социальной и политической истории («Классовая борьба во Франции», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская война во Франции» и т. д.), истории технологии, математике. Глубок был его интерес к биологии, химии, физике.
Вместе с тем Маркс был глубочайшим знатоком и ценителем литературы и поэзии, искусствоведом и публицистом. Он сам придавал большое значение литературной форме изложения своих мыслей, издевался над теми учеными, которые непременным атрибутом научности считают унылую сухость и казенность речи. Вслед за Вольтером он любил повторять, что все жанры хороши, кроме скучного.
Самого Маркса можно без преувеличения назвать мастером художественного слова. Он с наслаждением предавался юмору, иронии, игре слов, фейерверку каламбуров. Даже смертельно больной, он в одном из писем дочери замечает, что не может в разговоре с ней обойтись без каламбура.
Учителями Маркса в области слова с детства были Данте, Сервантес, Шекспир, Лессинг, Гёте, Гейне. Из философов — Дидро и Гегель. Гегеля он называл в числе своих любимых прозаиков, ценя в нем способность выражать самые абстрактные мысли с помощью неожиданных образов, метафор, афоризмов.
В этом отношении Маркс пошел, пожалуй, даже дальше своих учителей. Выражаясь его же собственными словами, он, как никто, умел сделать «чувства теоретиками», выстроить теоретическую мысль «по законам красоты».
Маркс в совершенстве владел искусством строить сильную, динамичную и необычайно емкую фразу. Умел обнажить напряжение диалектики уже в строении самого предложения. Он не характеризует ситуацию сначала «с одной стороны», затем — «с другой» и, наконец,
193
в их «синтезе», как это любят делать ученые педанты. Он в одной фразе, в одном образе стремится дать «сшибку» сторон и их синтез. Каждая фраза настолько емка, заключает в себе столько «спрессованного» содержания, рождающегося в соитии образа и мысли, что приобретает афористическое звучание.
Маркс смело сталкивает подлежащее и сказуемое, субъект и предикат, заставляет их вступить в конфликт друг с другом и превратиться в собственную противоположность.
В этом диалектическом сальто-мортале понятий, в их выворачивании наизнанку непревзойденная прелесть и своеобразие стиля Маркса.
— Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она дух бездушных порядков.
— Критика является не страстью разума, она разум страсти. Она анатомический нож, она оружие.
— Делать идеи предметом культа — еще не значит культивировать их.
— Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель.
— Сапожник Якоб Бёме был большой философ. Некоторые именитые философы только большие сапожники.
— Глупость и суеверие тоже титаны.
Кажется, что сама диалектика жизни двигала рукой Маркса при написании этих и им подобных многочисленных афоризмов. Из них можно было бы составить целую книгу.
С той же лаконичностью, глубиной и иронией, нередко переходящей в сарказм, Маркс описывал и человеческие характеры. Его умению в нескольких штрихах дать глубокий психологический и социальный портрет личности мог бы позавидовать и профессиональный литератор самого высокого класса.
С каким сатирическим блеском пригвоздил Маркс к позорному столбу истории Луи-Наполеона! Как живо и выпукло обрисованы такие политические фигуры, как Бакунин и Лассаль, Луи Блан и Ледрю-Роллен, поэты Гервег и Фрейлиграт, «великие мужи эмиграции» Кинкель и Гейнцен.
То, что публицистические и полемические работы Маркса написаны с литературным мастерством, — это доказывать не надо. Это очевидно.
194
«Но «Капитал»? — спросит иной читатель. — Ведь это сугубо научный труд, глубокое теоретическое, можно сказать, академическое исследование. Разве можно говорить о нем как о литературном произведении, как о «художественном целом»? Не преувеличение ли это?»
Вопрос заслуживает того, чтобы в нем разобраться. Оценка «Капитала» как «художественного целого» принадлежит самому Марксу. При каких обстоятельствах и в каком смысле он это выражение употребил?
В 1859 году Маркс решился наконец опубликовать первые результаты своих многолетних экономических исследований в лондонской эмиграции — работу «К критике политической экономии».
Маркс собирался продолжить этот труд и опубликовать второй выпуск. Но в процессе работы перед ним стали возникать очертания иного труда — грандиозного исследования, охватывающего все стороны капиталистического производства.
Энгельс неустанно подталкивал его. Он доказывал Марксу, как важно именно сейчас выступить с фундаментальным экономическим обоснованием нового мировоззрения. Он считал — и не без основания, — что главной причиной задержки окончания рукописи является скрупулезность и самокритичность Маркса. «Отнесись, наконец, хоть раз несколько менее добросовестно к своей собственной работе; для этой паршивой публики она и так уже слишком хороша. Главное, чтобы вещь была написана и вышла в свет; слабых сторон, которые тебе бросаются в глаза, они и не заметят. А то наступят бурные времена, и каково тебе будет, если всю работу придется прервать раньше, чем ты завершишь «капитал вообще»?
Я хорошо знаю и все другие трудности, которые мешают тебе; но я хорошо также знаю, что главной причиной задержки является всегда твоя собственная скрупулезность. В конце концов все же лучше, чтобы вещь появилась, чем если бы она совсем не вышла из-за такого рода сомнений» *.
Маркс и сам знал за собой эту особенность — неуемную требовательность к себе в процессе научной работы. Если он видел что-нибудь написанное месяц спустя, то
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 11.
195
оно уже его не удовлетворяло, и он снова все полностью перерабатывал. К тому же он не мог оставить без внимания ни одного — хоть самого мелкого — предшествующего экономиста, не мог пропустить ни одного факта и документа.
В 1865 году контуры будущего «Капитала» уже начали реально вырисовываться. Маркс отложил все прочие дела и сосредоточился целиком на своей главной книге. Он забросил даже переписку. О ходе своих исследований, о возникавших проблемах он постоянно сообщал Энгельсу. Однако сроки окончания работы, которые Маркс сам намечал, постоянно отодвигались.
Отчитываясь перед Энгельсом о проделанной работе, Маркс писал, что большая часть рукописи уже готова, но он хочет иметь ее всю целиком перед глазами, прежде чем отослать в набор. «...Я не могу решиться что- нибудь отослать, пока все в целом не будет лежать передо мной. Какие бы ни были недостатки в моих сочинениях, у них есть то достоинство, что они представляют собой художественное целое: а этого можно достигнуть только при моем методе — не отдавать их в печать, пока они не будут лежать перед мной целиком. Этого не достичь методом Якоба Гримма, который вообще больше подходит для сочинений, не представляющих собой диалектически-расчлененного целого» К
Маркс имел в виду индуктивный, сравнительно-исторический метод, который Я. Гримм применял в области германистики. Этот метод он противопоставлял своему методу диалектического анализа и синтеза, восхождения от абстрактного к конкретному, который воспроизводит объект как «художественное целое».
Энгельс поначалу понял Маркса в том смысле, что он ведет речь о художественных достоинствах своего будущего труда. Это позабавило Маркса. Вовсе не отрицая того, что при создании «Капитала» он руководствовался и «художественными соображениями», Маркс, однако, пояснил, что он имел в виду главным образом другое, а именно — воспроизведение целого.
Чем же характеризуется метод, примененный Марксом в «Капитале»?
В предисловии ко второму изданию «Капитала» Маркс определил свой диалектический метод как прямую противоположность методу Гегеля. Он имел в виду
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 31 с. 111—112.
196
то, что его метод — последовательно материалистичен в противоположность последовательно идеалистическому методу Гегеля. «Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» х.
Но противопоставляя свой метод гегелевскому, Маркс в то же время использует этот метод, только материалистически, отвергая его мистифицирующую сторону, критически его перерабатывая. И это естественно, ведь именно Гегель сделал единственную в своем роде попытку представить науку о мышлении в ее собственной внутренней связи.
Гегелевский метод, по словам Энгельса, отличался от способа мышления всех других философов огромным историческим чутьем, которое лежало в его основе. Хотя форма была крайне абстрактна и идеалистична, развитие его мыслей тем не менее всегда отражало развитие действительности, и последнее, собственно, должно было служить только подтверждением первого. Если при этом истинное отношение было перевернуто и поставлено на голову, то все же реальное содержание повсюду проникало в философию, тем более что Гегель в отличие от своих учеников не делал добродетели из невежества, а был одним из образованнейших людей всех времен. Он первый попытался показать развитие и внутреннюю связь истории. И грандиозность основных его взглядов была и остается поразительной. «Это составившее эпоху понимание истории было прямой теоретической предпосылкой нового материалистического воззрения, и уже благодаря этому была дана исходная точка также для логического метода»1 2.
Метод Гегеля был несравненно выше господствовавшего тогда ограниченного, филистерского, метафизического способа мышления, который, по выражению Ф. Энгельса, как «неповоротливый тяжеловоз обыденного буржуазного рассудка, конечно, останавливается в замешательстве перед рвом, отделяющим сущность от явления, причину от следствия». Но, продолжал Эн-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 21.
2 Там же, т. 13, с. 496.
197
гельс, «когда собираются на охоту с гончими по чрезвычайно пересеченной местности абстрактного мышления, тогда как раз нельзя садиться на тяжеловоза»1.
Однако в той форме, в которой Гегель оставил свой метод, он был абсолютно непригоден для целей экономического анализа. Он исходил из чистого мышления, а надо было исходить из самих упрямых фактов. По собственному признанию Гегеля, он «от ничего через ничто пришел к ничему». Пришел к собственному отрицанию — к «абсолютной истине», когда всякое познание самоудовлетворенно останавливается.
Тут нужен был иной метод. Принципиально отличающийся от метафизического — как диалектический. И принципиально отличающийся от гегелевского — как материалистический. Задача состояла в том, чтобы непредвзято выявить диалектические связи, переходы, отношения, противоречия, борьбу противоположностей в самой действительности капиталистического общества, чтобы не выдумывать их из головы, а открыть их «при помощи головы» в самой экономике. Нужно было представить всю эту экономику в целом, в ее внутренней связи и в ее «диалектически-расчлененном» виде, отобразить ее структуру, архитектонику, ее исторический генезис и процесс функционирования.
Выработку такого метода Марксом и применение его в «Капитале» Энгельс считал результатом, который по своему значению не уступает открытию материалистического понимания истории. И он снова обращается к образному сравнению: сопоставляет старый метод политической экономии и метод Маркса, говоря, что последний превосходит старый настолько же, насколько же железные дороги превосходят транспортные средства средневековья.
Конечной целью Маркса являлось, по его собственным словам, открытие экономического закона движения капиталистического общества. Но какое конкретное общество изображено в «Капитале»? Это не Германия, не Франция, не Англия даже (хотя на нее Маркс чаще всего ссылается). Это капитализм в его, так сказать, «чистом» виде. Это теоретическая модель капиталистической экономики, которая предстает не как нечто мертвое и неизменное, а как «организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения».
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 495.
198
Как отобразить этот организм в понятиях? Как выразить в мышлении всю его необыкновенную сложность, многогранность? Как постичь внутреннюю взаимосвязь сторон, то есть структуру, схватить ее не только в процессе функционирования, но и в историческом развитии? Как уловить связь между тем, что предстает как открытая взору поверхность капиталистических отношений, и тем, что составляет их скрытую сущность? Как отразить все хитросплетения капиталистической экономики в системе категорий?
Эту беспрецедентную по своей трудности задачу Маркс решил с помощью диалектико-материалистического метода восхождения от абстрактного к конкретному.
Перед Марксом встал вопрос: с чего начинать теоретическое воспроизведение системы капиталистического хозяйствования? От решения его зависело многое, ибо неверная исходная посылка ведет и к неверным выводам, ибо на непрочном фундаменте стройного здания теории не построишь. Кажется, что естественнее всего начинать политическую экономию с чего-нибудь реального и конкретного, например с населения, нации, государства. Так и поступали экономисты XVIII века.
Однако государство — сложное понятие. В нем не разберешься без осознания того, из чего состоит государственный механизм, как он работает, какими политическими, экономическими факторами определяется его деятельность.
И если бы исследователь начал с государства, населения, то это было бы весьма смутное, хаотическое представление о целом, и только путем более детальных определений можно было бы прийти к пониманию различных частных аспектов этих понятий. Отсюда пришлось бы пуститься в обратный путь и снова прийти к населению, государству, но на этот раз не как к хаотическому представлению, а как к некоторой богатой совокупности многочисленных определений и отношений. Гегель справедливо называл такой ход исследования «взнуздыванием клячи с хвоста».
Поэтому начать следует с частного, элементарного, простого, то есть абстрактного, понятия. Но какого именно? Где та исходная клеточка, тот зародыш, из которого естественно развивается весь цельный организм капиталистического производства?
199
Маркс останавливает свое внимание на товаре. Первый абзац «Капитала» гласит: «Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как «огромное скопление товаров», а отдельный товар — как элементарная форма этого богатства. Наше исследование начинается поэтому анализом товара»1.
Маркс начинает «Капитал» с элементарнейшего бытия экономики — с товара, с обмена товаров. И это отнюдь не мысленный фантом, это нечто чувственноосязаемое, грубо-материальное, с чем каждый повседневно имеет дело, что пронизывает весь организм экономики во всех его частях и частностях, что составляет его исторический исходный пункт.
В то же время обмен товаров — это «самое простое, обычное, ...миллиарды раз встречающееся, отношение буржуазного (товарного) общества»2. Это абстракция, но абстракция, рожденная самим материальным существованием капитализма в процессе его возникновения и царствующая в его развитом виде. Она в противоположность Гегелю не результат деятельности мышления самого по себе. Она дана материально, как сторона материально существующей системы, и потому может, должна получить соответствующее — исходное — место в модели этой системы.
Что такое отношение товаров? На чем оно зиждется? На противоречии потребительной и меновой стоимостей. Маркс рассматривает борьбу этих противоположностей и вытекающую из них противоположность абстрактного и конкретного труда и приходит к более сложному понятию всеобщей формы стоимости, а от нее — к денежкой форме стоимости. Движение его мысли совершается не согласно кем-то предписанным законам, а согласно логике, диалектике самого предмета исследования. Он ни на йоту не отвлекается от анализа реального процесса товарного производства и обращения. И именно потому и приходит к положительным результатам.
От понятия к понятию, от категории к категории в строгом соответствии со структурой капиталистического производства возводится стройное здание Марксовой теории. Каждая последующая категория здесь с необ-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 43.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 318.
200
ходимостью выводится из предшествующей, обогащаясь новым содержанием, охватывая все более широкий круг явлений, то есть конкретизируясь. Анализ исходного противоречия, заложенного в товарном отношении, приводит к выявлению развитых противоречий капиталистического общества в их конкретном проявлении, а следовательно, и к революционному выводу о неизбежном отрицании этого общества.
«...Теперешнее общество, — писал Маркс, — не твердый кристалл, а организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения» К
Таким образом, Марксов метод восхождения от абстрактного к конкретному предстает как метод адекватного воспроизведения в мышлении этого сложнейшего организма, в стройной координации и субординации всех его элементов, в их цельной композиции. А это и значит изобразить картину капиталистического общества в качестве «художественного целого».
Имея это в виду, Ленин писал, что в «Капитале» Маркс исследует производственные отношения как скелет всего общества. Но он одевает этот скелет в «плоть и кровь», и вся формация со всеми связями и отношениями предстает как живая.
Уже сама строгая и стройная архитектоника здания «Капитала» — его цельный облик доставляет не только интеллектуальное удовлетворение, но и эстетическое наслаждение. Мощь, ясность, безупречность логического хода рассуждений, то, что можно назвать «красотой логики», усиливают это наслаждение.
«Художественным целым» «Капитал» можно назвать и в другом отношении — по его яркому стилю, по всей образной основе диалектических прозрений, по эмоциональному накалу, по гневному сатирическому темпераменту.
Какое значение сам Маркс придавал стилю «Капитала», говорит то, что он специально обратил на это внимание читателей в предисловии ко второму изданию первого тома.
Когда том вышел в свет, ученые — прислужники
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 11.
201
буржуазии — пытались сначала замолчать его. Когда же им это не удалось, они попйтЦлись оттолкнуть читателей, уверяя их, что книга написана в педантично-академической манере, в духе «гегельянской софистики».
Однако тут же прозвучали и прямо противоположные голоса. Один из буржуазных английских журналов вынужден был признать, что способ изложения в «Капитале» придает даже самым сухим экономическим вопросам «своеобразный шарм».
Когда весной 1872 года появился русский перевод «Капитала», «Санкт-Петербургские ведомости» писали в адрес Маркса: «Изложение его труда (исключая некоторые слишком специальные частности) отличается ясностью, общедоступностью и, несмотря на научную высоту предмета, необыкновенной живостью. В этом отношении автор... далеко не походит на большинство немецких ученых, которые... пишут свои сочинения таким темным и сухим языком, от которого у обыкновенных смертных трещит голова».
Приведя это высказывание, Маркс ядовито заметил, что «у читателей современной немецко-национально-либеральной профессорской литературы трещит не голова, а кое-что совершенно другое» 1.
Вся словесная ткань «Капитала» пронизана метафо- ристическими оборотами речи, намеками, сравнениями, художественными образами, ироническими оборотами, литературными реминисценциями. Тут логическая мысль и образ неразрывно слиты, составляют единый процесс диалектического освоения действительности во всех ее противоречиях, парадоксах развития, взаимопереходах противоположностей.
Можно ли изложить с литературно-художественным блеском такую «скучную материю», как отношение товаров, превращение товаров в деньги, стоимости — в капитал? Оказывается, можно!
Товары у Маркса выступают сначала «в чем мать родила», «неподсахаренными», «непозолоченными». Если они не проданы, то они «товарная чернь». Деньги — «золотая куколка, денежный кристалл». В то же время они могут представлять собой «навоз, хотя навоз отнюдь не деньги».
Товар, превращаясь в деньги, «меняет кожу», его образ стоимости — это его «денежная маска». Чтобы
1 Маркс К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 119.
202
выступить в качестве меновой стоимости, товар совлекает с себя свою «натуральную плоть», и это перевоплощение для него «горше», чем для гегелевского «понятия» переход от необходимости к свободе, чем «для омара сбрасывание своей скорлупы или для св. Иеронима совлечение с себя ветхого Адама» К
Товар у Маркса «любит деньги», он «бросает на них свои влюбленные взоры», но «истинная любовь никогда не протекает гладко».
Сфера обращения товаров — это «чрево рынка», это колоссальная алхимическая реторта, в которой превращаются в золото мощи святых. Даже любовь женщин; Маркс вспоминает, что уже у финикиян было совершенно естественно, что девушки, отдававшиеся чужестранцам на празднествах (в честь богини любви) , получали за это деньги и жертвовали их богине1 2.
Тот факт, что золото добывается из рудников, Маркс выражает словами древнегреческого ритора Атенея, что алчность «вытащила Плутона за волосы из недр земных».
Бесспорно, что в формировании взглядов Маркса, в становлении марксизма большую {не оцененную еще по достоинству) роль сыграло эстетическое воспитание средствами искусства, художественной литературы.
Любопытно, что сформулированные Марксом идеи о сущности денег в буржуазном обществе были первоначально навеяны не столько трудами экономистов — Смита и Рикардо, сколько творчеством Шекспира и Гёте. Еще в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», размышляя над властью денег в мире отчуждения, двадцатишестилетний Маркс приводит слова Мефистофеля из «Фауста» Гёте:
Тьфу, пропасть! Руки, ноги, голова И зад — твои ведь, без сомненья?
А чем же меньше все мои права
На то, что служит мне предметом наслажденья?
Когда куплю я шесть коней лихих,
То все их силы — не мои ли?
Я мчусь, как будто б ног таких Две дюжины даны мне были! 3
И Маркс следующим образом толкует этот отрывок, переводя его на язык социально-экономических отноше¬
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 113.
2 Там же, с. 142—143.
8 Гёте. Фауст. Перевод Н. А. Холодковского, ч. I, с. 71.
203
ний: «То, что существует для меня благодаря деньгам, то, что я могу оплатить, т. е. то, что могут купить деньги, это — я сам, владелец денег. Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила. Свойства денег суть мои — их владельца — свойства и сущностные силы. Поэтому то, что есть и что я в состоянии сделать, определяется отнюдь не моей индивидуальностью. Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, ибо действие уродства, его отпугивающая сила, сводится на нет деньгами. Пусть я — по своей индивидуальности — хромой, но деньги добывают мне 24 ноги; значит, я не хромой. Я плохой, нечестный, бессовестный, скудоумный человек, но деньги в почете, а значит, в почете и их владелец. Деньги являются высшим благом — значит, хорош и их владелец. Деньги, кроме того, избавляют меня от труда быть нечестным, — поэтому заранее считается, что я честен. Я скудоумен, но деньги — это реальный ум всех вещей, как же может быть скудоумен их владелец? К тому же он может купить себе людей блестящего ума, а тот, кто имеет власть над людьми блестящего ума, разве он не умнее их? И разве я, который с помощью денег способен получить все, чего жаждет человеческое сердце, разве я не обладаю всеми человеческими способностями? Итак, разве мои деньги не превращают всякую мою немощь в ее прямую противоположность?» 1
Как видим, Маркс развертывает целую теоретическую концепцию, исходя из поэтического образа, данного Гёте. На столь же глубокие размышления наводят его следующие строки из «Тимона Афинского» Шекспира, где речь идет о золоте:
...Ты, видимый нам бог,
Сближающий несродные предметы,
Велящий им лобзаться, говорящий Для целей всех на каждом языке;
Ты, оселок сердец, — представь, что люди —
Твои рабы...
Шекспир, отмечает Маркс, превосходно изображает сущность денег. Он особенно подчеркивает два их свойства:
1. Они — видимое божество, превращение в деньгах всех человеческих и природных свойств в их противопо-
1 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 148.
204
ложность, всеобщее смещение и извращение вещей; они осуществляют братаниешевозможностей.
2. Они — наложница всесветная, всеобщий сводник людей и народов.
Деньги рисуются Шекспиром как отчужденная мощь человечества. Они являются всеобщим извращением индивидуальностей и общественных отношений. Они превращают верность в измену, любовь в ненависть, добродетель в порок, порок в добродетель, раба в господина, господина в раба. Так как деньги в качестве понятия стоимости смешивают и обменивают все вещи, то они представляют собой всеобщее смешение и подмену всех вещей, то есть мир навыворот 1.
В «Капитале» Маркс возвращается к приведенному отрывку из «Тимона Афинского» для характеристики денег, в которых стираются все качественные различия товаров.
Еще античное общество, отмечает Маркс, поносило деньги как монету, на которую разменивается весь экономический и моральный уклад его жизни. И в подтверждение приводит Софокла:
Ведь нет у смертных ничего на свете,
Что хуже денег. Города они Крушат, из дому выгоняют граждан,
И учат благородные сердца Бесстыдные поступки совершать,
И указуют людям, как злодейства Творить, толкая их к делам безбожным.
(«Антигона»)
В сфере обращения стоимость должна обнаружить свою «магическую способность» творить самое себя. Она должна принести «живых детенышей» или класть «золотые яйца», то есть прибавочную стоимость. Первоначальная стоимость отличается от прибавочной «подобно тому, как бог отец отличается от самого себя как бога сына».
Владелец денег, вступая в сферу обращения, представляет собой лишь «личинку капиталиста». Его превращение в «бабочку» состоится тогда, когда он найдет необыкновенный товар. Товар, который он может купить по стоимости, продать по стоимости и в результате извлечь из всего этого процесса больше стоимости, чем он
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 147—149.
205
вложил. Таковы условия игры. «Здесь Родос, здесь и прыгай!»
Такой необыкновенный товар владелец денег находит. Он находит его у свободного рабочего, который тоже выступает как владелец — владелец своей собственной рабочей силы. Рабочий стремится продать свой единственный товар, которым он обладает. Владелец денег жаждет его купить. Сделка совершается.
И тут Маркс поет иронический «гимн» сфере обращения, где совершается эта купля-продажа. Ведь эта сфера — «настоящий эдем прирожденных прав человека». Здесь господствуют свобода, равенство, собственность и Бентам (Иеремия Бентам — один из самых пре* зираемых Марксом вульгарных экономистов, объявивший эгоистический интерес мерилом всего «полезного» в обществе. — Г. В.).
Здесь господствует — Свобода! Ибо покупатель и продавец товара, например рабочей силы, подчиняются лишь велениям своей свободной воли. Равенство! Ибо они относятся друг к другу как равноправные товаровладельцы и обменивают эквивалент на эквивалент. Собственность! Ибо каждый из них располагает лишь тем, что ему принадлежит. Бентам! Ибо каждый заботится лишь о самом себе. Но именно потому, что каждый заботится только о себе и никто не заботится о другом, все они «в силу предустановленной гармонии вещей или благодаря всехитрейшему провидению» осуществляют дело взаимной выгоды, общей пользы, общего интереса.
В заключение этого пассажа Маркс рисует такую трагикомическую картину. Заключив взаимовыгодную сделку, наши действующие лица покидают сферу обращения. И тут их физиономии начинают несколько меняться. «Бывший владелец денег шествует впереди, как капиталист, владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий; один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу; другой бредет понуро, упирается как человек, который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить» К
Словно жемчугом по золотому шитью, страницы «Капитала» сплошь пересыпаны остроумными и ирониче-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 187.
206
сними замечаниями, глубокими мыслями и изречениями великих писателей и поэтов. В исследовании истины, в борьбе против ученых — прислужников буржуазии Маркс словно призывает себе на помощь Гомера и Софокла, Вергилия и Данте, Шекспира и Сервантеса, Дефо и Мольера, Гёте и Гейне, Диккенса и Бальзака.
На страницах «Капитала» обретают новую жизнь бессмертные литературные персонажи. Тут мы встречаемся с Фальстафом и Шейлоком, Дон-Кихотом и Санчо Пансой, Робинзоном и Сганарелем, с Мефистофелем и Фаустом.
В странные отношения вступают порой эти герои с такой чуждой для них материей, как экономические категории. Что общего и в чем различие между стоимостью товаров и вдовицей Куикли? Той самой Куикли, которая была подругой Фальстафа, бойкой и разбитной хозяйкой в трактире «Кабанья голова»? Когда Фальстаф как-то проворчал вдовице, что ему «неизвестно, как за нее взяться», та ответствовала ему: «Врешь: и ты и другие отлично знают, как за меня взяться».
Вот об этой-то вдовице Маркс и вспоминает, когда начинает исследование меновой стоимости. «Стоимость товаров, — замечает он, — тем отличается от вдовицы Куикли, что не знаешь, как за нее взяться» '.
Что общего между вульгарными экономистами и добряком Догбери? Догбери поучает ночного сторожа Онколя, «что приятная наружность есть дар обстоятельств, а искусство читать и писать дается природой». Но такой «мыслитель», как, например, Бейли, как две капли воды похож на добряка Догбери. Он и ему подобные «экономисты-изобретатели» обнаруживают «особое притязание на критическую глубину мысли» и поучают своих доверчивых читателей, что «потребительная стоимость вещей не зависит от их вещественных свойств, тогда как стоимость присуща им как вещам»1 2.
Анализируя промышленную революцию, Маркс разоблачает буржуазных экономистов, которые выдают капиталистическую эксплуатацию рабочего с помощью машины за эксплуатацию рабочего машиной. А потому тот, кто выступает против капиталистического применения техники, обвиняется как противник технического прогресса!
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 15.
2 Там же, с. 93.
207
Эта аргументация, иронически посмеивается Маркс, «совершенно в духе» той, которой воспользовался знаменитый головорез Билл Сайкс из романа Ч. Диккенса «Оливер Твист». Представ перед судом присяжных, хитроумный Билл всю вину за содеянное им убийство возложил на нож. Он произнес такую речь:
— Господа присяжные, конечно, этим коммивояжерам горло было перерезано. Но это — не моя вина, а вина ножа. Неужели из-за таких временных неприятностей мы отменим употребление ножа? Подумайте-ка хорошенько! Что было бы с земледелием и ремеслами без ножа? Не приносит ли он спасение в хирургии, не служит ли орудием науки в руках анатома? А потом — не желанный ли это помощник за праздничным столом? Уничтожьте нож — и вы отбросите нас назад к глубочайшему варварству.
К подобной аргументации и сейчас прибегают буржуазные идеологи, которые не прочь свалить болезни современного капиталистического общества на науку и технику.
Художественно-образная система «Капитала» не существует сама по себе, как нечто лишь развлекающее читателя или иллюстрирующее логическую мысль. Это и есть естественная форма самой диалектической мысли в ее усилиях охватить, освоить диалектические переходы самой действительности.
С каким блеском излагает, например, Маркс сущность товарного фетишизма! Он показывает, что товар только на первый взгляд кажется простой и тривиальной вещью. На самом деле это вещь, полная причуд, метафизических тонкостей и теологических ухищрений, если рассматривать эту вещь именно как товар, а не как потребительную стоимость.
Возьмем самый обычный предмет — стол. Что это — деревянное изделие, обыденная, чувственно воспринимаемая вещь? Да, пока он не делается товаром. Тут он превращается в чувственно-сверхчувственную вещь. «Он не только стоит на земле на своих ногах, но становится перед лицом всех других товаров на голову, и эта его деревянная башка порождает причуды, в которых гораздо более удивительного, чем если бы стол пустился по собственному почину танцевать»1.
Товар принимает мистический характер, так как от-
1 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 81.
208
ношения людей, общественные отношения принимают форму товарных отношений. В слове «мистический» нет преувеличения. Ибо аналогию этому представляют туманные области религиозного мира. Здесь продукты человеческого мозга выступают самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом. То же самое происходит и в мире товаров, этих продуктов человеческих рук.
Отношения товаров, вещей не только выступают в роли носителей и представителей отношений людей, но первые и господствуют над вторыми. В глазах самих людей их собственное общественное движение принимает форму движения вещей, под контролем которого они находятся, вместо того чтобы его контролировать. Процесс производства господствует над людьми, а не человек над процессом производства.
Так в этом вывороченном наизнанку мире все приобретает извращенные формы. Эту мысль Маркс неоднократно развивает в «Капитале» и подготовительных к нему работах, прослеживая удивительные следствия и формы, которые имеет товарный фетишизм для разных сторон буржуазного общества.
Отчуждение и господствующие над человеком вещные условия его труда наделяются собственной волей и собственной душой, вещи персонифицируются, а лица овеществляются. И поэтому создается иллюзия, что не капитал эксплуатирует рабочего, а машина, сам технологический процесс. Продукт труда рабочего — техника — противостоит ему как враждебная, угнетающая его сила, принуждающая его к труду, угрожающая безработицей. Мертвый труд господствует над живым трудом, он, как вампир, высасывает его кровь.
«Тут, следовательно, тем более налицо отчуждение объективных условий труда — отчуждение прошлого труда — от живого труда, превращающее объективные условия труда в антагонистическую противоположность живого труда, так что прошлый труд, включая сюда всеобщие общественные силы труда, силы природы и науку, непосредственно выступает в качестве оружия, которое служит отчасти для того, чтобы выбросить рабочего на мостовую, превратить его в лишнего человека, отчасти для того, чтобы лишить его специальности и покончить с основанными на ней притязаниями, отчасти для того, чтобы подчинить его детально разработанной
209
на фабрике деспотии и военной дисциплине капитала» К
Деспотия капитала выступает на поверхности явлений как деспотия техники, технологии. И один из апологетов капитала, Э. Юр, часто цитируемый Марксом, в соответствии с этим характеризует машину как «железного человека» — «творение, предназначенное для восстановления порядка в рабочих классах»1 2.
Человек перестает осознавать себя производителем товаров, его окружающих. Между той частичной операцией, которую человек осуществляет, и готовым товаром лежит столько посредствующих звеньев, что связь между ними исчезает из поля зрения. «Частичный» человек связывает себя только с частичным продуктом. Мир готовых вещей — воплощение его же собственных сил — находится вне его и над ним.
Так, даже в сфере обращения товары фигурируют как «покупатели людей». «Не рабочий покупает жизненные средства и средства производства, а жизненные средства покупают рабочего, чтобы приобщить его к средствам производства»3.
Капитал делает свое собственное разбухание целью производства, а человека только средством для достижения этой цели. И он безжалостно эксплуатирует человеческую энергию, его физические и духовные силы, обеспечивая прогресс производительных сил за счет самой жизни рабочего. Маркс не раз возвращается к мысли, что прогресс в капиталистическом обществе достигается «только ценой величайшего ущерба, наносимого развитию каждого индивида в отдельности». Он приводит иронические стихи Гёте, смысл которых состоит в следующем: стоит ли терзаться, что Тамерлан растоптал мириады жизней, если это сделано во имя прогресса? 4
Тут уместно вспомнить также Марксов образ отвратительного языческого идола, который не желал пить нектар иначе как из черепов убитых!
Еще в 1856 году, работая над своим будущим экономическим трудом, Маркс в одном из выступлений блестяще охарактеризовал всю «мистику» извращенного, вывороченного наизнанку мира капиталистических отно-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 47, с. 550.
2 Там же, с. 377, 379.
3 Там же, т. 49, с. 60.
4 Там же, т. 47, с. 186.
210
шений, где всё как бы обретает свою противоположность.
«Мы видим, что машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих пор неизвестные источники богатства благодаря каким-то странным, непонятным чарам превращаются в источники нищеты. Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы» '.
Как и благодаря каким «чарам» все это происходит, Маркс и раскрывает в; «Капитале». В ходе кропотливого и всестороннего анализа капиталистических отношений он показывает, чем чреват курьезный символ фетишизма — деревянный стол, ставший на голову перед лицом других товаров и с этой своей деревянной башкой порождающий фантастические, мистические причуды. Этот символ оказывается в тайном родстве с другими символами: вампиром, пьющим кровь из живого труда, языческим идолом, наслаждающимся нектаром из черепов убитых, Тамерланом, усеивающим путь к победе трупами миллионов, с заговоренными злыми чарами достижениями науки и техники, с чистым светом науки, сияющим на мрачном фоне темноты и невежества.
В этом заколдованном мире есть, однако, еще одно сказочное существо — старый невидимый крот, быстро роющий под землей и готовящий крушение всего этого превратного мира, — «Славный минер» — революция!
А в конце первого тома «Капитала» перед читателем зримо возникает грандиозный (хотя и скупо выраженный) образ часов всемирной истории, неумолимо отсчитывающих время капиталистической частной собственности.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 4.
Дорогой дружище, при всех этих обстоятельствах больше, чем когда-либо, чувствуешь, какое счастье — дружба, подобная той, какая существует между нами. Ты-то знаешь, что никакие отношения я не ценю столь высоко.
К. Маркс — Ф. Энгельсу
РЯДОМ С ГЕНИЕМ — ГЕНИЙ
Как это обычно бывало, смерть самодержца в России и восшествие на престол наследника породили в определенных кругах большие надежды. На смену деспоту — Александру III — пришел мягкий по характеру, покладистый и, как казалось, либеральный Николай II. Верилось, что время Победоносцева, простершего «совиные крыла» над Россией, кончилось. «Жесткий» и «железный» девятнадцатый век шел к исходу.
Приближающаяся смена столетий давала повод для многочисленных прогнозов и пророчеств. В большинстве своем они были радужными. Было похоже, что машины, пар, электричество скоро решат все социальные проблемы. Экономисты подсчитывали, как улучшается материальное положение рабочего класса и растет национальное богатство. В Германии набирал силу реформизм, в России — легальный марксизм. Адептам и того и другого течения представлялось, что период революционных бурь, классовых конфликтов и войн — дело прошлое, Европа вступает в полосу благополучного,спокойного развития, обещающего в перспективе всеобщее процветание.
Кто мог тогда предвидеть готовившуюся кровавую мировую бойню и невиданные революционные встряски на земле? Кто мог предвидеть смертельную схватку Германии с Россией, смертельную и для династии Романовых и для династии Гогенцоллернов?
Такой человек был.
10 ноября 1894 года Фридрих Энгельс, получив в Лондоне известие о смерти Александра III, пишет Ф. Зорге: «Не могу себе представить, чтобы теперешняя система пережила смену монарха... Но если заварится каша в России, то и молодому Вильгельму доведется увидеть кое-что новое. Тогда над всей Европой повеет либеральный ветер...» 1
Через два дня в письме к Лауре Лафарг Энгельс высказывается еще определеннее, уже о Николае II: «Он почти идиот, слаб духом и телом и обещает как раз то неустойчивое царствование человека, который будет простой игрушкой в руках людей с их взаимопротиво-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 259.
213
речащими интригами, а это и нужно, чтобы окончательно уничтожить российский деспотический строй» 1.
Какая удивительно точная и прозорливая характеристика последнего русского царя и ожидающей его плачевной судьбы! Первые месяцы правления Николая лишь утвердили Энгельса в его первоначальном мнении. Все крепнет и крепнет его убеждение в приближении российской революции. «А уж если дьявол революции, — пишет он Г. В. Плеханову, — схватил кого-либо за шиворот, так это Николая И»1 2. Наконец, за несколько месяцев до своей кончины он замечает иронически в одном из писем, что «в России маленький Николай поработал на нас, сделав революцию абсолютно, неизбежной»3.
Конечно, в своих прогнозах Энгельс исходил главным образом не из личных качеств российского, немецкого или какого-либо другого монарха, которые частенько преувеличивают буржуазные мыслители субъективистского толка, а из глубокого анализа экономического положения в Европе, развития противоречий между Россией, Францией, Англией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией — с другой. Этот анализ и приводил его к выводу о неизбежности мирового конфликта и невозможности «локализовать» будущую войну.
Внимательно следя за бурным распространением капиталистических отношений в России, Энгельс к концу жизни уже со всей определенностью сознавал, что надежды народников на ее особый путь к социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм, становятся явно несбыточными. России предстоит пройти все тяготы капиталистического развития. Причем ее отсталость и сохранение феодальных реликтов лишь ужесточат этот процесс, потрясение, произведенное быстрым экономическим переворотом в стране с многочисленным крестьянским населением, может оказаться гораздо более сильным и острым, чем где бы то ни было, и осуществиться «лишь ценой страшных страданий и потрясений. Но история, пожалуй, самая жестокая из всех богинь *, влекущая свою триумфальную колесницу через горы трупов не только во время войны, но и в периоды «мирного» экономического развития»4.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 261.
2 Там же, с. 334.
8 Там же, с. 349.
4 Там же, с. 35.
* Слова «всех богинь» написаны Энгельсом по-русски. — Ред.
214
Энгельс, как и Маркс, был убежден в том, что развивающееся революционное движение в России должно будет неизбежно привести после длительной и суровой борьбы к созданию «российской Коммуны» 1.
Необыкновенная прозорливость Энгельса неоднократно поражала окружающих и раньше. В период революции 1848 года в «Новой Рейнской газете», издававшейся Марксом, время от времени появлялись статьи о революционной войне в Венгрии. Они приписывались одному из крупных военачальников венгерской армии, так как были необычайно богаты информацией, а сделанные в них прогнозы о возможном развитии военных действий почти всегда точно оправдывались. Между тем статьи эти писались двадцативосьмилетним молодым человеком, который никогда не был в Венгрии. Им был Фридрих Энгельс.
В 1870 году во время франко-прусской войны Энгельс вновь привлек к себе внимание профессиональных военных. Он предсказал и самую эту войну, и битву при Седане, и разгром французской армии. С тех пор и утвердилось за ним в семье Маркса полушутливое прозвище Генерал.
Какими бы исключительными ни представлялись эти качества Энгельса, в них все же не было ничего удивительного, если, конечно, не иметь в виду совершенную уникальность и необыкновенность его личности.
В буржуазном и ревизионистском «марксоведении» сложилась довольно прочная традиция так или иначе противопоставлять Маркса и Энгельса. При этом Энгельсу отводится обычно всецело второразрядная роль: нечто вроде ученика и популяризатора Марксова учения, излагавшего идеи «метра» часто будто бы в неадекватной, прямолинейной и огрубленной манере. Назойливо звучит порой и мотивчик, что Энгельс, мол, «менее творческий ум», светящий «отраженным светом».
Как ни странно, но, возможно, одним из «прародителей» этого мифа был сам Энгельс.
Он всегда старался держаться в тени фигуры своего великого друга. И не раз подчеркивал, что играл только «вторую скрипку» в их совместном дуэте. Когда же после смерти Маркса он сам стал «дирижировать оркестром», то поражался «неожиданным почестям»,
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 252.
215
которыми его стали осыпать, и относил их почти всецело к памяти Маркса.
Отвечая на поздравления по поводу своего семидесятилетия, которые пришли к нему со всех концов света, Генерал писал: «Никто лучше меня не знает, что большей частью этих почестей я обязан не себе и не своим заслугам. Такова уж моя судьба, что мне приходится пожинать ту славу и тот почет, семена которых посеял человек, более великий, чем я, — Карл Маркс. Я же могу лишь торжественно обещать провести остаток своей жизни в активном служении пролетариату так, чтобы хотя бы в дальнейшем стать по возможности достойным оказанных мне почестей» !.
Когда Франц Меринг в приложении к своей книге «Легенда о Лессинге» воздал должное Энгельсу как одному из творцов исторического материализма, Энгельс счел своИхМ долгом высказаться по этому поводу следующим образом: «Если у меня и возникают некоторые возражения, то лишь против того, что Вы приписываете мне большие заслуги, чем следует, даже если считать все то, до чего я, быть может, додумался бы — со временем — самостоятельно, но что Маркс, обладая более проницательным глазом и более широким кругозором, открыл намного раньше. Тот, кому выпало на долю счастье проработать в течение 40 лет вместе с таким человеком, как Маркс, при его жизни обычно не пользуется тем признанием, на которое, казалось бы, мог рассчитывать. Но когда великий человек умирает, легко случается, что его менее значительного соратника начинают оценивать выше, чем он того заслуживает, и это, по-видимому, происходит сейчас со мной. История в конце концов все поставит на свое место, но к тому времени я благополучно отправлюсь на тот свет и ни о чем ничего не буду знать»1 2.
Мнение Энгельса, что он при жизни Маркса играл «вторую скрипку», В. И. Ленин считал в общем совершенно справедливым3. Но это, разумеется, не означает какого бы то ни было умаления заслуг Энгельса в создании и развитии марксизма. В той же статье Ленин в полной мере воздает должное Энгельсу как одному «из двух великих учителей современного пролетариата», подчеркивая в ряде случаев и его бесспорный приори¬
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 91.
2 Там же, т. 39, с. 82.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 12.
216
тет. Это обстоятельство отмечал и сам Маркс. В одном из писехМ 1864 года Мавр заявляет Фреду: «Ты знаешь, что, во-первых, у меня все приходит поздно и что, во- вторых, я всегда следую по твоим стопам» К
Это заявление заслуживает того, чтобы отнестись к нему со всей серьезностью и вниманием.
Известно, что личностное и мировоззренческое развитие как Маркса, так и Энгельса шло небывало стремительно. К 1844 году, времени их парижской встречи, оба уже, совершенно самостоятельно, независимо друг от друга, совершили окончательный переход от идеализма и революционного демократизма к материализму и научному коммунизму. Оба пришли к основным, совпадающим в принципе чертам нового, коммунистического мировоззрения. Но каждый своим особым путем.
Вспомним, что Энгельс рос в благочестивой, религиозной семье в Вуппертале, славившемся ортодоксальными, пиетистскими традициями, что его учителями, воспитателями, менторами сплошь и рядом были елейнопостные, ханжеские фигуры, которые крестились, слыша имена Гёте или Шиллера.
Послушный суровым отеческим наставлениям, искренне верящий в бога и фанатичные проповеди, иногда молитвенно настроенный, но чаще легкомысленножизнерадостный — таким кажется Энгельс в гимназические годы. Но закончить гимназию ему так и не удалось. По настоянию отца он был вынужден, не завершив последнего класса, заняться коммерцией, поступить учеником в торговую фирму в Бремене. На этом его систематическое образование и закончилось.
В то время как Маркс сдает экзамен в Берлинском университете и готовит докторскую диссертацию, Энгельс составляет счета, подводит дебет и кредит, отвечает на письма заказчиков. Но тем не менее пребывает в прекрасном расположении духа. Остается тайной, как ему удавалось сочетать достаточно нудную и однообразную конторскую работу с интенсивнейшими занятиями философией, богословием, изучением языков, поэзией, литературой, публицистикой, а также театром, музыкой (он сам сочиняет хоралы), рисованием, спортом (фехтованием, плаванием, верховой ездой).
За три года пребывания в бременской торговой фирме он прошел настоящие университеты самостоятельно- го духовного развития.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 342.
217
Первая большая победа, которую ему удалось одержать, — это победа над религиозными призраками, окружавшими его в отцовском доме. Сначала ироническое отношение к обскурантам, пиетистам, затем сомнения в непогрешимости богословских текстов и самого Священного писания, углубленные занятия теологией, Гегель, Штраус, младогегельянцы... И вот ортодоксально-религиозная пелена спадает с его глаз, и он с удивительным мужеством и последовательностью скидывает смирительную рубашку «ортодоксии», становится убежденным пантеистом. И все это буквально за несколько месяцев 1839 года!
Борьба против алтаря тесно связывается у него с борьбой против трона. Он проникается все большей ненавистью к тому филистерскому строю, духовной усладой которого является религия. Девятнадцатилетний конторский служащий обрушивает гневные слова в адрес короля и его прихвостней. «От государя, — пишет он, — я жду чего-либо хорошего только тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он получил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты булыжниками революции»1.
От этих слов уже веет не только юношеским фрондерством, но подлинно революционным накалом. К подобным, «монтаньярским», настроениям Маркс придет несколько позднее...
В тот же столь знаменательный для духовного развития Энгельса 1839 год он пишет и печатает свое первое большое публицистическое произведение «Письма из Вупперталя». Это удивительная по зрелости ума и зоркости наблюдений работа. В ней Энгельс впервые обращает внимание на рабочий класс, бедственное положение фабричных рабочих, беспощадно и цинично эксплуатируемых. Описывая «ужасную нищету» рабочих, их труд в «низких помещениях, где люди вдыхают больше угольного чада и пыли, чем кислорода», повальные заболевания, детский труд с шестилетнего возраста, на котором хозяева наживаются вдвое больше, чем на труде взрослых, Энгельс саркастически замечает, что все это мало волнует набожных фабрикантов, ибо у них «эластичная совесть, и оттого* что зачахнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более если эта душа каждое вос-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т; 41, с. 444.
218
кресенье по два раза бывает в церкви»; установлено, что «из фабрикантов- хуже всех со своими рабочими обращаются пиетисты: они всевозможными способами снижают рабочим заработную плату якобы для того, чтобы лишить их возможности пьянствовать...»
В последующий период своей жизни, когда в 1841— 1842 годах Энгельс находился в Берлине, проходя военную службу, одновременно слушая лекции в университете и вращаясь в среде младогегельянцев, происходит новый стремительный скачок в его развитии. Он пытается восполнить пробелы своего философского образования, которые, впрочем, не мешают ему сразу же занять решительную и воинствующую позицию в борьбе младогегельянцев против реакционно-верноподданнического, мистического философствования, например, в духе престарелого Шеллинга. Энгельс пишет блестящие памфлеты против Шеллинга, имевшие большой резонанс. Арнольд Руге, полагавший, что автором анонимно изданной брошюры Энгельса «Шеллинг и откровение» является Михаил Бакунин, заметил, что «этот любезный молодой человек оставил позади всех старых ослов в Берлине»1 2. Энгельс критически переосмысливает философию Гегеля, особенно его философию истории, и делает из нее радикальные выводы. Пройдя через школу младогегельянства, он оказывается среди самых радикальных его представителей и обращается к материализму и атеизму Фейербаха и, наконец, к коммунизму, конечно, пока еще в его незрелой, утопической форме. Все это опять-таки в течение одного года!
Кто-кто, а сам Энгельс, однако, не обманывался насчет основательности своих философских познаний. На время он даже бросает свою столь успешную литературно-публицистическую деятельность, чтобы целиком углубиться в научные занятия. Весьма откровенно в этом отношении его письмо к Руге: «Я принял решение на некоторое время совершенно отказаться от литературной деятельности и вместо этого побольше учиться. Причины этого решения очевидны. Я молод и самоучка в философии. У меня достаточно знаний для того, чтобы составить себе определенное убеждение и, в случае надобности, отстаивать его, но недостаточно, чтобы делать это действительно с успехом. Ко мне бу¬
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 456.
2 К о р н ю О. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность. М., 1976, с. 443—444.
219
дут предъявлять тем большие требования, что я — «философский коммивояжер» и не приобрел благодаря докторскому диплому права на философствование. Когда я опять напишу что-либо, на этот раз под своим именем, я надеюсь удовлетворить этим требованиям» 1.
И Энгельс окунается с головой в теорию. Он движется вперед, словно надев волшебные сапоги-скороходы. Он догоняет, а скоро и уверенно обходит своих недавних друзей, видных младонемцев, младогегельянцев, «свободных», начинает относиться к ним критически, видя, например, недостаток последних в отвлеченном, чисто «теоретическом терроризме». Он с энтузиазмом обращается к философии Фейербаха, находя в ней преодоление раскола между «землей и небом». Наконец, он приходит к идее соединения философии с практикой.
Любопытно свидетельство М. Гесса, одним из первых младогегельянцев объявившего себя коммунистом. Вспоминая о первом посещении Энгельсом редакции «Рейнской газеты» осенью 1842 года, Гесс писал, что этот «старый (!) революционер» расстался с ним «как самый ревностный коммунист».
Естественно, что первая встреча Энгельса, уже ставшего «ревностным коммунистом», с Марксом, стоявшим еще на радикально-демократических позициях и недоверчиво относившимся к коммунизму из-за той «фразерской» формы, в которой он тогда проповедовался в Германии, оказалась «весьма холодной».
Вскоре, однако, и Маркс «по стопам Энгельса» обратился к самому углубленному изучению утопического социализма (коммунизма).
Энгельс тем временем отправился в Англию по делам торговой фирмы своего отца. Он словно перенесся на век вперед по сравнению с Германией и увидел буржуазные отношения в их развитом виде (на его родине они только тогда развивались), осознал острую классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом, уже оформившимся в могучую политическую силу.
Одну за другой посылает Энгельс в «Рейнскую газету» статьи, в которых уже во весь голос говорит о набирающем силу революционном рабочем движении в Англии. Его вначале незрелые и расплывчатые коммунистические убеждения крепнут с каждым днем, он сознательно становится на позиции рабочего класса как
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 27, с. 365—366.
220
единственного класса, способного осуществить социальную революцию.
Уже в первых числах декабря 1842 года Маркс публикует в «Рейнской газете» статью Энгельса «Внутренние кризисы», где без обиняков делается вывод, что в Англии «революция мирным путем невозможна и что только насильственное ниспровержение существующих противоестественных отношений, радикальное свержение дворянской и промышленной аристократии может улучшить материальное положение пролетариев» *.
Думается, что именно статьи Энгельса из Англии побудили Маркса обратить вскоре пристальное внимание на рабочий класс как на новую революционную силу.
Пребывание Энгельса в Англии, естественно, способствовало возникновению у него всевозрастающего интереса к экономической жизни страны и к теоретическим проблемам буржуазной политической экономии. В нем все более крепло убеждение, что именно факторы экономической жизни являются определяющими для политических и идеологических акций, они направляют ход классовой борьбы пролетариата с буржуазией и ведут ко всемерному обострению коллизий буржуазного общества, а в перспективе образуют материальный фундамент коммунистического общества.
Утопический, «философский» коммунизм Энгельса, с которым он прибыл в Англию, стал обретать прочное научное основание. Переход Энгельса на позиции научного коммунизма и материализма в понимании общественных явлений запечатлен в двух статьях, опубликованных в «Немецко-французском ежегоднике». В этом же выпуске и Маркс решительно объявил о своем переходе на позиции пролетариата. Идя своим путем — от критического преодоления философии Гегеля и Фейербаха, анализа истории Великой французской революции и борьбы классов во Франции, — Маркс со всей страстью непримиримого революционного борца сформулировал в том же «Немецко-французском ежегоднике» исходные посылки нового мировоззрения. Если в политическом отношении выводы Маркса звучали более четко, последовательно и ярко, чем у Энгельса, то в одном отношении у последнего было преимущество. В статье «Наброски к критике политической экономии» Энгельс впервые сформулировал экономические основы на-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 503.
221
учного коммунизма. По выражению Ф. Меринга, в экономической области в этот период Энгельс «был тем, кто давал, а Маркс тем* кто воспринимал» *. Сам Маркс впоследствии охарактеризовал статью Энгельса как «гениальные наброски к критике экономических категорий» 1 2.
Еще через год Энгельс публикует ставшее знаменитым исследование «Положение рабопего класса в Англии», написанное на материалах, собранных во время пребывания в этой стране. Не верится, что этот удивительный по масштабности исторического прозрения, по глубине и точности социального анализа труд создан 24-летним молодым человеком! И через полвека после его выхода в свет Ленин писал, что «ни до 1845 года, ни позже не появлялось ни одного столь яркого и правдивого изображения бедствий рабочего класса»3. Ленин также отметил ту заслугу Энгельса, что он « ска¬
зал, что пролетариат не только страдающий класс...»4.
В работе Энгельса на огромном фактическом базисе экономически обоснована неизбежность крушения буржуазного общества в результате развития внутренне присущих ему антагонизмов. Первым в мировой экономической литературе Энгельс с коммунистических позиций дал всесторонний анализ тенденций промышленной революции и ее социальных последствий.
Свои теоретические выводы автор делал, на основе собственных наблюдений и собранных им данных и отчетов о положении рабочего класса в различных отраслях хозяйства. В этом отношении его работа представляет собой образец конкретно-социологического исследования. В предпосланном книге обращении к рабочему классу Великобритании он писал: «Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Я исследовал его с самым серьезным вниманием, изучил различные официальные и неофициальные документы, поскольку мне удавалось раздобыть их, но все это меня не удовлетворило. Я искал большего, чем одно абстрактное знание предмета, я хотел видеть вас в ваших жилищах, наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуж¬
1 Мер инг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957, с. 121.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 8.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 9.
4 Там же.
222
дах, быть свидетелем вашей борьбы против социальной и политической власти ваших угнетателей. Так я и сделал. Я оставил общество и званые обеды, портвейн и шампанское буржуазии и посвятил свои часы досуга почти исключительно общению с настоящими рабочими; я рад этому и горжусь этим»1.
Вся книга проникнута ощущением неизбежности революции в самое ближайшее время. Конечно, это была иллюзия. Но в самом главном прогноз Энгельса о развитии английского общества как о все углубляющемся конфликте рабочего класса и буржуазии оказался удивительно верным. Маркс почти через 20 лет после выхода книги отмечал этот факт в письме к автору, говоря, что все в ней «до мельчайших подробностей подтвердилось дальнейшим развитием после 1844 года». Вслед за этим Маркс добавлял: «Когда я вновь перечитывал твою книгу, то с сожалением заметил, что мы старимся. Как свежо, страстно, с каким смелым предвидением, без ученых и научных сомнений написана эта вещь! И сама иллюзия, что завтра или послезавтра можно будет воочию увидеть исторический результат, придает всему так много теплоты и жизнерадостности, по сравнению с которыми наша более поздняя манера писать «в мрачных тонах» порождает чувство чертовской досады»1 2.
Фундаментальная работа Энгельса о положении рабочего класса в Англии была написана и издана в 1845 году, спустя год после второй встречи с Марксом, когда сразу же выяснилось, как писал Энгельс, «наше полное согласие во всех теоретических областях»3. С этого момента началась их горячая дружба и совместная работа, продолжавшаяся до самой смерти Маркса. Они являлись словно катализаторами творческой мысли друг для друга. Оба прекрасно дополняли один другого именно в силу несхожести характеров, темпераментов, склада мышления, литературных стилей.
Ко времени их встречи Маркс обладал несравненно большей глубиной и систематичностью философско-исторических познаний. Энгельс же располагал конкретным знанием экономического и политического развития самой передовой промышленной державы мира. Первый был непревзойденным мастером теоретического
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 235.
2 Там же, т. 30, с. 280.
3 Там же, т. 21, с. 220.
223
анализа сложнейших социальных проблем, второй легко чувствовал себя в обобщении и описании огромного эмпирического материала, в выделении главного, существенного в потоке повседневности.
Продолжая сравнение Энгельса с его гениальным другом, можно сказать, что один, как легко вооруженный воин, двигался быстрее, маневреннее, свободнее, первым замечал приближение неприятеля и дерзко нападал на вражеские крепости. Другой был склонен к длительной, затяжной осаде этих крепостей, к медленному, но основательному движению вперед. Один был скор и нетерпелив в выводах и в работе, быстро осваивал новый материал, легче схватывал ранее неизвестное, не застревал подолгу на изучении одного и того же предмета, свободнее синтезировал данные из самых различных и далеко отстоящих друг от друга областей науки и культуры. Другой был не в силах опубликовать ни строчки, если не мог доказать свой вывод десятью различными способами; бесконечно «вылизывал» литературное детище, так и не удовлетворяясь сделанным. Полушутливым девизом одного было «относиться ко всему легко», девизом другого — «подвергать все сомнению».
В анализе происходящих исторических событий каждому тоже было дано «свое». Один порой авторитетнее судил мирные потоки явлений, другой обретал непревзойденную ясность взора, умение найти единственно правильное решение в бурные периоды. Энгельс по этому поводу заметил: «В спокойные времена, правда, иной раз случалось, что события подтверждали мою, а не его правоту, но в революционные моменты его суждение было почти безошибочно» К
У каждого был свой, неповторимый литературный стиль (а стиль — это человек!). Мысль одного яснее и прозрачнее, как быстрый родник, и, кажется, каждому дано утолить из него духовную жажду. Мысль другого движется лавиной, неукротимой Ниагарой, образуя причудливые водовороты метафор, диалектические метаморфозы, сальто-мортале категорий. Ирония одного легка, несколько даже простодушна и прямолинейна, ирония другого философски углубленна, убийственно язвительна.
Их дружба, выросшая из творческого дуэта в работе
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 188.
224
над «Святым семейством» и «Немецкой идеологией», с годами становилась все крепче. Их духовная общность выросла настолько, что они совершенно не могли обходиться друг без друга. Каждый из них с восхищением и влюбленностью отдавал должное талантам и достоинствам другого.
Однажды Маркс так отозвался о своем друге: «...Он — настоящая энциклопедия, работоспособен в любое время дня и ночи... пишет и соображает быстро, как черт...» *. Энгельс действительно отличался необыкновенно разносторонними познаниями и интересами, великолепно ориентировался, как мы знаем, не только в общественных, но и в естественных науках (вплоть до медицины), любил театр, музыку, литературу. К тому же он был настоящим полиглотом и. знал в совершенстве не только почти все европейские языки, но и многие диалекты. «Энгельс заикается на двадцати языках», — пошутил один из социалистов по поводу свойства Энгельса слегка заикаться в моменты волнения. Вместе с тем он меньше всего походил на кабинетного книжного червя. Спортивно сложенный, с великолепной военной выправкой, он был страстным охотником и наездником.
Словом, это был в полном смысле слова универсально развитый человек, универсально применяющий свои способности.
Однажды Маркс получил письмо от своего гамбургского издателя, который сообщил ему о том, что его посетил Энгельс и что он познакомился таким образом с обаятельнейшим человеком, какого ему когда-либо приходилось встречать.
«Хотел бы я видеть человека, — с гордостью воскликнул Маркс, прерывая чтение письма, — который не нашел бы Фреда столь же милым, сколь и образованным!»
Именно милым, жизнелюбивым и остроумным видится Энгельс, когда читаешь его «Исповедь» — ответы на анкету дочерей Маркса.
Достоинство, которое вы больше всего цените в людях ....
Веселость
в мужчине
Не вмешиваться в чужие дела
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 505.
225
У Энгельса, как и у Маркса, был чрезвычайно развит вкус к юмору, хорошей шутке. Это помогало им сносить тяготы эмигрантской жизни. И читая письма Энгельса, Маркс часто смеялся до слез.
Дружба Маркса и Энгельса выдержала тяжелейшие испытания. Энгельс сознательно отодвинул в сторону на многие годы собственные научные занятия, чтобы обеспечить материальную возможность для этих занятий Марксу.
После выхода в свет «Положения рабочего класса в Англии» прошло 33 года, прежде чем была опубликована следующая фундаментальная научная работа Энгельса — «Анти-Дюринг». Конечно, это не было периодом литературного молчания. Энгельс написал огромное количество статей и брошюр по самым различным экономическим, политическим, историческим вопросам, проблемам военного дела и военной истории европейских держав. Но взяться за большой научный труд у него не было возможности.
После эмиграции в Англию семья Маркса осталась
* Марка вина; в выборе даты содержится намек на революционные события 1848 года. — Ред.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 581—582.
226
в женщине
Умение класть вещи на свое место
Ваша отличительная черта . . ,
Знать все наполовину
Ваше представление о счастье .
Шато-Марго 1848 г. *
Ваше представление о несчастье
Визит к зубному врачу
Недостаток, который Вы считаете извинительным
Излишества всякого рода
Недостаток, который внушает Вам наибольшее отвращение ....
Ханжество
Ваша антипатия
Жеманные, чопорные жен- жины
...Ваше любимое занятие . . .
Поддразнивать самому и отвечать на поддразнивания
Ваш любимый герой
Нет ни одного
героиня
Их слишком много, чтобы можно было назвать только одну
...Ваш любимый цветок . . . ,
Колокольчик
цвет .
Любой, если это не анилиновая: краска
Ваше любимое блюдо . . . ,
Холодное — салат; горячее — ирландское рагу
Ваше любимое житейское правило
Не иметь никакого
Ваш любимый девиз
Относиться ко всему легко1
почти без средств к существованию. Чтобы поддержать друга, Энгельс решает надеть на себя ярмо «собачьей коммерции», поступает в качестве служащего в контору хлопчатобумажной фабрики в Манчестере, одним из совладельцев которой был его отец. Этому «деловому рабству» он отдал двадцать лет. Все эти годы между Марксом и Энгельсом шла оживленная переписка, и чуть ли не в каждом письме Энгельс, который сам отнюдь не купался в роскоши, сообщал о высылаемом им чеке на скромную сумму.
Ф. Меринг справедливо заметил, что для того, чтобы предложить, и для того, чтобы принять такую жертву, нужен был одинаково высокий дух. Да дело и не ограничивалось только материальной помощью.
Когда Марксу было предложено писать статьи для газеты «Нью-Йорк дейли трибюн», Энгельс переводил статьи Маркса на английский, так как его друг еще не вполне свободно владел этим языком, а порой и сам писал их за него.
С Энгельсом Маркс обсуждал все трудные проблемы, встававшие в ходе работы. При этом мнение Энгельса было для него, как он сам признавал, «важнее всего того, что может сказать весь свет по этому поводу». Без совета со своим другом Маркс не сделал в лондонский период своей жизни ни одного практического шага, не опубликовал ни одной работы.
Можно привести немало примеров творческой взаи- моотдачи двух друзей, каждый готов был щедро распахнуть перед другим кладовые своей памяти, познаний, идей, опыта. Так, во время событий во Франции, приведших к власти Наполеона III, Энгельс делится с Марксом своими очень интересными и остроумными соображениями о «героях» этих событий и о тех трагикомических ситуациях, в которые ставит их «ирония истории». Он, в частности, пишет: «Кажется, право, будто историей в роли мирового духа руководит из гроба старый Гегель, с величайшей добросовестностью заставляя все события повторяться дважды: первый раз в виде великой трагедии и второй раз — в виде жалкого фарса. Коссидьер вместо Дантона, Л. Блан вместо Робеспьера, Бартелеми вместо Сен-Жюста, Флокон вместо Карно и этот ублюдок (Луи Бонапарт. — Ред.) с дюжиной первых встречных погрязших в долгах офицеров вместо маленького капрала (Наполеона I. —
227
Ред.) с его плеядой маршалов. До 18-го брюмера мы, стало быть, уже добрались» К
Нетрудно заметить, что письмо Энгельса подсказало Марксу идею блистательного начала его знаменитой книги и само ее название «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».
Впрочем, у них никогда не было и не могло быть каких-либо счетов по поводу авторства и соавторства. Настолько эти два гениальных и несхожих ума привыкли творить как одна голова.
В период многолетней работы над «Капиталом» Маркс то и дело обращался к Энгельсу за советами и разъяснениями по поводу тех конкретных проблем функционирования финансовой системы, в которых Энгельс, как «коммерсант», был более силен. Основные, выношенные идеи «Капитала» Маркс также проверял сначала на Энгельсе. Нужно сказать, что Энгельс не был только восторженным «первым читателем», но и нередко подвергал Маркса суровой критике за недостаточную ясность и «разжеванность» изложения, давая советы, как сделать наиболее сложные и абстрактные теоретические выводы более доступными для понимания широким читателем. Сыграли свою роль и настоятельные требования Энгельса, чтобы Маркс возможно быстрее приступил к окончательной отделке первого тома книги и прекратил бесконечные переделки уже написанного.
Наконец рукопись была отдана в печать. Маркс писал в этой связи Энгельсу: «Без тебя я никогда не мог бы довести до конца это сочинение, и — уверяю тебя — мою совесть постоянно, точно кошмар, давила мысль, что ты тратишь свои исключительные способности на занятия коммерцией и даешь им ржаветь главным образом из-за меня, да в придачу еще должен переживать вместе со мной все мои мелкие невзгоды»1 2.
Теперь и Энгельс мог подумать о том, как разделаться с ненавистным занятием. Он нес этот свой жребий со стоицизмом и выполнял конторскую поденщину так весело и невозмутимо, как будто лучше ее и на свете ничего не могло быть.
Однако как безмерно угнетало это его на самом деле, показывает такой штрих из воспоминаний Элеоноры Маркс-Эвелинг, которая гостила у Энгельса, когда его «каторга» подходила к концу.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 27, с. 341.
2 Там же, т. 31, с. 251.
228
«Я никогда не забуду его ликующего возгласа: «В последний раз!», когда он утром натягивал свои сапоги, чтобы в последний раз отправиться в контору. Несколько часов спустя мы, стоя в ожидании у ворот, увидели Энгельса, идущего по небольшому полю, которое находилось перед его домом. Он размахивал в воздухе своей тростью, пел и весь сиял от радости. Затем мы по-праздничному уселись за стол, пили шампанское и были счастливы. Я тогда была слишком молода, чтобы все это понять. Но теперь я не могу вспомнить об этом без слез».
Своей матери Энгельс в этот день написал, что «стал совсем другим человеком и помолодел лет на десять».
Получив наконец долгожданную свободу, Энгельс с энергией юноши отдается партийной и научной работе. Избирается в состав Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих (Первого Интернационала), вместе с Марксом много сил отдает борьбе за сплочение рабочего класса разных стран, за выработку правильной стратегии и тактики пролетариата, борьбе против анархизма, лассальянства, нарождающихся реформистских тенденций в рабочем движении. Настало время и для обобщения великого опыта Парижской коммуны.
Вместе с тем он работает запоем над реализацией накопившихся у него творческих замыслов. Среди них первое место занимает поистине титаническая задача, которую он себе поставил, — задача философского синтеза и диалектической обработки всех новейших достижений естествознания в связи с историей науки, техники, философии. Это, по существу, та самая задача, о которой писал впоследствии Ленин: «Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники»1. Ленин, как известно, не был знаком с рукописью Энгельса «Диалектика природы», оставшейся незавершенной и опубликованной впервые лишь в 1925 году.
В 1878 году выходит из печати «Анти-Дюринг», в котором, по словам Ленина, «разобраны величайшие вопросы из области философии, естествознания и общественных наук». Причем сделано это Энгельсом удивительно свободно, словно играючи, в блестящей остро-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 131.
229
умно-полемической манере, во всеоружии юмора, сарказма, иронии, столь свойственных автору. Здесь в полной мере проявился его дар и как глубочайшего мыслителя, и как литератора-сатирика, мастерски владеющего словом и образом. Миллионы и миллионы трудящихся всех стран с тех пор учились и учатся постигать марксистское мировоззрение во всех его основных частях (философия, политическая экономия, научный социализм) по этой работе Энгельса.
Творческое содружество двух гениев проявилось и в создании «Анти-Дюринга». Маркс ознакомился с работой в рукописи и написал целиком для нее главу по политической экономии.
И поныне, к сожалению, находятся охотники доказывать, что будто бы Энгельс в «Анти-Дюринге» и «Диалектике природы» отошел от «гносеолошзма» Маркса! с его упором на роль практики в процессе познания к «онтологизму» (и даже позитивизму), что тут будто бы мы имеем дело с двумя различными пониманиями диалектики. Тем самым демонстрируется лишь полное непонимание марксистской философии. Как для Маркса нет и не могло быть никаких «диалектических схем», не отражающих диалектику вещей, так и для Энгельса существовала только одна диалектика: природы, общества и человеческого мышления. Диалектика, неоднократно подчеркивал он, потому является методом познания действительности, что она представляет собой «аналог» этой действительности. Эту суть «живой души» марксизма прекрасно выразил Ленин, говоря о тождестве диалектики, логики и теории познания.
И в теории, и в революционной стратегии и тактике нет и никогда не было никакого «энгельсизма», отличного от «марксизма». Верно другое: нельзя говорить о марксизме, отталкиваясь только от работ Маркса, не принимая во внимание всего сделанного Энгельсом. И даже период формирования марксизма предстает перед нами иначе, если мы будем рассматривать не порознь, а в органическом единстве, скажем, «Экономиче- ско-философские рукописи» Маркса и «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса как нечто взаимодополняющее.
Беспрецедентному в истории творческому содружеству суждено было продолжаться, как это ни странно звучит, и после смерти Маркса. Похоронив друга, Энгельс вновь отложил в сторону собственные научные
230
занятия (в том числе неоконченную рукопись «Диалектики природы»). Он должен был теперь стать буквально «alter ego» Маркса, заменить его и в руководстве мировым коммунистическим движением, и в завершении главного труда Маркса — «Капитала».
Но, разбирая целые бумажные горы литературного наследия Маркса, Энгельс наткнулся на следы одного «побочного» замысла своего друга (а их у него было великое множество) и неожиданно для себя увлекся им. Речь шла о возникновении первоначальных форм человеческого общества: Маркс делал выписки на эту тему из книги американского этнографа Моргана. Энгельс вспомнил, что Маркс, говоря с большой похвалой об этой книге, жаловался на недостаток времени изложить свои взгляды на происхождение семьи, частной собственности и государства. Вопрос этот представлял большую важность для утверждения материалистического понимания истории не только на основе анализа капиталистического общества ( что было уже сделано Марксом), но и всей предшествующей истории. Энгельс в течение двух месяцев создает свою знаменитую книгу «Происхождение семьи, частной собственности и государства», рассматривая этот труд как «в известной мере выполнение завещания» Маркса.
Он убедительно показал в этой книге, что институты частной собственности и государства, объявленные апологетами капитализма незыблемыми и вечными, на самом деле возникли исторически и с той же самой исторической неизбежностью будут изжиты. Известно, какую роль сыграла эта работа в дальнейшем развитии марксистских взглядов на государство и революцию Лениным, который считал труд Энгельса одним «из основных сочинений современного социализма» и отмечал, что в нем можно «с доверием отнестись к каждой фразе» К
Без передышки Энгельс приступил к «Капиталу». Второй том был почти готов, но в черновой рукописи, исполненной Марксовой скорописью, похожей на иероглифы, с множеством сокращений. <г...Я — единственный из оставшихся в живых, — писал Энгельс П. Л. Лаврову, ознакомившись с рукописью, — кто в состоянии расшифровать этот почерк и разобрать эти сокращения слов и целых фраз»1 2.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 67.
2Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 87—88.
23!
Энгельс переписывает по многу часов в день Марксов текст, восполняя его в необходимых местах, но так, чтобы это было «произведение исключительно автора» и чтобы не пропало ни одно слово Маркса, каждое из которых «на вес золота» К
В это время у Энгельса резко обостряется болезнь глаз, временами он совсем не может работать или в лучшем случае вынужден диктовать, но, несмотря ни на что, заканчивает подготовку второго тома к печати в удивительно короткие сроки. В мае 1885 года он уже отсылает рукопись в печать.
С третьим томом работы предстояло несравненно больше. У Маркса имелся только его набросок, содержащий к тому же большие пропуски, многие главы были неполны или только намечены эскизно, конспективно. Можно сказать, что имелся «скелет» работы, который предстояло облечь в живую плоть и вдохнуть в нее жизнь.
Но и от имеющегося материала Энгельс пришел в восторг. Августу Бебелю он сообщал: «Работаю над III книгой. Она превосходна, блестяща. Это действительно неслыханный переворот во всей старой политической экономии. Только благодаря этому наша теория приобретает несокрушимый фундамент, и мы сможем победоносно выступать на всех фронтах»1 2.
Одну из глав Энгельс написал целиком, в некоторые другие ввел большой новый фактический материал, привел в соответствие имеющиеся выводы с новыми экономическими данными и тенденциями.
Работать приходилось урывками. Мешали недомогания, катастрофически ухудшающееся зрение. Увы, как пошутил как-то Энгельс, 74 года — это не 47.
Но главное заключалось в том, что Энгельс был теперь признанным вождем международного коммунистического движения, и на его плечи лег всевозрастающий объем партийно-организаторской работы, особенно с основанием II Интернационала. Пренебречь этой работой? Даже ради «Капитала»? Энгельс ответил на это решительно: «...Кто, подобно мне, более пятидесяти лет активно участвовал в этом движении, для того вытекающие отсюда дела являются неотложной обязанностью, требующей немедленного исполнения. Как в шестнадца-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 24, с. 3; т. 36, с. 24.
2 Там же, т. 36, с. 252.
232
том столетии, так и в наше бурное время чистые теоретики в сфере общественных интересов встречаются только на стороне реакции, и именно потому эти господа в действительности вовсе не теоретики, а простые апологеты этой реакции» *.
Почти десять лет жизни (последние десять лет!) потратил Энгельс на работу над третьим томом. В 1894 году он с гордостью держал его в руках.
Новый, 1895 год 74-летний Генерал встретил, как всегда, весело, в кругу друзей и соратников. Он был полон энергии и творческих планов. Отвечая на новогодние поздравления, он писал своему старому партийному товарищу Паулю Штумпфу, что у него есть одно желание — «заглянуть в новое столетие»1 2. Увы, эта встреча Нового года оказалась последней в жизни Энгельса.
И все же мечта его сбылась. Он не смог сам «заглянуть» в новое столетие, но сумел прозорливо увидеть, теоретически предсказать многое из того, чему свидетелями стали мы, живущие в XX веке.
0 прогнозах Энгельса относительно первой мировой войны, крушения царизма и неизбежности революции в России уже говорилось. Но это далеко не все, что провидел Энгельс в наступающем столетии.
Уже в «Анти-Дюринге» Энгельс, опираясь на «Капитал» Маркса, дает анализ тех новых явлений в капиталистическом обществе, которые в полной мере обнаруживаются теперь. Он показывает, в частности, что концентрация собственности в руках буржуазного государства вовсе не изменяет сущности капиталистического строя. Словно разоблачая доктрины нынешних идеологов мирного врастания капитализма в социализм путем развития «государственного контроля над собственностью», Энгельс со всей определенностью утверждает: чем больше производительных сил возьмет буржуазное государство в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. «Государственная собственность на производительные силы не разрешает конфликта, но она содержит в себе формальное средство, возможность его разрешения»3.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. I, с. 4.
2 Там же, т. 39, с. 303.
3 Там же, т. 20, с. 290.
233
В ряде последующих работ Энгельс подметил появление монополий в виде картелей и трестов и показал, к чему может привести капиталистическое общество их развитие. Он даже сумел предвидеть, что капитал получит возможность применять элементы «планового производства» к своей пользе и выгоде. Энгельс отметил также «превращение промышленности в акционерные предприятия» \ вывоз капитала, экономический раздел мира между наиболее оильными державами и неравномерность их развития.
В. И. Ленин, разрабатывая свое учение об империализме, отталкивался именно от этих идей. По поводу мысли Энгельса о монополизации трестами целых отраслей промышленности и о том, что тут «прекращается не только частное производство, но и отсутствие планомерности», Ленин писал, что «здесь взято самое основное в теоретической оценке новейшего капитализма, т. е. империализма», что это замечательно ценное положение Энгельса показывает, «как внимательно и вдумчиво следил он именно за видоизменениями новейшего капитализма и как сумел он поэтому предвосхитить в известной степени задачи нашей, империалистической эпохи»1 2. Вместе с тем Ленин отметил, что полной планомерности можно достигнуть только при социализме.
Чувствуя, что конец XIX века «все больше и больше заряжается электричеством», и предрекая «времена восстаний и войн», Энгельс решительно выступил против реформистских иллюзий о возможности исключительно мирного парламентского пути к социализму при заведомом отказе от каких-либо насильственных революционных действий.
Подробно и обстоятельно Энгельс разработал вопрос о роли крестьянства в грядущей революции, о необходимости союза пролетариата с ним. «Завоевание политической власти социалистической партией стало делом недалекого будущего. Но чтобы завоевать политическую власть, эта партия должна сначала из города пойти в деревню, должна сделаться силой в деревне»3. Он развивал мысль о том, что избавление мелкого крестьянина от угрозы полного разорения может дать только пролетарская революция, в результате которой кресть-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 485.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 67.
3 Маркс Км Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 504.
234
янин сможет сохранить свою усадьбу и земельное владение, «превратив их в кооперативное владение и кооперативное производство» *. Кооперативное хозяйство Энгельс, как и Маркс, рассматривал в качестве «промежуточного звена» при переходе к «полному коммунистическому хозяйству»1 2. Что касается средних и крупных крестьян, то Энгельс выражал надежду, что и они со временем поймут неизбежность перехода к новому способу производства и «экономическое развитие научит уму-разуму и эти упрямые головы»3.
В произведениях Маркса и Энгельса мы находим много оправдавших себя — и оправдывающих — положений о коммунистической общественно-экономической формации. Нет необходимости здесь все их перечислять. Это особая тема. Но они видели главное: при новом строе производители сами возьмут в свои руки управление производством и обществом и поставят под свой разумный контроль отношения друг с другом и с природой; уже не стихийные социально-экономические силы будут господствовать над людьми, помимо их сознания и воли, а это сознание, руководствуясь познанными законами развития, будет определять направление переустройства общественного бытия.
Применяя современную терминологию, речь идет о кардинальном изменении роли так называемого субъективного фактора.
Энгельс прямо говорит об этом в одном из подготовительных материалов к «Анти-Дюрингу»: «Взгляд, согласно которому будто бы идеями и представлениями людей созданы условия их жизни, а не наоборот, опровергается всей предшествующей историей, в которой до сих пор результаты всегда оказывались иными, чем те, каких желали, а в дальнейшем ходе в большинстве случаев даже противоположными тому, чего желали. Этот взгляд лишь в более или менее отдаленном будущем может стать соответствующим действительности, поскольку люди будут заранее знать необходимость изменения общественного строя (sit venia verbo*), вызванную изменением отношений, и пожелают этого изменения, прежде чем оно будет навязано им помимо их
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 519.
2 Там же, т. 36, с. 361.
3 Там же, т. 22, с. 523.
* Да будет позволено сказать так. — Ред.
235
сознания и воли. Это применимо и к представлениям о праве, а следовательно, и к политике...»1.
Нетрудно заметить, что это несколько парадоксальное на первый взгляд суждение находится в русле мыслей, развитых Энгельсом в ряде писем последних лет жизни, об обратном влиянии надстройки, идеологии, политики, права и т. д. на базис, на экономические отношения. В сознательно, целенаправленно, научно управляемом обществе это воздействие принимает, естественно, иной характер, чем прежде. Это обстоятельство, конечно, не приводит ни к малейшему отступлению от материалистического понимания истории.
И разумеется, великие гуманисты Маркс и Энгельс видели коммунистическое общество таким, где центром притяжения и самоцелью будет Человек — свободное, всестороннее, безграничное развитие и позитивное творческое самоутверждение личности каждого.
В начале 1894 года итальянский социалист Джузеппе Канепа обратился к Энгельсу с любопытной просьбой: подыскать эпиграф к новому еженедельнику, в котором в кратких словах была бы выражена основная идея грядущей коммунистической эры. Причем автор письма хотел, чтобы этот девиз противостоял девизу предшествующей эры, выраженному в словах Данте:
— Одни люди властвуют, а другие страдают.
Энгельс после некоторых раздумий остановился на таких словах из «Манифеста Коммунистической партии»:
«На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»2.
Эти слова стали конституционным принципом предсказанной Марксом и Энгельсом «российской Коммуны», первого в мире социалистического государства.
5 августа 1895 года сердце Фридриха Энгельса остановилось.
На траурном митинге присутствовали социалисты из многих стран мира. Вера Засулич возложила венок на гроб Энгельса от имени русских социал-демократов.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 639.
2 Там же, т. 39, с. 166.
236
Согласно завещанию Энгельса урна с его прахом была погружена в морские волны — недалеко от берегов Англии. Дочь Маркса — Элеонора — провожала прах Энгельса в последний путь.
В далекой России молодой Ленин, мечта которого увидеться с Энгельсом не сбылась, отозвался на его смерть статьей с эпиграфом из стихотворения Некрасова:
Какой светильник разума угас.
Какое сердце биться перестало!
Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники.
В. И. ЛЕНИН
«РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИАЛЕКТИКА МАРКСИСТСКОГО РЕАЛИЗМА»
В 1925 году в сдвоенном номере журнала «Большевик» (№ 5—6) под рубрикой «Ленин и ленинизм» появилась статья «К вопросу о диалектике» за подписью «Н. Ленин». В короткой справке от редакции сообщалось, что «эти странички» входят в состав одной из философских тетрадей Ильича, что на обложке тетради написано «Философия», а дальше — «Разное».
Так началась публикация рукописного ленинского философского наследия. В 1929—1930 годах почти все основные философские рукописи Ленина были опубликованы в IX и XII Ленинских сборниках, а затем вышли в свет отдельной книгой под названием «Философские тетради».
Впервые стало возможным оценить по достоинству все сделанное Лениным в философии. Впервые его философское наследие предстало во всей своей целостности. Впервые во всей полноте, глубине и мощи явилось миру величие философского гения Ленина.
До этого оппортунистами распространялось мнение, что Ленин-де, конечно, великий революционер, но деятель, так сказать, практического склада. Ему противопоставлялись такие теоретики, как Плеханов, Богданов, Бухарин, а за рубежом «римским папой» от марксизма считался Каутский. О Ленине как о величайшем мыслителе, а тем более как о философе вопрос почти не ставился. Известная философская работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» выдавалась частенько за полемическое произведение в защиту «азов» материализма.
Появление «Философских тетрадей» произвело на сторонников подобных взглядов впечатление шока. Были попытки отнестись к ним просто как к конспектам философских работ, не имеющим самостоятельного научного значения. Чаще всего считалось само собой разумеющимся, что «Философские тетради» стоят особняком от политических статей Ленина и не имеют революционнопрактического значения.
Понадобились годы и десятилетия, чтобы постичь и по достоинству оценить всю глубину и многообразие ленинских философских прозрений, все их неисчерпаемое богатство, постичь диалектику как метод, способ,
239
инструмент познания политических, экономических, социальных коллизий во всей их противоречивости и сложности. Постичь, следовательно, Ленина и как философа, и как революционера-мыслителя, самую ленинскую философию как способ познания и революционного преобразования действительности. Нет и не может быть подлинного революционера без революционной теории, как нет и не может быть революционной теории без революционной, то есть диалектико-материалистической, философии.
«Философские тетради» предстают перед читателем не только как документ, свидетельствующий о процессе освоения Лениным глубин диалектико-материалистической мысли, но и как документ, позволяющий говорить о ленинском этапе в развитии марксистской философии.
Какое же место в «Философских тетрадях» занимает статья «К вопросу о диалектике»? Маленький фрагмент, всего в несколько страниц, представляет собой сжатое, как бы конденсированное резюме размышлений Ленина о диалектике. Поистине этот гениальный набросок стоит целых томов.
Ленин предполагал написать специальную работу о диалектике. Замысел этот, как и аналогичный замысел Маркса, к сожалению, остался неосуществленным. Фрагмент «К вопросу о диалектике» — это, вероятно, программа будущей книги. В целом «Философские тетради» Ленина являются как бы продолжением книги «Материализм и эмпириокритицизм». Но если в произведении 1908 года Ленин делал упор на материализм (диалектический), то в «Философских тетрадях» он делает упор на диалектику (материалистическую).
«К вопросу о диалектике», как и ряд других важнейших работ из «Философских тетрадей», Ленин пишет в 1915 году, в разгар мировой империалистической войны.
Казалось бы, время самое неподходящее для уединенных философских размышлений, которым Ленин с исключительной интенсивностью предается в тиши библиотек. Мир словно сошел с ума. Европа раскололась на воюющие лагеря: Германия и Австро-Венгрия с одной стороны, Великобритания, Франция, Россия, Бельгия, Сербия и Черногория — с другой.
Война идет с исключительным размахом жестокости
240
и варварства. В кровавую бойню бросаются миллионы и миллионы солдат. Германские войска переходят в контрнаступление и топчут русскую землю.
Угар «ура-патриотизма» охватывает чуть ли не все слои русского общества. Та же ситуация во Франции, а с другой стороны — в Германии, воюющей якобы против царского деспотизма. И в том и в другом лагере гремят лозунги «защиты отечества», «войны до победного конца».
Лидеры правой социал-демократии солидаризуются с интересами «своей» милитаристской буржуазии, толкая рабочих разных стран на братоубийственную войну. За всем этим кроется своя «логика», при которой, как ни крути, как ни выкручивайся, как ни обволакивай фарисейскими фразами истинное положение вещей, но интернационализм подменяется шовинизмом.
Ленин сразу же разглядел подлинную суть событий в беспощадно ярком свете. Его логика, логика диалектическая, была принципиально отличной, противостоящей софистике и эклектике в аргументации социал-шовинистов, оппортунистов.
Уже в начале войны Ленин в одном из писем пишет по поводу позиции европейских социал-демократов: «...Нельзя формалистически защищать подлый шовинизм немцев... Нельзя терпеть, нельзя дипломатничать, надо восстать против позорного шовинизма изо всех сил!!» 1
В следующем письме снова: «Меня очень тревожит и волнует позиция европейских социалистов в настоящей войне. Я убежден, что все — в первую голову и преимущественно немецкие социалисты — стали «шовинистами». Совершенно невыносимо читать немецкие и французские... социалистические газеты!! Крайний «шовинизм»! Я боюсь, что современный кризис заставил многих, слишком многих социалистов потерять голову (если можно так выразиться) и что в конечном итоге в этом необычайном «позоре» европейского социализма виноват оппортунизм» 2.
Мысль Ленина ясна. Оппортунизм, возлагавший надежды на примирение классов, на «классовое партнерство», на медленное, путем реформ, перерастание капитализма в социализм, в итоге идет на сделку. На сдел-
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 5—6.
2 Там же, с. 6.
241
ку со «своей», национальной буржуазией против «своего» пролетариата.
Каутский, который делал вид, что занимает «золотую середину» между шовинистами и интернационалистами, — «вреднее всех». «До того опасна и подла его софистика, прикрывающая самыми гладкими и прилизанными фразами пакости оппортунистов... Оппортунисты — зло явное. «Центр» немецкий с Каутским во главе — зло прикрытое, дипломатически подкрашенное, засоряющее глаза, ум и совесть рабочих, опасное всего более» '.
Разногласия, а тем более принципиальные расхождения позиций надо четко прояснить, а не затушевывать, не «замазывать», не «заклеивать». Противоположности позиций должны и в идейной борьбе выступать как разнополюсные. Нет ничего хуже, опаснее для интересов рабочего класса, когда эти противоположности классовых интересов стираются, когда их смысл и содержание софистически извращаются, когда между ними выискиваются компромиссы (эклектика), когда их содержание выхолащивается и выдается за нечто совершенно противоположное (софистика).
Чем ярче проявлялась грабительская, антинародная сущность империалистической бойни — преступления по отношению к народам с обеих воюющих сторон, — тем омерзительнее выглядела половинчатая позиция Каутского. Она приводит Ленина в неистовство. «Нет на свете теперь ничего более вредного и опасного для идейной самостоятельности пролетариата, как это поганое самодовольство и мерзкое лицемерие Каутского, желающего все затушевать и замазать, успокоить софизмами и якобы ученым многоглаголанием разбуженную совесть рабочих»1 2.
Социал-шовинистам, сторонникам «защиты отечества» противостояли пацифисты, взывавшие к немедленному миру. Казалось, правильно было бы большевикам поддержать этот лозунг. Но диалектик Ленин рассуждает иначе. Лозунг «немедленного мира» поддерживали и напуганные войной буржуа. Ситуация в крупнейших воюющих странах — в России, Германии, Франции — была предреволюционная, предгрозовая. Она неимоверно обострилась с войной и продолжала обо-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 13.
2 Там же, с. 21.
242
стряться с каждым днем. Лозунг «мира» в таких условиях означал лозунг разоружения рабочих. А оружие, поскольку оно оказалось в руках пролетариата, надо было повернуть против «своей» буржуазии, против «своих» правительств в борьбе за диктатуру пролетариата. Единственно верным, соответствующим сложной диалектике событий Ленин считает лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую. Другого пути к справедливому демократическому миру не было.
Это единственный в тех условиях способ «и на военной почве... остаться революционерами. И в войске проповедать классовую борьбу» *.
В результате оппортунистической политики II Интернационал потерпел крах. Лидеры его были полны уныния. Им казалось, что это поражение революции. Нет, считал Ленин, это поражение не революции, а недостаточной революционности, крах оппортунизма. Для диалектического, а не односторонне развитого метафизического ума всякое явление предстает неоднозначно, с переходом одной противоположности в другую. Так и империалистическая война — великое бедствие для человечества — принесла, оказывается, и определенную пользу делу пролетариата. «Европейская война, — заявляет Ленин, — принесла ту великую пользу международному социализму, что наглядно вскрыла всю степень гнилости, подлости и низости оппортунизма, дав тем великолепный толчок к очищению рабочего движения от накопленного десятилетиями мирной эпохи навоза»1 2.
Мысль опять-таки диалектически неожиданная. Сила партии возрастает в такой момент, когда численность ее уменьшается, когда она избавляется едва ли не от большинства — оппортунистического — своих членов. Гибель Интернационала — его самоубийство — на руку рабочему движению. Интернационал (оппортунистический) умер. Да здравствует Интернационал пролетарский!
Лидеры II Интернационала защищали ту или иную из воюющих сторон, оправдывая ее и желая ей победы. При этом они ссылались на Маркса и Энгельса, которые якобы, анализируя войны XIX века, обычно желали победы одной из сторон. Ленин разоблачает такие ссыл-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 25.
2 Там же, с. 43—44.
243
ки именно как софизм. Эпоха-то была совсем другая! То была эпоха, в центре которой стояла поднимающаяся буржуазия. Сейчас, в эпоху загнивающего капитализма — империализма, в центре революционных движений стоит рабочий класс. На очереди дня пролетарская революция. Диалектический анализ, настаивает Ленин, требует исторического подхода. «Метод Маркса, — писал он, — состоит прежде всего в том, чтобы учесть объективное содержание исторического процесса в данный конкретный момент, в данной конкретной обстановке, чтобы прежде всего понять, движение какого класса является главной пружиной возможного прогресса в этой конкретной обстановке»
Главные принципы диалектико-материалистического анализа и даны в ленинском фрагменте «К вопросу о диалектике». В этом его непреходящее значение для понимания и настоящего, и прошлого, и будущего.
В период империалистической войны, когда обострились все противоречия капиталистического общества, Ленин вырабатывает новую тактику и стратегию пролетарской партии во всеоружии диалектического метода. Он потому так безошибочно верно ориентируется в сложнейших социально-политических ситуациях, что к диалектике жизни подходит диалектически. И, оттачивая острие своей теоретической мысли, он не случайно обращается к истории философии.
В 1914 году он пишет статью для энциклопедии «Карл Маркс». Штудирует Фейербаха, Гегеля. В 1914 году составляет обширный конспект «Науки логики» Гегеля. В 1915 году начинает работу над книгой «Империализм, как высшая стадия капитализма», изучает и конспектирует гегелевские «Лекции по истории философии» и «Лекции по философии истории», книгу Лассаля о Гераклите, «Метафизику» Аристотеля и множество других работ. Конспекты изобилуют собственными замечаниями, мыслями, идеями. Во фрагменте «К вопросу о диалектике» В. И. Ленин подводит итог этим размышлениям.
Ленин начинает с выяснения того, что является сутью, ядром диалектики. Он обращается к Гераклиту, который гордился тем, что во главу своей философии
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 139—140.
244
поставил положение о единстве противоположностей. «Раздвоение единого и познание противоречивых частей его... есть суть (одна из «сущностей», одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики»
Тождество (единство) противоположностей, поясняет далее Ленин, есть признание (открытие) противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы, в том числе общества и духа. Условие постижения всех процессов мира в их «самодвижении», саморазвитии есть познание их как единства противоположностей. Развитие есть «борьба» противоположностей, а не просто эволюционное уменьшение и увеличение.
Только такое понимание развития, только такая концепция дают ключ к постижению всего сущего, только они дают ключ к «скачкам», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и возникновению нового.
Особенно важно при этом иметь в виду, подчеркивает Ленин, что единство (совпадение, тождество) противоположностей условно, временно, преходяще, реля- тивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение.
Не учитывая этого, легко сползти в софистику, для которой релятивное только релятивно. Для диалектики же в релятивном, текучем есть абсолютное, устойчивое. Для диалектика Гераклита нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Для софиста нельзя в одну и ту же реку войти и один раз. Софист и эклектик от политики легко подменяют понятие патриотизма национализмом, социал-шовинизмом, не видя между ними принципиальной разницы.
Из этого хода рассуждений вытекает и другая важнейшая мысль Ленина во фрагменте «К вопросу о диалектике»: диалектика должна быть понята и как закон объективного мира и как закон познания. В этом качестве ее не понял даже Плеханов. У него она фигурирует лишь как сумма примеров.
К пониманию Плехановым диалектики Ленин возвращается еще раз: «Диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма: вот на какую «сторону» дела (это не «сторона» дела, а суть дела) не обратил вни-
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 316.
245
мания Плеханов, не говоря уже о других марксистах»
Это ленинское высказывание, которое ныне часто приводится, нуждается в пояснении. Что Ленин имеет в виду, говоря, что Плеханов не понял диалектику как теорию познания? Не только то, что известный теоретик марксизма ограничивался ее популяризацией, не только то, что диалектику он представлял себе лишь как сумму примеров. Плеханов был энциклопедически образованным марксистом, который много сделал для пропаганды этого учения. Но в новых условиях, в новой политической обстановке необходимо было не только пропагандировать, но и творчески применять и развивать марксистское учение, мыслить и действовать диалектически в теории и в политике.
Вопрос о том, как в политическом мышлении Плеханова проявлялись «уклоны» от диалектики в сторону метафизики, софистики и эклектики, к сожалению, не привлек до сих пор внимания исследователей его творчества. А он, безусловно, заслуживает специального изучения. Это можно рассматривать как один из заветов Ленина.
Много споров и разногласий до сих пор вызывает ленинский тезис о том, что диалектика и есть теория познания марксизма, иначе говоря, тезис о «совпадении», «тождестве» диалектики и теории познания, а также логики.
Эту ленинскую мысль пытаются иной раз объявить фигуральным выражением, не имеющим буквально точного смысла. В том духе, что есть три разные, но взаимосвязанные науки. Диалектика, мол, занимается общими законами природы и общества, выступая как онтология. Теория познания (гносеология) — законами познания. А логика сводится к изучению специальных, преимущественно формальных операций мышления.
Тем самым мысль Ленина искажается. Ленин исходит из того, что диалектические законы едины для всего сущего: для природы, общества и мышления. Мышление только тогда и может адекватно постигать противоречия сущего, если оно диалектично. Учение о бытии в марксизме неотделимо от учения о познании, о мышлении, ибо диалектика, по Ленину, есть «живое, многостороннее (при вечно увеличивающемся числе
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 321.
246
сторон) познание с бездной оттенков всякого подхода, приближения к действительности (с философской системой, растущей в целое из каждого оттенка)...». Она неизмеримо богаче содержанием по сравнению с метафизическим материализмом, основная беда которого и заключается в неумении применить диалектику к процессу и развитию познания. В игнорировании диалектики познания, в прямолинейности и односторонности, в деревянности и окостенелости Ленин видел гносеологические корни идеализма, идеалистического толкования и бытия и мышления. Диалектика, взятая только как «онтология», противостоящая «гносеологии», неизбежней превращается в нечто вроде дюринговской «мировой схематики», где господствует метафизика. Диалектика поэтому и есть для марксиста и теория познания, и логика мышления.
Ленин высказывается на этот счет неоднократно. И в связи с чтением работ Гегеля, и самостоятельно. Высказывается со всей определенностью, не допускающей иных толкований, со всей категоричностью: «Если Marx не оставил «Логики» (с большой буквы), то он оставил логику «Капитала», и это следовало бы сугубо использовать по данному вопросу. В «Капитале» применена к одной науке логика, диалектика и теория познания [не надо 3-х слов: это одно и то же] материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед»1.
Не надо трех слов! Это одно и то же! Яснее не скажешь.
Марксистский тезис, что единство мира — в его материальности, находит свое выражение и развитие в тезисе, что это единство также в его диалектичности. Тождество диалектики, логики и теории познания — это и есть философский материализм, монизм, исходящий из того, что одни и те же диалектические законы царствуют в сфере природы, общества и мышления. Последовательный материализм может быть только диалектическим. Последовательная диалектика может быть только материалистической. И не зря В. И. Ленин оценивал мысль Гегеля о необходимости включить действительную жизнь в логику как гениальную. Всякие же попытки расчленить это тождество ведут не только к уступкам метафизике, но и к уступкам идеализму, субъекти-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 301.
247
визму, формализму. Ведут к тому, что философия марксизма подменяется «киберфилософией», систем этологией, структурализмом, операционализмом и т. д.
В буржуазной общественной науке резко отрицательное отношение к материалистической диалектике как к какому-то казусу, кунштюку, хитроумной игре понятиями, сальто-мортале категорий, с помощью чего марксисты якобы пытаются создать «видимость» решения сложнейших научных проблем, сложилось уже с конца прошлого века. Для ревизионизма и реформизма революционно-диалектический метод мышления в корне неприемлем. Они стремятся третировать диалектику как метод умозрения, чуждый научному реализму, трактуя последний в духе «ползучего эмпиризма». Оппортунисты «не знают иного реализма, кроме ползучего», — писал Ленин *. Потому-то метафизика, эклектика и софистика стали методом мышления лидеров II Интернационала. Особой популярностью пользовался (да и пользуется по сей день) позитивизм, заимствующий приемы исследования общественных явлений из естественных, «современных» наук, якобы единственно обладающих «позитивным», фактическим знанием. Еще небезызвестный апостол правого социализма Реннер противопоставлял методу Маркса, чья манера изложения, по его словам, «стала для нас чуждой», «современную науку», которая «не только в описании явлений, но и в теоретическом исследовании пользуется не дедуктивным, а индуктивным методом; она исходит из фактов опыта, непосредственно наблюдаемых»1 2. Реннеру, конечно, совершенно не дано было понять, что метод «Капитала» Маркса отнюдь не сводится к дедукции, что здание его возводится на «целом Монблане» фактического материала. Не дано понять также и то, что факты можно истолковать самым различным образом, включив их в ту или иную систему категорий. Вот и получается, что без диалектики нельзя глубоко познать явления реальной жизни. Подлинный реализм в науке и политике возможен только тогда, когда он опирается на материализм, и материализм диалектический. Именно это и сообщает теории и практике истинную широту и смелость взглядов.
А враждебное отношение к диалектике теоретиков
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. II, с. 137.
2 Реннер К. Теория капиталистического хозяйства. М.—Л., 1926, с. XVIII—XIX.
248
антикоммунизма объяснил еще Карл Маркс: «В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму она рассматривает в движении, следовательно также и с ее преходящей стороны, она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна» 1,
Еще один важный момент ленинской статьи связан с методом «Капитала». Это — проблема «начала», «клеточки» при изложении политэкономии капиталистического общества. «У Маркса в «Капитале» сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, отношение буржуазного (товарного) общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простейшем явлении (в этой «клеточке» буржуазного общества) все противоречия (respective зародыши всех противоречий) современного общества. Дальнейшее изложение показывает нам развитие (и рост и движение) этих противоречий и этого общества, в 2 (в сумме. — Г. В.) его отдельных частей, от его начала до его конца»2. Речь идет не о чем ином, как о методе восхождения от абстрактного к конкретному в «Капитале» Маркса.
Этот метод представляет собой метод теоретического воспроизведения реальной целостности во внутренней связи составляющих ее элементов. Или, как бы сейчас сказали, метод теоретического моделирования сложных систем. В «Капитале» такой системой является капиталистическое общество как развитая конкретность. Маркс начинает с простейшей категории — с товара — и последовательно восходит ко все более сложным определениям: стоимость, формы стоимости, прибыль, цена, процент, рента и, наконец, — капитал. Логический анализ категорий теснейшим образом связан с исследованием исторической реальности: простая кооперация, мануфактура, машинное производство, первоначальное накопление капитала и т, д. В результате все капиталистическое общество предстает как живой, развивающий-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 22.
2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 318.
249
ся организм в многообразии всех своих связей и отношений. Путь от абстрактного к конкретному завершен.
Такой или примерно такой путь должен пройти всякий исследователь, стремящийся к диалектическому воспроизведению любой другой сложной реальной системы.
В научном познании диалектическому методу еще предстоит показать все, на что он способен. Например, естественные науки ощущают настоятельную потребность обобщить, упорядочить накопленный материал, диалектически его обработать, интегрировать разрозненные достижения различных наук с помощью нового понятийного и методологического аппарата.
На этом пути естествознание вступает в самые высокие сферы теоретического мышления. Оно неизбежно оказывается перед задачей привести в определенную систему все достигнутые результаты, изложить их в рамках единой теории. Такая задача уже стоит в повестке дня современной физики, биологии, экологии. Для решения же ее не существует другого способа, кроме метода восхождения от абстрактного к конкретному.
Диалектико-материалистический метод в руках естествоиспытателя — могучее оружие. Он помогает выбрать правильный ориентир, не сбиться с пути, не зайти в тупик. Помогает увидеть проблему там, где ее еще не могут обнаружить эксперимент и математический анализ. Но все это при том непременном условии, что исследователь не просто знает философские положения, а в совершенстве владеет этим методом.
Марксистско-ленинская философия призвана разрабатывать приемы творческого, поискового мышления. Она призвана открывать новые способы движения теоретической мысли, новые формы мысли, соответствующие все более глубокому проникновению в сущность вещей. Эти новые формы, приемы и методы мысли не навязываются действительности в виде априорных схем, а открываются в самой действительности, ибо материалистическая диалектика, как и марксизм в делом, не догма, а руководство к действию.
Метод восхождения от абстрактного к конкретному, конечно же, применим и к общественным наукам. Не его вина, что поиски в этом направлении не всегда дают ощутимые результаты. Велись длительные дискуссии, с чего «начинать», например, политическую экономию социализма — с категорий «труд», «планомерность», «отношения взаимопомощи и сотрудничества»? Но практи¬
250
чески так и не удалось выстроить какую бы то ни было цельную теорию ни на одном из этих оснований. Велись и ведутся дискуссии о «клеточке» обществоведения в целом. Здесь тоже предлагались многочисленные решения, однако достаточного обоснования они не получили.
Наиболее адекватной представляется мысль, что такой исходной «клеточкой» является все же труд. Но не просто труд, а элементарное отношение в процессе труда. Труд не есть индивидуальный акт, это всегда общественное явление, предполагающее отношения людей, — простейшая кооперация, которой противостоит простейшее разделение труда. С такого элементарного отношения исторически начинается процесс общественного производства. Следовательно, оно и логически может послужить исходной категорией историко-материалистического исследования общества. Такая мысль развивается в работах Е. Семенова (г. Новосибирск). Основательную разработку Марксов метод восхождения от абстрактного к конкретному получил в исследованиях советских философов. Имеются в виду прежде всего фундаментальные работы Э. Ильенкова и М. Розенталя. Продолжается процесс осмысления общефилософского значения этого метода, оценка его на фоне современных методологических исканий.
Однако нередко единственно верное истолкование диалектико-материалистического метода подменяется попытками формализовать, выхолостить его, рассмотреть с точки зрения «естественно-научной методологии», свести к «системно-структурному подходу», заимствованному преимущественно из сферы биологии, семиотики. Тем самым осуществляется редукционизм по отношению к Марксову методу, исследующему высшую — социальную — форму движения материи.
Некоторые экономисты считают, что необходимо «дополнить» основной, то есть диалектико-материалистический, метод рядом межнаучных методов, якобы имеющих относительную самостоятельность и занимающих определенное важное место в структуре экономической науки в целом. Конкретно речь идет об использовании в политической экономии «новейших современных методов — экономико-математического моделирования, приложения к экономике общей теории систем, методов структурно-системного анализа, структурных уровней, методов конкретно-социологических исследований идр.». Предлагаются дефиниции и словосочетания типа
«структура и элемент», «структурные уровни», «субстанциональные, структурные и функциональные образования», «высокоорганизованные и управляемые системы», «функциональное взаимообеспечение подсистем», «инвариантные зависимости» и «регуляционно-управляющие связи», «материальный носитель поведения (то есть строения...)» и т. д. и т. п.
Разумеется, все эти приемы и методы имеют право на существование и в политэкономическом исследовании. Но при одном непременном условии: если они не подменяют собой диалектико-материалистического метода.
Порой аргументом служит апелляция к имеющемуся сходству структуры внутреннего функционирования объектов различной материальной природы независимо от того, идет ли речь об обществе, живом организме или механическом агрегате. Например, предлагают использовать в политэкономии «метод уровней», назначение которого — «анализ функциональных связей элементов в какой-либо системе безотносительно к сущности этой системы и ее элементов». Но что же можно понять в какой-либо системе производственных отношений, сознательно анализируя ее безотносительно к ее сущности, отказываясь от познания, то есть понимания последней?
Вопрос риторический. Ведь понять систему производственных отношений — это и значит познать ее сущность, выразить в строгих категориях политэкономии ис- торически-специфические законы, определяющие возникновение и развитие этой системы, ее имманентные противоречия. Понимание какого-либо объекта, например некоторого способа производства, включает в себя знание его качественной определенности в отличие от других объектов.
Таким образом, эти «дополнения», «пристройки» методов «общенаучных» и «межнаучных» к философскому марксистскому диалектическому методу на деле не ведут к качественно-содержательному подлинно научному пониманию предмета, а оказываются, наоборот, сведением научного исследования к формально-структурному анализу, из которого выпадает главное — познание сущности объекта исследования. Кроме того, нелишне заметить, что отмеченное недиалектическое «строительство» в структуре метода политэкономии вряд ли эффективно способствует решению актуальной задачи критики позитивистской методологии.
252
В ряде случаев формализованный «структурно-системный подход» прямо объявляется «диалектическим». В этом «диалектическом подходе» не находится места ни действительной диалектике (по Ленину, предполагающей прежде всего выявление противоречий «в самой сущности вещей»), ни реальному историзму, вне которого немыслимо «восхождение от абстрактного к конкретному».
Претендуя на «совершенствование методологии, обогащение ее новыми средствами», на роль «нового методологического приема», формализованный «системный подход» на самом деле (независимо от благих пожеланий его сторонников) представляет собой попытку примитивизации выработанного Марксом подлинно системного воспроизведения экономики капиталистического общества. Соответственно этому и в некоторых философских работах обращается сугубое внимание на специфику познавательных приемов, не имеющих аналогов в действительности. Делается, в частности, странный вывод, что «диалектика познания, зафиксированная в специфических законах, не является воспроизведением внешнего мира». Здесь налицо явный отход от теории отражения, который уже не исправить оговорками, что в «специфических законах познания» отражаются отношения между объектом и субъектом познания.
Теория «специфики» мышления и познания, понятой в каком-то ином смысле, отличном от понимания теории отражения, влечет за собой далеко идущие последствия. Из нее, например, делается вывод, что если противоречия и присутствуют в объективной реальности, то в теории они должны отражаться без всяких противоречий, что противоречия мышления есть нечто нежелательное, от чего следует избавляться, «блокировать» их. Отсюда уже совсем недалеко до неопозитивистской «логики и методологии науки», состоящей, по сути дела, в особой «технике» избавления от противоречий путем терминологических и иных ухищрений.
Несмотря на целый ряд солидных, фундаментальных трудов по диалектике, задача, завещанная нам Марксом и Лениным — создание Логики с большой буквы, — остается еще не осуществленной на должном уровне. При попытках ее решения почему-то не используется метод восхождения от абстрактного к конкрет-
253
ному, хотя во фрагменте Ленина «К вопросу о диалектике» намечен даже путь именно такого решения проблемы. Ленин писал, что метод изложения диалектики вообще должен быть таким же, как у Маркса при изложении диалектики капиталистического общества. Начать можно с любого предложения, к примеру: «Листья дерева зелены». Уже здесь есть диалектика: отдельное есть общее. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. И наоборот: отдельное существует лишь в общем.
Но, пожалуй, важнее не только дать систему диалектических категорий в их внутренней связи и развитии, а выявить, как в процессе конкретного исследования Маркс и Ленин применяли диалектику. Особого внимания заслуживает диалектика политического и социально-экономического мышления Ленина. С этой точки зрения его творческое наследие анализировалось мало. Специально такая задача не ставится до сих пор. А решение ее крайне важно для того, чтобы не только понять, что такое диалектика, но и научиться ею владеть. Владеть как методом познания, как революционно-действенным оружием. Так ставил вопрос Ленин, так ставит его партия сегодня.
Материалистическая диалектика, учение о развитии, составляет в методологическом отношении «живую душу», сердцевину концепции развития социалистического общества. Именно точка зрения развития дает ключ к пониманию этой концепции не как собрания положений, которые остается только затвердить, а как постоянно творчески обогащаемой системы взглядов, как инструмента познания и преобразования социалистической действительности. В этом суть дела. Из учения Маркса и Энгельса о развитии коммунистической формации, о двух ее фазах исходил и Ленин, разрабатывая теорию социалистической революции, переходного периода, закономерного восхождения социализма по ступеням его социально-экономической зрелости.
Сила нашей теории состоит в ее истинности, в соответствии объективному ходу вещей. Это в полной мере относится и к методологии, взятой на вооружение коммунистами, которую Ленин недаром определял как «революционную диалектику марксистского реализма...»1.
Революционность марксистской диалектики состоит в
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. И, с. 137.
254
том, что она предполагает критическое отношение к действительности, которую рассматривает как непрерывно развивающуюся, меняющуюся, обновляющуюся, как такую, в которой происходит постоянное отрицание старого новым.
Поэтому и теория марксистского реализма, душой которого является диалектика, не есть нечто застывшее, закрытое от веяний живой жизни. Она призвана непрерывно обновляться, чтобы оставаться самой собой.
Маркс, Энгельс и Ленин дали величайшие образцы творческого развития диалектико-материалистической философии, применения ее ко всем сферам действительности — природе, обществу и мышлению. Они показали образцы непримиримой борьбы со всеми и всяческими отступлениями от материалистической диалектики, борьбы за чистоту революционной теории. Нам предстоит непрестанно учиться у них владению диалектическим методом для анализа сложнейших проблем, творчески развивать марксизм-ленинизм на почве, на основе, на фундаменте самой этой теории, не отступая ни на гран от принципов!
«Да, вопреки всему, всему», девиз «филистеры идут на меня» всегда будет для нас предпочтительнее девиза «под пятой филистера».
К. МАРКС
КАРЛ МАРКС: «ФИЛИСТЕРЫ ИДУТ НА МЕНЯ»
Филйстерство многолико. Оно, по выражению Фридриха Энгельса, дарит на троне так же часто, как и в хижине сапожника. Оно рядится в рафинированные, утонченные формы, выступает не только в обличье «трактирного политика» и семейного деспота, но и в пышном одеянии глубокого мыслителя, «оригинального» философа, архиреволюционного борца, апостола свободы и демократии, респектабельного ученого, популярного поэта.
Вся жизнь Маркса и Энгельса была борьбой за освобождение рабочего класса. Это была борьба с конкретными, живыми личностями, выразителями буржуазной и мелкобуржуазной политики, идеологии, психологии. Это была борьба с малейшими отклонениями от пролетарской линии в рабочем движении. А вызывались эти отклонения и извращения как раз тем «филистерским духом», который так ненавидели Маркс и Энгельс.
Весной 1843 года завязалась переписка Маркса с известным либеральным публицистом и издателем А. Руге, затем обнародованная в «Немецко-французском ежегоднике». Маркс находился в то время, по его собственному выражению, в процессе «линяния», когда его прежние идеалистические и демократические убеждения стали стремительно уступать место убеждениям материалистическим и коммунистическим.
После закрытия «Рейнской газеты», последовавшего в марте 1843 года, Маркс на короткое время отправился в Голландию. Отчаянная и безнадежная борьба, которую вел в газете Маркс с прусским деспотизмом, на многое раскрыла ему глаза. Он стал задыхаться в атмосфере грубого полицейского произвола. Весь ржавый механизм феодально-монархической, филистерской Пруссии явственно обнажился перед его духовным взором. Глубокое чувство стыда за свою родину охватило его здесь, в Голландии, где самый ничтожный голландец все-таки гражданин по сравнению с величайшим немцем, страдающим от отвратительнейшего деспотизма, прикрытого плащом либерализма.
Об этом и пишет Маркс Руге на палубе буксирного
257
судна: уродливость нашего государственного строя заставляет нас со стыда закрывать .лицо. Но что пользы в том? Со стыда революции не делают. Нет, возражает сам себе Маркс, стыд — это уже своего рода революция. Стыд — это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь. И если нация действительно испытала чувство стыда, она была бы подобна льву, который весь сжимается, готовясь к прыжку.
Руге возразил на это уныло-элегическим стенанием, что у немецкого народа нет никакой будущности, ибо баранье терпение немецких филистеров поистине безгранично.
На «похоронную песнь» Руге Маркс ответил письмом, полным энергии и надежды. Именно отчаянное положение Германии должно излечить от отчаяния. Предоставим мертвым хоронить своих мертвецов. Но завидна участь быть первыми среди тех, кто со свежими силами вступает в жизнь. Пусть это и будет нашим уделом.
И Маркс продолжает: «Это верно — старый мир принадлежит филистеру. Но не следует относиться к филистеру как к пугалу, от которого боязливо отворачиваются. Напротив, мы должны внимательно к нему присмотреться. Стоит изучить этого господина мира».
Да, стоит присмотреться к миру филистера, потому что в борьбе с ним оттачивался и развивался гений Маркса и Энгельса, формировались их личности борцов, мыслителей, революционеров. Стоит охарактеризовать его, чтобы оттенить тот фон, на котором жили и действовали эти пламенные натуры.
Знаменитое немецкое филистерство! Знаменитое тем, что навеки пригвождено к позорному столбу истории острой иронией Генриха Гейне, убийственным сарказмом Маркса и Энгельса.
Но оно, конечно же, не было национальным изобретением немцев. Оно естественное порождение того строя, где господствуют крупные или мелкие хозяйчики и где образ жизни хозяйчика с его сытостью и самодовольством навязывается в качестве идеала для эксплуатируемых. Филистерство как особый тип поведения и мышления — своеобразная смесь мелкобуржуазного хамства, ханжеской религиозной морали, рабской психологии вчерашнего холопа, который в душе остался холопом, но обзавелся всеми амбициями претенциозной полукультурности или ученого невежества.
Филистерство в разных странах складывалось под
253
воздействием исторических условий жизни и национального характера народа. Своеобразными чертами обладало российское мещанство, о чем мы знаем из произведений Островского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького, заклеймивших «рожденных ползать». Имело свой несравненный колорит и немецкое филистерство. На это были особые причины.
Политическая индифферентность и трусость всегда отличали немецкую буржуазию от буржуазии английской или французской, революционным путем установивших свое господство. Все свои надежды немецкое бюргерство возлагало на прусскую монархию, видя в ней единственную силу, способную осуществить экономическую и политическую консолидацию в стране. В условиях междоусобных распрей и раздробленности идеал единого буржуазного государства стал для немецких филистеров предметом национальных устремлений, надежд. «Этим положением государства объясняется также нигде больше не встречающийся добропорядочный чиновничий образ мыслей и все иллюзии насчет государства, имеющие хождение в Германии», — писали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» *.
Чего же хочет филистер? Каковы его стремления? Он хочет одного, отвечает Маркс, — жить и размножаться. И в этом отношении уподобляется животным. Филистерский мир — мир политических животных. Это обесчеловеченный мир, потому что подлинно человеческие чувства и стремления — к свободе, к достоинству, к самоотверженной борьбе против рабства и угнетения — этому миру чужды. И Аристотель, если бы он пожелал написать свою «Политику», исходя из германских порядков, вынужден был бы вывести на первой странице слова: «Человек — животное, хотя и общественное, но совершенно неполитическое».
Воспитываясь в казармах «его величества» — как в военных, так и в духовных, — прусский филистер охотно привыкал к палочной дисциплине и искренне полагал, что на ней весь мир держится. Веками выработанное и закрепленное лакейство становится внутренней потребностью филистера, оно определяет «ценности» его духовного мира.
При этом филистер настолько упоен собственным благочестием, безукоризненной «моральностью» своего
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 183.
259
поведения, что почитает священным долгом своим всем «читать мораль», всех наставлять на путь истинный. Достоинство человека он видит в его невежестве относительно всего, что не идет на пользу сытому существованию. И в полном соответствии с этим собственное невежество он чванливо возводит в ранг величайшего достоинства.
Портрет одного из таких проповедников Маркс описал весьма сочно: «Вчера из Г'рейфсвальда прибыл Хассе, который всегда приводил меня в удивление только своими большими сапогами, как у деревенского священника. Он и говорил, совсем как сапог деревенского священника. Не обладая никакими знаниями, он готовится издать многотомное сочинение о скучном Ансельме Кентерберийском, над которым корпел целых десять лет. Он полагает, что теперешнее критическое направление представляет собой временное явление, которое должно быть преодолено, толкует о религиозности как продукте жизненного опыта, под которым, вероятно, понимает свое успешное разведение потомства и свой толстый живот, ибо толстые животы могут свидетельствовать о различных свойствах и, как Кант говорит: если это идет вниз, то получается непристойность, если же вверх — религиозное вдохновение. Ох, уж этот благочестивый Хассе с его религиозными запорами!»1
Теоретическим «родоначальником филистеров» Маркс окрестил английского моралиста И. Бентама ( 1748—
1832) — этого трезво-педантичного и тоскливо-болтливого оракула пошлого буржуазного рассудка XIX века, этого «гения буржуазной глупости». С «наивной тупостью» Бентам объявляет филистера, считающего свой эгоистический интерес мерилом всего «полезного» в обществе, образцом человека вообще.
«Бентам среди философов, — замечает Маркс в «Капитале», — то же, что Мартин Таппер среди поэтов»1 2. Будучи совершенно бездарным рифмоплетом, Таппер в середине прошлого столетия пользовался огромной популярностью в кругах английских обывателей: им пришлись по вкусу претенциозная пошлость и ложное глубокомыслие его стихов. В своей «Исповеди» — анкете, предложенной старшими дочерьми в 1865 году, — Маркс, отвечая на вопрос «Ваша антипатия», написал: «Мартин Таппер».
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 27, с. 361,
2 Там же, т. 23, с. 623,
260
Из всей своры тупых, продажных писак, грязных политиканов, бездарных хвастунов, бесцеремонных и наглых «цепных псов» буржуазии, с ожесточением травивших Маркса на протяжении всей его жизни, он безошибочно выбрал одно имя — имя человека, который не имел к нему лично никакого отношения, но который был в глазах Маркса олицетворением дешевого успеха, спекулирующего на низкопробных вкусах мещан, воплощением литературного филистерства.
Филистер обычно обожает все «возвышенное», «романтическое», «идеальное» и презирает «грубый материализм». Но «под материализмом филистер понимает обжорство, пьянство, похоть, плотские наслаждения и тщеславие, корыстолюбие, скупость, алчность, погоню за барышом и биржевые плутни, короче — все те грязные пороки, которым он сам предается втайне. Идеализм же означает у него веру в добродетель, любовь ко всему человечеству и вообще веру в «лучший мир», о котором он кричит перед другими, но в который он сам начинает веровать разве только тогда, когда у него голова болит с похмелья или когда он обанкротился, словом — когда ему приходится переживать неизбежные последствия своих обычных «материалистических» излишеств. При этом он тянет свою любимую песню; Что же такое человек? Он — полузверь и полуангел» '.
Не эту ли самую песню филистера имел в виду Гейне, когда писал:
Я не хорош, но я я не плох,
Не глуп, не умен, понятно.
И если я сделал шаг вперед,
Тотчас иду обратно.
Я просвещенный обскурант,
Не жеребец и не кобыла.
В любви к Софоклу и кнуту Равно исполнен пыла.
Они очень сентиментальны, эти пылкие любители «Софокла и кнута»! «Та самая филистерская пошлость, которая всегда видит в пролетарии только грубого, деморализованного оборванца, которая с удовлетворением потирает руки, наблюдая парижскую июньскую бойню 1848 г., где было убито более трех тысяч этих «оборванцев», — эта филистерская пошлость возмущается по поводу насмешек над сентиментальными обществами для защиты животных»1 2.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 290.
2 Там же, т. 7, с. 209.
261
Немецкое филистерство породило в сороковых годах прошлого века свой идеологический эквивалент — «немецкий социализм». Он выступал в различных формах «истинного», «чистого», «философского», «теоретического», оставаясь всегда по сути своей мелкобуржуазным или просто буржуазным.
«Социализм» этот был менторским, пасторским, предполагавшим, с одной стороны, осененного свыше проповедника, а с другой — паству, слушающую его, раскрыв рот. Маркс поэтому метко заклеймил его «бараньим социализмом».
Этот «социализм» питался крохами от великих утопических теорий Сен-Симона и Фурье (плохо понятых к тому же), но со смехотворностью претендовал на превосходство по сравнению с ними, ибо обильно размачивал эти крохи водой философского пустословия на квазигегельянский лад. То, что в теориях французских и английских утопистов было подлинно гениально, — беспощадную критику существующего общества, — немецкие «социалисты» не заметили, а предпочитали разглагольствовать о том, каким должно быть будущее человеколюбивое общество. При этом они апеллировали не только к «немецкому мыслящему духу», но и к «немецкому сердцу».
По апостолам и проповедникам этого рода «социализма» Маркс и Энгельс открыли беспощадный огонь еще в «Немецкой идеологии». Одним из виднейших представителей его был К. Грюн, писания которого представляли собой, по выражению Энгельса, вертеров- ский «вопль отчаяния мечтательного плаксы по поводу пропасти между бюргерской действительностью и своими, не менее бюргерскими, иллюзиями относительно этой действительности» '. Грюн пробавлялся болтовней о «Человеке», «Истинном Человеке», который скрывается в каждом немце, о царстве «сущности Человека», которое грядет в Германии, именно в Германии. По этому поводу Маркс и Энгельс замечали, что «это надутое и безмерное национальное чванство соответствует весьма жалкой, торгашеской и мелкоремесленной практике»1 2.
Другой «истинный социалист», Г. Крите, эмигрировал в США и от имени «Союза справедливых» издавал там свой печатный орган, исполненный поистине «бреда о
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т, 4, с. 236.
* Там же, т. 3, с. 473,
262
любви». Его лозунг — «объединить всех людей любовью ». Цель коммунизма он видит в том, чтобы всю жизнь человечества подчинять биениям «чувствительного сердца», чтобы достичь «вечно безмятежной самоудовлетворенности всего человечества».
Криге призывает «возводить на земле первые селения небесной любви». Как же он представляет себе это? Он обещает наделить каждого нуждающегося безвозмездно участком земли в 160 акров. И таким образом исполнились бы, по его мнению, исконные мечты человечества, и оно бросило бы в лицо всем тиранам мира гордое заявление: «Это моя хижина, которой вы не строили, это мой очаг, наполняющий ваши сердца завистью».
И эти мечтания мелкого хозяйчика Криге всерьез выдавал за коммунизм, за «истинный социализм»!
Маркс и Энгельс, комментируя приведенное высказывание, пишут: «Криге мог бы добавить: это моя куча навоза, произведенная мною, моей женой и детьми, моим батраком и моим скотом». По сути дела, мечта Криге состоит в том, чтобы превратить всех людей в частных собственников. Но «такая мечта столь же не осуществима и столь же коммунистична, как мечта превратить всех людей в императоров, королей и пап»
В канун революции 1848—1849 годов рвущаяся к власти буржуазия выдвинула своих проповедников переустройства общества на «разумных» началах. Один из самых громких голосов в этом «церковном хоре» принадлежал К. Гейнцену. Он с большим шумом требовал немедленной революции и выдвигал совершенно произвольно придуманные мещанские фантазии об улучшении мира. При этом он повел атаку на коммунистов с их «навязчивой доктриной» об упразднении частной собственности. Когда Энгельс дал ему достойную отповедь, Гейнцен в необычайно грубой и развязной манере обрушился на него.
Перчатку, брошенную этим «добродетельным филистером» и «пещерным санкюлотом», поднял Маркс. Он четко и ясно противопоставил позицию Гейнцена как выразителя взглядов поднимающейся буржуазии и позицию коммунистов.
При этом он дал убийственную характеристику той филистерской литературы, манеру и стиль которой так
1 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 9.
263
точно воспроизводил Гейнцен: плоская, безудержно
болтливая, претенциозно-грубая. С огромной силой заносящая меч и грозно размахивающая им, чтобы затем опустить его плашмя. Неустанно проповедующая добрые нравы и неустанно их нарушающая, комично сочетающая пафос с вульгарностью. Пекущаяся «лишь о сути дела» и постоянно проходящая мимо нее. Высокомерно противопоставляющая мудрости народной мещанскую, книжную полуученость, а науке — так называемый «здравый человеческий смысл». Растекающаяся с какой- то самодовольной легкостью в беспредельную ширь. Олицетворяющая мещанское содержание в плебейской форме. Борющаяся с литературным языком, чтобы придать ему, если так можно выразиться, чисто телесный характер. Прокламирующая здоровый дух в здоровом теле и, сама того не ведая, зараженная самой мелочной грызней. Негодующая на реакцию и выступающая против прогресса. Бессильная выставить противника в смешном виде и потому комично обрушивающаяся на него с целым набором всевозможных ругательств *.
В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс так охарактеризовали «социализм», столь ярким представителем которого явился Гейнцен: «Бур¬
жуа-социалисты хотят сохранить условия существования современного общества, но без борьбы и опасностей, которые неизбежно из них вытекают. Они хотят сохранить современное общество, однако, без тех элементов, которые его революционизируют и разлагают. Они хотели бы иметь буржуазию без пролетариата. Тот мир, в котором господствует буржуазия, конечно, кажется ей самым лучшим из миров»1 2.
Вскоре буржуазные и мелкобуржуазные идеологи получили возможность на деле показать, на что они способны. Разразилась революция 1848—1849 годов, буржуазная по своему характеру. Тогда-то и проявилась вся филистерская трусость, половинчатость, нерешительность лидеров буржуазной демократии. Они заседали в парламентах Берлина и Франкфурта и тормозили всякую революционную инициативу масс бесконечной говорильней, расплывчатыми резолюциями, в которых равным образом раскланивались перед «суверенитетом народа» и суверенными монархами.
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с, 291—292.
2Там же, с. 454.
264
Со страниц «Новой Рейнской газеты» Маркс и Энгельс со всей страстью революционных борцов обрушились на эту жалкую позицию, звали народ к решительным действиям, печатая статьи, «подобные гранатам».
Нет, немецкая буржуазия не была готова взять власть, и вскоре реакция перешла в контрнаступление. Революция захлебнулась, а ее «лидеры» оказались в лондонской эмиграции. Здесь их подлинное филистерское нутро раскрылось еще более явно.
Бывшие парламентские вожди, герои-ораторы, предводители повстанческих отрядов, главари различных группировок — все они вдруг оказались не у дел, но все с большими претензиями на выдающуюся роль в революции прошедшей и с еще большими — в предстоящей, которая, казалось, разразится вот-вот.
Маркс и Энгельс сразу же решительно отмежевались от всей этой компании.
Анализируя экономику, они пришли к выводу, что производительные силы буржуазного общества находятся на подъеме, развиваются настолько быстро, что ни о какой революции не может быть и речи, пока не разразится кризис. Исходя из этого, они считали бесплодной и вредной всю лихорадочную суету эмиграции по организации заговоров, союзов, партий, ультрареволюционных воззваний и манифестов. В этих условиях они полагали более полезной для дела грядущей пролетарской революции дальнейшую научную разработку теории. Маркс с головой углубился в экономические исследования.
Тем временем изнывающие от безделья мелкобуржуазные лидеры эмиграции забавлялись тем, что забрызгивали друг друга грязью. Эти «маленькие великие мужи эмиграции», как окрестили их Маркс и Энгельс, вели между собой мелочную грызню, соревновались в интригах и клевете. Настоящая «война мышей и лягушек»!
Не остались без их внимания и Маркс с Энгельсом. Какие только гнусности не исторгались по их адресу! Что они предали революцию, что присваивают собранные эмигрантами деньги, стремятся к диктатуре. Верхом всего было обвинение Маркса в шпионаже в пользу прусского правительства на том только основании, что министр в этом правительстве фон Вестфален — его шурин!
Маркс еще мог с величественным равнодушием иг¬
265
норировать нелепую клевету в отношении его лично, но когда дело касалось чести партии, чести его ближайших друзей, от него нельзя было ожидать ни снисхождения, ни пощады. Он тогда же бросался в бой. При этом Марксу нередко приходилось прибегать к крайнему средству: угрожать негодяям-клеветникам вызовом на дуэль или, как выражался сам Маркс, «дать... принятое между джентльменами удовлетворение» '. Иногда в течение месяца ему приходилось это делать не один раз.
В 1851 году немецкая эмиграция, распадавшаяся на три враждующие клики: клику Руге, клику Кинкеля и клику Виллиха, — решила заявить о своем «братском сплочении». Если эта «побратавшаяся» эмиграция и была едина в каком-либо пункте, то этим пунктом была ее общая фанатическая ненависть к Марксу, ненависть, из-за которой ее представители были готовы пойти на любую глупость, любую низость, любую интригу. Энгельс убеждал Маркса, что лучшим ответом этой своре будет его «Критика политической экономии».
Однако чем больше игнорировали Маркс и Энгельс этих «мосек будущего», тем яростнее они тявкали. Наконец друзья решили, что клеветникам надо воздать должное — воздать единственно подходящим способом: убить смехом. В мае—июне 1852 года они совместно создают сатирический памфлет «Великие мужи эмиграции».
Маркс и Энгельс мастерски рисуют тошнотворно-отвратительный облик кумиров филистеров: посредственного поэта Кинкеля, «неудавшегося бюрократа» буржуазной революции Р. Шрамма, бывшего члена временного правительства Г. Струве и «самого» Руге.
Высмеивая в лице Руге филистерский образ мысли, Маркс и Энгельс отмечают, что сам он явился воплощением одной из гегелевских категорий, а именно — «честного сознания». Это «честное сознание», которое Гегель описал в «Феноменологии духа», всегда доставляет радость самому себе. Оно скрывает под назойливой добродетелью все мелкие вероломные повадки и привычки филистера: «Оно вправе разрешать себе всякую подлость, ибо знает, что оно подло из честности. Сама глупость становится достоинством, так как является неопровержимым доказательством твердости убеждений. Всякая задняя мысль его поддерживается убеждением во внутренней прямоте, и чем тверже «честное созна-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 467.
266
ние» задумывает какой-либо обман или мелочную подлость, тем более простодушно и доверительно оно может выступать. Все мелкие пороки мещанина в ореоле честного намерения превращаются в его добродетели, гнусный эгоизм предстает в приукрашенном виде, в виде якобы принесения жертвы, трусость рисуется в виде храбрости в высшем смысле слова, низость становится благородством, а грубые развязные мужицкие манеры преображаются в проявления прямодушия и хорошего расположения духа» *.
Эту уничтожающую характеристику «честного сознания», воплощенного в Руге, Маркс и Энгельс заключают выводом: «...Филистер и идеолог, атеист и верующий во фразу, абсолютный невежда и абсолютный философ в одном лице, — таков наш Арнольд Руге, каким Гегель предсказал его еще в 1806 году»1 2. Если Кинкель представляет собой чувства немецкого мелкобуржуазного филистера, то Руге есть его разум, вернее, его неразумие.
В конце концов «великие мужи эмиграции» вцепились друг другу в глотку. Личные дрязги, интриги, безудержное самовосхваление — на такие пакости уходили все их силы. Авторы памфлета считали, что это кокетничанье выдуманными союзами и вымышленными заговорами, вся эта эмигрантская шумиха отнюдь не были безвредной забавой. Она дала правительствам желанный повод подвергнуть аресту множество людей в Германии, повсюду внутри страны зажать в тиски всякое движение и нагнать страх на немолодого мещанина, пользуясь жалкими лондонскими соломенными чучелами как огородными пугалами.
Конечно, сатирическое изображение Марксом и Энгельсом «великих мужей» не лишено гротеска. Оно словно увеличительным стеклом выявило скрытые от поверхностного взгляда карикатурные черты вождей немецкой демократии, выставило их в истинном свете как типичных представителей типичного немецкого мещанства.
В этой беспощадной критике проявилась и нравственно-политическая позиция самих авторов памфлета. Их отвращение ко всякой фальши, позерству, популяр- ничанью, претенциозности, к разрыву между фразой и
1 Маркс К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 8, с. 290.
2 Там же.
267
делом, к политической демагогии, к опошлению дела революции и неразборчивости в средствах для достижения цели. Они всегда с гневом отвергали навязывание им какого бы то ни было культа личностей. Им противна была всякая самодовольная возня «маленьких великих мужей» с собственными персонами, их смешное стремление непомерно раздуться, быть притчей на устах у всех, ровно ничего не знача, их суетные честолюбивые иллюзии, что от них, именно от них, зависит успех революции, что им выпала на долю задача осчастливить бедное заблудшее человечество.
Маркс впоследствии с гордостью противопоставлял этой грязи чистоплотность «нашей партии».
Свой памфлет Маркс и Энгельс писали в Манчестере, в постоянном дружеском общении, высекая из него искры неистощимого юмора. Можно представить себе, как веселились друзья, рисуя сатирические портреты «великих мужей». Маркс писал в это время жене: «Мы смеемся до слез, готовя блюдо из этих олухов» 1.
Разумеется, «великие мужи», «огородные пугала» отнюдь не представляли всей немецкой демократии как в Германии, так и в Лондоне. Среди участников революции 1848—1849 годов было много бесстрашных и самоотверженных борцов, сотни из них томились в немецких тюрьмах. В Лондоне вокруг Маркса и Энгельса сплотилась группа беззаветно преданных делу пролетариата революционеров. Среди них — Вильгельм Вольф, Фердинанд Фрейлиграт, Вильгельм Либкнехт, Конрад Шрамм, за океаном — Иосиф Вейдемейер...
Даже прусская полиция отдавала себе отчет в том, что настоящую опасность для контрреволюции представляют не шумные крикуны из числа «великих мужей», а «партия Маркса — Энгельса». Полицей-прези- дент Берлина Хинкельдей писал в своем секретном отчете в апреле 1852 года: «Уже сейчас можно с полным основанием сказать о партии Маркса — Энгельса, что она стоит намного выше всех членов «Эмиграций», «Агитаций» и центральных комитетов, ибо она, бесспорно, располагает гораздо большей силой знаний и таланта. Сам Маркс — известная личность, и следует признать, что у него в одном кончике пальца больше ума, чем в головах всей прочей компании»2,
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 443.
2 Цит. по: Карл Маркс. Биография. М., 1973, с. 271,
268
Естественно, что прусская полиция стремилась нанести удар именно по «партии Маркса — Энгельса», В Германии оставалось еще много бывших участников революции, членов Союза коммунистов, связанных так или иначе с «Новой Рейнской газетой». Вот против них- то и решено было устроить громкий процесс в Кёльне, обвинить их в заговоре, «носящем характер государственной измены».
В стране начались массовые аресты, в числе арестованных были соратники Маркса. Они должны были предстать перед судом. У обвинения, собственно, не было никаких веских аргументов. Значит, их надо сфабриковать! Что и было сделано. Полицейскими чиновниками была составлена фальшивая книга протоколов Центрального Комитета Союза коммунистов. Провокаторам удалось втереться в доверие к членам фракции Вилли- ха — Шаппера и выкрасть у них партийный архив.
Насколько Маркс и Энгельс оказались правы в критике этих «великих мужей»! Их левоэкстремистские, как мы бы сейчас сказали, заявления позволили сфабриковать дело о немецко-французском заговоре. В причастности к нему обвинялась не только «партия Вилли- ха», но и «партия Маркса».
Эти подлые инсинуации надо было разоблачить. Маркс и Энгельс с величайшей энергией вступают в затяжную войну с прусской полицией и юстицией. Собирают разоблачающие материалы, документы, свидетельства многих людей, все это тайным образом по разным каналам пересылают в Германию, так что у защиты оказываются в руках неопровержимые контраргументы.
И «партия Маркса» одержала, по существу, победу в этой неравной борьбе, несмотря на то, что большинство обвиняемых было приговорено к различным срокам заключения. Кёльнский процесс обернулся неслыханным скандалом. Документы, присланные из Лондона, изобличали полицейских чиновников. Прокуратуре пришлось признать «недостоверность» сфабрикованной книги протоколов.
По горячим следам процесса Маркс берется за брошюру, чтобы нанести еще один удар прусскому правительству и поведать широкой читательской аудитории обо всех мерзостях процесса. Говоря о позорном решении суда присяжных по делу коммунистов, Маркс заявил, что в лице обвиняемых перед господствующими классами, представленными этим судом, стоял безоруж¬
269
ный пролетариат. Уже только поэтому обвиняемые были заранее осуждены.
Через несколько лет всех клеветников, распространявших по адресу Маркса и его партии самые вздорные небылицы, переплюнул один из лидеров буржуазной демократии, профессор теологии, а заодно и вульгарный материалист Фогт. Он опубликовал книжонку, в которой Маркс изображался главой шайки вымогателей, чуть ли не фальшивомонетчиков!
Маркс опасался, что измышления Фогта именно из- за своей совершенной фантастичности произведут впечатление на немецкого филистера и бросят тень на дело «партии». И он опять берется за свое верное, убийственное оружие — разоблачительно-сатирическое перо. И снова собираются многочисленные документы, свидетельства...
Конечно, Фогта можно было прихлопнуть и небольшим памфлетом. Но Маркс со всей своей доскональностью и обстоятельностью едва уложился в пухлую книгу, которую назвал «Господин Фогт». Она вышла в Лондоне в конце 1860 года.
Друзья отговаривали Маркса от этой затеи, которая потребует массу времени и сил, так необходимых для завершения работы над «Капиталом». Маркс отвечал, что борьба с Фогтом имеет «решающее значение для исторического оправдания-''партии и для ее будущего положения в Германии»1. К тому же Фогт отнюдь не случайная фигура, он представляет «целое направление» филистерской зоологической ненависти к коммунистам. И Маркс пригвоздил Фогта к позорному столбу истории со всем присущим ему даром блестящего остроумия и язвительного сарказма. Перед нами разыгрывается сатирическая комедия, главным героем которой является достойный наследник бессмертного Фальстафа — эта «округленная натура», которая нисколько не убавилась в весе и не изменилась в сути в своем новом зоологическом воплощении. «В утробе твоей, негодяй, — цитирует Маркс Шекспира, — нет места ни для правды, ни для верности, ни для чести: она вся набита кишками и потрохами»1 2.
Именно по адресу Фогта и всего «направления», которое он выражал, Маркс и воскликнул: «Филистеры идут на меня!»
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 373.
2 Там же, т. 14, с. 412.
270
С этим девизом Маркс ведет и свои экономические исследования. Его «Капитал» не случайно носит подзаголовок «Критика политической экономии». Новое слово этой науки рождается в процессе беспощадной критики всего того, что принадлежит к филистерским представлениям, что диктовалось половинчатой, трусливой позицией приспособленчества и откровенной апологетикой господствующих классов.
Маркс вообще являл собой образец ученого-мыслите- ля, для которого поиски истины не холодная, рассудочная работа, а «страсть разума» и «разум страсти». В. И. Ленин, возражая Н. Михайловскому по поводу того, что ученый должен быть якобы сухо объективен, не выражать своих эмоций, «ему не полагается сердиться», указывал на «Капитал» Маркса, где в каждой строке «столько «сердца» 1. Это не мешало Марксу быть скрупулезнейшим и добросовестнейшим исследователем, так что он, по выражению В. Либкнехта, не делал ни одного вывода, если не мог доказать его десятью различными способами. Его требовательность к себе как ученому не знала предела. И если он видел что-нибудь написанное месяц спустя, то вновь все переделывал.
Научный поиск для Маркса был неотделим от нравственно-классовой позиции. Бесстрашие исследователя, следующего «своей дорогой», находящего неизведанные «каменистые тропы» к «сияющим вершинам науки», не сворачивающего ни при каких условиях в сторону, не идущего на компромиссы со своей совестью, не удовлетворяющегося «полуистиной», — вот что имел в виду Маркс, когда писал, что у входа в науку, как и у входа в ад, должно быть выставлено требование: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; здесь страх не должен подавать совета»2.
«Капитал» — уникальное произведение во многих отношениях, в том числе и в том, что он основан на необозримом количестве источников: от древнейших поэтов и мыслителей до самых новейших по тому времени трудов экономистов, газетных отчетов и свидетельств фабричных инспекторов.
Маркс не пропустил мимо внимания, кажется, ни одного ученого, сколько-нибудь достойного упоминания, не оставил незамеченным ни одного оттенка в истории
1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 547.
2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 9.
271
политэкономической мысли. Он «творил суд истории»и каждому воздавал должное с величайшей беспристрастностью, но и величайшей научной принципиальностью. Он рад был отметить малейшие научные заслуги, малейшее движение мысли вперед даже у реакционных в целом экономистов. Но устраивал основательный «разнос» и классикам, если находил у них непоследовательность в логических построениях.
Для него не было науки «самой по себе», за строками научного произведения он видел живого человека, обуреваемого теми или иными страстями, побуждениями, преследующего интересы класса, к которому он принадлежал, человека, который проводит исследование либо с научной честностью и иногда честно заблуждается, либо сознательно фальсифицирует положение дел, чтобы прийти к апологетике господствующего класса, угодничает перед ним с филистерской трусостью. И в последнем случае Маркс приходил в бешенство, он беспощадно «изничтожал» негодяя, как если бы это был живой непосредственный противник, нанесший лично ему, Марксу, личное оскорбление.
Тому есть немало великолепных примеров на страницах «Капитала». Они воспринимаются как своеобразный жанр научной сатиры.
Один из «сюжетов» связан с важнейшим методологическим вопросом о различении производительного и непроизводительного труда.
Адам Смит подошел к правильному пониманию производительного труда при капитализме, как к такому, который производит прибавочную стоимость. В полемику с ним по этому поводу ринулась целая братия «пропитанных менторским духом компиляторов и составителей компендиумов, а также ...пишущих на беллетристический манер дилетантов и вульгаризаторов в данной области» '.
Всеми этими полемистами, выступавшими против Смита, двигал определенный классовый инстинкт, который побуждал их извращать и фальсифицировать логику строго научных доказательств классиков политической экономии в угоду заранее заданным целям. С одной стороны, у них заметно пренебрежительное, высокомерное отношение к работникам материального производства, истинным создателям материального богат-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. I, с. 157.
272
ства. А с другой — стремление доказать, что и представители других, «высших» профессий что-то производят.
Один из таких апологетствующих экономистов, А. Шторх, утверждает, например, что врач «производит» здоровье. (Но, замечает Маркс, он «производит» также и болезнь!) Профессора и писатели «производят» просвещение. (Но они «производят» также и обскурантизм!) Поэты и художники «производят» вкус. (Но также и безвкусицу.) Моралисты «производят» нравы, проповедники — религию, труд государя — безопасность и т. д. «С таким же правом, — иронизирует Маркс, — можно сказать, что болезнь производит врачей, глупость — профессоров и писателей, безвкусие — поэтов и художников, безнравственность — моралистов, суеверие — проповедников, а отсутствие всеобщей безопасности — государей» К
Пожалуй, ни об одном из экономистов Маркс не пишет с таким презрением, как о Т. Мальтусе, этом бесстыдном, откровенном апологете господствующих классов.
Мальтус — «профессиональный сикофант» * земельной аристократии. Он экономически оправдывает ренты, расточительность, бессердечие и т. д. Интересы промышленной буржуазии он защищает только в той мере, в какой они тождественны с интересами земельной собственности, аристократии. Он защищает и те и другие интересы против массы народа, против пролетариата. Но там, где интересы земельной собственности и промышленной буржуазии расходятся и враждебно противостоят друг другу, Мальтус становится на сторону аристократии против буржуазии. Отсюда его защита «непроизводительных работников», перепотребления и т. п.
Мальтус — бесстыдный плагиатор. Он списывает у А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Андерсона, Дж. Таунсенда, нигде не указывая источника. Для своей человеконенавистнической теории народонаселения он тоже использует украденные у других мысли.
«Для Мальтуса, —« пишет Маркс,—характерна глу-
* Сикофант (греч. sykophantes, от sykon — фига, phanio — доношу) — в Древней Греции, по-видимому, лицо, сообщавшее о запрещенном вывозе смоквы из Аттики. Уже со второй половины V века до н. э. сикофантами назывались профессиональные доносчики, клеветники, шантажисты.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. I, с. 281.
273
бокая низость мысли, — низость, какую может себе позволить только поп...» 1 В людской нищете он видит наказание за грехопадение и вообще не может обойтись без «земной юдоли скорби». Но вместе с тем, имея в виду получаемые им церковные доходы, он считает для себя обязательным и выгодным услаждать господствующие классы в этой «юдоли скорби».
Эта низость мысли проявляется и в его занятиях наукой. Она выступает в двух отношениях. «Во-первых, в бесстыдно и как ремесло практикуемом им плагиаторстве. Во-вторых, в тех полных оглядок, а не безоглядно смелых, выводах, которые он делает из научных предпосылок» 1 2.
Безоглядно смелые выводы характерны для Рикардо, которого Маркс неоднократно противопоставляет Мальтусу в качестве антипода.
Сравнивая в этом отношении Мальтуса с Рикардо, Маркс восклицает: «Но Мальтус! Этот негодяй извлекает из добытых уже наукой (и всякий раз им украденных) предпосылок только такие выводы, которые «приятны» (полезны) аристократии против буржуазии и им обеим — против пролетариата. Он поэтому хочет не производства ради производства, а лишь производства в той мере, в какой оно поддерживает или укрепляет существующий строй и служит выгоде господствующих классов»3.
Уже первое сочинение Мальтуса было одним из самых примечательных литературных примеров успеха плагиата за счет оригинальных работ. Оно преследовало практическую цель экономически доказать утопичность преобразовательных стремлений Французской революции и ее сторонников в Англии. Доказать это в интересах английского правительства и земледельческой аристократии. Словом, это был панегирический памфлет в защиту существующего строя, против исторического развития. К тому же это было и оправданием войны против революционной Франции.
И Маркс адресует Мальтусу и ему подобным хлесткие, как пощечины, слова: «Но человека, стремящегося приспособить науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из самой науки (как бы последняя ни ошибалась), а извне, к такой точке зрения, которая про¬
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч„ т, 26, ч. II, с. 122,
2 Там же.
3 Там же, с. 124.
274
диктована чуждыми науке, внешними для нее интересами, — такого человека я называю «низким»1.
Поп Мальтус низводит рабочих до положения вьючного скота. И при этом он обрекает их на голодную смерть и безбрачие. И ради этой дели он фальсифицирует свои выводы в области науки. В этом и состоит, считает Маркс, его низость в отношении науки, его грех против науки, не говоря уже о его бесстыдном плагиаторстве.
Выводы Мальтуса по научным вопросам сфабрикованы «с оглядкой» на господствующие классы вообще и на реакционные элементы этих классов в особенности. «Наоборот, его выводы безоглядно-решительны, беспощадны, поскольку дело касается угнетенных классов. Он не только беспощаден, но и выставляет напоказ свою беспощадность, цинически кичится ею и доводит свои выводы, поскольку они направлены против «отверженных», до крайности, даже превышая ту меру, которая с его точки зрения еще могла бы быть как-то научно оправдана»2.
Поэтому оправдана ненависть английского рабочего класса к Мальтусу, этому «попу-шарлатану», как назвал его Коббет. Народ верным инстинктом почувствовал, что против него выступает не человек науки, а купленный его врагами адвокат господствующих классов, их бесстыдный сикофант.
Человек, впервые открывший какую-нибудь идею, может, добросовестно заблуждаясь, доводить ее до крайности; плагиатор же, доводящий ее до крайности, всегда делает из этого «выгодное дельце».
В подтверждение этой мысли Маркс опять же противопоставляет Рикардо и Мальтуса. Рикардо, когда рассуждения приводят его, например, к тому выводу, что рост заработной платы выше ее минимума не повышает стоимости товаров, прямо говорит об этом. Мальтус же отстаивает низкий уровень заработной платы с той целью, чтобы на этом наживался буржуа.
Самой последней формой вульгарной политэкономии, считает Маркс, является «профессорская», которая берется за дело «исторически» и с мудрой умеренностью отыскивает везде «наилучшее», причем для нее неважно, если в результате один тезис прямо противоречит
1 Маркс К, Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. II, с. 125.
2 Там же, с. 125—126.
275
другому. Для нее важна только «полнота» картины. Представители этой формы вульгарной политэкономии выхолащивают самые разные системы, обламывая их острые углы. И они мирно уживаются друг с другом в солидных профессорских трудах.
Вульгарная политэкономия считает себя тем более «естественной и общеполезной», тем более далекой от всяких «теоретических хитросплетений», чем более она занята только тем, что переводит обыденные представления на доктринерский язык.
«Пыл апологетики умеряется здесь ученостью, которая благосклонно взирает сверху вниз на преувеличения экономических мыслителей и лишь в качестве курьезов включает их в свою убогую размазню. Так как подобного рода труды появляются лишь тогда, когда политическая экономия как наука уже завершила свой путь, то они являются вместе с тем могилой этой науки» К
Самым жалким образчиком разложения экономической теории Рикардо является для Маркса Мак-Кул- лох. Этот «архишарлатан» самодовольно берется устранить непоследовательности Рикардо и, делая это со всей последовательностью скудоумия, по существу, уничтожает смысл его теории.
«Открытие», которое совершил Мак-Куллох в политэкономии (и которое он, по сути, украл у Сэя), состоит в том, что, по его мнению, трудится не только рабочий, трудятся и товары, трудятся и машины сами по себе. Их «труд» тоже создает поэтому новую стоимость. Потребительные стоимости товаров Мак-Куллох называет меновыми стоимостями. А те операции, которые эти товары проделывают как потребительные стоимости, те услуги, которые они оказывают в производстве как потребительные стоимости, он называет «трудом».
Нетрудно заметить, что «открытие» Мак-Куллоха полностью разрушает теорию стоимости Рикардо. Для Рикардо (как и для Маркса) единственным источником стоимости и прибавочной стоимости является человеческая и потому, точнее говоря, социально определенная деятельность. Товары обладают стоимостями только как носители овеществленного человеческого труда.
Поэтому для Рикардо (как и для Маркса) прибавочная стоимость, которую присваивает капиталист, есть
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. III, с. 528.
276
грабеж рабочего времени труженика. Для Мак-Куллоха же это присвоение той стоимости, которую якобы «создают» сами орудия и предметы труда. Значит, капиталист эксплуатирует не рабочих — нет, ни в коем случае! Он эксплуатирует только принадлежащие ему вещи, товары. Его совесть может быть совершенно чиста!
К этому «открытию» хитроумного Мака близко примыкают взгляды тех современных буржуазных экономистов, которые придают ложную важность овеществленному труду в противовес труду живому. Для них капитал — это не производственное отношение, а сумма товаров. Для них действительное богатство и источник всякого богатства — это не человек, не рабочий (как для Маркса), а товары, не живой, а овеществленный труд.
В обличении филистерской «низости мысли» Маркс ясно обнаруживает не только свои антипатии, но и свои симпатии, свое представление об облике подлинного ученого, самоотверженном, «бесстрашном» служении истине, бескомпромиссном следовании логике научных фактов, не признающем никакого приспособления научных выводов к интересам эксплуататорских классов.
Образцом такого высокого служения науке и был жизненный и человеческий подвиг самого Маркса — создание грандиозного здания «Капитала». Это был самый страшный снаряд в голову буржуа и земельных собственников. Можно было бы добавить — ив голову всех их ученых апологетов, этих Пиндаров капитала.
В возникавшем и крепнувшем международном движении пролетариата Маркс и Энгельс видели естественного «могильщика» филистерства, как и «могильщика» всего старого общества. Энгельс писал, что лишь с того времени, как в Германии образовался современный пролетариат, лишь с тех пор в его лице развился класс, почти совершенно не зараженный филистерством, проявивший широту взглядов, юмор, энергию и упорство в борьбе. В то же время он предупреждал о постоянном давлении мещанской, мелкобуржуазной среды на рабочий класс, о постоянных попытках некоторых учившихся марксизму и недоучившихся «рабочих лидеров» привить пролетариату «наследственный яд филистерской дряблости» К
1 М а р к с К., Энгельс Ф. Соч., т. 35, с. 373,
27?
Проявлением «филистерского духа» в рабочем движении явились различные варианты правого и «левого» оппортунизма, с которыми Маркс и Энгельс повели борьбу с самых первых дней организации I Интернационала.
Критикуя бакунистов и их анархо-синдикалистские теории, требующие отказа от сплоченной революционной партии, от организованной пролетарской борьбы и уповающих на стихийный бунт, на «социальную ликвидацию», Маркс язвительно писал: «В ожидании этой пресловутой социальной ликвидации рабочий класс должен вести себя прилично, как стадо сытых овец; оставить в покое правительство, бояться полиции, уважать законы, безропотно поставлять пушечное мясо» 1.
Анархистскому псевдореволюционизму Маркс и Энгельс противопоставляли подлинную пролетарскую революционность, использующую малейшие экономические и политические «срывы» в работе механизма капиталистического общества для атаки на него. Они неизменно подчеркивали, что рабочее движение в период мирного развития капитализма ни в коем случае не должно плестись в хвосте буржуазного либерализма, превращаться в тред-юнионизм. В этой связи Маркс критиковал мировоззрение развращенных английской буржуазией «рабочих деятелей, для которых стало характерным подражание способу мышления и стилю, свойственному англичанину с туго набитым кошельком, сытой добродетелью и платежеспособной моралью»1 2.
Маркс, конечно, радовался тому, что на его родине, в Германии, набирала силу партия немецкой социал- демократии. Но и особенно пристально и бдительно следил за принципиальной правильностью линии этой партии, встречая в штыки всякие уступки филистерству. Так, Маркс с тревогой отметил, что в органе этой партии время от времени появляются «филистерские фантазии недоучек» — «хлам этот исходит от школьных учителей, докторов и студентов»3.
Решительное неприятие Марксом малейшего эклектизма, всяких компромиссов в области научной революционной теории, «теоретических уступок», «торгашества принципами» особенно ярко проявилось в «Критике
1 Маркс К., Энгельс Ф., т. 18, с. 297,
2 Там же, т. 19, с. 155.
3 Там же, т, 33, с. 533.
278
Готской программы». Эта программа, как известно, была- попыткой объединить немецкую социал-демократию на основе «компромисса» между марксизмом и лассальянством. Маркс вскрыл сущность лассальянства как оппортунистического мелкобуржуазного течения, показал вредность его теоретического «новаторства» для судеб рабочего движения. В частности, у Ф. Лассаля и его адептов речь, по существу, шла о том, чтобы перенести центр тяжести в представлениях о будущем обществе всецело в область распределения материальных благ. Это отрыжка вульгарного социализма, который «перенял от буржуазных экономистов манеру рассматривать и трактовать распределение как нечто независимое от способа производства, а отсюда изображать дело так, будто социализм вращается преимущественно вокруг вопросов распределения»1. (Нетрудно заметить, что эти филистерские представления о социализме и коммунизме, носящие потребительский характер, весьма живучи и в наше время.)
Маркс направил также огонь своей критики против реформистских иллюзий программы, против «верноподданнической веры лассалевской секты в государство», веры в те «демократические чудеса», которые якобы возможны при буржуазном государстве и осуществимы с его помощью. В противовес этому Маркс развил идею диктатуры пролетариата как политической формы переходного периода от капитализма к социализму. Комментируя это положение, Ленин подчеркнул, что в этот период будут выполняться наряду с другими и функции по преодолению силы инерции, привычек, нравов старого общества, по перевоспитанию в социалистическом духе мелкобуржуазных масс и самого рабочего класса. О чем ином здесь идет речь, как не о преодолении филистерских привычек, нравов, психологии, образа жизни и мышления?
Во времена бисмарковского исключительного закона против социалистов в партии нашлись люди, которые готовы были принести революционные принципы в жертву приспособленчеству и действовать в духе «законности» полицейского режима. Маркс и Энгельс направили руководству партии циркулярное письмо, в котором подвергали сокрушительной критике позицию соглашателей в среде немецкой социал-демократии. «Пе-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 20.
279
ред нами, — писали они, — представители мелкой буржуазии, которые заявляют, полные страха, что пролетариат, побуждаемый своим революционным положением в обществе, может «зайти слишком далеко». Вместо решительной политической оппозиции — всеобщее посредничество; вместо борьбы против правительства и буржуазии — попытка уговорить их и привлечь на свою сторону; вместо яростного сопротивления гонениям сверху — смиренная покорность и признание, что кара заслужена»1. Для деятелей подобного типа низвержение капиталистического строя — дело далекого будущего, не имеющее абсолютно никакого значения для политической практики современности. Поэтому можно лавировать, заниматься соглашательством и филантропией сколько душе угодно. Они принимают классовую борьбу между пролетариатом и буржуазией на бумаге. А на деле эту борьбу затушевывают, смазывают, ослабляют. По их мнению, партия рабочего класса не должна навлекать на себя ненависть буржуазии, не должна его отпугивать, «пусть лучше все свои силы и всю свою энергию она обратит на осуществление тех мелкобуржуазных реформ-заплат, которые укрепят старый общественный строй и тем самым, может быть, превратят конечную катастрофу в постепенный, совершающийся по частям и по возможности мирный процесс перерождения» 1 2.
С какой удивительной прозорливостью припечатали здесь Маркс и Энгельс «медные лбы» и «заячьи души» грядущих поколений соглашателей, оппортунистов, реформистов! Не проглядывают ли среди них и «лбы» К. Каутского и тем более Э. Бернштейна?
В последние годы жизни Маркса Каутский пытался выступать в качестве его «сподвижника». Но Маркс сразу же раскусил этого человека, едва увидев. Нанеся визит Марксу, Каутский передал привет от своей матери — известной либеральной писательницы Минны Каутской. Маркс сообщает в иронических тонах свое впечатление о Каутском Женни Лонге: «Когда эта очаровательная личность впервые заявилась ко мне — я говорю об этом субъектике*, — первый вопрос, который у меня вырвался, был: похожи ли Вы на свою мать? — Совершенно не похож, — заверил он. И в душе я по¬
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 172.
2 Там же, с. 173.
* Игра слов: «Käutzchen» означает «субъектик». — Ред*
280
здравил его мать. Он — посредственный, недалекий человек, самонадеян (ему всего лишь 26 лет), всезнайка, в известном смысле прилежен, очень много возится со статистикой, но толку от этого мало; принадлежит от природы к племени филистеров, впрочем, в своем роде — порядочный человек; я, по возможности, сплавлю его другу Энгельсу» К
Общение с Марксом и Энгельсом благотворно сказалось на Каутском и Бернштейне, сделало их со временем видными деятелями немецкой социал-демократии, но, увы, не избавило от филистерства в политике и теории. К ним и к их последователям прежде всего по праву можно отнести слова Энгельса в письме к П. Ла- фаргу: «Эти господа — все марксисты, но того сорта, ...о котором Маркс говорил: «Я знаю только одно, что я не марксист!» И весьма вероятно, что об этих господах он сказал бы то же, что Гейне говорил о своих подражателях: «Я сеял драконов, а пожал блох»1 2.
На долю Ленина выпала задача разоблачения ренегата Каутского и других лидеров II Интернационала, борьба с «левым» и правым ревизионизмом, с самыми различными проявлениями филистерства, «бациллами мелкобуржуазного тупоумия» в среде российской социал-демократии. В этом отношении он принял эстафету от Маркса. И незадолго до Октября сделал признание, поразительно напоминающее те слова Маркса, с которых начат этот очерк: «Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлости, оппортунизма и т. д.
Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками» 3.
Да, для Ленина, как и для Маркса, девиз «филистеры идут на меня» был, безусловно, предпочтительнее девиза «под пятой филистера».
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 35, с. 146.
2 Там же, т. 37, с. 383.
3 Л ел и н В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 340.
...Большевизм вырос, сложился и закалился в долголетней борьбе против мелкобуржуазной революционности, которая смахивает на анархизм или кое-что от него заимствует...
В. И. ЛЕНИН
МАРКС И БАКУНИН: УРОКИ ИСТОРИИ
В Александровском саду, что около Кремлевской стены, высится четырехгранный обелиск из серого гранита. Это памятник выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся, открытый по предложению В. И. Ленина 7 ноября 1918 года. На обелиске высечены имена: Маркс, Энгельс, Либкнехт, Лассаль, Бебель, Кампанелла, Мелье, Уинстлей, Т. Мор, Сен-Симон, Вальян, Фурье, Жорес, Прудон, Бакунин, Чернышевский, Лавров, Михайловский, Плеханов.
Так имя Бакунина оказалось рядом с именами Маркса и Энгельса, Бакунин, злейший враг марксизма, — рядом с Марксом! Оправданно ли это?
Марксизм рождался, формировался, развивался и закалялся в борьбе с разными идейными политическими, философскими течениями и направлениями буржуазной и мелкобуржуазной по своему классовому характеру мысли: от субъективного и объективного идеализма до вульгарного материализма и позитивизма, от прекраснодушного утопизма, реформизма и соглашательства до левацкого авантюризма и стихийного бунтарства «взбесившегося мелкого буржуа».
Это была, конечно, борьба не с абстрактными принципами и идеями, а с определенными личностями, порой посредственными и бесследно сходящими с исторической сцены, а порой и выдающимися по таланту яркой индивидуальности, популярности. Последние представляли, понятно, наибольшую опасность, так как могли оказывать — и оказывали — большое влияние на ход, смысл и направление революционного движения. Такими крупными личностями — антагонистами марксизма — были Вейтлинг, Прудон, Лассаль и не в последнюю очередь Бакунин.
Двое последних были ярким олицетворением двух основных политических направлений («слева» и «справа»), с которыми марксистско-ленинские партии вели и ведут по сей день самую ожесточенную и непримиримую борьбу. Лассаль — родоначальник реформизма и оппортунизма в рабочем движении. Бакунин — идейный вдохновитель и практический организатор анархизма, крайнего стихийного левацкого экстремизма, вплоть до стихийного бунтарства и терроризма.
283
Здесь речь пойдет о Бакунине. Перефразировать известную поговорку можно и так: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Полярно противостоят друг другу не только учения Маркса и эклектические идеи Бакунина, не только их стратегия и тактика в революционной борьбе. Маркс и Бакунин противостоят друг другу и как духовно-нравственные личности.
И если учение марксизма-ленинизма вылито словно «из одного куска стали», то творцы этого учения тоже натуры необычайно цельные, исполненные душевного благородства, знающие «одну, но пламенную страсть».
Бакунин же — натура, исполненная противоречий. Неистовый бунтарь, человек отчаянной храбрости, распахнутой душевной широты — и политический интриган, не гнушающийся использовать сомнительные средства. Злейший враг крепостничества, царизма — и униженный узник, «кающийся грешник», пишущий царю исповедь, как своему «духовному отцу». Революционер- интернационалист, боровшийся за свободу поляков и чехов, итальянцев и испанцев, французов и немцев, — и раскольник Международного Товарищества Рабочих. Ненавистник всякой диктатуры и авторитарной власти, вождизма — и человек с притязаниями на исключительную авторитарность, диктатуру своей собственной персоны в созданном им анархистском «Альянсе».
Будем, однако, справедливы к Бакунину. Была в нем черта, сближающая его в определенном отношении с Марксом и Энгельсом. При всех его шатаниях и противоречиях горела в нем все же гневная, бурливая, неугомонная пламенная страсть борца за освобождение трудящихся всех стран, ненависть к гнету и эксплуатации, подавлению и унижению человека, в каких бы видах они ни выступали. В нем всегда жила, билась, двигала всеми его душевными помыслами мечта об обществе свободных людей труда, коммунистическом обществе, которого он по-ребячески чаял добиться разом, одним бунтарским порывом.
Бакунин, в сущности, стремился к той же конечной цели, что и Маркс. Но пути к ее достижению они видели разные. Более того — опять же диаметрально противоположные. И если Маркс еще в юности с презрением клеймил тех, кто использует для достижения правой цели неправые средства, то Бакунин был из их числа.
284
Марксизм — сражающееся учение. И вполне понять его революционную суть можно не в готовых выводах и формулах, а в постижении самого процесса борьбы с течениями, открыто противостоящими ему или так или иначе «отклоняющимися» от него.
Вот почему и сегодня — через 170 с лишним лет после рождения Бакунина — история борьбы с ним и с его идеями остается актуальной. Тем более что поныне живы некоторые анархистские тенденции в революционном движении.
Жизненные пути и судьбы Маркса и Бакунина причудливо переплетаются на протяжении почти тридцати лет.
Революционная мысль Бакунина, как и революционная мысль Маркса, рождалась и закалялась сначала в горниле гегелевской философии. В том же, 1837 году, когда Маркс с жаром штудирует Гегеля в Берлинском университете, Бакунин открывает для себя великого немецкого мыслителя и затем бьется вместе с Белинским над загадочной фразой: «Все действительное — разумно!» «Гегель, — пишет он в мае 1837 года, — дает мне совершенно новую жизнь. Я целиком поглощен им. Я все больше и больше сознаю, что наука есть истинная стихия моей жизни...» 1
Но если Маркс читает Гегеля острокритическим взором, не подпадая целиком под оковы его системы, не «делая из него кумира», толкуя его с позиций левоге- гельянства, то Бакунин попервоначалу — фанатичный поклонник Гегеля, понимаемого к тому же самым консервативным образом. Он больший «роялист», чем сам «король философии». В 1838 году он публикует переводы речей Гегеля в Нюрнбергской гимназии со своим предисловием, в котором взывает к «примирению с действительностью», ибо «что действительно, то разумно». Поражает какая-то старческая благонамеренность и благостность молодого Бакунина. Все «пороки», все «ужасы» французской революции, по его мнению, произошли от разрыва с действительностью, от восстания против нее. Да и Пушкин, по его мнению, велик тем, что в конце жизни примирился с действительностью никола-
1 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем, т. 1, М., 1934—1935, с. 428.
285
евской России. «Будем надеяться, — восклицает Бакунин, — что но©х>е поколение сроднится наконец с нашею прекрасною, русскою действительностью...» 1 Своим официозным гегельянством Бакунин заражает целый кружок внимавших ему молодых людей,, в том числе и Белинского. Но «неистовый Виссарион» прозревает раньше своего учителя и проповедника и восстает против него.
Бакунин словно' дал монашеский обет коленопреклоненного послушания гегелевской системе и исто-во проповедовал ее направо и налево с настойчивостью христианского миссионера среди язычников. В этом его «исповедании веры» было что-то от философского романтизма, только окрашенного в «глубоко консервативный, религиозный, даже в мистический оттенок»1 2. Он и в быту, в отношениях к сестрам, например, выступает в роли этакого сентиментального блюстителя семейных добродетелей. Судя по его письмам к друзьям, кажется, что ему больше шла бы черная сутана, а не офицерский мундир, который он одно время носил.
Но... тут надо сказать и «но». Философский романтизм Бакунина вел к тому, что, освящая кадилом разума существующие порядки, он делал это так, что порядки эти, по словам прозорливого Анненкова, словно переставали походить на себя. Они становились идеалами по сравнению с тем, чем были на самом деле. А безгранично строгие нравственные требования ко всякой живой, юной личности он непременно доводил до призыва на жертвенные, героические подвиги.
Стремление во всем идти до крайнего предела, не гнушаться никакими экстравагантными выводами, если того требовал исходный «принцип», роднило Бакунина с тогдашним Белинским. Оба они не знали медленной, постепенной эволюции во взглядах. Приятие «официального Гегеля», как и разрыв с ним, было для того и для другого взрывом, ниспровержением «святынь» — настоящей духовной бурей, из которой они вышли, будто заново родясь.
С Бакуниным это случилось уже за границей, в Германии, куда он отбыл в 1840 году. Он живо ощутил то умственное брожение, которым была охвачена радикаль¬
1 Бакунин М. И. Собр. соч. и писем, т. 2, с. 178.
2 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 161.
286
но настроенная молодежь Германии, сблизился с левыми гегельянцами, с демократическими публицистами.
Вместе с Энгельсом он слушает лекции престарелого Шеллинга в Берлинском университете и воспринимает их весьма скептически. Блестящий памфлет Энгельса о Шеллинге, опубликованный в 1842 году анонимно, А.. Руге приписывает сначала Бакунину, отношение которого к Шеллингу он, видимо, хорошо знает.
«Монастырское», отвлеченное умозрение начинает претить Бакунину. Он жаждет деятельности, борьбы, ог идеалистической философии он решительно поворачивает к революционному демократизму. Его охватывает нетерпеливое ожидание революционной бури, которая сметет все пороки существующего общества и которую совершит «бедный класс, составляющий, без сомнения, большинство человечества». Об этом Бакунин заявил в первой же опубликованной за границей статье «О реакции в Германии» за подписью Жюль Элюар. Вдохновенно и грозно прозвучали в этой статье слова: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть». Эти строки станут девизом всей его последующей жизни. Ему он никогда не изменит.
Бакунин внимательно следит за демократической прессой. Он с восторгом читает статью «какого-то Рейн- ца» о новейшей прусской цензурной инструкции и сообщает об этом А. Руге. Статья принадлежала Марксу, с которым Бакунин еще не был знаком. Ему не могла не импонировать язвительная, остроумная, убийственная критика бюрократического государства и его учреждений, «нечистой совести политиканствующей клики», всего мира, «вывороченного наизнанку». Вывод Маркса, что «градикальным излечением цензуры было бы ее уничтожение» \ был вполне созвучен умонастроению Бакунина.
В 1843 году в Париже появился сдвоенный номер «Немецко-французских ежегодников», который открывался перепиской Маркса и Бакунина с Руге. Удивительная созвучность настроений Маркса и Бакунина! С энтузиазмом возражая против плаксивого пессимизма Руге, который в филистерской Германии не видел никакой революционной перспективы, Маркс и Бакунин предрекают в самом близком будущем «красного петуха» революции. Они оказались правы.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 27,
287
В 1844 году в Париже состоялось и личное знакомство Маркса с Бакуниным. Бакунин к тому времени стал по убеждению революционным демократом, но с очень туманными и путаными взглядами. Маркс шагнул уже значительно дальше — к пониманию всемирно-исторической роли пролетариата, к коммунизму и диалектическому материализму. Они часто встречались, спорили, но попытки Бакунина установить верховенство над Марксом в идейных и личных отношениях закончились полным провалом. Коса нашла на камень. Тщеславие Бакунина было задето, хотя ему и пришлось признать интеллектуально-нравственное превосходство Маркса, его цельной натуры.
На склоне лет Бакунин вспоминал о первых парижских встречах с Марксом: «Мы сошлись довольно близко. Он тогда был более крайний, чем я, да и теперь он, если и не более крайний, то несравненно ученее меня. В то время я ничего не смыслил в национальной экономии, я еще не освободился от метафизических абстракций, и мой социализм был чисто инстинктивным. Хотя по годам и моложе моего, он уже был атеистом, ученым материалистом и мыслящим социалистом. Мы встречались довольно часто, потому что я питал к нему большое уважение за его ученость и серьезную страстную преданность делу пролетариата, хотя эта преданность и уживалась всегда в нем с личным честолюбием; я жадно искал бесед с ним, которые всегда были поучительны и остроумны (отметим в скобках, что сам Бакунин остроумием не отличался и был начисто лишен чувства юмора. — Г. В.)... Однако полной близости между нами не было. Наши темпераменты не подходили друг другу. Он называл меня сентиментальным идеалистом — и был прав; я называл его вероломным, коварным и тщеславным человеком — и тоже был прав» 1.
Это всегдашняя манера Бакунина. Говоря о Марксе, он начинает обычно с реверансов и расшаркиваний перед ним, с комплиментов, иногда даже неумеренных. Когда читатель проникается верой в беспристрастность Бакунина, его объективность, тот резко меняет тон и вместо вежливой улыбки появляется крайнее озлобление, с которым он и выливает на Маркса ушаты грязи.
1 Материалы для биографии М. Бакунина, т. 3, М.—Пг., 1923, с. 301.
288
Причем, как это обычно бывает с такого рода людьми, он рисует Маркса по своему собственному образу и подобию. Тщеславие, честолюбие, интриганство, нетерпимость, авторитарность, диктаторские замашки — все это неотъемлемое достояние самого Бакунина, которым он щедро награждает своего противника и соперника.
После Парижа они встретились в Брюсселе в 1847 году. Маркс и Энгельс тогда создавали первую пролетарскую партию, перековывая Союз справедливых, находившийся до этого под влиянием Вейтлинга, Прудона и Грюна, в Союз коммунистов. Бакунин видел в этом суету сует вместо «настоящего революционного дела» и к идеям научного коммунизма вообще относился подозрительно. Его неприязнь к Марксу росла. На предложения примкнуть к Союзу коммунистов он отвечал отказом. В октябре 1847 года сообщал в одном из писем с недоброй насмешкой: «Маркс занимается
здесь тем же самым суетным делом, что и раньше — портит работников, делая из них резонеров. То же самое теоретическое сумасшествие и неудовлетворенное, недовольное собой самодовольствование...» 1
Это характерно для Бакунина. Если он и признавал коммунизм, то как стихийное движение масс, которое всякие теории, «доктрины» только сковывают. Еще в 1843 году он писал: «Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного инстинкта, а последний никогда не ошибается»1 2. К Бакунину в полной мере может быть отнесена гневная тирада Маркса, обращенная к Вейтлингу: «...Возбуждать население, не давая ему никаких твердых, продуманных оснований для деятельности, значило просто обманывать его... Обращаться к работнику без строго научной идеи и положительного учения равносильно с пустой и бесчестной игрой в проповедника, при которой, с одной стороны, полагается вдохновенный пророк, а с другой — допускаются только ослы, слушающие его, разинув рот»3.
Многое сближало Бакунина с Прудоном — «отцом анархизма». Тут было взаимное влияние. Прудон часами внимал проповедям Бакунина о гегелевской диалектике, Бакунин восторгался дерзким экстремизмом Прудона, который шокировал обывателя и который был так сродни его собственному экстремизму. Однако в отли¬
1 Анненков П. В. Указ, соч., с. 318.
2 Бакунин М. А. Собр. соч., т. 3, с. 230.
3 Анненков П. В. Указ, соч., с. 303.
28В
чие от Вейтлинга и Прудона, которые были разрушителями скрижалей старого мира только на бумаге, Бакунин страстно и нетерпеливо жаждал осуществить это немедленно, «на деле». Он был охвачен «революционной чесоткой», бесконечные «умствования» на счет революции и коммунизма ему набили оскомину. Он захандрил.
Но тут как раз пробил и звездный час для Бакунина. Началась февральская революция в Париже, которая перекинулась затем на все государства Центральной Европы. Конечно же, с первых дней революции он мчится в Париж, он — на баррикадах, среди восставших, днюет и ночует в казармах гвардейцев отважного Коссидьера. Проповедует уравнительный коммунизм и непрерывную революцию до избиения последнего врага.
Бакунин вспоминал об этом времени «духовного пьянства» как о лучшей поре жизни: «Я вставал в пять, в четыре часа поутру, а ложился в два, был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях — одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу. Это был пир без начала и без конца» К
Еще в канун революции большой насмешник Герцен окрестил Бакунина «старой Жанной д’Арк». К этому он прибавил, что Бакунин к тому же и девственница, но только антиорлеанистская, так как питает отвращение к Луи-Филиппу Орлеанскому.
Когда Гервег предложил свой авантюрный план похода немецких легионеров из Франции в Германию для того, чтобы раздуть там революционный пожар, Бакунин, конечно же, был на стороне Гервега, а не Маркса, который резонно предрекал этой псевдогероической и псевдоромантической акции полный провал. Маркс оказался прав. А Бакунин тем временем двинулся на восток, поближе к русской границе, обуреваемый планами освобождения Польши из-под русского господства и создания республиканской федерации всех славян.
Царские приспешники в Европе всеми средствами стремились скомпрометировать Бакунина, и одной из самых убийственных и ядовитых стрел был усердно распускаемый слух, что Бакунин — тайный агент русского правительства. На этот грязный слушок клюнула, к со-
1 Материалы для биографии М. А. Бакунина, т. 1, с. 130—131.
290
жалению, даже «Новая Рейнская газета». В отсутствие Маркса и без его ведома газета опубликовала корреспонденцию из Парижа, утверждающую, что Жорж Санд будто- бы имеет в своем распоряжении документы, которые изображают Бакунина как недавно завербованного агента России и приписывают ему главную роль в аресте «несчастных поляков».
Взбешенный Бакунин обратился за разъяснениями к Жорж Санд, а та,, конечно, и слыхом не слыхала ни о каких таких «документах». Она направила опровержение в «Новую Рейнскую газету», которое было немедленно напечатано с извинениями редакции. Маркс и Энгельс потом не раз ломали копья на страницах газеты в защиту «нашего друга Бакунина».
При первой же встрече Маркс лично все разъяснил Бакунину, общие друзья заставили их обняться. Объятия со стороны Бакунина были лицемерными. Он не поверил в искренность Маркса, на всю жизнь затаил против него кровную обиду и все время подогреваемую лютую ненависть. Этим недобрым чувством он сумел заразить и Герцена.
Революция тем временем давала последние бои наступавшей и наглевшей с каждым днем контрреволюции. Маркс печатает в «Новой Рейнской газете», похожей на осажденную крепость, «статьи, подобные гранатам». Энгельс командует артиллерией на баррикадах Эберфельда. Бакунин фактически возглавляет штаб восстания в Дрездене. Когда прусские войска появились на улицах Дрездена, Бакунин предложил руководителям восстания взорвать себя вместе с ратушей, где они разместились. На, к его крайнему удивлению, это предложение никто не поддержал. Вскоре он был арестован. Отдавая должное Бакунину, Маркс и Энгельс з работе «Революция и контрреволюция в Германии» отозвались о нем как о «спокойном и хладнокровном» вожде дрезденского восстания.
Для Маркса и Энгельса начались тяготы эмиграции в Англии, для Бакунина — 12 лет тюремного заключения и ссылки. Дважды он приговаривался к смертной казни, сначала саксонским судом, затем австрийским. Но случилось то, чего Бакунин боялся больше смерти: его выдали русским властям. Еще в первые месяцы революции до Бенкендорфа стали доходить слухи, что Бакунин будто бы готовит покушение на русского императора. Поэтому Бакунин почитался государственным пре¬
291
ступником номер один. Царь Николай, вспоминая исповедальные признания, к которым ему удалось принудить некоторых декабристов, предложил и Бакунину исповедаться перед ним как перед «духовным отцом». Тот охотно согласился.
«Исповедь» рассматривают обычно как позорное пятно в биографии Бакунина. Но это произведение, так сказать, «с двойным дном». Внешне его можно принять за самоуничиженное покаяние. Но Бакунин никогда ни словом не говорит, что отступил от своих революционно- демократических взглядов или пересмотрел их. Он смело и ярко живописует гнетущую атмосферу крепостнической и деспотической России, составляет настоящий обвинительный акт царю Николаю, питая при этом «донкихотское безумие» — распропагандировать самодержца! Но нет, упрекает Бакунин царя, русское правительство «не хочет ни свободы, ни просвещения русского народа, видя в нем только бездушную машину для завоеваний в Европе» К
«В России, — выкладывает Бакунин правду-матку царю, — главный двигатель — страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему ближнего; уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души...»
И далее: «Везде берут взятки и за деньги творят неправду. И во Франции, и в Англии, и в честной Германии; в России же, думаю, более, чем в других государствах. На Западе публичный вор редко скрывается. В России же иногда и все знают о воре, о притеснителе, о творящем неправду за деньги; все знают, но все же и молчат, потому что боятся; и само начальство молчит, зная за собой грехи... В России трудно и почти невозможно чиновнику быть не вором» 1 2.
Разве это язык и тон «кающегося грешника»? Скорее грозного и бесстрашного обличителя. Без обиняков заявляет Бакунин о своих целях: «Одним словом, Государь, я уверил себя, что Россия для того, чтобы спасти свою честь и свою будущность, должна совершить революцию, свергнуть Вашу Царскую Власть, уничтожить монархическое правление и, освободив себя
1 Материалы для биографии М. Бакунина, т. 1, с, 167,
2 Там же, с. 163—164.
292
таким образом от внутреннего рабства, стать во главе Славянского движения» К
Заканчивая «Исповедь», Бакунин, признавая себя «великим преступником», просит царя только об одном — не гноить его в одиночном заключении в крепости, а послать на каторжные работы, пусть самые тяжелые: чем тяжелее, тем лучше.
Николай внимательно прочитал рукопись, сделав кое-где одобрительные пометки. Искренность Бакунина ему понравилась. Он начертал: «Повинную голову меч не сечет». Но и приказал: гноить Бакунина именно в одиночном каземате.
Каково же было Бакунину потом узнать, что в английской прессе в 1853 году появилась заметка, где утверждалось, будто царь Николай принял его с распростертыми объятиями, предоставив ему шампанское и женщин! Заметка была подписана фамилией Маркс. Но это был некий Френсис Маркс, ничего общего с Карлом Марксом не имеющий. Опять досадное недоразумение, имевшее тяжелые последствия для взаимоотношений Бакунина с Марксом.
Шесть лет провел Бакунин в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Лишь после смерти Николая он был сослан в Сибирь. Через несколько лет, в 1861 году, ему удается то, что не удалось никому из декабристов — удачный побег из Сибири: по реке Амур, затем в Японию, затем на торговом судне через Тихий океан в Америку. И наконец, он снова в Европе.
12 лет вынужденной политической бездеятельности позади! С тем большей энергией и страстью Бакунин окунается в политику.
В ряде брошюр, статей, программ, воззваний он излагает теперь уже окончательно сложившееся анархистское мировоззрение, уповая на крестьянскую революцию в России и на бунт мелкобуржуазных и деклассированных элементов (вкупе с отсталой частью пролетариата) в Западной Европе. В былых панславистских иллюзиях он разочаровывается и начинает думать о необходимости создания международной политической организации.
Но тут его поражает известие, что такая организация уже создана под именем Интернационала — Международного Товарищества Рабочих, что во главе ее стоит Маркс.
1 Материалы для биографии М. Бакунина, т. 3, с. 171.
293
Маркс стремился привлечь к работе в Интернационале всех активных борцов за освобождение трудящихся. Узнав о кратковременном пребывании Бакунина в Лондоне, он написал ему письмо как старому знакомому с предложением встретиться. Встреча состоялась 3 ноября 1864 года. Маркс рассказал о ней в письме к Энгельсу: «Бакунин просит тебе кланяться. Он сегодня уехал в Италию, где проживает (Флоренция). Я вчера увидел его в первый раз после шестнадцати лет. Должен сказать, что он мне очень понравился, больше, чем прежде... Он (Бакунин) теперь, после провала польского движения, будет участвовать только в социалистическом движении.
В общем, это один из тех немногих людей, которые, по-моему, за эти шестнадцать лет не пошли назад, а, наоборот, развились дальше» К
Маркс способствовал принятию Бакунина в Интернационал, надеясь, что тот будет вести в Италии социалистическую пропаганду и противодействовать влиянию идей Мадзини. Бакунин обещал работать не покладая рук. Однако на письма Маркса он больше не отвечал и действительно «работал не покладая рук», создавая в противовес Интернационалу «свою собственную» тайную международную организацию, которую он выспренне называл «Священным союзом свободы», или «Интернациональным братством».
В 1867 году Бакунин входит в руководство либерально-буржуазной Лиги мира и свободы, надеясь подчинить ее своему влиянию. Поняв, что это невозможно, он через год с шумом покидает Лигу и вновь обращает свой взор к Интернационалу. Теперь Бакунин стоит во главе «Альянса социалистической демократии», который он надеется внедрить в Интернационал.
Маркс и Энгельс, ознакомившись с анархистской, сектантской, заговорщицкой программой «Альянса», решительно воспротивились приему этого «контрабандного общества» в Интернационал. Они отлично понимали, чем это грозит для единства действий пролетариев. Они раскусили скрытый замысел Бакунина: захватить власть в Интернационале. Энгельс писал Марксу по поводу просьбы Бакунина о приеме «Альянса»: «...Интернационал не может согласиться на это шарлатанство, это ясно, как день. В этом случае было бы два генераль-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 31, с, 13—14,
294
ных совета и даже два конгресса; это — государство в государстве, и с первой же минуты вспыхнул бы конфликт между практическим советом в Лондоне и теоретическим, «идеалистическим», советом в Женеве» К
Маркса к тому же коробило то, что Бакунин в буржуазной Лиге мира и свободы выступал с требованием «уравнения классов» вместо уничтожения классов. Узнав об этом от А. А. Серно-Соловьевича, Бакунин решается обратиться лично к Марксу на правах «старой дружбы».
Он так и пишет: «Мой старый друг, Серно сообщил мне ту часть твоего письма, которая касалась меня. Ты спрашиваешь его, остался ли я по-прежнему твоим другом. Да, и даже более, чем когда-либо, дорогой Маркс, потому что лучше, чем когда-нибудь, я понимаю теперь, до какой степени ты был прав, следуя сам и приглашая нас идти по проторенной дороге экономической революции и резко порицая тех из нас, которые сбивались на тернистый путь либо национальных, либо исключительно политических действий. Я делаю теперь то, что ты начал уже 20 лет тому назад. С тех пор, как я торжественно и публично распрощался с буржуа на Бернском конгрессе (Лиги мира и свободы. — Г. В.), я не знаю другого общества, другой среды, кроме мира рабочих. Мое отечество будет теперь Интернационал, одним из главных основателей которого ты являешься. Итак, ты видишь, дорогой друг, что я — твой ученик и горжусь этим»1 2.
Уж очень нужна была Бакунину поддержка Маркса для приема «Альянса» в Интернационал, если он сподобился на такое уничижительное для себя письмо! Зная неприязненное отношение Маркса к Герцену, он даже решился отмежеваться от своего действительно верного и старого друга. Отмежевался он и от формулировки «уравнение классов», заявив, что она была «навязана глупостью и совершенной неспособностью нашей буржуазной аудитории».
По расчетам Бакунина, письмо должно было подкупить Маркса и растрогать его. Но Маркс был осведомлен уже не только о словах, но и о делах Бакунина — о целях и задачах его «Альянса». Он не ответил на это письмо.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 188.
2 К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967, с. 166—167.
295
Бакунин вновь обращается в Генеральный совет, на этот раз с обходным маневром. Он заявляет, что «Альянс» будет распущен, что войдут в него только секции, безусловно признавая программу и устав Интернационала.
Маневр на этот раз удался. В июне 1869 года Бакунин вместе со своими довольно многочисленными сторонниками в Италии, Испании, Франции, Швейцарии вошел в Интернационал. Вошел с сознательной целью: вести в нем раскольническую деятельность. Уже через несколько месяцев, на Базельском конгрессе, он выступает — пока осторожно! — против принципиальной линии Маркса и Энгельса по ряду вопросов. Бакунин настаивал на ликвидации государства сразу же после победы революции, на отмене права наследования.
Было бы, конечно, крайним заблуждением полагать, что Бакунин повел в Интернационале ожесточенную борьбу против Маркса из личных обид и антипатий. Он был искренне убежден в своей правоте и в том, что его позиция будет более способствовать успеху революционного дела, чем «доктринерская» позиция «государственника» Маркса, который, по его, Бакунина, убеждению, откладывал революцию до греческих календ, вместо того чтобы использовать Интернационал как мощное орудие в разжигании всемирного революционного пожара.
Как однажды признался Бакунин, «между партией Маркса и нашей партией целая пропасть» К
Вскоре после Базельского конгресса Бакунин с предельной откровенностью пишет Герцену о своих отношениях к Марксу и Интернационалу. Прежде всего он заявляет, что «мир рабочих — это единственный мир, в который я верю на Западе, точно так же, как у нас в мир мужицкий и в грамотный мир беспардонных юношей, не находящих себе ни места, ни возможности заняться в России...».
«Беспардонный юноша» — это, конечно, прежде всего Сергей Нечаев, с которым Бакунин уже сблизился и который убедил его, что в России у него, Нечаева, тысячи сподвижников, боготворящих Бакунина и ждущих от него «команды».
Затем Бакунин пишет о Марксе и, как всегда, начи-
1 См.: Стеклов Ю. М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность, т. 3. М.—Л., 1927, с. 112.
296
нает с комплиментов. «Марко несомненно полезный человек в Интернациональном обществе. Он в нем еще (!) до сих пор один из самых твердых, умных и влиятельных опор социализма, — одна из самых сильных преград против вторжения в него каких бы то ни было буржуазных направлений и помыслов. И я никогда не простил бы себе, если бы для удовлетворения личной мести я уничтожил или даже уменьшил его несомненно благотворное влияние. А может случиться, и, вероятно, случится, что мне скоро придется вступить с ним в борьбу, не за личную обиду, а по вопросу о принципе, по поводу государственного коммунизма, которого он и предводительствуемая им партия — английская и немецкая — горячие поборники. Ну, тогда будем драться не на живот, а на смерть. Но все в свое время, — теперь же время еще не пришло».
И дальше Бакунин совсем уж раскрывает свои карты: «Я пощадил и превознес его (Маркса. — Г. В.) также из тактики, из личной политики. Как ты не видишь, что все эти господа вместе наши враги, составляют фалангу, которую нужно прежде всего разъединить, раздробить, чтобы легче ее разбить...» К
Заметим, что Бакунин был «злым гением» в отношениях Маркса и Герцена. Именно он прежде всего на протяжении многих лет возбуждал неприязнь Герцена к Марксу (как и обратно!). Под конец жизни Герцен, с удивлением узнав, что Бакунин трудится над переводом «Капитала» — дело заглохло в самом начале, — писал Огареву: «Дай бог успеха бакунинскому переводу Маркса — я одного не понимаю, почему же он держал под сурдинкой свои отношения с ним? Вся вражда с марксистами из-за Бакунина». (Выделено мной. — Г. В.)1 2.
Вскоре Бакунин объявил открытую войну «не на жизнь, а на смерть» Генеральному совету, уже не скрывая своих намерений подчинить Интернационал анархистской программе. Война была объявлена на съездах анархистских секций в Швейцарии. Решительный бой предстоял на Гаагском конгрессе Интернационала.
Готовясь к борьбе на Гаагском конгрессе, Маркс и Энгельс собрали документы, характеризующие цели и задачи «Альянса» и компрометирующие лично Бакуни-
1 Материалы для биографии М. Бакунина, т. 3, с. 156—157.
2 Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XXX, с. 201.
297
на. После конгресса, который исключил Бакунина из Интернационала, эти материалы Маркс и Энгельс опубликовали в обширной совместной работе «Альянс и Международное Товарищество Рабочих».
Программные документы «Альянса», опубликованные и проанализированные в этой статье, дают ясное представление о диаметральной противоположности марксизма и бакунизма.
Какова же была платформа бакунизма?
«Чтобы заставить признать себя вождем Интернационала, — пишут Маркс и Энгельс о Бакунине, — надо было предстать в качестве вождя другой армии, абсолютная преданность которой его особе должна была быть обеспечена тайной организацией» К Бакунин основывает в Женеве открытое общество — Альянс социалистической демократии, за которым скрывается другой Альянс, который, e свою очередь, находится под руководством еще более тайного Альянса интернациональных братьев и в конце концов — «лейб-гвардии диктатора Бакунина».
В этой тайном «Альянсе» имеются три ступени: интернациональные братья, национальные братья и Международный альянс социалистической демократии.
Маркс и Энгельс замечают, что «Альянс» «навязывает роль шпионов самим людям, которые, по его плану, должны стать во главе «всемирной революции». «Революционный паяц» — таким высоким званием награждается Бакунин, — «завершает подлость фарсом», когда пишет, что интернациональным братом может быть только тот, в ком ум, энергия, честность и сдержанность соединяются с революционной страстностью, тот, «в ком сам черт сидит»1 2.
Бакунисты настаивают на демократическом принципе образования всех руководящих органов «снизу вверх». Кем же избирается столь всемогущее «центральное бюро»? Оказывается, оно «избрано» членами-основателями «Альянса», которые загадочным образом бесследно исчезли, «передав свои полномочия гражданину Б.».
Таким образом, комментируют Маркс и Энгельс, «гражданин Б.» — вот основной стержень «Альянса». Чтобы сохранить за ним эту роль, в тайном уставе сказано, что «внешне его (Бакунина. — Г. В.) правление
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 333.
2 Там же, с. 334.
298
будет соответствовать президентству в федеративной республике».
Так ярый антиавторитарист Бакунин авторитарно присвоил себе диктаторские функции!
Такова организация «Альянса интернациональных братьев». Какова же его программа? В ней говорится, что этот «Альянс» стремится к «всеобщей революции» — одновременно социальной, философской, экономической и политической, — чтобы от современного порядка вещей, основанного на собственности, эксплуатации, принципах любого авторитета (в том числе — «якобинско- революционного»), не осталось камня на камне.
Программа призывает «разрушить все государства и все церкви». Причем под государством понимается всякая политическая власть — как реакционная, так и революционная.
Далее статутами «Альянса» учреждается чрезвычайно сложная, регламентированная, бюрократическая по существу организация анархистского управления — от баррикад до парламента. «Этот парламент так же, как и совет коммуны, должен будет передать исполнительную власть одному или нескольким комитетам. Последние в силу одного этого приобретают авторитарный характер, который в процессе борьбы должен все более и более усиливаться. Таким образом, постепенно восстанавливаются все элементы «авторитарного государства», и то, что мы называем эту машину «революционной коммуной, организованной снизу вверх», имеет мало значения. Название дела не меняет; организация снизу вверх существует во всякой буржуазной республике...» 1
Альянс интернациональных братьев заявляет: «Мы понимаем революцию в смысле разнуздания того, что ныне называют дурными страстями2, а «чтобы поднять людей, нужно быть одержимым бесом»3. Тайное общество призвано распространять в массах «идеи, соответствующие инстинктам масс», и организовать «революционный главный штаб», состоящий из «друзей народа», способных служить посредниками между революционной идеей и народными инстинктами. Их число не должно быть велико. Для международной организации во всей
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 340—341.
2 Там же, с. 447.
3 Бакунин М. Избранные сочинения, т. II, Пг.—М., 1919, с. 49.
239
Европе достаточно сотни серьезно и крепко сплоченных революционеров.
Что это, как не своего рода иезуитский орден?
Как подлинные иезуиты, бакунисты предпочитают бороться не столько с прямым врагом, сколько с инакомыслящими товарищами по оружию. «Сидящий в них черт» направляет свои усилия исключительно против Интернационала.
Бакунин сознательно делал ставку на буржуазную молодежь, «выбитую из колеи». Он писал: «В Италии есть то, чего не хватает другим странам: пылкая, энергичная молодежь, совершенно выбитая из колеи, без перспектив на карьеру, не видящая выхода, молодежь, которая, несмотря на свое буржуазное происхождение, в нравственном и умственном отношении не изношена до такой степени, как буржуазная молодежь остальных стран. Теперь она очертя голову бросается в революционный социализм, принимая всю нашу программу, программу Альянса» К
Комментируя эти слова Бакунина, Маркс и Энгельс язвительно замечают: «Святой отец прав. В Италии Альянс является не «рабочим союзом», а сбродом деклассированных элементов. Всеми этими мнимыми секциями Интернационала в Италии руководят адвокаты без клиентуры, врачи без пациентов и без знаний, студенты из биллиардных, коммивояжеры и другие торговые служащие, а главным образом журналисты мелких газет с более или менее сомнительной репутацией»1 2.
Что касается России, то Бакунин уповает на близкий крестьянский бунт, на разбой.
Самая зловещая тень, которая ложится на фигуру Бакунина как политического деятеля, — это тень Нечаева.
В марте 1869 года в Женеву приехал молодой русский, который пытался войти в доверие ко всем русским эмигрантам, выдавая себя за делегата петербургских студентов, хотя многие эмигранты достоверно знали, что никакого такого делегата не может быть.
Бакунин с большим энтузиазмом встал на сторону Нечаева. Он повсюду заявлял, что тот является «чрез-
1 См.: Маркс К., Энгельр Ф. Соч., т. 18, с. 375.
2 Там же, с. 376.
300
вычайным посланцем большой тайной организации, существующей и действующей в России». Бакунину импонировал бунтарский дух молодого революционера, его решительный и бескомпромиссный характер, его неукротимая энергия, не останавливающаяся ни перед какими препятствиями. Под влиянием Нечаева Бакунин воспламенился верой в скорый стихийный революционный взрыв в России. Он пишет ряд листовок и воззваний, статей к российской молодежи.
Положение, в котором сейчас находится русский народ, полагает Бакунин, похоже на то, которое заставило его поднять восстание при царе Алексее, отце Петра Великого. Тогда во главе народа встал разбойничий атаман, казак Стенька Разин, и указал ему «путь» к «воле». Чтобы подняться сейчас, народ ждет только нового Стеньку Разина. Им станет легион бессословной молодежи, живущий уже теперь народной жизнью, — коллективный Стенька Разин.
«Итак, — восклицал Бакунин, — бросайте же скорее этот мир, обреченный на гибель! Бросайте эти университеты, академии и школы... ступайте в народ», чтобы стать «повивальной бабкой самоосвобождения народного, сплотителем народных сил и усилий. Не хлопочите в настоящий момент о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить.. Таково убеждение лучших людей на Западе... Рабочий мир в Европе и Америке зовет вас на братский союз»
Маркс и Энгельс комментируют эти слова в том смысле, что Бакунин превозносит здесь русского разбойника (Стеньку Разина) как тип подлинного революционера и проповедует русской молодежи культ невежества под тем предлогом, что современная наука — это не что иное, как наука официальная, но «можно ли представить себе официальную математику, физику и химию?»2.
Бакунин последователен в своей крайней анархистской позиции, он считает, что «нужно уничтожить не только государство, но и кабинетных революционеров — государственников», что «мы должны народ неучить, а бунтовать».
Он курит фимиам разбою и разбойникам. «Разбой — одна из почетнейших форм русской народной жизни,
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 391,
1 Там же.
301
Разбойник — это герой, защитник, мститель народный; непримиримый враг государства и всякого общественного и гражданского строя, установленного государством... Разбойник в России настоящий и единственный революционер, — революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на дела, революционер народно-общественный, а не политический» К
Кто, как не Нечаев, лучше всего воплощал в себе такого «революционера»?
Нечаев, опираясь, на идеи Бакунина, призывал кинуться в «бунт разбойничий», в революцию «беспощадную». «Не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаемся, что формы, в которых должна проявляться эта деятельность, могут быть чрезвычайно разнообразны. Яд, нож, петля и т. п. Революция все освящает. Итак, поле открыто!.. Пусть же все здоровые, молодые головы принимаются немедленно за святое дело истребления зла, очищения и просвещения русской земли огнем и мечом, братски соединяясь с теми, которые будут делать то же в целой Европе»1 2: Далее объявляется беспощадный террор защитникам существующего строя и составляется длинный список «тварей», которых бакунинский (скорее — нечаевский. — Г. В.) комитет обрекает на немедленную смерть. У многих «будет вырван язык...». Однако «мы не будем трогать царя... Мы оставим царя жить до наступления дней народного мужицкого суда... пусть же живет наш палач до той поры, до той минуты, когда разразится гроза народная»3.
«Какие страшные революционеры! — восклицают тут Маркс и Энгельс. — Они хотят уничтожить и сделать аморфным все, «решительно все», они составляют проскрипционные списки, пуская в ход против своих жертв свои кинжалы, свой яд, свои петли и пули своих револьверов, некоторым они собираются даже «вырвать язык», но они преклоняются перед величием царя. И действительно, царь, чиновники, дворянство, буржуазия могут спать спокойно. Альянс ведет войну не с существующими государствами, а с революционерами, ко-
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 393.
2 Там же, с. 394—396,
8 Там же, с. 397.
302
торые не хотят унизиться до роли статистов разыгрываемой им трагикомедии» *.
Эта тирада бьет скорее не по Бакунину, а по Нечаеву, между которыми Маркс и Энгельс не делали разницы. А она была. Нечаев — это отвратительная карикатура Hâ Бакунина, это бакунинские идеи, доведенные до абсурда.
Вырванный язык, яд, петля — это, конечно, терминология Нечаева. Но так или иначе программные установки Бакунина показывают обнаженно ясно, какая пропасть лежит между взглядом предводителя анархистского «Альянса» и главой I Интернационала. Здесь не борьба за власть в международном рабочем движении, как пытаются доказать некоторые буржуазные историки, не «столкновения двух «сильных» личностей и характеров», двух «диктаторов», а борьба диаметрально противоположных подходов к революции. С одной стороны, стихийный бунт взбесившихся мелких буржуа, доведенного до отчаяния крестьянства и деклассированных элементов с их «страшной» революционностью. С другой стороны, подготовка и организация революции путем сплочения пролетариев всех стран, уяснения ими собственной всемирно-исторической миссии созидателей коммунистического общества.
Нечаев проповедовал среди студентов «Катехизис революционера» — своеобразный моральный (вернее, аморальный) кодекс «тайного общества», организованного на манер иезуитского ордена. Вот некоторые его установки.
Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Он разорвал всякую связь с гражданским порядком, со всем образованным миром, законами, приличиями, нравственностью этого мира. Он презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской жизни, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — науку разрушения.
Суровый к себе, он должен быть суровым и к другим. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела. Он должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 398.
303
руками все, что мешает достижению цели — беспощадного разрушения.
Когда товарищ попадает в беду, революционер, решая вопрос, спасать его или нет, должен руководствоваться не какими-нибудь личными чувствами, но только требованиями революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем, с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, нужных для его спасения. И на которую сторону перетянет, так и должен решать.
Революционер не должен останавливаться перед уничтожением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру. Все и все должны быть ему равно ненавистны.
Далее все «поганое общество» расчленяется на несколько категорий, по отношению к каждой рекомендуются определенные «беспощадные» меры. Одни осуждаются на немедленную смерть, другие «засуживаются», третьим даруется временно жизнь, чтобы они рядом «зверских поступков» довели народ до неотвратимого бунта, четвертые — компрометируются. Пятые — «доктринеры, конспираторы, революционеры, все празд- ноглагольствующие в кружках и на бумаге». Их надо непрестанно толкать и тянуть вперед, результатом чего будет «бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих» \
«Катехизис революционера», конечно, несет на себе определенные следы влияния идей Бакунина. Но они с фанатичной односторонностью обработаны и доведены до крайности Нечаевым, за что сам Бакунин, как было показано в нашей литературе, полной ответственности не несет1 2.
«Нравственные» принципы «Катехизиса» Нечаев и попытался реализовать практически в деятельности организованного им в Москве «тайного общества». Кончилось это гнусным уголовным преступлением — зверским убийством студента Иванова, хладнокровно совершенного Нечаевым и запуганными им сообщниками.
Полиция воспользовалась этим, чтобы произвести массовые аресты среди студенчества в Москве и Петербурге. Более восьмидесяти человек просидели в казематах Петропавловской крепости с ноября 1869 по июль 1871 года в предварительном заключении, в результате
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 418.
2 См.: Пирумова Н. Бакунин. М., 1970, с. 298—391.
304
чего двое из них умерло, а некоторые сошли с ума. Они предстали перед судом для того, чтобы выслушать приговор, осуждающий почти всех к многолетнему тюремному заключению и каторге. Нечаев же благополучно скрывается за границу и оказывается в Швейцарии у Бакунина.
Вину за полицейский разгром студенческой организации Маркс и Энгельс возлагали на Нечаева, а косвенным образом н на Бакунина. Это, конечно, необычайно тяжкое и не совсем заслуженное обвинение в адрес Бакунина. К убийству Иванова он, разумеется, ни малейшего отношения не имел.
Как же отнесся Бакунин к Нечаеву после его «революционного подвига»?
Бакунин, конечно, не хотел верить, что его «милый Бой», как он называл Нечаева, замешан в грязном деле. Да и сам Бой, видимо, постарался представить происшедшее в нужном свете. Однако спустя год, когда Бакунин прочел в газетах судебные отчеты о «деле Нечаева», его отношение к «милому Бою» изменилось. «Какой мерзавец!» — записывает он в дневнике.
От Генриха Лопатина Бакунин узнает, что никакой массовой революционной организации в России, руководимой якобы Нечаевым, нет, что пресловутый «комитет» — это миф. Бакунин был потрясен. Он писал Нечаеву: «Я не могу Вам выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за Вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истинности слов Лопатина. Значит, Вы нам систематически лгали. Значит, все Ваше дело проникнуто тухлой ложью, основано на песке».
Но если он — Бакунин — был обманут Нечаевым, то и Нечаев был обманут Бакуниным — обманут его «анархистской идеей», системой выношенных Бакуниным принципов, на которых взросла нечаевщина. Он бросил зерна, из которых взросла ядовитая поросль. Эта ядовитая поросль нечаевщины живуча и по сей день.
Но вернемся к собственно бакунизму. Упование на стихийный крестьянский бунт, на хождение в народ, на террористические акты — все эти бакунинские идеи попали на благодатную почву народовольческого движения в России 70—80-х годов. Прямого успеха они, как мы знаем, не имели. Дерзкие покушения на царя и его сатрапов привели только к массовым арестам среди революционно-демократической молодежи, к многочисленным жертвам и к разгрому народовольцев. Но все
305
же их самоотверженная, героическая борьба с царизмом всколыхнула всю Россию. Она показала необходимость идти «другим путем». Не бакунинским путем тайных заговоров, тайных сект, управляемых «невидимыми диктаторами», а организацией пролетариата в массовую революционную партию, способную повести трудящихся на открытую борьбу с господствущими классами, на захват власти и передачу ее в руки рабочих и крестьян.
Наконец вновь наступило для Бакунина время перейти от программ и воззваний к практической революционной деятельности. Наступил 1870 год.
28 сентября 1870 года Бакунин прибыл из Швейцарии в восставший Лион. Народ в тот же день завладел городской ратушей. «Бакунин водворился в ней; и вот наступил критический момент, которого ждали столько лет, момент, когда Бакунин получил возможность совершить самый революционный акт, какой когда-либо видел мир, — он декретировал Отмену Государства. Но государство в образе двух рот буржуазных национальных гвардейцев вошло в дверь, перед которой забыли поставить охрану, очистило зал и заставило Бакунина поспешно ретироваться в Женеву» ’.
Надо, однако, признать, что, несмотря на неудачу, восстание в Лионе было мужественной акцией с целью поднять уснувшую энергию французского пролетариата и направить ее на борьбу против капиталистического строя. «Приблизительно то же через полгода попыталась сделать Парижская коммуна, которую, как известно, Маркс горячо приветствовал»1 2.
Прав Ф. Меринг и в том, что бакунизм выражал взгляды и настроения довольно большой массы революционно настроенного населения Италии, Испании, Франции, главным образом ее мелкобуржуазных слоев, крестьянства и некоторой части рабочих. Ультрареволюционные лозунги и призывы Бакунина многих увлекали. В преддверии Парижской коммуны и во времена ее они имели определенный успех.
Обобщая опыт Парижской коммуны, Маркс и Энгельс, как может показаться, близко подошли к позиции
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 348—349.
2 Меринг Ф. Карл Маркс, с. 490.
306
Бакунина, говоря о необходимости разбить, сломать, разрушить всю государственную машину старого общества. Но для Бакунина это было самоцелью, для Маркса и Энгельса — только необходимой предпосылкой для создания государственности нового типа — диктатуры пролетариата, без которой защита и укрепление революционных завоеваний, экспроприация экспроприаторов — невозможны.
Маркс и Энгельс считали Коммуну первым опытом установления диктатуры пролетариата и критиковали ее за то, что эта диктатура не всегда была достаточно «авторитарной». Бакунин видел в Коммуне свой идеал «отмены государства» и критиковал ее за склонность к законодательной и централистской деятельности.
Но если бы коммунары вняли советам Бакунина и упразднили бы всякое централизованное руководство революцией, Коммуна не продержалась бы и одного дня.
Несостоятельной оказалась не только теоретическая платформа анархизма, подвергнутая сокрушительной критике Марксом и Энгельсом. Сугубо отрицательные и даже трагические последствия имели и все практические акции бакунистов: провал Лионского восстания, попытка дезорганизации власти в период Парижской коммуны и др.
Бакунинский «Альянс» и после его исключения из Интернационала продолжал активно действовать в ряде стран — Испании, Италии, Франции, Швейцарии. Когда в Испании в 1873 году была провозглашена республика и проводились выборы в Учредительное собрание, то анархисты отказались от какой-либо политической борьбы и от каких-либо предвыборных лозунгов и программ. Это облегчило разгром республиканцев и реставрацию монархии.
На протяжении многих десятилетий, прошедших с тех пор, всюду и везде за акциями анархистов тянется кровавый след.
21 октября 1882 года в Лионе, в театре «Белькур», была взорвана бомба. Арестовали 66 человек, в том числе и Петра Кропоткина (который не имел к взрыву никакого отношения). Почти все они были приговорены к различным срокам тюремного заключения.
В мае 1886 года в Чикаго во время демонстрации рабочих была брошена бомба. Полицейские открыли огонь, множество людей было убито и ранено. Четверо
307
рабочих-активистов приговорены к смертной казни и повешены. Все они были анархистами.
Жак Дюкло рассказывает о целой серии террористических актов, совершенных анархистами. Анархист Огюст Вайян бросил бомбу в Бурбонском дворце. Его казнили 5 февраля 1894 года. А через неделю в кафе «Перминас» на парижском вокзале взорвалась новая бомба. Ее бросил Эмиль Анри, желавший отомстить за Вайяна. Эмиля Анри гильотинировали 21 мая 1894 года, а спустя месяц анархист Казерно убил президента Сади Карно.
Одно за другим следуют покушения анархистов на глав государств и коронованных особ. Убиты: в
1897 году — премьер-министр Испании Коноваса дель Кастильо, в 1898 году — австрийская императрица Елизавета, в 1900 году — король Италии Умберто, в 1901 году — президент США Мак-Кинли К
Покушения эти являлись, конечно, актом личного героизма и самопожертвования. Но результатом их были лишь казни, полицейские репрессии, массовые аресты. Полиция скоро отлично это поняла и специально засылала в ряды революционеров шпиков и провокаторов. Так было во Франции, так было и в России, стоит хотя бы вспомнить о мрачной фигуре Азефа.
Марксизм-ленинизм действительно вырос, сложился и закалился в долголетней борьбе против мелкобуржуазной революционности, в том числе против анархизма.
Известно, какую роль — на словах архиреволюцион- ную, а на деле контрреволюционную — сыграли анархисты и эсеры (тоже находившиеся под влиянием идей Бакунина и Кропоткина) во времена Февральской и Октябрьской революций и гражданской войны в России. Левые эсеры докатились до самых гнусных и кровавых преступлений: убийство Володарского и Урицкого, покушение на Ленина. (Вспомним, что для Бакунина революционеры-«государственники» — самые смертельные враги.) Красной Армии пришлось сражаться не только с белогвардейцами, но и с бандами, занимавшимися разбоем и грабежами под черными знаменами анархизма. (Вспомним, что, по Бакунину, революция — это и есть разбой, «разнуздание дурных страстей».)
В период гражданской войны в Испании в 1936— 1938 годах раскольническая и левацкая деятельность 11 См.: Дюкло Жак. Бакунин и Маркс. Тень и свет. М., 1975, с. 298.
308
анархистов, которые не подчинялись республиканской власти и требовали немедленной конфискации даже мелкой частной собственности, вплоть до лавчонок и парикмахерских, вела к изоляции рабочего класса и играла на руку франкистам.
Летом 1968 года над Сорбонной взвились черные флаги. Бунтующие группы молодежи несли среди прочих портретов и портрет Бакунина. С бакунинским кличем: «Страсть к разрушению есть творческая страсть!» — они захватывали университеты, устраивали поджоги, объявляли беспощадную войну государству, чиновничеству, истэблишменту во Франции, ФРГ, США.
Во Франции полиция некоторое время не только не препятствовала, но даже провоцировала беспорядки. Анархист Кон-Бендит свободно выступал по телевидению. Правительство, видимо, ждало, когда компартия призовет трудящихся к вооруженному восстанию, чтобы устроить кровавую бойню. Армия была уже наготове. Но компартия в эту ловушку не попалась, использовав, однако, ситуацию для того, чтобы принудить предпринимателей и правительство удовлетворить ряд важных экономических требований рабочих.
История свидетельствует, что, пока существует мелкобуржуазная стихия, неразвитые в политическом отношении слои рабочего класса, деклассированные элементы, «выбитая из колеи молодежь», не видящая для себя перспектив в буржуазном обществе, существует почва и для анархистских, левацких течений, вплоть до террористических групп, вплоть до печально знаменитых «красных бригад» в Италии. Недавние события в Польше показали, что мелкобуржуазная стихия опасна и в условиях социализма, порождая анархо-синдикалистские и антисоциалистические контрреволюционные течения.
Вдумаемся еще раз в слова Ленина: «Взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа, это — социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам. Неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику, даже в «бешеное» увлечение тем или иным буржуазным «модным» течением, — все это общеизвестно. Но теоретическое, абстрактное, признание этих истин нисколько еще не из¬
309
бавляет революционные партии от старых ошибок, которые выступают всегда по неожиданному поводу, в немножко новой форме, в невиданном раньше облачении или окружении, в оригинальной — более или менее оригинальной обстановке» 19
Остается сказать, как мыслил себе Бакунин послереволюционное общество. Это общество основывается на двух началах: сосредоточением всех средств в «руках нашего комитета» и обязательной для всех физической работы. Комитет создает «рабочие общества» и издает статистические сводки. Каждый должен примкнуть по собственному выбору к той или иной артели. «Все, оставшиеся отдельно и не примкнувшие к рабочим группам без уважительных причин, не имеют права доступа ни в общественные столовые, ни в общественные спальни, ни в какие-либо другие здания, предназначенные для удовлетворения потребностей братьев. Одним словом, тот, кто не примкнул без уважительных причин к артели, остается без средств к существованию. Для него закрыты будут все дороги, все средства сообщения, остается только один выход: или к труду, или к смерти».
Прообразом будущего общества для Бакунина является, как видим, работный дом или дом призрения. Бакунин расписывает подробную регламентацию воспитания, рабочего времени, кормления детей, освобождения от работы изобретателей, учета конторских книг и т. д.
В этом обществе все будет подчинено одной цели: производить для общества как можно больше и потреблять как можно меньше.
Маркс и Энгельс восклицают по этому поводу: «Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма! Все тут есть: общие столовые и общие спальни, оценщики и конторы, регламентирующие воспитание, производство, потребление, словом, всю общественную деятельность, и во главе всего, в качестве высшего руководителя, безыменный и никому неизвестный «наш комитет». Несомненно, это чистейший антиавторитаризм»1 2.
Забавно, что Бакунин не видит или не хочет видеть никакой разницы между этим казарменным коммуниз¬
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 14—15,
2 Маркс К., Энгельс Ф, Соч., т. 18, с. 414.
310
мом и идеалами научного коммунизма. «Коммунистический манифест», который Бакунин впервые перевел на русский язык, оказывается, только развивает теоретически эти «наши положения»!
Подытоживая сказанное, Маркс и Энгельс пишут: «Тот самый человек, который в 1870 году проповедует русским слепое, беспрекословное повиновение приказаниям, идущим свыше от анонимного и неведомого комитета, который заявляет, что иезуитская дисциплина есть условие sine qua non победы, что только одна она может одержать верх над чудовищной централизацией — не русского государства, а государства вообще, который провозглашает более авторитарный коммунизм, чем самый примитивный коммунизм, — этот самый человек в 1871 году затевает внутри Интернационала раскольническое и дезорганизаторское движение под предлогом борьбы против авторитарности и централизма немецких коммунистов, под предлогом создания автономных групп и превращения Интернационала в то, чем он якобы должен быть: в прообраз будущего общества. Если бы будущее общество было создано по образцу русской секции Альянса, то оно далеко превзошло бы Парагвай преподобных отцов иезуитов, столь дорогих сердцу Бакунина» 1.
Мы знаем, что спустя сто лет появились такие образчики казарменного коммунизма, которые ужаснули бы даже Бакунина.
Как мы видели, Маркс и Бакунин оба, почти одновременно, начали свое развитие от гегелевской философии, сделав из нее радикальные, революционно-демократические выводы. Но чем дальше, тем больше расходились их позиции, вплоть до открытой борьбы.
История ясно и недвусмысленно разрешила мировоззренческий, политический и идейно-нравственный конфликт между Марксом и Бакуниным.
1 Маркс К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 18, с. 424.
Чем иным является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу.
К МАРКС
КАРЛ МАРКС И ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Марксизм как грандиозное и неповторимое создание человеческого гения переживает удивительные исторические судьбы. Чем более отдаляется во времени та эпоха, когда создавалось это учение, — тем ощутимее его влияние на все стороны жизни человеческой цивилизации, тем полнее раскрывается творческая мощь Марксова духа, поднявшего и диалектически переработавшего глубинные пласты культуры, уловившего скрытую от глаз «подземную» работу «крота истории», ее главное направление в лабиринте бесчисленных ходов, постигшего ключевые истоки тех социальных процессов, которые определяют лик нынешнего и, несомненно, — будущих столетий.
Каждое поколение открывает в наследии Маркса новые грани, проливающие свет на те насущные проблемы, которые возникают именно перед этим поколением и которые ему еще только предстоит решать. И каждое поколение вновь и вновь убеждается, что наследие Маркса принадлежит не прошлому и отнюдь не только настоящему, но и будущему, что это наследие, становясь все более властной духовной доминантой хода истории, вместе с тем всегда оказывается его фарватером, всегда раздвигает новые, скрытые ранее горизонты видения мира, посрамляя те голоса из стана буржуазной идеологии, обладатели которых, зная о марксизме больше понаслышке, толкуют о его «экономической одномерности» и устарелости «ib век атома, космоса и компьютеров», в эпоху интеллектронной, технотронной, кибернетической, экологической, демографической, постиндустриальной, «зеленой», коммуникационной, информационной и т. д. «революции», об «утопичности» Марксова идеала человека коммунистического будущего1.
1 Один из примеров — статья известного ревизиониста Л. Ко- лаковского «Антиутопическая утопия Маркса». Отмечая, что Маркс в отличие от социалистов-утопистов никогда не стоял на «нормативной» точке зрения, подгоняющей действительность под желаемую цель, Колаковский тщится доказать наличие у Маркса особого вида утопизма, где желаемое объявляется уже существующим в виде тенденции, закономерного хода истории, в виде социальной потребности. Утопическое сознание является частью марксистского мышления потому, что марксисты верят в общество, в котором не только будут устранены источники зла, конфликтов,
313
Между тем в оценке тенденций и закономерностей научно-технического прогресса, представляющего собой «рельсы» для «локомотива» человеческой истории, К. Маркс опередил не только самых дальнозорких из своих современников, но и многих исследователей второй половины XX века, пишущих о социальных проблемах научно-технической революции. Без всякого преувеличения можно сказать, что его наследие дает для широкого мировоззренческого осмысления научно-технической революции несравненно больше, чем все те «Монб- лановы горы» литературы, которые непрерывно порождает «серая мышь» наукообразного, «позитивного» буржуазного социального мышления. Что касается других форм этого мышления, то они по преимуществу образуются под прямым или косвенным, признаваемым или отрицаемым влиянием марксизма как его деформации, более или менее односторонние рефлексии, эпифеномены и «дополнения».
В «Капитале» и особенно в подготовительных рукописях к нему (рукописи 1857—1859 гг., 1861 —1863 гг. и 1863—1875 гг.) обстоятельно раскрываются идеи о путях движения истории, о тенденциях и закономерностях развития науки и техники, всей системы развития производительных сил и прежде всего — ее человеческой стороны. Эти идеи имеют важнейшее значение для постижения социальной сути научно-технической революции, для осмысления основного, стержневого вопроса, который ею выдвигается: вопроса о возможностях развития человека в ходе дальнейшего прогресса науки и техники в различных социальных экономических системах.
Научно-техническая революция, представляющая собой коренной переворот в производительных силах, захватывает прежде всего, естественно, главную производительную силу, которой является сам человек как созидатель всего материального и духовного богатства. Это не просто автономное изменение науки и техники только самих по себе, как представляют дело некоторые авторы, пишущие о научно-технической революции, а переворот в целостной системе «человек — наука —
агрессии, но и произойдет возвращение человека к полному единству с самим собой и природой. (Kolakowski L. Marx antiuto- pisclie Utopie. — «Merkur», Stuttgart, 1974, H. 7, S. 616—627.)
314
техника — производство», в ходе которой кардинально перестраивается вся сложная структура взаимодействий между этими компонентами, и главным образом между человекОхМ и техникой.
Если прежде рабочий был непосредственно включен в функционирование технических систем в качестве звена, подчиненного ритму, скорости этих систем, характеру машинных операций, при которых «движение человека определялось движением машин», то теперь в ходе научно-технической революции становится реальностью прогноз Маркса о таком уровне развития техники, ког- ка «труд выступает уже не столько как включенный в процесс производства, сколько как такой труд, при котором человек, наоборот, относится к самому процессу производства как его контролер и регулировщик» К
Иначе говоря, происходит новое крупнейшее со времени возникновения машинного производства перераспределение функций между рабочим и техникой. Переход от мануфактурного к машинному производству означал в свое время перемещение от человека к технике простейших функций управления орудием ручного труда, которые стала выполнять машина. В наше время к технике переходят машинные функции рабочего, которые он выполнял в качестве звена технической системы, и перед ним встают новые задачи: наладки, общего контроля, регулирования, программирования автоматически работающих систем. Так осуществляется выявленный и сформулированный Марксом закон, согласно которому весь исторический процесс развития техники представляет собой последовательную замену «человеческой силы силами природы»1 2, в результате которой «то, что было деятельностью живого рабочего, становится деятельностью машины»3, и в перспективе «прекратится такой труд, при котором человек делает то, что он может заставить вещи делать для себя, для человека»4.
Именно посредством автоматизации человек в наше время «заставляет вещи» вместо себя исполнять тяжелую, механическую, стереотипную, исполнительскую часть своей деятельности. Маркс отчетливо видел ту тенденцию, в результате которой «средство труда проходит
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 213.
2 Там же, т. 23, с. 397.
3 Там же, т. 46, ч. II, с. 212.
4 Там же, т. 46, ч. I, с. 280.
315
различные метаморфозы, из которых последним является машина или, вернее, автоматическая система машин (система машин, являющаяся автоматической, есть лишь наиболее завершенная, наиболее адекватная форма системы машин, и только она превращает машины в систему), приводимая в движение автоматом, такой движущей силой, которая сама себя приводит в движение»1. В другом месте он формулирует принцип автоматизации, указывая, что «автоматическая фабрика» представляет собой тем более совершенный способ производства, «чем меньше выполнение отдельных процессов... еще нуждается в опосредовании человеческим трудом» 2.
Революционные изменения в технике и переход к высшей форме технических систем — автоматике — Маркс, как видим, прямо связывает с типом, способом функционирования в этих системах человека — с технологическим способом производства.
Как известно, современные развитые формы автоматики позволяют исключать человека из непосредственного технологического процесса, создавать закрытые производственные циклы, управляемые на расстоянии. Тот факт, что в результате этого человек становится «рядом» с непосредственным производственным процессом, вызывает далеко идущие следствия: изменения в содержании, условиях труда, его квалификации, следовательно, — соответствующие изменения в структуре производственного персонала, в социальной структуре общества в целом, в соотношении отраслей производства и т. д. Все эти процессы прямо или косвенно обусловлены изменениями в технологическом способе производства, ведущими к автоматизации — генеральному направлению научно-технической революции. Ни химизация, ни новые средства массовой коммуникации, ни успехи в овладении космосом сами по себе не оказывают такого влияния на труд, производство и социальные институты. Более того, все эти направления научно- технической революции развиваются лишь посредством автоматизации, с помощью современной кибернетической аппаратуры.
Автоматизация (включая кибернетизацию) является технологической сущностью научно-технической револю-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 203.
2 Там же, т. 47, с. 504.
316
ции, ибо она выступает как всеобщая промышленная форма, посредством которой становится возможным использование новых источников энергии, применение микротехнологии, управление закрытыми производственными процессами и комплексами, а также обработка огромных массивов информации для принятия оптимальных решений. Изменение же в результате автоматизации места человека в системе производства и характера и содержания его труда составляет социальную сущность этой революции.
Научно-техническая революция, как ясно из сказанного, предъявляет новые требования к различным сторонам жизнедеятельности человека: к его труду, образованию, ко всей системе общественных взаимосвязей, в которые он включен, к уровню интенсивности и многогранности его духовной жизни, к теоретической, эстетической и этической сторонам культурного развития, к формам использования свободного времени. В результате со всей остротой ставится вопрос о соотношении технического и социального прогресса, технического и собственно человеческого начала.
В буржуазной общественной мысли в начале XX века пробивается струя резко критического отношения к научно-техническому прогрессу (О. Шпенглер, Н. Бердяев, Ортега-и-Гассет), которая стала особенно сильной во второй половине столетия (неофрейдисты, сторонники различных финалистских концепций пределов роста, сдерживания экономического развития, «великого отрицания», антиинтеллектуалы левацкого, маоистского толка и т. д.). Прошло время безраздельного (за немногими исключениями) оптимизма буржуазных идеологов XIX века с их истовой верой в голубое, безоблачное будущее промышленного развития цивилизации. Один за другим стали раздаваться иные голоса, которые вскоре слились в целый хор наподобие хора античных трагедий, рефреном вещавшего: «О горе мне, горе!» Философы и социологи, писатели и публицисты стали соревноваться друг с другом в изображении самых мрачных картин, когда в результате научно-технического прогресса вырождаются гуманное, этическое, эстетическое, духовное начала в обществе.
Конечно, этот крен буржуазного сознания — точно так же, как и противоположное его отклонение в сто-
317
рону «машинопоклонства» и сциентизма, — имеет свои объективные основы в действительности, которые были выявлены еще Марксом. Он убедительно показал, что наука и техника при капитализме выступают как отчужденные от человека силы, противостоящие ему и господствующие над ним, как силы капитала; что общественный характер деятельности, общественная форма продукта и само участие индивида в производстве выступают здесь как нечто чуждое индивидам, нечто вещное, «не как отношение индивидов друг к другу, а как их подчинение отношениям, существующим независимо от них и возникающим из столкновения безразличных индивидов друг с другом»1. Поскольку производитель материальных благ выступает при капитализме как простое средство производства, а вещное богатство — как самоцель, то «отсюда и развитие этого вещного богатства в противоположность человеку и за его счет», «производство» оказывается «в противоречии с производителем» 2.
Вместе с тем рабочий подавляется не только господствующей над ним технической и организационной системой производства, диктующей ему ритм, скорость, интенсивность операций, но и разветвленной системой буржуазного социального управления на всех его уровнях. Современное буржуазное общество централизовано, заорганизовано, забюрократизировано больше, чем когда-либо прежде. Дух «свободной инициативы», предприимчивости индивида уступает место воле монополий, духу корпораций, якобы коллективным решениям, где индивидуальный вклад каждого анонимен и обезличен. И чем могущественнее становится пронизывающая все общество система государственно-монополистических отношений, тем подавленнее чувствует себя отдельная человеческая личность, деятельность которой заранее «запрограммирована» интересами монополий и которая опять-таки склонна винить в своих бедах некие безликие силы науки, «социотехники», организации.
Естественно поэтому, что если отношения людей в мире капитала предстают как отношения вещей, то отношения капитала и труда выступают на поверхности явлений как отношения техники и человека, робота и рабочего, рациональной науки и «иррационального индивида», систем организации и их функционального зве-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т, 46, ч. I, с. 100.
2 Там же, с. 92,
318
на. Тем легче, следовательно, возможность для фетишизации науки и техники, для превращения их в мистические силы, автономно творящие либо добро, либо зло, силы, которые якобы и вызывают кризисы, депрессии, безработицу, разрушение жизненной среды и прочие тупики научно-технического прогресса в буржуазном обществе. Так, пороки капиталистической формы использования науки и техники, а также систем организации выдаются за естественные свойства самих производительных сил. Маркс расценивал подобный подход как «грубый идеализм и даже фетишизм», который «приписывает вещам общественные отношения в качестве имманентных им определений и тем самым мистифицирует их» К
На самом же деле, если отбросить буржуазно ограниченную, фетишистскую форму, в которой являются перед взором отношения человека и продуктов его деятельности, если проникнуть в существо этих отношений, то окажется, что именно человек — главная производительная сила общества (ибо только с его непосредственным или опосредованным участием может быть что-то произведено), а техника, наука и система организации — лишь средства, с помощью которых человек увеличивает возможности своих рук и своего интеллекта, они продолжение и развитие его телесной и духовной сущности, «созданные человеческой рукой органы человеческого мозга»2 и особые формы его деятельности. Согласно Марксу «развитие науки, этого идеального и вместе с тем практического богатства, является лишь одной из сторон, одной из форм, в которых выступает развитие производительных сил человека, т. е. развитие богатства»3, «абсолютное выявление творческих дарований человека» и является, в сущности, действительным богатством общества4. Более того, по мысли Маркса, производительные силы и общественные отношения — и те и другие являются лишь «различными сторонами развития общественного индивида»5.
Если капитализм извращает и мистифицирует действительную суть данных отношений, то социализм сбрасывает с них фетишистскую оболочку и формирует 1 2 3 4 51 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 198,
2 Там же, с. 215.
3 Там же, с. 33.
4 Там же, ч. I, с. 476.
5 Там же, ч. II, с. 214.
319
условия для того, чтобы они проявились и развернулись во всей ясности и полноте, чтобы производители сами могли подчинить своему общественному контролю и господству те могучие силы, которые вызваны к жизни всем предшествующим прогрессом цивилизации и которые столь ускоренно множатся и развиваются в условиях научно-технической революции.
Научно-техническая революция своим ходом обнажает самую больную и неотъемлемую черту капиталистического общества: его враждебность человеку, личности, духовной культуре вообще, его шейлоковскую страсть использовать ради наживы и человеческую кровь, и живую душу, само бьющееся сердце. На фоне беспримерных масштабов роста материального богатства, грандиозных технических и научных достижений капитализма особенно ярко проступает обесценение ценностей собственно человеческого развития, тот факт, что капитал «делает односторонней, лимитирует и т. д. главную производительную силу — самого человека» К
В чем конкретно это выражается? Прежде всего в сугубо утилитарном ее использовании, в подчинении всех способностей и дарований человека исключительно процессам функционирования и расширенного воспроизводства капитала во всех сферах жизнедеятельности общества. В том, что подневольный труд не дает и не может дать удовлетворения, ибо воспринимается как насилие над личностью, как вынужденная, чуждая, ненавистная деятельность, «от которой бегут как от чумы». В том, далее, что предпринимателю (единичному или коллективному) нет дела ни до каких других качеств и достоинств личности рабочего, инженера, ученого, кроме тех, из которых может быть выжата прибыль. В том, что соответствующим образом организована и вся система образования, которая готовит человека для узкопрофессиональной деятельности, для обслуживания данной техники, технологии, систем организации. И конечно, особенно уродующим образом действует на личность жестокая интенсификация труда, которая изнуряет до конца и физически и духовно, истощает силы и способности человека.
Бессодержательный же характер труда порождает и
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 403.
320
бессодержательный характер использования свободного времени. После отупляющего, изматывающего рабочего дня человек не способен к занятиям, требующим серьезного умственного напряжения, творческого подъема, он стремится отвлечься, развлечься, «встряхнуться», впасть в забытье. Капитал — «великий» психолог. И он делает бизнес не только на том, что предельно изматывает работника, но и на самом этом изнеможении, предлагая в изобилии средства духовного одурманивания: бульварную литературу, остросюжетную кино- и телехалтуру, низкопробные шоу, порнографию, наркотики, галлюциногены, — он, следовательно, не только ограничивает, но и разрушает личность.
Свободное время, которое имеет тенденцию к существенному возрастанию в условиях научно-технической революции и которое, по мысли Маркса, должно являться простором «для развития всей полноты производительных сил отдельного человека, а потому также и общества» \ капитализм стремится превратить в «простор» для идеологической, политической, «культурмас- совой» обработки человеческого сознания, превращения его в сознание конформистское, для извращения структуры человеческих ценностей путем утрирования потребительской психологии, для полного интегрирования человека в систему капиталистических отношений.
В обществе эксплуатации, частной собственности и главенства потребительских ценностей отчужденный характер приобретают и сами взаимоотношения индивидов, их общение между собой. Если «каждый преследует свой частный интерес», то «каждый со своей стороны тормозит осуществление интереса другого, и результатом этой bellum omnium contra omnes (войны всех против всех. — Г. В.) является не всеобщее утверждение, а наоборот — всеобщее отрицание»1 2. Личные отношения устанавливаются здесь преимущественно на основе отношений функциональных, деловых, денежных, здесь «люди оказывают вещи (деньгам) такое доверие, какого они не оказывают друг другу как личностям» 3. Хотя в условиях капитализма, и в особенности современного капиталистического общества, общественные связи и отношения достигают всесторонности и универсальности,
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 217.
2 Там же, т. 46, ч. I, с. 99.
3 Там же, с. 103.
321
тем в большей мере они выступают как «нечто чуждое индивидам», господствующее над ними.
Для понимания той трагедии, которую переживает личность в современном буржуазном обществе, важна также мысль Маркса о том, что видимая независимость индивидов друг от друга, «свобода» их взаимоотношений, которой так кичится буржуазная демократия, «есть только иллюзия, и ее правильнее было бы называть безразличием в смысле индифферентности» 1. Включение в систему, где все обменивается на все и где самореализация возможна лишь как акт продажи своей энергии, силы, талантов, идей, означает, в сущности, что «всеобщая проституция выступает как необходимая фаза развития общественного характера личных задатков, потенций, способностей, деятельностей», или, выражаясь более вежливо, как «всеобщее отношение полезности и годности для употребления»2. Производство, основанное на капитале, вообще «создает систему всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств, систему всеобщей полезности; даже наука, точно так же как и все физические и духовные свойства человека, выступает лишь в качестве носителя этой системы всеобщей полезности»3.
Теперь, в наше время, следовало бы сказать, что эксплуатируется не «даже наука», а именно наука. Как раз в ходе научно-технической революции мы убеждаемся в том, что сфера умственной и в том числе научной деятельности не просто утилизируется капиталом, а становится самым обширным и самым «урожайным» полем эксплуатации. Численность «белых воротничков», то есть инженерно-технических работников, ученых, организаторов производства, служащих в некоторых странах уже превышает контингент лиц физического труда.
Научно-техническая революция предоставляет капитализму новые, небывалые возможности для извлечения из человеческого гения, энергии, из его физических и духовных сил максимальных прибылей. И не потому ли в экономически развитых капиталистических странах имеет место более быстрый, чем прежде, прогресс науки и техники, высокий уровень производительности труда, что экономический рост осуществляется за счет,
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с, 107.
2 Там же, с. 106.
3 Там же, с. 386.
322
так сказать, экономизации всей жизни человека, за счет сугубо утилитарного, безжалостного, расточительного выжимания максимума из его возможностей, за счет интенсивной эксплуатации как его рабочего, так и свободного («бизнес развлечений») времени? И тут уместно привести глубокую мысль Маркса о том, что если капиталистическое производство выступает как наиболее экономичное по отношению к созданию материальных ценностей, по отношению к труду, овеществленному в товарах, то в то же время оно «в большей мере, чем какой-либо другой способ производства, является расточительным по отношению к человеку, к живому труду, оно расточает не только плоть и кровь человека, его физическую силу, но и его умственную и нервную энергию». И потому общий прогресс в эпохи, которые являются прелюдией социалистической организации человеческого общества, достигается «только ценой величайшего ущерба, наносимого развитию каждого индивида в отдельности»
Капитал, превращая научно-техническую революцию — плод гения и труда трудящихся масс — в силу, враждебную человеку, пытается при этом направить ее развитие в собственных целях и интересах, опираясь на свой многовековой опыт, на хорошо отработанные механизмы извлечения прибыли. Цепная реакция открытий и технологических новшеств, следующих друг за другом в нарастающих масштабах, для капитала — это цепной, самоускоряющийся процесс собственного возрастания. В ходе научно-технической революции не устраняется, а, наоборот, в полной мере обнаруживается выявленный в свое время Марксом парадокс: ускорение развития производительных сил, непрерывные перевороты в материальных условиях производства являются и жизненно необходимым средством бытия капитала, его разбухания и вместе с тем средством, толкающим его к гибели.
Соответственно этому парадоксу двойственную роль при капитализме играет и научно-техническая революция. Она создает новые возможности для быстрого возрастания экономической мощи общества, для ее концентрации и централизации и в то же время формирует материальные и организационные предпосылки для нового способа производства, до предела обостряет анта- гонистические противоречия. Она ускоряет развитие ка- 11 Маркс Кч Энгельс Ф. Соч., т. 47, с. 186.
323
питализма, а значит, ускоряет и наступление его «последнего часа».
Уродливость, антинародность капиталистической формы использования научно-технической революции все более ясно осознаются широкими слоями трудящихся. Чем быстрее развивается эта революция, тем более быстрыми темпами идет процесс поляризации населения капиталистических стран на представителей «большого бизнеса», с одной стороны, и на эксплуатируемых лиц наемного труда, в число которых втяхива- ются все новые и новые слои населения, — а следовательно, тем быстрее крепнет и расширяется оппозиционный, враждебный капитализму союз трудовых сил, осознающий свою историческую миссию, свои возрастающие возможности взять в собственные руки управление всеми общественными процессами.
Социализм противопоставляет капитализму принципиально иную по своим целям и способам форму использования научно-технической революции. Если, как мы видели, капитализм подчиняет развитие личности целиком интересам извлечения прибавочной стоимости и достигает на этом пути относительных успехов в экономическом росте, то социализм открывает перед научно-технической революцией гораздо более широкие перспективы как в смысле динамики, так и в смысле интенсивности развития, ибо само нелимитированное, свободное, всестороннее развитие людей все более явно становится необходимым условием, предпосылкой, главенствующим фактором нелимитированного развития научно-технической революции.
Если капиталистическое общество основывается на принципе опережающего роста материального богатства по отношению к богатству человеческого развития, что приводит в конце концов к про^йворечию между прогрессом науки и техники и регрессом, разрушением личности, между цивилизацией и культурой, то социализм впервые в истории человечества начинает осуществлять принцип постоянного опережения всеобщего развития людей по сравнению со всей сферой их творений, он делает самоцелью целостность и безграничность развития личности, «т. е. развития всех человеческих сил как та-
324
ковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу» К
Излюбленный прием буржуазной пропаганды — обвинение в утопизме марксистского представления о человеке будущего как всесторонне развитой, гармоничной, самоценной личности, для которой труд является первейшей жизненной потребностью и источником творческого наслаждения. Буржуазный образ жизни действительно не позволяет выйти за рамки традиционно библейского отношения к труду как к проклятию и к человеку как к простому средству для достижения внешних целей. И гуманистическая альтернатива такому отношению воспринимается буржуазными идеологами в лучшем случае в качестве кантовского этического идеала, вдохновляющего, облагораживающего, но реально недостижимого. Однако ныне мы особенно ясно видим, что марксистский идеал человека соответствует не только социально-политическим тенденциям развития человеческой цивилизации, идущей к социализму и коммунизму, но также и тенденциям научно-технической революции. В ходе ее развертывания в странах мировой социалистической системы облик человека будущего начинает принимать те уже вполне зримые черты, на которые обратил внимание Маркс в подготовительных рукописях к «Капиталу».
Так, автоматизация производства позволяет в перспективе преобразовать весь труд в материальном производстве© деятельность, по преимуществу содержательную, поисковую, творческую, и тем самым приблизить ее к творчеству в собственном смысле слова, превратить в процесс «самоосуществления индивида»1 2, развертывания его сущностных сил. К тому же социализм идет к снятию отчужденного характера труда и в другом отношении, а именно: превращает его в процесс самодеятельности и самополагания цели, иначе говоря, в свободный труд на общество и на себя, диктуемый не внешним принуждением, а внутренней потребностью в самореализации, в труд, результатами которого распоряжаются сами производители. Они же управляют и процессом обмена веществ между обществом и природой и регулируют социальные отношения.
По мысли Маркса, труд в материальном производ-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 476.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. И, с. 110.
325
стве может обрести черты творчества и стать средством самоосуществления индивида «лишь тем путем, что 1) дан его общественный характер и 2) что этот труд имеет научный характер, что он вместе с тем представляет собой всеобщий труд, является напряжением человека не как определенным образом выдрессированной силы природы, а как такого субъекта, который выступает в процессе производства... в виде деятельности, управляющей всеми силами природы» К Как раз социалистическая форма развертывания научно-технической революции ведет к такому преобразованию труда, в ходе которого подлинно общественный его характер сочетается с научным характером, а сам он превращается в «научный процесс, ставящий себе на службу силы природы и заставляющий их действовать на службе у человеческих потребностей»2.
Когда в труде человек получает возможность развивать и самореализовывать свои способности к творчеству, то соответственно меняются и формы использования им свободного времени. Без изменения характера и содержания труда досуг не может сам по себе стать сферой формирования гармоничной, творческой личности. Вот почему неосновательно возлагать особые надежды в этом отношении на увеличение бюджета свободного времени, как это делают некоторые социологи. Необоснованны, на наш взгляд, бытующие в литературе представления, что по мере продвижения к коммунизму рабочее время будет сокращаться до минимума, а время досуга соответственно возрастать. Если исходить из интересов развития самой личности при социализме, то вряд ли вообще целесообразно сокращение рабочего времени более чем до 35 часов в неделю. Для развития личности важно не столько количественное сокращение времени труда, если оно уже не превышает известных норм, сколько качественное преобразование его с помощью новой техники и систем организации. Если содержательный творческий труд станет достоянием каждого члена общества, в какой бы отрасли хозяйства он ни работал, тогда он будет и рассматриваться каждым как высшая ценность, как высшее наслаждение, ограничение которого во времени не приобретение, а утрата.
И когда Маркс прозорливо писал, что при коммуниз-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 110,
2 Там же, с. 208«
326
ме мерой богатства развития индивидов будет «отнюдь уже не рабочее время, а свободное время» *, он имел в виду, конечно, не приоритет досуга над трудом в бюджете времени каждого труженика, а то обстоятельство, что общество в целом будет тратить меньшую долю всего своего времени на удовлетворение необходимых нужд, а большую — на цели, непосредственно связанные с развитием личности, то есть прежде всего на науку, образование, искусство. Это время Маркс и называет свободным временем общества, или общественным свободным временем.
Естественно, что чем меньше времени требуется обществу на производство материальных благ, тем больше времени оно выигрывает для производства духовного. Если капитализм основывается на грабеже этого времени, на присвоении его почти исключительно привилегированными классами, то социализм снимает этот антагонизм рабочего и свободного времени общества, предоставляя всем труженикам равные права и возможности для овладения всеми достижениями культуры.
Свободное же время, способствуя развитию человека, тем самым способствует развитию основной производительной силы общества, которая оказывает обратное могучее воздействие на экономический и социальный прогресс. Поэтому «сбережение рабочего времени можно рассматривать как производство основного капитала, причем этим основным капиталом является сам человек»1 2. Вот почему чем меньше общество в целом тратит времени на непосредственное производство необходимых материальных благ, тем оно богаче, вот почему свободное время — мерило богатства нового общества.
В ходе научно-технической революции сфера общественного свободного времени неуклонно возрастает. По ориентировочным расчетам, можно ожидать, что уже в начале следующего столетия непосредственные нужды всего материального производства будут обеспечиваться меньше чем половиной всего трудоспособного населения страны. Большая часть будет трудиться в сфере обслуживания, управления и главным образом — в сферах, обращенных к самому человеку, к совершенствованию его духовных и физических сил.
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 217.
2 Там же, с. 221.
327
Осуществление этих задач будет величайшим поворотным пунктом во всей человеческой истории. Общество, производя изобилие материальных благ с минимальными затратами общественного времени, впервые получит возможность направлять большую часть своих сил и энергии для «производства и накопления» творческих способностей, внутреннего богатства каждой личности, для целей совершенствования социальной и биологической природы человека, для гармонизации его отношений с обществом и природой, «с одной стороны, владение всеобщим богатством и сохранение его будут требовать от всего общества лишь сравнительно незначительного количества рабочего времени... с другой стороны, работающее общество будет по-научному относиться к процессу своего прогрессирующего воспроизводства, своего воспроизводства во все возрастающем изобилии...» 1.
В этой связи основное освещение получает такая важная в теоретическом и методологическом плане проблема, как вопрос о критерии сравнимости результатов соревнования двух мировых социально-экономических систем.
Общеизвестно ленинское положение о том, что «производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя» 1 2. Однако В. И. Ленин никогда не сводил дело только к производительности труда, а ставил более сложную задачу создания «высшего, чем капитализм, общественного уклада», предполагающего и высокую производительность труда, него «высшую организацию». Он считал, что «самым глубоким источником силы для побед над буржуазией и единственным залогом прочности и неотъемлемости этих побед может быть только новый, более высокий способ общественного производства»3. Это производство создается для «обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества 4.
Закономерно поэтому поставить вопрос: достаточны ли только количественные экономические показатели для оценки хода соревнования двух мировых систем? Очевидно, что, учитывая их, следует вместе с тем исхо¬
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 280.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 21.
3 Там же, с. 18.
4 Там же, т. 6, с. 232.
328
дить и из таких показателей, которые выявляют принципиальные преимущества социалистического способа хозяйствования. Следует учитывать такие качественные характеристики образа жизни в социалистических странах, как обеспечение занятости всех трудящихся, гарантированная реализация права на свободный труд, возможность свободного выбора профессий, бескризисное, планомерное развитие нашей экономики, избавляющее от неуверенности в завтрашнем дне, растущая роль общественных фондов потребления, обеспеченная старость, низкая квартирная плата и т. д. Нельзя не принять во внимание и бесспорные достижения социализма в области социально-экономического равенства, создания новых взаимоотношений между людьми, а также в области образования и культуры трудящихся, их социального обеспечения и медицинского обслуживания.
Можно ли найти такой комплексный, единый критерий, который в состоянии выразить в концентрированном виде достижения во всех сферах жизни социалистических стран по сравнению со странами капиталистическими? Такой высший критерий в марксизме-ленинизме существует — им является мера развития человеческой личности. Иначе говоря, речь идет о том, в какой степени созданные материально-технические, социально- экономические, политические и прочие условия служат цели свободного и всестороннего развития творческих возможностей и задатков личности. Согласно марксизму-ленинизму именно в богатстве человеческого развития находит свое выражение достигнутое богатство общественных производительных сил и производственных отношений.
Мерилом этого богатства выступает не только производство на душу населения, но и, если так можно выразиться, «производство самой этой души». С точки зрения этого критерия экономический рост, рост возможностей потребления, представляет действительную ценность лишь тогда, когда служит основой для развития каждой личности, а не направляется на ее деформацию и разрушение.
Какими бы высокими ни были показатели жизненного уровня населения капиталистических стран, ни одна из них в силу самого способа производства не в состоянии устранить экономическое и политическое неравенство, не в состоянии всех сделать обеспеченными, поставить в качестве своей основной задачи воспитание
329
всесторонне развитого человека, удовлетворение его растущих потребностей. Они достаточно «богаты», чтобы выбрасывать миллиарды долларов на производство са^ мых современных средств массового истребления людей, ♦но не настолько богаты, чтобы позволить себе роскошь быть гуманными хотя бы в такой степени, чтобы устранить безработицу, неуверенность трудящихся в завтрашнем дне, существенно повысить государственные ассигнования на культуру, образование, социальное обеспечение, медицинское обслуживание, жилищное строительство. Именно в этом отношении капитализм наиболее отчетливо демонстрирует «отчаянную внутреннюю нищету, которая составляет основу буржуазного богатства и его науки» К
Если проанализировать под этим углом зрения экономическую, политическую, социальную, культурную жизнь стран социализма^ то такой анализ выявит наше несомненное преимущество во всех этих областях. Он позволит также осознать и еще не раскрытые возможности,, неиспользованные резервы дальнейшего совершенствования социалистического общества.
Социализм — молодая социальная действительность, еще только раскрывающая свои богатые возможности в соревновании с капитализмом, прошедшим многовековой путь развития. Многие социалистические страны начинали свое восходящее движение с весьма низкого уровня развития экономики, к тому же подорванной войной. Мы гордимся громадными экономическими и социальными достижениями, завоеванными за короткий исторический срок, и вместе с тем отчетливо видим, что впереди много сложнейших, еще «е решенных задач, что для убедительной, всесторонней победы в соревновании двух систем необходимо значительное ускорение научно-технического прогресса, более быстрый рост производительности труда, дальнейшее совершенствование экономических механизмов регулирования производства, умножение социальных достижений социалистического строя.
Созидая новое общество, необычайно важно ясно видеть те горизонты социального развития, которые открыла прозорливая мысль основоположников марксизма, руководствоваться теми объективными тенденциями,
1 Архив Маркса и Энгельса, т. IV, М., 1935, с. 233,
330
которые несут в себе возможность реализации идеалов коммунистического будущего. Столь же важно вместе с тем отдавать себе трезвый отчет в том, какой путь еще предстоит пройти, какие грандиозные и многообразные задачи еще предстоит решить на этом пути.
Реальный, объективный анализ существующего сегодня положения вещей свидетельствует о насущности значительного ускорения социально-экономического развития страны. Такое ускорение — объективная необходимость и это вместе с тем стратегический путь партии. Это положение особенно подчеркнуто в новой редакции Программы КПСС. Глубочайшие изменения должны произойти в материально-технической базе на основе достижений научно-технической революции, в совершенствовании общественных отношений, в содержании и характере труда, е материальных и духовных условиях жизни людей, во всей системе политических, общественных и идеологических институтов.
И снова мы можем повторить, что создание новой техники, новейших технологий, повышение экономических показателей для нас не самоцель. Все, что делается, что созидается человеком, делается для его же блага, для его развития. Человек — главный фактор, двигающий вперед социальный и экономический прогресс. Но он же — человек — и высшая цель этого прогресса.
УКАЗАТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Маркс К-, Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд.
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. T. 1—55. М., 1958— 1965.
Маркс КЭнгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. В 2-х ч., 2-е изд. М., 1983.
Их простота и человечность. М., 1984.
Переписка Карла Маркса, Фридриха Энгельса и членов семьи Маркса. 1835—1871. М., 1983.
Переписка членов семьи Маркса с русскими политическими деятелями. М., 1974.
Карл Маркс. Биография. М., 1973.
Ф. Энгельс. Биография. М., 1977.
Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. Бакунин М. А. Избранные сочинения. T. I—II. Пг.—М., 1919—1920.
Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем. T. 1—3. М., 1934—1935.
Богомолов А. С. Диалектический логос: Становление античной диалектики. М., 1982.
Володин А. И. «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса и общественная мысль России XIX века. М., 1978.
Володин А. И. Бой абсолютно неизбежен. М., 1985.
Волков Г. Истоки и горизонты прогресса: Социологические проблемы развития науки и техники. М., 1976.
Волков Г. «Тебя, как первую любовь...» Книга о Пушкине: личность, мировоззрение, окружение. М., 1980.
Волков Г. Сова Минервы, 2-е изд. М., 1985.
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. T. 1. Наука логики. М., 1974.
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. М., 1975.
Г егель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М., 1977.
Г егель Г. В. Ф. Эстетика. В 4-х т. М., 1968—1973.
Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2-х т. М., 1970—1971. Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. М., 1953.
Гёте. Собрание сочинений в 10-ти т. М., 1975—1980.
Гёте. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957.
Гёте. Избранные философские произведения. М., 1964.
332
Глушков В. М. О гносеологических основах математизации наук. М., 1965.
Гольман Л. И. Энгельс-историк. М., 1984.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.
Дюкло Ж. Бакунин и Маркс. Тень и свет. М., 1975.
Иванов В. Пушкин и его время. М., 1976.
Ильенков Э. В. Диалектическая логика, 2-е изд. М., 1984. Ильенков Э. В. Искусство и коммунистический идеал. М., 1984.
История марксистской диалектики. М., 1971.
Кессиди Ф. X. Сократ. М., 1976.
Конюшая Р. П. Карл Маркс и революционная Россия. М., 3975.
Корню О. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность. М., 1976.
Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840—1850-е годы). Л., 1984.
Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. М.—Л., 1935. Лапин Н. И. Молодой Маркс. М., 1976.
Ленинское философское наследие и современная физика. М., 1981.
Лившиц Мих. Карл Маркс. Искусство и общественный идеал. М., 1972.
Лифшиц Мих. В мире эстетики. М., 1985.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969.
Материалы к биографии М. Бакунина. T. 1—3. М.—Пг., 1923. Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957. Иерсесянц В. С. Сократ, 2-е изд. М., 1984.
Палиевский П. В. Пути реализма. Литература и теория. М., 1974.
Пенкин М. С. Искусство и наука. Проблемы, парадоксы, поиски, 2-е изд. М., 1982.
Пирумова Н. Бакунин. М., 1970.
Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. T. 1— 5. М., 1956.
Платон. Сочинения. T. 1—3. М., 1968—1971.
Платон. Избранные диалоги. М., 1965.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. T. 1. М., 1961. Пуанкаре А. О науке. М., 1983.
Серебряков М. В. Фридрих Энгельс в молодости. Л., 1958. Фрид ленде р Г. М. Классическое эстетическое наследие и марксизм. М., 1985.
Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. T. 1—2. М., 1913—1914.
333
Чаадаев П. Я. Афоризмы и разные заметки. Отрывки и разные мысли. — «Вопросы философии», 1986, № 1.
Шкуринов П. С. П. Я. Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение. 1УЦ. 1960.
Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX века. М., 1980. Щипаное И. Я. Философия и социология русского народничества. М., 1983.
Чикин В. В. Исповедь, 2-е изд., М., 1981.
Эккерман И. /7. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1981.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора 5
I
Три лика культуры 11
Что есть мудрость, Сократ? 39
Гёте и современная наука 67
«Я числюсь по России» 85
Пушкин и Чаадаев: «Высокое предназначение России» . 111
Истоки и горизонты 145
II
Возникновение марксизма и наследие духовной культуры 173
«Капитал» как «художественное целое» 193
Рядом с гением — гений 213
«Революционная диалектика марксистского реализма» 239
Карл Маркс: «Филистеры идут на меня» 257
Маркс и Бакунин: уроки истории 283
Карл Маркс и проблема человека в условиях научно-
технической революции 313
Указатель рекомендуемой литературы 332
Волков Г. Н.
В 67 Три лика культуры /Худож. Ю. Иванов. — М.: Мол. гвардия, 1986. — 335 с., ил.
В пер.: 95 коп. 100 000 экз.
Новая книга доктора философских наук Г. Н. Волкова, автора многих статей и книг, таких, как «Сова Минервы», «Рождение гения», «У колыбели науки», написана в жанре историко-философского очерка. Автор рассматривает марксизм как величайшее достижение культуры, раскрывает органическую взаимосвязь философии с наукой и искусством. Стержневой идеей книги является идея о необходимости и возможности универсального развития человеком своих способностей. Книга рассчитана на массового читателя.
В
0302020200—135 и/о(02)—86
“044—86
ББК 87.3 1Ф
И Б № 4742
Генрих Николаевич Волков
ТРИ ЛИКА КУЛЬТУРЫ
Редактор С. Перевезенцев Художник Ю. Иванов
Художественный редактор Т. Войткевич Технический редактор Н. Теплякова Корректоры Н. Самойлова, Т. Пескова
Сдано в набор 25.11.85. Подписано в печать 18.04.86. А07689. Формат 84 XIO8V32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная».
Печать высокая. Условн. печ. л. 17,64. Условн. кр.-отт. 18,06. Учетно- изд. л. 18,2. Тираж 100 000 экз. Цена 95 коп. Заказ 2114.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: Москва, К-30, Сущевская, 21.