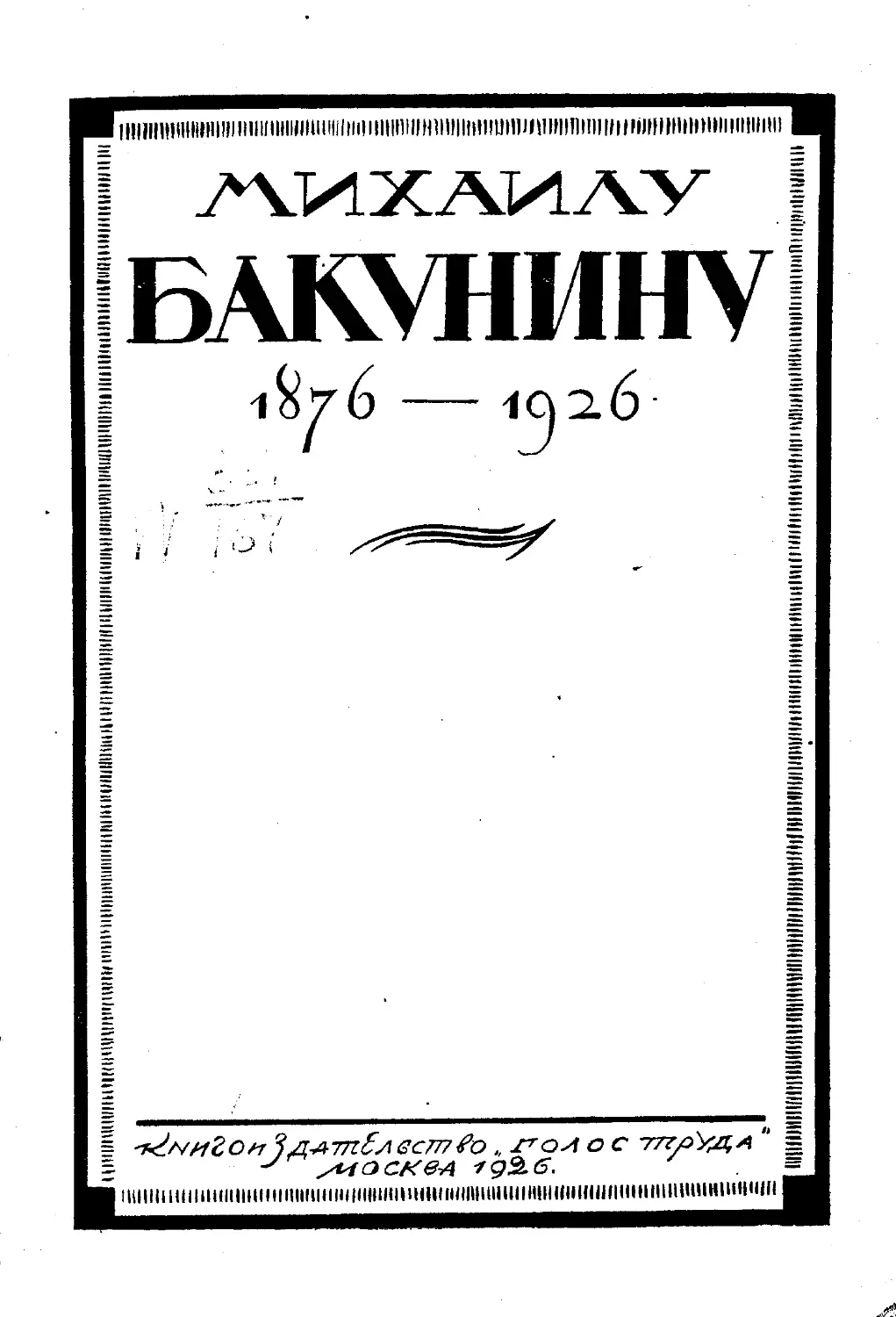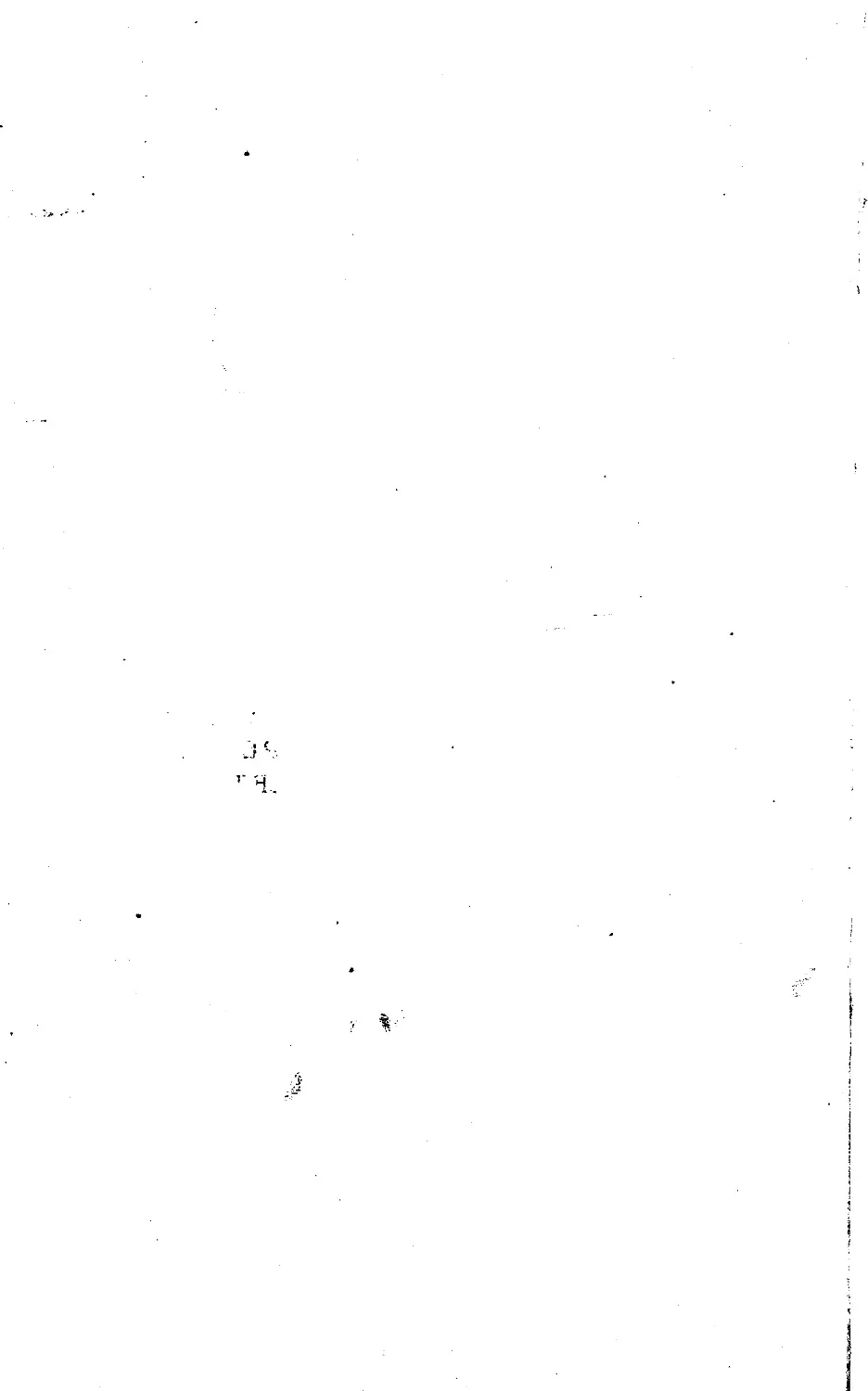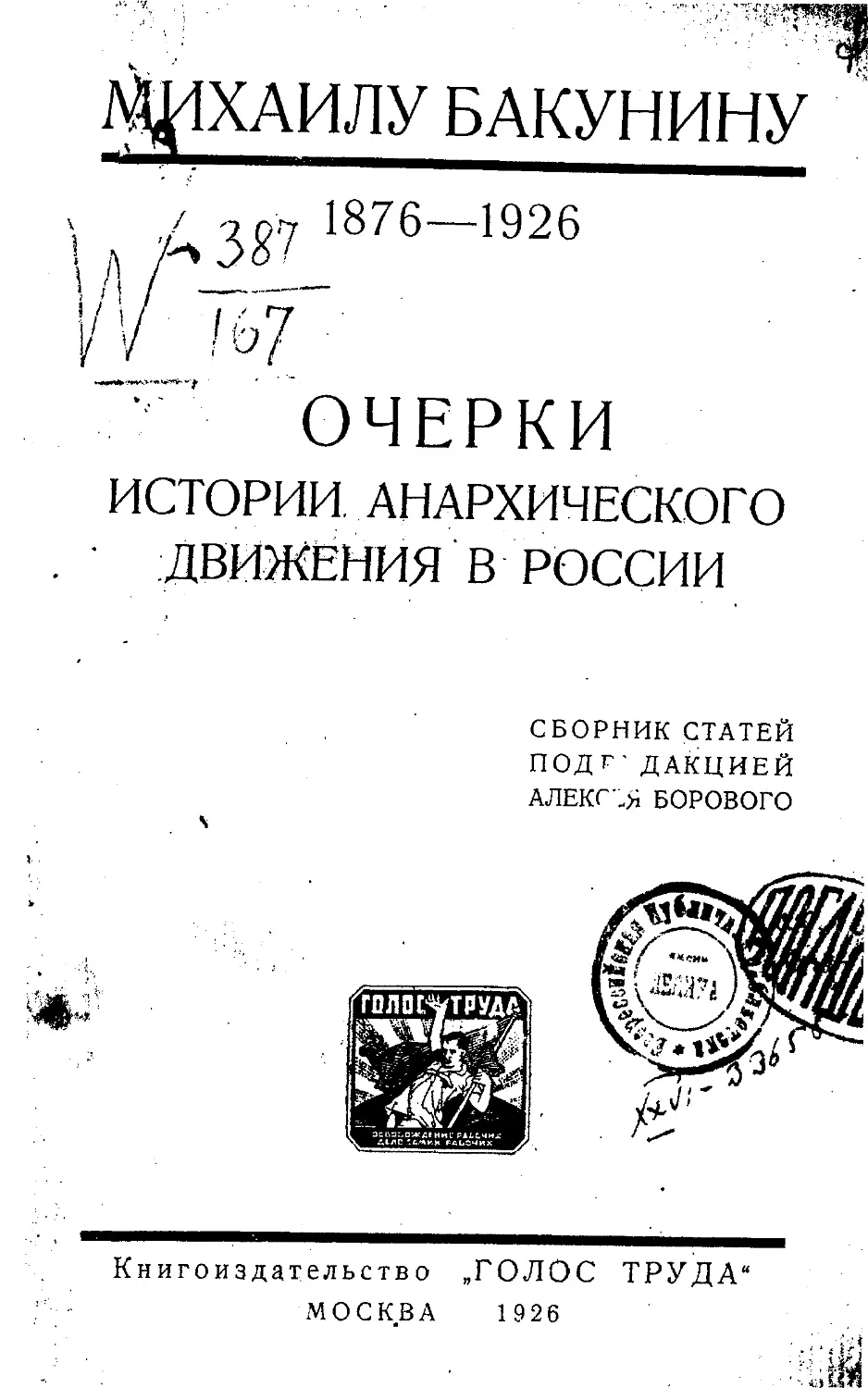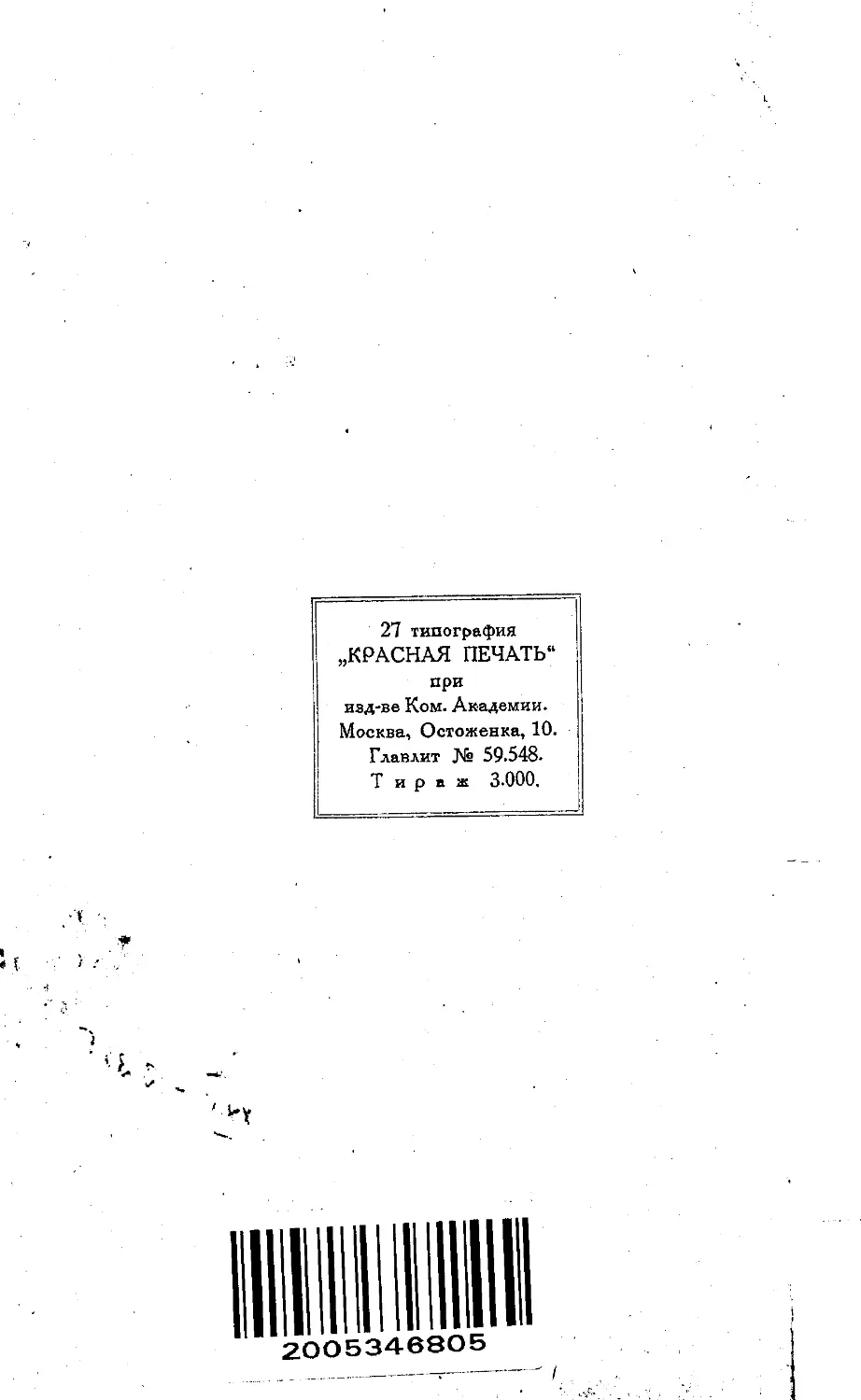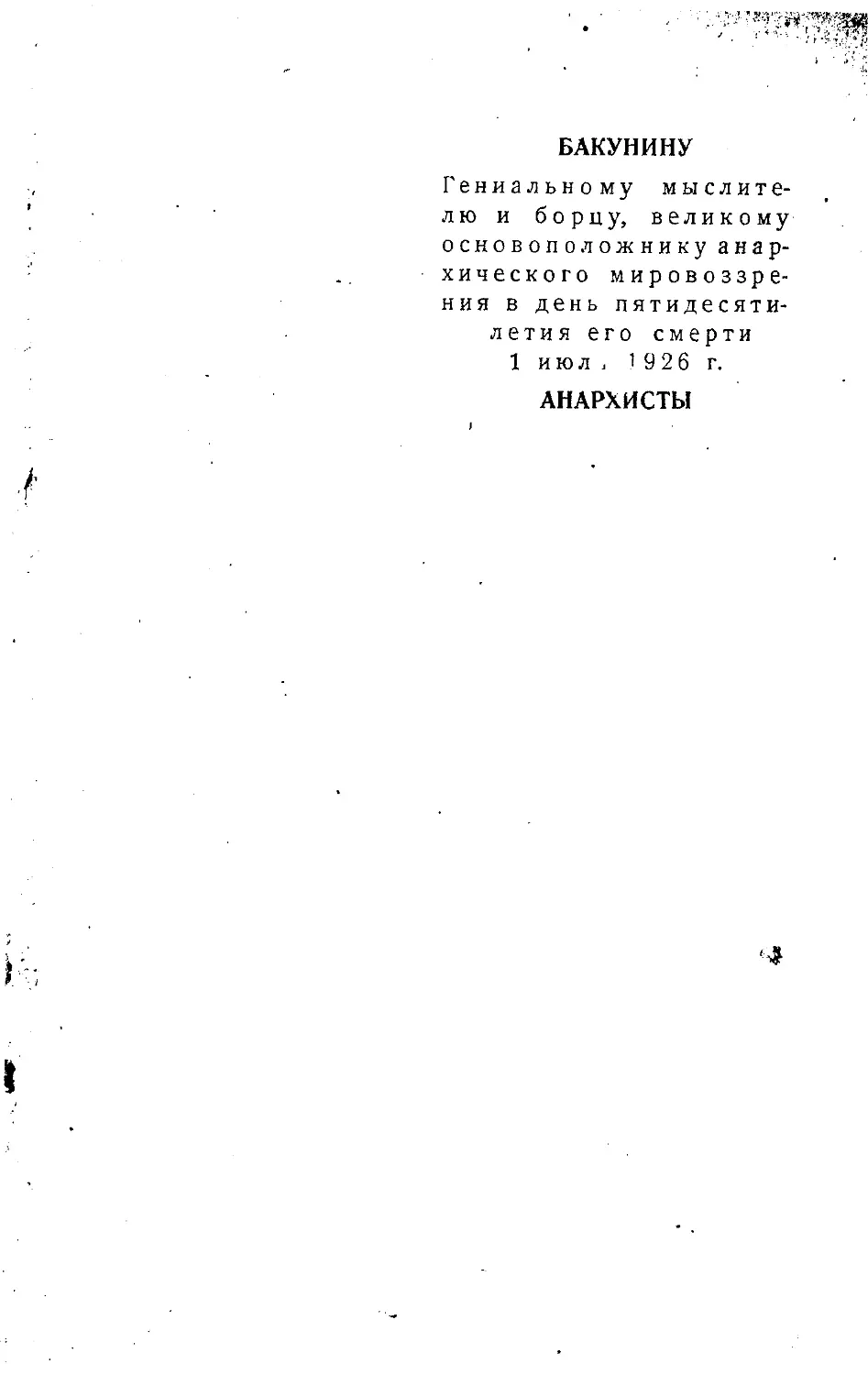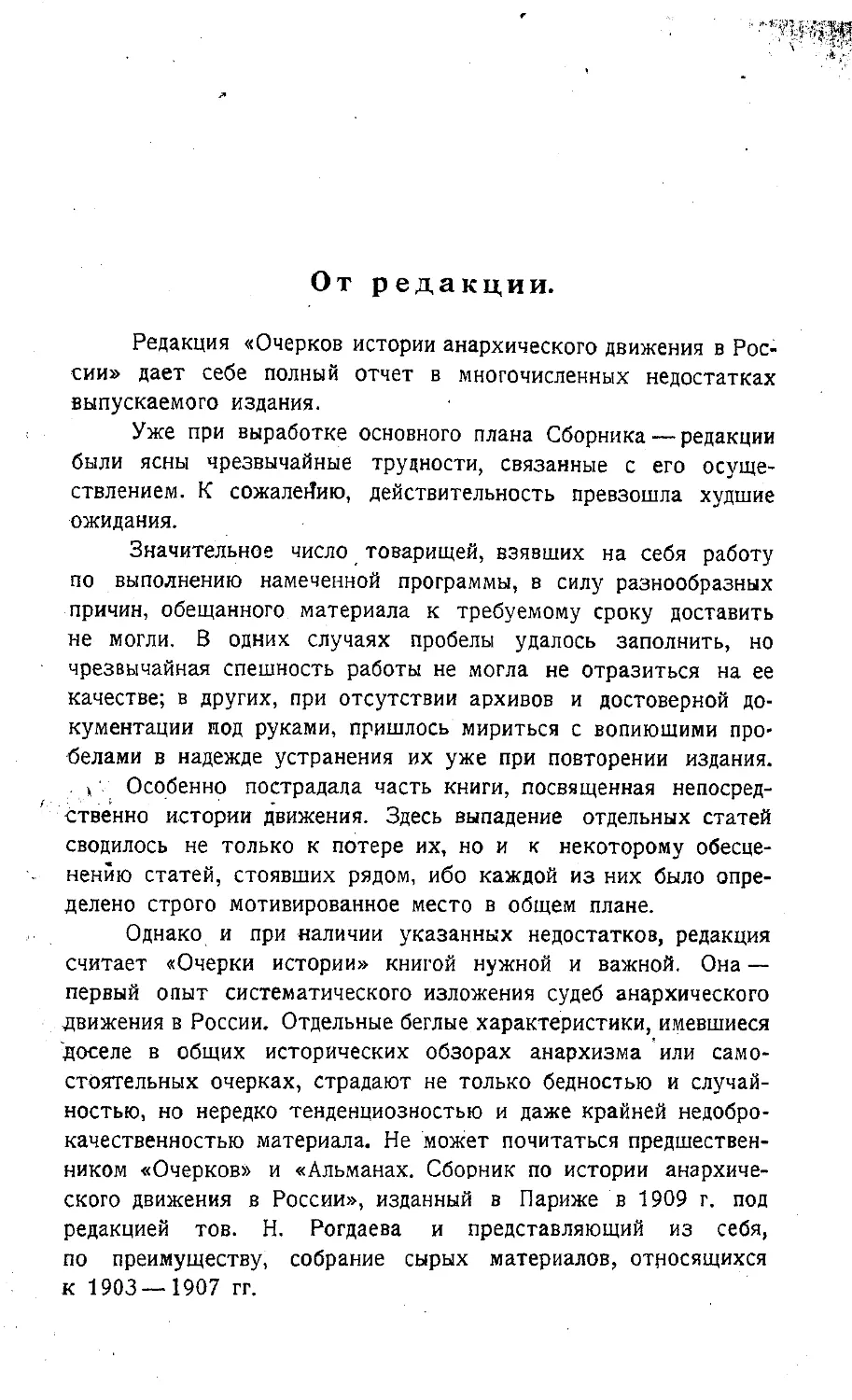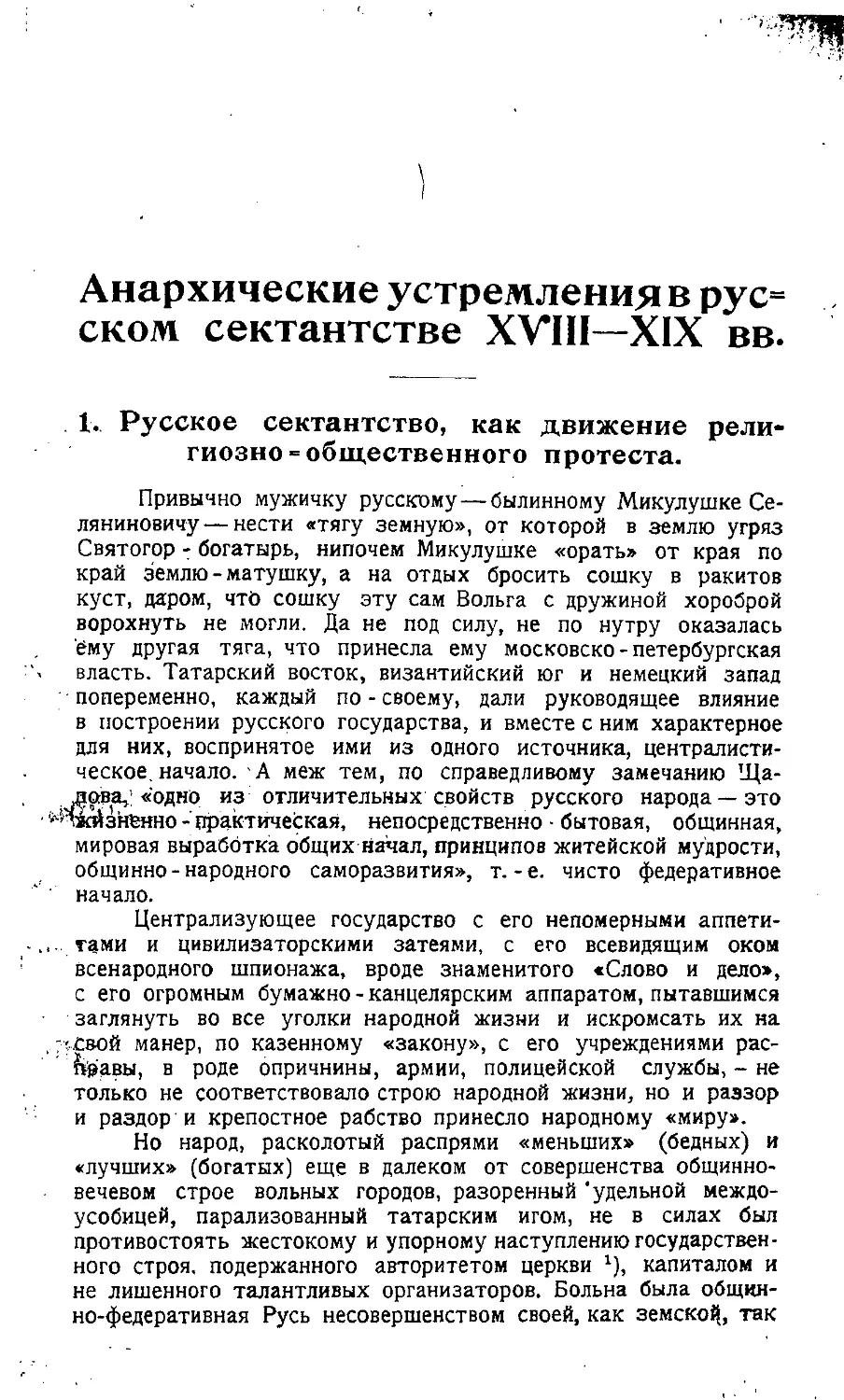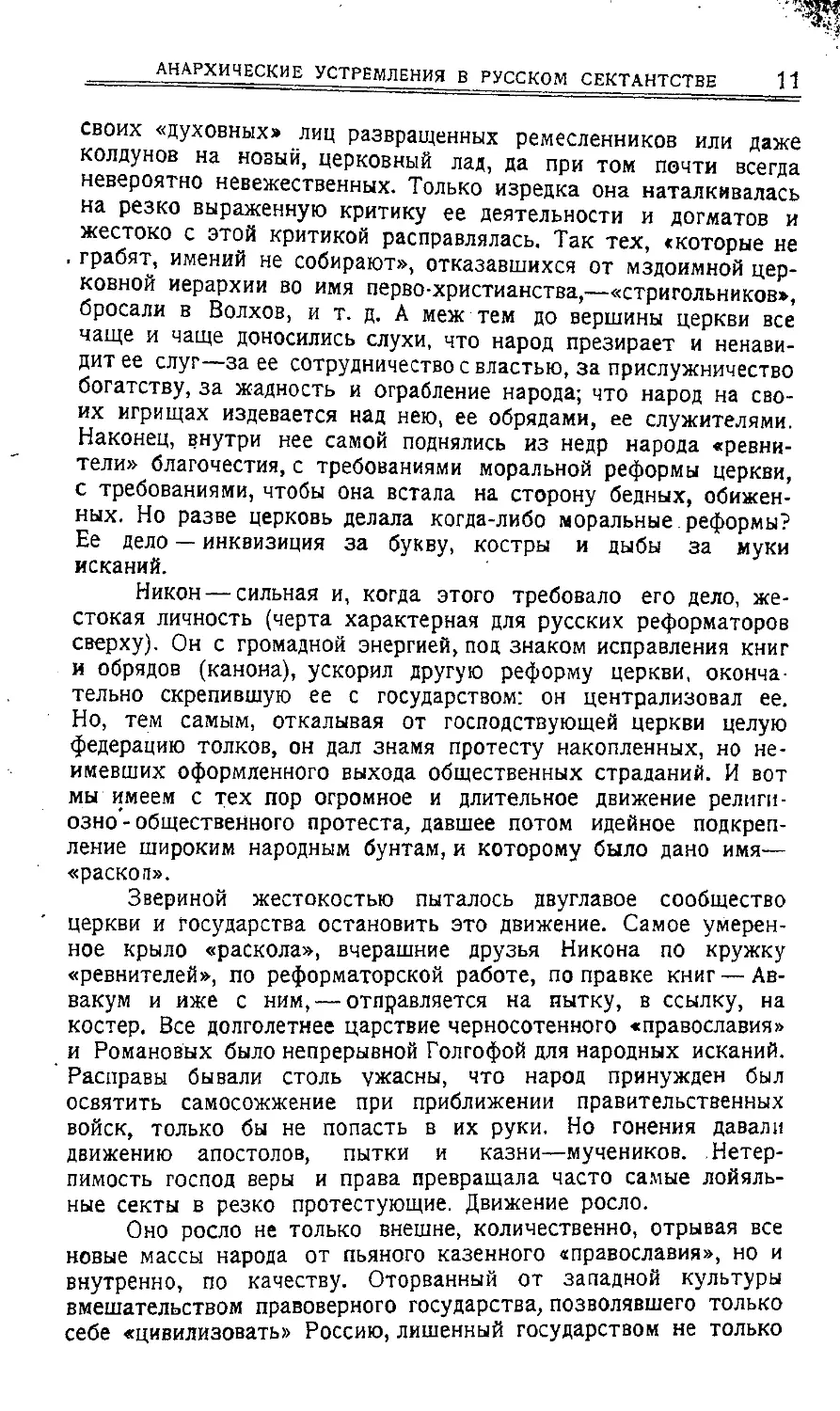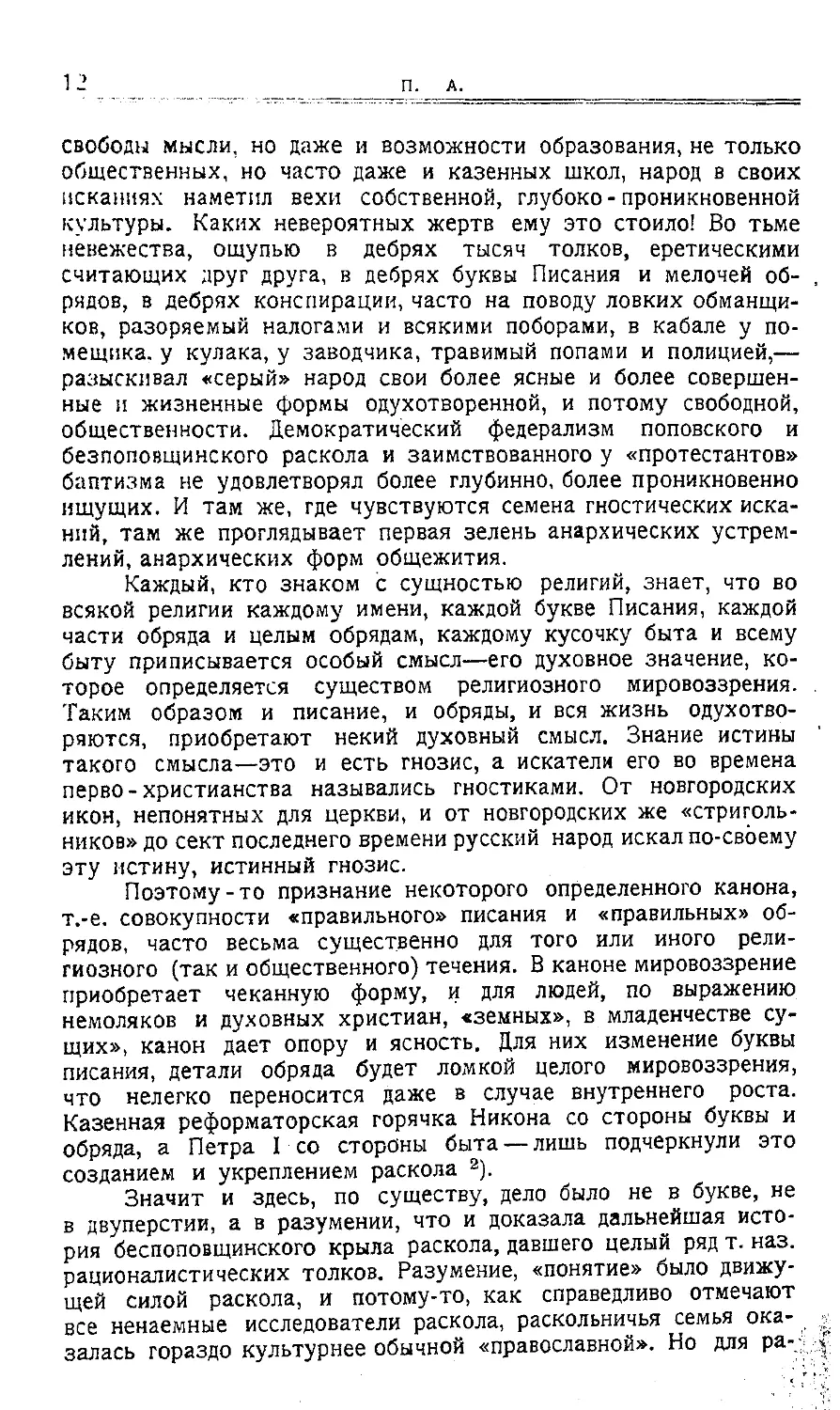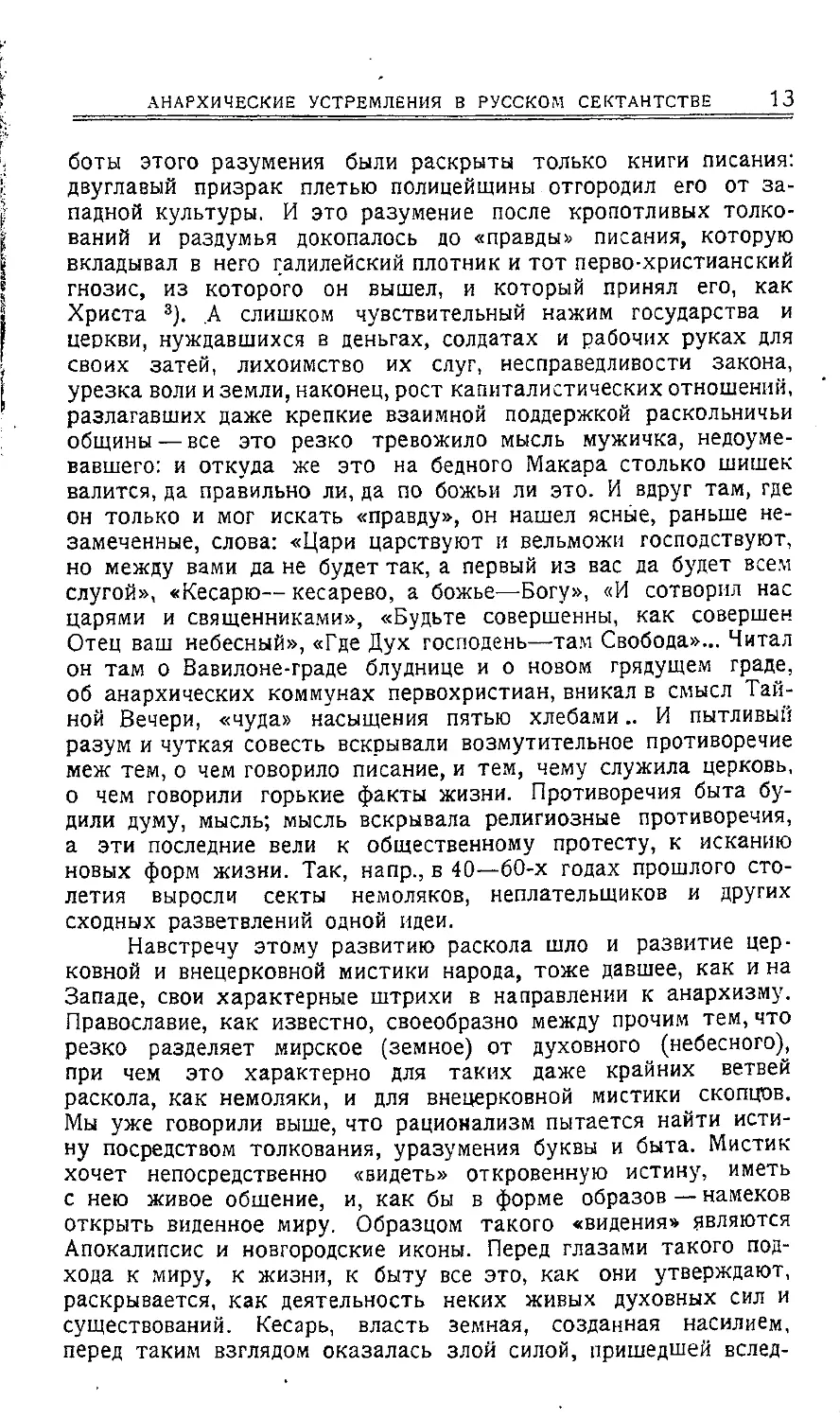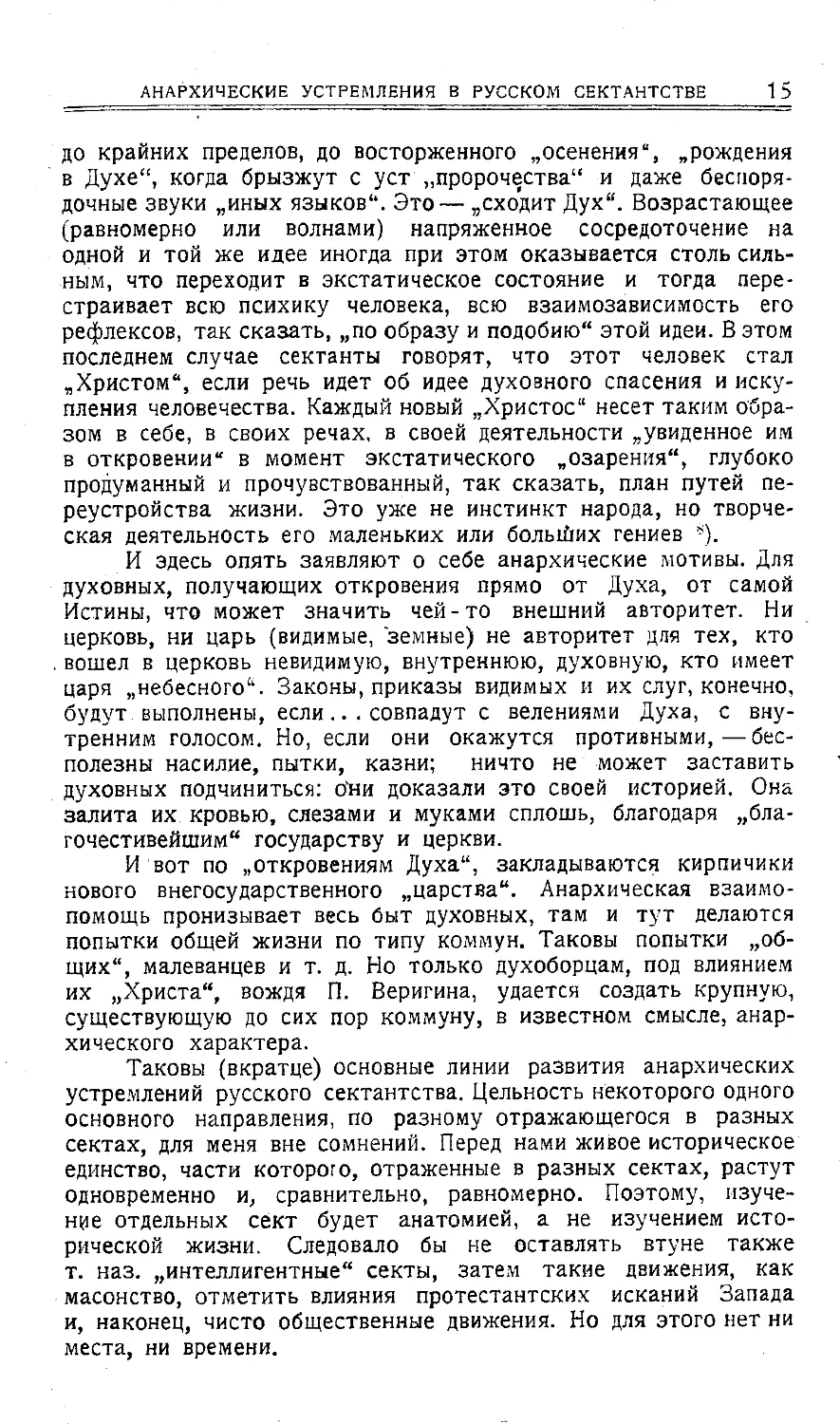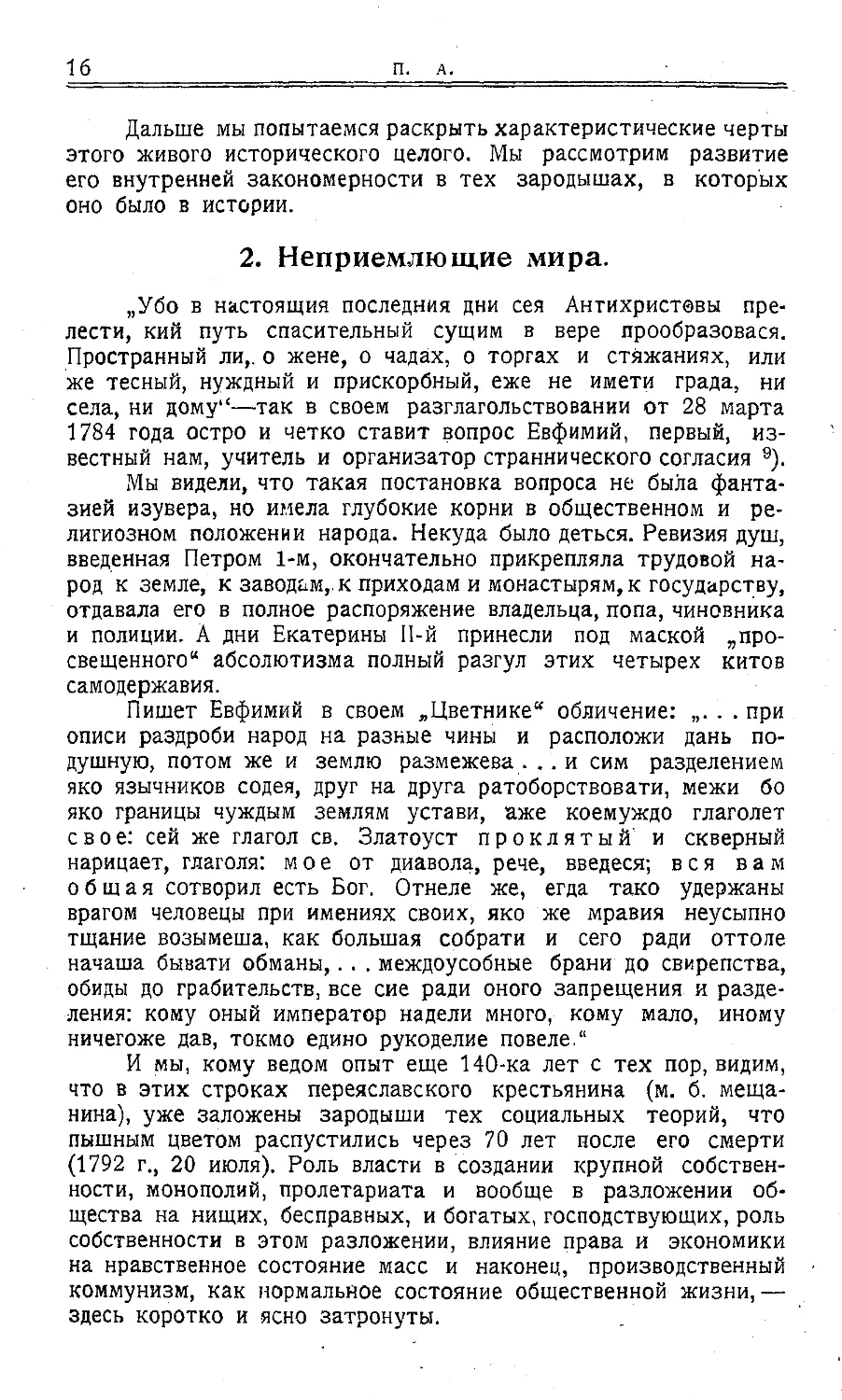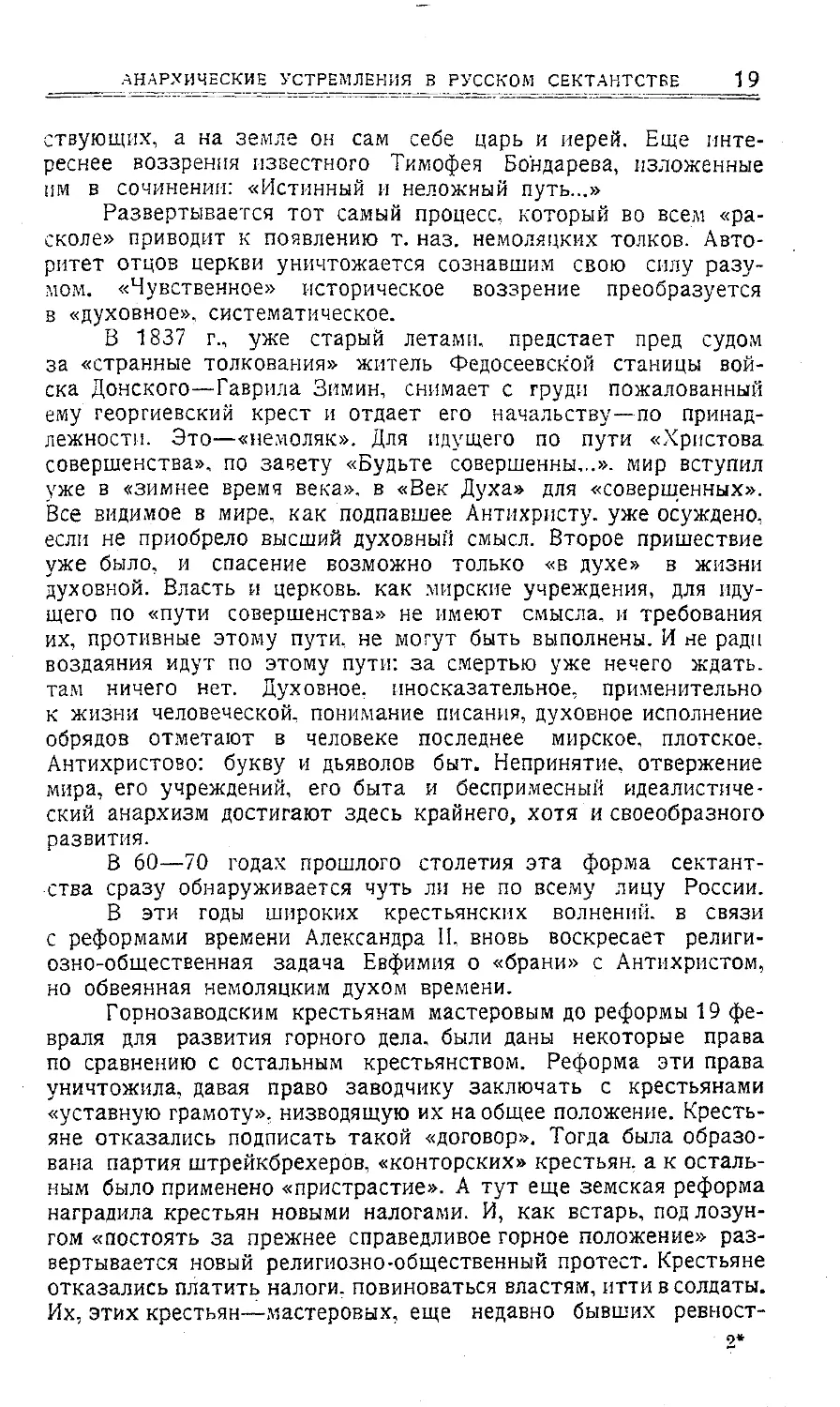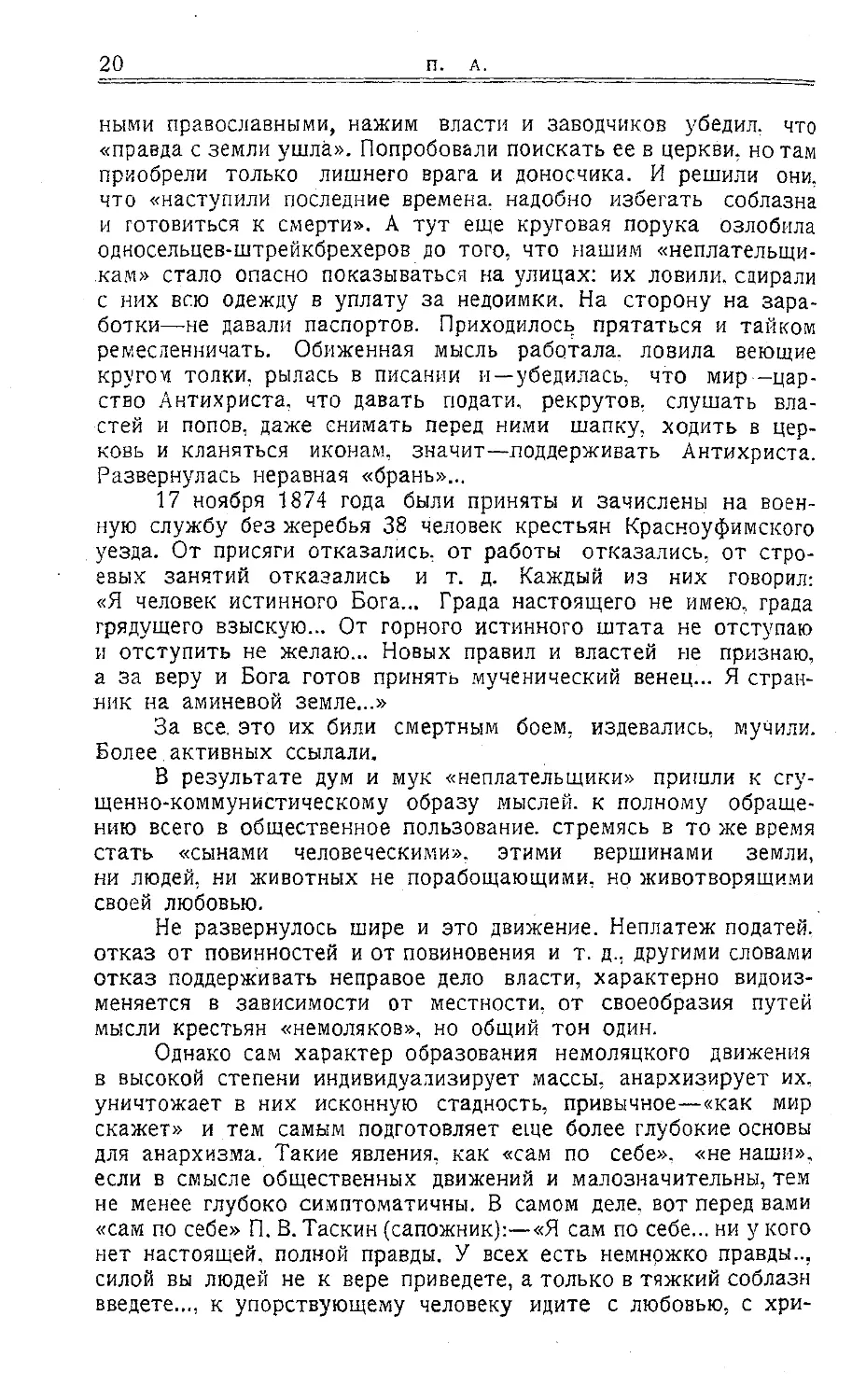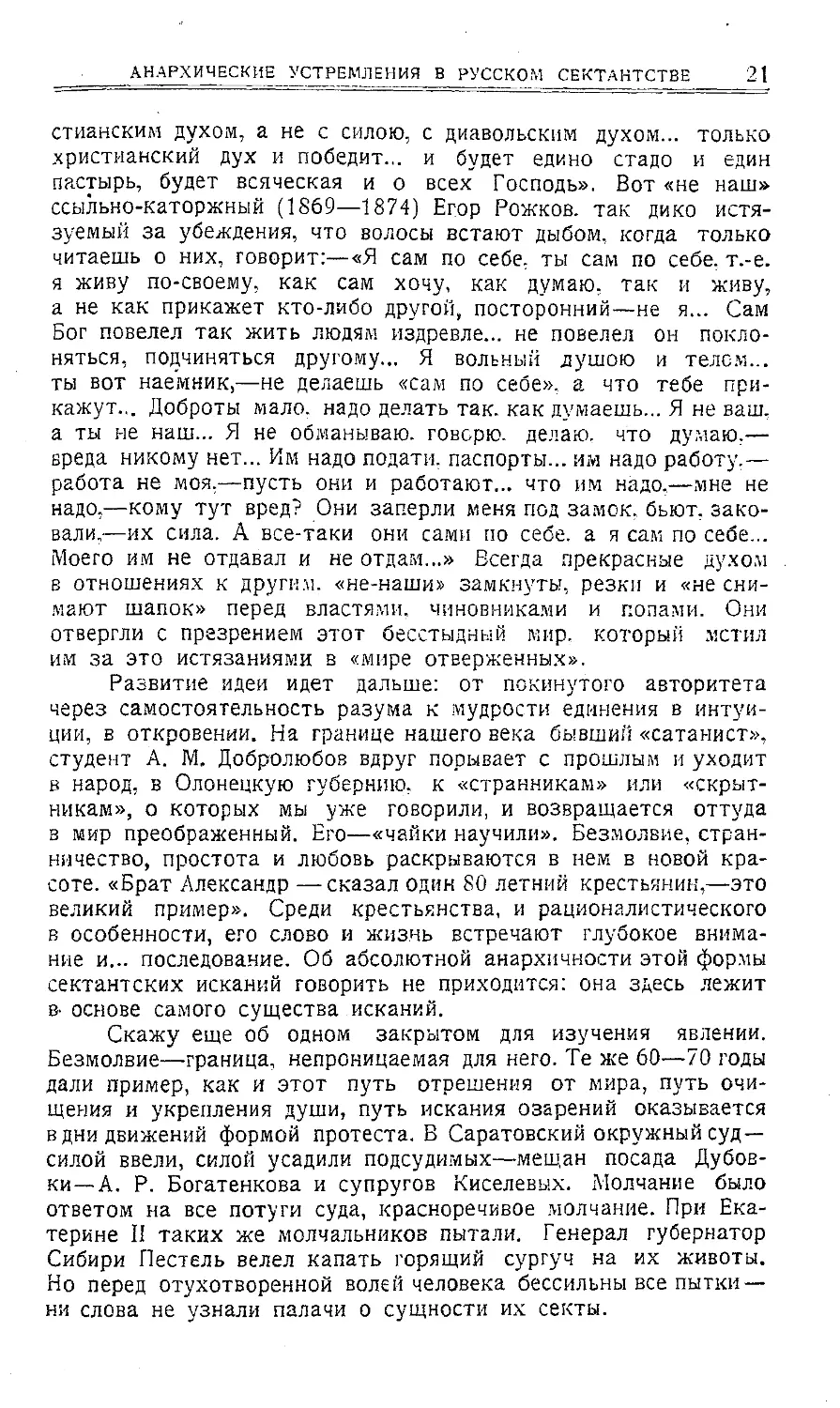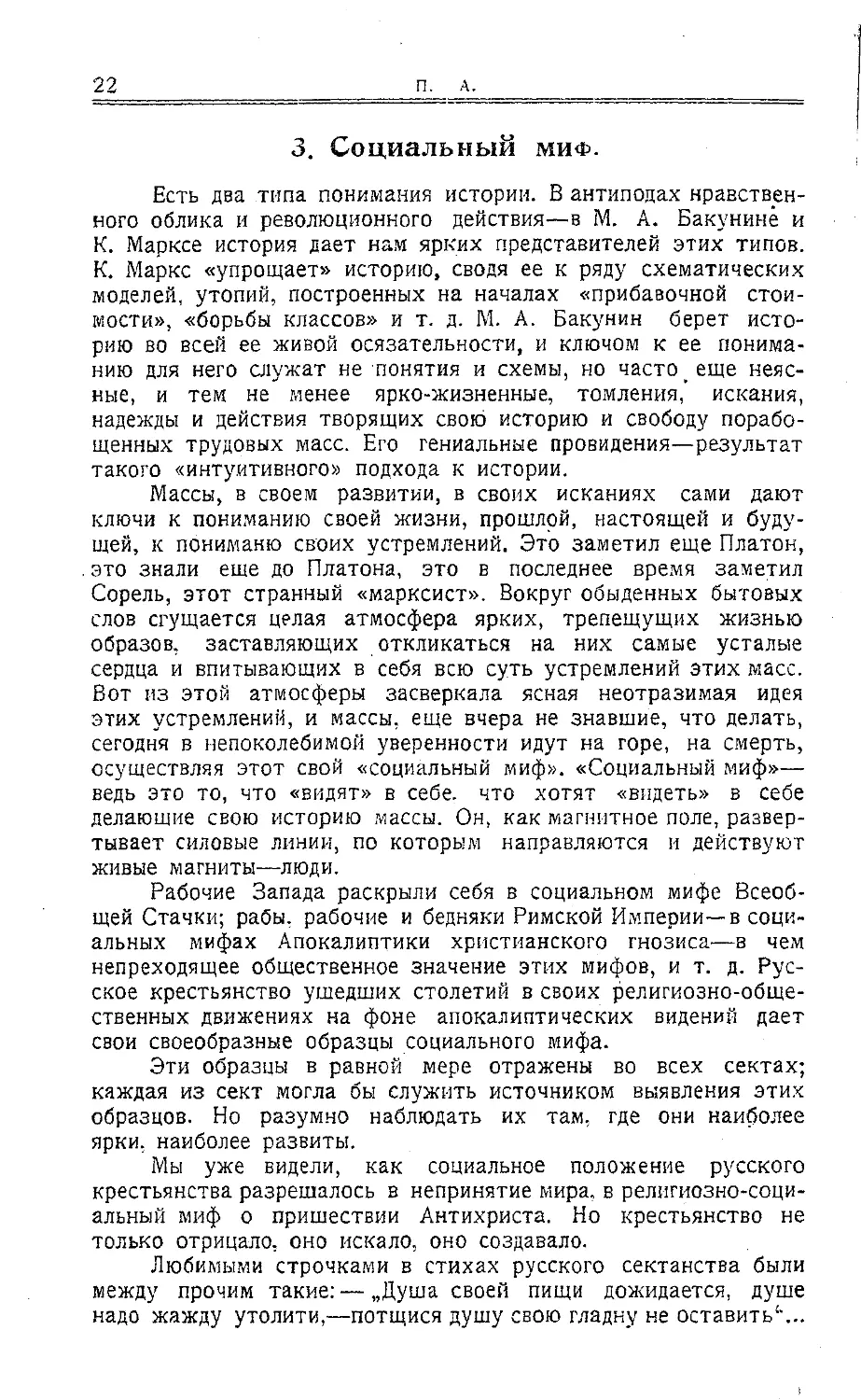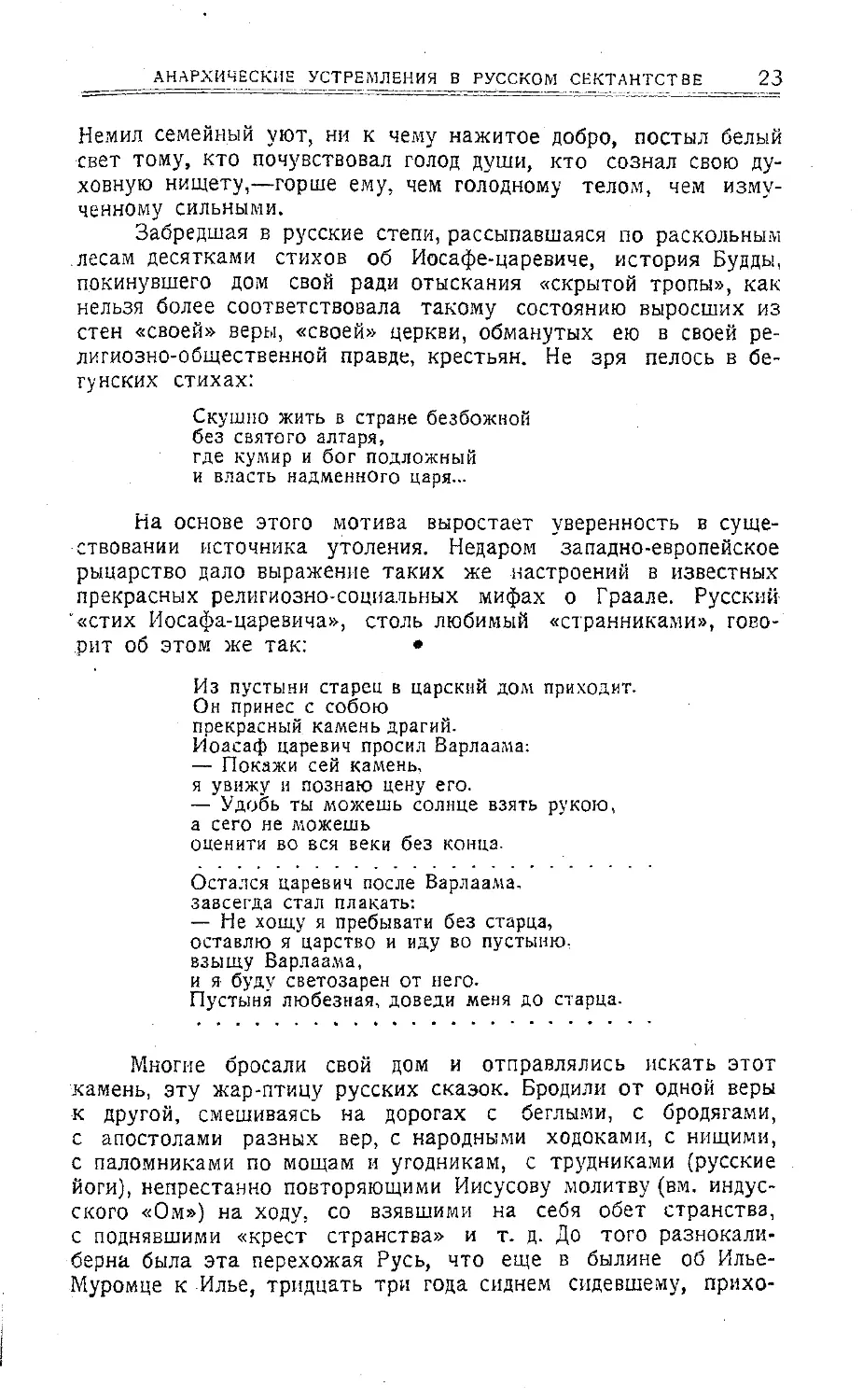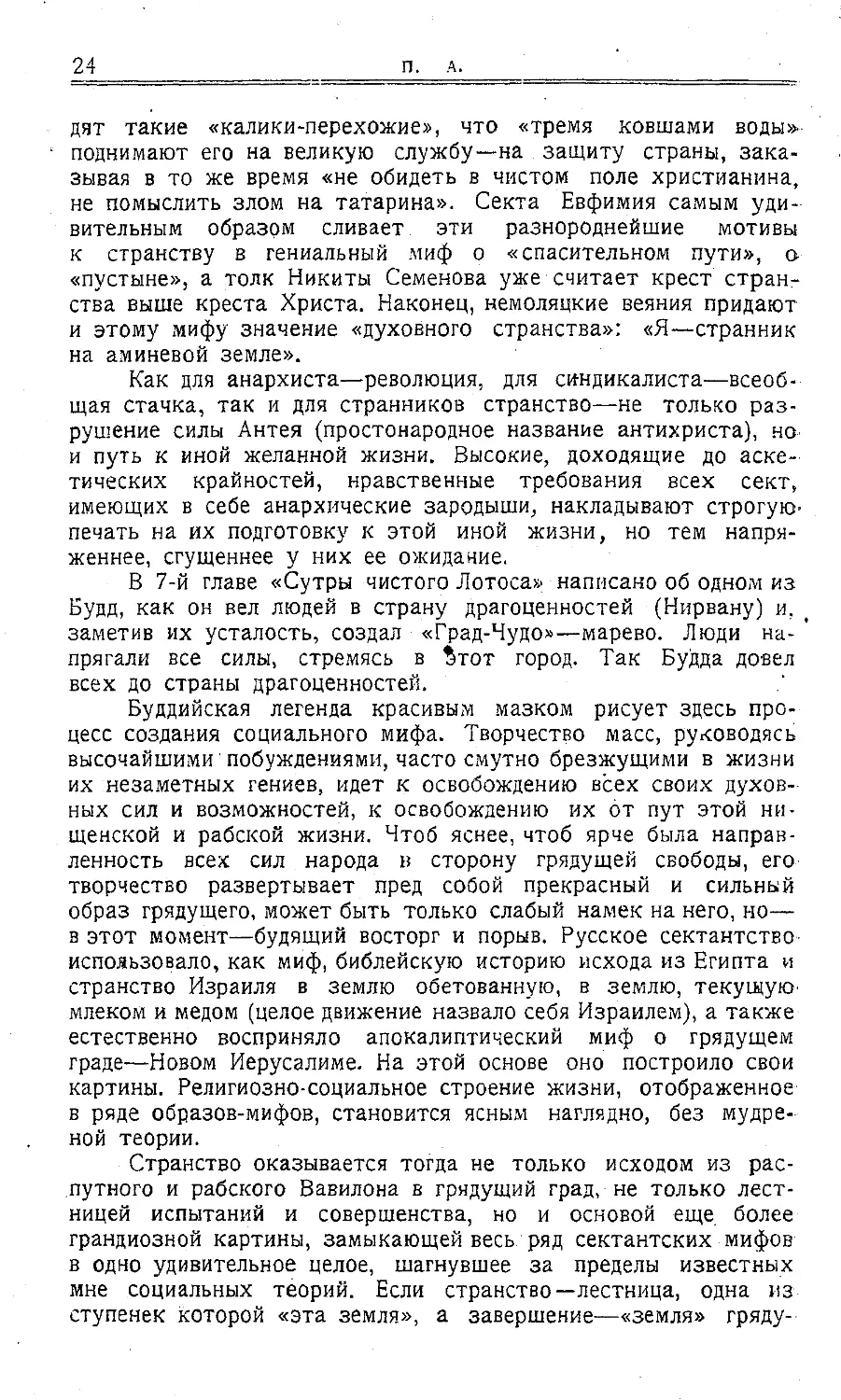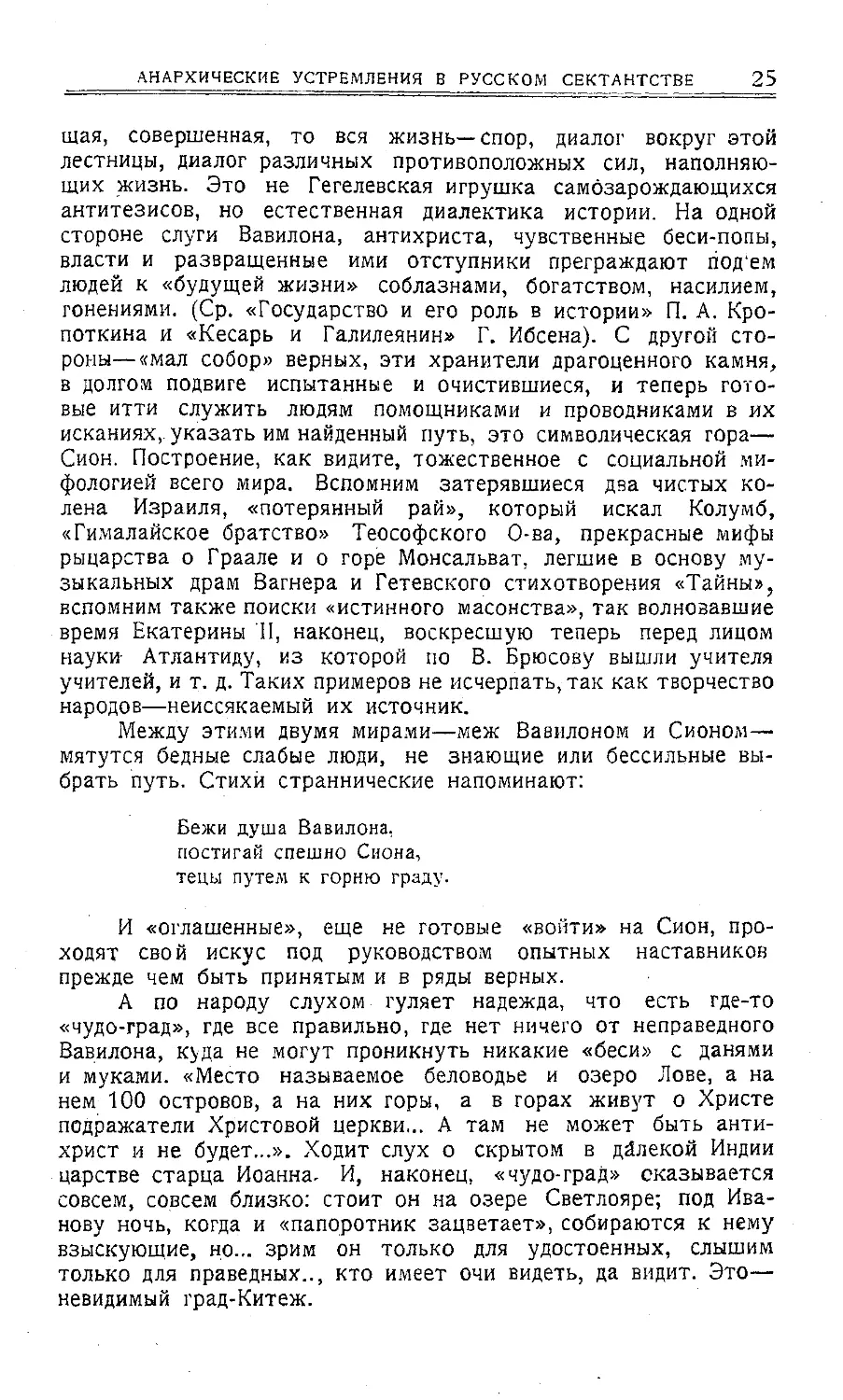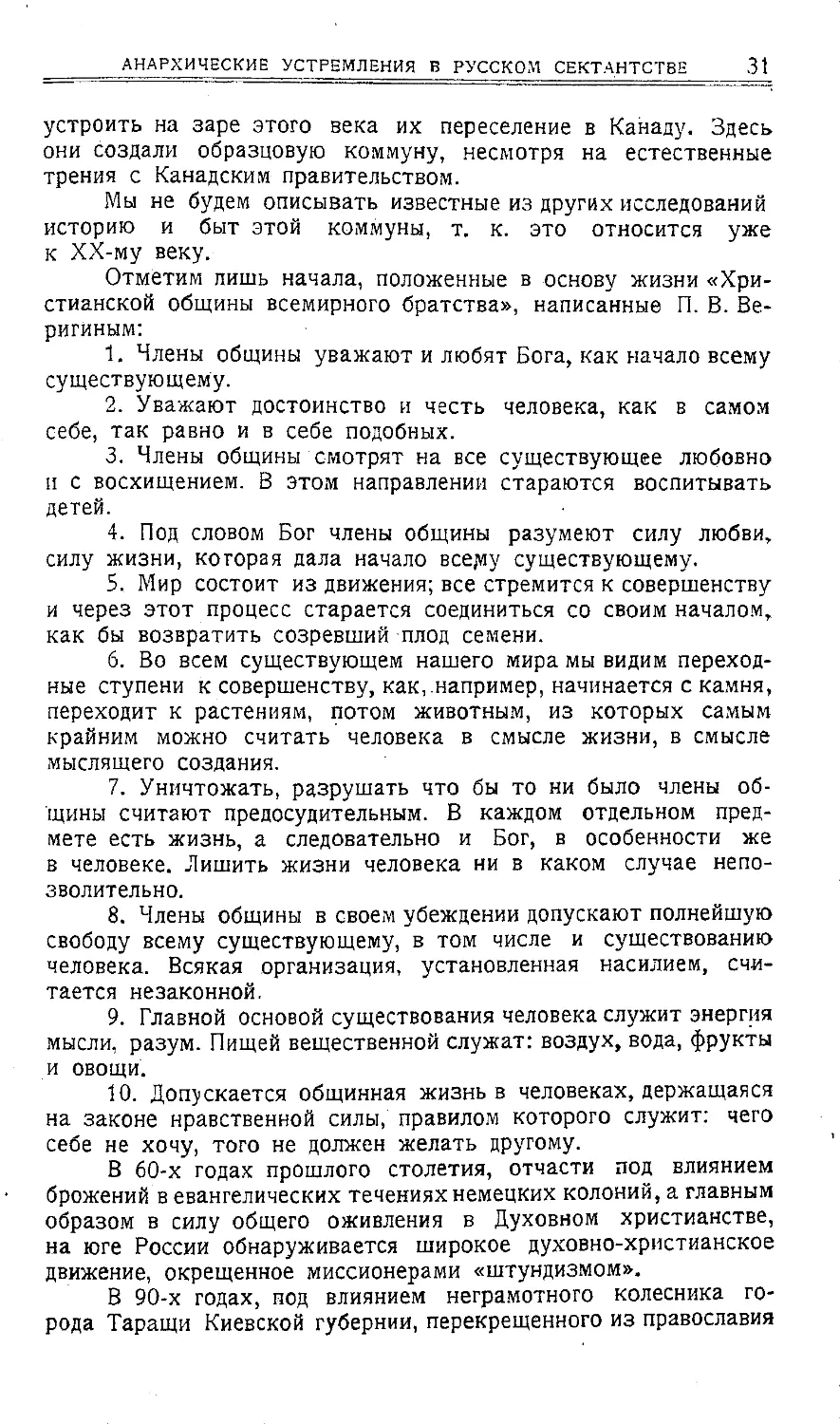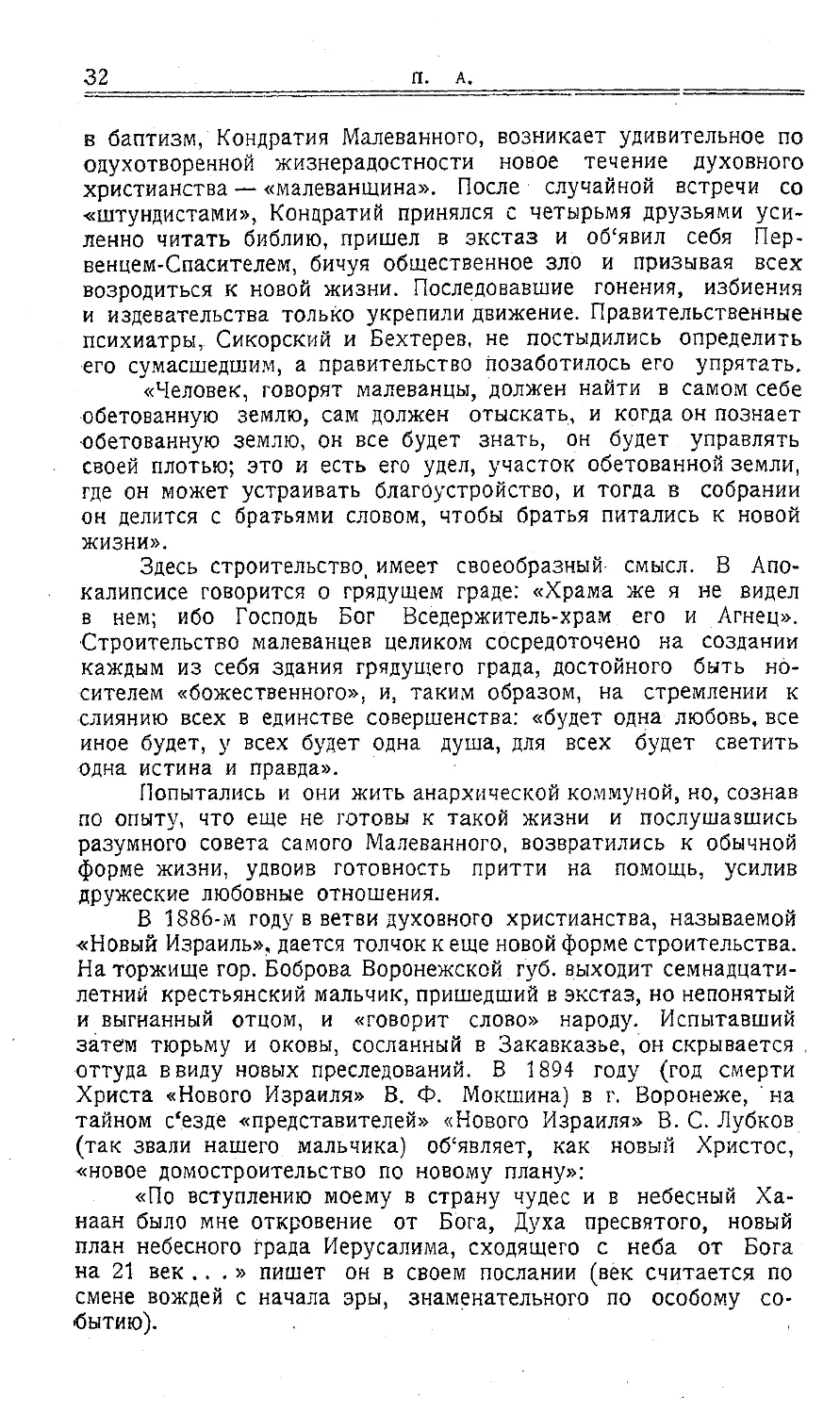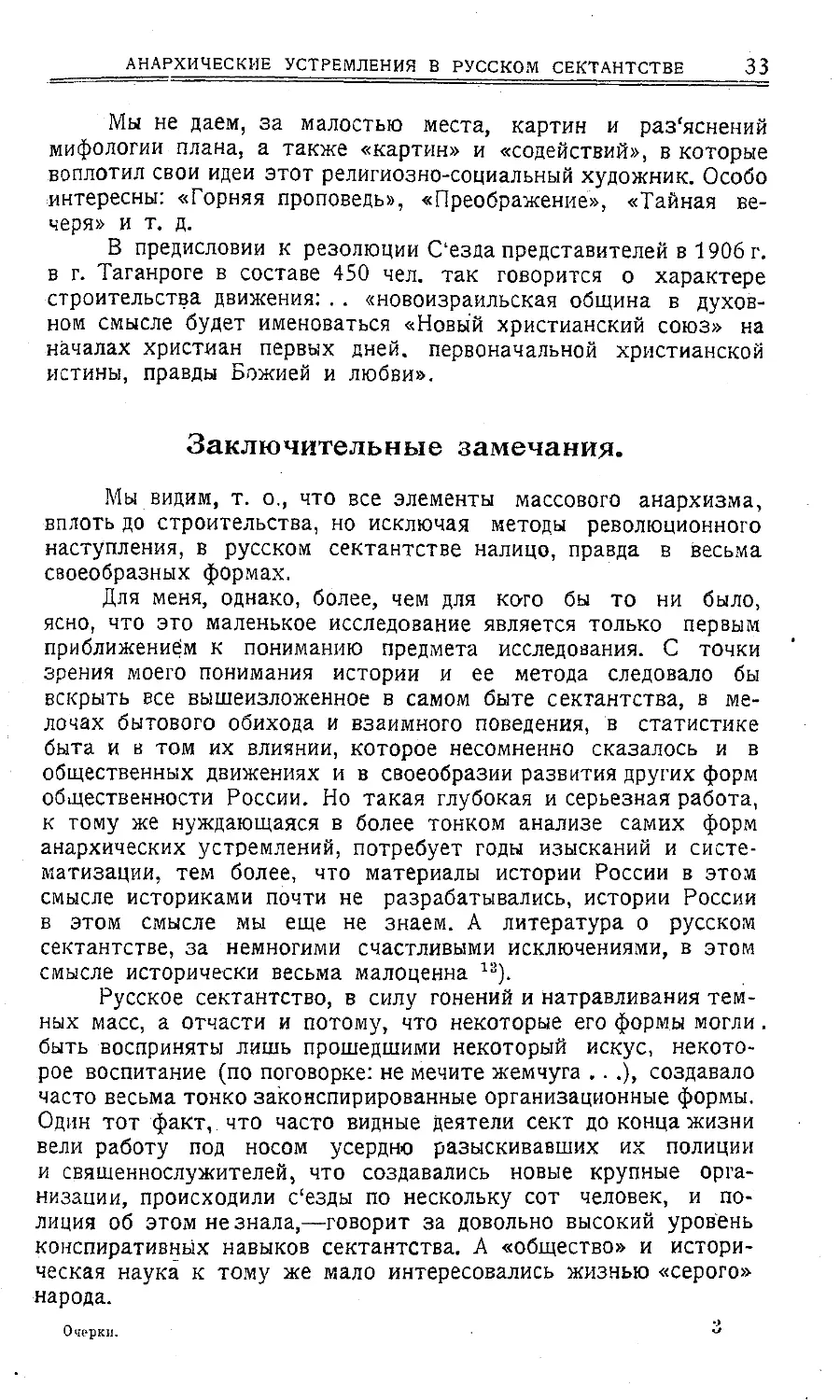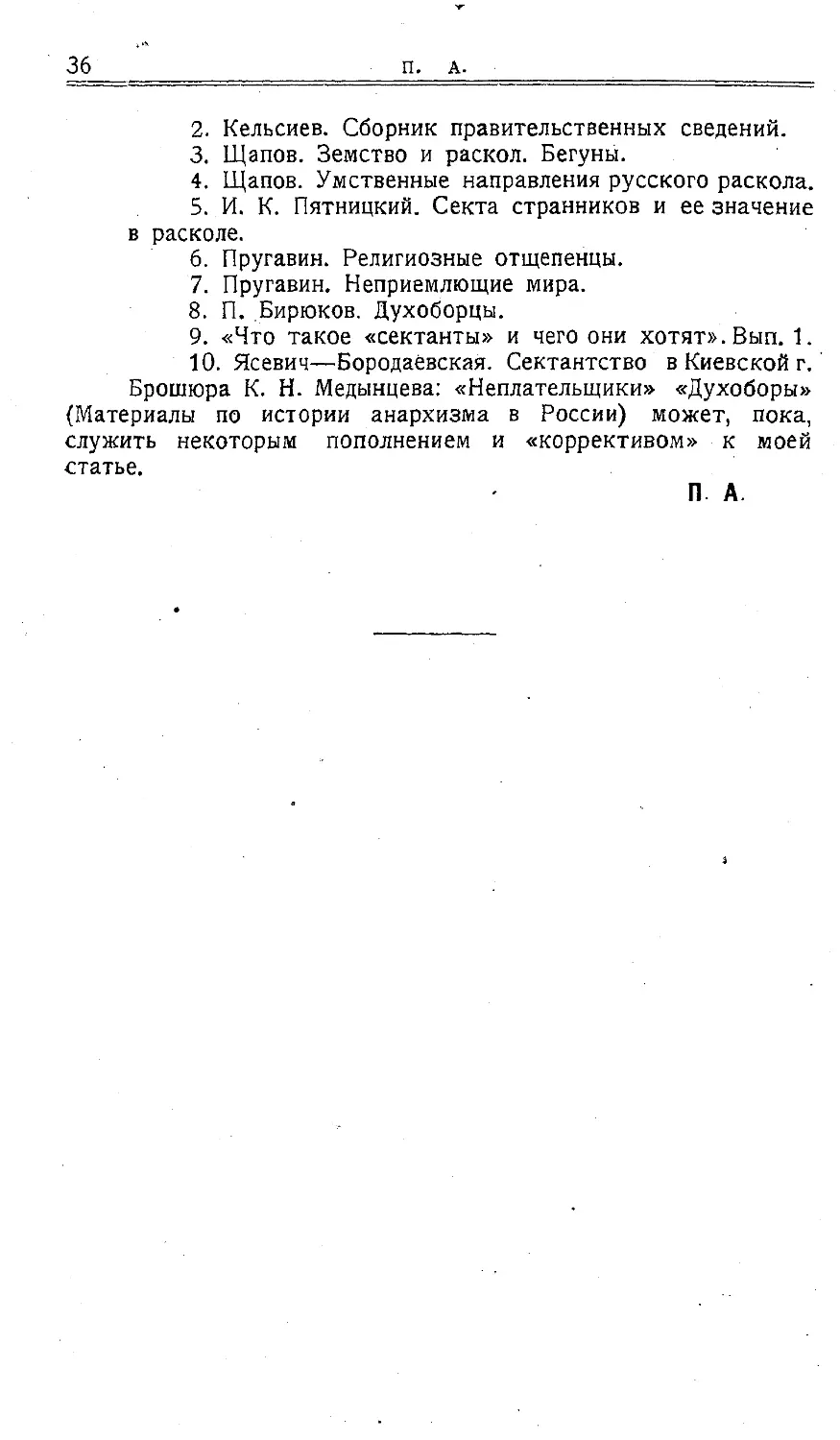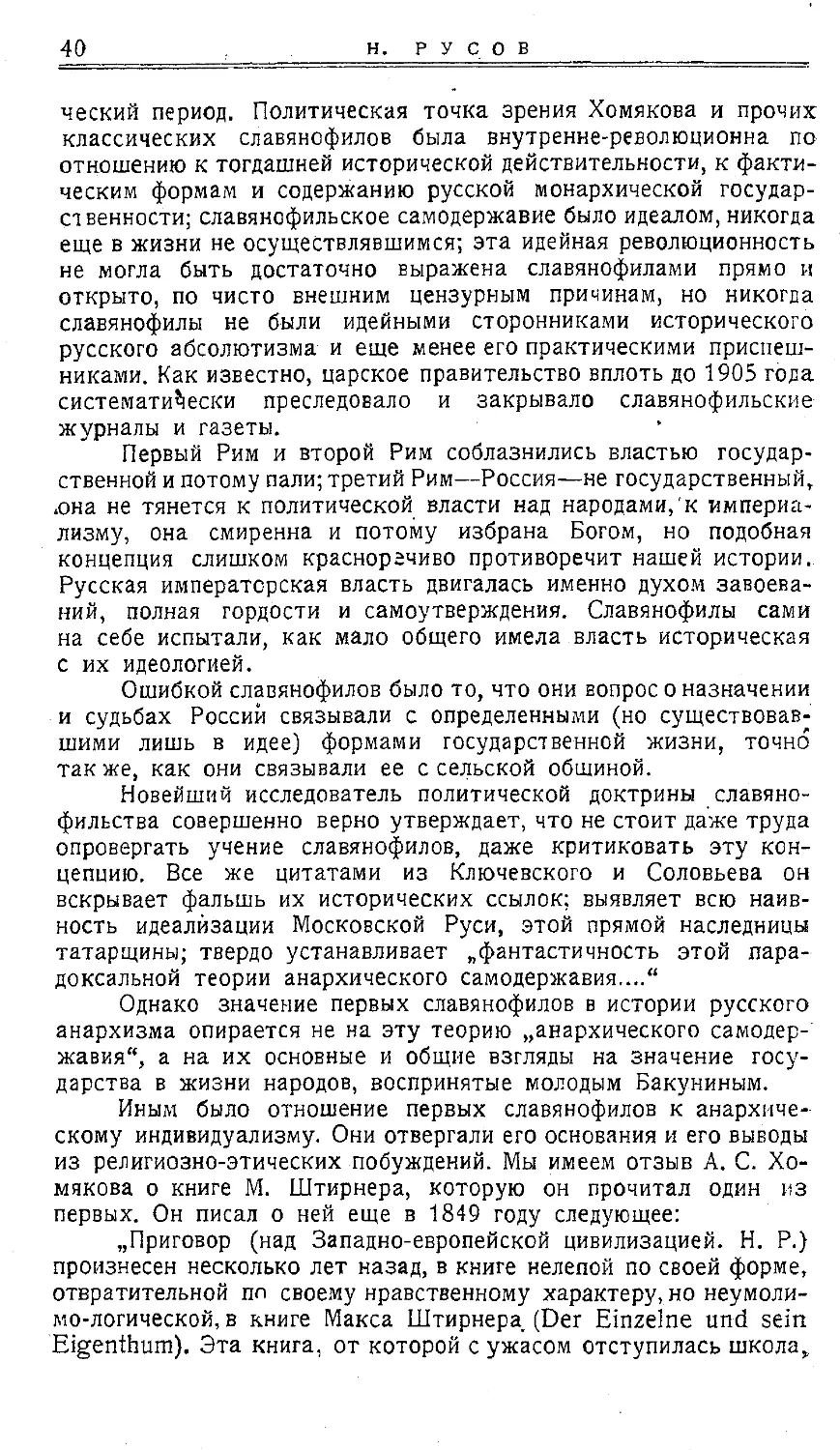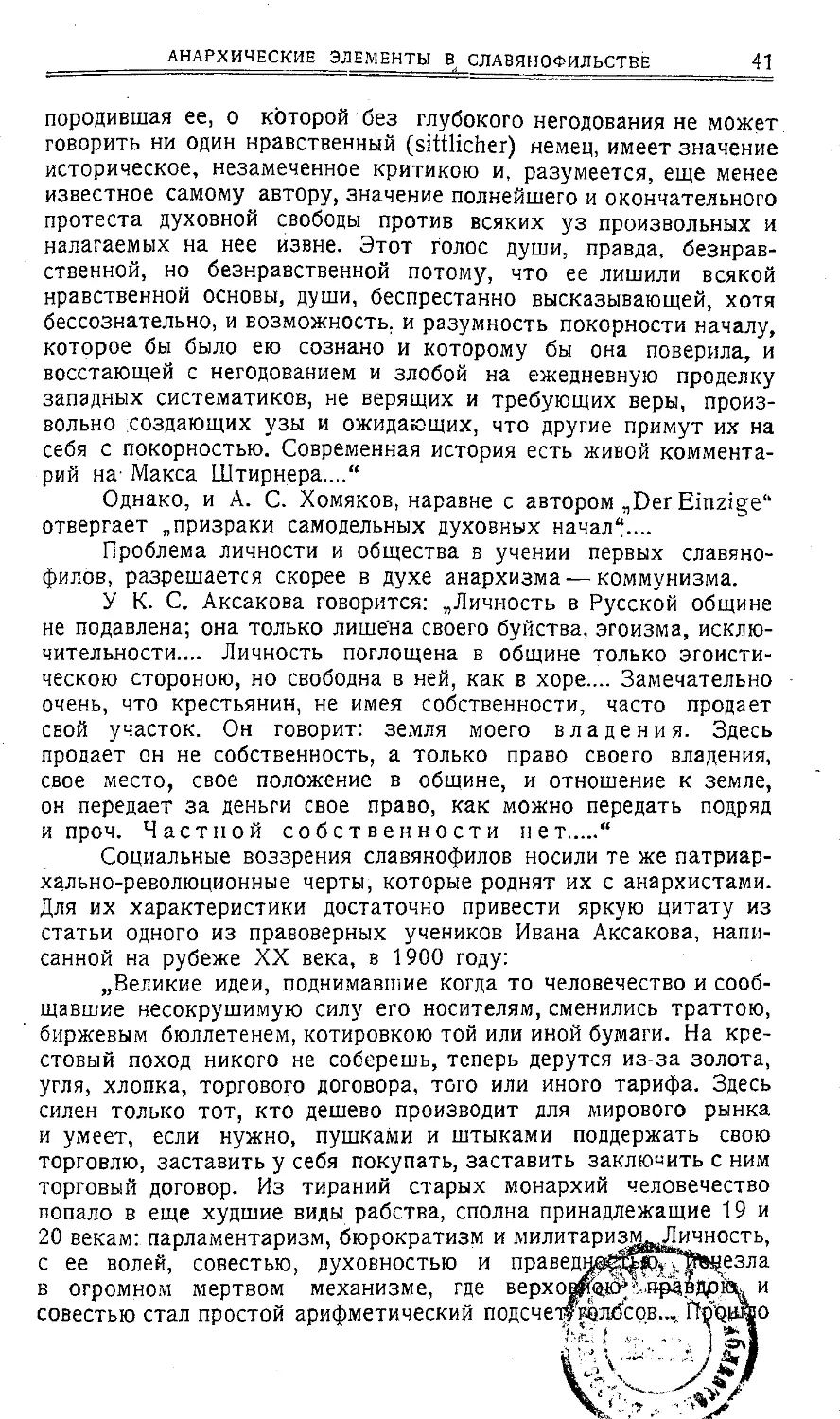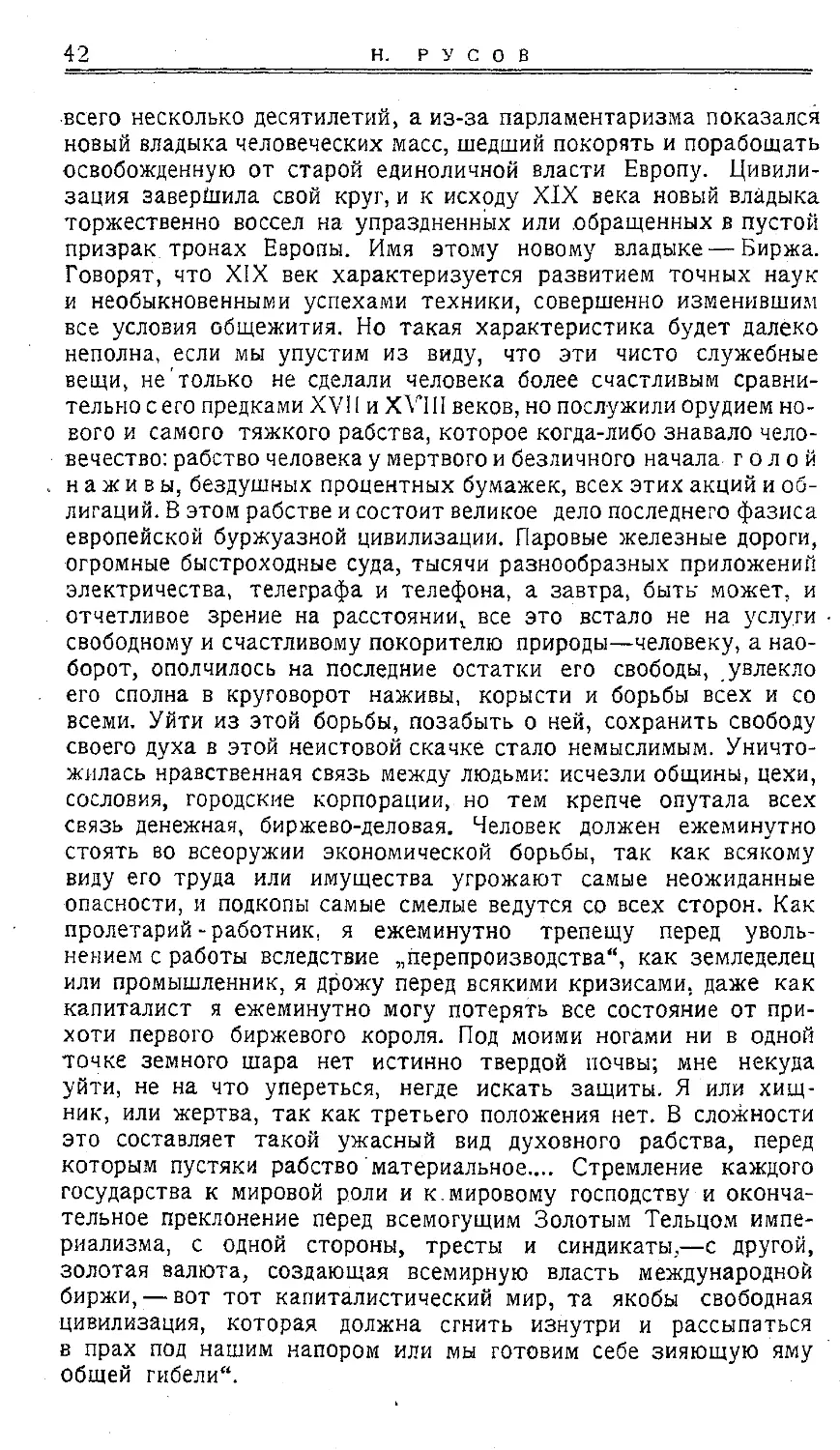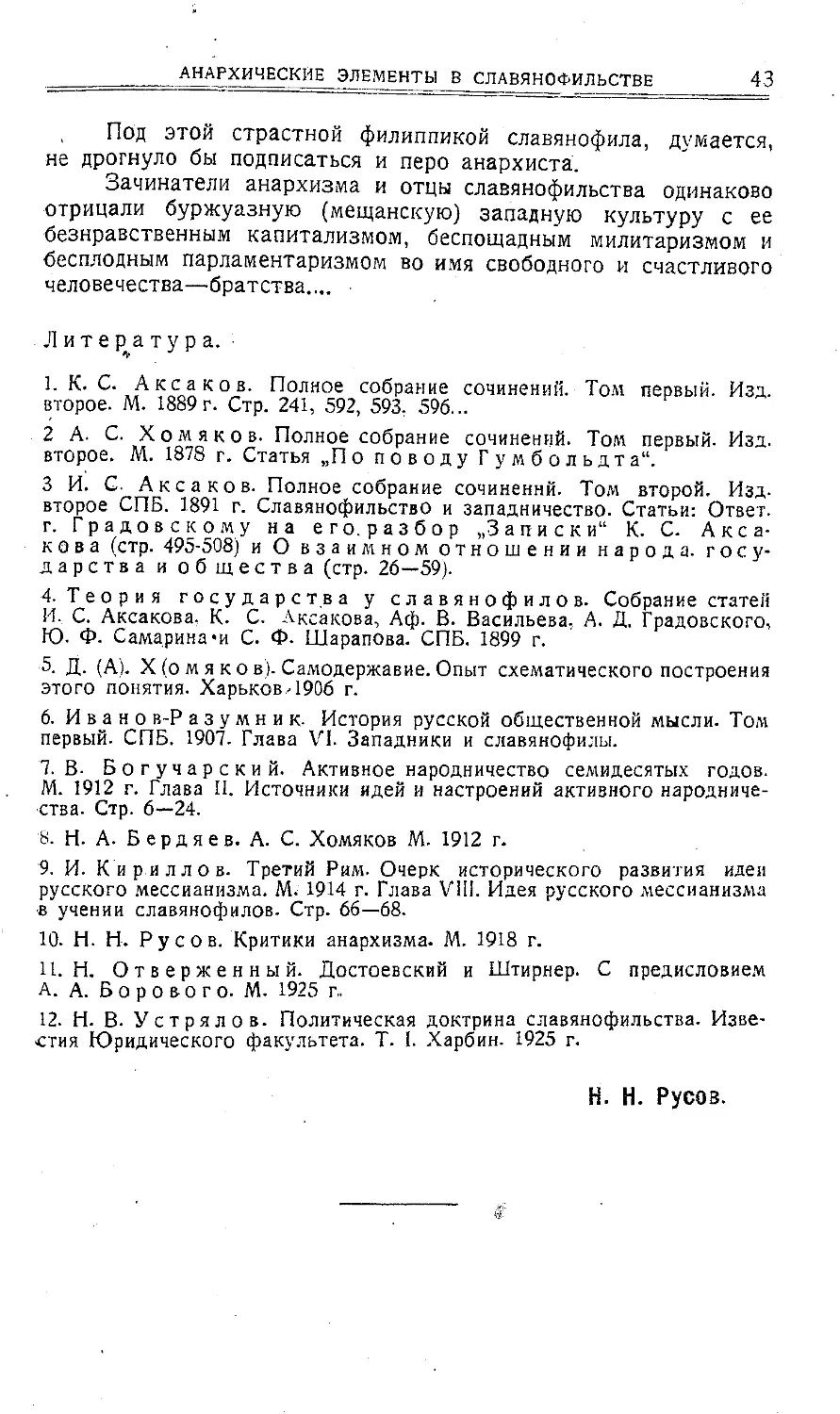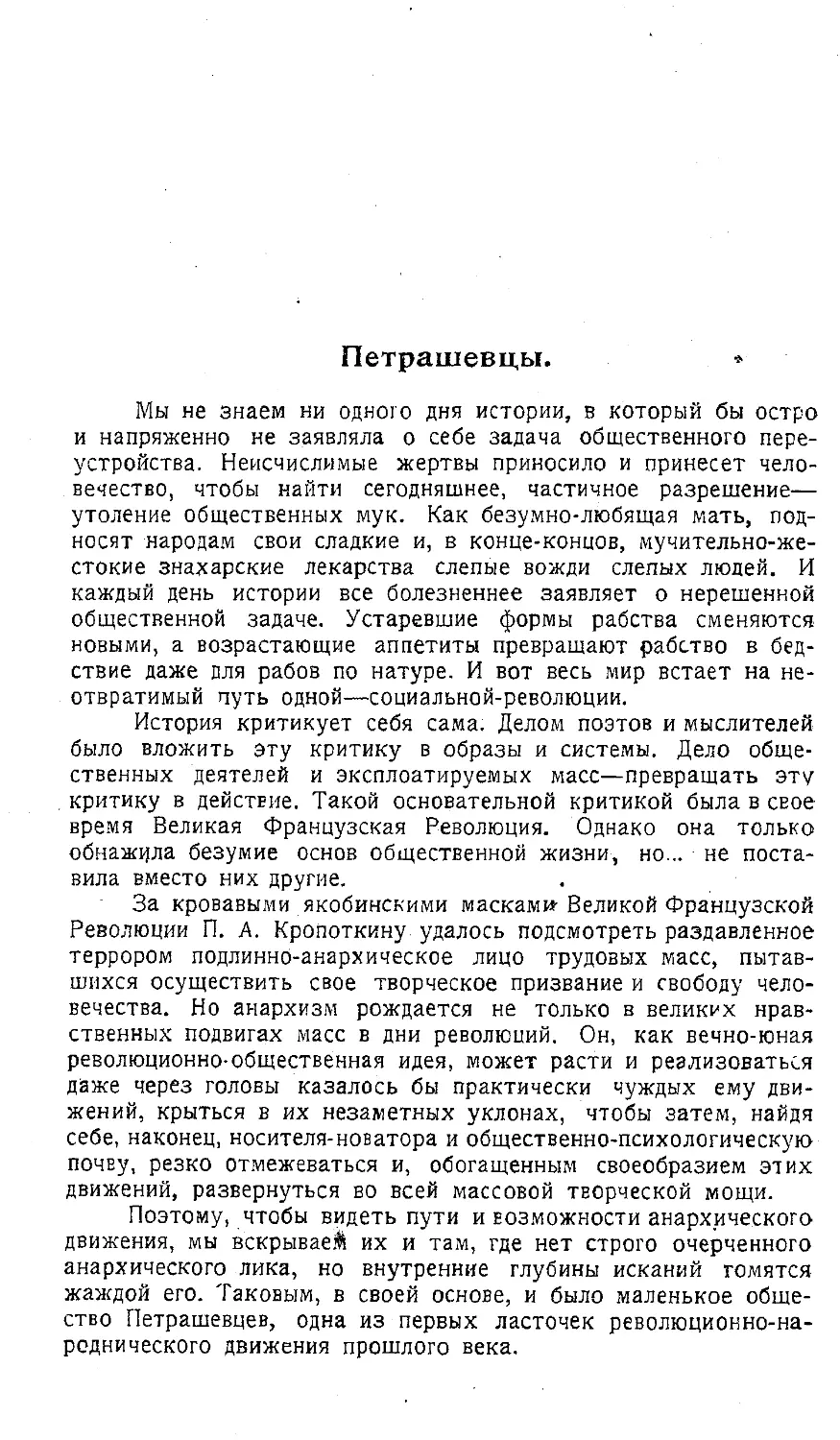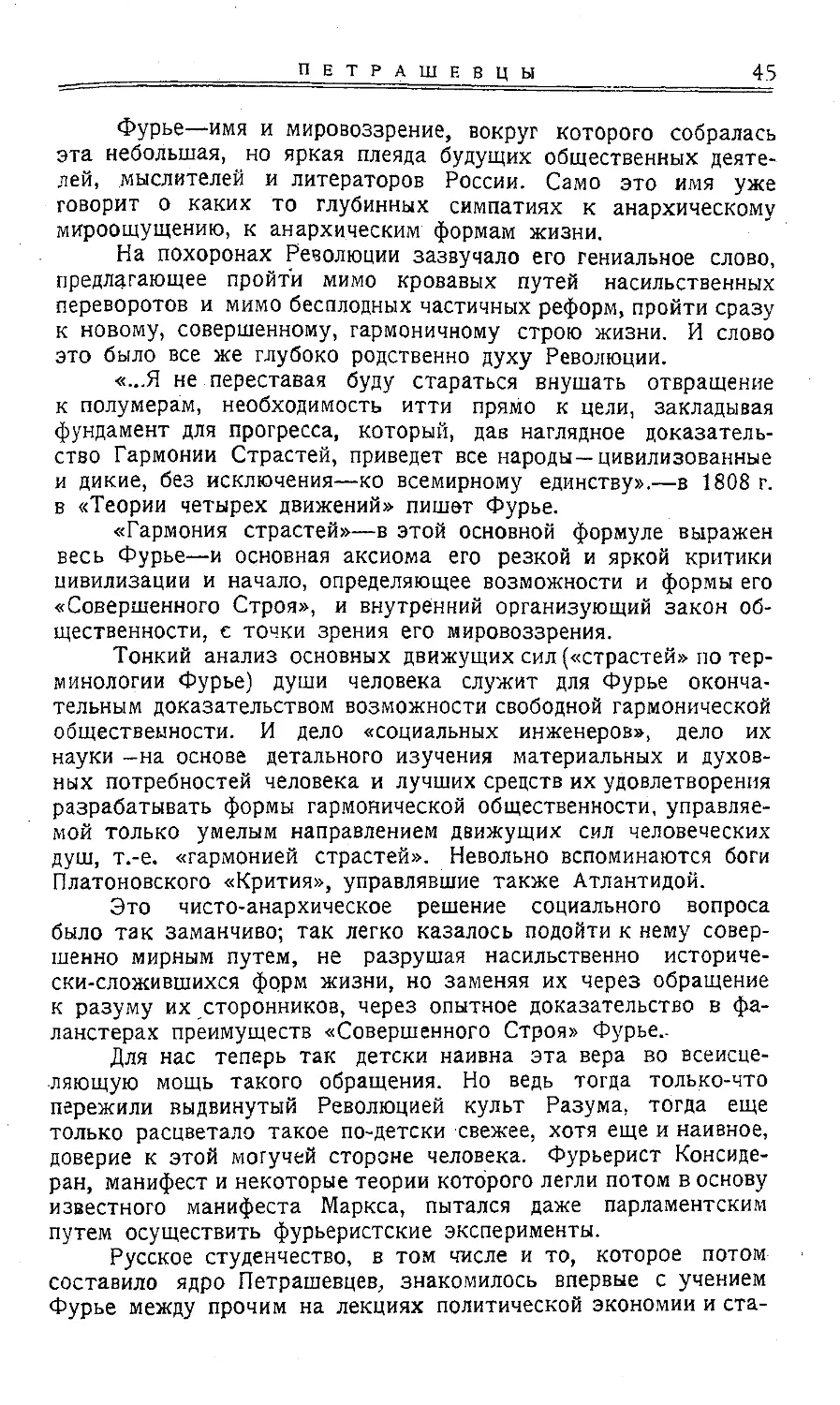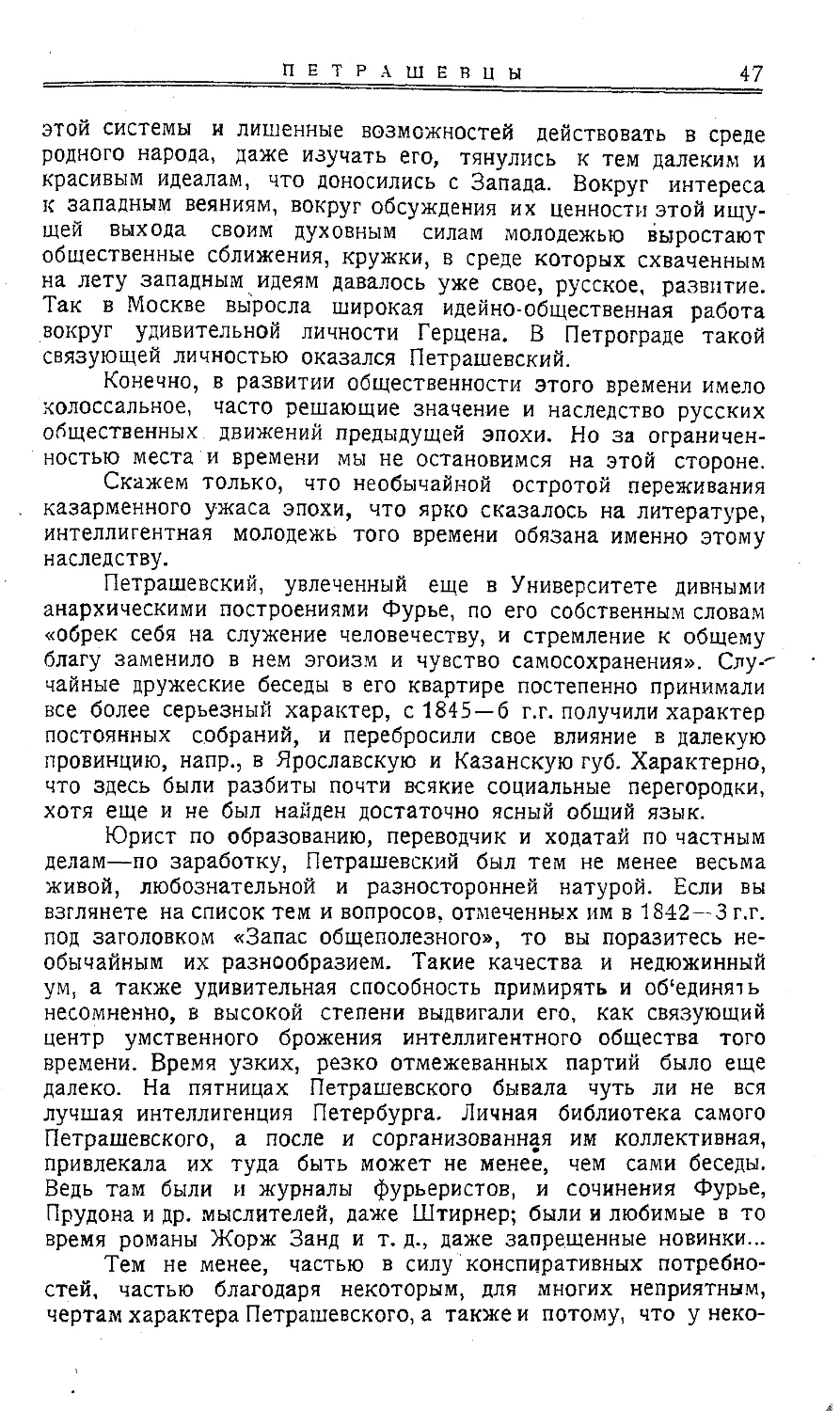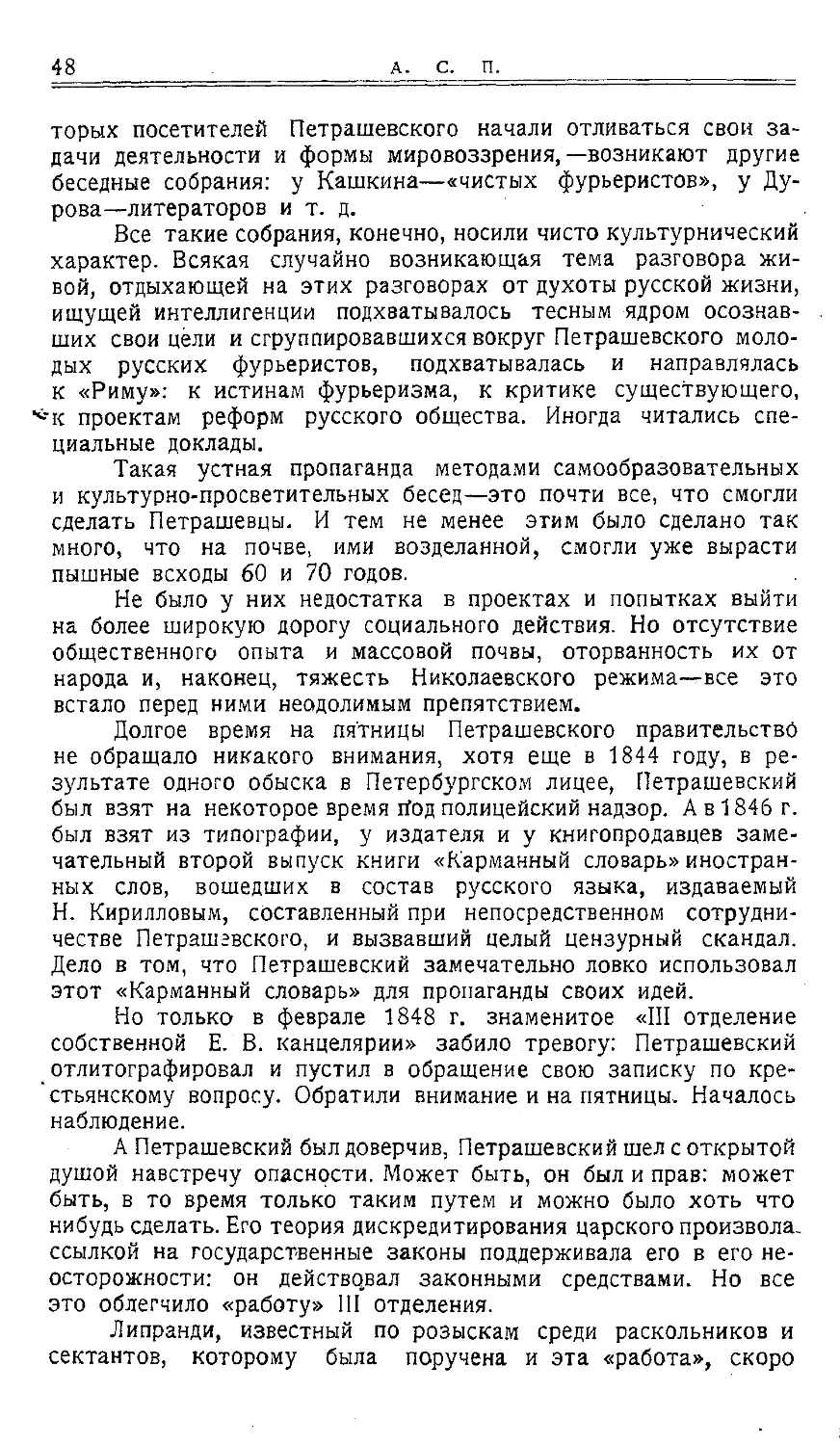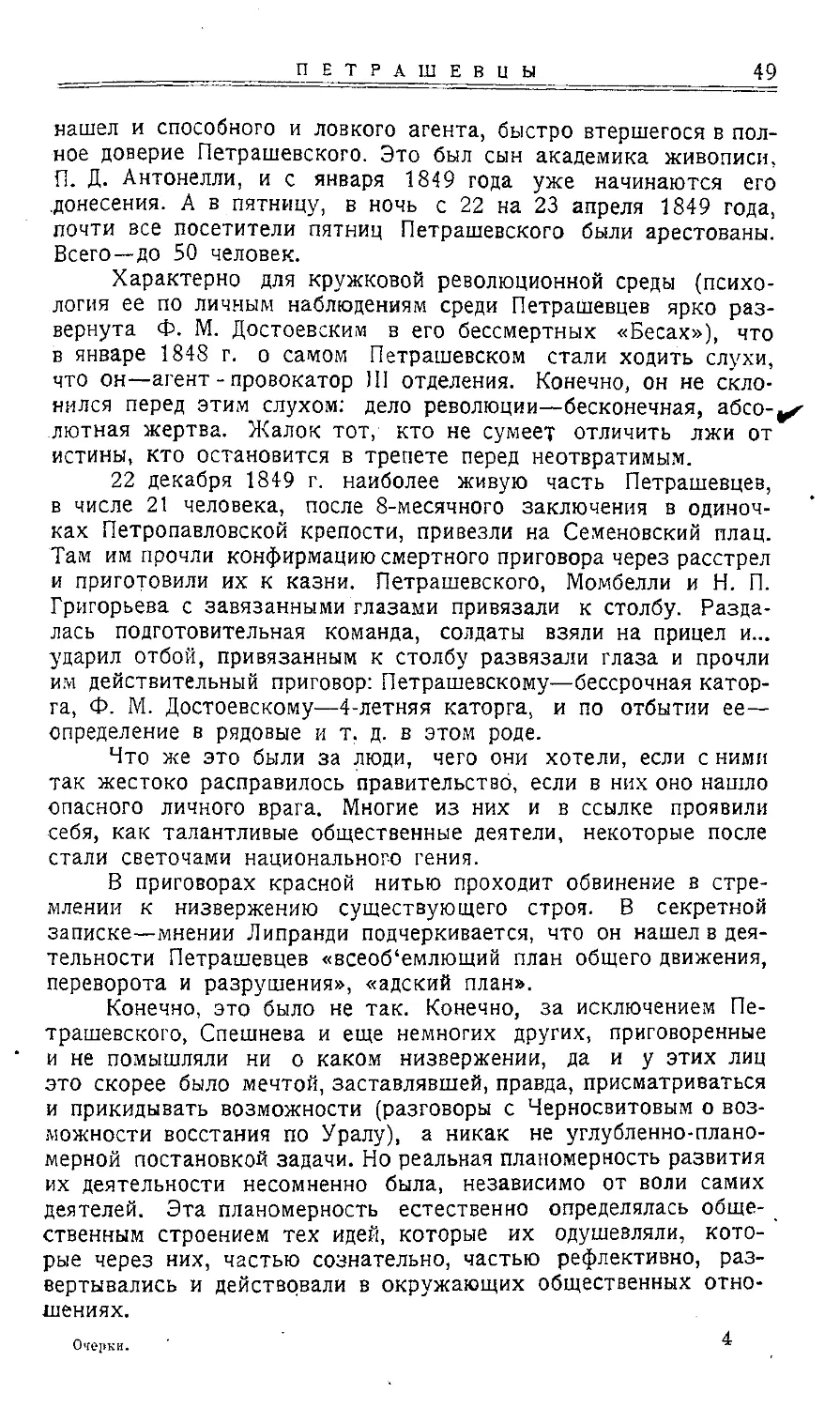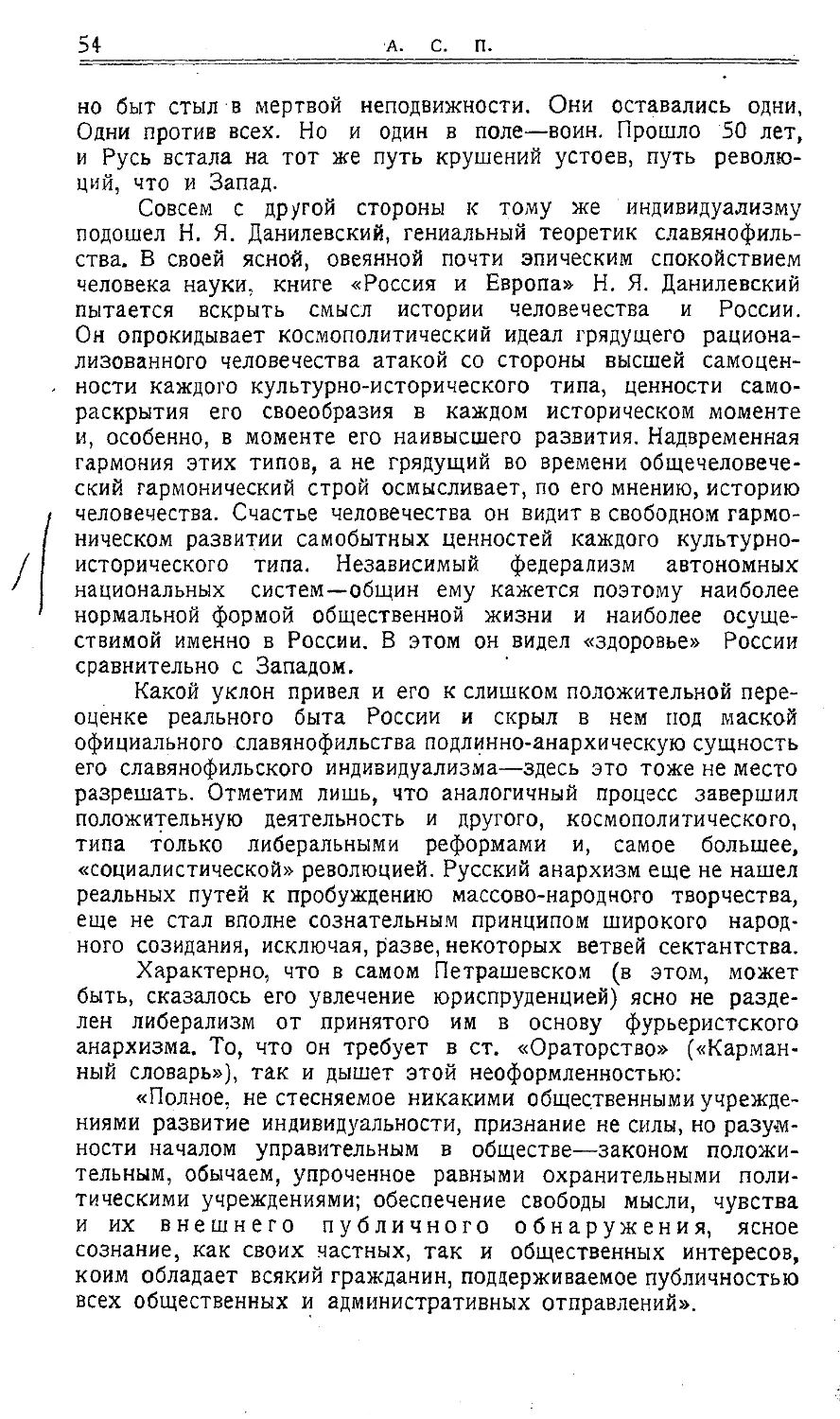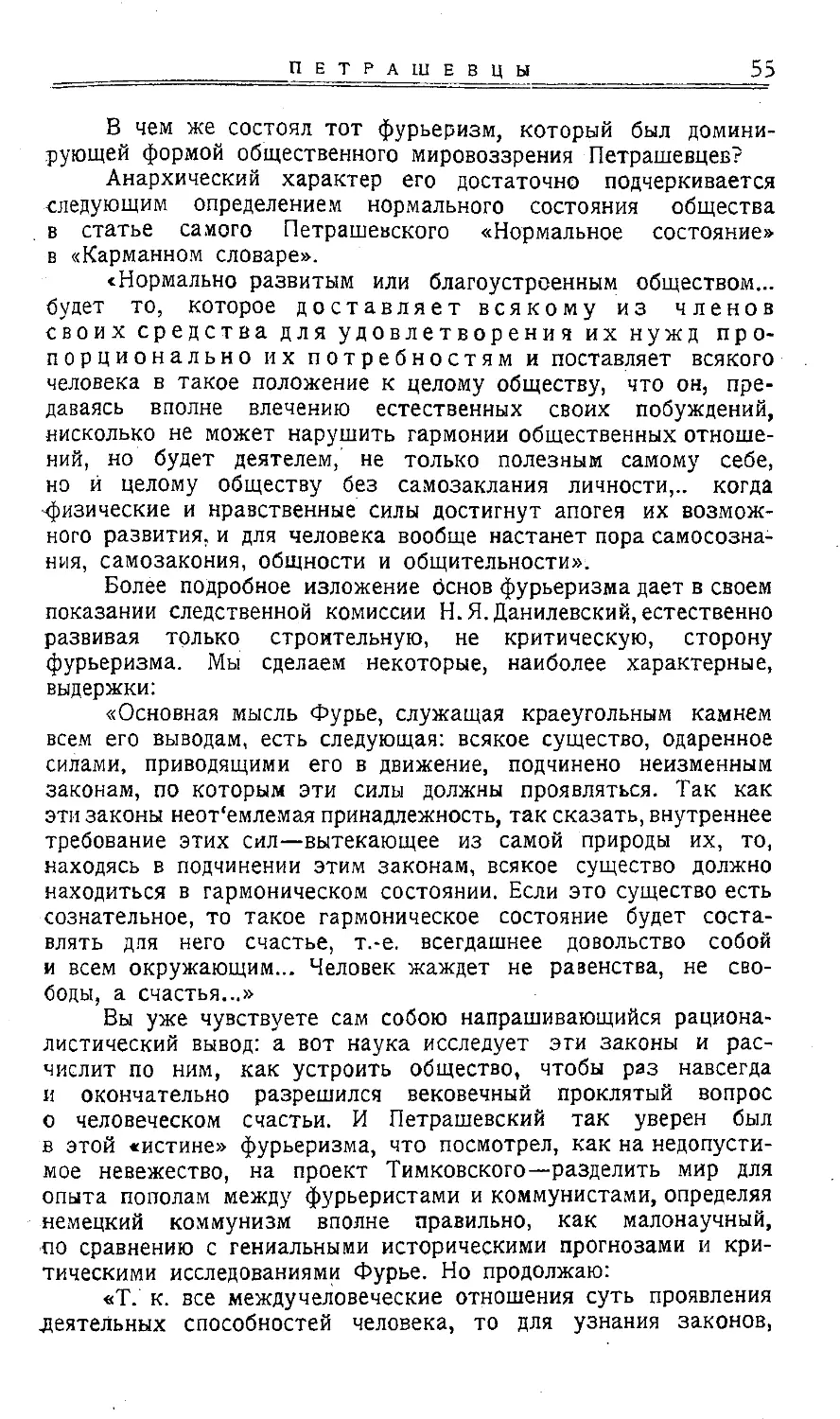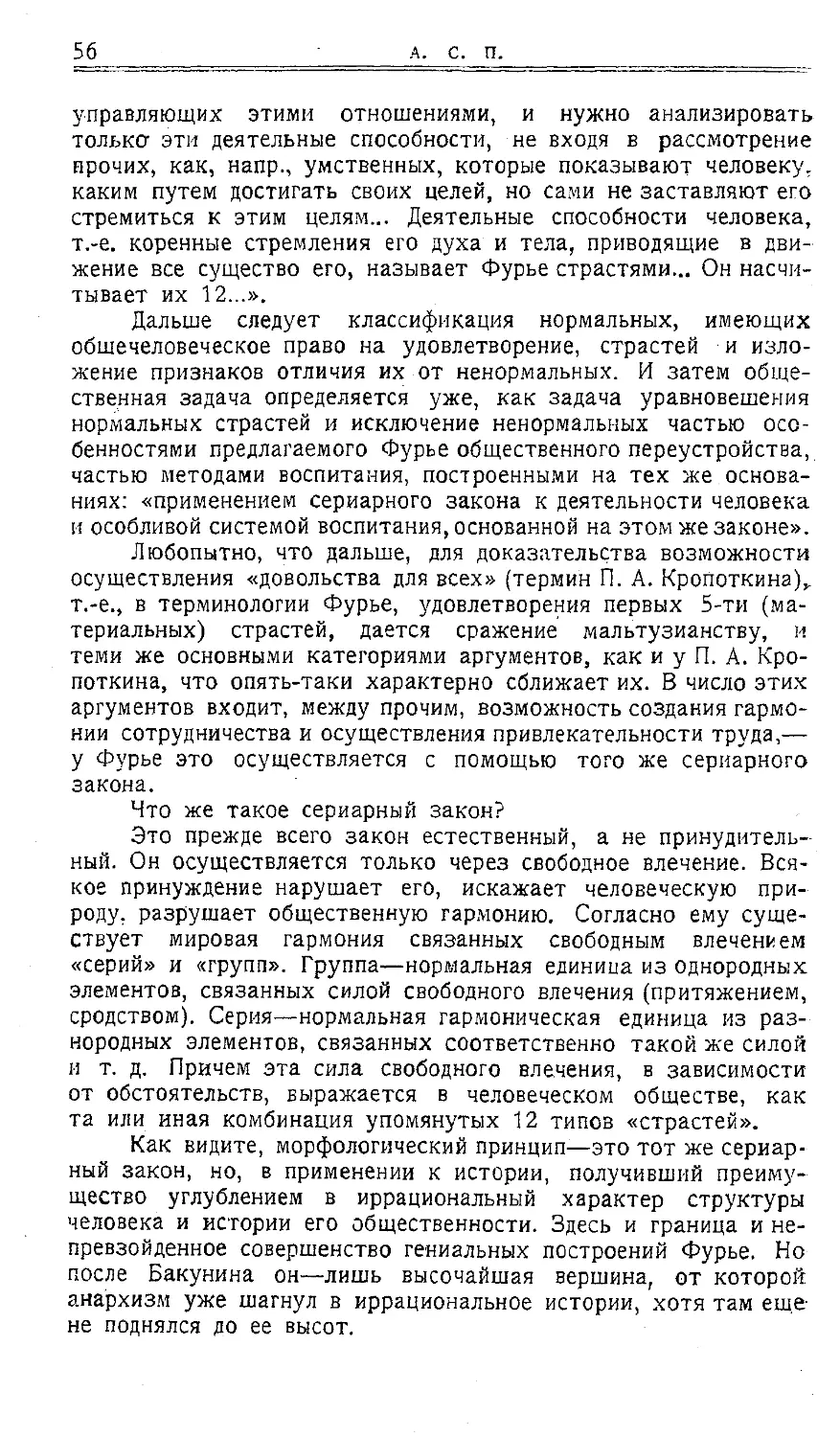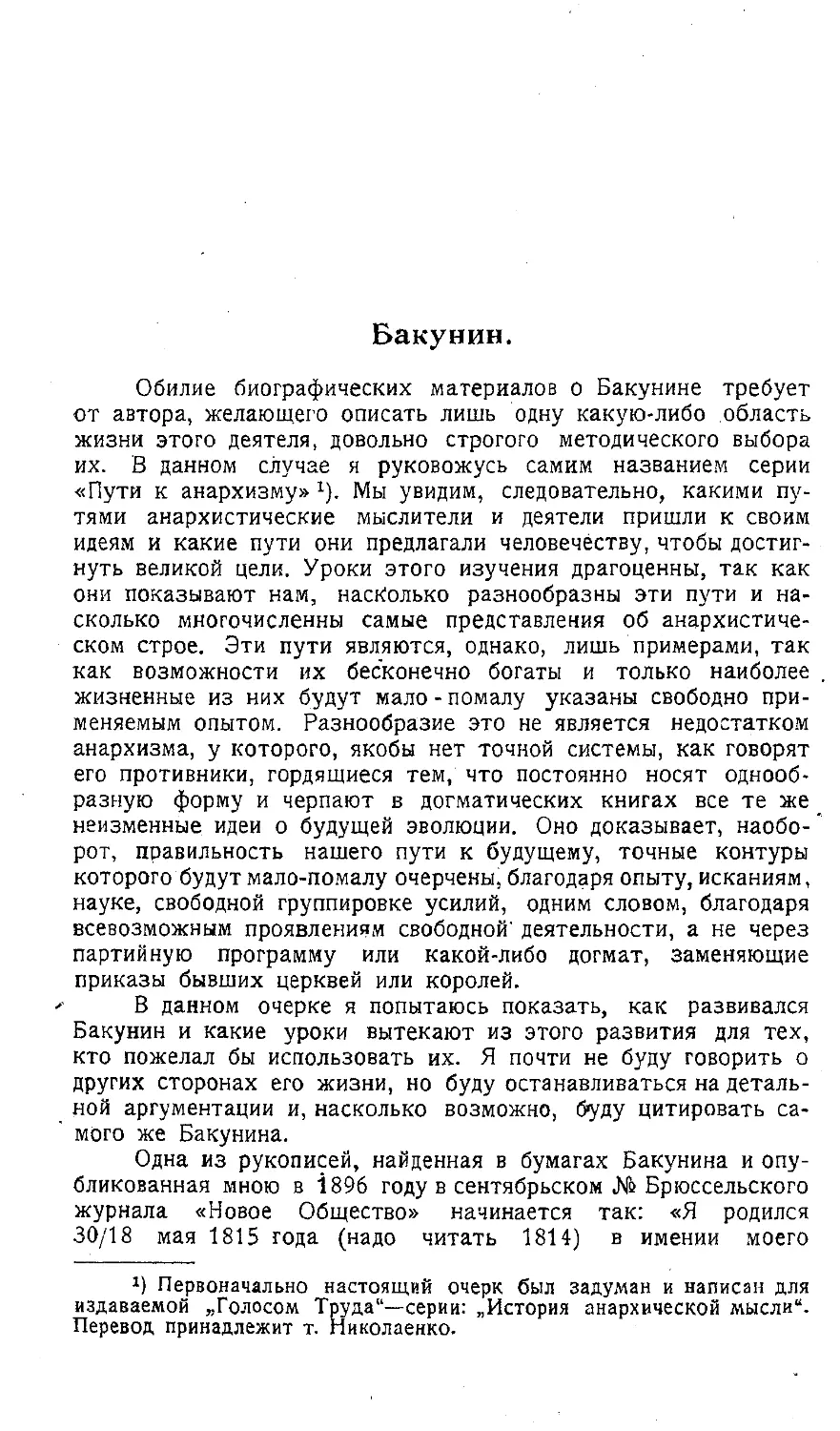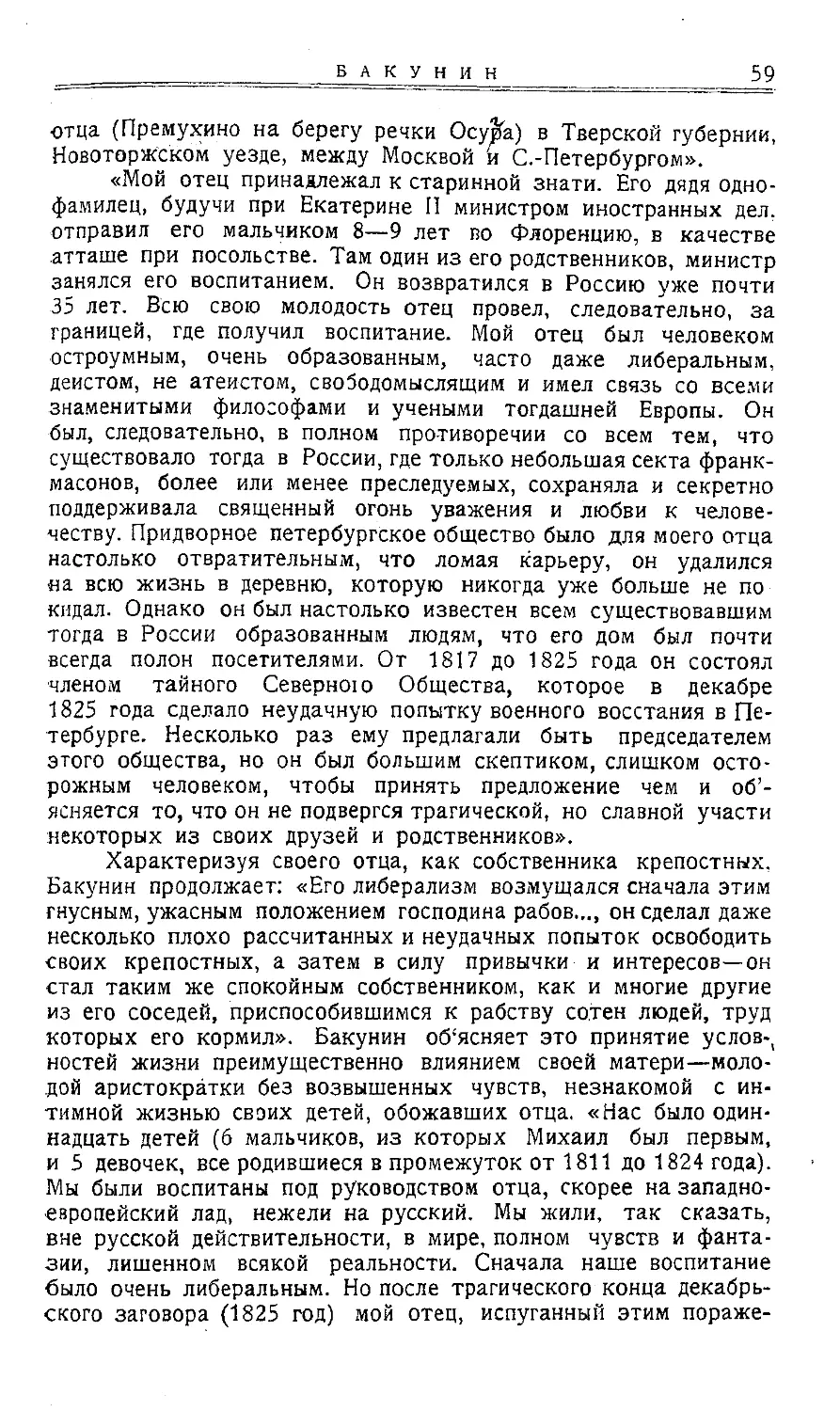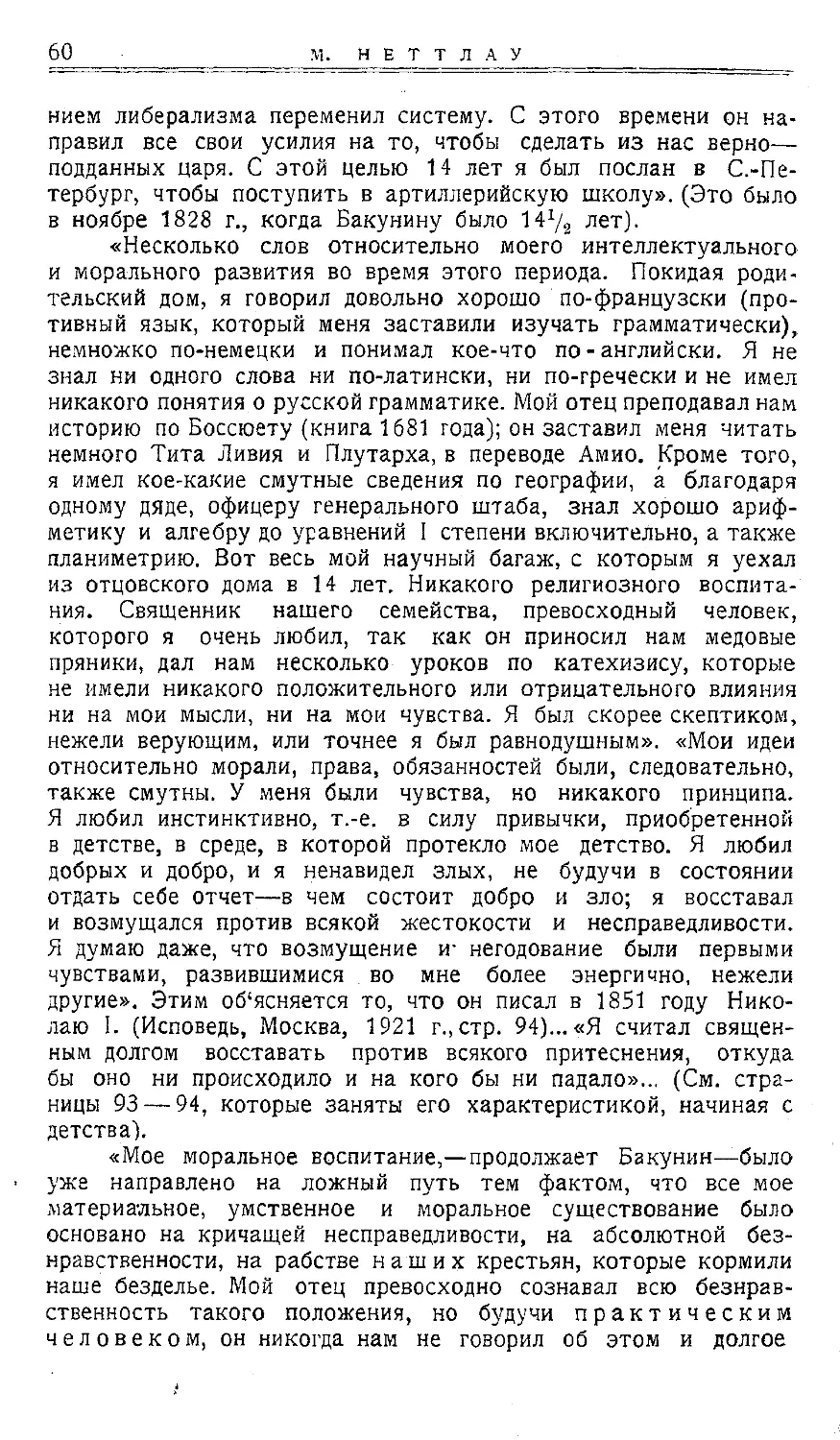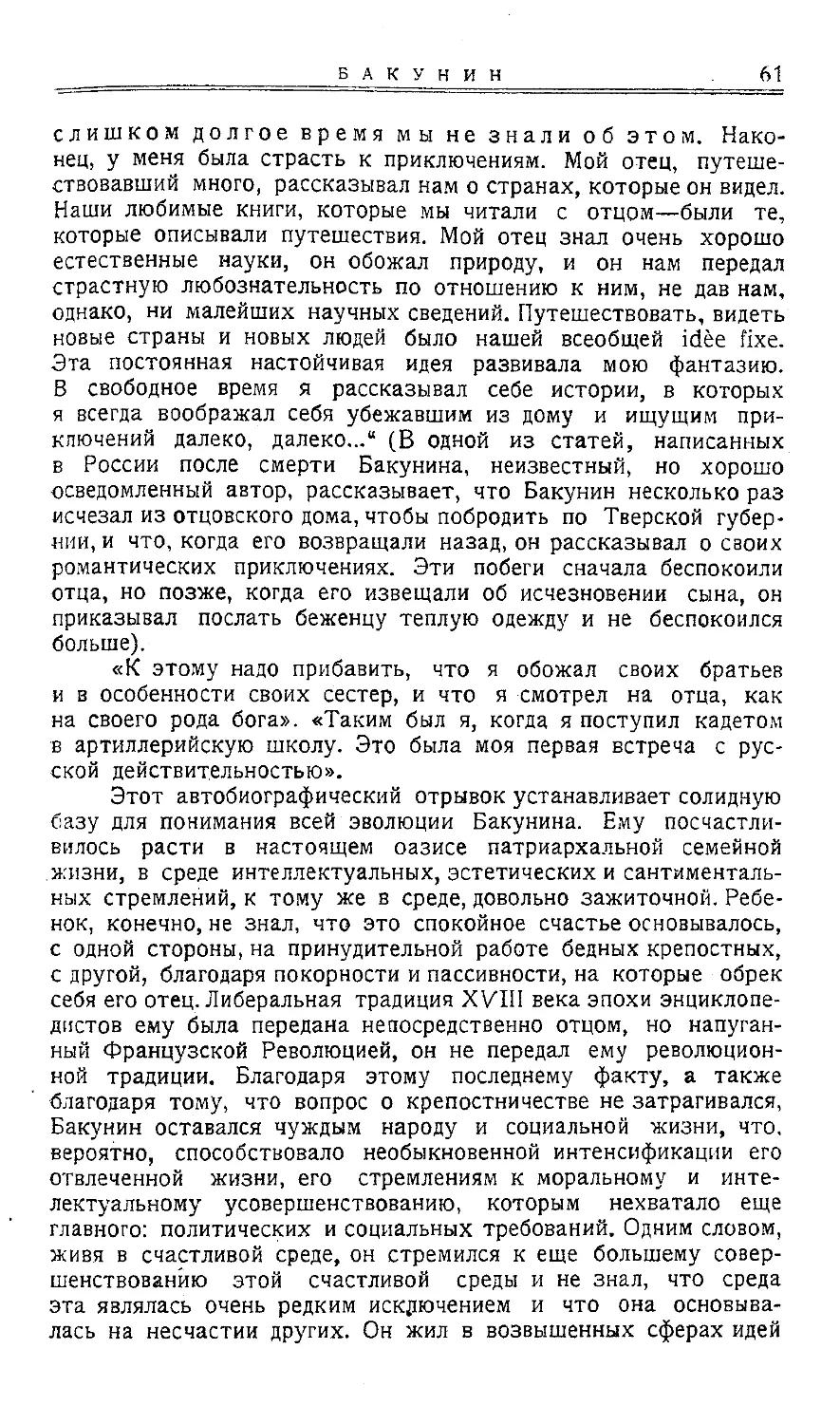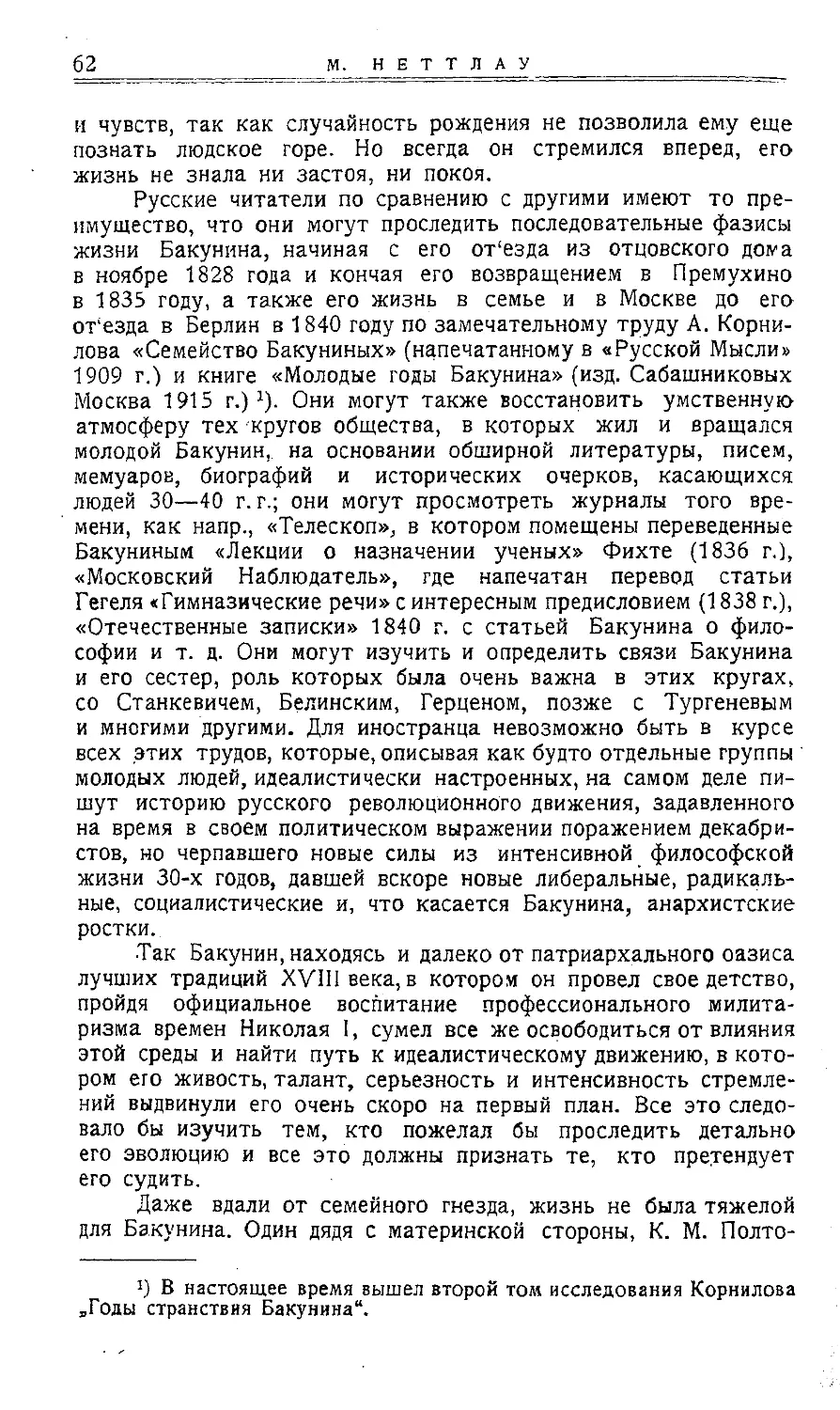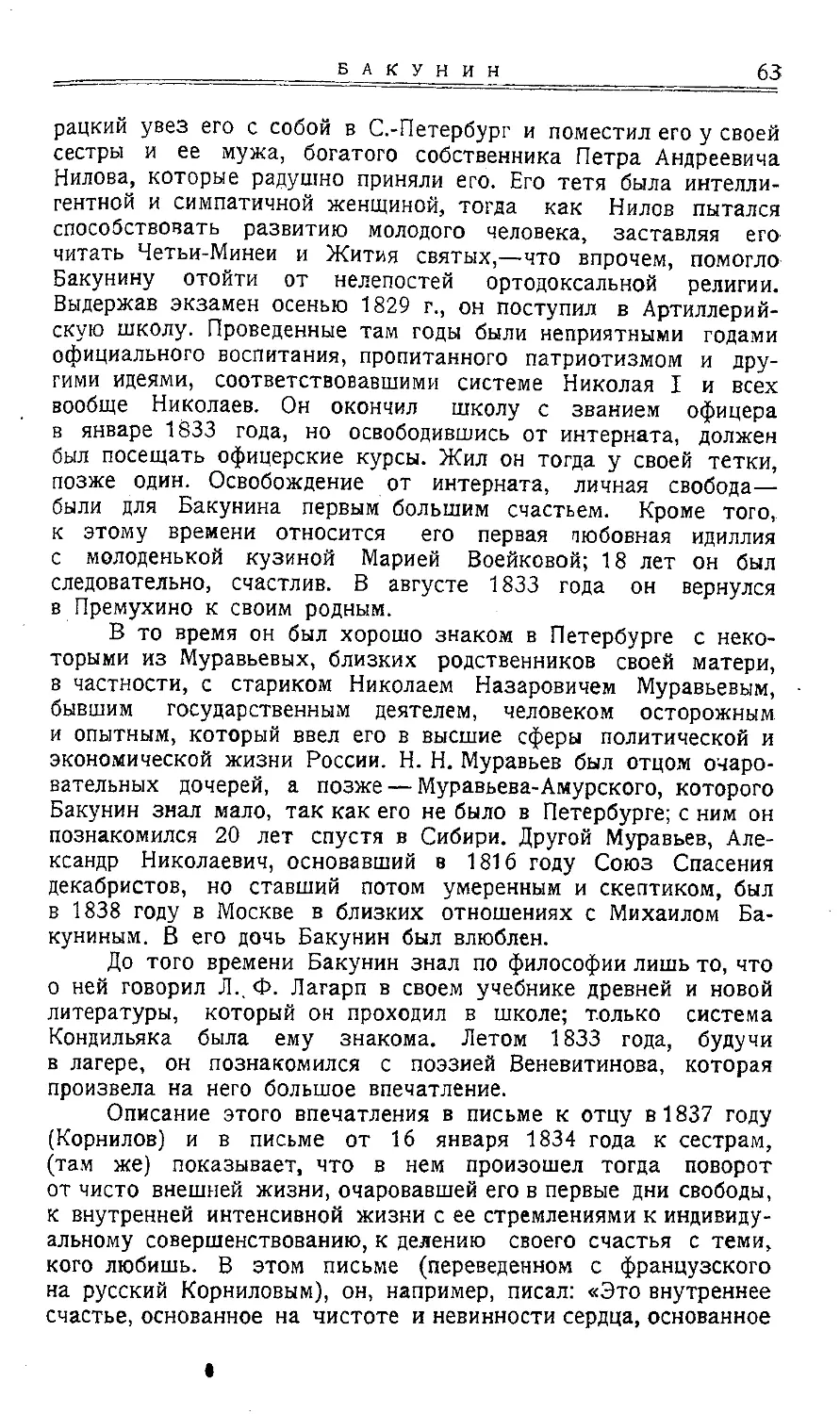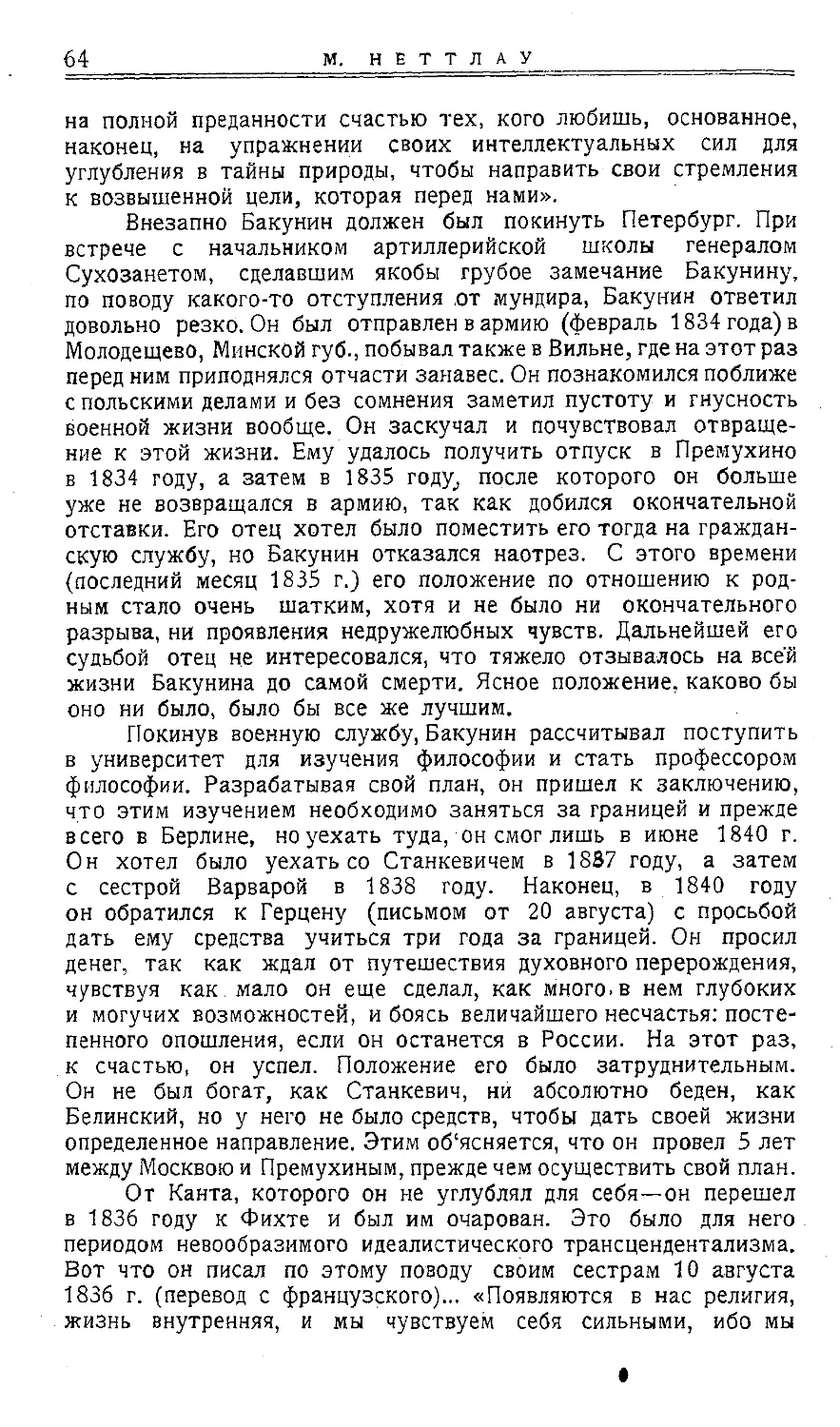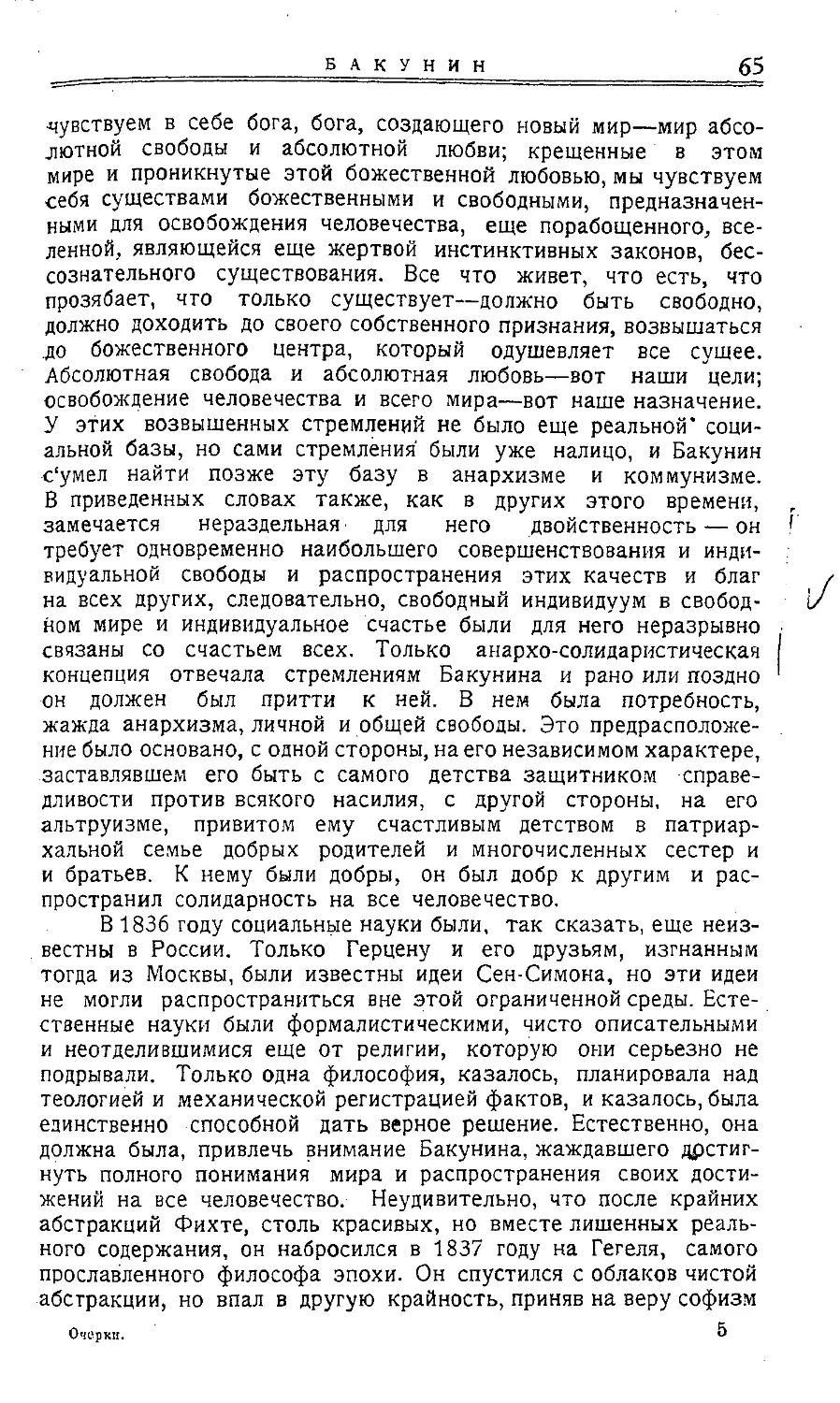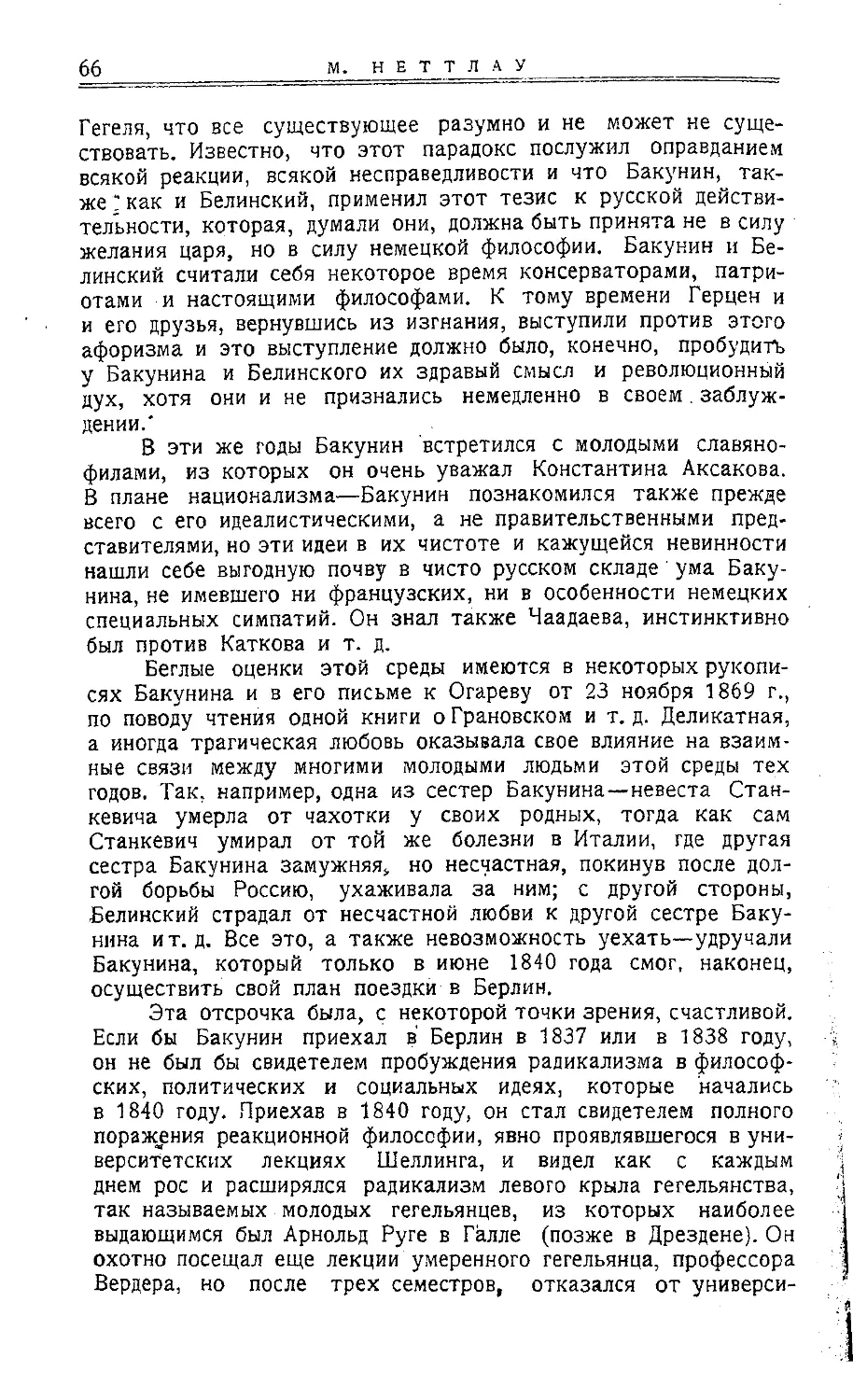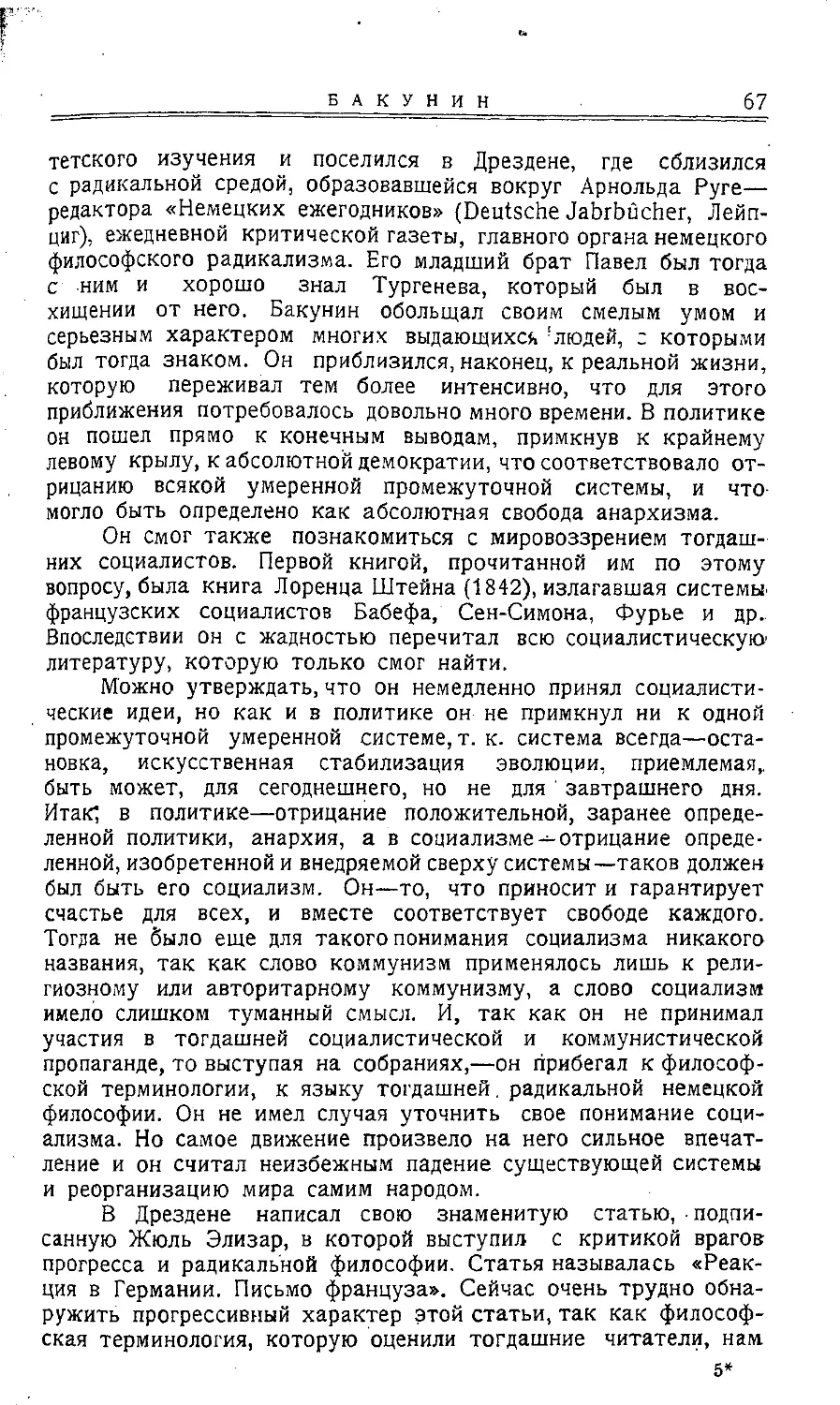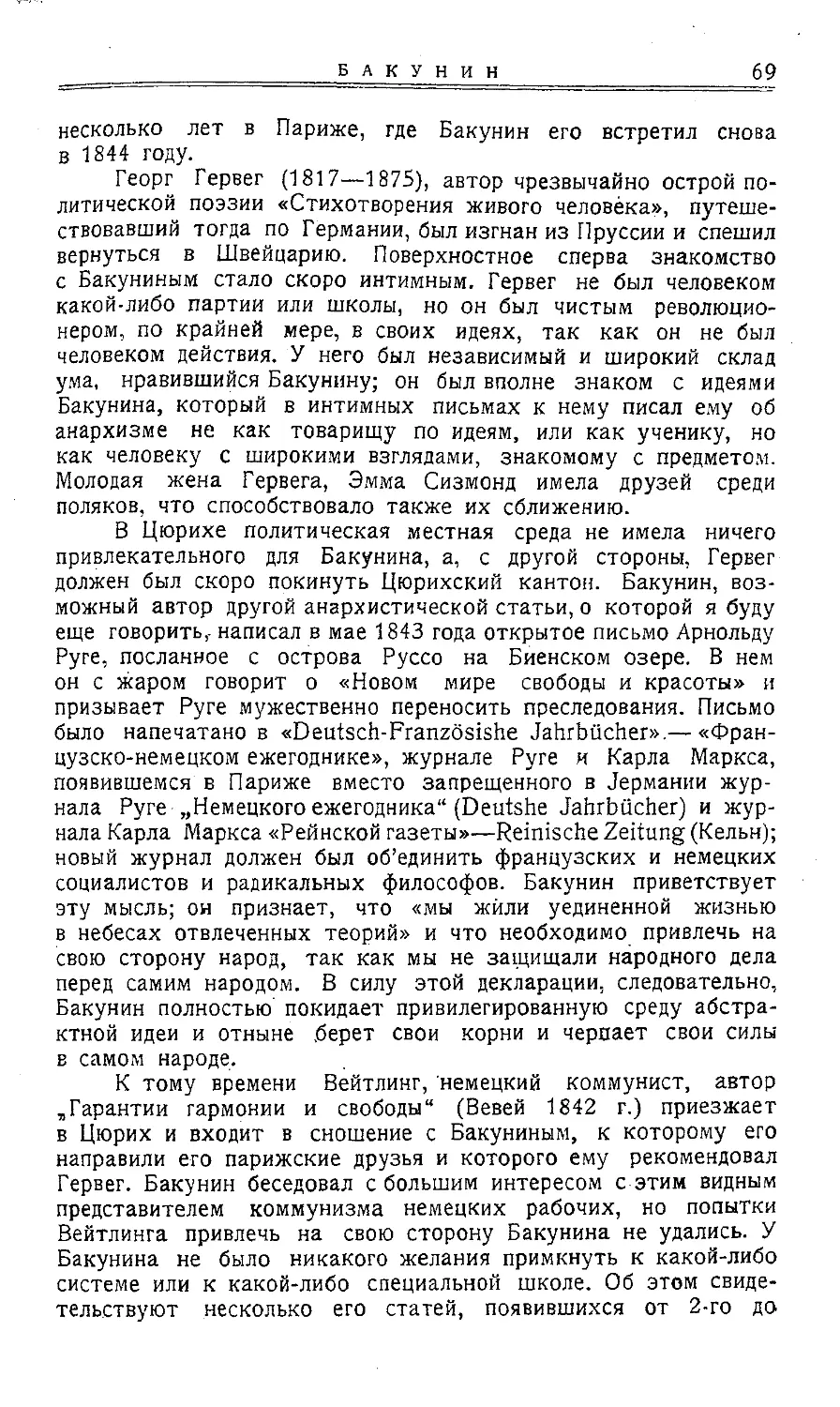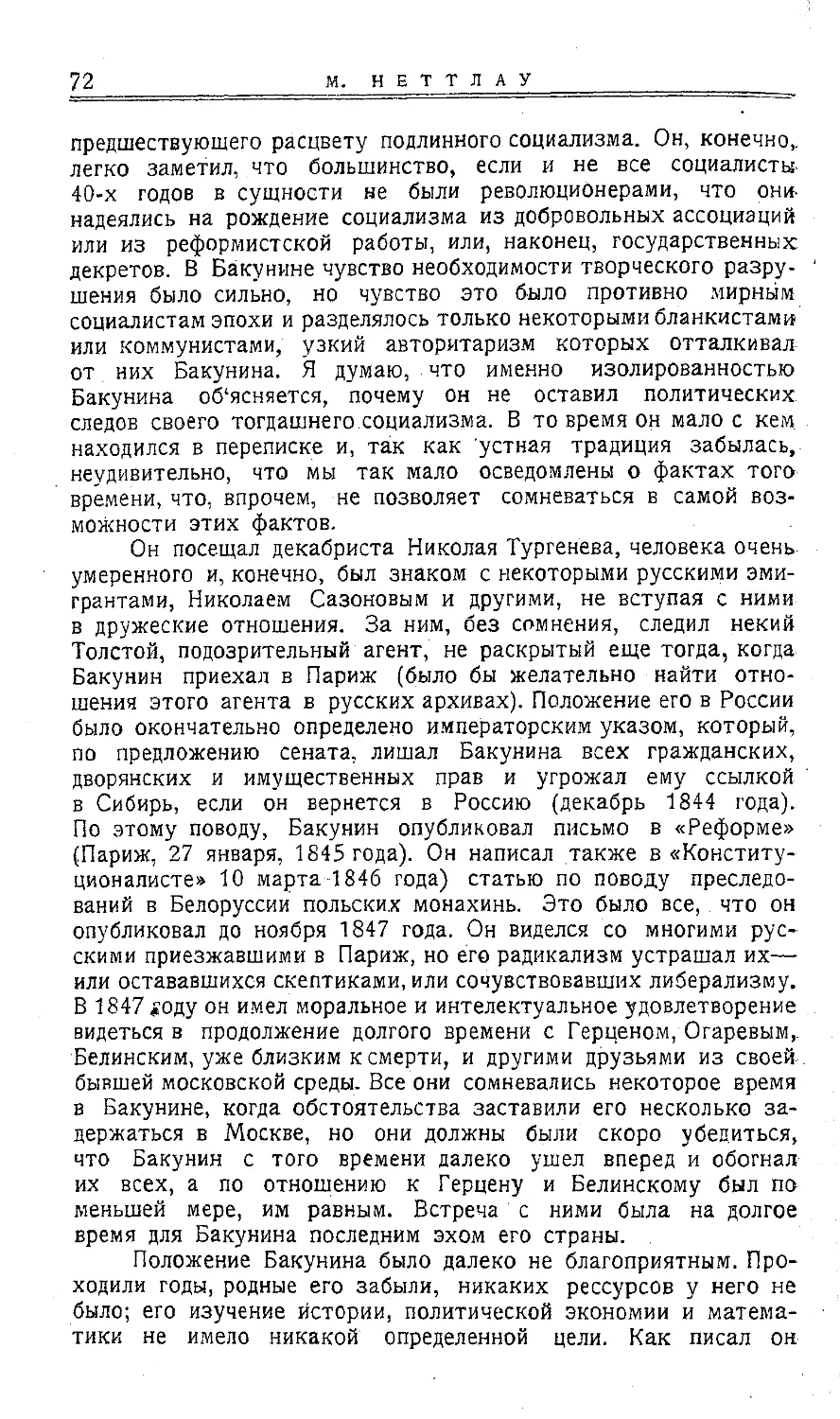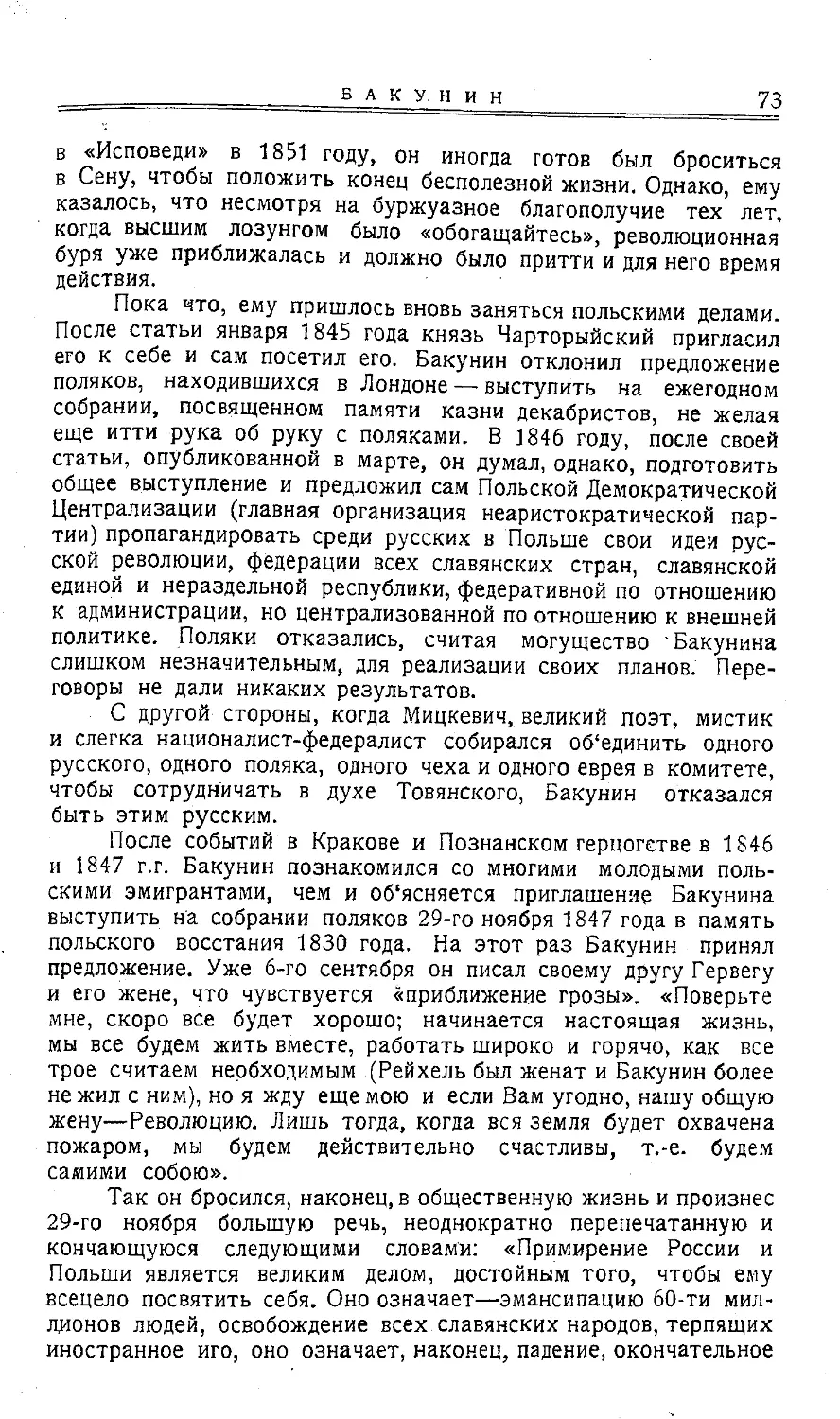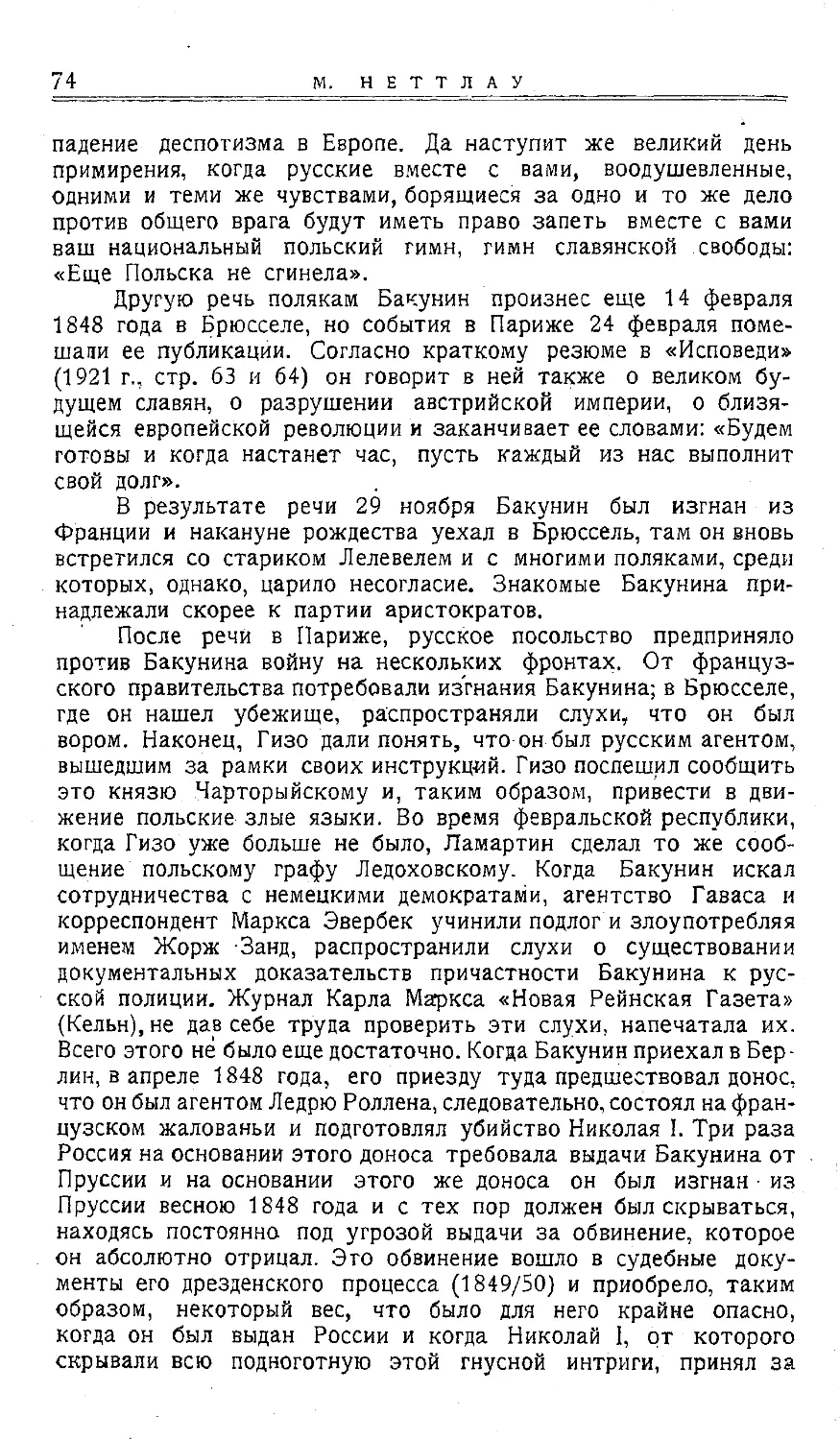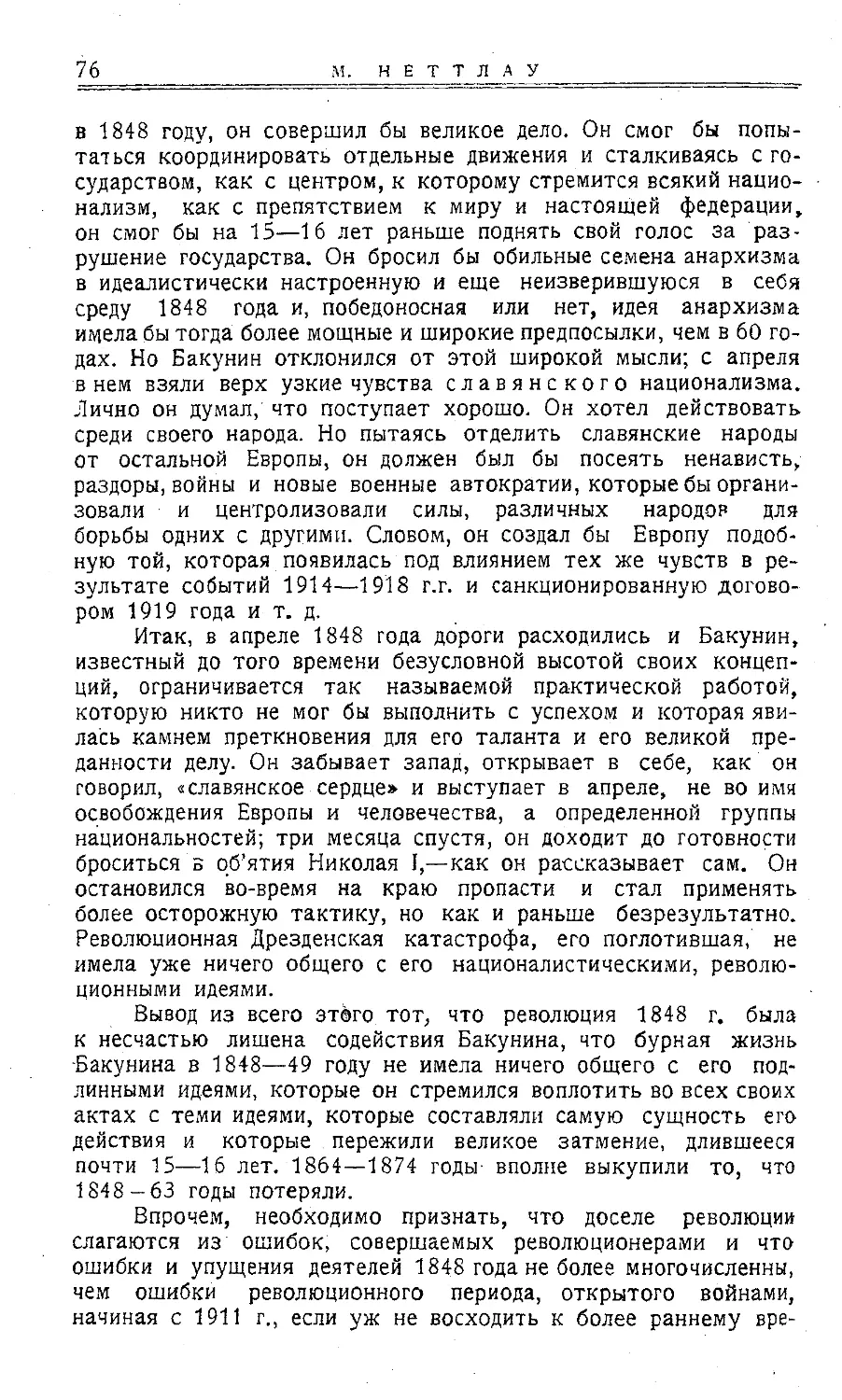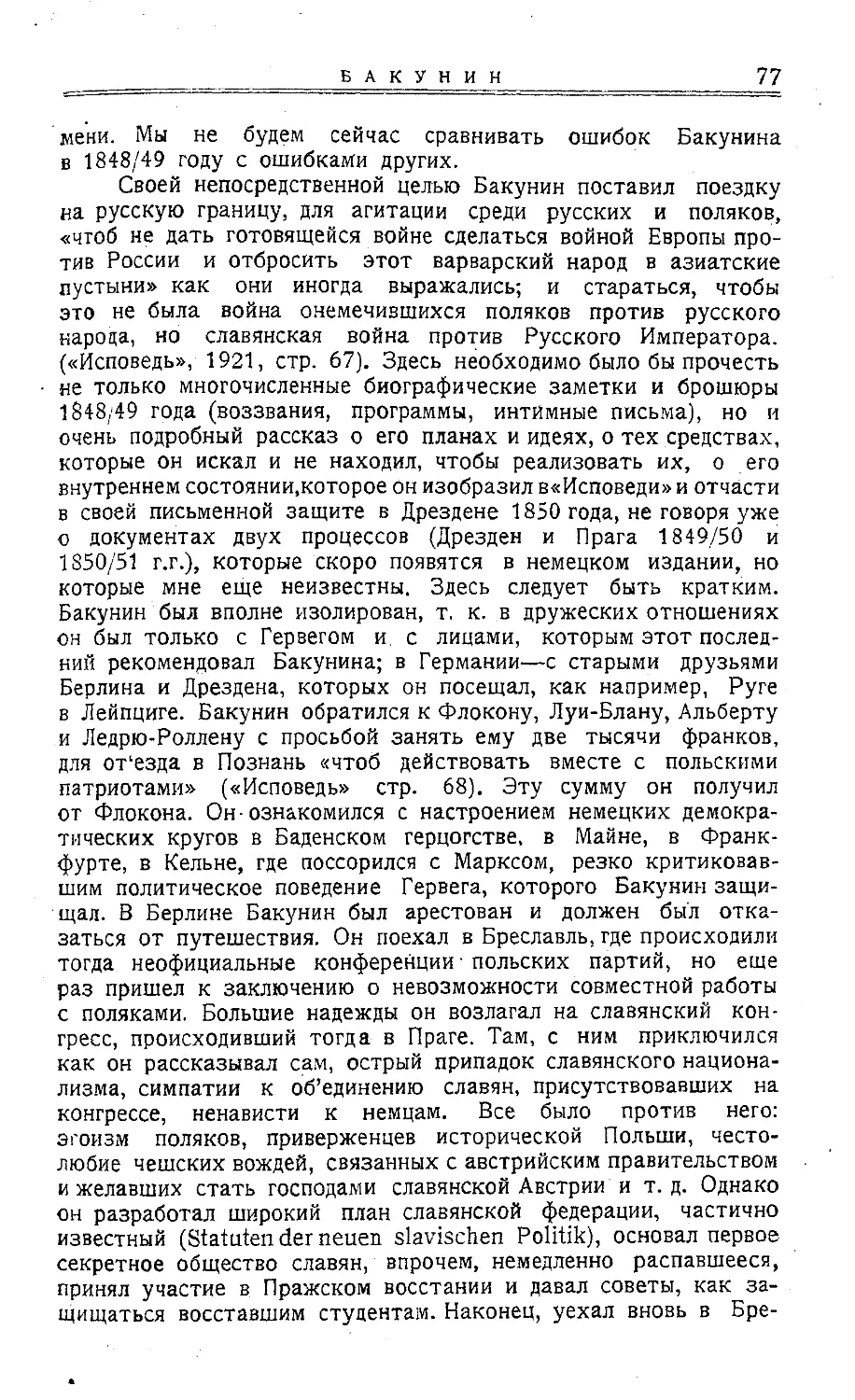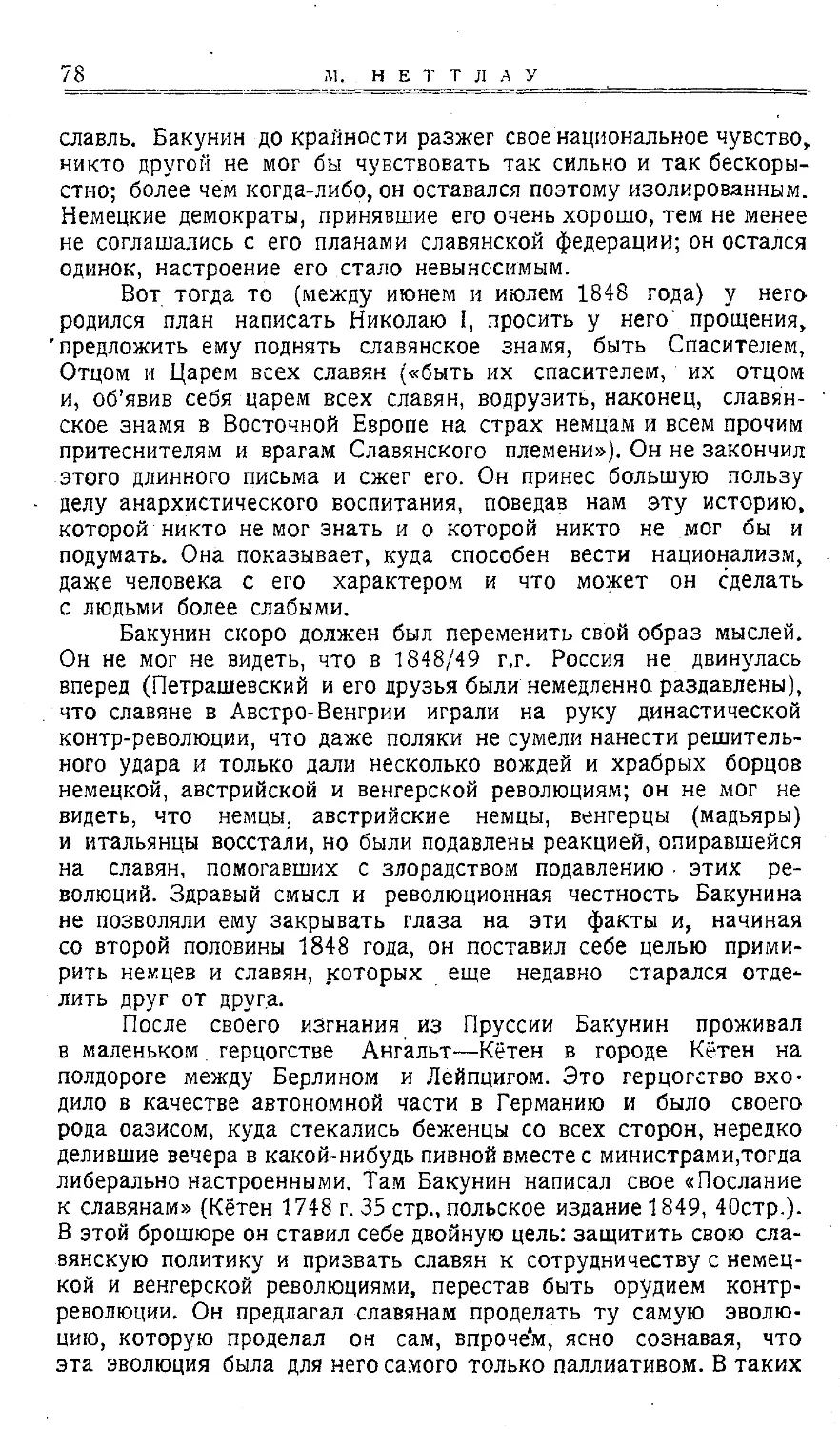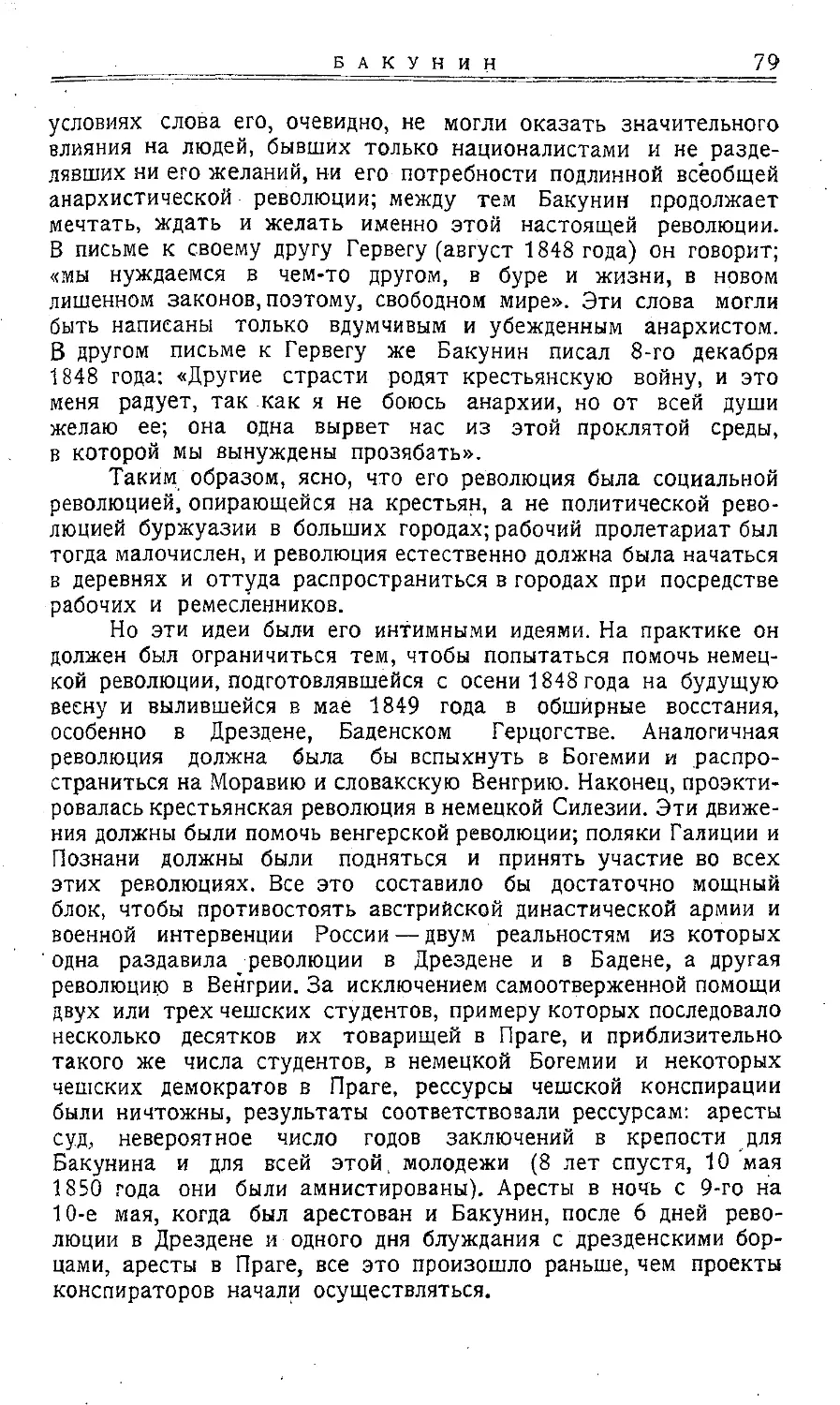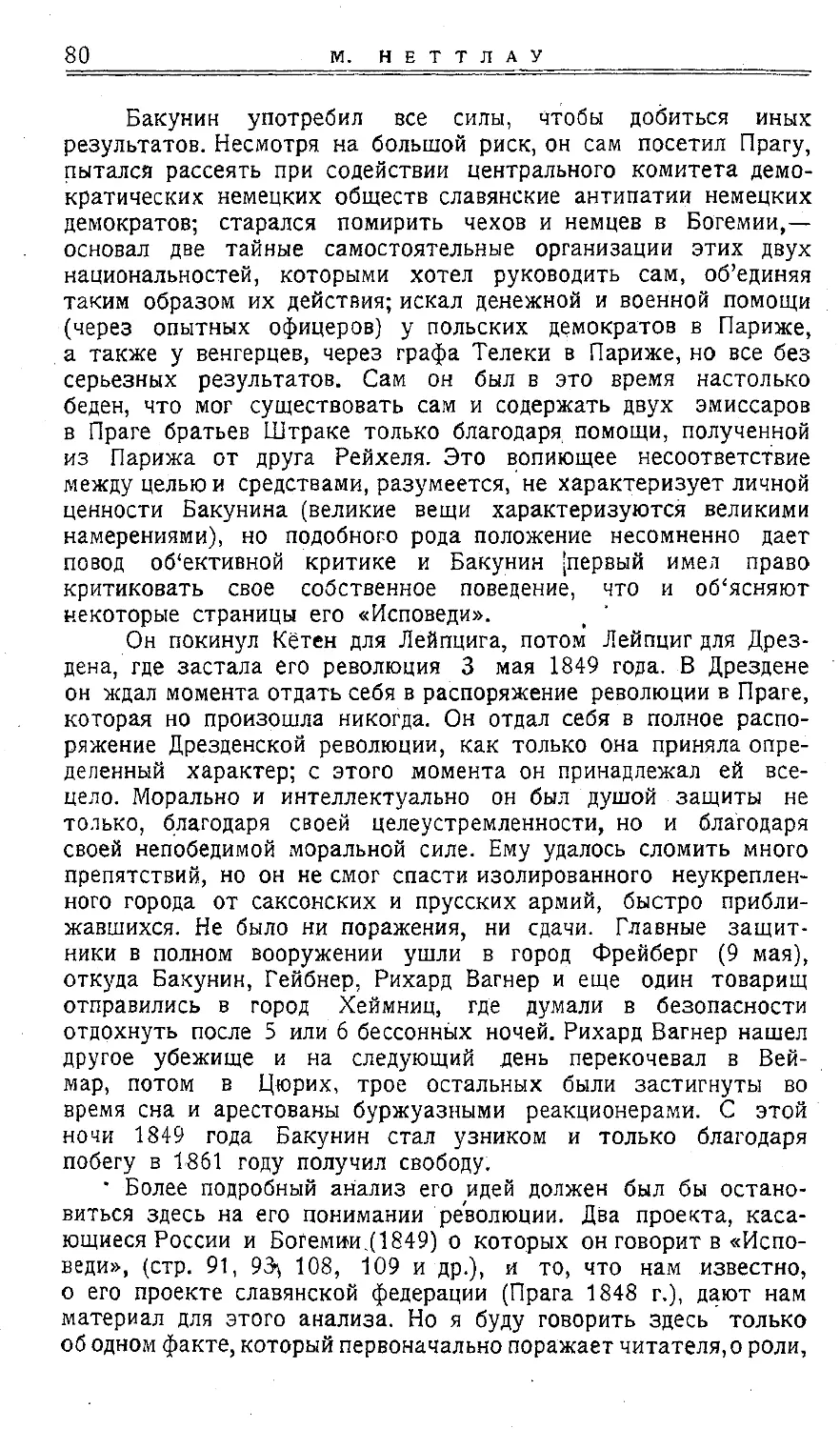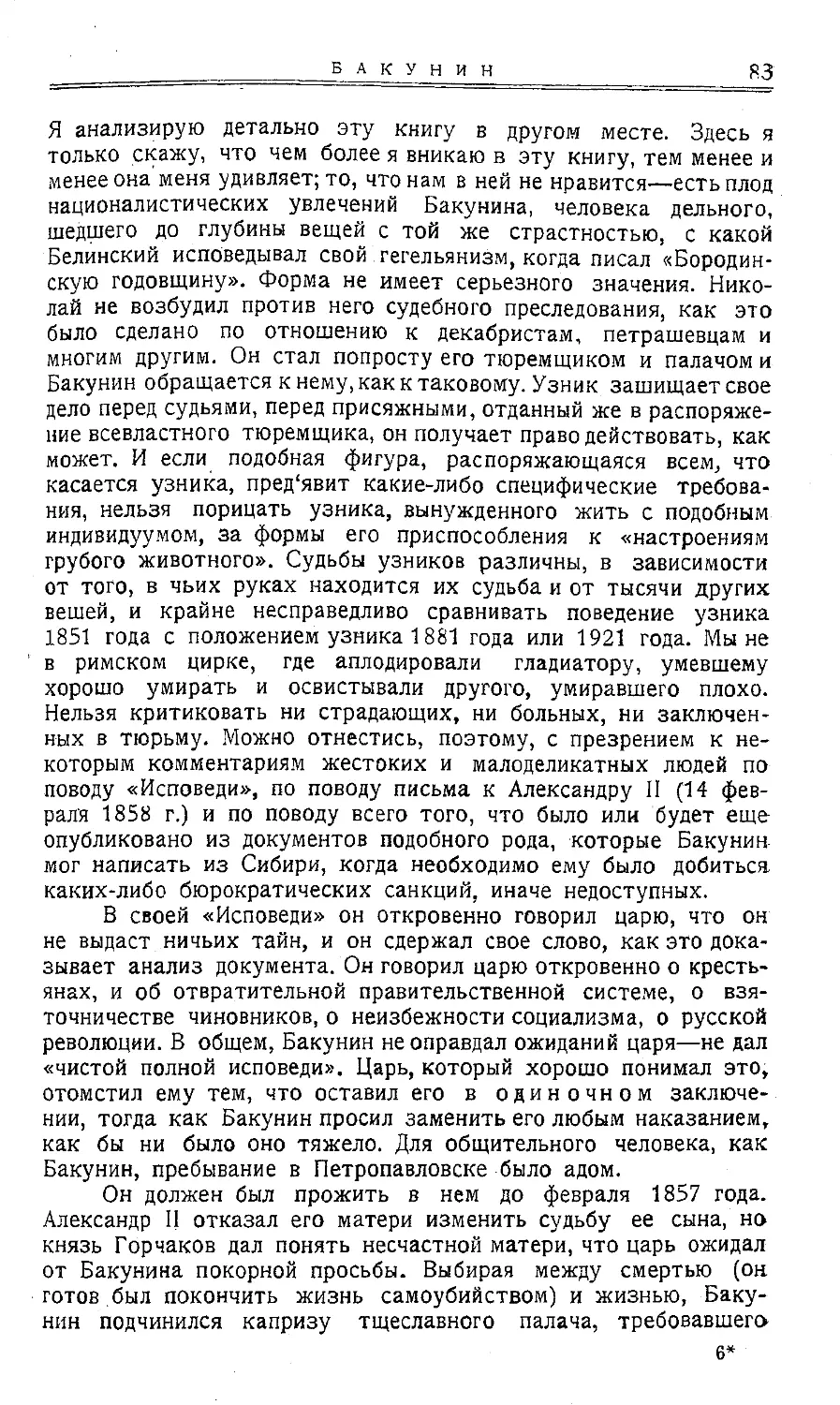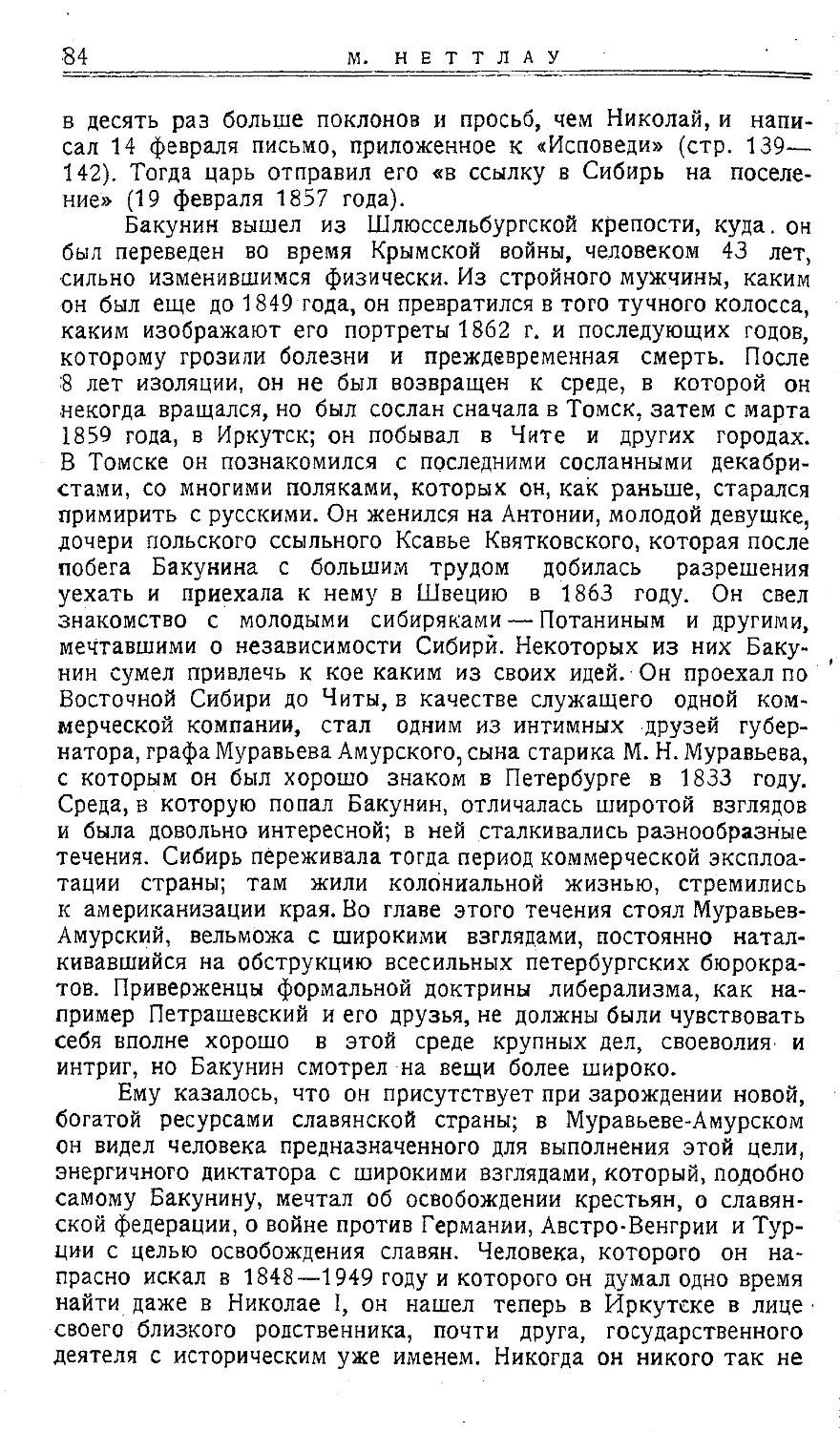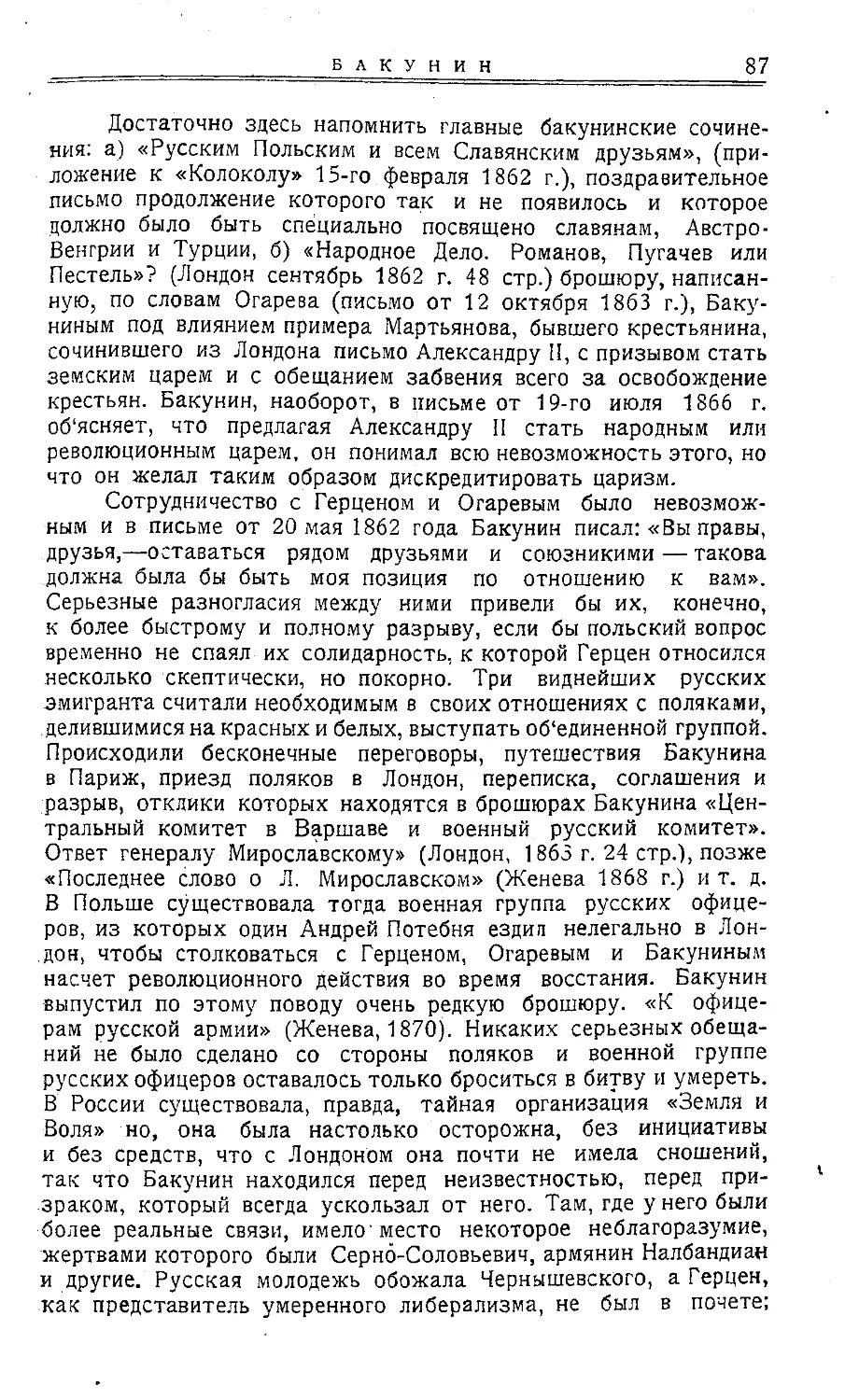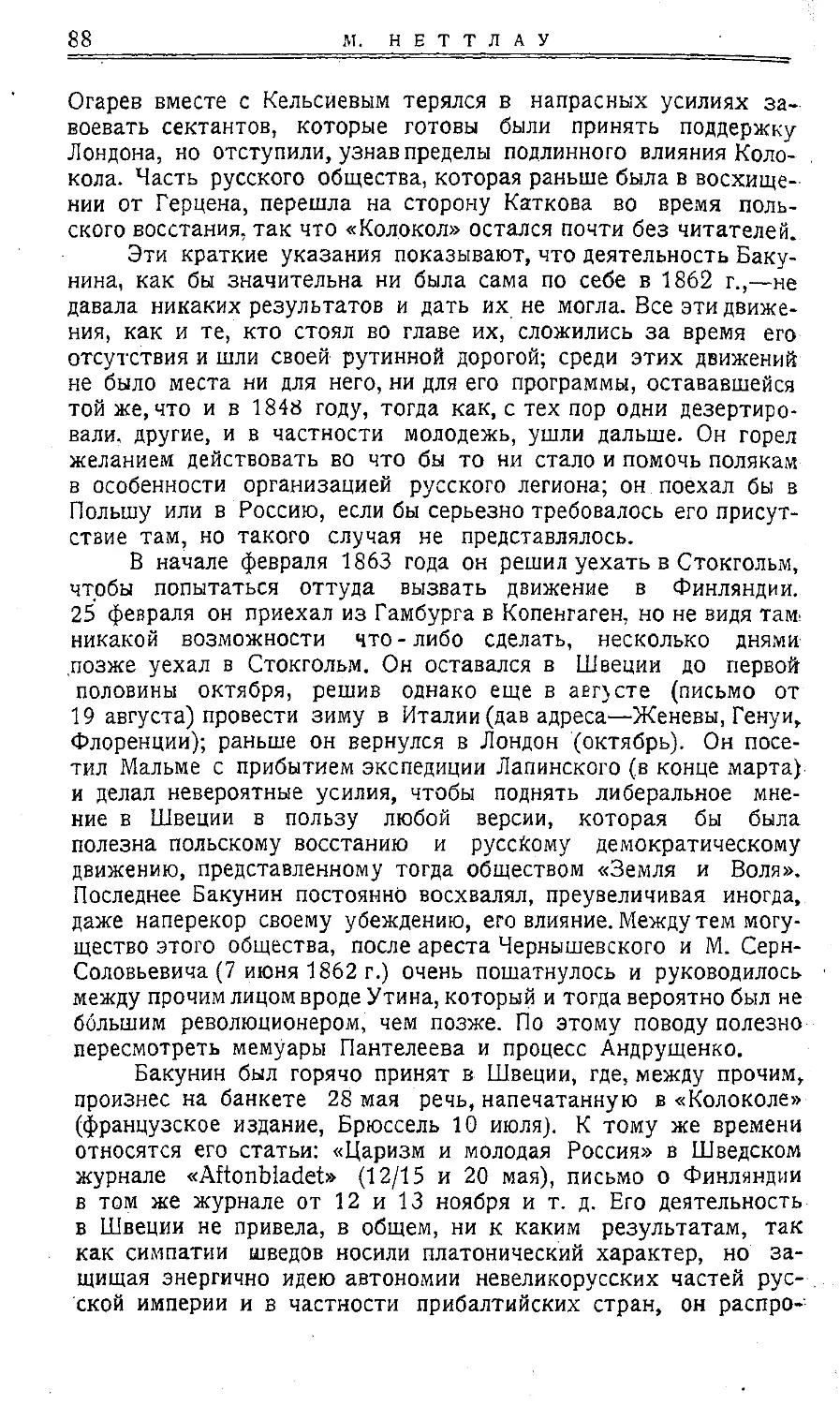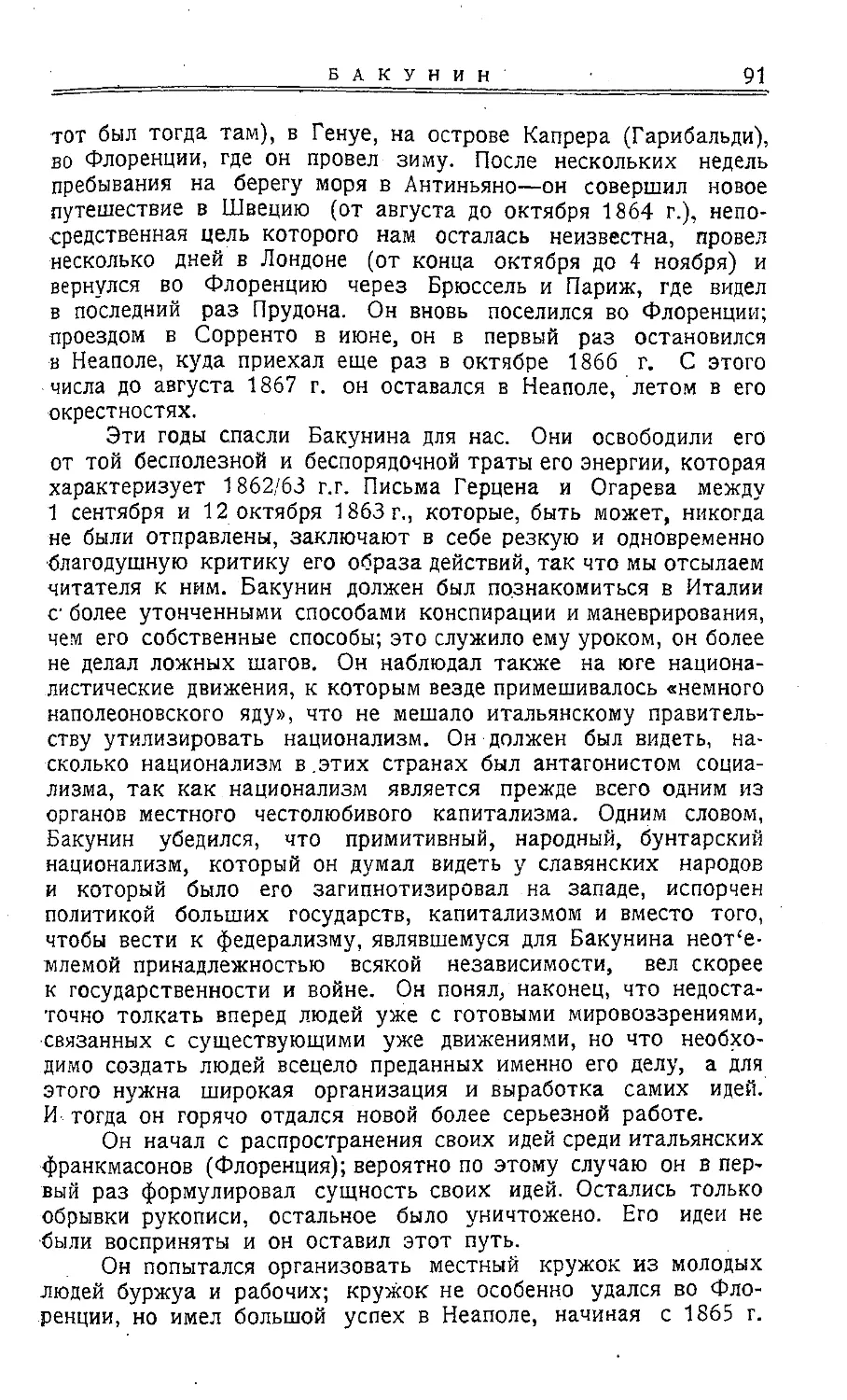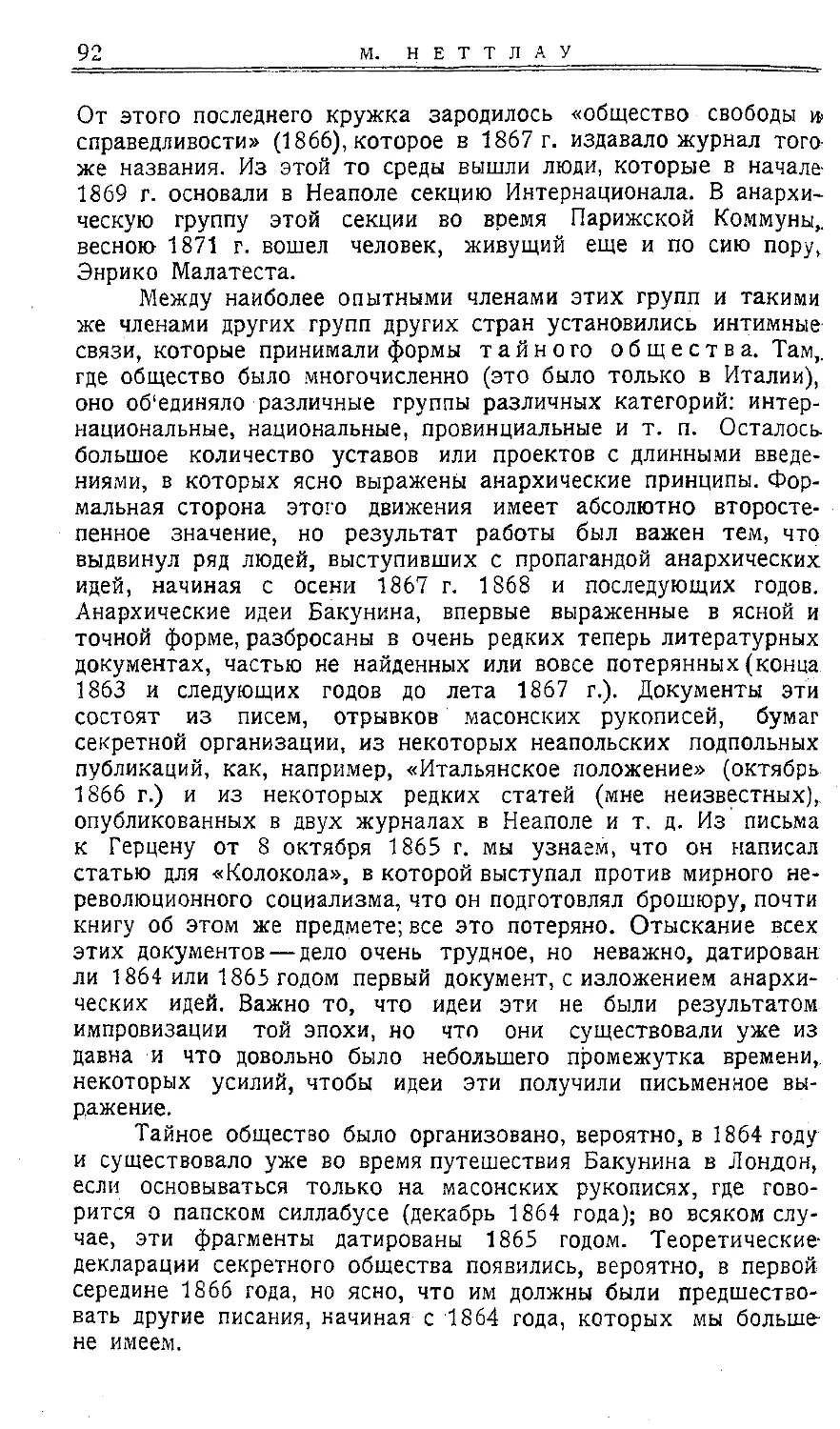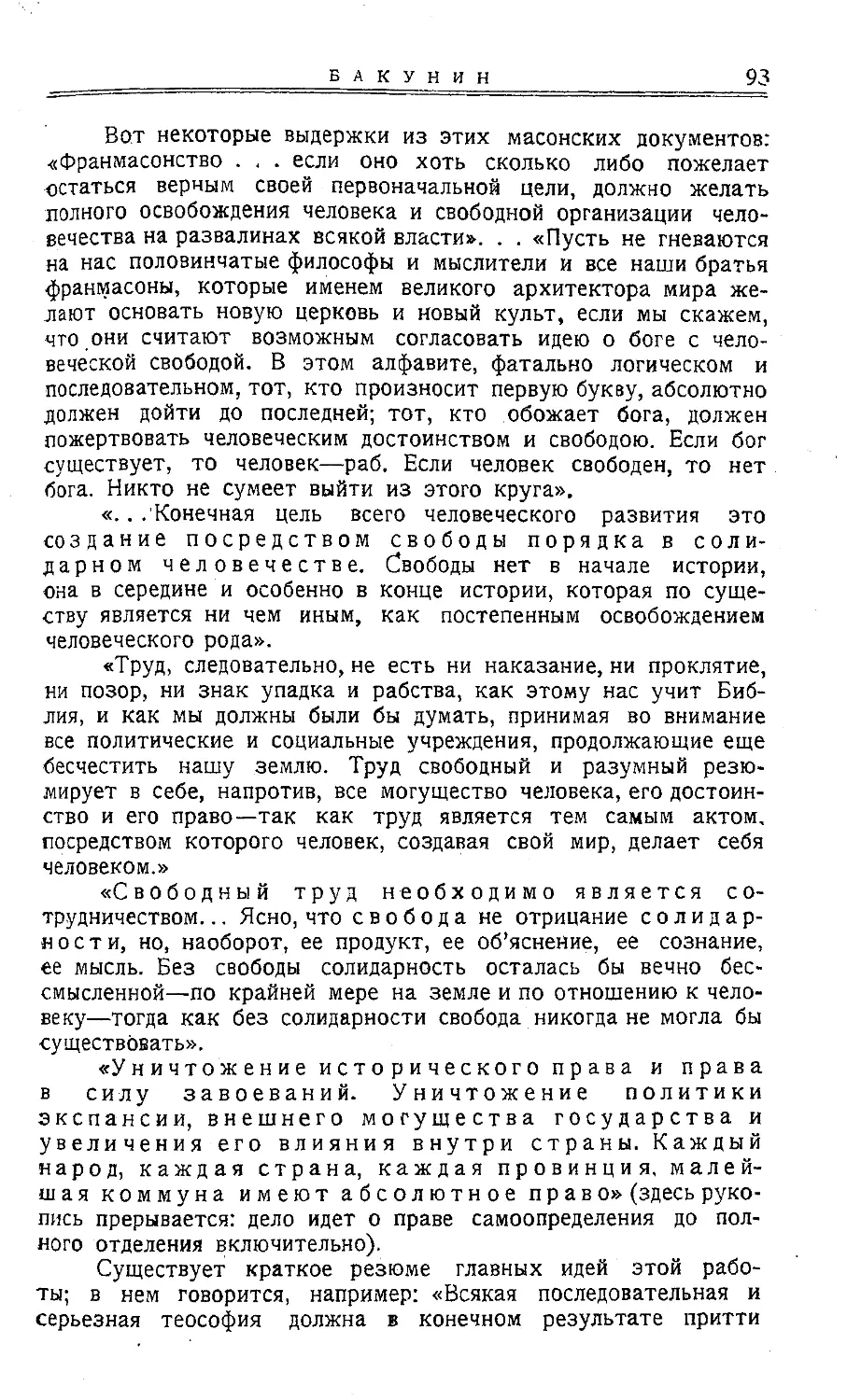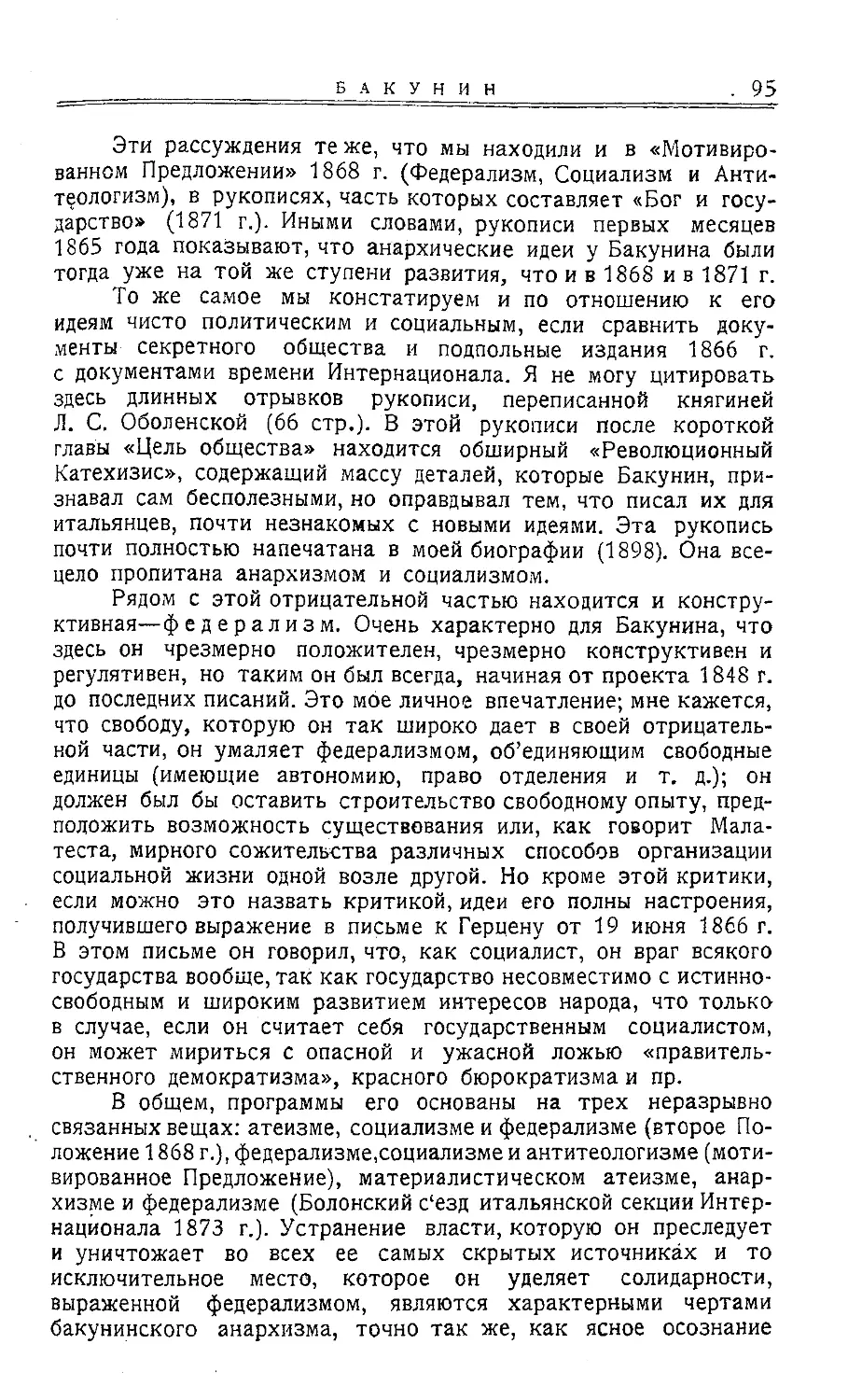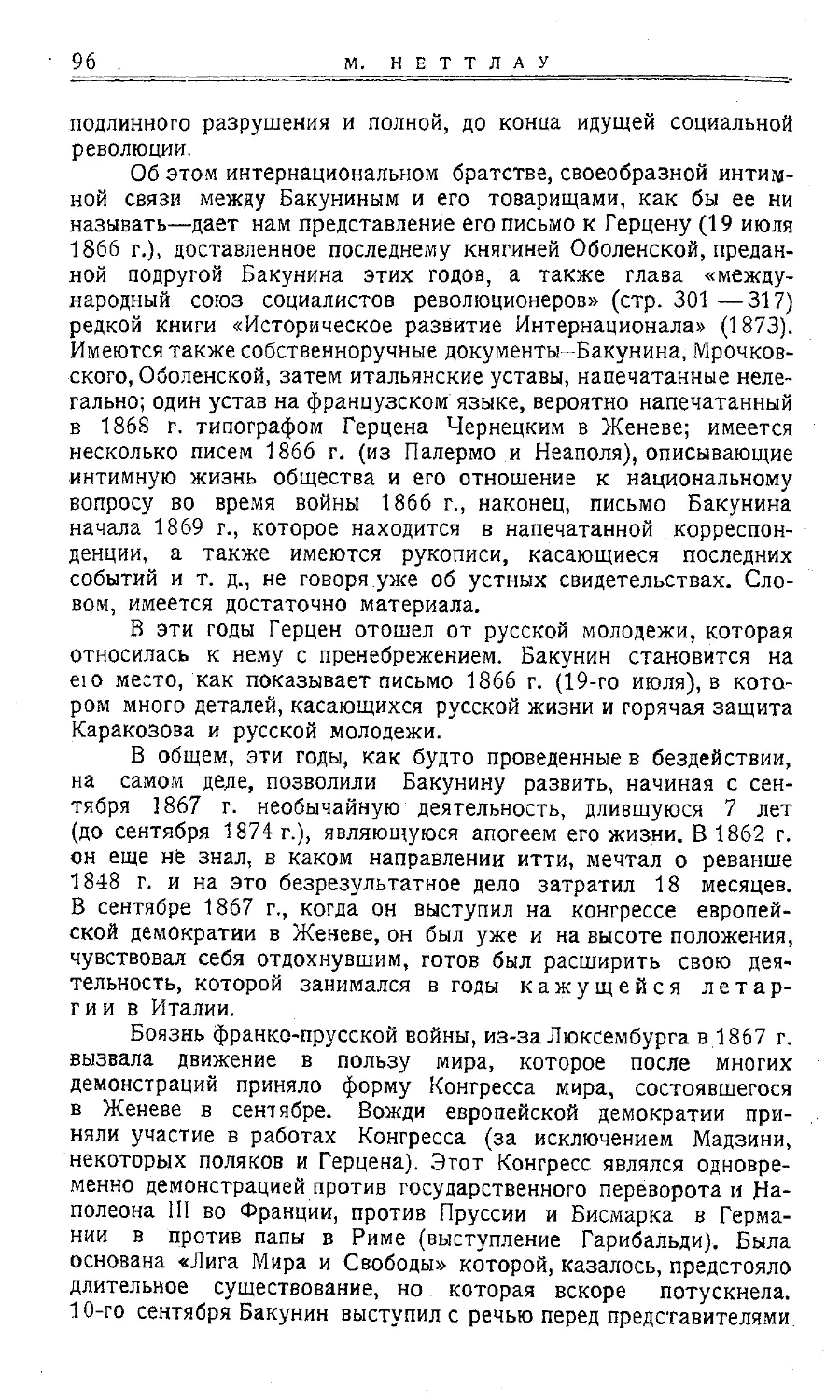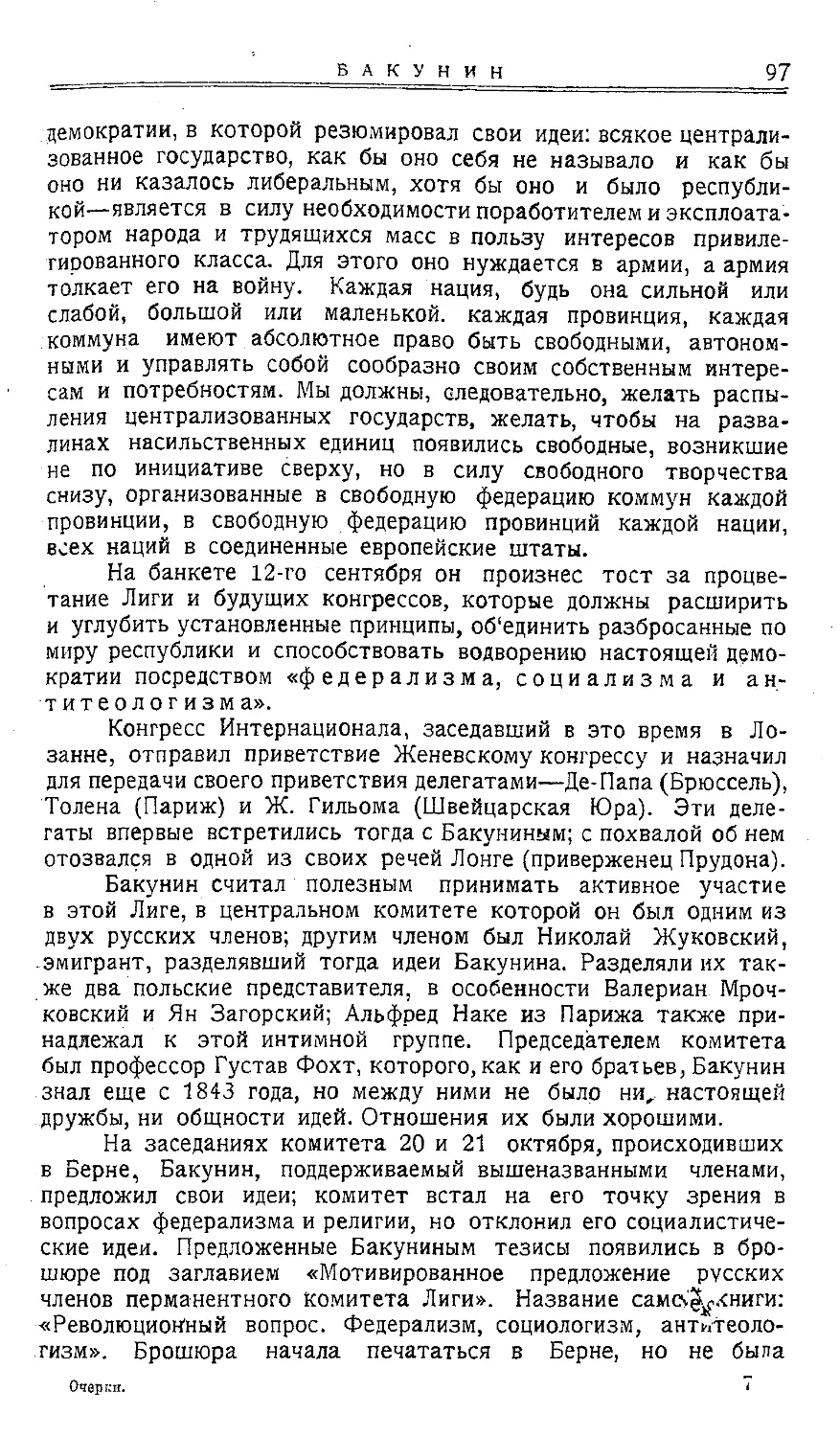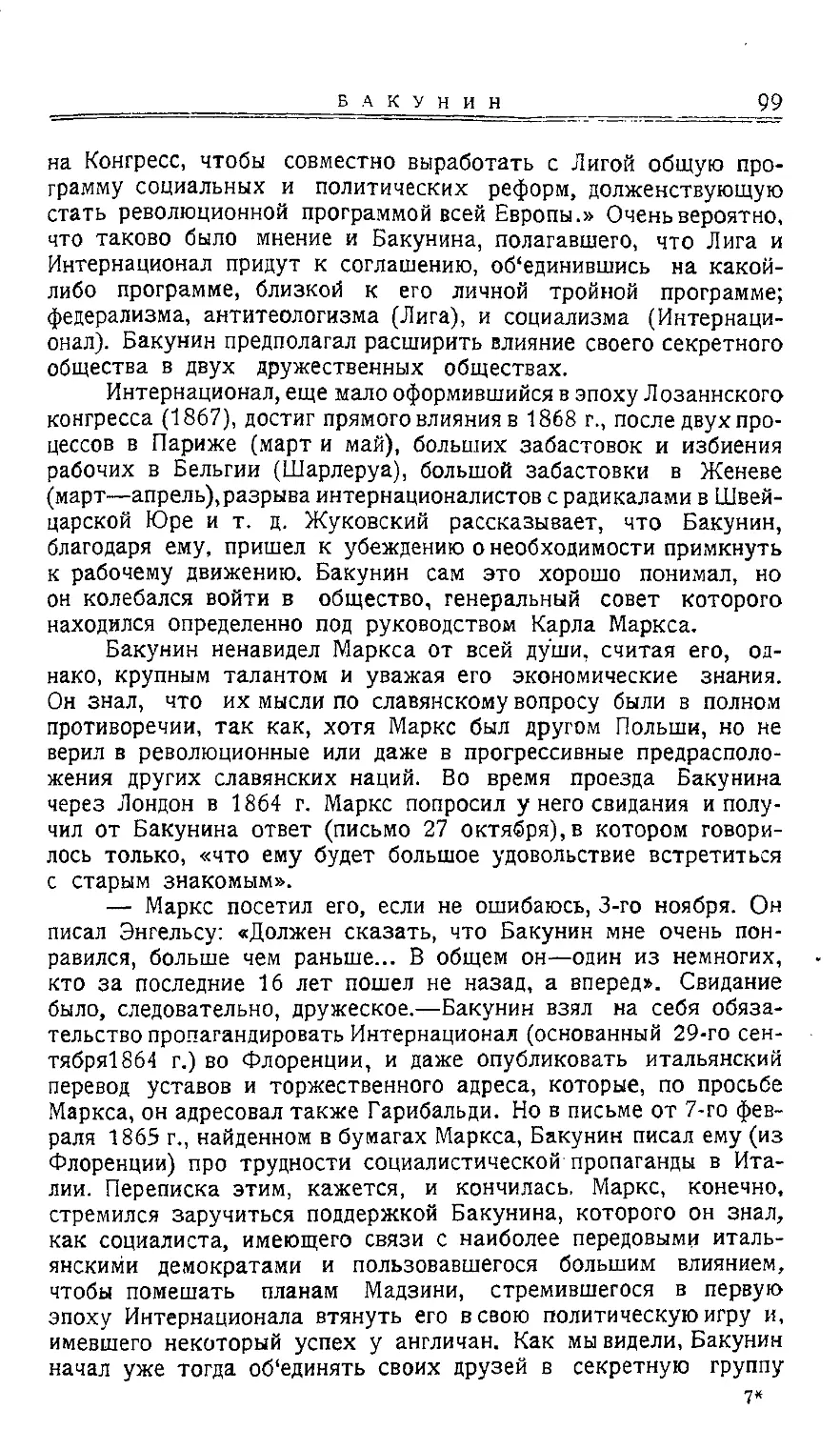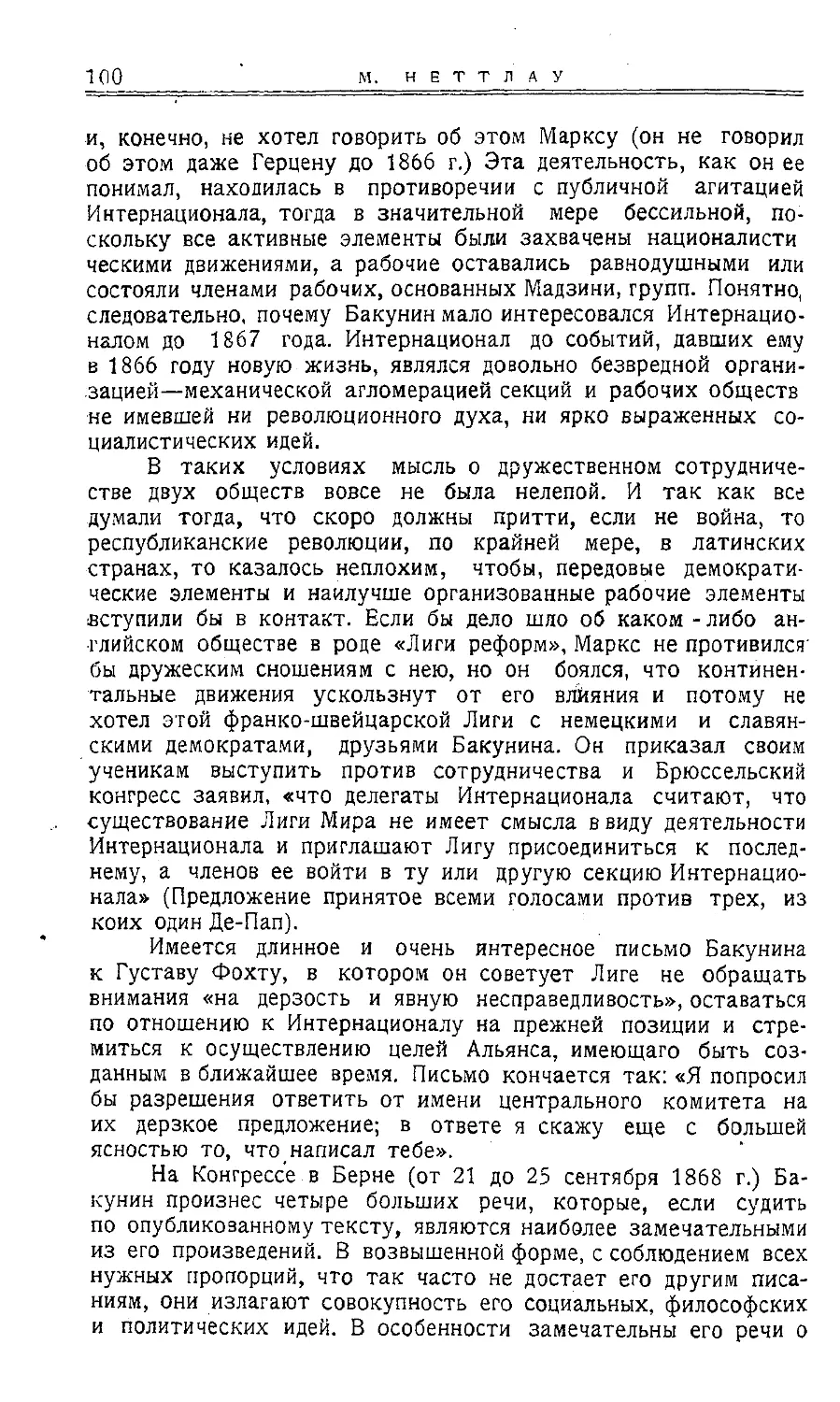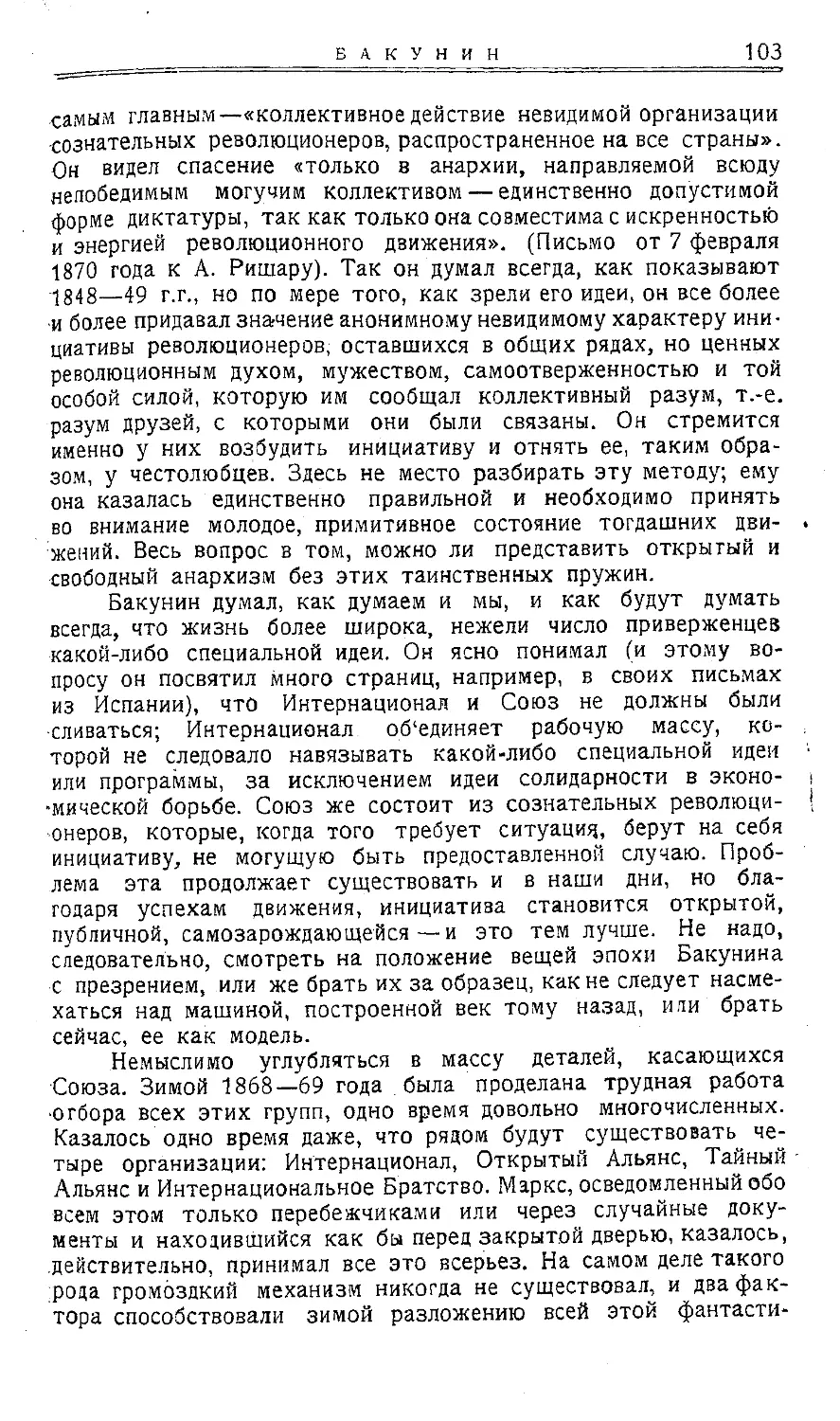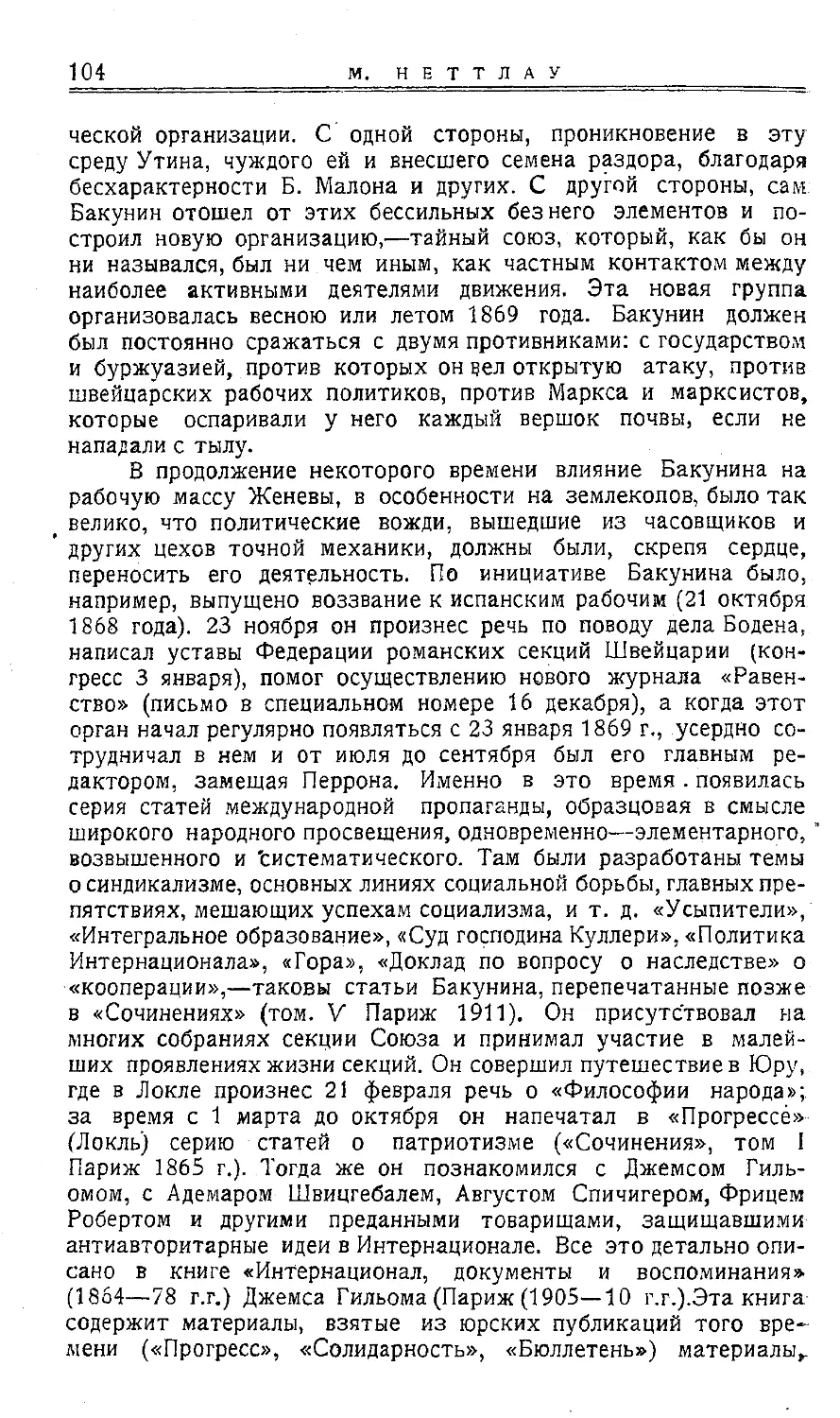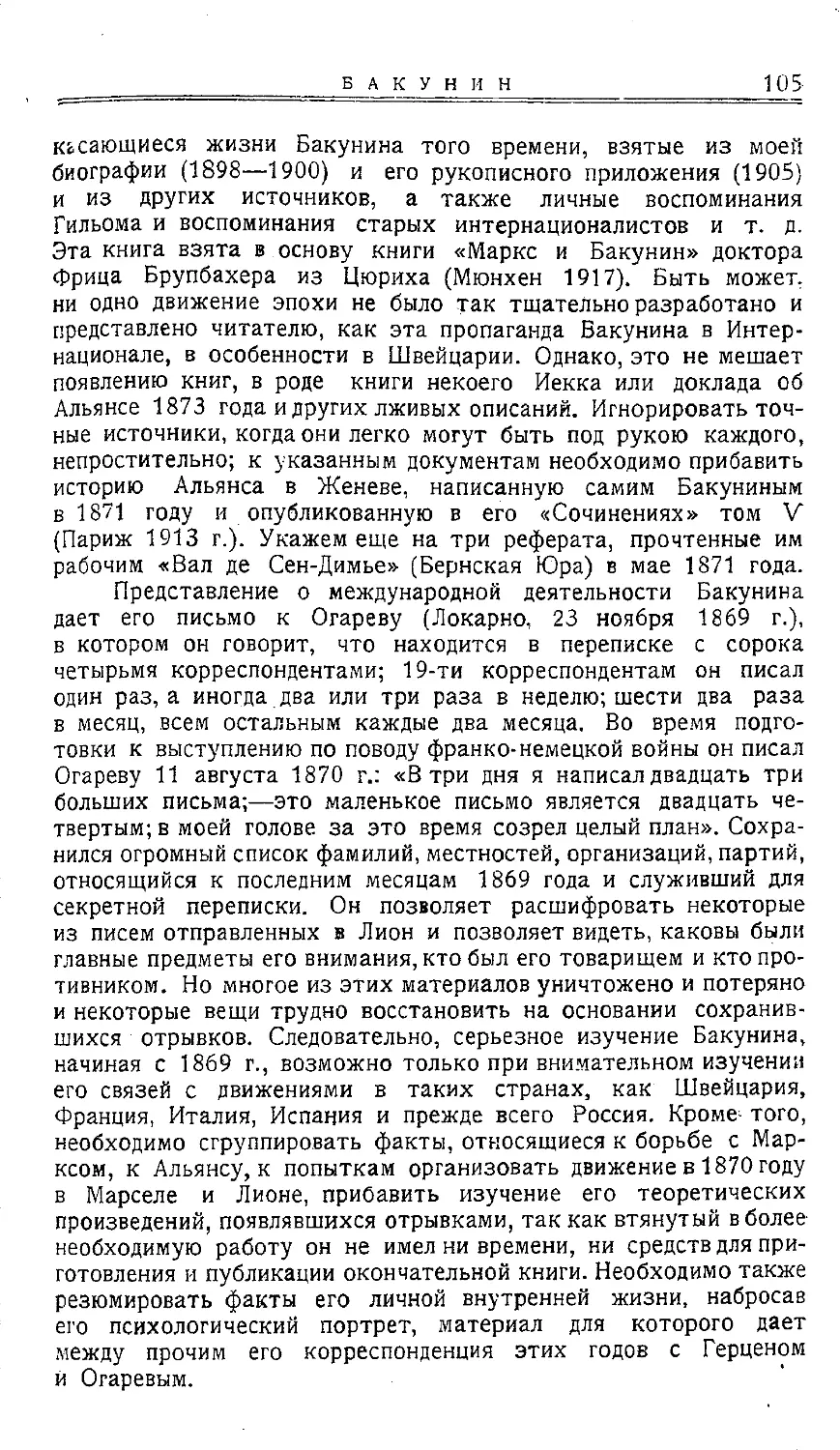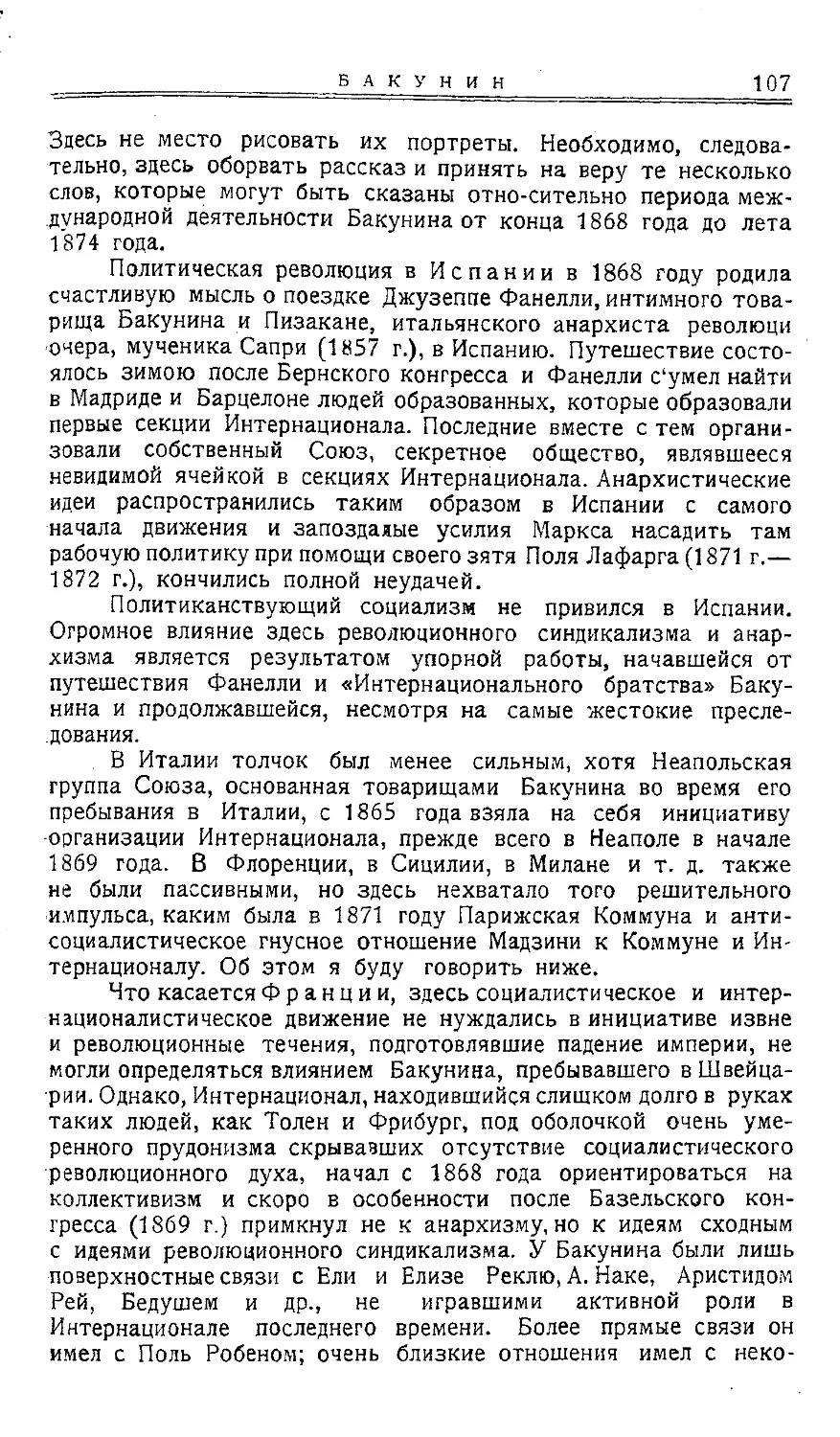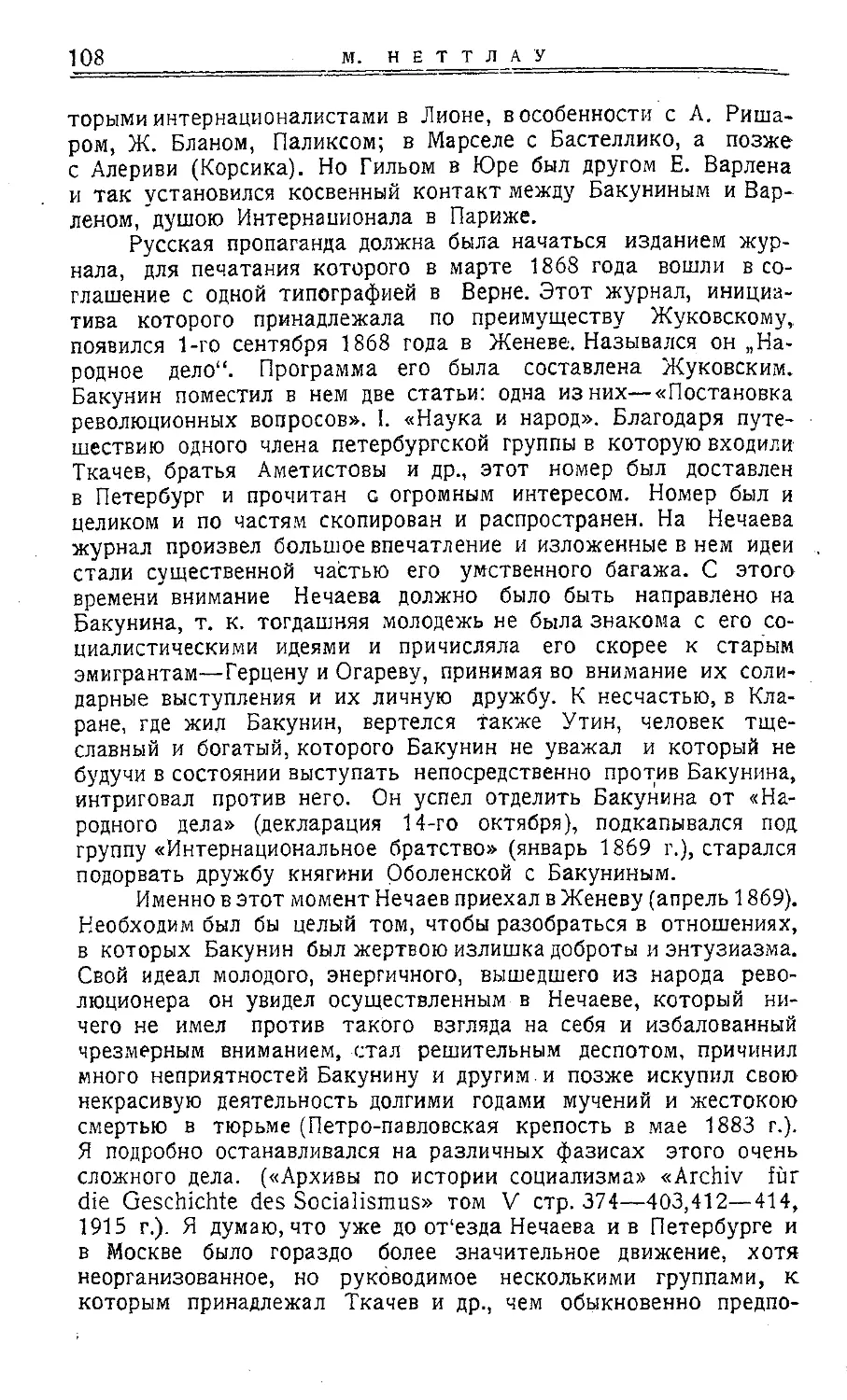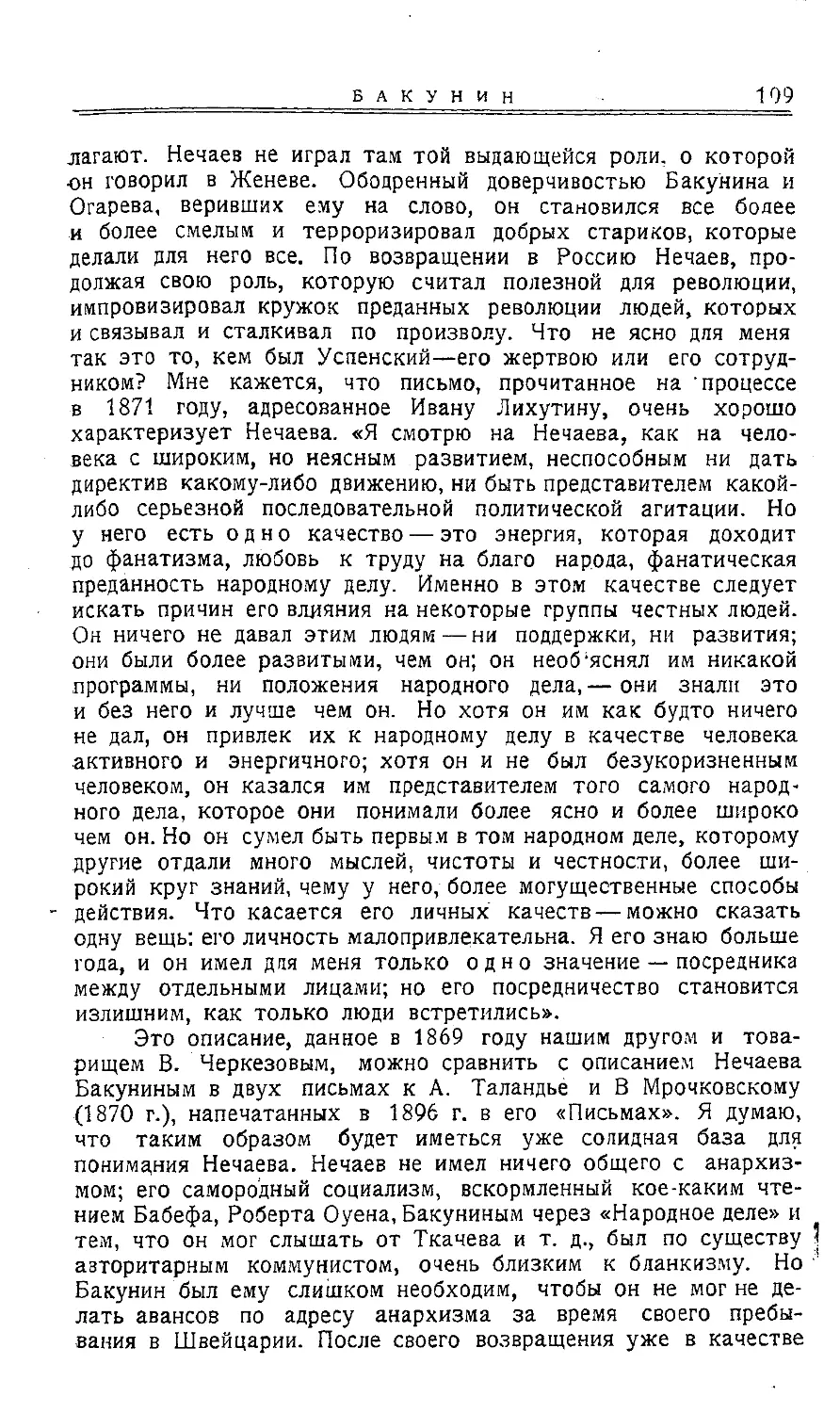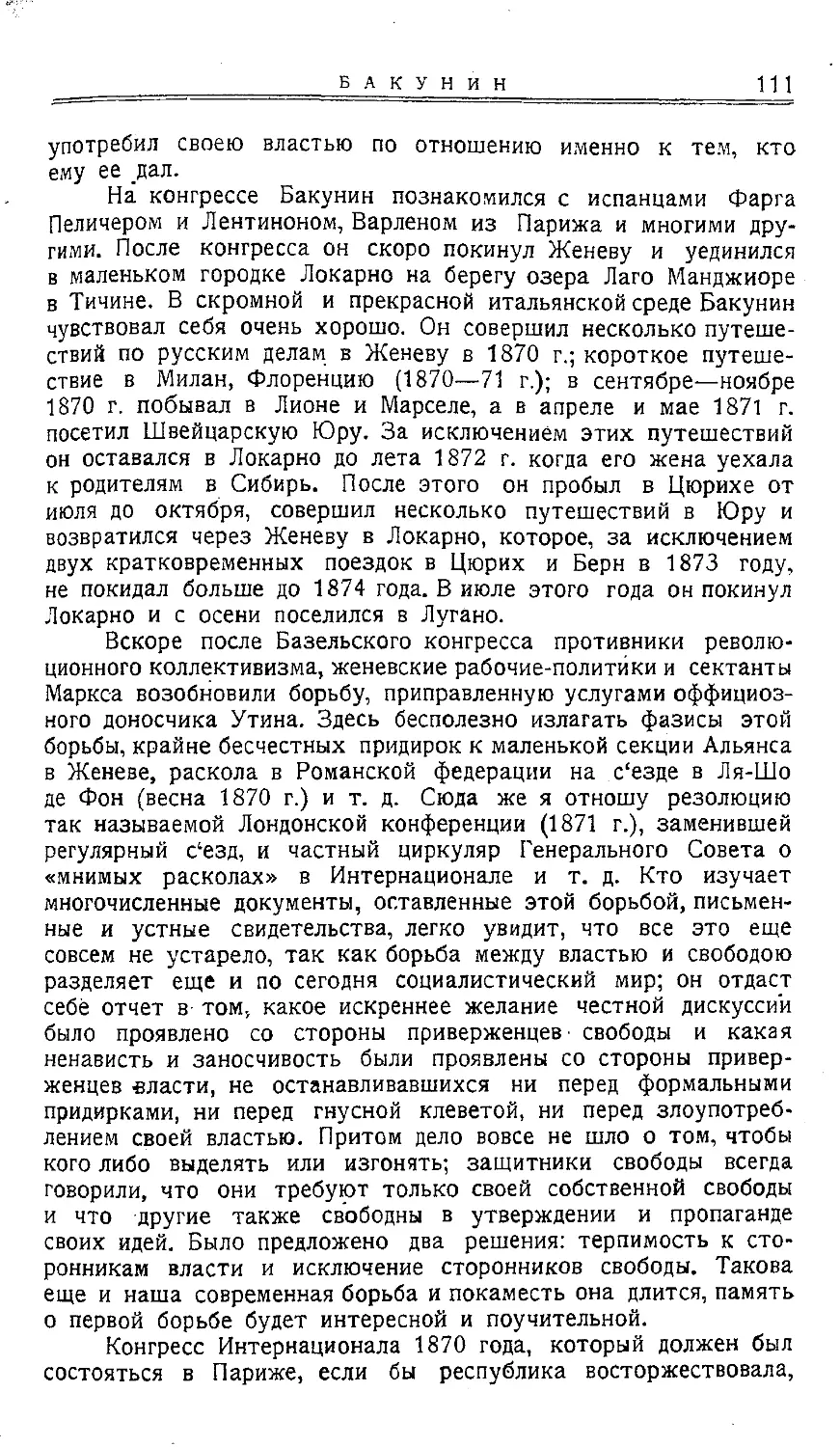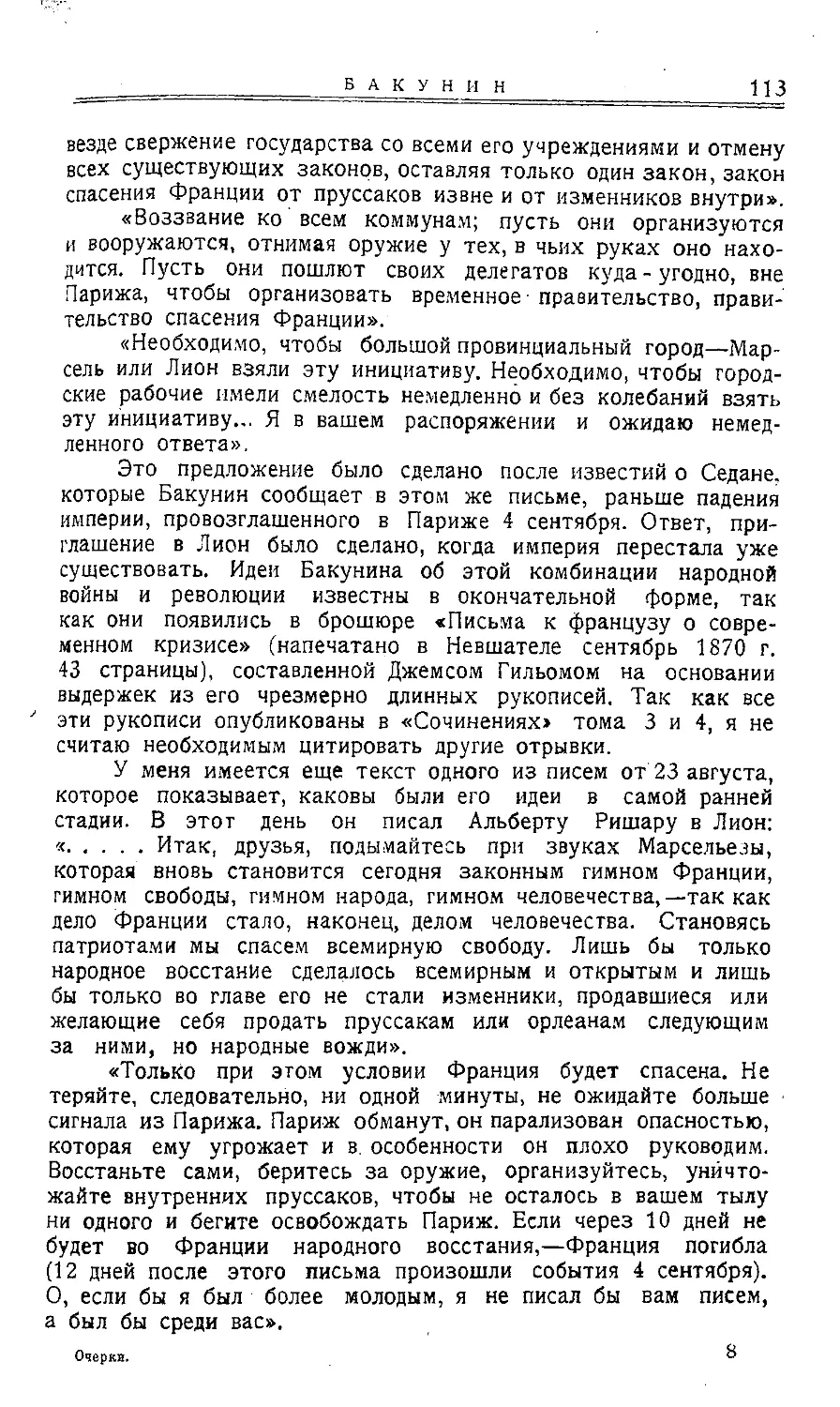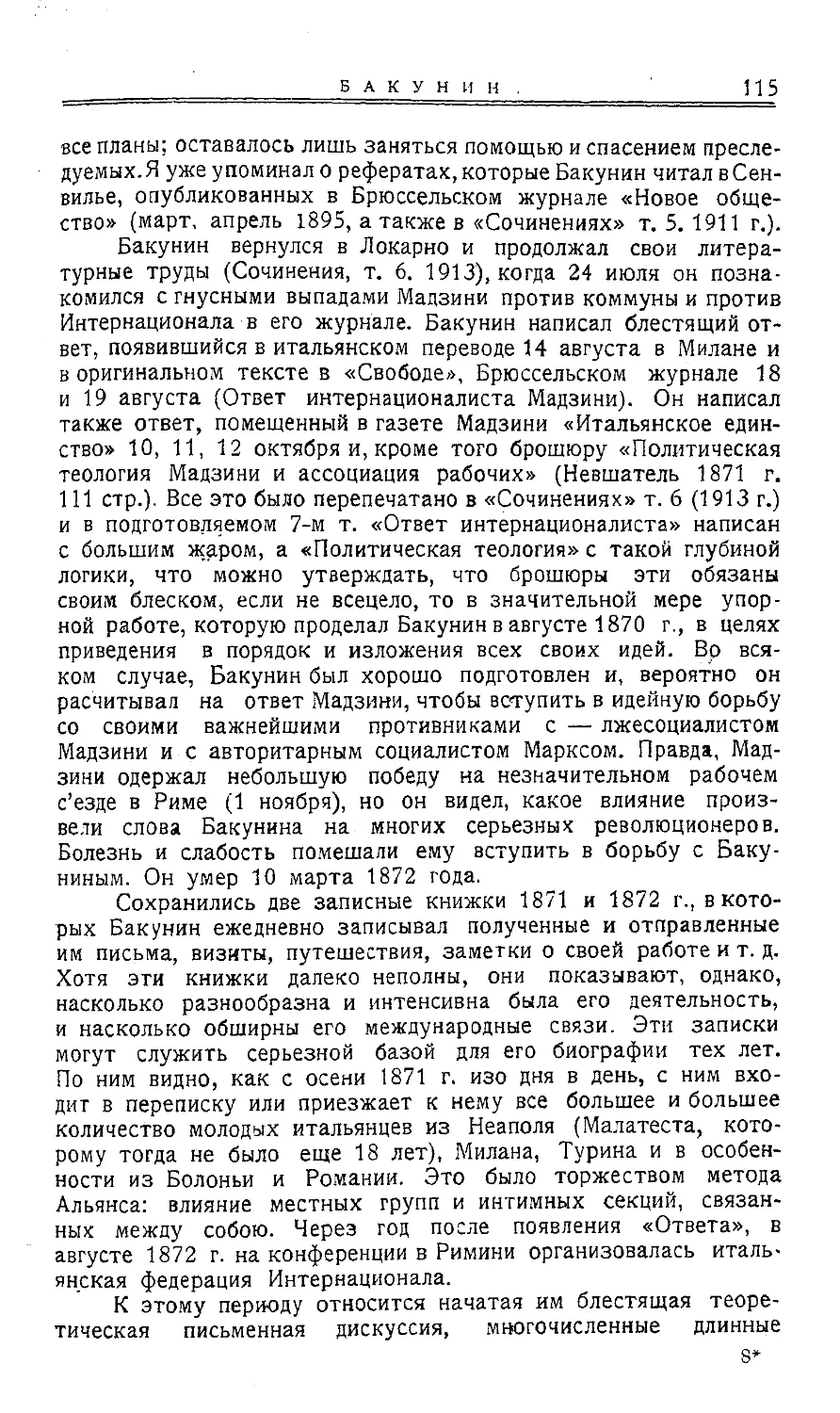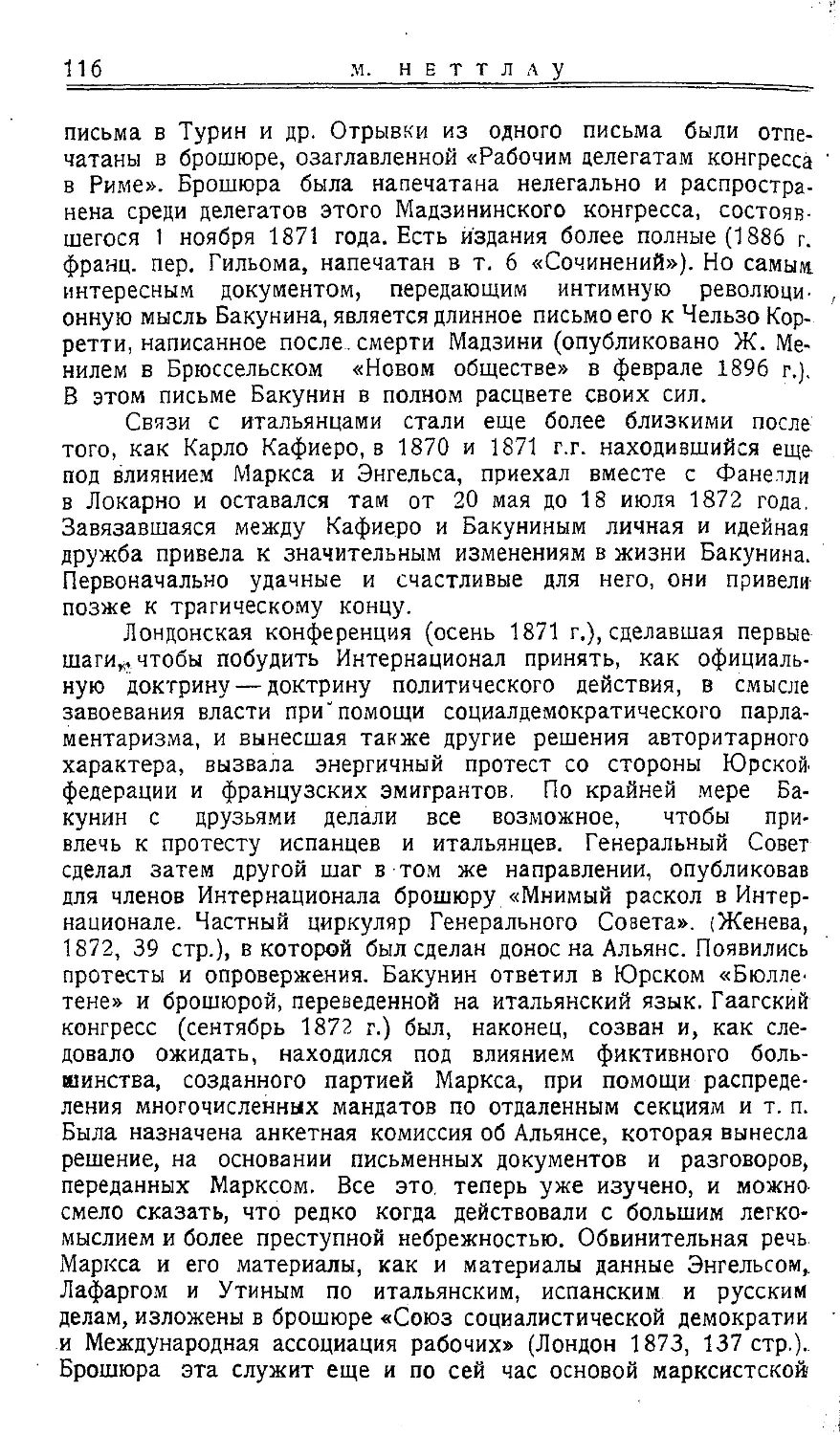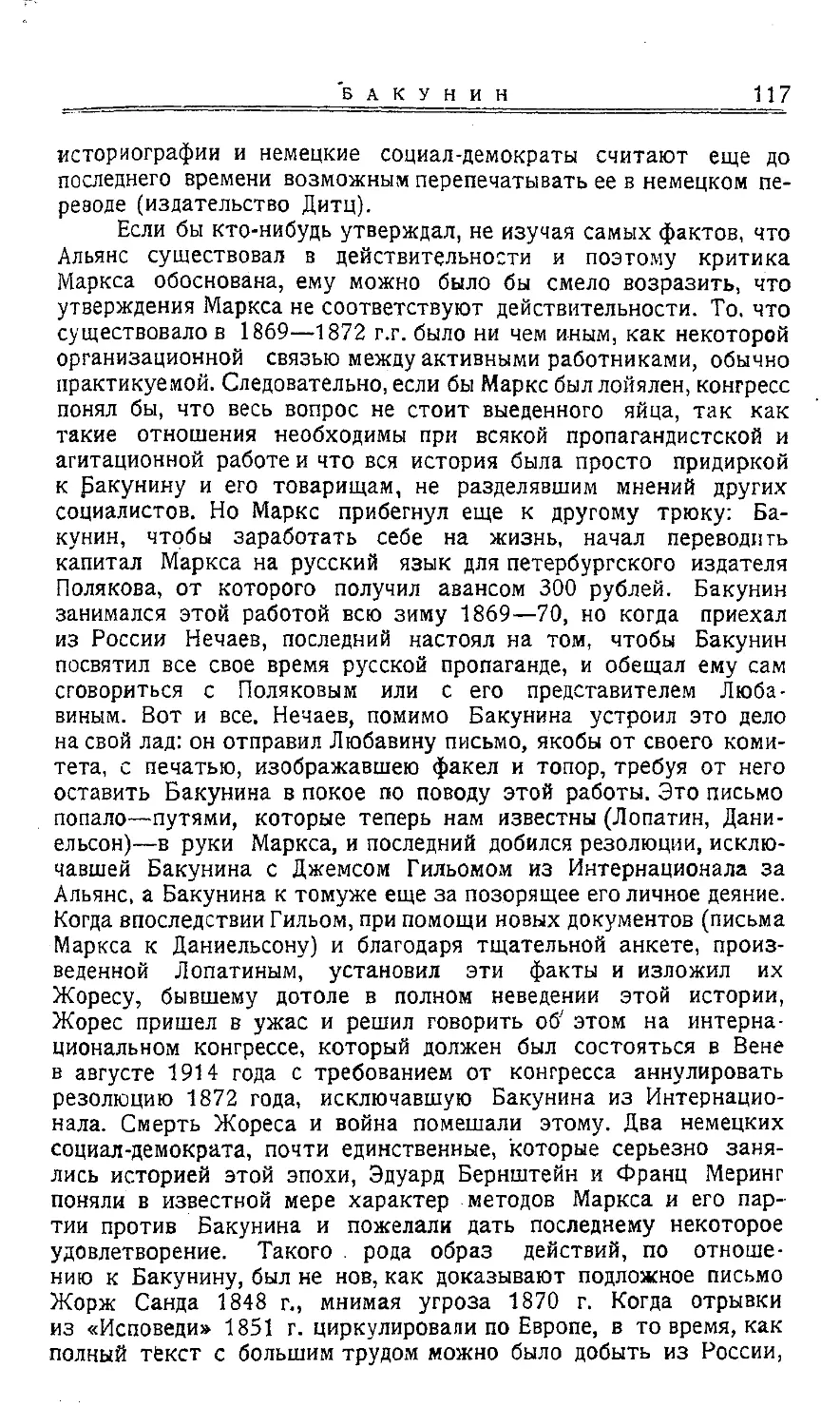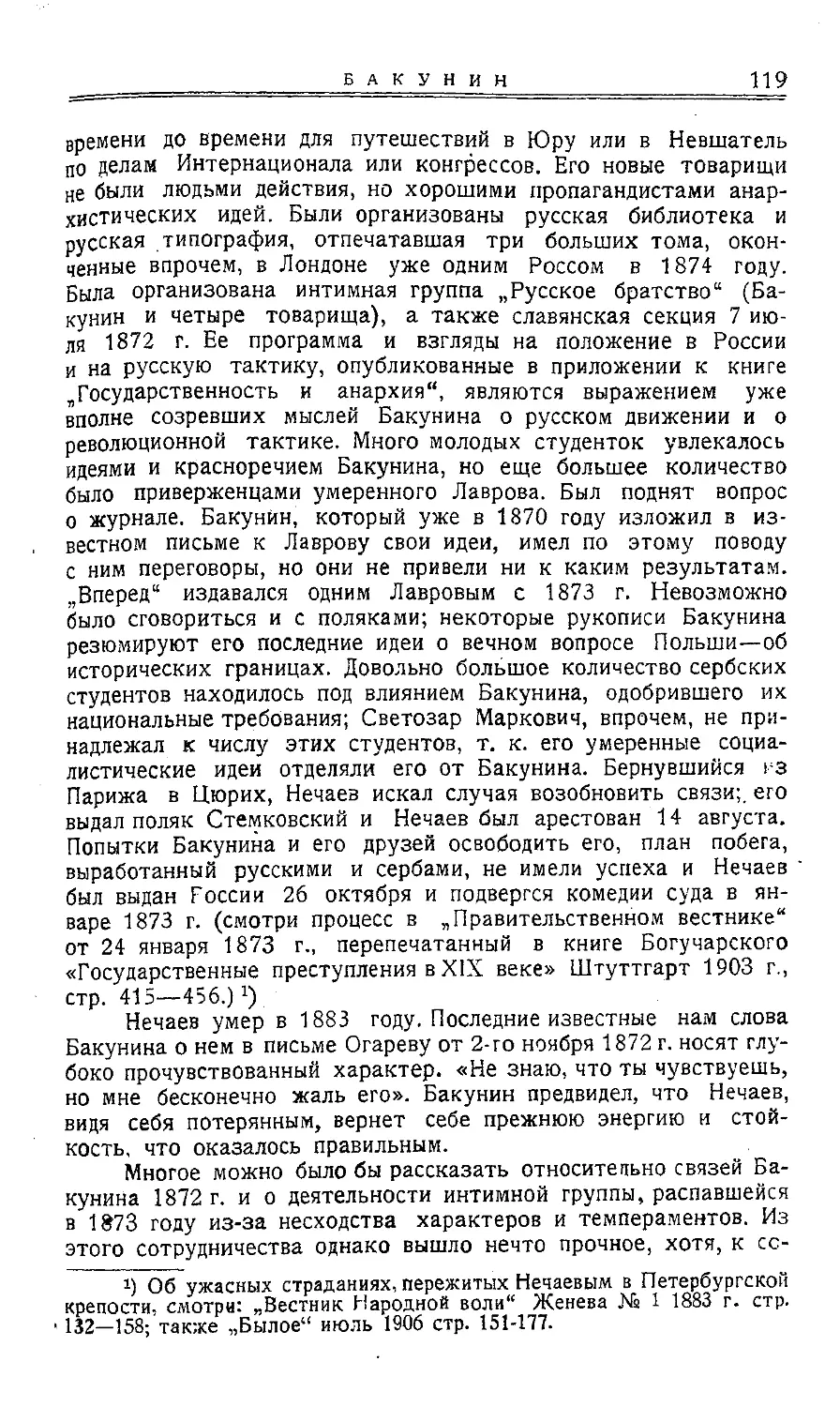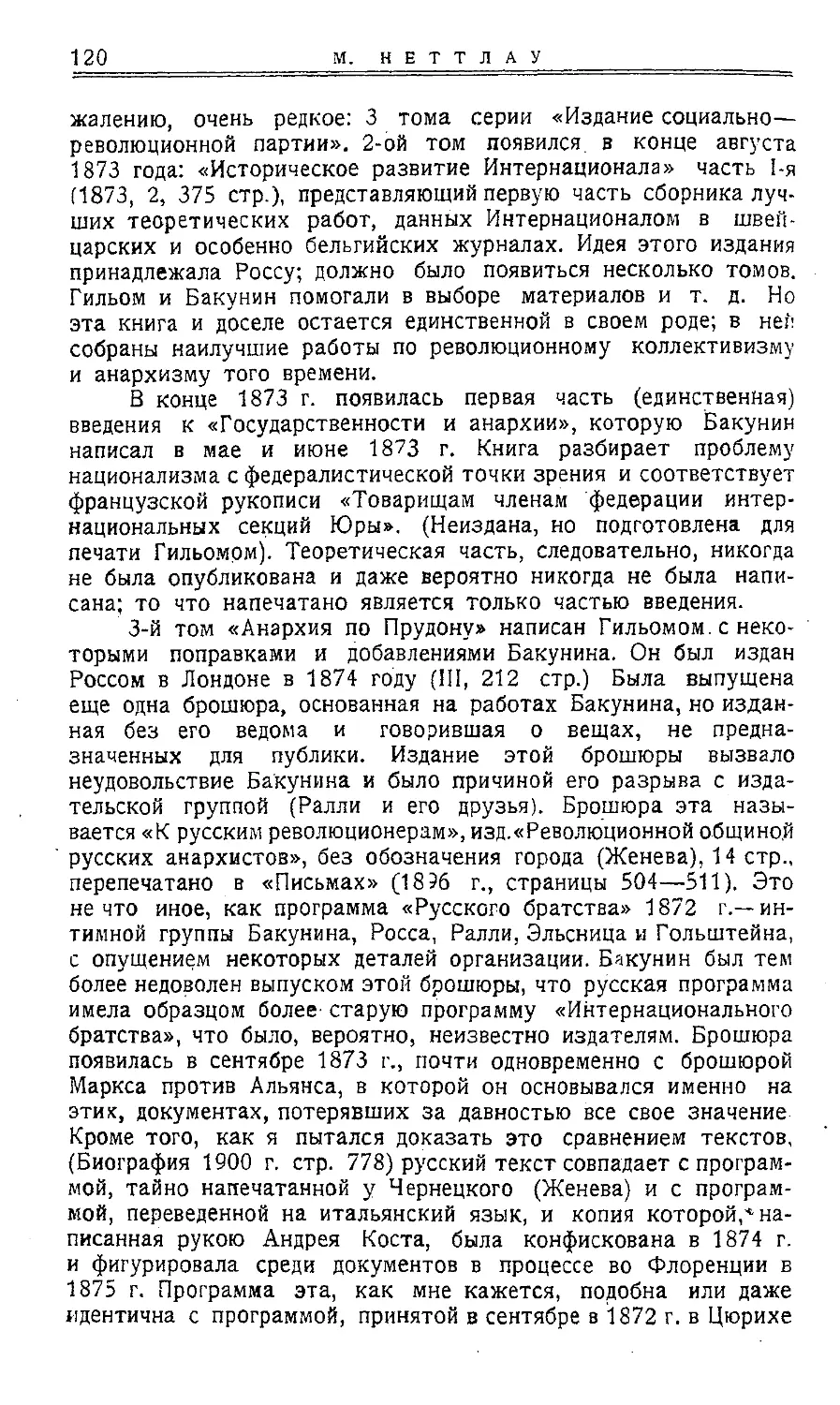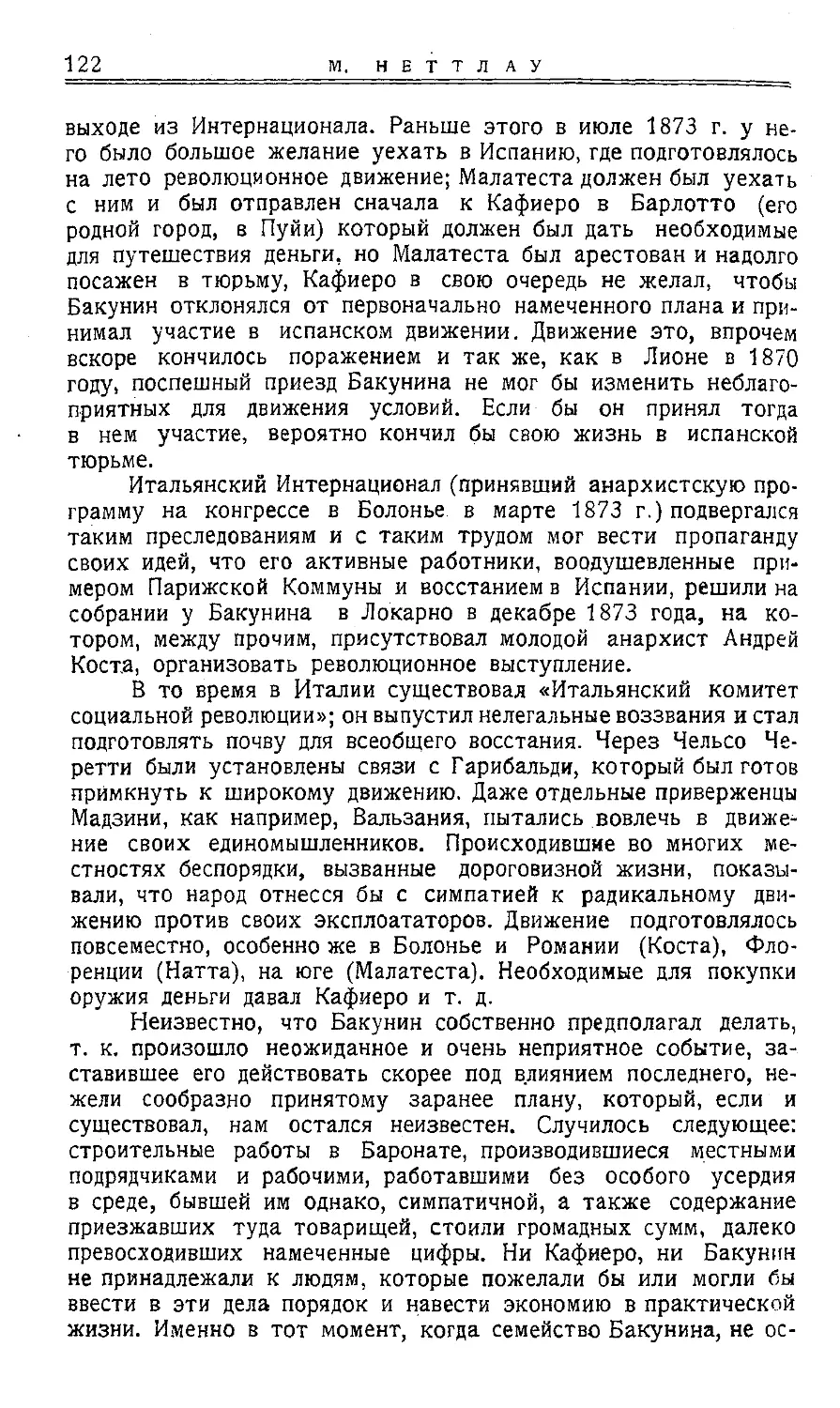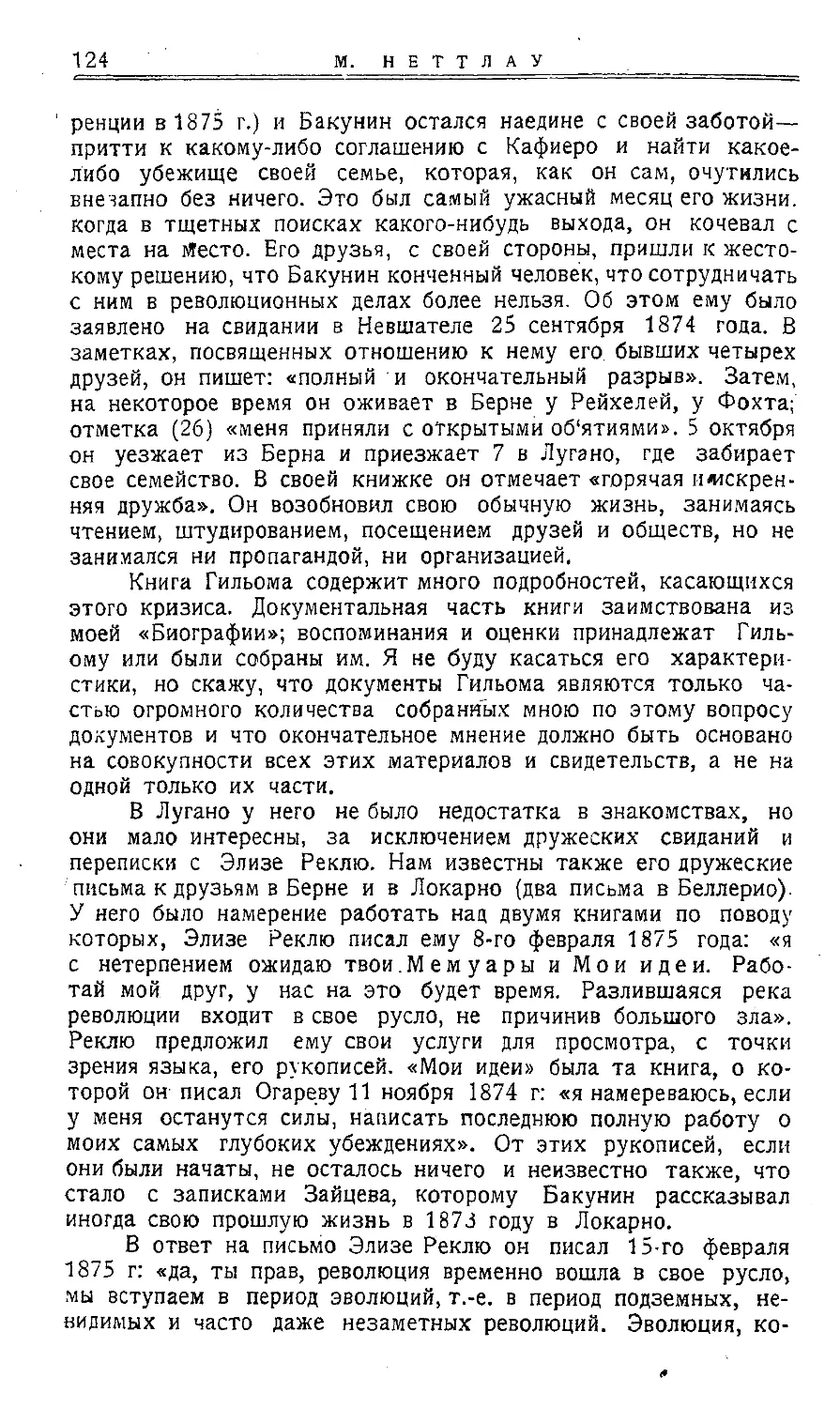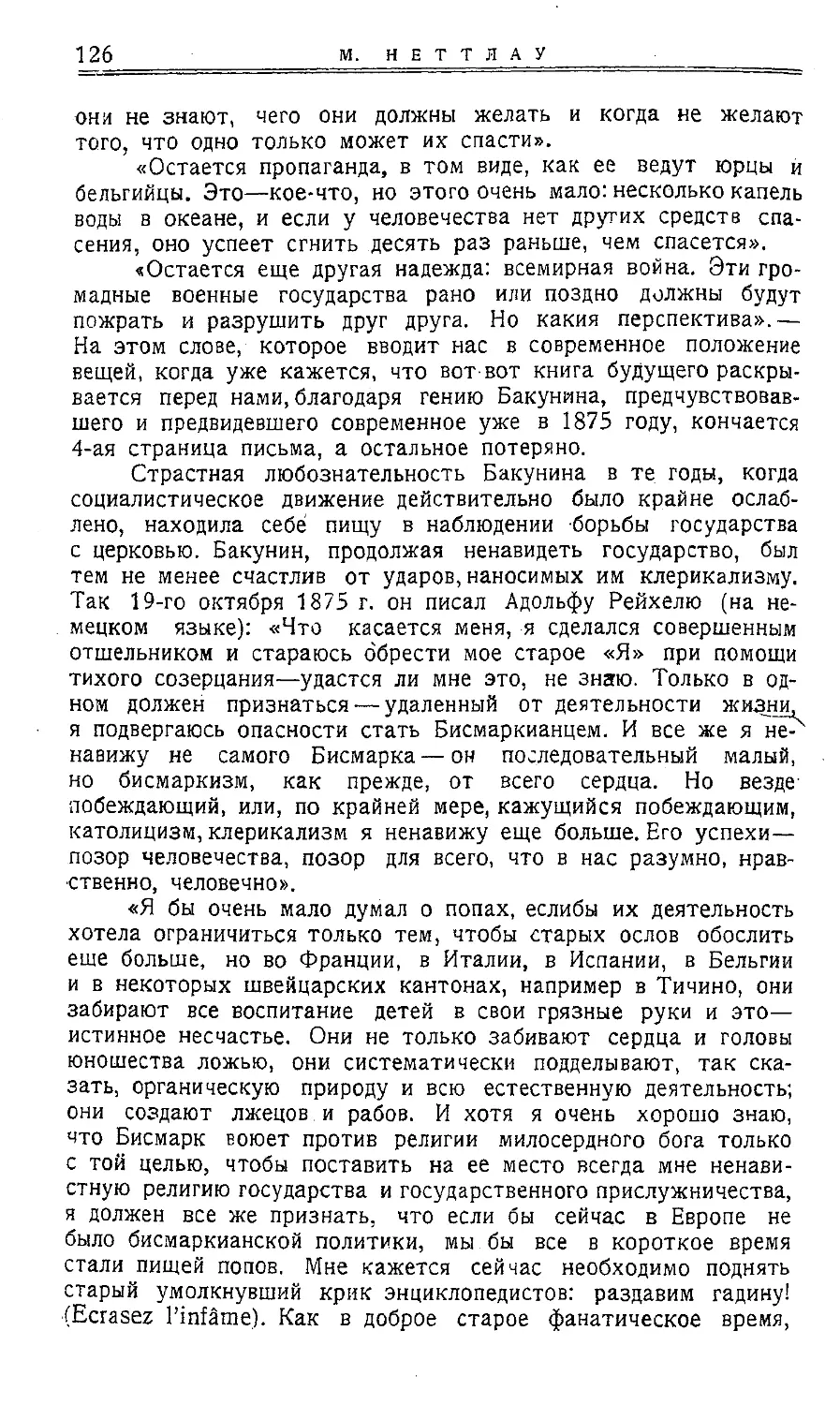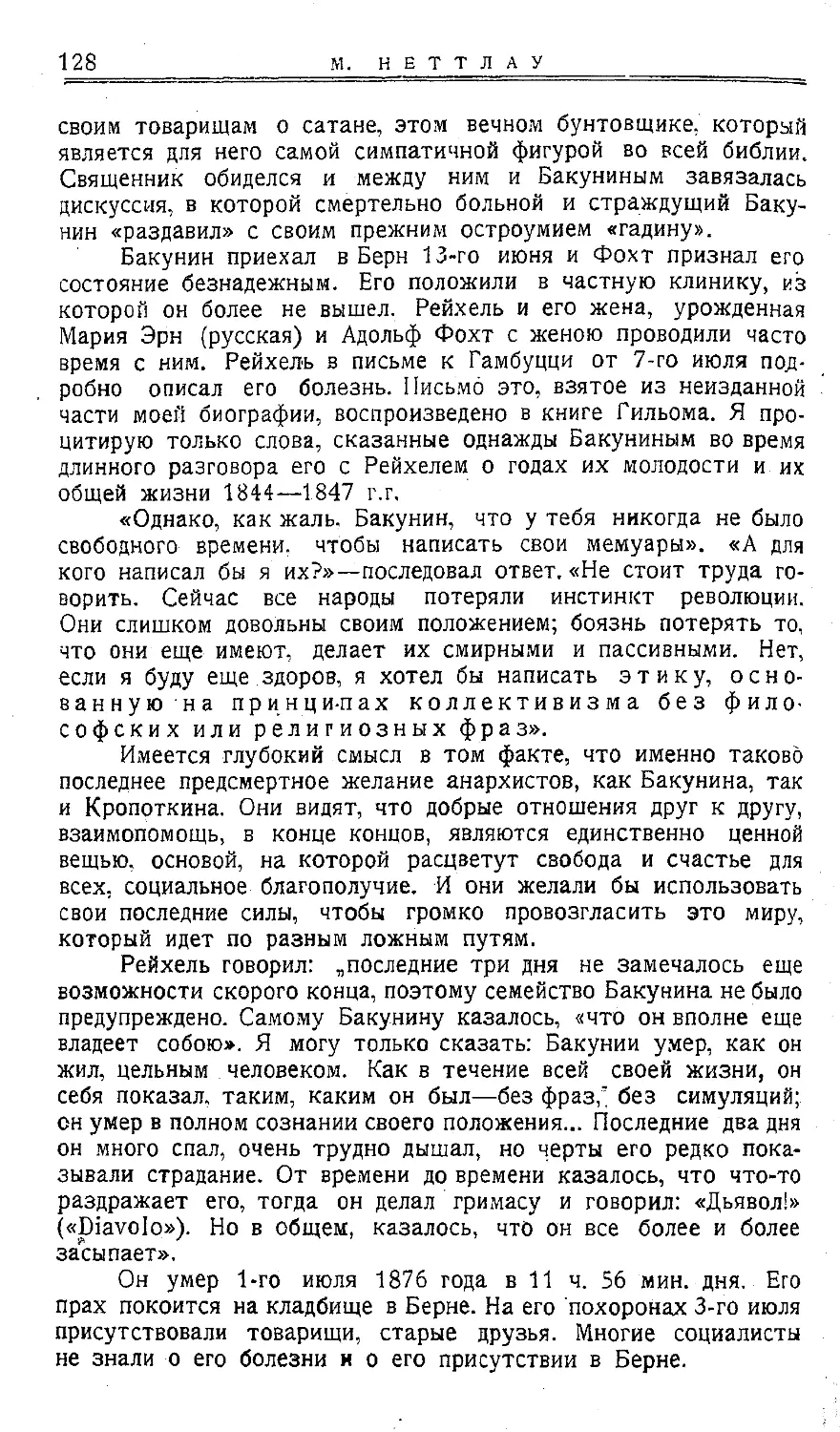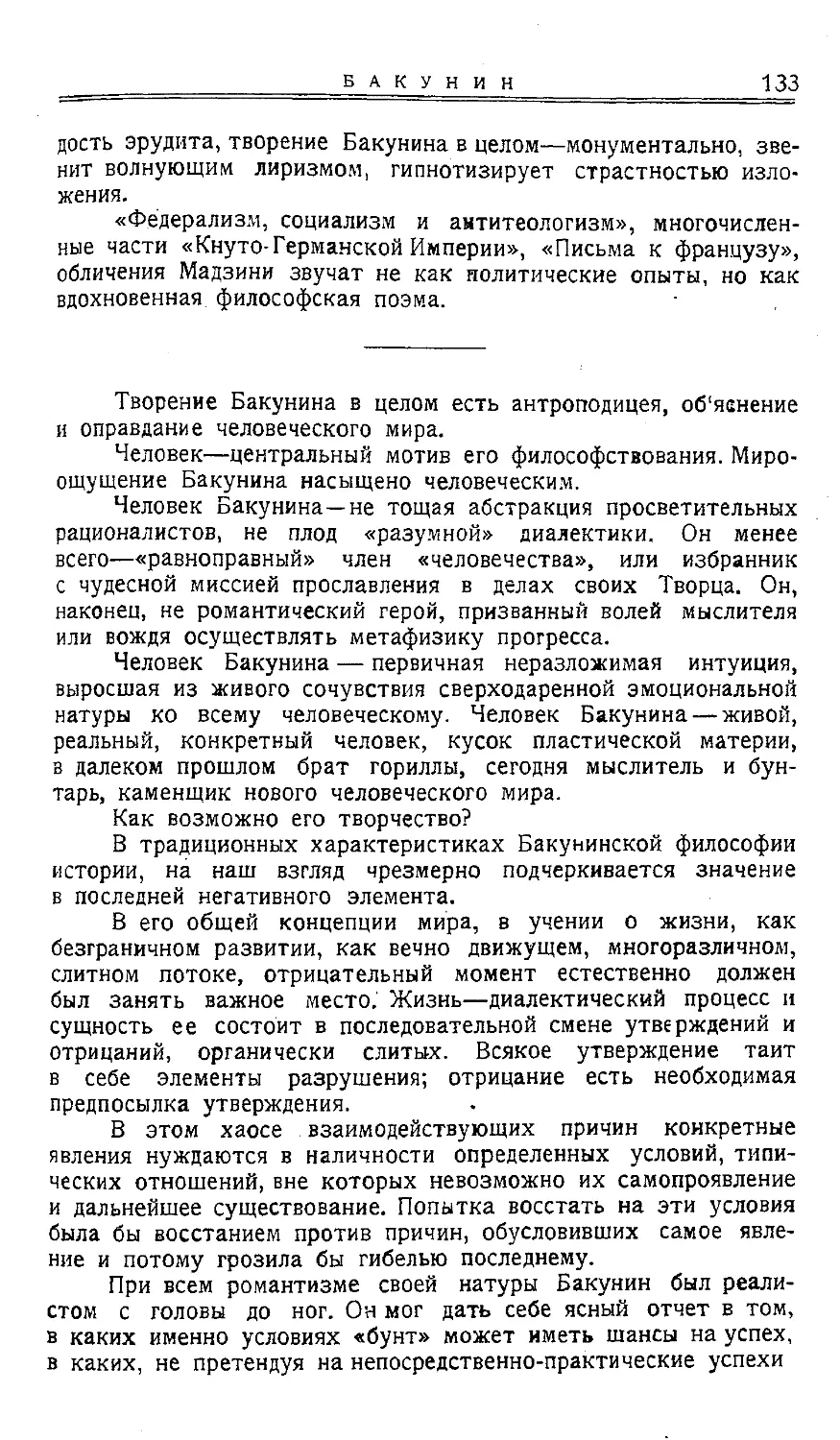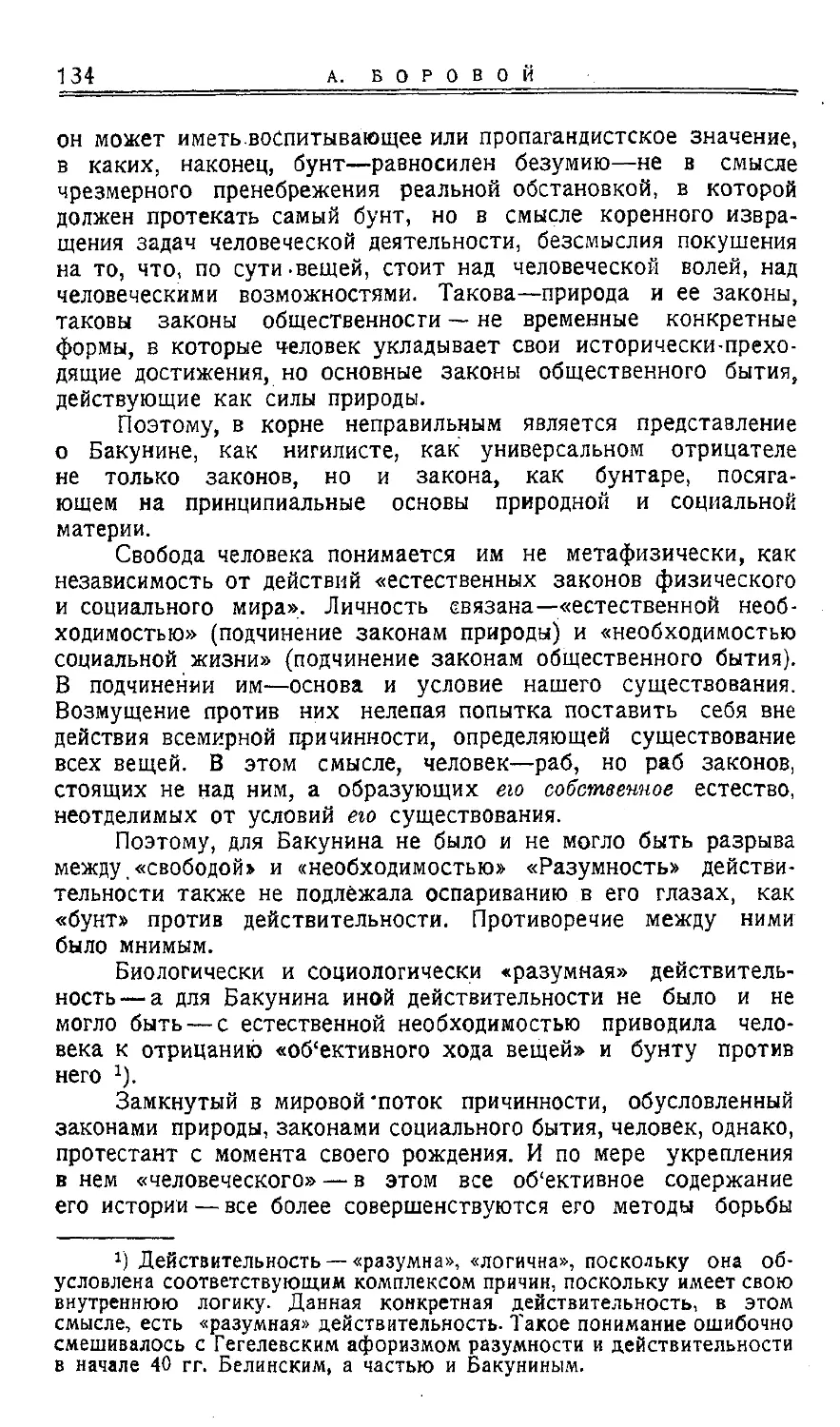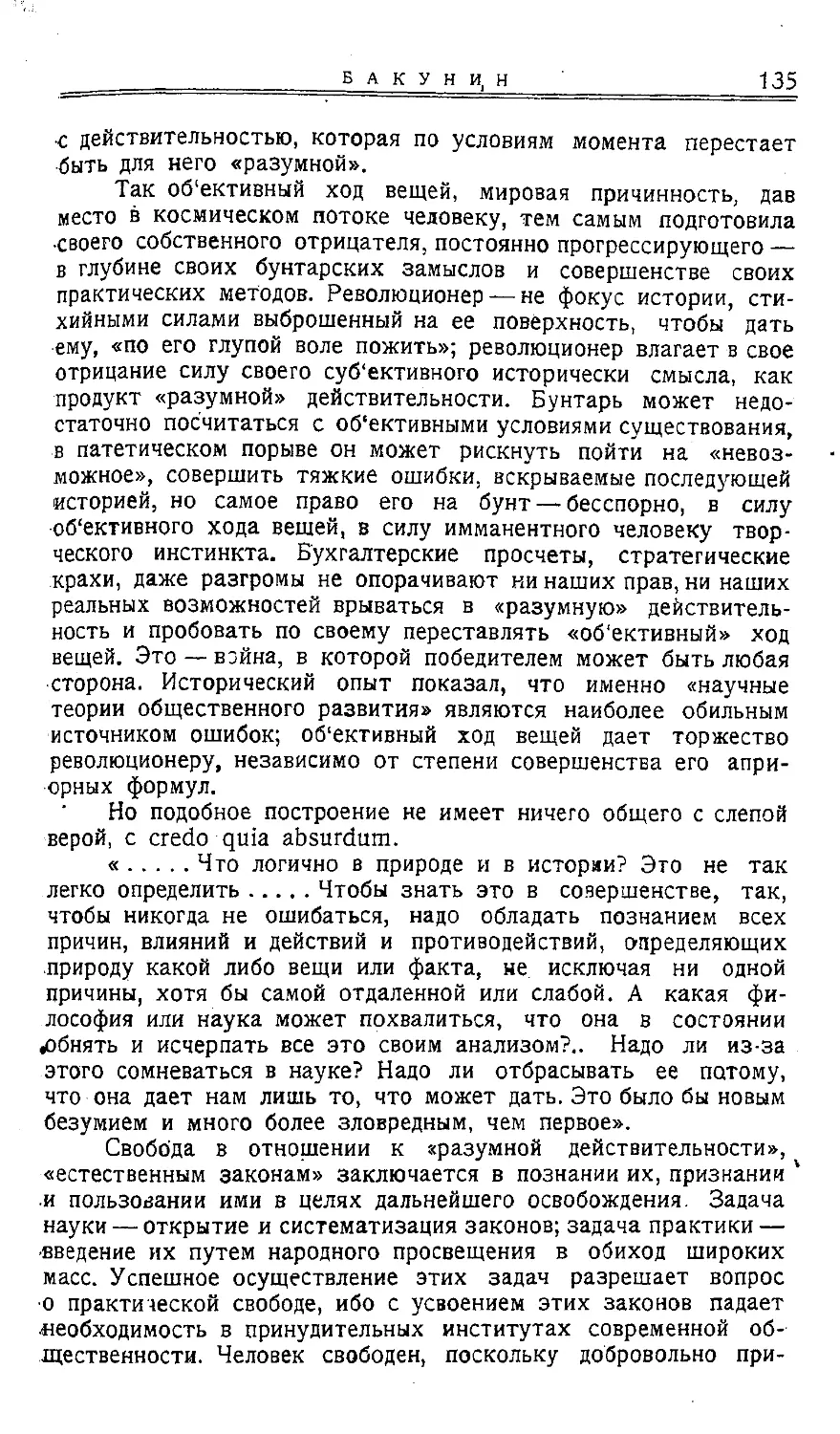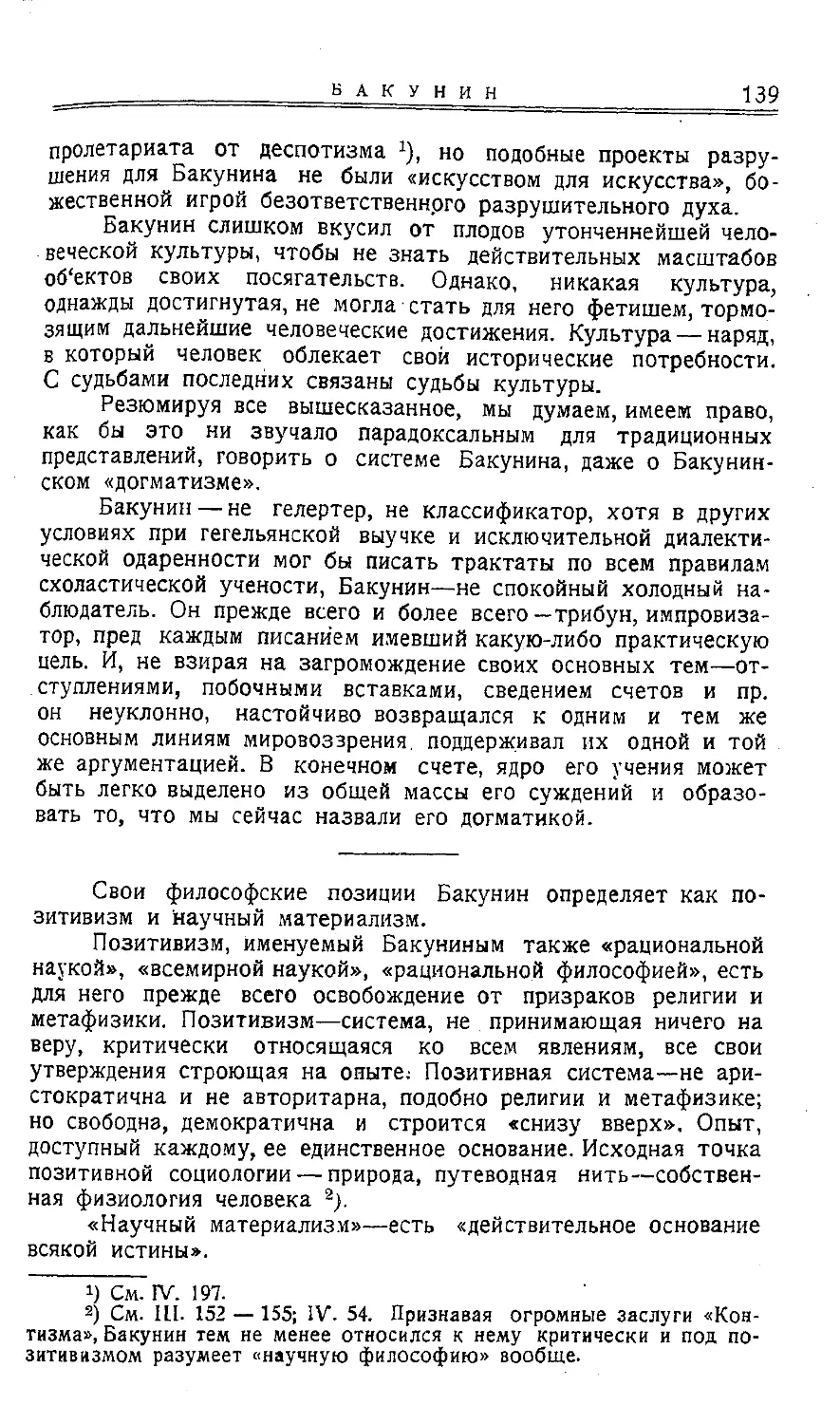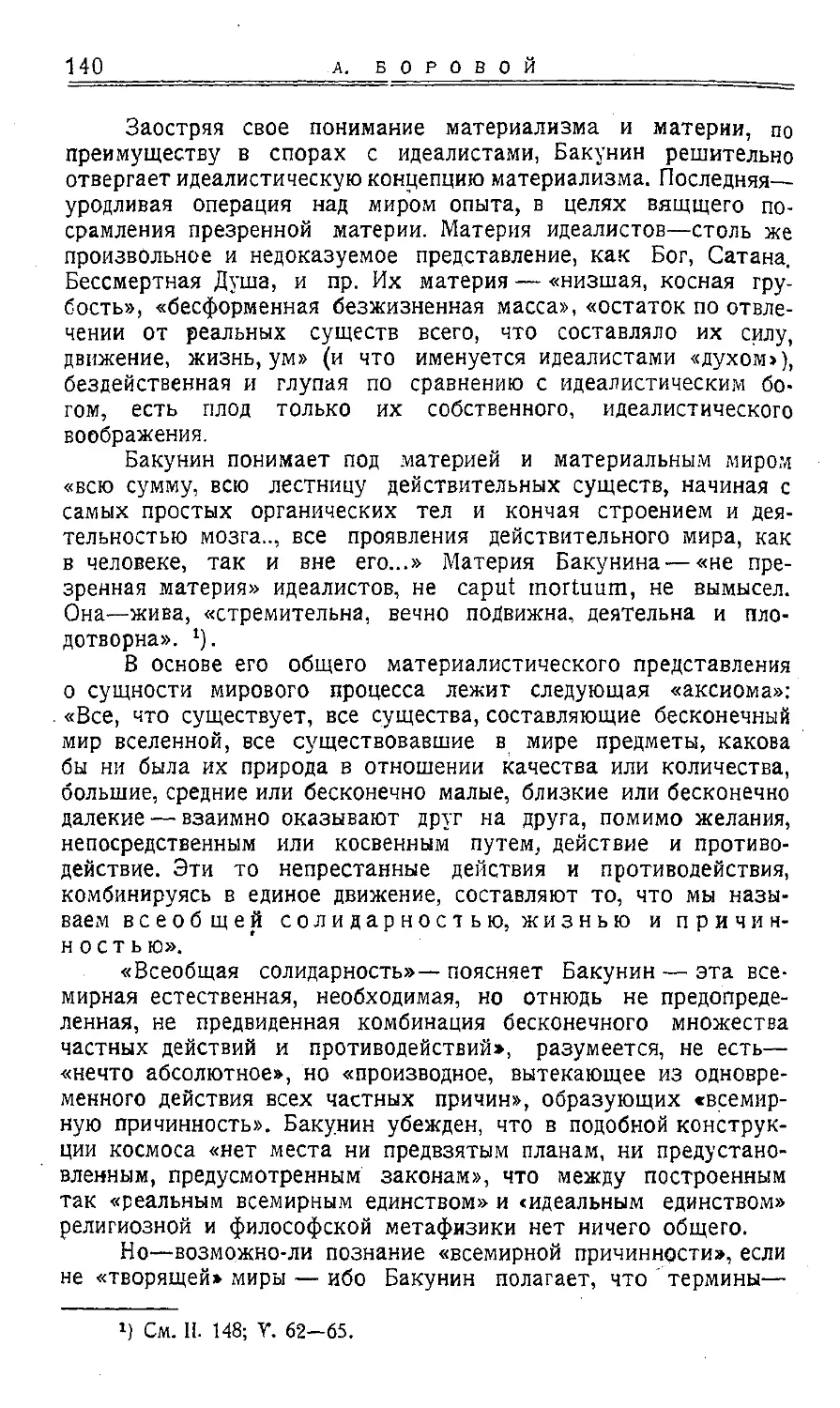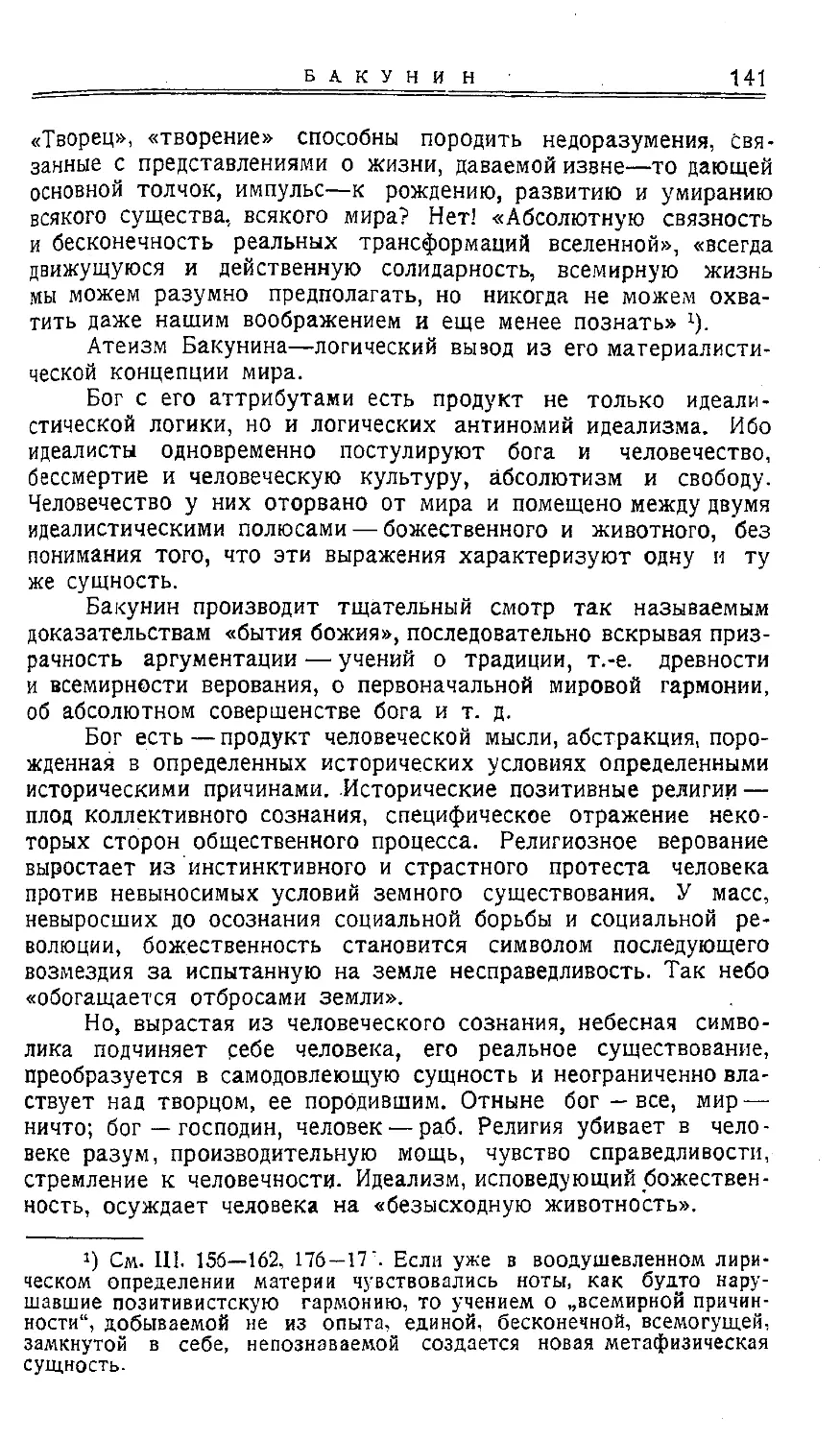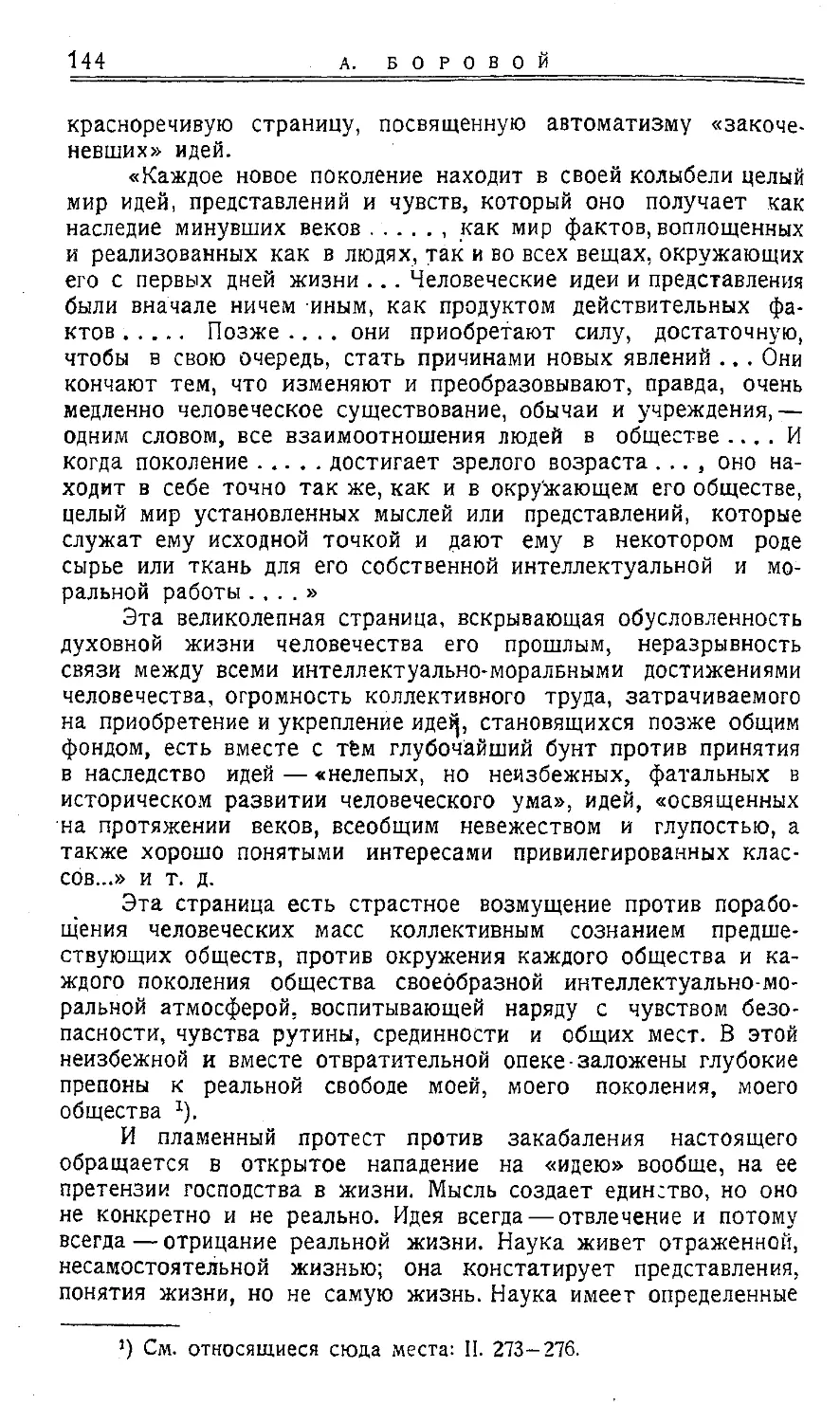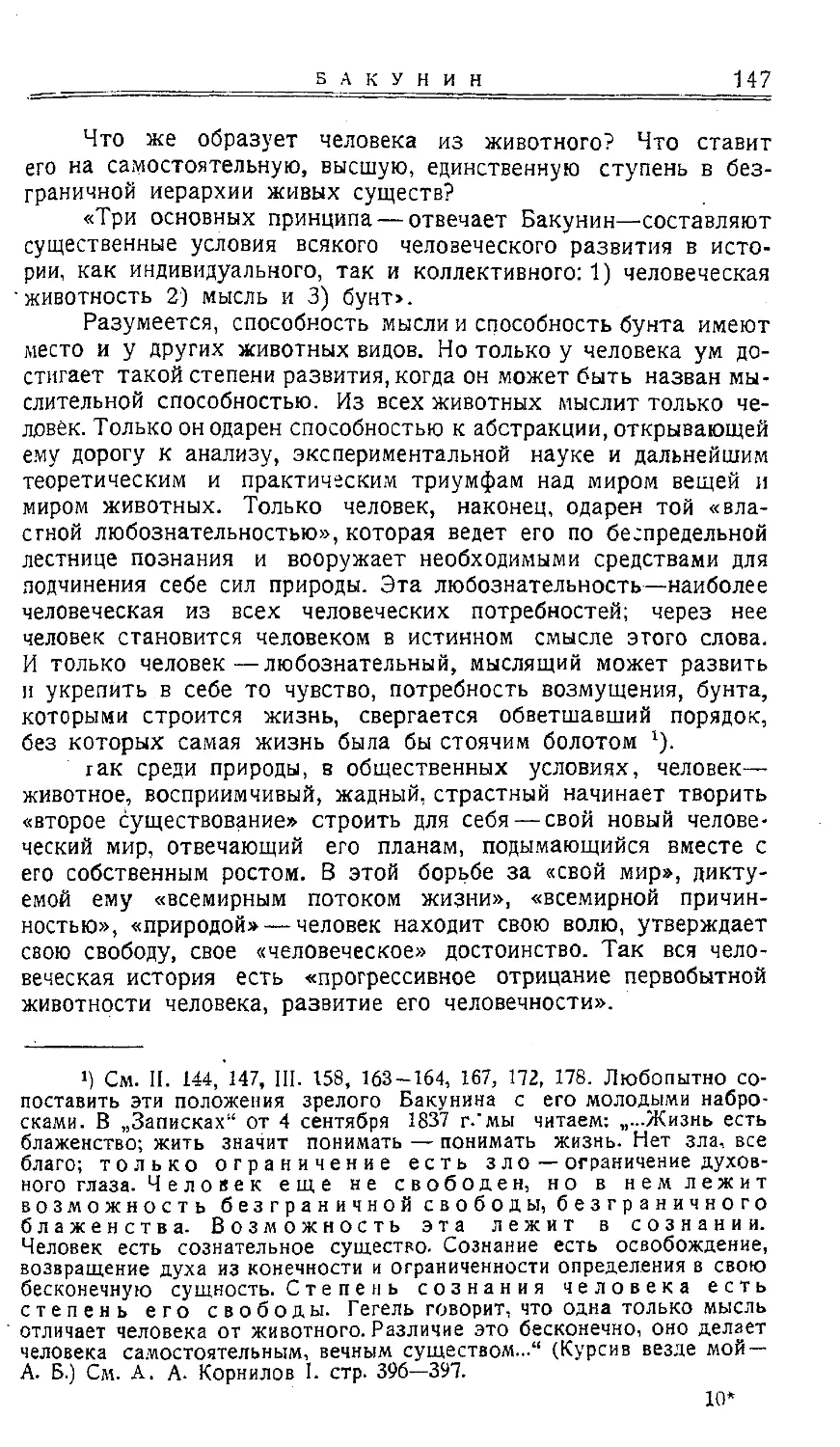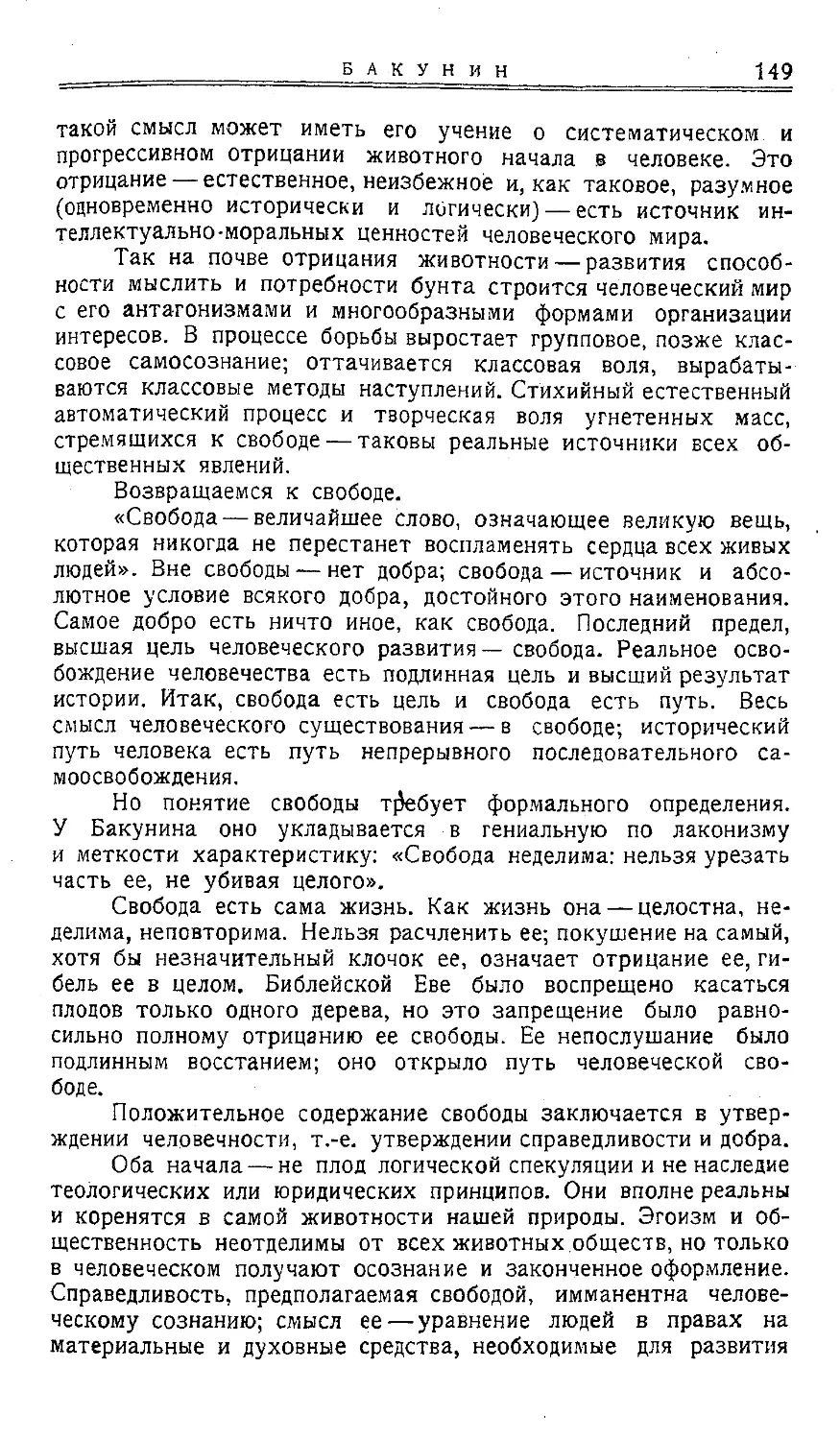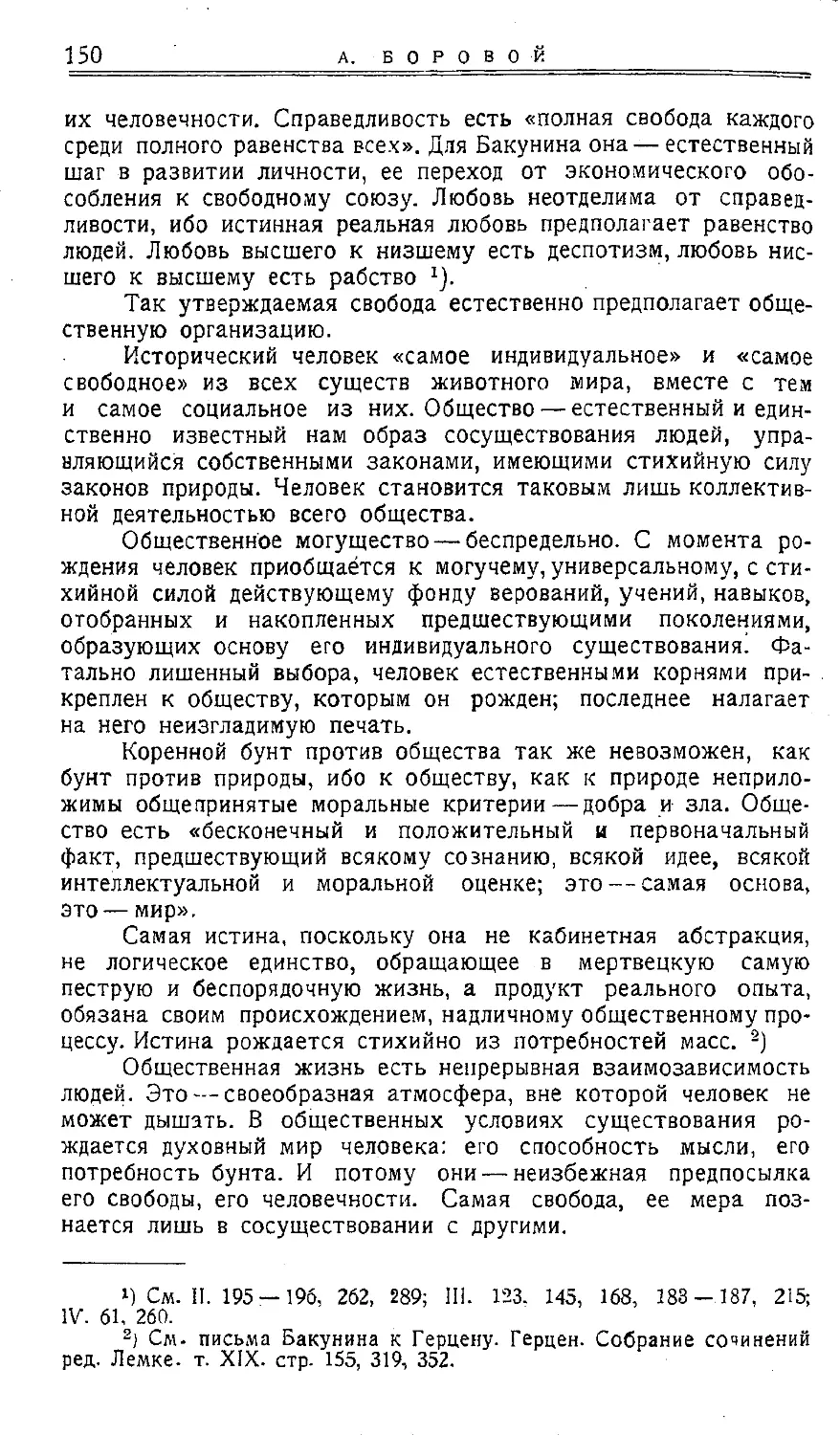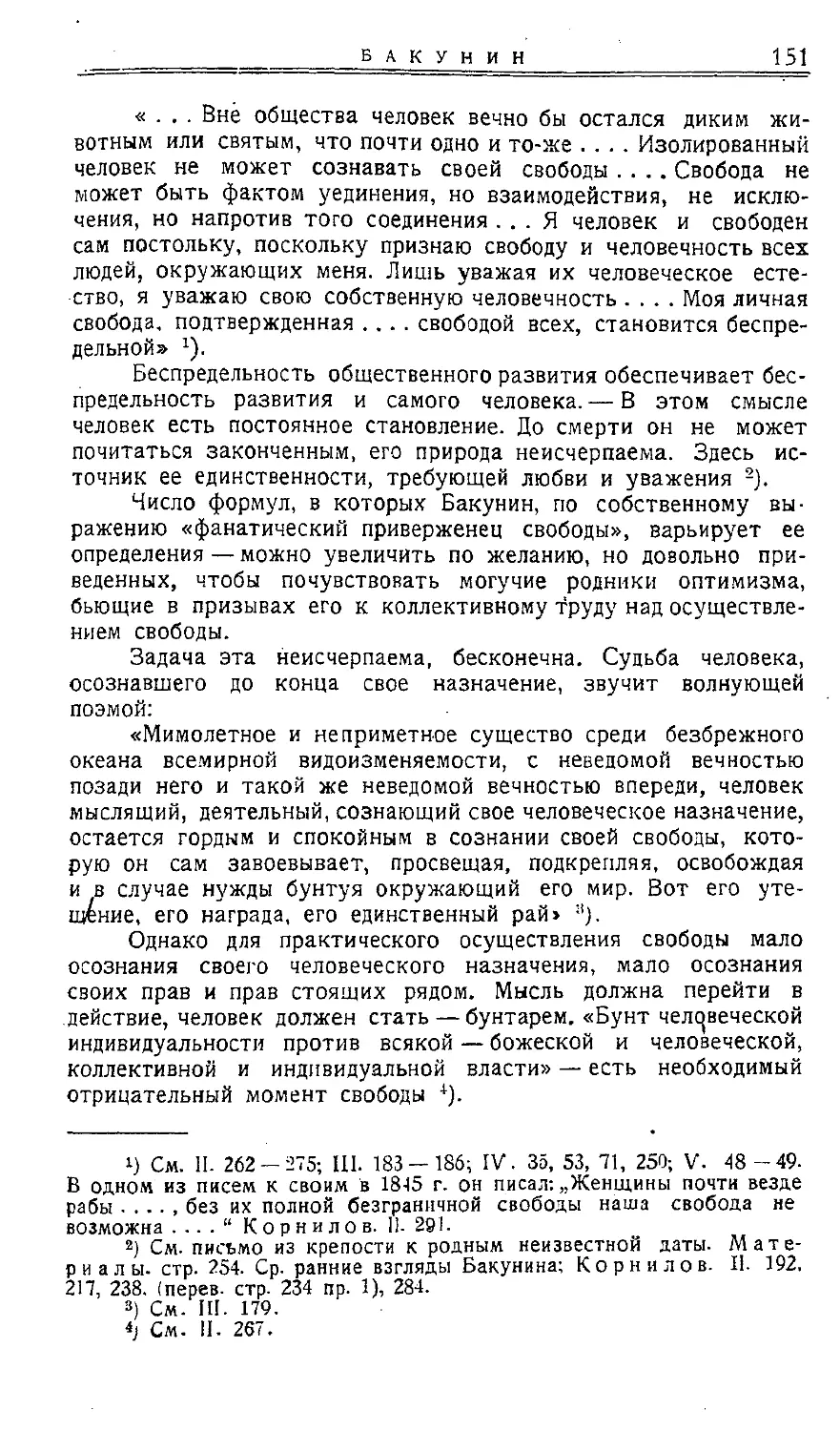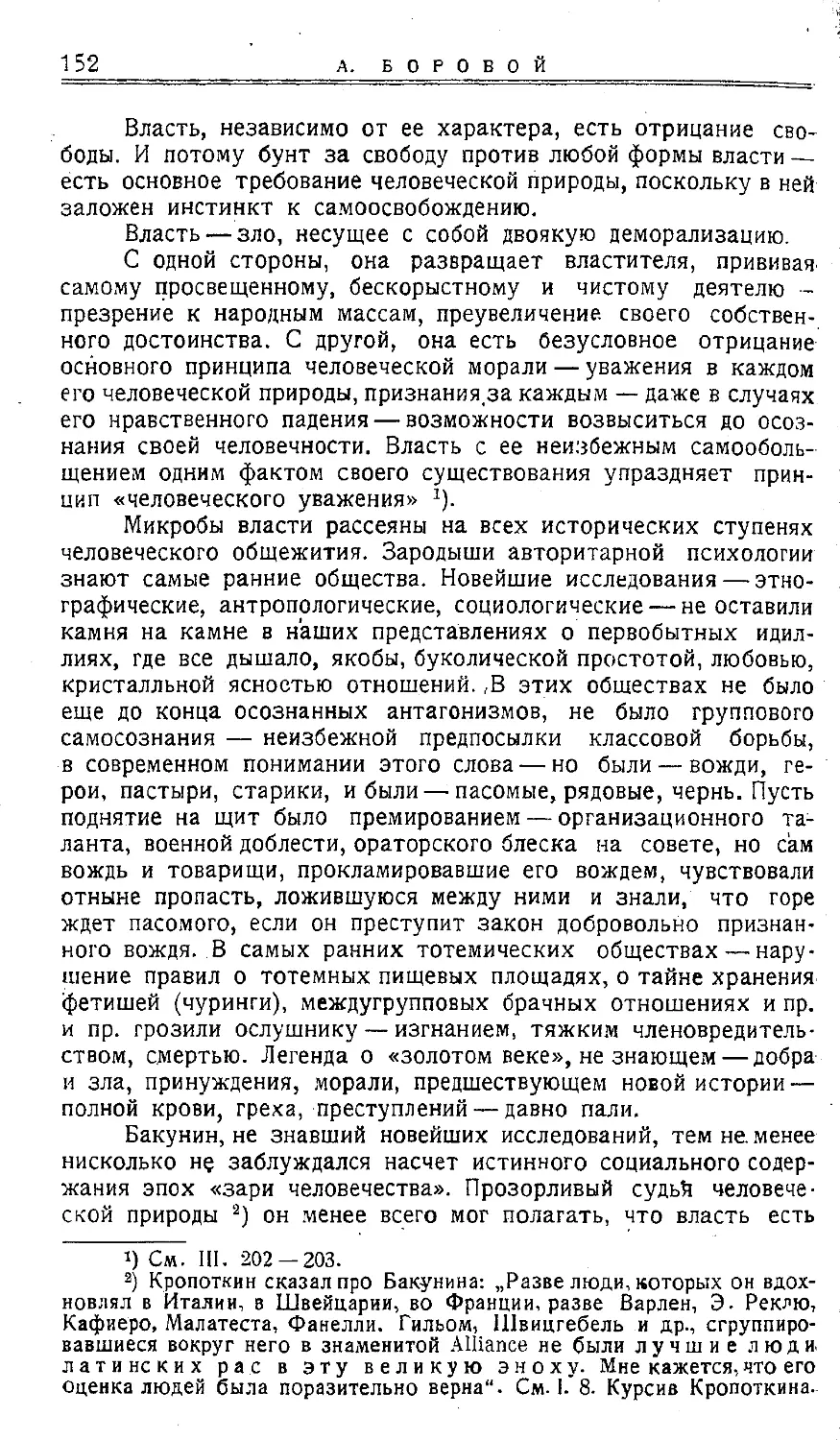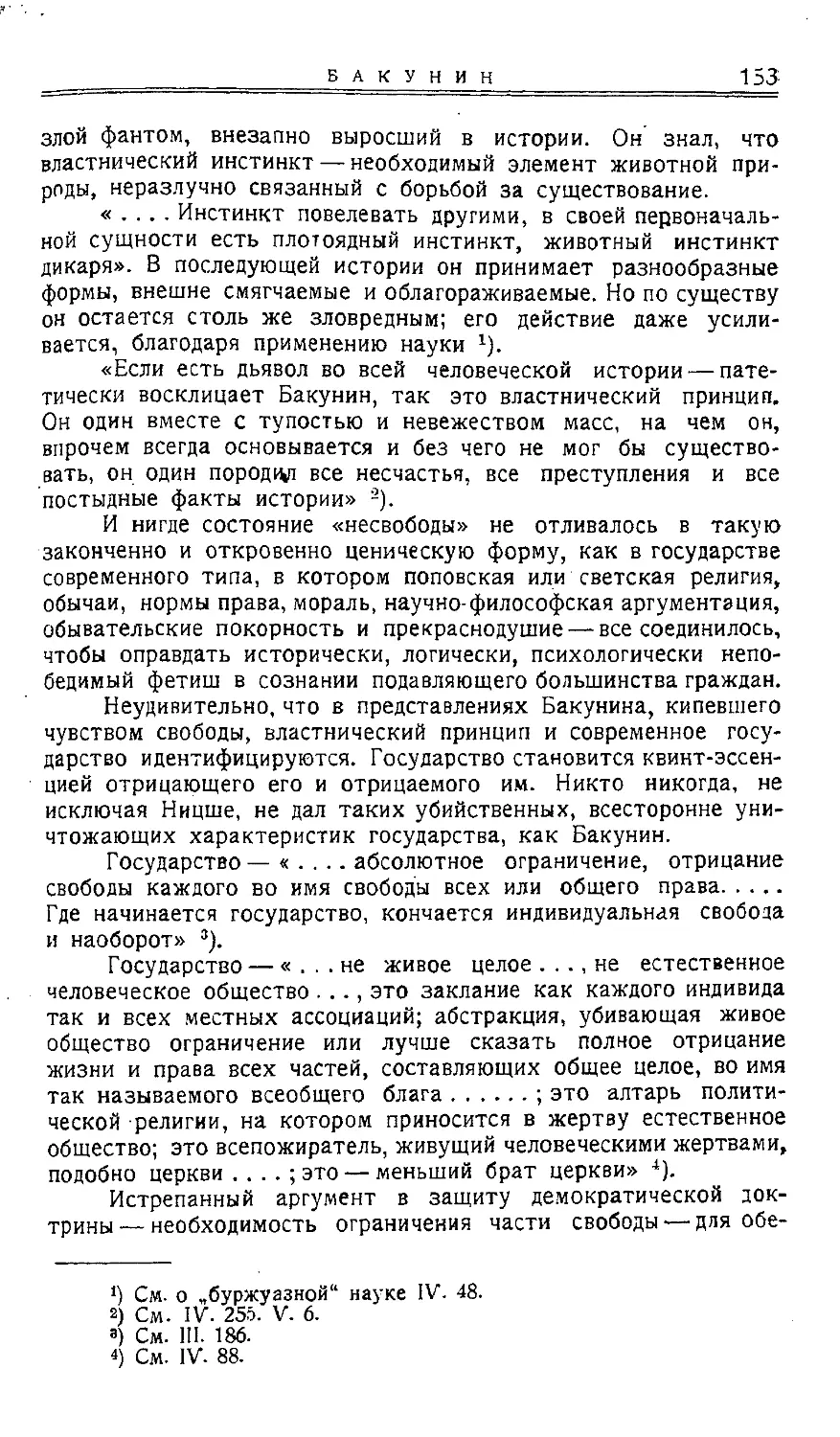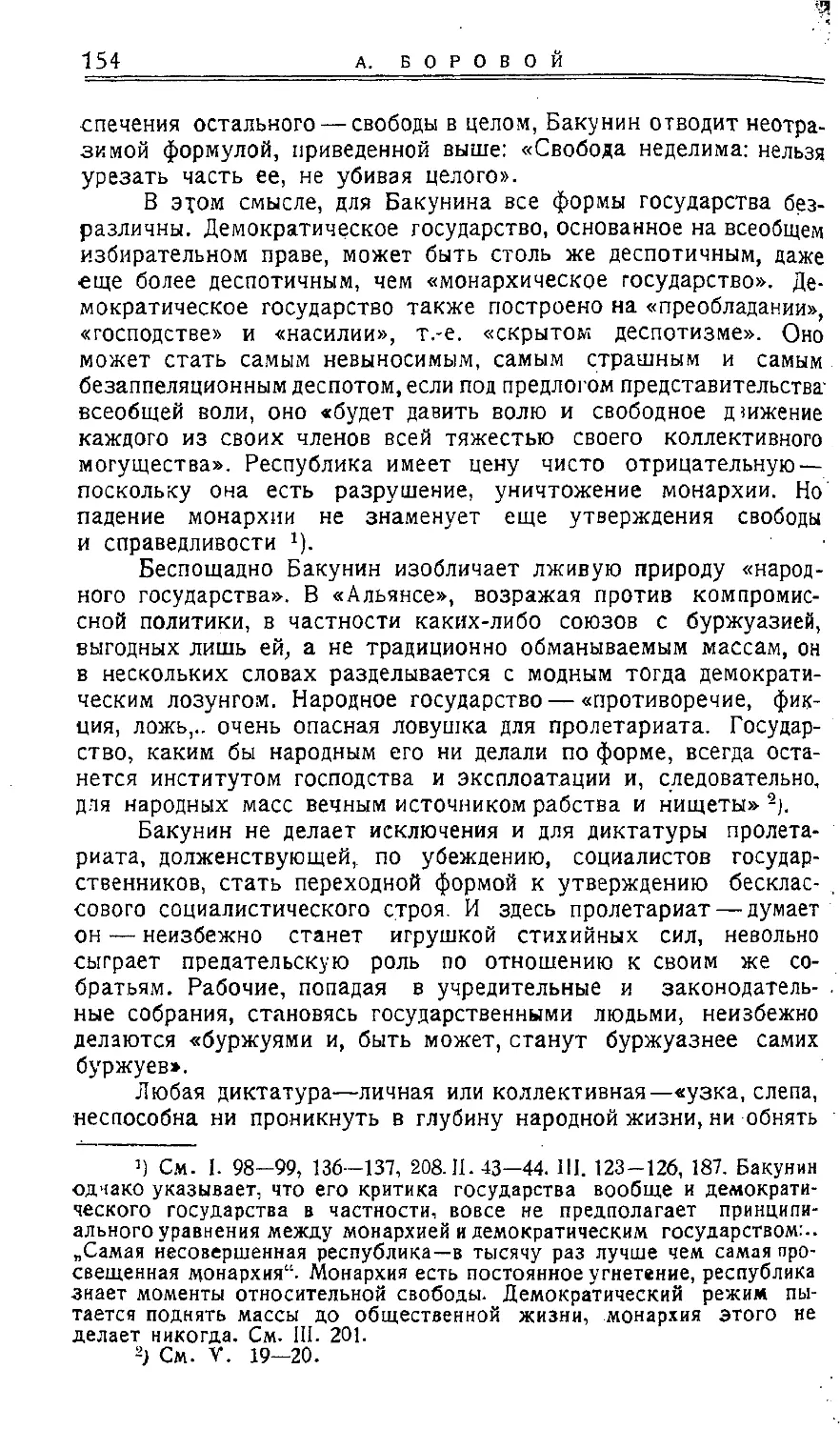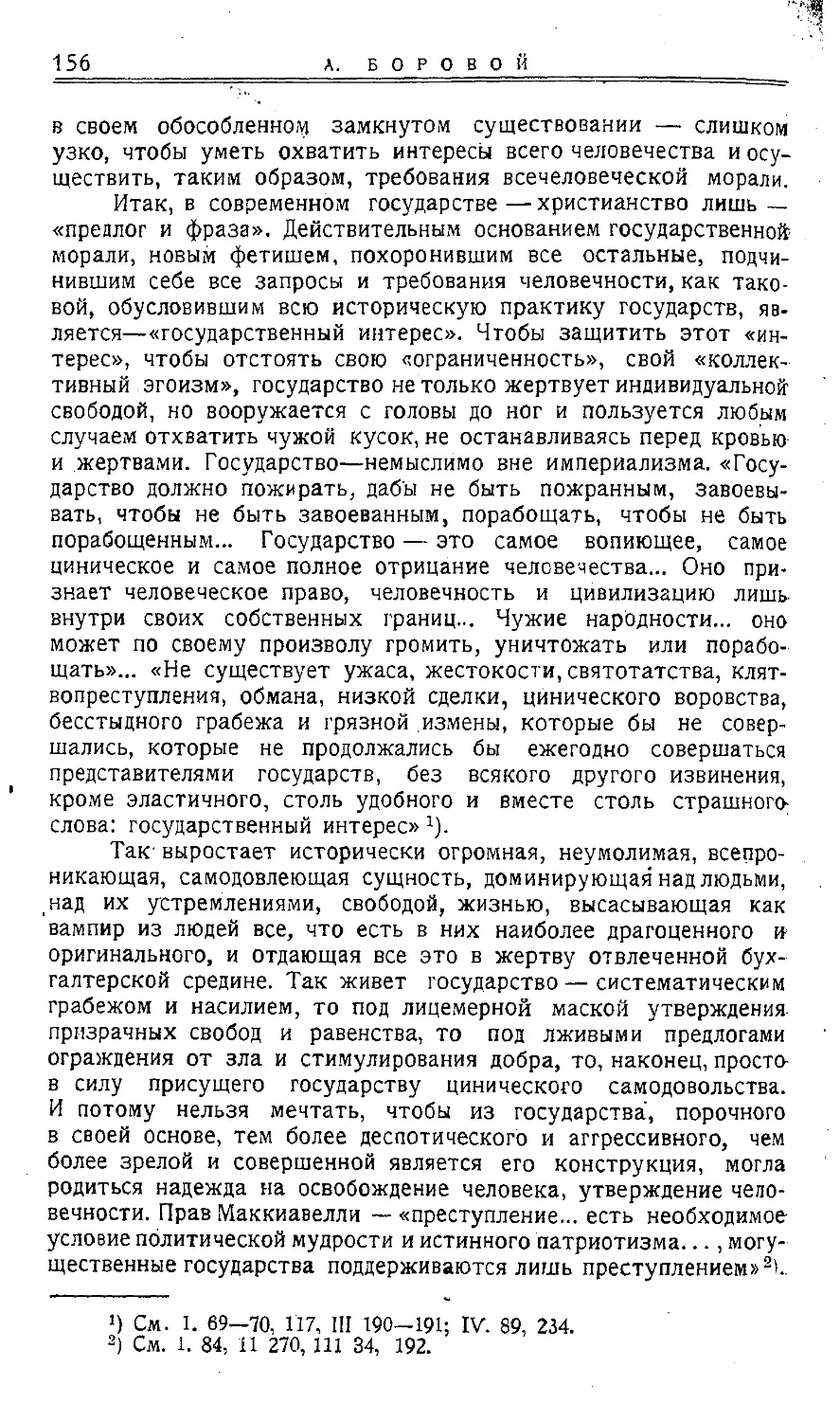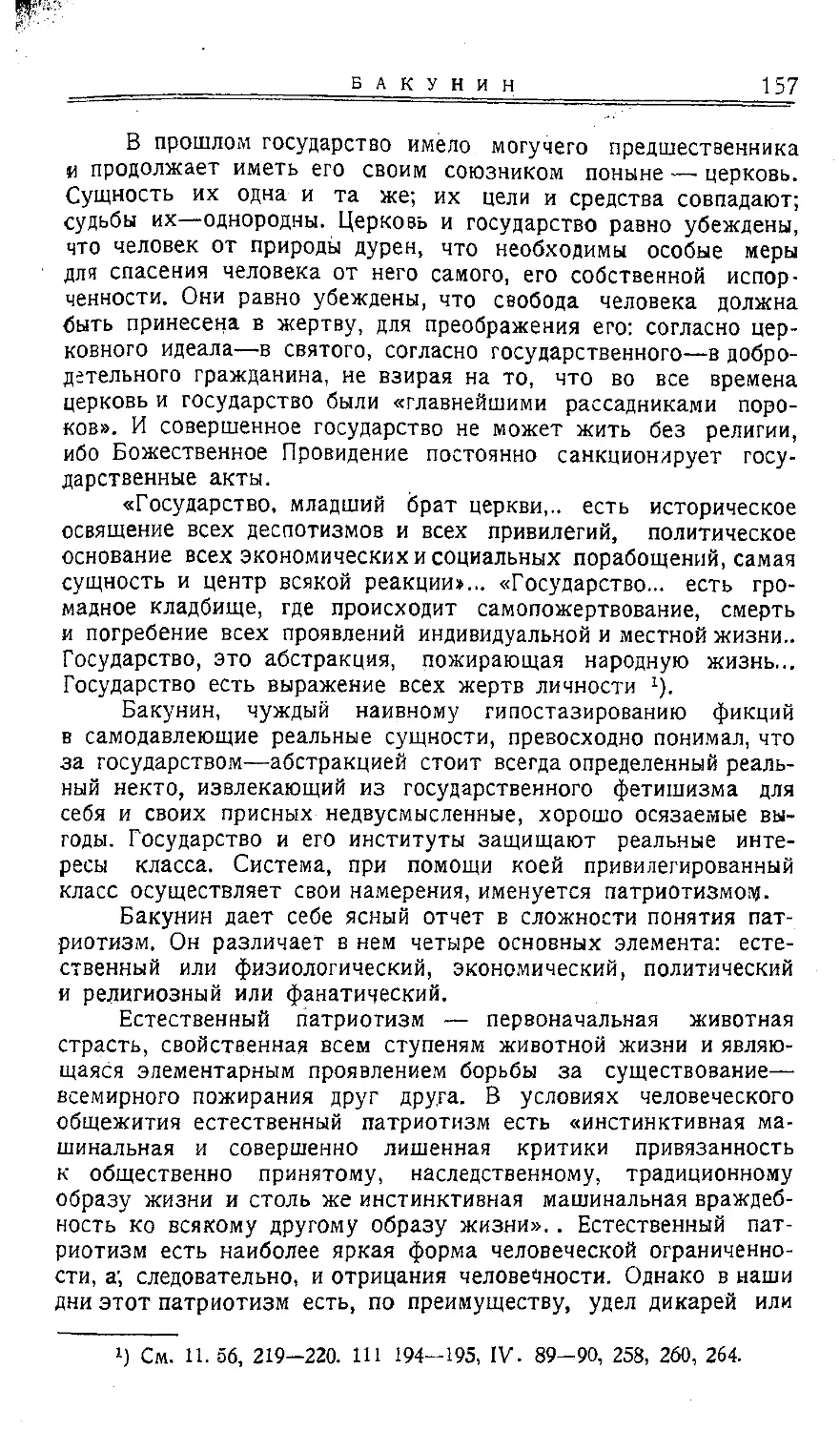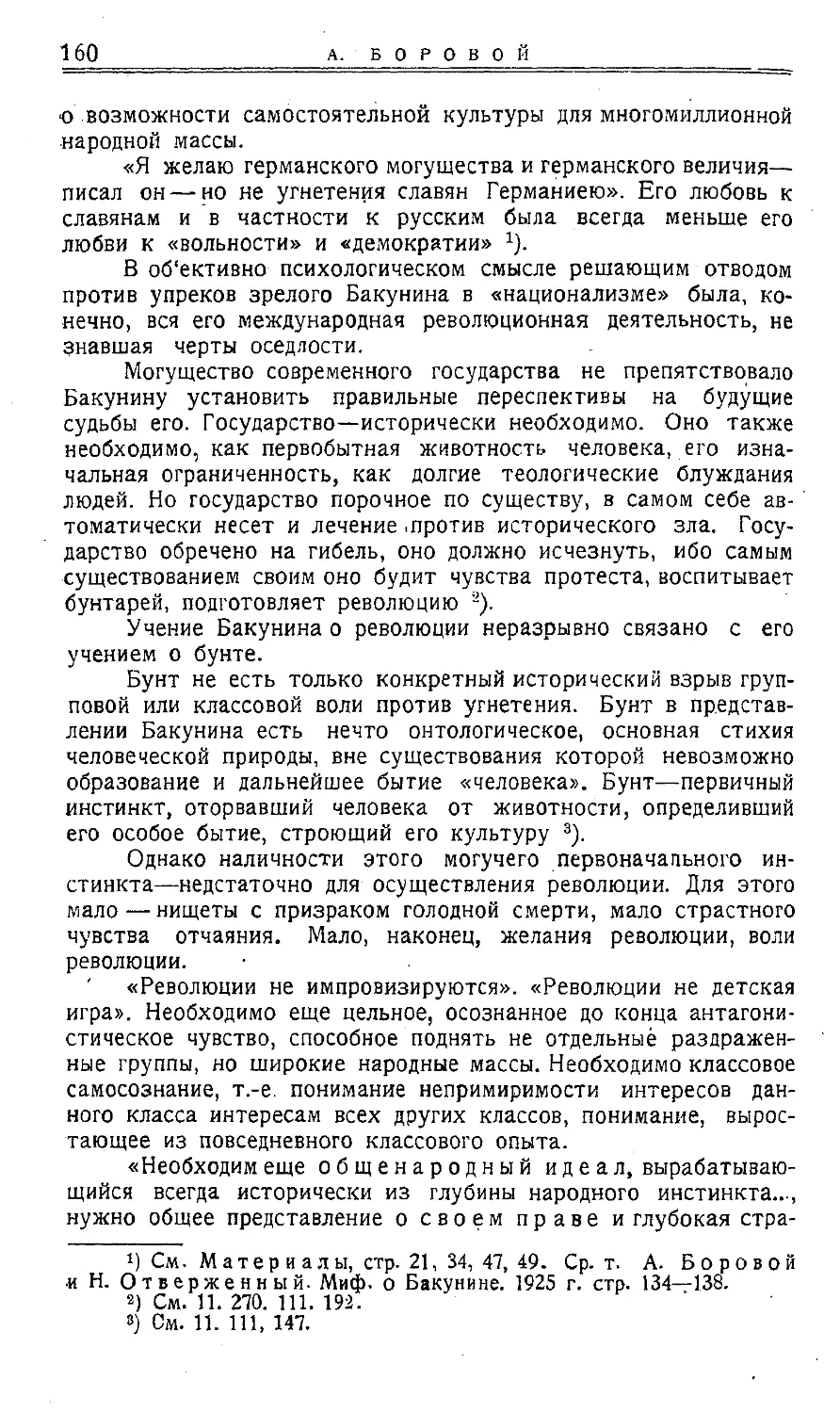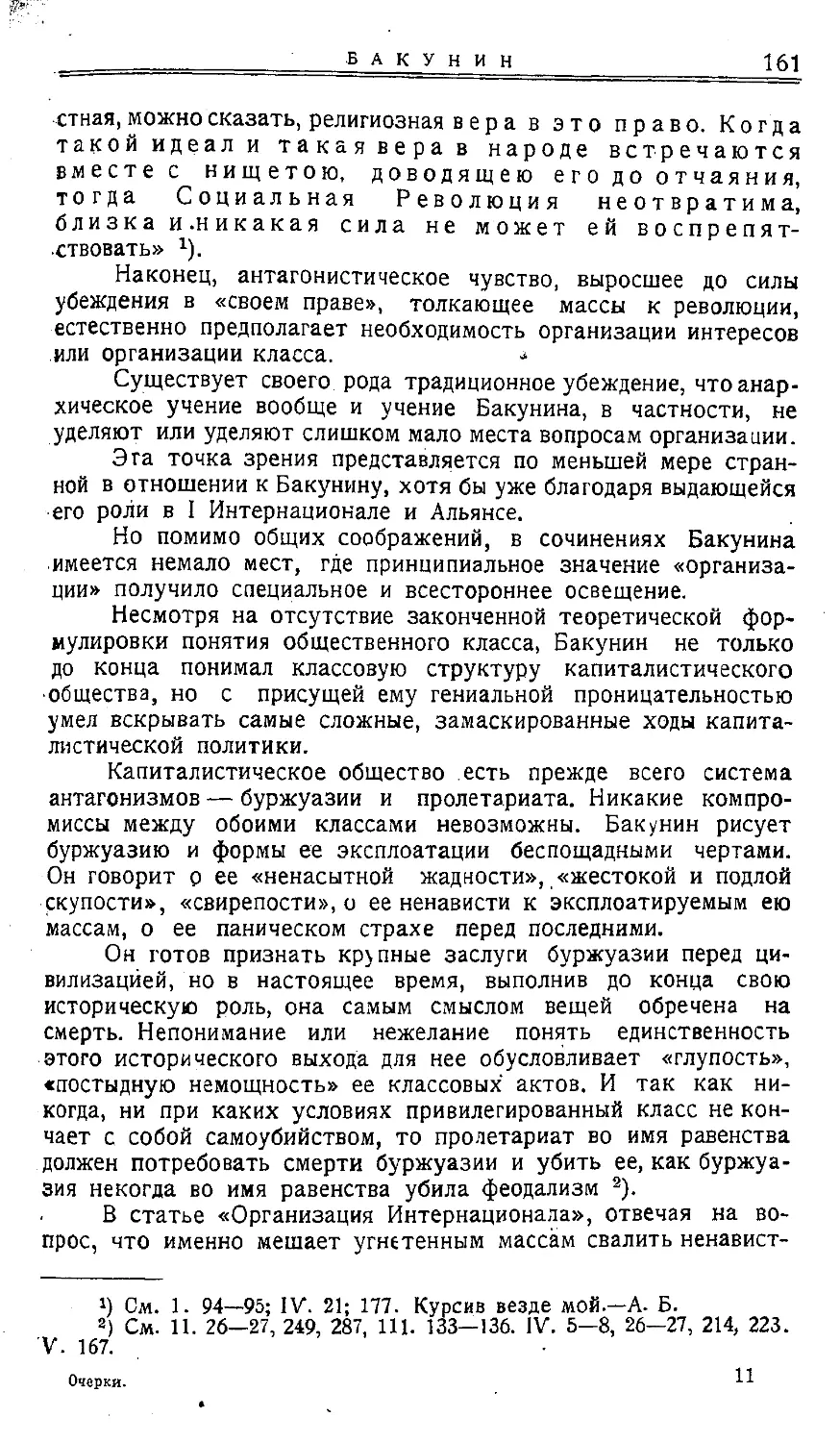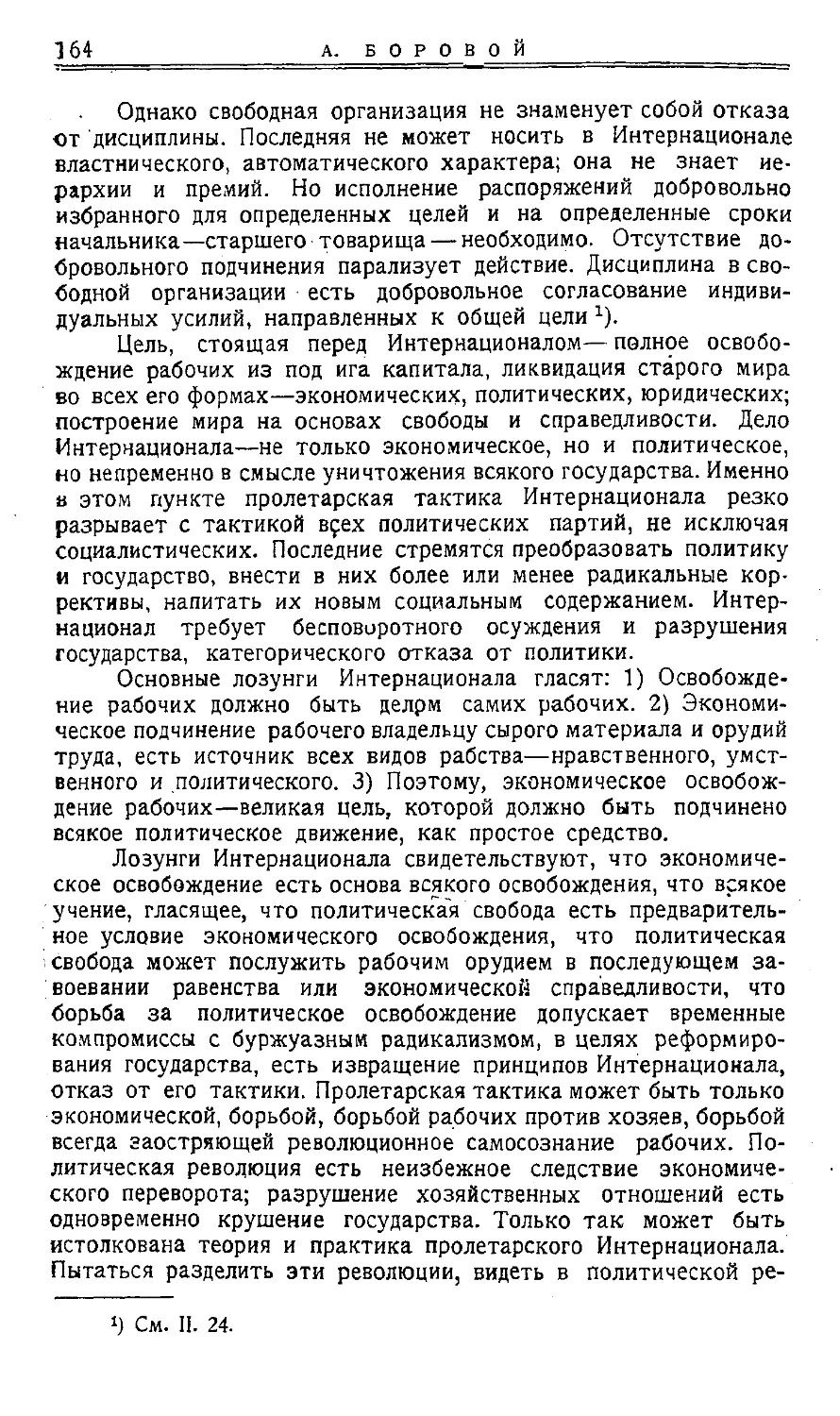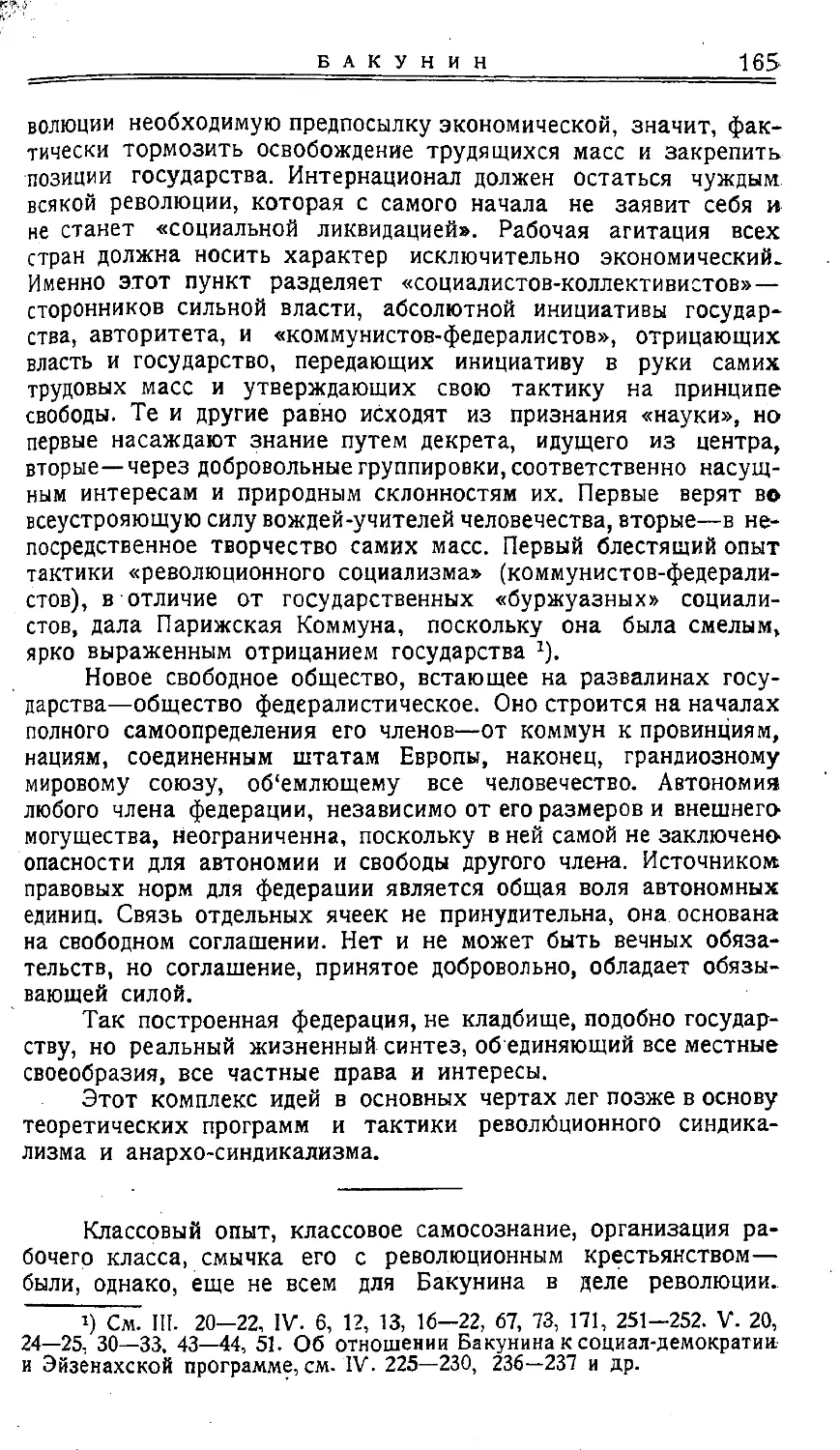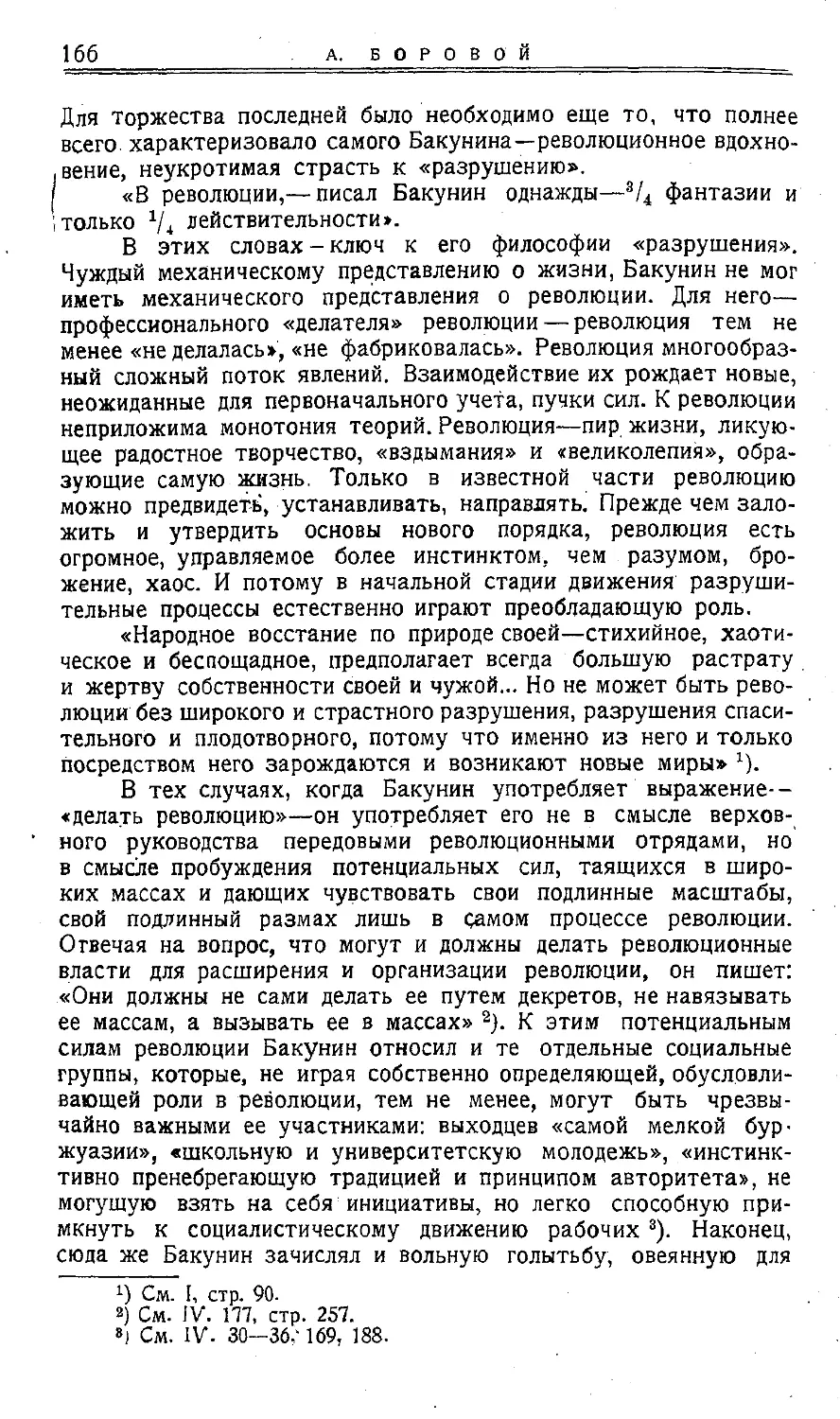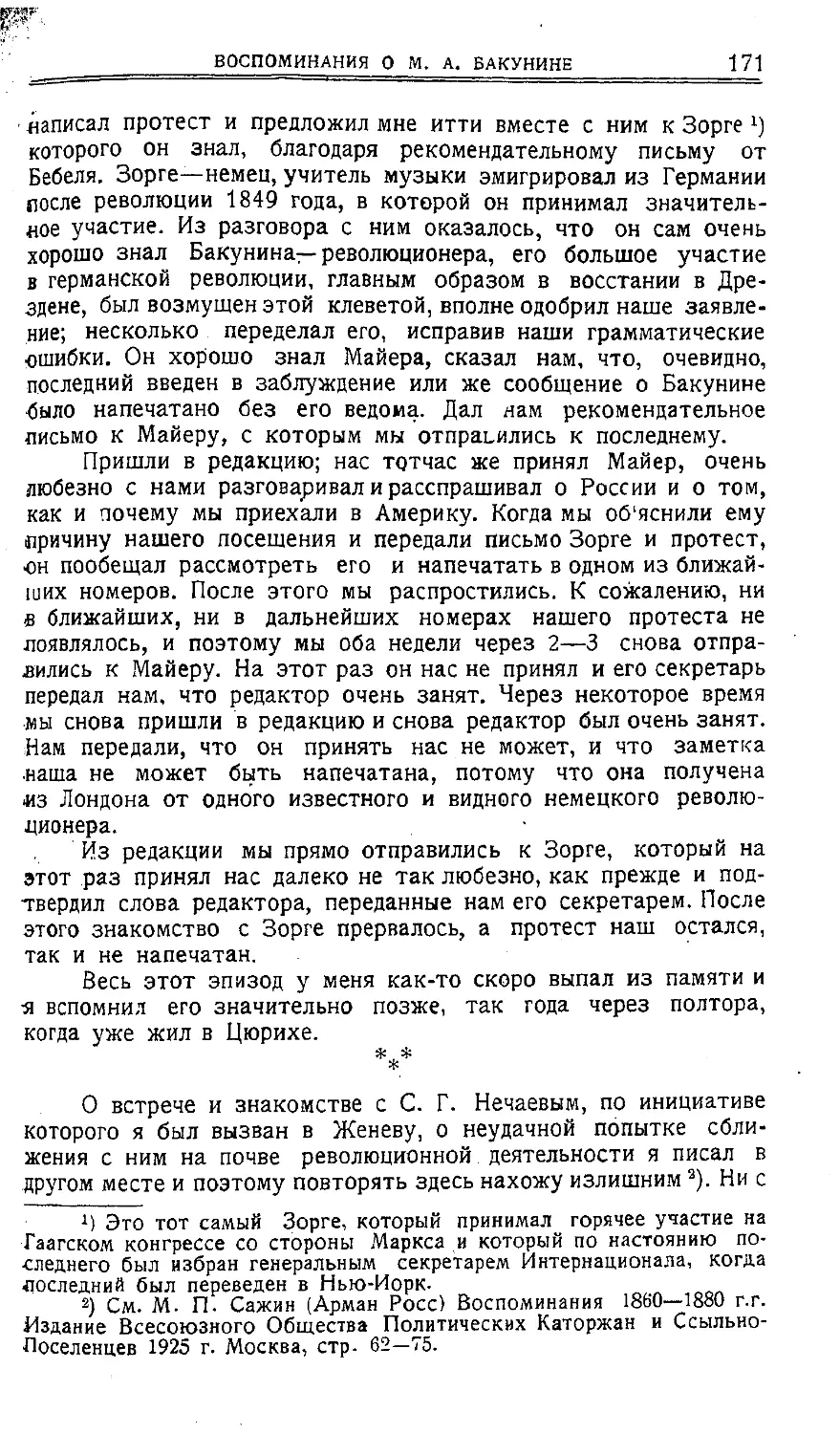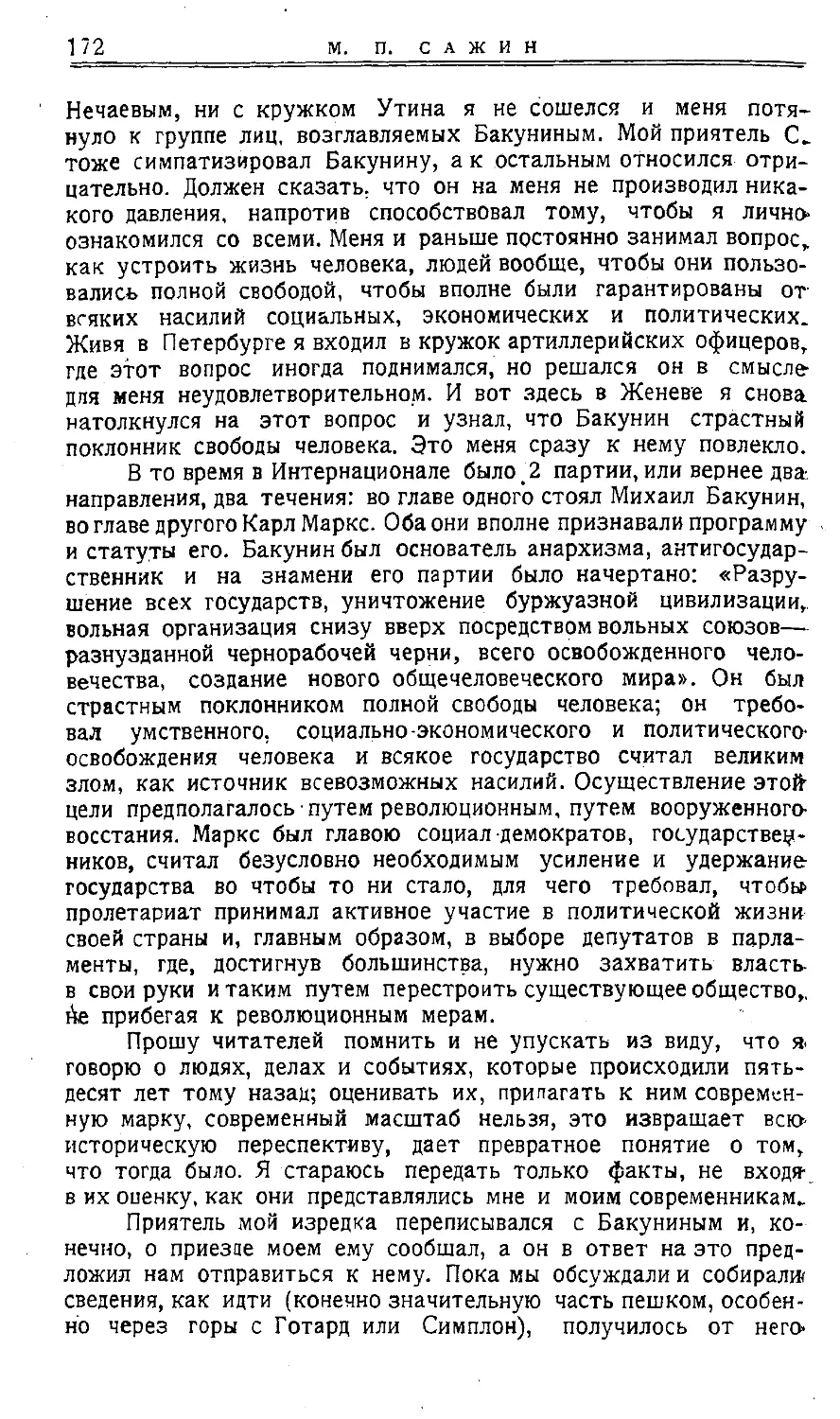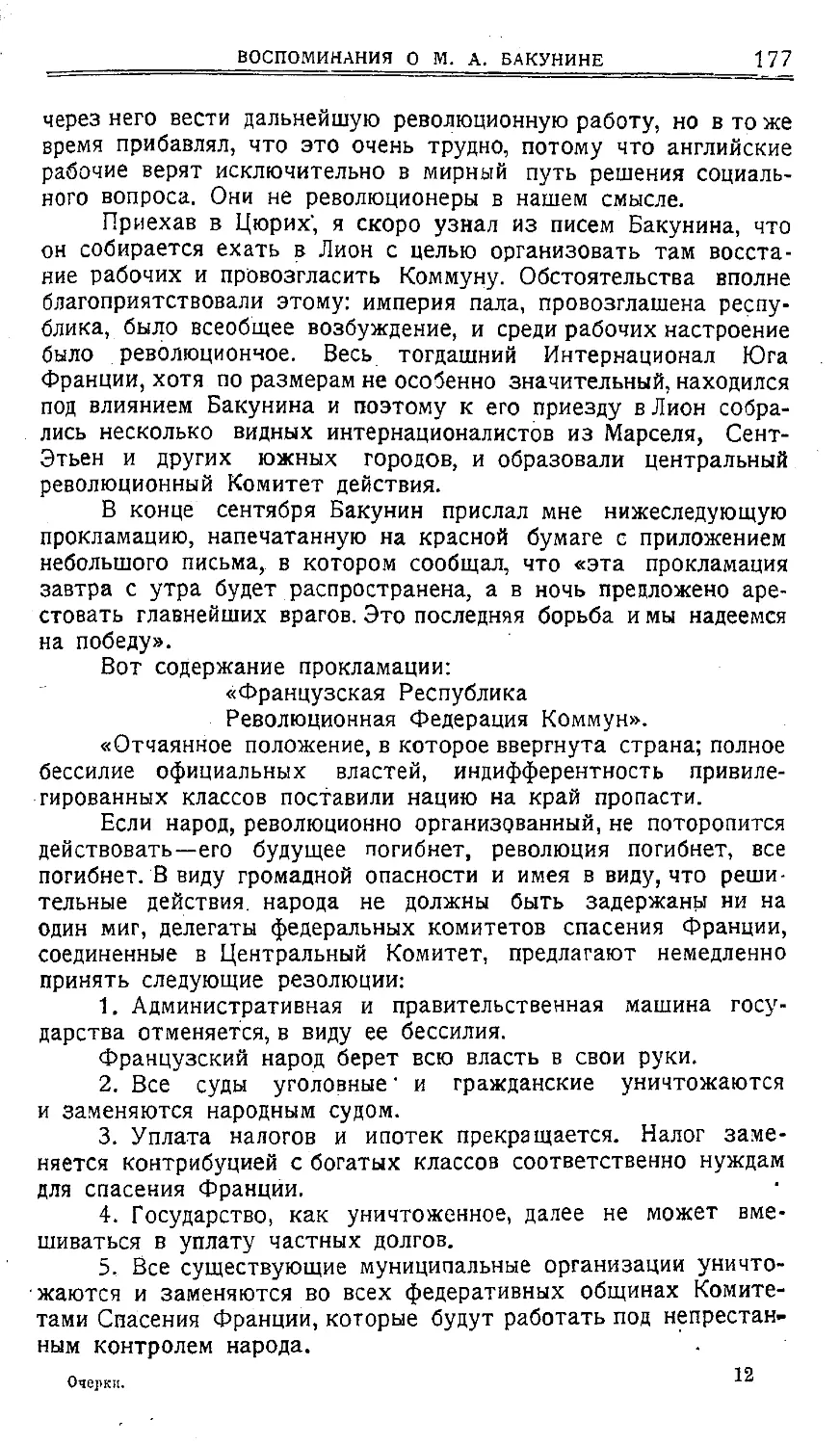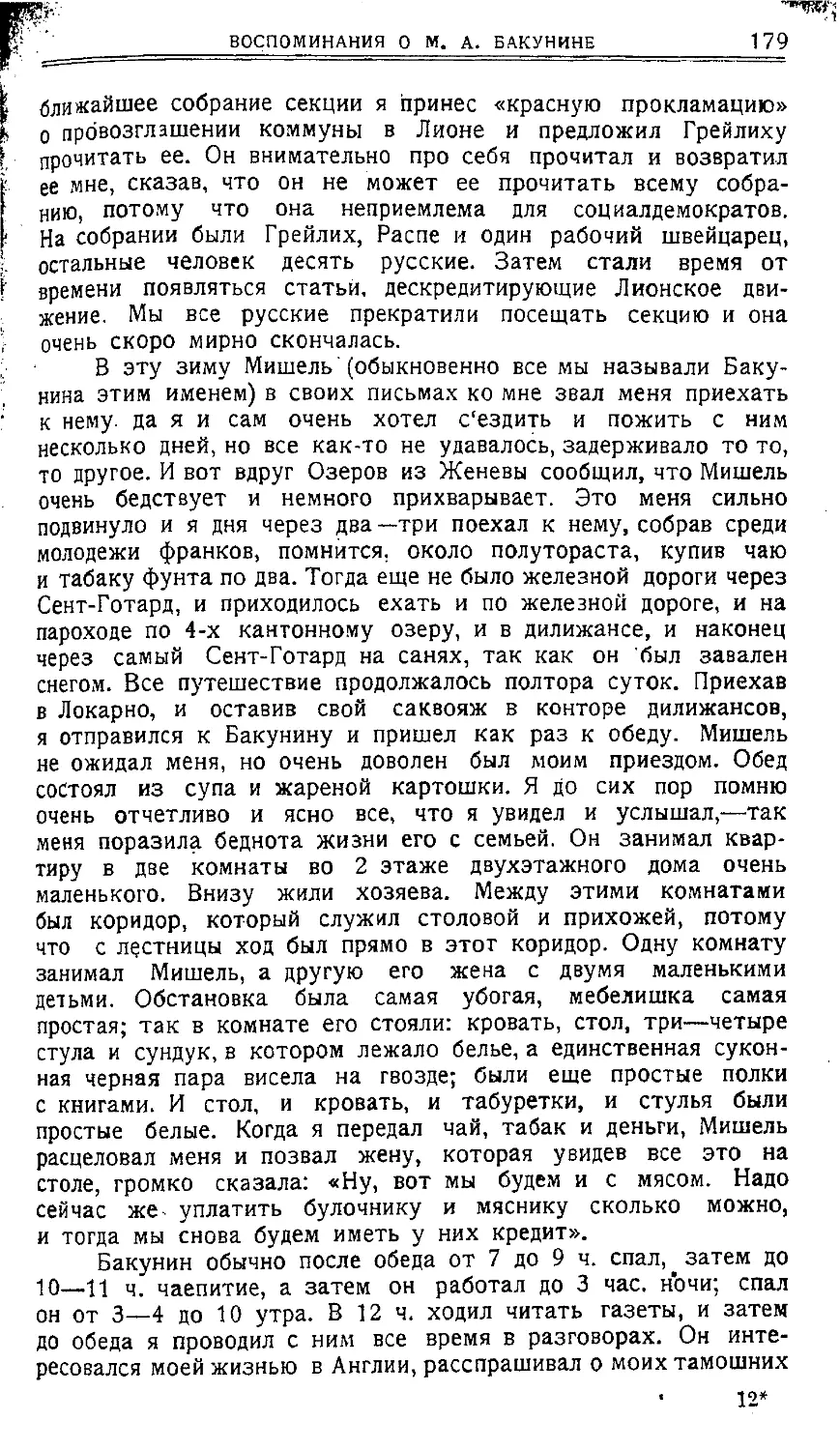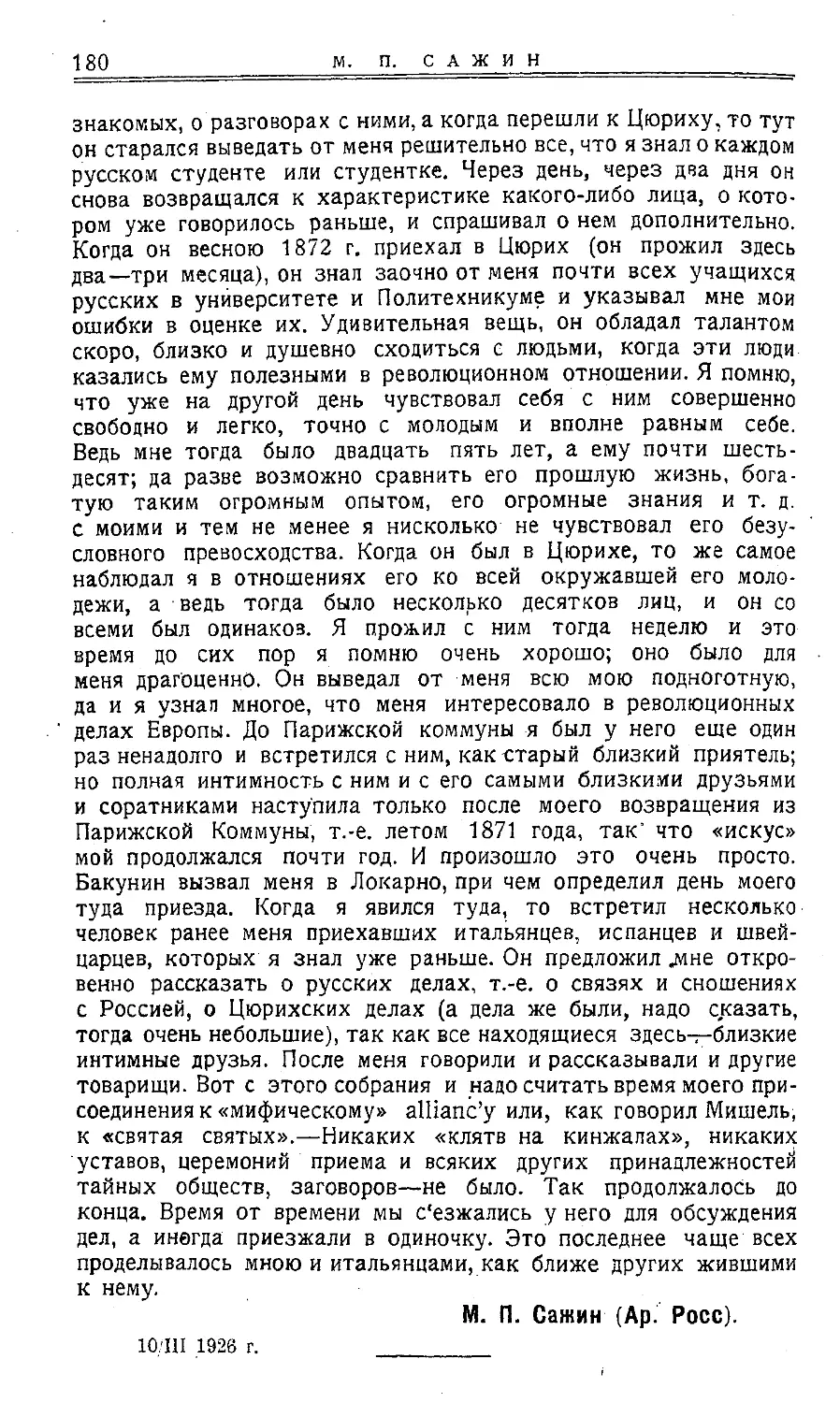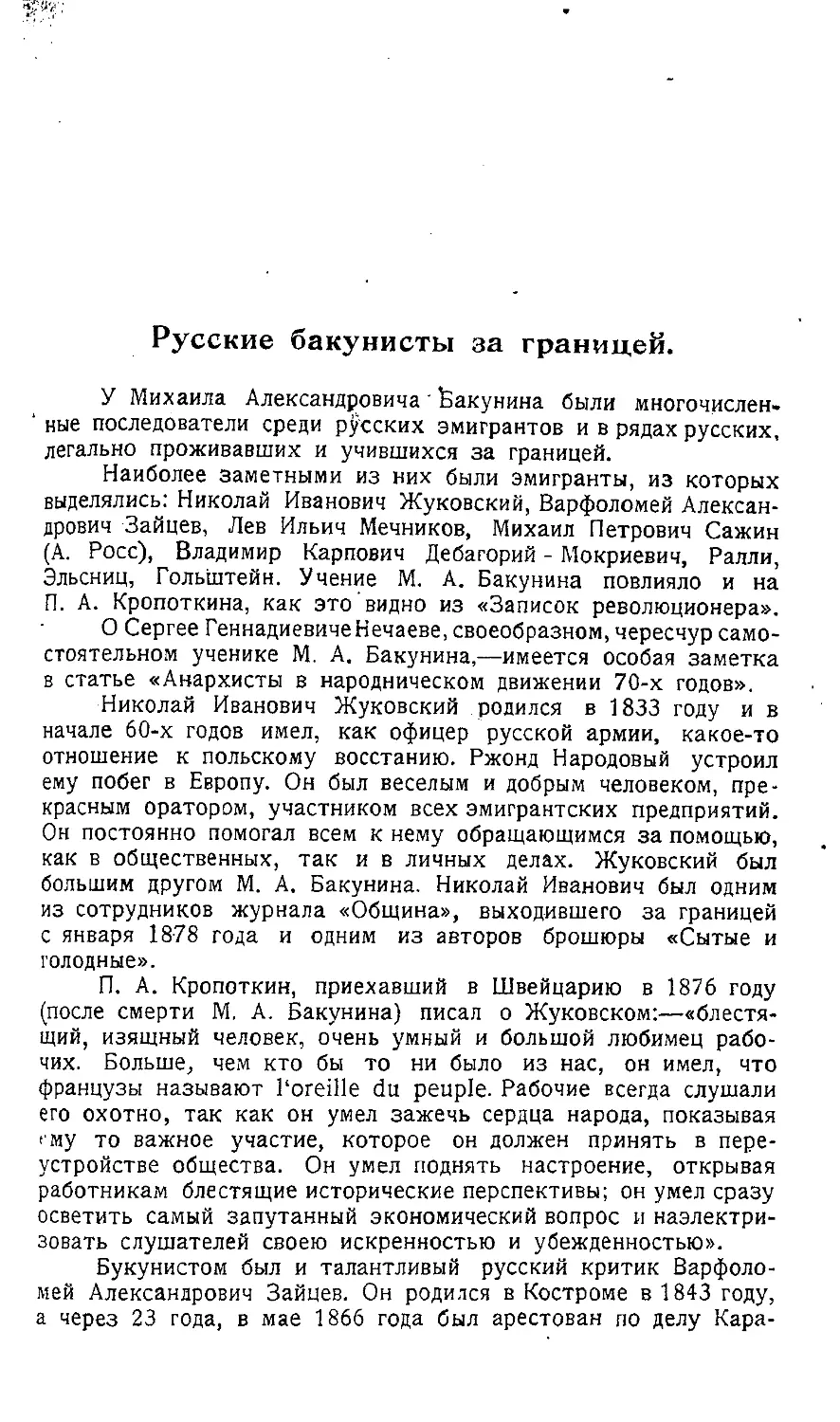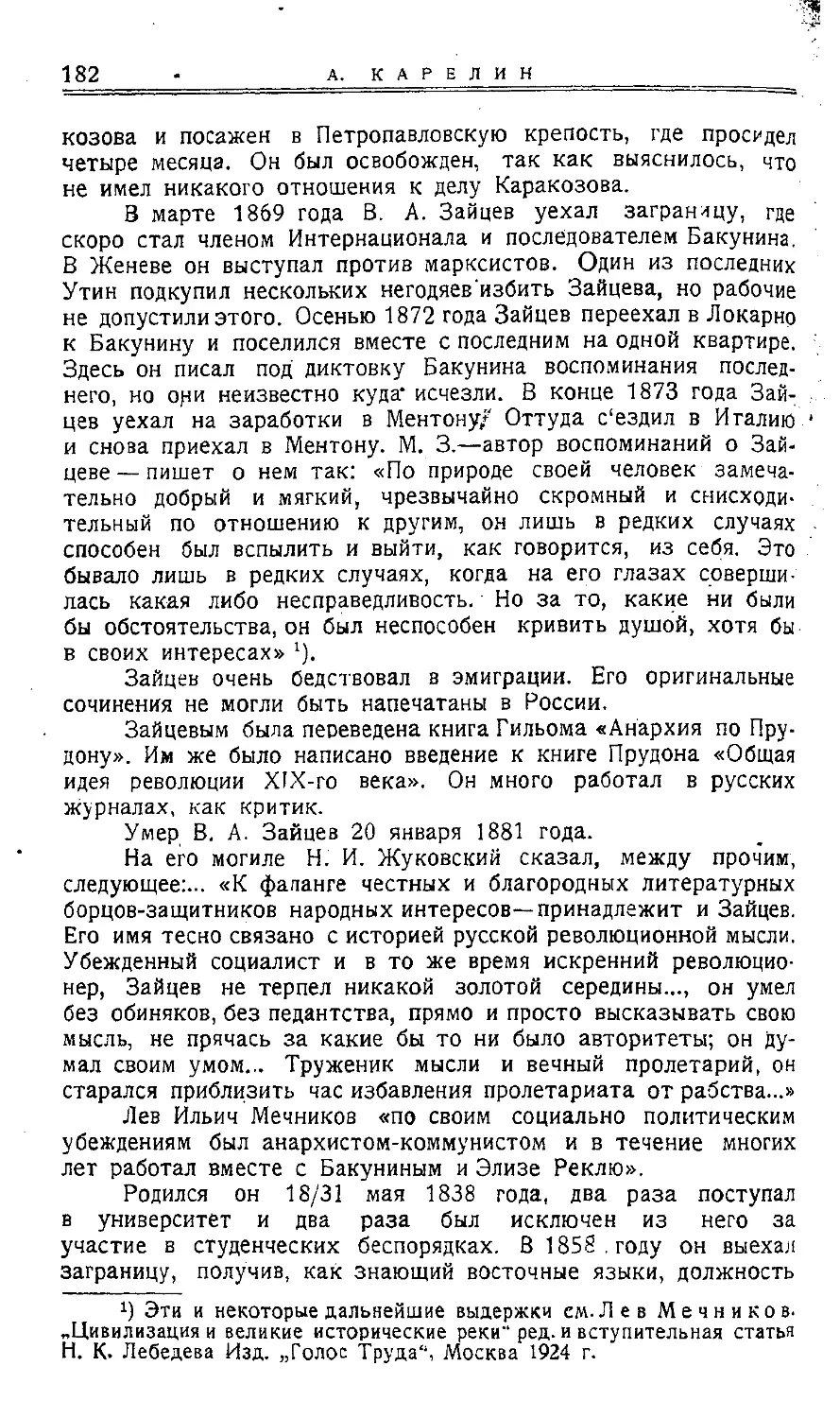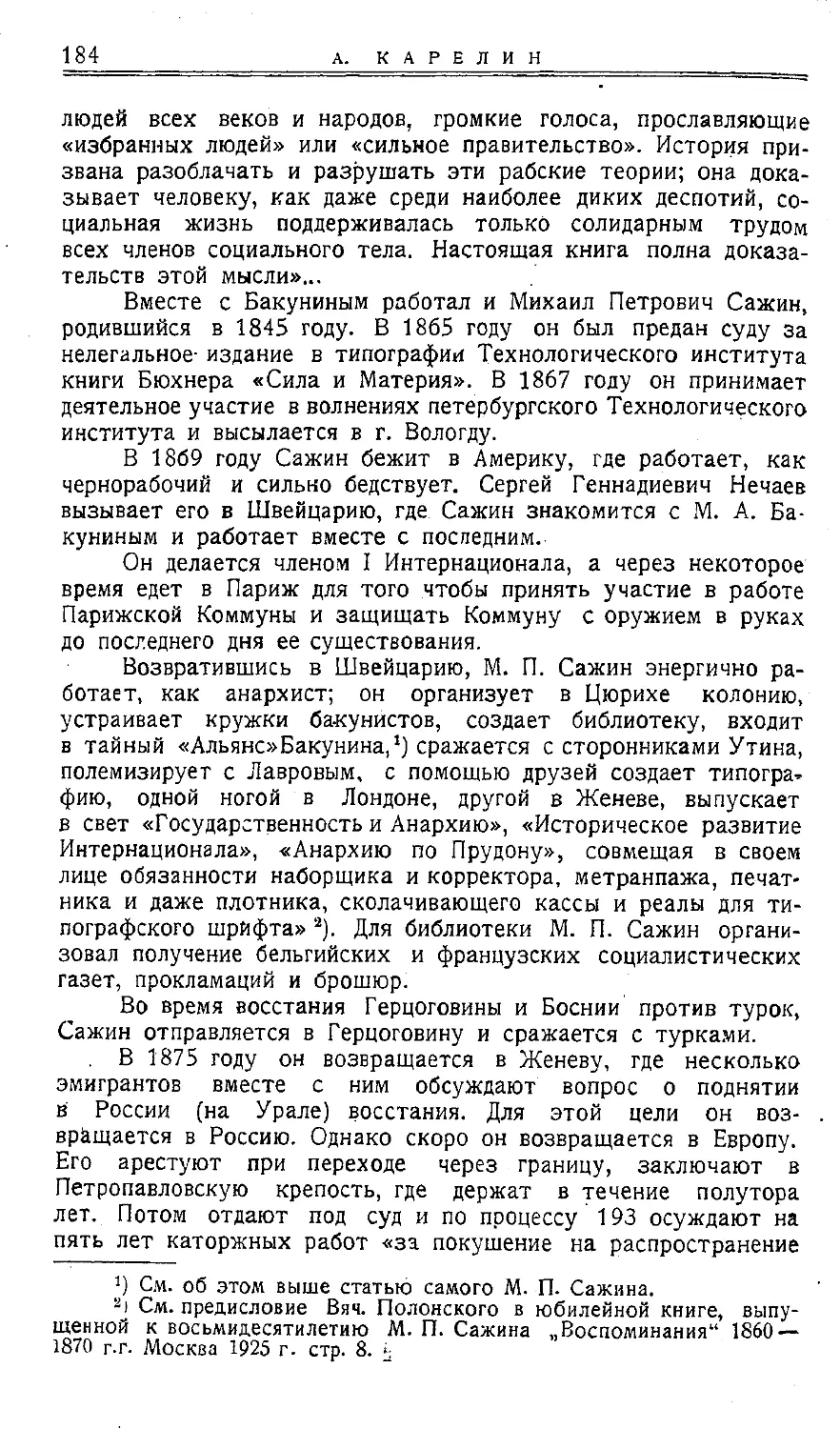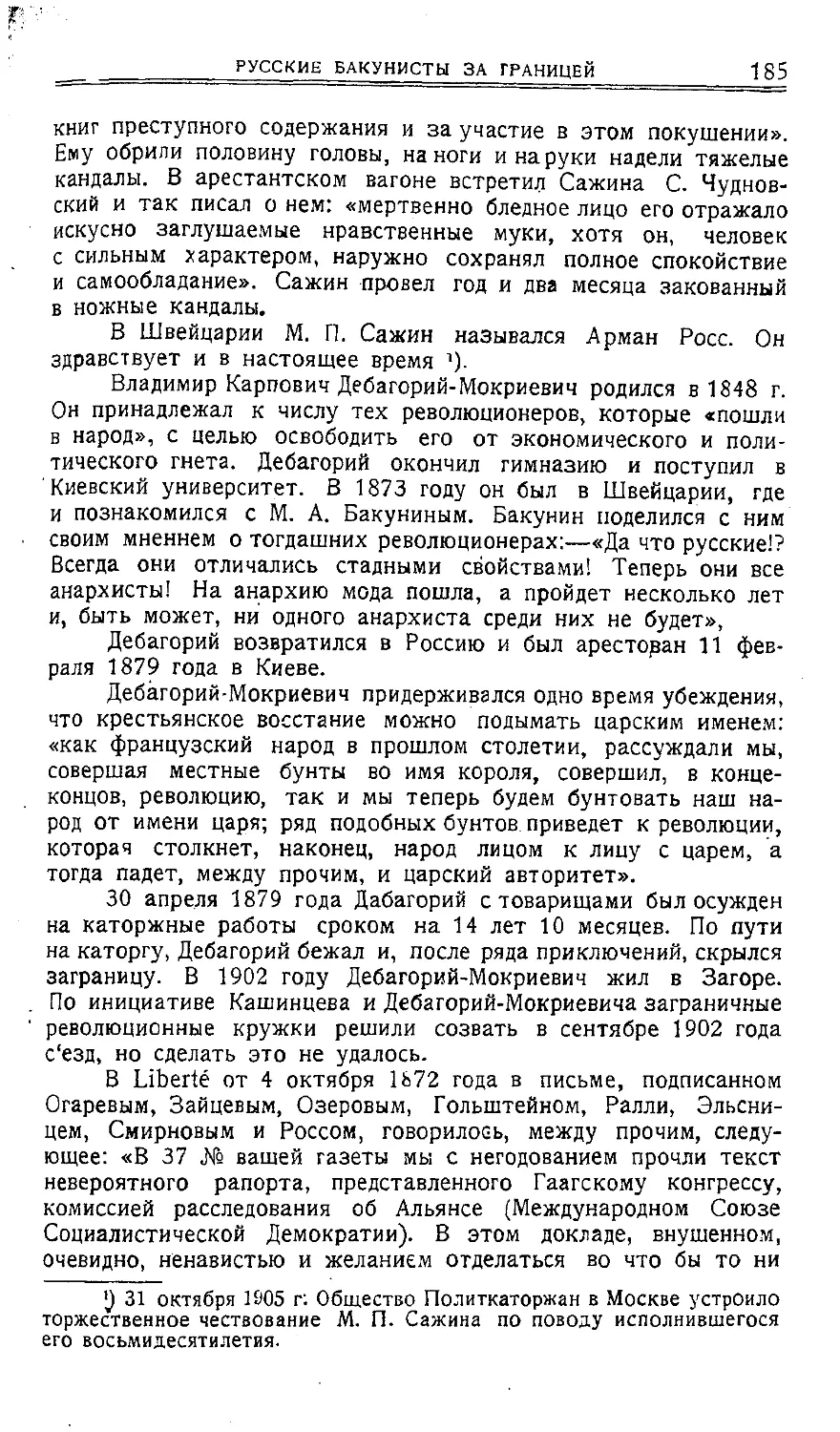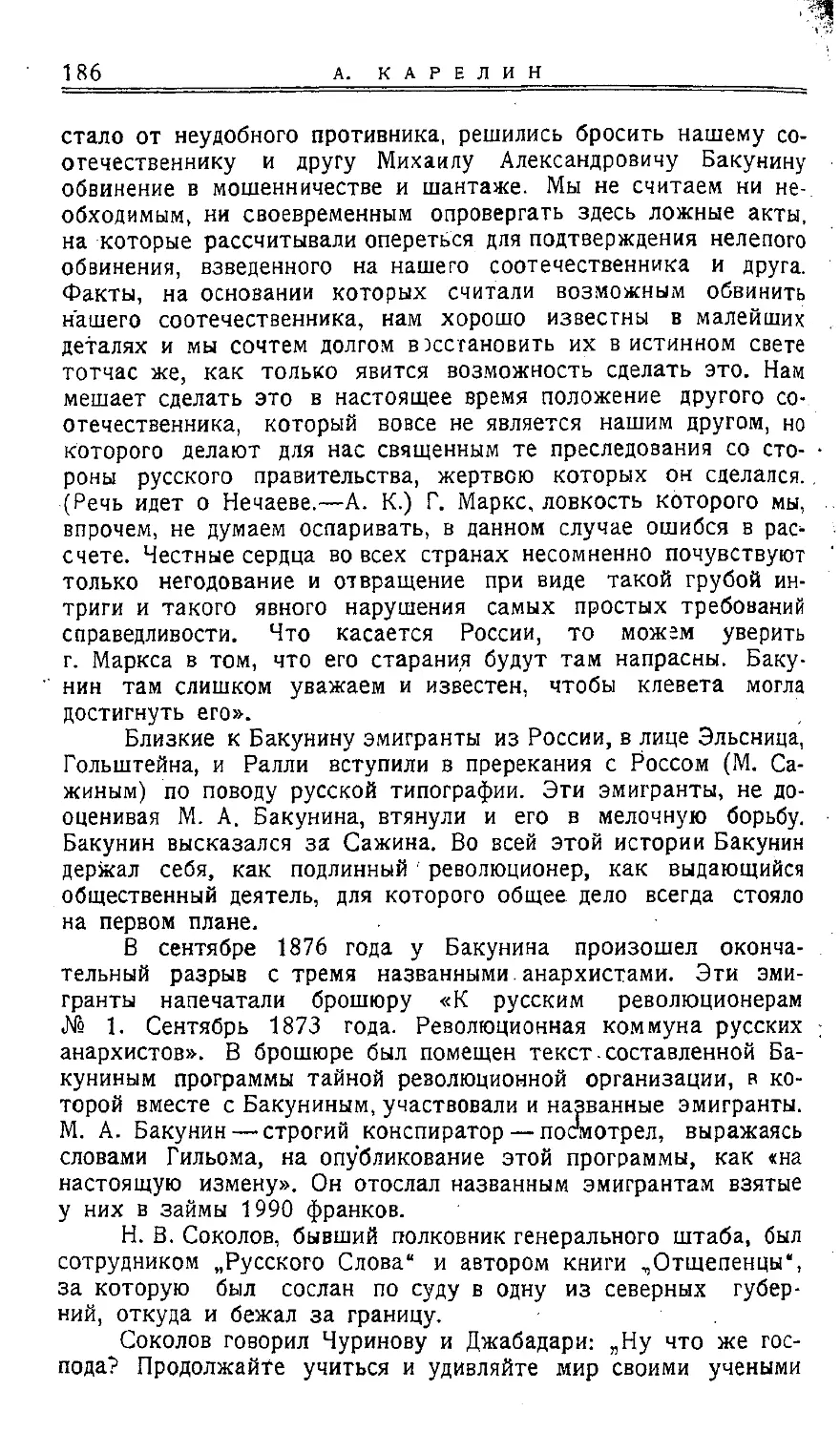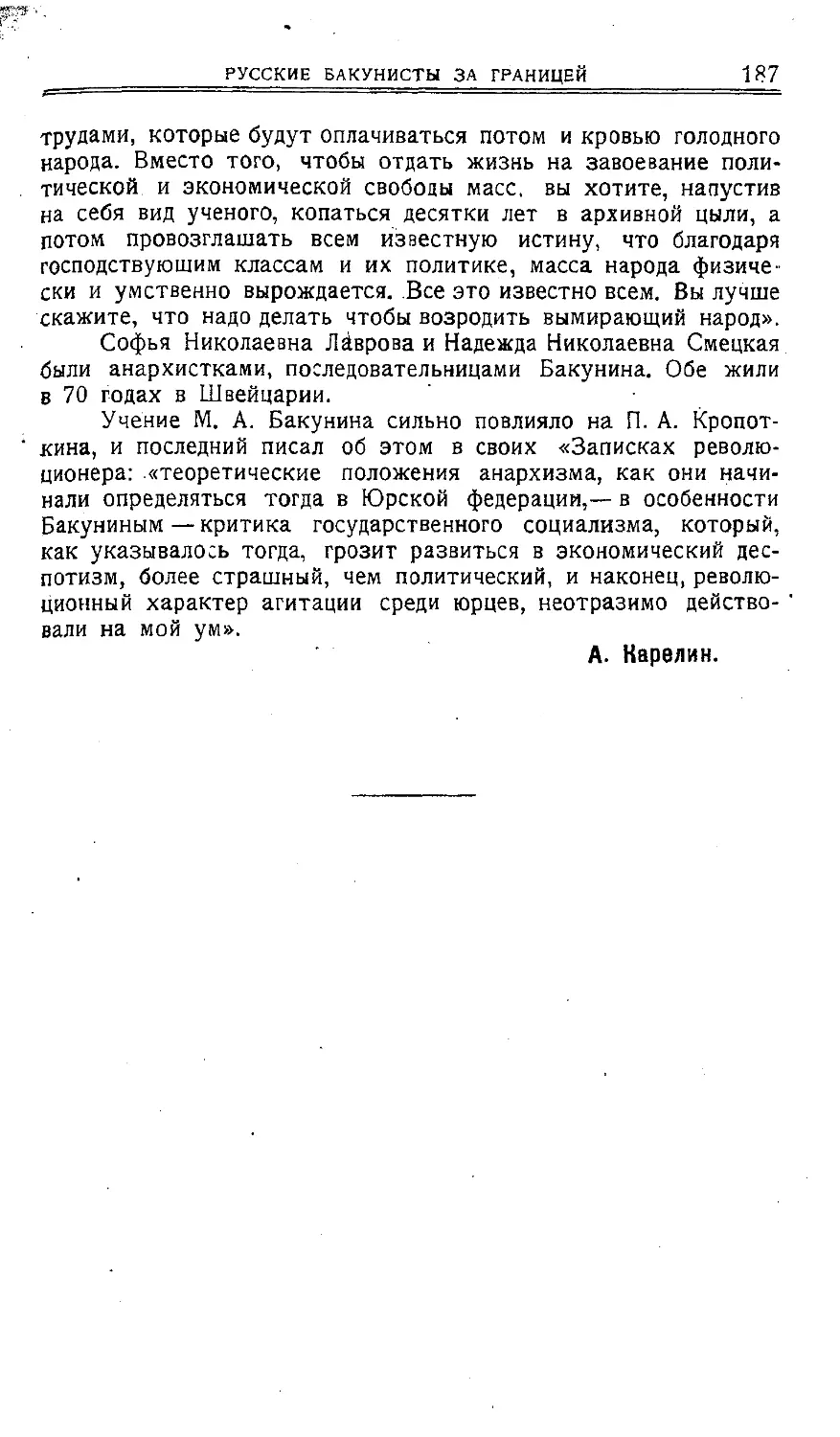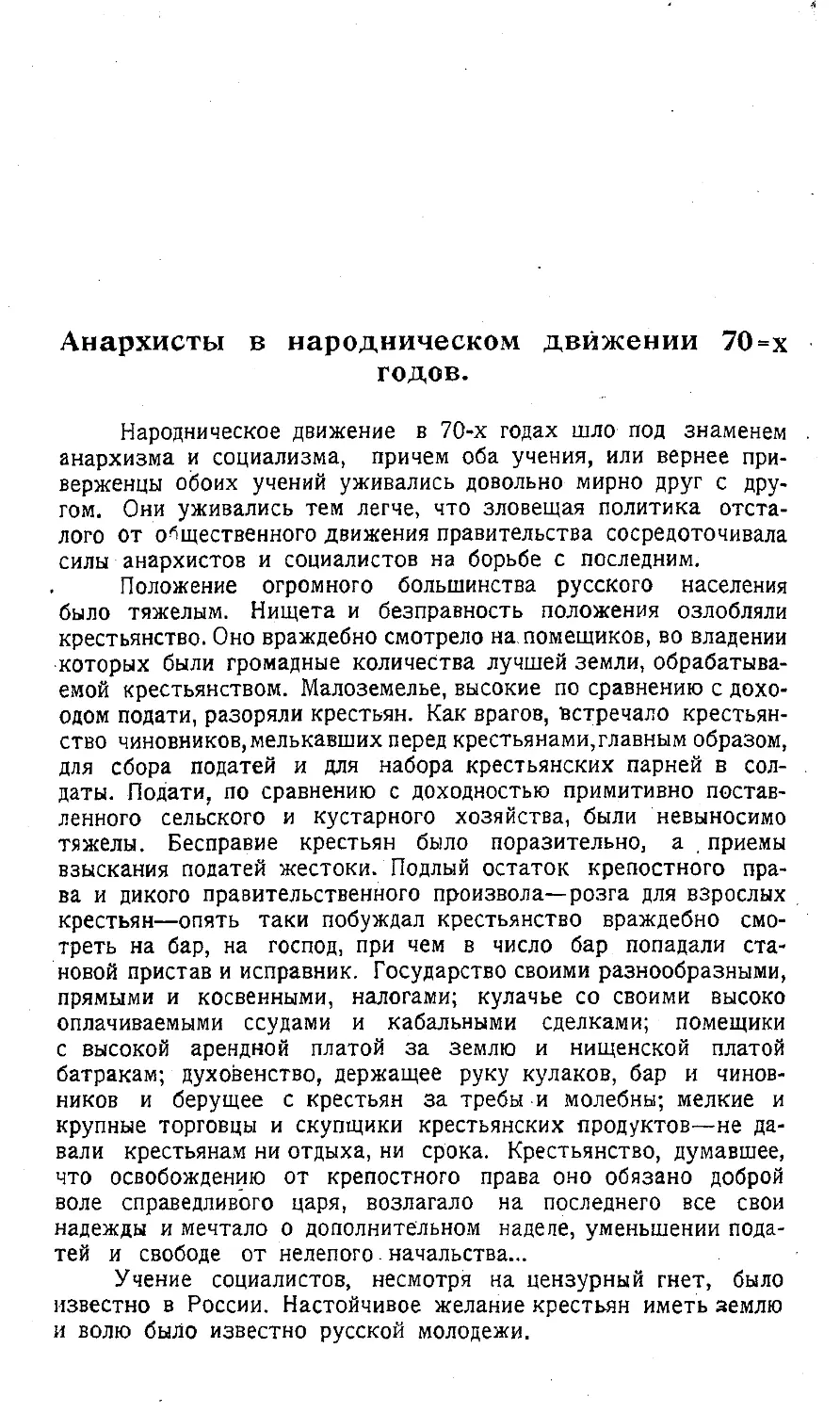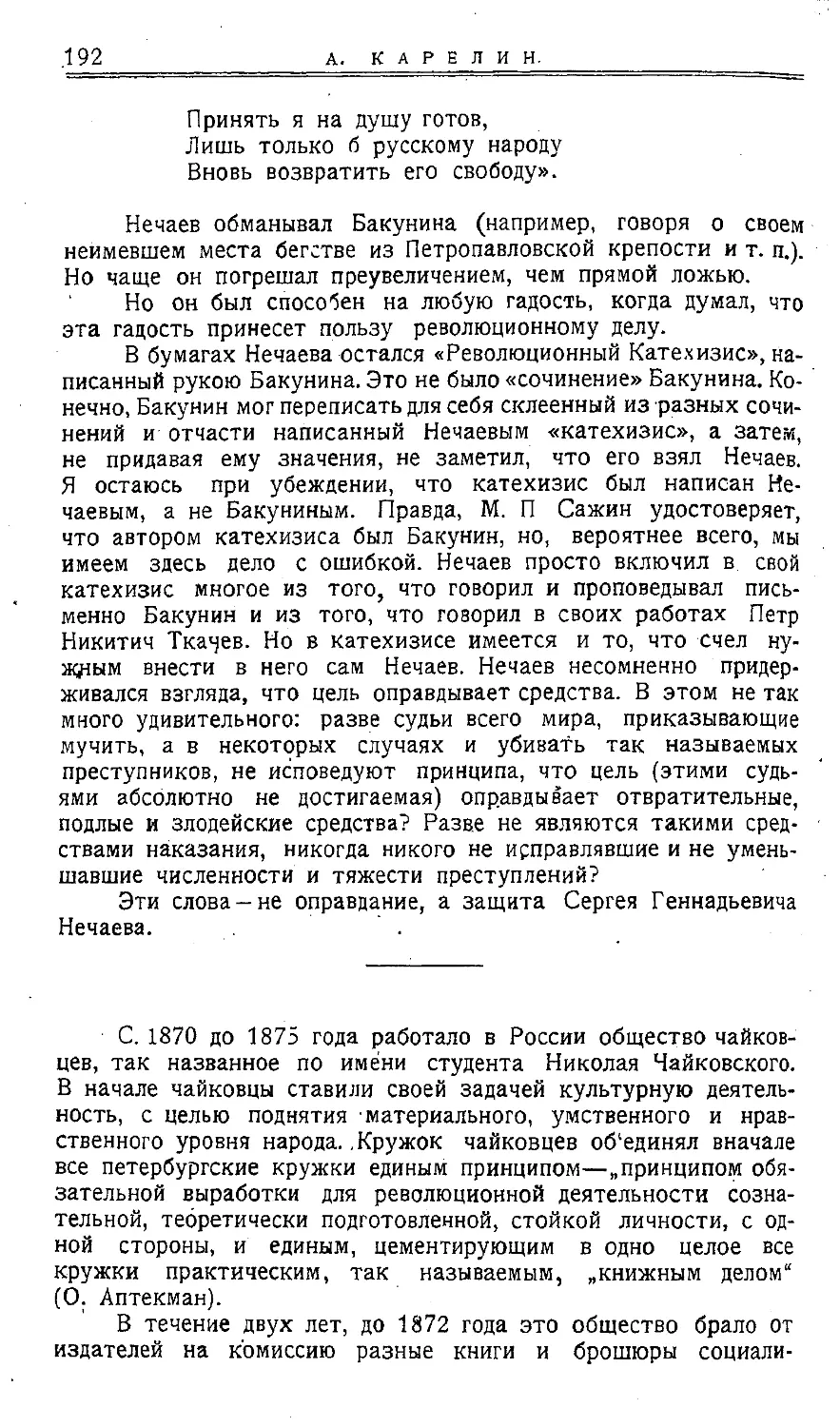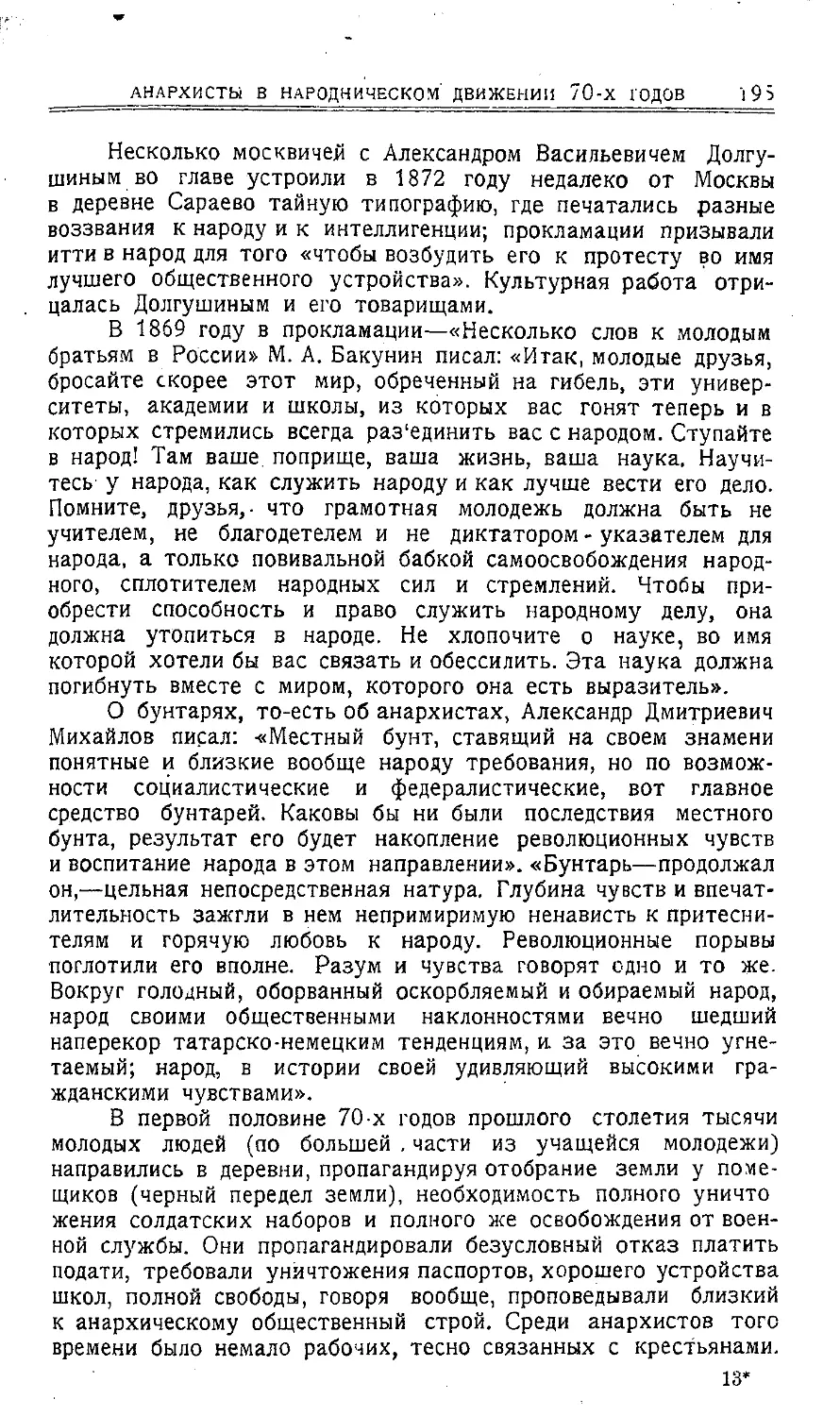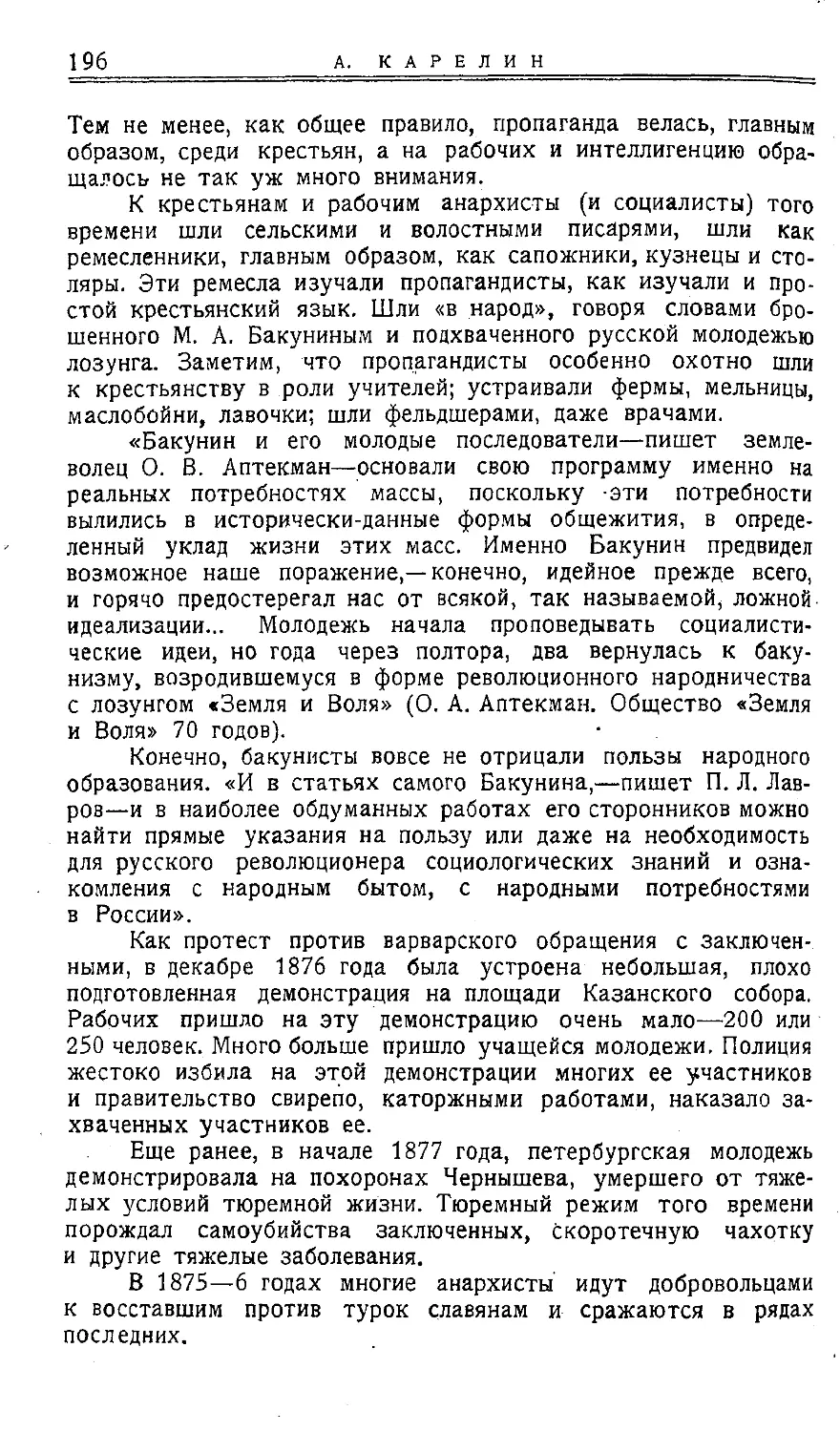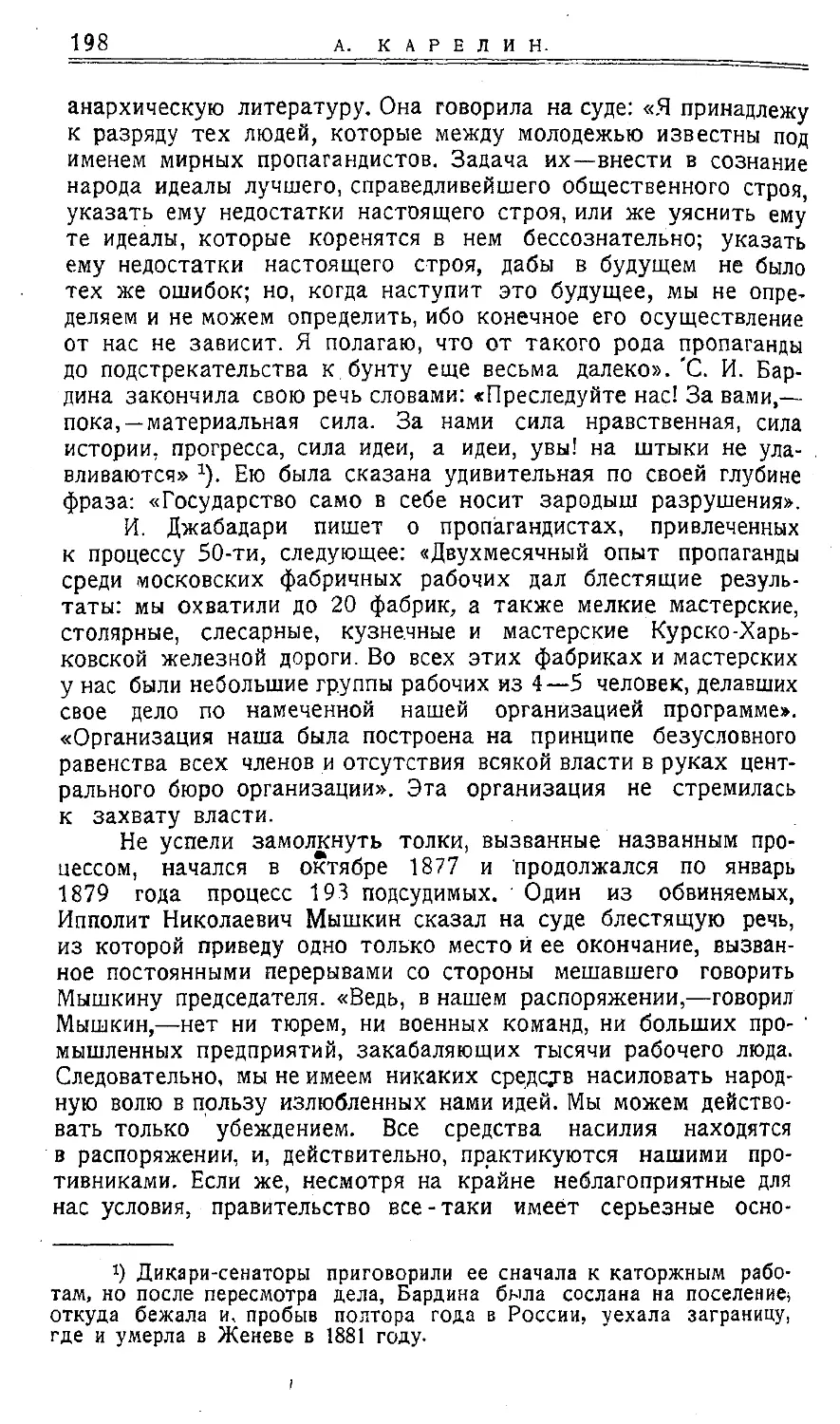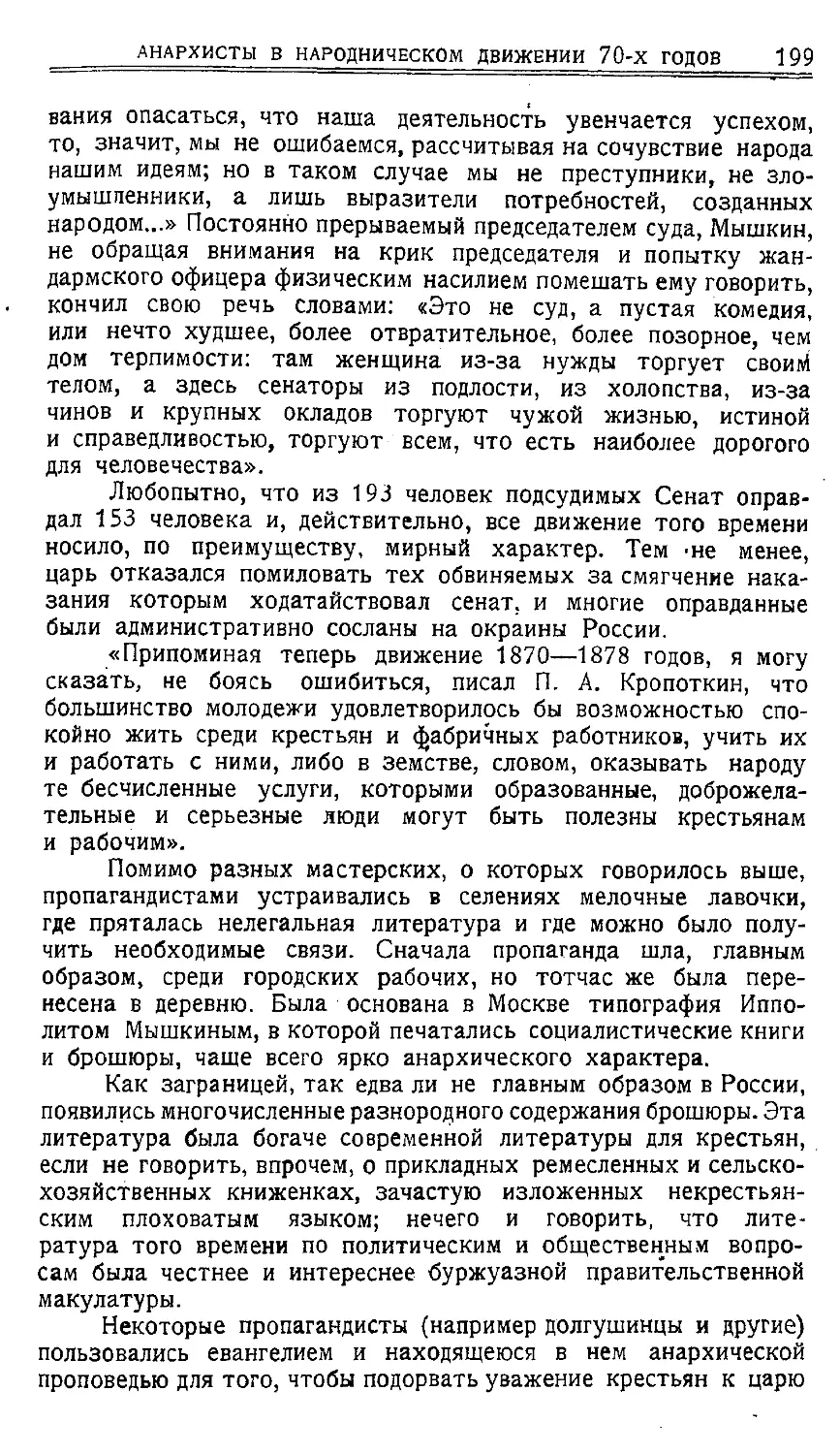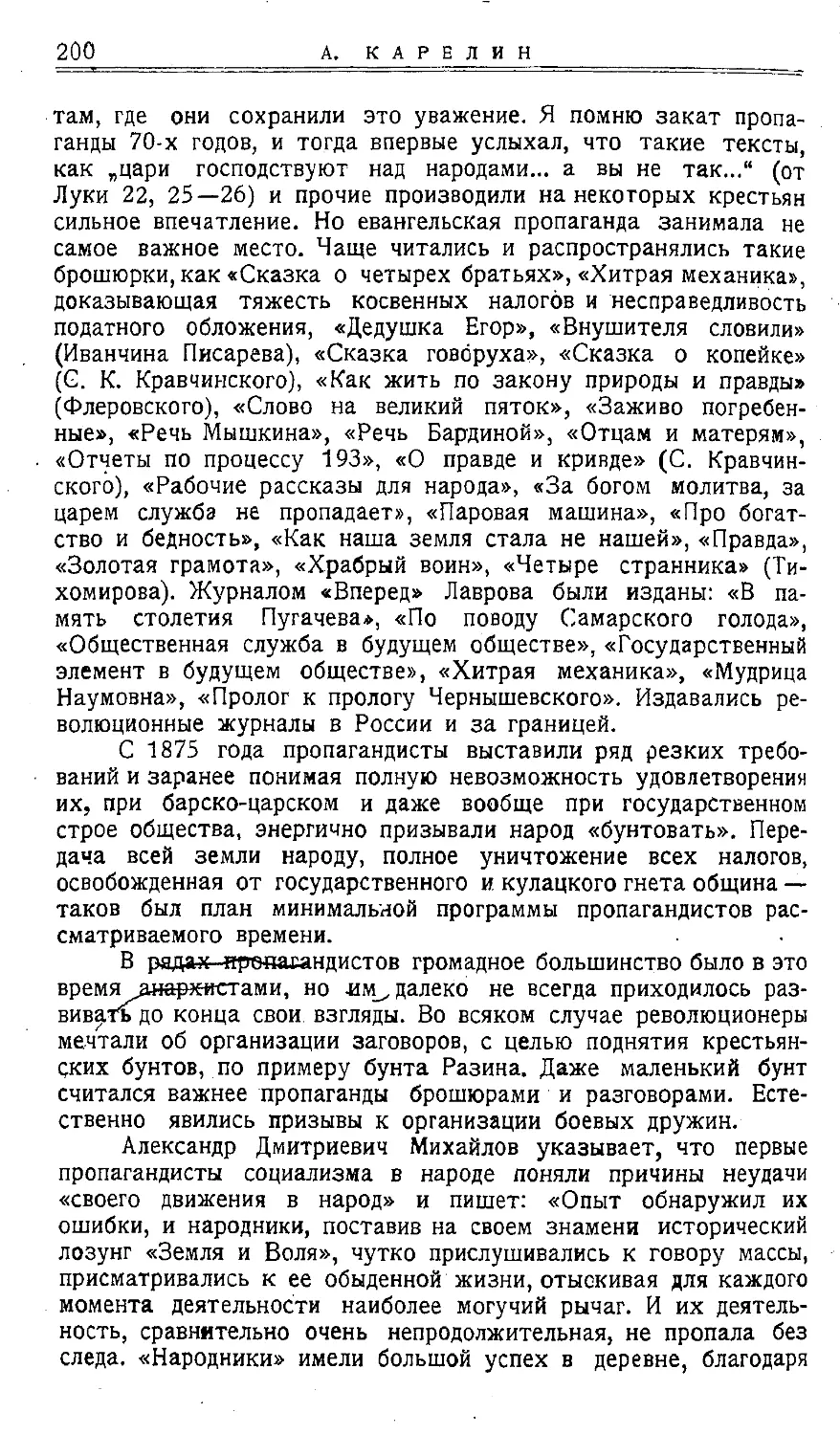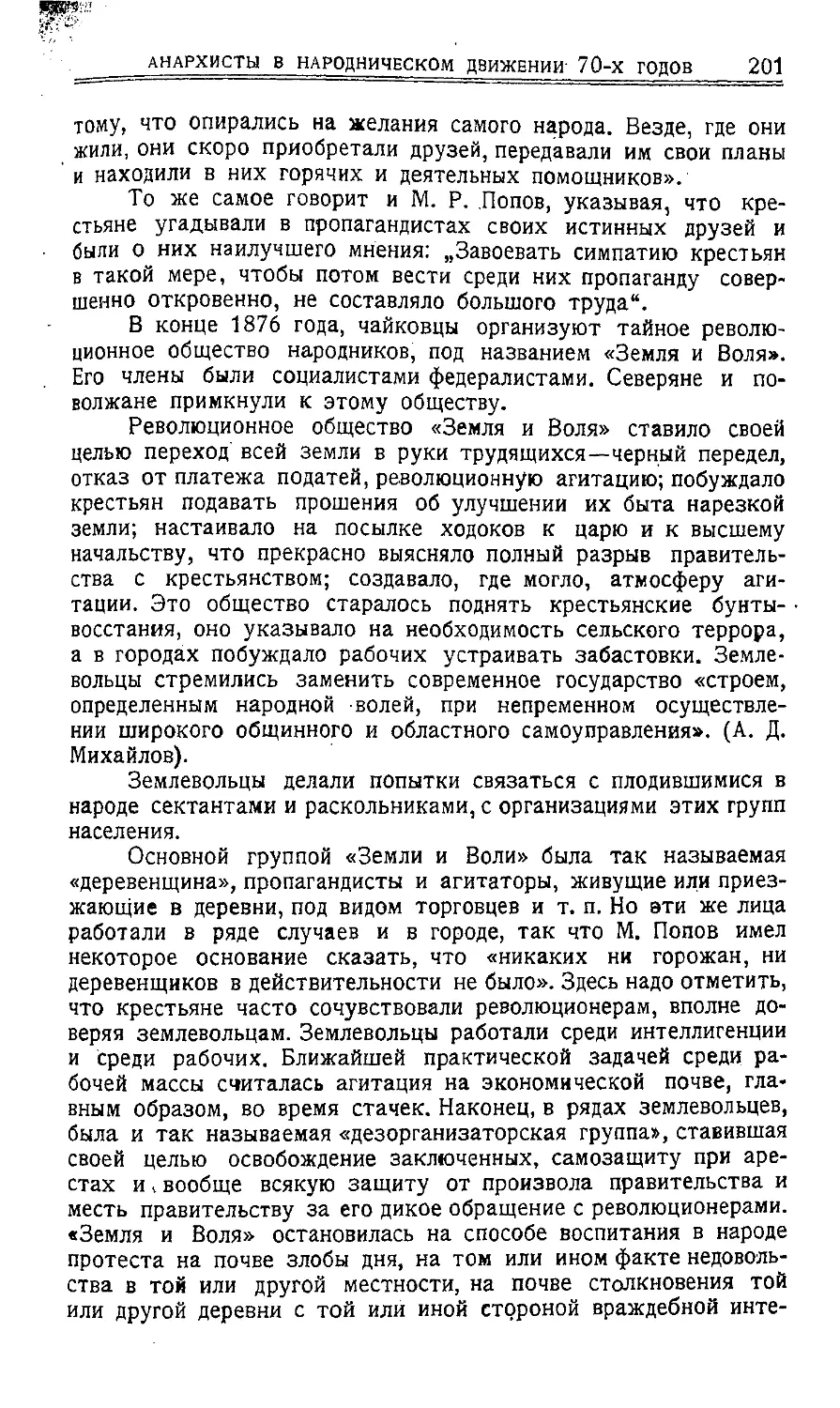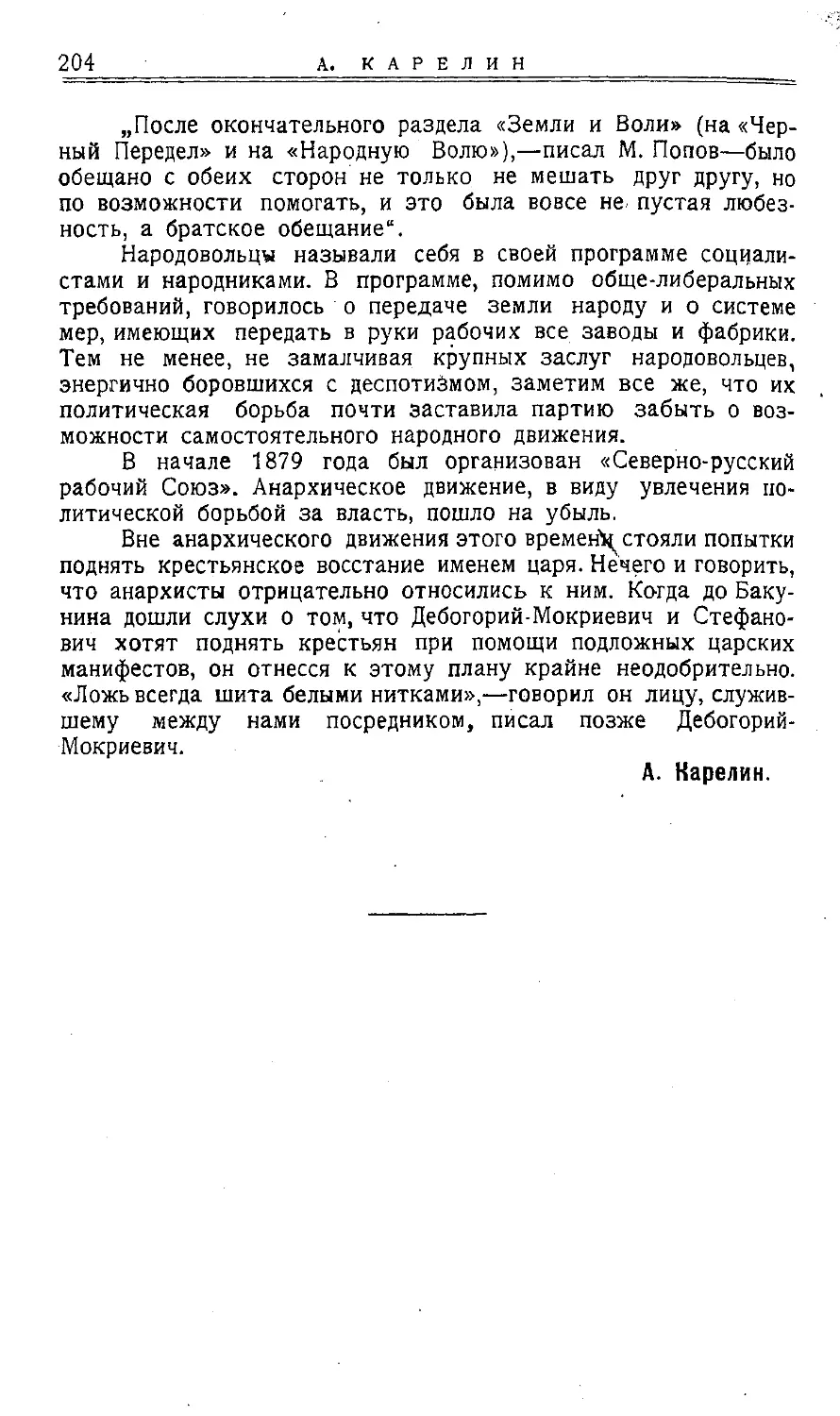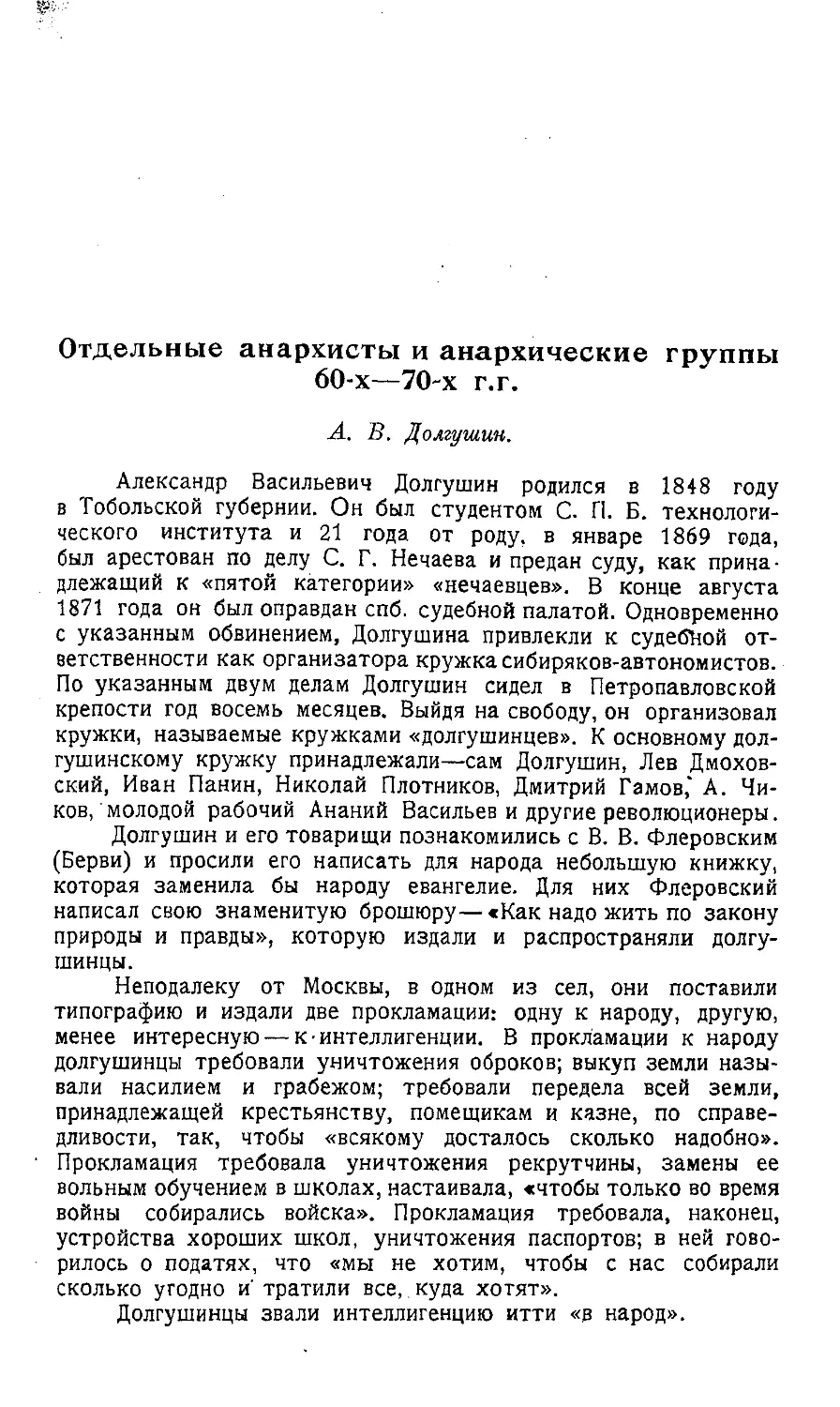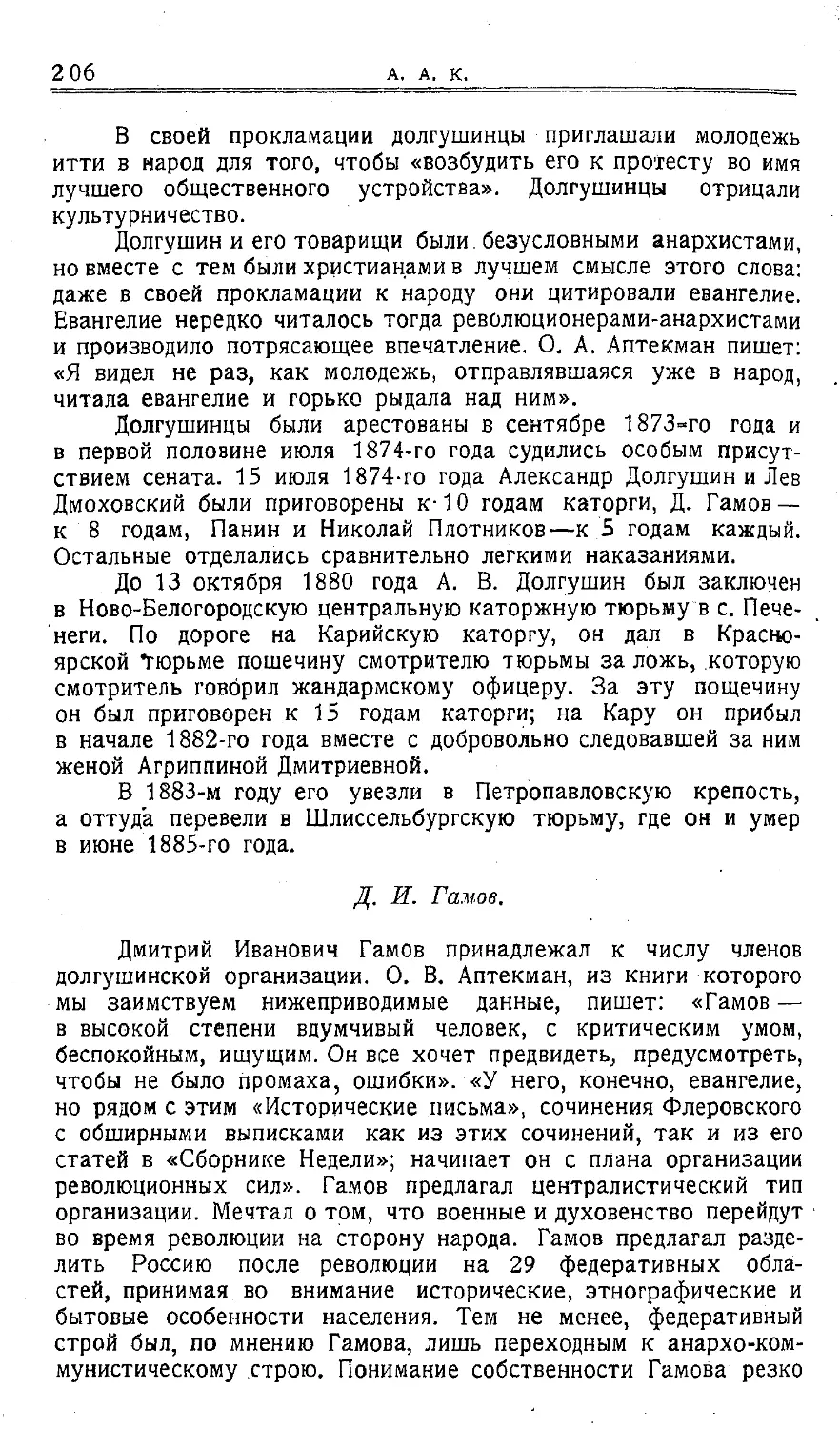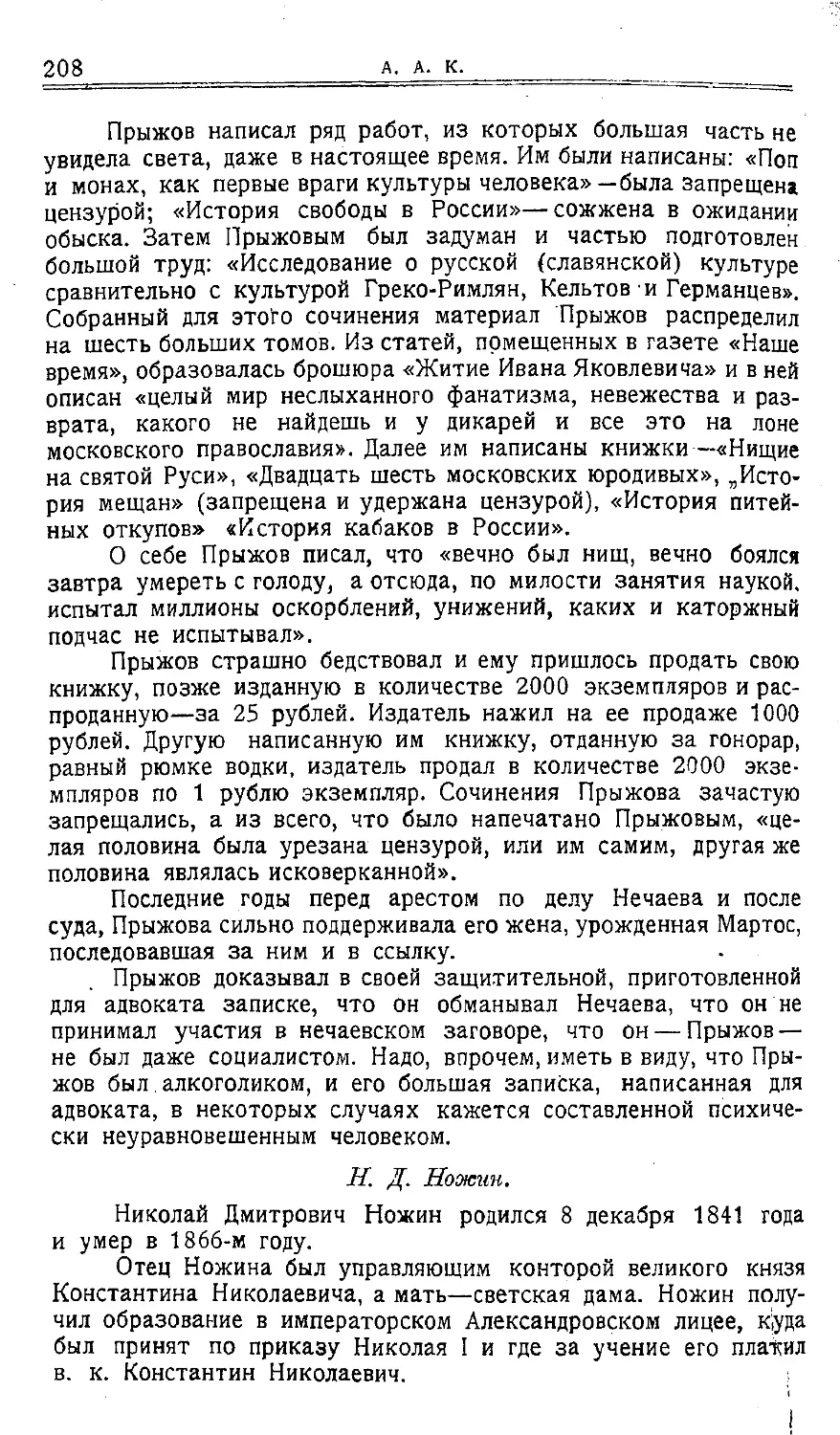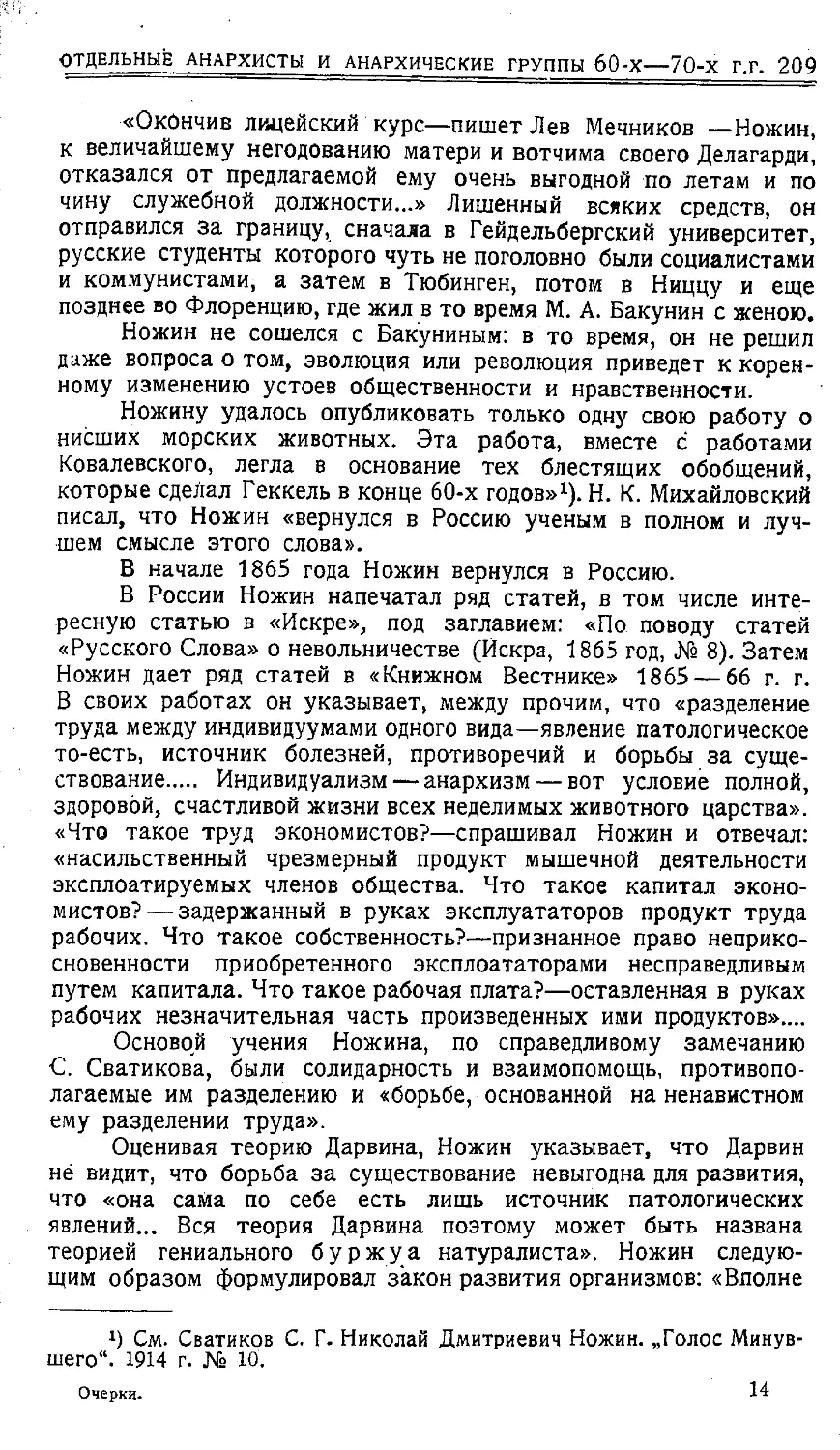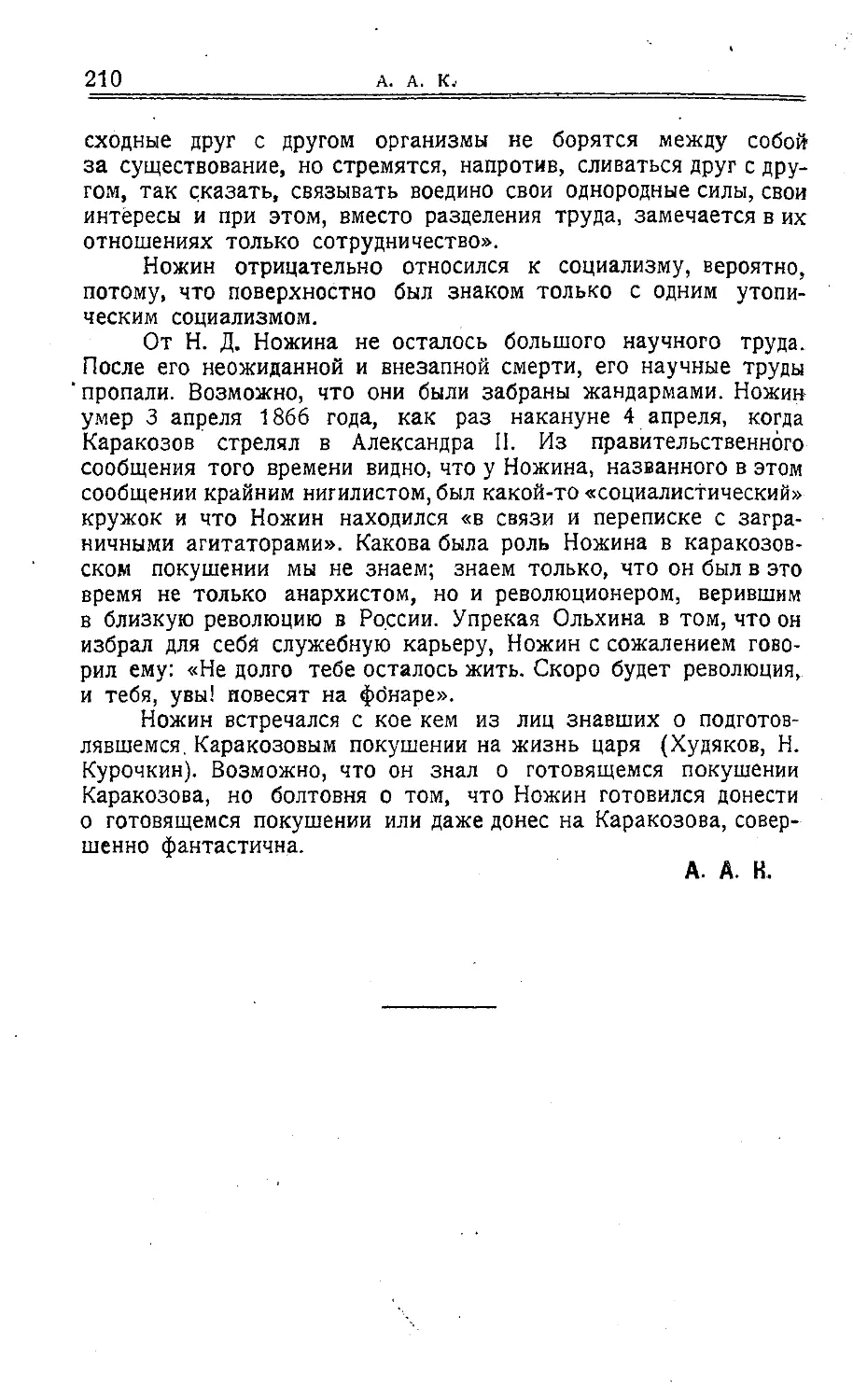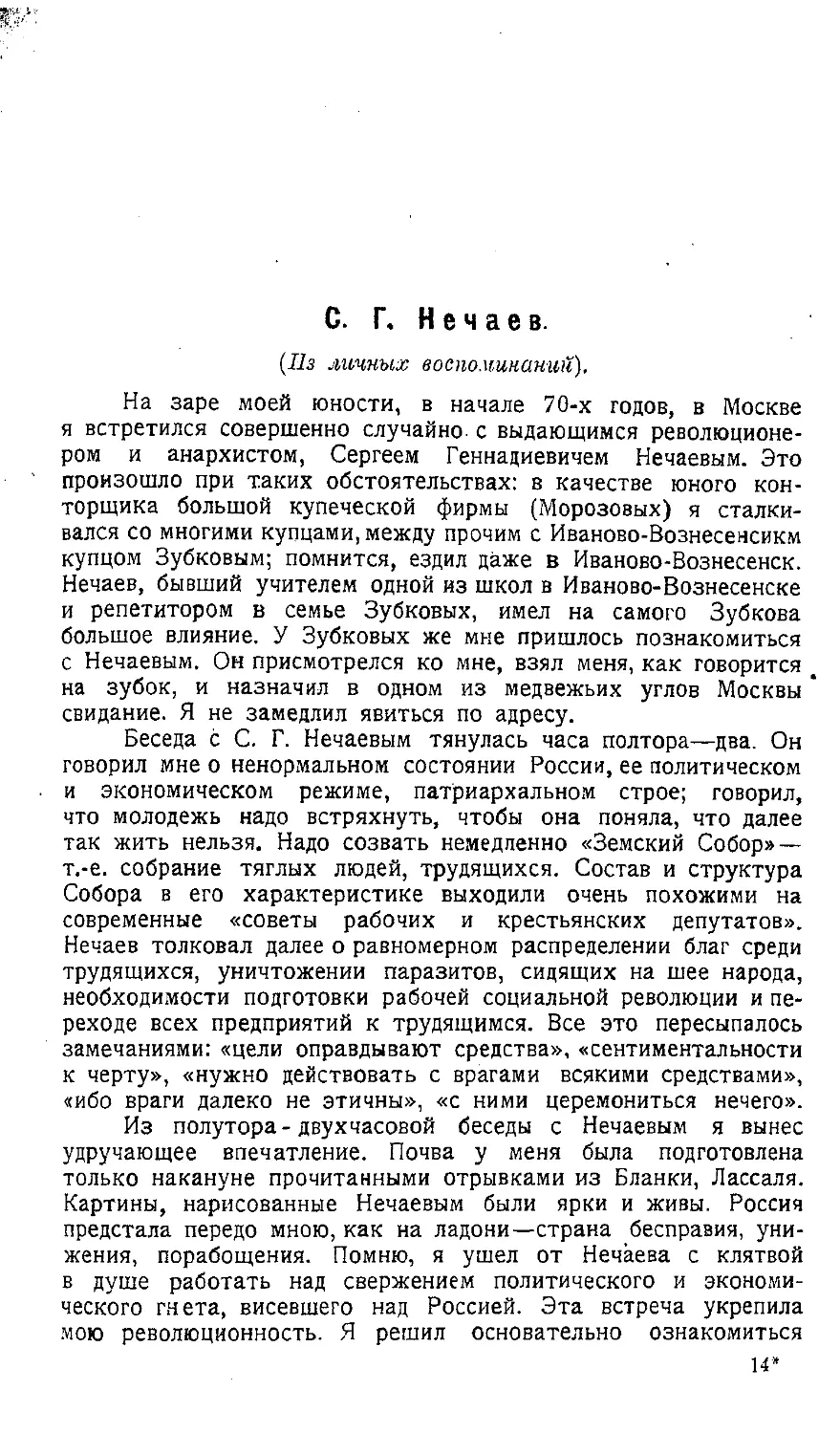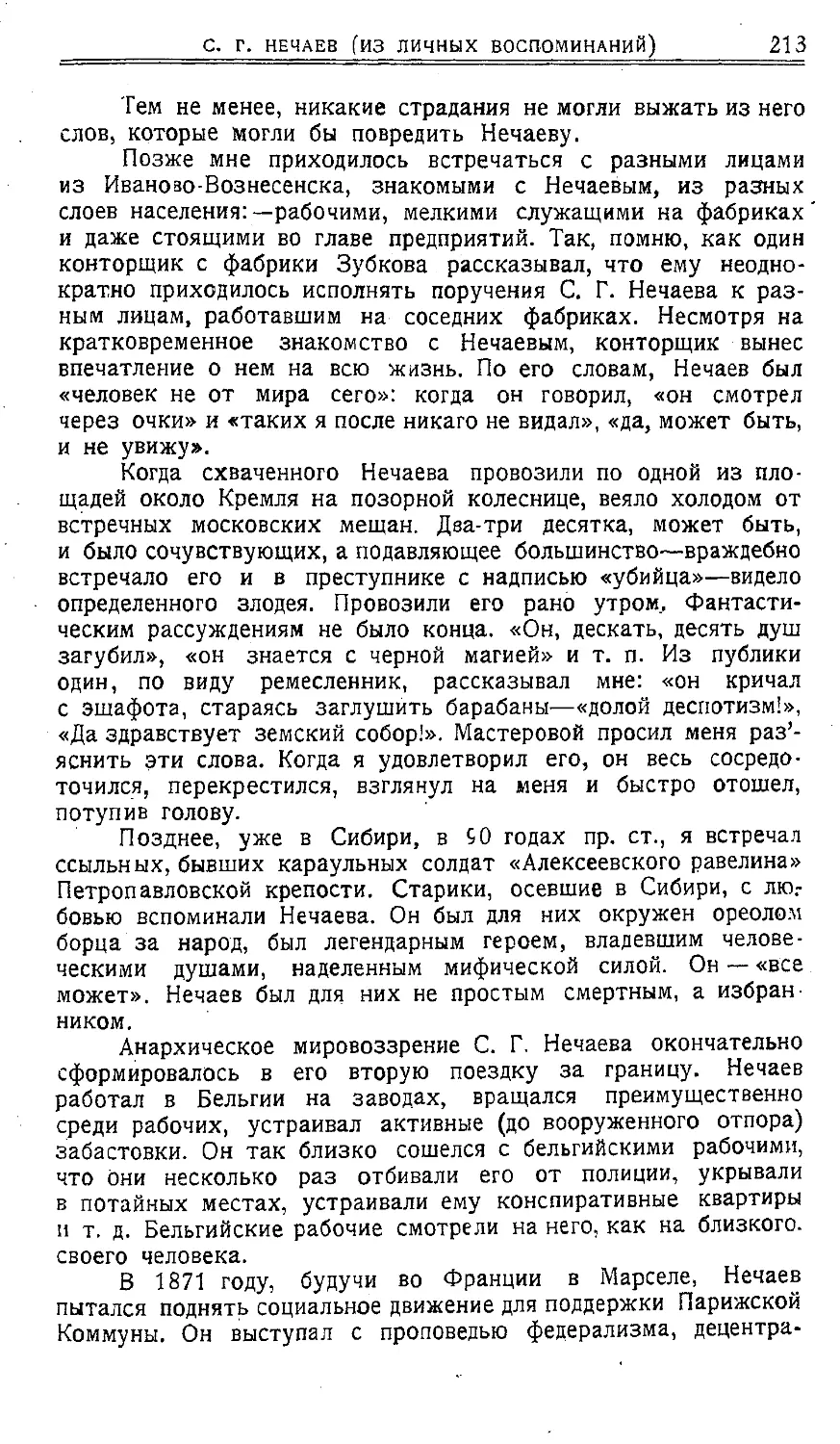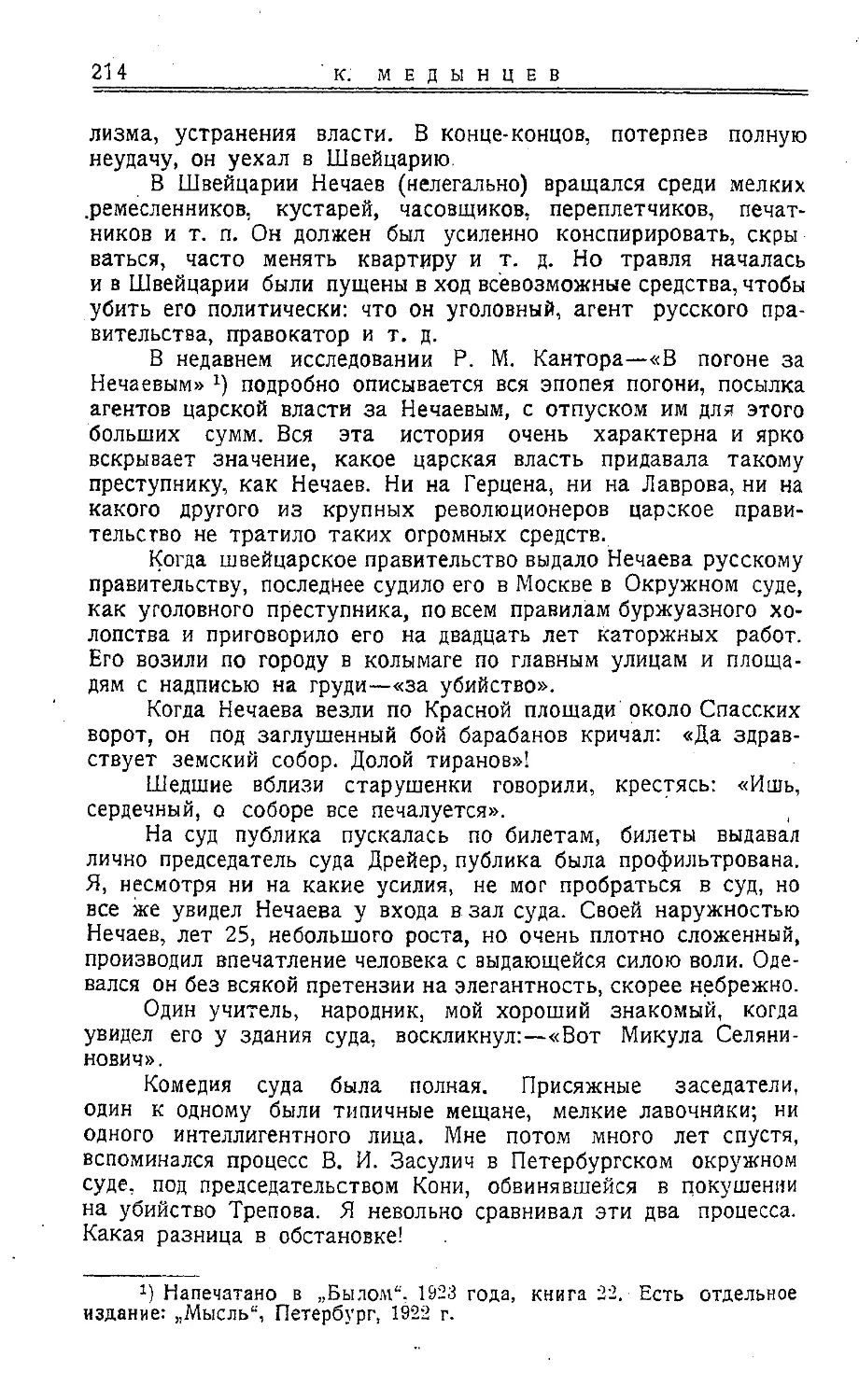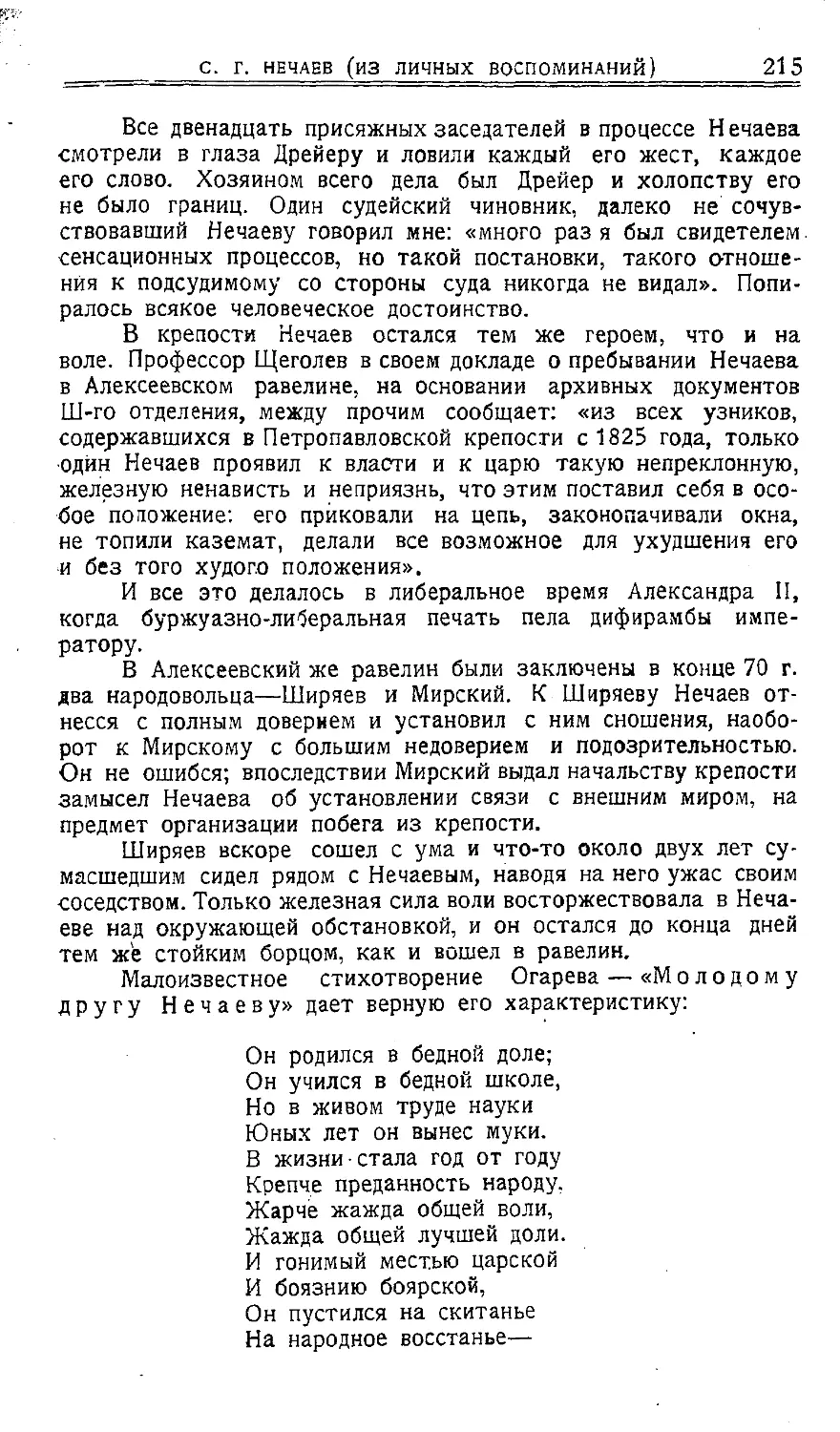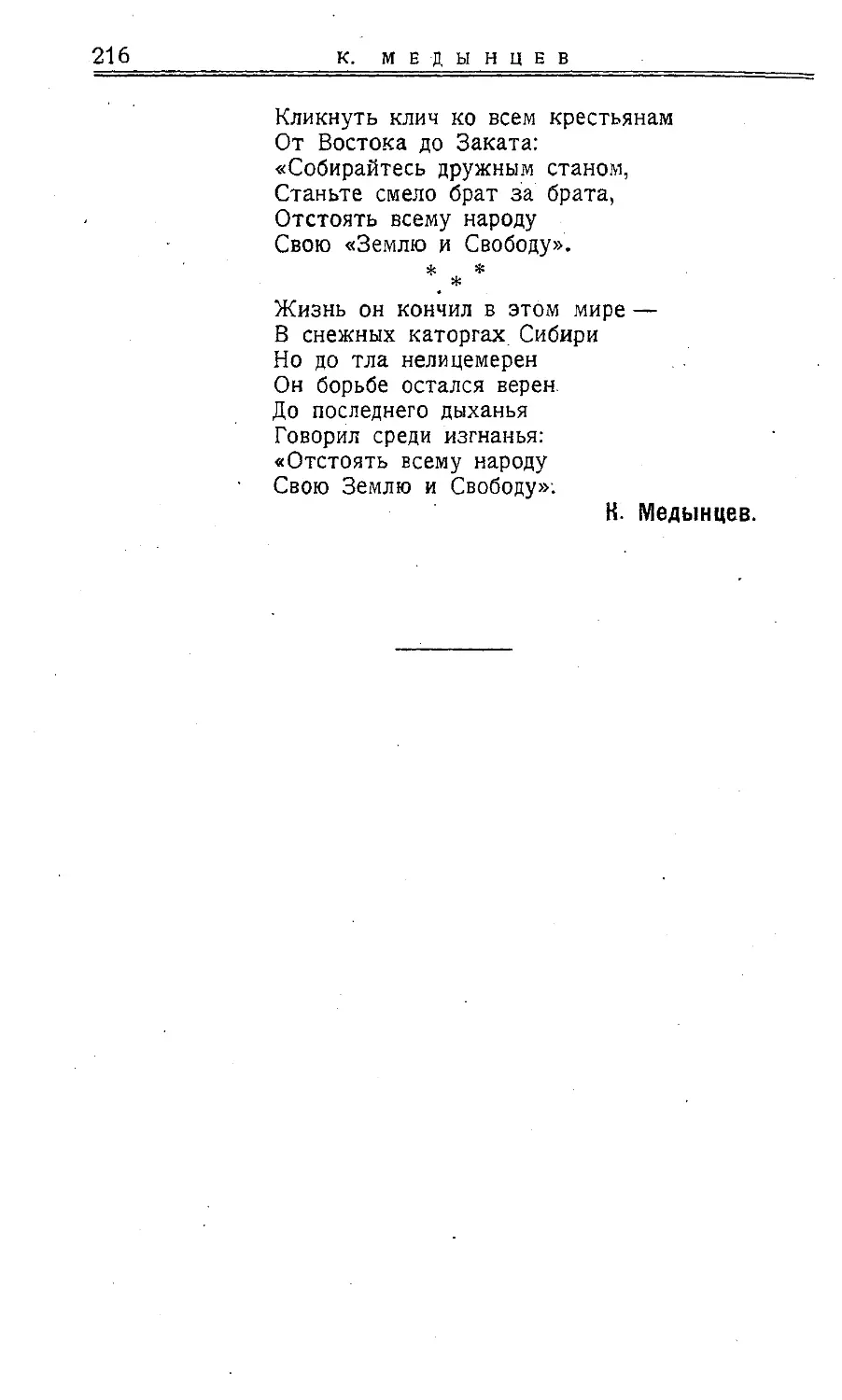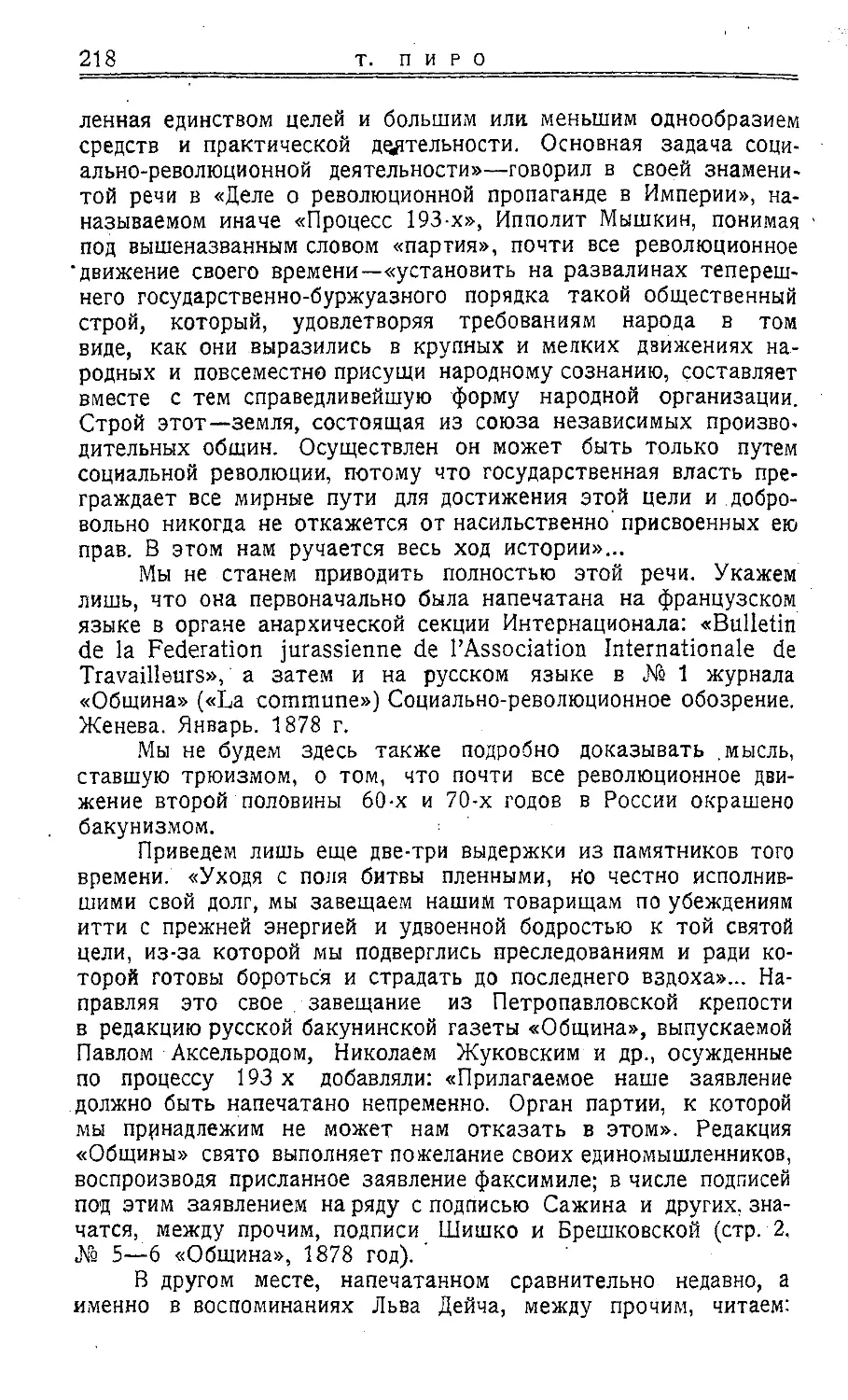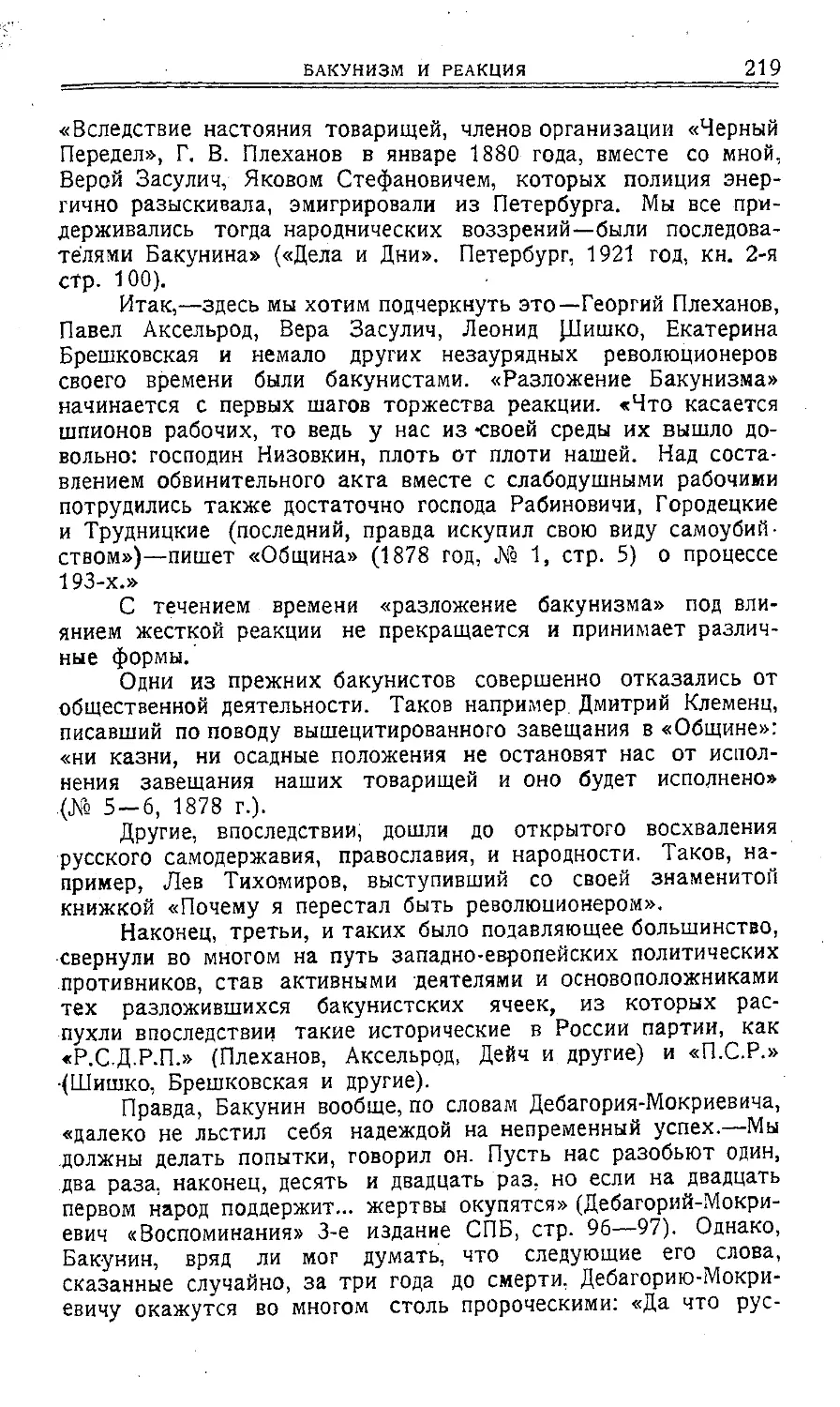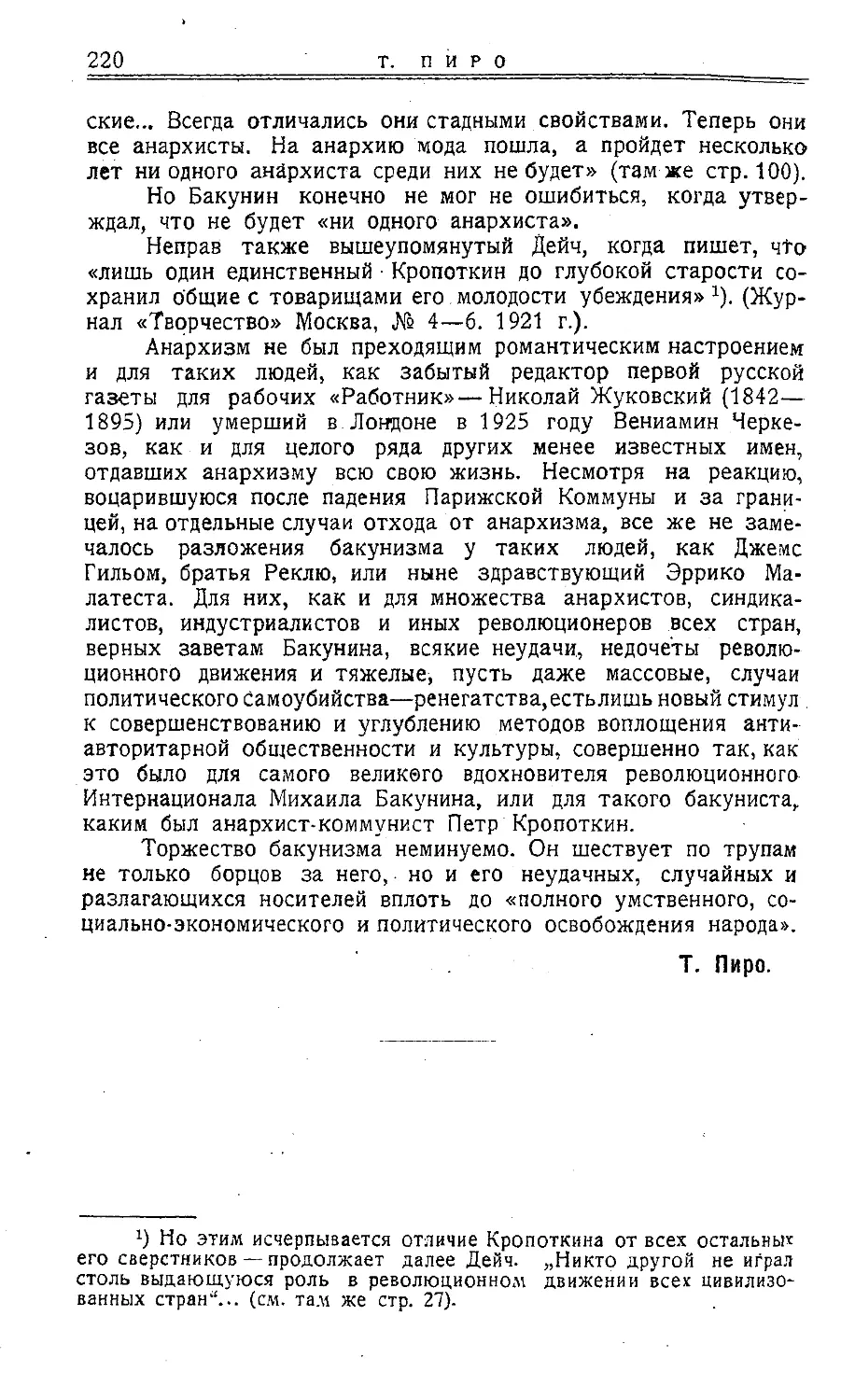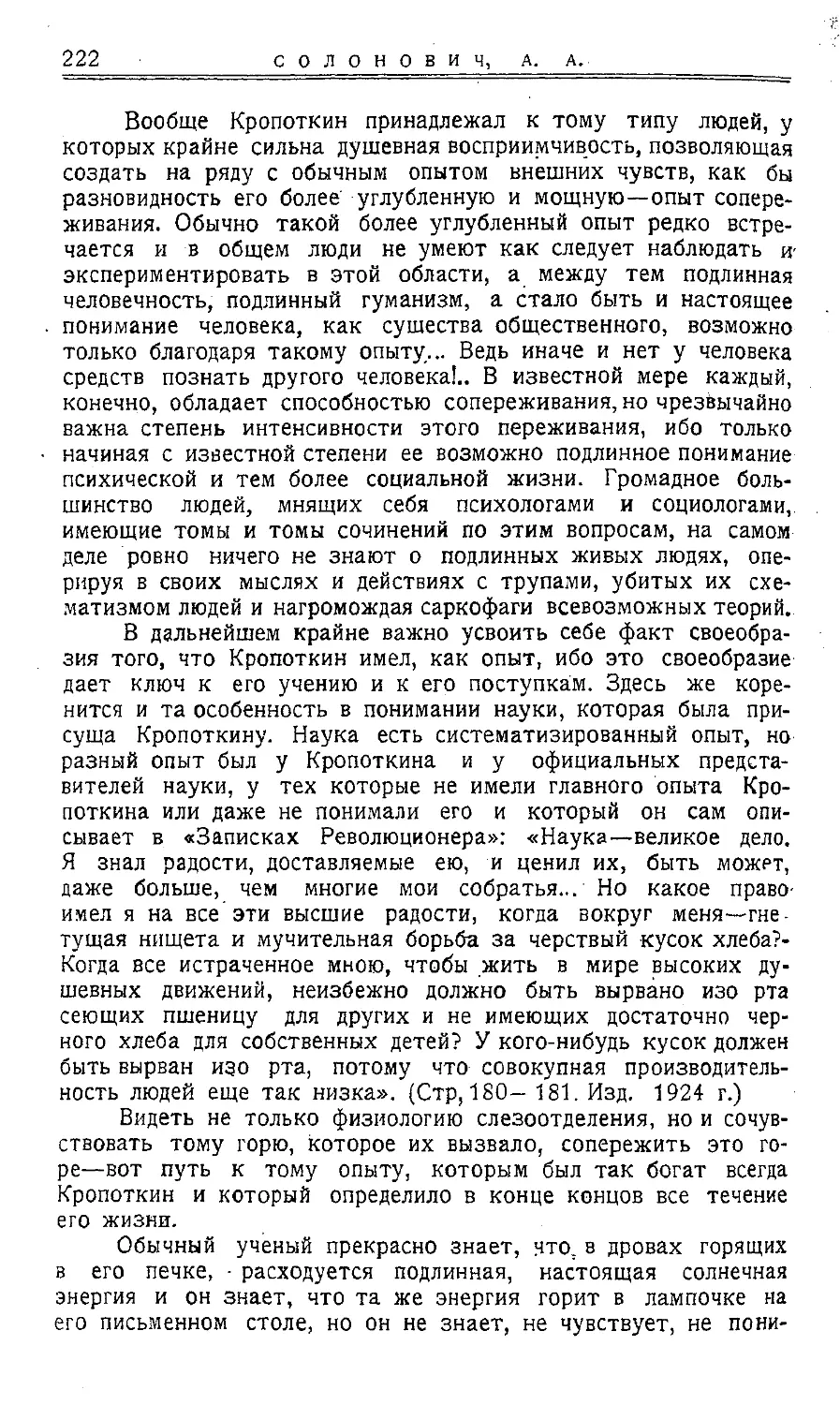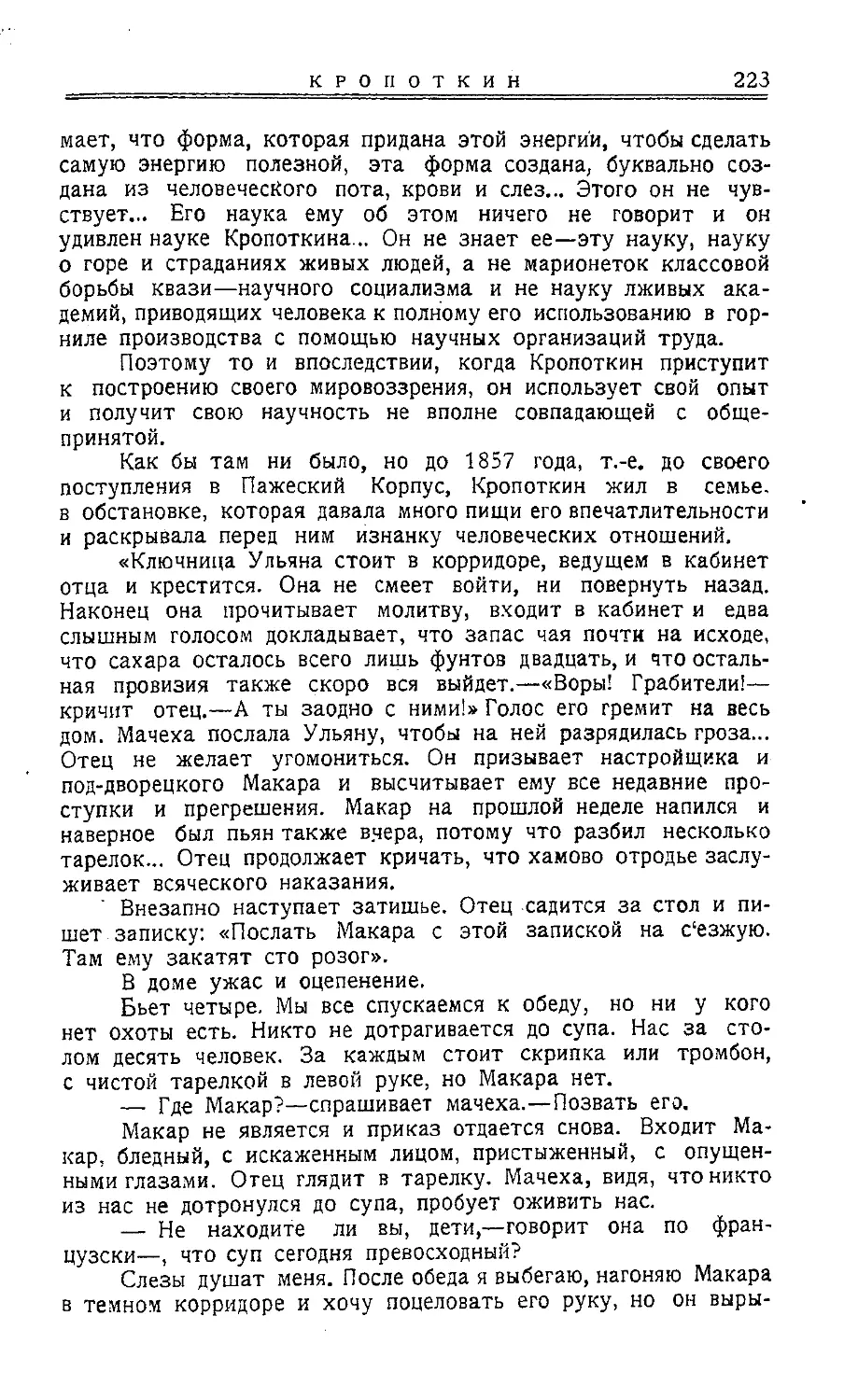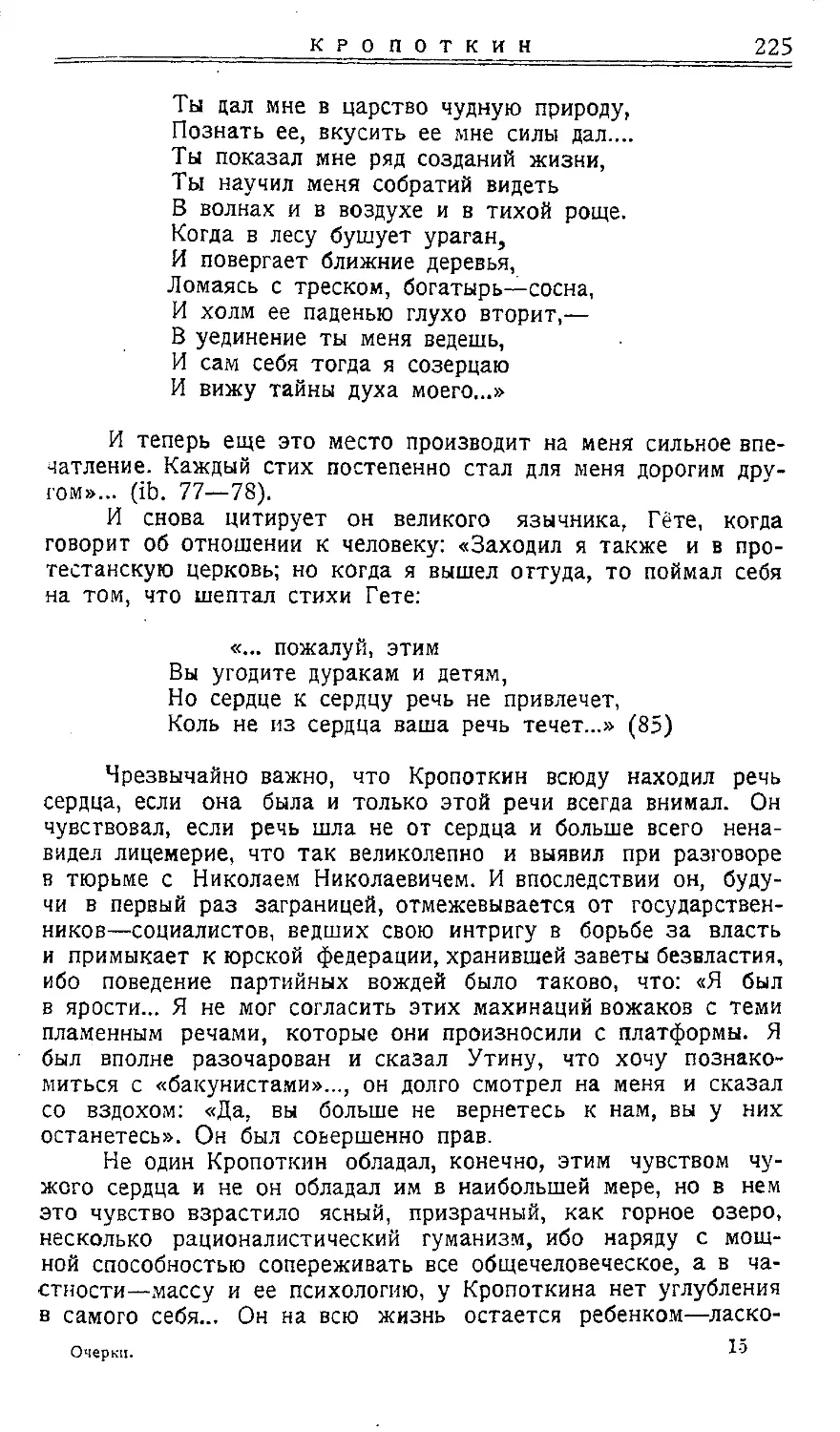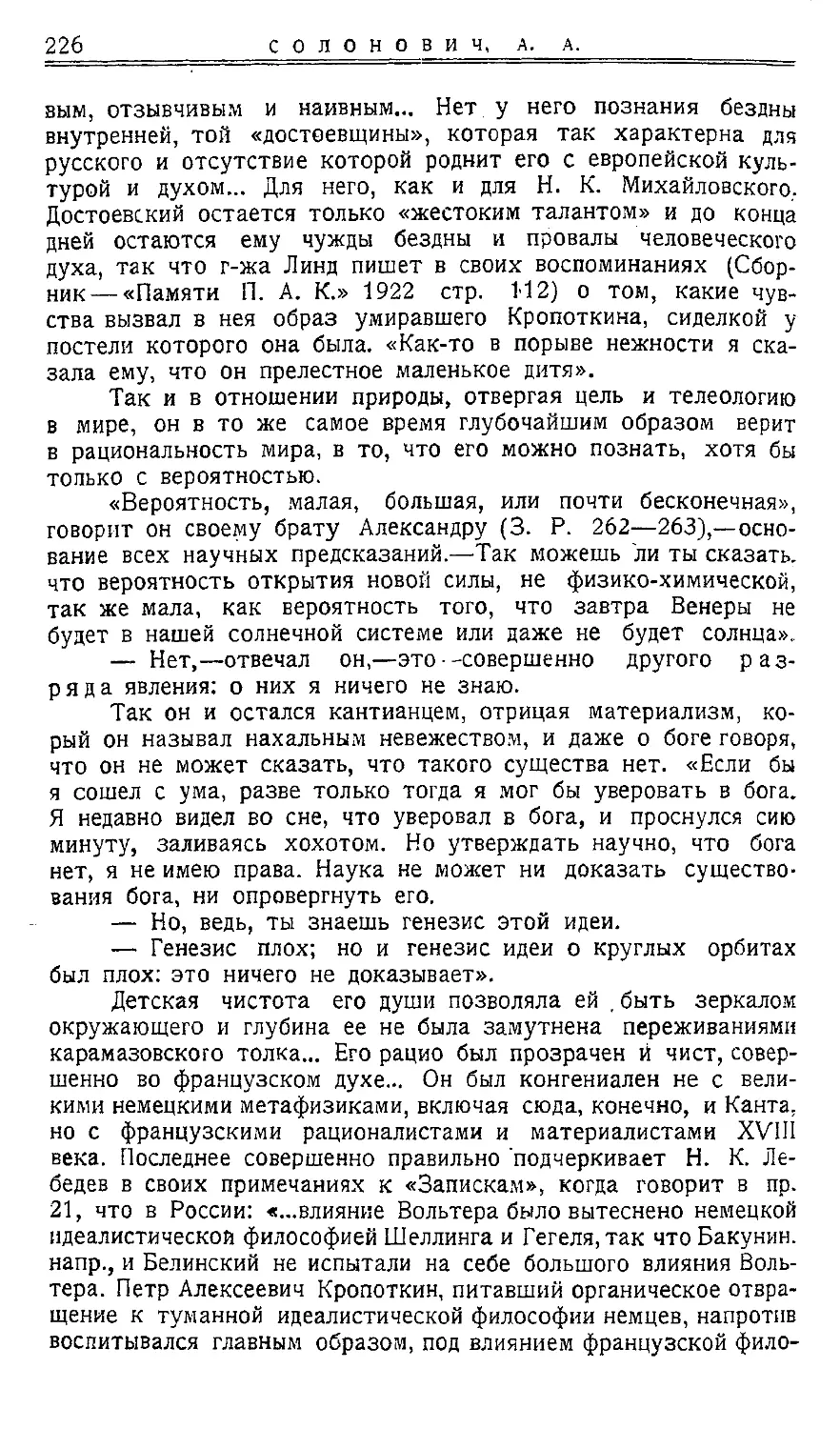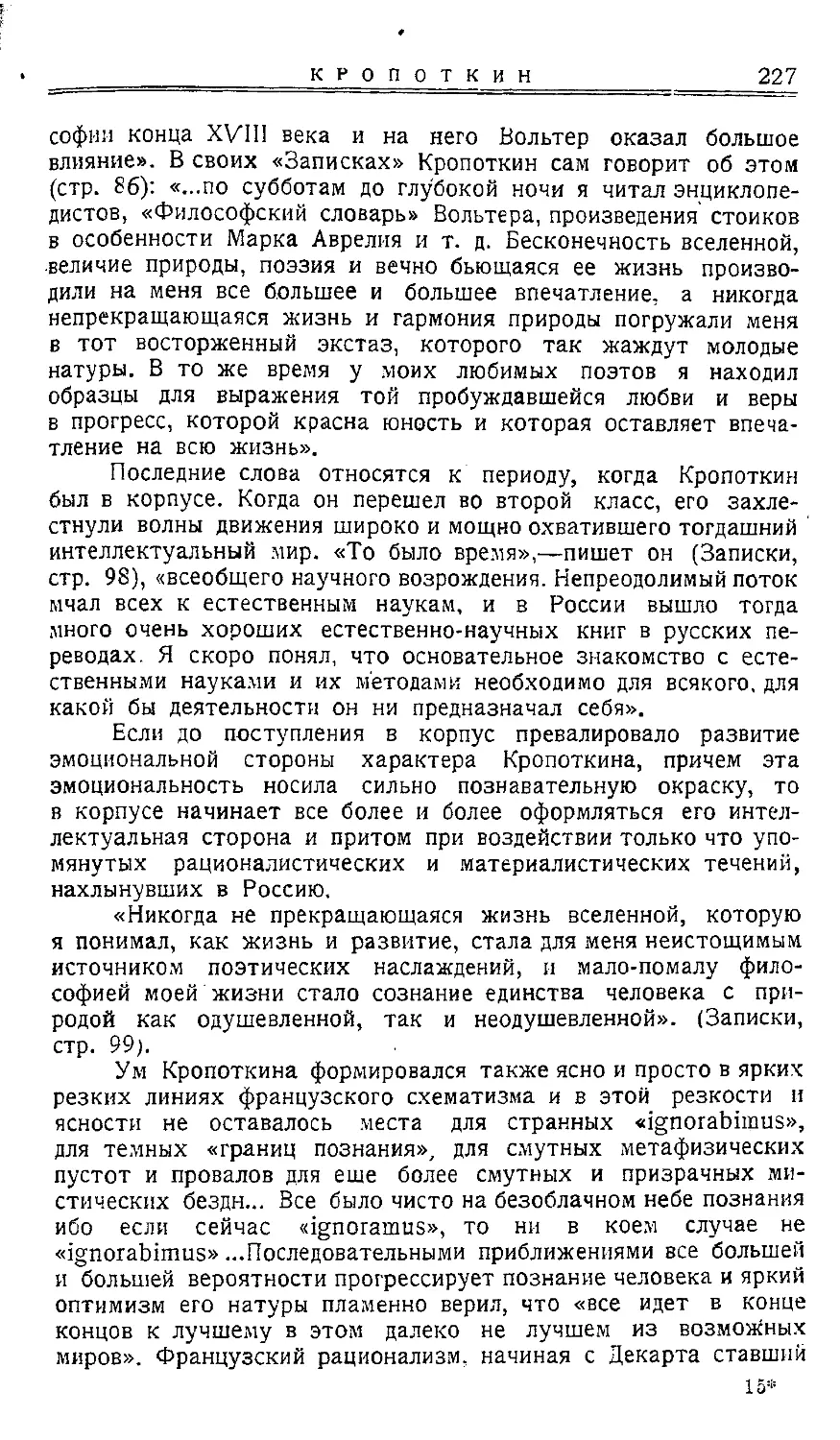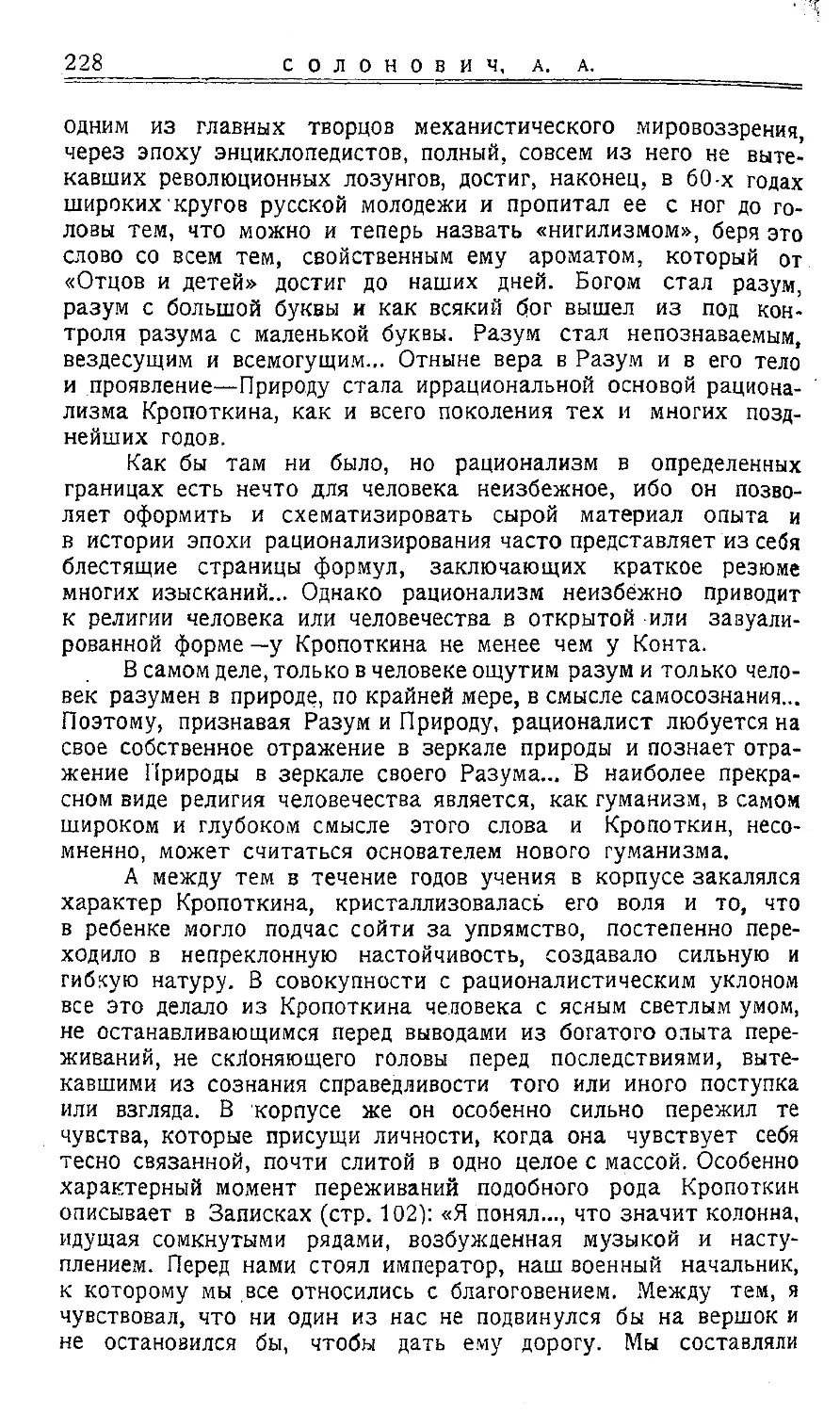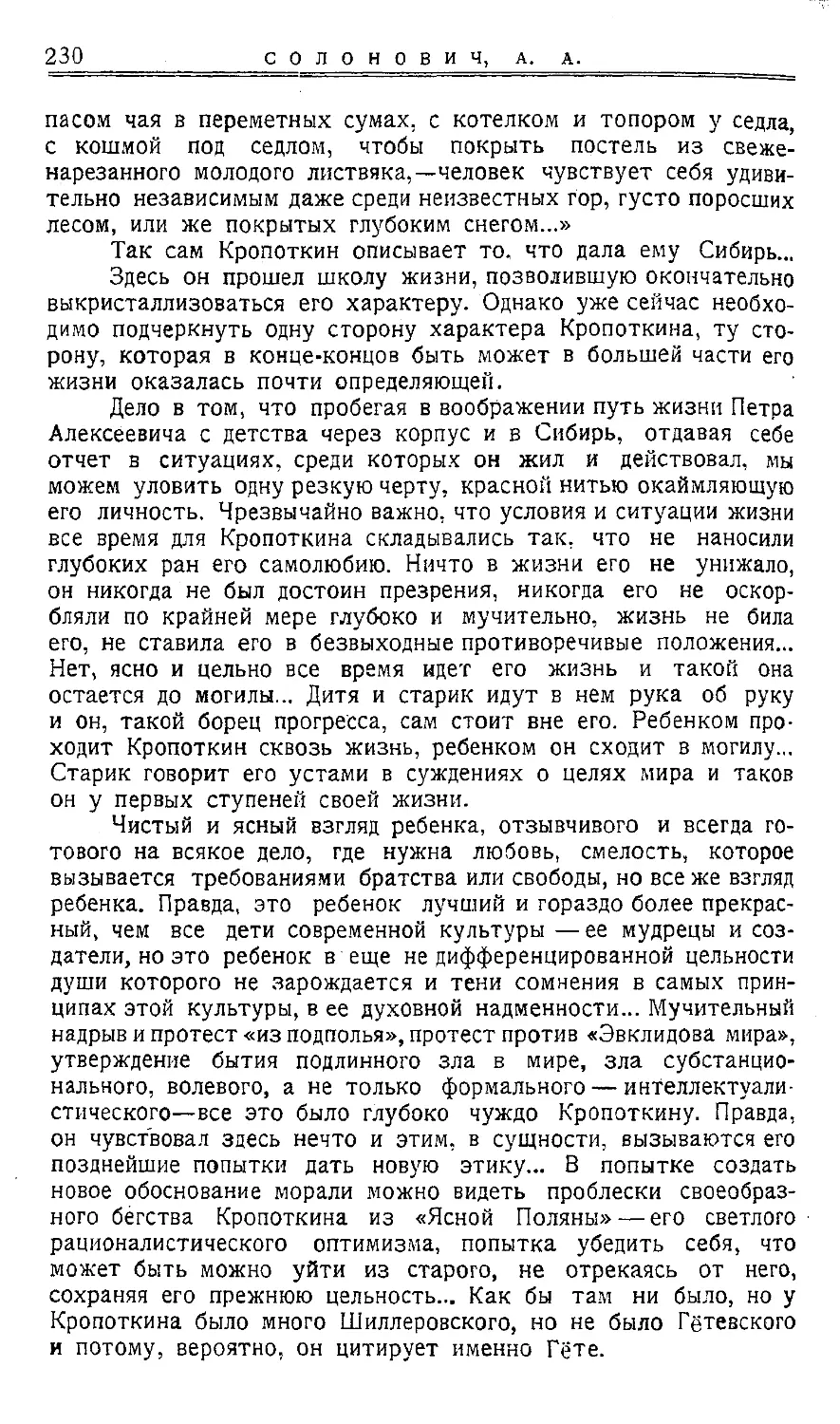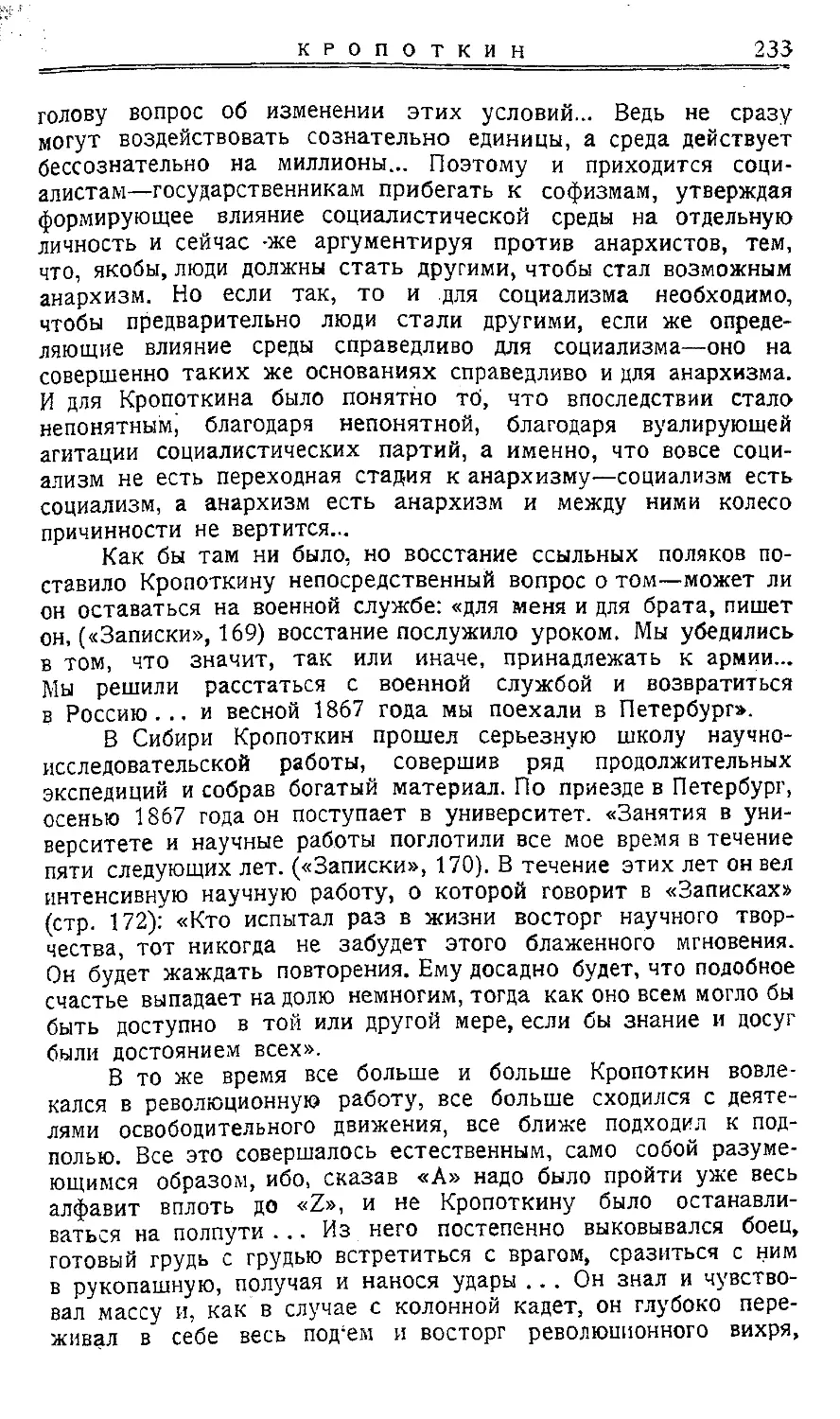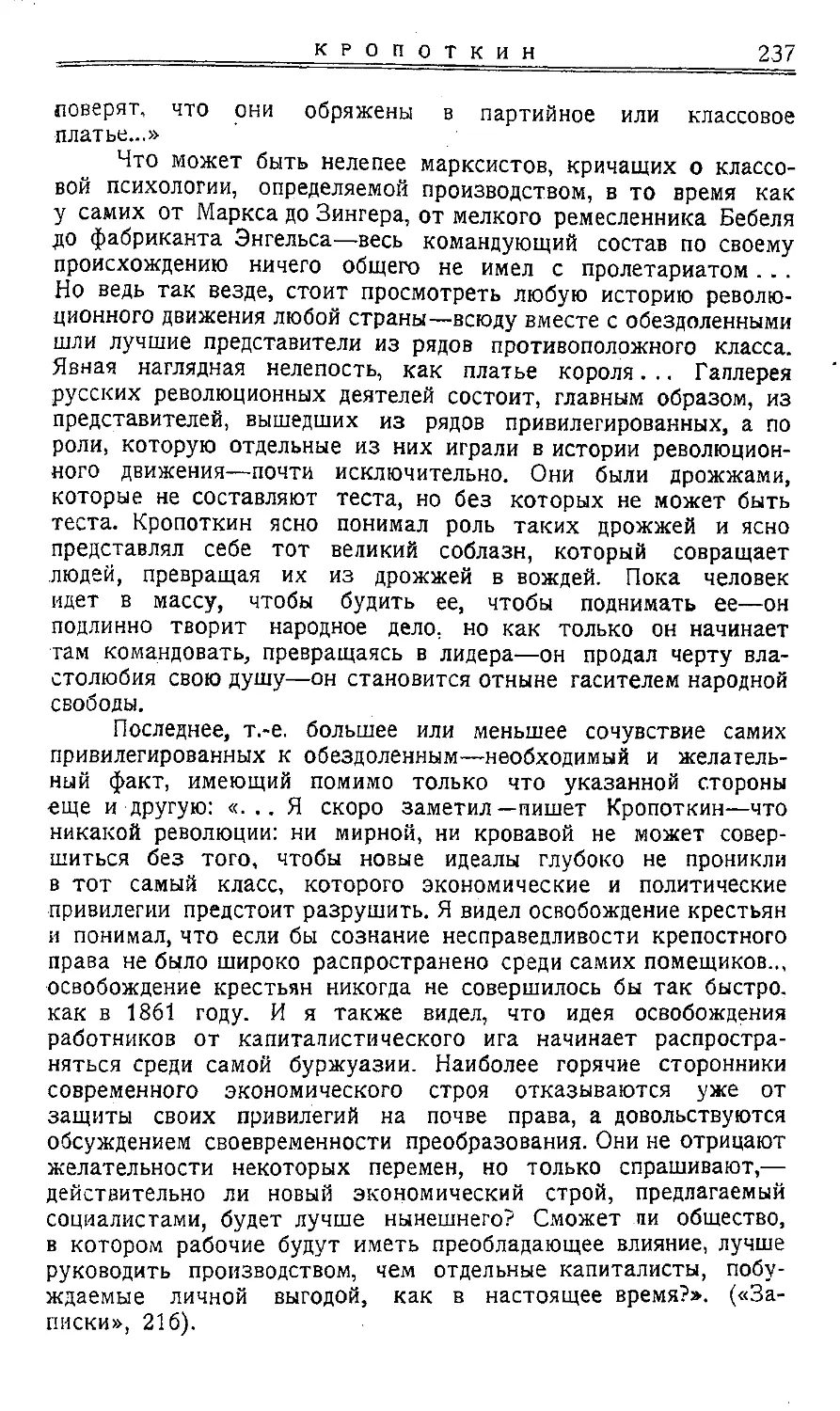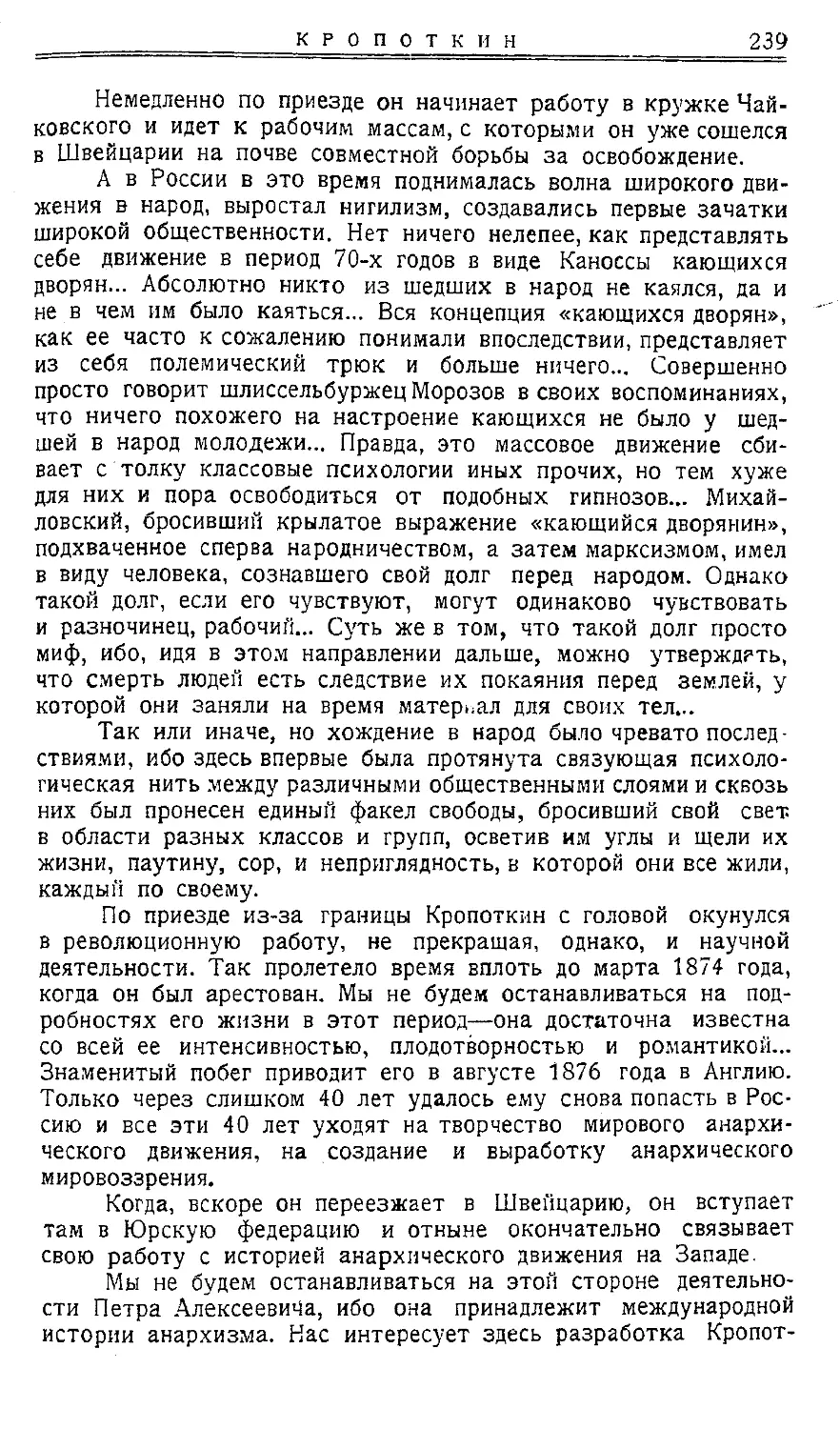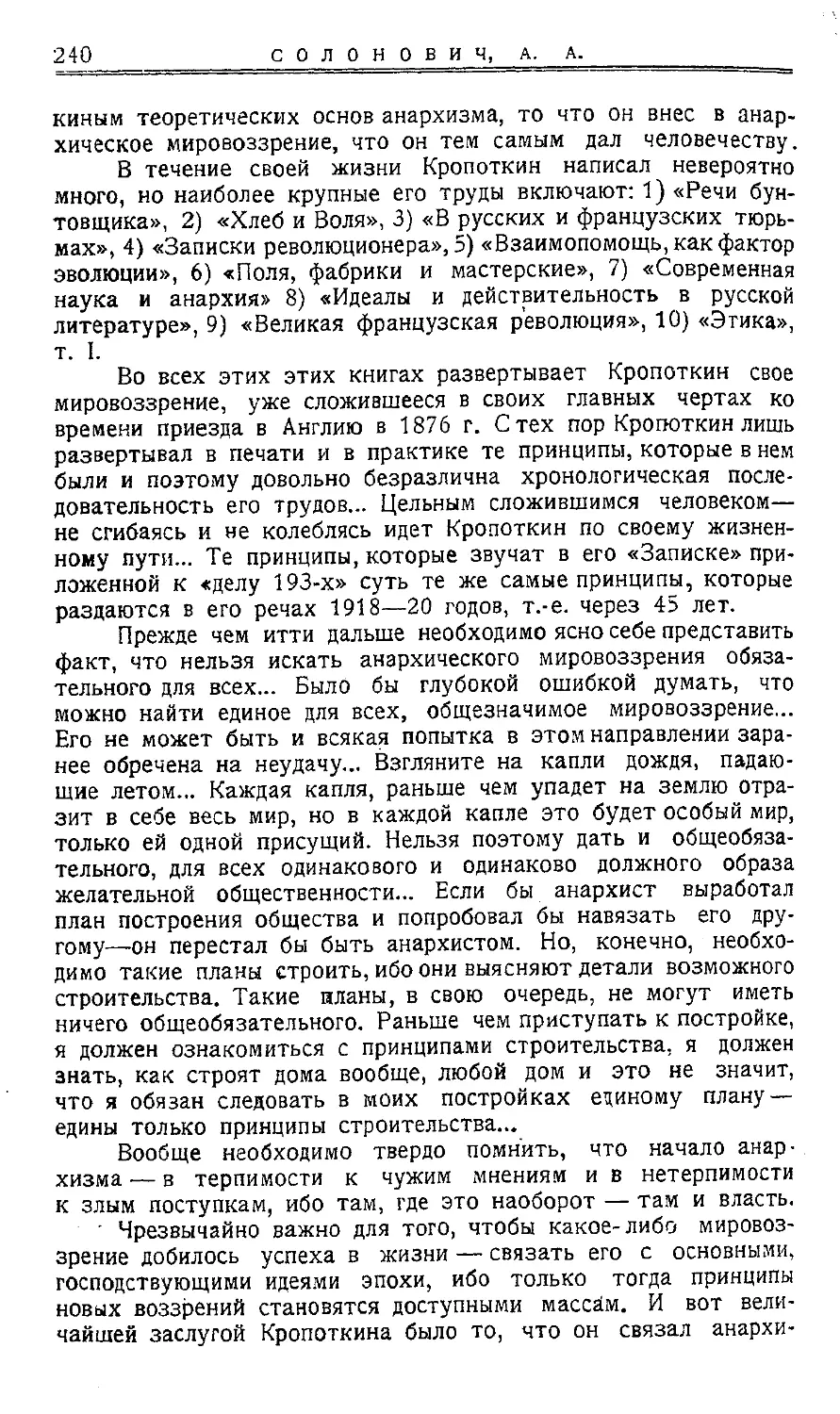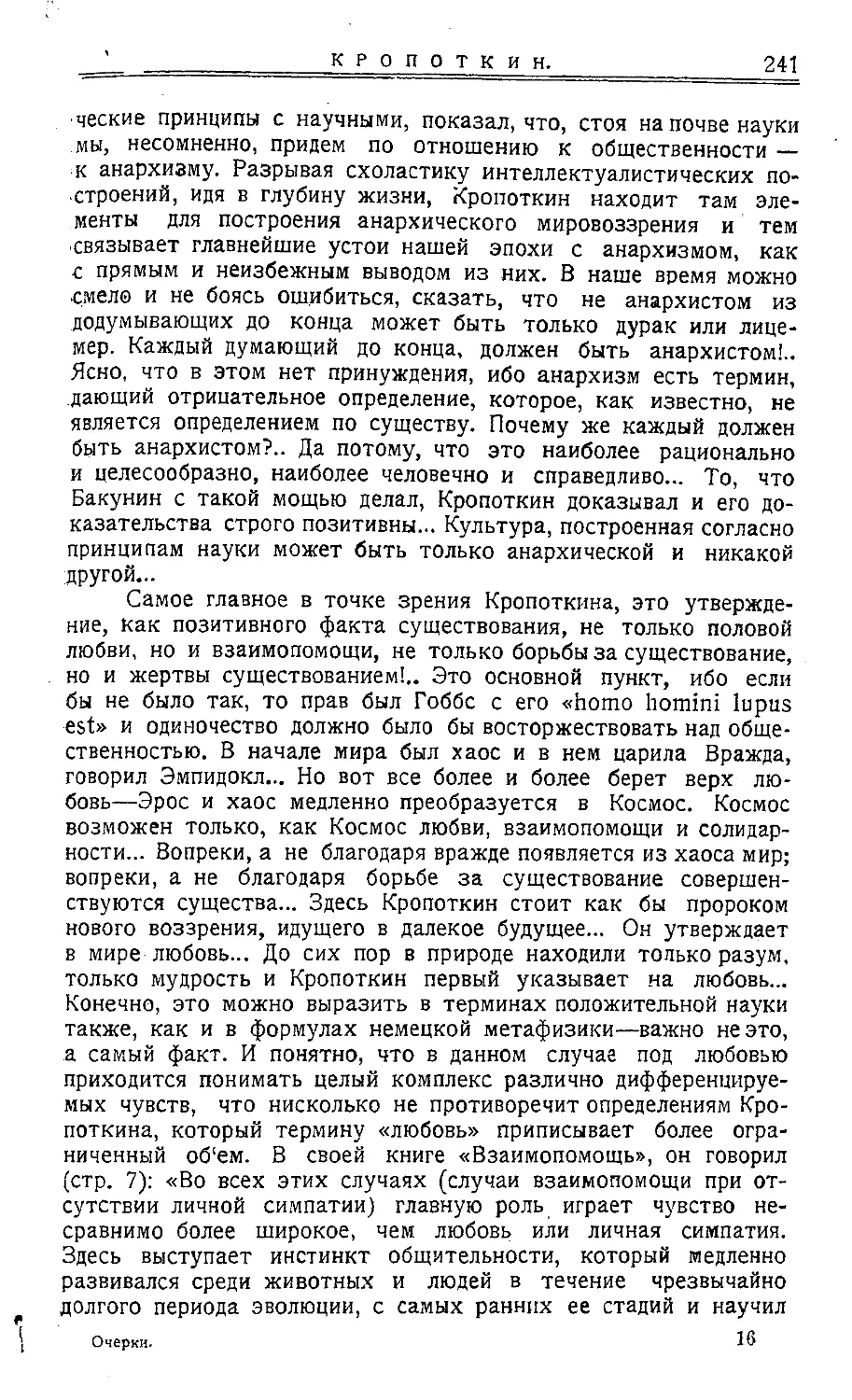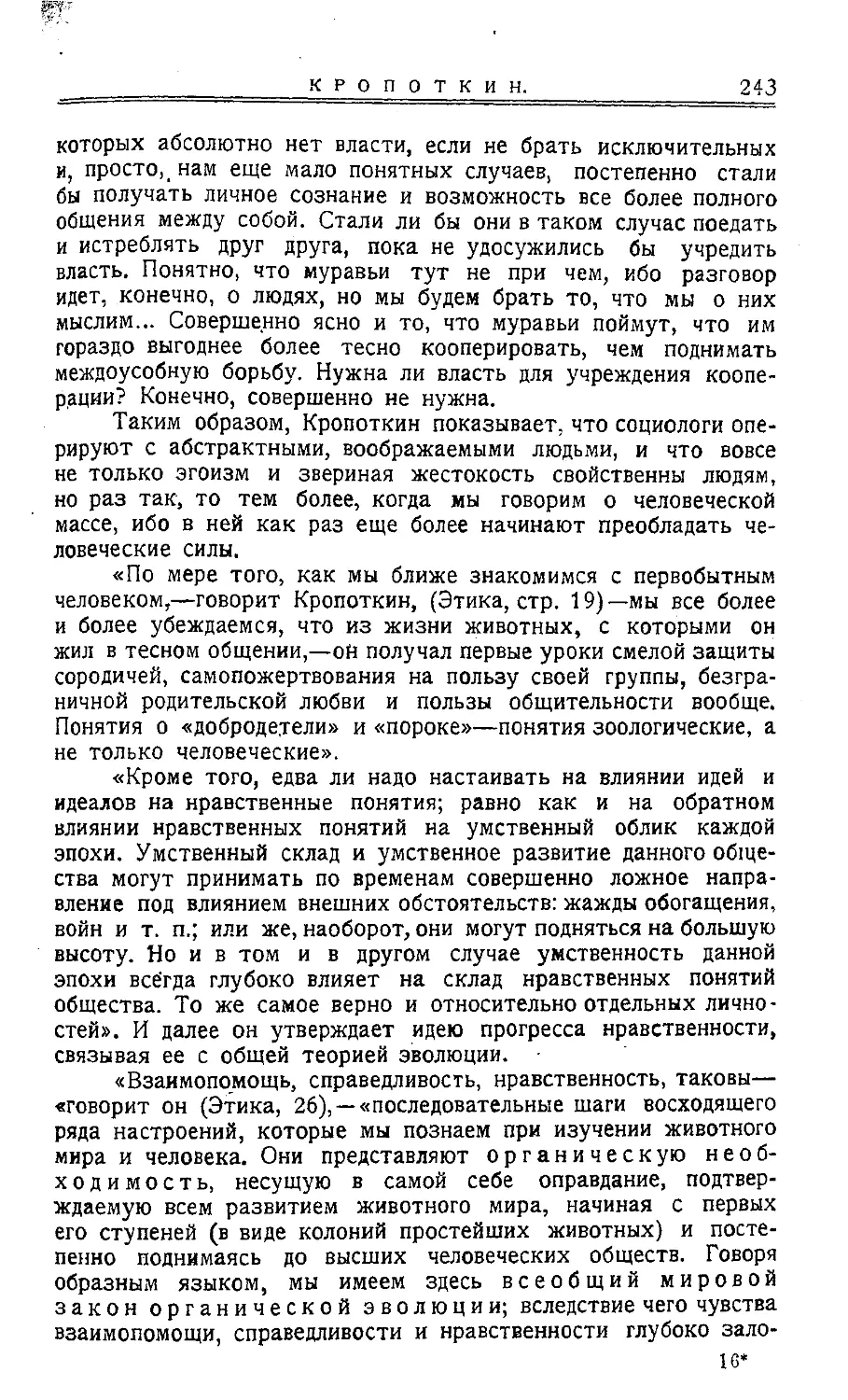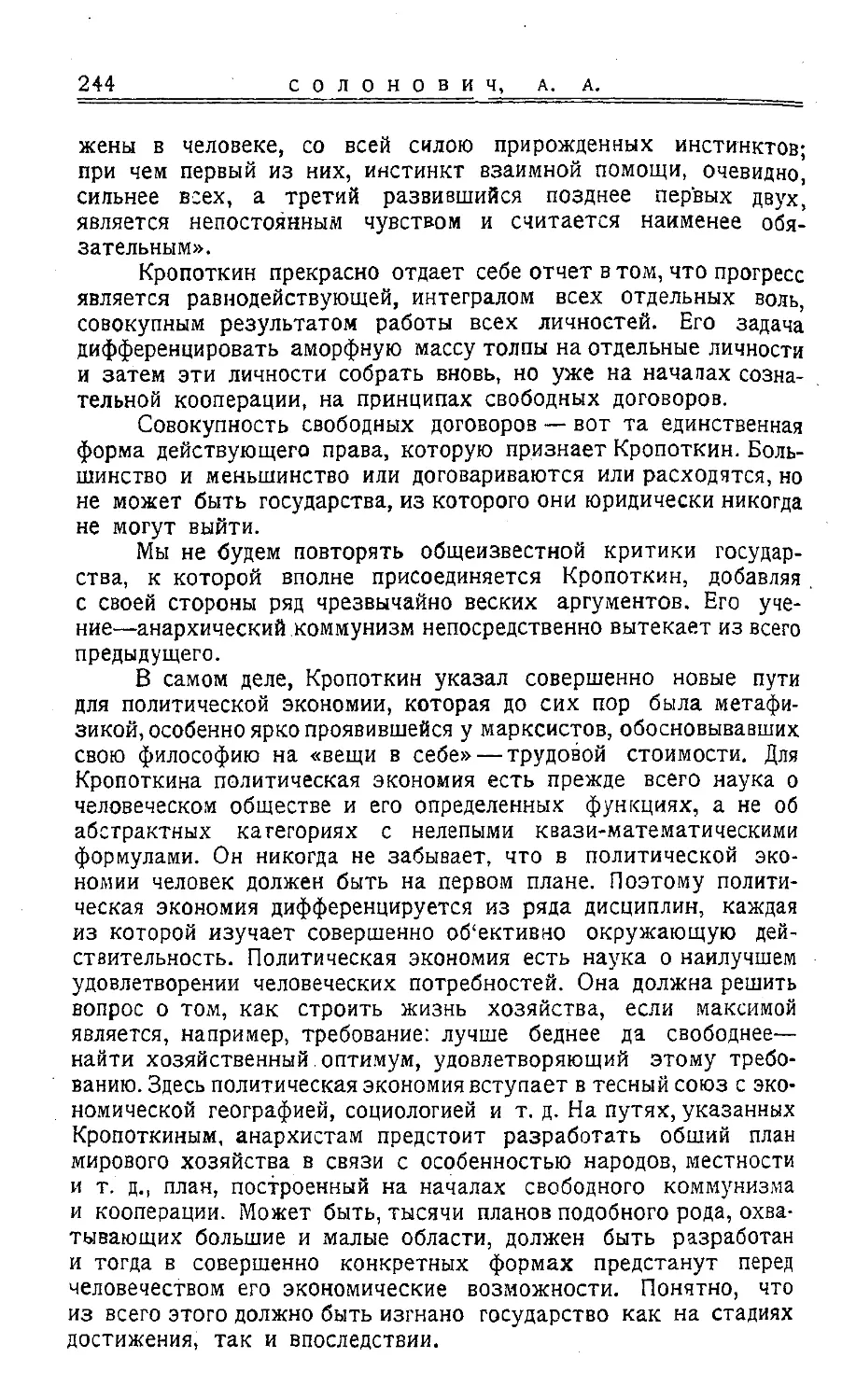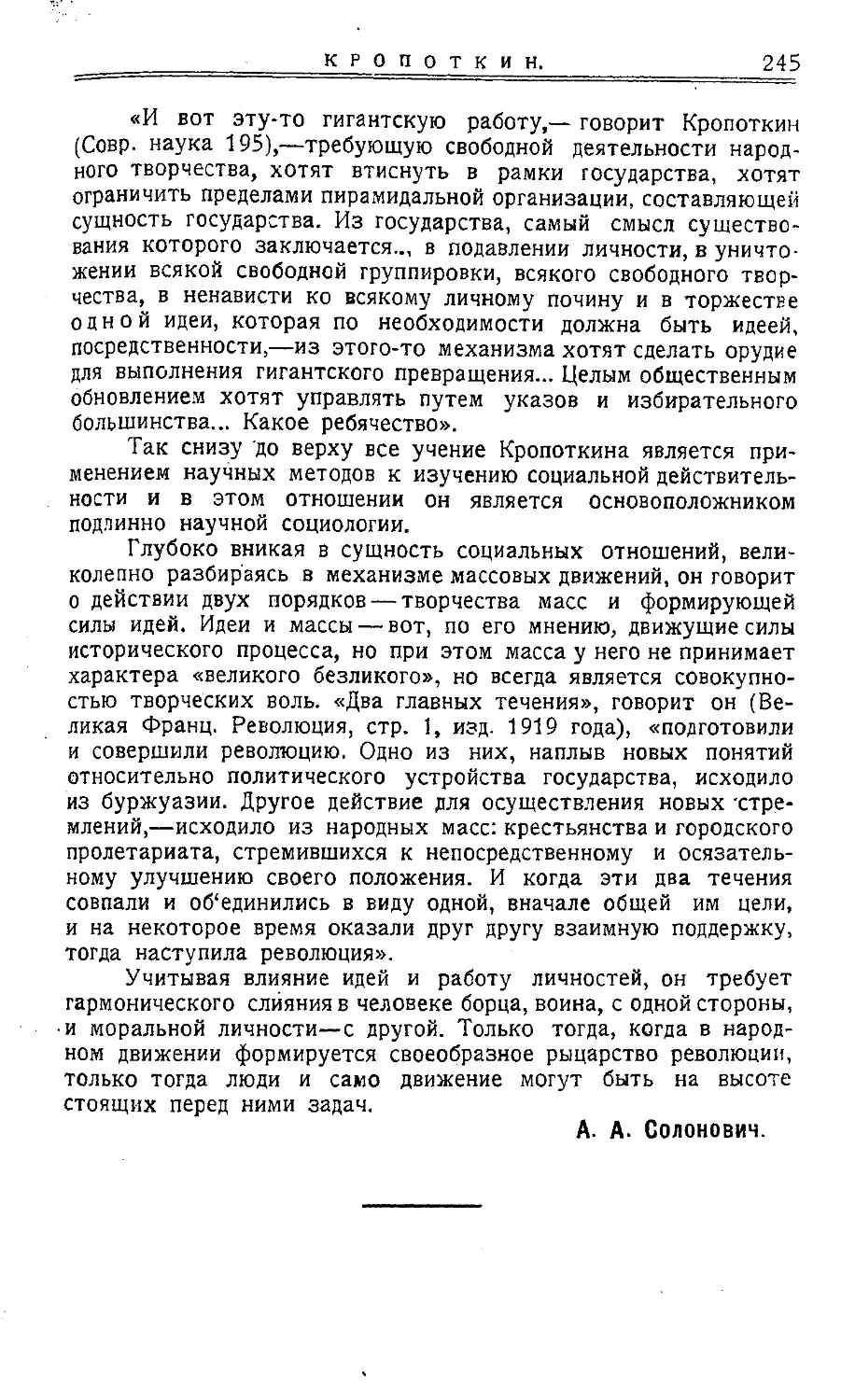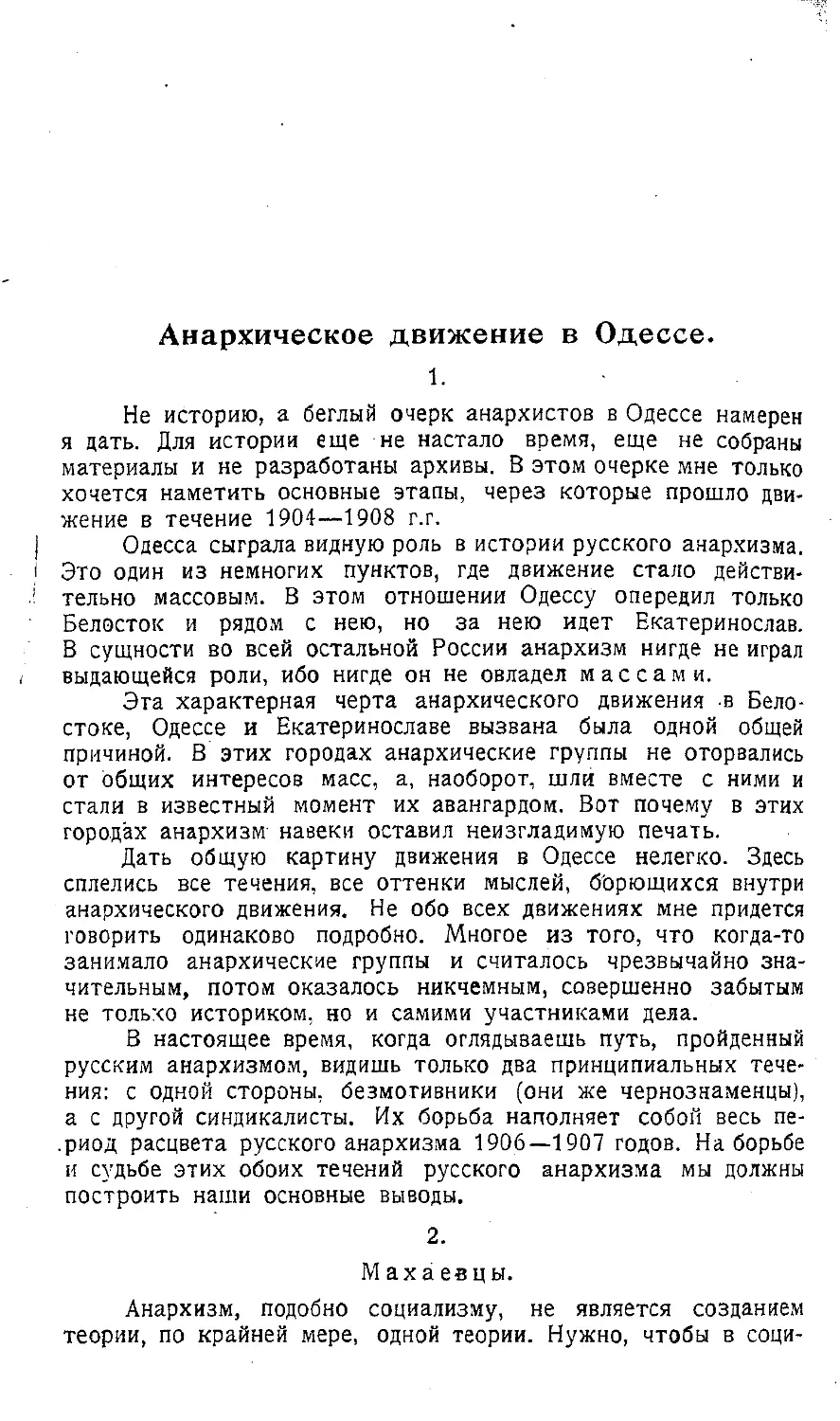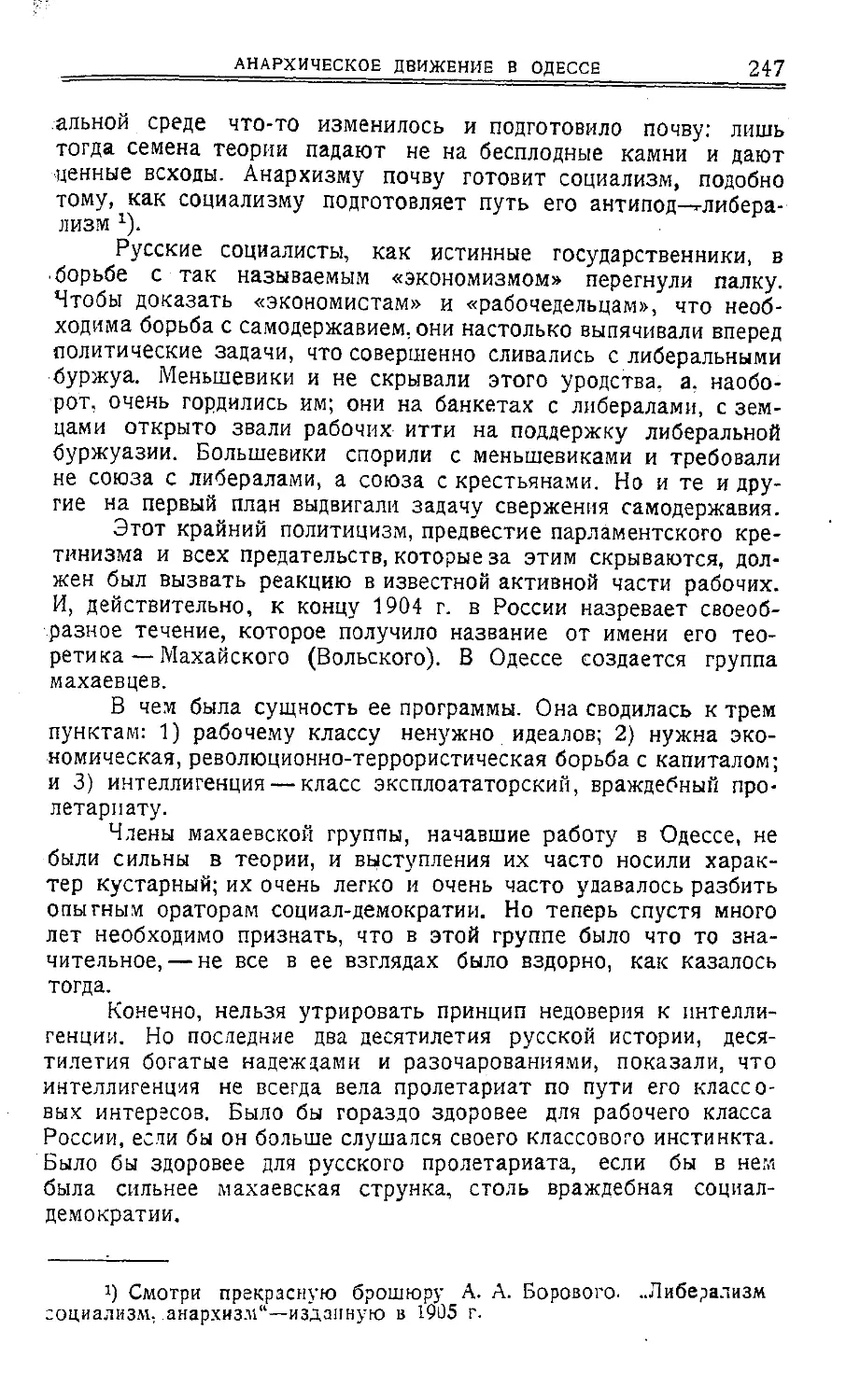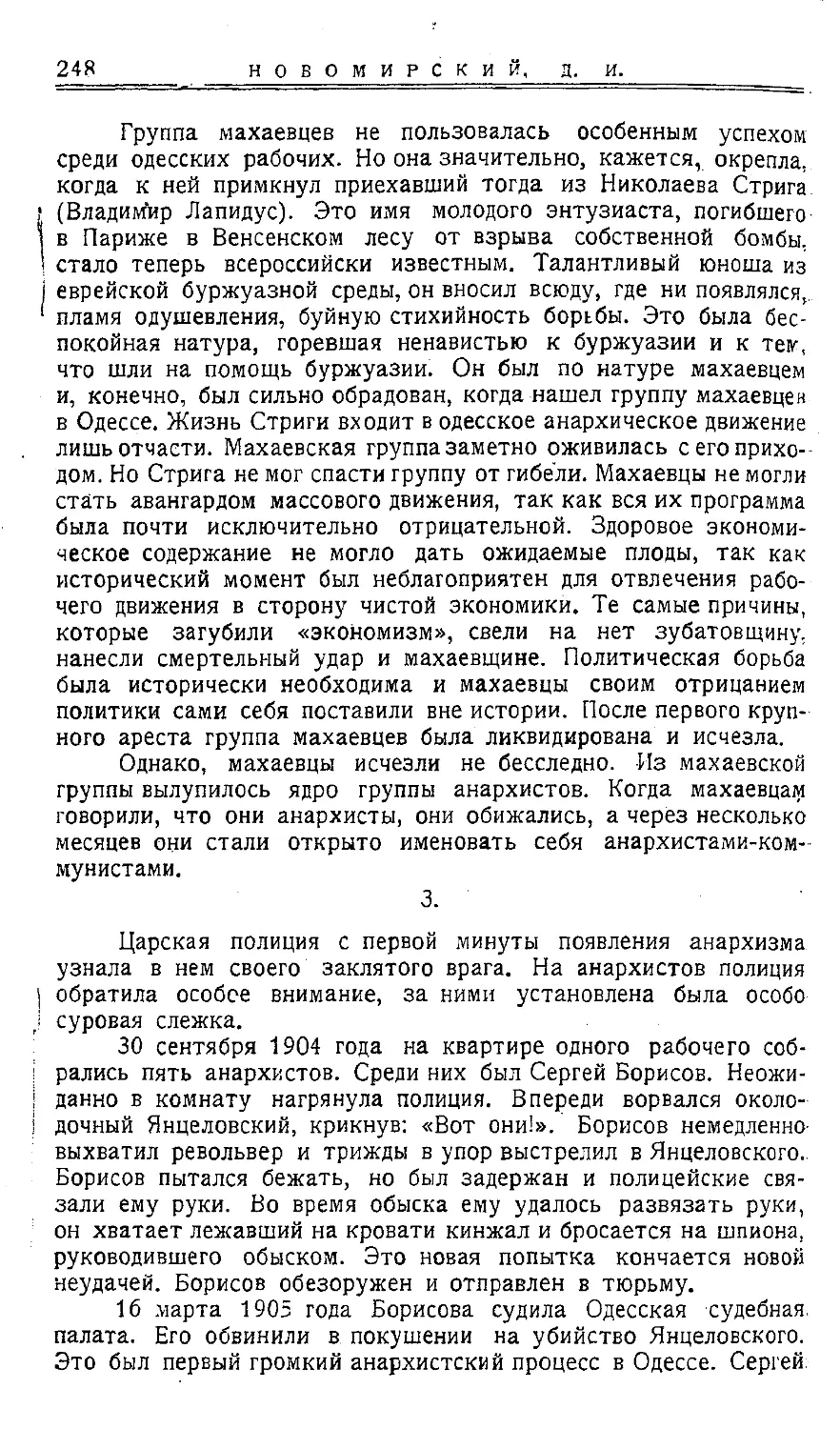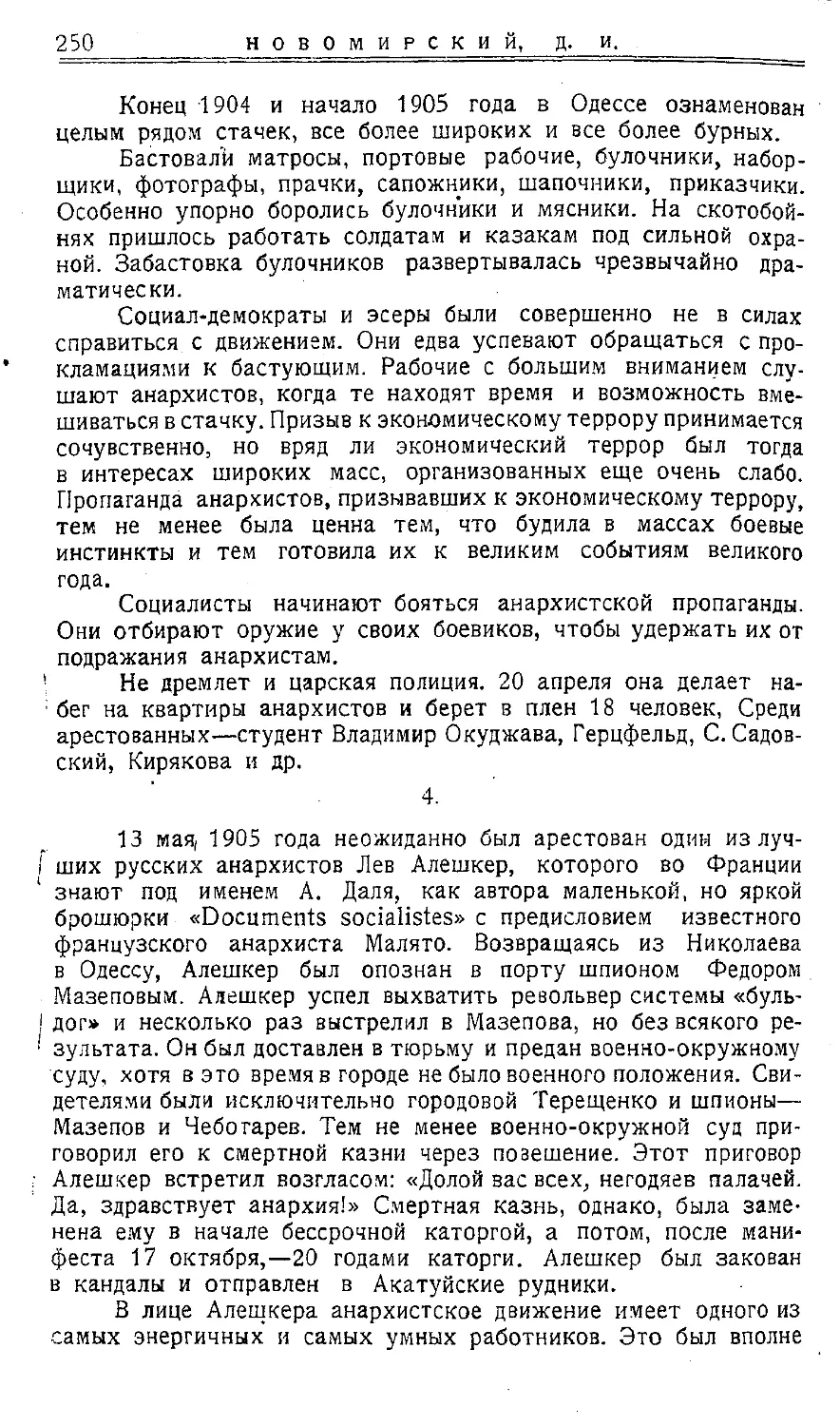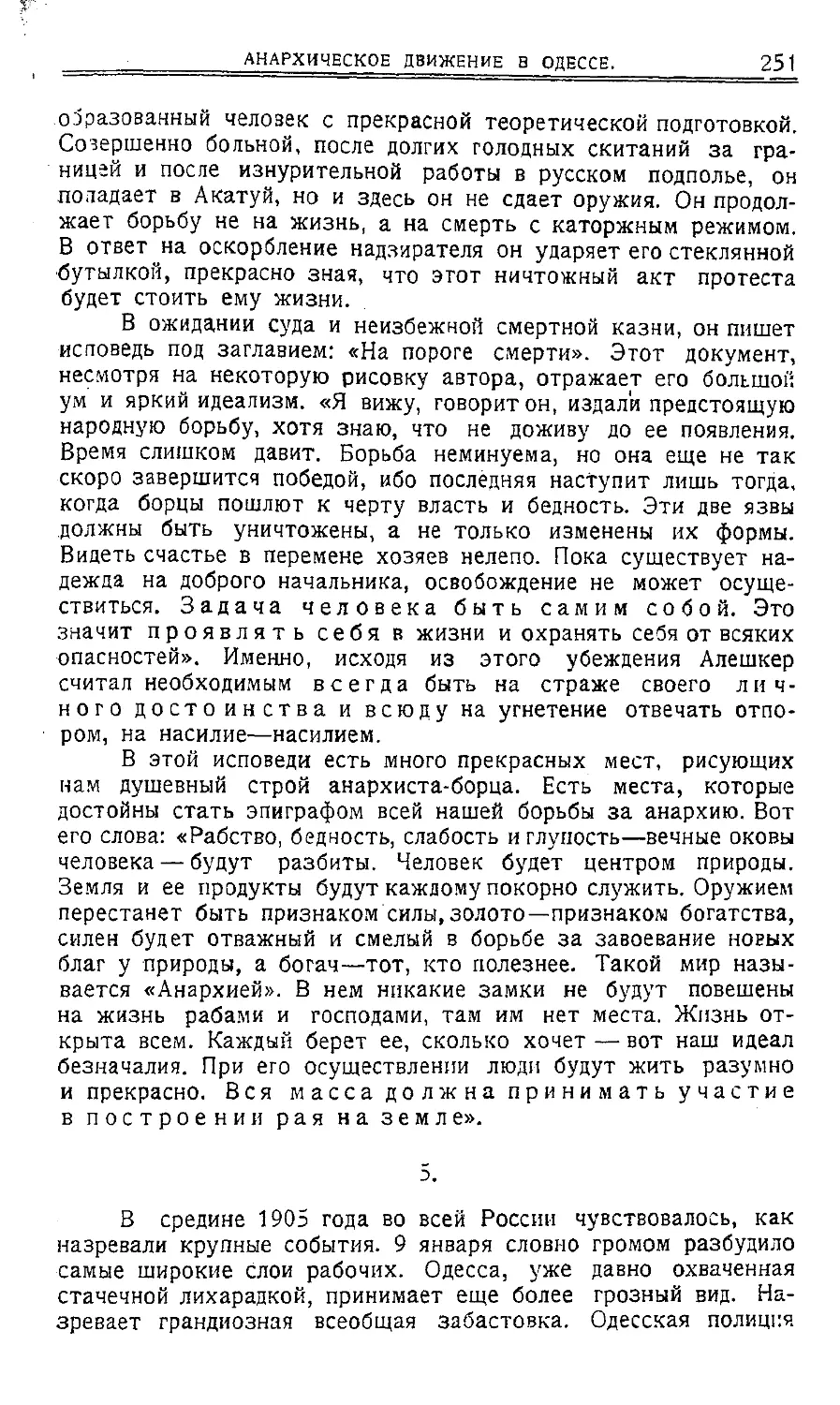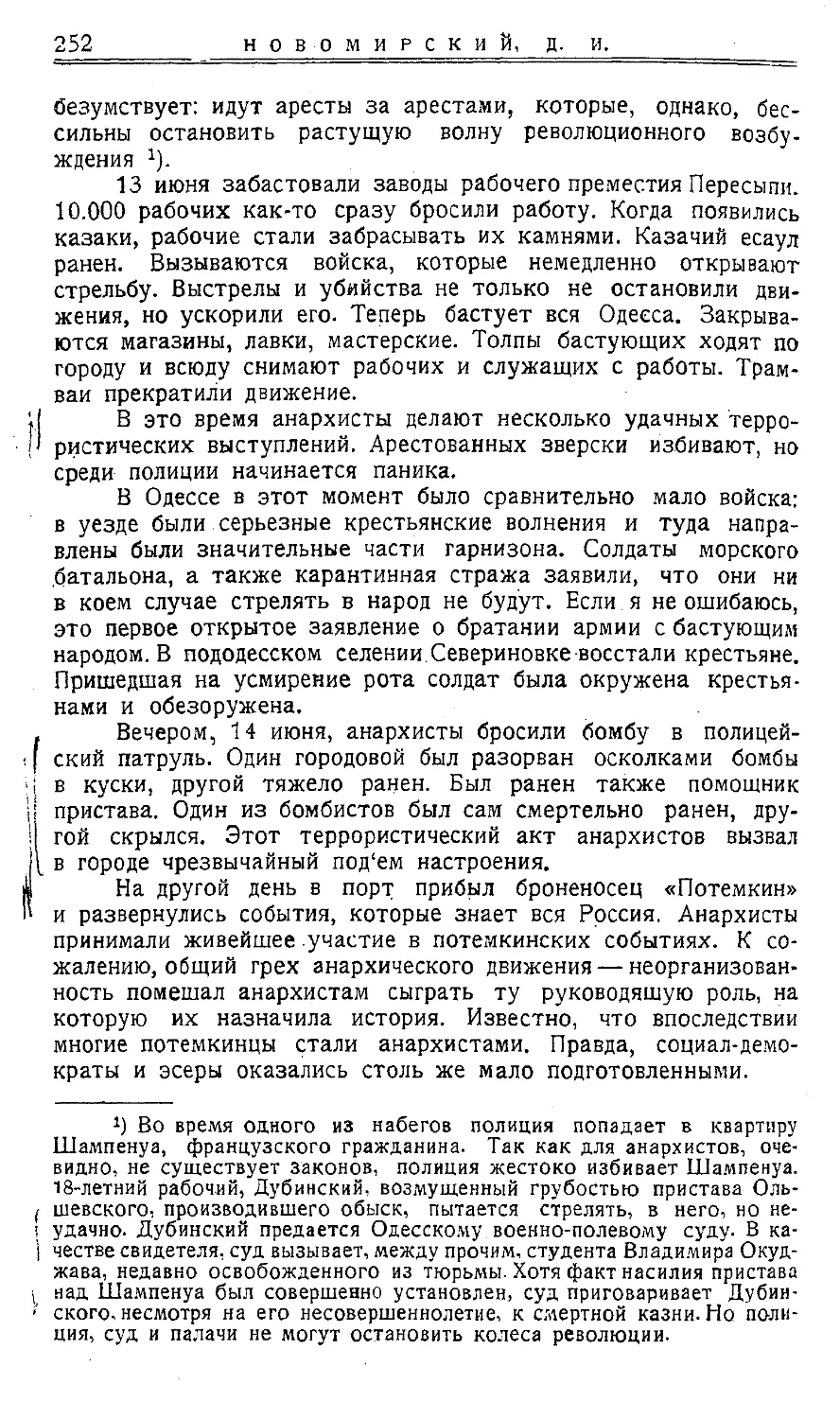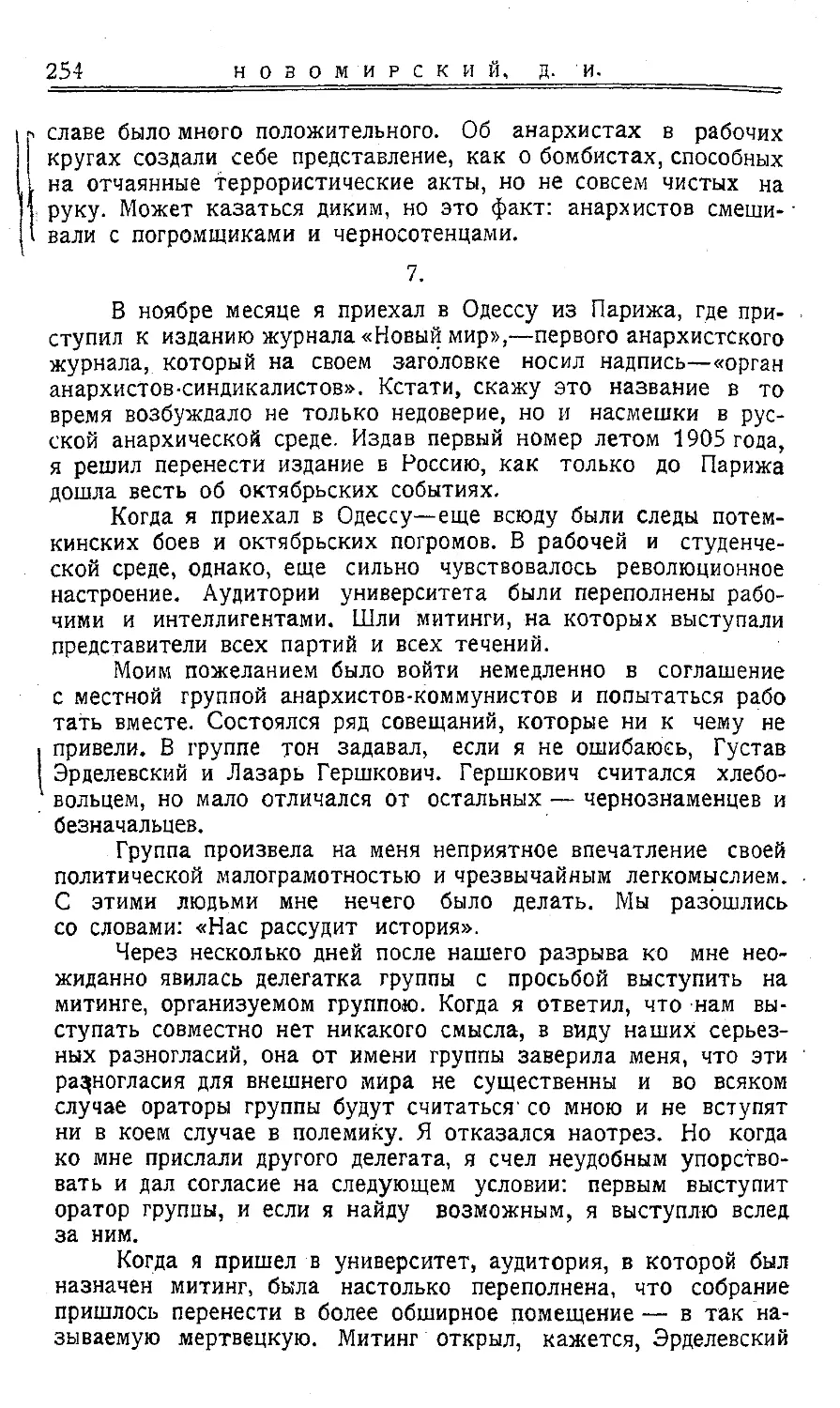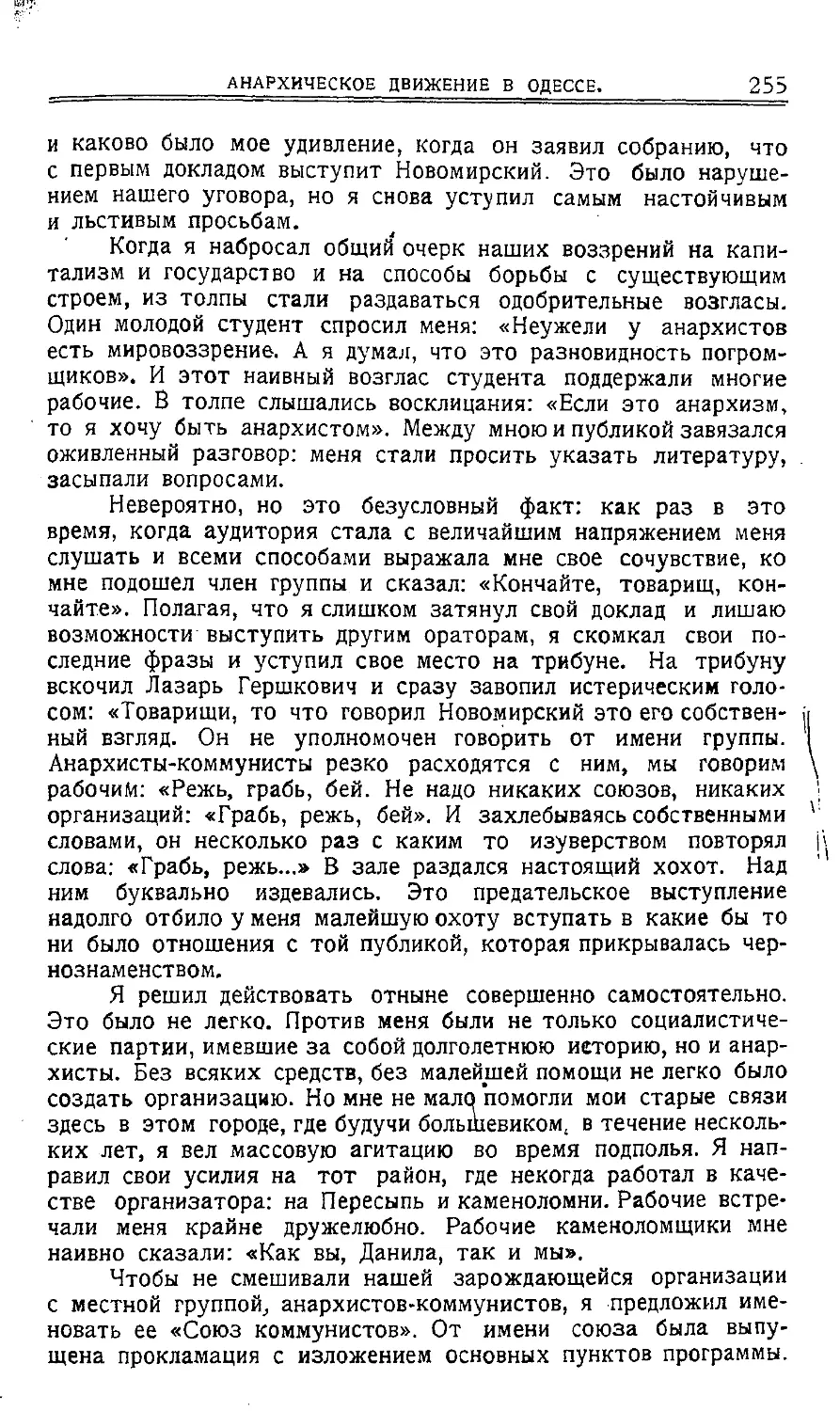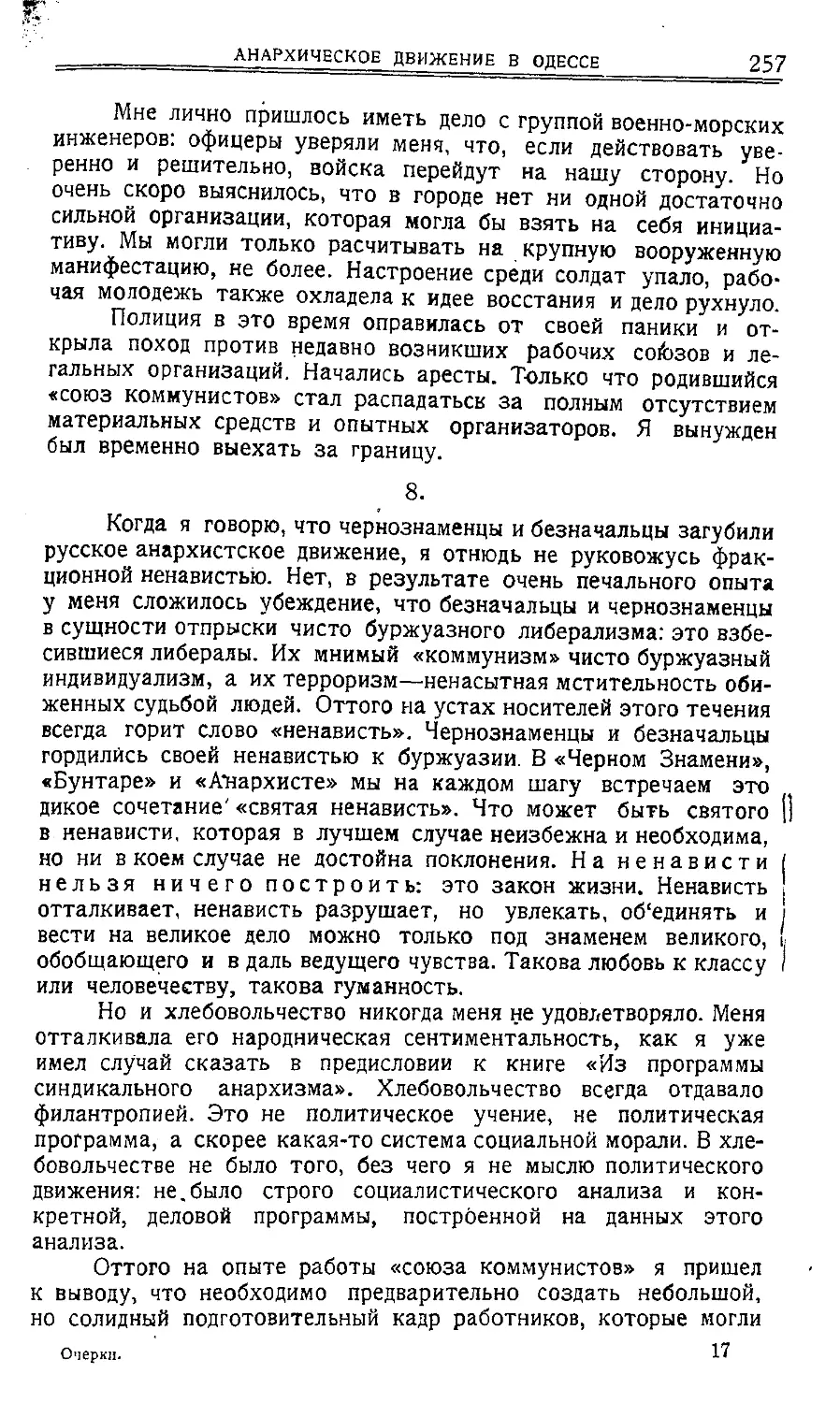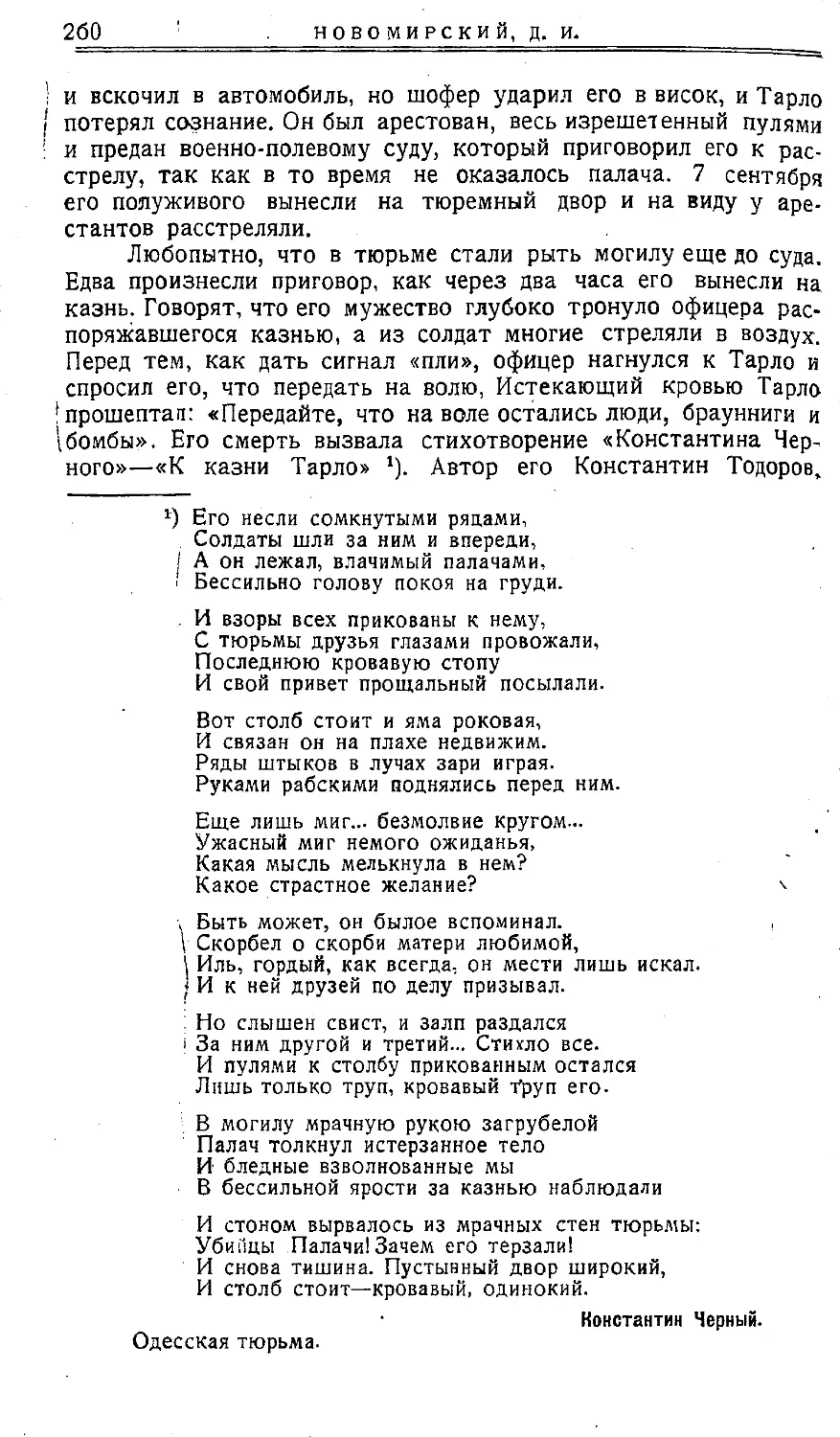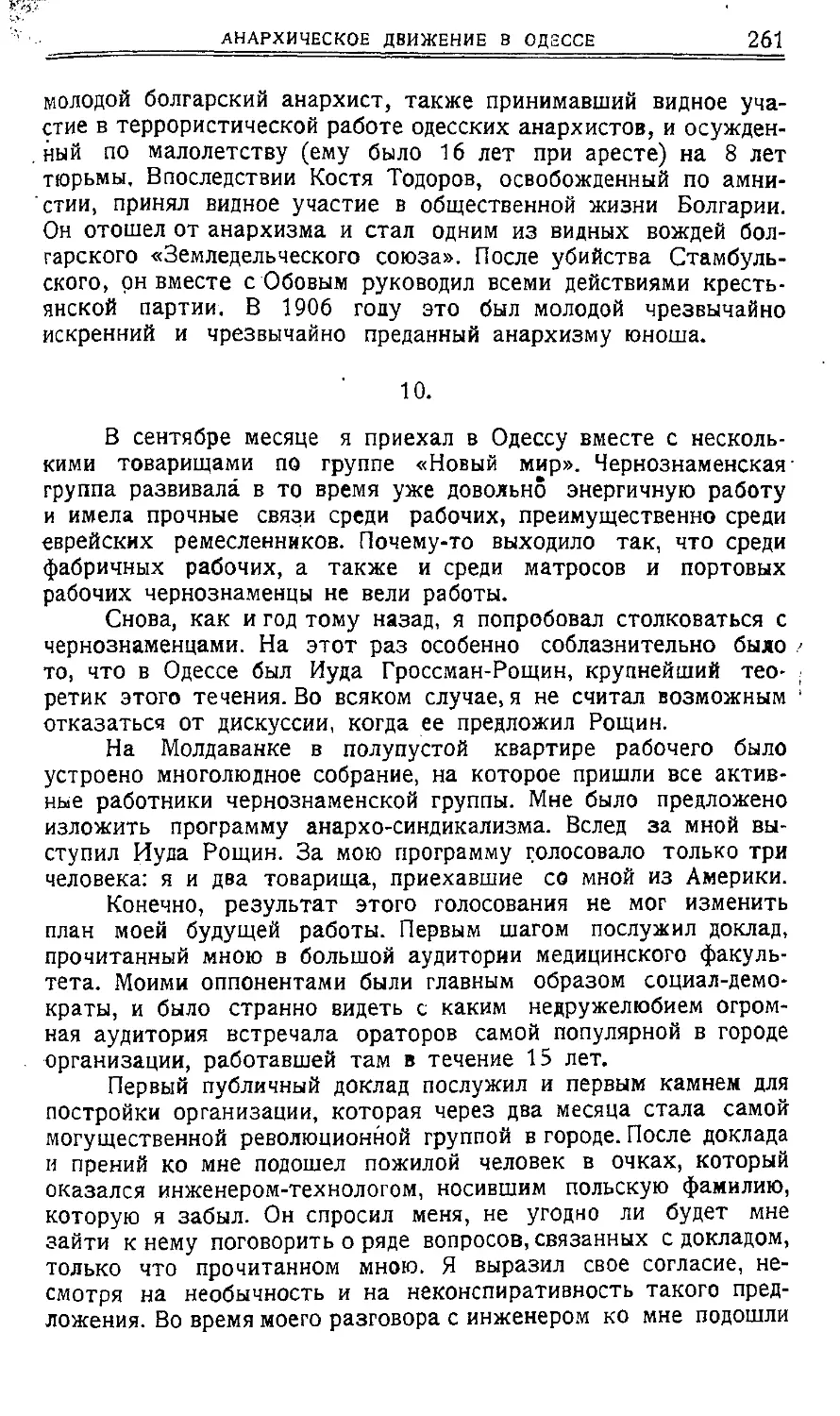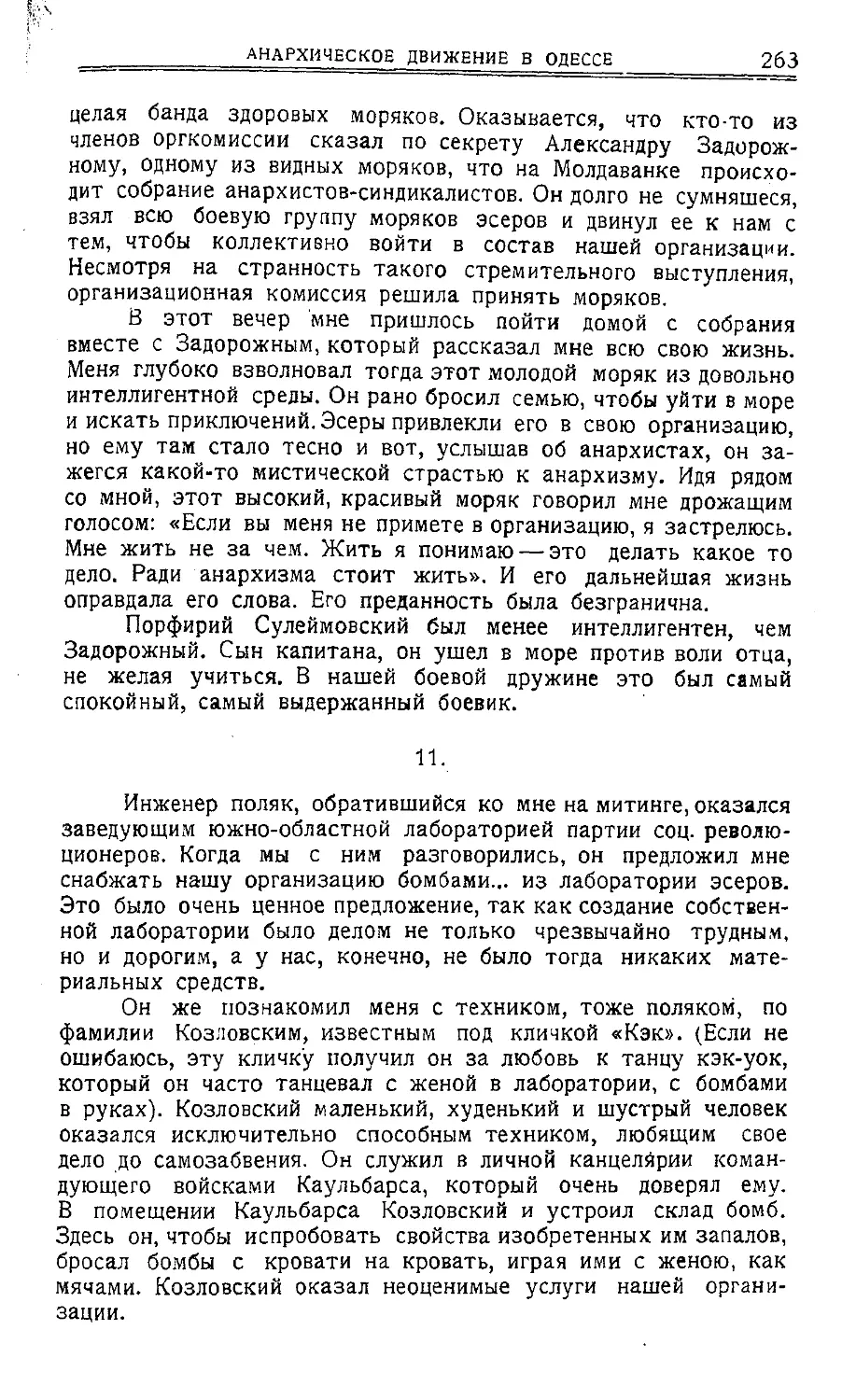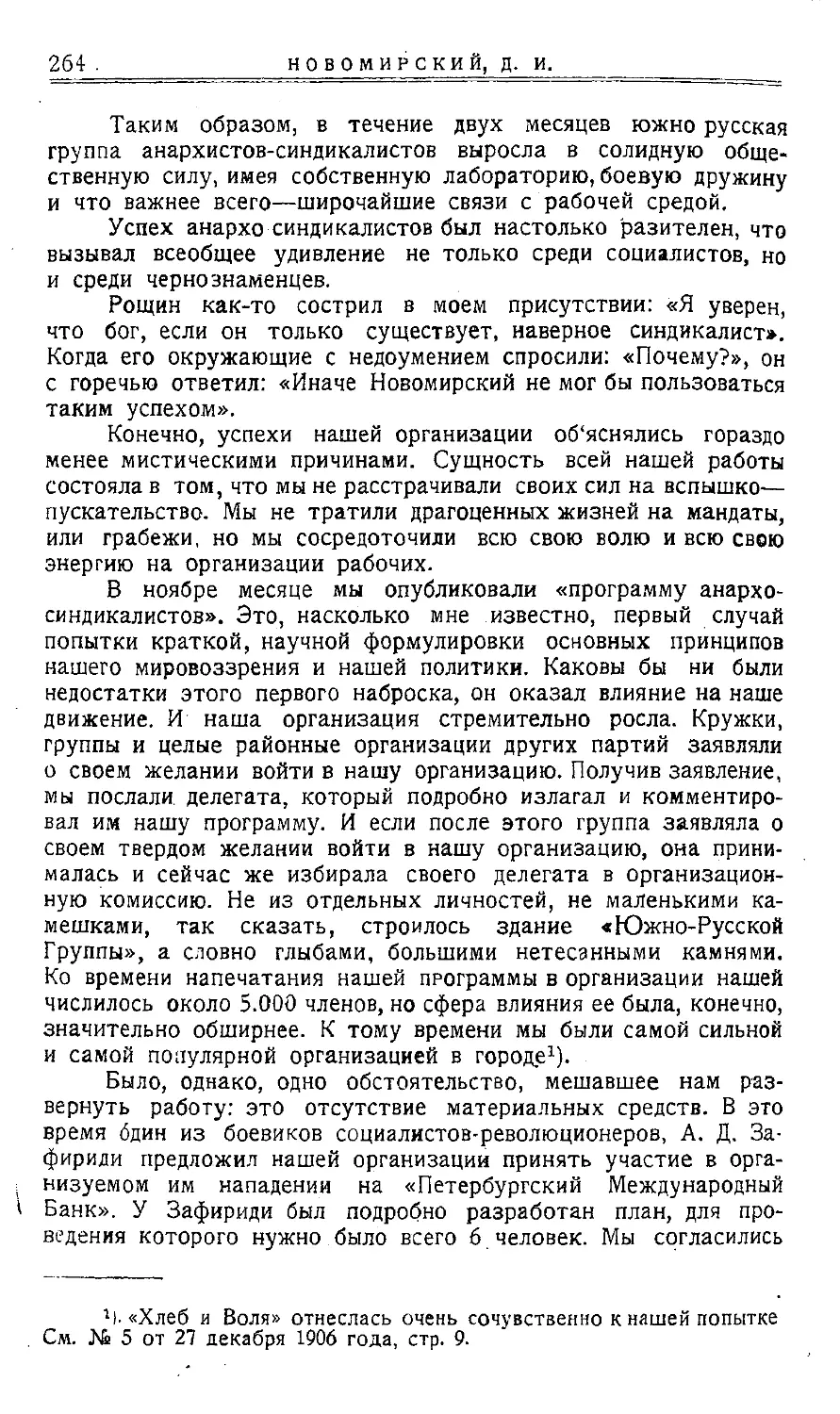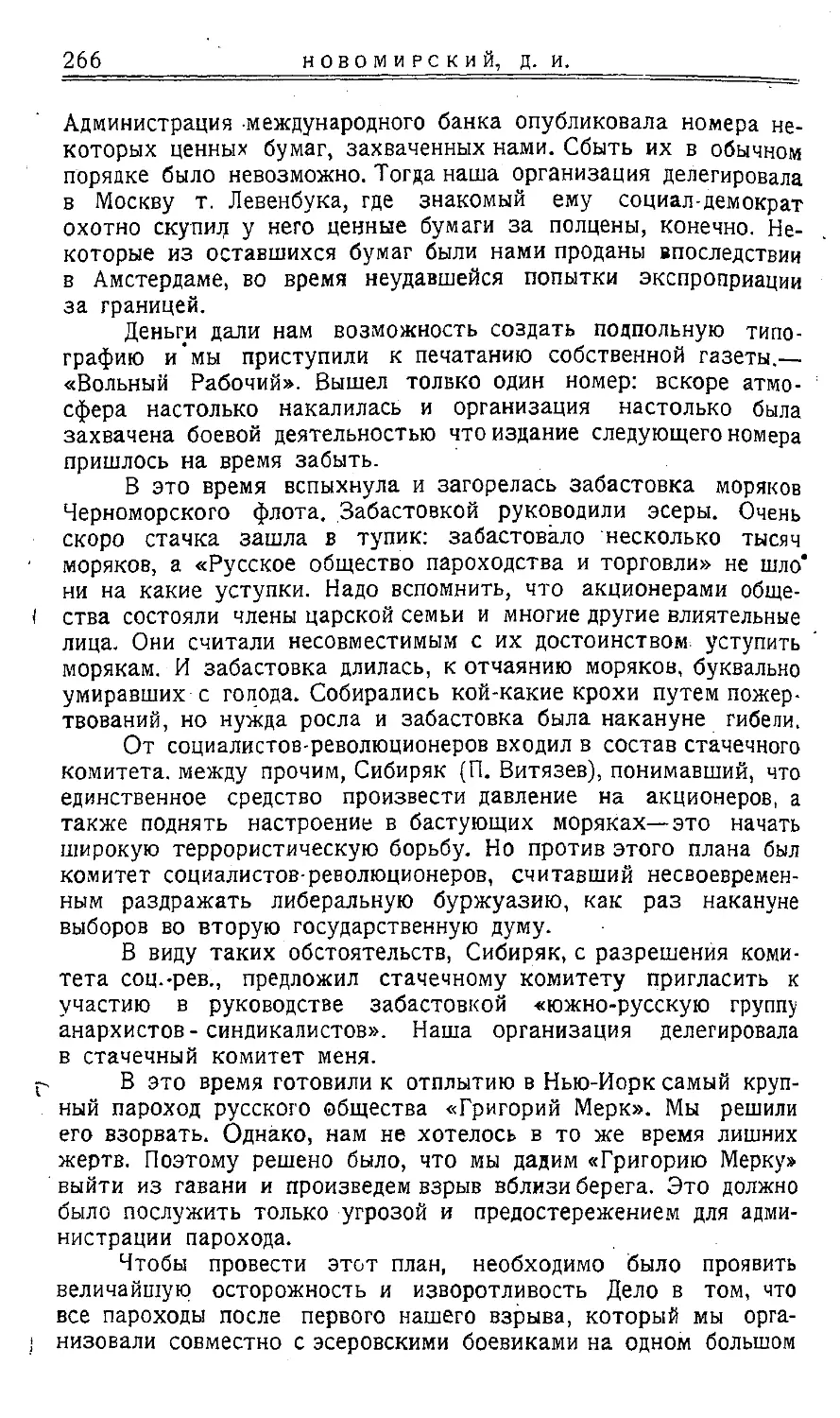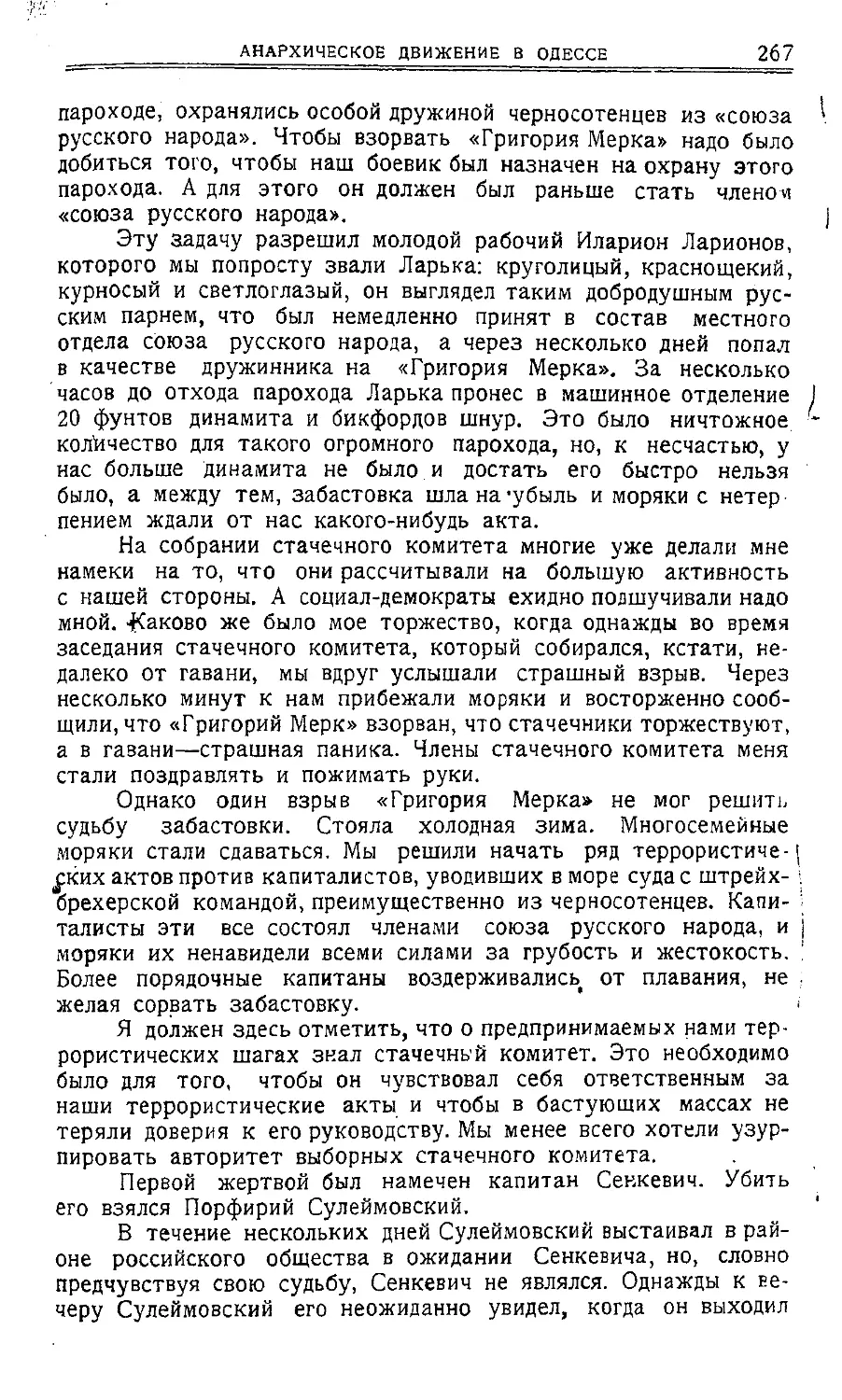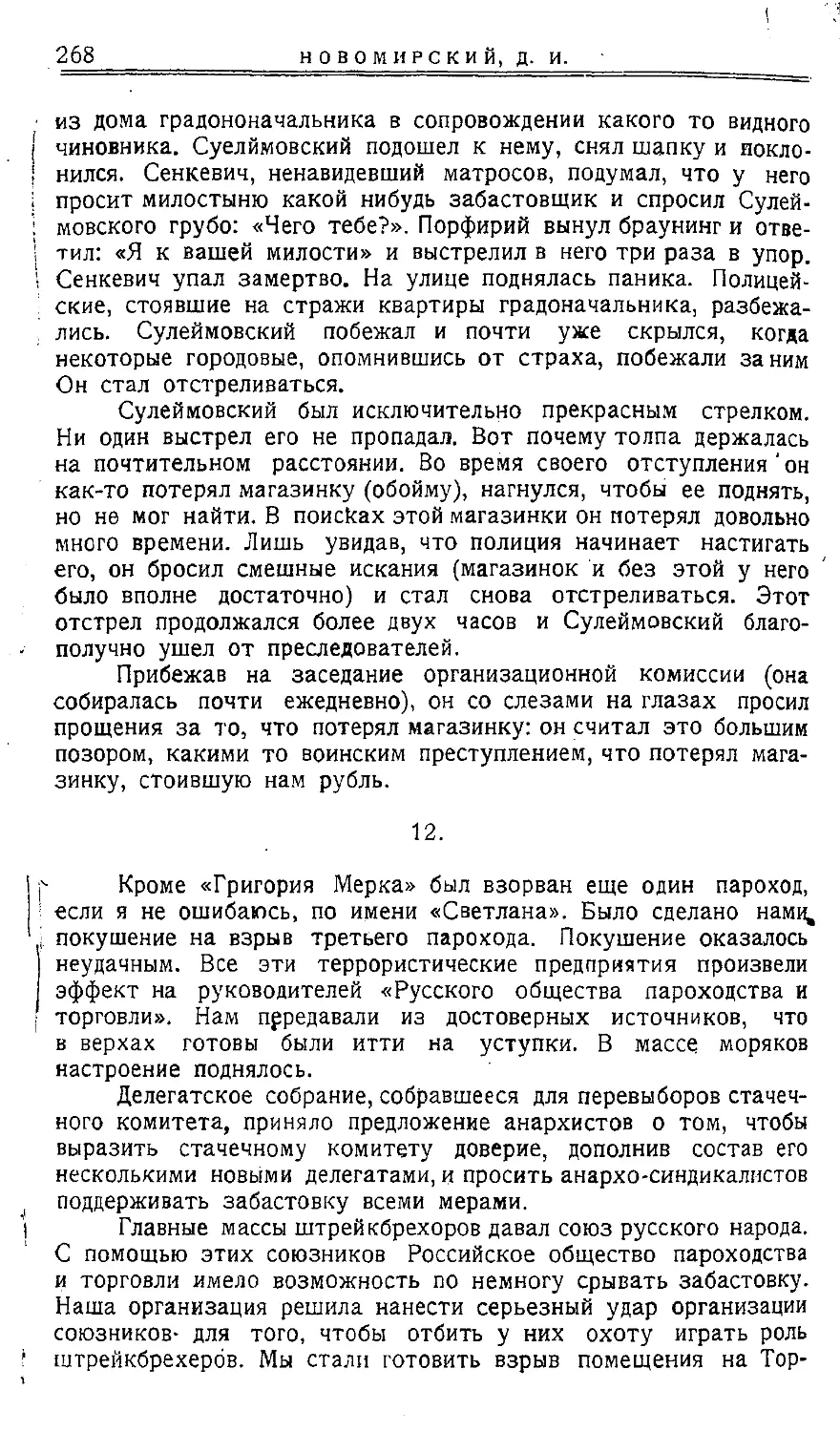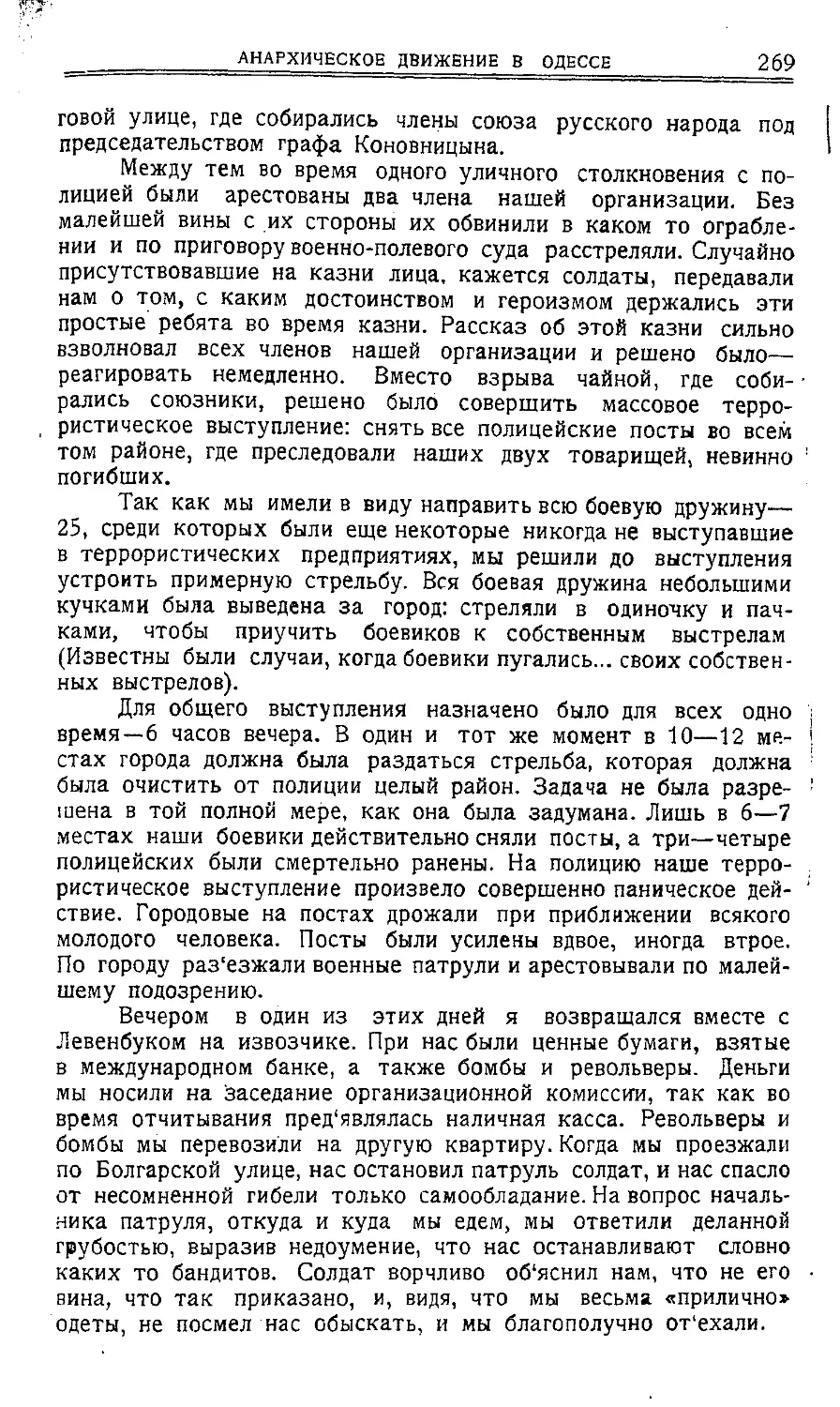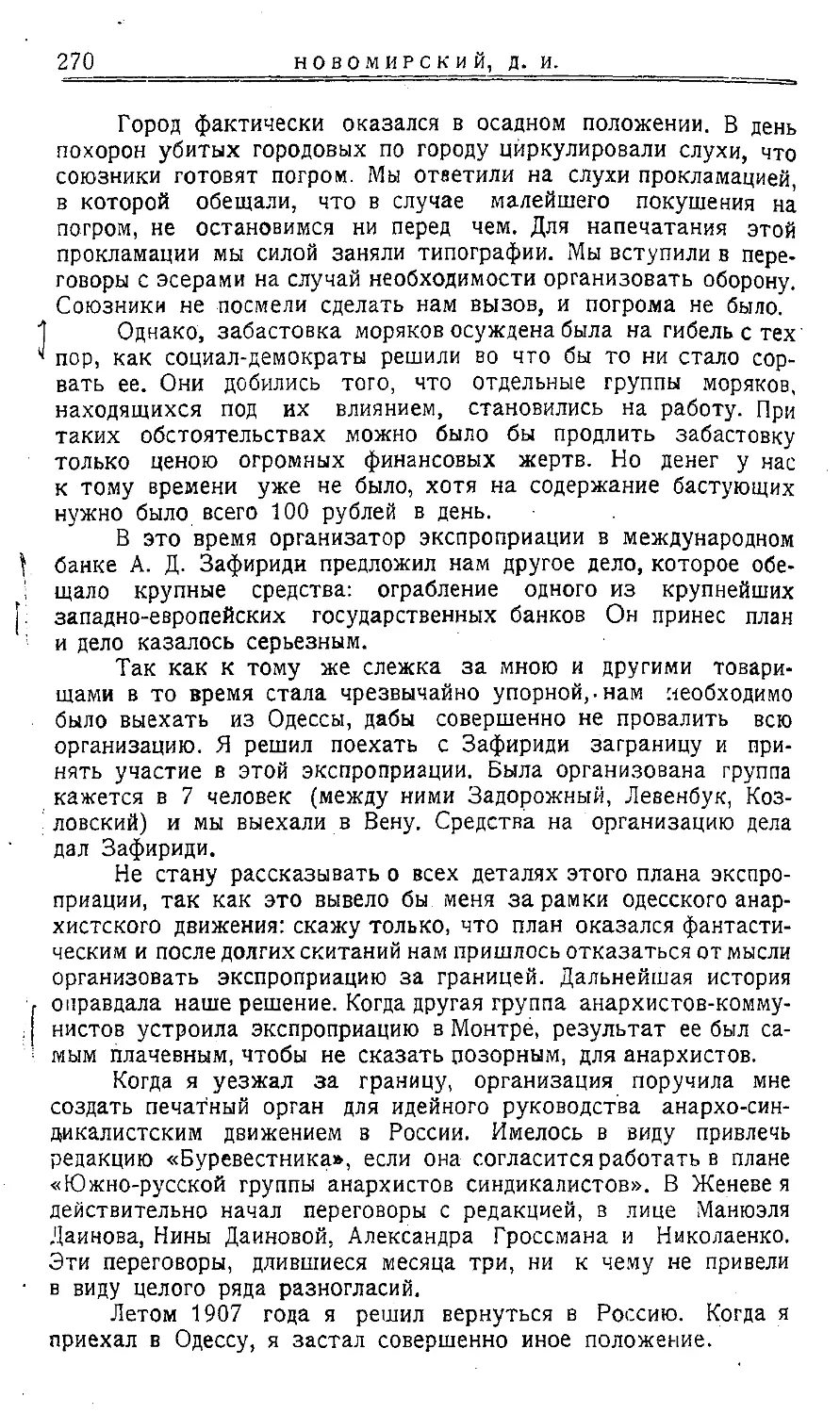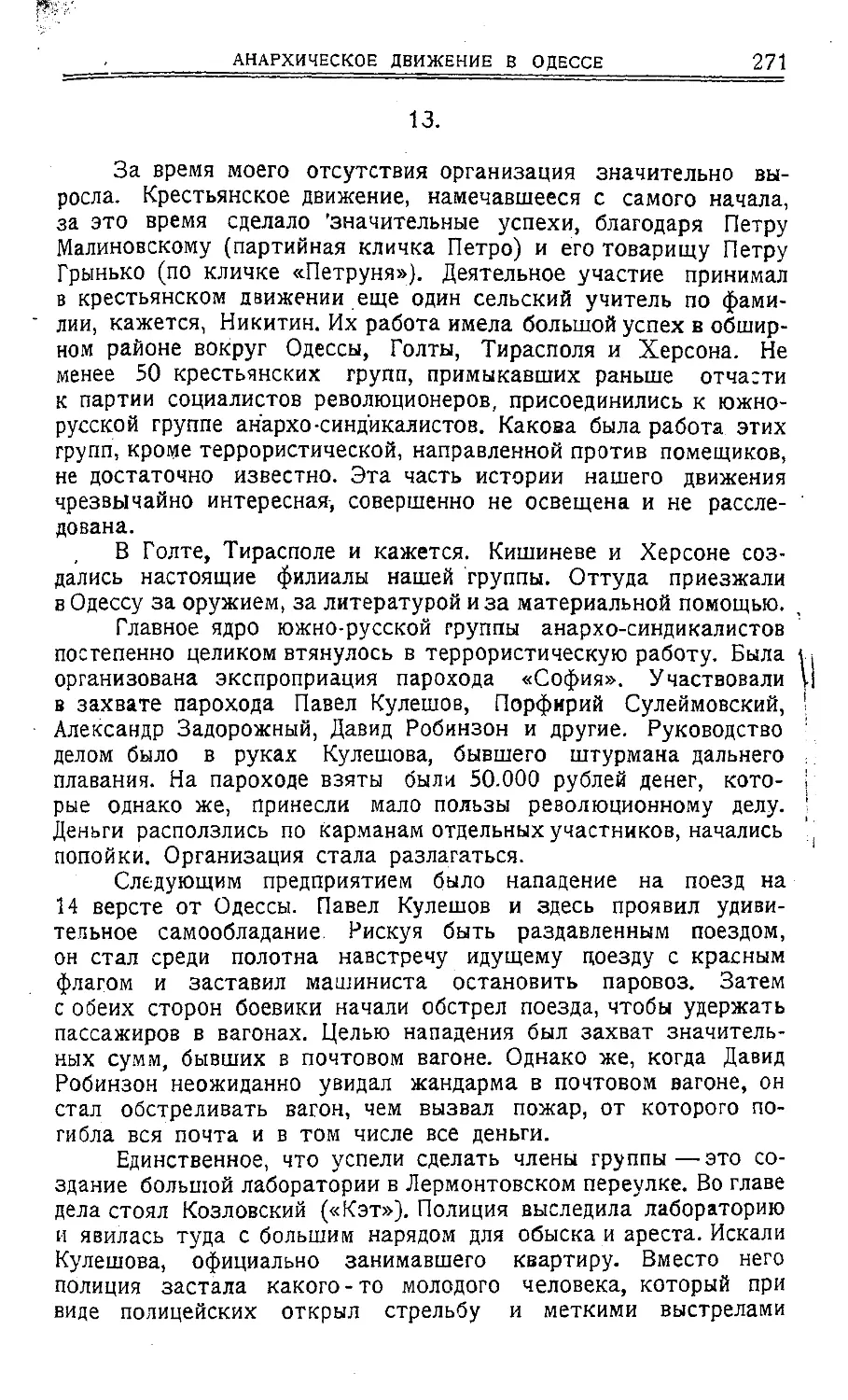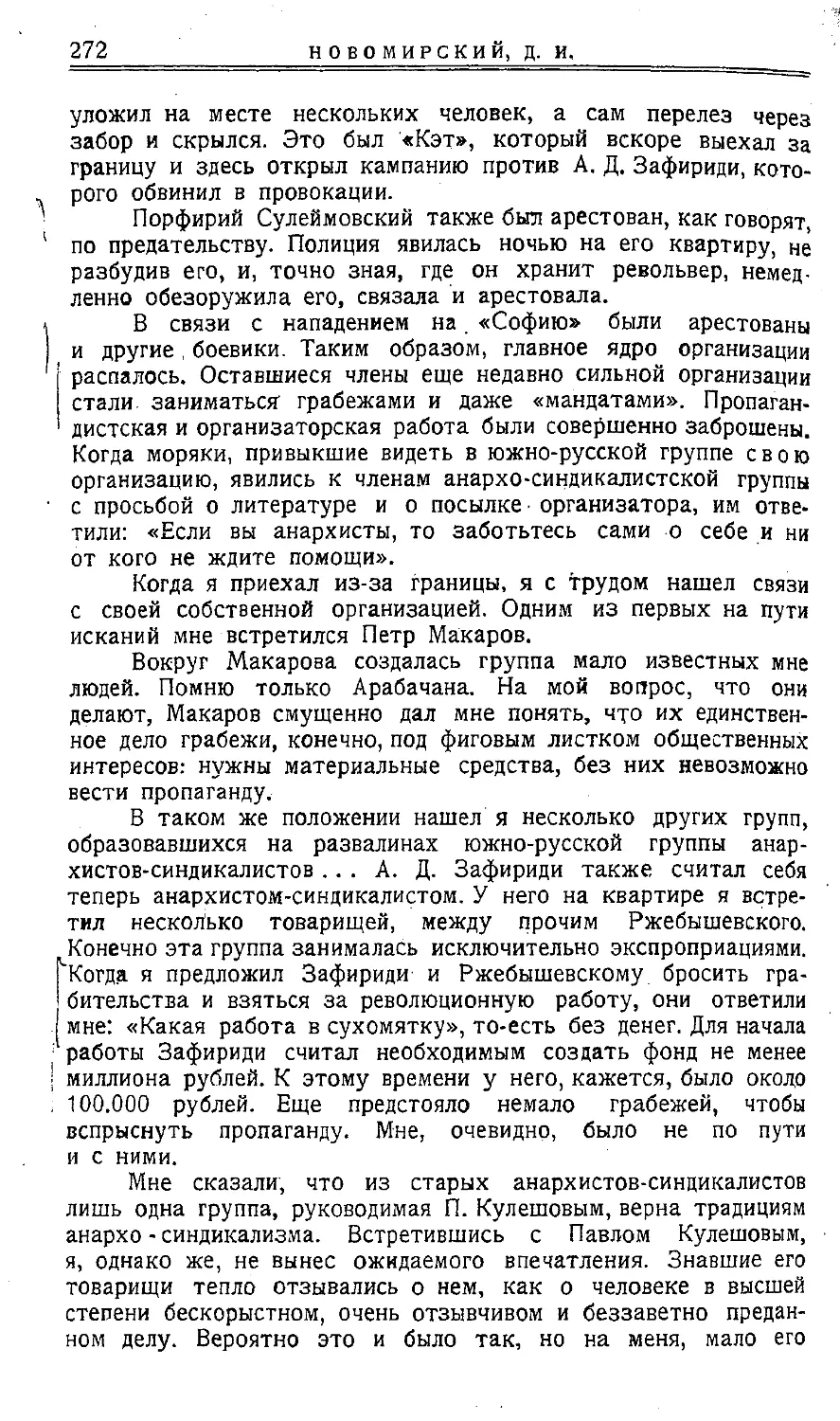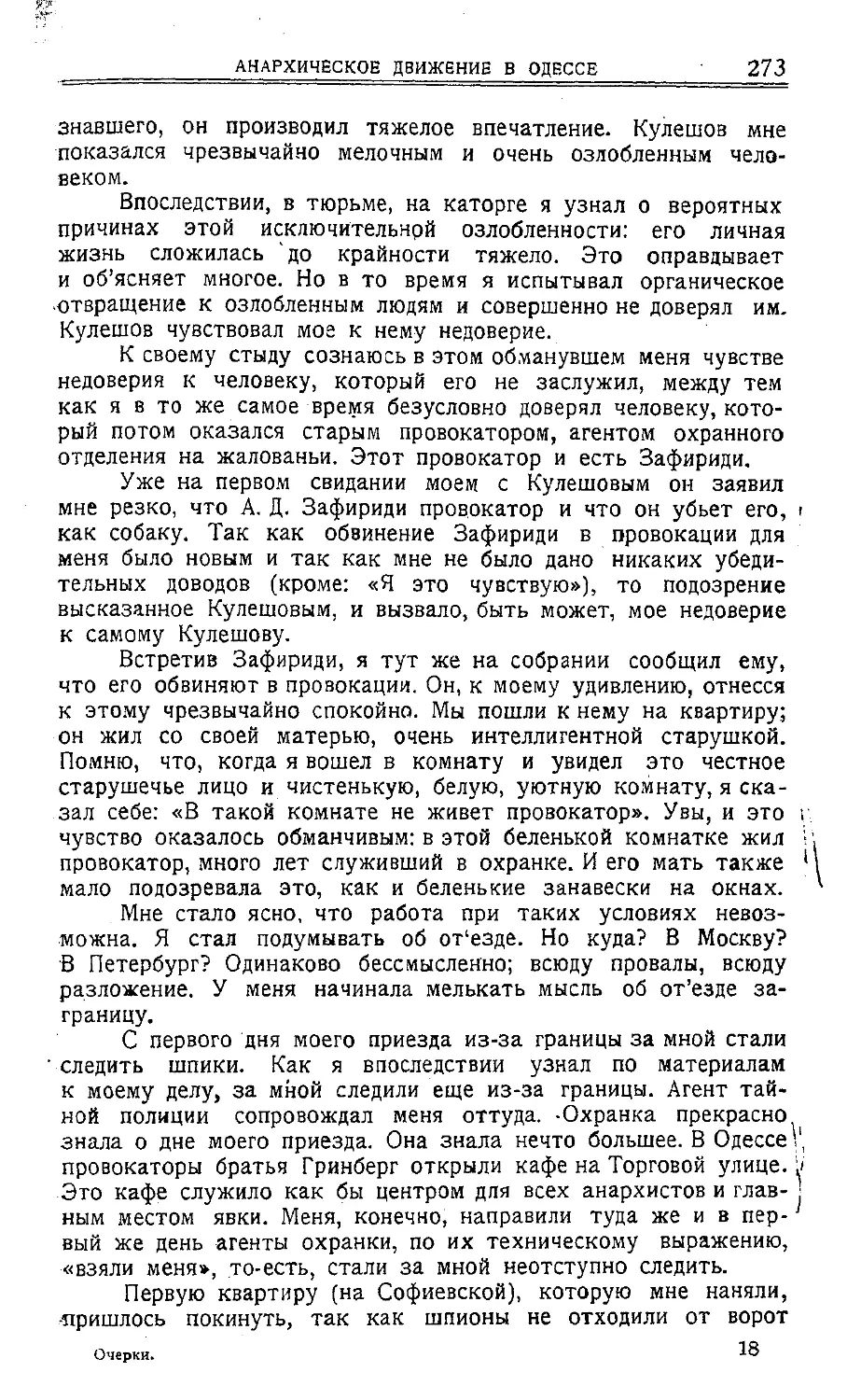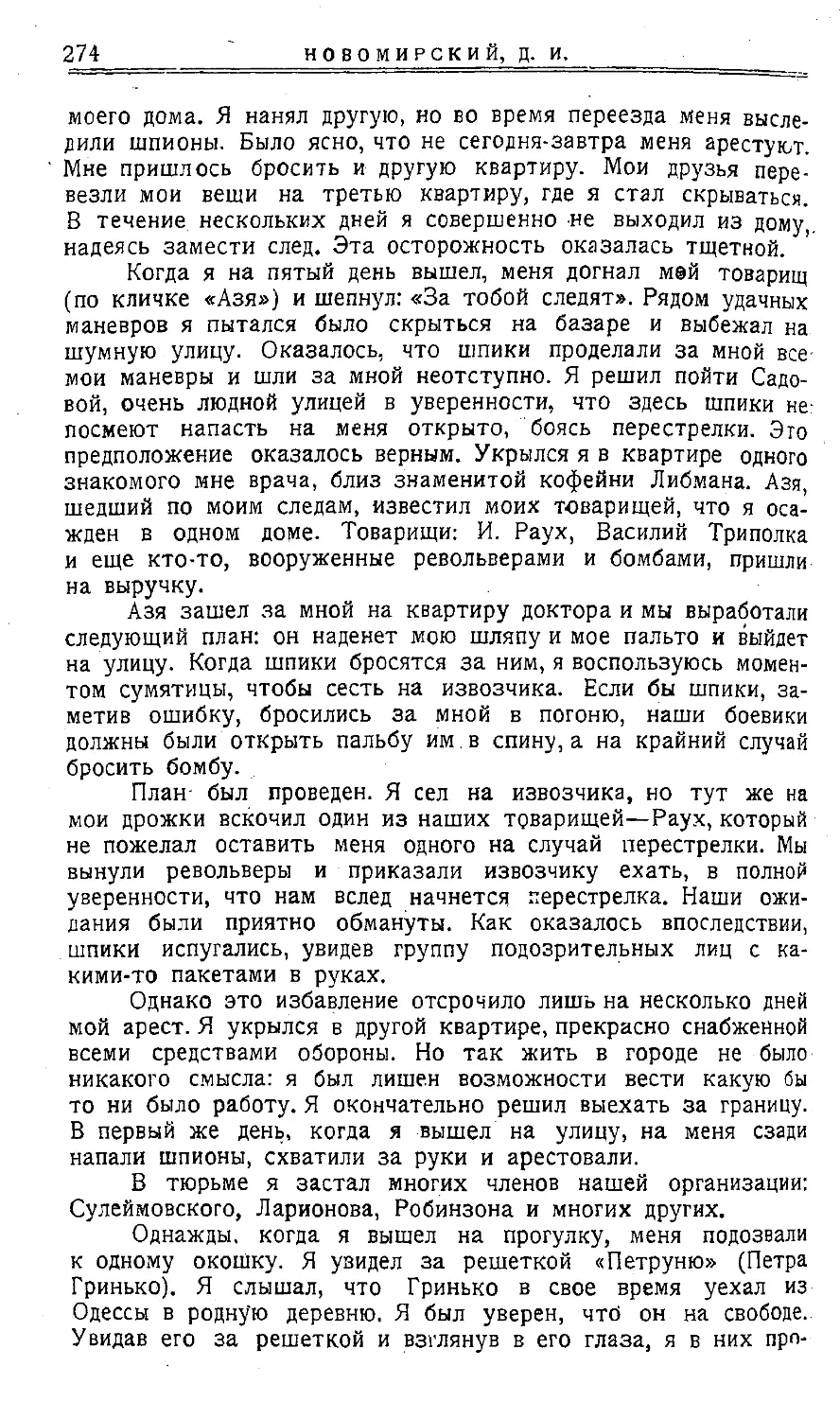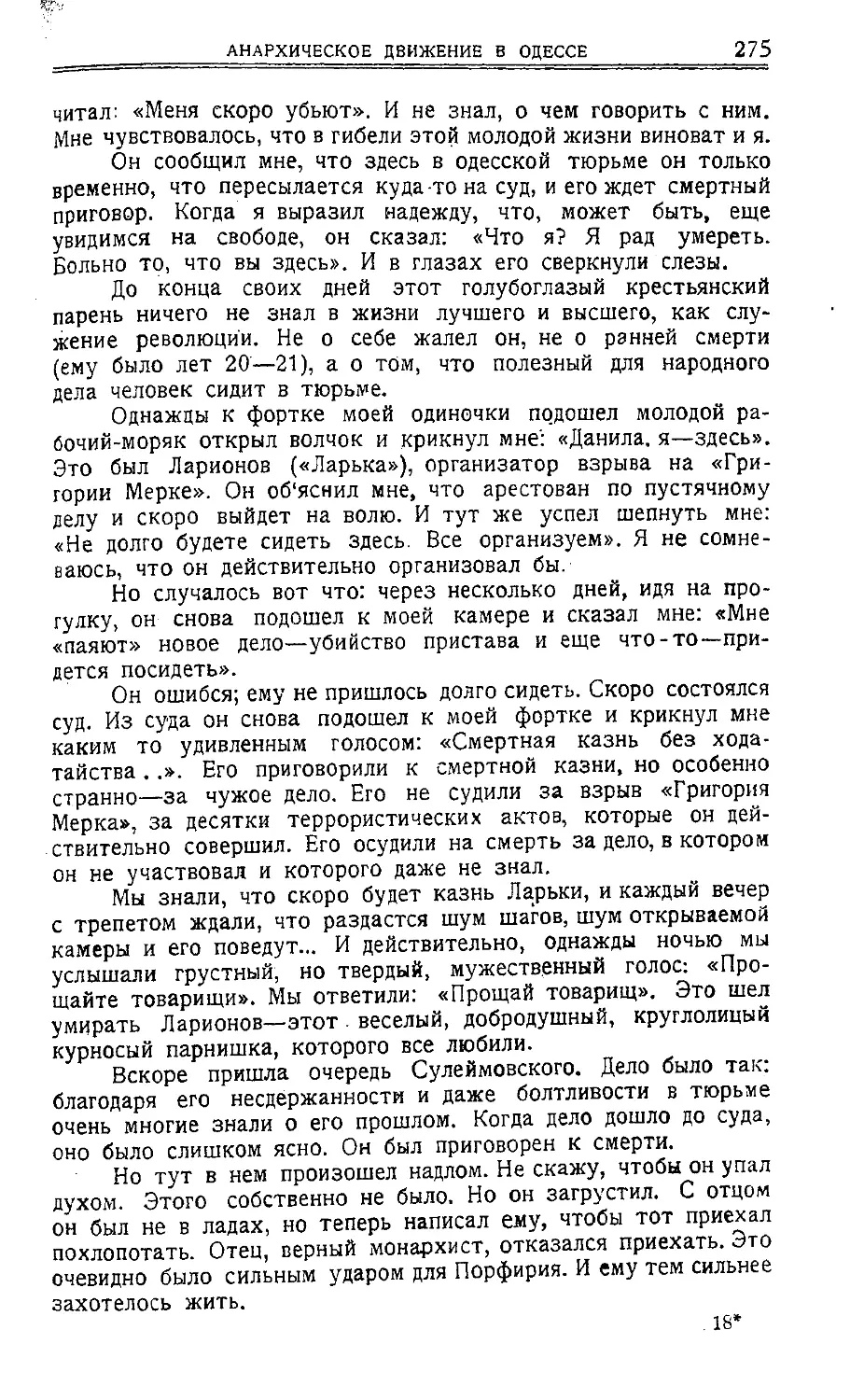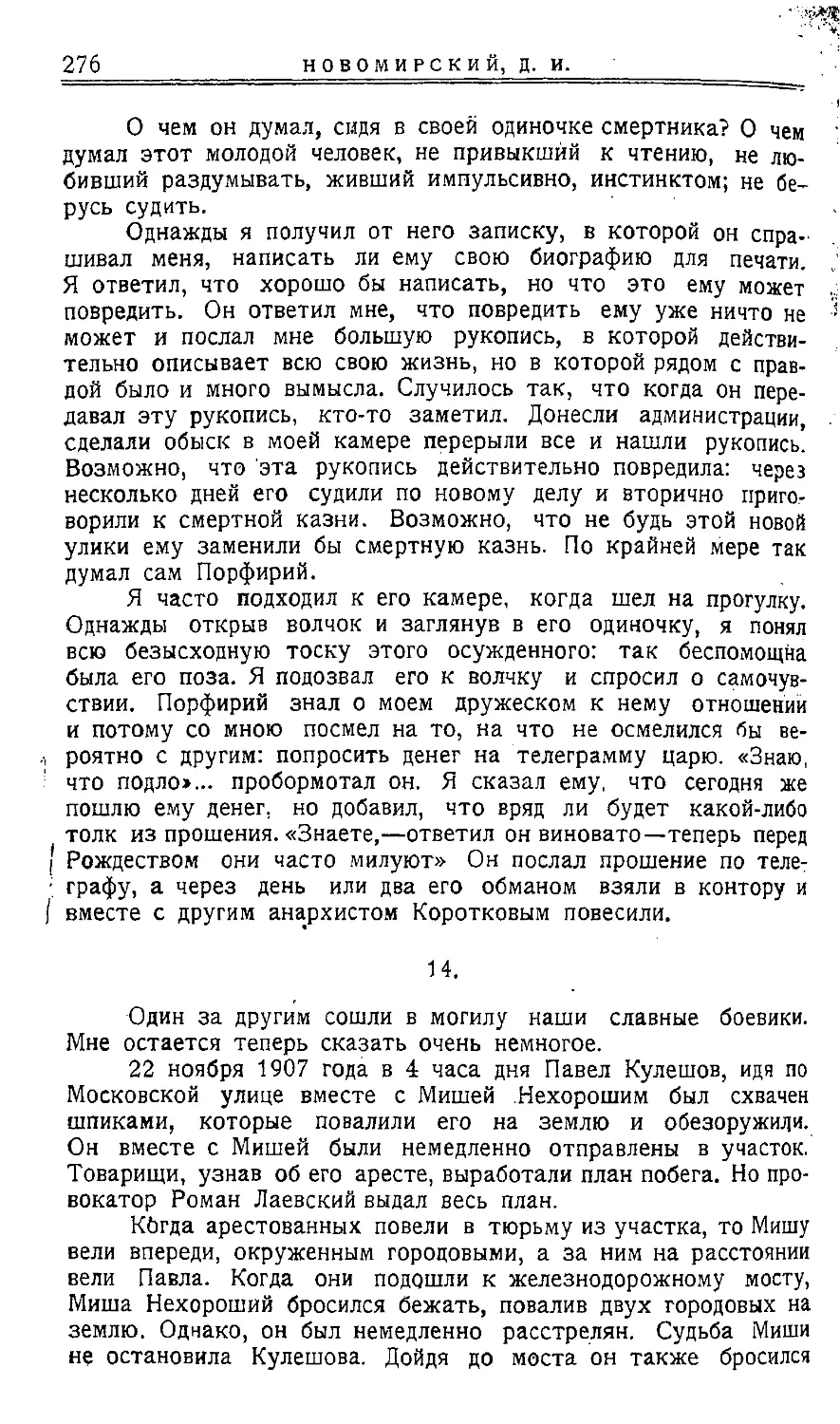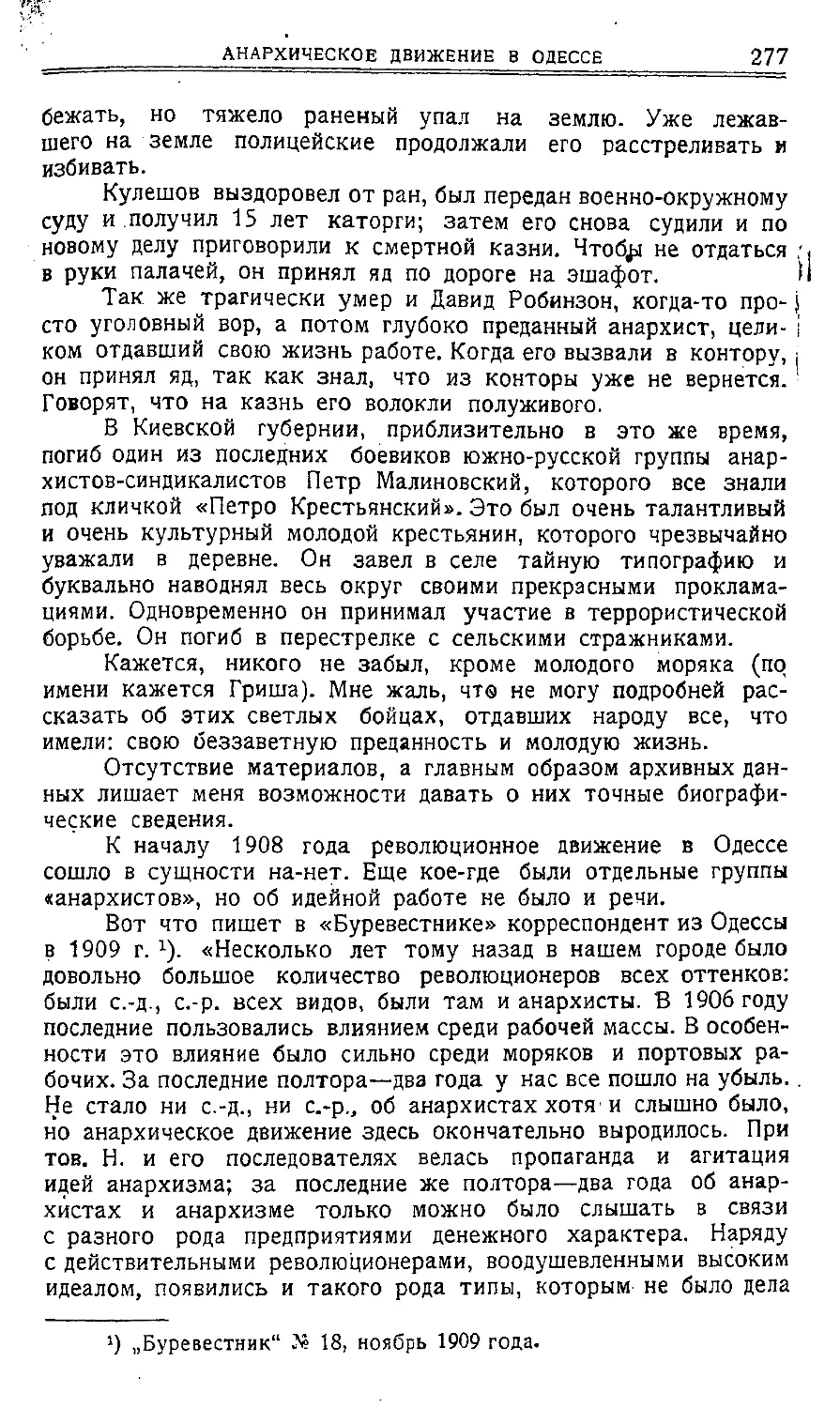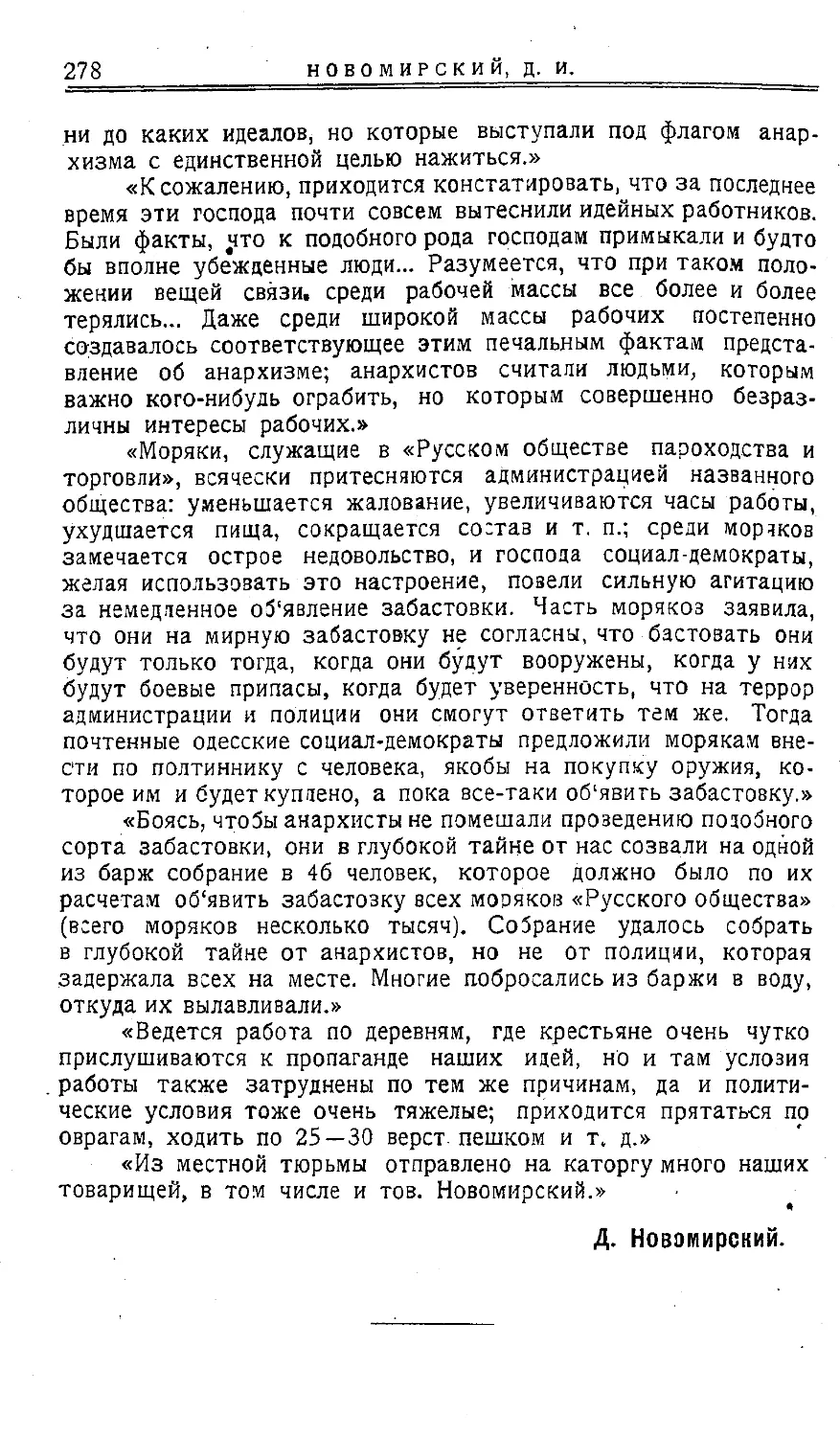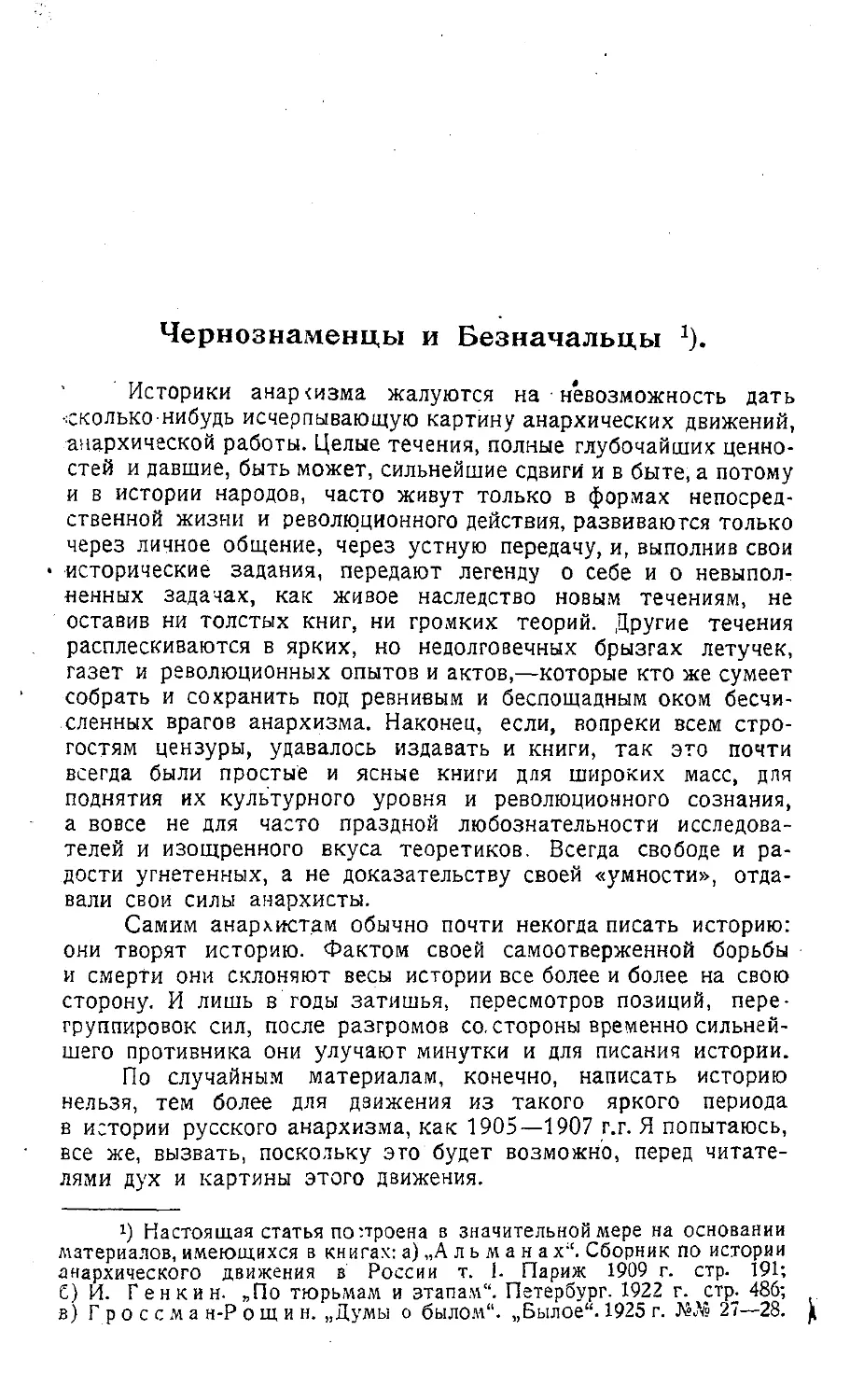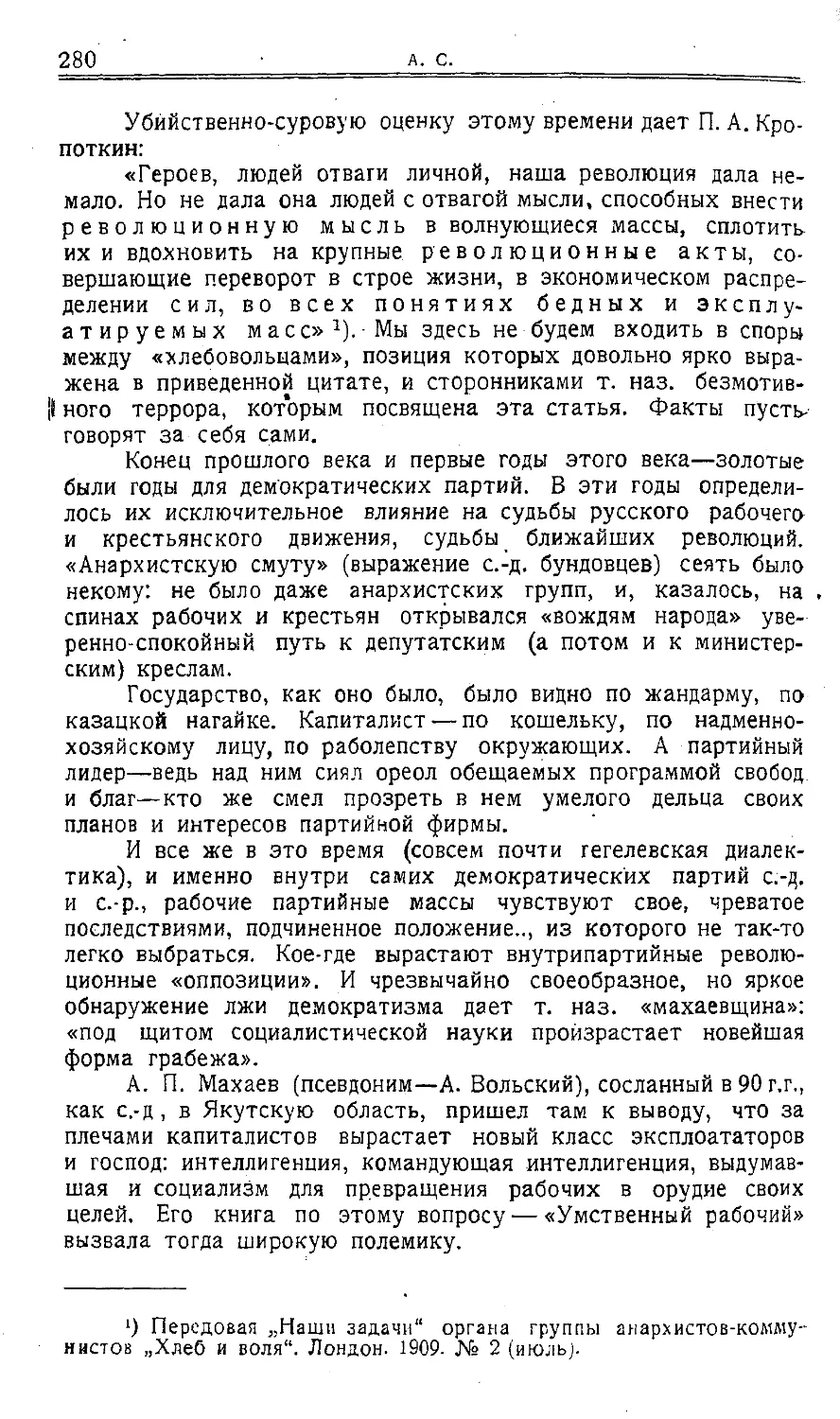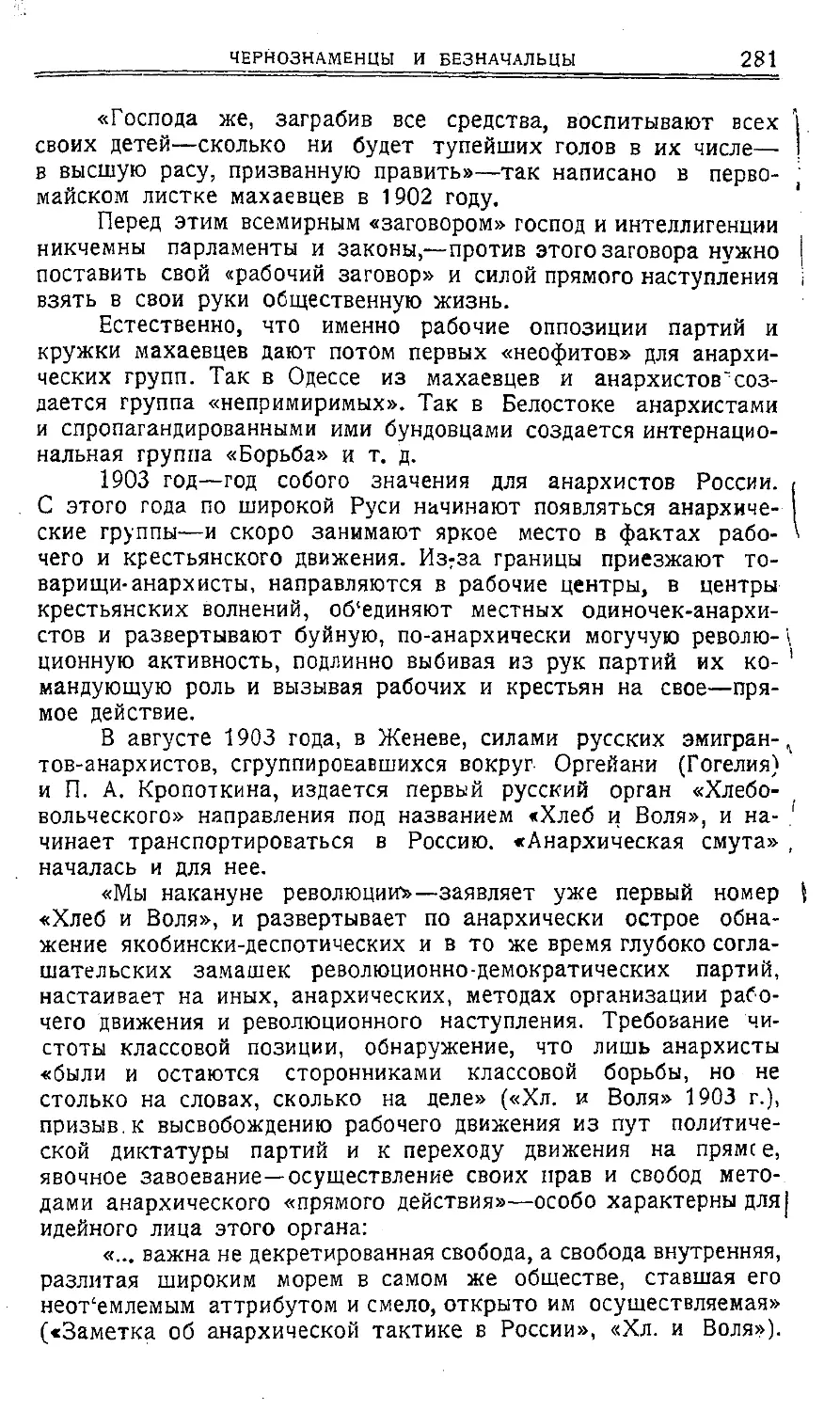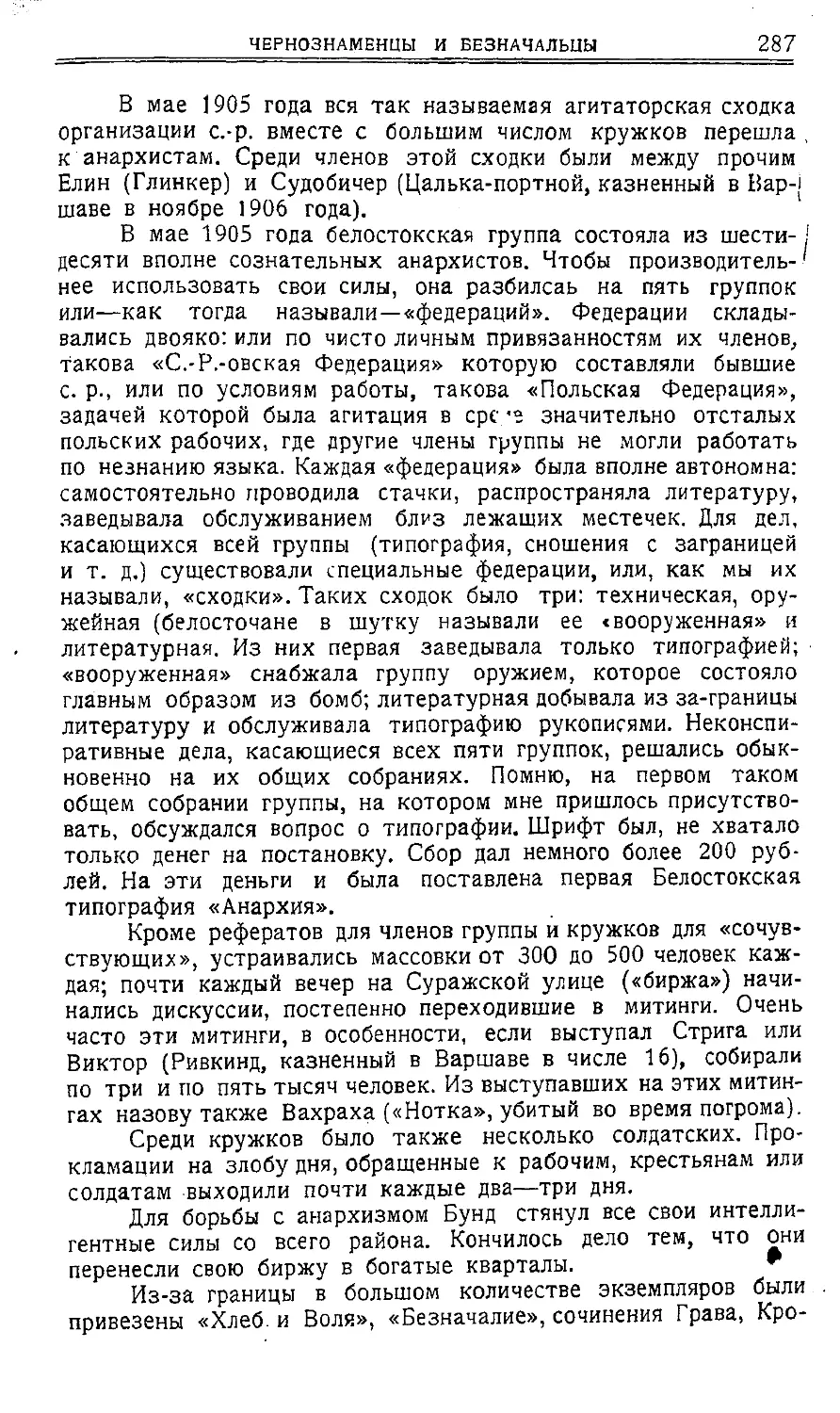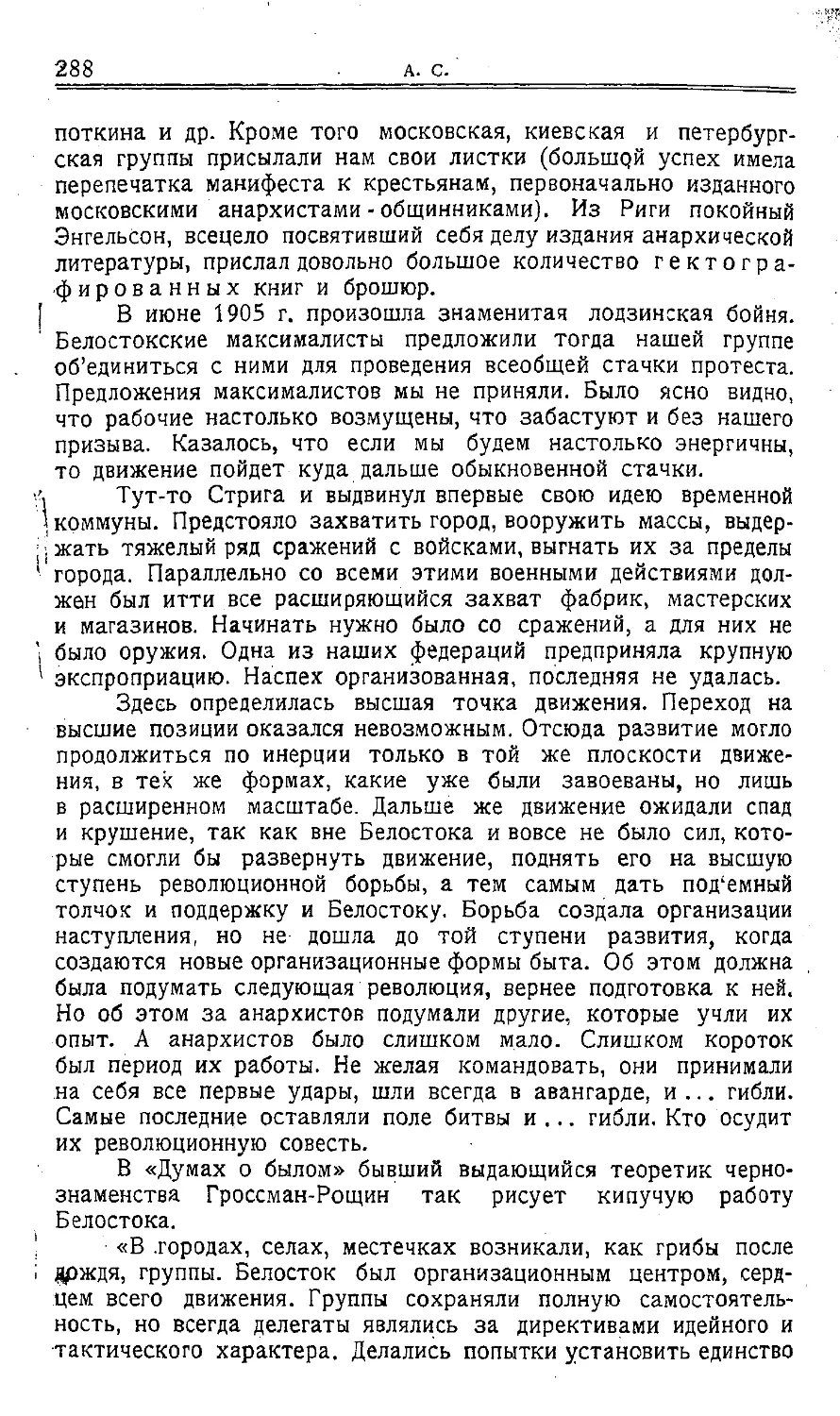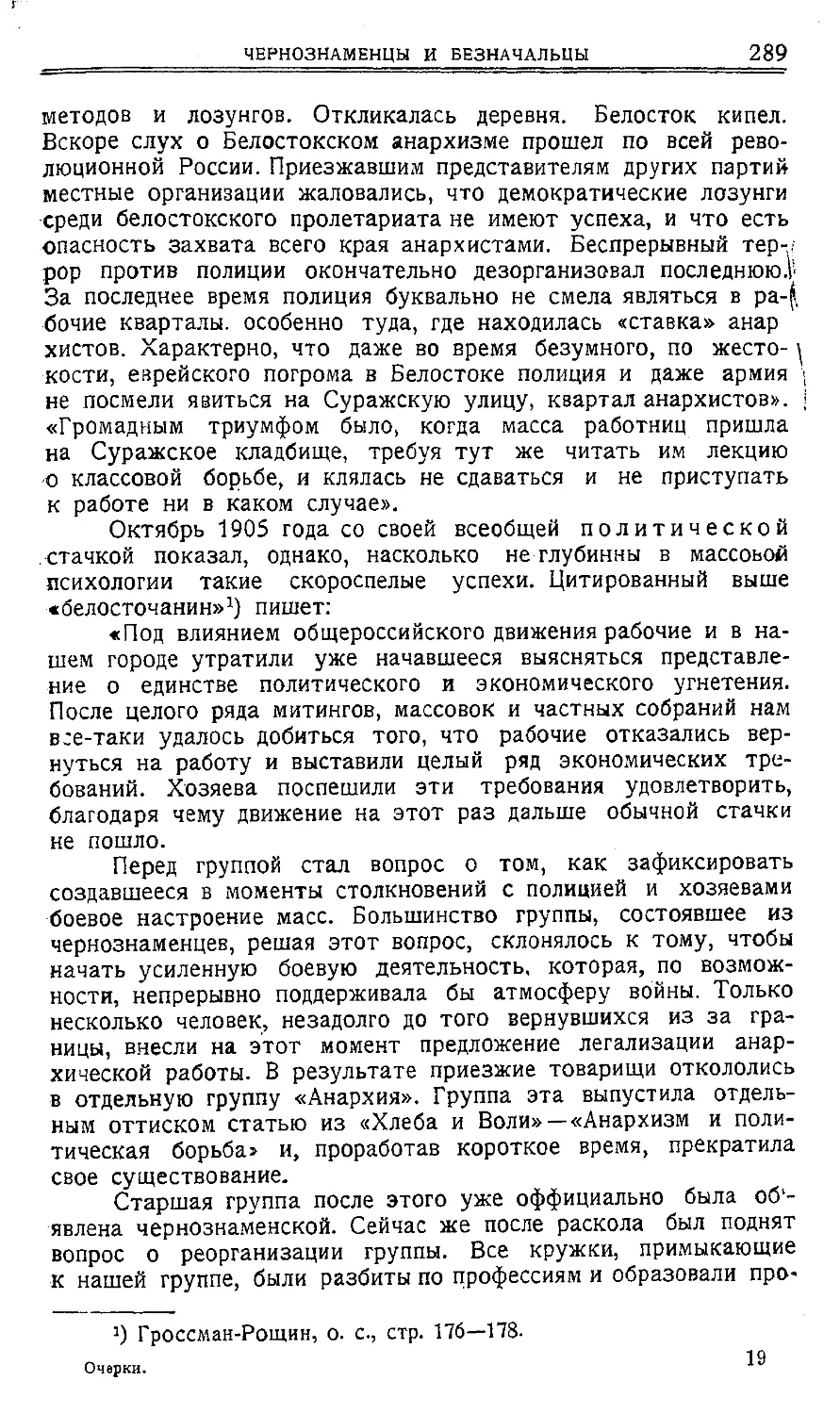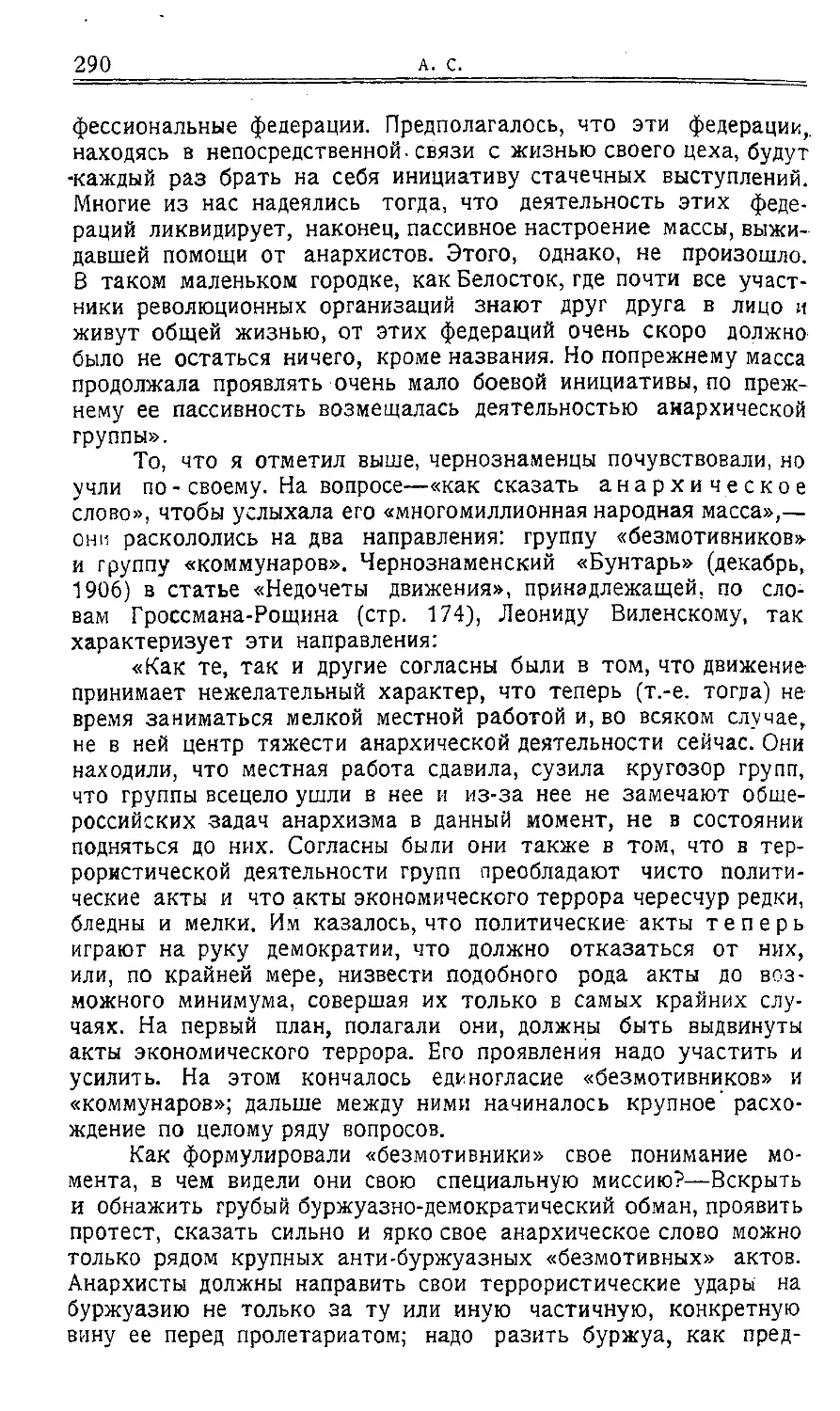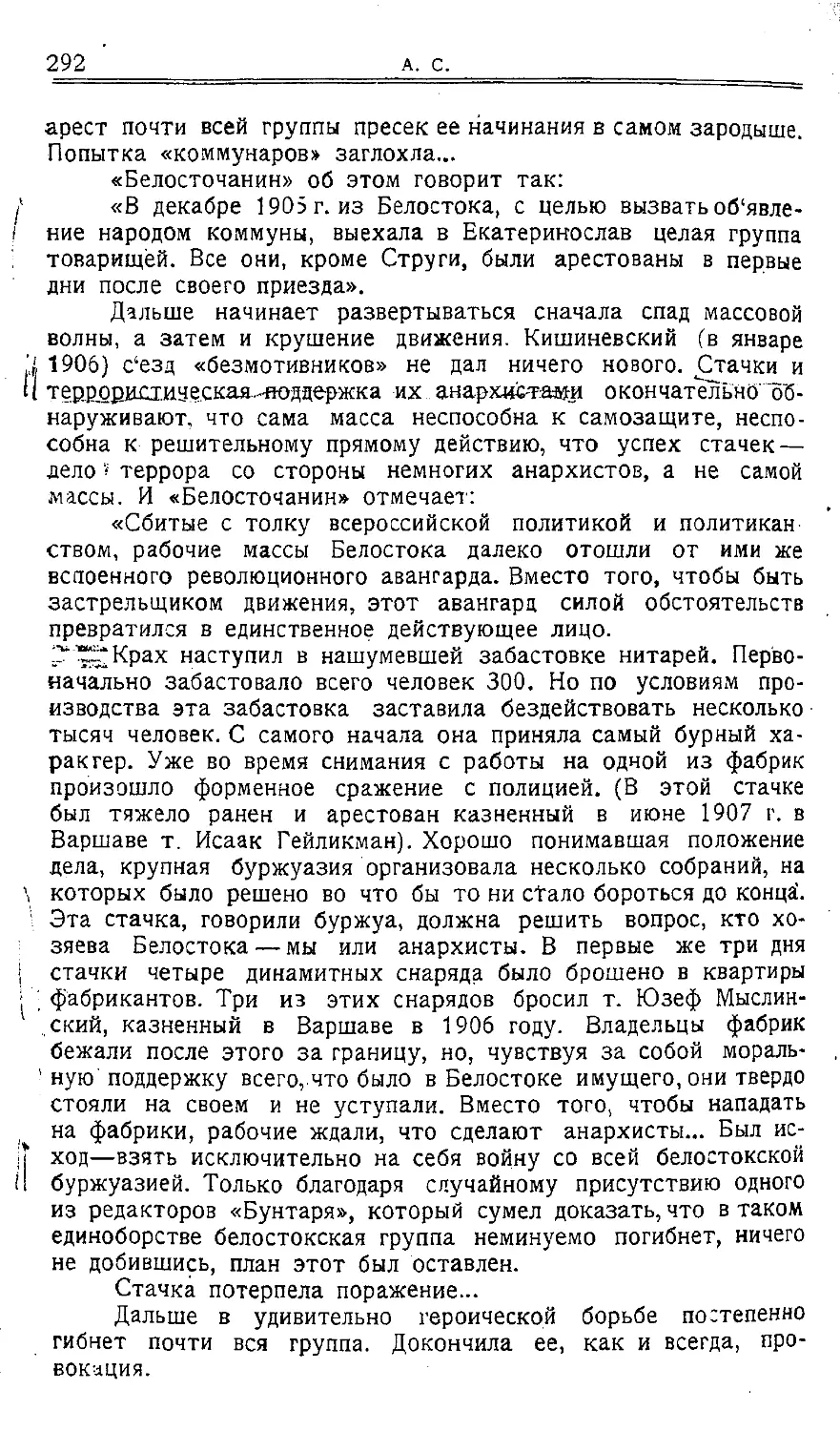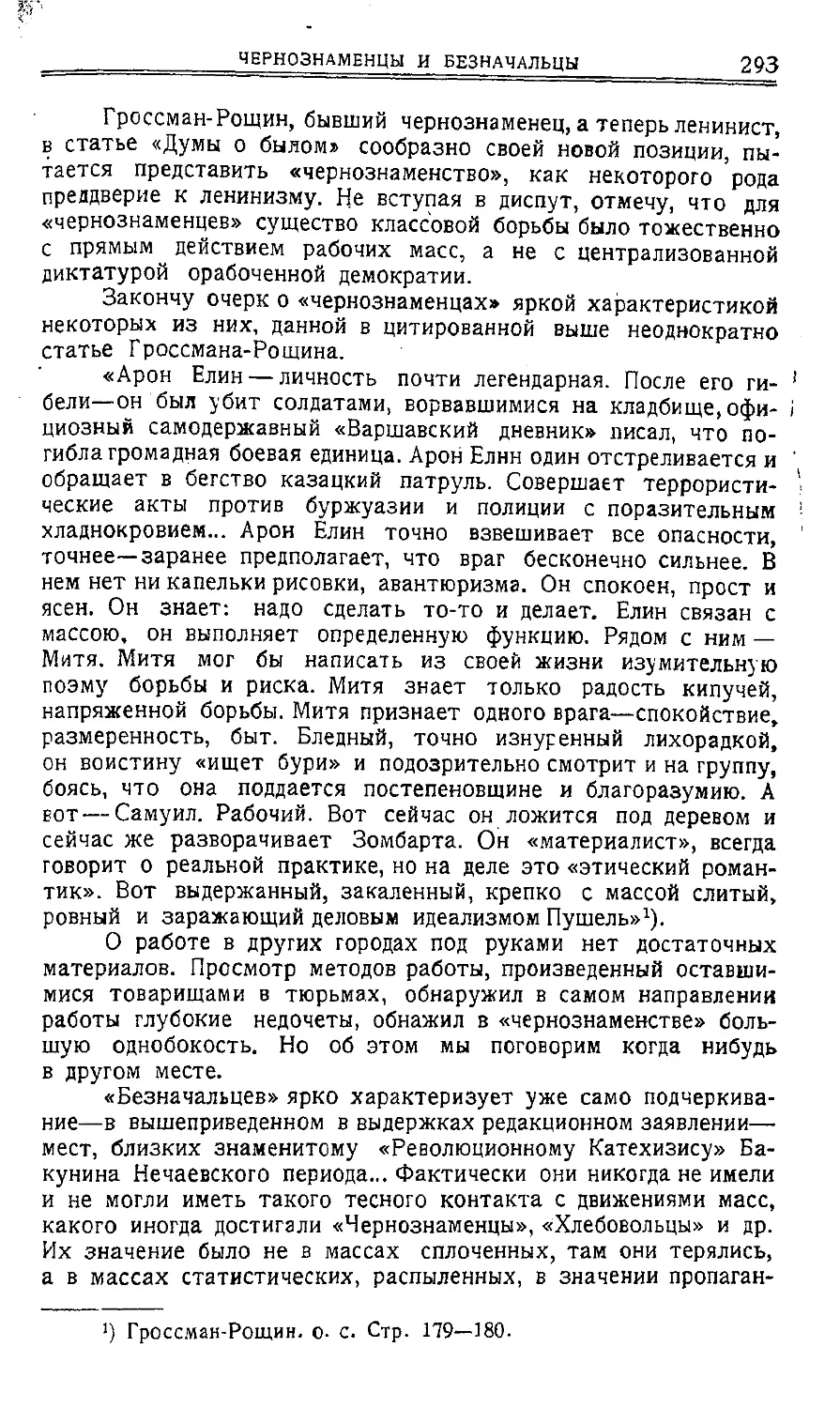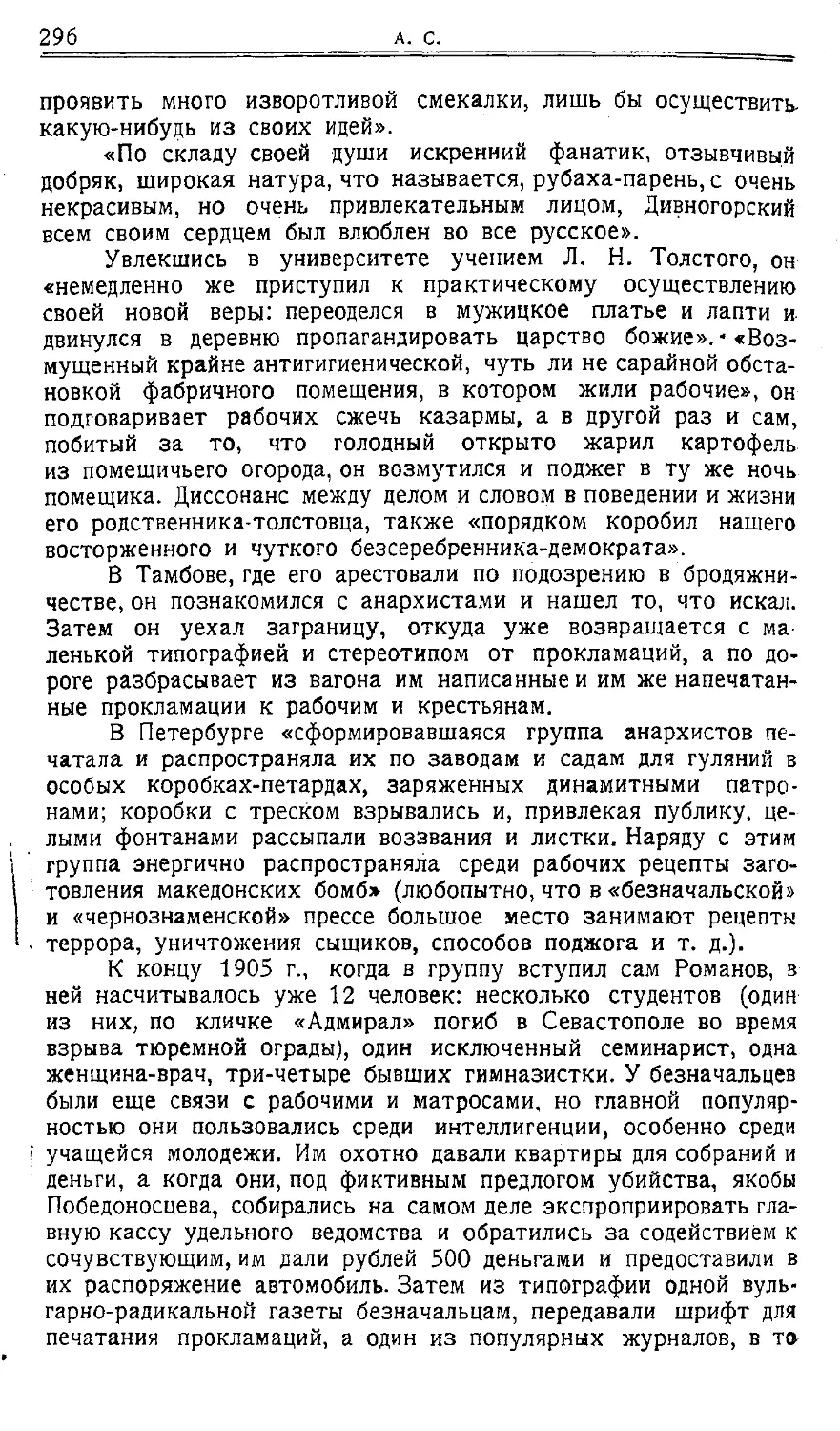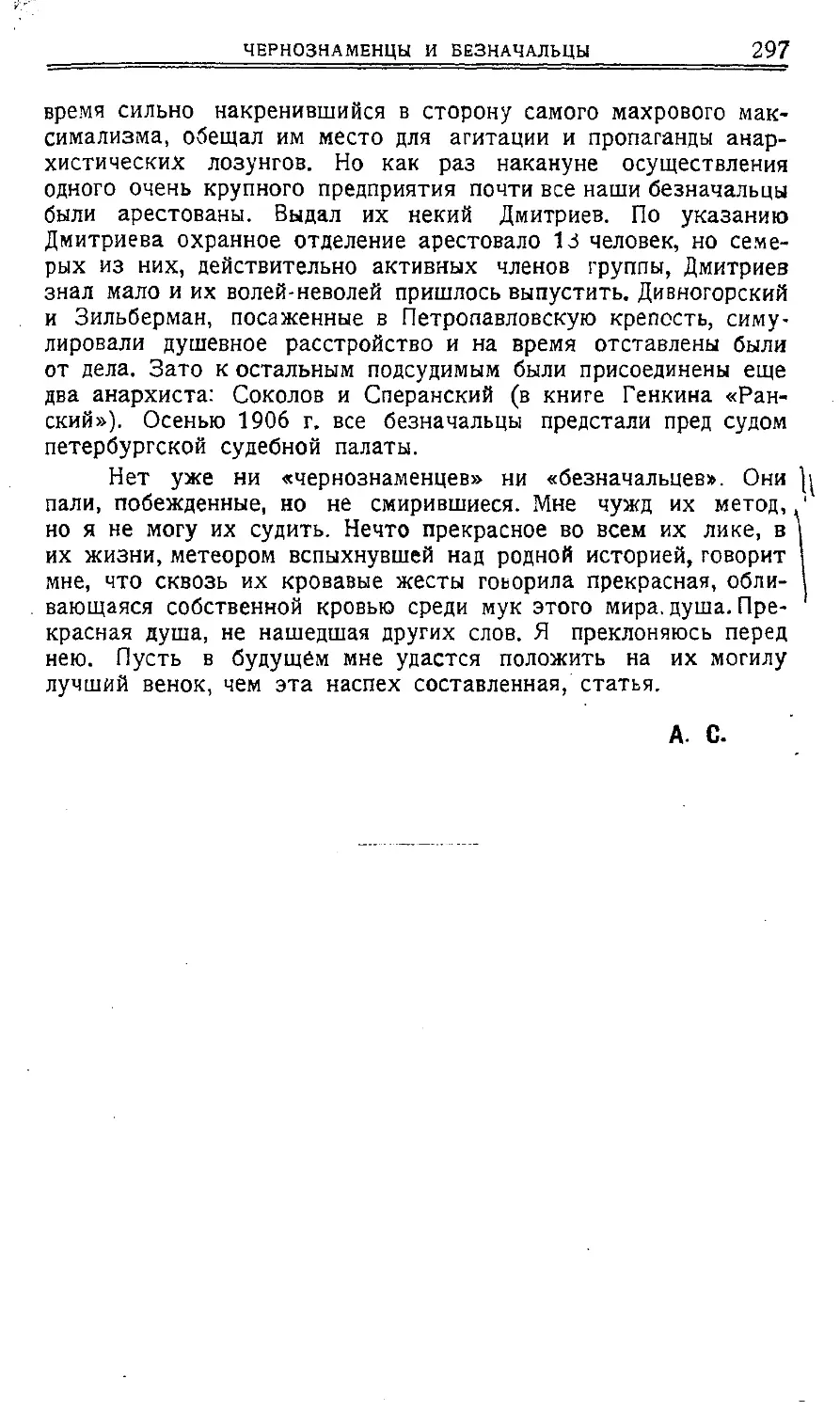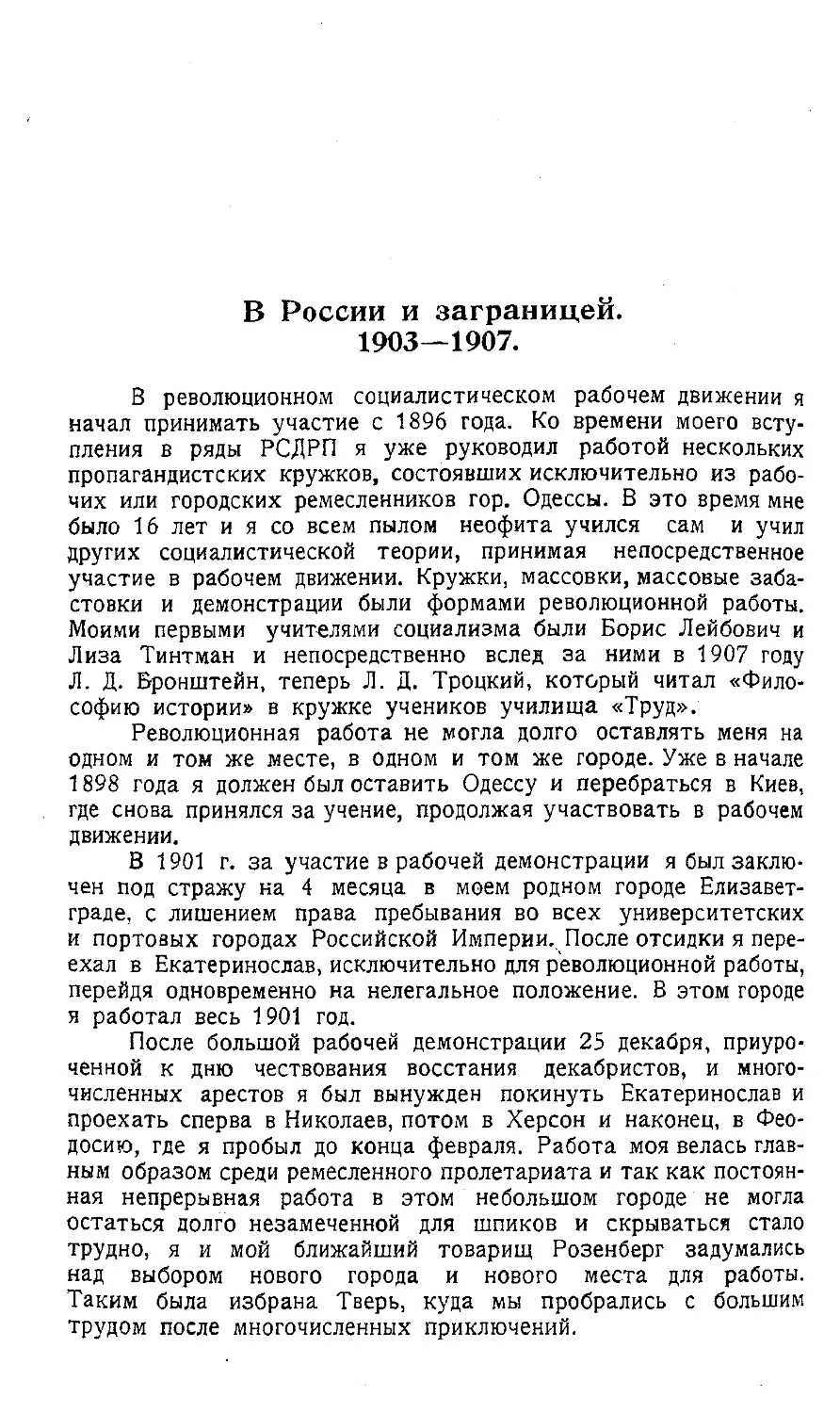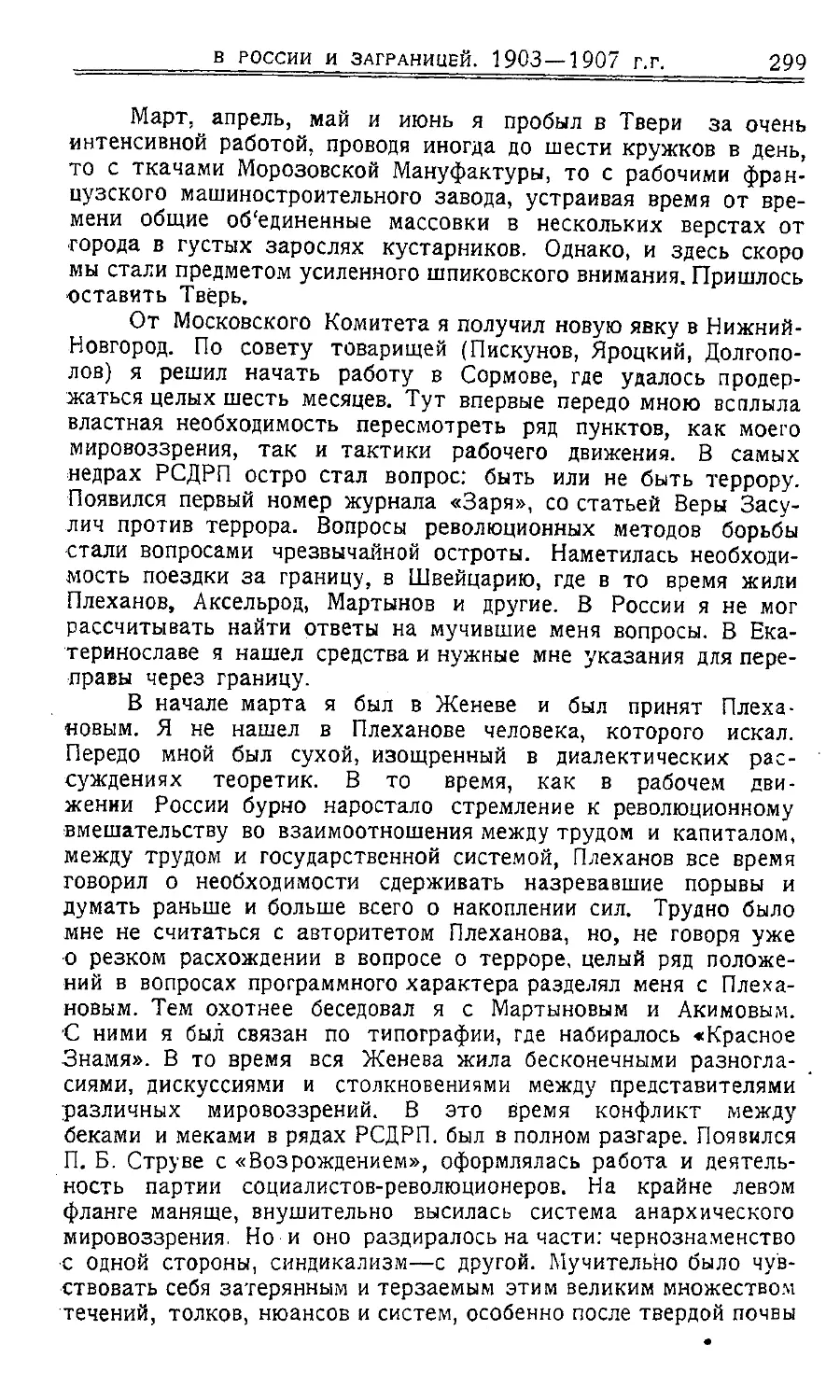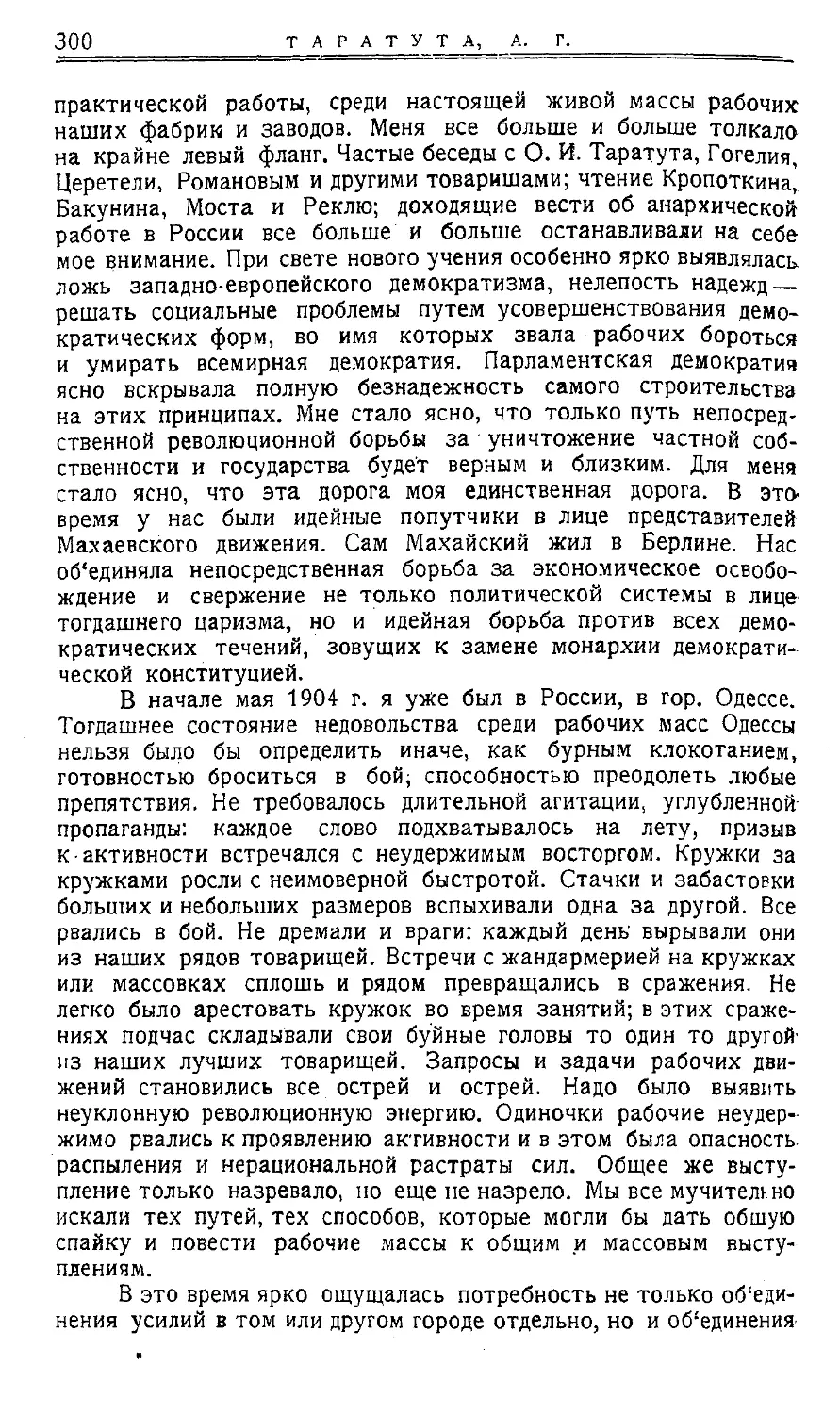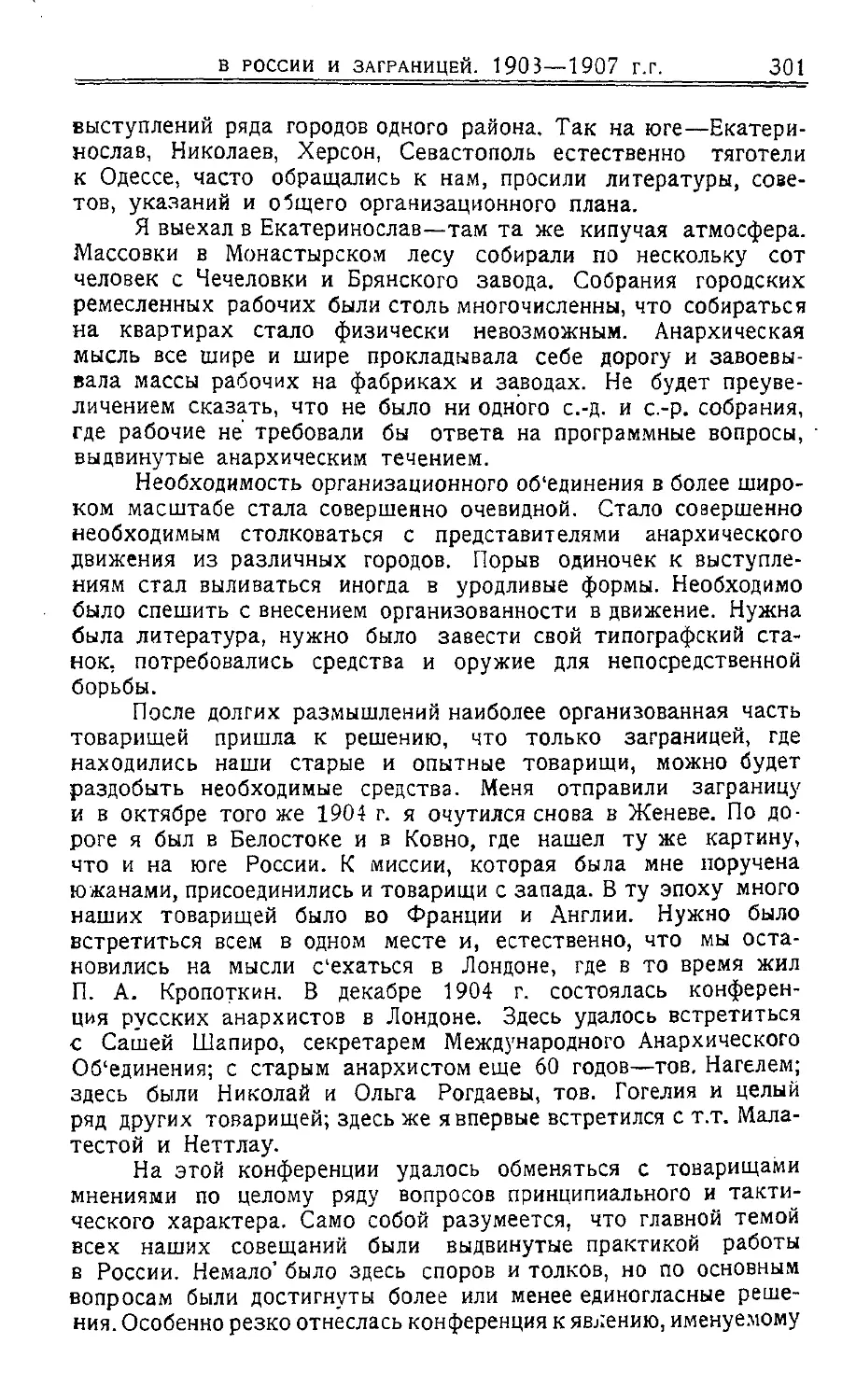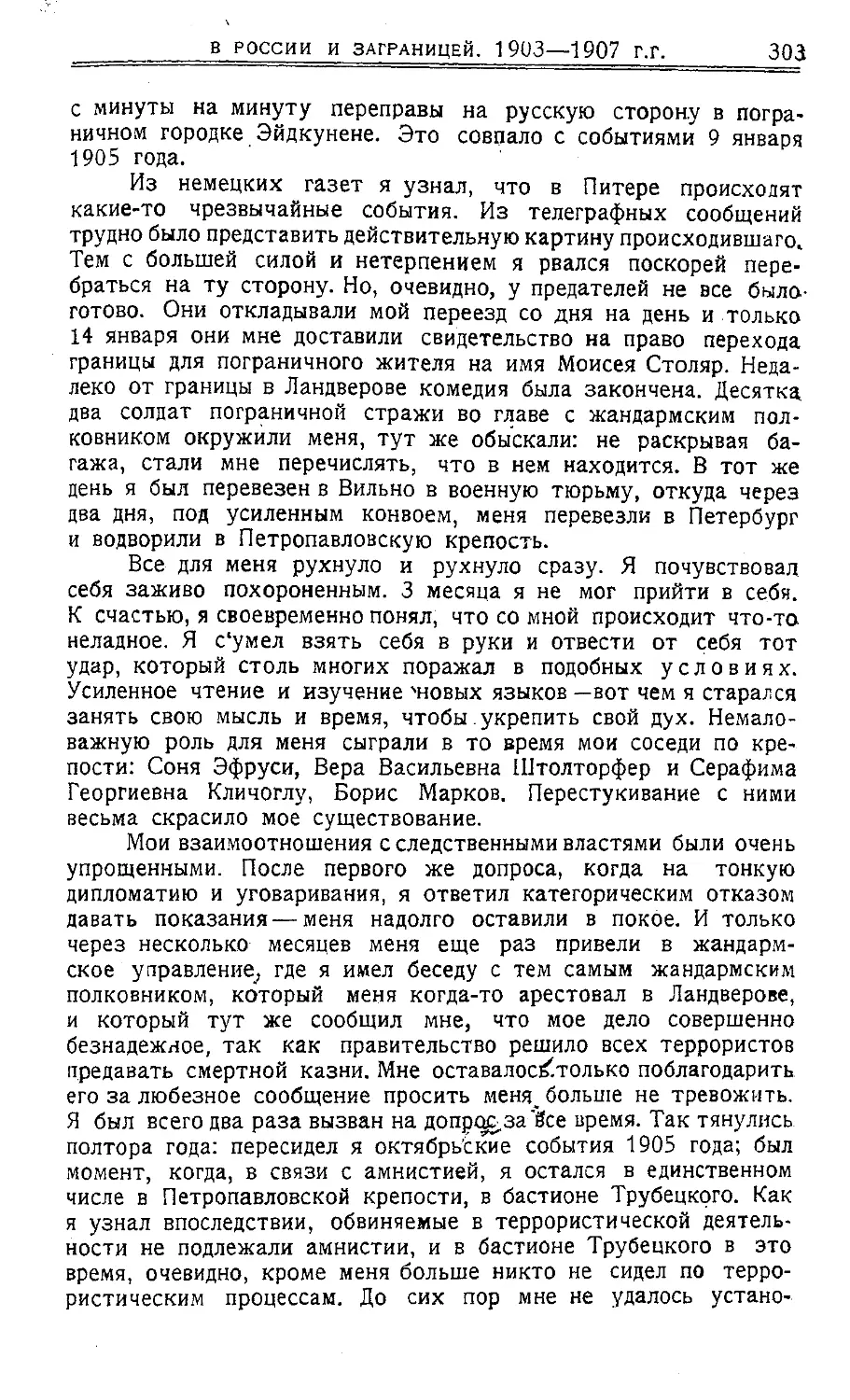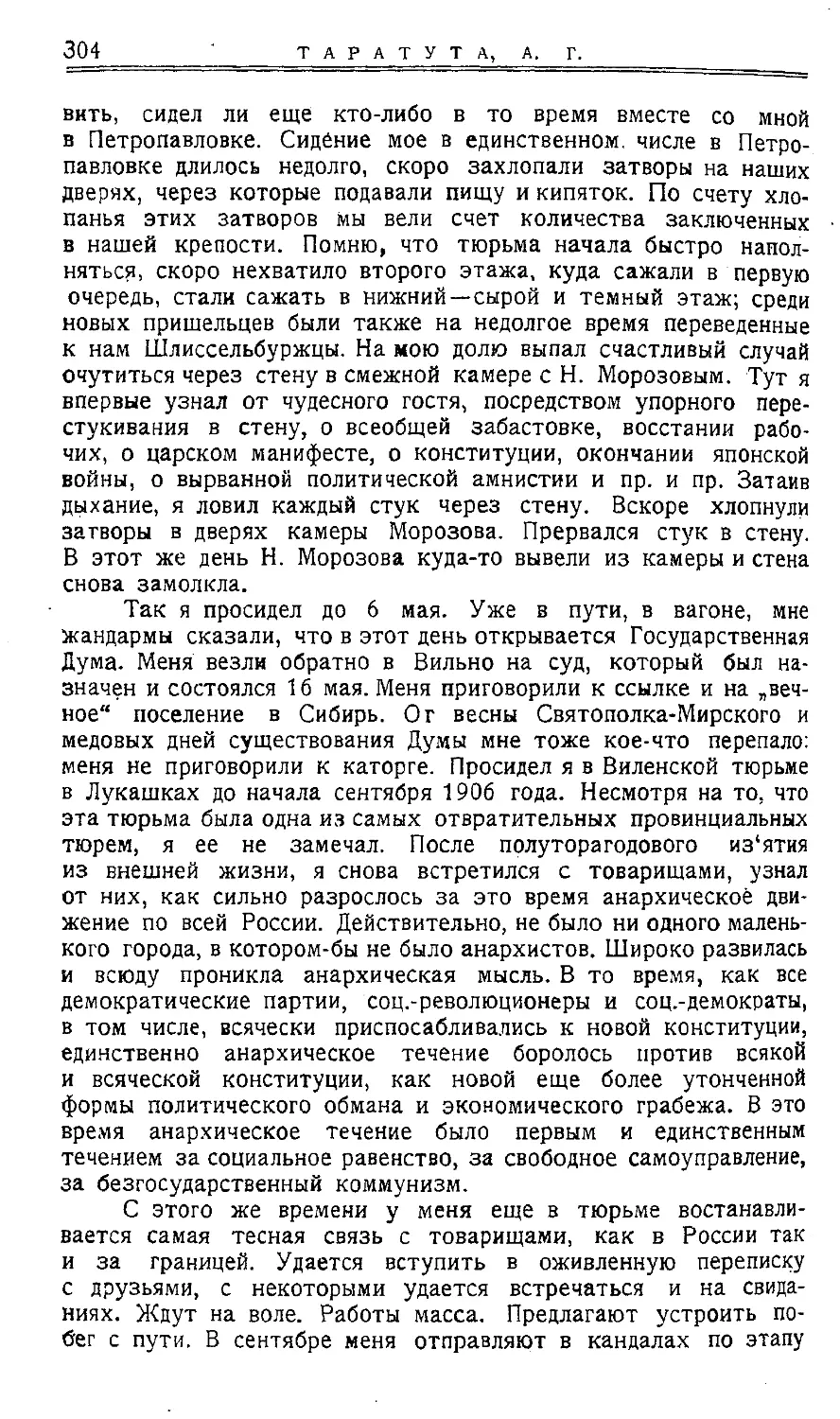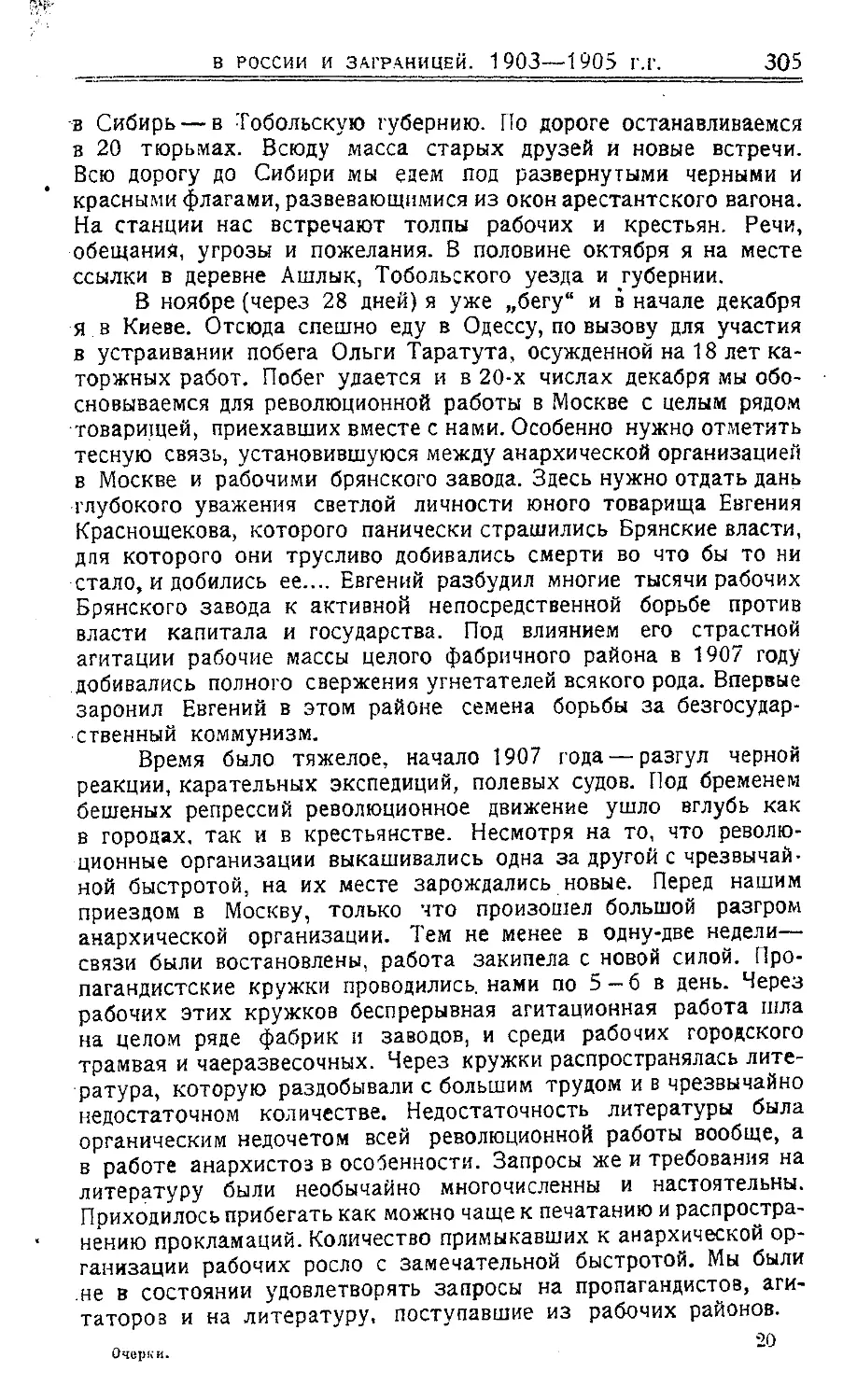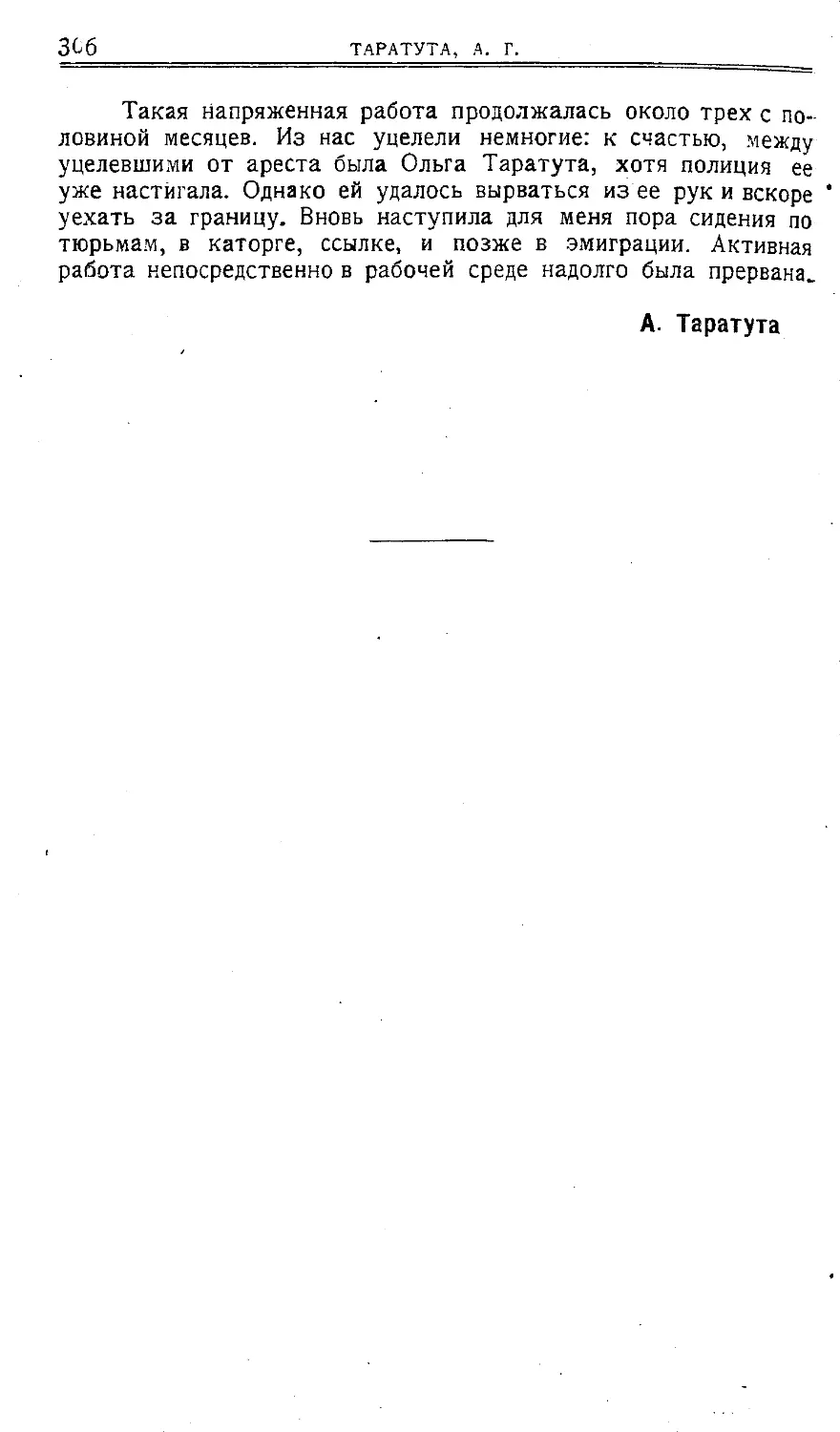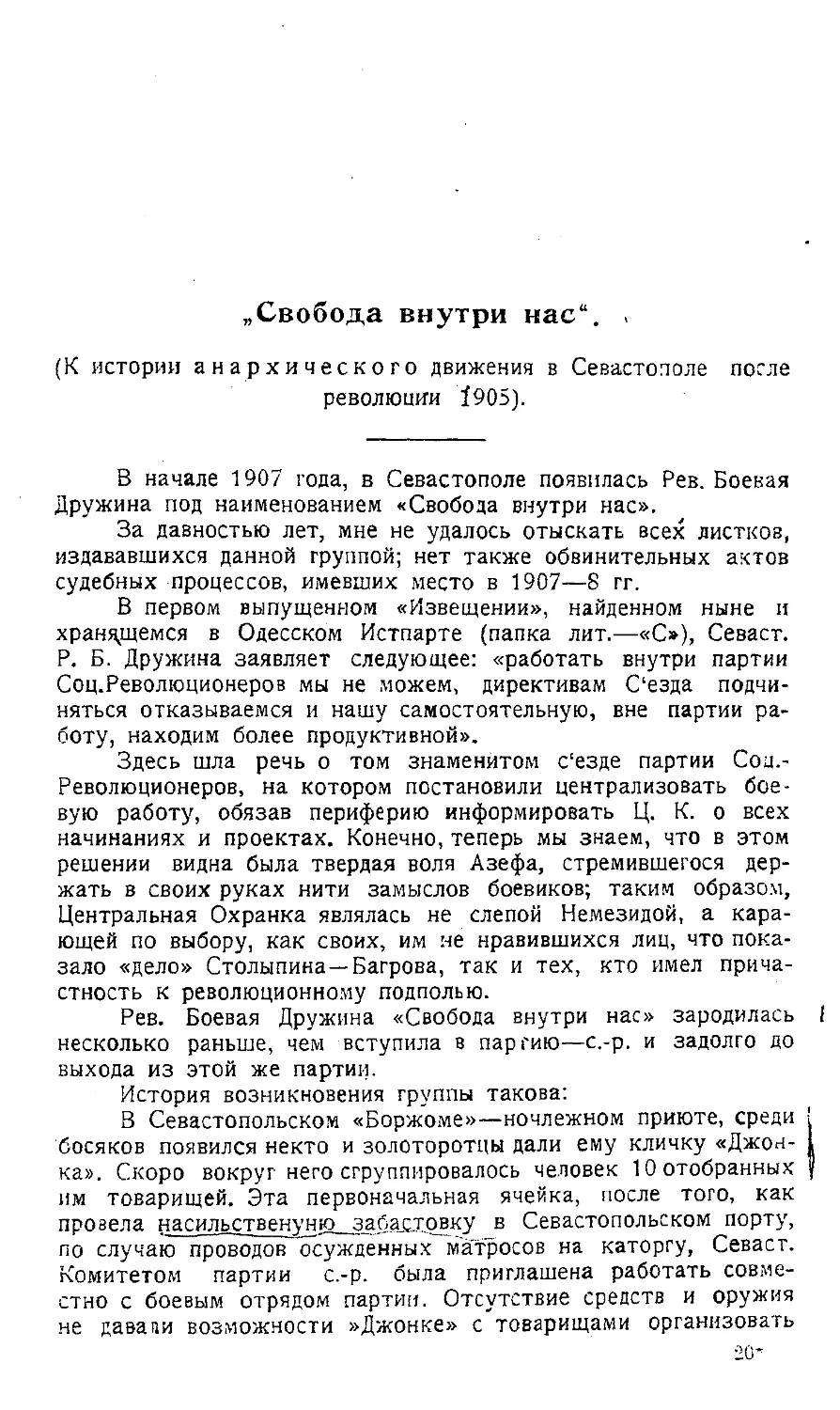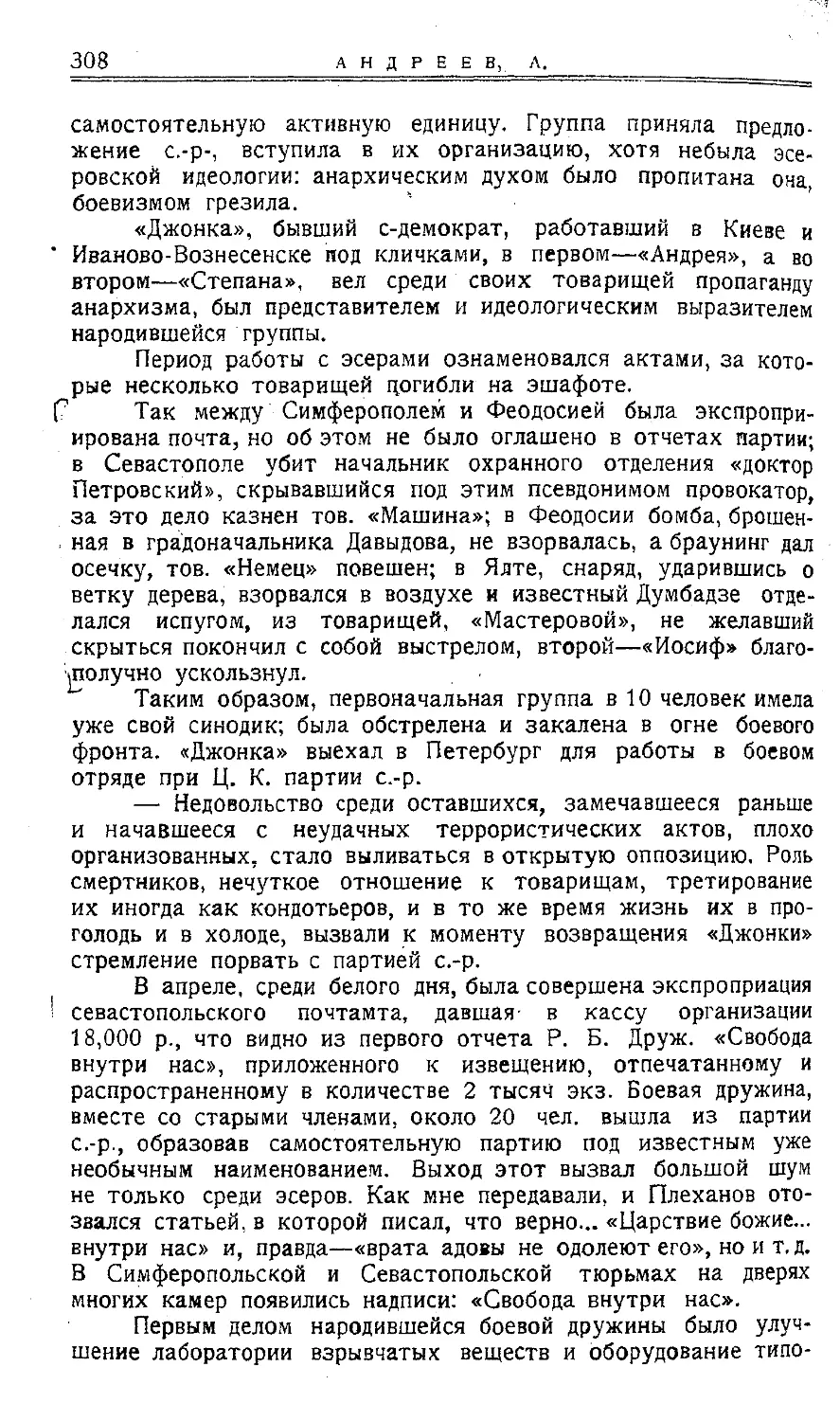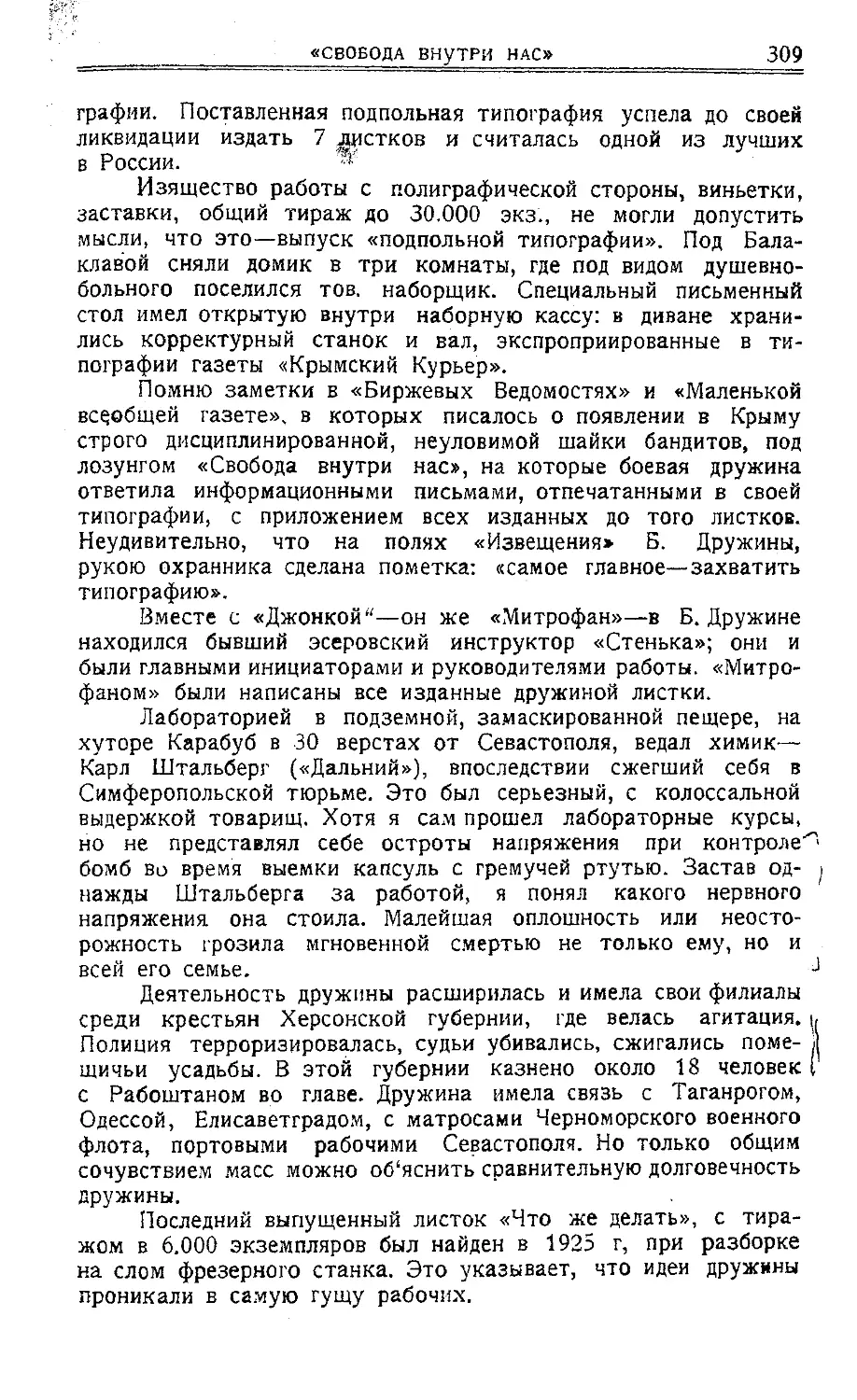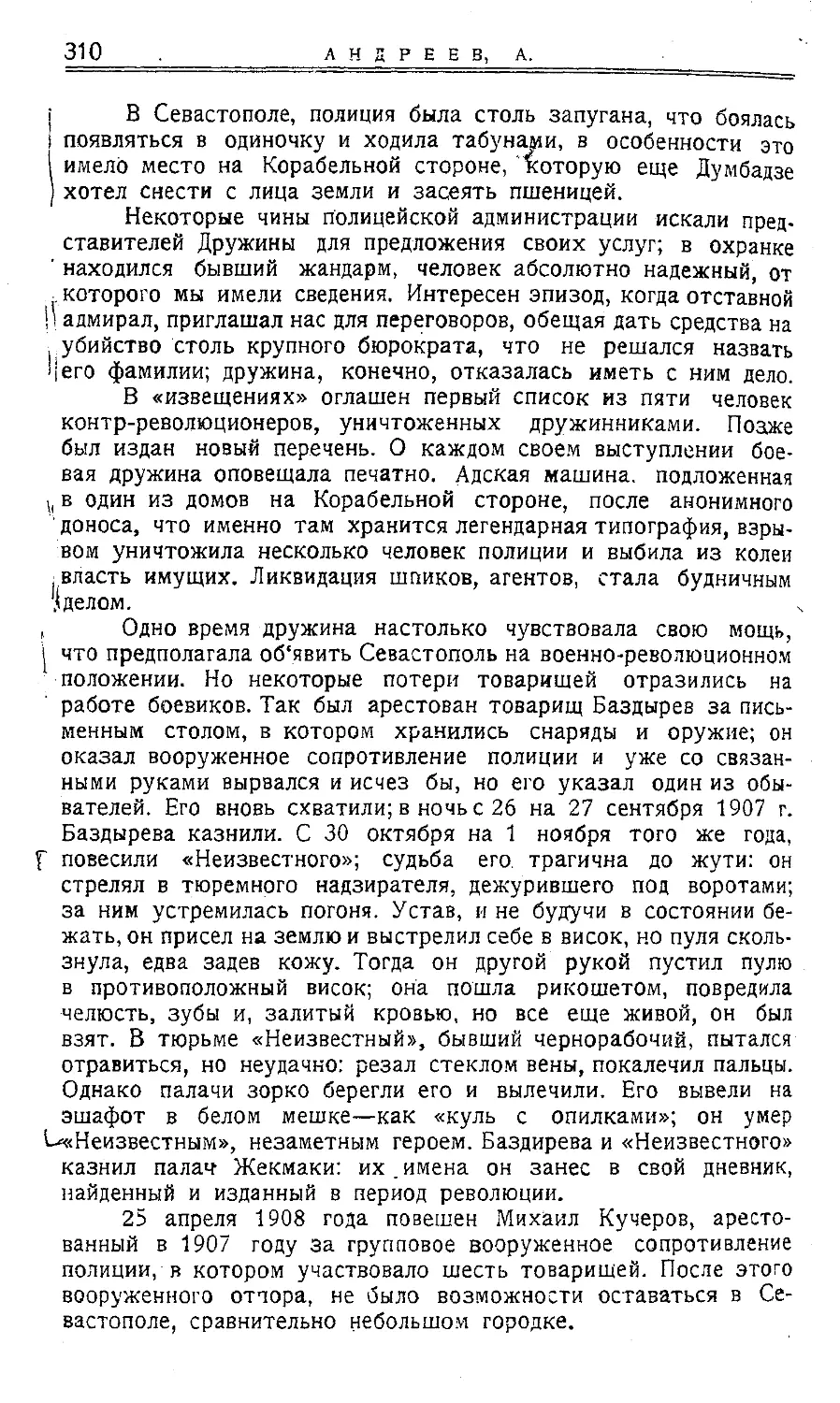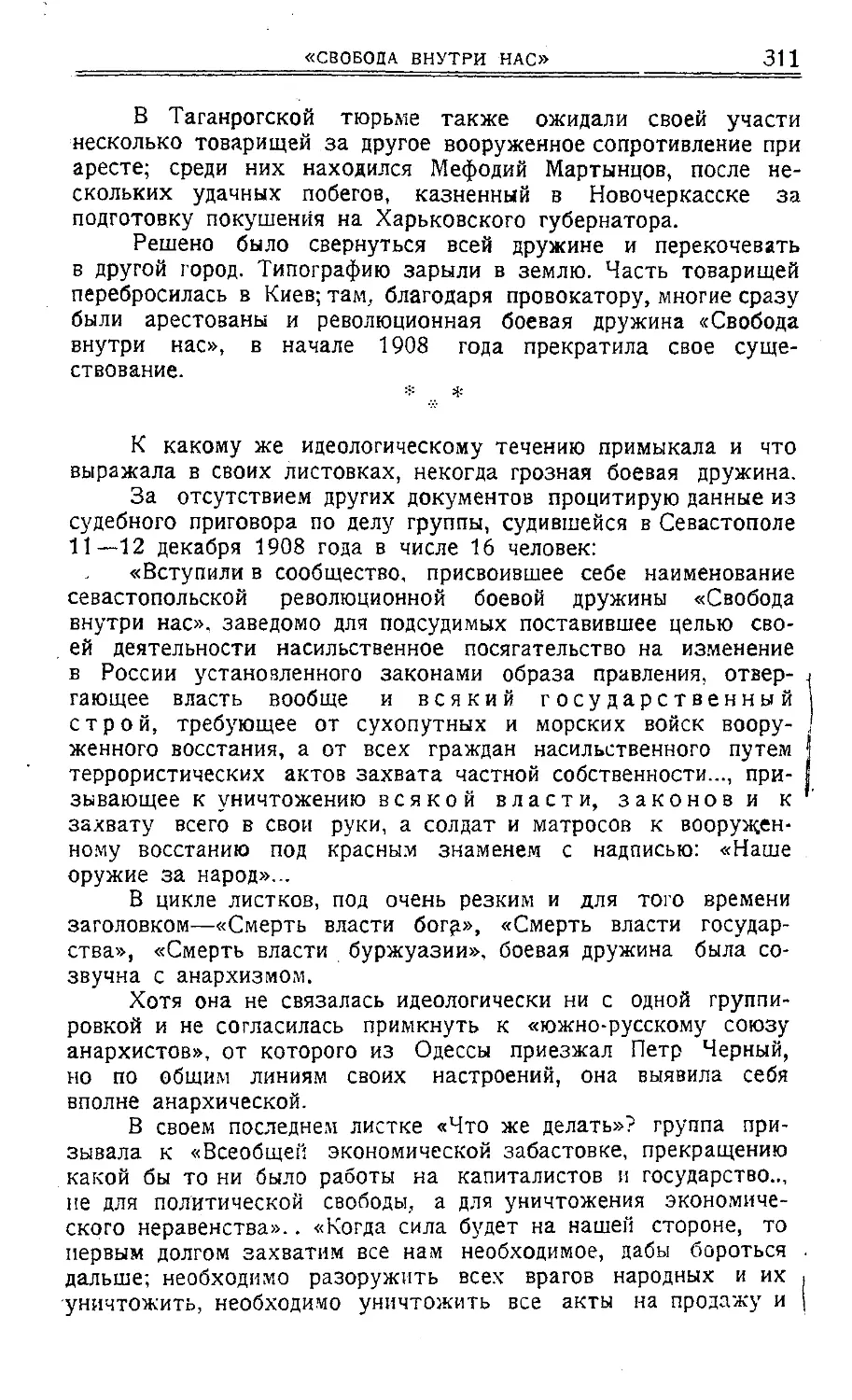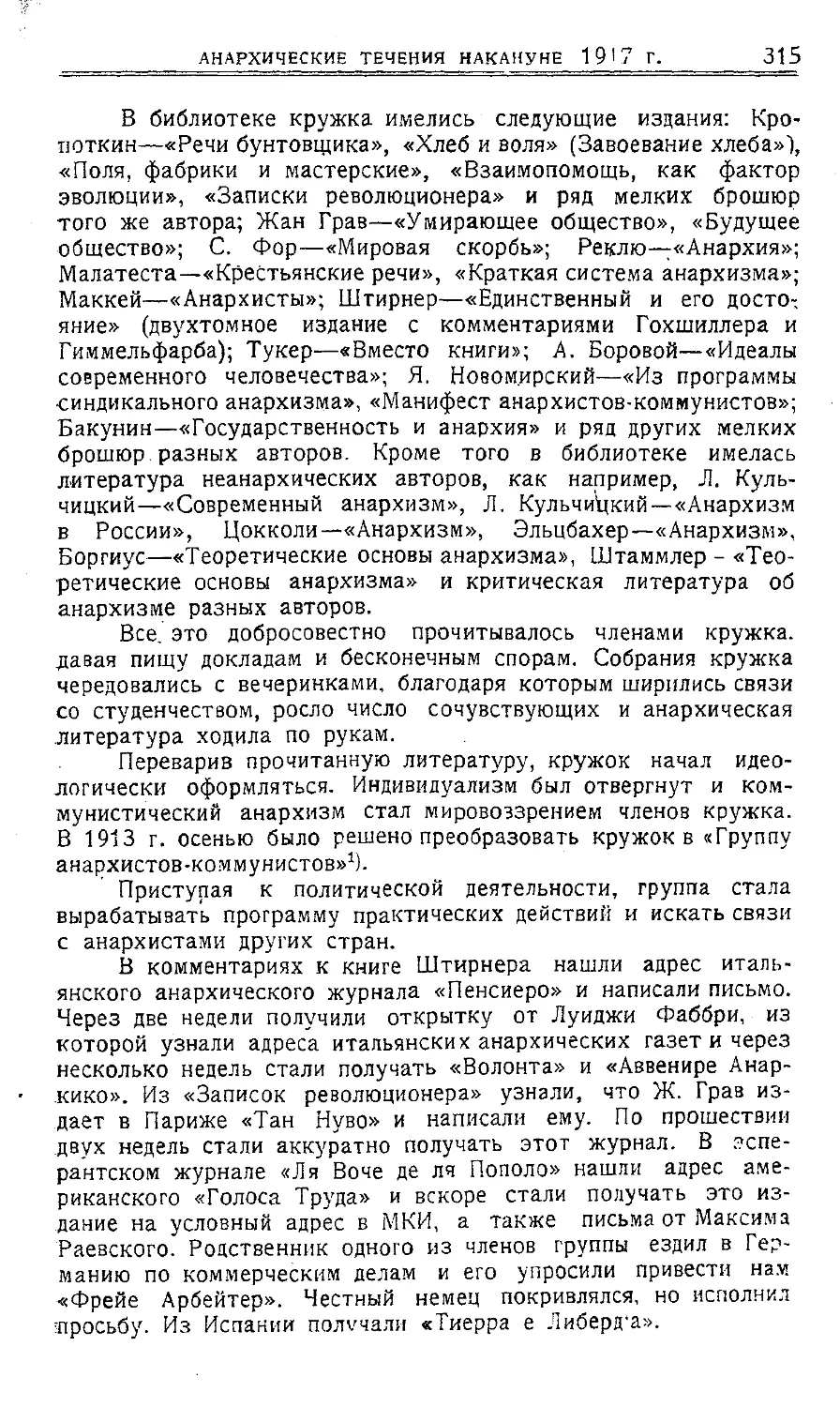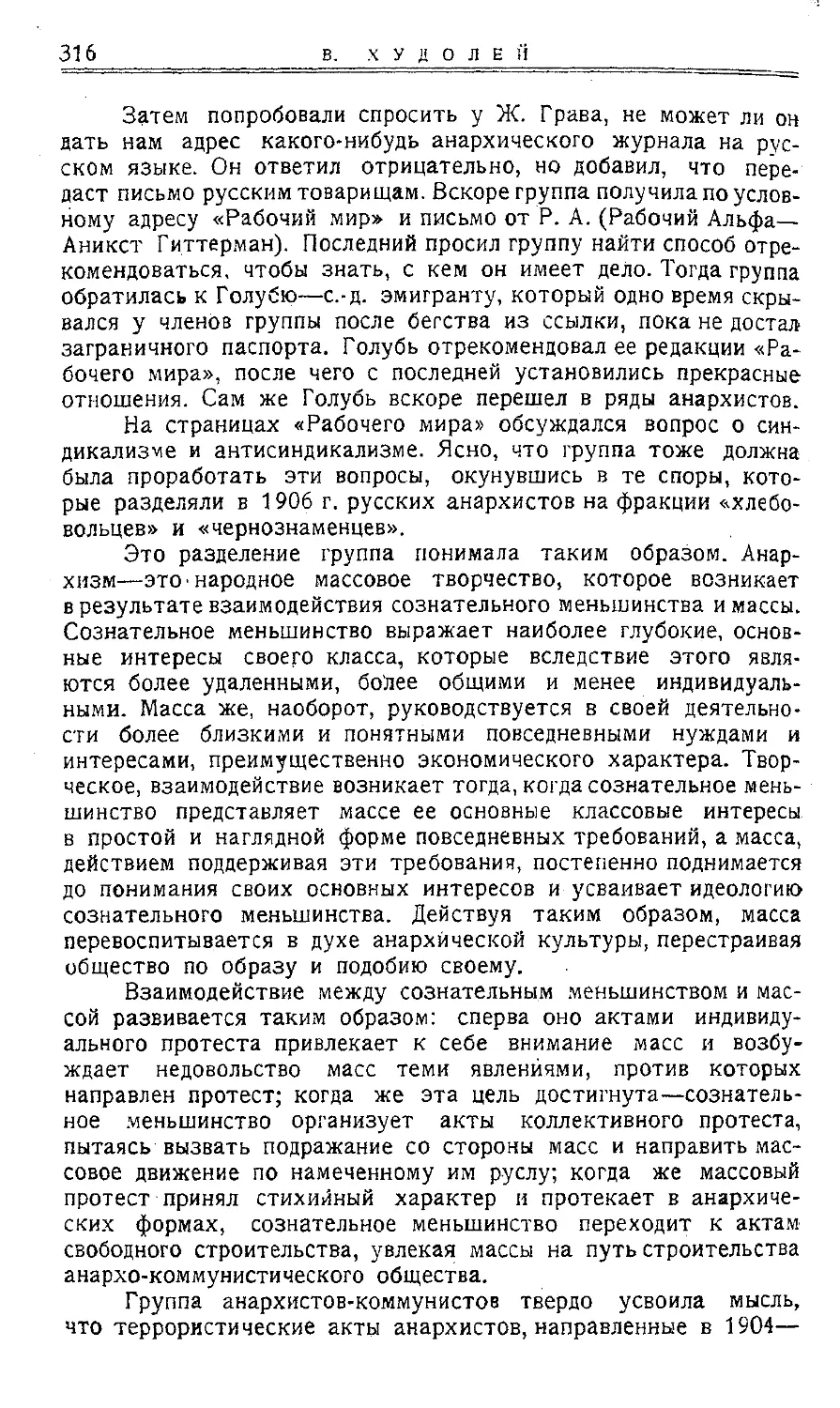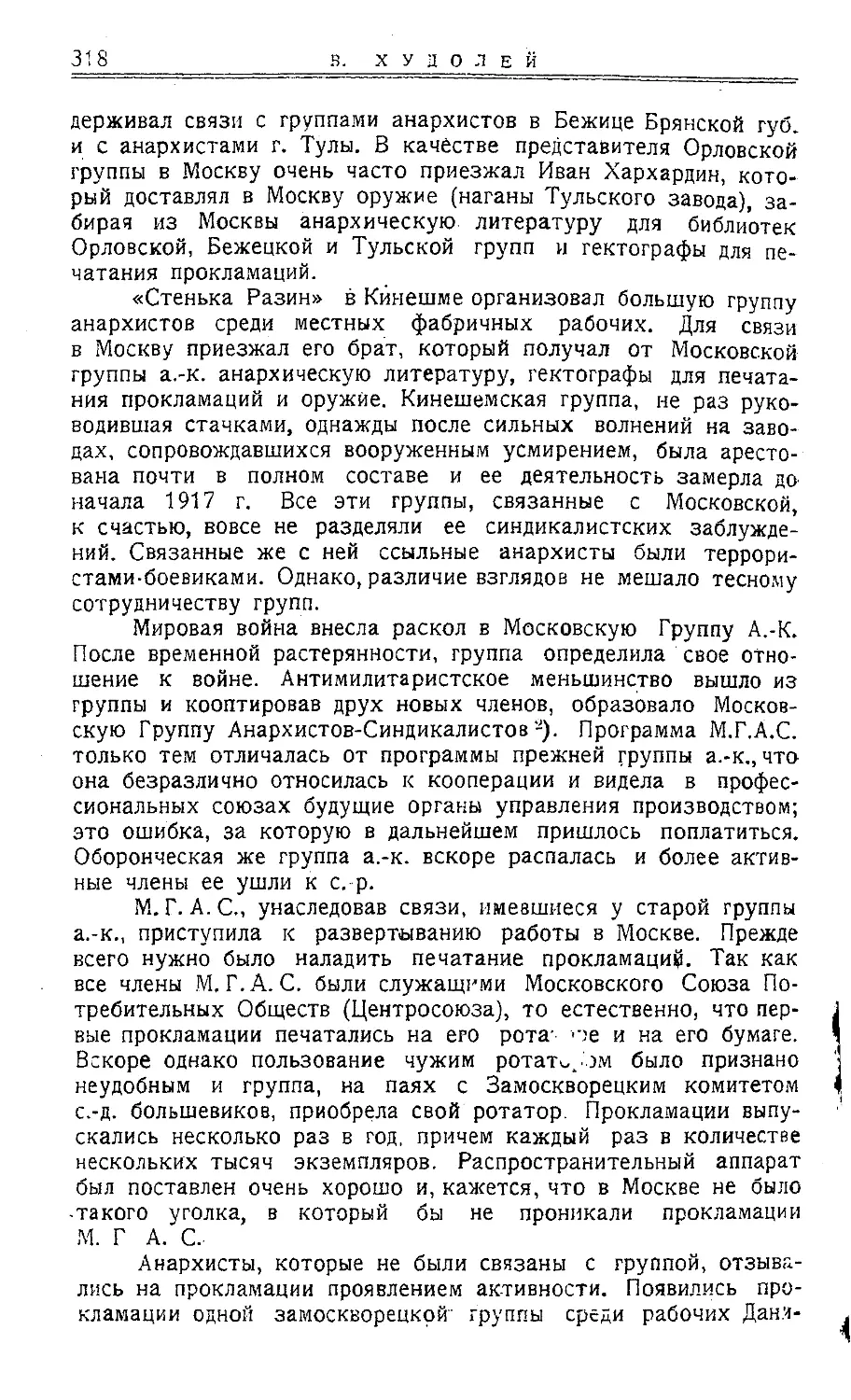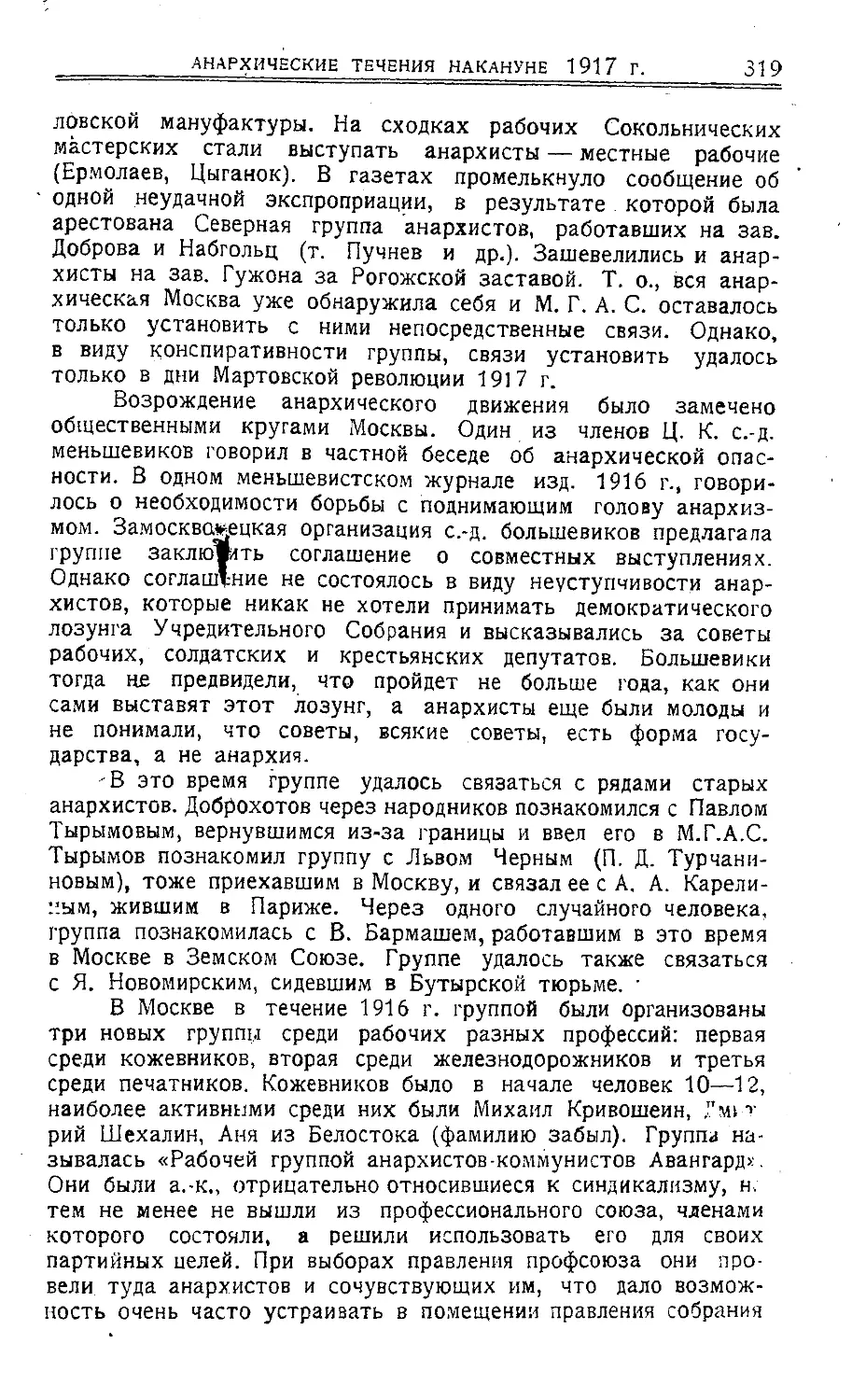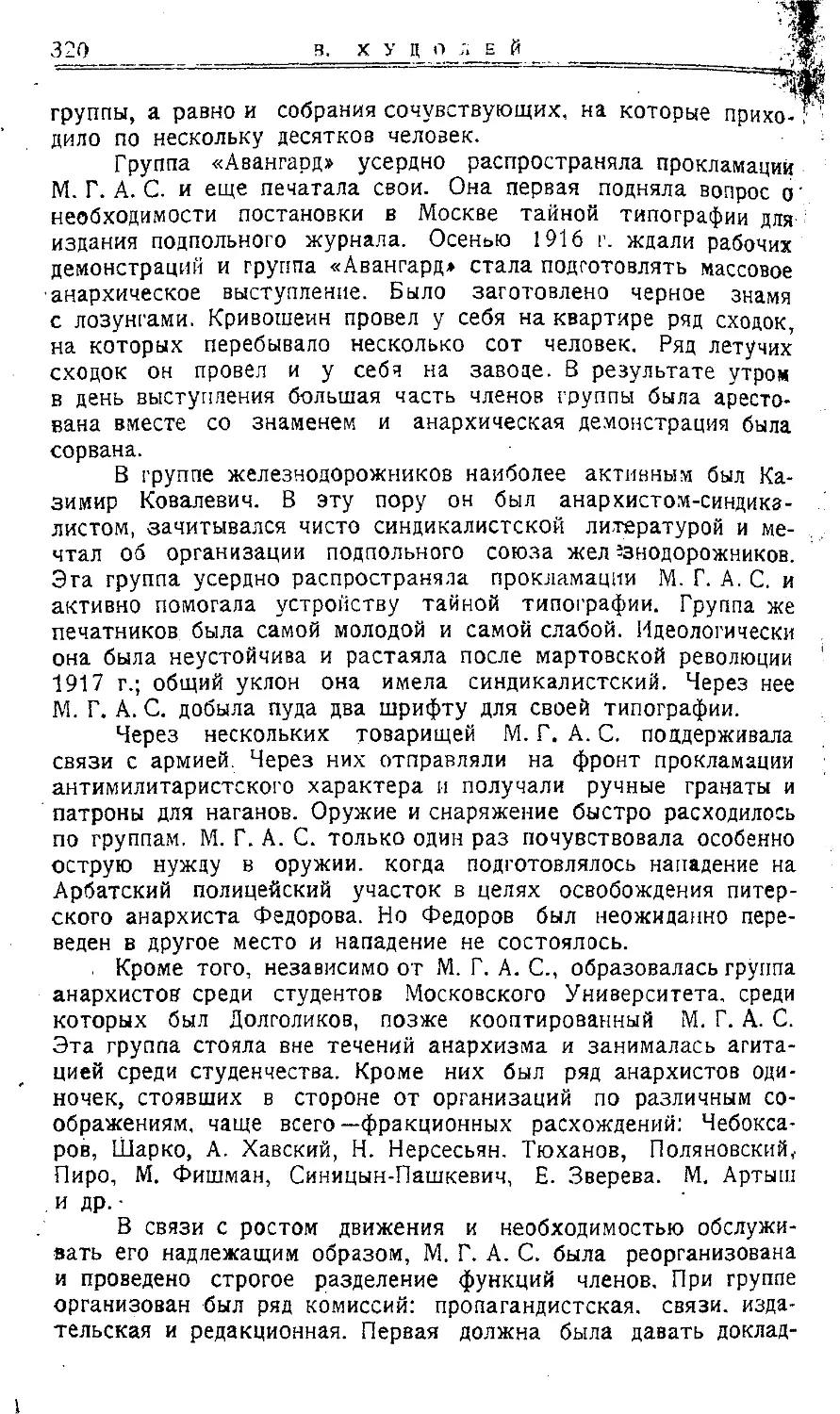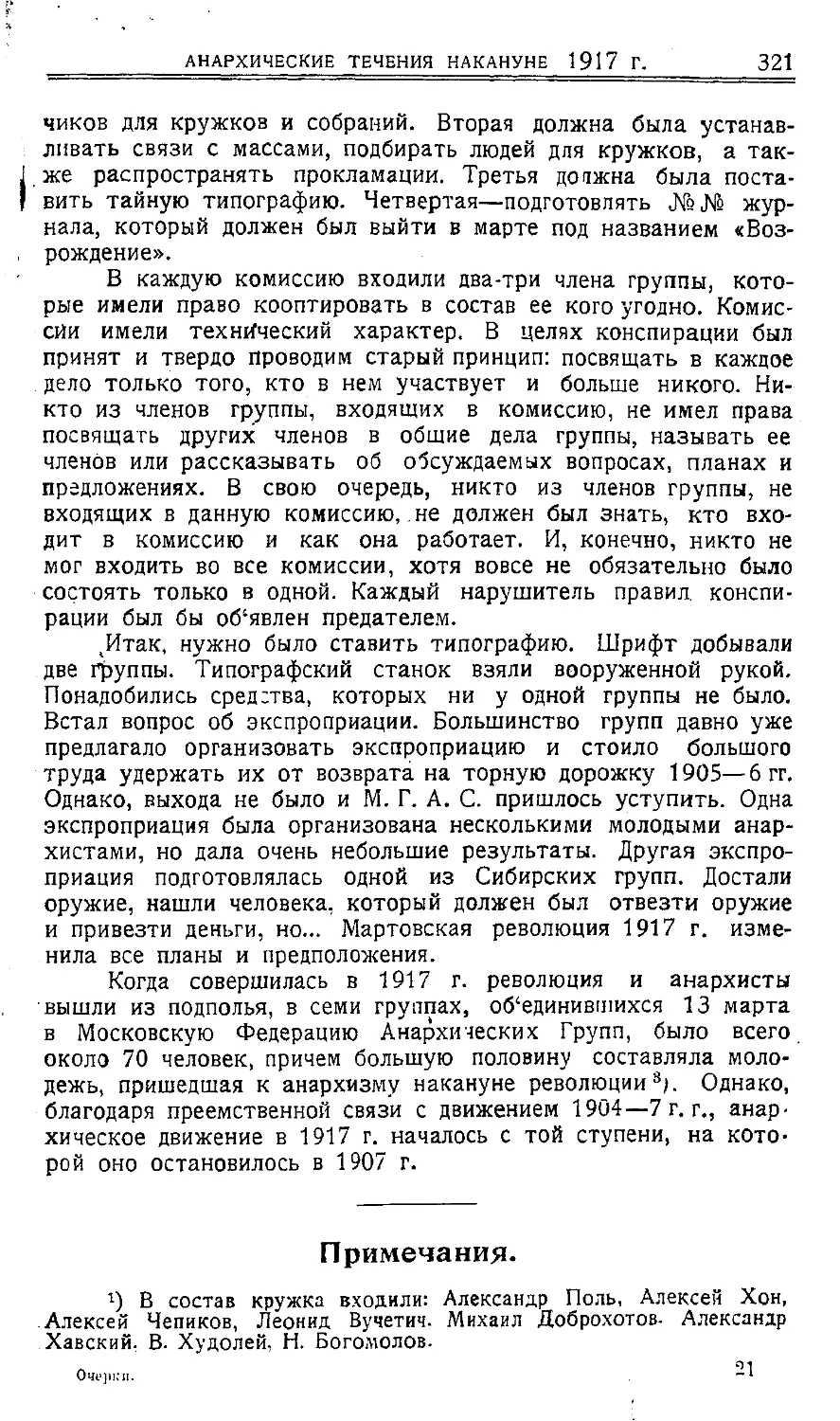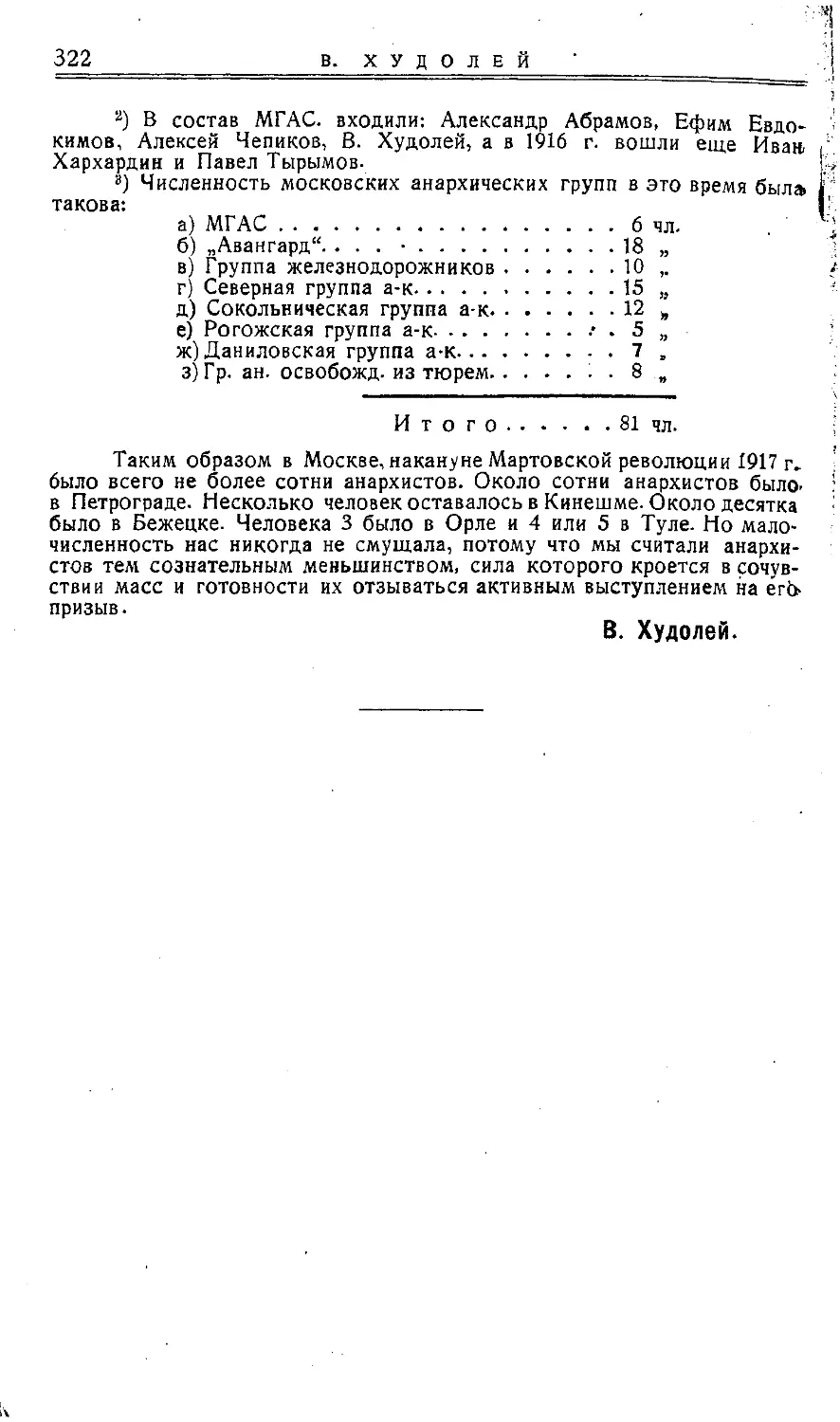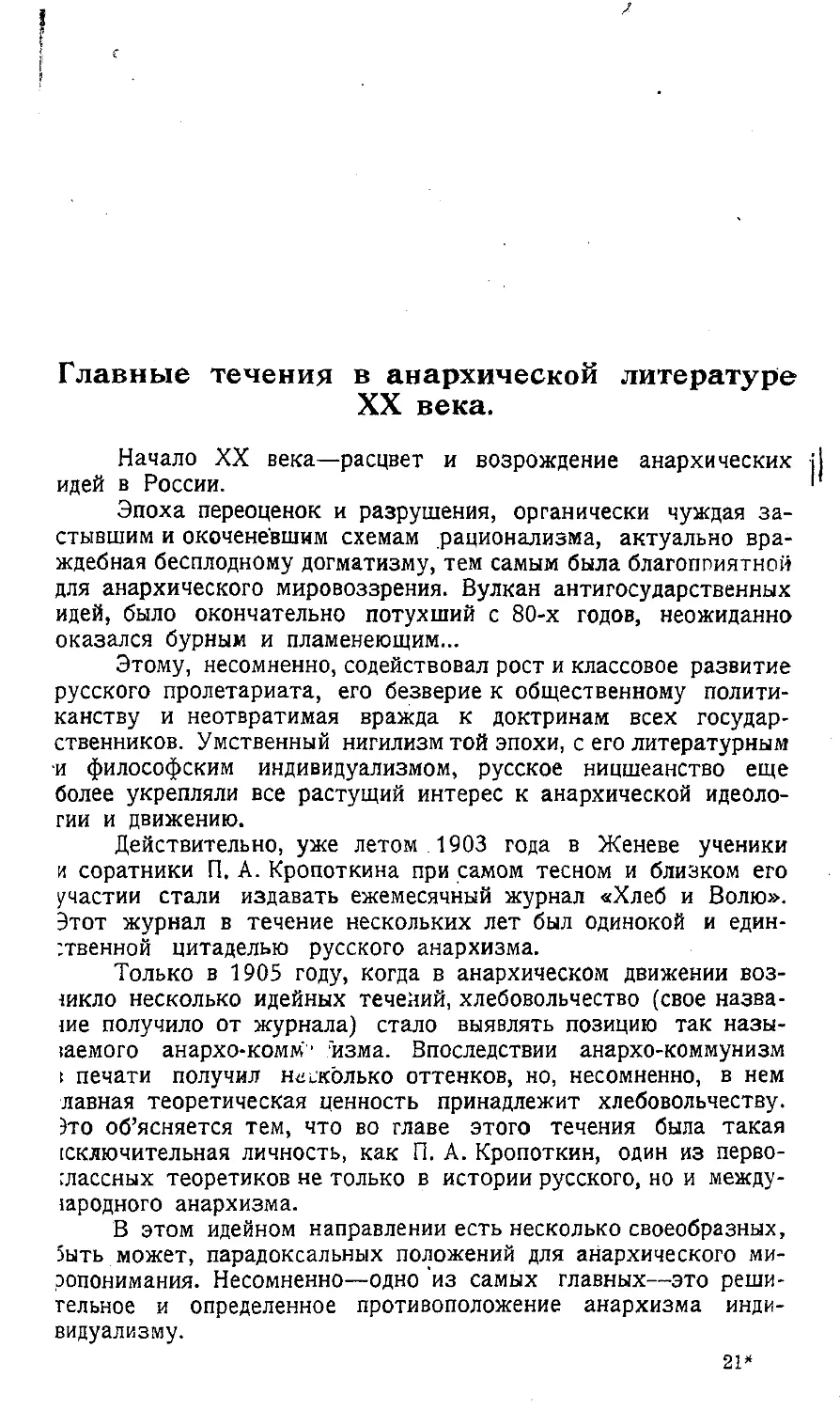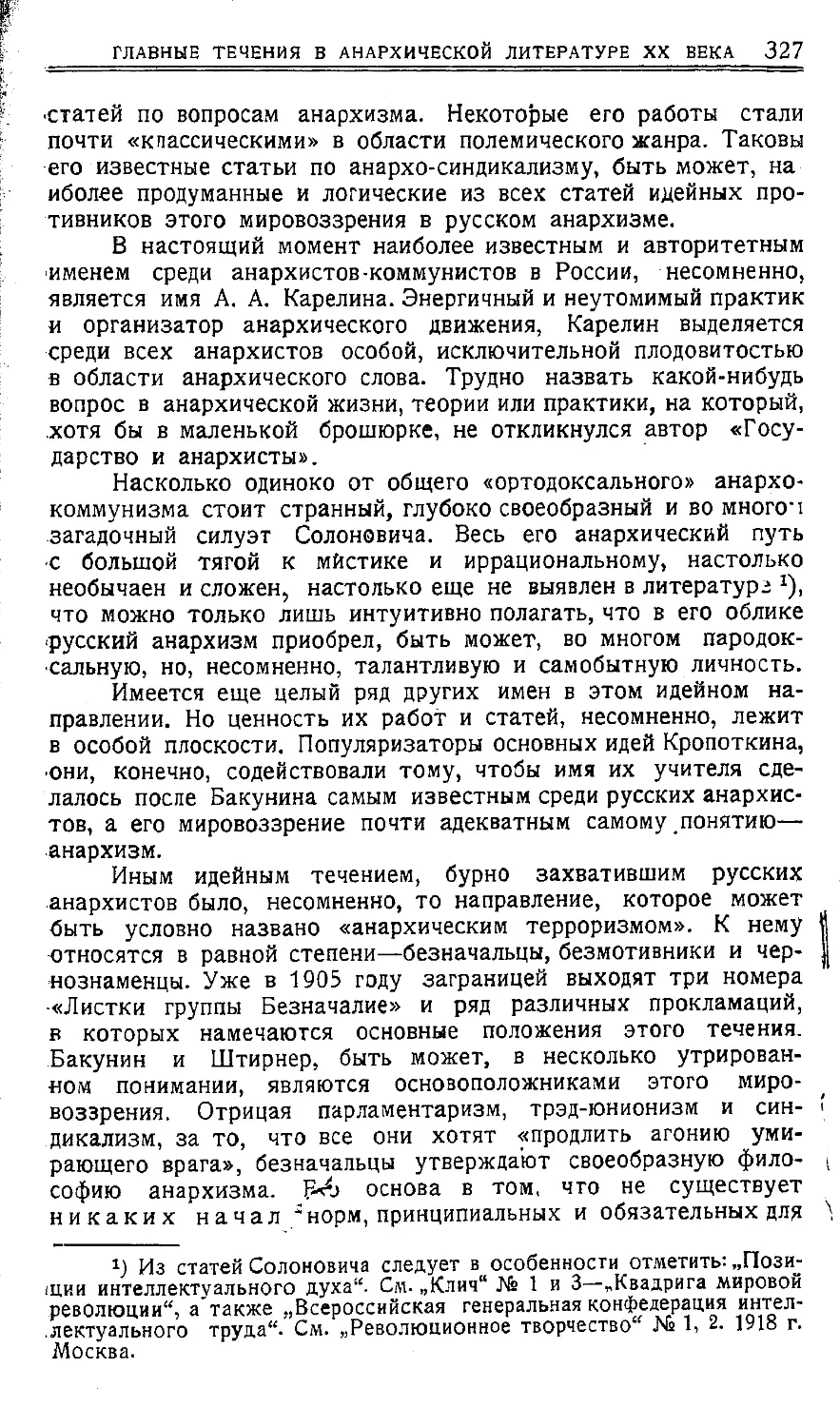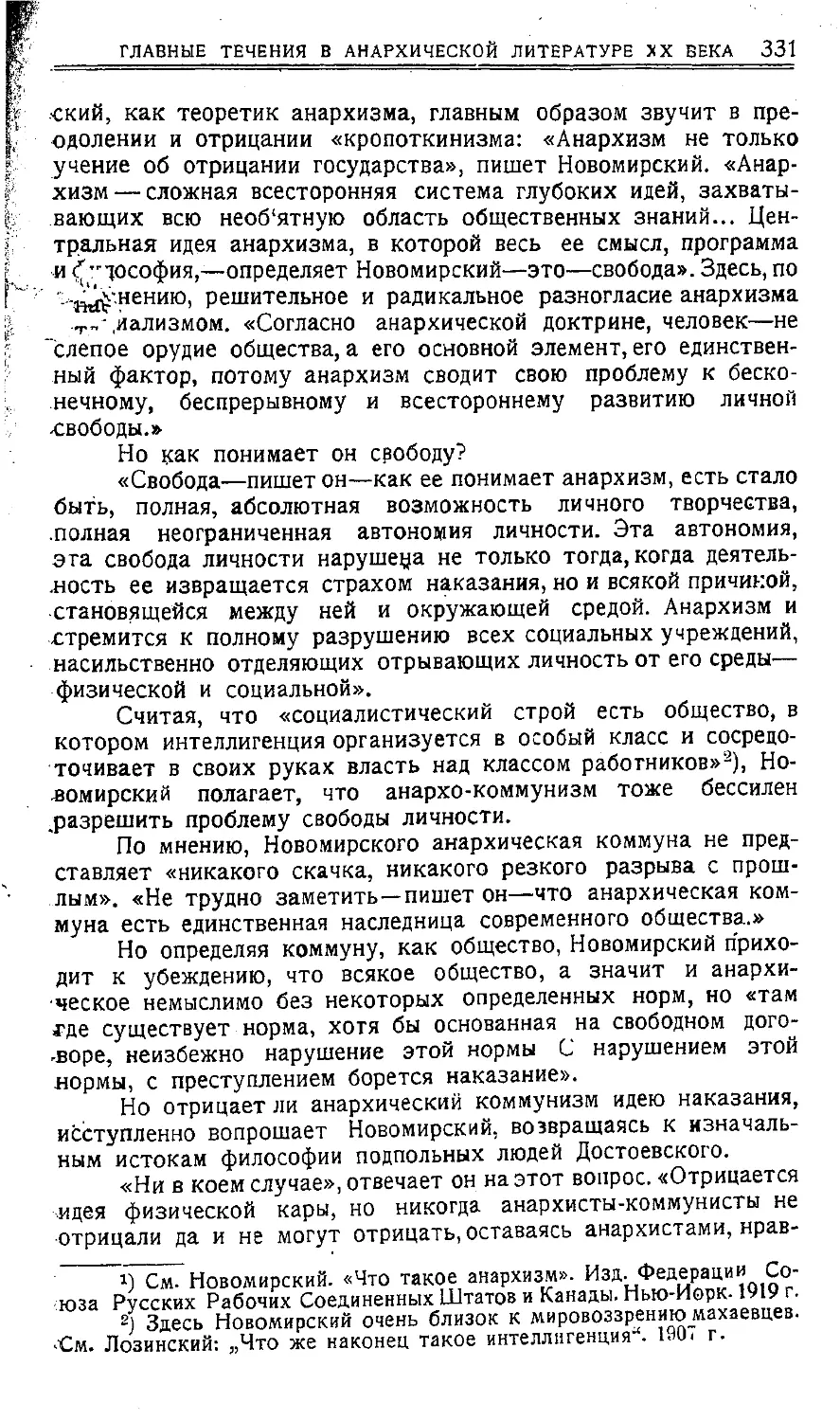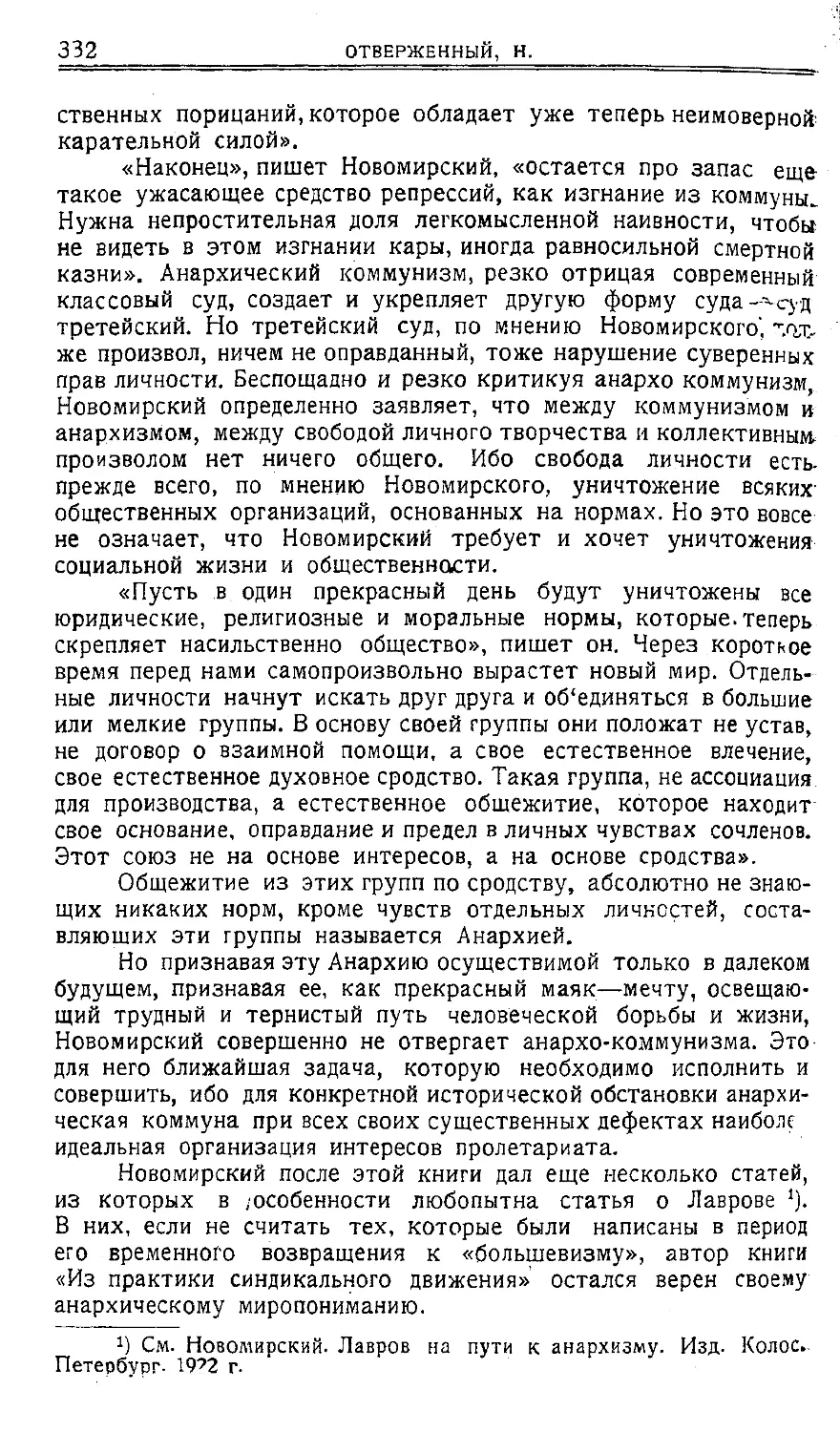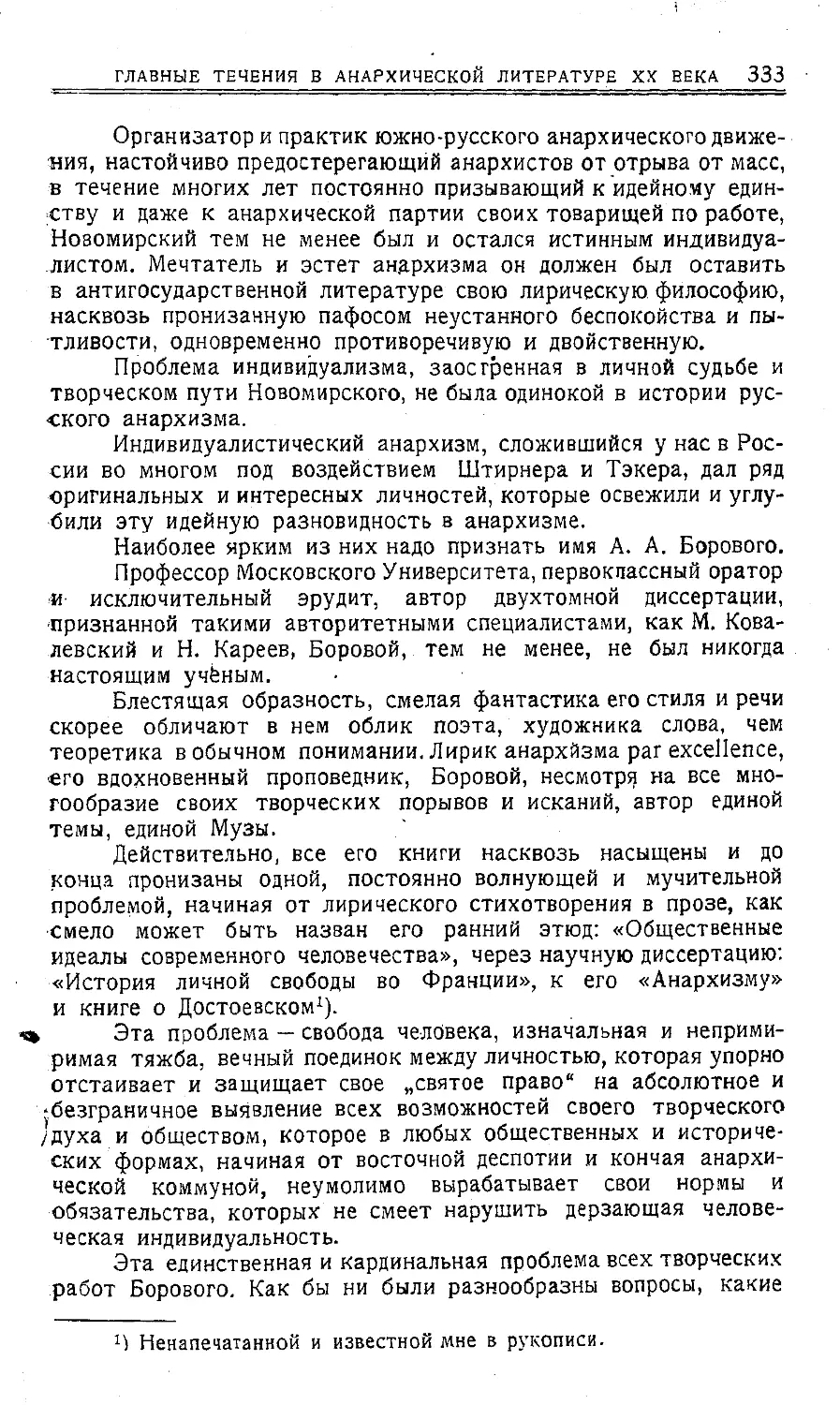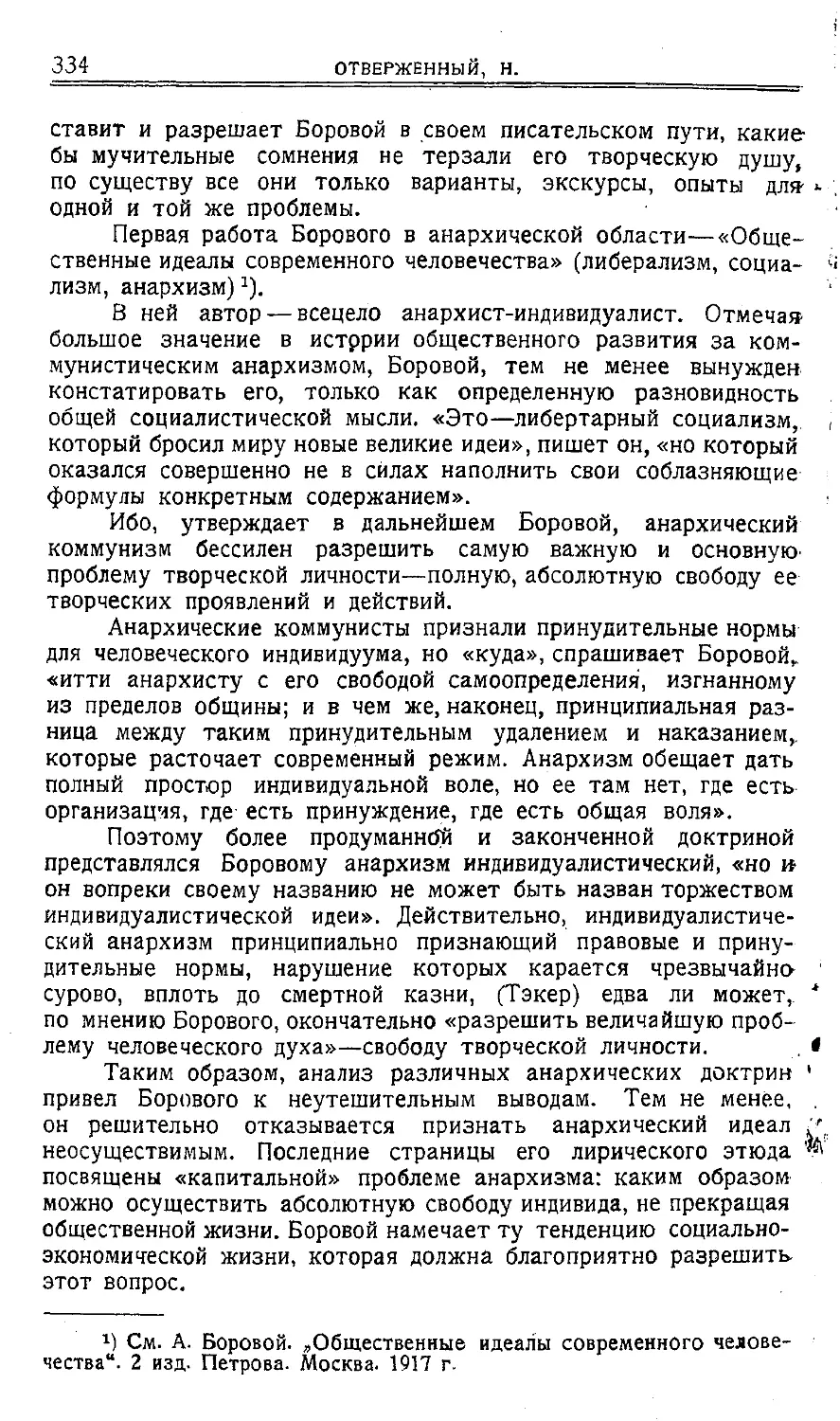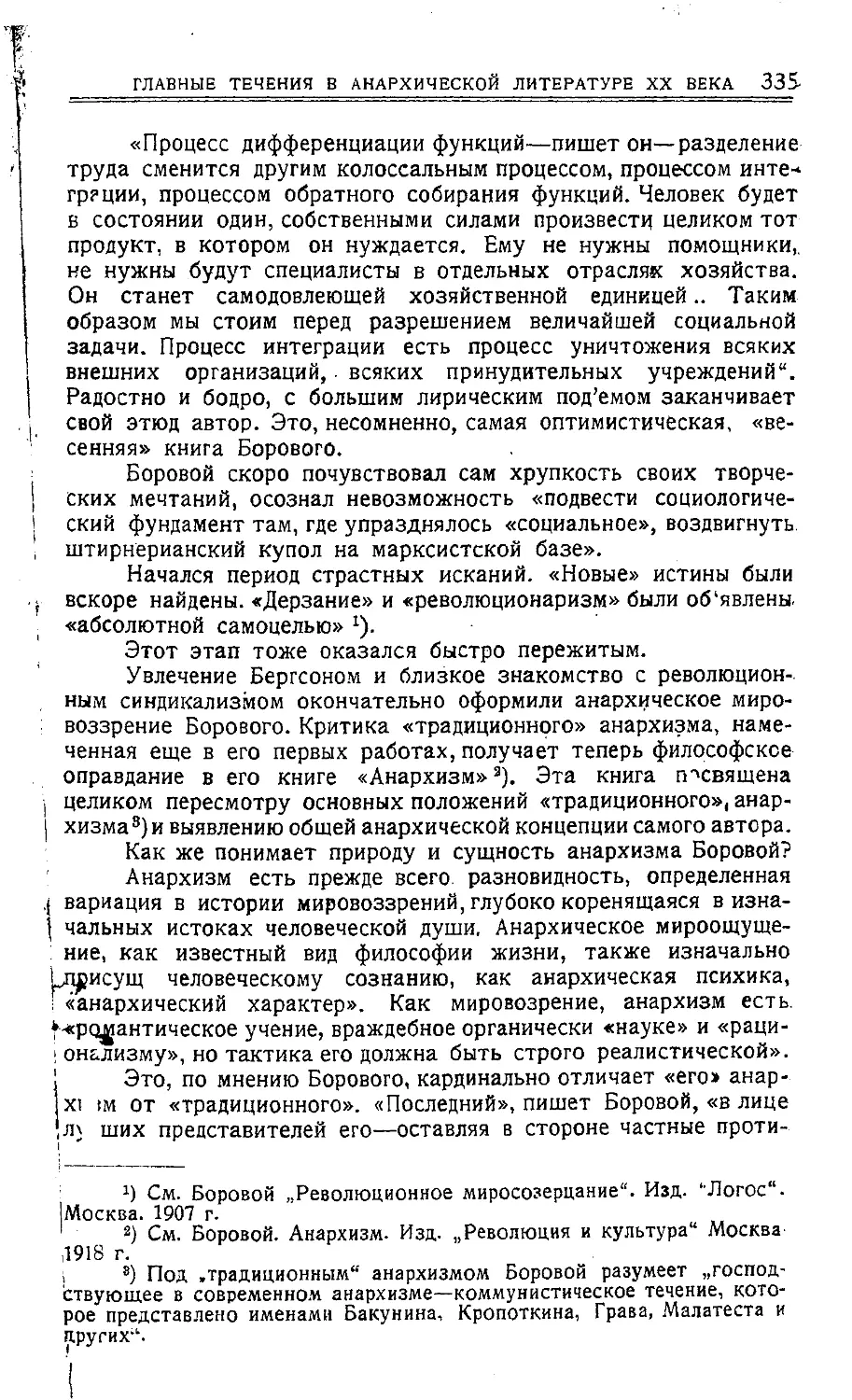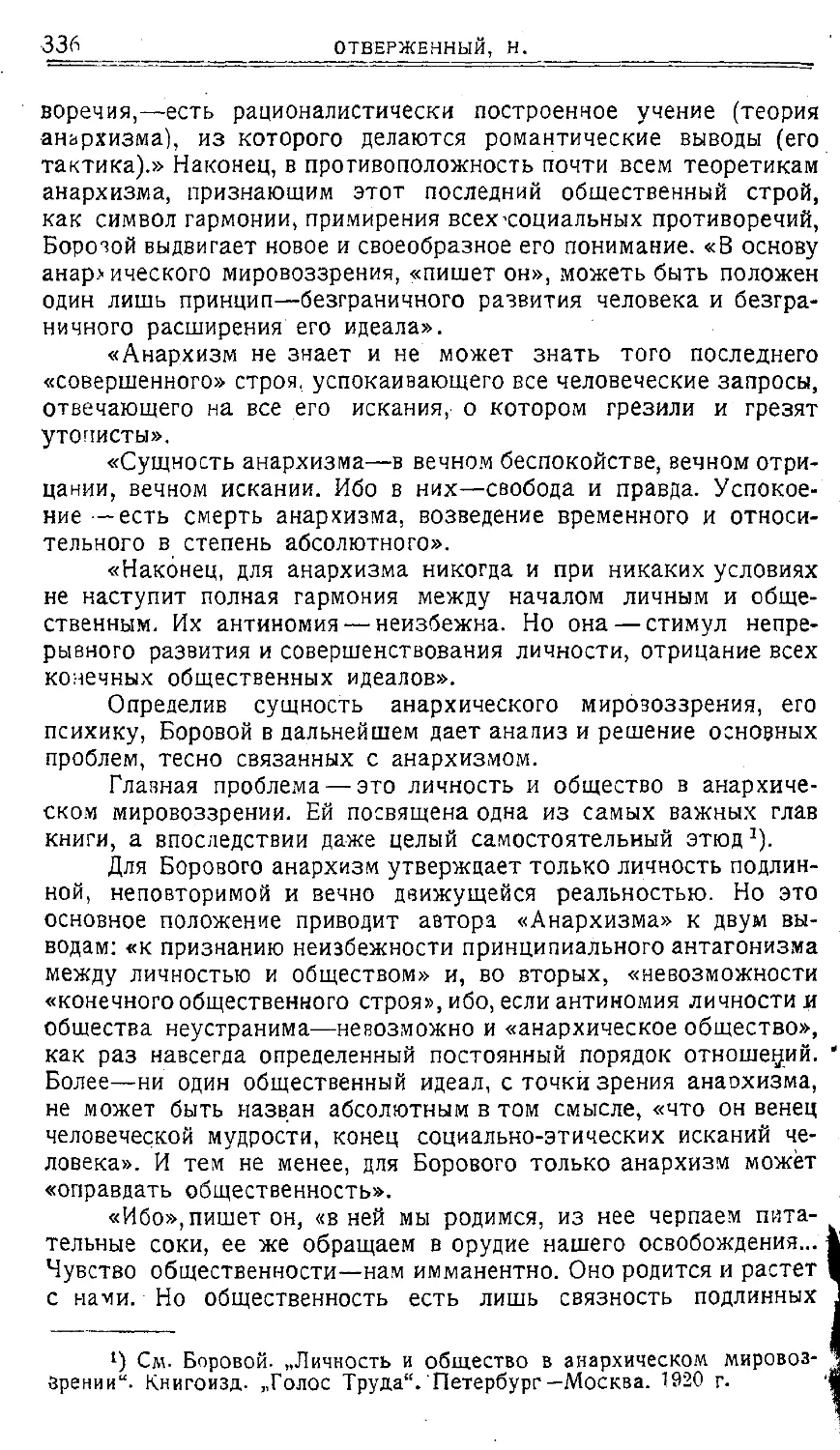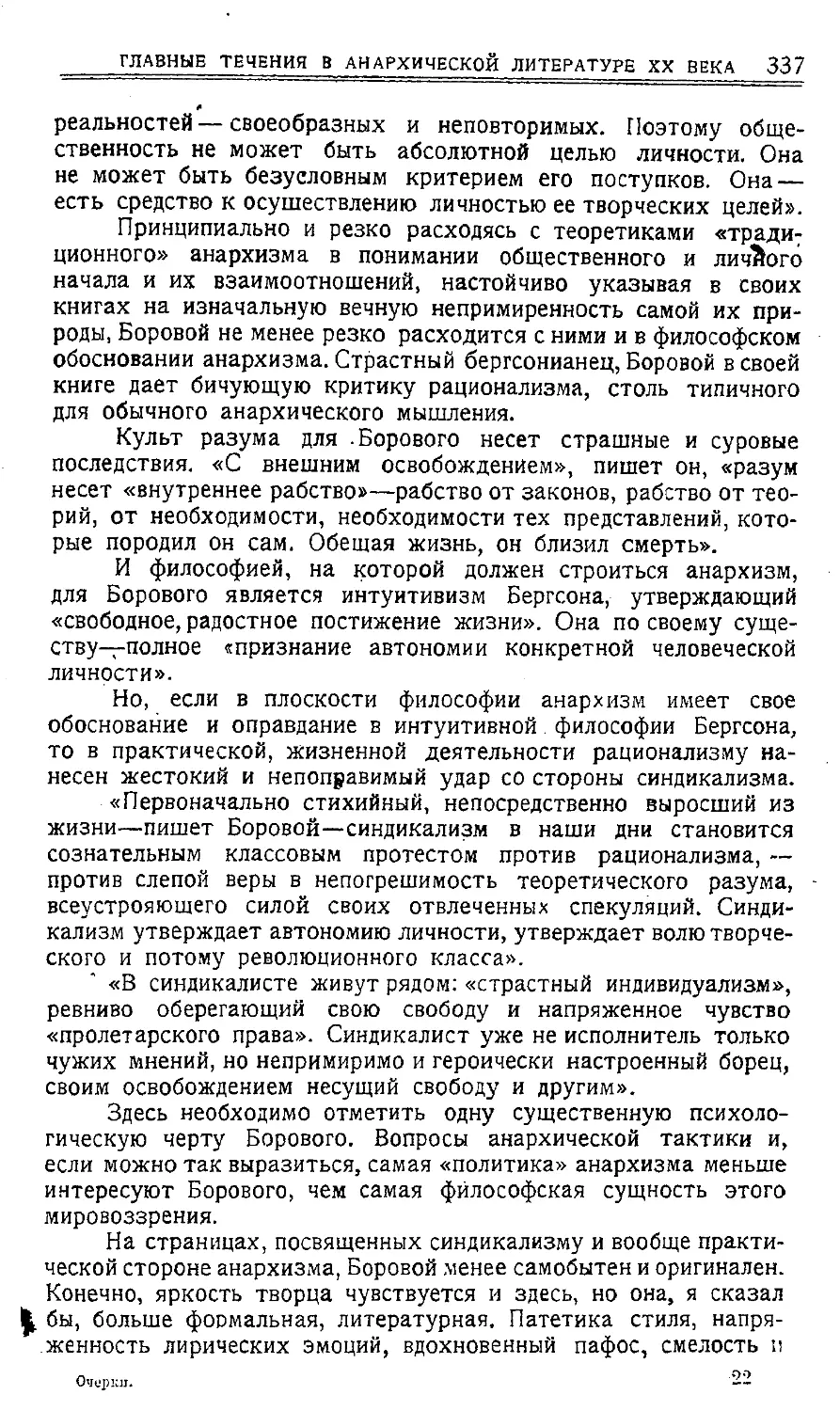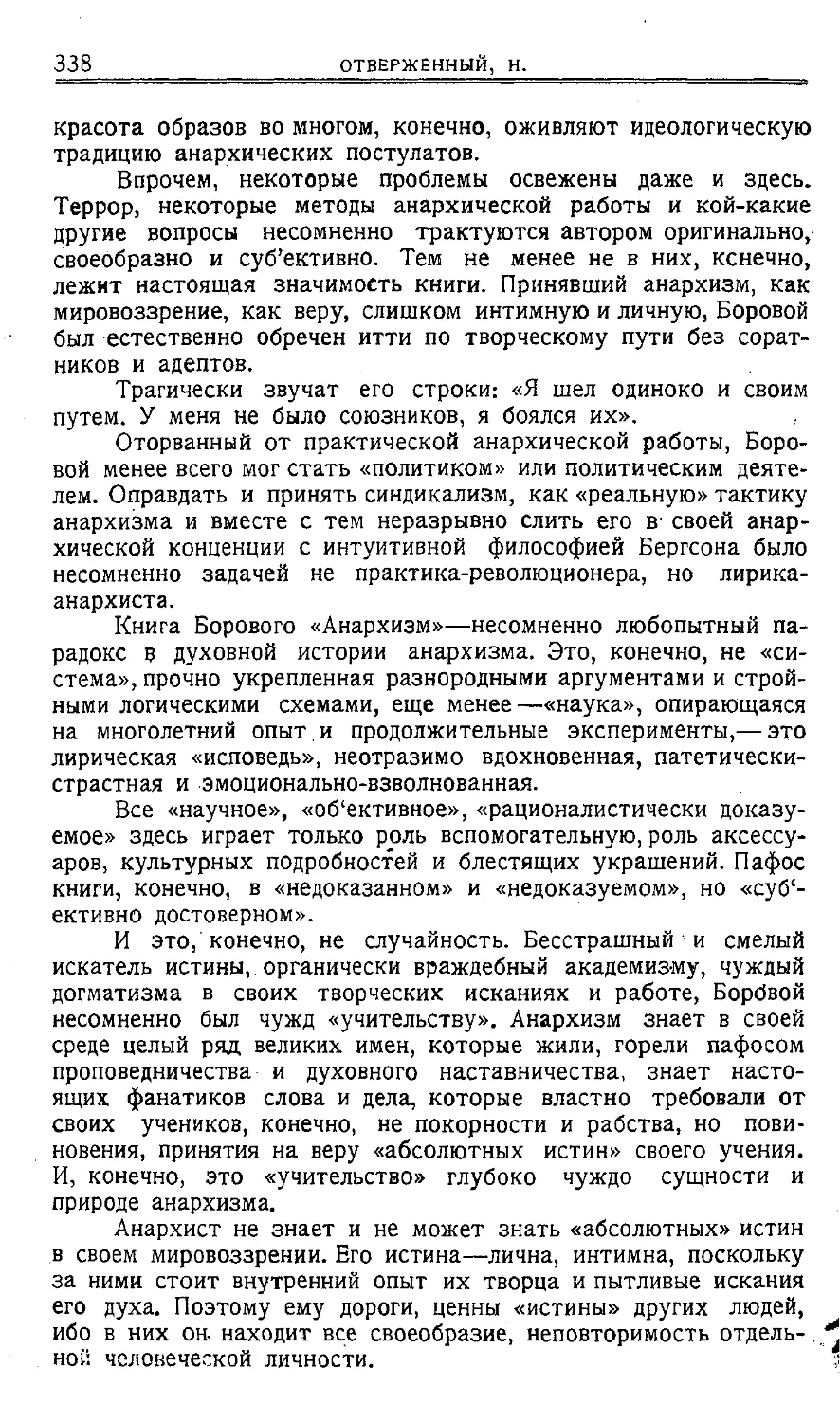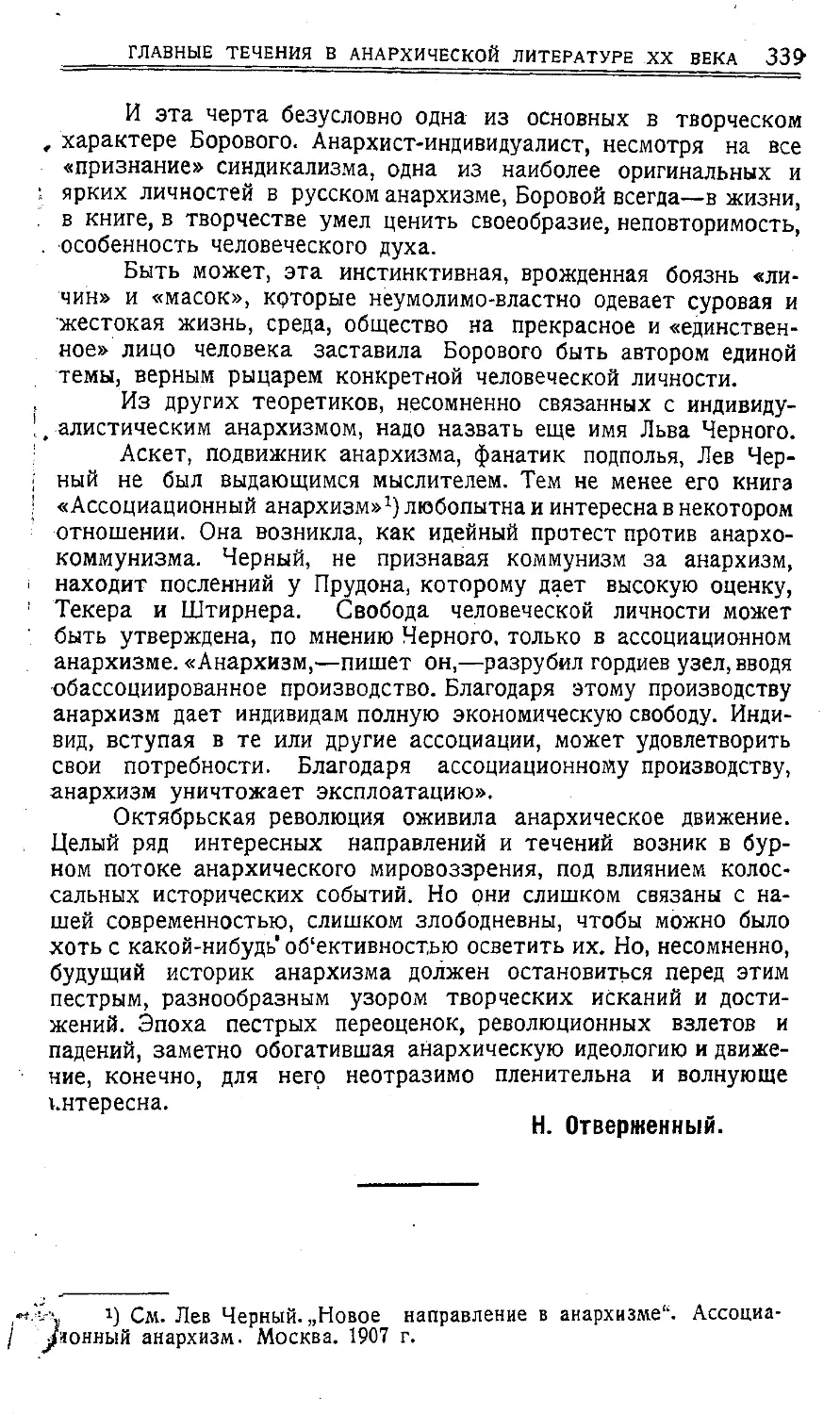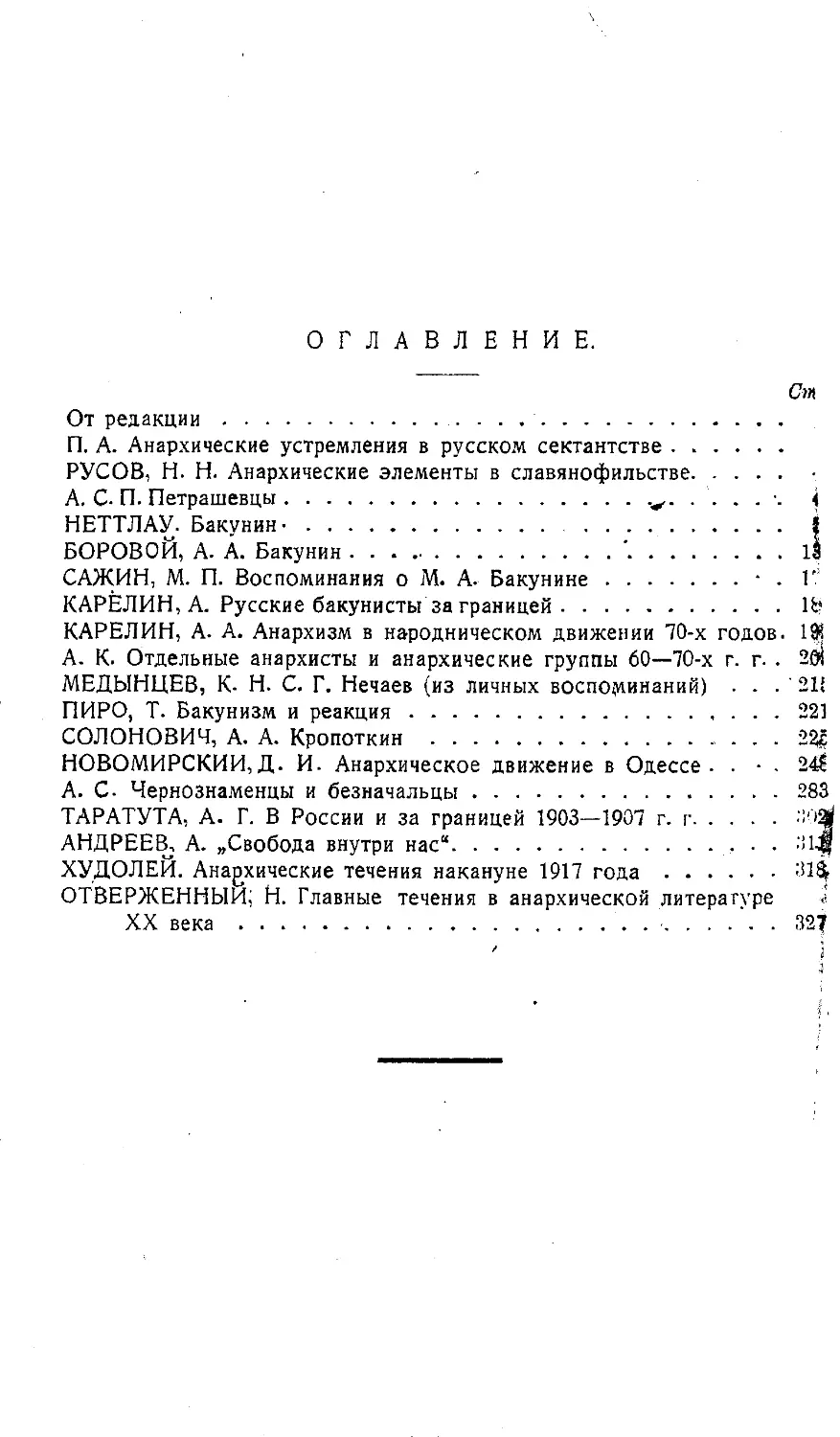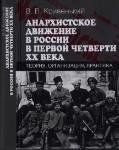Текст
МИХАИЛУ
БАКУНИНУ
iniilllllliniillllliliilllli|l)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii.iiiiiiiiiiiuii
•^w2o/r Зд-А7п£а вС777?О fOSl О С
y уыоск&д ig3i.6.
МИХАИЛУ БАКУНИНУ
1876—1926
ОЧЕРКИ
ИСТОРИИ. АНАРХИЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
СБОРНИК СТАТЕЙ
ПОД г- ДАКЦИЕЙ
АЛЕКСЕЯ БОРОВОГО
Книгоиздательство „ГОЛОС ТРУДА"
МОСКВА 1926
27 типография
„КРАСНАЯ ПЕЧАТЬ"
при
изд-ве Ком. Академии.
Москва, Остоженка, 10.
Главлит № 59.548.
Тираж 3.000,
Т
> л '
БАКУНИНУ
Гениальному мыслите-
лю и борцу, великому
основоположнику анар-
хического мировоззре-
ния в день пятидесяти-
летия его смерти
1 и ю л , 19 2 6 г.
АНАРХИСТЫ
От редакции.
Редакция «Очерков истории анархического движения в Рос-
сии» дает себе полный отчет в многочисленных недостатках
выпускаемого издания.
Уже при выработке основного плана Сборника — редакции
были ясны чрезвычайные трудности, связанные с его осуще-
ствлением. К сожалению, действительность превзошла худшие
ожидания.
Значительное число товарищей, взявших на себя работу
по выполнению намеченной программы, в силу разнообразных
причин, обещанного материала к требуемому сроку доставить
не могли. В одних случаях пробелы удалось заполнить, но
чрезвычайная спешность работы не могла не отразиться на ее
качестве; в других, при отсутствии архивов и достоверной до-
кументации иод руками, пришлось мириться с вопиющими про-
белами в надежде устранения их уже при повторении издания.
. у Особенно пострадала часть книги, посвященная непосред-
ственно истории движения. Здесь выпадение отдельных статей
сводилось не только к потере их, но и к некоторому обесце-
нению статей, стоявших рядом, ибо каждой из них было опре-
делено строго мотивированное место в общем плане.
Однако и при наличии указанных недостатков, редакция
считает «Очерки истории» книгой нужной и важной. Она —
первый опыт систематического изложения судеб анархического
движения в России. Отдельные беглые характеристики, имевшиеся
доселе в общих исторических обзорах анархизма или само-
стоятельных очерках, страдают не только бедностью и случай-
ностью, но нередко тенденциозностью и даже крайней недобро-
качественностью материала. Не может почитаться предшествен-
ником «Очерков» и «Альманах. Сборник по истории анархиче-
ского движения в России», изданный в Париже в 1909 г. под
редакцией тов. Н. Рогдаева и представляющий из себя,
по преимуществу, собрание сырых материалов, относящихся
к 1903 — 1907 гг.
Редакция считает необходимым обратить внимание чита-
теля также на следующее.
В настоящих условиях было невозможно выдержать после-
довательно на пространстве всего издания точку зрения какого
либо одного течения анархической мысли. Давая место в сбор-
нике представителям различных направлений современного
анархизма, редакция берет на себя ответственность лишь за
доброкачественность фактического материала, положенного
в основу издания, ответственность же за общие оценки и ха-
рактеристики событий, актов и деятелей движения возлагает
на самих авторов.
Алексей Боровой.
Анархические устремления в рус=
ском сектантстве XVHI—XIX вв.
1. Русское сектантство, как движение рели-
гиозно - общественного протеста.
Привычно мужичку русскому—былинному МикулушкеСе-
ляниновичу— нести «тягу земную», от которой в землю угряз
Святогор - богатырь, нипочем Микулушке «орать» от края по
край землю - матушку, а на отдых бросить сошку в ракитов
куст, даром, что сошку эту сам Вольга с дружиной хороброй
ворохнуть не могли. Да не под силу, не по нутру оказалась
ему другая тяга, что принесла ему московско - петербургская
власть. Татарский восток, византийский юг и немецкий запад
попеременно, каждый по - своему, дали руководящее влияние
в построении русского государства, и вместе с ним характерное
для них, воспринятое ими из одного источника, централисти-
ческое, начало. А меж тем, по справедливому замечанию Ща-
щрва,: «одно из отличительных свойств русского народа —это
•жизненно-практическая, непосредственно • бытовая, общинная,
мировая выработка общих начал, принципов житейской мудрости,
общинно - народного саморазвития», т. - е. чисто федеративное
начало.
Централизующее государство с его непомерными аппети-
тами и цивилизаторскими затеями, с его всевидящим оком
всенародного шпионажа, вроде знаменитого «Слово и дело»,
с его огромным бумажно - канцелярским аппаратом, пытавшимся
заглянуть во все уголки народной жизни и искромсать их на
(Свой манер, по казенному «закону», с его учреждениями рас-
Л$авы, в роде опричнины, армии, полицейской службы, - не
только не соответствовало строю народной жизни, но и раззор
и раздор и крепостное рабство принесло народному «миру».
Но народ, расколотый распрями «меньших» (бедных) и
«лучших» (богатых) еще в далеком от совершенства общинно-
вечевом строе вольных городов, разоренный ‘удельной междо-
усобицей, парализованный татарским игом, не в силах был
противостоять жестокому и упорному наступлению государствен-
ного строя, подержанного авторитетом церкви х), капиталом и
не лишенного талантливых организаторов. Больна была общин-
но-федеративная Русь несовершенством своей, как земско^, так
10
П. А.
и городской организации, и должна была или выработать более
совершенную форму своего исконного строя, или — уступить.
И она уступала, с боем, с бунтами, с слезными челобитными,
с массовым убегом в незаселенные местности, унося в «пустыню»
от правительственного глаза свой общинный мир. Пал Госу-
дарь Великий Новгород..., подавлена «Смута»..., разбиты Разин,
Пугачев..., нарушена казацкая вольность... разрушены расколь-
ничьи общины... И характерно, что все эти попытки выдвигают
одну основную организационную форму: федерацию общин и их
сходов, земских и городских советов и всенародного собора,
совета всей земли. Но она выявлялась только ощупью, инстинк-
том строющего свою общественность народа. А меж тем для
успеха всякого массового общественного строительства необхо-
димо, чтобы народ — строитель имел перед своим сознанием
что-то такое, из чего для него ясно и последовательно, путем
простого размышления, развертывались бы все необходимые
части, детали строительства. На одном инстинкте далеко не
уедешь. Нужна была простая, увлекающая и четкая по-
стройка, могущая захватить сердца и умы народа с силой ре-
лигиозного экстаза. Чистых социальных теорий тогда народ не
знал и не мог знать: они или умерли в далеком прошлом, или
еще только обещали расцвести на западе. Но у народа была
его религия, его христианство, одна из тех удивительных со-
кровищниц духа, которые время от времени наполняются рели-
гиозными гениями, и, раскрываясь самым невежественным мас-
сам, живут в них среди суеверий тысячелетиями и неожиданно
дают новые прекраснейшие ростки. В несколько маленьких
книг и несколько апокрифов включена невероятной мощи энер-
гия, через тысячелетия взрывающая творческие силы народов.
Откуда впервые к России пришло христианство—неизвестно.
Но несомненно, что Россия, как путь оживленной, хотя часто
и опасной, торговли Скандинавии, прибалтийской неметчины,
Византии и Востока, испытала на себе влияния всех вер, под-
точившие ее примитивную религию рода и сил природы. Огонь
и меч бояр Владимира призвали к устроительству земли рус-
ской византийское церковное христианство, а энергичная дея-
тельность колонизаторов — монастырей и покровительство та-
тарских ханов закрепили за ним эту роль. Но чувствуются
прочной нитью в народном христианстве глубокие и сильные
мотивы и буддизма, и парсизма, и древнейшей религии рыбо-
бога Оаннеса (ИОАННА), и особенно различных ветвей христи-
анского гностицизма. Эти-то мотивы и здесь повторили по-
русски то, что было ими сделано в средневековом Западе.
Церковь, слишком занятая «просветительными», колониза-
ционными и землеустроительными задачами, а также борьбой
с явными врагами, не замечала, да за отсутствием вычеканен-
ных форм и не могла заметить, что она не что иное, как фе-
дерация разных толков, а зачастую и просто имеет в лице
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 11
своих «духовных» лиц развращенных ремесленников или даже
колдунов на новый, церковный лад, да при том почти всегда
невероятно невежественных. Только изредка она наталкивалась
на резко выраженную критику ее деятельности и догматов и
жестоко с этой критикой расправлялась. Так тех, «которые не
, грабят, имений не собирают», отказавшихся от мздоимной цер-
ковной иерархии во имя перво-христианства,—«стригольников»,
бросали в Волхов, и т. д. А меж тем до вершины церкви все
чаще и чаще доносились слухи, что народ презирает и ненави-
дит ее слуг—за ее сотрудничество с властью, за прислужничество
богатству, за жадность и ограбление народа; что народ на сво-
их игрищах издевается над нею, ее обрядами, ее служителями.
Наконец, внутри нее самой поднялись из недр народа «ревни-
тели» благочестия, с требованиями моральной реформы церкви,
с требованиями, чтобы она встала на сторону бедных, обижен-
ных. Но разве церковь делала когда-либо моральные реформы?
Ее дело — инквизиция за букву, костры и дыбы за муки
исканий.
Никон — сильная и, когда этого требовало его дело, же-
стокая личность (черта характерная для русских реформаторов
сверху). Он с громадной энергией, под знаком исправления книг
и обрядов (канона), ускорил другую реформу церкви, оконча-
тельно скрепившую ее с государством: он централизовал ее.
Но, тем самым, откалывая от господствующей церкви целую
федерацию толков, он дал знамя протесту накопленных, но не-
имевших оформленного выхода общественных страданий. И вот
мы имеем с тех пор огромное и длительное движение религи-
озно-общественного протеста, давшее потом идейное подкреп-
ление широким народным бунтам, и которому было дано имя—
«раскоп».
Звериной жестокостью пыталось двуглавое сообщество
церкви и государства остановить это движение. Самое умерен-
ное крыло «раскола», вчерашние друзья Никона по кружку
«ревнителей», по реформаторской работе, поправке книг — Ав-
вакум и иже с ним, — отправляется на пытку, в ссылку, на
костер. Все долголетнее царствие черносотенного «православия»
и Романовых было непрерывной Голгофой для народных исканий.
Расправы бывали столь ужасны, что народ принужден был
освятить самосожжение при приближении правительственных
войск, только бы не попасть в их руки. Но гонения давали
движению апостолов, пытки и казни—мучеников. Нетер-
пимость господ веры и права превращала часто самые лойяль-
ные секты в резко протестующие. Движение росло.
Оно росло не только внешне, количественно, отрывая все
новые массы народа от пьяного казенного «православия», но и
внутренно, по качеству. Оторванный от западной культуры
вмешательством правоверного государства, позволявшего только
себе «цивилизовать» Россию, лишенный государством не только
свободы мысли, но даже и возможности образования, не только
общественных, но часто даже и казенных школ, народ в своих
исканиях наметил вехи собственной, глубоко - проникновенной
культуры. Каких невероятных жертв ему это стоило! Во тьме
невежества, ощупью в дебрях тысяч толков, еретическими
считающих друг друга, в дебрях буквы Писания и мелочей об-
рядов, в дебрях конспирации, часто на поводу ловких обманщи-
ков, разоряемый налогами и всякими поборами, в кабале у по-
мещика, у кулака, у заводчика, травимый попами и полицией,—
разыскивал «серый» народ свои более ясные и более совершен-
ные и жизненные формы одухотворенной, и потому свободной,
общественности. Демократический федерализм поповского и
безлоповщинского раскола и заимствованного у «протестантов»
баптизма не удовлетворял более глубинно, более проникновенно
ищущих. И там же, где чувствуются семена гностических иска-
ний, там же проглядывает первая зелень анархических устрем-
лений, анархических форм общежития.
Каждый, кто знаком с сущностью религий, знает, что во
всякой религии каждому имени, каждой букве Писания, каждой
части обряда и целым обрядам, каждому кусочку быта и всему
быту приписывается особый смысл—его духовное значение, ко-
торое определяется существом религиозного мировоззрения.
Таким образом и писание, и обряды, и вся жизнь одухотво-
ряются, приобретают некий духовный смысл. Знание истины
такого смысла—это и есть гнозис, а искатели его во времена
перво-христианства назывались гностиками. От новгородских
икон, непонятных для церкви, и от новгородских же «стриголь-
ников» до сект последнего времени русский народ искал по-своему
эту истину, истинный гнозис.
Поэтому-то признание некоторого определенного канона,
т.-е. совокупности «правильного» писания и «правильных» об-
рядов, часто весьма существенно для того или иного рели-
гиозного (так и общественного) течения. В каноне мировоззрение
приобретает чеканную форму, и для людей, по выражению
немоляков и духовных христиан, «земных», в младенчестве су-
щих», канон дает опору и ясность. Для них изменение буквы
писания, детали обряда будет ломкой целого мировоззрения,
что нелегко переносится даже в случае внутреннего роста.
Казенная реформаторская горячка Никона со стороны буквы и
обряда, а Петра I со стороны быта — лишь подчеркнули это
созданием и укреплением раскола 2).
Значит и здесь, по существу, дело было не в букве, не
в двуперстии, а в разумении, что и доказала дальнейшая исто-
рия беспоповщинского крыла раскола, давшего целый ряд т. наз.
рационалистических толков. Разумение, «понятие» было движу-
щей силой раскола, и потому-то, как справедливо отмечают
все ненаемные исследователи раскола, раскольничья семья ока-
залась гораздо культурнее обычной «православной». Но для ра--
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ
13
боты этого разумения были раскрыты только книги писания:
двуглавый призрак плетью полицейщины отгородил его от за-
падной культуры. И это разумение после кропотливых толко-
ваний и раздумья докопалось до «правды» писания, которую
вкладывал в него галилейский плотник и тот перво-христианский
гнозис, из которого он вышел, и который принял его, как
Христа 3). А слишком чувствительный нажим государства и
церкви, нуждавшихся в деньгах, солдатах и рабочих руках для
своих затей, лихоимство их слуг, несправедливости закона,
урезка воли и земли, наконец, рост капиталистических отношений,
разлагавших даже крепкие взаимной поддержкой раскольничьи
общины — все это резко тревожило мысль мужичка, недоуме-
вавшего: и откуда же это на бедного Макара столько шишек
валится, да правильно ли, да по божьи ли это. И вдруг там, где
он только и мог искать «правду», он нашел ясные, раньше не-
замеченные, слова: «Цари царствуют и вельможи господствуют,
но между вами да не будет так, а первый из вас да будет всем
слугой», «Кесарю— кесарево, а божье—Богу», «И сотворил нас
царями и священниками», «Будьте совершенны, как совершен
Отец ваш небесный», «Где Дух господень—там Свобода».,. Читал
он там о Вавилоне-граде блуднице и о новом грядущем граде,
об анархических коммунах первохристиан, вникал в смысл Тай-
ной Вечери, «чуда» насыщения пятью хлебами.. И пытливый
разум и чуткая совесть вскрывали возмутительное противоречие
меж тем, о чем говорило писание, и тем, чему служила церковь,
о чем говорили горькие факты жизни. Противоречия быта бу-
дили думу, мысль; мысль вскрывала религиозные противоречия,
а эти последние вели к общественному протесту, к исканию
новых форм жизни. Так, напр., в 40—60-х годах прошлого сто-
летия выросли секты немоляков, неплательщиков и других
сходных разветвлений одной идеи.
Навстречу этому развитию раскола шло и развитие цер-
ковной и внецерковной мистики народа, тоже давшее, как и на
Западе, свои характерные штрихи в направлении к анархизму.
Православие, как известно, своеобразно между прочим тем, что
резко разделяет мирское (земное) от духовного (небесного),
при чем это характерно для таких даже крайних ветвей
раскола, как немоляки, и для внецерковной мистики скопцов.
Мы уже говорили выше, что рационализм пытается найти исти-
ну посредством толкования, уразумения буквы и быта. Мистик
хочет непосредственно «видеть» откровенную истину, иметь
с нею живое общение, и, как бы в форме образов — намеков
открыть виденное миру. Образцом такого «видения» являются
Апокалипсис и новгородские иконы. Перед глазами такого под-
хода к миру, к жизни, к быту все это, как они утверждают,
раскрывается, как деятельность неких живых духовных сил и
существований. Кесарь, власть земная, созданная насилием,
перед таким взглядом оказалась злой силой, пришедшей вслед-
14
П. А.
ствие греха, вышним попущением, существующей только во зле
и для злых. Все кесарево, как греховное, вредное в жизни,
должно быть отдано Кесарю, и люди, ставшие чистыми духовно,
должны войти в новую жизнь без власти и попов, т. к. все
сами «цари и священники», в жизнь, прообразом которой была
жизнь перво - христиан. В этом окончательном разделении
и ожидался «Страшный Суд» 4).' Но, ожидая этот желанный
исход, христианство по писанию должно было ждать Духа исти-
ны, обещанного Христом, ждать Антихриста — этой концентрации
зла и обмана, ждать второго пришествия Христа и его тыся-
челетнего царства. В западном средневековьи целые столетия
стоят под знаком такого напряженного ожидания, жуткие тра-
гедии вырастали на этой почве. Нечто похожее произошло и
в России в дни возникновения раскола. Близился конец седьмой
тысячи лет по библийскому счислению, наростала волна ожи-
дания конца мира 5). Византия пала и передала свое духовное
наследие Москве. Стоглавый собор отметил мерзость и в цер-
кви и в жизни выступили ревнители и обличители, и вдруг —
Никон.., Ну, чем не апокалиптическая картинка. И вот Анти-
христ найден: это — Никон. 1666-й год оказался роковым6).
С этого момента история русского сектанства это — развитие
идеи Антихриста, наиболее -Гонко разработанное у бегунов, и
получившее своеобразное завершение у немоляков. Антихрист—
Никон, Антихрист—Петр I, Антихрист — царь, власть вообще,
Антихрист—хозяин. От Антихриста бегут в леса, в горы, скры-
ваются по подпольям. И безысходным отчаянием звучит испо-
ведание Спасова согласия:,
„В восьмую тысячу нет спасения11.
Навстречу этому, из глубин вне-церковных, раздается про-
поведь о Духе. Мир раскалывается на двое: на плотских, зем-
ных, еще ходящих во зле, и чистых духовных, готовых принять
в себя Духа. Для последних, „рожденных в Духе и Истине**,
земная история с ее преходящими законами мира, Отца и Сына —
окончена, осталась вне их для земных, для земли — плоти.
Вся „история11, начиная от Бытия и до Апокалипсиса включи-
тельно, получает второй смысл, духовный: она, так сказать, выры-
вается из собственного, исторического времени и перемещается
в каждого ‘ человека, становясь вневременным „законом*1 ра-
звития души человека. Этот мотив звучит в неканонической
литературе всегда, но, как и на Западе, становится творческим
началом массовой мысли именно в эти моменты взрывов ре-
лигиозно-общественного протеста. Горе общественной и личной
жизни и боль исканий обесценили „землю-плоть11, нарекли ее
источником зла, Антихристом 7). Но мерещится искателям иное
„царство", обещанное в Евангелии и в Апокалипсисе, в которое
войдут все, „рожденные в Духе и Истине". Усиливаются посты,
домашние и общественные моления, нервное напряжение доходит
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ
15
до крайних пределов, до восторженного „осенения", „рождения
в Духе“, когда брызжут с уст „пророчества1* и даже беспоря-
дочные звуки „иных языков*'. Это— „сходит Дух“. Возрастающее
(равномерно или волнами) напряженное сосредоточение на
одной и той же идее иногда при этом оказывается столь силь-
ным, что переходит в экстатическое состояние и тогда пере-
страивает всю психику человека, всю взаимозависимость его
рефлексов, так сказать, „по образу и подобию** этой идеи. В этом
последнем случае сектанты говорят, что этот человек стал
„Христом**, если речь идет об идее духовного спасения и иску-
пления человечества. Каждый новый „Христос** несет таким обра-
зом в себе, в своих речах, в своей деятельности „увиденное им
в откровении** в момент экстатического „озарения**, глубоко
продуманный и прочувствованный, так сказать, план путей пе-
реустройства жизни. Это уже не инстинкт народа, но творче-
ская деятельность его маленьких или болыйих гениев *).
И здесь опять заявляют о себе анархические мотивы. Для
духовных, получающих откровения прямо от Духа, от самой
Истины, что может значить чей-то внешний авторитет. Ни
церковь, ни царь (видимые, земные) не авторитет для тех, кто
вошел в церковь невидимую, внутреннюю, духовную, кто имеет
царя „небесного11. Законы, приказы видимых и их слуг, конечно,
будут выполнены, если.. . совпадут с велениями Духа, с вну-
тренним голосом. Но, если они окажутся противными,—бес-
полезны насилие, пытки, казни; ничто не может заставить
духовных подчиниться: о*ни доказали это своей историей. Она
залита их кровью, слезами и муками сплошь, благодаря „бла-
гочестивейшим" государству и церкви.
И вот по „откровениям Духа1*, закладываются кирпичики
нового внегосударственного „царства". Анархическая взаимо-
помощь пронизывает весь быт духовных, там и тут делаются
попытки общей жизни по типу коммун. Таковы попытки „об-
щих", малеванцев и т. д. Но только духоборцам, под влиянием
их „Христа", вождя П. Веригина, удается создать крупную,
существующую до сих пор коммуну, в известном смысле, анар-
хического характера.
Таковы (вкратце) основные линии развития анархических
устремлений русского сектантства. Цельность некоторого одного
основного направления, по разному отражающегося в разных
сектах, для меня вне сомнений. Перед нами живое историческое
единство, части которого, отраженные в разных сектах, растут
одновременно и, сравнительно, равномерно. Поэтому, изуче-
ние отдельных сект будет анатомией, а не изучением исто-
рической жизни. Следовало бы не оставлять втуне также
т. наз. „интеллигентные" секты, затем такие движения, как
масонство, отметить влияния протестантских исканий Запада
и, наконец, чисто общественные движения. Но для этого нет ни
места, ни времени.
16
П. А.
Дальше мы попытаемся раскрыть характеристические черты
этого живого исторического целого. Мы рассмотрим развитие
его внутренней закономерности в тех зародышах, в которых
оно было в истории.
2. Неприемлющие мира.
„Убо в настоящий последний дни сея Антихристовы пре-
лести, кий путь спасительный сущим в вере прообразовася.
Пространный ли,, о жене, о чадах, о торгах и стяжаниях, или
же тесный, нуждный и прискорбный, еже не имети града, ни
села, ни дому“—так в своем разглагольствовании от 28 марта
1784 года остро и четко ставит вопрос Евфимий, первый, из-
вестный нам, учитель и организатор страннического согласия 9).
Мы видели, что такая постановка вопроса не была фанта-
зией изувера, но имела глубокие корни в общественном и ре-
лигиозном положении народа. Некуда было деться. Ревизия душ,
введенная Петром 1-м, окончательно прикрепляла трудовой на-
род к земле, к заводам,, к приходам и монастырям, к государству,
отдавала его в полное распоряжение владельца, попа, чиновника
и полиции. А дни Екатерины П-й принесли под маской „про-
свещенного* абсолютизма полный разгул этих четырех китов
самодержавия.
Пишет Евфимий в своем „Цветнике" обличение: „. . . при
описи раздроби народ на разные чины и расположи дань по-
душную, потом же и землю размежева . .. и сим разделением
яко язычников содея, друг на друга ратоборствовати, межи бо
яко границы чуждым землям устави, аже коемуждо глаголет
свое: сей же глагол св. Златоуст проклятый' и скверный
нарицает, глаголя: мое от диавола, рече, введеся; вся вам
общая сотворил есть Бог. Отнеле же, егда тако удержаны
врагом человецы при имениях своих, яко же мравия неусыпно
тщание возымеша, как большая собрати и сего ради оттоле
начаша бывати обманы,. . . междоусобные брани до свирепства,
обиды до грабительств, все сие ради оного запрещения и разде-
ления: кому оный император надели много, кому мало, иному
ничегоже дав, токмо едино рукоделие повеле.“
И мы, кому ведом опыт еще 140-ка лет с тех пор, видим,
что в этих строках переяславского крестьянина (м. б. меща-
нина), уже заложены зародыши тех социальных теорий, что
пышным цветом распустились через 70 лет после его смерти
(1792 г., 20 июля). Роль власти в создании крупной собствен-
ности, монополий, пролетариата и вообще в разложении об-
щества на нищих, бесправных, и богатых, господствующих, роль
собственности в этом разложении, влияние права и экономики
на нравственное состояние масс и наконец, производственный
коммунизм, как нормальное состояние общественной жизни, —
здесь коротко и ясно затронуты.
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ
17
Потому-тб, что Евфимию ясно значение государственной
власти в распадении и распрях общества, и потому, что «оный
зверь» осрамил правильное древлее исповедание названием «рас-
кол», «а свою еретическую церковь святу богохульно рече быти»,
и потому, что «посылал в пустынные места оных властей своих
губительных искати безмолвных работающих Господеви . .. иде
же обретая их грабленник им сотворися .... мучаше и смерти
предайте», — резко-непримиримо отношение Евфимия к суще-
ствующей в то время государственной власти:
.здеже о самом сатане по числу его (666)
состоит слово и не в покорение к нему святии верных
утверждают, но на брань побуждают: сице бо кто слышится
силен быти да борется с сатаною. . .»
Наконец, в послании к московским старцам 1787 г., Евфи-
мий в недонускающих по ясности сомнений словах дает сле-
дующее определение:
«Апокалипсичный (гл. XIII) зверь есть Царская власть;
икона его—власть Гражданская, тело же его—Духовная».
Большей полноты и разрушительной силы, по отношению
к господствовавшему строю, слов не существует. Крестьянские
массы в то -время в возраставшем ужасе ждали завершения
Антихристова пришествия, т. к. в нем они видели последнее
наивысшее сгущение мук своих, ждали конца мира, т. к. в нем
они чаяли конец страданий своих. Апокалиптические видения
были для них историей их жизни, таили в себе их надежды.
В Апокалипсисе нашли они осуждение и грядущую гибель
своих мучителей, и радость будущей свободной жизни. Евфимий
подчеркнул 10) земное, житейское , значение этих видений, и тем
самым обращал все напряжение народных ожиданий, проклятий
и надежд на силы быта, общественной жизни. А мы знаем из
истории религиозных движений, какой колоссальной силой яв-
ляется умело направленная религиозная стихия. Но . . . удар
этот, Евфимием лишний раз повторенный, был чересчур силен:
он уничтожил смысл земного, открыв на нем «печать Анти-
христа». И его согласие, вместо накопления сил для прямой
«брани» с державцами мира сего, ушло в проповедь «бегства»,
«скрывания», «пустынножительства», аскетизма, постыдно по-
кинуло землю во владычестве «зверя» — ради искания «невиди-
мой правильной церкви», ради встречи чистыми в чистых лесах
Страшного Судии. А прочий народ попрежнему «мертвая трупия
оказуется».
Такой результат естественно, хотя и неожиданно, вырос
из учения и дела самого Евфимия. Уже и раньше практиковался,
в качестве протеста и спасения одновременно, убег от ока го-
сударева и его слуг, неплатеж податей и т. д. Евфимий, пови-
димому, выдвигает это своеобразное «прямое действие», как
подготовительный путь к прямой «брани» и усугубляет его.
Возводится в догмат бойкот всего, что имеет какое бы то ни
Очерки. 2
18
П. А.
было отношение к государственной власти и церкви, к Антихристу..
Мало того, Евфимий знает, как обрезывает крылья имущественное
и семейное положение. И вот, чтобы отрезать («оскопить»)
все, что может помешать в готовящейся борьбе, выдвигается
догмат о «спасительном пути» — «еже не имети града, ни села,
ни дому», т.-е. о странстве, об уподоблении первопустынникам
гонимой «крыющейся» церкви. Отныне последующие учению сему,
по их выражению: «Христиане есмы на земли, а места и оте-
чества не знаем, но грядущего взыскуем, странники есмы».
Задумано сильно. Брошено в крепкое крестьянство —
верно п). Если бы удалось широко и правильно развернуть это
движение, — государство и церковь остались бы без денег, без
граждан и прихожан, без пушечного мяса, 'с действующей, но
бесполезной системой, т.-е. — пало бы. Что так и имелось в виду,
говорит «Разглагольствие Тюменского странника»: «братися
с Антихристом до времени нельзя; но когда придет время, тогда
всякий, записанный в книге животныя, должен ополчиться на-
Антихриста», и что близко то время, когда „Спаситель на белом
коне приидет с небеси, сотворит брань с Антихристом и что
в это время все странники будут в рядах его воинства, а по
свержении- Антихриста приимут часть в первом воскресении
и будут иереи Богу и Христу и воцарятся с Ним тысячу лет.
Новый Иерусалим для жилища странников спущен будет Богом
с небеси на то место, где мир несть к тому».
Так религия, нашедшая воплощение своих образов и ожи-
даний в силах и формах общественных стихий, сама становится
общественной силой, получает плоть и кровь. До 2-х миллионов
трудового крестьянства пошли в странство, скрываясь по лесам
и подпольям. Но ... на этом согласие и застыло . . ., не нашлось
в нем -сильных личностей, которые бы развили эти зародыши
религиозно-общественной задачи, напомнили бы о ней массам.
И однако, по словам популярнейшего после Евфимия наста-
вника Никиты Семенова (Киселева), исповедуемая согласием
вера Христова «ничто же старое имать, но присно юнеет».
Искания в согласии не прекращаются, талантливые наставники
создают новые и новые толки. Пусть одни из толков еще ищут
«правильную» церковь, где и цари есть благочестивые, правиль-
ные, но где то сокрытую. Но вот толк «Безденежников», воз-
никший вскоре после смерти Евфимия и обосновавшийся в Яро-
славск. и Косгр, губ. Здесь уточнили положения Евфимия: денег
не берут—на них печать Антихриста, все имущество сносят
«к ногам наставников», в общину; как перво-христиане, личной
собственности не имеют, но живут вольно-коммунистической
федерацией. С другой стороны, вот крестьянин Прокофий Царев,
пойманный в 1841 г. в Н.-Новгороде и на допросе заявивший,
что государя императора, учрежденных им властей, законов ду-
ховных и гражданских, судебных мест и самых помещиков не
признает и не повинуется им, т. к. на небеси есть царь цар-
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 19
ствующих, а на земле он сам себе царь и иерей. Еще инте-
реснее воззрения известного Тимофея Бондарева, изложенные
им в сочинении: «Истинный и неложный путь...»
Развертывается тот самый процесс, который во всем «ра-
сколе» приводит к появлению т. наз. немоляцких толков. Авто-
ритет отцов церкви уничтожается сознавшим свою силу разу-
мом. «Чувственное» историческое воззрение преобразуется
в «духовное», систематическое.
В 1837 г., уже старый летами, предстает пред судом
за «странные толкования» житель Федосеевской станицы вой-
ска Донского—Гаврила Зимин, снимает с груди пожалованный
ему георгиевский крест и отдает его начальству—по принад-
лежности. Это—«немоляк». Для идущего по пути «Христова
совершенства», по завету «Будьте совершенны...», мир вступил
уже в «зимнее время века», в «Век Духа» для «совершенных».
Все видимое в мире, как подпавшее Антихристу, уже осуждено,
если не приобрело высший духовный смысл. Второе пришествие
уже было, и спасение возможно только «в духе» в жизни
духовной. Власть и церковь, как мирские учреждения, для иду-
щего по «пути совершенства» не имеют смысла, и требования
их, противные этому пути, не могут быть выполнены. И не ради
воздаяния идут по этому пути: за смертью уже нечего ждать,
там ничего нет. Духовное, иносказательное, применительно
к жизни человеческой, понимание писания, духовное исполнение
обрядов отметают в человеке последнее мирское, плотское.
Антихристово: букву и дьяволов быт. Непринятие, отвержение
мира, его учреждений, его быта и беспримесный идеалистиче-
ский анархизм достигают здесь крайнего, хотя и своеобразного
развития.
В 60—70 годах прошлого столетия эта форма сектант-
ства сразу обнаруживается чуть ли не по всему лицу России.
В эти годы широких крестьянских волнений, в связи
с реформами времени Александра II, вновь воскресает религи-
озно-общественная задача Евфимия о «брани» с Антихристом,
но обвеянная немоляцким духом времени.
Горнозаводским крестьянам мастеровым до реформы 19 фе-
враля для развития горного дела, были даны некоторые права
по сравнению с остальным крестьянством. Реформа эти права
уничтожила, давая право заводчику заключать с крестьянами
«уставную грамоту», низводящую их на общее положение. Кресть-
яне отказались подписать такой «договор». Тогда была образо-
вана партия штрейкбрехеров, «конторских» крестьян, а к осталь-
ным было применено «пристрастие». А тут еще земская реформа
наградила крестьян новыми налогами. И, как встарь, под лозун-
гом «постоять за прежнее справедливое горное положение» раз-
вертывается новый религиозно-общественный протест. Крестьяне
отказались платить налоги, повиноваться властям, итти в солдаты.
Их, этих крестьян—мастеровых, еще недавно бывших ревност-
2*
20
П. А.
ними православными, нажим власти и заводчиков убедил, что
«правда с земли ушла». Попробовали поискать ее в церкви, но там
приобрели только лишнего врага и доносчика. И решили они.
что «наступили последние времена, надобно избегать соблазна
и готовиться к смерти». А тут еще круговая порука озлобила
односельцев-штрейкбрехеров до того, что нашим «неплательщи-
кам» стало опасно показываться на улицах: их ловили, сдирали
с них всю одежду в уплату за недоимки. На сторону на зара-
ботки—не давали паспортов. Приходилось прятаться и тайком
ремесленничать. Обиженная мысль работала, ловила веющие
кругом толки, рылась в писании и—убедилась, что мир -цар-
ство Антихриста, что давать подати, рекрутов, слушать вла-
стей и попов, даже снимать перед ними шапку, ходить в цер-
ковь и кланяться иконам, значит—поддерживать Антихриста.
Развернулась неравная «брань»...
17 ноября 1874 года были приняты и зачислены на воен-
ную службу без жеребья 38 человек крестьян Красноуфимского
уезда. От присяги отказались, от работы отказались, от стро-
евых занятий отказались и т. д. Каждый из них говорил:
«Я человек истинного Бога... Града настоящего не имею, града
грядущего взыскую... От горного истинного штата не отступаю
и отступить не желаю... Новых правил и властей не признаю,
а за веру и Бога готов принять мученический венец... Я стран-
ник на аминевой земле...»
За все. это их били смертным боем, издевались, мучили.
Более активных ссылали.
В результате дум и мук «неплательщики» пришли к сгу-
щенно-коммунистическому образу мыслей, к полному обраще-
нию всего в общественное пользование, стремясь в то же время
стать «сынами человеческими», этими вершинами земли,
ни людей, ни животных не порабощающими, но животворящими
своей любовью.
Не развернулось шире и это движение. Неплатеж податей,
отказ от повинностей и от повиновения и т. д.. другими словами
отказ поддерживать неправое дело власти, характерно видоиз-
меняется в зависимости от местности, от своеобразия путей
мысли крестьян «немоляков», но общий тон один.
Однако сам характер образования немоляцкого движения
в высокой степени индивидуализирует массы, анархизирует их,
уничтожает в них исконную стадность, привычное—«как мир
скажет» и тем самым подготовляет еще более глубокие основы
для анархизма. Такие явления, как «сам по себе», «не наши»,
если в смысле общественных движений и малозначительны, тем
не менее глубоко симптоматичны. В самом деле, вот перед вами
«сам по себе» П. В. Таскин (сапожник):—«Я сам по себе... ни у кого
нет настоящей, полной правды. У всех есть немножко правды...
силой вы людей не к вере приведете, а только в тяжкий соблазн
введете..., к упорствующему человеку идите с любовью, с хри-
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ
21
стианским духом, а не с силою, с диавольским духом... только
христианский дух и победит... и будет едино стадо и един
пастырь, будет всяческая и о всех Господь». Вот «не наш»
ссыльно-каторжный (1869—1874) Егор Рожков, так дико истя-
зуемый за убеждения, что волосы встают дыбом, когда только
читаешь о них, говорит:—«Я сам по себе, ты сам по себе. т.-е.
я живу по-своему, как сам хочу, как думаю, так и живу,
а не как прикажет кто-либо другой, посторонний—не я... Сам
Бог повелел так жить людям издревле... не повелел он покло-
няться, подчиняться другому... Я вольный душою и телом...
ты вот наемник,—не делаешь «сам по себе», а что тебе при-
кажут... Доброты мало, надо делать так. как думаешь... Я не ваш.
а ты не наш... Я не обманываю, говорю, делаю, что думаю,—
вреда никому нет... Им надо подати, паспорты... им надо работу,—
работа не моя,—пусть они и работают... что им надо.—мне не
надо,—кому тут вред? Они заперли меня под замок, бьют, зако-
вали.—их сила. А все-таки они сами по себе, а я сам по себе...
Моего им не отдавал и не отдам...» Всегда прекрасные духом
в отношениях к другим, «не-наши» замкнуты, резки и «не сни-
мают шапок» перед властями, чиновниками и попами. Они
отвергли с презрением этот бесстыдный мир. который мстил
им за это истязаниями в «мире отверженных».
Развитие идеи идет дальше: от покинутого авторитета
через самостоятельность разума к мудрости единения в интуи-
ции, в откровении. На границе нашего века бывший «сатанист»,
студент А. М. Добролюбов вдруг порывает с прошлым и уходит
в народ, в Олонецкую губернию, к «странникам» или «скрыт-
никам», о которых мы уже говорили, и возвращается оттуда
в мир преображенный. Его—«чайки научили». Безмолвие, стран-
ничество, простота и любовь раскрываются в нем в новой кра-
соте. «Брат Александр —сказал один 80 летний крестьянин,—это
великий пример». Среди крестьянства, и рационалистического
в особенности, его слово и жизнь встречают глубокое внима-
ние и... последование. Об абсолютной анархичности этой формы
сектантских исканий говорить не приходится: она здесь лежит
в- основе самого существа исканий.
Скажу еще об одном закрытом для изучения явлении.
Безмолвие—граница, непроницаемая для него. Те же 60—70 годы
дали пример, как и этот путь отрешения от мира, путь очи-
щения и укрепления души, путь искания озарений оказывается
в дни движений формой протеста. В Саратовский окружный суд—
силой ввели, силой усадили подсудимых—мещан посада Дубов-
ки—А. Р. Богатенкова и супругов Киселевых. Молчание было
ответом на все потуги суда, красноречивое молчание. При Ека-
терине II таких же молчальников пытали. Генерал губернатор
Сибири Пестель велел капать горящий сургуч на их животы.
Но перед отухотворенной волей человека бессильны все пытки —
ни слова не узнали палачи о сущности их секты.
22
п. А.
3. Социальный миф.
Есть два типа понимания истории. В антиподах нравствен-
ного облика и революционного действия—в М. А. Бакунине и
К. Марксе история дает нам ярких представителей этих типов.
К. Маркс «упрощает» историю, сводя ее к ряду схематических
моделей, утопий, построенных на началах «прибавочной стои-
мости», «борьбы классов» и т. д. М. А. Бакунин берет исто-
рию во всей ее живой осязательности, и ключом к ее понима-
нию для него служат не понятия и схемы, но часто _ еще неяс-
ные, и тем не менее ярко-жизненные, томления,’ искания,
надежды и действия творящих свою историю и свободу порабо-
щенных трудовых масс. Его гениальные провидения—результат
такого «интуитивного» подхода к истории.
Массы, в своем развитии, в своих исканиях сами дают
ключи к пониманию своей жизни, прошлой, настоящей и буду-
щей, к пониманю своих устремлений. Это заметил еще Платон,
это знали еще до Платона, это в последнее время заметил
Сорель, этот странный «марксист». Вокруг обыденных бытовых
слов сгущается целая атмосфера ярких, трепещущих жизнью
образов, заставляющих откликаться на них самые усталые
сердца и впитывающих в себя всю суть устремлений этих масс.
Вот из этой атмосферы засверкала ясная неотразимая идея
этих устремлений, и массы, еще вчера не знавшие, что делать,
сегодня в непоколебимой уверенности идут на горе, на смерть,
осуществляя этот свой «социальный миф». «Социальный миф»—
ведь это то, что «видят» в себе, что хотят «видеть» в себе
делающие свою историю массы. Он, как магнитное поле, развер-
тывает силовые линии, по которым направляются и действуют
живые магниты—люди.
Рабочие Запада раскрыли себя в социальном мифе Всеоб-
щей Стачки; рабы, рабочие и бедняки Римской Империи—в соци-
альных мифах Апокалиптики христианского гнозиса—в чем
непреходящее общественное значение этих мифов, и т. д. Рус-
ское крестьянство ушедших столетий в своих религиозно-обще-
ственных движениях на фоне апокалиптических видений дает
свои своеобразные образцы социального мифа.
Эти образцы в равной мере отражены во всех сектах;
каждая из сект могла бы служить источником выявления этих
образцов. Но разумно наблюдать их там, где они наиболее
ярки, наиболее развиты.
Мы уже видели, как социальное положение русского
крестьянства разрешалось в непринятие мира, в религиозно-соци-
альный миф о пришествии Антихриста. Но крестьянство не
только отрицало, оно искало, оно создавало.
Любимыми строчками в стихах русского сектанства были
между прочим такие: — „Душа своей пищи дожидается, душе
надо жажду утолити,—потщися душу свою гладну не оставить'"...
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 23
Немил семейный уют, ни к чему нажитое добро, постыл белый
свет тому, кто почувствовал голод души, кто сознал свою ду-
ховную нищету,—горше ему, чем голодному телом, чем изму-
ченному сильными.
Забредшая в русские степи, рассыпавшаяся по раскольным
лесам десятками стихов об Иосафе-царевиче, история Будды,
покинувшего дом свой ради отыскания «скрытой тропы», как
нельзя более соответствовала такому состоянию выросших из
стен «своей» веры, «своей» церкви, обманутых ею в своей ре-
лигиозно-общественной правде, крестьян. Не зря пелось в бе-
гу неких стихах:
Скушпо жить в стране безбожной
без святого алтаря,
где кумир и бог подложный
и власть надменного царя...
На основе этого мотива выростает уверенность в суще-
ствовании источника утоления. Недаром западно-европейское
рыцарство дало выражение таких же настроений в известных
прекрасных религиозно-социальных мифах о Граале. Русский
«стих Иосафа-царевича», столь любимый «странниками», гово-
рит об этом же так: •
Из пустыни старец в царский дом приходит.
Он принес с собою
прекрасный камень драгий.
Иоасаф царевич просил Варлаама:
— Покажи сей камень,
я увижу и познаю цену его.
— Удобь ты можешь солнце взять рукою,
а сего не можешь
оценити во вся веки без конца.
Остался царевич после Варлаама.
завсегда стал плакать:
— Не хощу я пребывати без старца,
оставлю я царство и иду во пустыню,
взыщу Варлаама,
и я буду светозарен от него.
Пустыня любезная, доведи меня до старца.
Многие бросали свой дом и отправлялись искать этот
камень, эту жар-птицу русских сказок. Бродили от одной веры
к другой, смешиваясь на дорогах с беглыми, с бродягами,
с апостолами разных вер, с народными ходоками, с нищими,
с паломниками по мощам и угодникам, с трудниками (русские
йоги), непрестанно повторяющими Иисусову молитву (вм. индус-
ского «Ом») на ходу, со взявшими на себя обет странства,
с поднявшими «крест странства» и т. д. До того разнокали-
берна была эта перехожая Русь, что еще в былине об Илье-
Муромце к Илье, тридцать три года сиднем сидевшему, прихо-
24
П. А.
дят такие «калики-перехожие», что «тремя ковшами воды»
поднимают его на великую службу—на защиту страны, зака-
зывая в то же время «не обидеть в чистом поле христианина,
не помыслить злом на татарина». Секта Евфимия самым уди-
вительным образом сливает эти разнороднейшие мотивы
к странству в гениальный миф о «спасительном пути», о
«пустыне», а толк Никиты Семенова уже считает крест стран-
ства выше креста Христа. Наконец, немоляцкие веяния придают
и этому мифу значение «духовного странства»: «Я—странник
на аминевой земле».
Как для анархиста—революция, для синдикалиста—всеоб-
щая стачка, так и для странников странство—не только раз-
рушение силы Антея (простонародное название антихриста), но
и путь к иной желанной жизни. Высокие, доходящие до аске-
тических крайностей, нравственные требования всех сект,
имеющих в себе анархические зародыши, накладывают строгую-
печать на их подготовку к этой иной жизни, но тем напря-
женнее, сгущеннее у них ее ожидание.
В 7-й главе «Сутры чистого Лотоса» написано об одном из
Будд, как он вел людей в страну драгоценностей (Нирвану) и, t
заметив их усталость, создал «Град-Чудо»—марево. Люди на-
прягали все силы, стремясь в %тот город. Так Будда до-вел
всех до страны драгоценностей.
Буддийская легенда красивым мазком рисует здесь про-
цесс создания социального мифа. Творчество масс, руководясь
высочайшими побуждениями, часто смутно брезжущими в жизни
их незаметных гениев, идет к освобождению всех своих духов-
ных сил и возможностей, к освобождению их от пут этой ни-
щенской и рабской жизни. Чтоб яснее, чтоб ярче была направ-
ленность всех сил народа в сторону грядущей свободы, его
творчество развертывает пред собой прекрасный и сильный
образ грядущего, может быть только слабый намек на него, но—
в этот момент—будящий восторг и порыв. Русское сектантство
использовало, как миф, библейскую историю исхода из Египта и
странство Израиля в землю обетованную, в землю, текущую-
млеком и медом (целое движение назвало себя Израилем), а также
естественно восприняло апокалиптический миф о грядущем
граде—Новом Иерусалиме. На этой основе оно построило свои
картины. Религиозно-социальное строение жизни, отображенное
в ряде образов-мифов, становится ясным наглядно, без мудре-
ной теории.
Странство оказывается тогда не только исходом из рас-
путного и рабского Вавилона в грядущий град, не только лест-
ницей испытаний и совершенства, но и основой еще более
грандиозной картины, замыкающей весь ряд сектантских мифов
в одно удивительное целое, шагнувшее за пределы известных
мне социальных теорий. Если странство—лестница, одна из
ступенек которой «эта земля», а завершение—«земля» гряду-
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ
25
щая, совершенная, то вся жизнь—спор, диалог вокруг этой
лестницы, диалог различных противоположных сил, наполняю-
щих жизнь. Это не Гегелевская игрушка самбзарождающихся
антитезисов, но естественная диалектика истории. На одной
стороне слуги Вавилона, антихриста, чувственные беси-попы,
власти и развращенные ими отступники преграждают под'ем
людей к «будущей жизни» соблазнами, богатством, насилием,
гонениями. (Ср. «Государство и его роль в истории» П. А. Кро-
поткина и «Кесарь и Галилеянин» Г. Ибсена). С другой сто-
роны— «мал собор» верных, эти хранители драгоценного камня,
в долгом подвиге испытанные и очистившиеся, и теперь гото-
вые итти служить людям помощниками и проводниками в их
исканиях,, указать им найденный путь, это символическая гора—
Сион. Построение, как видите, тожественное с социальной ми-
фологией всего мира. Вспомним затерявшиеся два чистых ко-
лена Израиля, «потерянный рай», который искал Колумб,
«Гималайское братство» Теософского О-ва, прекрасные мифы
рыцарства о Граале и о горе Монсальват, легшие в основу му-
зыкальных драм Вагнера и Гетевского стихотворения «Тайны»,
вспомним также поиски «истинного масонства», так волновавшие
время Екатерины II, наконец, воскресшую теперь перед лицом
науки Атлантиду, из которой по В. Брюсову вышли учителя
учителей, и т. д. Таких примеров не исчерпать, так как творчество
народов—неиссякаемый их источник.
Между этими двумя мирами—меж Вавилоном и Сионом—
мятутся бедные слабые люди, не знающие или бессильные вы-
брать путь. Стихи страннические напоминают:
Бежи душа Вавилона,
постигай спешно Сиона,
тецы путем к горню граду.
И «оглашенные», еще не готовые «войти» на Сион, про-
ходят свой искус под руководством опытных наставников
прежде чем быть принятым и в ряды верных.
А по народу слухом гуляет надежда, что есть где-то
«чудо-град», где все правильно, где нет ничего от неправедного
Вавилона, куда не могут проникнуть никакие «беси» с данями
и муками. «Место называемое беловодье и озеро Лове, а на
нем 100 островов, а на них горы, а в горах живут о Христе
подражатели Христовой церкви... А там не может быть анти-
христ и не будет...». Ходит слух о скрытом в далекой Индии
царстве старца Иоанна. И, наконец, «чудо-град» оказывается
совсем, совсем близко: стоит он на озере Светлояре; под Ива-
нову ночь, когда и «папоротник зацветает», собираются к нему
взыскующие, но... зрим он только для удостоенных, слышим
только для праведных.., кто имеет очи видеть, да видит. Это—
невидимый град-Китеж.
26
П. А.
Здесь миф достигает наивысшей напряженности. В граде -
Китеже (или подобном ему) сгущается вся суть построения.
Здесь идеальное встает над существующим, образ грядущего
над настоящим,—и бьет и будит противоречием усталый в за-
ботах о налогах, в страхе перед солдатчиной народ, и нудит
его держаться на высоте нравственных требований, зовет его
к возможности увидеть, войти и жить среди праведных
в граде теперь' же.
Все это разрешается удивительным образом в мифе о
Духе, озаряющем людей.
В одной из своих статей, напечатанной в органе русск. рабоч.
кол. Канады и С.-А. С. Ш., я писал: «Наша задача—непрерыв-
ной инициативой сделать творчество масс непрерывно возра-
стающим творческим экстазом'истории. Это и будет—Анархия
в ее бесконечном смысле». Творческое озарение «Духом», как
мы уже видели в первой главе, перестраивает все строение оза-
ренных, вводит, как руководящее начало их жизни (всех реф-
лексов), то, чем они «озарены»; В религиозно-социальной
области это—напряженное стремление «увидеть» идеальный
град. Образы мифа, завладевшие с момента озарения созна-
нием, становятся планом, по которому начинает строиться
реальная жизнь. Навстречу грядущему идеальному граду на
земле вырастает новый град, стремящийся стать подобным ми-
фологическому образу, мареву—«чудо-граду», и через это
в конце-концов слиться с идеалом. В Апокалиптике, как
известно, миф завершается окончательной картиной «преобра-
жения мира»: «и увидел я новое небо и новую землю».
Социальный смысл этой мифологии ясен. Анархические
устремления обнаружатся в попытках воплощения мифа в дей-
ствительность, в характере построения земного града, расту-
щего «навстречу» грядущему идеалу, становящегося, так сказать,
его «воплощением».
4. Строители.
Заря XX века — годы общественного безвременья, годы,
когда под натиском государственного террора остатки русского
народнического движения перестраивались на лад политическо-
партийной борьбы. В эти годы будущая революция теряла те
общественные корни, которые пыталось развить в глубине 'на-
родных масс бакунистско-народническое ядро. Культурно-бун-
тарская работа в массах, создающая жажду свободной деятель-
ности, и потому—сознательную борьбу против всякого гнета,
сменялась политической борьбой во имя куцых программ и
жалких «идеалов». При этом в самой организационной работе
воспитание свободной психологии самодеятельности заменялось
своего рода централизованной солдатской дисциплиной, что едва
ли могло приготовить работников свободного общества.
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 27
В эти годы русский анархизм, увлеченный общим потоком,
ударился в другую крайность: в политически-террористическое
разрушение, раздробил свои силы и терял серьезное массовое
значение, терял, вместе с глубиной культурной укорененности
в массах, в их «нутре», и понимание своих строительных за-
дач, свой реализм, не оставил нам никаких традиций'. Мы —
анархисты, знаем эту, общую и партиям, ошибку, и не
повторим ее.
Задача общественного строительства — глубинная задача.
Люди — не глиняные кирпичи; составить проект и применить
силу — здесь значит только разрушить постройку и надолго
отбить охоту строить. Изучите внутренние организующие силы
масс, разбудите их для самостоятельной работы, разбудите
в них искания и строительные идеи, — и «кирпичи» сами, сво-
бодно, будут складываться в соответствующее им «здание».
3 февраля 1895 года, в одном из хуторов юго-востока
Европейской России, в присутствии 800 человек, состоялось
«содействие — оказательство народу построения града великого
Иерусалима, сошедшего на землю». Содействием руководил
крестьянин Б. С. Лубков, Христос ново-израильского течения
секты духовных христиан.
Идея строительства нового града на земле по идеальному
духовному, плану естественно выросла в самом насыщенном
религиозными и религиозно-общественными мифами движении
народа — в секте духовных христиан. Против течения государ-
ственной церкви вынесли они на своих «кораблях» общинах
эту удивительную идею Апокалиптики сквозь всю историю Рос-
сии, сквозь самые дикие гонения.
Болезненные увлечения «сдвиганием горы — плоти» посред-
ством беганий, верчений и прыганий, физическим оскоплением,
«говорением на разных языках» и т. п., время от времени на-
ходившие место в истории секты, особенно, как выражаются
многие из самих «духовных», в детские времена секты, — все
это затемняло сущность и задачи этого движения. История всех
религий также знает, как для поддержания экстатических со-
стояний употреблялось: где — вино, где — танцы и пляски,
где—публичные самоистязания, где — даже половые раздраже-
ния, где — даже публичные казни, и т. д. Общественные и по-
литические движения знают аналогичные способы поддержания
своих экстатических состояний.
Но, несмотря на эти увлечения, время от времени среди
«духовных христиан» загорался настоящий творческий экстаз,
и, вместе с другими, оживала ярче, становилась богаче -и идея
строительства. Недаром они считают — называют себя «купцами
русскими», скупившими — скопившими «всех земель товары»
(духовные, конечно) и плотничками:
Сидят плотнички московские,
московские, петербургские.
28
П. А.
Они думу думают за едино:
уж как нам быть,
по синю морю плыть
супротив волны...,—
поют они про себя на своих кругах — соборах.
Сопоставьте с этой песней вот это понимание стиха а
Плакун-траве из знаменитой Глубинной или Голубиной (го-
лубь— символ духа) книги, понимание, данное духоборческим
течением духовных христиан:
„Плакун-трава, это те народы, когда Господь
сеял семена и упали на удобную землю и вы-
росла трава и та трава могла плыть напротив
воды. Эта вода — учреждения человеческие,
которые протекают к .затмению народа; а чады,
которые нарождены от Господа, плачут об веч-
ной жизни и идут напротив власти11.
Присоедините к этому понимание тем же течением другого
стиха той же Голубиной книги, стиха об Естрафил птице,
бросающего свет на обще-гностическое значение кельтских и
мексиканских мифов об Атлантах, выходящих из моря и осно-
вывающих культуры:
„Страфиль-птица, которая сидит на море, на
камне яйца несет, из моря детей ведет. — это
пришедший сын человеческий для возобновле-
ния пророчества и для утверждения закона. Он
утвердил в народе закон; и как камень в море
не может размыться или соржаветь, так и закон,
утвержденный Христом в людях, не может ис-
чезнуть. А яйца несет на камне, — это Христос
принес дела и собрал апостолов и утвердил их
на законе и послал в мир проповедывать, чтобы
нарождались чады Божьи11.,
Перед нами, в этих немногих строчках, развернуты основы
религиозно-общественного мировоззрения духовных христиан,,
странный миф о Голубиной книге становится живым и глубоко
осмысленным. В песне перед нами плотнички строители думу —
думают, как им строить новую жизнь «супротив волны». Стих
о Плакун-траве раз-ясняет: вопреки течению мира и его учре-
ждений, против власти. И стих об Естрафил - птице говорит:
по внутреннему свободному закону, который пробуждается
в людях влиянием одухотворенных личностей, «Христов», «про-
роков» и «апостолов», при чем сами люди духовно переро-
ждаются. Не о том же ли, только на другом, на обычном, не-
религиозном, языке говорит и анархизм.
История знает два основных типа исканий. Ф. М. Достоев-
ский в гениальной легенде о «Великом Инквизиторе» и Г. Иб-
сен в мировой исторической драме «Кесарь и Галилеянин» удиви-
тельно художественно рисуют их столкновение. Один тип—авто-
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ
29
ритарный — выдает своих главарей за преимущественно-обладаю-
щих тайной «божественного»—Бога, народа, класса и т.д.—и по-
тому исключительным правом диктовать остальным пути их
жизни. Другой—анархический — считает, что нет никаких
«тайн», что каждому открыты пути «божественного», т.-е.
истины, братства, свободы и т. д,. — пути совершенства, если
он действительно захочет испытать их,—и потому авторитет
может бытьпризнан самим искателем лишь как временная помощь,
руководство, пока не окрепли свои силы, но ником образом не
как впасть. «Первый да будет всегда слугой».
Авторитарный тип силен, гипнотизируя всевозможными
способами чувства и инстинкты еще не развитых, еще не
анархизированных масс. Анархический тип приобретает силу,
лишь будя сознание самостоятельности разума и, еще больше,
сознание свободы творческой интуиции людей.
К какому типу развертывается устремление духовных
христиан, из предыдущего ясно. А мистицизм (мистика, мистиче-
ский экстаз — это интуиция в области религиозных представлений;
ее обычно смешивают с мистификацией, основанной на иллю-
зиях чувств и мысли) и рационализм, исторически переплетаю-
щийся в этом движении, говорят за большую самостоятельную
духовную работу в нем, работу, несомненно подготовляющую
почву для анархизирования масс. Аналогичную роль в самом
сердце господствовавшей церкви выполняли последователи Нила
Сорского, левые ветви славянофильства и некоторые другие.
Характерна реалистичность даже самых аскетических,
самых, казалось бы, отдаленных от житейского мира, самых
«мистичных» групп духовного христианства. Так «скопцы
Царства Божия, белые голуби», — эти девственники силой воли
и 30 и 40-дневные постники при полном отказе от пищи,—
оказывались прекрасными работниками и культурными хозяевами
в своих пасеках, усадьбах, ремеслах и промыслах. Плыли они
в своих «ковчегах спасения»-общинах по «скрытой тропе,
спасения», оставляя сзади начало зла и направляясь к другому
основному началу мира—добру. В борьбе этих двух начал они,
подобно . иоаннито-сабеям средневековья и древности, видели
весь смысл мира. Государство, церковь, все религии, наконец,
даже плоть вообще,—все это—зло, торжество зла. Не терпеть
зло нужно, но напряженно бороться с ним. Аскетизм в отно-
шении всего «злого», всеобщее братство, подобное перво-хри-
стианским вечерям любви, и общение с Духом, дающее им
«книгу—Родослов», которую держит райская Стратим - птица,
т.-е. написанную в сердцах «животную книгу»,—эти элементы,
общие всему духовному христианству, доведены в скопчестве
до возможно крайней степени развития. Характерна их терпи-
мость, в силу которой они каждого, идущего духовным путем,
считают скопцом, как и они. Но они ограничили себя задачей
«Иоаннова крещения», понимаемого, как указание на руковод-
30
П. А.
ство по «скрытой тропе спасения», и потому отрешились от
забот непосредственного строительства новой жизни в народ-
ных массах.
Любопытно, однако, что известному фанатику физического
оскопления, Кондратию Селиванову, увлеченные им «пророки»
говорили: «и дастся тебе образ спасительный: вилы, цеп и пила»..
Это говорит за то, что и там, где аскетизм доводился до фи-
зической крайности, не терялась идея духовного домострои-
тельства.
У «Серых голубей», «Ищущего Израиля» эта идея, как
более близкая народным массам, чем личное спасение, расцве-
тает с большой силой. Остановимся на тех ветвях духовного
христианства, которые наиболее характерно выявили эту идею
в смысле нашей статьи.
Донос Екатеринославского губернатора от 1792 года,
открывший эру гонений на духоборческую ветвь, между прочим
говорит что «ересь их особенно опасна и соблазнительна для
последователей тем, что образ жизни духоборцев основан на
честнейших правилах и важнейшее их попечение относится ко
всеобщему благу; и спасение они чают от благих дел».
Записка 1805 года, кроме прочих духоборческих добро-
детелей обнаруживает, что
„У них нет меж собой собственности; но каждый
имение свое почитает общим. По переселении
их на Молочные воды они доказали сие на самом
деле, ибо они сложили там все свои пожитки
в одно место, так- что теперь у них общая де-
нежная касса, одно общее стадо и в двух се-
лениях два общих хлебных магазина. Каждый
брат берет из общего имения все, что ему ни
понадобится".
В 1886 году, в связи со спорами об общественном
имуществе, выдвигается среди духоборцев 22-летний П. В. Ве-
ригин, вскоре общепризнанный «Христос» главной части духо-
борчества. 15-летн. ссылка (с 1887 г.) в Архангельск, а
потом в Сибирь только укрепила его влияние. Началось «бро-
жение умов». Часть (большая), об‘единившаяся вокруг Веригина,
решает: уничтожить совершенно частную собственность, сжечь
оружие и отказаться от военной службы, не творить никому
зла и насилия, а тем более никого не убивать, и не только
человека, но и других тварей, даже до самой малой птицы, и
принимает характерное наименование: «Христианская община
всемирного братства».
Преследования усилились до такой степени, что смерть
стала казаться избавлением. Но в это время, с помощью «ше-
керов» (секта, близкая к духоборцам по сути, но возникшая
на Западе), спасшихся в свое время в Америку из Англии,
а также Л. Н. Толстого, П. А. Кропоткина и др., удалось
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ
31
устроить на заре этого века их переселение в Канаду. Здесь
они создали образцовую коммуну, несмотря на естественные
трения с Канадским правительством.
Мы не будем описывать известные из других исследований
историю и быт этой коммуны, т. к. это относится уже
к ХХ-му веку.
Отметим лишь начала, положенные в основу жизни «Хри-
стианской общины всемирного братства», написанные П. В. Ве-
ригиным:
1. Члены общины уважают и любят Бога, как начало всему
существующему.
2. Уважают достоинство и честь человека, как в самом
себе, так равно и в себе подобных.
3. Члены общины смотрят на все существующее любовно
и с восхищением. В этом направлении стараются воспитывать
детей.
4. Под словом Бог члены общины разумеют силу любви,
силу жизни, которая дала начало Bcejwy существующему.
5, Мир состоит из движения; все стремится к совершенству
и через этот процесс старается соединиться со своим началом,
как бы возвратить созревший плод семени.
6. Во всем существующем нашего мира мы видим переход-
ные ступени к совершенству, как, .например, начинается с камня,
переходит к растениям, потом животным, из которых самым
крайним можно считать человека в смысле жизни, в смысле
мыслящего создания.
7. Уничтожать, разрушать что бы то ни было члены об-
щины считают предосудительным. В каждом отдельном пред-
мете есть жизнь, а следовательно и Бог, в особенности же
в человеке. Лишить жизни человека ни в каком случае непо-
зволительно.
8. Члены общины в своем убеждении допускают полнейшую
свободу всему существующему, в том числе и существованию
человека. Всякая организация, установленная насилием, счи-
тается незаконной.
9. Главной основой существования человека служит энергия
мысли, разум. Пищей вещественной служат: воздух, вода, фрукты
и овощи.
10. Допускается общинная жизнь в человеках, держащаяся
на законе нравственной силы, правилом которого служит: чего
себе не хочу, того не должен желать другому.
В 60-х годах прошлого столетия, отчасти под влиянием
брожений в евангелических течениях немецких колоний, а главным
образом в силу общего оживления в Духовном христианстве,
на юге России обнаруживается широкое духовно-христианское
движение, окрещенное миссионерами «штундизмом».
В 90-х годах, под влиянием неграмотного колесника го-
рода Таращи Киевской губернии, перекрещенного из православия
32
П. А.
в баптизм, Кондратия Малеванного, возникает удивительное по
одухотворенной жизнерадостности новое течение духовного
христианства — «малеванщина». После случайной встречи со
«штундистами», Концратий принялся с четырьмя друзьями уси-
ленно читать библию, пришел в экстаз и об‘явил себя Пер-
венцем-Спасителем, бичуя общественное зло и призывая всех
возродиться к новой жизни. Последовавшие гонения, избиения
и издевательства только укрепили движение. Правительственные
психиатры, Сикорский и Бехтерев, не постыдились определить
его сумасшедшим, а правительство позаботилось его упрятать.
«Человек, говорят малеванцы, должен найти в само.м себе
обетованную землю, сам должен отыскать, и когда он познает
обетованную землю, он все будет знать, он будет управлять
своей плотью; это и есть его удел, участок обетованной земли,
где он может устраивать благоустройство, и тогда в собрании
он делится с братьями словом, чтобы братья питались к новой
жизни».
Здесь строительство, имеет своеобразный- смысл. В Апо-
калипсисе говорится о грядущем граде: «Храма же я не видел
в нем; ибо Господь Бог Вседержитель-храм его и Агнец».
Строительство малеванцев целиком сосредоточено на создании
каждым из себя здания грядущего града, достойного быть но-
сителем «божественного», и, таким образом, на стремлении к
слиянию всех в единстве совершенства: «будет одна любовь, все
иное будет, у всех будет одна душа, для всех будет светить
одна истина и правда».
Попытались и они жить анархической коммуной, но, сознав
по опыту, что еще не готовы к такой жизни и послушавшись
разумного совета самого Малеванного, возвратились к обычной
форме жизни, удвоив готовность притти на помощь, усилив
дружеские любовные отношения.
В 1886-м году в ветви духовного христианства, называемой
«Новый Израиль», дается толчок к еще новой форме строительства.
На торжище гор. Боброва Воронежской губ. выходит семнадцати-
летний крестьянский мальчик, пришедший в экстаз, но непонятый
и выгнанный отцом, и «говорит слово» народу. Испытавший
затем тюрьму и оковы, сосланный в Закавказье, он скрывается ,
оттуда ввиду новых преследований. В 1894 году (год смерти
Христа «Нового Израиля» В. Ф. Мокшина) в г. Воронеже, ' на
тайном с‘езде «представителей» «Нового Израиля» В. С. Лубков
(так звали нашего мальчика) об'являет, как новый Христос,
«новое домостроительство по новому плану»:
«По вступлению моему в страну чудес и в небесный Ха-
наан было мне откровение от Бога, Духа пресвятого, новый
план небесного града Иерусалима, сходящего с неба от Бога
на 21 век ...» пишет он в своем послании (век считается по
смене вождей с начала эры, знаменательного по особому со-
бытию).
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ
33
Мы не даем, за малостью места, картин и раз'яснений
мифологии плана, а также «картин» и «содействий», в которые
воплотил свои идеи этот религиозно-социальный художник. Особо
интересны: «Горняя проповедь», «Преображение», «Тайная ве-
черя» и т. д.
В предисловии к резолюции С'езда представителей в 1906 г.
в г. Таганроге в составе 450 чел. так говорится о характере
строительства движения:.. «новоизраильская община в духов-
ном смысле будет именоваться «Новый христианский союз» на
началах христиан первых дней, первоначальной христианской
истины, правды Божией и любви».
Заключительные замечания.
Мы видим, т. о., что все элементы массового анархизма,
вплоть до строительства, но исключая методы революционного
наступления, в русском сектантстве налицо, правда в весьма
своеобразных формах.
Для меня, однако, более, чем для кого бы то ни было,
ясно, что это маленькое исследование является только первым
приближением к пониманию предмета исследования. С точки
зрения моего понимания истории и ее метода следовало бы
вскрыть все вышеизложенное в самом быте сектантства, в ме-
лочах бытового обихода и взаимного поведения, в статистике
быта и в том их влиянии, которое несомненно сказалось и в
общественных движениях и в своеобразии развития других форм
общественности России. Но такая глубокая и серьезная работа,
к тому же нуждающаяся в более тонком анализе самих форм
анархических устремлений, потребует годы изысканий и систе-
матизации, тем более, что материалы истории России в этом
смысле историками почти не разрабатывались, истории России
в этом смысле мы еще не знаем. А литература о русском
сектантстве, за немногими счастливыми исключениями, в этом
смысле исторически весьма малоценна 13).
Русское сектантство, в силу гонений и натравливания тем-
ных масс, а отчасти и потому, что некоторые его формы могли .
быть восприняты лишь прошедшими некоторый искус, некото-
рое воспитание (по поговорке: не мечите жемчуга .. .), создавало
часто весьма тонко законспирированные организационные формы.
Один тот факт, что часто видные деятели сект до конца жизни
вели работу под носом усердно разыскивавших их полиции
и священнослужителей, что создавались новые крупные орга-
низации, происходили с'езды по нескольку сот человек, и по-
лиция об этом не знала,—говорит за довольно высокий уровень
конспиративных навыков сектантства. А «общество» и истори-
ческая наука к тому же мало интересовались жизнью «серого»
народа.
Очерки.
34
П. А.
Высота нравственных требований и молчание — эти сред-
ства сектантского совершенства — хотя и часто нарушались
слабыми людьми, но, тем не менее, имели несомненно колос-
сальное воспитательное значение, и, тем самым, облегчали кон-
спирацию и взаимную поддержку.
Для нас имеет большое значение то обстоятельство, что
анархические устремления характерно совпадают с наиболее
оживленными, с наиболее культурно-прогрессивными течениями
сектантства. Встает, однако, вопрос: какую историческую цен-
ность имеет строительство сектантского анархизма. Будет ли
это строительство действительным решением «проклятого» со-
циального вопроса. Прав ли был М. А. Бакунин, утверждая, что
дело анархиста — разрушение, т.-к. народ для строительства
найдет в себе все, что нужно.
Вместо ответа на этот вопрос укажем лишь, что мы в своих
изысканиях не нашли ни в учении, ни в мифах сектантства
ясного понимания динамики и эволюции общественных стихий,
выростающих внутри общества из разнородности человеческих
сил, стремлений и возможностей. Эта разнородность создает
статистические закономерности и силы, умелое использование
которых для своих целей составляло всегда привилегию власти.
Уменье так внести в жизнь масс свою инициативу, чтобы сти-
хии гармонизовались не только без нарушения свободы масс,
но именно в процессе культивирования этой свободы, — вот чего
требует от своих инициаторов анархизм. Но раз так. анархисты
должны глубоко понимать ход образования и развития обще-
ственных стихий, а не быть подобными фетишистам, обрушиваясь
на мертвые вещи, вроде денег и бумаг.
Здесь перед анархизмом стоят серьезнейшие строительные
задачи, о которых народ, даже сектантство, еще и не загадывали.
Но и в том, что сектантством уже испытано, — опыт сек-
тантства шел и идет в большой степени так сказать на глаз—
опыт этот неизмеримо ценен. Он давно уже приступил к непо-
средственному осуществлению анархизма. Но с нашей точки
зрения он недостаточен.
Задача анархизма — учесть и понять этот опыт народа во
всей его глубине и развернуть свои внутренние богатства так,
чтобы народ увидел впереди своих исканий дальнейшие глубины
анархизма, и слил с ним, в конечном счете, свои пути.
Примечания.
1) Здесь, как и дальше, под словом церковь, если нет ого-
ворки, я разумею историческое учреждение, а не духовный
союз. Лежачих, говорят, не бьют. Но я все же считаю своим
долгом еще раз напомнить о гнусностях, творившихся господ-
ствовавшей церковью. Помнит ли она это перед народом или
же готовит новые Голгофы?
АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 35'
2) Я здесь не говорю о неинтересном для нас, оставшемся
от религии стихийных сил природы, магическом значении буквы
и обряда, как заклинаний, в которых ни черты де нельзя из-
менить, не разрушая их силы. Я не говорю здесь также и о-
неинтересном для нас консервативном крыле раскола.
3) Матф. 16, 15 — 16.
4) Любопытно, что, если перевести это и дальнейшее на
язык общественных наук, то окажется удивительное совпадение
с некоторыми теориями анархизма и марксизма.
5) Творение инока Саввы Сенного острова — на жидов
и на еретики послание. Лета 6996.: «Дети. Последняя година
есть: якоже слышасте, антихрист грядет, и ныне антихристи.
мнози бышя...»
б) Челобитная об антихристе, еже есть Петр 1-ый.: «. . .
егда исполнися число зверя 1666 лет, в то лето царь Алексей
Михайлович с Никоном отступи от святой православной веры ...»
7) В раскольнической литературе, по мере приближения
к немоляцким толкам, эти мотивы также становятся преобла-
дающими, а у этих последних — вытесняют все другое.
8) Нечто сходное дают и безрелигиозные общественные
движения.
9) Франциск из Ассиз, основатель католического ордена
францисканцев, искал «путь спасительный» в «обручении с Ни-
щетой».
10) Евфимиево учение о чувственном Антихристе было'
создано до него, а также и его любопытная философия истории,
как последовательного, после Р. X., осуществления Апокалипти-
ческих образов. Интересно, что 1-е воплощение Антихриста он
видит з Римской власти, 2-е—в Никоне и 3-е в Петре 1-м и его
наследниках. Сравните известную формулу старца Филофея: «Два
Рима падоша, третий (Москва) стоит, а четвертому не быть».
11) Фабрично-заводского пролетариата, в котором после
анархисты и марксисты нашли уже осуществленным этот «путь
спасительный», — тогда еще почти не было. А беглая голытьба —
эта зачинщица и ядро всех прежних бунтов — все таки в массе
своей содержала не мало анти-общественных элементов.
12) Любопытно поведение Тверских (Калязинского уезда)
«немоляков» — «христовых учеников веры Христовой кафоли-
ческой». На увещания начальства и духовенства они отвечали:
«мы никого не признаем, кроме Отца небесного; .. . только Он
за нас заступится»... «Когда же посадили» вожаков «в острог,
все остальные толпами пришли и потребовали посадить и их
вместе, так что «места для всех нехватило».
13) Даю перечень литературы, из которой взяты мною все
цитаты текста:
1. Материалы к истории и изучению русского сек-
тантства и старообрядчества. Под ред. В. Бонч-Бруевича.
Вып. 1 — IV.
з*
36
П. А.
2. Кельсиев. Сборник правительственных сведений.
3. Щапов. Земство и раскол. Бегуны.
4. Щапов. Умственные направления русского раскола.
5. И. К. Пятницкий. Секта странников и ее значение
в расколе.
6. Пругавин. Религиозные отщепенцы.
7. Пругавин. Неприемлющие мира.
8. П. Бирюков. Духоборцы.
9. «Что такое «сектанты» и чего они хотят». Вып. 1.
10. Ясевич—Бородаевская. Сектантство в Киевской г.
Брошюра К. Н. Медынцева: «Неплательщики» «Духоборы»
(Материалы по истории анархизма в России) может, пока,
служить некоторым пополнением и «коррективом» к моей
статье.
П. А.
Анархические элементы в Славянофильстве.
(Историческая справка).
Откуда начинать историю анархических идей в России.
Некоторые считают первым русским анархистом чуть ли не
Феодосия Косого. Несомненно, что в низовых религиозных тече-
ниях русского народа, среди различных сектантов, давным-давно
возникли мысли, которые можно назвать анархическими. Но все
это были плохо осознанные представления, не связанные друс
с другом в одно целое, скорее анархические настроения, нежели
анархические идеи. Впервые точное и глубоко продуманное
отношение к государству в анархическом духе мы находим
у наших ранних славянофилов, в лице их „передового бойца“
Константина Аксакова...
После его смерти в черновых бумагах нашлись короткие
заметки на двух листах, написанные невидимому, в конце пяти-
десятых годов. В печатном издании они занимают одну страничку.
Однако эта страничка представляет собою вполне законченное
и определенное выражение анархических идей, уже давно проду-
манных до логического конца их автором. Познакомившись
с сочинениями Прудона, или с книгой Макса Штирнера, К. С. Акса-
ков встретил в них только подтверждение своим собственным
мыслям.
Эти замечательные заметки К. С. Аксакова есть первый
литературный документ русского анархизма. Уже в достаточной
мере зараженный этими аксаковскими идеями, уехал Бакунин
за границу. В одном из своих поздних писем он сам вспоминал,
что К. С. Аксаков, глава славянофильской школы, еще в 30-е
годы, вместе со своими друзьями, уже был „врагом петер-
бургского государства, и вообще государственности, и в этом
отношении он даже опередил меня"....
Вот эти заметки К. С. Аксакова полностью:
„Человеку, как общественному лицу и как народу, пред-
стоит-путь внутренней правды, совести, свободы, или путь правды
внешней, закона, неволи. Первый путь есть путь общественный,
или лучше, земский; второй путь есть путь государственный.
Первый путь есть путь истины, путь вполне достойный человека.
— Все имеет только цену, во сколько, что делается искренно
и свободно. Благо народу, который хранит веру в такой путь.
Здесь же возникает община. Но удержаться на этом пути
38
Н. РУСОВ
человеку трудно. Не всех может остановить одна совесть, и люди
бессовестные вносят тревогу и смущение в общество человече-
ское; оно видит, что для тех, которым совести мало, мало суда
внутреннего, нужен суд и наказание внешнее. Человек прибе-
гает к другому пути.
Заманчив путь этот, гораздо, повидимому, более удобный
и простой; внутренний строй переносится во-вне; свобода, источ-
ник которой внутри человека,, понимается только, как порядок,
наряд, как устройство, институт; основные начала жизни пони-
маются как правила, совесть понимается, как закон. Этот путь
не внутренней, а внешней правды, не совести, а закона. Начало,
лежащее в основе такого пути, е'сть начало неволи, начало,
убивающее жизнь и свободу. Прежде всего формула, какая бы
то ни была, не может обнять жизни; потом, как бы ни была
она истинна, налагаясь извне> уничтожает самую главную
силу, силу внутреннего убеждения, свободного ее признания.
Далее, давая таким образом человеку возможность опираться
на закон, она усыпляет склонный к нравственной лени дух
человеческий, легко и без труда успокаивая его исполнением
готовых определенных требований и избавляя от необходимости
внутренней нравственной деятельности, нравственного бодрство-
вания. Таков путь Государства; Как бы широко и, повидимому
либерально ни развивалось Государство, хотя бы достигло самых
крайних демократических форм, все-таки оно, Государство есть
начало неволи, внешнего принуждения; оно есть данная форма,
оно есть учреждение. Чем более развито Государство, тем сильнее
заменяет учреждение внутренний мир человека', тем глубже
и теснее обхватывает оно общество, хотя бы повидимому соот-
ветствовало всем его требованиям.
Путем Государства пошла Западная Европа и разработала
великолепно государственное устройство, с чрезвачайными оттен-
ками, доведши его в Америке до высокой степени либерализма.
Но этот либерализм Государства есть все-таки неволя, и чем
шире ложится оно на народе, тем более захватывает оно народ
в себя и каменит его духом закона, учреждения, внешнего
порядка. Если либерализм государственный дойдет до крайних
пределов, до того, что каждый человек будет чиновником, квар-
тальным самого себя (здесь К. Аксаков как бы повторяет выра-
жение М. Штирнера: каждый пруссак носит в груди своего
жандарма. Н. Р.), тогда окончательно убьет государство живое
начало в человеке. Передовые умы Запада начинают сознавать,
что ложь лежит не в той и не в. другой форме Государства,
а в самом Государстве, как идее, как принципе; что надобно
говорить не о том, какая форма хуже и какая лучше, какая
форма истинна, какая ложна, а о том что Государство, как
Государство, есть ложь“.
К. С. Аксаков, в своих заметках, ссылается на передовые
умы Запада. Но, собственно говоря, вышеприведенные взгляды
АНАРХИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ
39
'К. Аксакова органически вытекают из славянофильского учения
и были высказаны им уже в 30-е годы прошлого века, когда
не появлялись еще ни памфлеты Прудона, ни книга Штирнера.
Славянофильство, как миросозерцание, своеобразно заклю-
чает в себе и патриархальные и революционные элементы.
Идея живого общественного организма, а не мертвого госу-
дарственного механизма лежит в самой основе собственной
социальной философии славянофилов. Герой славянофильской
общественности — народ, а не государство; самая идея самодер-
жавного царя у славянофилов антигосударственная; славянофилы
не только не поклонялись идолу государственной власт^, но всем
сердцем отвергали его и противились ему; сами славянофилы
были своеобразными анархистами и в этом отношении считали
себя выразителями русского „духа", не государственного, не
формалистического, мало склонного к государственному строи-
тельству.' Высшее религиозное призвание русского народа, его
духовное делание требует освобождения от бремени государ-
ствования; по ’ учению славянофилов, русский народ отрицает
юридические гарантии, не нуждается в них, отвергает всякий
формализм, которые нужны лишь в отношениях завоевателей
и завоеванных, но не нужны там, где власть государственная
органическая, народная по своему происхождению; отсюда отри-
цание механики количеств, принципа большинства голосов, отри-
цание того, что общественная правда может рождаться из ариф-
метического подсчета голосов, т.-е. механически. Народ понимает
власть не как право, а как обязанность. У славянофилов было
безмерное отвращение к бюрократии; бюрократия не органична,
она чужда русскому духу, заимствована (при Петре 1) с Запада,
бюрократия—болезнь русской жизни. Славянофилы были против-
никами бюрократического монархизма, империализма.
По утопическому и чисто теоретическому определению
славянофилов, самобытно-русское самодержавие, в своей идее,
по своему идеальному назначению, не имеет ничего общего
с государственным абсолютизмом. В представлениях славяно-
филов, решения самодержавно царской власти должны быть
связаны пределами народного понимания и мировоззрения, только
внутри которых власть чувствует себя свободной. По определению
одного из славянофильских писателей: „Самодержавие государя
не только может и должно уживаться с церковною и гражданскою
свободой народа и с самым широким и полным его самоупра-
влением; но без такой свободы и самоуправления истинное само-
державие и невозможно11. (Аф. Васильев).
Славянофилы понимали политическую власть, как обязан-
ность, как бремя, и когда власть начинает самоутверждаться
и сознавать себя, как право и привилегию, тогда власть разла-
гается; народный уклон к абсолютизму, к империализму запад-
ного образца начался у- нас, как доказывали славянофилы, со
времени Петра 1 и восторжествовал в петербургско-бюрократи-
40
Н. РУСОВ
ческий период. Политическая точка зрения Хомякова и прочих
классических славянофилов была внутренне-революционна по
отношению к тогдашней исторической действительности, к факти-
ческим формам и содержанию русской монархической государ-
ственности; славянофильское самодержавие было идеалом, никогда
еще в жизни не осуществлявшимся; эта идейная революционность
не могла быть достаточно выражена славянофилами прямо и
открыто, по чисто внешним цензурным причинам, но никогда
славянофилы не были идейными сторонниками исторического
русского абсолютизма и еще менее его практическими приспеш-
никами. Как известно, царское правительство вплоть до 1905 года
систематически преследовало и закрывало славянофильские
журналы и газеты.
Первый Рим и второй Рим соблазнились властью государ-
ственной и потому пали; третий Рим—Россия—не государственный,
юна не тянется к политической власти над народами,'к империа-
лизму, она смиренна и потому избрана Богом, но подобная
концепция слишком красноречиво противоречит нашей истории.
Русская императорская власть двигалась именно духом завоева-
ний, полная гордости и самоутверждения. Славянофилы сами
на себе испытали, как мало общего имела власть историческая
с их идеологией.
Ошибкой славянофилов было то, что они вопрос о назначении
и судьбах России связывали с определенными (но существовав-
шими лишь в идее) формами государственной жизни, точно
также, как они связывали ее с сельской общиной.
Новейший исследователь политической доктрины славяно-
фильства совершенно верно утверждает, что не стоит даже труда
опровергать учение славянофилов, даже критиковать эту кон-
цепцию. Все же цитатами из Ключевского и Соловьева он
вскрывает фальшь их исторических ссылок: выявляет всю наив-
ность идеализации Московской Руси, этой прямой наследницы
татарщины; твердо устанавливает „фантастичность этой пара-
доксальной теории анархического самодержавия...."
Однако значение первых славянофилов в истории русского
анархизма опирается не на эту теорию „анархического самодер-
жавия", а на их основные и общие взгляды на значение госу-
дарства в жизни народов, воспринятые молодым Бакуниным.
Иным было отношение первых славянофилов к анархиче-
скому индивидуализму. Они отвергали его основания и его выводы
из религиозно-этических побуждений. Мы имеем отзыв А. С. Хо-
мякова о книге М. Штирнера, которую он прочитал один из
первых. Он писал о ней еще в 1849 году следующее:
„Приговор (над Западно-европейской цивилизацией. Н. Р.)
произнесен несколько лет назад, в книге нелепой по своей форме,
отвратительной пл своему нравственному характеру, но неумоли-
мо-логической, в книге Макса Штирнера. (Der Einzelne und sein
Eigenthum). Эта книга, от которой с ужасом отступилась школа,
АНАРХИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ
41
породившая ее, о которой без глубокого негодования не может
говорить ни один нравственный (sittlicher) немец, имеет значение
историческое, незамеченное критикою и, разумеется, еще менее
известное самому автору, значение полнейшего и окончательного
протеста духовной свободы против всяких уз произвольных и
налагаемых на нее извне. Этот голос души, правда, безнрав-
ственной, но безнравственной потому, что ее лишили всякой
нравственной основы, души, беспрестанно высказывающей, хотя
бессознательно, и возможность, и разумность покорности началу,
которое бы было ею сознано и которому бы она поверила, и
восстающей с негодованием и злобой на ежедневную проделку
западных систематиков, не верящих и требующих веры, произ-
вольно создающих узы и ожидающих, что другие примут их на
себя с покорностью. Современная история есть живой коммента-
рий на- Макса Штирнера....“
Однако, и А. С. Хомяков, наравне с автором „Der Einzige"
отвергает „призраки самодельных духовных начал"....
Проблема личности и общества в учении первых славяно-
филов, разрешается скорее в духе анархизма — коммунизма.
У К. С. Аксакова говорится: „Личность в Русской общине
не подавлена; она только лишена своего буйства, эгоизма, исклю-
чительности.... Личность поглощена в общине только эгоисти-
ческою стороною, но свободна в ней, как в хоре.... Замечательно
очень, что крестьянин, не имея собственности, часто продает
свой участок. Он говорит: земля моего владения. Здесь
продает он не собственность, а только право своего владения,
свое место, свое положение в общине, и отношение к земле,
он передает за деньги свое право, как можно передать подряд
и проч. Частной собственности нет...............“
Социальные воззрения славянофилов носили те же патриар-
хально-революционные черты, которые роднят их с анархистами.
Для их характеристики достаточно привести яркую цитату из
статьи одного из правоверных учеников Ивана Аксакова, напи-
санной на рубеже XX века, в 1900 году:
„Великие идеи, поднимавшие когда то человечество и сооб-
щавшие несокрушимую силу его носителям, сменились траттою,
биржевым бюллетенем, котировкою той или иной бумаги. На кре-
стовый поход никого не соберешь, теперь дерутся из-за золота,
угля, хлопка, торгового договора, того или иного тарифа. Здесь
силен только тот, кто дешево производит для мирового рынка
и умеет, если нужно, пушками и штыками поддержать свою
торговлю, заставить у себя покупать, заставить заключить с ним
торговый договор. Из тираний старых монархий человечество
попало в еще худшие виды рабства, сполна принадлежащие 19 и
20 векам: парламентаризм, бюрократизм и милитаризм^,Личность,
с ее волей, совестью, духовностью и праведм^ы^Т^1езла
в огромном мертвом механизме, где верхо^^в^1.и^вдрвзи и
совестью стал простой арифметический подсчедаолбсов..., ГТг&адо
'I-,:- 1 , Л » 1
Ah» "А <М
42
Н. РУСОВ
всего несколько десятилетий, а из-за парламентаризма показался
новый владыка человеческих масс, шедший покорять и порабощать
освобожденную от старой единоличной власти Европу. Цивили-
зация завершила свой круг, и к исходу XIX века новый владыка
торжественно воссел на упраздненных или обращенных в пустой
призрак тронах Европы. Имя этому новому владыке — Биржа.
Говорят, что XIX век характеризуется развитием точных наук
и необыкновенными успехами техники, совершенно изменившим
все условия общежития. Но такая характеристика будет далеко
неполна, если мы упустим из виду, что эти чисто служебные
вещи, не'только не сделали человека более счастливым сравни-
тельно сего предками XVII и XV1II веков, но послужили орудием но-
вого и самого тяжкого рабства, которое когда-либо знавало чело-
вечество: рабство человека у мертвого и безличного начала голой
наживы, бездушных процентных бумажек, всех этих акций и об-
лигаций. В этом рабстве и состоит великое дело последнего фазиса
европейской буржуазной цивилизации. Паровые железные дороги,
огромные быстроходные суда, тысячи разнообразных приложений
электричества, телеграфа и телефона, а завтра, быть- может, и
отчетливое зрение на расстоянии, все это встало не на услуги
свободному и счастливому покорителю природы—человеку, а нао-
борот, ополчилось на последние остатки его свободы, увлекло
его сполна в круговорот наживы, корысти и борьбы всех и со
всеми. Уйти из этой борьбы, позабыть о ней, сохранить свободу
своего духа в этой неистовой скачке стало немыслимым. Уничто-
жилась нравственная связь между людьми: исчезли общины, цехи,
сословия, городские корпорации, но тем крепче опутала всех
связь денежная, биржево-деловая. Человек должен ежеминутно
стоять во всеоружии экономической борьбы, так как всякому
виду его труда или имущества угрожают самые неожиданные
опасности, и подкопы самые смелые ведутся со всех сторон. Как
пролетарий-работник, я ежеминутно трепещу перед уволь-
нением с работы вследствие „перепроизводства", как земледелец
или промышленник, я дрожу перед всякими кризисами, даже как
капиталист я ежеминутно могу потерять все состояние от при-
хоти первого биржевого короля. Под моими ногами ни в одной
точке земного шара нет истинно твердой почвы; мне некуда
уйти, не на что упереться, негде искать защиты. Я или хищ-
ник, или жертва, так как третьего положения нет. В сложности
это составляет такой ужасный вид духовного рабства, перед
которым пустяки рабство материальное.... Стремление каждого
государства к мировой роли и к. мировому господству и оконча-
тельное преклонение перед всемогущим Золотым Тельцом импе-
риализма, с одной стороны, тресты и синдикаты,—с другой,
золотая валюта, создающая всемирную власть международной
биржи, — вот тот капиталистический мир, та якобы свободная
цивилизация, которая должна сгнить изнутри и рассыпаться
в прах под нашим напором или мы готовим себе зияющую яму
общей гибели".
АНАРХИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ 43
, Под этой страстной филиппикой славянофила, думается,
не дрогнуло бы подписаться и перо анархиста.
Зачинатели анархизма и отцы славянофильства одинаково
отрицали буржуазную (мещанскую) западную культуру с ее
безнравственным капитализмом, беспощадным милитаризмом и
бесплодным парламентаризмом во имя свободного и счастливого
человечества—братства....
Л и т е р^а ту р а.
1. К. С. Аксаков. Полное собрание сочинений. Том первый. Изд.
второе. М. 1889 г. Стр. 241, 592, 593. 596...
2 А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений. Том первый. Изд.
второе. М. 1878 г. Статья „По поводу Гумбольдта“.
3 И. С. Аксаков. Полное собрание сочинений. Том второй. Изд-
второе СПБ. 1891 г. Славянофильство и западничество. Статьи: Ответ,
г. Градовскому на его. разбор „Записки" К. С. Акса-
кова (стр. 495-508) и О взаимном отношении народа, госу-
дарства и общества (стр. 26—59).
4. Теория государства у славянофилов. Собрание статей
И. С. Аксакова. К. С. Аксакова, Аф. В. Васильева, А. Д. Градовского,
Ю- Ф- Самарина *и С. Ф. Шарапова. СПБ. 1899 г.
5. Д. (А). X (о м я к о в). Самодержавие. Опыт схематического построения
этого понятия. Харьков-1906 г.
6. И в а н о в-Р а з у м н и к- История русской общественной мысли. Том
первый. СПБ. 1907. Глава VI. Западники и славянофилы.
7. В- Богучарский. Активное народничество семидесятых годов.
М. 1912 г. Глава II. Источники идей и настроений активного народниче-
ства. Стр. 6—24.
8. Н. А- Бердяев. А. С. Хомяков М. 1912 г.
9. И. Кириллов. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи
русского мессианизма. М. 1914 г. Глава VIII. Идея русского мессианизма
в учении славянофилов. Стр. 66—68.
Ю. Н. Н. Русов. Критики анархизма. М. 1918 г.
Н. Н. Отверженный. Достоевский и Штирнер. С предисловием
А. А. Борового. М. 1925 г..
12. Н. В. Устрялов. Политическая доктрина славянофильства. Изве-
стия Юридического факультета. Т. I. Харбин. 1925 г.
Н. Н. Русоз.
Петрашевцы.
Мы не знаем ни одного дня истории, в который бы остро
и напряженно не заявляла о себе задача общественного пере-
устройства. Неисчислимые жертвы приносило и принесет чело-
вечество, чтобы найти сегодняшнее, частичное разрешение—
утоление общественных мук. Как безумно-любящая мать, под-
носят народам свои сладкие и, в конце-концов, мучительно-же-
стокие знахарские лекарства слепые вожди слепых людей. И
каждый день истории все болезненнее заявляет о нерешенной
общественной задаче. Устаревшие формы рабства сменяются
новыми, а возрастающие аппетиты превращают рабство в бед-
ствие даже для рабов по натуре. И вот весь мир встает на не-
отвратимый путь одной—социальной-революции.
История критикует себя сама. Делом поэтов и мыслителей
было вложить эту критику в образы и системы. Дело обще-
ственных деятелей и эксплоатируемых масс—превращать эту
критику в действие. Такой основательной критикой была в свое
время Великая Французская Революция. Однако она только
обнажала безумие основ общественной жизни, но... не поста-
вила вместо них другие.
За кровавыми якобинскими масками-Великой Французской
Революции П. А. Кропоткину удалось подсмотреть раздавленное
террором подлинно-анархическое лицо трудовых масс, пытав-
шихся осуществить свое творческое призвание и свободу чело-
вечества. Но анархизм рождается не только в великих нрав-
ственных подвигах масс в дни революций. Он, как вечно-юная
революционно-общественная идея, может расти и реализоваться
даже через головы казалось бы практически чуждых ему дви-
жений, крыться в их незаметных уклонах, чтобы затем, найдя
себе, наконец, носителя-новатора и общественно-психологическую
почву, резко отмежеваться и, обогащенным своеобразием этих
движений, развернуться во всей массовой творческой мощи.
Поэтому, чтобы видеть пути и возможности анархического
движения, мы вскрываем их и там, где нет строго очерченного
анархического лика, но внутренние глубины исканий томятся
жаждой его. Таковым, в своей основе, и было маленькое обще-
ство Петрашевцев, одна из первых ласточек революционно-на-
роднического движения прошлого века.
П Е Т Р А Ш Е В Ц Ы
45
Фурье—имя и мировоззрение, вокруг которого собралась
эта небольшая, но яркая плеяда будущих общественных деяте-
лей, мыслителей и литераторов России. Само это имя уже
говорит о каких то глубинных симпатиях к анархическому
мироощущению, к анархическим формам жизни.
На похоронах Революции зазвучало его гениальное слово,
предлагающее пройти мимо кровавых путей насильственных
переворотов и мимо бесплодных частичных реформ, пройти сразу
к новому, совершенному, гармоничному строю жизни. И слово
это было все же глубоко родственно духу Революции.
«...Я не переставая буду стараться внушать отвращение
к полумерам, необходимость итти прямо к цели, закладывая
фундамент для прогресса, который, дав наглядное доказатель-
ство Гармонии Страстей, приведет все народы—цивилизованные
и дикие, без исключения—ко всемирному единству».—в 1808 г.
в «Теории четырех движений» пишет Фурье.
«Гармония страстей»—в этой основной формуле выражен
весь Фурье—и основная аксиома его резкой и яркой критики
цивилизации и начало, определяющее возможности и формы его
«Совершенного Строя», и внутренний организующий закон об-
щественности, е точки зрения его мировоззрения.
Тонкий анализ основных движущих сил («страстей» по тер-
минологии Фурье) души человека служит для Фурье оконча-
тельным доказательством возможности свободной гармонической
общественности. И дело «социальных инженеров», дело их
науки -на основе детального изучения материальных и духов-
ных потребностей человека и лучших средств их удовлетворения
разрабатывать формы гармонической общественности, управляе-
мой только умелым направлением движущих сил человеческих
душ, т.-е. «гармонией страстей». Невольно вспоминаются боги
Платоновского «Крития», управлявшие также Атлантидой.
Это чисто-анархическое решение социального вопроса
было так заманчиво; так легко казалось подойти к нему совер-
шенно мирным путем, не разрушая насильственно историче-
ски-сложившихся форм жизни, но заменяя их через обращение
к разуму их сторонников, через опытное доказательство в фа-
ланстерах преимуществ «Совершенного Строя» Фурье..
Для нас теперь так детски наивна эта вера во всеисце-
ляющую мощь такого обращения. Но ведь тогда только-что
пережили выдвинутый Революцией культ Разума, тогда еще
только расцветало такое по-детски свежее, хотя еще и наивное,
доверие к этой могучей стороне человека. Фурьерист Консиде-
ран, манифест и некоторые теории которого легли потом в основу
известного манифеста Маркса, пытался даже парламентским
путем осуществить фурьеристские эксперименты.
Русское студенчество, в том числе и то, которое потом
составило ядро Петрашевцев, знакомилось впервые с учением
Фурье между прочим на лекциях политической экономии и ста-
46
А. С. П.
тистики В. С. Порошина, одного из самых любимых студентами
профессоров С-Петербургского Университета. Это был харак-
терный тип новой, неказенной, гуманитарной профессуры,
сделавшей потом Университеты рассадником «крамольных» идей.
То было время первого пробуждения широкой российской
общественности, время, по меткому слову Аполлона Григорьева,
«борьбы мысли с фактом»—с фактом николаевской эпохи.
Назрела потребность в реформах, но не было людей, способных
выполнить их. Умный, но «по-отечески деспотичный» Николай
сковал своим казарменным порядком жизнь столиц, не доверяя
ни общественной самодеятельности, ни бюрократии, и в то же
время быть-может, чувствуя свою унизительно-рабскую зависи-
мость от этой насквозь прогнившей, трепещущей его слова бю-
рократии. Ибо такова судьба всякого вершителя судеб, который
боится вольного ветра свободы: он делается рабом своих соб-
ственных химерических созданий.
Общество замкнулось в клетки, жившие своими бытовыми
интересами и чуждые друг другу до взаимного непонимания,
соприкасавшиеся только при исполнении служебных обязанно-
стей. Мы знаем, как мучительно переживал Ф. М. Достоевский
свои литературные соприкосновения с господами жизни. Образ
общественной пирамиды, раздавившей своими человеческими
колоннами жалкого Мичулина из повести М. Е. Салтыкова-
Щедрина «Запутанное дело», как нельзя более ярко рисует
жизнеощущение «бедных людей» Николаевской эпохи. А много-
миллионное крестьянство и совсем было вне всякого «общества».
Но как ни монументален был колосс николаевской системы,
как ни выкован был он муштрой и почти религиозным благо-
говением перед могучей личностью Николая (ср., напр., «Испо-
ведь» М. А. Бакунина), и этот колосс оказался на ^глиняных
ногах. Разложение подкралось к нему сразу со всех сторон...
Уже упомянутая гнилость бюрократии в городе подчеркивалась
помещичьим разнузданным произволом и хищничеством в кре-
постной деревне, в результате чего падало и разрушалось
крестьянское хозяйство. Здесь помещичьи аппетиты сталкива-
лись с одной стороны, с финансовыми интересами беднеющего
государства, с другой—с вопросом о жизни и смерти питающе-
гося мякинным хлебом крестьянства. Общение с Европой поста-
вило на очередь вопрос о применении капитала техническими
методами Европы, что вставало в противоречие с невежеством
и малой производительностью труда крепостной России. То же
общение с Европой потребовало создания бюрократии европей-
ского типа, которая, с одной стороны, вставала в противоречие
со старыми укладами быта, с другой—противоречила своеобра-
зию русской психологии. Поэтому вполне понятно, что «немцы»
оказались самыми превосходными слугами жандармской системы
Николая. Тогда как выходящие из высшей школы русские
интеллигенты отнюдь не были расположены быть винтиками
ПЕТРАШЕВЦЫ
47
этой системы и лишенные возможностей действовать в среде
родного народа, даже изучать его, тянулись к тем далеким и
красивым идеалам, что доносились с Запада. Вокруг интереса
к западным веяниям, вокруг обсуждения их ценности этой ищу-
щей выхода своим духовным силам молодежью выростают
общественные сближения, кружки, в среде которых схваченным
на лету западным идеям давалось уже свое, русское, развитие.
Так в Москве выросла широкая идейно-общественная работа
вокруг удивительной личности Герцена. В Петрограде такой
связующей личностью оказался Петрашевский.
Конечно, в развитии общественности этого времени имело
колоссальное, часто решающие значение и наследство русских
общественных движений предыдущей эпохи. Но за ограничен-
ностью места и времени мы не остановимся на этой стороне.
Скажем только, что необычайной остротой переживания
казарменного ужаса эпохи, что ярко сказалось на литературе,
интеллигентная молодежь того времени обязана именно этому
наследству.
Петрашевский, увлеченный еще в Университете дивными
анархическими построениями Фурье, по его собственным словам
«обрек себя на служение человечеству, и стремление к общему
благу заменило в нем эгоизм и чувство самосохранения». Слу--
чайные дружеские беседы в его квартире постепенно принимали
все более серьезный характер, с 1845 —б г.г. получили характер
постоянных собраний, и перебросили свое влияние в далекую
провинцию, напр., в Ярославскую и Казанскую губ. Характерно,
что здесь были разбиты почти всякие социальные перегородки,
хотя еще и не был найден достаточно ясный общий язык.
Юрист по образованию, переводчик и ходатай по частным
делам—по заработку, Петрашевский был тем не менее весьма
живой, любознательной и разносторонней натурой. Если вы
взглянете на список тем и вопросов, отмеченных им в 1842—3 г.г.
под заголовком «Запас общеполезного», то вы поразитесь не-
обычайным их разнообразием. Такие качества и недюжинный
ум, а также удивительная способность примирять и об'единять
несомненно, в высокой степени выдвигали его, как связующий
центр умственного брожения интеллигентного общества того
времени. Время узких, резко отмежеванных партий было еще
далеко. На пятницах Петрашевского бывала чуть ли не вся
лучшая интеллигенция Петербурга. Личная библиотека самого
Петрашевского, а после и сорганизованная им коллективная,
привлекала их туда быть может не менее, чем сами беседы.
Ведь там были и журналы фурьеристов, и сочинения Фурье,
Прудона и др. мыслителей, даже Штирнер; были и любимые в то
время романы Жорж Занд и т. д., даже запрещенные новинки...
Тем не менее, частью в силу конспиративных потребно-
стей, частью благодаря некоторым, для многих неприятным,
чертам характера Петрашевского, а также и потому, что у неко-
48
А. С. П.
торых посетителей Петрашевского начали отливаться свои за-
дачи деятельности и формы мировоззрения,—возникают другие
беседные собрания: у Кашкина—«чистых фурьеристов», у Ду-
рова—литераторов и т. д.
Все такие собрания, конечно, носили чисто культурнический
характер. Всякая случайно возникающая тема разговора жи-
вой, отдыхающей на этих разговорах от духоты русской жизни,
ищущей интеллигенции подхватывалось тесным ядром осознав-
ших свои цели и сгруппировавшихся вокруг Петрашевского моло-
дых русских фурьеристов, подхватывалась и направлялась
к «Риму»: к истинам фурьеризма, к критике существующего,
-'к проектам реформ русского общества. Иногда читались спе-
циальные доклады.
Такая устная пропаганда методами самообразовательных
и культурно-просветительных бесед—это почти все, что смогли
сделать Петрашевцы. И тем не менее этим было сделано так
много, что на почве, ими возделанной, смогли уже вырасти
пышные всходы 60 и 70 годов.
Не было у них недостатка в проектах и попытках выйти
на более широкую дорогу социального действия. Но отсутствие
общественного опыта и массовой почвы, оторванность их от
народа и, наконец, тяжесть Николаевского режима—все это
встало перед ними неодолимым препятствием.
Долгое время на пятницы Петрашевского правительство
не обращало никакого внимания, хотя еще в 1844 году, в ре-
зультате одного обыска в Петербургском лицее, Петрашевский
был взят на некоторое время тТод полицейский надзор. А в 1846 г.
был взят из типографии, у издателя и у книгопродавцев заме-
чательный второй выпуск книги «Карманный словарь»иностран-
ных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый
Н. Кирилловым, составленный при непосредственном сотрудни-
честве Петрашевского, и вызвавший целый цензурный скандал.
Дело в том, что Петрашевский замечательно ловко использовал
этот «Карманный словарь» для пропаганды своих идей.
Но только в феврале 1848 г. знаменитое «III отделение
собственной Е. В. канцелярии» забило тревогу: Петрашевский
_ отлитографировал и пустил в обращение свою записку по кре-
стьянскому вопросу. Обратили внимание и на пятницы. Началось
наблюдение.
А Петрашевский был доверчив, Петрашевский шел с открытой
душой навстречу опасности. Может быть, он был и прав: может
быть, в то время только таким путем и можно было хоть что
нибудь сделать. Его теория дискредитирования царского произвола
ссылкой на государственные законы поддерживала его в его не-
осторожности: он действовал законными средствами. Но все
это облегчило «работу» Ш отделения.
Липранди, известный по розыскам среди раскольников и
сектантов, которому была поручена и эта «работа», скоро
ПЕТРАШЕВЦЫ
49
нашел и способного и ловкого агента, быстро втершегося в пол-
ное доверие Петрашевского. Это был сын академика живописи,
П. Д. Антонелли, и с января 1849 года уже начинаются его
.донесения. А в пятницу, в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года,
почти все посетители пятниц Петрашевского были арестованы.
Всего—до 50 человек.
Характерно для кружковой революционной среды (психо-
логия ее по личным наблюдениям среди Петрашевцев ярко раз-
вернута Ф. М. Достоевским в его бессмертных «Бесах»), что
в январе 1848 г. о самом Петрашевском стали ходить слухи,
что он—агент - провокатор Ш отделения. Конечно, он не скло-
нился перед этим слухом; дело революции—бесконечная, абсо-
лютная жертва. Жалок тот, кто не сумеет отличить лжи от
истины, кто остановится в трепете перед неотвратимым.
22 декабря 1849 г. наиболее живую часть Петрашевцев,
в числе 21 человека, после 8-месячного заключения в одиноч-
ках Петропавловской крепости, привезли на Семеновский плац.
Там им прочли конфирмацию смертного приговора через расстрел
и приготовили их к казни. Петрашевского, Момбелли и Н. П.
Григорьева с завязанными глазами привязали к столбу. Разда-
лась подготовительная команда, солдаты взяли на прицел и...
ударил отбой, привязанным к столбу развязали глаза и прочли
им действительный приговор: Петрашевскому—бессрочная катор-
га, Ф. М. Достоевскому—4-летняя каторга, и по отбытии ее—
определение в рядовые и т, д. в этом роде.
Что же это были за люди, чего они хотели, если с ними
так жестоко расправилось правительство, если в них оно нашло
опасного личного врага. Многие из них и в ссылке проявили
себя, как талантливые общественные деятели, некоторые после
стали светочами национального гения.
В приговорах красной нитью проходит обвинение в стре-
млении к низвержению существующего строя. В секретной
записке—мнении Липранди подчеркивается, что он нашел в дея-
тельности Петрашевцев «всеоб‘емлющий план общего движения,
переворота и разрушения», «адский план».
Конечно, это было не так. Конечно, за исключением Пе-
трашевского, Спешнева и еще немногих других, приговоренные
и не помышляли ни о каком низвержении, да и у этих лиц
это скорее было мечтой, заставлявшей, правда, присматриваться
и прикидывать возможности (разговоры с Черносвитовым о воз-
можности восстания по Уралу), а никак не углубленно-плано-
мерной постановкой задачи. Но реальная планомерность развития
их деятельности несомненно была, независимо от воли самих
деятелей. Эта планомерность естественно определялась обще-
ственным строением тех идей, которые их одушевляли, кото-
рые через них, частью сознательно, частью рефлективно, раз-
вертывались и действовали в окружающих общественных отно-
шениях.
Очерки. ' 4
50
А. С. П.
Разные люди по разному видят общественную жизнь. Для
одних она—как куча разноцветных камней, увлекаемых, раз-
мываемых потоком времени и толкающихся, трущихся и раз-
давливающихся друг о друга по всем законам единой для всех
механики. Для других—это диалектика пестрых струй потока
времени, переливающихся по особым диалектическим законам
потока. В противовес таким однообразным (монистическим)
пониманиям, а, в сущности, только перефразировкам вопроса,
гениальный Н. Я. Данилевский, лучший знаток фурьеризма
в среде Петрашевцев,' развил, отчасти под влиянием фурьери-
стских принципов, своеобразное «естественное» понимание
общественной жизни.,
«Морфологический принцип», положенный им в основу
знаменитых книг «Россия и Европа» и «Дарвинизм» и есть тот
самый принцип, который обосновывает реальную возможность
и историческую «необходимость» осуществления «Гармонии
страстей» Фурье. Лишь теперь, когда основные мысли книги
«Россия и Европа» столь блестяще, хотя и по-немецки схема-
тично, ио почти в той же терминологии, изложены и дополнены
О. Шпенглером в его нашумевшем «Закате Европы», а положе-
ния «Дарвинизма» защищаются и развиваются такими учеными,
как Вавилов и Берг, нам уясняется колоссальный философский
и научный вклад, сделанный Н. Я. Данилевским.
Согласно этому принципу, в среде всевозможных обще-
ственных отношений существуют и взаимодействуют своеобраз-
ные естественные единства, характеризующиеся некоторым
рядом признаков и закономерно определяющие собой характер
тех или иных общественных отношений, аналогично тому, как
в среде физико-химических отношений живет и взаимодействует
посредством своеобразного для каждой формы изменения этой
среды, целый мир растительных и животных форм.
Данилевский, как биолог, всецело сосредоточился на нацио-
нальных культурах, понимая все остальное в жизни этих
культур только как выражение этих культур. Мы расширим
область применения морфологического принципа, утверждая, что
на ряду с формами национальных культур историк должен
заметить единства других видов, имеющие не менее самостоя-
тельное и своеобразное значение, и для которых национальные
культуры являются в свою очередь средой их жизни.
Таким естественным общественным единством является,
например, идея Свободы, выражающаяся в анархических движе-
ниях мира. Синдикализм и Социальная Революция, как методы
освобождения от власти экономики и политики; Коммунизм,
как метод уничтожения возможностей возникновения этой
власти внутри общества, и, наконец, Индивидуализм, как форма
преодоления всякого рода духовного авторитаризма—это все
лишь разрушительные обнаружения одной и той же анархиче-
ской идеи, как массовой формы общественной жизни. Конечно,.
ПЕТРАШЕВЦЫ
51
тот, кто не увидит во всем этом внутреннего, радостно-творче-
ского облика анархизма, обнаружение которого определяет
собой и разрушение всех препятствий на пути этого обнаруже-
ния, тот слепо пройдет мимо, для того анархизм не существует,
не реален.
«Гармония страстей» Фурье, как мы уже отметили, только
своеобразное структурное выражение той же анархической
идеи. Дальше, при анализе взглядов Петрашевцев мы углубим это.
Но Петрашевцы в целом были не только общественным
обнаружением фурьеризма в России. Нет, Петрашевцы, это,
для того времени, просто—вся грядушая, прогрессивная Россия,
это—зародыш всех, после разделившихся, ветвей прогрессивного
и революционного действия. Появились Петрашевцы, значит—
существующий режим бесповоротно пришел к крушению, дело
за временем. В них пришла новая Россия—в этом их колос-
сальное симптоматическое значение в истории. В этом и была
их «вина» перед всемогущим, но уже почувствовавшим первые
шаги своей смерти режимом.
Агитационная литература для крестьян («Десять заповедей»
студ. Филиппова) и для солдат («Солдатская беседа» И. П. Гри-
горьева), пропаганда через преподавание (Ястржембский, Толль
и др.) и печать («Карманный словарь»), пропаганда через лич-
ную помощь (дешевая и бесплатная юридическая помощь самого
Петрашевского) и попытки социального эксперимента (неудач-
ный «Фаланстер», построенный им для крестьян на собственные
средства), а также организованной взаимопомощи (проект
Момбелли о «Братстве взаимной помощи»), наконец, план тай-
ного общества из сети пятерок, составленный Спешневым,
устройство тайной типографии по чертежам Филиппова и пере-
говоры Спешнева, Черносвитова и Петрашевского об органи-
зации восстания,—все это были яркие первообразы дальнейшего
развития революционной работы в России. Любопытно, что
Петрашевский даже пытается предвосхитить грядущую респу-
блику в своем интересном проекте Черкесской республики
на Кавказе.
С другой стороны, здесь же разрабатывались и формы
необходимых, попутно развитию основного дела, общественных
реформ, тех самых, которые и осуществила, правда, куцо, сле-
дующая эпоха, особенно в крестьянском вопросе, судопроизвод-
стве и в вечно-больном вопросе о свободе печати.
Не меньшая полнота представительства новой России
сказалась и в многообразии социальных мировоззрений,
имевших место в среде Петрашевцев. Так Тимковский предло-
жил поделить после Революции всю землю на две части: одну—
для опыта фурьеристов, другую—для опыта коммунистов
(немецкого типа). Спешнее в своем проекте тайного общества
предложил организацию трех школ пропаганды: фурьеристской,
коммунистической и либеральной.
4*
52
А. С. П.
В то же время и здесь столкнулись две общих всем вре-
менам формы мировоззрения: космополитизм и индивидуализм
(т. к. я не нашел более точной терминологии этого противо-
положения, то останавливаюсь, но не настаиваю, пока
на этой). Своеобразно преломленные в Москве они приняли там
формы западничества и славянофильства. Сам Герцен, ко времени
расцвета деятельности Петрашевцев уже уехавший заграницу,
соединял западнические интересы исторического момента с глу-
бинной родственностью славянофильству в предчувствиях особой
исторической миссии России, в осознании исключительной цен-
ности внутренней революции, выдвигающей окончательное
раскрепощение индивидуальностей во всем их своеобразии
Здесь два пути революции, и один из них уже во всем росте
предстает перед нами, а другой еще где-то под землей про-
растает.
Первый тип—космополитический—с необычайной яркостью
выразился в самом Петрашевском. Уже в ранних записях его
.отмечается:
«Внимание людей, истинно желающих содействовать
к всестороннему усовершенствованию человечества, не должно ли
быть обращено на самый корень зла, на самое уничтожение
тех ужасающих душу всякого благородного человека учреждений,
которые служат неопровержимыми препятствиями человеку
сделаться истинно-достойным имени человека, не должны ли они
преобразовать совершенно те формы общежития и всех отно-
шений, какого бы рода они ни были... которые являются помехой
к благоденствию полному и совершенному человека, взятого
в отдельности и в совокупности, т.-е. целого человечества
в целом».
Здесь сказавшееся уже тогда революционное по духу
отношение к учреждениям, к формам общежития, сдавившим
свободу человека, характерно определяется идеалом всесторонне-
развитого человека, понимаемого, как общечеловеческое, космо-
политическое.
В статье «Нация» («Карманный словарь») это им уже
вполне отчетливо, по отношению к нации, подчеркивается:
«Только постепенно развиваясь, т.-е. утрачивая свои инди-
видуальные, частные признаки или прирожденные свойства,
нация может стать на высоту человечественного, космополити-
ческого развития... тогда только развитие ее жизненных сил
будет совершаться гармонически с требованиями целого чело-
вечества».
Космополитизм особенно импонирует людям, с рационали-
стическим складом ума, и Петрашевский в этом не предста-
вляет исключения. Методы его суждения, рассчитывающие
исключительно на логическое убеждение, позитивное исключение
иррационального из истории человечества, наконец, увлечение
именно фурьеристско-анархическим типом переустройства обще-
ПЕТРАШЕВЦЫ 53
ства на научных, рациональных началах—все это делает его
предшественником того русского рационалистического анархизма,
который дал такую характерную фигуру, как ГТ. А. Кропоткин.
После общечеловечность космополитического идеала поста-
вили под сомнение, после в нем многие стали видеть своеобраз-
ный облик германо-романского человека, или, как говорит
О. Шпенглер, «фаустовского» человека. Но это стало после.
Противоположный, индивидуалистический тип сформиро-
вался уже позднее. Ф. М. Достоевский и Н. Я. Данилевский—
эти ярчайшие представители этого типа, хотя в высокой сте-
пени пронзенные уже в эпоху пребывания в среде Петрашевцев
духом, космополитических идеалов, развернули свой гений
и славянофильский индивидуализм только после процесса.
У них же и анархические мотивы приобрели совсем особый
колорит.
Давая в «Бесах» Нечаевщину, как некую историческую
формацию Петрашевцев, Ф. М. Достоевский опрокидывает
космополитическое «человекобожество» убийственной логикой
штирнерианско-Кирилловского я-чества. Но на этом полюсе
человеческого мироощущения он увидел только один конечный
исход, один путь преодоления, самоубийство. И Достоевский
отвернулся от этого полюса, т. к. на той же тропинке анархи-
ческого индивидуализма увидел другой полюс: Христа легенды
о «Великом Инквизиторе». Но вместо того, чтобы направить,
все преодолевая, свои силы к этому, для него всезавершающему
и всеразрешающему образу, он, обессиленный невероятным раз-
двоением, направляет себя, в лице своего Мефистофеля Спеш-
нева-Ставрогина, сначала на исповедь к старцу Тихону, а потом,
устами Тихона, к отшельнику на послух («Исповедь великого
грешника». Ср. интересные соображения Отверженного в «Штир-
нер и Достоевский»).
Но почему же он вступил на эту тропинку анархического
индивидуализма, открывшую ему возможность соборного приятия
мира. И зачем он пришел на послух к православию, к право-
славной России. Ведь не он ли же так жестоко осмеял в образе
Шатова славянофильское кликушество перед народностью и его
религией.
Здесь не место разрешать это. Мы отметим только, что
уже в среде Петрашевцев он читал характерный по заголовку
доклад «О личности и эгоизме», что в своем показании он ука-
зывает в Петрашевском заслонение его самобытного лика маской
системы Фурье. Пробуждались здесь придавленные бытом
первобытные силы самобытности. Ведь и космополитизм самого
Петрашевского носил слишком личный характер. Недаром же
в заметке к одной из своих тем он подчеркнуто противопоста-
вляет разум личности общественному мнению, общественной
рутине. Эта кучка русских интеллигентов пришла в движение
и хотела бы всколыхнуть все море русской общественности...
54
А. С. П.
но быт стыл в мертвой неподвижности. Они оставались одни,
Одни против всех. Но и один в поле—воин. Прошло 50 лет,
и Русь встала на тот же путь крушений устоев, путь револю-
ций, что и Запад.
Совсем с другой стороны к тому же индивидуализму
подошел Н. Я. Данилевский, гениальный теоретик славянофиль-
ства. В своей ясной, овеянной почти эпическим спокойствием
человека науки, книге «Россия и Европа» Н. Я. Данилевский
пытается вскрыть смысл истории человечества и России.
Он опрокидывает космополитический идеал грядущего рациона-
лизованного человечества атакой со стороны высшей самоцен-
ности каждого культурно-исторического типа, ценности само-
раскрытия его своеобразия в каждом историческом моменте
и, особенно, в моменте его наивысшего развития. Надвременная
гармония этих типов, а не грядущий во времени общечеловече-
ский гармонический строй осмысливает, по его мнению, историю
человечества. Счастье человечества он видит в свободном гармо-
ническом развитии самобытных ценностей каждого культурно-
исторического типа. Независимый федерализм автономных
национальных систем—общин ему кажется поэтому наиболее
нормальной формой общественной жизни и наиболее осуще-
ствимой именно в России. В этом он видел «здоровье» России
сравнительно с Западом.
Какой уклон привел и его к слишком положительной пере-
оценке реального быта России и скрыл в нем под маской
официального славянофильства подлинно-анархическую сущность
его славянофильского индивидуализма—здесь это тоже не место
разрешать. Отметим лишь, что аналогичный процесс завершил
положительную деятельность и другого, космополитического,
типа только либеральными реформами и, самое большее,
«социалистической» революцией. Русский анархизм еще не нашел
реальных путей к пробуждению массово-народного творчества,
еще не стал вполне сознательным принципом широкого народ-
ного созидания, исключая, разве, некоторых ветвей сектантства.
Характерно, что в самом Петрашевском (в этом, может
быть, сказалось его увлечение юриспруденцией) ясно не разде-
лен либерализм от принятого им в основу фурьеристского
анархизма. То, что он требует в ст. «Ораторство» («Карман-
ный словарь»), так и дышет этой неоформленностью:
«Полное, не стесняемое никакими общественными учрежде-
ниями развитие индивидуальности, признание не силы, но разум-
ности началом управительным в обществе—законом положи-
тельным, обычаем, упроченное равными охранительными поли-
тическими учреждениями; обеспечение свободы мысли, чувства
и их внешнего публичного обнаружения, ясное
сознание, как своих частных, так и общественных интересов,
коим обладает всякий гражданин, поддерживаемое публичностью
всех общественных и административных отправлений».
ПЕТРА Ш Е В Ц Ы
55
В чем же состоял тот фурьеризм, который был домини-
рующей формой общественного мировоззрения Петрашевцев?
Анархический характер его достаточно подчеркивается
следующим определением нормального состояния общества
в статье самого Петрашевского «Нормальное состояние»
в «Карманном словаре».
«Нормально развитым или благоустроенным обществом...
будет то, которое доставляет всякому из членов
своих средства для удовлетворения их нужд про-
порционально их потребностям и поставляет всякого
человека в такое положение к целому обществу, что он, пре-
даваясь вполне влечению естественных своих побуждений,
нисколько не может нарушить гармонии общественных отноше-
ний, но будет деятелем, не только полезным самому себе,
но й целому обществу без самозаклания личности,., когда
физические и нравственные силы достигнут апогея их возмож-
ного развития, и для человека вообще настанет пора самосозна-
ния, самозакония, общности и общительности».
Более подробное изложение основ фурьеризма дает в своем
показании следственной комиссии Н. Я. Данилевский, естественно
развивая только строительную, не критическую, сторону
фурьеризма. Мы сделаем некоторые, наиболее характерные,
выдержки:
«Основная мысль Фурье, служащая краеугольным камнем
всем его выводам, есть следующая: всякое существо, одаренное
силами, приводящими его в движение, подчинено неизменным
законам, по которым эти силы должны проявляться. Так как
эти законы неот'емлемая принадлежность, так сказать, внутреннее
требование этих сил—вытекающее из самой природы их, то,
находясь в подчинении этим законам, всякое существо должно
находиться в гармоническом состоянии. Если это существо есть
сознательное, то такое гармоническое состояние будет соста-
влять для него счастье, т.-е. всегдашнее довольство собой
и всем окружающим... Человек жаждет не равенства, не сво-
боды, а счастья...»
Вы уже чувствуете сам собою напрашивающийся рациона-
листический вывод: а вот наука исследует эти законы и рас-
числит по ним, как устроить общество, чтобы раз навсегда
и окончательно разрешился вековечный проклятый вопрос
о человеческом счастьи. И Петрашевский так уверен был
в этой «истине» фурьеризма, что посмотрел, как на недопусти-
мое невежество, на проект Тимковского—разделить мир для
опыта пополам между фурьеристами и коммунистами, определяя
немецкий коммунизм вполне правильно, как малонаучный,
по сравнению с гениальными историческими прогнозами и кри-
тическими исследованиями Фурье. Но продолжаю:
«Т. к. все междучеловеческие отношения суть проявления
деятельных способностей человека, то для узнания законов,
56
А. С. П.
управляющих этими отношениями, и нужно анализировать
только эти деятельные способности, не входя в рассмотрение
прочих, как, напр., умственных, которые показывают человеку,
каким путем достигать своих целей, но сами не заставляют его
стремиться к этим целям... Деятельные способности человека,
т.-е. коренные стремления его духа и тела, приводящие в дви-
жение все существо его, называет Фурье страстями... Он насчи-
тывает их 12...».
Дальше следует классификация нормальных, имеющих
общечеловеческое право на удовлетворение, страстей и изло-
жение признаков отличия их от ненормальных. И затем обще-
ственная задача определяется уже, как задача уравновешения
нормальных страстей и исключение ненормальных частью осо-
бенностями предлагаемого Фурье общественного переустройства,
частью методами воспитания, построенными на тех же основа-
ниях: «применением сериарного закона к деятельности человека
и особливой системой воспитания, основанной на этом же законе».
Любопытно, что дальше, для доказательства возможности
осуществления «довольства для всех» (термин П. А. Кропоткина)^
т.-е., в терминологии Фурье, удовлетворения первых 5-ти (ма-
териальных) страстей, дается сражение мальтузианству, и
теми же основными категориями аргументов, как и у П. А. Кро-
поткина, что опять-таки характерно сближает их. В число этих
аргументов входит, между прочим, возможность создания гармо-
нии сотрудничества и осуществления привлекательности труда,—
у Фурье это осуществляется с помощью того же сериарного
закона.
Что же такое сериарный закон?
Это прежде всего закон естественный, а не принудитель-
ный. Он осуществляется только через свободное влечение. Вся-
кое принуждение нарушает его, искажает человеческую при-
роду, разрушает общественную гармонию. Согласно ему суще-
ствует мировая гармония связанных свободным влечением
«серий» и «групп». Группа—нормальная единица из однородных
элементов, связанных силой свободного влечения (притяжением,
сродством). Серия—нормальная гармоническая единица из раз-
нородных элементов, связанных соответственно такой же силой
и т. д. Причем эта сила свободного влечения, в зависимости
от обстоятельств, выражается в человеческом обществе, как
та или иная комбинация упомянутых 12 типов «страстей».
Как видите, морфологический принцип—это тот же сериар-
ный закон, но, в применении к истории, получивший преиму-
щество углублением в иррациональный характер структуры
человека и истории его общественности. Здесь и граница и не-
превзойденное совершенство гениальных построений Фурье. Но
после Бакунина он—лишь высочайшая вершина, от которой
анархизм уже шагнул в иррациональное истории, хотя там еще
не поднялся до ее высот.
ПЕТРАШЕВЦЫ
57
На основе всех упомянутых начал Фурье строит челове-
ческое общество, как вольную ассоциацию серий и групп полез-
ного и приятного труда—фалангу, счастливую фалангу.
Распределение продуктов труда, участие собственности и
таланта—это детали, хотя и весьма важные, но несущественные
для наших задач. Добавлю лишь, что право на труд, на жизнь
й на удовлетворение основного минимума потребностей здесь
осуществлены, а сериарный метод распределения снижает воз-
можность злоупотреблений до безопасного минимума.
Фаланстер-общежитие, построенное по упомянутым прин-
ципам (назван так Фурье в противоположность монастырю, где
суть—молитвенное уединение и молитвенное же единение), может,
по Фурье, быть осуществлен, как социальный эксперимент,
в любой момент истории в любой стране.
Характерно для иррационально-индивидуалистической при-
роды русского человека, что Герцен даже фаланстер нашел для
себя тесноватым. Еще резче, с точки зрения иррационального
в человеке, после, в «Записках из подполья», обрушился на
этот «Хрустальный дворец» Ф. Достоевский.
Но для нас, для которых Петрашевцы—история, для нас,
испивших горечь революций, отошли в прошлое их горячие
споры и встает одно, вечно-ценное в этом небольшом кусочке
истории. Это—образ молодой России, неисчерпанный еще и
теперь, таящий в себе и темные бездны и прекрасные высоты.
Облагородить первые, осуществить вторые—какая ежедневно-
напряженная ребота для этого нужна. Как недоволен был
Петрашевский своими друзьями, что они «ничему не хотят
.учиться», как настаивал он на необходимости учиться и учиться.
Тот, кто хочет взять свой глоток из чаши слез мира, должен
прикоснуться к не менее горькой чаше опыта мира т).
А. С. П.
i) Желающих более детального ознакомления с лицом Петра-
шевцев отсылаю к трудам Семевского, а также к книгам: В. Лей-
кина. Петрашевцы. М., 1924 (приведена библиография) и „Полити-
ческие процессы Николаевской эпохи”. Петрашевцы.
М. 1907.
Бакунин.
Обилие биографических материалов о Бакунине требует
от автора, желающего описать лишь одну какую-либо область
жизни этого деятеля, довольно строгого методического выбора
их. В данном случае я руковожусь самим названием серии
«Пути к анархизму» х). Мы увидим, следовательно, какими пу-
тями анархистические мыслители и деятели пришли к своим
идеям и какие пути они предлагали человечеству, чтобы достиг-
нуть великой цели. Уроки этого изучения драгоценны, так как
они показывают нам, настолько разнообразны эти пути и на-
сколько многочисленны самые представления об анархистиче-
ском строе. Эти пути являются, однако, лишь примерами, так
как возможности их бесконечно богаты и только наиболее
жизненные из них будут мало - помалу указаны свободно при-
меняемым опытом. Разнообразие это не является недостатком
анархизма, у которого, якобы нет точной системы, как говорят
его противники, гордящиеся тем, что постоянно носят однооб-
разную форму и черпают в догматических книгах все те же
неизменные идеи о будущей эволюции. Оно доказывает, наобо-
рот, правильность нашего пути к будущему, точные контуры
которого будут мало-помалу очерчены, благодаря опыту, исканиям,
науке, свободной группировке усилий, одним словом, благодаря
всевозможным проявлениям свободной' деятельности, а не через
партийную программу или какой-либо догмат, заменяющие
приказы бывших церквей или королей.
В данном очерке я попытаюсь показать, как развивался
Бакунин и какие уроки вытекают из этого развития для тех,
кто пожелал бы использовать их. Я почти не буду говорить о
других сторонах его жизни, но буду останавливаться на деталь-
ной аргументации и, насколько возможно, буду цитировать са-
мого же Бакунина.
Одна из рукописей, найденная в бумагах Бакунина и опу-
бликованная мною в 1896 году в сентябрьском № Брюссельского
журнала «Новое Общество» начинается так: «Я родился
30/18 мая 1815 года (надо читать 1814) в имении моего
*) Первоначально настоящий очерк был задуман и написан для
издаваемой „Голосом Труда“—серии: „История анархической мысли“.
Перевод принадлежит т. Николаенко.
БАКУНИН
59
отца (Премухино на берегу речки Осура) в Тверской губернии,
Новоторжском уезде, между Москвой и С.-Петербургом».
«Мой отец принадлежал к старинной знати. Его дядя одно-
фамилец, будучи при Екатерине II министром иностранных дел.
отправил его мальчиком 8—9 лет во Флоренцию, в качестве
атташе при посольстве. Там один из его родственников, министр
занялся его воспитанием. Он возвратился в Россию уже почти
35 лет. Всю свою молодость отец провел, следовательно, за
границей, где получил воспитание. Мой отец был человеком
остроумным, очень образованным, часто даже либеральным,
деистом, не атеистом, свободомыслящим и имел связь со всеми
знаменитыми философами и учеными тогдашней Европы. Он
был, следовательно, в полном противоречии со всем тем, что
существовало тогда в России, где только небольшая секта франк-
масонов, более или менее преследуемых, сохраняла и секретно
поддерживала священный огонь уважения и любви к челове-
честву. Придворное петербургское общество было для моего отца
настолько отвратительным, что ломая карьеру, он удалился
на всю жизнь в деревню, которую никогда уже больше не по
кидал. Однако он был настолько известен всем существовавшим
тогда в России образованным людям, что его дом был почти
всегда полон посетителями. От 1817 до 1825 года он состоял
членом тайного Северною Общества, которое в декабре
1825 года сделало неудачную попытку военного восстания в Пе-
тербурге. Несколько раз ему предлагали быть председателем
этого общества, но он был большим скептиком, слишком осто-
рожным человеком, чтобы принять предложение чем и об’-
ясняется то, что он не подвергся трагической, но славной участи
некоторых из своих друзей и родственников».
Характеризуя своего отца, как собственника крепостных,
Бакунин продолжает: «Его либерализм возмущался сначала этим
гнусным, ужасным положением господина рабов.,., он сделал даже
несколько плохо рассчитанных и неудачных попыток освободить
своих крепостных, а затем в силу привычки и интересов—он
стал таким же спокойным собственником, как и многие другие
из его соседей, приспособившимся к рабству сотен людей, труд
которых его кормил». Бакунин об‘ясняет это принятие услов-(
ностей жизни преимущественно влиянием своей матери—моло-
дой аристократки без возвышенных чувств, незнакомой с ин-
тимной жизнью своих детей, обожавших отца. «Нас было один-
надцать детей (6 мальчиков, из которых Михаил был первым,
и 5 девочек, все родившиеся в промежуток от 1811 до 1824 года).
Мы были воспитаны под руководством отца, скорее на западно-
европейский лад, нежели на русский. Мы жили, так сказать,
вне русской действительности, в мире, полном чувств и фанта-
зии, лишенном всякой реальности. Сначала наше воспитание
было очень либеральным. Но после трагического конца декабрь-
ского заговора (1825 год) мой отец, испуганный этим пораже-
60
М. H Е T Т Л А У
нием либерализма переменил систему. С этого времени он на-
правил все свои усилия на то, чтобы сделать из нас верно—
подданных царя. С этой целью 14 лет я был послан в С.-Пе-
тербург, чтобы поступить в артиллерийскую школу». (Это было
в ноябре 1828 г., когда Бакунину было 14% лет).
«Несколько слов относительно моего интеллектуального
и морального развития во время этого периода. Покидая роди-
тельский дом, я говорил довольно хорошо по-французски (про-
тивный язык, который меня заставили изучать грамматически),
немножко по-немецки и понимал кое-что по-английски. Я не
знал ни одного слова ни по-латински, ни по-гречески и не имел
никакого понятия о русской грамматике. Мой отец преподавал нам
историю по Боссюету (книга 1681 года); он заставил меня читать
немного Тита Ливия и Плутарха, в переводе Амио. Кроме того,
я имел кое-какие смутные сведения по географии, а благодаря
одному дяде, офицеру генерального штаба, знал хорошо ариф-
метику и алгебру до уравнений I степени включительно, а также
планиметрию. Вот весь мой научный багаж, с которым я уехал
из отцовского дома в 14 лет. Никакого религиозного воспита-
ния. Священник нашего семейства, превосходный человек,
которого я очень любил, так как он приносил нам медовые
пряники, дал нам несколько уроков по катехизису, которые
не имели никакого положительного или отрицательного влияния
ни на мои мысли, ни на мои чувства. Я был скорее скептиком,
нежели верующим, или точнее я был равнодушным». «Мои идеи
относительно морали, права, обязанностей были, следовательно,
также смутны. У меня были чувства, но никакого принципа.
Я любил инстинктивно, т.-е. в силу привычки, приобретенной
в детстве, в среде, в которой протекло мое детство. Я любил
добрых и добро, и я ненавидел злых, не будучи в состоянии
отдать себе отчет—в чем состоит добро и зло; я восставал
и возмущался против всякой жестокости и несправедливости.
Я думаю даже, что возмущение и- негодование были первыми
чувствами, развившимися во мне более энергично, нежели
другие». Этим обгоняется то, что он писал в 1851 году Нико-
лаю I. (Исповедь, Москва, 1921 г.,стр. 94)...«Я считал священ-
ным долгом восставать против всякого притеснения, откуда
бы оно ни происходило и на кого бы ни падало»... (См. стра-
ницы 93 — 94, которые заняты его характеристикой, начиная с
детства).
«Мое моральное воспитание,—продолжает Бакунин—было
уже направлено на ложный путь тем фактом, что все мое
материальное, умственное и моральное существование было
основано на кричащей несправедливости, на абсолютной без-
нравственности, на рабстве наших крестьян, которые кормили
наше безделье. Мой отец превосходно сознавал всю безнрав-
ственность такого положения, но будучи практическим
человеком, он никогда нам не говорил об этом и долгое
БАКУНИН
61
слишком долгое время мы не знали об этом. Нако-
нец, у меня была страсть к приключениям. Мой отец, путеше-
ствовавший много, рассказывал нам о странах, которые он видел.
Наши любимые книги, которые мы читали с отцом—были те,
которые описывали путешествия. Мой отец знал очень хорошо
естественные науки, он обожал природу, и он нам передал
страстную любознательность по отношению к ним, не дав нам,
однако, ни малейших научных сведений. Путешествовать, видеть
новые страны и новых людей было нашей всеобщей idee fixe.
Эта постоянная настойчивая идея развивала мою фантазию.
В свободное время я рассказывал себе истории, в которых
я всегда воображал себя убежавшим из дому и ищущим при-
ключений далеко, далеко...“ (В одной из статей, написанных
в России после смерти Бакунина, неизвестный, но хорошо
осведомленный автор, рассказывает, что Бакунин несколько раз
исчезал из отцовского дома, чтобы побродить по Тверской губер-
нии, и что, когда его возвращали назад, он рассказывал о своих
романтических приключениях. Эти побеги сначала беспокоили
отца, но позже, когда его извещали об исчезновении сына, он
приказывал послать беженцу теплую одежду и не беспокоился
больше).
«К этому надо прибавить, что я обожал своих братьев
и в особенности своих сестер, и что я смотрел на отца, как
на своего рода бога». «Таким был я, когда я поступил кадетом
в артиллерийскую школу. Это была моя первая встреча с рус-
ской действительностью».
Этот автобиографический отрывок устанавливает солидную
базу для понимания всей эволюции Бакунина. Ему посчастли-
вилось расти в настоящем оазисе патриархальной семейной
жизни, в среде интеллектуальных, эстетических и сантименталь-
ных стремлений, к тому же в среде, довольно зажиточной. Ребе-
нок, конечно, не знал, что это спокойное счастье основывалось,
с одной стороны, на принудительной работе бедных крепостных,
с другой, благодаря покорности и пассивности, на которые обрек
себя его отец. Либеральная традиция XVIII века эпохи энциклопе-
дистов ему была передана непосредственно отцом, но напуган-
ный Французской Революцией, он не передал ему революцион-
ной традиции. Благодаря этому последнему факту, а также
благодаря тому, что вопрос о крепостничестве не затрагивался,
Бакунин оставался чуждым народу и социальной жизни, что.
вероятно, способствовало необыкновенной интенсификации его
отвлеченной жизни, его стремлениям к моральному и инте-
лектуальному усовершенствованию, которым нехватало еще
главного: политических и социальных требований. Одним словом,
живя в счастливой среде, он стремился к еще большему совер-
шенствованию этой счастливой среды и не знал, что среда
эта являлась очень редким исключением и что она основыва-
лась на несчастии других. Он жил в возвышенных сферах идей
62 М. н Е Т Т Л А У
и чувств, так как случайность рождения не позволила ему еще
познать людское горе. Но всегда он стремился вперед, его
жизнь не знала ни застоя, ни покоя.
Русские читатели по сравнению с другими имеют то пре-
имущество, что они могут проследить последовательные фазисы
жизни Бакунина, начиная с его от‘езда из отцовского дома
в ноябре 1828 года и кончая его возвращением в Премухино
в 1835 году, а также его жизнь в семье и в Москве до его
от'езда в Берлин в 1840 году по замечательному труду А. Корни-
лова «Семейство Бакуниных» (напечатанному в «Русской Мысли»
1909 г.) и книге «Молодые годы Бакунина» (изд. Сабашниковых
Москва 1915 г.)1). Они могут также восстановить умственную
атмосферу тех кругов общества, в которых жил и вращался
молодой Бакунин, на основании обширной литературы, писем,
мемуаров, биографий и исторических очерков, касающихся
людей 30—40 г. г.; они могут просмотреть журналы того вре-
мени, как напр., «Телескоп», в котором помещены переведенные
Бакуниным «Лекции о назначении ученых» Фихте (1836 г.),
«Московский Наблюдатель», где напечатан перевод статьи
Гегеля «Гимназические речи» с интересным предисловием (1838 г.),
«Отечественные записки» 1840 г. с статьей Бакунина о фило-
софии и т. д. Они могут изучить и определить связи Бакунина
и его сестер, роль которых была очень важна в этих кругах,
со Станкевичем, Белинским, Герценом, позже с Тургеневым
и многими другими. Для иностранца невозможно быть в курсе
всех этих трудов, которые, описывая как будто отдельные группы
молодых людей, идеалистически настроенных, на самом деле пи-
шут историю русского революционного движения, задавленного
на время в своем политическом выражении поражением декабри-
стов, но черпавшего новые силы из интенсивной философской
жизни 30-х годов, давшей вскоре новые либеральные, радикаль-
ные, социалистические и, что касается Бакунина, анархистские
ростки.
Так Бакунин, находясь и далеко от патриархального оазиса
лучших традиций XVIII века, в котором он провел свое детство,
пройдя официальное воспитание профессионального милита-
ризма времен Николая I, сумел все же освободиться от влияния
этой среды и найти путь к идеалистическому движению, в кото-
ром его живость, талант, серьезность и интенсивность стремле-
ний выдвинули его очень скоро на первый план. Все это следо-
вало бы изучить тем, кто пожелал бы проследить детально
его эволюцию и все это должны признать те, кто претендует
его судить.
Даже вдали от семейного гнезда, жизнь не была тяжелой
для Бакунина. Один дядя с материнской стороны, К. М. Полто-
!) В настоящее время вышел второй том исследования Корнилова
„Годы странствия Бакунина".
БАКУНИН
63
рацкий увез его с собой в С.-Петербург и поместил его у своей
сестры и ее мужа, богатого собственника Петра Андреевича
Нилова, которые радушно приняли его. Его тетя была интелли-
гентной и симпатичной женщиной, тогда как Нилов пытался
способствовать развитию молодого человека, заставляя его
читать Четьи-Минеи и Жития святых,—что впрочем, помогло
Бакунину отойти от нелепостей ортодоксальной религии.
Выдержав экзамен осенью 1829 г., он поступил в Артиллерий-
скую школу. Проведенные там годы были неприятными годами
официального воспитания, пропитанного патриотизмом и дру-
гими идеями, соответствовавшими системе Николая I и всех
вообще Николаев. Он окончил школу с званием офицера
в январе 1833 года, но освободившись от интерната, должен
был посещать офицерские курсы. Жил он тогда у своей тетки,
позже один. Освобождение от интерната, личная свобода—
были для Бакунина первым большим счастьем. Кроме того,
к этому времени относится его первая пюбовная идиллия
с молоденькой кузиной Марией Воейковой; 18 лет он был
следовательно, счастлив. В августе 1833 года он вернулся
в Премухино к своим родным.
В то время он был хорошо знаком в Петербурге с неко-
торыми из Муравьевых, близких родственников своей матери,
в частности, с стариком Николаем Назаровичем Муравьевым,
бывшим государственным деятелем, человеком осторожным
и опытным, который ввел его в высшие сферы политической и
экономической жизни России. Н. Н. Муравьев был отцом очаро-
вательных дочерей, а позже — Муравьева-Амурского, которого
Бакунин знал мало, так как его не было в Петербурге; с ним он
познакомился 20 лет спустя в Сибири. Другой Муравьев, Але-
ксандр Николаевич, основавший в 1816 году Союз Спасения
декабристов, но ставший потом умеренным и скептиком, был
в 1838 году в Москве в близких отношениях с Михаилом Ба-
куниным. В его дочь Бакунин был влюблен.
До того времени Бакунин знал по философии лишь то, что
о ней говорил Л.. Ф. Лагарп в своем учебнике древней и новой
литературы, который он проходил в школе; только система
Кондильяка была ему знакома. Летом 1833 года, будучи
в лагере, он познакомился с поэзией Веневитинова, которая
произвела на него большое впечатление.
Описание этого впечатления в письме к отцу в 1837 году
(Корнилов) и в письме от 16 января 1834 года к сестрам,
(там же) показывает, что в нем произошел тогда поворот
от чисто внешней жизни, очаровавшей его в первые дни свободы,
к внутренней интенсивной жизни с ее стремлениями к индивиду-
альному совершенствованию, к делению своего счастья с теми,
кого любишь. В этом письме (переведенном с французского
на русский Корниловым), он, например, писал: «Это внутреннее
счастье, основанное на чистоте и невинности сердца, основанное
64
М. НБТТЛАУ
на полной преданности счастью тех, кого любишь, основанное,
наконец, на упражнении своих интеллектуальных сил для
углубления в тайны природы, чтобы направить свои стремления
к возвышенной цели, которая перед нами».
Внезапно Бакунин должен был покинуть Петербург. При
встрече с начальником артиллерийской школы генералом
Сухозанетом, сделавшим якобы грубое замечание Бакунину,
по поводу какого-то отступления .от мундира, Бакунин ответил
довольно резко. Он был отправлен в армию (февраль 1834 года) в
Молодещево, Минской губ., побывал также в Вильне, где на этот раз
перед ним приподнялся отчасти занавес. Он познакомился поближе
с польскими делами и без сомнения заметил пустоту и гнусность
военной жизни вообще. Он заскучал и почувствовал отвраще-
ние к этой жизни. Ему удалось получить отпуск в Премухино
в 1834 году, а затем в 1835 году., после которого он больше
уже не возвращался в армию, так как добился окончательной
отставки. Его отец хотел было поместить его тогда на граждан-
скую службу, но Бакунин отказался наотрез. С этого времени
(последний месяц 1835 г.) его положение по отношению к род-
ным стало очень шатким, хотя и не было ни окончательного
разрыва, ни проявления недружелюбных чувств. Дальнейшей его
судьбой отец не интересовался, что тяжело отзывалось на всей
жизни Бакунина до самой смерти. Ясное положение, каково бы
оно ни было, было бы все же лучшим.
Покинув военную службу, Бакунин рассчитывал поступить
в университет для изучения философии и стать профессором
философии. Разрабатывая свой план, он пришел к заключению,
что этим изучением необходимо заняться за границей и прежде
всего в Берлине, но уехать туда, он смог лишь в июне 1840 г.
Он хотел было уехать со Станкевичем в 1837 году, а затем
с сестрой Варварой в 1838 году. Наконец, в 1840 году
он обратился к Герцену (письмом от 20 августа) с просьбой
дать ему средства учиться три года за границей. Он просил
денег, так как ждал от путешествия духовного перерождения,
чувствуя как мало он еще сделал, как много, в нем глубоких
и могучих возможностей, и боясь величайшего несчастья: посте-
пенного опошления, если он останется в России. На этот раз,
к счастью, он успел. Положение его было затруднительным.
Он не был богат, как Станкевич, ни абсолютно беден, как
Белинский, но у него не было средств, чтобы дать своей жизни
определенное направление. Этим обгоняется, что он провел 5 лет
между Москвою и Премухиным, прежде чем осуществить свой план.
От Канта, которого он не углублял для себя—он перешел
в 1836 году к Фихте и был им очарован. Это было для него
периодом невообразимого идеалистического трансцендентализма.
Вот что он писал по этому поводу своим сестрам 10 августа
1836 г. (перевод с французского)... «Появляются в нас религия,
жизнь внутренняя, и мы чувствуем себя сильными, ибо мы
•
БАКУНИН
65
•чувствуем в себе бога, бога, создающего новый мир—мир абсо-
лютной свободы и абсолютной любви; крещенные в этом
мире и проникнутые этой божественной любовью, мы чувствуем
себя существами божественными и свободными, предназначен-
ными для освобождения человечества, еще порабощенного, все-
ленной, являющейся еще жертвой инстинктивных законов, бес-
сознательного существования. Все что живет, что есть, что
прозябает, что только существует—должно быть свободно,
должно доходить до своего собственного признания, возвышаться
до божественного центра, который одушевляет все сущее.
Абсолютная свобода и абсолютная любовь—вот наши цели;
освобождение человечества и всего мира—вот наше назначение.
У этих возвышенных стремлений не было еще реальной" соци-
альной базы, но сами стремления были уже налицо, и Бакунин
с‘умел найти позже эту базу в анархизме и коммунизме.
В приведенных словах также, как в других этого времени,
замечается нераздельная для него двойственность — он !
требует одновременно наибольшего совершенствования и инди-
видуальной свободы и распространения этих качеств и благ
на всех других, следовательно, свободный индивидуум в свобод-
ном мире и индивидуальное счастье были для него неразрывно
связаны со счастьем всех. Только анархо-солидаристическая I
концепция отвечала стремлениям Бакунина и рано или поздно '
он должен был притти к ней. В нем была потребность,
жажда анархизма, личной и общей свободы. Это предрасположе-
ние было основано, с одной стороны, на его независимом характере,
заставлявшем его быть с самого детства защитником справе-
дливости против всякого насилия, с другой стороны, на его
альтруизме, привитом ему счастливым детством в патриар-
хальной семье добрых родителей и многочисленных сестер и
и братьев. К нему были добры, он был добр к другим и рас-
пространил солидарность на все человечество.
В 1836 году социальные науки были, так сказать, еще неиз-
вестны в России. Только Герцену и его друзьям, изгнанным
тогда из Москвы, были известны идеи Сен-Симона, но эти идеи
не могли распространиться вне этой ограниченной среды. Есте-
ственные науки были формалистическими, чисто описательными
и неотделившимися еще от религии, которую они серьезно не
подрывали. Только одна философия, казалось, планировала над
теологией и механической регистрацией фактов, и казалось, была
единственно способной дать верное решение. Естественно, она
должна была, привлечь внимание Бакунина, жаждавшего достиг-
нуть полного понимания мира и распространения своих дости-
жений на все человечество. Неудивительно, что после крайних
абстракций Фихте, столь красивых, но вместе лишенных реаль-
ного содержания, он набросился в 1837 году на Гегеля, самого
прославленного философа эпохи. Он спустился с облаков чистой
абстракции, но впал в другую крайность, приняв на веру софизм
Очерки. 6
66
М. H Е Т Т Л А У
Гегеля, что все существующее разумно и не может не суще-
ствовать. Известно, что этот парадокс послужил оправданием
всякой реакции, всякой несправедливости и что Бакунин, так-
же : как и Белинский, применил этот тезис к русской действи-
тельности, которая, думали они, должна быть принята не в силу
желания царя, но в силу немецкой философии. Бакунин и Бе-
линский считали себя некоторое время консерваторами, патри-
отами и настоящими философами. К тому времени Герцен и
и его друзья, вернувшись из изгнания, выступили против этого
афоризма и это выступление должно было, конечно, пробудить
у Бакунина и Белинского их здравый смысл и революционный
дух, хотя они и не признались немедленно в своем. заблуж-
дении.'
В эти же годы Бакунин встретился с молодыми славяно-
филами, из которых он очень уважал Константина Аксакова.
В плане национализма—Бакунин познакомился также прежде
всего с его идеалистическими, а не правительственными пред-
ставителями, но эти идеи в их чистоте и кажущейся невинности
нашли себе выгодную почву в чисто русском складе ума Баку-
нина, не имевшего ни французских, ни в особенности немецких
специальных симпатий. Он знал также Чаадаева, инстинктивно
был против Каткова и т. д.
Беглые оценки этой среды имеются в некоторых рукопи-
сях Бакунина и в его письме к Огареву от 23 ноября 1869 г.,
по поводу чтения одной книги о Грановском и т. д. Деликатная,
а иногда трагическая любовь оказывала свое влияние на взаим-
ные связи между многими молодыми людьми этой среды тех
годов. Так, например, одна из сестер Бакунина—невеста Стан-
кевича умерла от чахотки у своих родных, тогда как сам
Станкевич умирал от той же болезни в Италии, где другая
сестра Бакунина замужняя, но несчастная, покинув после дол-
гой борьбы Россию, ухаживала за ним; с другой стороны,
Белинский страдал от несчастной любви к другой сестре Баку-
нина ит. д. Все это, а также невозможность уехать—удручали
Бакунина, который только в июне 1840 года смог, наконец,
осуществить свой план поездки в Берлин.
Эта отсрочка была, с некоторой точки зрения, счастливой.
Если бы Бакунин приехал в Берлин в 1837 или в 1838 году,
он не был бы свидетелем пробуждения радикализма в философ-
ских, политических и социальных идеях, которые начались
в 1840 году. Приехав в 1840 году, он стал свидетелем полного
поражения реакционной философии, явно проявлявшегося в уни-
верситетских лекциях Шеллинга, и видел как с каждым
днем рос и расширялся радикализм левого крыла гегельянства,
так называемых молодых гегельянцев, из которых наиболее
выдающимся был Арнольд Руге в Галле (позже в Дрездене). Он
охотно посещал еще лекции умеренного гегельянца, профессора
Вердера, но после трех семестров, отказался от универси-
БАКУНИН
67
тетского изучения и поселился в Дрездене, где сблизился
с радикальной средой, образовавшейся вокруг Арнольда Руге—
редактора «Немецких ежегодников» (Deutsche Jabrbucher, Лейп-
циг), ежедневной критической газеты, главного органа немецкого
философского радикализма. Его младший брат Павел был тогда
с ним и хорошо знал Тургенева, который был в вос-
хищении от него. Бакунин обольщал своим смелым умом и
серьезным характером многих выдающихся !людей, с которыми
был тогда знаком. Он приблизился, наконец, к реальной жизни,
которую переживал тем более интенсивно, что для этого
приближения потребовалось довольно много времени. В политике
он пошел прямо к конечным выводам, примкнув к крайнему
левому крылу, к абсолютной демократии, что соответствовало от-
рицанию всякой умеренной промежуточной системы, и что
могло быть определено как абсолютная свобода анархизма.
Он смог также познакомиться с мировоззрением тогдаш-
них социалистов. Первой книгой, прочитанной им по этому
вопросу, была книга Лоренца Штейна (1842), излагавшая системы-
французских социалистов Бабефа, Сен-Симона, Фурье и др.
Впоследствии он с жадностью перечитал всю социалистическую
литературу, которую только смог найти.
Можно утверждать, что он немедленно принял социалисти-
ческие идеи, но как и в политике он не примкнул ни к одной
промежуточной умеренной системе, т. к. система всегда—оста-
новка, искусственная стабилизация эволюции, приемлемая,
быть может, для сегоднешнего, но не для завтрашнего дня.
Итак^ в политике—отрицание положительной, заранее опреде-
ленной политики, анархия, а в социализме—отрицание опреде-
ленной, изобретенной и внедряемой сверху системы—таков должен
был быть его социализм. Он—то, что приносит и гарантирует
счастье для всех, и вместе соответствует свободе каждого.
Тогда не было еще для такого понимания социализма никакого
названия, так как слово коммунизм применялось лишь к рели-
гиозному или авторитарному коммунизму, а слово социализм
имело слишком туманный смысл. И, так как он не принимал
участия в тогдашней социалистической и коммунистической
пропаганде, то выступая на собраниях,—он прибегал к философ-
ской терминологии, к языку тогдашней, радикальной немецкой
философии. Он не имел случая уточнить свое понимание соци-
ализма. Но самое движение произвело на него сильное впечат-
ление и он считал неизбежным падение существующей системы
и реорганизацию мира самим народом.
В Дрездене написал свою знаменитую статью, подпи-
санную Жюль Элизар, в которой выступил с критикой врагов
прогресса и радикальной философии. Статья называлась «Реак-
ция в Германии. Письмо француза». Сейчас очень трудно обна-
ружить прогрессивный характер этой статьи, так как философ-
ская терминология, которую оценили тогдашние читатели, нам
5*
68
М. НЕТТЛАУ
не так уже понятна. Демократический принцип—это «Равенство
людей, реализующееся в свободе» («Die in der Freiheit sich
realisierende Gleicheit der Menschen»). Или например, такой
отрывок: «И это изменение демократической партии внутри
самой себя явится не только количественным изменением,
т.-е. не только его нынешнего сепаратного и вместе с тем
дурного существования, боже сохрани,—подобное расширение
означало бы упрощение сего мира и конечным результатом
всей истории было бы абсолютное ничто,—но и качественным,
новым, живым и животворящим откровением; новым небом и
новой землей, молодым и великолепным миром, в котором все
нынешние диссонансы растворяются в гармоническом единстве...
Наш живой источник—в всеобемлющем принципе безусловной
свободы..., той свободы, единственным верным выражением кото-
рой являются справедливость и любовь».
Первые слова, написанные им о социализме, следующие:
«С другой стороны, вокруг нас наблюдается явление, предве-
щающее, что Дух, этот старый крот уже выполнил свою под-
земную работу, что он скоро вновь появится, чтобы совершить
свой суд.— Повсюду, в особенности во Франции и Англии,
образуются религиозно-социалистические союзы G, совершенно
чуждые современному политическому миру, черпающие свою
железную силу из совершенно незнакомых нам источников
и распространяющиеся втихомолку. Народ... занимает повсюду
угрожающее положение и начинает сравнивать с собой, «этим
классом» слабые ряды своих врагов. Все народы и все люди пре-
исполнены каким-то предчувствием, даже в России в этой беско-
нечной и покрытой снегом империи, которую мы так мало знаем
и которой возможно предстоит великое будущее, даже в России
собираются темные облака, предвещающие бурю. О, атмосфера
насыщена, она чревата бурями! Итак, доверимся вечному духу,
который теперь потому разрушает и уничтожает, что он явля-
ется неисчерпаемым и вечно творящим источником всей жизни.
«Дух разрушения—в то же время созидающий дух!».
От этой статьи, вызвавшей радостное одобрение Герцена
и Белинского, берет начало эмигрантская жизнь Бакунина, его
разрыв с официальной Россией, так как Бакунин не уделил ни-
какого внимания просьбе русского посланника—оставить наме-
ченный в статье путь и вернуться в Россию. Бакунин предчув-
ствовал, что дни его пребывания в Германии сочтены и он
воспользовался возвращением Георга Гервега в Швейцарию,
чтобы уехать туда вместе с ним в конце 1842 года; впрочем,
несколькими днями позже, 3-го января 1843 года, журнал Руге
был закрыт, а сам Руге покинул Германию и поселился на
х) Известно, что все издания сен-симонистов выходили под
общим заголовком: „С. Симонистская религия".
БАКУНИН
69
несколько лет в Париже, где Бакунин его встретил снова
в 1844 году.
Георг Гервег (1817—1875), автор чрезвычайно острой по-
литической поэзии «Стихотворения живого человека», путеше-
ствовавший тогда по Германии, был изгнан из Пруссии и спешил
вернуться в Швейцарию. Поверхностное сперва знакомство
с Бакуниным стало скоро интимным. Гервег не был человеком
какой-либо партии или школы, но он был чистым революцио-
нером, по крайней мере, в своих идеях, так как он не был
человеком действия. У него был независимый и широкий склад
ума, нравившийся Бакунину; он был вполне знаком с идеями
Бакунина, который в интимных письмах к нему писал ему об
анархизме не как товарищу по идеям, или как ученику, но
как человеку с широкими взглядами, знакомому с предметом.
Молодая жена Гервега, Эмма Сизмонд имела друзей среди
поляков, что способствовало также их сближению.
В Цюрихе политическая местная среда не имела ничего
привлекательного для Бакунина, а, с другой стороны, Гервег
должен был скоро покинуть Цюрихский кантон. Бакунин, воз-
можный автор другой анархистической статьи, о которой я буду
еще говорить,- написал в мае 1843 года открытое письмо Арнольду
Руге, посланное с острова Руссо на Биенском озере. В нем
он с жаром говорит о «Новом мире свободы и красоты» и
призывает Руге мужественно переносить преследования. Письмо
было напечатано в «Deutsch-Franzosishe Jahrbiicher».— «Фран-
цузско-немецком ежегоднике», журнале Руге и Карла Маркса,
появившемся в Париже вместо запрещенного в Лермании жур-
нала Руге „Немецкого ежегодника" (Deutshe Jahrbiicher) и жур-
нала Карла Маркса «Рейнской газеты»—Reinische Zeitung (Кельн);
новый журнал должен был об’единить французских и немецких
социалистов и радикальных философов. Бакунин приветствует
эту мысль; он признает, что «мы жили уединенной жизнью
в небесах отвлеченных теорий» и что необходимо привлечь на
свою сторону народ, так как мы не защищали народного дела
перед самим народом. В силу этой декларации, следовательно,
Бакунин полностью покидает привилегированную среду абстра-
ктной идеи и отныне .берет свои корни и черпает свои силы
в самом народе.
К тому времени Вейтлинг, немецкий коммунист, автор
„Гарантии гармонии и свободы" (Вевей 1842 г.) приезжает
в Цюрих и входит в сношение с Бакуниным, к которому его
направили его парижские друзья и которого ему рекомендовал
Гервег. Бакунин беседовал с большим интересом с этим видным
представителем коммунизма немецких рабочих, но попытки
Вейтлинга привлечь на свою сторону Бакунина не удались. У
Бакунина не было никакого желания примкнуть к какой-либо
системе или к какой-либо специальной школе. Об этом свиде-
тельствуют несколько его статей, появившихся от 2-го до
70
М.. H Е Т Т Л А У
3-го июня 1843 года в радикальной газете «Швейцарский Рес-
публиканец». Вейтлинг был арестован з Цюрихе и так как
фамилия Бакунина была найдена в его письмах, об этом
факте было сообщено русскому посольству главным инквизито-
ром Цюриха, известным законоведом Блюнчли. С этого момента
русская полиция имела документальную базу, чтобы начать
преследования против Бакунина и она приступила к делу.
Пока что Бакунин уехал к своим друзьям в Нион на бе-
рег Женевского озера. Он побывал также в Лозанне и Женеве.
В дороге к нему присоединился его немецкий друг из Дрездена,
такой-же, как Адольф Фохт из Берна, молодой музыкант Адольф
Рейхель, с которым Бакунин познакомился в этом же году. Рей-
хель остался на всю жизнь его другом. Оба присутствовали при
его смерти, в 1876 году. Бакунин знал хорошо коммунистов
Августа Беккера, Симона Шмита и слегка представителя тогдаш-
него левого крыла коммунизма Вильгельма Марра. Осенью Ба-
кунин поселился в Берне, где дом профессора Фохта и его
жены (сестра братьев Фолен) ему был всегда открыт: он нахо-
дился в большой дружбе с четырьмя сыновьями Фохта—Карлом
(материалистическим натуралистом) Эмилем, Густавом и Адоль-
фом, в особенности с Эмилем и Адольфом.
Однако русская полиция не дремала, а русский агент
в Берне потребовал от Бакунина возвращения в Россию, но
Бакунин не считал необходимым отдаться в руки своих инкви-
зиторов и решил покинуть Швейцарию. Он уехал вместе с Рей-
хелем в Брюссель; здесь он часто посещал старика Иоахима
Лелевеля, одного из польских вождей, который произвел наибо-
лее сильное впечатление на Бакунина. Лелевель был искренним
и бескорыстным энтузиастом, демократом, до некоторой сте-
пени сторонником братства народов; но, он был также защит-
ником исторической Польши и Бакунин был в полной с ним
оппозиции по вопросам Малороссии и Белоруссии,, которые Ле-
левель бесцеремонно включал в свою историческую Польшу.
Эта встреча направила внимание Бакунина, следившего в про-
должение трех последних лет за борьбой и прогрессом немец-
кого и французского радикализма, социализма и вообще демо-
кратизма, на национальные вопросы. В нем пробудилось
национальное русское чувство. Я думаю,' что первоначально оно
было просто чувством национальной самозащиты. Видя, что
поляки ненавидят и презирают русский народ, что порабо-
щенные сами, они желали бы поработить Малороссию и Бело-
руссию, Бакунин почувствовал, что русский народ, как народ,
невиновен в преступлениях своих тиранов, что он представляет
большую ценность и что ему, как и каждому другому народу,
освободившемуся от своих тиранов, предстоит великое будущее.
В Париже, с июля 1844 года до декабря 1847 года Бакунин
жил без связей, без ресурсов, без определенных целей. Он попал
сначала в среду немецких эмигрантов, сгруппировавшихся вокруг
БАКУНИН
71
журнала «Вперед», благодаря Руге, Марксу и другим выдающимся
деятелям. Произошли разногласия, к тому же журнал был за-
прещен и кое-кого изгнали из Франции (в начале 1845 года).
В результате разногласий Бакунин стал относиться холодно
к Руге и никогда не имел сердечных отношений с Марксом,
и Энгельсом, М. Гессом, Карлом Грюном и другими. Но продол-
жал быть в дружбе с Гервегом и с бернскими друзьями. Жил
он. вместе с добрым Рейхелем, дружба с которым не носила
политического характера и была, следовательно, более солидной.
Итак Бакунин отделился от сектантов; ему нравилась среда
совершенно свободная от предрассудков. В Сен-Мало во Франции
он вместе с Гервегом помогал в работах Карлу Фохту, (иссле-
дования фауны, извлеченной из глубины моря),—бывших тогда
научным откровением. Он, вероятно, способствовал зарождению
у этого ученого материалистических идей.
Он был знаком с видными французскими социалистами,
демократами, экономистами и литераторами, но это знакомство
за исключением Прудона, не носило интимного и дружеского
характера. Он видел или встречался, с тремя Араго, с Луи
Бланом, Консидераном, Ламене, Беранже, Виктором Гюго. Жорж
Занд, Феликсом Пио, Мишле, Кине, Паскалем Дюпра, Риберо-
лем, коммунистом Виллегарделем, Маррастом, Леоном Фоше,
Бастиа, Жерарденом, Воловским и с многими другими. Благо-
даря этим знакомствам, он имел полную возможность ознако-
миться со всеми оттенками социализма и демократизма из
.первоисточников. Он посещал также рабочие группы и обще-
ства, но как известно, рабочее движение в эту эпоху, в силу
запретительных законов, было мало развито. Бакунину не доста-
вало знакомства с массовым рабочим движением, т. к. он не
был в Англии, где чартизм, тред-юнионизм, кооперация и ове-
низм—дали бы ему живую идею о рабочем движении. Он оста-
вался, следовательно, в области теорий и вполне сознательно
не примыкал ни к какой из социалистических школ, пользо-
вавшихся тогда известностью, но часто очень узких. Более
всего его привлекал, без сомнения, Прудон, но и по отношению
к нему он оставался независимым и, как рассказывают, проводил
с ним в дисскусйях целые ночи, на подобие московских дисскусий
периода увлечения Бакуниным философией. Он очень ценил
экономические знания Маркса, но не чувствовал симпатий
к авториторизму Маркса. Бакунин был, так сказать, пропитан
социализмом своей эпохи (за исключением английского и аме-
риканского социализма), но подверг все эти социалистиче-
ские оттенки очень суровому просмотру, обусловленному тре-
бованиями свободы и солидарности, которые он считал наиболее
существенными. Отсюда, вытекал его анархизм и коллективизм,
как он их формулировал, начиная с 1864 года, но которые,
выработались в нем конечно, уже значительно раньше. Он не
забывал также и великого дела разрушения, неизбежно
72
М. Н Е Т Т Л А У
предшествующего расцвету подлинного социализма. Он, конечно,,
легко заметил, что большинство, если и не все социалисты
40-х годов в сущности не были революционерами, что они-
надеялись на рождение социализма из добровольных ассоциаций
или из реформистской работы, или, наконец, государственных:
декретов. В Бакунине чувство необходимости творческого разру-
шения было сильно, но чувство это было противно мирным
социалистам эпохи и разделялось только некоторыми бланкистами
или коммунистами, узкий авторитаризм которых отталкивал
от них Бакунина. Я думаю, что именно изолированностью
Бакунина обгоняется, почему он не оставил политических
следов своего тогдашнего.социализма. В то время он мало с кем.
находился в переписке и, так как устная традиция забылась,
неудивительно, что мы так мало осведомлены о фактах того
времени, что, впрочем, не позволяет сомневаться в самой воз-
можности этих фактов.
Он посещал декабриста Николая Тургенева, человека очень
умеренного и, конечно, был знаком с некоторыми русскими эми-
грантами, Николаем Сазоновым и другими, не вступая с ними
в дружеские отношения. За ним, без сомнения, следил некий
Толстой, подозрительный агент, не раскрытый еще тогда, когда
Бакунин приехал в Париж (было бы желательно найти отно-
шения этого агента в русских архивах). Положение его в России
было окончательно определено императорским указом, который,
по предложению сената, лишал Бакунина всех гражданских,
дворянских и имущественных прав и угрожал ему ссылкой
в Сибирь, если он вернется в Россию (декабрь 1844 года).
По этому поводу, Бакунин опубликовал письмо в «Реформе»
(Париж, 27 января, 1845 года). Он написал также в «Конститу-
ционалисте» 10 марта 1846 года) статью по поводу преследо-
ваний в Белоруссии польских монахинь. Это было все, что он
опубликовал до ноября 1847 года. Он виделся со многими рус-
скими приезжавшими в Париж, но его радикализм устрашал их—
или остававшихся скептиками, или сочувствовавших либерализму.
В 1847 «оду он имел моральное и интелектуальное удовлетворение
видеться в продолжение долгого времени с Герценом, Огаревым,.
Белинским, уже близким к смерти, и другими друзьями из своей ,
бывшей московской среды. Все они сомневались некоторое время
в Бакунине, когда обстоятельства заставили его несколько за-
держаться в Москве, но они должны были скоро убедиться,
что Бакунин с того времени далеко ушел вперед и обогнал
их всех, а по отношению к Герцену и Белинскому был по
меньшей мере, им равным. Встреча с ними была на долгое
время для Бакунина последним эхом его страны.
Положение Бакунина было далеко не благоприятным. Про-
ходили годы, родные его забыли, никаких рессурсов у него не
было; его изучение истории, политической экономии и матема-
тики не имело никакой определенной цели. Как писал он
БАКУНИН
73
в «Исповеди» в 1851 году, он иногда готов был броситься
в Сену, чтобы положить конец бесполезной жизни. Однако, ему
казалось, что несмотря на буржуазное благополучие тех лет,
когда высшим лозунгом было «обогащайтесь», революционная
буря уже приближалась и должно было притти и для него время
действия.
Пока что, ему пришлось вновь заняться польскими делами.
После статьи января 1845 года князь Чарторыйский пригласил
его к себе и сам посетил его. Бакунин отклонил предложение
поляков, находившихся в Лондоне — выступить на ежегодном
собрании, посвященном памяти казни декабристов, не желая
еще итти рука об руку с поляками. В 1846 году, после своей
статьи, опубликованной в марте, он думал, однако, подготовить
общее выступление и предложил сам Польской Демократической
Централизации (главная организация неаристократической пар-
тии) пропагандировать среди русских в Польше свои идеи рус-
ской революции, федерации всех славянских стран, славянской
единой и нераздельной республики, федеративной по отношению
к администрации, но централизованной по отношению к внешней
политике. Поляки отказались, считая могущество "Бакунина
слишком незначительным, для реализации своих планов. Пере-
говоры не дали никаких результатов.
С другой стороны, когда Мицкевич, великий поэт, мистик
и слегка националист-федералист собирался об'единить одного
русского, одного поляка, одного чеха и одного еврея в комитете,
чтобы сотрудничать в духе Товянского, Бакунин отказался
быть этим русским.
После событий в Кракове и Познанском герцогстве в 1846
и 1847 г.г. Бакунин познакомился со многими молодыми поль-
скими эмигрантами, чем и об'ясняется приглашение Бакунина
выступить на собрании поляков 29-го ноября 1847 года в память
польского восстания 1830 года. На этот раз Бакунин принял
предложение. Уже б-го сентября он писал своему другу Гервегу
и его жене, что чувствуется «приближение грозы». «Поверьте
мне, скоро все будет хорошо; начинается настоящая жизнь,
мы все будем жить вместе, работать широко и горячо, как все
трое считаем необходимым (Рейхель был женат и Бакунин более
нежил с ним), но я жду еще мою и если Вам угодно, нашу общую
жену—Революцию. Лишь тогда, когда вся земля будет охвачена
пожаром, мы будем действительно счастливы, т.-е. будем
самими собою».
Так он бросился, наконец, в общественную жизнь и произнес
29-го ноября большую речь, неоднократно перепечатанную и
кончающуюся следующими словами: «Примирение России и
Польши является великим делом, достойным того, чтобы ему
всецело посвятить себя. Оно означает—эмансипацию 60-ти мил-
лионов людей, освобождение всех славянских народов, терпящих
иностранное иго, оно означает, наконец, падение, окончательное
74
М. H Е Т Т Л А У
падение деспотизма в Европе. Да наступит же великий день
примирения, когда русские вместе с вами, воодушевленные,
одними и теми же чувствами, борящиеся за одно и то же дело
против общего врага будут иметь право запеть вместе с вами
ваш национальный польский гимн, гимн славянской свободы:
«Еще Польска не сгинела».
Другую речь полякам Бакунин произнес еще 14 февраля
1848 года в Брюсселе, но события в Париже 24 февраля поме-
шали ее публикации. Согласно краткому резюме в «Исповеди»
(1921 г., стр. 63 и 64) он говорит в ней также о великом бу-
дущем славян, о разрушении австрийской империи, о близя-
щейся европейской революции и заканчивает ее словами: «Будем
готовы и когда настанет час, пусть каждый из нас выполнит
свой долг».
В результате речи 29 ноября Бакунин был изгнан из
Франции и накануне рождества уехал в Брюссель, там он вновь
встретился со стариком Делевелем и с многими поляками, среди
которых, однако, царило несогласие. Знакомые Бакунина при-
надлежали скорее к партии аристократов.
После речи в Париже, русское посольство предприняло
против Бакунина войну на нескольких фронтах. От француз-
ского правительства потребовали изгнания Бакунина; в Брюсселе,
где он нашел убежище, распространяли слухи, что он был
вором. Наконец, Гизо дали понять, что он был русским агентом,
вышедшим за рамки своих инструкций. Гизо поспешил сообщить
это князю Чарторыйскому и, таким образом, привести в дви-
жение польские злые языки. Во время февральской республики,
когда Гизо уже больше не было, Ламартин сделал то же сооб-
щение польскому графу Ледоховскому. Когда Бакунин искал
сотрудничества с немецкими демократами, агентство Гаваса и
корреспондент Маркса Эвербек учинили подлог и злоупотребляя
именем Жорж Занд, распространили слухи о существовании
документальных доказательств причастности Бакунина к рус-
ской полиции. Журнал Карла Маркса «Новая Рейнская Газета»
(Кельн), не дав себе труда проверить эти слухи, напечатала их.
Всего этого не было еще достаточно. Когда Бакунин приехал в Бер-
лин, в апреле 1848 года, его приезду туда предшествовал донос,
что он был агентом Ледрю Роллена, следовательно, состоял на фран-
цузском жалованьи и подготовлял убийство Николая I. Три раза
Россия на основании этого доноса требовала выдачи Бакунина от
Пруссии и на основании этого же доноса он был изгнан • из
Пруссии весною 1848 года и с тех пор должен был скрываться,
находясь постоянно под угрозой выдачи за обвинение, которое
он абсолютно отрицал. Это обвинение вошло в судебные доку-
менты его дрезденского процесса (1849/50) и приобрело, таки.м
образом, некоторый вес, что было для него крайне опасно,
когда он был выдан России и когда Николай 1, от которого
скрывали всю подноготную этой гнусной интриги, принял за
БАКУНИН
75
установленный юридический факт, изобретение его собственной
полиции и других лиц парижского посольства во главе с изве-
стным Киселевым. Именно это предубеждение против него
императора и старался рассеять Бакунин своей «Исповедью»
1851 года, стремясь ввести дело в его настоящие рамки.
Он был готов принять ответственность за свои собственные
акты, но не за изобретения гнусных лжецов. Вот какой ценой
Бакунин заплатил за свою парижскую речь; с указанными фак-
тами необходимо считаться, если желаешь составить себе правиль-
ное понятие об «Исповеди». Бакунин немедленно ответил клевет-
никам открытым письмом графу Дю-Шателю, французскому ми-
нистру внутренних дел (7 февраля 1848 года), а позже письмом
в Бреславскую газету «Всеобщая Одерская Газета» 1848 г.
Ай 151). (Allgemeine Oder-Zeitung). Это письмо Маркс перепе-
чатал скрепя сердце маленьким шрифтом на последней стра-
нице приложения в «Новой Рейнской Газете» 16 июня 1848 года.
20 лет позже Бакунин говорит еще об этом в своих рукописях,
которые я опубликовал в свое время.
Перейдем к его деятельности в 1848/1849 году. Бакунин
был необычайно счастлив, когда в Париже вспыхнула Февраль-
ская Революция, и он смог вернуться в Париж. Он провел сча-
стливый месяц, живя в одной из казарм Монтаньяров, находясь
все время с народом, дыша в клубах, собраниях, демонстрациях
воздухом революции. Замечательная страница «Исповеди» опи-
сывает нам этот «месяц революционного опьянения»; о нем же
говорит он в своей статье в «Реформе» (Париж) 13 марта
1848 года. Через ничтожный срок времени — писал он в день,
когда вспыхнула революция в Вене — меньше чем через год,
быть может, мы увидим падение чудовищной Австрийской
империи; освобожденные итальянцы провозгласят итальянскую
республику; немцы, об‘единенные в одну великую нацию про-
возгласят немецкую республику, а польские республиканцы,
эмигрировавшие из Польши 17 лет тому назад, смогут
вернуться к своим очагам. Революционное движение остановится
тогда, когда вся Европа, не исключая даже России, превратится
в одну демократическую федеративную республику».
В этом отрывке выражены великие плодотворные идеи,—
сегодня более, чем когда-либо необходимые, которые будущее
должно осуществить, идеи, что вся Европа должна стать
«демократической федеративной республикой». «Неважно—
будут ли это социалистические организации или федерация
анархистических групп, главное—солидарная федерация, исклю-
чающая национализм, ненависть, войны, связанные с так назы-
ваемой, независимостью наций и государств, независимость ко-
торых означает только ненависть, соперничество, господство
силы, посредством войн, договоров и т. д ».
Если бы Бакунин оставался в 1848/49 годах верен этой
идее, внушенной ему общим стихийным движением народов
76
М. Н Е Т Т Л А У
в 1848 году, он совершил бы великое дело. Он смог бы попы-
таться координировать отдельные движения и сталкиваясь с го-
сударством, как с центром, к которому стремится всякий нацио-
нализм, как с препятствием к миру и настоящей федерации,
он смог бы на 15—16 лет раньше поднять свой голос за раз-
рушение государства. Он бросил бы обильные семена анархизма
в идеалистически настроенную и еще неизверившуюся в себя
среду 1848 года и, победоносная или нет, идея анархизма
имела бы тогда более мощные и широкие предпосылки, чем в 60 го-
дах. Но Бакунин отклонился от этой широкой мысли; с апреля
в нем взяли верх узкие чувства славянского национализма.
Лично он думал, что поступает хорошо. Он хотел действовать
среди своего народа. Но пытаясь отделить славянские народы
от остальной Европы, он должен был бы посеять ненависть,
раздоры,войны и новые военные автократии, которые бы органи-
зовали и центролизовали силы, различных народов для
борьбы одних с другими. Словом, он создал бы Европу подоб-
ную той, которая появилась под влиянием тех же чувств в ре-
зультате событий 1914—1918 г.г. и санкционированную догово-
ром 1919 года и т. д.
Итак, в апреле 1848 года дороги расходились и Бакунин,
известный до того времени безусловной высотой своих концеп-
ций, ограничивается так называемой практической работой,
которую никто не мог бы выполнить с успехом и которая яви-
лась камнем преткновения для его таланта и его великой пре-
данности делу. Он забывает запад, открывает в себе, как он
говорил, «славянское сердце» и выступает в апреле, не во имя
освобождения Европы и человечества, а определенной группы
национальностей; три месяца спустя, он доходит до готовности
броситься в об’ятия Николая I,—как он рассказывает сам. Он
остановился во-время на краю пропасти и стал применять
более осторожную тактику, но как и раньше безрезультатно.
Революционная Дрезденская катастрофа, его поглотившая, не
имела уже ничего общего с его националистическими, револю-
ционными идеями.
Вывод из всего этбго тот, что революция 1848 г. была
к несчастью лишена содействия Бакунина, что бурная жизнь
Бакунина в 1848—49 году не имела ничего общего с его под-
линными идеями, которые он стремился воплотить во всех своих
актах с теми идеями, которые составляли самую сущность его
действия и которые пережили великое затмение, длившееся
почти 15—16 лет. 1864—1874 годы- вполне выкупили то, что
1848 -63 годы потеряли.
Впрочем, необходимо признать, что доселе революции
слагаются из ошибок, совершаемых революционерами и что
ошибки и упущения деятелей 1848 года не более многочисленны,
чем ошибки революционного периода, открытого войнами,
начиная с 1911 г., если уж не восходить к более раннему вре-
БАКУНИН
77
мени. Мы не будем сейчас сравнивать ошибок Бакунина
в 1848/49 году с ошибками других.
Своей непосредственной целью Бакунин поставил поездку
на русскую границу, для агитации среди русских и поляков,
«чтоб не дать готовящейся войне сделаться войной Европы про-
тив России и отбросить этот варварский народ в азиатские
пустыни» как они иногда выражались; и стараться, чтобы
это не была война онемечившихся поляков против русского
народа, но славянская война против Русского Императора.
(«Исповедь», 1921, стр. 67). Здесь необходимо было бы прочесть
не только многочисленные биографические заметки и брошюры
1848/49 года (воззвания, программы, интимные письма), но и
очень подробный рассказ о его планах и идеях, о тех средствах,
которые он искал и не находил, чтобы реализовать их, о его
внутреннем состоянии,которое он изобразил в«Исповеди» и отчасти
в своей письменной защите в Дрездене 1850 года, не говоря уже
о документах двух процессов (Дрезден и Прага 1849/50 и
1850/51 г.г.), которые скоро появятся в немецком издании, но
которые мне еще неизвестны. Здесь следует быть кратким.
Бакунин был вполне изолирован, т. к. в дружеских отношениях
он был только с Гервегом и с лицами, которым этот послед-
ний рекомендовал Бакунина; в Германии—с старыми друзьями
Берлина и Дрездена, которых он посещал, как например, Руге
в Лейпциге. Бакунин обратился к Флокону, Луи-Блану, Альберту
и Ледрю-Роллену с просьбой занять ему две тысячи франков,
для от'езда в Познань «чтоб действовать вместе с польскими
патриотами» («Исповедь» стр. 68). Эту сумму он получил
от Флокона. Он-ознакомился с настроением немецких демокра-
тических кругов в Баденском герцогстве, в Майне, в Франк-
фурте, в Кельне, где поссорился с Марксом, резко критиковав-
шим политическое поведение Гервега, которого Бакунин защи-
щал. В Берлине Бакунин был арестован и должен был отка-
заться от путешествия. Он поехал в Бреславль, где происходили
тогда неофициальные конференции • польских партий, но еще
раз пришел к заключению о невозможности совместной работы
с поляками. Большие надежды он возлагал на славянский кон-
гресс, происходивший тогда в Праге. Там, с ним приключился
как он рассказывал сам, острый припадок славянского национа-
лизма, симпатии к об’единению славян, присутствовавших на
конгрессе, ненависти к немцам. Все было против него:
эгоизм поляков, приверженцев исторической Польши, често-
любие чешских вождей, связанных с австрийским правительством
и желавших стать господами славянской Австрии и т. д. Однако
он разработал широкий план славянской федерации, частично
известный (Statuten der пепел slavischen Politik), основал первое
секретное общество славян, впрочем, немедленно распавшееся,
принял участие в Пражском восстании и давал советы, как за-
щищаться восставшим студентам. Наконец, уехал вновь в Бре-
78 М. Н Е Т Т Л А У
славль. Бакунин до крайности разжег свое национальное чувство,
никто другой не мог бы чувствовать так сильно и так бескоры-
стно; более чем когда-либо, он оставался поэтому изолированным.
Немецкие демократы, принявшие его очень хорошо, тем не менее
не соглашались с его планами славянской федерации; он остался
одинок, настроение его стало невыносимым.
Вот тогда то (между июнем и июлем 1848 года) у него
родился план написать Николаю I, просить у него прощения,
'предложить ему поднять славянское знамя, быть Спасителем,
Отцом и Царем всех славян («быть их спасителем, их отцом
и, об’явив себя царем всех славян, водрузить, наконец, славян-
ское знамя в Восточной Европе на страх немцам и всем прочим
притеснителям и врагам Славянского племени»). Он не закончил
этого длинного письма и сжег его. Он принес большую пользу
делу анархистического воспитания, поведав нам эту историю,
которой никто не мог знать и о которой никто не мог бы и
подумать. Она показывает, куда способен вести национализм,
даже человека с его характером и что может он сделать
с людьми более слабыми.
Бакунин скоро должен был переменить свой образ мыслей.
Он не мог не видеть, что в 1848/49 г.г. Россия не двинулась
вперед (Петрашевский и его друзья были немедленно раздавлены),
что славяне в Австро-Венгрии играли на руку династической
контр-революции, что даже поляки не сумели нанести решитель-
ного удара и только дали несколько вождей и храбрых борцов
немецкой, австрийской и венгерской революциям; он не мог не
видеть, что немцы, австрийские немцы, венгерцы (мадьяры)
и итальянцы восстали, но были подавлены реакцией, опиравшейся
на славян, помогавших с злорадством подавлению этих ре-
волюций. Здравый смысл и революционная честность Бакунина
не позволяли ему закрывать глаза на эти факты и, начиная
со второй половины 1848 года, он поставил себе целью прими-
рить немцев и славян, которых еще недавно старался отде-
лить друг от друга.
После своего изгнания из Пруссии Бакунин проживал
в маленьком герцогстве Ангальт—Кётен в городе Кётен на
полдороге между Берлином и Лейпцигом. Это герцогство вхо-
дило в качестве автономной части в Германию и было своего
рода оазисом, куда стекались беженцы со всех сторон, нередко
делившие вечера в какой-нибудь пивной вместе с министрами,тогда
либерально настроенными. Там Бакунин написал свое «Послание
к славянам» (Кётен 1748 г. 35 стр., польское издание 1849, 40стр.).
В этой брошюре он ставил себе двойную цель: защитить свою сла-
вянскую политику и призвать славян к сотрудничеству с немец-
кой и венгерской революциями, перестав быть орудием контр-
революции. Он предлагал славянам проделать ту самую эволю-
цию, которую проделал он сам, впроче'м, ясно сознавая, что
эта эволюция была для него самого только паллиативом. В таких
БАКУ НИН
79
условиях слова его, очевидно, не могли оказать значительного
влияния на людей, бывших только националистами и не разде-
лявших ни его желаний, ни его потребности подлинной всеобщей
анархистической революции; между тем Бакунин продолжает
мечтать, ждать и желать именно этой настоящей революции.
В письме к своему другу Гервегу (август 1848 года) он говорит;
«мы нуждаемся в чем-то другом, в буре и жизни, в новом
лишенном законов, поэтому, свободном мире». Эти слова могли
быть написаны только вдумчивым и убежденным анархистом.
В другом письме к Гервегу же Бакунин писал 8-го декабря
1848 года: «Другие страсти родят крестьянскую войну, и это
меня радует, так как я не боюсь анархии, но от всей души
желаю ее; она одна вырвет нас из этой проклятой среды,
в которой мы вынуждены прозябать».
Таким образом, ясно, что его революция была социальной
революцией, опирающейся на крестьян, а не политической рево-
люцией буржуазии в больших городах; рабочий пролетариат был
тогда малочислен, и революция естественно должна была начаться
в деревнях и оттуда распространиться в городах при посредстве
рабочих и ремесленников.
Но эти идеи были его интимными идеями. На практике он
должен был ограничиться тем, чтобы попытаться помочь немец-
кой революции, подготовлявшейся с осени 1848 года на будущую
весну и вылившейся в мае 1849 года в обширные восстания,
особенно в Дрездене, Баденском Герцогстве. Аналогичная
революция должна была бы вспыхнуть в Богемии и распро-
страниться на Моравию и словакскую Венгрию. Наконец, проэкти-
ровалась крестьянская революция в немецкой Силезии. Эти движе-
ния должны были помочь венгерской революции; поляки Галиции и
Познани должны были подняться и принять участие во всех
этих революциях. Все это составило бы достаточно мощный
блок, чтобы противостоять австрийской династической армии и
военной интервенции России — двум реальностям из которых
одна раздавила революции в Дрездене и в Бадене, а другая
революцию в Венгрии. За исключением самоотверженной помощи
двух или трех чешских студентов, примеру которых последовало
несколько десятков их товарищей в Праге, и приблизительно
такого же числа студентов, в немецкой Богемии и некоторых
чешских демократов в Праге, рессурсы чешской конспирации
были ничтожны, результаты соответствовали рессурсам: аресты
суд, невероятное число годов заключений в крепости для
Бакунина и для всей этой, молодежи (8 лет спустя, 10 мая
1850 года они были амнистированы). Аресты в ночь с 9-го на
10-е мая, когда был арестован и Бакунин, после б дней рево-
люции в Дрездене и одного дня блуждания с дрезденскими бор-
цами, аресты в Праге, все это произошло раньше, чем проекты
конспираторов начали осуществляться.
80
М. НЕТТЛАУ
Бакунин употребил все силы, чтобы добиться иных
результатов. Несмотря на большой риск, он сам посетил Прагу,
пытался рассеять при содействии центрального комитета демо-
кратических немецких обществ славянские антипатии немецких
демократов; старался помирить чехов и немцев в Богемии,—
основал две тайные самостоятельные организации этих двух
национальностей, которыми хотел руководить сам, об’единяя
таким образом их действия; искал денежной и военной помощи
(через опытных офицеров) у польских демократов в Париже,
а также у венгерцев, через графа Телеки в Париже, но все без
серьезных результатов. Сам он был в это время настолько
беден, что мог существовать сам и содержать двух эмиссаров
в Праге братьев Штраке только благодаря помощи, полученной
из Парижа от друга Рейхеля. Это вопиющее несоответствие
между целью и средствами, разумеется, не характеризует личной
ценности Бакунина (великие вещи характеризуются великими
намерениями), но подобного рода положение несомненно дает
повод об'ективной критике и Бакунин 'Первый имел право
критиковать свое собственное поведение, что и об‘ясняют
некоторые страницы его «Исповеди».
Он покинул Кётен для Лейпцига, потом Лейпциг для Дрез-
дена, где застала его революция 3 мая 1849 года. В Дрездене
он ждал момента отдать себя в распоряжение революции в Праге,
которая но произошла никогда. Он отдал себя в полное распо-
ряжение Дрезденской революции, как только она приняла опре-
деленный характер; с этого момента он принадлежал ей все-
цело. Морально и интеллектуально он был душой защиты не
только, благодаря своей целеустремленности, но и благодаря
своей непобедимой моральной силе. Ему удалось сломить много
препятствий, но он не смог спасти изолированного неукреплен-
ного города от саксонских и прусских армий, быстро прибли-
жавшихся. Не было ни поражения, ни сдачи. Главные защит-
ники в полном вооружении ушли в город Фрейберг (9 мая),
откуда Бакунин, Гейбнер, Рихард Вагнер и еще один товарищ
отправились в город Хеймниц, где думали в безопасности
отдохнуть после 5 или 6 бессонных ночей. Рихард Вагнер нашел
другое убежище и на следующий день перекочевал в Вей-
мар, потом в Цюрих, трое остальных были застигнуты во
время сна и арестованы буржуазными реакционерами. С этой
ночи 1849 года Бакунин стал узником и только благодаря
побегу в 1861 году получил свободу.
• Более подробный анализ его идей должен был бы остано-
виться здесь на его понимании революции. Два проекта, каса-
ющиеся России и Богемии.(1849) о которых он говорит в «Испо-
веди», (стр. 91, 93, 108, 109 и др.), и то, что нам известно,
о его проекте славянской федерации (Прага 1848 г.), дают нам
материал для этого анализа. Но я буду говорить здесь только
об одном факте, который первоначально поражает читателя,© роли,
БАКУНИН
81
которую он предназначал диктатуре. Он ее не любил й не
желал быть диктатором; он рассчитывал погибнуть в револю-
ционной буре и не умел беречь себя для проведения диктатуры.
Но он считал диктатуру все же необходимой в силу быть мо-
жет, двух соображений: он ненавидел парламентаризм, волокиту
и сделки «говорилок», и он не видел еще, чтобы какая либо
инициатива могла выйти непосредственно из недр народа,
и если она даже и была, то в очень слабой степени. Нужно при-
нять еще в соображение отсутствие каких-либо народных дви-
жений на континенте в это время. Банкеты, предшествовавшие
февральским дням, клубы (публичные собрания, почти перма-
нентные), открывшиеся в эти дни, были первыми народными
манифестациями свободы, начиная с эпохи французской рево-
люции и нескольких годов или вернее месяцев послеиюльских
дней 1830 года. Ничего подобного не было ни в России, ни даже
в Богемии, за исключением Праги 1848 года, где, как и в Гер-
мании, клубы, собрания и общества являлись скорее маленькими
парламентами и теряли время в безрезультатных дискуссиях.
Все это способствовало тому, что благожелательная временная
•диктатура представлялась практическим и так сказать педаго-
гическим средством к скорейшему пробуждению народа. Я всегда
скажу, как уже .говорил не раз, что те, кто в этих идеях 1848
и 1851 г.г. находят аргумент для оправдания диктатуры в нашу
э юху, предполагают народ столь же отсталым в 1922 г., каким он
был 70 лет тому назад. Такой неисправимый народ действительно
нуждался бы в постоянной диктатуре, но тогда необходимо громко
провозгласить, что всегда может существовать неспособный
народ и привиллегированный класс, призванный для того, чтобы
быть диктатором.
План Богемской революции (1849 г.) замечателен своим
социальным содержанием. Революция должна быть настолько
разрушительной, чтобы сделать невозможным возврат к ста-
рому, чтобы даже в случае поражения старый порядок не мог
бы быть восстановлен, будучи навсегда уничтоженным матери-
ально. Этот урок очень важен: нерешительные революции
порождают контрреволюционеров, стремящихся к возврату
старого. Революция должна быть полной или она осуждена на
гибель.
Было бы еще интересно сравнить планы тайных обществ
Бакунина того времени с планами, которые он вырабатывал,
начиная с 1864 года. Я думаю, что в этом отношении он много
не изменился; инициатива, исходящая из невидимых революцион-
ных ячеек, прельщала его всегда.
Вот краткий очерк жизни Бакунина до 1849 года. Потом
его поглотила тюрьма, а позже. Сибирь отделила его от всего
мира до 1861 года.
В ночь ареста он был настолько истощон, что был вполне
равнодушен к своей судьбе. Он должен был ждать, что военно-
Очеркп. ®
82
М. Н Е Т Т Л А У
полевой суд присудит его в ближайшие дни к смерти. Его спо-
койствие духа во время перевозки в Дрезден поразило одного
из конвоировавших его прусских офицеров, он позже рассказал
об этом. Относительно первых недель его пребывания в Дрез-
денской тюрьме существует рассказ Фердинанда Кюрнбергера
австрийского радикального писателя, тогда арестованного. Рас-
сказ этот, заключающий много деталей и ценных свидетельств
опубликован в 1850 г. в Бремене и перепечатан в анархиче-
ском журнале «Erkenntniss und Befreiung» в Вене (3 и 31 июля
1921 г.). Кроме того, существует известное описание Рбхеля,
осужденного на смерть в 1850 г. («Восстание Саксонии и тюрьма
в Вальдгейме»). Рбхель остался в тюрьме до 10 января 1862
года; двумя неделями раньше Бакунин вернулся в Европу.
Его ужасная книга показывает—какова бы быле судьба Баку-
нина в Саксонии, если бы он не был выдан Австрии и России.;
Имеется также восемь писем, написанных Бакуниным между
11 октября 1849 года и 11 мая 1850 г. его другу Рейхелю
и его сестре Матильде из крепости Кенигштейн. Эти письма
очень ценны для понимания тогдашнего Бакунина. Существует
еще длинное письмо от 23 марта 1850 года к его адвокату,
в котором содержатся выдержки из написанной им тогда защи-
тительной речи. Это письмо очень полезно сравнить с «Испо-
ведью», первым наброском которой оно является. Я знаком
с этими материалами и с некоторыми еще другими, менее важ-
ными, но существует еще огромная масса документов, относя-
щихся к процессам в Дрездене и в Праге (1850 — 1851 г. г.), в
которые включены допросы, рукописная «Защит а» и все
юридические документы, копии которых были у Николая ],.
когда он решал судьбу Бакунина. Когда эти документы будут
опубликованы (подготовляется немецкое издание), условия жизни
Бакунина за эти два года инквизиции и одиночного заключения
будут известны до конца и надо будет припомнить описания
Сильвио Пеллико, Конфалоньери, Андриана и других, чтобы по-
лучить представление об австрийских тюрьмах, через которые
он прошел. И только тогда можно будет иметь окончательное
суждение об «Исповеди».
Согласно «Исповеди» и по ’другим рассказам Бакунина
известно, что он прибыл в Россию после второго смертного
приговора, замененного, как и первый в 1850 г., бессрочным
тюремным заключением, в состоянии полного отчаяния, в ожидании
нового ухудшения своей судьбы. Но в дороге с ним обходились
прилично; он был посажен в Петропавловскую крепость в Петер-
бурге (приблизительно в июне 1851 г.), где также с ним обхо-
дились хорошо. Насколько нам известно, не было никакого суда.
Два месяца спустя, царь при посредстве графа Орлова попро-
сил заточенного рассказать свою заграничную жизнь. Бакунин
описал ее с искренностью, соответствующей отношениям испо-
ведника и исповедуемого. Бакунин написал свою «Исповедь»-
БАКУНИН
83
я анализирую детально эту книгу в другом месте. Здесь я
только скажу, что чем более я вникаю в эту книгу, тем менее и
менее она меня удивляет; то, что нам в ней не нравится—есть плод
националистических увлечений Бакунина, человека дельного,
шедшего до глубины вещей с той же страстностью, с какой
Белинский исповедывал свой гегельянизм, когда писал «Бородин-
скую годовщину». Форма не имеет серьезного значения. Нико-
лай не возбудил против него судебного преследования, как это
было сделано по отношению к декабристам, петрашевцам и
многим другим. Он стал попросту его тюремщиком и палачом и
Бакунин обращается к нему, как к таковому. Узник защищает свое
дело перед судьями, перед присяжными, отданный же в распоряже-
ние всевластного тюремщика, он получает право действовать, как
может. И если подобная фигура, распоряжающаяся всем, что
касается узника, пред'явит какие-либо специфические требова-
ния, нельзя порицать узника, вынужденного жить с подобным
индивидуумом, за формы его приспособления к «настроениям
грубого животного». Судьбы узников различны, в зависимости
от того, в чьих руках находится их судьба и от тысячи других
вешей, и крайне несправедливо сравнивать поведение узника
1851 года с положением узника 1881 года или 1921 года. Мы не
в римском цирке, где аплодировали гладиатору, умевшему
хорошо умирать и освистывали другого, умиравшего плохо.
Нельзя критиковать ни страдающих, ни больных, ни заключен-
ных в тюрьму. Можно отнестись, поэтому, с презрением к не-
которым комментариям жестоких и малоделикатных людей по
поводу «Исповеди», по поводу письма к Александру II (14 фев-
раля 1858 г.) и по поводу всего того, что было или будет еще
опубликовано из документов подобного рода, которые Бакунин
мог написать из Сибири, когда необходимо ему было добиться
каких-либо бюрократических санкций, иначе недоступных.
В своей «Исповеди» он откровенно говорил царю, что он
не выдаст ничьих тайн, и он сдержал свое слово, как это дока-
зывает анализ документа. Он говорил царю откровенно о кресть-
янах, и об отвратительной правительственной системе, о взя-
точничестве чиновников, о неизбежности социализма, о русской
революции. В общем, Бакунин не оправдал ожиданий царя—не дал
«чистой полной исповеди». Царь, который хорошо понимал это,
отомстил ему тем, что оставил его в одиночном заключе-
нии, тогда как Бакунин просил заменить его любым наказанием,
как бы ни было оно тяжело. Для общительного человека, как
Бакунин, пребывание в Петропавловске было адом.
Он должен был прожить в нем до февраля 1857 года.
Александр II отказал его матери изменить судьбу ее сына, но
князь Горчаков дал понять несчастной матери, что царь ожидал
от Бакунина покорной просьбы. Выбирая между смертью (он
готов был покончить жизнь самоубийством) и жизнью, Баку-
нин подчинился капризу тщеславного палача, требовавшего
6*
84
М. НЕТТЛАУ
в десять раз больше поклонов и просьб, чем Николай, и напи-
сал 14 февраля письмо, приложенное к «Исповеди» (стр. 139—
142). Тогда царь отправил его «в ссылку в Сибирь на поселе-
ние» (19 февраля 1857 года).
Бакунин вышел из Шлиссельбургской крепости, куда, он
был переведен во время Крымской войны, человеком 43 лет,
сильно изменившимся физически. Из стройного мужчины, каким
он был еще до 1849 года, он превратился в того тучного колосса,
каким изображают его портреты 1862 г. и последующих годов,
которому грозили болезни и преждевременная смерть. После
8 лет изоляции, он не был возвращен к среде, в которой он
некогда вращался, но был сослан сначала в Томск, затем с марта
1859 года, в Иркутск; он побывал в Чите и других городах.
В Томске он познакомился с последними сосланными декабри-
стами, со многими поляками, которых он, как раньше, старался
примирить с русскими. Он женился на Антонии, молодой девушке,
дочери польского ссыльного Ксавье Квятковского, которая после
побега Бакунина с большим трудом добилась разрешения
уехать и приехала к нему в Швецию в 1863 году. Он свел
знакомство с молодыми сибиряками — Потаниным и другими,
мечтавшими о независимости Сибири. Некоторых из них Баку-
нин сумел привлечь к кое каким из своих идей. Он проехал по
Восточной Сибири до Читы, в качестве служащего одной ком-
мерческой компании, стал одним из интимных друзей губер-
натора, графа Муравьева Амурского, сына старика М. Н. Муравьева,
с которым он был хорошо знаком в Петербурге в 1833 году.
Среда, в которую попал Бакунин, отличалась широтой взглядов
и была довольно интересной; в ней сталкивались разнообразные
течения. Сибирь переживала тогда период коммерческой эксплоа-
тации страны; там жили колониальной жизнью, стремились
к американизации края. Во главе этого течения стоял Муравьев-
Амурский, вельможа с широкими взглядами, постоянно натал-
кивавшийся на обструкцию всесильных петербургских бюрокра-
тов. Приверженцы формальной доктрины либерализма, как на-
пример Петрашевский и его друзья, не должны были чувствовать
себя вполне хорошо в этой среде крупных дел, своеволия и
интриг, но Бакунин смотрел на вещи более широко.
Ему казалось, что он присутствует при зарождении новой,
богатой ресурсами славянской страны; в Муравьеве-Амурском
он видел человека предназначенного для выполнения этой цели,
энергичного диктатора с широкими взглядами, который, подобно
самому Бакунину, мечтал об освобождении крестьян, о славян-
ской федерации, о войне против Германии, Австро-Венгрии и Тур-
ции с целью освобождения славян. Человека, которого он на-
прасно искал в 1848—1949 году и которого он думал одно время
найти даже в Николае I, он нашел теперь в Иркутске в лице
своего близкого родственника, почти друга, государственного
деятеля с историческим уже именем. Никогда он никого так не
БАКУНИН
85
превозносил, как Муравьева-Амурского в письмах к Герцену от
7 и 15 ноября и 8 декабря 1860 года. Однако все его надежды
рухнули. Муравьев скоро покинул свой пост, занимаемый им с
1848 года, уехал в Париж и не играл более никакой роли. Когда
Бакунин описывал планы и моральный облик Муравьева, он
описывал в сущности самого себя и, излагая идеи Муравьева,
излагал свои собственные идеи. Его письма к Герцену являются
как бы исповедью, в роде «Исповеди» 1851 года. Они показы-
вают, что его национализм, пробудившийся в 1848 году, осо-
бенно был силен в процветающей богатой молодой Сибири.
В 1861 году он надеялся вернуться в Россию, найти и об’еди-
нить подобных себе людей, развить внутри страны освободи-
тельное движение, освободить славянские народы,'стать во главе
движения, постоянно стремясь к цели, которую он никогда не
терял из виду—социальной революции, к восстанию крестьян.
Пусть это были фантазии, но Бакунин, который даже
в тюрьме пытался сделать из Николая осуществителя своей
мечты (Николай написал на полях: «я бы встал в голову рево-
люции славянским Массаниелло спасибо»!), взял за исходную
точку Сибирь и Муравьева-Амурского. Он говорил, «что одна
вера есть уже половина успеха, половина победы» и он вечно
создавал, хотя бы в воображении, новые планы действия, к ко-
торым он приобщал других, чтобы вызвать соответствующее
эхо. Вместо того, чтобы судить и критиковать это, будем
благодарны за такую плодовитость, такое страстное желание
работать везде для своей идеи. Человек умеренного действия,
осторожный и колеблющийся, не мог бы быть Бакуниным.
Все происходившее в Сибири глубоко интересовало Баку-
нина, но в это же время он заметил симптомы пробуждения на
Западе, как он выражался—«таяние снега». Гарибальдийское
движение в Сицилии и Неаполе показывало, что Европа начи-
нала просыпаться. Это, вероятно также, и от’езд Муравьева-Амур-
ского, положивший конец его надеждам вернуться легально
в Россию, заставили его покинуть Сибирь уже по своей соб-
ственной инициативе. Он выехал из Иркутска 5/17 июня 1861
года, сел на американский пароход в Иокогаму в Японии 5/17
сентября, прибыл в Сан-Франциско 15 октября, отсюда напра-
вился в Нью-Йорк через Панаму 15 ноября и наконец приехал
в Лондон 27 декабря. Вначале это путешествие было совер-
шенно легальным, только, чтобы сесть на американский паро-
ход в русском порту необходимо было прибегнуть к хитрости.
В Лондоне он направился к Герцену и Огареву, которые приняли
его с распростертыми об'ятиями.
Чтобы понять лихорадочную деятельность первых дней его
приезда в Лондон, необходим исторический очерк движения
свободной русской прессы заграницей—книг и брошюр Герцена
и Огарева, «Полярной Звезды», «Колокола», зарождения русского
движения в 50-х годах, подпольных изданий того времени«—Be-
86
М. НЕТТЛАУ
ликоросс», «Молодая Россия», «Свобода»; необходима история
«Земли и Воли», пропаганды Чернышевского, Добролюбова и
других, либерального движения земств, в которых некоторые
братья Бакунина (напр. в Тверском земстве) играли довольно
видную роль; необходимо также пересмотреть все то, что резю-
мировано в книге Джаншиева «Эпоха великих реформ», и на-
конец, ознакомиться с источниками польского восстания, которое
стало поперек всей этой русской эволюции и не сумело сотруд-
ничать с нею, также, как впрочем и русские, за исключением
Бакунина, стремившагося координировать все эти движения. Со-
временному читателю, знакомому с острой борьбой, предше-
ствовавшей 1905 году, и событиями, предшествовавшими 1917 году,
необходимо все это знать, чтобы понять к чему стремились
люди 1862 года. Нам хотелось бы поскорее перейти к анархи-
ческому периоду Бакунина, так что мы будем кратки относи-
тельно славянского периода 1862—18бЗг.г., в течение которого
в нем боролись национализм и революция, но революция, в конце
концов, победила.
Бакунин резюмировал свою деятельность этого времени
в одном из писем, столь характерных 1862 года, опубликован-
ных Лемке в «Былом» (Петербург, июль, 1906 г. Стр. 183—214).
В этом письме, адресованном Наталии Бакуниной, жене его
брата (Лондон, 16 июня 1862 г.) он писал: «Несколько слов
о моей теперешней деятельности. Я занимаюсь исключительно
русскими и польскими вопросами и вообще славянским вопросом,
я проповедую горячо и систематически ненависть к немцам,
о которых говорю, то, что Вольтер говорил о боге: «если бы
не было немцев, нам следовало бы их изобресть», т. к. нет
ничего более способного об'единить славян, как глубокая не-
нависть к немцам». Это вполне соответствует тому, что он
писал царю в «Исповеди» (стр. 75): «Ненависть против немцев
есть первое основание славянского единства и взаимного уразу-
мения славян». «Моя специальная страсть—говорил он, в этом
письме, точно также как и в своем первом письме из Сан-
Франциско к Герцену, это—«разрушение Австрии». Герцен в одной
из своих статей, опубликованных в сборнике посмертных сочи-
нений (Женева 1871 г.) описал с скептической иронией нечело-
веские усилия Бакунина восстановить связи с своими бывшими
^славянскими знакомствами времени славянского конгресса
1843 года и завязать новые знакомства с кореспондентами «Ко-
локола» и русской типографии в Лондоне, где Тхоржевский,
старый поляк оказывал ему всякое содействие. Усилия Баку-
нина электризовать людей, пыл которых исчез со времени! 848 г.,
были безрезультатны. Многие из славян, в частности чехи, стали
приверженцами царской России и смотрели с ужасом на Баку-
нина (за исключением одного М. Ф. Фрича, бывшего участника
Парижской конспирации 1849 года).
БАКУНИН
87
Достаточно здесь напомнить главные бакунинские сочине-
ния: а) «Русским Польским и всем Славянским друзьям», (при-
ложение к «Колоколу» 15-го февраля 1862 г.), поздравительное
письмо продолжение которого так и не появилось и которое
должно было быть специально посвящено славянам, Австро-
Венгрии и Турции, б) «Народное Дело. Романов, Пугачев или
Пестель»? (Лондон сентябрь 1862 г. 48 стр.) брошюру, написан-
ную, по словам Огарева (письмо от 12 октября 1863 г.), Баку-
ниным под влиянием примера Мартьянова, бывшего крестьянина,
сочинившего из Лондона письмо Александру II, с призывом стать
земским царем и с обещанием забвения всего за освобождение
крестьян. Бакунин, наоборот, в письме от 19-го июля 1866 г.
об‘ясняет, что предлагая Александру II стать народным или
революционным царем, он понимал всю невозможность этого, но
что он желал таким образом дискредитировать царизм.
Сотрудничество с Герценом и Огаревым было невозмож-
ным и в письме от 20 мая 1862 года Бакунин писал: «Вы правы,
друзья,—оставаться рядом друзьями и союзникими — такова
должна была бы быть моя позиция по отношению к вам».
Серьезные разногласия между ними привели бы их, конечно,
к более быстрому и полному разрыву, если бы польский вопрос
временно не спаял их солидарность, к которой Герцен относился
несколько скептически, но покорно. Три виднейших русских
эмигранта считали необходимым в своих отношениях с поляками,
делившимися на красных и белых, выступать об‘единенной группой.
Происходили бесконечные переговоры, путешествия Бакунина
в Париж, приезд поляков в Лондон, переписка, соглашения и
разрыв, отклики которых находятся в брошюрах Бакунина «Цен-
тральный комитет в Варшаве и военный русский комитет».
Ответ генералу Мирославскому» (Лондон, 1863 г. 24 стр.), позже
«Последнее слово о Л. Мирославском» (Женева 1868 г.) и т. д.
В Польше существовала тогда военная группа русских офице-
ров, из которых один Андрей Потебня ездил нелегально в Лон-
дон, чтобы столковаться с Герценом, Огаревым и Бакуниным
насчет революционного действия во время восстания. Бакунин
выпустил по этому поводу очень редкую брошюру. «К офице-
рам русской армии» (Женева, 1870). Никаких серьезных обеща-
ний не было сделано со стороны поляков и военной группе
русских офицеров оставалось только броситься в битву и умереть.
В России существовала, правда, тайная организация «Земля и
Воля» но, она была настолько осторожна, без инициативы
и без средств, что с Лондоном она почти не имела сношений,
так что Бакунин находился перед неизвестностью, перед при-
зраком, который всегда ускользал от него. Там, где у него были
более реальные связи, имело'место некоторое неблагоразумие,
жертвами которого были Серно-Соловьевич, армянин Налбандиан
и другие. Русская молодежь обожала Чернышевского, а Герцен,
как представитель умеренного либерализма, не был в почете:
88
М. Н Е Т Т Л А У
Огарев вместе с Кельсиевым терялся в напрасных усилиях за-
воевать сектантов, которые готовы были принять поддержку
Лондона, но отступили, узнав пределы подлинного влияния Коло-
кола. Часть русского общества, которая раньше была в восхище-
нии от Герцена, перешла на сторону Каткова во время поль-
ского восстания, так что «Колокол» остался почти без читателей.
Эти краткие указания показывают, что деятельность Баку-
нина, как бы значительна ни была сама по себе в 1862 г.,—не
давала никаких результатов и дать их не могла. Все эти движе-
ния, как и те, кто стоял во главе их, сложились за время его
отсутствия и шли своей рутинной дорогой; среди этих движений
не было места ни для него, ни для его программы, остававшейся
той же, что и в 1848 году, тогда как, с тех пор одни дезертиро-
вали. другие, и в частности молодежь, ушли дальше. Он горел
желанием действовать во что бы то ни стало и помочь полякам
в особенности организацией русского легиона; он поехал бы в
Польшу или в Россию, если бы серьезно требовалось его присут-
ствие там, но такого случая не представлялось.
В начале февраля 1863 года он решил уехать в Стокгольм,
чтобы попытаться оттуда вызвать движение в Финляндии.
25 февраля он приехал из Гамбурга в Копенгаген, но не видя там;
никакой возможности что - либо сделать, несколько днями
.позже уехал в Стокгольм. Он оставался в Швеции до первой
половины октября, решив однако еще в августе (письмо от
19 августа) провести зиму в Италии (дав адреса—Женевы, Генуи,
Флоренции); раньше он вернулся в Лондон (октябрь). Он посе-
тил Мальме с прибытием экспедиции Лапинского (в конце марта)
и делал невероятные усилия, чтобы поднять либеральное мне-
ние в Швеции в пользу любой версии, которая бы была
полезна польскому восстанию и русскому демократическому
движению, представленному тогда обществом «Земля и Воля».
Последнее Бакунин постоянно восхвалял, преувеличивая иногда,
даже наперекор своему убеждению, его влияние. Между тем могу-
щество этого общества, после ареста Чернышевского и М. Серн-
Соловьевича (7 июня 1862 г.) очень пошатнулось и руководилось
между прочим лицом вроде Утина, который и тогда вероятно был не
большим революционером, чем позже. По этому поводу полезно
пересмотреть мемуары Пантелеева и процесс Андрущенко.
Бакунин был горячо принят в Швеции, где, между прочим,
произнес на банкете 28 мая речь, напечатанную в «Колоколе»
(французское издание, Брюссель 10 июля). К тому же времени
относятся его статьи: «Царизм и молодая Россия» в Шведском
журнале «Aftonbiadet» (12/15 и 20 мая), письмо о Финляндии
в том же журнале от 12 и 13 ноября и т. д. Его деятельность
в Швеции не привела, в общем, ни к каким результатам, так
как симпатии шведов носили платонический характер, но за-
щищая энергично идею автономии невеликорусских частей рус-
ской империи и в частности прибалтийских стран, он распро-
БАКУНИН
89
странял идею распадения русского колосса через автономию
его составных частей.
Умеренный характер его пропаганды явствует, например,
из следующего отрывка его речи на банкете 28 мая: «Какова
же наша позиция, позиция тех, кто борется против Петербург-
ского правительства? Мы — консерваторы. Мы против крово-
пролития. Но если кровь должна быть пролита, пусть это
будет не для гибели, но для спасения России и Польши. Мы,
которых именуют революционерами, не республиканцы во
что бы то ни стало. Если бы император Александр II пожелал
честно стать во главе политического и социального обновления
России, если бы он пожелал возвратить свободу всей Польше
и тем частям страны, которые не желают входить в империю,
если бы на место страны Петра, Екатерины и Николая, основан-
ной на силе, он основал бы свободную демократическую народ-
ную Россию с автономной администрацией провинций и если бы
завершая дело, он поднял бы знамя славянской федерации—
тогда вместо того, чтобы бороться против него, мы бы стали
его слугами самыми верными и преданными. Республика и мо-
нархия— слова, которые не при чем, если вся организация бу-
дет построена на подлинной воле народа и поставит своею
целью его свободу».
В 1851 году Бакунин писал Николаю I: «Еслибы вы, госу-
дарь, захотели тогда поднять славянское знамя» («Исповедь»
стр. 98—99); такой же призыв, хотя бы в виде ораторского
приема, он обращает к Александу II в 1863 году перед аудито-
рией, наиболее значимой, какую он только сумел найти. Этой
идеи он придерживался также в 1863 году, как и в 1848 году.
Настоящий националист ищет только воплощения своих целей
и это его бросает в об‘ятия наиболее сильного; итальянские
республиканцы, когда Мадзини и Гарибальди оказались недоста-
точно сильными, пошли за Кавуром и Виктором Эмануилом I;
немецкие республиканцы 1848 года, за немногими исключениями,
стали на сторону Бисмарка, реализовавшего нечто подобное их
национальному идеалу; Бакунин в подобном случае стал бы на
сторону Николая 1 и Александра II, как свидетельствуют его
слова. Кто хоть немного остается - националистом, поглощается
всецело национализмом.
Однако с лета 1863 года Бакунин отдает себе, наконец,
отчет в пустоте своих усилий. Эта новая эволюция отмечена
в его письме к Герцену от 1 августа 1863 г.: «Ты никогда не
был им (т.-е. панславистом) и ты относился всегда с презре-
нием к славянским движениям. Я также не был им, но я при-
нимал горячее участие в славянских движениях и даже теперь
я еще думаю, что славянская федерация является нашим един-
ственным возможным будущим, т. к. только она одна может
удовлетворить в новой, совершенно свободной, форме чувство
величия, которое без сомнения живет в нашем народе, чувство,
90
М. Н Е Т Т Л А У
которое ошибочно пошло или пойдет по коварному пути империи.
Но это еще в далеком будущем, в настоящий момент было бы
глупостью даже думать о славянах,—и если мы можем заняться
ими, то лишь для того, чтобы удержать их от гибельного союза
с современной царской Россией. Я даже забыл о них думать,
весь этот вопрос ограничивается теперь Россией и Польшей.
Да, с поляками трудно. Мало, слишком мало таких с которыми мы
можем жить душа в душу... Так что, друзья, вы были правы в этом
вопросе, а я был не прав: да, даже самый лучший поляк—наш
враг, как русских. И несмотря на это, мы не можем оставаться
вдали от польского движения и сожалеть, что мы вступили на
этот путь... Я непоколебимо убежден, что наш главный враг—
это Петербург, больше чем, французы и англичане, даже больше,
чем немцы. Петербург — это, в действительности, замаски-
рованный немец. Следовательно, ничто не заставит меня
прекратить продолжать войну не на жизнь, а на смерть против
Петербурга. Да, я во всеуслышание отказываюсь от русского
государственного имперского наследства и я буду рад разру-
шению империи, откуда бы не последовало оно. Ясно,
что я не пойду в Россию на буксире французов, англичан,
шведов и их друзей поляков, но если бы мне удалось проник-
нуть внутрь России й одновременно с иностранной войной под-
нять крестьян, я сделал бы это с полным сознанием, что я вы-
полняю священный долг и служу великому русскому делу. Вот
моя вам исповедь...»
В то время весной 1864 г.—он ждал войны против России
(письмо от 29 августа комитету «Земли и воли»). В этом же
месяце он готовился к своему осеннему и зимнему путешествию.
Начиная с этого времени Италия становится в продолжение
4-х лет полем его деятельности. Во время путешествия он хотел
познакомиться с демократическим и революционным настроением
Европы, вероятно, в предвидении войны против России, которая
ему казалась неизбежной. Кроме того, он видел, что, оставаясь
в Лондоне, он будет все более и более отдаляться от Герцена
и Огарева; приезд его жены из Сибири в Стокгольм мог еще
более укрепить его в намерении осуществить свое путешествие.
Одним словом, пришел конец того длинного, исключительно
славянского периода, который начался в апреле 1848 г. и кончился
приблизительно в июне 1863 г. Уже своей продолжительностью
период этот доказывает, как в Бакунине было сильно чувство
национальной идеи. Отныне он отдает себя всецело анархизму
и социальной революции.
Путешествуя в целях ознакомления с настроениями евро-
пейской демократии и свидания с своими старыми друзьями,
он побывал в Брюсселе, в Париже (где тогда же или во в(ремя
путешествия в 1864 г. он познакомился с братьями Эли и Элизе
Реклю), Женеве, вероятно, также в Берне, где он увиделся
с Фохтами и Рейхелями, в Турине (где не видел Кошута. 'если
БАКУНИН
91
тот был тогда там), в Генуе, на острове Капрера (Гарибальди),
во Флоренции, где он провел зиму. После нескольких недель
пребывания на берегу моря в Антиньяно—он совершил новое
путешествие в Швецию (от августа до октября 1864 г.), непо-
средственная цель которого нам осталась неизвестна, провел
несколько дней в Лондоне (от конца октября до 4 ноября) и
вернулся во Флоренцию через Брюссель и Париж, где видел
в последний раз Прудона. Он вновь поселился во Флоренции;
проездом в Сорренто в июне, он в первый раз остановился
в Неаполе, куда приехал еще раз в октябре 1866 г. С этого
числа до августа 1867 г. он оставался в Неаполе, летом в его
окрестностях.
Эти годы спасли Бакунина для нас. Они освободили его
от той бесполезной и беспорядочной траты его энергии, которая
характеризует 1862/63 г.г. Письма Герцена и Огарева между
1 сентября и 12 октября 1863 г., которые, быть может, никогда
не были отправлены, заключают в себе резкую и одновременно
благодушную критику его образа действий, так что мы отсылаем
читателя к ним. Бакунин должен был познакомиться в Италии
с более утонченными способами конспирации и маневрирования,
чем его собственные способы; это служило ему уроком, он более
не делал ложных шагов. Он наблюдал также на юге национа-
листические движения, к которым везде примешивалось «немного
наполеоновского яду», что не мешало итальянскому правитель-
ству утилизировать национализм. Он должен был видеть, на-
сколько национализм в.этих странах был антагонистом социа-
лизма, так как национализм является прежде всего одним из
органов местного честолюбивого капитализма. Одним словом,
Бакунин убедился, что примитивный, народный, бунтарский
национализм, который он думал видеть у славянских народов
и который было его загипнотизировал на западе, испорчен
политикой больших государств, капитализмом и вместо того,
чтобы вести к федерализму, являвшемуся для Бакунина неот‘е-
млемой принадлежностью всякой независимости, вел скорее
к государственности и войне. Он понял, наконец, что недоста-
точно толкать вперед людей уже с готовыми мировоззрениями,
связанных с существующими уже движениями, но что необхо-
димо создать людей всецело преданных именно его делу, а для
этого нужна широкая организация и выработка самих идей.
И тогда он горячо отдался новой более серьезной работе.
Он начал с распространения своих идей среди итальянских
франкмасонов (Флоренция); вероятно по этому случаю он в пер-
вый раз формулировал сущность своих идей. Остались только
обрывки рукописи, остальное было уничтожено. Его идеи не
были восприняты и он оставил этот путь.
Он попытался организовать местный кружок из молодых
людей буржуа и рабочих; кружок не особенно удался во Фло-
ренции, но имел большой успех в Неаполе, начиная с 1865 г.
92
М. Н Е Т Т Л А У
От этого последнего кружка зародилось «общество свободы и
справедливости» (1866), которое в 1867 г. издавало журнал того-
же названия. Из этой то среды вышли люди, которые в начале-
1869 г. основали в Неаполе секцию Интернационала. В анархи-
ческую группу этой секции во время Парижской Коммуны,,
весною 1871 г. вошел человек, живущий еще и по сию пору,
Энрико Малатеста.
Между наиболее опытными членами этих групп и такими
же членами других групп других стран установились интимные
связи, которые принимали формы тайного общества. Там,,
где общество было многочисленно (это было только в Италии),
оно об'единяло различные группы различных категорий: интер-
национальные, национальные, провинциальные и т. п. Осталось
большое количество уставов или проектов с длинными введе-
ниями, в которых ясно выражены анархические принципы. Фор-
мальная сторона этого движения имеет абсолютно второсте-
пенное значение, но результат работы был важен тем, что
выдвинул ряд людей, выступивших с пропагандой анархических
идей, начиная с осени 1867 г. 1868 и последующих годов.
Анархические идеи Бакунина, впервые выраженные в ясной и
точной форме, разбросаны в очень редких теперь литературных
документах, частью не найденных или вовсе потерянных (конца
1863 и следующих годов до лета 1867 г.). Документы эти
состоят из писем, отрывков масонских рукописей, бумаг
секретной организации, из некоторых неапольских подпольных
публикаций, как, например, «Итальянское положение» (октябрь
1866 г.) и из некоторых редких статей (мне неизвестных),
опубликованных в двух журналах в Неаполе и т. д. Из письма
к Герцену от 8 октября 1865 г. мы узнаем, что он написал
статью для «Колокола», в которой выступал против мирного не-
революционного социализма, что он подготовлял брошюру, почти
книгу об этом же предмете; все это потеряно. Отыскание всех
этих документов — дело очень трудное, но неважно, датирован
ли 1864 или 1865 годом первый документ, с изложением анархи-
ческих идей. Важно то, что идеи эти не были результатом
импровизации той эпохи, но что они существовали уже из
давна и что довольно было небольшего промежутка времени,
некоторых усилий, чтобы идеи эти получили письменное вы-
ражение.
Тайное общество было организовано, вероятно, в 1864 году
и существовало уже во время путешествия Бакунина в Лондон,
если основываться только на масонских рукописях, где гово-
рится о папском силлабусе (декабрь 1864 года); во всяком слу-
чае, эти фрагменты датированы 1865 годом. Теоретические-
декларации секретного общества появились, вероятно, в первой
середине 1866 года, но ясно, что им должны были предшество-
вать другие писания, начиная с 1864 года, которых мы больше
не имеем.
БАКУНИН
93
Вот некоторые выдержки из этих масонских документов:
«Франмасонство . , . если оно хоть сколько либо пожелает
остаться верным своей первоначальной цели, должно желать
полного освобождения человека и свободной организации чело-
вечества на развалинах всякой власти». . . «Пусть не гневаются
на нас половинчатые философы и мыслители и все наши братья
франмасоны, которые именем великого архитектора мира же-
лают основать новую церковь и новый культ, если мы скажем,
что они считают возможным согласовать идею о боге с чело-
веческой свободой. В этом алфавите, фатально логическом и
последовательном, тот, кто произносит первую букву, абсолютно
должен дойти до последней; тот, кто обожает бога, должен
пожертвовать человеческим достоинством и свободою. Если бог
существует, то человек—раб. Если человек свободен, то нет
бога. Никто не сумеет выйти из этого круга».
«.. . Конечная цель всего человеческого развития это
создание посредством свободы порядка в соли-
дарном человечестве. Свободы нет в начале истории,
она в середине и особенно в конце истории, которая по суще-
ству является ни чем иным, как постепенным освобождением
человеческого рода».
«Труд, следовательно, не есть ни наказание, ни проклятие,
ни позор, ни знак упадка и рабства, как этому нас учит Биб-
лия, и как мы должны были бы думать, принимая во внимание
все политические и социальные учреждения, продолжающие еще
бесчестить нашу землю. Труд свободный и разумный резю-
мирует в себе, напротив, все могущество человека, его достоин-
ство и его право—так как труд является тем самым актом,
посредством которого человек, создавая свой мир, делает себя
человеком.»
«Свободный труд необходимо является с о-
трудничеством... Ясно, что свобода не отрицание солидар-
ности, но, наоборот, ее продукт, ее об’яснение, ее сознание,
ее мысль. Без свободы солидарность осталась бы вечно бес-
смысленной—по крайней мере на земле и по отношению к чело-
веку—тогда как без солидарности свобода никогда не могла бы
существовать».
«Уничтожение исторического права и права
в силу завоеваний. Уничтожение политики
экспансии, внешнего могущества государства и
увеличения его влияния внутри страны. Каждый
народ, каждая страна, каждая провинция, малей-
шая коммуна имеют абсолютное пр ав о» (здесь руко-
пись прерывается: дело идет о праве самоопределения до пол-
ного отделения включительно).
Существует краткое резюме главных идей этой рабо-
ты; в нем говорится, например: «Всякая последовательная и
серьезная теософия должна в конечном результате притти
94
М. Н Е Т Т Л А У
к мизантропической теории божественного откровения и власти;
но, в свою очередь, эта теория в силу логической неизбежности
выражается на практике в форме власти церкви и государства,
в форме деспотизма князей, в форме лицемерной и грубой
эксплоатации народных масс в пользу развращенного меньшин-
ства. Основное положение всякой религии и в особенности хри-
стианской церкви—это то, что людская масса глупа, зла, неве-
жественна, стихийна и неспособна не только создать социаль-
ный порядок, но даже терпеть его, и что необходимо для ее же
собственного блага надеть на нее намордник и управлять ей
твердою рукою. Итак,' кто говорит—бог, тот говорит—челове-
ческая неспособность, тот говорит—откровение, власть, благо-
дать, говорит — священники, так как без священников нет
ни бога, ни религии, ни метафизики. А тот, кто говорит свя-
щенники—говорит управление людей священниками, деспотизм
князей, систематическая эксплоатация, невежество, нищета,
рабство и отупение народов. Бог есть, следовательно, человек—
раб. Человек может, должен быть свободным—следовательно,
бога, нет — невозможно выйти из этой дилеммы. Теперь
выбирайте».
«Человеческий разум отбирая у неба и бога то, что
принадлежит людям и земле, утверждая в нас самих, в нашем созна-
нии и в нашей мысли нашего бога, т.-е. принцип истины, кра-
соты, справедливости и добра—тем самым об‘являет нас совер-
шеннолетними, способными и достойными управлять самими
собою. На развалинах человеческой и божественной власти он
воздвигает^храм свободы».. . «Он знает, что кроме свободы, нет
других средств возвысить, морализировать и очеловечить лю-
дей». . . «Неправда, что свобода одного ограничивается свободой
всех других. Я действительно свободен только тогда, когда моя
свобода, отражаясь, как в зеркале, в свободном .сознании всех
других индивидуумов, отдается мне свободно и признана всеми».
(Другая версия) «Я действительно свободен настолько, насколько
моя свобода, свободно признанная и отраженная, как в зеркале,
в свободном сознании всех других, находит свое подтверждение
и свое бесконечное расширение в их свободе. Человек действи-
тельно свободен только тогда, когда он окружен такими же
свободными людьми.. .; индивидуальная свобода настолько невоз-
можна без всемирной солидарности, что рабство одного какого
нибудь человека на земле, будучи оскорблением принципа чело-
вечности, является отрицанием свободы каждого».
«Человеческое общество, появившееся вначале как есте-
ственный факт, предшествовавший свободе и пробуждению мысли
среди людей, ставший позже религиозным фактом, организован-
ным сообразно принципу божественной—человеческой власти,
должно перестроиться на базе свободы, которая должна отныне
стать основным принципом ее политической и экономической
организации».
БАКУНИН
. 95
Эти рассуждения те же, что мы находили и в «Мотивиро-
ванном Предложении» 1868 г. (Федерализм, Социализм и Анти-
теологизм), в рукописях, часть которых составляет «Бог и госу-
дарство» (1871 г.). Иными словами, рукописи первых месяцев
1865 года показывают, что анархические идеи у Бакунина были
тогда уже на той же ступени развития, что и в 1868 и в 1871 г.
То же самое мы констатируем и по отношению к его
идеям чисто политическим и социальным, если сравнить доку-
менты секретного общества и подпольные издания 1866 г,
с документами времени Интернационала. Я не могу цитировать
здесь длинных отрывков рукописи, переписанной княгиней
Л. С. Оболенской (66 стр.). В этой рукописи после короткой
главы «Цель общества» находится обширный «Революционный
Катехизис», содержащий массу деталей, которые Бакунин, при-
знавал сам бесполезными, но оправдывал тем, что писал их для
итальянцев, почти незнакомых с новыми идеями. Эта рукопись
почти полностью напечатана в моей биографии (1898). Она все-
цело пропитана анархизмом и социализмом.
Рядом с этой отрицательной частью находится и констру-
ктивная—федерализм. Очень характерно для Бакунина, что
здесь он чрезмерно положителен, чрезмерно конструктивен и
регулятивен, но таким он был всегда, начиная от проекта 1848 г.
до последних писаний. Это мое личное впечатление; мне кажется,
что свободу, которую он так широко дает в своей отрицатель-
ной части, он умаляет федерализмом, об’единяющим свободные
единицы (имеющие автономию, право отделения и т. д.); он
должен был бы оставить строительство свободному опыту, пред-
положить возможность существования или, как говорит Мала-
теста, мирного сожительства различных способов организации
социальной жизни одной возле другой. Но кроме этой критики,
если можно это назвать критикой, идеи его полны настроения,
получившего выражение в письме к Герцену от 19 июня 1866 г.
В этом письме он говорил, что, как социалист, он враг всякого
государства вообще, так как государство несовместимо с истинно-
свободным и широким развитием интересов народа, что только
в случае, если он считает себя государственным социалистом,
он может мириться с опасной и ужасной ложью «правитель-
ственного демократизма», красного бюрократизма и пр.
В общем, программы его основаны на трех неразрывно
связанных вещах: атеизме, социализме и федерализме (второе По-
ложение 1868 г.), федерализме,социализме и антитеологизме (моти-
вированное Предложение), материалистическом атеизме, анар-
хизме и федерализме (Болонский с‘езд итальянской секции Интер-
национала 1873 г.). Устранение власти, которую он преследует
и уничтожает во всех ее самых скрытых источниках и то
исключительное место, которое он уделяет солидарности,
выраженной федерализмом, являются характерными чертами
бакунинского анархизма, точно так же, как ясное осознание
96
М. НЕТТЛАУ
подлинного разрушения и полной, до конца идущей социальной
революции.
Об этом интернациональном братстве, своеобразной интим-
ной связи между Бакуниным и его товарищами, как бы ее ни
называть—дает нам представление его письмо к Герцену (19 июля
1866 г.), доставленное последнему княгиней Оболенской, предан-
ной подругой Бакунина этих годов, а также глава «между-
народный союз социалистов революционеров» (стр. 301 —317)
редкой книги «Историческое развитие Интернационала» (1873).
Имеются также собственноручные документы-Бакунина, Мрочков-
ского, Оболенской, затем итальянские уставы, напечатанные неле-
гально; один устав на французском языке, вероятно напечатанный
в 1868 г. типографом Герцена Чернецким в Женеве; имеется
несколько писем 1866 г. (из Палермо и Неаполя), описывающие
интимную жизнь общества и его отношение к национальному
вопросу во время войны 1866 г., наконец, письмо Бакунина
начала 1869 г., которое находится в напечатанной корреспон-
денции, а также имеются рукописи, касающиеся последних
событий и т. д., не говоря уже об устных свидетельствах. Сло-
вом, имеется достаточно материала.
В эти годы Герцен отошел от русской молодежи, которая
относилась к нему с пренебрежением. Бакунин становится на
ею место, как показывает письмо 1866 г. (19-го июля), в кото-
ром много деталей, касающихся русской жизни и горячая защита
Каракозова и русской молодежи.
В общем, эти годы, как будто проведенные в бездействии,
на самом деде, позволили Бакунину развить, начиная с сен-
тября 1867 г. необычайную деятельность, длившуюся 7 лет
(до сентября 1874 г.), являющуюся апогеем его жизни. В 1862 г.
он еще не знал, в каком направлении итти, мечтал о реванше
1848 г. и на это безрезультатное дело затратил 18 месяцев.
В сентябре 1867 г., когда он выступил на конгрессе европей-
ской демократии в Женеве, он был уже и на высоте положения,
чувствовал себя отдохнувшим, готов был расширить свою дея-
тельность, которой занимался в годы кажущейся летар-
гии в Италии.
Боязнь франко-прусской войны, из-за Люксембурга в 1867 г.
вызвала движение в пользу мира, которое после многих
демонстраций приняло форму Конгресса мира, состоявшегося
в Женеве в сентябре. Вожди европейской демократии при-
няли участие в работах Конгресса (за исключением Мадзини,
некоторых поляков и Герцена). Этот Конгресс являлся одновре-
менно демонстрацией против государственного переворота и На-
полеона 111 во Франции, против Пруссии и Бисмарка в Герма-
нии в против папы в Риме (выступление Гарибальди). Была
основана «Лига Мира и Свободы» которой, казалось, предстояло
длительное существование, но которая вскоре потускнела.
10-го сентября Бакунин выступил с речью перед представителями
БАКУНИН
97
демократии, в которой резюмировал свои идеи: всякое централи-
зованное государство, как бы оно себя не называло и как бы
оно ни казалось либеральным, хотя бы оно и было республи-
кой—является в силу необходимости поработителем и эксплоата-
тором народа и трудящихся масс в пользу интересов привиле-
гированного класса. Для этого оно нуждается в армии, а армия
толкает его на войну. Каждая нация, будь она сильной или
слабой, большой или маленькой, каждая провинция, каждая
коммуна имеют абсолютное право быть свободными, автоном-
ными и управлять собой сообразно своим собственным интере-
сам и потребностям. Мы должны, следовательно, желать распы-
ления централизованных государств, желать, чтобы на разва-
линах насильственных единиц появились свободные, возникшие
не по инициативе сверху, но в силу свободного творчества
снизу, организованные в свободную федерацию коммун каждой
провинции, в свободную федерацию провинций каждой нации,
всех наций в соединенные европейские штаты.
На банкете 12-го сентября он произнес тост за процве-
тание Лиги и будущих конгрессов, которые должны расширить
и углубить установленные принципы, об'единить разбросанные по
миру республики и способствовать водворению настоящей демо-
кратии посредством «федерализма, социализма и ан-
титеологизма».
Конгресс Интернационала, заседавший в это время в Ло-
занне, отправил приветствие Женевскому конгрессу и назначил
для передачи своего приветствия делегатами—Де-Папа (Брюссель),
Толена (Париж) и Ж. Гильома (Швейцарская Юра). Эти деле-
гаты впервые встретились тогда с Бакуниным; с похвалой об нем
отозвался в одной из своих речей Лонге (приверженец Прудона).
Бакунин считал полезным принимать активное участие
в этой Лиге, в центральном комитете которой он был одним из
двух русских членов; другим членом был Николай Жуковский,
эмигрант, разделявший тогда идеи Бакунина. Разделяли их так-
же два польские представителя, в особенности Валериан Мроч-
ковский и Ян Загорский; Альфред Наке из Парижа также при-
надлежал к этой интимной группе. Председателем комитета
был профессор Густав Фохт, которого, как и его братьев, Бакунин
знал еще с 1843 года, но между ними не было ни, настоящей
дружбы, ни общности идей. Отношения их были хорошими.
На заседаниях комитета 20 и 21 октября, происходивших
в Берне, Бакунин, поддерживаемый вышеназванными членами,
предложил свои идеи; комитет встал на его точку зрения в
вопросах федерализма и религии, но отклонил его социалистиче-
ские идеи. Предложенные Бакуниным тезисы появились в бро-
шюре под заглавием «Мотивированное предложение русских
членов перманентного комитета Лиги». Название самсч^книги:
«Революционный вопрос. Федерализм, социологизм, антитеоло-
гизм». Брошюра начала печататься в Берне, но не была
Очерки. 1
98
М. Н Е Т Т Л А У
закончена; то, что от нее осталось, было опубликовано впервые,
как мне кажется, только в 1895 году, в первом томе «Сочине-
ний Бакунина» (Париж Изд.-Сток).
В первой половине 1868 г. Бакунин написал еще резюме
своих идей, которые впервые было опубликовано и широко
распространено в специальных номерах журнала «Демократия»
Шассена (Париж, весна 1868 г.). В этом документе, который
никогда не был переиздан, находится, между прочим, следующая
фраза: «Равенство без свободы нездоровая фикция, созданная
плутами, чтобы обмануть глупцов». Для того, чтобы дать-
представление о том, с каким недоверием надо относиться
к словам Маркса против Бакунина, даже когда он цитирует
документы, отметим что в брошюре «Альянс» (Лондон 1873),.
подписанной Марксом, Энгельсом и другими находится цитата
этой фразы в ковы ч к а х, но в следующей форме: «невмеша-
тельство в политику — глупость, изобретенная жуликами, чтобы
обмануть идиотов».
Бакунин написал еще ряд рукописей, которые должны
были составить брошюру «Революционный вопрос в России
и в Польше» летом 1868 г., но ни одна не была опубликована.
Лига Мира и Свободы и ее центральный комитет об'еди-
няли по преимуществу демократов—буржуа, антисоциалистов или
лже-социалистов и усилия Бакунина и его некоторых товари-
щей оставались без особых результатов; с ними соглашались
на антирелигиозной и федералистической почве, но не на соци-
альной. Такого рода отношение проглядывает ясно в принятой
на заседаниях 31 мая—1-го июня в Берне декларации предва-
рительных принципов, которая должна была быть представлена
второму конгрессу Лиги (Берн, Октябрь, 1868). Обе стороны
чувствовали бессилие малопопулярной организации, державшейся
в стороне от международной Ассоциации работников. Это было
высказано в секретном недатированном циркуляре, в котором
говорилось (цитирую немецкий тест, подписанный Фохтом и Бе-
ком): «Чтобы быть здоровой, действительной силой, наша Лига
должна стать чисто-политическим выражением грандиозных
социально-экономических ’интересов и принципов, которые ныне
так победно развиваются и распространяются «Великой Между-
народной 'Ассоциацией рабочих Европы и Америки».
Брюссельский конгресс Интернационала (сентябрь 1868 г.) ‘
получил приглашение Бернского с'езда. В самой Лиге существо-
вали разногласия по вопросу о сношениях, которые Лига хо-
тела завязать с Интернационалом. Некоторые полагали, что
Лига имеет свои собственные задачи: мир, федерализм наук про-
тив религии и пр. Члены Интернационала Женевской центральной
секции предполагали (согласно письму Шарля Перрона, делегата
в Брюсселе, к Бакунину, имевшему уже связи с некоторыми
членами Интернационала и ставшему членом центральной сек-
ции в июле), что рабочая полномочная делегация будет послана
БАКУНИН
99
на Конгресс, чтобы совместно выработать с Лигой общую про-
грамму социальных и политических реформ, долженствующую
стать революционной программой всей Европы.» Очень вероятно,
что таково было мнение и Бакунина, полагавшего, что Лига и
Интернационал придут к соглашению, об‘единившись на какой-
либо программе, близкой к его личной тройной программе;
федерализма, антитеологизма (Лига), и социализма (Интернаци-
онал). Бакунин предполагал расширить влияние своего секретного
общества в двух дружественных обществах.
Интернационал, еще мало оформившийся в эпоху Лозаннского
конгресса (1867), достиг прямого влияния в 1868 г., после двух про-
цессов в Париже (март и май), больших забастовок и избиения
рабочих в Бельгии (Шарлеруа), большой забастовки в Женеве
(март—апрель),разрыва интернационалистов с радикалами в Швей-
царской Юре и т. д. Жуковский рассказывает, что Бакунин,
благодаря ему, пришел к убеждению о необходимости примкнуть
к рабочему движению. Бакунин сам это хорошо понимал, но
он колебался войти в общество, генеральный совет которого
находился определенно под руководством Карла Маркса.
Бакунин ненавидел Маркса от всей души, считая его, од-
нако, крупным талантом и уважая его экономические знания.
Он знал, что их мысли по славянскому вопросу были в полном
противоречии, так как, хотя Маркс был другом Польши, но не
верил в революционные или даже в прогрессивные предрасполо-
жения других славянских наций. Во время проезда Бакунина
через Лондон в 1864 г. Маркс попросил у него свидания и полу-
чил от Бакунина ответ (письмо 27 октября), в котором говори-
лось только, «что ему будет большое удовольствие встретиться
с старым знакомым».
— Маркс посетил его, если не ошибаюсь, 3-го ноября. Он
писал Энгельсу: «Должен сказать, что Бакунин мне очень пон-
равился, больше чем раньше... В общем он—один из немногих,
кто за последние 16 лет пошел не назад, а вперед». Свидание
было, следовательно, дружеское.—Бакунин взял на себя обяза-
тельство пропагандировать Интернационал (основанный 29-го сен-
тября! 864 г.) во Флоренции, и даже опубликовать итальянский
перевод уставов и торжественного адреса, которые, по просьбе
Маркса, он адресовал также Гарибальди. Но в письме от 7-го фев-
раля 1865 г., найденном в бумагах Маркса, Бакунин писал ему (из
Флоренции) про трудности социалистической пропаганды в Ита-
лии. Переписка этим, кажется, и кончилась, Маркс, конечно,
стремился заручиться поддержкой Бакунина, которого он знал,
как социалиста, имеющего связи с наиболее передовыми италь-
янскими демократами и пользовавшегося большим влиянием,
чтобы помешать планам Мадзини, стремившегося в первую
эпоху Интернационала втянуть его в свою политическую игру и,
имевшего некоторый успех у англичан. Как мы видели, Бакунин
начал уже тогда об'единять своих друзей в секретную группу
7*
100
M. W Е Т Т Л А У
и, конечно, не хотел говорить об этом Марксу (он не говорил
об этом даже Герцену до 1866 г.) Эта деятельность, как он ее
понимал, находилась в противоречии с публичной агитацией
Интернационала, тогда в значительной мере бессильной, по-
скольку все активные элементы были захвачены националисти
ческими движениями, а рабочие оставались равнодушными или
состояли членами рабочих, основанных Мадзини, групп. Понятно,
следовательно, почему Бакунин мало интересовался Интернацио-
налом до 1867 года. Интернационал до событий, давших ему
в 1866 году новую жизнь, являлся довольно безвредной органи-
зацией—механической агломерацией секций и рабочих обществ
не имевшей ни революционного духа, ни ярко выраженных со-
циалистических идей.
В таких условиях мысль о дружественном сотрудниче-
стве двух обществ вовсе не была нелепой. И так как все
думали тогда, что скоро должны притти, если не война, то
республиканские революции, по крайней мере, в латинских
странах, то казалось неплохим, чтобы, передовые демократи-
ческие элементы и наилучше организованные рабочие элементы
вступили бы в контакт. Если бы дело шло об каком - либо ан-
глийском обществе в роде «Лиги реформ», Маркс не противился'
бы дружеским сношениям с нею, но он боялся, что континен-
тальные движения ускользнут от его влйяния и потому не
хотел этой франко-швейцарской Лиги с немецкими и славян-
скими демократами, друзьями Бакунина. Он приказал своим
ученикам выступить против сотрудничества и Брюссельский
конгресс заявил, «что делегаты Интернационала считают, что
существование Лиги Мира не имеет смысла ввиду деятельности
Интернационала и приглашают Лигу присоединиться к послед-
нему, а членов ее войти в ту или другую секцию Интернацио-
нала» (Предложение принятое всеми голосами против трех, из
коих один Де-Пап).
Имеется длинное и очень интересное письмо Бакунина
к Густаву Фохту, в котором он советует Лиге не обращать
внимания «на дерзость и явную несправедливость», оставаться
по отношению к Интернационалу на прежней позиции и стре-
миться к осуществлению целей Альянса, имеющаго быть соз-
данным в ближайшее время. Письмо кончается так: «Я попросил
бы разрешения ответить от имени центрального комитета на
их дерзкое предложение; в ответе я скажу еще с большей
ясностью то, что написал тебе».
На Конгрессе в Берне (от 21 до 25 сентября 1868 г.) Ба-
кунин произнес четыре больших речи, которые, если судить
по опубликованному тексту, являются наиболее замечательными
из его произведений. В возвышенной форме, с соблюдением всех
нужных пропорций, что так часто не достает его другим писа-
ниям, они излагают совокупность его социальных, философских
и политических идей. В особенности замечательны его речи о
БАКУНИН
101
религии, свободные мысли о государствах и национальностях, а
также изложение его федерализма, ставящего своей конечной
целью «растворение всех государств во всемирной федерации
производственных, свободных ассоциаций всех стран».
Они его друзья были в меньшинстве. Вопрос признания со-
циализма Лигою, предложенный Бакуниным, был поставлен на
голосование и уже вечером 23-го был отвергнут большинством;
предложение немецкого демократа доктора Ленендорфа было
принято Германией, Англией, Францией, Швецией, Испанией,
Швейцарией и Мексикой; предложение Бакунина—Россией, Поль-
шей, Италией и Американскими Соединенными Штатами. Мень-
шинство продолжало принимать участие в работах Конгресса,
но 25-го на последнем сеансе Бакунин прочел коллективный
протест инакомыслящих членов Конгресса с заявлением об уходе
из Лиги 18 членов. Среди них—Элизе Реклю, Аристид Рей,
Виктор Жюкляр, Коллер, Ж. Бедуш, Альбер Ришар, Фанелли,
Туччи, Фрисчиа, Жуковский, Загорский, Мрочковский и др.
Известно, из рассказа самого Бакунина 1873 года, что
даже если бы большинство и приняло социалистическое предло-
жение, то завязалась бы новая борьба по поводу вопросов о
коллективной собственности, уничтожении юридических норм,
уничтожении государств. Покинув Лигу, члены тайного Брат-
ства высказались единогласно за свое вступление в Интерна-
ционал, но французские и итальянские члены желали, чтобы
наряду с их интимным обществом, продолжавшим существовать,
существовало бы и независимое открытое общество, которое бы
защищало их идеи, в то время как члены секретного обще-
ства входили бы индивидуально в Интернационал. Бакунин был
противоположного мнения; но было решено, что закрытое об-
щество войдет в Интернационал, как часть его, и примет его
программу, работая, однако, для своей специальной цели; что
центральный комитет его будет в Женеве, а членами комитета
будут Шарль Перрон, Броссе, Гети, Дюваль, Бакунин, Ж. Ф.
Бехер и Загорский.
В специально выпущенном листке было об’явлено об орга-
низации союза «Международного союза социалистической демо-
кратии», входящего всецело в великую «международную ассо-
циацию рабочих», который ставит своей целью изучение поли-
тических и философских вопросов на основе великого принципа
всемирного и действительного равенства всех людей на земле.
Программа «центральной секции» этого общества гласила:
1) Альянс заявляет себя атеистическим. Он стремится
к уничтожению культов и к замене, веры наукой, божественной
справедливости человеческой справедливостью.
2) Он стремится прежде всего к политическому, экономи-
ческому и социальному уравнению классов и индивидуумов
обоих полов, начиная с уничтожения права на наследство, дабы
в будущем потребление каждого определялось его собственной
102
М. Н Е Т T Л А У
производительностью; чтобы, согласно решению, принятому по-
следним конгрессом рабочих в Брюсселе, земля, орудия труда,
как и всякий другой капитал, становясь коллективной собствен-
ностью всего общества, могли бы быть использованы только
трудящимися, т.-е. сельско-хозяйственными и индустриальными
ассоциациями.
3 и 4) Высказываются против «всякого политического дей-
ствия, которое не имело бы своей немедленной и прямой целью
торжества рабочего дела против капитала».
5) Он признает, что все политические и авторитарные,
ныне существующие, государства все более и более сводятся
к простым административным формам общественной службы и
должны исчезнуть во всемирном об'единении свободных сельско-
хозяйственных и индустриальных ассоциаций.
6) Так как социальной вопрос может быть окончательно
и действительно разрешен только на основе интернациональной
и всемирной солидарности трудящихся всех стран, то союз от-
клоняет всякую политику, основанную на так называемом пат-
риотизме и на соперничестве наций.
7) Союз стремится к всемирной ассоциации через свободу
всех местных ассоциаций».
. Листок заканчивался заявлением, что общество будет из-
давать орган «Революция». Последний никогда не появился.
Первая группа была основана 28 октября в Женеве, в нее
вошли 25 членов. Бакунин принимал в ней активное участие, и
26 июня группа преобразовалась в «Секцию Союза социалисти-
ческой демократии», под каковым названием она и продолжала
существовать.
Известно, что здесь и начинается деятельность Бакунина
в самом Интернационале. С самого начала эта деятельность
была осложнена различными формальными препятствиями, быв-
шими результатом столкновения авторитарного и умеренного
крыла ассоциации с революционным и анархистским тече-
нием, представленным Бакуниным и его товарищами.
В продолжение долгого времени Бакунин желал работать
в коллективе, который бы ему нравился и которого до того
времени он не находил; контакт с возбужденными, симпатиче-
ски к нему настроенными массами его очаровал. Он писал
Герцену 28 октября 1869 г.: «это единственная среда на Западе,
в которую я верю, как верю в Россию, крестьян и в интелли-
гентную среду независимых молодых людей, в эту фалангу
сорока тысяч, которая принадлежит революции».
Итак Бакунин, не отрекаясь от своих идей и не ограни-
чиваясь узким бесцветным увриеризмом, принялся с жаром, за
работу, заключавшуюся в том, чтобы расширить Интернационал,
усилить его социалистическое сознание и распространить в массе
анархистские и коллективистические идеи, которые он так
часто формулировал,'начиная с 1864 года. Он продолжал считать
БАКУНИН
103
самым главным—«коллективное действие невидимой организации
сознательных революционеров, распространенное на все страны».
Он видел спасение «только в анархии, направляемой всюду
непобедимым могучим коллективом — единственно допустимой
форме диктатуры, так как только она совместима с искренностью
и энергией революционного движения». (Письмо от 7 февраля
1870 года к А. Ришару). Так он думал всегда, как показывают
1848—49 г.г„ но по мере того, как зрели его идеи, он все более
•и более придавал значение анонимному невидимому характеру ини-
циативы революционеров, оставшихся в общих рядах, но ценных
революционным духом, мужеством, самоотверженностью и той
особой силой, которую им сообщал коллективный разум, т.-е.
разум друзей, с которыми они были связаны. Он стремится
именно у них возбудить инициативу и отнять ее, таким обра-
зом, у честолюбцев. Здесь не место разбирать эту методу; ему
она казалась единственно правильной и необходимо принять
во внимание молодое, примитивное состояние тогдашних дви- .
жений. Весь вопрос в том, можно ли представить открытый и
свободный анархизм без этих таинственных пружин.
Бакунин думал, как думаем и мы, и как будут думать
всегда, что жизнь более широка, нежели число приверженцев
какой-либо специальной идеи. Он ясно понимал (и этому во-
просу он посвятил много страниц, например, в своих письмах
из Испании), что Интернационал и Союз не должны были
сливаться; Интернационал об'единяет рабочую массу, ко- ;
торой не следовало навязывать какой-либо специальной идеи ;
или программы, за исключением идеи солидарности в эконо- ।
•мической борьбе. Союз же состоит из сознательных революци- !
онеров, которые, когда того требует ситуация, берут на себя
инициативу, не могущую быть предоставленной случаю. Проб-
лема эта продолжает существовать и в наши дни, но бла-
годаря успехам движения, инициатива становится открытой,
публичной, самозарождающейся — и это тем лучше. Не надо,
следовательно, смотреть на положение вещей эпохи Бакунина
с презрением, или же брать их за образец, как не следует насме-
хаться над машиной, построенной век тому назад, или брать
сейчас, ее как модель.
Немыслимо углубляться в массу деталей, касающихся
Союза. Зимой 1868—69 года была проделана трудная работа
•отбора всех этих групп, одно время довольно многочисленных.
Казалось одно время даже, что рядом будут существовать че-
тыре организации: Интернационал, Открытый Альянс, Тайный
Альянс и Интернациональное Братство. Маркс, осведомленный обо
всем этом только перебежчиками или через случайные доку-
менты и находившийся как бы перед закрытой дверью, казалось,
действительно, принимал все это всерьез. На самом деле такого
:рода громоздкий механизм никогда не существовал, и два фак-
тора способствовали зимой разложению всей этой фантаста-
104
М. НЕТТЛАУ
ческой организации. С одной стороны, проникновение в эту
среду Утина, чуждого ей и внесшего семена раздора, благодаря
бесхарактерности Б. Малона и других. С другой стороны, сам
Бакунин отошел от этих бессильных без него элементов и по-
строил новую организацию,—тайный союз, который, как бы он
ни назывался, был ни чем иным, как частным контактом между
наиболее активными деятелями движения. Эта новая группа
организовалась весною или летом 1869 года. Бакунин должен
был постоянно сражаться с двумя противниками: с государством
и буржуазией, против которых он вел открытую атаку, против
швейцарских рабочих политиков, против Маркса и марксистов,
которые оспаривали у него каждый вершок почвы, если не
нападали с тылу.
В продолжение некоторого времени влияние Бакунина на
рабочую массу Женевы, в особенности на землекопов, было так
• велико, что политические вожди, вышедшие из часовщиков и
’ других цехов точной механики, должны были, скрепя сердце,
переносить его деятельность. По инициативе Бакунина было,
например, выпущено воззвание к испанским рабочим (21 октября
1868 года). 23 ноября он произнес речь по поводу дела Бодена,
написал уставы Федерации романских секций Швейцарии (кон-
гресс 3 января), помог осуществлению нового журнала «Равен-
ство» (письмо в специальном номере 16 декабря), а когда этот
орган начал регулярно появляться с 23 января 1869 г., усердно со-
трудничал в нем и от июля до сентября был его главным ре-
дактором, замещая Перрона. Именно в это время. появилась
серия статей международной пропаганды, образцовая в смысле
широкого народного просвещения, одновременно—элементарного,
возвышенного и 'систематического. Там были разработаны темы
о синдикализме, основных линиях социальной борьбы, главных пре-
пятствиях, мешающих успехам социализма, и т. д. «Усыпители»,
«Интегральное образование», «Суд господина Куллери», «Политика
Интернационала», «Гора», «Доклад по вопросу о наследстве» о
«кооперации»,—таковы статьи Бакунина, перепечатанные позже
в «Сочинениях» (том. V Париж 1911). Он присутствовал на
многих собраниях секции Союза и принимал участие в малей-
ших проявлениях жизни секций. Он совершил путешествие в Юру,
где в Локле произнес 21 февраля речь о «Философии народа»;
за время с 1 марта до октября он напечатал в «Прогрессе»
(Локль) серию статей о патриотизме («Сочинения», том I
Париж 1865 г.). Тогда же он познакомился с Джемсом Гиль-
омом, с Адемаром Швицгебалем, Августом Спичигером, Фрицем
Робертом и другими преданными товарищами, защищавшими
антиавторитарные идеи в Интернационале. Все это детально опи-
сано в книге «Интернационал, документы и воспоминания»
(1864—78 г.г.) Джемса Гильома (Париж (1905—10 г.г.).Эта книга
содержит материалы, взятые из юрских публикаций того вре-
мени («Прогресс», «Солидарность», «Бюллетень») материалы,.
БАКУНИН
105
касающиеся жизни Бакунина того времени, взятые из моей
биографии (1898—1900) и его рукописного приложения (1905)
и из других источников, а также личные воспоминания
Гильома и воспоминания старых интернационалистов и т. д.
Эта книга взята в основу книги «Маркс и Бакунин» доктора
Фрица Брупбахера из Цюриха (Мюнхен 1917). Быть может,
ни одно движение эпохи не было так тщательно разработано и
представлено читателю, как эта пропаганда Бакунина в Интер-
национале, в особенности в Швейцарии. Однако, это не мешает
появлению книг, в роде книги некоего Иекка или доклада об
Альянсе 1873 года и других лживых описаний. Игнорировать точ-
ные источники, когда они легко могут быть под рукою каждого,
непростительно; к указанным документам необходимо прибавить
историю Альянса в Женеве, написанную самим Бакуниным
в 1871 году и опубликованную в его «Сочинениях» том V
(Париж 1913 г.). Укажем еще на три реферата, прочтенные им
рабочим «Вал де Сен-Димье» (Бернская Юра) в мае 1871 года.
Представление о международной деятельности Бакунина
дает его письмо к Огареву (Локарно, 23 ноября 1869 г.),
в котором он говорит, что находится в переписке с сорока
четырьмя корреспондентами; 19-ти корреспондентам он писал
один раз, а иногда два или три раза в неделю; шести два раза
в месяц, всем остальным каждые два месяца. Во время подго-
товки к выступлению по поводу франко-немецкой войны он писал
Огареву И августа 1870 г.: «В три дня я написал двадцать три
больших письма;—это маленькое письмо является двадцать че-
твертым; в моей голове за это время созрел целый план». Сохра-
нился огромный список фамилий, местностей, организаций, партий,
относящийся к последним месяцам 1869 года и служивший для
секретной переписки. Он позволяет расшифровать некоторые
из писем отправленных в Лион и позволяет видеть, каковы были
главные предметы его внимания, кто был его товарищем и кто про-
тивником. Но многое из этих материалов уничтожено и потеряно
и некоторые вещи трудно восстановить на основании сохранив-
шихся отрывков. Следовательно, серьезное изучение Бакунина,
начиная с 1869 г., возможно только при внимательном изучении
его связей с движениями в таких странах, как Швейцария,
Франция, Италия, Испания и прежде всего Россия. Кроме^ того,
необходимо сгруппировать факты, относящиеся к борьбе с Мар-
ксом, к Альянсу, к попыткам организовать движение в 1870 году
в Марселе и Лионе, прибавить изучение его теоретических
произведений, появлявшихся отрывками, так как втянутый в более
необходимую работу он не имел ни времени, ни средств для при-
готовления и публикации окончательной книги. Необходимо также
резюмировать факты его личной внутренней жизни, набросав
его психологический портрет, материал для которого дает
между прочим его корреспонденция этих годов с Герценом
и Огаревым.
106
М. Н Е Т Т Л А У
В практических вопросах Бакунин теперь так далек от
Герцена, что не было больше смысла в спорах и старая дружба
возобновилась. Что касается Огарева, то хотя он и сблизился
с Бакуниным, но он был так дряхл, что переписка между ним и
Бакуниным часто носит трогательный характер болтовни двух
стариков.
Укажу еще на кое-какие из сделанных уже специаль-
ных работ. Имеется абсолютно все, касающееся Швейцарии,
очень многое из касающегося Маркса и Лондонского гене-
рального совета, конгрессов Интернационала и т. п. в книге
Гильома (Интернационал 1905—1910); я резюмировал главные
материалы о Бакунине и итальянском движении (1854—1872),
об Интернационале и Союзе в Испании (1868—1873), о русском
движении от 1868 до 1873 г.г. в небольших монографиях (54,
60 и 65 стр.), опубликованных в 1912—1913—1915 г.г. водной
немецкой публикации по «Истории социализма»;к этому можно
прибавить то, что сказано об Италии от 1872 г. до смерти
Бакунина в моей биографии Малатесты (1922 г.). Для других мо-
ментов необходимо постоянно справляться с многочисленными
оригинальными документами, каковая работа облегчена, благодаря
6-ти томному «Собранию Сочинений» (Париж 1895 — 1913), со-
ставленному на основании рукописей и оригинальных изданий,
и к которому скоро прибавится 7-й, оставшийся незаконченным
у Гильома, умершего в 1917 г.
Так как для выполнения бакунинских планов, требовались
преданность и большое умственное развитие со стороны' его
интимных товарищей, то для настоящего понимания всего
того, что он сделал, и того, что ему не удалось сделать,—необ-
ходимо знать всех людей, молодых и старых, которые прошли
через его жизнь; из них некоторые оставались привязан-
ными к нему на очень долгое время. Для всех этих людей эпоха
сотрудничества с Бакуниным является наиболее важной эпохой
их жизни, в течение которой они дали лучшее, что было в них:
немногие из них сумели выдержать пожирающую интенсив-
ность тогдашней жизни агитатора. Были, падения, разочарова-
ния, но неутомимый Бакунин всегда был готов начать все
сначала. Иногда эти люди были настоящими психологиче-
скими проблемами, которые Бакунин сумел расшифровать с боль-
шим трудом и слишком поздно, например, Нечаева. Но он умел
находить невероятное количество преданных, молодых, велико-
душных людей. Его секретная организация быча ни чем иным,
как попыткой поставить на настоящее место всех, наиболее
подходивших для данного дела, координировать, поскольку
возможно, их усилия — слабых в изолированности, но сильных
при солидарности, которую им терпеливо прививал Бакунин.
У современного читателя уже не может бы гь личных воспоминаний
об этих людях, за исключением Гильома, Малатесты, Росса и
нескольких других, которые были или еще находятся среди нас.
БАКУНИН
107
Здесь не место рисовать их портреты. Необходимо, следова-
тельно, здесь оборвать рассказ и принять на веру те несколько
слов, которые могут быть сказаны отно-сительно периода меж-
дународной деятельности Бакунина от конца 1868 года до лета
1874 года.
Политическая революция в Испании в 1868 году родила
счастливую мысль о поездке Джузеппе Фанелли, интимного това-
рища Бакунина и Пизакане, итальянского анархиста революци
-онера, мученика Сапри (1857 г.), в Испанию. Путешествие состо-
ялось зимою после Бернского конгресса и Фанелли с‘умел найти
в Мадриде и Барцелоне людей образованных, которые образовали
первые секции Интернационала. Последние вместе с тем органи-
зовали собственный Союз, секретное общество, являвшееся
невидимой ячейкой в секциях Интернационала. Анархистические
идеи распространились таким образом в Испании с самого
начала движения и запоздалые усилия Маркса насадить там
рабочую политику при помощи своего зятя Поля Лафарга (1871 г.—
1872 г.), кончились полной неудачей.
Политиканствующий социализм не привился в Испании.
Огромное влияние здесь революционного синдикализма и анар-
хизма является результатом упорной работы, начавшейся от
путешествия Фанелли и «Интернационального братства» Баку-
нина и продолжавшейся, несмотря на самые жестокие пресле-
дования.
В Италии толчок был менее сильным, хотя Неапольская
группа Союза, основанная товарищами Бакунина во время его
пребывания в Италии, с 1865 года взяла на себя инициативу
организации Интернационала, прежде всего в Неаполе в начале
1869 года. В Флоренции, в Сицилии, в Милане и т. д. также
не были пассивными, но здесь нехватало того решительного
-импульса, каким была в 1871 году Парижская Коммуна и анти-
социалистическое гнусное отношение Мадзини к Коммуне и Ин-
тернационалу. Об этом я буду говорить ниже.
Что касается Ф р а н ц и и, здесь социалистическое и интер-
националистическое движение не нуждались в инициативе извне
и революционные течения, подготовлявшие падение империи, не
могли определяться влиянием Бакунина, пребывавшего в Швейца-
рии. Однако, Интернационал, находившийся слишком долго в руках
таких людей, как Толен и Фрибург, под оболочкой очень уме-
ренного прудонизма скрывавших отсутствие социалистического
революционного духа, начал с 1868 года ориентироваться на
коллективизм и скоро в особенности после Базельского кон-
гресса (1869 г.) примкнул не к анархизму, но к идеям сходным
с идеями революционного синдикализма. У Бакунина были лишь
поверхностные связи с Ели и Елизе Реклю, А. Наке, Аристидом
Рей, Бедушем и др., не игравшими активной роли в
Интернационале последнего времени. Более прямые связи он
имел с Поль Робеном; очень близкие отношения имел с неко-
108 М. НЕТТЛАУ
торыми интернационалистами в Лионе, в особенности с А. Риша-
ром, Ж. Бланом, Паликсом; в Марселе с Бастеллико, а позже
с Алериви (Корсика). Но Гильом в Юре был другом Е. Варлена
и так установился косвенный контакт между Бакуниным и Вар-
деном, душою Интернационала в Париже.
Русская пропаганда должна была начаться изданием жур-
нала, для печатания которого в марте 1868 года вошли в со-
глашение с одной типографией в Верне. Этот журнал, инициа-
тива которого принадлежала по преимуществу Жуковскому,
появился 1-го сентября 1868 года в Женеве. Назывался он „На-
родное дело“. Программа его была составлена Жуковским.
Бакунин поместил в нем две статьи: одна из них—«Постановка
революционных вопросов». I. «Наука и народ». Благодаря путе-
шествию одного члена петербургской группы в которую входили
Ткачев, братья Аметистовы и др., этот номер был доставлен
в Петербург и прочитан с огромным интересом. Номер был и
целиком и по частям скопирован и распространен. На Нечаева
журнал произвел большое впечатление и изложенные в нем идеи
стали существенной частью его умственного багажа. С этого
времени внимание Нечаева должно было быть направлено на
Бакунина, т. к. тогдашняя молодежь не была знакома с его со-
циалистическими идеями и причисляла его скорее к старым
эмигрантам—Герцену и Огареву, принимая во внимание их соли-
дарные выступления и их личную дружбу. К несчастью, в Кла-
ране, где жид Бакунин, вертелся также У тин, человек тще-
славный и богатый, которого Бакунин не уважал и который не
будучи в состоянии выступать непосредственно против Бакунина,
интриговал против него. Он успел отделить Бакунина от «На-
родного дела» (декларация 14-го октября), подкапывался под
группу «Интернациональное братство» (январь 1869 г.), старался
подорвать дружбу княгини Оболенской с Бакуниным.
Именно в этот момент Нечаев приехал в Женеву (апрель 1869).
Необходим был бы целый том, чтобы разобраться в отношениях,
в которых Бакунин был жертвою излишка доброты и энтузиазма.
Свой идеал молодого, энергичного, вышедшего из народа рево-
люционера он увидел осуществленным в Нечаеве, который ни-
чего не имел против такого взгляда на себя и избалованный
чрезмерным вниманием, стал решительным деспотом, причинил
много неприятностей Бакунину и другим и позже искупил свою
некрасивую деятельность долгими годами мучений и жестокою
смертью в тюрьме (Петро-павловская крепость в мае 1883 г.).
Я подробно останавливался на различных фазисах этого очень
сложного дела. («Архивы по истории социализма» «Archiv fur
die Geschichte des Socialismus» том V стр. 374—403,412—414,
1915 г.). Я думаю, что уже до от'езда Нечаева ив Петербурге и
в Москве было гораздо более значительное движение, хотя
неорганизованное, но руководимое несколькими группами, к
которым принадлежал Ткачев и др., чем обыкновенно предпо-
БАКУНИН
109
лагают. Нечаев не играл там той выдающейся роли, о которой
юн говорил в Женеве. Ободренный доверчивостью Бакунина и
Огарева, веривших ему на слово, он становился все более
и более смелым и терроризировал добрых стариков, которые
делали для него все. По возвращении в Россию Нечаев, про-
должая свою роль, которую считал полезной для революции,
импровизировал кружок преданных революции людей, которых
и связывал и сталкивал по произволу. Что не ясно для меня
так это то, кем был Успенский—его жертвою или его сотруд-
ником? Мне кажется, что письмо, прочитанное на процессе
в 1871 году, адресованное Ивану Лихутину, очень хорошо
характеризует Нечаева. «Я смотрю на Нечаева, как на чело-
века с широким, но неясным развитием, неспособным ни дать
директив какому-либо движению, ни быть представителем какой-
либо серьезной последовательной политической агитации. Но
у него есть одно качество — это энергия, которая доходит
до фанатизма, любовь к труду на благо народа, фанатическая
преданность народному делу. Именно в этом качестве следует
искать причин его влияния на некоторые группы честных людей.
Он ничего не давал этим людям — ни поддержки, ни развития;
они были более развитыми, чем он; он необ'яснял им никакой
программы, ни положения народного дела,— они знали это
и без него и лучше чем он. Но хотя он им как будто ничего
не дал, он привлек их к народному делу в качестве человека
активного и энергичного; хотя он и не был безукоризненным
человеком, он казался им представителем того самого народ-
ного дела, которое они понимали более ясно и более широко
чем он. Но он сумел быть первым в том народном деле, которому
другие отдали много мыслей, чистоты и честности, более ши-
рокий круг знаний, чему у него, более могущественные способы
- действия. Что касается его личных качеств — можно сказать
одну вещь: его личность малопривлекательна. Я его знаю больше
года, и он имел для меня только одно значение — посредника
между отдельными лицами; но его посредничество становится
излишним, как только люди встретились».
Это описание, данное в 1869 году нашим другом и това-
рищем В. Черкезовым, можно сравнить с описанием Нечаева
Бакуниным в двух письмах к А. Таландье и В Мрочковскому
(1870 г.), напечатанных в 1896 г. в его «Письмах». Я думаю,
что таким образом будет иметься уже солидная база для
понимания Нечаева. Нечаев не имел ничего общего с анархиз-
мом; его самородный социализм, вскормленный кое-каким чте-
нием Бабефа, Роберта Оуена, Бакуниным через «Народное деле» и
тем, что он мог слышать от Ткачева и т. д., был по существу }
авторитарным коммунистом, очень близким к бланкизму. Но
Бакунин был ему слишком необходим, чтобы он не мог не де-
лать авансов по адресу анархизма за время своего пребы-
вания в Швейцарии. После своего возвращения уже в качестве
110
М. Н Е T Т Л А У
преследуемого убийцы, он был вновь принят Бакуниным и дру-
гими сердечно, но слишком злоупотреблял своим положением
и сделал разрыв неизбежным. Было невозможно в свое время
предать гласности то, что происходило на деле. Порицание пало
и на Бакунина и на Нечаева; благодаря этому, от весны 1870
до весны 1872 г. Бакунин был оторван от русской молодежи
и еще более долгое время от тех, кто действовал в России.
Крупные русские группы были предубеждены против Бакунина,
не искали связей с ним, за редкими исключениями (Лермонтов
и пр.). Даже Петр Кропоткин, во время своего путешествия в
Швейцарию, не счёл нужным посетить его. Все это было дурно,
и непоправимо, несмотря на знаменитое лето 1872 года в Цю-
рихе, когда присутствие Бакунина и его страстные речи завоевали,
много симпатий среди русской молодежи.
К этой эпохе относятся несколько русских изданий его.
сочинений: «Несколько слов к молодым братьям в России»
(Женева, май 1859 г. 4 стр.); «Наука и насущное революцион-
ное дело» (Женева 1870 32 стр., написано в июне 1869 г.); «К
офицерам русской армии» (Женева, январь 1870. 39 стр.), «Все-
мирный революционный союз социальной демократии. Русское
отделение» (32 стр. от февраля до марта 1870 г.), посмертная
статья о Герцене в «Марсельезе» (LaMarseillaise (Париж 2 — 3
марта 1870) и т. д.
Согласно указания А. Росса, Бакунин является автором,
так называемого «Революционного катехизиса». Правила рево-
люционерав», который был найден полицией в бумагах Успен-
ского (8-го декабря 1869 г.) и представлял из себя шифрованную
копию на 29 маленьких листках. Отчет о нем был помещен
в «Правительственном Вестнике» от 9-го июля 1871 г. Оригинал,
написанный рукою Бакунина, находился в бумагах Нечаева
в Париже, и Нечаев, сидевший тогда в тюрьме в Цюрихе и не
имевший никакой надежды спастись, поручил Россу во имя чув-
ства солидарности взять эту рукопись, которая позже была или
возвращена кому следует, или уничтожена. Этот «Катехизис»
свидетельствует о впечатлении, произведенном Нечаевым на
Бакунина; последний, составляя катехизис, верил в существование
такой молодежи.
В сентябре 1869 года Бакунин присутствовал на Базель-
ском конгрессе Интернационала, на котором произошел бой
между антиавторитарным революционным коллективизмом и
государственным коммунизмом и умеренным прудонизмом не-
1 которых французов. Моральная победа осталась за коллекти-
визмом, что означало полное поражение Маркса в Лондоне,
(смотри дискуссии о коллективной собственности, праве насле-
дования и пр.). В то время так мало обращали внимания на
авторитарные замашки, правда мало скрываемые, Лондонского
генерального совета, что все, не исключая и Бакунина, охотно
шли на расширение его полномочий. Однако, он скоро зло-
БАКУНИН
111
употребил своею властью по отношению именно к тем, кто
ему ее .дал.
На конгрессе Бакунин познакомился с испанцами Фарга
Пеличером и Лентиноном, Варленом из Парижа и многими дру-
гими. После конгресса он скоро покинул Женеву и уединился
в маленьком городке Локарно на берегу озера Лаго Манджиоре
в Тичине. В скромной и прекрасной итальянской среде Бакунин
чувствовал себя очень хорошо. Он совершил несколько путеше-
ствий по русским делам в Женеву в 1870 г.; короткое путеше-
ствие в Милан, Флоренцию (1870—71 г.); в сентябре—ноябре
1870 г. побывал в Лионе и Марселе, а в апреле и мае 1871 г.
посетил Швейцарскую Юру. За исключением этих путешествий
он оставался в Локарно до лета 1872 г. когда его жена уехала
к родителям в Сибирь. После этого он пробыл в Цюрихе от
июля до октября, совершил несколько путешествий в Юру и
возвратился через Женеву в Локарно, которое, за исключением
двух кратковременных поездок в Цюрих и Берн в 1873 году,
не покидал больше до 1874 года. В июле этого года он покинул
Локарно и с осени поселился в Лугано.
Вскоре после Базельского конгресса противники револю-
ционного коллективизма, женевские рабочие-политйки и сектанты
Маркса возобновили борьбу, приправленную услугами оффициоз-
ного доносчика Утина. Здесь бесполезно излагать фазисы этой
борьбы, крайне бесчестных придирок к маленькой секции Альянса
в Женеве, раскола в Романской федерации на с'езде в Ля-Шо
де Фон (весна 1870 г.) и т. д. Сюда же я отношу резолюцию
так называемой Лондонской конференции (1871 г.), заменившей
регулярный с‘езд, и частный циркуляр Генерального Совета о
«мнимых расколах» в Интернационале и т. д. Кто изучает
многочисленные документы, оставленные этой борьбой, письмен-
ные и устные свидетельства, легко увидит, что все это еще
совсем не устарело, так как борьба между властью и свободою
разделяет еще и по сегодня социалистический мир; он отдаст
себе отчет в том, какое искреннее желание честной дискуссий
было проявлено со стороны приверженцев- свободы и какая
ненависть и заносчивость были проявлены со стороны привер-
женцев -власти, не останавливавшихся ни перед формальными
придирками, ни перед гнусной клеветой, ни перед злоупотреб-
лением своей властью. Притом дело вовсе не шло о том, чтобы
кого либо выделять или изгонять; защитники свободы всегда
говорили, что они требуют только своей собственной свободы
и что другие также свободны в утверждении и пропаганде
своих идей. Было предложено два решения: терпимость к сто-
ронникам власти и исключение сторонников свободы. Такова
еще и наша современная борьба и покаместь она длится, память
о первой борьбе будет интересной и поучительной.
Конгресс Интернационала 1870 года, который должен был
состояться в Париже, если бы республика восторжествовала,
112
М. H Е Т Т Л А У
а если нет, то в Майнце, не состоялся, как и конгресс 1914 г.—
по случаю франко-немецкой войны. Эта война вдохновила Баку-
нина на план революционного действия. Мне известно только одно
письмо из 23-х больших писем, которые он написал по этому
поводу между 9-м и 11-м августа своим друзьям (письмо Ога-
реву. 11-го августа). Существует еще маленькая записка того
же числа, адресованная его старым друзьям в Берне: «...Ну,мои
дорогие, у нас война. И еще какая война! Насмешливая фран-
цузская ирония уничтожена научной грубостью пруссаков.
И Лига мира, членом которой мы состояли когда-то, но кото-
рую во-время покинули, пошла испустить свой последний стон
из опечаленных уст Барни (француз), Геег (немец) в Базеле,
где она скончалась от глупости и бессилия, причем никто не поду-
мал прилично похоронить ее. Война—этот монархический Кал-
либан, ортодокс — пиетист, померанец — дворянин и полицейская
солдатчина бьет императорского Роберте Макера и его Бертрана и
всю официальную Францию. Но революционная Франция про-
буждается, тем лучше. Я желаю пруссакам еще одну большую
победу под стенами Меца, так как, те которые они одержали
до сих пор еще мало, чтобы пали Наполеон и мадам Евгения;
они дали в результате только министерство Паликао. После
падения Наполеона я желал бы всевозможных катастроф героям
Померании. Но что вы думаете, дорогие друзья, так или иначе
революция становится неизбежной сначала во Франции и в Италии,
а затем немного позже везде. И да здравствует революция!».
Слишком очевидно, что дух Толстого, гуманитарная мысль,
отвращающаяся с ужасом от всякого кровопролития, были ему чуж-
ды и непонятны; он видел вещи слишком «terre a terre» как любил
говорить Кропоткин, который, вероятно, смотрел на последнюю
войну так же, как Бакунин раньше. Все были довольны, что
война уничтожила, наконец, Луи Наполеона, но все были также
против серьезной немецкой победы.
Уже 19 августа он писал Мрочковскому, что вероятно,
он уедет из Локарно в Женеву и дальше, 6-го сентяаря он
писал другому старому другу в Берне: «Мои друзья социалисты-
революционеры Лиона зовут меня к себе. Я решил нести туда
свои старые кости и играть там, вероятно, мою последнюю пар-
тию». Вероятно, он уехал 9-го сентября, останавливаясь в
Берне, Невшателе и Женеве.
В письме от 4-го сентября он писал Альберу Ришару
в Лионе: «Французский народ не должен больше рассчитывать ни
на какое правительство, ни на существующее, ни даже на
революционное... Правительственная машина, государство сло-
маны. Франция может быть спасена только немедленным анар-
хическим восстанием всего населения городов и деревень,—
анархическим в том смысле, что оно должно произойти и со-
организоваться вне какой бы то ни было официальной и пра-
вительственной опеки или руководства, снизу вверх, об‘являя
БАКУНИН
113
везде свержение государства со всеми его учреждениями и отмену
всех существующих законов, оставляя только один закон, закон
спасения Франции от пруссаков извне и от изменников внутри».
«Воззвание ко всем коммунам; пусть они организуются
и вооружаются, отнимая оружие у тех, в чьих руках оно нахо-
дится. Пусть они пошлют своих делегатов куда - угодно, вне
Парижа, чтобы организовать временное правительство, прави-
тельство спасения Франции».
«Необходимо, чтобы большой провинциальный город—Мар-
сель или Лион взяли эту инициативу. Необходимо, чтобы город-
ские рабочие имели смелость немедленно и без колебаний взять
эту инициативу... Я в вашем распоряжении и ожидаю немед-
ленного ответа».
Это предложение было сделано после известий о Седане,
которые Бакунин сообщает в этом же письме, раньше падения
империи, провозглашенного в Париже 4 сентября. Ответ, при-
глашение в Лион было сделано, когда империя перестала уже
существовать. Идеи Бакунина об этой комбинации народной
войны и революции известны в окончательной форме, так
как они появились в брошюре «Письма к французу о совре-
менном кризисе» (напечатано в Невшателе сентябрь 1870 г.
43 страницы), составленной Джемсом Гильомом на основании
выдержек из его чрезмерно длинных рукописей. Так как все
' эти рукописи опубликованы в «Сочинениях» тома 3 и 4, я не
считаю необходимым цитировать другие отрывки.
У меня имеется еще текст одного из писем от 23 августа,
которое показывает, каковы были его идеи в самой ранней
стадии. В этот день он писал Альберту Ришару в Лион:
«......Итак, друзья, подымайтесь при звуках Марсельезы,
которая вновь становится сегодня законным гимном Франции,
гимном свободы, гимном народа, гимном человечества,—так как
дело Франции стало, наконец, делом человечества. Становясь
патриотами мы спасем всемирную свободу. Лишь бы только
народное восстание сделалось всемирным и открытым и лишь
бы только во главе его не стали изменники, продавшиеся или
желающие себя продать пруссакам или орлеанам следующим
за ними, но народные вожди».
«Только при этом условии Франция будет спасена. Не
теряйте, следовательно, ни одной минуты, не ожидайте больше
сигнала из Парижа. Париж обманут, он парализован опасностью,
которая ему угрожает и в. особенности он плохо руководим.
Восстаньте сами, беритесь за оружие, организуйтесь, уничто-
жайте внутренних пруссаков, чтобы не осталось в вашем тылу
ни одного и бегите освобождать Париж. Если через 10 дней не
будет во Франции народного восстания,—Франция погибла
(12 дней после этого письма произошли события 4 сентября).
О, если бы я был более молодым, я не писал бы вам писем,
а был бы среди вас».
о
Очерки. °
114
M. Н Е Т Т Л А У
Наряду с этими планами народной войны и войны не на
жизнь, а на смерть, Бакунин строил план революционных вос-
станий в Италии и в Испании, которые совместно с югом
Франции должны были создать революционный очаг, способ-
ный прекратить войну и продвинуть вперед социальную револю-
цию. Фанелли стоял на этой же точке зрения, но все это так
и осталось в области планов, и когда Бакунин приехал
в Лион, он не мог иметь никакого влияния на события, так как
все прочие партии, конечно, не остались пассивными. Так было
и в день 28 сентября, когда движение достигло апогея. Бакунин,
активно участвовавший в движении, был арестован, но несколько
часов позже был освобожден своими друзьями. На короткое
время городская дума находилась в руках восставших, однако,
город не был во власти народа. Все кончилось ничем и реакция
или, скажем, официальная республика подняла голову. Бакунин
должен был бежать в Марсель, где он скрывался несколько
недель и откуда предполагал бежать в Барселону. В конце-кон-
цэв его приятель Шарль Алерини доставил его на пароход,
от’езжавший в Геную. Из Генуи Бакунин возвратился очень
разочарованным в Локарно. Он продолжал писать, преобра-
зовывая мало-по малу свои политические ра-змышления в фи-
лософские, антирелигиозные и социалистические. Ему хотелось
еще раз воспользоваться случаем, чтобы сделать то, о чём он
мечтал многие годы, т.-е. резюмировать все свои идеи. Был
опубликован первый выпуск «Кнуто-Германская империя и Со-
циальная революция» (Женева, 119 стр.), в котором говорят все
чувства, вызванные в Бакунине войной. Этот выпуск был пере-
печатан в «Сочинениях», том 2-й (1907 г.). Второй выпуск, оза-
главленный «Исторические софизмы доктринерской школы немец-
ких коммунистов» скоро отклоняется от темы, чтобы поставить
вопрос «Кто прав идеалисты, или материалисты?». Ответ соста-
вляет жемчужину его творчества. Реклю ему дал название «Бог
и государство» (Женева 1882 г.). Эта брошюра распространена
и переведена на все языки. Вся рукопись (неоконченная) напе-
чатана в «Сочинениях», в томах 3 (1908 г.) и 1 (1895 г.) с при-
ложением «Философские размышления о божественном призраке,
о реальном мире и о человеке». (Сочинения, т. 3). Том 4-й
«Сочинений» содержит другие рукописи, имеющие связь
• с этою.
Пришла Парижская Коммуна. После опыта 1870 г. Ба-
кунин предвидит ее падение, но восхваляет героический жест
(См. по этому поводу «Парижская Коммуна и идея государ-
ства»,— заглавие, данное Элизе Реклю отрывку, опубликован-
ному в 1878 г. и в 1892 г. в «Сочинениях» т. 4.) Последние
недели, коммуны он был в Юре, в Сенвилье и в Локле среди
товарищей юрской федерации. Там собирались итти на помощь
коммуне, предполагали отправиться в Безансон, но проект не
осуществился, т. к. падение коммуны и кровавая неделя разбили
БАКУНИН
115
все планы; оставалось лишь заняться помощью и спасением пресле-
дуемых. Я уже упоминал о рефератах, которые Бакунин читал вСен-
вилье, опубликованных в Брюссельском журнале «Новое обще-
ство» (март, апрель 1895, а также в «Сочинениях» т. 5. 1911 г.).
Бакунин вернулся в Локарно и продолжал свои литера-
турные труды (Сочинения, т. 6. 1913), когда 24 июля он позна-
комился с гнусными выпадами Мадзини против коммуны и против
Интернационала в его журнале. Бакунин написал блестящий от-
вет, появившийся в итальянском переводе 14 августа в Милане и
в оригинальном тексте в «Свободе», Брюссельском журнале 18
и 19 августа (Ответ интернационалиста Мадзини). Он написал
также ответ, помещенный в газете Мадзини «Итальянское един-
ство» 10, 11, 12 октября и, кроме того брошюру «Политическая
теология Мадзини и ассоциация рабочих» (Невшатель 1871 г.
111 стр.). Все это было перепечатано в «Сочинениях» т. 6 (1913 г.)
и в подготовляемом 7-м т. «Ответ интернационалиста» написан
с большим жаром, а «Политическая теология» с такой глубиной
логики, что можно утверждать, что брошюры эти обязаны
своим блеском, если не всецело, то в значительной мере упор-
ной работе, которую проделал Бакунин в августе 1870 г., в целях
приведения в порядок и изложения всех своих идей. Во вся-
ком случае, Бакунин был хорошо подготовлен и, вероятно он
расчитывал на ответ Мадзини, чтобы вступить в идейную борьбу
со своими важнейшими противниками с — лжесоциалистом
Мадзини и с авторитарным социалистом Марксом. Правда, Мад-
зини одержал небольшую победу на незначительном рабочем
с’езде в Риме (1 ноября), но он видел, какое влияние произ-
вели слова Бакунина на многих серьезных революционеров.
Болезнь и слабость помешали ему вступить в борьбу с Баку-
ниным. Он умер 10 марта 1872 года.
Сохранились две записные книжки 1871 и 1872 г., в кото-
рых Бакунин ежедневно записывал полученные и отправленные
им письма, визиты, путешествия, заметки о своей работе и т. д.
Хотя эти книжки далеко неполны, они показывают, однако,
насколько разнообразна и интенсивна была его деятельность,
и насколько обширны его международные связи. Эти записки
могут служить серьезной базой для его биографии тех лет.
По ним видно, как с осени 1871 г. изо дня в день, с ним вхо-
дит в переписку или приезжает к нему все большее и большее
количество молодых итальянцев из Неаполя (Малатеста, кото-
рому тогда не было еще 18 лет), Милана, Турина и в особен-
ности из Болоньи и Романии. Это было торжеством метода
Альянса: влияние местных групп и интимных секций, связан-
ных между собою. Через год после появления «Ответа», в
августе 1872 г. на конференции в Римини организовалась италь-
янская федерация Интернационала.
К этому периоду относится начатая им блестящая теоре-
тическая письменная дискуссия, многочисленные длинные
8*
116
М. Н В Т Т Л Л у
письма в Турин и др. Отрывки из одного письма были отпе-
чатаны в брошюре, озаглавленной «Рабочим делегатам конгресса
в Риме». Брошюра была напечатана нелегально и распростра-
нена среди делегатов этого Мадзининского конгресса, состояв-
шегося 1 ноября 1871 года. Есть издания более полные (1886 г.
франц, пер. Гильома, напечатан в т. 6 «Сочинений»). Но самым,
интересным документом, передающим интимную революци-
онную мысль Бакунина, является длинное письмо его к Чельзо Кор-
ретти, написанное после, смерти Мадзини (опубликовано Ж. Ме-
нилем в Брюссельском «Новом обществе» в феврале 1896 г.).
В этом письме Бакунин в полном расцвете своих сил.
Связи с итальянцами стали еще более близкими после
того, как Карло Кафиеро, в 1870 и 1871 г.г. находившийся еще
под влиянием Маркса и Энгельса, приехал вместе с Фанелли
в Локарно и оставался там от 20 мая до 18 июля 1872 года.
Завязавшаяся между Кафиеро и Бакуниным личная и идейная
дружба привела к значительным изменениям в жизни Бакунина.
Первоначально удачные и счастливые для него, они привели
позже к трагическому концу.
Лондонская конференция (осень 1871 г.), сделавшая первые
шаги,., чтобы побудить Интернационал принять, как официаль-
ную доктрину — доктрину политического действия, в смысле
завоевания власти при'помощи социалдемократического парла-
ментаризма, и вынесшая также другие решения авторитарного
характера, вызвала энергичный протест со стороны Юрской-
федерации и французских эмигрантов. По крайней мере Ба-
кунин с друзьями делали все возможное, чтобы при-
влечь к протесту испанцев и итальянцев. Генеральный Совет
сделал затем другой шаг в том же направлении, опубликовав
для членов Интернационала брошюру «Мнимый раскол в Интер-
национале. Частный циркуляр Генерального Совета». (Женева,
1872, 39 стр.), в которой был сделан донос на Альянс. Появились
протесты и опровержения. Бакунин ответил в Юрском «Бюлле-
тене» и брошюрой, переведенной на итальянский язык. Гаагский
конгресс (сентябрь 1872 г.) был, наконец, созван и, как сле-
довало ожидать, находился под влиянием фиктивного боль-
шинства, созданного партией Маркса, при помощи распреде-
ления многочисленных мандатов по отдаленным секциям и т. п.
Была назначена анкетная комиссия об Альянсе, которая вынесла
решение, на основании письменных документов и разговоров,
переданных Марксом. Все это. теперь уже изучено, и можно
смело сказать, что редко когда действовали с большим легко-
мыслием и более преступной небрежностью. Обвинительная речь
Маркса и его материалы, как и материалы данные Энгельсом,.
Лафаргом и Утиным по итальянским, испанским и русским
делам, изложены в брошюре «Союз социалистической демократии
и Международная ассоциация рабочих» (Лондон 1873, 137 стр.).
Брошюра эта служит еще и по сей час основой марксистской
'БАКУНИН
117
историографии и немецкие социал-демократы считают еще до
последнего времени возможным перепечатывать ее в немецком пе-
реводе (издательство Дитц).
Если бы кто-нибудь утверждал, не изучая самых фактов, что
Альянс существовал в действительности и поэтому критика
Маркса обоснована, ему можно было бы смело возразить, что
утверждения Маркса не соответствуют действительности. То, что
существовало в 1869—1872 г.г. было ни чем иным, как некоторой
организационной связью между активными работниками, обычно
практикуемой. Следовательно, если бы Маркс был лойялен, конгресс
понял бы, что весь вопрос не стоит выеденного яйца, так как
такие отношения необходимы при всякой пропагандистской и
агитационной работе и что вся история была просто придиркой
к ракунину и его товарищам, не разделявшим мнений других
социалистов. Но Маркс прибегнул еще к другому трюку: Ба-
кунин, чтобы заработать себе на жизнь, начал переводить
капитал Маркса на русский язык для петербургского издателя
Полякова, от которого получил авансом 300 рублей. Бакунин
занимался этой работой всю зиму 1869—70, но когда приехал
из России Нечаев, последний настоял на том, чтобы Бакунин
посвятил все свое время русской пропаганде, и обещал ему сам
сговориться с Поляковым или с его представителем Люба-
виным. Вот и все. Нечаев, помимо Бакунина устроил это дело
на свой лад: он отправил Любавину письмо, якобы от своего коми-
тета, с печатью, изображавшею факел и топор, требуя от него
оставить Бакунина в покое по поводу этой работы. Это письмо
попало—путями, которые теперь нам известны (Лопатин, Дани-
ельсон)—в руки Маркса, и последний добился резолюции, исклю-
чавшей Бакунина с Джемсом Гильомом из Интернационала за
Альянс, а Бакунина к томуже еще за позорящее его личное деяние.
Когда впоследствии Гильом, при помощи новых документов (письма
Маркса к Даниельсону) и благодаря тщательной анкете, произ-
веденной Лопатиным, установил эти факты и изложил их
Жоресу, бывшему дотоле в полном неведении этой истории,
Жорес пришел в ужас и решил говорить об' этом на интерна-
циональном конгрессе, который должен был состояться в Вене
в августе 1914 года с требованием от конгресса аннулировать
резолюцию 1872 года, исключавшую Бакунина из Интернацио-
нала. Смерть Жореса и война помешали этому. Два немецких
социал-демократа, почти единственные, которые серьезно заня-
лись историей этой эпохи, Эдуард Бернштейн и Франц Меринг
поняли в известной мере характер методов Маркса и его пар-
тии против Бакунина и пожелали дать последнему некоторое
удовлетворение. Такого . рода образ действий, по отноше-
нию к Бакунину, был не нов, как доказывают подложное письмо
Жорж Санда 1848 г., мнимая угроза 1870 г. Когда отрывки
из «Исповеди» 1851 г. циркулировали по Европе, в то время, как
полный тёкст с большим трудом можно было добыть из России,
118
М. H Е Т Т Л А У
идейные товарищи Бакунина не были чересчур удивлены этим;
они узнали в нем старый трюк «бумажечников». 50 лет спустя
после Гааского конгресса годовщина Бакунина праздновалась
тем же способом и многое из того, что делается сегодня, также
грязно, как и все эти «древности».
Швейцарские и испанские делегаты антиавторитарных фе-
дераций немедленно после Гаагского конгресса с'ехались
в Швейцарии. Там они встретились с итальянскими интерна-
ционалистами, собравшимися у Бакунина в Цюрихе, и с другими
делегатами на интернациональный конгресс в Сен-Димье (15—16
сентября 1872 г.). В Цюрихе между Бакуниным, итальянцами и
испанцами происходили дебаты по поводу программы и орга-
низации социалистического революционного союза и по этому
поводу записная книжка Бакунина дает нам много сведений до
конца 1872 года. Конгресс Сен-Димье установил солидарные
связи между автономными федерациями Интернационала. В про-
должении 1872—73 г.г. идея солидарности была последовательно
расширена национальными конгрессами, состоявшимися в Бель-
гии, Испании, Италии и т. д., а в сентябре 1873 года состоялся
новый конгресс в Женеве, затем в 1874 году в Брюсселе,
в 1876 году в Берне и в 1877 году в Вервье. На всех этих
конгрессах проводилась идея необходимости об'единения рабо-
чих независимо от каких либо оттенков социалистической мысли
или какого нибудь предпочтения той или иной тактике, раз она
была антикапиталистической. Был провозглашен принцип солидар-
ности в экономической борьбе и автономии в идеях и в выборе
тактики. Бакунин, как и другие Юрцы, был вдохновителем
этой терпимости. Но со стороны организации, контролируемой
Марксом (Генеральный Совет которой был перенесен уже в
Нью-Йорк), продолжали сыпаться отлучения и изгнания неза-
висимых федераций. Через некоторое время все были изгнаны
из этого Интернационала, за исключением разбросанных то
здесь, то там марксистских правоверных ячеек. Генеральный
Совет после внутренних раздоров, наконец, распустил сам
себя в Филадельфии в 1876 году. Так умерла марксистская
ветвь Интернационала; это произошло 15-го июля 1876 года
через 2 недели после смерти Бакунина.
Вернемся к одному из последних моментов революционной
жизни Бакунина. Со времени Нечаева (1869-70) он был-отрезан
от русского движения, но молодой его товарищ А. Росс -(Са-
жин), живший со времени разгрома Коммуны в Цюрихе, позна-
комил Бакунина с некоторыми студентами, которые, как Ралли,
были близки к русскому движению 1869 г. В ноябре 1871 г. Ба-
кунин познакомился с Смирновым, с которым не завязалось
однако, особо дружеских отношений, а в марте 1872 года с Голь-
штейном. Эльсниц и Ралли, с которыми Бакунин сдружился на
почве общности идей и делового сотрудничества. С 4 июля
по 10 октября Бакунин жил в Цюрихе, который он покидал от
БАКУНИН
119
времени до времени для путешествий в Юру или в Невшатель
по делам Интернационала или конгрессов. Его новые товарищи
не были людьми действия, но хорошими пропагандистами анар-
хистических идей. Были организованы русская библиотека и
русская типография, отпечатавшая три больших тома, окон-
ченные впрочем, в Лондоне уже одним Россом в 1874 году.
Была организована интимная группа „Русское братство“ (Ба-
кунин и четыре товарища), а также славянская секция 7 ию-
ля 1872 г. Ее программа и взгляды на положение в России
и на русскую тактику, опубликованные в приложении к книге
„Государственность и анархия", являются выражением уже
вполне созревших мыслей Бакунина о русском движении и о
революционной тактике. Много молодых студенток увлекалось
идеями и красноречием Бакунина, но еще большее количество
было приверженцами умеренного Лаврова. Был поднят вопрос
о журнале. Бакунин, который уже в 1870 году изложил в из-
вестном письме к Лаврову свои идеи, имел по этому поводу
с ним переговоры, но они не привели ни к каким результатам.
„Вперед11 издавался одним Лавровым с 1873 г. Невозможно
было сговориться и с поляками; некоторые рукописи Бакунина
резюмируют его последние идеи о вечном вопросе Польши—об
исторических границах. Довольно большое количество сербских
студентов находилось под влиянием Бакунина, одобрившего их
национальные требования; Светозар Маркович, впрочем, не при-
надлежал к числу этих студентов, т. к. его умеренные социа-
листические идеи отделяли его от Бакунина. Вернувшийся из
Парижа в Цюрих, Нечаев искал случая возобновить связи;, его
выдал поляк Стемковский и Нечаев был арестован 14 августа.
Попытки Бакунина и его друзей освободить его, план побега,
выработанный русскими и сербами, не имели успеха и Нечаев
был выдан России 26 октября и подвергся комедии суда в ян-
варе 1873 г. (смотри процесс в „Правительственном вестнике"
от 24 января 1873 г., перепечатанный в книге Богучарского
«Государственные преступления в XIX веке» Штуттгарт 1903 г.,
стр. 415—456.)
Нечаев умер в 1883 году. Последние известные нам слова
Бакунина о нем в письме Огареву от 2-го ноября 1872 г. носят глу-
боко прочувствованный характер. «Не знаю, что ты чувствуешь,
но мне бесконечно жаль его». Бакунин предвидел, что Нечаев,
видя себя потерянным, вернет себе прежнюю энергию и стой-
кость, что оказалось правильным.
Многое можно было бы рассказать относительно связей Ба-
кунина 1872 г. и о деятельности интимной группы, распавшейся
в 1873 году из-за несходства характеров и темпераментов. Из
этого сотрудничества однако вышло нечто прочное, хотя, к ce-
il Об ужасных страданиях, пережитых Нечаевым в Петербургской
крепости, смотри: „Вестник Народной воли" Женева № 1 1883 г. стр.
• 132—158; также „Былое" июль 1906 стр. 151-177.
120
M. НЕТТЛАУ
жалению, очень редкое: 3 тома серии «Издание социально-
революционной партии». 2-ой том появился в конце августа
1873 года: «Историческое развитие Интернационала» часть 1-я
(1873, 2, 375 стр.), представляющий первую часть сборника луч-
ших теоретических работ, данных Интернационалом в швей-
царских и особенно бельгийских журналах. Идея этого издания
принадлежала Россу; должно было появиться несколько томов.
Гильом и Бакунин помогали в выборе материалов и т. д. Но
эта книга и доселе остается единственной в своем роде; в ней
собраны наилучшие работы по революционному коллективизму
и анархизму того времени.
В конце 1873 г. появилась первая часть (единственная)
введения к «Государственности и анархии», которую Бакунин
написал в мае и июне 1873 г. Книга разбирает проблему
национализма с федералистической точки зрения и соответствует
французской рукописи «Товарищам членам федерации интер-
национальных секций Юры». (Неиздана, но подготовлена для
печати Гильомрм). Теоретическая часть, следовательно, никогда
не была опубликована и даже вероятно никогда не была напи-
сана; то что напечатано является только частью введения.
3-й том «Анархия по Прудону» написан Гильомом. с неко-
торыми поправками и добавлениями Бакунина. Он был издан
Россом в Лондоне в 1874 году (III, 212 стр.) Была выпущена
еще одна брошюра, основанная на работах Бакунина, но издан-
ная без его ведома и говорившая о вещах, не предна-
значенных для публики. Издание этой брошюры вызвало
неудовольствие Бакунина и было причиной его разрыва с изда-
тельской группой (Ралли и его друзья). Брошюра эта назы-
вается «К русским революционерам», изд.«Революционной общиной
русских анархистов», без обозначения города (Женева), 14 стр.,
перепечатано в «Письмах» (18?6 г., страницы 504—511). Это
нечто иное, как программа «Русского братства» 1872 г.—ин-
тимной группы Бакунина, Росса, Ралли, Эльсница и Гольштейна,
с опущением некоторых деталей организации. Бакунин был тем
более недоволен выпуском этой брошюры, что русская программа
имела образцом более- старую программу «Интернационального
братства», что было, вероятно, неизвестно издателям. Брошюра
появилась в сентябре 1873 г., почти одновременно с брошюрой
Маркса против Альянса, в которой он основывался именно на
этих, документах, потерявших за давностью все свое значение
Кроме того, как я пытался доказать это сравнением текстов,
(Биография 1900 г. стр. 778) русский текст совпадает с програм-
мой, тайно напечатанной у Чернецкого (Женева) и с програм-
мой, переведенной на итальянский язык, и копия которой/на-
писанная рукою Андрея Коста, была конфискована в 1874 г.
и фигурировала среди документов в процессе во Флоренции в
1875 г. Программа эта, как мне кажется, подобна или даже
идентична с программой, принятой в сентябре в 1872 г. в Цюрихе
Бакунин
121
итальянскими и испанскими товарищами. Было бы интересно
проанализировать эту брошюру, но каждый может это сделать
сам, т. к. она перепечатана в «Письмах». В ней разбирается
вопрос о средствах, применимых в революции или на другой
день после ее совершения, чтобы помешать какой-либо дикта-
туре использовать революцию в своих целях. Средство это —
немедленная организация автономных революционных групп или
коммун для выполнения всех работ разрушительного и конструк-
тивного характера и их федерация; эти группы или коммуны
передают временно общественный капитал, средства производства
и землю индустриальным и сельскохозяйственным ассоциациям
под непосредственным контролем народа; эти группы или ком-
муны заменят всякое правительство, всякую официальную
диктатуру, которая пыталась бы навязать себя, т. к. опыт по-
казал, что через установление правительства и диктатуры
государство восстанавливается и буржуазия приходит к власти.
Революционеры должны, следовательно, сомкнуть свои ряды еще
теснее в момент, когда в какой-либо стране вспыхивает рево-
люция, и что важнее всего, всеми средствами подготовлять
всемирную революцию, которая одна способна обеспечить по-
беду революции.
В начале 1873 года, может быть во время свидания Баку-
нина с Кафиеро в конце 1872 г., когда Бакунин в своей книж-
ке сделал 29 декабря отметки «чрезвычайно важное для брать-
ев решение», у Кафиеро, тогда еще довольно богатого чело-
века, зародился проект купить имение в окрестностях Локарно,
номинальным собственником которого был бы Бакунин. С одной
стороны, Бакунин таким образом становился бы гражданином
Тичино и не мог подвергнуться изгнанию, с другой—имение
стало бы центром работы и убежища революционеров, особенно
русских и итальянских. Предполагалось оборудовать типографию,
при случае организовать склад оружия, вместе с тем там было
бы все необходимое, чтобы проникнуть секретно в Италию
через озеро Лаго-Маджиоре. Таким образом, энергия и спо-
собности Бакунина могли бы быть использованы в целях рево-
люции. Для осуществления этого проекта Бакунин должен был
бы внешне отойти от движения и жить на подобие невинного
буржуа. Бакунин согласился, было куплено имение, названное
«Ля Бароната» и начались постройки, т. к. имение было
запущено и надлежало кое-что исправить. В конце лета Баку-
нин уехал в Берн, где установил при помощи своих друзей —
Фохта (профессор Адольф Фохт, врач) и Рейхеля—связи
с радикальной средой. Это должно было создать впечатление,
что он готов отойти от революционного движения, что его сле-
довательно, можно оставить в покое и не считаться с желанием
итальянского правительства удалить его из Локарно и т. д.
Для выполнения этого же плана Бакунин письмом, напечатанным
в Юрском бюллетене от 12 октября 1873 г. заявил о своем
122
М. НЕТТЛАУ
выходе из Интернационала. Раньше этого в июле 1873 г. у не-
го было большое желание уехать в Испанию, где подготовлялось
на лето революционное движение; Малатеста должен был уехать
с ним и был отправлен сначала к Кафиеро в Барлотто (его
родной город, в Пуйи) который должен был дать необходимые
для путешествия деньги, но Малатеста был арестован и надолго
посажен в тюрьму, Кафиеро в свою очередь не желал, чтобы
Бакунин отклонялся от первоначально намеченного плана и при-
нимал участие в испанском движении. Движение это, впрочем
вскоре кончилось поражением и так же, как в Лионе в 1870
году, поспешный приезд Бакунина не мог бы изменить неблаго-
приятных для движения условий. Если бы он принял тогда
в нем участие, вероятно кончил бы свою жизнь в испанской
тюрьме.
Итальянский Интернационал (принявший анархистскую про-
грамму на конгрессе в Болонье в марте 1873 г.) подвергался
таким преследованиям и с таким трудом мог вести пропаганду
своих идей, что его активные работники, воодушевленные при-
мером Парижской Коммуны и восстанием в Испании, решили на
собрании у Бакунина в Локарно в декабре 1873 года, на ко-
тором, между прочим, присутствовал молодой анархист Андрей
Коста, организовать революционное выступление.
В то время в Италии существовал «Итальянский комитет
социальной революции»; он выпустил нелегальные воззвания и стал
подготовлять почву для всеобщего восстания. Через Чельсо Че-
ретти были установлены связи с Гарибальди, который был готов
примкнуть к широкому движению. Даже отдельные приверженцы
Мадзини, как например, Вальзания, пытались вовлечь в движе-
ние своих единомышленников. Происходившие во многих ме-
стностях беспорядки, вызванные дороговизной жизни, показы-
вали, что народ отнесся бы с симпатией к радикальному дви-
жению против своих эксплоататоров. Движение подготовлялось
повсеместно, особенно же в Болонье и Романии (Коста), Фло-
ренции (Натта), на юге (Малатеста). Необходимые для покупки
оружия деньги давал Кафиеро и т. д.
Неизвестно, что Бакунин собственно предполагал делать,
т. к. произошло неожиданное и очень неприятное событие, за-
ставившее его действовать скорее под влиянием последнего, не-
жели сообразно принятому заранее плану, который, если и
существовал, нам остался неизвестен. Случилось следующее:
строительные работы в Баронате, производившиеся местными
подрядчиками и рабочими, работавшими без особого усердия
в среде, бывшей им однако, симпатичной, а также содержание
приезжавших туда товарищей, стоили громадных сумм, далеко
превосходивших намеченные цифры. Ни Кафиеро, ни Бакунин
не принадлежали к людям, которые пожелали бы или могли бы
ввести в эти дела порядок и навести экономию в практической
жизни. Именно в тот момент, когда семейство Бакунина, не ос-
БАКУНИН
123
ведомленное обо всем этом, вернулось из Сибири после двух-
летнего отсутствия, Кафиеро был уведомлен о катастрафическом
положении его хозяйства и понял, что он почти разорен. Кафие-
ро рассердился на Бакунина; их ссора приняла такой
характер, что Бакунину ничего не оставалось делать, как уе-
хать в Болонью с надеждой погибнуть в революции: В таком
то настроении он приехал в Болонью, товарищи ничего не
подозревали и Бакунин сделал все возможное, чтобы коорди-
нировать их энергию и дать движению ясную и смелую линию.
Арест Коста заставил ускорить движение; было решено начать
его в ночь на 7—8 августа 1874 г. В эту ночь число интер-
националистов, явившихся на распределение оружия, произ-
водившееся на поле вне города,' было слишком незначительным,
чтобы предпринять захват города: только небольшая группа
наиболее скомпрометированных направилась в горы, но боль-
шинство из них было арестовано. Наиболее многочисленная
группа, в эту ночь двинувшаяся в Болонью, была предупреждена
о неудаче и разошлась. Бакунин, узнав положение дел и оста-
вшись один, решил пустить себе пулю в лоб в 4 часа утра. За
20 минут к нему пришел один товарищ и убедил его не делать
этого. Независимо от собственных заметок Бакунина, сделан-
ных вскоре после этого, я знаю об этом факте из рассказа
именно этого товарища, которого я встретил в Болонье в 1899 году
и который, конечно, не подозревал о существовании записок
Бакунина.
Попытки революционного восстания произошли также
в некоторых других местностях; так Малатеста в Пуйи с воо-
руженной группой направился в горы, но движение это было
слишком незначительно, чтобы привлечь массы. Начались много-
численные аресты и огромные процессы, имевшие место в 1875—
1876 гг. Процессы кончались оправданиями и способствовали
пропаганде Интернационала в Италии.
Бакунин покинул Болонью переодетый в деревенского свя-
щенника. В дороге он встретился с Натта из Флоренции и
провел с ним некоторое время в Сплюгене. Между 14 и 21 ав-
густа он в последний раз отмечает в своей записной кни-
жке: «мы (Бакунин и Натта—душа Интернационала Флоренции"!
согласны по всем вопросам — полный план действия — шифр и
знаки установлены». Небольшое письмо к его другу Эмилио
Беллерио в Тичине от 18-го августа гласит: «я решил вернуться,
откуда пришел», т.-е. в Италию. Существует даже 9 страниц
наброска шифра, но этот шифр фиктивных имен, которые ни-
чего нам не говорят.
Я останавливаюсь подробно на этом факте, потому что
он является последним актом или попыткой действовать
в революционной жизни Бакунина. 21-го августа Натта уехал
в Локарно (позже он был арестован в Италии и фигурировал
в качестве главного обвиняемого в большом процессе во Фло-
124
М. НЕТТЛАУ
ренции в 1875 г.) и Бакунин остался наедине с своей заботой—
притти к какому-либо соглашению с Кафиеро и найти какое-
либо убежище своей семье, которая, как он сам, очутились
вне запно без ничего. Это был самый ужасный месяц его жизни,
когда в тщетных поисках какого-нибудь выхода, он кочевал с
места на Место. Его друзья, с своей стороны, пришли к жесто-
кому решению, что Бакунин конченный человек, что сотрудничать
с ним в революционных делах более нельзя. Об этом ему было
заявлено на свидании в Невшателе 25 сентября 1874 года. В
заметках, посвященных отношению к нему его бывших четырех
друзей, он пишет: «полный и окончательный разрыв». Затем,
на некоторое время он оживает в Берне у Рейхелей, у Фохта;
отметка (26) «меня приняли с открытыми об'ятиями». 5 октября
он уезжает из Берна и приезжает 7 в Лугано, где забирает
свое семейство. В своей книжке он отмечает «горячая неискрен-
няя дружба». Он возобновил свою обычную жизнь, занимаясь
чтением, штудированием, посещением друзей и обществ, но не
занимался ни пропагандой, ни организацией.
Книга Гильома содержит много подробностей, касающихся
этого кризиса. Документальная часть книги заимствована из
моей «Биографии»; воспоминания и оценки принадлежат Гиль-
ому или были собраны им. Я не буду касаться его характери-
стики, но скажу, что документы Гильома являются только ча-
стью огромного количества собранных мною по этому вопросу
документов и что окончательное мнение должно быть основано
на совокупности всех этих материалов и свидетельств, а не на
одной только их части.
В Лугано у него не было недостатка в знакомствах, но
они мало интересны, за исключением дружеских свиданий и
переписки с Элизе Реклю. Нам известны также его дружеские
письма к друзьям в Берне и в Локарно (два письма в Беллерио).
У него было намерение работать над двумя книгами по поводу
которых, Элизе Реклю писал ему 8-го февраля 1875 года: «я
с нетерпением ожидаю твои.Мемуары и Мои идеи. Рабо-
тай мой друг, у нас на это будет время. Разлившаяся река
революции входит в свое русло, не причинив большого зла».
Реклю предложил ему свои услуги для просмотра, с точки
зрения языка, его рукописей. «Мои идеи» была та книга, о ко-
торой он писал Огареву 11 ноября 1874 г: «я намереваюсь, если
у меня останутся силы, написать последнюю полную работу о
моих самых глубоких убеждениях». От этих рукописей, если
они были начаты, не осталось ничего и неизвестно также, что
стало с записками Зайцева, которому Бакунин рассказывал
иногда свою прошлую жизнь в 1873 году в Локарно.
В ответ на письмо Элизе Реклю он писал 15-го февраля
1875 г: «да, ты прав, революция временно вошла в свое русло,
мы вступаем в период эволюций, т.-е. в период подземных, не-
видимых и часто даже незаметных революций. Эволюция, ко-
БАКУНИН
125
торая происходит сейчас, очень опасна, если не для чело-
вечества, то по крайней мере для некоторых наций. Это последнее
воплощение истощенного класса, ставящего свою последнюю
карту под покровительством военной диктатуры—мак-маго-
новско-бонапартистской во Франции, бисмарковской в осталь-
ной Европе».
«Я согласен с тобой, что час революции прошел, не по
причине страшных катастроф, свидетелями которых мы были,
и ужасных поражений, более или менее виновными жертвами
которых оказались мы, но потому, что, как я констатировал и
констатирую каждый день, к моему великому отчаянию рево-
люционные мысль, надежда и страсть абсолютно иссякли в на-
родных массах, а когда их нет, можно делать, что угодно,
результатов не будет. Я восхищаюсь терпением и героическим
упорством юрцев и бельгийцев—последних могикан умершего
Интернационала, которые, несмотря на все препятствия и за-
труднения, при всеобщем равнодушии, упорно подставляют
свой лоб враждебному течению вещей и продолжают спокойно
делать то, что делали до катастрофы, когда движение шло
вверх и когда малейшее усилие создавало силу».
«Эта работа тем более достойна похвалы, что они не
воспользуются ее плодами; но они могут быть уверены, что их
работа не будет напрасна—ничто не теряется в этом мире —и
капля воды, при всей своей незначительности, все же образуют
океан», «Что касается меня, мой дорогой, я стал слишком
стар, слишком устал и слишком болен, по правде сказать, во многом
разочарован, чтобы чувствовать еще желание и силу принять уча-
стие в этой работе. Я окончательно ушел из борьбы и проведу пос-
ледние дни моей жизни в созерцании, не праздном, наоборот
интеллектуально очень активном и которое, я, надеюсь выра-
зится в чем-нибудь полезном».
«Одна из страстей, владеющих мной сейчас,—безмерная
любознательность. Раз я пришел к убеждению, что зло во-
сторжествовало и я не могу воспрепятствовать ему, я решил
изучать его эволюцию и развитие с почти научною и совер-
шенно об'ективною страстью».
После анализа европейского положения, он продолжает:
«Бедное человечество»!
«Ясно, что оно сможет выйти из этой клоаки не иначе, как
при помощи колоссальной социальной революции. Но как со-
вершит оно эту революцию! Никогда интернациональная реак-
ция в Европе не была так чудовищно вооружена против всякого
народного движения. Репрессию она обратила в новую науку,
которую си стематически преподают во всех военных школах
лейтенантам всех стран. А что имеется у нас, чтобы ата-
ковать эту непреодолимую крепость? Дезорганизованные массы.
Но как их организовать, когда у них нет достаточно стра-
стного интереса даже к своему собственному спасению, когда
126
М. НЕТТЛАУ
они не знают, чего они должны желать и когда не желают
того, что одно только может их спасти».
«Остается пропаганда, в том виде, как ее ведут юрцы и
бельгийцы. Это—кое-что, но этого очень мало: несколько капель
воды в океане, и если у человечества нет других средств спа-
сения, оно успеет сгнить десять раз раньше, чем спасется».
«Остается еще другая надежда: всемирная война. Эти гро-
мадные военные государства рано или поздно должны будут
пожрать и разрушить друг друга. Но какия перспектива».—
На этом слове, которое вводит нас в современное положение
вещей, когда уже кажется, что вот вот книга будущего раскры-
вается перед нами,благодаря гению Бакунина, предчувствовав-
шего и предвидевшего современное уже в 1875 году, кончается
4-ая страница письма, а остальное потеряно.
Страстная любознательность Бакунина в те годы, когда
социалистическое движение действительно было крайне ослаб-
лено, находила себе пищу в наблюдении борьбы государства
с церковью. Бакунин, продолжая ненавидеть государство, был
тем не менее счастлив от ударов, наносимых им клерикализму.
Так 19-го октября 1875 г. он писал Адольфу Рейхелю (на не-
мецком языке): «Что касается меня, я сделался совершенным
отшельником и стараюсь обрести мое старое «Я» при помощи
тихого созерцания—удастся ли мне это, не знаю. Только в од-
ном должен признаться — удаленный от деятельности жизни,
я подвергаюсь опасности стать Бисмаркианцем. И все же я не-
навижу не самого Бисмарка — он последовательный малый,
но бисмаркизм, как прежде, от всего сердца. Но везде-
побеждающий, или, по крайней мере, кажущийся побеждающим,
католицизм, клерикализм я ненавижу еще больше. Его успехи—
позор человечества, позор для всего, что в нас разумно, нрав-
ственно, человечно».
«Я бы очень мало думал о попах, еслибы их деятельность
хотела ограничиться только тем, чтобы старых ослов обослить
еще больше, но во Франции, в Италии, в Испании, в Бельгии
и в некоторых швейцарских кантонах, например в Тичино, они
забирают все воспитание детей в свои грязные руки и это—
истинное несчастье. Они не только забивают сердца и головы
юношества ложью, они систематически подделывают, так ска-
зать, органическую природу и всю естественную деятельность;
они создают лжецов и рабов. И хотя я очень хорошо знаю,
что Бисмарк воюет против религии милосердного бога только
с той целью, чтобы поставить на ее место всегда мне ненави-
стную религию государства и государственного прислужничества,
я должен все же признать, что если бы сейчас в Европе не
было бисмаркианской политики, мы бы все в короткое время
стали пищей попов. Мне кажется сейчас необходимо поднять
старый умолкнувший крик энциклопедистов: раздавим гадину!
(Ecrasez I’infSme). Как в доброе старое фанатическое время,
БАКУНИН 127
когда я имел основание говаривать: «что вы мне толкуете о бес-
партийности, оставим беспартийность милосердному богу!»—так
и сейчас я очень мало беспокоюсь насчет отвлеченной спра-
ведливости. Все, что губит поповство и попов, по моему—истинно
и справедливо; так volens nolens я на мгновение становлюсь бис-
маркианцем...!»
Нечто в этом же роде он писал десятью днями позже
своему молодому Тичинскому другу—Эмилию Беллерио: «Вопрос
о священниках всемирный вопрос, господствующий сейчас над
всеми другими вопросами. Я, ненавидящий от всей души не
Бисмарка, а его систему, его влияние и его тенденции в Европе—
я стал относительно бисмаркианцем! Оставаясь самим собою,
я попутно иду с Бисмарком, я повторяю —старый военный клич
энциклопедистов: «раздавим гадину!» В этом же духе Бакунин
говорит в начатой и неоконченной рукописи «Революционный
социализм в России», которая должна была служить введением
к изданию воспоминаний графа Палена о нигилистическом дви-
жении. Бакунин был счастлив, когда во Франции на выборах
2о-го февраля 1876 года республиканцы одержали победу над
клерикалами и монархистами.
В течение 20 месяцев от 1874 до 1876 года Бакунин,
потерявший в России право на наследство, рассчитывал однако
при помощи мирной сделки получить некоторую сумму денег
от продажи леса, которая бы соответствовала его части нас-
ледства и могла бы обеспечить жизнь его и его семьи. Его
положение в Лугано, осложнившееся покупкой дома за счет
ожидаемых денег, стало очень затруднительным в виду посто-
янных оттяжек в решении вопроса о наследстве—оно должно
было бы стать нестерпимым, но тут пришла смерть.
Он вероятно уехал бы в Италию, но жестокие страдания
заставили его в 1876 г. искать исцеления или смерти в Берне,
у старого друга врача Адольфа Фохта. Его жизнь в Лугано
была описана с юмором, иногда добродушным, но неуместным,
членом Парижской Коммуны, эмигрантом Артуром Арнольдом.
В этом описании имеются интересные подробности, но иска-
женные злопамятством одной русской социалистки —г-жи Вебер.
Этому описанию я предпочитаю то, что мне было рассказано
в 1899 году анархистом Мацотти (эмигрантом 1874 года) и его
женой Мариеттой, которые, как и некоторые другие итальян-
ские рабочие-анархисты, были с ним в общении почти до пос-
леднего момента. Их" чисто народное простодушие, непоколеби-
мость в упованиях, веселость и искренность поддерживали Ба-
кунина в часы глубоких разочарований и мучительных физи-
ческих страданий.
Один из них сопровождал Бакунина во время его путе-
шествия в Верн, которое тогда совершалось еще в дилижансе.
В той же карете находился священник. Проезжая в последний
раз Чертов мост возле Готарда, Бакунин сказал несколько слов
128
М. H Е Т Т Л А У
своим товарищам о сатане, этом вечном бунтовщике, который
является для него самой симпатичной фигурой во всей библии.
Священник обиделся и между ним и Бакуниным завязалась
дискуссия, в которой смертельно больной и страждущий Баку-
нин «раздавил» с своим прежним остроумием «гадину».
Бакунин приехал в Берн 13-го июня и Фохт признал его
состояние безнадежным. Его положили в частную клинику, из
которой он более не вышел. Рейхель и его жена, урожденная
Мария Эрн (русская) и Адольф Фохт с женою проводили часто
время с ним. Рейхель в письме к Гамбуцци от 7-го июля под-
робно описал его болезнь. Письмо это, взятое из неизданной
части моей биографии, воспроизведено в книге Гильома. Я про-
цитирую только слова, сказанные однажды Бакуниным во время
длинного разговора его с Рейхелем о годах их молодости и их
общей жизни 1844—1847 г.г,
«Однако, как жаль. Бакунин, что у тебя никогда не было
свободного времени, чтобы написать свои мемуары». «А для
кого написал бы я их?»—последовал ответ. «Не стоит труда го-
ворить. Сейчас все народы потеряли инстинкт революции.
Они слишком довольны своим положением; боязнь потерять то,
что они еще имеют, делает их смирными и пассивными. Нет,
если я буду еще здоров, я хотел бы написать этику, осно-
ванную на принци-пах коллективизма без фило-
софских или религиозных фраз».
Имеется глубокий смысл в том факте, что именно таково
последнее предсмертное желание анархистов, как Бакунина, так
и Кропоткина. Они видят, что добрые отношения друг к другу,
взаимопомощь, в конце концов, являются единственно ценной
вещью, основой, на которой расцветут свобода и счастье для
всех, социальное благополучие. И они желали бы использовать
свои последние силы, чтобы громко провозгласить это миру,
который идет по разным ложным путям.
Рейхель говорил: „последние три дня не замечалось еще
возможности скорого конца, поэтому семейство Бакунина не было
предупреждено. Самому Бакунину казалось, «что он вполне еще
владеет собою». Я могу только сказать: Бакунин умер, как он
жил, цельным человеком. Как в течение всей своей жизни, он
себя показал, таким, каким он был—без фраз,' без симуляций;
он умер в полном сознании своего положения... Последние два дня
он много спал, очень трудно дышал, но черты его редко пока-
зывали страдание. От времени до времени казалось, что что-то
раздражает его, тогда он делал гримасу и говорил: «Дьявол!»
(«Diavolo»). Но в общем, казалось, что он все более и более
засыпает».
Он умер 1-го июля 1876 года в И ч. 56 мин. дня. Его
прах покоится на кладбище в Берне. На его похоронах 3-го июля
присутствовали товарищи, старые друзья. Многие социалисты
не знали о его болезни и о его присутствии в Берне.
БАКУНИН
129
Вот, беглое изложение того, что, мне представляется самым
важным, в необычайно богатой жизни Михаила Бакунина. Для
более подробного описания имеется масса документов, боль-
шинство которых опубликовано в особых изданиях.
Путь к анархии!—Бакунин его нашел и делал все возмож-
ное, чтобы сделать этот путь доступным всем. Будем ли мы
итти этим путем, или проложим себе новую дорогу,—не это
важно. Важно то, чтобы дойти, наконец до «прекрасной страны
анархии», в которой свобода и социальное благосостояние были
бы гармонично осуществлены.
ПРИМЕЧАНИЯ:
К странице 7.
Смотри письмо,опубликованное Корниловым (5 писем Тургенева
к Бернским друзьям), о его впечатлениях 1840 года.—смерти Станкевича
21-го июня и его знакомстве с Бакуниным 21-го июля: „из всей моей
предшествующей жизни я не хотел бы унести с собой иных воспоми-
наний".
Позже Тургенев дурно поступил по отношению к Бакунину,
создавая своего Рудина в июне-июле 1855 года, когда Бакунин нахо-
дился в Шлиссельбургской крепости. Чернышевский протестовал
в „Современнике" (июнь 1860, г. стр. 239 — 240) и написал несколько
прекрасных строк о Бакунине. Тургенев остался очень недоволен
этими заметками (см. его письма).
К с т р а н и ц е 10.
Бакунин дает некоторые подробности относительно, этого пе-
риода своей жизни в письме к Рейнгольду Зольнер (Париж 14-го ок-
тября 1844 г). Он пишет (по немецки):... „Я очень многому выучился,
стал французом и сейчас очень усердно работаю над „изложением и
развитием идей Фейербаха" (Expose et developpenient dos idees do Feuer-
bach). Штудирую также политическую экономию и душой являюсь
коммунистом'1. О его французском труде о Людвиге Фейербахе ничего
неизвестно. Не следует брать последние слова в том смысле, что Ба-
кунин принадлежал к партии коммунистов. Для тех, кто предполагает
сегодня, что Бакунин стал социалистом только около 1864 года — эти
слова „От всей души являюсь коммунистом" должны быть интересны.
Все письмо находится в моей „Биографии" (1899 г.).
К странице 12.
В этом письмг говорится: „...что касается меня, то я глубоко
убежден, что она (демократия) является единственной политической
формой, действительно осуществимой в России и что все прочие поли-
тические формы, как бы они ни назывались,'будут также чужды и про-
тивны русскому народу, как и теперешний режим. Русский народ,
несмотря на ужасное рабство и на все удары, которые сыплются на
него со всех сторон, обладает вполне демократическими инстинктами
и замашками; в его полувдрварской натуре заложено столько энергии
и широты, такое изобилие поэзии, страсти и остроумия, что невоз-
можно, зная его, не быть убежденным в том. что ему предстоит еще
выполнить великую миссию в этом мире— Быть может, недалеко то
время, когда частичные крестьянские восстания об'единятся в одну
великую революцию, и если правительство не поспешит освободить
народ, „много крови будет пролито"- Он продолжает: „Говорят, что
Очерки. 9
130
М. НЕТТЛАУ
император Николай думает об этом. Дай бог! Если ему действительно-
удастся широко и искренно освободить крестьян, это было бы насто-
ящим ' благодеянием, которое заставило бы простить ему многие
вещи, а таких вещей много, так как царствование его было отмечено
до сих пор лишь унижением благородной независимости и всех хороших
элементов, имевшихся в России11. Бакунин не определяет своего пони-
мания демократии, но видна определенная тенденция исключить парла-
ментаризм, конституционализм и подобные половинчатые меры.
К странице 42.
Имеется еще брошюра без имени автора „Бернские медведи и
Сан-Петербургский медведь" (Невшатель 1870 г. 45 стр.), в которой
остроумно высмеиваются отклонения от швейцарских свобод, позво-
лившие легальное похищение детей княгини Оболенской и другие
подвиги полиции, терпимые Швейцарским централизмом, но против
которых восстал бы подлинный федерализм. Эта брошюра перепеча-
тана в „Сочинениях" том 3 (1907).
К странице 43.
Об этом периоде можно осведомиться по письму в „Пробужде-
нии" (Париж), рукописи октября 1869 г. (Сочинения том 5, 1911 г.)
по „Протесту Альянса", (рукопись июль 1871 г., в сочинениях том 6-
1913 г.), и по письму в „Свободе" (Брюссель), рукопись осень 1872 г.
(Сочинения том 4 1910 г.); а также по докладу Юрской федерации—
ко всем федерациям..." Сенвиллье 1873) Джемса Гильома с отрыв-
ками из Бакунина и Поля Робена.
К странице 49.
В этом „Прибавлении А“ находятся знаменитые слова: „Что
может при таком положении делать наш интеллигентский пролетариат,
наша социалистическая, революционно честная, искренняя, крайне пре-
данная русская молодежь? Она должна итти в народ несомненной
Далее он разбирает вопрос: „но как и зачем итти в народ"?
М. Неттлау.
10-го июня, 1922 г.
Бакунин.
Бакунин—в истории анархизма занимает исключительное
место.
Анархическая мысль и анархическое действие нашли в нем
гениального выразителя. Анархическое мироощущение впервые
в нем достигло совершенной чистоты и мужества выражения.
Мировое значение его «бунтарской» философии и его агитации
осознано давно.
И между тем его идейное наследство исследовано в ни-
чтожной мере. Доселе остается он проблемой. Его учение и
жизнь сплелись с легендами. И извращая его облик, они живут
до наших дней г).
Помимо памятников, воздвигнутых Бакунину—Неттлау и
Гильомом, подлинное изучение Бакунина открылось лишь в по-
следние два десятилетия, особенно со времени Октябрьской
революции, незримо впитавшей в себя стихии бакунизма<J).
Но можно смело утверждать, что основной комплекс
идей, которым живет современный, в частности русский
анархизм, принадлежит Бакунину. Более того: опыт Октябрь-
ской революции, заставивший анархистов пересмотреть свой
идейный и практический багаж, оставил основные теоретиче-
ские и тактические положения Бакунина незыблемыми, дал ре-
шительные доказательства его гениальной прозорливости.
Этот пересмотр неизбежно должен был поставить во весь
рост необходимость исследования как социологических и поли-
тических проблем, бакунизма, так и проблемы анархического
мироощущения в целом. И здесь исследователя, наряду с воз-
можностями подлинных открытий, встречают значительные
трудности.
При поверхностном, тенденциозном взгляде на циклопи-
ческий синтез Бакунина, последний представляется — из'еденным
противоречиями. Слова Канта, что не всегда к автору может
1) Опыт психологической характеристики Бакунина—см. А. Боро-
вой и Н. Отверженный „Миф о Бакунине11 М. 1925 г. изд. „Голос
Труда11.
2) Автор наиболее капитальной работы о Бакунине на русском
языке—Ю. М. Стеклов признает, что Бакунинский план конца 40-х
годов в основных линиях является несомненным пророческим предво-
схищением Октябрьской революции 1917 г.
9*
132
А. БОРОВОЙ
быть пред'явлено требование признать своим написанное и ска-
занное им, как будто, с полным правом—могли бы быть при-
менены к Бакунину.
В его творении—своеобразном, беспорядочном, огромном—
было бы напрасным искать — простоты, прозрачности и меры.
Было бы безнадежным, воистину лилипутским делом — про-
бовать уловлять Бакунина в противоречиях, грехах и пере-
солах. Правильным, единственно правильным—целесообразным
и справедливым вместе—было бы ценить его творение, как ве-
ликое жизненное дело, в целом, стремиться почувствовать его
мысль и пафос, отделить в нем собственно Бакунинское, впер-
вые и только им сказанное, от преходящих исторических на-
слоений, от «случайных» прихотей момента.
Подлинно Бакунинское, essentialia его философии—при-
ятие-прославление жизни, в ее многообразии, неповторимости.
Противоречия нестерпимы логизирующему разуму. В жизни все
противоречия живут рядом, все равно важны и необходимы,
ибо в их органической слитности конструируется само понятие
жизни.
Бакунин еще в молодые годы, задолго до того, как сло-
жилось окончательно его реалистическое мировоззрение, не
только чувствовал имманентность противоречий жизни, но не-
однократно с пластической четкостью формулировал это чувство
в письмах к своим родным: «Противоречия—это жизнь, это
прелесть жизни и кто не может их одолеть, тот не может и
одолеть и жизни. Но каждый человек должен и потому может
это. В этом и состоит его человеческая сущность»... и т. д. и
т. д.х).
В свете этого воззрения, отдельные противоречия Баку-
нина перестают быть—ошибками, пробелами, дефектами мыш-
ления или методологии. Они обусловлены своеобразием самого
мировоззрения. Они—теоретически и практически оправданы.
Наряду с этим надлежит иметь в виду техническую обста-
новку Бакунинских писаний. Его сочинения — памфлеты, не
терпеливая систематизация накопленных листочков, а лава, дол-
женствовавшая испепелить противника. Бакунинское слово было
всегда ответом на непосредственный запрос момента. В увле-
чении давно почувствованными перспективами, он переходил
пределы политического или социологического экспромта и писал
трактат. В таких условиях было бы мудрено ждать от автора
методологической выдержанности, теоретической завершенности.
Но, не взирая на несоблюдение требований научной мето-
дологии, на отсутствие внешнего аппарата, составляющего гор-
См. Корнилов. Годы странствий Бакунина 1925. стр. 86, 94.
См. также письмо, напечатанное в „Былом" 1923 г. № 21 стр. 38.
Курсив Бакунина. Далее два тома исследований Корнилова, посвящен-
ные ..Молодым годам Михаила Бакунина" 1914 г. и „Годам странствий
Бакунина". 1925. будут цитироваться: Корнилов—I и II.
БАКУНИН
133
дость эрудита, творение Бакунина в целом—монументально, зве-
нит волнующим лиризмом, гипнотизирует страстностью изло-
жения.
«Федерализм, социализм и антитеологизм», многочислен-
ные части «Кнуто-Германской Империи», «Письма к французу»,
обличения Мадзини звучат не как политические опыты, но как
вдохновенная философская поэма.
Творение Бакунина в целом есть антроподицея, об’яснение
и оправдание человеческого мира.
Человек—центральный мотив его философствования. Миро-
ощущение Бакунина насыщено человеческим.
Человек Бакунина—не тощая абстракция просветительных
рационалистов, не плод «разумной» диалектики. Он менее
всего—«равноправный» член «человечества», или избранник
с чудесной миссией прославления в делах своих Творца. Он,
наконец, не романтический герой, призванный волей мыслителя
или вождя осуществлять метафизику прогресса.
Человек Бакунина — первичная неразложимая интуиция,
выросшая из живого сочувствия сверходаренной эмоциональной
натуры ко всему человеческому. Человек Бакунина — живой,
реальный, конкретный человек, кусок пластической материи,
в далеком прошлом брат гориллы, сегодня мыслитель и бун-
тарь, каменщик нового человеческого мира.
Как возможно его творчество?
В традиционных характеристиках Бакунинской философии
истории, на наш взгляд чрезмерно подчеркивается значение
в последней негативного элемента.
В его общей концепции мира, в учении о жизни, как
безграничном развитии, как вечно движущем, многоразличном,
слитном потоке, отрицательный момент естественно должен
был занять важное место. Жизнь—диалектический процесс и
сущность ее состоит в последовательной смене утверждений и
отрицаний, органически слитых. Всякое утверждение таит
в себе элементы разрушения; отрицание есть необходимая
предпосылка утверждения.
В этом хаосе взаимодействующих причин конкретные
явления нуждаются в наличности определенных условий, типи-
ческих отношений, вне которых невозможно их самопроявление
и дальнейшее существование. Попытка восстать на эти условия
была бы восстанием против причин, обусловивших самое явле-
ние и потому грозила бы гибелью последнему.
При всем романтизме своей натуры Бакунин был реали-
стом с головы до ног. Он мог дать себе ясный отчет в том,
в каких именно условиях «бунт» может иметь шансы на успех,
в каких, не претендуя на непосредственно-практические успехи
134
А. БОРОВОЙ
он может иметь.воспитывающее или пропагандистское значение,
в каких, наконец, бунт—равносилен безумию—не в смысле
чрезмерного пренебрежения реальной обстановкой, в которой
должен протекать самый бунт, но в смысле коренного извра-
щения задач человеческой деятельности, безсмыслия покушения
на то, что, по сути-вещей, стоит над человеческой волей, над
человеческими возможностями. Такова—природа и ее законы,
таковы законы общественности — не временные конкретные
формы, в которые человек укладывает свои исторически-прехо-
дящие достижения, но основные законы общественного бытия,
действующие как силы природы.
Поэтому, в корне неправильным является представление
о Бакунине, как нигилисте, как универсальном отрицателе
не только законов, но и закона, как бунтаре, посяга-
ющем на принципиальные основы природной и социальной
материи.
Свобода человека понимается им не метафизически, как
независимость от действий «естественных законов физического
и социального мира». Личность связана—«естественной необ-
ходимостью» (подчинение законам природы) и «необходимостью
социальной жизни» (подчинение законам общественного бытия).
В подчинении им—основа и условие нашего существования.
Возмущение против них нелепая попытка поставить себя вне
действия всемирной причинности, определяющей существование
всех вещей. В этом смысле, человек—раб, но раб законов,
стоящих не над ним, а образующих ею собственное естество,
неотделимых от условий его существования.
Поэтому, для Бакунина не было и не могло быть разрыва
между «свободой» и «необходимостью» «Разумность» действи-
тельности также не подлежала оспариванию в его глазах, как
«бунт» против действительности. Противоречие между ними
было мнимым.
Биологически и социологически «разумная» действитель-
ность— а для Бакунина иной действительности не было и не
могло быть — с естественной необходимостью приводила чело-
века к отрицанию «об'ективного хода вещей» и бунту против
него *).
Замкнутый в мировой "поток причинности, обусловленный
законами природы, законами социального бытия, человек, однако,
протестант с момента своего рождения. И по мере укрепления
в нем «человеческого» — в этом все об'ективное содержание
его истории — все более совершенствуются его методы борьбы
Ч Действительность — «разумна», «логична», поскольку она об-
условлена соответствующим комплексом причин, поскольку имеет свою
внутреннюю логику. Данная конкретная действительность, в этом
смысле, есть «разумная» действительность. Такое понимание ошибочно
смешивалось с Гегелевским афоризмом разумности и действительности
в начале 40 гг. Белинским, а частью и Бакуниным.
Б А К У Н И, Н
135
с действительностью, которая по условиям момента перестает
быть для него «разумной».
Так об'ективный ход вещей, мировая причинность, дав
место в космическом потоке человеку, тем самым подготовила
своего собственного отрицателя, постоянно прогрессирующего —
в глубине своих бунтарских замыслов и совершенстве своих
практических методов. Революционер — не фокус истории, сти-
хийными силами выброшенный на ее поверхность, чтобы дать
ему, «по его глупой воле пожить»; революционер влагает в свое
отрицание силу своего суб'ективного исторически смысла, как
продукт «разумной» действительности. Бунтарь может недо-
статочно посчитаться с об'ективными условиями существования,
в патетическом порыве он может рискнуть пойти на «невоз-
можное», совершить тяжкие ошибки, вскрываемые последующей
историей, но самое право его на бунт — бесспорно, в силу
об'ективного хода вещей, в силу имманентного человеку твор-
ческого инстинкта. Бухгалтерские просчеты, стратегические
крахи, даже разгромы не опорачивают ни наших прав, ни наших
реальных возможностей врываться в «разумную» действитель-
ность и пробовать по своему переставлять «об'ективный» ход
вещей. Это — война, в которой победителем может быть любая
сторона. Исторический опыт показал, что именно «научные
теории общественного развития» являются наиболее обильным
источником ошибок; об'ективный ход вещей дает торжество
революционеру, независимо от степени совершенства его апри-
орных формул.
Но подобное построение не имеет ничего общего с слепой
верой, с credo quia absurdum.
«.....Что логично в природе и в истории? Это не так
легко определить......Чтобы знать это в совершенстве, так,
чтобы никогда не ошибаться, надо обладать познанием всех
причин, влияний и действий и противодействий, определяющих
природу какой либо вещи или факта, не исключая ни одной
причины, хотя бы самой отдаленной или слабой. А какая фи-
лософия или наука может похвалиться, что она в состоянии
<обнять и исчерпать все это своим анализом?.. Надо ли из-за
этого сомневаться в науке? Надо ли отбрасывать ее потому,
что она дает нам лишь то, что может дать. Это было бы новым
безумием и много более зловредным, чем первое».
Свобода в отношении к «разумной действительности»,
«естественным законам» заключается в познании их, признании
и пользовании ими в целях дальнейшего освобождения. Задача
науки — открытие и систематизация законов; задача практики —
введение их путем народного просвещения в обиход широких
масс. Успешное осуществление этих задач разрешает вопрос
•о практической свободе, ибо с усвоением этих законов падает
-необходимость в принудительных институтах современной об-
щественности. Человек свободен, поскольку добровольно при-
136
А. БОРОВОЙ
знает и повинуется естественным законам; регулирование извне
должно пасть *).
Если даже признать, что гносеологически и психологиче-
ски бунт против «закона» вообще — возможен, что если не
общество в целом и не какая либо общественная организация,
а отдельная конкретная индивидуальность — в припадке ли
исступленного логизма, теоретического или практического эго-
центризма, наконец, катастрофического аффекта, может поднять
голос против самых основ, бытия, против природной данности,
то все же совершенно ясно, что подобный бунтарь встает не
против законов и закономерности, но против самой идеи их,
против самых норм своего собственного сознания.
Бакунин никогда и нигде не проповедывал такой неогра-
ниченности.
Его бунт против «науки» и «научных законов», или
шире — против империалистских претензий разума вообще —
был бунтом не против права науки и научного закона на са-
мостоятельное бытие, не против стремлений науки к образо-
ванию своих «логических единств», не против их попыток, на-
конец, при помощи своей специфической методологии об:яснять
самую жизнь. Его бунт шел против попыток подчинения жизни
науке, против наивных претензий последней верить в адекват-
ность своих законов законам подлинного бытия, против попы-
ток раскрыть существо жизни при помощи своих, неизбежно
ограниченных формул — понять мир, как «представление». Праг-
матический смысл научного знания был ясен Бакунину до конца.
Разумеется, ограничение роли научного знания, противопоста-
вление его скромных возможностей всемогуществу жизни не
может быть оправдано с точки зрения последовательного по-
зитивизма, но именно этот непоследовательный позитивизм про-
веден весьма последовательно во всем Бакунинском учении
о жизни и является основной краской его философствования.
Бакунинское — «все опрокину», несмотря на соблазнитель-
ный титанизм этих слов, отнюдь не является лозунгом рево-
люционера-полубога, пытающегося потрясти междупланетные-
пространства. .
«Все опрокину» — имеет обширные горизонты, однако,,
ограниченные не только объективными нормами бытия, но и ре-
волюционным гением и здравым смыслом самого Бакунина. Оно
имеет отношение ко всякой исторической форме обществен-
ности, ко всякой социально-правовой системе, хотя бы и идеально
воплощавшей чаяния и указания данного момента, но только
И См. II. 164- 166, III. 156-158, 164- 165. Ср. т. IV. 61. пр. 1,
189, 250. Здесь и далее Бакунин цитируется по единственному собранию
его сочинений на русском языке, изд. «Голос Труда». Римские цифры
указывают том собрания, арабские — страницу соответствующего тома.
Отмечаются все места наиболее характерные по отношению к трак-
туемой теме.
БАКУНИН
137
к ним. Поскольку для Бакунина не было пределов восхождению
реального человека от животного к человеческому, для него не
могло быть и позитивного общественного строя, который бы
ставил точку на дальнейшей эволюции человеческих обществ.
Бакунин нигде этого прямо не формулировал. Борьба против
властнического фетишизма слишком владела им, чтобы он,
реалист, всю жизнь проведший как в палатке, — мог уделить
время на рассуждение о «мирах иных», имеющих возникнуть
на развалинах государства. Тем не менее, мысль о невозможно-
сти конечного анархического идеала, мысль «перманентной
революции» должна, по моему убеждению, быть естественным
выводом из общей философской концепции Бакунина. В этом
еще более убеждают слова, стоявшие за «все опрокину» в фразе,
приписываемой Бакунину Рейхелем: «пред вечностью все тщетно
и ничтожно». Слишком очевидно, что слова эти имеют смысл
лишь в том случае, если «все опрокину» имело в виду что-либо
позитивное и историческое, не постулирующее личности, как
метафизического «я». Если бы Бакунин пытался утверждать
себя в качестве вневременной и внепространственной субстанции,
абсолютно независимой и свободно творящей, то для таковой
естественно должна была бы отпасть угроза «вечности».
Наиперманентная революция не может быть толкуема, как
непрерывное отрицание, отрицание ради отрицания. Революция
всегда несет в себе утверждающий смысл — не только в при-
зывах и лозунгах, но в труде, работе по консолидации «нового».
Последнее должно пройти стадию приспособления, службы,
прежде чем будет отвергнуто в процессе перманентной революции,
во имя новых запросов. Теоретическое отрицание в сфере мысли,
практическое отрицание в сфере бунта — приходят тогда, когда,
завоевания революции вступают в автоматическую фазу суще-
ствования, фетишистически закоченевая.
Перманентный бунт Бакунина — есть отрицание «Царства
Божия» на земле, той последней утопической точки, в которую
так долго верила и продолжает еще верить социалистическая
эсхатология. Но они — не прихогь вечной одержимости, неспо-
собной остановиться на мгновение, чтобы дать себе отчет в про-
исходящем.
За стихиями отрицания, бушевавшими в Бакунине, за его
разрушительным пафосом, исследователи не чувствуют обычно
мощи его устроительного гения.
Вся философия истории Бакунина сводится к двум равно-
значащим для него положениям: отрицанию животности в че-
ловеке и утверждению в нем человечности. В реальной жизни
оба постулата сливаются в один, ибо неизменно сопутствуют
т) Обоснование этой мысли—центральный мотив моего личного
анархического мировоззрения. См. мои книги — „Анархизм141918 и „Лич-
ность и общество в анархическом мировоззрении-1 1920 г.
138
А. БОРОВОЙ
один другому, неизменно обусловливают один другой. Таким
образом в философско-исторической концепции Бакунина нега-
тивный элемент вполне уравновешен положительным.
Афоризм Ж. Елизара—«Дух разрушающий есть дух сози-
дающий» или «Страсть к разрушению есть вместе творческая
страсть», который многие толкуют, как универсальную абсолют-
ную формулу отрицания—есть, по существу, с гениальным ла-
конизмом выраженная формула культуры, не имеющая ничего
общего ни с нигилистической брезгливостью, ни с упрямством
скептицизма. Этот афоризм, предвестник бури, превосходно рас-
крывает смысл Бакунинского отрицания. Разрушению имма-
нентно творчество. Самое разрушение имеет смысл постольку,
поскольку ему сопутствует созидание. На этом акцент афо-
ризма. По меньшей мере можно говорить о равноправии обеих
частей формулы, и уже никак нельзя истолковывать ее в том
смысле, что Бакунин вообще не хотел строить и черпал свою
силу исключительно в отрицании.
Наоборот, утверждающий пафос Бакунина могуч, убедите-
лен, радостен. Его свобода—не только бунт против «несвободы»,
но устроение нового мира. Никто из социологов не сумел по-
казать такой антропологической необходимости «второго суще-
ствования», как Бакунин. Его «революционное дело»— требует
не только разрушительных страстей, но и воли к устроению
нового общества: «...отрицательной страсти далеко недоста-
точно, чтобы подняться на высоту революционного дела; но
без нее последнее немыслимо, невозможно, потому что не мо-
жет быть революции без широкого и страстного разрушения,
разрушения спасительного и плодотворного, потому что именно
из него и, только посредством него, зарождаются и возникают
новые миры» г).
Бакунинская проблема последовательного человеческого
освобождения есть вместе с тем проблема культуры. Отрицание
животности, как фактор прогресса, предполагает не только
стихийные, нутряные сдвиги, не только обретение новой правды
в бездонных глубинах духа, под влиянием неисследимых ка-
призов «всемирной причинности», но и целевую борьбу, приме-
нение абстрактного «мышления» и «мускульной силы» к кон-
кретным надобностям, накопление приемов, передачу их, даль-
нейшее развитие и т. д.
Бакунинская лава течет, сжигая все на своем пути, чтобы
очистить место утверждению новых ценностей, а не для фети-
шизирования пустырей. Бакунин мог водрузить на стены штур-
муемого абсолютизмом города Рафаэлевскую Мадонну, мог
поднять святотатственную руку на «Тюльери, Собор Парижской
Богоматери и даже Лувр», «в первые дни социальной револю-
ции», как на монументы, неотделимые в памяти парижского
О См. I. 90.
БАКУНИН
139
пролетариата от деспотизма х), но подобные проекты разру-
шения для Бакунина не были «искусством для искусства», бо-
жественной игрой безответственнрго разрушительного духа.
Бакунин слишком вкусил от плодов утонченнейшей чело-
веческой культуры, чтобы не знать действительных масштабов
об'ектов своих посягательств. Однако, никакая культура,
однажды достигнутая, не могла стать для него фетишем, тормо-
зящим дальнейшие человеческие достижения. Культура — наряд,
в который человек облекает свой исторические потребности.
С судьбами последних связаны судьбы культуры.
Резюмируя все вышесказанное, мы думаем, имеем право,
как бы это ни звучало парадоксальным для традиционных
представлений, говорить о системе Бакунина, даже о Бакунин-
ском «догматизме».
Бакунин — не гелертер, не классификатор, хотя в других
условиях при гегельянской выучке и исключительной диалекти-
ческой одаренности мог бы писать трактаты по всем правилам
схоластической учености, Бакунин—не спокойный холодный на-
блюдатель. Он прежде всего и более всего—трибун, импровиза-
тор, пред каждым писанием имевший какую-либо практическую
цель. И, не взирая на загромождение своих основных тем—от-
ступлениями, побочными вставками, сведением счетов и пр.
он неуклонно, настойчиво возвращался к одним и тем же
основным линиям мировоззрения, поддерживал их одной и той
же аргументацией. В конечном счете, ядро его учения может
быть легко выделено из общей массы его суждений и образо-
вать то, что мы сейчас назвали его догматикой.
Свои философские позиции Бакунин определяет как по-
зитивизм и научный материализм.
Позитивизм, именуемый Бакуниным также «рациональной
наукой», «всемирной наукой», «рациональной философией», есть
для него прежде всего освобождение от призраков религии и
метафизики. Позитивизм—система, не принимающая ничего на
веру, критически относящаяся ко всем явлениям, все свои
утверждения строющая на опыте; Позитивная система—не ари-
стократична и не авторитарна, подобно религии и метафизике;
но свободна, демократична и строится «снизу вверх». Опыт,
доступный каждому, ее единственное основание. Исходная точка
позитивной социологии — природа, путеводная нить—собствен-
ная физиология человека * 2).
«Научный материализм»—есть «действительное основание
всякой истины».
1) См. IV. 197.
2) См. III. 152 — 155; IV. 54. Признавая огромные заслуги «Кон-
тизма», Бакунин тем не менее относился к нему критически и под по-
зитивизмом разумеет «научную философию» вообще.
140
А. БОРОВОЙ
Заостряя свое понимание материализма и материи, по
преимуществу в спорах с идеалистами, Бакунин решительно
отвергает идеалистическую концепцию материализма. Последняя—
уродливая операция над миром опыта, в целях вящщего по-
срамления презренной материи. Материя идеалистов—столь же
произвольное и недоказуемое представление, как Бог, Сатана,
Бессмертная Душа, и пр. Их материя — «низшая, косная гру-
бость», «бесформенная безжизненная масса», «остаток по отвле-
чении от реальных существ всего, что составляло их силу,
движение, жизнь, ум» (и что именуется идеалистами «духом»),
бездейственная и глупая по сравнению с идеалистическим бо-
гом, есть плод только их собственного, идеалистического
воображения.
Бакунин понимает под материей и материальным миром
«всю сумму, всю лестницу действительных существ, начиная с
самых простых органических тел и кончая строением и дея-
тельностью мозга.., все проявления действительного мира, как
в человеке, так и вне его...» Материя Бакунина — «не пре-
зренная материя» идеалистов, не caput inortuum, не вымысел.
Она—жива, «стремительна, вечно подвижна, деятельна и пло-
дотворна». 1).
В основе его общего материалистического представления
о сущности мирового процесса лежит следующая «аксиома»:
«Все, что существует, все существа, составляющие бесконечный
мир вселенной, все существовавшие в мире предметы, какова
бы ни была их природа в отношении качества или количества,
большие, средние или бесконечно малые, близкие или бесконечно
далекие — взаимно оказывают друг на друга, помимо желания,
непосредственным или косвенным путем, действие и противо-
действие. Эти то непрестанные действия и противодействия,
комбинируясь в единое движение, составляют то, что мы назы-
ваем всеобщей солидарностью, жизнью и причин-
ность ю».
«Всеобщая солидарность»— поясняет Бакунин — эта все-
мирная естественная, необходимая, но отнюдь не предопреде-
ленная, не предвиденная комбинация бесконечного множества
частных действий и противодействий», разумеется, не есть—
«нечто абсолютное», но «производное, вытекающее из одновре-
менного действия всех частных причин», образующих «всемир-
ную причинность». Бакунин убежден, что в подобной конструк-
ции космоса «нет места ни предвзятым планам, ни предустано-
вленным, предусмотренным законам», что между построенным
так «реальным всемирным единством» и «идеальным единством»
религиозной и философской метафизики нет ничего общего.
Но—возможно-ли познание «всемирной причинности», если
не «творящей» миры — ибо Бакунин полагает, что термины—
Н См. II. 148; V. 62-65.
Б А К У H И Н
141
«Творец», «творение» способны породить недоразумения, Свя-
занные с представлениями о жизни, даваемой извне—то дающей
основной толчок, импульс—к рождению, развитию и умиранию
всякого существа, всякого мира? Нет! «Абсолютную связность
и бесконечность реальных трансформаций вселенной», «всегда
движущуюся и действенную солидарность, всемирную жизнь
мы можем разумно предполагать, но никогда не можем охва-
тить даже нашим воображением и еще менее познать» х).
Атеизм Бакунина—логический вывод из его материалисти-
ческой концепции мира.
Бог с его аттрибутами есть продукт не только идеали-
стической логики, но и логических антиномий идеализма. Ибо
идеалисты одновременно постулируют бога и человечество,
бессмертие и человеческую культуру, абсолютизм и свободу.
Человечество у них оторвано от мира и помещено между двумя
идеалистическими полюсами — божественного и животного, без
понимания того, что эти выражения характеризуют одну и ту
же сущность.
Бакунин производит тщательный смотр так называемым
доказательствам «бытия божия», последовательно вскрывая приз-
рачность аргументации — учений о традиции, т.-е. древности
и всемирности верования, о первоначальной мировой гармонии,
об абсолютном совершенстве бога и т. д.
Бог есть—продукт человеческой мысли, абстракция, поро-
жденная в определенных исторических условиях определенными
историческими причинами. Исторические позитивные религии —
плод коллективного сознания, специфическое отражение неко-
торых сторон общественного процесса. Религиозное верование
выростает из инстинктивного и страстного протеста человека
против невыносимых условий земного существования. У масс,
невыросших до осознания социальной борьбы и социальной ре-
волюции, божественность становится символом последующего
возмездия за испытанную на земле несправедливость. Так небо
«обогащается отбросами земли».
Но, вырастая из человеческого сознания, небесная симво-
лика подчиняет себе человека, его реальное существование,
преобразуется в самодовлеющую сущность и неограниченно вла-
ствует над творцом, ее породившим. Отныне бог — все, мир —
ничто; бог — господин, человек — раб. Религия убивает в чело-
веке разум, производительную мощь, чувство справедливости,
стремление к человечности. Идеализм, исповедующий божествен-
ность, осуждает человека на «безысходную животность».
*) См. III. 156—162, 176—17'. Если уже в воодушевленном лири-
ческом определении материи чувствовались ноты, как будто нару-
шавшие позитивистскую гармонию, то учением о „всемирной причин-
ности“, добываемой не из опыта, единой, бесконечной, всемогущей,
замкнутой в себе, непознаваемой создается новая метафизическая
сущность.
142 А. БОРОВОЙ
И если человек хочет быть свободным, он должен отверг-
нуть бога и разрушить религиозные системы.
Исторически божество стало союзником тиранов, мучите-
лей, эксплоататоров народных масс.
Обращаясь к современным ему событиям, Бакунин ставит
вопрос: «... Где были материалисты и атеисты? В Парижской .
Коммуне. А где были идеалисты, верующие, в Бога? В Версаль-
ском Национальном Собрании. Чего хотели парижские револю-
ционеры? Они хотели окончательного освобождения человечества,
посредством освобождения труда. А чего хочет теперь победо-
носное Версальское Собрание? Окончательного падения чело-
вечества под двойным игом духовной и светской власти».
Теоретический практически человеческая свобода возможна
лишь при категорическом уничтожении «фикции небесного вла-
дыки» *)
При этом Бакунин считает нужным подчеркнуть, что
научный материализм в жизни проявляет себя как практический
идеализм; наоборот, идеализм, несмотря на близость его к небу
и на все его вербальные украшения, в действительной жизни
погрязает в самом грубом материализме.
Фикциям человеческого разума, пытающимся об‘яснить
и оправдать мир, материалист Бакунин противополагает самую
жизнь.
Здесь в самом Бакунине, как будто, происходит некая
борьба. Рационалистические элементы его мироощущения пыта-
ются отстоять свою самостоятельность.
1) См. II. 150-163, 182- 186, 259-260, 267, 280, Ш. 149-152, 166,
176, 180, IV. 102—104; V. 60—67. Замечания отдельных критиков Баку-
нина о религиозном или мистическом в его воззрениях—построены на
недоразумении. Не говоря уже об общей его концепции, исключающей
категорически что-либо „божественное", у него имеются на этот счет
и определенные указания, не оставляющие места никаким сомнениям.
Еще в статье „Реакция в Германии" он писал: „Мы должны не только
политически действовать, но и в самой политике нашей действо-
вать религиозно — религиозно в смысле свободы,
единственным истинным выражением которой является справедливость
и любовь". См. Корнилов П., стр. 184. В письме к Э. Сторжевскому
(без даты) он пишет, что, „вполне отказался от того,
чтобы признавать бога научно и теоретически",
но ищет его (бога) „в людях, в их любви, в их свободе и теперь....
в революции". См. Материалы для биографии М. Ба-
кунина т. 1. ред. В. Полонского 1923 г. стр. 36-37. Здесь не мисти-
ческая сущность, а мистическая терминология. Речь идет не о боге и
о вере в бога, а о трудности или даже невозможности некоторых
определений в терминах чистого разума. Свобода, революция, демо-
кратия и некоторые другие понятия—как законченные реальные един-
ства—есть нечто большее, чем механическая совокупность политиче-
ских, исторических, психологических и иных представлений, связан-
ных с ними. Они говорят не только нашему разуму, но нашим чувст-
вам, нашей воле, нашей природе в целом. Они—лозунги, мифы, обра-
щающиеся к тому, что часто неосознано в нас самих. Их Бакунин
называет „религиозными".
БАКУНИН
143
Выходец из привилегированного, просвещенного круга,
всесторонне образованный человек, бывший гегельянец, рево-
люционер, впитавший в себя освободительные традиции эпохи
просвещения, принципов 89 года, утопистов, гениальный диа-
лектик и безграничный энтузиаст — Бакунин, конечно, не мог
не отдать дани — «просвещению», «науке», «мысли», «разуму».
«Мысль» определяет место человека в животном мире.
«Мысль» отделяет «человеческий мир» от всего остального ор-
ганического мира. «Мысль» творит историю человечества. Увле-
ченный великой координирующей силой человеческого разума,
Бакунин отожествляет разум, идею, логос с реальной действи-
тельностью. «Все что естественно — логично, и все что логично —
существует и должно осуществиться в реальном мире: в при-
роде, в собственном смысле этого слова, и в ее дальнейшем
развитии — естественной истории человеческого общества».
«Наука»—универсальное средство освобождения человече-
ства.— Религиозной и метафизической мысли, постулирующей
«существование Бога» и тем ’ самым полагающей ограничение
прав человеческого разума, отказ от чувства справедливости,
отрицание человеческой свободы, Бакунин противопоставляет
«рациональную науку» и „пропаганду социализма". Рациональная
философия — не авторитарна, но демократична: „она органи-
зуется свободно снизу вверх и опыт признает своим единствен-
ным основанием......Бог, Безконечное, Абсолют . . . совершенно
устраняются из рациональной науки". И Бакунин кончает свои
рационалистические утверждения настоящим словословием „все-
мирной науке": наука—„одно из самых драгоценных сокровищ",
«одна из лучших слав человечества». Ее гибель была бы воз-
вратом человечества на несколько тысяч лет назад, к состоянию
предков — горилл. И поставив трагический вопрос — каковы
причины медлительности в движении прогресса, приводящей
в отчаяние, близкой к застою, которая составляет самое боль-
шое несчастье человечества, Бакунин отвечает: «Причин очень
много. Одна из самых важных, конечно, — невежество масс.1)
В этом преклонении перед знанием и наукой — Бакунин
наследник просветительной эпохи и утопистов.
Однако, зрелый Бакунин не здесь. Рядом с рационалисти-
ческими струями в философии его бьют иные могучие потоки
и в них раскрывается подлинное значение творения Бакунина.—
В них черпает он силу для построения оригинальной, последо-
вательно анархической философии истории.
Предваряя современный «антиинтеллектуализм», предвос-
хищая тонкую аргументацию Бергсона -), Бакунин пишет
И См. II. 276; Ш. 150—158 и др.
2) О бергсонианских элементах в философии Бакунина см. мою
книгу „Анархизм" 1918 и статью И. Гроссмана „Бакунин и Бергсон"
„Заветы" 1914 г. № 5, ставшую мне известной уже после напечатания
моей книги.
144
А. БОРОВОЙ
красноречивую страницу, посвященную автоматизму «закоче-
невших» идей.
«Каждое новое поколение находит в своей колыбели целый
мир идей, представлений и чувств, который оно получает как
наследие минувших веков........ как мир фактов, воплощенных
и реализованных как в людях, так и во всех вещах, окружающих
его с первых дней жизни ... Человеческие идеи и представления
были вначале ничем иным, как продуктом действительных фа-
ктов .... Позже .... они приобретают силу, достаточную,
чтобы в свою очередь, стать причинами новых явлений .. . Они
кончают тем, что изменяют и преобразовывают, правда, очень
медленно человеческое существование, обычаи и учреждения,—
одним словом, все взаимоотношения людей в обществе .... И
когда поколение......достигает зрелого возраста . .. , оно на-
ходит в себе точно так же, как и в окружающем его обществе,
целый мир установленных мыслей или представлений, которые
служат ему исходной точкой и дают ему в некотором роде
сырье или ткань для его собственной интеллектуальной и мо-
ральной работы ., . . »
Эта великолепная страница, вскрывающая обусловленность
духовной жизни человечества его прошлым, неразрывность
связи между всеми интеллектуально-моральными достижениями
человечества, огромность коллективного труда, затрачиваемого
на приобретение и укрепление иде$|, становящихся позже общим
фондом, есть вместе с тбм глубочайший бунт против принятия
в наследство идей — «нелепых, но неизбежных, фатальных в
историческом развитии человеческого ума», идей, «освященных
на протяжении веков, всеобщим невежеством и глупостью, а
также хорошо понятыми интересами привилегированных клас-
сов...» и т. д.
Эта страница есть страстное возмущение против порабо-
щения человеческих масс коллективным сознанием предше-
ствующих обществ, против окружения каждого общества и ка-
ждого поколения общества своеобразной интеллектуально-мо-
ральной атмосферой, воспитывающей наряду с чувством безо-
пасности, чувства рутины, срединности и общих мест. В этой
неизбежной и вместе отвратительной опеке-заложены глубокие
препоны к реальной свободе моей, моего поколения, моего
общества х).
И пламенный протест против закабаления настоящего
обращается в открытое нападение на «идею» вообще, на ее
претензии господства в жизни. Мысль создает единство, но оно
не конкретно и не реально. Идея всегда — отвлечение и потому
всегда—отрицание реальной жизни. Наука живет отраженной,
несамостоятельной жизнью; она констатирует представления,
понятия жизни, но не самую жизнь. Наука имеет определенные
’) См. относящиеся сюда места: П. 273 - 276.
БАКУНИН
145
границы: она должна помнить, что она не все, а только часть
всего, часть жизни, бесконечной жизни миров или по крайней
мере жизни человеческого общества.
Мысли и науки доступны лишь постоянные отношения и
превращения вещей, но не их материальная, индивидуальная
сущность, не сама реальность, не подлинный трепет жизни.
Наука мыслит о жизни, но не мыслит самую жизнь. «Наука
незыблема, безлична, обща, отвлеченна, нечув-
ствительна.... Жизнь вся быстротечна и прехо-
дяща, вся трепещет реальностью и индивидуаль-
ностью, чувствительностью, страданиями, ра-
достями, стремлениями, потребностями и стра-
стями. Она одна самопроизвольно творит вещи и все реаль-
ные существа. Наука ничего не создает, она лишь констати-
рует и признает творения жизни». «Она нечто бессердечное....,
она не может схватить конкретное, она может двигаться лишь
в абстракциях». Вмешательство людей науки и традицион-
ных теоретиков исторического процесса в непосредственное
дело жизни—не только бесполезно, но глубоко вредно. Их
формулы и доктрины опрощают и истощают жизнь. Предлага-
емое и творимое ими—«бедно, до смешного отвлеченно, лишено
крови и жизни, мертворожденно....»
«Ученому» правительству Бакунин выносит беспощадный
приговор. Оно может быть лишь правительством аристократи-
ческим — «бессильным, смешным, бесчеловечным, жестоким,
угнетающим, эксплоатирующим, зловредным». «Все источники
жизни иссякли бы под их абстрактным и ученым дыханием»
«Управление жизни наукою не могло бы иметь другого резуль-
тата кроме оглупения всего человечества».
«То, что я проповедую—заключает Бакунин — есть бунт
жизни против науки», ибо наука есть «вечное приношение в
жертву быстротечной, преходящей, но реальной жизни на алтарь
вечных абстракций» 1).
Жизнь, примат жизни — центральный фокус бакунинской
философии. Жизнь таит в себе неграниченные творческие по-
тенции, она—сама творчество. Жизнь есть конкретное и реаль-
ное; она господствует над мыслью, она определяет волю. ’2).
1) См. I. 237, 272; II 192—197, 202; III 155, 175. Бакунин, однако,
далек от того, чтобы отрицать „авторитет" вообще- У него „нет абсо-
лютной веры ни в кого", она сделала бы его рабом- „орудием воли и
интересов" другого- Но он склоняется перед авторитетом специалиста;
признание последнего обусловлено свойственным современному обще-
ству разделением труда. В настоящих условиях все должны быть по
очереди руководителями и руководимыми. И если нет и не может быть
„постоянного универсального авторитета, ибо не существует универ-
сального человека", то добровольной и временной „взаимной власти и
подчинения" не может не существовать. Наконец, Бакунин готов при-
знать „абсолютный авторитет науки", но отвергает „непогрешимость
и универсальность представителей науки". См. II. 168 171.
2) См. II. 74. Ср. I. 237.
Очерки.
10
146
А. БОРОВОЙ
В мужественных чеканных словах выражает Бакунин
любимый принцип своего философствования: «Жизнь со всеми
своими преходящими вздыманиями и великолепиями — внизу в
многоразлич'ии, смерть с своей вечной и несравненной моното-
нней—вверху в единстве».
Реальное многообразие — жизнь, логическое единство —
смерть *).
Здесь ключ к тому понятию, которое является сущностью
анархического мировоззрения — свободе. Свобода в учении Ба-
кунина—начало и конец человеческого. Отделение человека от
животного мира, образование и укрепление человеческого мира,
все будущие перспективы человека—исходят из свободы, дышат
свободой, питаются свободой.
Но осмыслить понятие свободы до конца, значит прежде
всего осмыслить ее творца—самого человека.
Человек в общем строе природе занимает свое, особенное,
более никому не принадлежащее место. Как и все остальное в
мире, человек прежде всего «существо вполне материальное».
В нем нет ничего, что не было бы материей, что не было бы
продуктом «грубой материи». Его «великолепный ум», «высокие
идеи», «бесконечные стремления» — материя, его разум, «един-
ственный создатель всего нашего идеального мира»—«свойство
животного мира и главным образом абсолютно материального
мозгового механизма». Все интеллектуальные и моральные
акты имеют единственным источником материальную организа-
цию человека. Никаких форм «спиритуального или внематери-
ального воздействия» мы не знаем, Никто никогда не видел и
не мог видеть «чистого духа, освобожденного от всякой мате-
риальной формы», существующего независимо от животного
тела. Одним словом, человеческий и весь остальной мир слиты
воедино в общем жизненном материальном потоке.Между ними нет
разрыва непрерывности. Человеческий мир есть непосредственное
продолжение мира органического.
Человек — животное; по прямой ступени он произошел,
если не от гориллы, то от ее сородичей; упразднить своей жи-
вотности человек не может. Но.... человечество — последнее и
совершеннейше проявление ее — есть одновременно все возра-
стающее отрицание животного начала в человеке. Человек мо-
жет и должен переработать свою животность, очеловечить ее
через свободу 2).
Ч В ранних письмах Бакунина имеется огромное число утвер-
ждений. предвосхищающих его последующую зрелую философию о
примате жизни над абстракцией. См- особенно Корнилов. II. 58, 88,
93—94, 98, 149, 232 - 233, 284. В письмах из крепости—упорные и пате-
тические гимны жизненному реализму и постоянное осуждение мета-
физики и абстракции. Они — вне подозрений, т. к. вполне согласуются
с мыслями свободного анархического Бакунина. См. Материалы
стр. 252, 255, 262, 263.
2) См. II. 144, 147—148, 156, 203-205, III. 154, 158, IV. 86, 106—109.
БАКУНИН
147
Что же образует человека из животного? Что ставит
его на самостоятельную, высшую, единственную ступень в без-
граничной иерархии живых существ?
«Три основных принципа — отвечает Бакунин—составляют
существенные условия всякого человеческого развития в исто-
рии, как индивидуального, так и коллективного: 1) человеческая
животность 2) мысль и 3) бунт».
Разумеется, способность мысли и способность бунта имеют
место и у других животных видов. Но только у человека ум до-
стигает такой степени развития, когда он может быть назван мы-
слительной способностью. Из всех животных мыслит только че-
ловек. Только он одарен способностью к абстракции, открывающей
ему дорогу к анализу, экспериментальной науке и дальнейшим
теоретическим и практическим триумфам над миром вещей и
миром животных. Только человек, наконец, одарен той «вла-
стной любознательностью», которая ведет его по беспредельной
лестнице познания и вооружает необходимыми средствами для
подчинения себе сил природы. Эта любознательность—наиболее
человеческая из всех человеческих потребностей; через нее
человек становится человеком в истинном смысле этого слова.
И только человек—любознательный, мыслящий может развить
и укрепить в себе то чувство, потребность возмущения, бунта,
которыми строится жизнь, свергается обветшавший порядок,
без которых самая жизнь была бы стоячим болотом *).
гак среди природы, в общественных условиях, человек—
животное, восприимчивый, жадный, страстный начинает творить
«второе существование» строить для себя — свой новый челове-
ческий мир, отвечающий его планам, подымающийся вместе с
его собственным ростом. В этой борьбе за «свой мир», дикту-
емой ему «всемирным потоком жизни», «всемирной причин-
ностью», «природой» — человек находит свою волю, утверждает
свою свободу, свое «человеческое» достоинство. Так вся чело-
веческая история есть «прогрессивное отрицание первобытной
животности человека, развитие его человечности».
Ч См. II. 144, 147, III. 158, 163-164, 167, 172, 178. Любопытно со-
поставить эти положения зрелого Бакунина с его молодыми набро-
сками. В „Записках" от 4 сентября 1837 г." мы читаем: „...Жизнь есть
блаженство; жить значит понимать — понимать жизнь. Нет зла, все
благо; только ограничение есть з л о — ограничение духов-
ного глаза. Человек еще не свободен, но в нем лежит
возможность безграничной свободы, безграничного
блаженства. Возможность эта лежит в сознании.
Человек есть сознательное существо. Сознание есть освобождение,
возвращение духа из конечности и ограниченности определения в свою
бесконечную сущность. Степень сознания человека есть
степень его свободы. Гегель говорит, что одна только мысль
отличает человека от животного. Различие это бесконечно, оно делает
человека самостоятельным, вечным существом..." (Курсив везде мой —
А. Б.) См. А. А. Корнилов I. стр. 396—397.
10
148
А. БОРОВОЙ
Общежитие, коллективный труд, коллективное могущество
являются необходимым условием рождения человеческого, плано-
мерной борьбы, осуществления свободы. Общество есть древо,
свобода—его плод т).
Теория прогрессивного роста человечности за счет уничто-
жения животности покоится на прочной материалистической базе.
Зоологический материализм, как принцип обяснения явле-
ний социального процесса, представлялся Бакунину бесспорным.
Этот «великий принцип», согласный с «научным мате-
риализмом», «единственный отправной пункт как исследований
и развития позитивной науки так и революционного движения
пролетариата», он формулировал следующим образом: «Как
в мире, называемом материальным, неорганическая материя ...
есть определяющая основа органической материи...........так
и в мире социальном, который, впрочем, может рассматриваться
лишь как последняя известная нам ступень развития материаль-
ного мира, развитие экономических вопросов всегда было и про-
должает быть определяющей основой всякого развития рели-
гиозного, философского, политического и социального».
Он неоднократно противопоставляет ложный идеалистиче-
ский принцип, выводящий явления из идей — единственно верному
материалистическому принципу, утверждающему, что идеи —
отражение явлений, среди которых явления экономические, ма-
териальные, есть база для всех остальных. В основе самых
«абстрактных» и «идеальных» распрей всегда лежал материаль-
ный интерес. Человеческая история, в этом смысле, во всей
совокупности ее явлений — есть продолжение борьбы за суще-
ствование, свойственной всей органической природе. Наконец,
самые принципы Интернационала и тактика его революционной
борьбы были построены на признании экономического факта
основополагающим фактом социального процесса.
Однако Бакунин, верный плюралистическому методу, отве-
чающему его общей концепции «жизни», усматривающий во
всяком монизме лишь более или менее удачную попытку к уста-
новлению наиболее полезного, «логического единства», далек от
того, чтобы признать принцип «экономического материализ-
ма»— абсолютным, единственным, реальным основанием всего
социального процесса. Принцип — прав, поскольку он претендует
на установление закономерности социального процесса, поскольку
он условен и относителен; притязания его на абсолютное и
универсальное значение неправомерны и ложны а).
Для Бакунина реальна только жизнь; в социальном про-
цессе единственная подлинная реальность есть человек. Только
Ч См.’ II. 156, 262, III. 159-160, 168-169, 171.
2) См. I. 247, II. 138—143. IV. 85, V, 68—70. Бакунин, как бывший
гегельянец, высказывается и за диалектический метод, пытаясь пока-
зать при его помощи, как идеализм доктринерский неизбежно выро-
ждается в практический материализм.
БАКУНИН
149
такой смысл может иметь его учение о систематическом и
прогрессивном отрицании животного начала в человеке. Это
отрицание — естественное, неизбежное и, как таковое, разумное
(одновременно исторически и логически) — есть источник ин-
теллектуально-моральных ценностей человеческого мира.
Так на почве отрицания животности — развития способ-
ности мыслить и потребности бунта строится человеческий мир
с его антагонизмами и многообразными формами организации
интересов. В процессе борьбы выростает групповое, позже клас-
совое самосознание; оттачивается классовая воля, вырабаты-
ваются классовые методы наступлений. Стихийный естественный
автоматический процесс и творческая воля угнетенных масс,
стремящихся к свободе — таковы реальные источники всех об-
щественных явлений.
Возвращаемся к свободе.
«Свобода — величайшее слово, означающее великую вещь,
которая никогда не перестанет воспламенять сердца всех живых
людей». Вне свободы — нет добра; свобода — источник и абсо-
лютное условие всякого добра, достойного этого наименования.
Самое добро есть ничто иное, как свобода. Последний предел,
высшая цель человеческого развития — свобода. Реальное осво-
бождение человечества есть подлинная цель и высший результат
истории. Итак, свобода есть цель и свобода есть путь. Весь
смысл человеческого существования — в свободе; исторический
путь человека есть путь непрерывного последовательного са-
моосвобождения.
Но понятие свободы т]5ебует формального определения.
У Бакунина оно укладывается в гениальную по лаконизму
и меткости характеристику: «Свобода неделима: нельзя урезать
часть ее, не убивая целого».
Свобода есть сама жизнь. Как жизнь она — целостна, не-
делима, неповторима. Нельзя расчленить ее; покушение на самый,
хотя бы незначительный клочок ее, означает отрицание ее,ги-
бель ее в целом. Библейской Еве было воспрещено касаться
плодов только одного дерева, но это запрещение было равно-
сильно полному отрицанию ее свободы. Ее непослушание было
подлинным восстанием; оно открыло путь человеческой сво-
боде.
Положительное содержание свободы заключается в утвер-
ждении человечности, т.-е. утверждении справедливости и добра.
Оба начала — не плод логической спекуляции и не наследие
теологических или юридических принципов. Они вполне реальны
и коренятся в самой животности нашей природы. Эгоизм и об-
щественность неотделимы от всех животных обществ, но только
в человеческом получают осознание и законченное оформление.
Справедливость, предполагаемая свободой, имманентна челове-
ческому сознанию; смысл ее — уравнение людей в правах на
материальные и духовные средства, необходимые для развития
150
А. БОРОВОЙ
их человечности. Справедливость есть «полная свобода каждого
среди полного равенства всех». Для Бакунина она — естественный
шаг в развитии личности, ее переход от экономического обо-
собления к свободному союзу. Любовь неотделима от справед-
ливости, ибо истинная реальная любовь предполагает равенство
людей. Любовь высшего к низшему есть деспотизм, любовь кис-
шего к высшему есть рабство т).
Так утверждаемая свобода естественно предполагает обще-
ственную организацию.
Исторический человек «самое индивидуальное» и «самое
свободное» из всех существ животного мира, вместе с тем
и самое социальное из них. Общество — естественный и един-
ственно известный нам образ сосуществования людей, упра-
вляющийся собственными законами, имеющими стихийную силу
законов природы. Человек становится таковым лишь коллектив-
ной деятельностью всего общества.
Общественное могущество — беспредельно. С момента ро-
ждения человек приобщаётся к могучему, универсальному, с сти-
хийной силой действующему фонду верований, учений, навыков,
отобранных и накопленных предшествующими поколениями,
образующих основу его индивидуального существования^ Фа-
тально лишенный выбора, человек естественными корнями при-
креплен к обществу, которым он рожден; последнее налагает
на него неизгладимую печать.
Коренной бунт против общества так же невозможен, как
бунт против природы, ибо к обществу, как к природе неприло-
жимы общепринятые моральные критерии — добра и зла. Обще-
ство есть «бесконечный и положительный и первоначальный
факт, предшествующий всякому сознанию, всякой идее, всякой
интеллектуальной и моральной оценке; это — самая основа,
это — мир».
Самая истина, поскольку она не кабинетная абстракция,
не логическое единство, обращающее в мертвецкую самую
пеструю и беспорядочную жизнь, а продукт реального опыта,
обязана своим происхождением, надличному общественному про-
цессу. Истина рождается стихийно из потребностей масс. * 2)
Общественная жизнь есть непрерывная взаимозависимость
людей. Это —своеобразная атмосфера, вне которой человек не
может дышать. В общественных условиях существования ро-
ждается духовный мир человека: его способность мысли, его
потребность бунта. И потому они — неизбежная предпосылка
его свободы, его человечности. Самая свобода, ее мера поз-
нается лишь в сосуществовании с другими.
Ч См. II. 195 —196, 262, 289; III. 123. 145, 168, 183- 187, 215;
IV. 61, 260.
2) См- письма Бакунина к Герцену. Герцен. Собрание сочинений
ред. Лемке, т. XIX. стр. 155, 319, 352.
БАКУНИН
151
«... Вне общества человек вечно бы остался диким жи-
вотным или святым, что почти одно и то-же .... Изолированный
человек не может сознавать своей свободы .... Свобода не
может быть фактом уединения, но взаимодействия, не исклю-
чения, но напротив того соединения ... Я человек и свободен
сам постольку, поскольку признаю свободу и человечность всех
людей, окружающих меня. Лишь уважая их человеческое есте-
ство, я уважаю свою собственную человечность .... Моя личная
свобода, подтвержденная .... свободой всех, становится беспре-
дельной» г).
Беспредельность общественного развития обеспечивает бес-
предельность развития и самого человека. — В этом смысле
человек есть постоянное становление. До смерти он не может
почитаться законченным, его природа неисчерпаема. Здесь ис-
точник ее единственности, требующей любви и уважения * 2).
Число формул, в которых Бакунин, по собственному вы-
ражению «фанатический приверженец свободы», варьирует ее
определения — можно увеличить по желанию, но довольно при-
веденных, чтобы почувствовать могучие родники оптимизма,
бьющие в призывах его к коллективному труду над осуществле-
нием свободы.
Задача эта неисчерпаема, бесконечна. Судьба человека,
осознавшего до конца свое назначение, звучит волнующей
поэмой:
«Мимолетное и неприметное существо среди безбрежного
океана всемирной видоизменяемости, с неведомой вечностью
позади него и такой же неведомой вечностью впереди, человек
мыслящий, деятельный, сознающий свое человеческое назначение,
остается гордым и спокойным в сознании своей свободы, кото-
рую он сам завоевывает, просвещая, подкрепляя, освобождая
и в случае нужды бунтуя окружающий его мир. Вот его уте-
шение, его награда, его единственный рай»
Однако для практического осуществления свободы мало
осознания своего человеческого назначения, мало осознания
своих прав и прав стоящих рядом. Мысль должна перейти в
действие, человек должен стать — бунтарем. «Бунт человеческой
индивидуальности против всякой — божеской и человеческой,
коллективной и индивидуальной власти» — есть необходимый
отрицательный момент свободы +).
х) См. II. 262 — 275; Ш- 183— 186; IV. За, 53, 71, 250; V. 48 -49-
В одном из писем к своим в 18-15 г. он писал: „Женщины почти везде
рабы......без их полной безграничной свободы наша свобода не
возможна ....“ Корнилов. II-291.
2) См. письмо из крепости к родным неизвестной даты. Мате-
риалы. стр. 254. Ср. ранние взгляды Бакунина; Корнилов. II. 192,
217, 238. (перев. стр. 234 пр. 1), 284.
3) См. III. 179.
См. II. 267.
152
А. БОРОВОЙ
Власть, независимо от ее характера, есть отрицание сво-
боды. И потому бунт за свободу против любой формы власти —
есть основное требование человеческой природы, поскольку в ней
заложен инстинкт к самоосвобождению.
Власть — зло, несущее с собой двоякую деморализацию.
С одной стороны, она развращает властителя, прививая
самому просвещенному, бескорыстному и чистому деятелю -
презрение к народным массам, преувеличение, своего собствен-
ного достоинства. С другой, она есть безусловное отрицание
основного принципа человеческой морали — уважения в каждом
его человеческой природы, признания.за каждым — даже в случаях
его нравственного падения — возможности возвыситься до осоз-
нания своей человечности. Власть с ее неизбежным самооболь-
щением одним фактом своего существования упраздняет прин-
цип «человеческого уважения» * 2).
Микробы власти рассеяны на всех исторических ступенях
человеческого общежития. Зародыши авторитарной психологии
знают самые ранние общества. Новейшие исследования — этно-
графические, антропологические, социологические — не оставили
камня на камне в наших представлениях о первобытных идил-
лиях, где все дышало, якобы, буколической простотой, любовью,
кристалльной ясностью отношений. ,В этих обществах не было
еще до конца осознанных антагонизмов, не было группового
самосознания — неизбежной предпосылки классовой борьбы,
в современном понимании этого слова — но были — вожди, ге-
рои, пастыри, старики, и были — пасомые, рядовые, чернь. Пусть
поднятие на щит было премированием — организационного та-
ланта, военной доблести, ораторского блеска на совете, но сам
вождь и товарищи, прокламировавшие его вождем, чувствовали
отныне пропасть, ложившуюся между ними и знали, что горе
ждет пасомого, если он преступит закон добровольно признан-
ного вождя. В самых ранних тотемических обществах — нару-
шение правил о тотемных пищевых площадях, о тайне хранения
фетишей (чуринги), междугрупповых брачных отношениях и пр.
и пр. грозили ослушнику — изгнанием, тяжким членовредитель-
ством, смертью. Легенда о «золотом веке», не знающем — добра
и зла, принуждения, морали, предшествующем новой истории —
полной крови, греха, преступлений — давно пали.
Бакунин, не знавший новейших исследований, темне, менее
нисколько не заблуждался насчет истинного социального содер-
жания эпох «зари человечества». Прозорливый судьй человече-
ской природы 2) он менее всего мог полагать, что власть есть
1) См. III. 202 — 203.
2) Кропоткин сказал про Бакунина: „Разве люди, которых он вдох-
новлял в Италии, в Швейцарии, во Франции, разве Варлен, Э. Реклю,
Кафиеро, Малатеста, Фанелли. Гильом, Швицгебель и др., сгруппиро-
вавшиеся вокруг него в знаменитой Alliance не были лучшие люди
латинских рас в эту великую эноху. Мне кажется, что его
оценка людей была поразительно верна". См-1. 8. Курсив Кропоткина.
БАКУНИН
153
злой фантом, внезапно выросший в истории. Он знал, что
властнический инстинкт — необходимый элемент животной при-
роды, неразлучно связанный с борьбой за существование.
« . .. • Инстинкт повелевать другими, в своей первоначаль-
ной сущности есть плотоядный инстинкт, животный инстинкт
дикаря». В последующей истории он принимает разнообразные
формы, внешне смягчаемые и облагораживаемые. Но по существу
он остается столь же зловредным; его действие даже усили-
вается, благодаря применению науки х).
«Если есть дьявол во всей человеческой истории — пате-
тически восклицает Бакунин, так это властнический принцип.
Он один вместе с тупостью и невежеством масс, на чем он,
впрочем всегда основывается и без чего не мог бы существо-
вать, он один породил все несчастья, все преступления и все
постыдные факты истории» * 2 з)).
И нигде состояние «несвободы» не отливалось в такую
законченно и откровенно ценическую форму, как в государстве
современного типа, в котором поповская или светская религия,
обычаи, нормы права, мораль, научно-философская аргументация,
обывательские покорность и прекраснодушие — все соединилось,
чтобы оправдать исторически, логически, психологически непо-
бедимый фетиш в сознании подавляющего большинства граждан.
Неудивительно, что в представлениях Бакунина, кипевшего
чувством свободы, властнический принцип и современное госу-
дарство идентифицируются. Государство становится квинт-эссен-
цией отрицающего его и отрицаемого им. Никто никогда, не
исключая Ницше, не дал таких убийственных, всесторонне уни-
чтожающих характеристик государства, как Бакунин.
Государство —«.... абсолютное ограничение, отрицание
свободы каждого во имя свободы всех или общего права........
Где начинается государство, кончается индивидуальная свобода
и наоборот»
Государство — «... не живое целое . . ., не естественное
человеческое общество . .., это заклание как каждого индивида
так и всех местных ассоциаций; абстракция, убивающая живое
общество ограничение или лучше сказать полное отрицание
жизни и права всех частей, составляющих общее целое, во имя
так называемого всеобщего блага........; это алтарь полити-
ческой религии, на котором приносится в жертву естественное
общество; это всепожиратель, живущий человеческими жертвами,
подобно церкви . . . . ; это — меньший брат церкви» 4).
Истрепанный аргумент в защиту демократической док-
трины— необходимость ограничения части свободы — для обе-
г) См- о „буржуазной11 науке IV. 48.
2) См. IV. 255. V. 6.
з) См. III. 186.
4) См. IV. 88.
• ч
154 А. БОРОВОЙ
спечения остального — свободы в целом, Бакунин отводит неотра-
зимой формулой, приведенной выше: «Свобода неделима: нельзя
урезать часть ее, не убивая целого».
В эхом смысле, для Бакунина все формы государства без-
различны. Демократическое государство, основанное на всеобщем
избирательном праве, может быть столь же деспотичным, даже
еще более деспотичным, чем «монархическое государство». Де-
мократическое государство также построено на «преобладании»,
«господстве» и «насилии», т.-е. «скрытом деспотизме». Оно
может стать самым невыносимым, самым страшным и самым
безаппеляционным деспотом, если под предлогом представительства
всеобщей воли, оно «будет давить волю и свободное д жжение
каждого из своих членов всей тяжестью своего коллективного
могущества». Республика имеет цену чисто отрицательную —
поскольку она есть разрушение, уничтожение монархии. Но
падение монархии не знаменует еще утверждения свободы
и справедливости J).
Беспощадно Бакунин изобличает лживую природу «народ-
ного государства». В «Альянсе», возражая против компромис-
сной политики, в частности каких-либо союзов с буржуазией,
выгодных лишь ей, а не традиционно обманываемым массам, он
в нескольких словах разделывается с модным тогда демократи-
ческим лозунгом. Народное государство — «противоречие, фик-
ция, ложь,., очень опасная ловушка для пролетариата. Государ-
ство, каким бы народным его ни делали по форме, всегда оста-
нется институтом господства и эксплоатации и, следовательно,
для народных масс вечным источником рабства и нищеты» 2).
Бакунин не делает исключения и для диктатуры пролета-
риата, долженствующей, по убеждению, социалистов государ-
ственников, стать переходной формой к утверждению бесклас-
сового социалистического строя. И здесь пролетариат — думает
он — неизбежно станет игрушкой стихийных сил, невольно
сыграет предательскую роль по отношению к своим же со-
братьям. Рабочие, попадая в учредительные и законодатель-
ные собрания, становясь государственными людьми, неизбежно
делаются «буржуями и, быть может, станут буржуазнее самих
буржуев».
Любая диктатура—личная или коллективная—«узка, слепа,
неспособна ни проникнуть в глубину народной жизни,ни обнять *
’) См. I. 98-99, 136-137, 208.11.43-44. III. 123-126, 187. Бакунин
однако указывает, что его критика государства вообще и демократи-
ческого государства в частности, вовсе не предполагает принципи-
ального уравнения между монархией и демократическим государством:..
„Самая несовершенная республика—в тысячу раз лучше чем самая про-
свещенная монархия11- Монархия есть постоянное угнетение, республика
знает моменты относительной свободы. Демократический режим пы-
тается поднять массы до общественной жизни, монархия этого не
делает никогда. См. III. 201.
См. V. 19—20.
БАКУНИН
155
всей ее ширины». Именно поэтому официальные акты даже
революционной власти пробуждают в массах чувство протеста.
Революция перестает быть революцией, действуя деспотически.
Социальная революция может быть плодом только непосред-
ственного творчества народных масс. Революция организуется
только снизу вверх х).
Всякая иная аргументация в защиту государства предста-
вляется Бакунину несостоятельной.
Было бы бессмысленным пытаться оправдывать государство
тем, что оно ограничивает лишь ту свободу, которая направлена
«к несправедливости, к злу», и наоборот, обеспечивает дея-
тельность, направленную к добру и справедливости. Подобная
аргументация отводится прежде всего основной концепцией сво-
боды, не знающей расчленений или ограничений, чем бы они не
мотивировались, иначе свобода перестает быть таковой. Подоб-
ная защита государства—лишь подновленные варианты старых
тем: о свободе Евы, которой было воспрещено вкушать плоды
тол'ько одного дерева, о женах Синей Бороды, которым было
запрещено заглядывать только в одну комнату дворца и т. д
и т. д.
Эта аргументация бессильна и лицемерна также и с исто-
рической точки зрения.
Все теоретики «общественного договора», начиная с пред-
шественников Руссо и кончая его последователями, готовы
утверждать, что до момента добровольного—свободного и соз-
нательного создания государства—различия между добром и
злом вообще не существовало. Это и был именно тот фанта-
стический «золотой век», в котором, «эгоизм был верховным
законом, единственным правилом; добро определялось успехом,
зло—одной только неудачей и справедливость была ни чем иным,
как признанием совершившегося факта». Общественный договор
открыл эру различения добра и зла. Было сконструировано
понятие «общего блага», отныне оно было провозглашено вер-
ховным критерием при определении целесообразности и нрав-
ственности любого акта. Все, что вело к обеспечению и защите
общего блага, было добром; все противное этому благу было
признано злом *1 2).
Так родилось современное «светское или атеистическое»
государство, отбросившее космополитическую мораль христиан-
ства, но не возвысившееся до морали гуманитарной. Государство
1) См. IV. 20, 177. 185,257 и др. Вдоанархический пе-
риод Бакунин высказывался за возможность или желательность дикта-
туры- Таково, например, известное место в его „Исповеди“. Такой же
характер носили его предположения о возможности диктатуры Му-
равьева-Амурского, в которого он первоначально, повидимому, верил,
полагая, что радикальная диктатура была бы предпочтительнее расхля-
банного, неустойчивого, непросвещенного деспотизма.
2j См. 111. 184—188.
156
А. БОРОВОЙ
в своем обособленном замкнутом существовании — слишком
узко, чтобы уметь охватить интересы всего человечества и осу-
ществить, таким образом, требования всечеловеческой морали.
Итак, в современном государстве—христианство лишь—
«предлог и фраза». Действительным основанием государственной
морали, новым фетишем, похоронившим все остальные, подчи-
нившим себе все запросы и требования человечности, как тако-
вой, обусловившим всю историческую практику государств, яв-
ляется—«государственный интерес». Чтобы защитить этот «ин-
терес», чтобы отстоять свою «ограниченность», свой «коллек-
тивный эгоизм», государство не только жертвует индивидуальной
свободой, но вооружается с головы до ног и пользуется любым
случаем отхватить чужой кусок, не останавливаясь перед кровью
и жертвами. Государство—немыслимо вне империализма. «Госу-
дарство должно пожирать, дабы не быть пожранным, завоевы-
вать, чтобы не быть завоеванным, порабощать, чтобы не быть
порабощенным... Государство — это самое вопиющее, самое
циническое и самое полное отрицание человечества... Оно при-
знает человеческое право, человечность и цивилизацию лишь
внутри своих собственных границ... Чужие народности... оно
может по своему произволу громить, уничтожать или порабо-
щать»... «Не существует ужаса, жестокости, святотатства, клят-
вопреступления, обмана, низкой сделки, цинического воровства,
бесстыдного грабежа и грязной измены, которые бы не совер-
шались, которые не продолжались бы ежегодно совершаться
представителями государств, без всякого другого извинения,
кроме эластичного, столь удобного и вместе столь страшного
слова: государственный интерес» х).
Так- выростает исторически огромная, неумолимая, всепро-
никающая, самодовлеющая сущность, доминирующая над людьми,
над их устремлениями, свободой, жизнью, высасывающая как
вампир из людей все, что есть в них наиболее драгоценного и
оригинального, и отдающая все это в жертву отвлеченной бух-
галтерской средине. Так живет государство—систематическим
грабежом и насилием, то под лицемерной маской утверждения
призрачных свобод и равенства, то под лживыми предлогами
ограждения от зла и стимулирования добра, то, наконец, просто-
в силу присущего государству цинического самодовольства.
И потому нельзя мечтать, чтобы из государства, порочного
в своей основе, тем более деспотического и аггрессивного, чем
более зрелой и совершенной является его конструкция, могла
родиться надежда на освобождение человека, утверждение чело-
вечности. ПравМаккиавелли —-«преступление... есть необходимое
условие политической мудрости и истинного патриотизма..., могу-
щественные государства поддерживаются лишь преступлением»* 2).
’) См. 1. 69—70, 117, III 190-191; IV. 89, 234.
2) См. 1. 84, П 270, 111 34, 192.
В4"1"
БАКУНИН 157
В прошлом государство имело могучего предшественника
и продолжает иметь его своим союзником поныне — церковь.
Сущность их одна и та же; их цели и средства совпадают;
судьбы их—однородны. Церковь и государство равно убеждены,
что человек от природы дурен, что необходимы особые меры
для спасения человека от него самого, его собственной испор-
ченности. Они равно убеждены, что свобода человека должна
быть принесена в жертву, для преображения его: согласно цер-
ковного идеала—в святого, согласно государственного—в добро-
детельного гражданина, не взирая на то, что во все времена
церковь и государство были «главнейшими рассадниками поро-
ков». И совершенное государство не может жить без религии,
ибо Божественное Провидение постоянно санкционирует госу-
дарственные акты.
«Государство, младший брат церкви,., есть историческое
освящение всех деспотизмов и всех привилегий, политическое
основание всех экономических и социальных порабощений, самая
сущность и центр всякой реакции»... «Государство... есть гро-
мадное кладбище, где происходит самопожертвование, смерть
и погребение всех проявлений индивидуальной и местной жизни..
Государство, это абстракция, пожирающая народную жизнь...
Государство есть выражение всех жертв личности т).
Бакунин, чуждый наивному гипостазированию фикций
в самодавлеющие реальные сущности, превосходно понимал, что
за государством—абстракцией стоит всегда определенный реаль-
ный некто, извлекающий из государственного фетишизма для
себя и своих присных недвусмысленные, хорошо осязаемые вы-
годы. Государство и его институты защищают реальные инте-
ресы класса. Система, при помощи коей привилегированный
класс осуществляет свои намерения, именуется патриотизмом.
Бакунин дает себе ясный отчет в сложности понятия пат-
риотизм. Он различает в нем четыре основных элемента: есте-
ственный или физиологический, экономический, политический
и религиозный или фанатический.
Естественный патриотизм — первоначальная животная
страсть, свойственная всем ступеням животной жизни и являю-
щаяся элементарным проявлением борьбы за существование—
всемирного пожирания друг друга. В условиях человеческого
общежития естественный патриотизм есть «инстинктивная ма-
шинальная и совершенно лишенная критики привязанность
к общественно принятому, наследственному, традиционному
образу жизни и столь же инстинктивная машинальная враждеб-
ность ко всякому другому образу жизни».. Естественный пат-
риотизм есть наиболее яркая форма человеческой ограниченно-
сти, а; следовательно, и отрицания человечности. Однако в наши
дни этот патриотизм есть, по преимуществу, удел дикарей или
1) См. 11. 56, 219-220. 111 194-195, IV. 89-90, 258, 260, 264.
158 а. б о р о в о й
полудикарских слоев, сохранившихся благодаря нищете и неве-
жеству в цивилизованных обществах.
Как правило, патриотизм в наше время несет на себе пе-
чать классовой целесообразности. Он принимает тот или другой
характер, в зависимости от ценностей, которые под его маской
защищает привилегированный класс. Переростая рамки клас-
совых требований, этот патриотизм становится политикой и
вместе «высшей моралью» государства. Патриотическое чувство
отныне долг гражданина, обязывающий его на любые жертвы.
В капиталистическом обществе единственно искренним и нату-
ральным патриотом является буржуа, защищающий при помощи
своего государства свои политические и социальные привиле-
гии. И потому — национализм, националистический щовинизм,
патриотизм, как классовые методы буржуазии, исчезнут только
с гибелью капиталистического общества1).
Отдельные критики доселе находят quasi— противоречия
во взглядах Бакунина на «национальный вопрос». Говорят о его
пристрастии к славянам, в частности к России, ненависти к нем-
цам и пр. Если оставить в стороне отдельные, чрезмерно за-
остренные, как все у Бакунина, выражения и ознакомиться со
всей совокупностью его взглядов и рассуждений на этот пред-
мет, отсутствие у Бакунина каких бы то ни было шовинистических
нот—становится бесспорным. Было бы нелепо говорить о «рус-
ском патриотизме» Бакунина после его вдохновенной речи 1847 г.
на польском банкете, его Исповеди, его суровых суждений по
адресу России в позднейших, уже анархических писаниях. Он
признает, что «имя русского стало синонимом грубого угнете-
ния и позорного рабства», он не жалеет выражений для рус-
ского царя, православной церкви, высших классов, русского
государства в целом.- «Казенное повсеместное воровство, казно-
крадство и народообирание есть самое верное выражение
русской государственной цивилизации»; «русская империя пред-
ставляет собою и осуществляет варварскую, антигуманную,
постыдную, ненавистную, подлую систему». Этих публичных
категорических заявлений довольно. Бакунин верит, правда,
в огромные возможности русского народа, темного, забитого
нищетой и варварским управлением, но являющего собой
«могучий своеобразный мир... дышащий весенней свежестью...,
свободный от предрассудков», в‘евшихся в западно-европей-
скую культуру. Он верит, что русский народ внесет в историю
«новую веру, новое право, новую жизнь». Но он имел право
сказать о себе: «Я—сторонник русского народа, а не патриот
государства или Всероссийской Империи и не думаю, чтобы
нашелся кто-нибудь, ненавидящий ее более, чем я». Сомнительно,
чтобы такую любовь к русскому народу и веру в его будущую
историческую роль, обусловливаемую культурной его молодостью,
1) См. 1- 72. 111 190—193, IV 90—101, 136.
БАКУНИН
15
не вскрытыми еще до конца его силами, можно было квалифици-
ровать, как особое пристрастие к своему. Совершенно
также относится он к Германии. Да, по адресу немцев у него
рассыпано немало беспощадных характеристик. Но оставляя
в стороне социалистов Германии, с которыми у него были осо-
бые счеты и которые,во всяком случае, в долгу у Бакунина не
оставались, он критиковал Германию— « официальную, бюрокра-
тическую, военную, дворянскую, буржуазную», он критиковал
«Кнуто-Германскую Империю», «немецкий патриотизм», немец-
кого чиновника и немецкого офицера—последнего больше всего,
наконец, благочестивые, шовинистические и бюрократические
теории немецкого университета, но никогда Бакунин не клей-
мил «Германию народную», народные массы. Империя—русская
и германская со всеми их аттрибутами—одно, народ — русский
и германский—жертвы отечественных политических систем —
другое. Сравнивая немца и славянина, он, действительно указы-
вал, что первый «свободно с‘ел палку», в то время как другого
«надо держать под палкой». Но эта общая характеристика, быть
может чрезмерно суб'ективная, вовсе не делает выводов о необхо-
димости уничтожения немцев, как таковых, или о совершенной их
интеллектуально-моральной негодности. Напротив, он неодно-
кратно отмечает положительные качества немецкого народа:
они «серьезные и работящие, учены, бережливы, порядливы, от-
четливы и расчетливы», «их военная и административная орга-
низация доведены до наивозможнейшей степени совершенства,
степени, которой никакой другой народ никогда не достигнет».
Даже для ненавистного Бакунину немецкого офицера он нахо-
дит такие выражения: «Немецкие офицеры превосходят всех
офицеров в мире положительностью и обширностью своих по-
знаний, теоретическим и практическим знанием военного дела,
горячею и вполне педантическою преданностью военному реме-
слу, точностью, аккуратностью, выдержкою, упорным терпением,
а также и относительной честностью. В конце концов, заме-
чания Бакунина об отсутствии у немцев пафоса свободы, о
любви их к муштровке и дисциплине, о преклонении за страх и за
совесть перед силой—совпадают до конца с характеристиками
таких современников, как Штирнер, Гейне, Берне, из которых,
по крайней мере двух последних, никто не решится назвать пло-
хими немецкими патриотами х).
Наконец, пресловутый бакунинский ранний «панславизм»,
угрожавший, якобы, существованием германскому миру, не был ни
метафизическим построением, ни мистическим мессианским
идеалом, ни шовинистическим воплем, а простым реальным ак-
том самообороны, в основу которого было положено убеждение
i) См. 1. 99, ИЗ, 138, 154—164. 186, 194—198, 219—223; 11.99— 100;
111. 39—46,84. См. т. его замечательную характеристику русского на-
рода еще от 1845 года. Корнилов. 11. 298—299. О политической моло-
дости русского народа см. Материалы стр. 9.
160
А. БОРОВОЙ
о возможности самостоятельной культуры для многомиллионной
народной массы.
«Я желаю германского могущества и германского величия—
писал он — но не угнетения славян Германией)». Его любовь к
славянам и в частности к русским была всегда меньше его
любви к «вольности» и «демократии» 1).
В об'ективно психологическом смысле решающим отводом
против упреков зрелого Бакунина в «национализме» была, ко-
нечно, вся его международная революционная деятельность, не
знавшая черты оседлости.
Могущество современного государства не препятствовало
Бакунину установить правильные переспекгивы на будущие
судьбы его. Государство—исторически необходимо. Оно также
необходимо, как первобытная животность человека, его изна-
чальная ограниченность, как долгие теологические блуждания
людей. Но государство порочное по существу, в самом себе ав-
томатически несет и лечение .против исторического зла. Госу-
дарство обречено на гибель, оно должно исчезнуть, ибо самым
существованием своим оно будит чувства протеста, воспитывает
бунтарей, подготовляет революцию 2).
Учение Бакунина о революции неразрывно связано с его
учением о бунте.
Бунт не есть только конкретный исторический взрыв груп-
повой или классовой воли против угнетения. Бунт в представ-
лении Бакунина есть нечто онтологическое, основная стихия
человеческой природы, вне существования которой невозможно
образование и дальнейшее бытие «человека». Бунт—первичный
инстинкт, оторвавший человека от животности, определивший
его особое бытие, строющий его культуру 3).
Однако наличности этого могучего первоначального ин-
стинкта—недстаточно для осуществления революции. Для этого
мало — нищеты с призраком голодной смерти, мало страстного
чувства отчаяния. Мало, наконец, желания революции, воли
революции.
' «Революции не импровизируются». «Революции не детская
игра». Необходимо еще цельное, осознанное до конца антагони-
стическое чувство, способное поднять не отдельные раздражен-
ные группы, но широкие народные массы. Необходимо классовое
самосознание, т.-е. понимание непримиримости интересов дан-
ного класса интересам всех других классов, понимание, вырос-
тающее из повседневного классового опыта.
«Необходимеще общенародный идеал, вырабатываю-
щийся всегда исторически из глубины народного инстинкта...,
нужно общее представление о своем праве и глубокая стра-
См. М атер и а л ы, стр. 21, 34, 47, 49. Ср. т. А. Боровой
•и Н. Отверженный. Миф. о Бакунине. 1925 г. стр. 134—138.
2) См. 11. 270. 111. 192.
з) См. 11. 111, 147.
БАКУНИН
161
стная, можно сказать, религиозная в е р а в это право. Когда
такой идеал и такая вера в народе встречаются
вместе с нищетою, доводящею его до отчаяния,
тогда Социальная Революция неотвратима,
близка и.никакая сила не может ей воспрепят-
ствовать» т).
Наконец, антагонистическое чувство, выросшее до силы
убеждения в «своем праве», толкающее массы к революции,
естественно предполагает необходимость организации интересов
или организации класса. *
Существует своего рода традиционное убеждение, что анар-
хическое учение вообще и учение Бакунина, в частности, не
уделяют или уделяют слишком мало места вопросам организации.
Эга точка зрения представляется по меньшей мере стран-
ной в отношении к Бакунину, хотя бы уже благодаря выдающейся
его роли в I Интернационале и Альянсе.
Но помимо общих соображений, в сочинениях Бакунина
имеется немало мест, где принципиальное значение «организа-
ции» получило специальное и всестороннее освещение.
Несмотря на отсутствие законченной теоретической фор-
мулировки понятия общественного класса, Бакунин не только
до конца понимал классовую структуру капиталистического
общества, но с присущей ему гениальной проницательностью
умел вскрывать самые сложные, замаскированные ходы капита-
листической политики.
Капиталистическое общество есть прежде всего система
антагонизмов — буржуазии и пролетариата. Никакие компро-
миссы между обоими классами невозможны. Бакунин рисует
буржуазию и формы ее эксплоатации беспощадными чертами.
Он говорит о ее «ненасытной жадности»,, «жестокой и подлой
скупости», «свирепости», о ее ненависти к эксплоатируемым ею
массам, о ее паническом страхе перед последними.
Он готов признать крупные заслуги буржуазии перед ци-
вилизацией, но в настоящее время, выполнив до конца свою
историческую роль, она самым смыслом вещей обречена на
смерть. Непонимание или нежелание понять единственность
этого исторического выхода для нее обусловливает «глупость»,
«постыдную немощность» ее классовых актов. И так как ни-
когда, ни при каких условиях привилегированный класс не кон-
чает с собой самоубийством, то пролетариат во имя равенства
должен потребовать смерти буржуазии и убить ее, как буржуа-
зия некогда во имя равенства убила феодализм * 2).
В статье «Организация Интернационала», отвечая на во-
прос, что именно мешает угнетенным массам свалить ненавист-
1) См. 1. 94—95; IV. 21; 177. Курсив везде мой.—А- Б.
2) См. 11. 26—27, 249, 287, 111. 133—136. IV. 5—8, 26—27, 214, 223.
V. 167.
Очерки. И
162
А. БОРОВОЙ
ный им буржуазный порядок, он отвечает: отсутствие организа-
ции и науки. Как современное государство для осуществления
своих агрессивных и оборонительных задач организует военную
и бюрократическую силу, так пролетариат должен создать для
борьбы с эксплоатирующей буржуазией международную органи-
зацию без различия профессий и национальностей. Такова
именно задача пропагандируемого Бакуниным «Международного
Товарищества Рабочих». Совершенно очевидно, что не только меж-
дународная организация пролетариата, но и местные формы
об'единения не придумываются теоретиками и филантропами.
Они прежде всего—плод определенного экономического разви-
тия; они—результат самостоятельного пролетарского опыта; они
требуют оформленного классового самосознания. Международ-
ная организация предполагает: 1) наличность национальных сою-
зов, т.-е. подготовленного пролетарского авангарда, 2) инициа-
тиву отдельных лиц, преданных пролетарскому делу J).
Чрезвычайно важно отметить, что везде, где Бакунин го-
ворит о социальной революции, пролетарском деле, пролетар-
ской организации, он всегда имеет в виду — не только инду-
стриальный пролетариат, но и революционные слои крестьян-
ства.
С пророческой, несокрушимой силой он говорит о необхо-
димости теснейшей «смычки» рабочих и крестьян для социальной
революции. Он отдает себе отчет в реальных качествах совре-
менного ему крестьянства—его темноте, мелко-буржуазных на-,
выках, неорганизованности, способности служить реакции (глав-
ным образом, вследствие неправильной тактики по отношению
к нему городского социализма), но он ценит его «глубоко
социалистический инстинкт», его «первобытный естественный
социализм», его неукротимый анархический темперамент,
просыпающийся в важные исторические моменты. Более просве-
щенный рабочий класс должен взять на себя инициативу сбли-
жения—необходимого, в интересах социальной революции. Он не
должен навязывать силой крестьянству свой общественный идеал;
революция не смеет быть деспотической и несправедливой.
Пролетариат должен суметь пробудить в крестьянстве дремлющие
в нем революционные силы, толкнуть его на самостоятельное
разрушение отжившего общественного порядка. Только в союзе
индустриального пролетариата с крестьянством социальная ре-
волюция непобедима s).
В письме к Элизе Реклю, с небольшим за год до своей
смерти, после широкой картины мировой реакции, набросанной
с несравненным мастерством, Бакунин дает замечательный.
Ч См. V. 30—35. Бакунин отдает должное в строительстве Ин-
тернационала Марксу, Энгельсу и 4>. Беккеру, не взирая на глубочай-
шие разногласия между ними и на то, что он считал, что уже в бли-
жайшем будущем он будет вынужден „бороться против них".
2) См. IV. 169, J73, 174, 178—179, 185—187, 222—223.
f БАКУНИН 163
Прогноз будущей социальной революции, до конца оправданный
современными нам событиями.
«Выйти из этой клоаки оно (человечество) сможет только
с,помощью колоссальной социальной революции. Никогда между-
народная реакция не была так грозно вооружена против всякого
народного движения... А что у нас есть для нападения на эту
неприступную крепость? Дезорганизованные массы... Остается
другая надежда: всемирная война. Эти колоссальные военные
государства рано или поздно должны будут уничтожить и по-
жрать друг друга. Но какая перспектива!».
Эти строки с достаточной убедительностью свидетель-
ствуют, с одной стороны, о трезвости, с которой «бурнопла-
менный» Бакунин умел смотреть на реальную действительность,
с другой, о глубокой верности его интуиции, достигающей силы
научного предвидения.
Организация пролетарского Интернационала, преследующего
задачи разрушения всякого господства, должна существенно
отличаться от государственной организации. Последняя ci роится
на принципе власти, первая—на принципе свободы. Интерна-
ционал есть естественная организация масс, организация
по роду их занятий,-по ремеслам. Такая организация, диктуемая
непосредственной жизнью, не является чем-то внешним по
отношению к рабочим, она не усваивает начальнического тона
.( действует на соединившиеся в ней массы не1? принуждением,
но убеждением. Государство в лице его органов требует от масс
пассивного повиновения, убивая их инициативу и их свободу.
Рабочий Интернационал обращается прежде всего к инициативе
и самодеятельности пролетариата. Интернационал—орган проле-
1арского возмущения. Расширение его, углубление, вовлечение
в него широких масс, есть его основная задача. Государство немы-
слимо.вне определенных границ, Интернационал разрушает все гра-
ницы. Государство организует жизнь сверху вниз, подчиняя ее
единому централизованному плану. Интернационал строит снизу
вверх, исходя из реального учета жизненных своеобразий х).
Позже, уже по исключении из Интернационала Юрской
Федерации в 1873 г., в прощальном письме к швейцарским то-
варищам, Бакунин настойчиво указывает, что пролетариат
особенное внимание должен направить сейчас не на идеи, кото-
рых за 9 лет в Интернационале было развито больше, чем «их
требовалось бы для спасения .мира, если бы одни идеи могли его
спасти», но на «организацию сил пролетариата», которая «дол-
жна быть делом самого пролетариата». «Бесконечно слабые, как
отдельные лица, местности или страны», пролетарии «обретут
во всемирном коллективе колоссальную непреодолимую силу».
’) См. IV. 62—73, ср. V.46—5Г. воспроизведение статьи „Органи-
зация Интернационала".
И
1 64 А. БОРОВ О й
Однако свободная организация не знаменует собой отказа
ют дисциплины. Последняя не может носить в Интернационале
властнического, автоматического характера; она не знает ие-
рархии и премий. Но исполнение распоряжений добровольно
избранного для определенных целей и на определенные сроки
начальника—старшего товарища — необходимо. Отсутствие до-
бровольного подчинения парализует действие. Дисциплина в сво-
бодной организации есть добровольное согласование индиви-
дуальных усилий, направленных к общей цели 1).
Цель, стоящая перед Интернационалом— полное освобо-
ждение рабочих из под ига капитала, ликвидация старого мира
во всех его формах—экономических, политических, юридических;
построение мира на основах свободы и справедливости. Дело
Интернационала—не только экономическое, но и политическое,
но непременно в смысле уничтожения всякого государства. Именно
в этом пункте пролетарская тактика Интернационала резко
разрывает с тактикой в^ех политических партий, не исключая
социалистических. Последние стремятся преобразовать политику
и государство, внести в них более или менее радикальные кор-
рективы, напитать их новым социальным содержанием. Интер-
национал требует бесповоротного осуждения и разрушения
государства, категорического отказа от политики.
Основные лозунги Интернационала гласят: 1) Освобожде-
ние рабочих должно быть делрм самих рабочих. 2) Экономи-
ческое подчинение рабочего владельцу сырого материала и орудий
труда, есть источник всех видов рабства—нравственного, умст-
венного и политического. 3) Поэтому, экономическое освобож-
дение рабочих—великая цель, которой должно быть подчинено
всякое политическое движение, как простое средство.
Лозунги Интернационала свидетельствуют, что экономиче-
ское освобождение есть основа всякого освобождения, что всякое
учение, гласящее, что политическая свобода есть предваритель-
ное условие экономического освобождения, что политическая
свобода может послужить рабочим орудием в последующем за-
воевании равенства или экономической справедливости, что
борьба за политическое освобождение допускает временные
компромиссы с буржуазным радикализмом, в целях реформиро-
вания государства, есть извращение принципов Интернационала,
отказ от его тактики. Пролетарская тактика может быть только
экономической, борьбой, борьбой рабочих против хозяев, борьбой
всегда заостряющей революционное самосознание рабочих. По-
литическая революция есть неизбежное следствие экономиче-
ского переворота; разрушение хозяйственных отношений есть
одновременно крушение государства. Только так может быть
истолкована теория и практика пролетарского Интернационала.
Пытаться разделить эти революции, видеть в политической ре-
1) См. II. 24.
БАКУНИН
165
волюции необходимую предпосылку экономической, значит, фак-
тически тормозить освобождение трудящихся масс и закрепить
позиции государства. Интернационал должен остаться чуждым
всякой революции, которая с самого начала не заявит себя и
не станет «социальной ликвидацией». Рабочая агитация всех
стран должна носить характер исключительно экономический.
Именно этот пункт разделяет «социалистов-коллективистов»—
сторонников сильной власти, абсолютной инициативы государ-
ства, авторитета, и «коммунистов-федералистов», отрицающих
власть и государство, передающих инициативу в руки самих
трудовых масс и утверждающих свою тактику на принципе
свободы. Те и другие равно исходят из признания «науки», но
первые насаждают знание путем декрета, идущего из центра,
вторые—через добровольные группировки, соответственно насущ-
ным интересам и природным склонностям их. Первые верят во
всеустрояющую силу вождей-учителей человечества, вторые—в не-
посредственное творчество самих масс. Первый блестящий опыт
тактики «революционного социализма» (коммунистов-федерали-
стов), в отличие от государственных «буржуазных» социали-
стов, дала Парижская Коммуна, поскольку она была смелым,
ярко выраженным отрицанием государства г).
Новое свободное общество, встающее на развалинах госу-
дарства—общество федералистическое. Оно строится на началах
полного самоопределения его членов—от коммун к провинциям,
нациям, соединенным штатам Европы, наконец, грандиозному
мировому союзу, об'емлющему все человечество. Автономия
любого члена федерации, независимо от его размеров и внешнего-
могущества, неограниченна, поскольку в ней самой не заключено-
опасности для автономии и свободы другого члена. Источником
правовых норм для федерации является общая воля автономных
единиц. Связь отдельных ячеек не принудительна, она основана
на свободном соглашении. Нет и не может быть вечных обяза-
тельств, но соглашение, принятое добровольно, обладает обязы-
вающей силой.
Так построенная федерация, не кладбище, подобно государ-
ству, но реальный жизненный синтез, об единяющий все местные
своеобразия, все частные права и интересы.
Этот комплекс идей в основных чертах лег позже в основу
теоретических программ и тактики революционного синдика-
лизма и анархо-синдикализма.
Классовый опыт, классовое самосознание, организация ра-
бочего класса, смычка его с революционным крестьянством—
были, однако, еще не всем для Бакунина в деле революции.
1) См. III. 20—22, IV. 6, 12, 13, 16—22, 67, 73, 171, 251—252. V. 20,
24—25, 30—33, 43—44, 51. Об отношении Бакунина к социал-демократии,
и Эйзенахской программе, см. IV. 225—230, 236—237 и др.
166
А. БОРОВОЙ
Для торжества последней было необходимо еще то, что полнее
всего характеризовало самого Бакунина—революционное вдохно-
. вение, неукротимая страсть к «разрушению».
«В революции,— писал Бакунин однажды—3/4 фантазии и
'только х/4 действительности».
В этих словах-ключ к его философии «разрушения».
Чуждый механическому представлению о жизни, Бакунин не мог
иметь механического представления о революции. Для него—
профессионального «делателя» революции — революция тем не
менее «не делалась», «не фабриковалась». Революция многообраз-
ный сложный поток явлений. Взаимодействие их рождает новые,
неожиданные для первоначального учета, пучки сил. К революции
неприложима монотония теорий. Революция—пир. жизни, ликую-
щее радостное творчество, «вздымания» и «великолепия», обра-
зующие самую жизнь. Только в известной части революцию
можно предвидеть, устанавливать, направлять. Прежде чем зало-
жить и утвердить основы нового порядка, революция есть
огромное, управляемое более инстинктом, чем разумом, бро-
жение, хаос. И потому в начальной стадии движения разруши-
тельные процессы естественно играют преобладающую роль.
«Народное восстание по природе своей—стихийное, хаоти-
ческое и беспощадное, предполагает всегда большую растрату
и жертву собственности своей и чужой... Но не может быть рево-
люции без широкого и страстного разрушения, разрушения спаси-
тельного и плодотворного, потому что именно из него и только
посредством него зарождаются и возникают новые миры» *).
В тех случаях, когда Бакунин употребляет выражение--
«делать революцию»—он употребляет его не в смысле верхов-
ного руководства передовыми революционными отрядами, но
в смысле пробуждения потенциальных сил, таящихся в широ-
ких массах и дающих чувствовать свои подлинные масштабы,
свой подлинный размах лишь в самом процессе революции.
Отвечая на вопрос, что могут и должны делать революционные
власти для расширения и организации революции, он пишет:
«Они должны не сами делать ее путем декретов, не навязывать
ее массам, а вызывать ее в массах» * 2). К этим потенциальным
силам революции Бакунин относил и те отдельные социальные
группы, которые, не играя собственно определяющей, обусловли-
вающей роли в революции, тем не менее, могут быть чрезвы-
чайно важными ее участниками: выходцев «самой мелкой бур-
жуазии», «школьную и университетскую молодежь», «инстинк-
тивно пренебрегающую традицией и принципом авторитета», не
могущую взять на себя инициативы, но легко способную при-
мкнуть к социалистическому движению рабочих 3). Наконец,
сюда же Бакунин зачислял и вольную голытьбу, овеянную для
См. I, стр. 90.
2) См. IV. 177, стр. 257.
8) См. IV. 30-36? 169, 188.
БАКУН ИН 167
него подлинным ароматом социальной поэзии. Бакунинский раз-
бойник, разумеется, имеет мало общего с романтическим раз-
бойничеством молодого Шиллера. Последнее бессильно герой-
ствовало в индивидуалистических походах против мещанства,
загоняя себя в безвыходный тупик. Бакунинская вольница должна
была стать—«бесноватой», «лавой», передовым отрядом в бунте
против феодальной государственности.
В этой работе—стимулирования революционной энергии,
одушевления—Бакунин не знал себе равных. Его революниона-
ризм—неистощим, фантастичен и вместе глубоко реален, по-
скольку фантастична и реальна сама революция.
Бесконечное число иллюстраций дает его «Исповедь», позже
лихорадочная переписка, которую он вел в 1870 г. Он — то за-
являет, «что приехал, чтобы сражаться или умереть», то сооб-
щает по поводу неудачной революционной попытки, что «дело
только отложено», то побуждает друзей—«вам остается 3 или
4 дня, чтобы делать революцию», то выражает восторг по поводу
.действий Коммуны и т. д. и т. д. г).
При всей нелюбви его к якобинцам, его тирада о людях
1792 и 1793 г.г.—восторженна: «Они были бесноваты и достигли
того, что сделали бесноватою всю нацию. Или скорее, они были
сами наиболее энергичным выражением страсти, воодушевлявшей
всю нацию» * 2).
Стихийной, почти нечеловеческой силы достигает его рево-
люционаризм в гениальном политическом памфлете — «Письма
к французу» - «...Спасите Францию путем анархии. Раз-
нуздайте эту народную анархию, как в деревнях,
так и в городах, разверните ее во всю ширь, так
чтобы она катилась, как бешеная лава, снося и
разрушая на своем пути все: всех врагов и пруссаков.
Это геройский и варварский способ, я знаю... Но вне его нет
спасения для Франции... Только отчаянная и дикая энергия ее
детей, которые должны выбрать или рабство—путь цивилизации,
.или свободу — путь свирепой борьбы пролетариата... Нужно
только, чтобы ими (крестьянами) овладел бес и лишь одна
анархическая революция может вселить в их тело этого беса».
Бакунин не боится ужасов гражданской борьбы — жертв
людьми и имуществом, лавы, сжигающей с врагами и накоплен-
ные столетиями ценности. Общество, так спасающее себя, не по-
гибнет. Изнутри его спасет инстинкт самосохранения, сила
общественной инерции. Извне для него—опасности вообще нет;
ибо исторический опыт показал,' что никогда народы не пред-
ставляют такой грозной внешней силы, как в моменты, когда
они являют собой «взбаламученное море». Наоборот, они слабы
именно тогда, когда связаны властным порядком 3).
О См- II. 5, 7, 11.
2) См- IJ. 41.
3) См. IV. 169, 181, 187—190.
168
А. БОРОВОЙ
И когда Бакунин говорит о пропагандистах, посылаемых,
в французские деревни.—«...Кто хочет пропагандировать рево-
люцию, должен сам быть действительно революционным. Чтобы!
поднять людей, нужно быть одержимым бесом...» :), ни к кому
слова эти не могли бы быть приложены с большей полнотой и
с большим правом, чем к нему самому.
Из всех стихий, враждебных Бакунину, наиболее далекой'
ему и ненавистной была стихия оппортунизма. Искусство ма-
неврирования было ему совершенно чуждо. Для него было не-
мыслимым— в силу изменившихся условий, неблагоприятных
кон'юнктур— сойти с пути, признанного верным. Чем бы ни
грозил намеченный путь—поражением, пленом, смертью—отсту-
пление с него было невозможным. Бакунин был нравственным
максималистом с головы до ног.
Там, где возникало революционное дело, он становился
рядовым. Иерархических вопросов, по самым свойствам его'
мировоззрения, у него не возникало никогда* 2).
Серьезным же делом были для него—всякий бунт, всякое
восстание, всякое движение против „власти" и в них он нес —
требуя того же от других — весь присущий ему практический1
идеализм 3). Здесь были его долг и его любовь.
Вера в свое призвание — истинный признак гения—про-
снулась в Бакунине рано и никогда не оставляла его.
Впервые патетическую формулировку она получила еще при'
вступлении его в кружок Станкевича: «...Рука божия—писал он
однажды—начертала в моем сердце эти священные слова, кото-
рые обнимают все мое существование: «он не будет жить для
себя... Какова же главная идея жизни? Это—любовь к людям,
к человечеству и стремление ко всему, к совершенствованию»4).
Строкам этим суждено было стать motto всей его жизни.
В одном из последующих писем от 1841 г. он еще более про-
рочески подошел к теме своего жизненного призвания: «Жизнь
есть блаженство, но не вялое, а такое, где буря играет и черные-
тучи нависают, чтобы сочетаться в высочайшей гармонии»5 * * * * *).
Разве слова эти—не подлинное предварение могучего и стра-
стного вопля буревестника, зазвеневшего в финале неровной,,
но вдохновенной «Реакции в Германии».
О См. II. 49.
2) „Во всяком серьезном деле—пишет один из ближайших сорат-
ников его—Бакунин всегда шел в переднем ряду, да еще первым'1...
А. Росс. Бакунин и его вилла Бароната. „Голос Минувшего11. 1914 г.
V. стр. 207.
s) „Революционная деятельность — учил он молодого единомы-
шленника—ради самого успеха своего дела должна искать опоры не-
в подлых и низких страстях..., без высшего, разумеется, человеческого’
идеала* никакая революция не восторжествует"... Стеклов, о. с.
>) Корнилов, 1. 131, 608, II. 201«-203.
й) Корнилов. II. 55—56.
____________________БАКУНИН______________________169
В «Исповеди» подитожившей стремления молодых лет, он
написал замечательные слова: «Искать своего счастья в чужом
счастье, своего собственного достоинства в достоинстве всех
меня окружающих, быть свободным в свободе других—вот вся
моя вера, стремление всей моей жизни».
Эти слова—самая точная программа всей дальнейшей его
деятельности, самая полная и верная его характеристика.
Алексей Боровой.
Воспоминания о М. А. Бакунине.
(Первое знакомство с ним).
С половины мая до июля 1870 г. я жил в Женеве и за
это время ознакомился с революционными делами как русскими,
так и иностранными; главным образом, конечно, с Интернацио-
налом (Международное Товарищество Рабочих). В то время
Женева была центром такого рода деятельности. Раньше у меня
были очень смутные и неопределенные представления, как об
Интернационале, так и об Бакунине, игравшем тогда огромную
роль в европейском рабочем движении.
Вся русская эмиграция, за ничтожным исключением, сосре-
доточивалась тогда в Женеве или около нее. Количественно она
была очень незначительна—десять—двенадцать человек, но за
то в нее входили тогда Бакунин, Огарев (Герцен умер в январе
1870 г.). Бакунин жил в Локарно, тогда маленьком захолустном
городишке, а ныне приобревшем мировую известность, благодаря
недавно бывшему там с'езду заправил европейской политики.
Эмиграция делилась на две части: одна, большая часть, имея во
главе Бакунина, состояла из Огарева, Жуковского, Озерова,
Жеманова. Ельпидина, Мрочковского, Мечникова, а другая из
Утина и Трусова и женщин: Левашевой и еще одной, фамилию
которой я забыл. К первой же группе принадлежал и Нечаев.
Выше я сказал, что Бакунина и его деятельность я почти
> не знал; в мое время действительно об нем среди молодежи
сведения были очень и очень ограниченные. Впервые более опре-
деленно я узнал о нем при следующих обстоятельствах. До
моего появления в Женеве я около года жил в Америке, сначала
в Нью-Йорке, а потом в других городах, работал на заводах
в качестве рабочего. Однажды в газете «Arbeiter Union»,
издававшейся в Нью-Йорке социал-демократом доктором Май-
ером, появилась заметка, в которой говорилось, что он только
что получил из Лондона от известного немецкого революционера
сообщение, что небезызвестный русский Михаил Бакунин состоит
агентом русской тайной полиции. Мой приятель С. сибиряк,
хорошо осведомленный о Бакунине, который жил в Томске,
Иркутске, как политический ссыльный, рассказал мне о нем очень
многое. Он был крайне возбужден газетной заметкой, настаивал,
чтобы мы протествовали против такой клеветы. Он по немецки
J,'
ВОСПОМИНАНИЯ О M, А. БАКУНИНЕ 171
Записал протест и предложил мне итти вместе с ним к Зорге
которого он знал, благодаря рекомендательному письму от
Бебеля. Зорге—немец, учитель музыки эмигрировал из Германии
после революции 1849 года, в которой он принимал значитель-
ное участие. Из разговора с ним оказалось, что он сам очень
хорошо знал Бакунина—революционера, его большое участие
в германской революции, главным образом в восстании в Дре-
здене, был возмущен этой клеветой, вполне одобрил наше заявле-
ние; несколько переделал его, исправив наши грамматические
ошибки. Он хорошо знал Майера, сказал нам, что, очевидно,
последний введен в заблуждение или же сообщение о Бакунине
было напечатано без его ведома. Дал нам рекомендательное
письмо к Майеру, с которым мы отпраьились к последнему.
Пришли в редакцию; нас тотчас же принял Майер, очень
любезно с нами разговаривал и расспрашивал о России и о том,
как и почему мы приехали в Америку. Когда мы об'яснили ему
причину нашего посещения и передали письмо Зорге и протест,
юн пообещал рассмотреть его и напечатать в одном из ближай-
ших номеров. После этого мы распростились. К сожалению, ни
в ближайших, ни в дальнейших номерах нашего протеста не
появлялось, и поэтому мы оба недели через 2—3 снова отпра-
вились к Майеру. На этот раз он нас не принял и его секретарь
передал нам, что редактор очень занят. Через некоторое время
мы снова пришли в редакцию и снова редактор был очень занят.
Нам передали, что он принять нас не может, и что заметка
наша не может быть напечатана, потому что она получена
из Лондона от одного известного и видного немецкого револю-
ционера.
Из редакции мы прямо отправились к Зорге, который на
этот раз принял нас далеко не так любезно, как прежде и под-
твердил слова редактора, переданные нам его секретарем. После
этого знакомство с Зорге прервалось, а протест наш остался,
так и не напечатан.
Весь этот эпизод у меня как-то скоро выпал из памяти и
я вспомнил его значительно позже, так года через полтора,
когда уже жил в Цюрихе.
* *
*
О встрече и знакомстве с С. Г. Нечаевым, по инициативе
которого я был вызван в Женеву, о неудачной попытке сбли-
жения с ним на почве революционной деятельности я писал в
другом месте и поэтому повторять здесь нахожу излишним 3). Ни с
1) Это тот самый Зорге, который принимал горячее участие на
Гаагском конгрессе со стороны Маркса и который по настоянию по-
следнего был избран генеральным секретарем Интернационала, когда
последний был переведен в Нью-Йорк.
2) См. М. П. Сажин (Арман Росс) Воспоминания 1860—1880 г.г.
Издание Всесоюзного Общества Политических Каторжан и Ссыльно-
поселенцев 1925 г. Москва, стр- 62—75.
172
М. П. САЖИН
Нечаевым, ни с кружком Утина я не сошелся и меня потя-
нуло к группе лиц, возглавляемых Бакуниным. Мой приятель С.
тоже симпатизировал Бакунину, а к остальным относился отри-
цательно. Должен сказать, что он на меня не производил ника-
кого давления, напротив способствовал тому, чтобы я лично-
ознакомился со всеми. Меня и раньше постоянно занимал вопрос,,
как устроить жизнь человека, людей вообще, чтобы они пользо-
вались полной свободой, чтобы вполне были гарантированы от
всяких насилий социальных, экономических и политических.
Живя в Петербурге я входил в кружок артиллерийских офицеров,
где этот вопрос иногда поднимался, но решался он в смысле-
для меня неудовлетворительном. И вот здесь в Женеве я снова
натолкнулся на этот вопрос и узнал, что Бакунин страстный
поклонник свободы человека. Это меня сразу к нему повлекло.
В то время в Интернационале было 2 партии, или вернее два
направления, два течения: во главе одного стоял Михаил Бакунин,
во главе другого Карл Маркс. Оба они вполне признавали программу
и статуты его. Бакунин был основатель анархизма, антигосудар-
ственник и на знамени его партии было начертано: «Разру-
шение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации,
вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов—
разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного чело-
вечества, создание нового общечеловеческого мира». Он был
страстным поклонником полной свободы человека; он требо-
вал умственного, социально-экономического и политического-
освобождения человека и всякое государство считал великим
злом, как источник всевозможных насилий. Осуществление этой-
цели предполагалось путем революционным, путем вооруженного-
восстания. Маркс был главою социал-демократов, государствен-
ников, считал безусловно необходимым усиление и удержание-
государства во чтобы то ни стало, для чего требовал, чтобы
пролетариат принимал активное участие в политической жизни
своей страны и, главным образом, в выборе депутатов в парла-
менты, где, достигнув большинства, нужно захватить власть-
в свои руки и таким путем перестроить существующее общество,,
йе прибегая к революционным мерам.
Прошу читателей помнить и не упускать из виду, что я<
говорю о людях, делах и событиях, которые происходили пять-
десят лет тому назад; оценивать их, прилагать к ним современ-
ную марку, современный масштаб нельзя, это извращает всю-
историческую переспективу, дает превратное понятие о том,
что тогда было. Я стараюсь передать только факты, не входя-_
в их опенку, как они представлялись мне и моим современникам.
Приятель мой изредка переписывался с Бакуниным и, ко-
нечно, о приезае моем ему сообщал, а он в ответ на это пред-
ложил нам отправиться к нему. Пока мы обсуждали и собирал»
сведения, как идти (конечно значительную часть пешком, особен-
но через горы с Готард или Симплон), получилось от него»
ВОСПОМИНАНИЯ О М. А. БАКУНИНЕ
173
известие, что он надеялся приехать в Женеву сам по своим
делам. И вот я стал ожидать его приезда. Через некоторое
время действительно он приехал и остановился в комнате своего
тогдашнего друга эмигранта Озерова. На другой день приезда я
•явился к нему с своим приятелем и увидел перед собою мощную
колосальную фигуру, буквально головою выше всех нас окру-
жавших его. Он был несколько сутуловат, что сокращало,
хотя и немного его рост. Голова его была большая, покрытая
густой курчавой седоватой шевелюрой. Одет он был очень бедно,
все платье его довольно старое, потертое, изношенное. Он встре-
тил меня как своего старого знакомого, так что все мое сму-
щение и неловкость, охватившие меня, как то быстро исчезли
и я стал себя чувствовать совершенно свободно. Он сказал мне,
что он меня хорошо знает благодаря С., а я его тоже
должен, конечно, знать, благодаря тому же источнику. В это
время у него было несколько человек и он разговаривал то
с одним, то с другим, время от времени бросал на меня испы-
тующие взоры и старался втянуть в общий разговор; я же пред-
почитал слушать и наблюдать. Обыкновенно только по вечерам
у него собирались для общих бесед, а днем он постоянно имел
разные совещания с отдельными лицами, так что и мне он как
то сказал, чтобы я зашел к нему в назначенный им час для
беседы. Таким образом он беседовал со мною несколько раз. Во
время этих переговоров он рассказал мне, что с Нечаевым он
порвал решительно всякие отношения, что это человек совершенно
свихнувшийся, отожествлявший себя с революцией и т. д., что у
него теперь нет никаких связей с Россией, и что нечаевская
организация вся вполне разбита. Нам надо начинать сначала,
что у него (Бакунина) тоже нет никаких связей с Россией.
С самого начала наших разговоров Бакунин сказал мне, что
всякие теоретические рассуждения об идеале, о программе, об
анархии он считает совершенно излишними во 1-х потому, чти
обо всем этом я могу узнать из его речей и писаний, а 2-х он
•считает меня человеком дела (1’homme d’action) и поэтому
лучше всего будет, когда мы будем говорить о том, что нам
предпринять и с чего начать нашу деятельность.
Знакомство с людьми, из‘явившими желание работать на
пользу революции, у Бакунина было довольно своеобразное.
Обыкновенно он не вступал ни в какие сношения, отталкивал
от себя только таких людей, из которых нельзя было извлечь
какой либо пользы для революции 1). Словам, рассказам, теорети-
*) Однажды, живя в Петербурге, уже после каторги и Сибири, я
встретился в одном доме с профессором уголовного права Фойницким-
Юн рассказывал о своей попытке познакомиться с Бакуниным следую-
щее: Фойницкий вместе с профессором уголовного права Киев-
ского Университета Кистяковским были где-то в Швейцарии и решили
с'ездить в Локарно, чтобы познакомиться с Бакуниным. Приехали
в Локарно, узнали, что Бакунин ежедневно около Г2 часов дня бывает
176
М. П. САЖИН
испанский престол. Он высказывал мысль о том, что в виду
страстного желания Наполеона и Бисмарка подраться из-за
гегемонии над Европой,—очень вероятно, что они воспользуются
этим случаем. Конечно, бонапартовская Франция будет побита,
потому что вся эта империя прогнила и разлагается, тогда как
Пруссия могучее военное государство. Поражение Франции
вызовет социальную революцию, и революционеры, главным обра-
зом, Интернационал должен быть готовым, чтобы принять самое
активное участие в надвигающихся событиях. В дальнейшем,
когда стали развертываться военные и другие события в Европе,
я очень часто вспоминал об этом-вечере и удивлялся, как он
ясно предвидел события и как правилен был его диагноз.
Бакунин уехал, оставив мне письмо для передачи его
Лаврову с предложением участвовать в предполагаемом издании.
Я тоже собирался отправиться в Англию, потому что имел
возможность поступить там на механический завод, чем я очень
дорожил. В Женеве у меня не было никакого дела и я рассчи-
тывал прожить в Англии по крайней мере до глубокой осени, а
затем вернуться в Швейцарию. Поехал я через Париж, где
виделся с Лавровым, передал письмо Бакунина и с своей сто-
роны тоже предлагал ему сотрудничать в предполагаемом изда-
нии. На это предложение он сначала отвечал довольно уклон-
чиво, говорил, что он не совсем порвал с Россией, что он
рассчитывает, что правительство само предложит ему вернуться,
предоставив ему свободно читать лекции (он читал по высшей
математике и теоретической механике в артиллерийской ака-
демии). Прежде чем ответить на письмо Бакунина он подумает
и скоро напишет об этом. Действительно, он написал письмо,
в котором ответил решительным отказом.
Дело с изданием не осуществилось; благодаря франко-прус-
ской войне, вызвавшей такие огромные события, так закрутившие
нас, что русские дела пришлось отложить надолго.
Я уехал в Англию, поступил на завод и первый месяц ра-
ботал очень усердно, затем военные события стали все больше
и больше поглощать мое внимание, а падение империи во
Франции, разгром французских армий и всеобщее волнение так
меня захватили, что я бросил работу на заводе и помчался в
Швейцарию в Цюрих, где тогда среди студентов у меня оказа-
лось несколько знакомых.
Живя в Англии, я изредка получал письма от Бакунина,
которые тоже наэлектризовывали меня и из которых видно
было, что там назревают крупные дела, а здесь у меня, соб-
ственно говоря, нет никакого дела. Когда я уезжал из Женевы,
Бакунин ставил мне задачею найти среди английских рабочих
только одного такого человека, который вполне «уверовал бы
в нашу программу, в,наш способ действий, словом, чтобы был
человеком^’вполне солидарным и во всем с нами». Он говорил,
что достаточно найти такого человека и связаться с ним, чтобы
ВОСПОМИНАНИЯ О М. А. БАКУНИНЕ________ 177
через него вести дальнейшую революционную работу, но в то же
время прибавлял, что это очень трудно, потому что английские
рабочие верят исключительно в мирный путь решения социаль-
ного вопроса. Они не революционеры в нашем смысле.
Приехав в Цюрих', я скоро узнал из писем Бакунина, что
он собирается ехать в Лион с целью организовать там восста-
ние рабочих и провозгласить Коммуну. Обстоятельства вполне
благоприятствовали этому: империя пала, провозглашена респу-
блика, было всеобщее возбуждение, и среди рабочих настроение
было революционное. Весь тогдашний Интернационал Юга
Франции, хотя по размерам не особенно значительный, находился
под влиянием Бакунина и поэтому к его приезду в Лион собра-
лись несколько видных интернационалистов из Марселя, Сент-
Этьен и других южных городов, и образовали центральный
революционный Комитет действия.
В конце сентября Бакунин прислал мне нижеследующую
прокламацию, напечатанную на красной бумаге с приложением
небольшого письма, в котором сообщал, что «эта прокламация
завтра с утра будет распространена, а в ночь предложено аре-
стовать главнейших врагов. Это последняя борьба и мы надеемся
на победу».
Вот содержание прокламации:
«Французская Республика
Революционная Федерация Коммун».
«Отчаянное положение, в которое ввергнута страна; полное
бессилие официальных властей, индифферентность привиле-
гированных классов поставили нацию на край пропасти.
Если народ, революционно организованный, не поторопится
действовать—-его будущее погибнет, революция погибнет, все
погибнет. В виду громадной опасности и имея в виду, что реши-
тельные действия, народа не должны быть задержаны ни на
один миг, делегаты федеральных комитетов спасения Франции,
соединенные в Центральный Комитет, предлагают немедленно
принять следующие резолюции:
1. Административная и правительственная машина госу-
дарства отменяется, в виду ее бессилия.
Французский народ берет всю власть в свои руки.
2. Все суды уголовные' и гражданские уничтожаются
и заменяются народным судом.
3. Уплата налогов и ипотек прекращается. Налог заме-
няется контрибуцией с богатых классов соответственно нуждам
для спасения Франции.
4. Государство, как уничтоженное, далее не может вме-
шиваться в уплату частных долгов.
5. Все существующие муниципальные организации уничто-
жаются и заменяются во всех федеративных общинах Комите-
тами Спасения Франции, которые будут работать под непрестан-
ным контролем народа.
Очерки.
12
178
М.’ П. САЖИН
6. Каждый Комитет главного города департамента выби-
рает двух делегатов для образования революционного Конвента
Спасения Франции.
7. Этот Конвент немедленно соберется в городской Думе.
Лиона, как второго города Франции, и приступит к энергичной
защите страны.
Этот Конвент, поддержанный всем народом, спасет Францию.
К оружию!!).»
Следует 26 подписей, в числе которых была подпись Ба-
кунина.
28 сентября 1870 года, революционеры заняли Hotel de
ville и провозгласили Коммуну Лиона; но к несчастью удер-
жаться им не удалось, движение было задавлено соединенными
„ силами буржуазной национальной гвардии и войск. Баку-
' нина и некоторых других арестовали; впрочем, часа через два
его освободили «вольные стрелки» (franc tireurs). Он вынужден
‘ был скрываться в квартире одного семейного рабочего. Буржуи
сильно его разыскивали, поэтому его переправили в Марсель,
где он жил с месяц, надеясь, что здесь удастся вызвать вос-
стание и организовать Коммуну, но в конце-концов и отсюда
пришлось убраться и его ночью в лодке вывезли в открытое
море; здесь его дожидался пароход, на котором он доплыл до
Генуи, и отсюда без всяких приключений уехав в Локарно.
Таким образом первая пролетарская Коммуна во всем
мире была провозглашена в Лионе 28 сентября 1870 года.
. Лионское рабочее движение и провозглашение Коммуны
вызвали взрыв негодования, брани, клевет со стороны не только
буржуазных и правительственных газет в разных странах, но,
к сожалению, и со стороны социалдемократов и их вождей, как
Маркс, Энгельс, Либкнехт, Грейлих и др. Газеты Volksstaat,
Tagwacht не уступали буржуазным газетам: позорили, высмеи-
вали, вышучивали, клеветали главным образом на Бакунина. Оно
и понятно, потому что по существу все они были противни-
ками Коммуны, как явления характера анархического. Ведь
и Парижскую Коммуну они признали скрепя сердце и за время
ее существования не оказывали ей решительно никакой помощи.
Генеральный Совет с Марксом во главе был безмолвен, когда
парижские рабочие вели героическую борьбу с версальцами.
Карл Маркс напечатал уже после подавления Коммуны свою,
брошюру: «Гражданская война во Франции».
В Цюрихе в 1870—1871 г.г. была секция Интернационала—
«Дикая секция», в которую входило всего 4 человека: Грейлих,
Распе (эмигрант из Австрии) и еще двое, имен которых не
помню. Собрания секции усердно посещали русские студентки
и студенты; рабочие, как немецкие, так и швейцарские бойко-
тировали ее, относясь к ней безусловно отрицательно. На
D См. L Internationale. Documents et souvenirs par James Guillaume
lome second. Pages 94—95. Paris. Societe Nouvelle de Librairie et .d’edition.
E. CornSJy et C-ie 1907.
ВОСПОМИНАНИЯ О М. А. БАКУНИНЕ
179
Б ближайшее собрание секции я принес «красную прокламацию»
| о провозглашении коммуны в Лионе и предложил Грейлиху
t прочитать ее. Он внимательно про себя прочитал и возвратил
!ее мне, сказав, что он не может ее прочитать всему собра-
нию, потому что она неприемлема для социалдемократов.
На собрании были Грейлих, Распе и один рабочий швейцарец,
остальные человек десять русские. Затем стали время от
f времени появляться статьи, дескредитирующие Лионское дви-
жение. Мы все русские прекратили посещать секцию и она
г очень скоро мирно скончалась.
, В эту зиму Мишель '(обыкновенно все мы называли Баку-
; нина этим именем) в своих письмах ко мне звал меня приехать
к нему, да я и сам очень хотел с'ездить и пожить с ним
несколько дней, но все как-то не удавалось, задерживало то то,
то другое. И вот вдруг Озеров из Женевы сообщил, что Мишель
очень бедствует и немного прихварывает. Это меня сильно
подвинуло и я дня через два —три поехал к нему, собрав среди
молодежи франков, помнится, около полутораста, купив чаю
и табаку фунта по два. Тогда еще не было железной дороги через
Сент-Готард, и приходилось ехать и по железной дороге, и на
пароходе по 4-х кантонному озеру, и в дилижансе, и наконец
через самый Сент-Готард на санях, так как он был завален
снегом. Все путешествие продолжалось полтора суток. Приехав
в Локарно, и оставив свой саквояж в конторе дилижансов,
я отправился к Бакунину и пришел как раз к обеду. Мишель
не ожидал меня, но очень доволен был моим приездом. Обед
состоял из супа и жареной картошки. Я до сих пор помню
очень отчетливо и ясно все, что я увидел и услышал,—так
меня поразила беднота жизни его с семьей. Он занимал квар-
тиру в две комнаты во 2 этаже двухэтажного дома очень
маленького. Внизу жили хозяева. Между этими комнатами
был коридор, который служил столовой и прихожей, потому
что с лестницы ход был прямо в этот коридор. Одну комнату
занимал Мишель, а другую его жена с двумя маленькими
детьми. Обстановка была самая убогая, мебелишка самая
простая; так в комнате его стояли: кровать, стол, три—четыре
стула и сундук,в котором лежало белье, а единственная сукон-
ная черная пара висела на гвозде; были еще простые полки
с книгами. И стол, и кровать, и табуретки, и стулья были
простые белые. Когда я передал чай, табак и деньги, Мишель
расцеловал меня и позвал жену, которая увидев все это на
столе, громко сказала: «Ну, вот мы будем и с мясом. Надо
сейчас же уплатить булочнику и мяснику сколько можно,
и тогда мы снова будем иметь у них кредит».
Бакунин обычно после обеда от 7 до 9 ч. спал,. затем до
Ю—И ч. чаепитие, а затем он работал до 3 час. ночи; спал
он от 3—4 до 10 утра. В 12 ч. ходил читать газеты, и затем
до обеда я проводил с ним все время в разговорах. Он инте-
ресовался моей жизнью в Англии, расспрашивал о моих тамошних
12*
180
М. П. САЖИН
знакомых, о разговорах с ними, а когда перешли к Цюриху, то тут
он старался выведать от меня решительно все, что я знал о каждом
русском студенте или студентке. Через день, через два дня он
снова возвращался к характеристике какого-либо лица, о кото-
ром уже говорилось раньше, и спрашивал о нем дополнительно.
Когда он весною 1872 г. приехал в Цюрих (он прожил здесь
два—три месяца), он знал заочно от меня почти всех учащихся
русских в университете и Политехникуме и указывал мне мои
ошибки в оценке их. Удивительная вещь, он обладал талантом
скоро, близко и душевно сходиться с людьми, когда эти люди
казались ему полезными в революционном отношении. Я помню,
что уже на другой день чувствовал себя с ним совершенно
свободно и легко, точно с молодым и вполне равным себе.
Ведь мне тогда было двадцать пять лет, а ему почти шесть-
десят; да разве возможно сравнить его прошлую жизнь, бога-
тую таким огромным опытом, его огромные знания и т. д.
с моими и тем не менее я нисколько не чувствовал его безу-
словного превосходства. Когда он был в Цюрихе, то же самое
наблюдал я в отношениях его ко всей окружавшей его моло-
дежи, а ведь тогда было несколько десятков лиц, и он со
всеми был одинаков. Я прожил с ним тогда неделю и это
время до сих пор я помню очень хорошо; оно было для
меня драгоценно. Он выведал от меня всю мою подноготную,
да и я узнан многое, что меня интересовало в революционных
делах Европы. До Парижской коммуны я был у него еще один
раз ненадолго и встретился с ним, как старый близкий приятель;
но полная интимность с ним и с его самыми близкими друзьями
и соратниками наступила только после моего возвращения из
Парижской Коммуны, т.-е. летом 1871 года, так’ что «искус»
мой продолжался почти год. И произошло это очень просто.
Бакунин вызвал меня в Локарно, при чем определил день моего
туда приезда. Когда я явился туда, то встретил несколько
человек ранее меня приехавших итальянцев, испанцев и швей-
царцев, которых я знал уже раньше. Он предложил дине откро-
венно рассказать о русских делах, т.-е. о связях и сношениях
с Россией, о Цюрихских делах (а дела же были, надо сказать,
тогда очень небольшие), так как все находящиеся здесь—близкие
интимные друзья. После меня говорили и рассказывали и другие
товарищи. Вот с этого собрания и надо считать время моего при-
соединения к «мифическому» allianc’y или, как говорил Мишель,
к «святая святых».—Никаких «клятв на кинжалах», никаких
уставов, церемоний приема и всяких других принадлежностей
тайных обществ, заговоров—не было. Так продолжалось до
конца. Время от времени мы с'езжались у него для обсуждения
дел, а иногда приезжали в одиночку. Это последнее чаще всех
проделывалось мною и итальянцами, как ближе других жившими
к нему.
М. П. Сажин (Ар. Росс).
10/111 1926 г.
Русские бакунисты за границей.
У Михаила Александровича' Бакунина были многочислен-
‘ ные последователи среди русских эмигрантов и в рядах русских,
легально проживавших и учившихся за границей.
Наиболее заметными из них были эмигранты, из которых
выделялись: Николай Иванович Жуковский, Варфоломей Алексан-
дрович Зайцев, Лев Ильич Мечников, Михаил Петрович Сажин
(А. Росс), Владимир Карпович Дебагорий - Мокриевич, Ралли,
Эльсниц, Гольштейн. Учение М. А. Бакунина повлияло и на
П. А. Кропоткина, как это видно из «Записок революционера».
О Сергее Геннадиевиче Нечаеве, своеобразном, чересчур само-
стоятельном ученике М. А. Бакунина,—имеется особая заметка
в статье «Анархисты в народническом движении 70-х годов».
Николай Иванович Жуковский родился в 1833 году и в
начале 60-х годов имел, как офицер русской армии, какое-то
отношение к польскому восстанию. Ржонд Народовый устроил
ему побег в Европу. Он был веселым и добрым человеком, пре-
красным оратором, участником всех эмигрантских предприятий.
Он постоянно помогал всем к нему обращающимся за помощью,
как в общественных, так и в личных делах. Жуковский был
большим другом М. А. Бакунина. Николай Иванович был одним
из сотрудников журнала «Община», выходившего за границей
с января 1878 года и одним из авторов брошюры «Сытые и
голодные».
П. А. Кропоткин, приехавший в Швейцарию в 1876 году
(после смерти М. А. Бакунина) писал о Жуковском:—«блестя-
щий, изящный человек, очень умный и большой любимец рабо-
чих. Больше, чем кто бы то ни было из нас, он имел, что
французы называют ГогеШе du peuple. Рабочие всегда слушали
его охотно, так как он умел зажечь сердца народа, показывая
ему то важное участие, которое он должен принять в пере-
устройстве общества. Он умел поднять настроение, открывая
работникам блестящие исторические перспективы; он умел сразу
осветить самый запутанный экономический вопрос и наэлектри-
зовать слушателей своею искренностью и убежденностью».
Букунистом был и талантливый русский критик Варфоло-
мей Александрович Зайцев. Он родился в Костроме в 1843 году,
а через 23 года, в мае 1866 года был арестован по делу Кара-
182
А. КАРЕЛИН
козова и посажен в Петропавловскую крепость, где просидел
четыре месяца. Он был освобожден, так как выяснилось, что
не имел никакого отношения к делу Каракозова.
В марте 1869 года В. А. Зайцев уехал заграницу, где
скоро стал членом Интернационала и последователем Бакунина.
В Женеве он выступал против марксистов. Один из последних
Утин подкупил нескольких негодяев'избить Зайцева, но рабочие
не допустили этого. Осенью 1872 года Зайцев переехал в Локарно
к Бакунину и поселился вместе с последним на одной квартире.
Здесь он писал под диктовку Бакунина воспоминания послед-
него, но оци неизвестно куда" исчезли. В конце 1873 года Зай-
цев уехал на заработки в Ментону/ Оттуда с‘ездил в Италию •
и снова приехал в Ментону. М. 3.—автор воспоминаний о Зай-
цеве — пишет о нем так: «По природе своей человек замеча-
тельно добрый и мягкий, чрезвычайно скромный и снисходи-
тельный по отношению к другим, он лишь в редких случаях .
способен был вспылить и выйти, как говорится, из себя. Это
бывало лишь в редких случаях, когда на его глазах соверши-
лась какая либо несправедливость. Но за то, какие ни были
бы обстоятельства, он был неспособен кривить душой, хотя бы
в своих интересах» 1).
Зайцев очень бедствовал в эмиграции. Его оригинальные
сочинения не могли быть напечатаны в России.
Зайцевым была переведена книга Гильома «Анархия по Пру-
дону». Им же было написано введение к книге Прудона «Общая
идея революции XIX-го века». Он много работал в русских
журналах, как критик.
Умер В. А. Зайцев 20 января 1881 года.
На его могиле Н. И. Жуковский сказал, между прочим,
следующее:... «К фаланге честных и благородных литературных
борцов-защитников народных интересов—принадлежит и Зайцев.
Его имя тесно связано с историей русской революционной мысли.
Убежденный социалист и в то же время искренний революцио-
нер, Зайцев не терпел никакой золотой середины..., он умел
без обиняков, без педантства, прямо и просто высказывать свою
мысль, не прячась за какие бы то ни было авторитеты; он ду-
мал своим умом... Труженик мысли и вечный пролетарий, он
старался приблизить час избавления пролетариата от рабства...»
Лев Ильич Мечников «по своим социально политическим
убеждениям был анархистом-коммунистом и в течение многих
лет работал вместе с Бакуниным и Элизе Реклю».
Родился он 18/31 мая 1838 года, два раза поступал
в университет и два раза был исключен из него за
участие в студенческих беспорядках. В 1858 . году он выехал
заграницу, получив, как знающий восточные языки, должность
Э Эти и некоторые дальнейшие выдержки см. Л е в Мечников.
„Цивилизация и великие исторические реки" ред. и вступительная статья
Н. К. Лебедева Изд. „Голос Труда“, Москва 1924 г.
РУССКИЕ БАКУНИСТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ
183
переводчика-драгомана при русской дипломатической миссии.
Оставив эту должность, Мечников поступил торговым агентом
в какое-то пароходное общество, но в 1860 году он бросает
эту службу и начинает заниматься живописью. В это время на-
чинается борьба итальянцев за освобождение от ига австрийцев
и бурбонов и Мечников присоединяется к итальянским револю-
ционерам. В рядах гарибальдийцев он участвует в ряде сраже-
ний и в битве при Вольтурно получает тяжелые раны. Под
влиянием своего друга Гарибальди, Мечников увлекается идеей
освобождения славян из под ига турок и австрийцев. В это
время он знакомится с приехавшим в 1864 году в Италию
М. А. Бакуниным. В следующем году он переезжает в Швейца-
рию и вступает в Интернационал. «В эту эпоху, — пишет
Н. К. Лебедев — у Мечникова окончательно складываются его
социально-политические воззрения и он становится анархистом,
примыкая в Интернационале к левому Бакунинскому крылу».
По вопросам антропологии и географии Мечников поме-
щает статьи в «Современнике» Чернышевского, в «Знании», в
«Русском Слове», в «Отечественных Записках», в «Русском
Вестнике», а позднее в «Деле» Благосветлова, в «Русском Бо-
гатстве», в «Вестнике Европы». По политическим вопросам он
много писал в «Колоколе» Герцена. Он подписывал свои статьи
разными псевдонимами... В начале 1874 года Мечников приехал
в Японию, в качестве профессора Токийского университета.
«Здесь он с присущей ему энергией, — пишет Элизе Реклю,—
занялся организацией школы и сумел привлечь большой инте-
рес к ней со стороны японской учащейся молодежи. Благодаря
энергии Мечникова, ему удалось привлечь в Японию целый ряд
профессоров и преподавателей из Европы и Америки и эта
горсть ученых совершила дело, единственное в истории всего
человечества: небольшая группа людей способствовала при-
общению целой нации в сорок миллионов человек к европей-
ской цивилизации, и это было сделано не при помощи оружия
и насильственных мер, но при помощи книг и грифельной доски».
Болезнь заставила Мечникова вернуться в Европу. Он ра-
ботал вместе с Элизе Реклю (по предложению последнего) и
тот познакомил его с Кропоткиным.
В 1883 году Невшательская Академия Наук предложила
ему занять кафедру сравнительной географии и статистики и
Мечников занимал эту кафедру вплоть до самой своей смерти.
Мечников умер 30 июня 1888 года. Его друг Элизе Реклю
издал после его смерти известное его сочинение — «Ци-
вилизация и великие исторические реки». В этой
книге Мечников пытался обосновать анархическую социологию.
Свое предисловие к книге Л. И. Мечникова Элизе Реклю окан-
чивает следующими словами: «С чувством беспредельного стыда
за человечество, мы слышим еще и теперь, после стольких ве-
ков исторического развития и после стольких усилий лучших
184
А. КАРЕЛИН
людей всех веков и народов, громкие голоса, прославляющие
«избранных людей» или «сильное правительство». История при-
звана разоблачать и разрушать эти рабские теории; она дока-
зывает человеку, как даже среди наиболее диких деспотий, со-
циальная жизнь поддерживалась только солидарным трудом
всех членов социального тела. Настоящая книга полна доказа-
тельств этой мысли»...
Вместе с Бакуниным работал и Михаил Петрович Сажин,
родившийся в 1845 году. В 1865 году он был предан суду за
нелегальное- издание в типографии Технологического института
книги Бюхнера «Сила и Материя». В 1867 году он принимает
деятельное участие в волнениях петербургского Технологического
института и высылается в г. Вологду.
В 1869 году Сажин бежит в Америку, где работает, как
чернорабочий и сильно бедствует. Сергей Геннадиевич Нечаев
вызывает его в Швейцарию, где Сажин знакомится с М. А. Ба-
куниным и работает вместе с последним.
Он делается членом I Интернационала, а через некоторое
время едет в Париж для того чтобы принять участие в работе
Парижской Коммуны и защищать Коммуну с оружием в руках
до последнего дня ее существования.
Возвратившись в Швейцарию, М. П. Сажин энергично ра-
ботает, как анархист; он организует в Цюрихе колонию,
устраивает кружки бакунистов, создает библиотеку, входит
в тайный «Альянс»Бакунина,1) сражается с сторонниками Утина,
полемизирует с Лавровым, с помощью друзей создает типогра-
фию, одной ногой в Лондоне, другой в Женеве, выпускает
в свет «Государственность и Анархию», «Историческое развитие
Интернационала», «Анархию по Прудону», совмещая в своем
лице обязанности наборщика и корректора, метранпажа, печат-
ника и даже плотника, сколачивающего кассы и реалы для ти-
пографского шрифта»* 2). Для библиотеки М. П. Сажин органи-
зовал получение бельгийских и французских социалистических
газет, прокламаций и брошюр.
Во время восстания Герцеговины и Боснии против турок,
Сажин отправляется в Герцеговину и сражается с турками.
В 1875 году он возвращается в Женеву, где несколько
эмигрантов вместе с ним обсуждают вопрос о поднятии
в России (на Урале) восстания. Для этой цели он воз-
вращается в Россию. Однако скоро он возвращается в Европу.
Его арестуют при переходе через границу, заключают в
Петропавловскую крепость, где держат в течение полутора
лет. Потом отдают под суд и по процессу 193 осуждают на
пять лет каторжных работ «за покушение на распространение
]) См. об этом выше статью самого М. П. Сажина.
2> См. предисловие Вяч. Полонского в юбилейной книге, выпу-
щенной к восьмидесятилетию М. П. Сажина „Воспоминания" 1860 —
1870 г-г. Москва 1925 г. стр. 8. г
РУССКИЕ БАКУНИСТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ 185
книг преступного содержания и за участие в этом покушении».
Ему обрили половину головы, на ноги и на руки надели тяжелые
кандалы. В арестантском вагоне встретил Сажина С. Чуднов-
ский и так писал о нем: «мертвенно бледное лицо его отражало
искусно заглушаемые нравственные муки, хотя он, человек
с сильным характером, наружно сохранял полное спокойствие
и самообладание». Сажин провел год и два месяца закованный
в ножные кандалы.
В Швейцарии М. П. Сажин назывался Арман Росс. Он
здравствует и в настоящее время ’).
Владимир Карпович Дебагорий-Мокриевич родился в 1848 г.
Он принадлежал к числу тех революционеров, которые «пошли
в народ», с целью освободить его от экономического и поли-
тического гнета. Дебагорий окончил гимназию и поступил в
Киевский университет. В 1873 году он был в Швейцарии, где
и познакомился с М. А. Бакуниным. Бакунин поделился с ним
своим мнением о тогдашних революционерах:—«Да что русские!?
Всегда они отличались стадными свойствами! Теперь они все
анархисты! На анархию мода пошла, а пройдет несколько лет
и, быть может, ни одного анархиста среди них не будет»,
Дебагорий возвратился в Россию и был арестован 11 фев-
раля 1879 года в Киеве.
Дебагорий-Мокриевич придерживался одно время убеждения,
что крестьянское восстание можно подымать царским именем:
«как французский народ в прошлом столетии, рассуждали мы,
совершая местные бунты во имя короля, совершил, в конце-
концов, революцию, так и мы теперь будем бунтовать наш на-
род от имени царя; ряд подобных бунтов приведет к революции,
которая столкнет, наконец, народ лицом к лицу с царем, а
тогда падет, между прочим, и царский авторитет».
30 апреля 1879 года Дабагорий с товарищами былосужден
на каторжные работы сроком на 14 лет 10 месяцев. По пути
на каторгу, Дебагорий бежал и, после ряда приключений, скрылся
заграницу. В 1902 году Дебагорий-Мокриевич жил в Загоре.
По инициативе Кашинцева и Дебагорий-Мокриевича заграничные
революционные кружки решили созвать в сентябре 1902 года
с'езд, но сделать это не удалось.
В Liberte от 4 октября 1872 года в письме, подписанном
Огаревым, Зайцевым, Озеровым, Гольштейном, Ралли, Эльсни-
цем, Смирновым и Россом, говорилось, между прочим, следу-
ющее: «В 37 № вашей газеты мы с негодованием прочли текст
невероятного рапорта, представленного Гаагскому конгрессу,
комиссией расследования об Альянсе (Международном Союзе
Социалистической Демократии). В этом докладе, внушенном,
очевидно, ненавистью и желанием отделаться во что бы то ни
*1 31 октября 1905 г: Общество Политкаторжан в Москве устроило
торжественное чествование М. П. Сажина по поводу исполнившегося
его восьмидесятилетия.
186
А. КАРЕЛИН
стало от неудобного противника, решились бросить нашему со-
отечественнику и другу Михаилу Александровичу Бакунину
обвинение в мошенничестве и шантаже. Мы не считаем ни не-
обходимым, ни своевременным опровергать здесь ложные акты,
на которые рассчитывали опереться для подтверждения нелепого
обвинения, взведенного на нашего соотечественника и друга.
Факты, на основании которых считали возможным обвинить
нашего соотечественника, нам хорошо известны в малейших
деталях и мы сочтем долгом в остановить их в истинном свете
тотчас же, как только явится возможность сделать это. Нам
мешает сделать это в настоящее время положение другого со-
отечественника, который вовсе не является нашим другом, но
которого делают для нас священным те преследования со сто-
роны русского правительства, жертвою которых он сделался.
(Речь идет о Нечаеве.—А. К.) Г. Маркс, ловкость которого мы,
впрочем, не думаем оспаривать, в данном случае ошибся в рас*
счете. Честные сердца во всех странах несомненно почувствуют
только негодование и отвращение при виде такой грубой ин-
триги и такого явного нарушения самых простых требований
справедливости. Что касается России, то можем уверить
г. Маркса в том, что его старания будут там напрасны. Баку-
нин там слишком уважаем и известен, чтобы клевета могла
достигнуть его».
Близкие к Бакунину эмигранты из России, в лице Эльсница,
Гольштейна, и Ралли вступили в пререкания с Россом (М. Са-
жиным) по поводу русской типографии. Эти эмигранты, не до-
оценивая М. А. Бакунина, втянули и его в мелочную борьбу.
Бакунин высказался за Сажина. Во всей этой истории Бакунин
держал себя, как подлинный революционер, как выдающийся
общественный деятель, для которого общее дело всегда стояло
на первом плане.
В сентябре 1876 года у Бакунина произошел оконча-
тельный разрыв с тремя названными, анархистами. Эти эми-
гранты напечатали брошюру «К русским революционерам
№ 1. Сентябрь 1873 года. Революционная коммуна русских
анархистов». В брошюре был помещен текст - составленной Ба-
куниным программы тайной революционной организации, в ко-
торой вместе с Бакуниным, участвовали и названные эмигранты.
М. А. Бакунин — строгий конспиратор— посмотрел, выражаясь
словами Гильома, на опубликование этой программы, как «на
настоящую измену». Он отослал названным эмигрантам взятые
у них в займы 1990 франков.
Н. В. Соколов, бывший полковник генерального штаба, был
сотрудником „Русского Слова* и автором книги „Отщепенцы*,
за которую был сослан по суду в одну из северных губер-
ний, откуда и бежал за границу.
Соколов говорил Чуринову и Джабадари: „Ну что же гос-
пода? Продолжайте учиться и удивляйте мир своими учеными
РУССКИЕ БАКУНИСТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ
187
трудами, которые будут оплачиваться потом и кровью голодного
народа. Вместо того, чтобы отдать жизнь на завоевание поли-
тической и экономической свободы масс, вы хотите, напустив
на себя вид ученого, копаться десятки лет в архивной цыли, а
потом провозглашать всем известную истину, что благодаря
господствующим классам и их политике, масса народа физиче-
ски и умственно вырождается. Все это известно всем. Вы лучше
скажите, что надо делать чтобы возродить вымирающий народ».
Софья Николаевна Лаврова и Надежда Николаевна Смецкая
были анархистками, последовательницами Бакунина. Обе жили
в 70 годах в Швейцарии.
Учение М. А. Бакунина сильно повлияло на П. А. Кропот-
кина, и последний писал об этом в своих «Записках револю-
ционера: «теоретические положения анархизма, как они начи-
нали определяться тогда в Юрской федерации,— в особенности
Бакуниным—критика государственного социализма, который,
как указывалось тогда, грозит развиться в экономический дес-
потизм, более страшный, чем политический, и наконец, револю-
ционный характер агитации среди юрцев, неотразимо действо-
вали на мой ум».
А. Карелин.
Анархисты в народническом движении 70 =х
годов.
Народническое движение в 70-х годах шло под знаменем
анархизма и социализма, причем оба учения, или вернее при-
верженцы обоих учений уживались довольно мирно друг с дру-
гом. Они уживались тем легче, что зловещая политика отста-
лого от общественного движения правительства сосредоточивала
силы анархистов и социалистов на борьбе с последним.
Положение огромного большинства русского населения
было тяжелым. Нищета и безправность положения озлобляли
крестьянство. Оно враждебно смотрело на помещиков, во владении
которых были громадные количества лучшей земли, обрабатыва-
емой крестьянством. Малоземелье, высокие по сравнению с дохо-
одом подати, разоряли крестьян. Как врагов, встречало крестьян-
ство чиновников, мелькавших перед крестьянами,главным образом,
для сбора податей и для набора крестьянских парней в сол-
даты. Подати, по сравнению с доходностью примитивно постав-
ленного сельского и кустарного хозяйства, были невыносимо
тяжелы. Бесправие крестьян было поразительно, а . приемы
взыскания податей жестоки. Подлый остаток крепостного пра-
ва и дикого правительственного произвола—розга для взрослых
крестьян—опять таки побуждал крестьянство враждебно смо-
треть на бар, на господ, при чем в число бар попадали ста-
новой пристав и исправник. Государство своими разнообразными,
прямыми и косвенными, налогами; кулачье со своими высоко
оплачиваемыми ссудами и кабальными сделками; помещики
с высокой арендной платой за землю и нищенской платой
батракам; духовенство, держащее руку кулаков, бар и чинов-
ников и берущее с крестьян за требы и молебны; мелкие и
крупные торговцы и скупщики крестьянских продуктов—не да-
вали крестьянам ни отдыха, ни срока. Крестьянство, думавшее,
что освобождению от крепостного права оно обязано доброй
воле справедливого царя, возлагало на последнего все свои
надежды и мечтало о дополнительном наделе, уменьшении пода-
тей и свободе от нелепого начальства...
Учение социалистов, несмотря на цензурный гнет, было
известно в России. Настойчивое желание крестьян иметь землю
и волю было известно русской молодежи.
АНАРХИСТЫ В НАРОДНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 70-Х годов 189
Еще в 60-х годах такие деятели и писатели, как Черны-
шевский, Михайлов, Зайцев, Соколов и многие другие, понимали
что наш народ ограблен правительством и дворянством, что
он постоянно грабится как ими, так и кулачеством, купе-
чеством.
Беллетристы-народники — Наумов (автор рассказов «Сила
солому ломит»), Решетников (автор «Подлиповцев»), Левитов,
Николай Успенский, отчасти Златовратский, познакомили чита-
ющую публику с ужасным положением крестьянства. Волновали
молодежь и стихи Некрасова.
В таких условиях анархисты и социалисты выступили на
защиту крестьян и рабочих. Их движению и посвящена на-
ши статья.
Бесспорно анархистом, хотя и очень своеобразным, надо
считать Сергея Геннадиевича Нечаева.
Нечаев был учителем приходской школы и вольно-
слушателем Петербургского университета. Он играл заметную
роль в студенческих волнениях, бывших в Петербурге в 1868/69
году. Он звал молодежь на улицу, убеждая ее устроить поли-
тическую демонстрацию. Против него сильно боролся М. На-
тансон. В это время Нечаев мечтал уже о социальной рево-
люции. Анархистом он стал заграницей. По возвращении
в Россию, осенью 1869 года, он всецело уже разделял убе-
ждения анархистов.
Нечаев мечтал о всенародном восстании для разрушения
экономических, политических и других устоев современного
общежития. Строить должны, по его мнению, грядущие поко-
ления. Он считал необходимым террор против высокопостав-
ленных чиновников, против капиталистов, даже против про-
дажных писателей. Царя он хотел казнить всенародно.
В 1-м № листка «Народная Расправа», который распро-
странял Нечаев, значится, между прочим, следующее: «Мы
беремся сломать гнилое общественное здание, в котором му-
чается большинство обитателей для доставления нечистых ра-
достей и грязных наслаждений небольшой горсти счастливцев.
Пусть новое здание строят новые плотники, которых вышлет
из своей среды народ, когда мы дадим возможность вздохнуть
ему полной грудью, сбросив с нее тяжелый гнет государства».
Нечаев придерживался того взгляда, что «спасительной
для народа может быть только та революция, которая уни-
чтожит в корне всякую государственность и истребит все
государственные традиции и классы в России».
Б. Козьмин в своей книжке «П. Н. Ткачев» так харак-
теризует Нечаева: «все знавшие Нечаева сходятся в том, что
это был человек, у которого всегда и при всяких условиях на
190
А. КАРЕЛИН
первом плане стояли интересы революции. Освобождение
эксплуатируемых было единственным делом, поглощавшим
все его личные интересы. Личной жизни, личных привязанностей
у этого человека не было; личное счастье сливалось у него
всецело и без остатка со счастьем миллионов трудящихся».
«Он,—говорит о Нечаеве лично знавший его М. П. Са-
жин,—обладал колоссальной энергией, фанатической предан-
ностью революционному делу, стальным характером, неутомимой
трудоспособностью и деятельностью».
Когда Бакунин разошелся с Нечаевым, он все же писал о
нем: «Нечаев один из деятельнейших и энергичнейших людей, ка-
ких я когда либо встречал... Нечаев—сила, потому, что это
огромная энергия».
Один из подсудимых на процессе нечаевцев, И. Г. Прыжов,
говорил на суде: «Я прожил сорок лет на свете, встречался со
многими литераторами, учеными, -вообще с людьми, известными
своей деятельностью, но такой энергии, как у Нечаева, я ни-
когда не встречал и не могу представить себе».
Нечаев умел говорить с простыми рабочими: они понимали
его и смеялись, когда он высмеивал бар и правителей (из
моих разговоров с нечаевцем из московского, кружка). Нечаев
отличался поразительной энергией. Через десять лет после его
осуждения, один из его московских товарищей рассказывал
мне, что ни он, ни его товарищи никогда не видели Нечаева
спящим и думали, что он спит только во время поездок на
извощиках из Москвы в Петровско-Разумовское и обратно.
Нечаев сумел получить от Герцена десять тысяч рублей, остав-
ленные последнему одним эмигрантом и, страшно нуждаясь
в Швейцарии, иногда голодая, не истратил на себя ни копейки’
из этих денег.
Организация сторонников Нечаева была строго законспи-
рированной. Он организовал своих единомышленников в пятерки.
Им были завязаны сношения с обеими столицами, Иваново-
Вознесенском и Ярославлем. Московская пятерка играла в ор-
ганизации Нечаева роль тайного комитета. Были у него и
другие пятерки, но его организация не была многолюдной.
Бежав заграницу после разгрома организации Петровской
академии, явившегося результатом убийства члена московского
кружка Иванова, заподозренного в желании сделать донос1),
Нечаев был выдан Швейцарией, по указанию Ад. Стемиковского,
27 октября 1872 года русскому правительству, как уголовный
преступник.
Русское правительство отдало Нечаева под суд. Вот что
писал сам Нечаев об этом суде: «следствие было подтасовано
с крайней наглостью. К Нечаеву не допустили избранного им
Ч „Иванов—пишет Ралли — был порядочным человеком и ни-
когда не сделался бы шпионом11.
АНАРХИСТЫ В НАРОДНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 70-х годов 191
защитника. Ему не выдали даже копии с дела, не выполнили ника-
ких формальностей судопроизводства. На суде не выслушали его
об'яснений; как только он открывал рот—так его вытаскивали из
залы заседания в корридор, где били до потери сознания.»
Нечаев был заточен в Петропавловской крепости; он по-
дал просьбу о пересмотре дела и когда к нему явился жан-
дармский генерал Потапов, оскорбивший заключенного, Нечаев
дал генералу пощечину. В ответ на пощечину „руки и ноги
Нечаева были закованы в тяжкие кандалы, причем цепь, сое-
динявшая эти кандалы, была нарочно так укорочена, что узник
был согнут в дугу, не мог встать ни прямо, ни вытянувшись, а
вынужден был постоянно сидеть, скорчившись; руки и ноги
покрылись язвами, силы ослабели". Так сидел он в течение
двух лет, прикованный цепью к стене. Тем не менее, он сумел
распропагандировать стороживших его солдат и все было при-
готовлено в начале 1881 года к его бегству. Мне рассказывали,
что Желябов, с которым, как и с другими народовольцами (Пе-
ровской, Франжоли, Арончиком и др.), Нечаев сумел завязать
сношения, предложил ему, чтобы он выбирал между своим осво-
бождением или убийством Александра II. Нечаев (и Ширяев)
выбрали последнее. Царь был убит, но заговор солдат освобо-
дить Нечаева был раскрыт. После смерти Ширяева, в равелине
остался только один политический заключенный—Леон Мирский,
неудачно стрелявший в марте 1879 г. в шефа жандармов Дрентельна.
Этот Мирский донес на Нечаева, заявив начальству о предпо-
лагавшемся побеге, и побег не мог быть осуществлен. Мирский
получил от правительства награду—ему стали выдавать десерт
к обеду, улучшили качество выдаваемого табака на 60 коп. в
месяц и разрешили чтение прошлогодних журналов.
Побег Нечаева не удался благодаря подлости предателя.
Желябов посетил его в равелине и был уверен, что побег можно
было устроить без особого труда. Нечаева перевели в камеру
№ 1. Он потерял связи с волей и умер от «общей водянки и
цынги» с 8 на 9 мая 1883 года.
Чернопеределец Александр Львович Блек видел солдат, -
решившихся освободить Нечаева. Они называли его после суда
над ним и осуждения, не иначе, как «наш орел».
Постоянные обвинения Нечаева в лживости, хвастовстве,
политической безнравственности и пр, нуждаются в одной пред-
посылке. Многое—верно в тех обвинительных речах, которые
обрушивались на Нечаева, даже со стороны такого человека,
как Бакунин. Но мне настойчиво кажется, что к Нечаеву
вполне применимы слова Рылеева, вложенные последним в уста
гетмана Наливайко:
«Грехи татар, грехи жидов
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов
.192
А. КАРЕЛИН.
Принять я на душу готов,
Лишь только б русскому народу
Вновь возвратить его свободу».
Нечаев обманывал Бакунина (например, говоря о своем
неимевшем места бегстве из Петропавловской крепости и т. п.).
Но чаще он погрешал преувеличением, чем прямой ложью.
Но он был способен на любую гадость, когда думал, что
эта гадость принесет пользу революционному делу.
В бумагах Нечаева остался «Революционный Катехизис», на-
писанный рукою Бакунина. Это не было «сочинение» Бакунина. Ко-
нечно, Бакунин мог переписать для себя склеенный из разных сочи-
нений и отчасти написанный Нечаевым «катехизис», а затем,
не придавая ему значения, не заметил, что его взял Нечаев.
Я остаюсь при убеждении, что катехизис был написан Не-
чаевым, а не Бакуниным. Правда, М. П Сажин удостоверяет,
что автором катехизиса был Бакунин, но, вероятнее всего, мы
имеем здесь дело с ошибкой. Нечаев просто включил в свой
катехизис многое из того, что говорил и проповедывал пись-
менно Бакунин и из того, что говорил в своих работах Петр
Никитич Ткачев. Но в катехизисе имеется и то, что счел ну-
жным внести в него сам Нечаев. Нечаев несомненно придер-
живался взгляда, что цель оправдывает средства. В этом не так
много удивительного: разве судьи всего мира, приказывающие
мучить, а в некоторых случаях и убивать так называемых
преступников, не исповедуют принципа, что цель (этими судь-
ями абсолютно не достигаемая) оправдывает отвратительные,
подлые и злодейские средства? Разве не являются такими сред-
ствами наказания, никогда никого не исправлявшие и не умень-
шавшие численности и тяжести преступлений?
Эти слова —не оправдание, а защита Сергея Геннадьевича
Нечаева. . .
С. 1870 до 1875 года работало в России общество чайков-
цев, так названное по имени студента Николая Чайковского.
В начале чайковцы ставили своей задачей культурную деятель-
ность, с целью поднятия материального, умственного и нрав-
ственного уровня народа.. Кружок чайковцев об'единял вначале
все петербургские кружки единым принципом—„принципом обя-
зательной выработки для революционной деятельности созна-
тельной, теоретически подготовленной, стойкой личности, с од-
ной стороны, и единым, цементирующим в одно целое все
кружки практическим, так называемым, „книжным делом11
(О. Аптекман).
В течение двух лет, до 1872 года это общество брало от
издателей на комиссию разные книги и брошюры социали-
АНАРХИСТЫ В НАРОДНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 70-х годов 193
стического и научного содержания, распространяло их среди
студентов и продавало за полцены. Они продавали по дешевой
цене и рассылали в провинцию такие книги, как сочинения
Чернышевского, Добролюбова, Лаврова, Флеровского, Лассаля,
Маркса, Бокля, Щапова, Сергеевича, Берне, Дарвина, Спенсера,
Шерра, Шелгунова, Михайлова, Цебриковой, Наумова, Нефе-
дова, Худякова и др. Они издали «Экономические противоречия»
Прудона и «Рабочий вопрос» Ланге; книги были задержаны в
типографии. Ими был издан первый том «Истории французской
революции» Луи Блана, переизданы «Исторические письма» Лав-
рова— Миртова, две великолепные книги Флеровского — «По-
ложение рабочего класса в России», и «Азбука социальных наук»
Книжное дело чайковцев велось по всей России; они везде
организовывали склады книг и устраивали библиотеки.
«Во всех городах, во всех концах Петербурга возникали
кружки саморазвития, писал П. А. Кропоткин. Здесь тщательно
изучались труды философов, экономистов и молодой школы
русских историков. Чтение сопровождалось бесконечными спо-
рами. Целью всех этих чтений и споров было—разрешить ве-
ликий вопрос, стоявший перед молодежью: каким путем может
она быть наиболее полезна народу? И постепенно она прихо-
дила к выводу, что существует лишь один путь: нужно итти
в народ и жить его жизнью».
Еще в конце 1871 года чайковцы начали заводить зна-
комства с рабочими, а левая часть чайковцев двинулась в на-
род, в качестве учителей, фельдшеров, волостных писарей и т. д.,
а девушки шли в народ учительницами, фельдшерицами,
акушерками. Вначале они, в громадном большинстве случаев,
не думали о революции. «В своих средствах они были мирней-
шими из мирных людей». Они просто хотели учить народ
грамоте и просвещать его. В большинстве случаев они не были
вначале революционерами. Но в результате (как это всегда
бывало в России), они увидели, что легальная деятельность
наказуется в России, как работа нелегальная, и чуть ли не все
поголовно чайковцы стали анархистами, начали распространять
запрещенные в России заграничные издания, печатать с 1873 года
заграницей нелегальные, запрещенные брошюры и, наконец,
устроили в Питере свою типографию. С начала семидесятых
годов чайковцы поступали на фабрики рабочими и быстро заво-
дили связи с рабочими. Сотни людей, руководимых чайковцами,
организованно работали во многих городах и уездах России.
Среди чайковцев были С. Л. Перовская, сестры Корниловы,
много студентов,
Организация чайковцев была провалена ренегатами—
М. Рабиновичем, Городецким, Низовкиным, Гриченковым, Ярцевым
и другими.
Очерки.
13
194
А. КАРЕЛИН
Последователи Лаврова были в семидесятых годах немного-
численны. Они стремились к ’хорошей постановке народного
образования и сами старались получить высшее образование.
Они немного работали среди городских рабочих, были далеки
от крестьян, думали, что общинное владение должно перейти
в подворное и рекомендовали не иметь дела с крестьянством.
Александр Дмитриевич Михайлов писал о лавристах: «лав-
ристы считали нужным подготовить народ «для совершения
целосообразного переворота.» «Итти в народ для пропаганды,
вот клич лавристов». Лучше всего итти в ряды простых рабо-
чих. Кто не может, занимает места сельского учителя, писаря,
мелкого помещика, ремесленника, торговца, приказчика. «Помо-
гать деятельности в народе может книга». «Живя и действуя в
народе, пропагандист не должен останавливаться на вопросах
экономических и политических; нет: сообразно собственному
мировоззрению, следует расширить взгляды окружающих и более
близких людей на семейные отношения, на религию и мироздание.
Бунт и стачка, а также агитация, в смысле возбуждения чувств к
непосредственному действию, не могут вообще служить для под-
готовления народа к социалистическому перевороту, но в отдель-
ных случаях эти средства подготовляют почву для пропаганды.
В народе нужно пробуждать не чувство, а сознание. Ясное пони-
мание дороги к счастью вызовет чувства, сила которых не знает
преград».
Такова теория лавристов. Это движение было заметно в
Петербурге и почти не замечалось в Москве, на Волге и на юге.
В № 48 «Вперед» за 1876 год Лавров писал: «Социальная
революция должна быть подготовлена тайной организацией
революционных сил, действующих путем пропаганды и агитации,
пока они не будут достаточно велики для производства обшир-
ного революционного взрыва».
Отметим здесь, что как П. Л. Лавров, так и лавристы,
считали все же своим идеалом анархическое общежитие. Это
не мешало им отрицательно, как мы видели, относиться к про-
паганде бунтов. Они мечтали о перевоспитании народных масс.
Особо важного значения они не имели.
М. П. Сажин пишет о работе лавристов следующее: «С пре-
кращением издания «Вперед», все рассыпалось и все лавристы
исчезли, «перешли на службу в банки, земства, кооперацию».
Лавров стоял во главе журнала, но не во главе движения. Ука-
жите, кто, где и сколько последователей Лаврова, «лавристов»,
находилось в центральных тюрьмах, каторге, Сибири, поселении?
Их там не было, а если и были—то единицы. Все эти прекрасные
заведения царской власти наполнялись не «лавристами». Тем
не менее, подпольная литература лавристов имела революционное
значение.
АНАРХИСТЫ в народническом' ДВИЖЕНИИ 70-Х ГОДОВ 195
Несколько москвичей с Александром Васильевичем Долгу-
шиным во главе устроили в 1872 году недалеко от Москвы
в деревне Сараево тайную типографию, где печатались разные
воззвания к народу и к интеллигенции; прокламации призывали
итти в народ для того «чтобы возбудить его к протесту во имя
лучшего общественного устройства». Культурная работа отри-
цалась Долгушиным и его товарищами.
В 1869 году в прокламации—«Несколько слов к молодым
братьям в России» М. А. Бакунин писал: «Итак, молодые друзья,
бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, эти универ-
ситеты, академии и школы, из которых вас гонят теперь и в
которых стремились всегда раз'единить вас с народом. Ступайте
в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука. Научи-
тесь у народа, как служить народу и как лучше вести его дело.
Помните, друзья,- что грамотная молодежь должна быть не
учителем, не благодетелем и не диктатором - указателем для
народа, а только повивальной бабкой самоосвобождения народ-
ного, сплотителем народных сил и стремлений. Чтобы при-
обрести способность и право служить народному делу, она
должна утопиться в народе. Не хлопочите о науке, во имя
которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна
погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель».
О бунтарях, то-есть об анархистах, Александр Дмитриевич
Михайлов писал: «Местный бунт, ставящий на своем знамени
понятные и близкие вообще народу требования, но по возмож-
ности социалистические и федералистические, вот главное
средство бунтарей. Каковы бы ни были последствия местного
бунта, результат его будет накопление революционных чувств
и воспитание народа в этом направлении». «Бунтарь—продолжал
он,—цельная непосредственная натура. Глубина чувств и впечат-
лительность зажгли в нем непримиримую ненависть к притесни-
телям и горячую любовь к народу. Революционные порывы
поглотили его вполне. Разум и чувства говорят одно и то же.
Вокруг голодный, оборванный оскорбляемый и обираемый народ,
народ своими общественными наклонностями вечно шедший
наперекор татарско-немецким тенденциям, и за это вечно угне-
таемый; народ, в истории своей удивляющий высокими гра-
жданскими чувствами».
В первой половине 70-х годов прошлого столетия тысячи
молодых людей (по большей . части из учащейся молодежи)
направились в деревни, пропагандируя отобрание земли у поме-
щиков (черный передел земли), необходимость полного уничто
жения солдатских наборов и полного же освобождения от воен-
ной службы. Они пропагандировали безусловный отказ платить
подати, требовали уничтожения паспортов, хорошего устройства
школ, полной свободы, говоря вообще, проповедывали близкий
к анархическому общественный строй. Среди анархистов того
времени было немало рабочих, тесно связанных с крестьянами.
13*
196
А. КАРЕЛИН
Тем не менее, как общее правило, пропаганда велась, главным
образом, среди крестьян, а на рабочих и интеллигенцию обра-
щалось не так уж много внимания.
К крестьянам и рабочим анархисты (и социалисты) того
времени шли сельскими и волостными писарями, шли как
ремесленники, главным образом, как сапожники, кузнецы и сто-
ляры. Эти ремесла изучали пропагандисты, как изучали и про-
стой крестьянский язык. Шли «в народ», говоря словами бро-
шенного М. А. Бакуниным и подхваченного русской молодежью
лозунга. Заметим, что пропагандисты особенно охотно шли
к крестьянству в роли учителей; устраивали фермы, мельницы,
маслобойни, лавочки; шли фельдшерами, даже врачами.
«Бакунин и его молодые последователи—пишет земле-
волец О. В. Аптекман—основали свою программу именно на
реальных потребностях массы, поскольку -эти потребности
вылились в исторически-данные формы общежития, в опреде-
ленный уклад жизни этих масс. Именно Бакунин предвидел
возможное наше поражение,—конечно, идейное прежде всего,
и горячо предостерегал нас от всякой, так называемой, ложной
идеализации... Молодежь начала проповедывать социалисти-
ческие идеи, но года через полтора, два вернулась к баку-
низму, возродившемуся в форме революционного народничества
с лозунгом «Земля и Воля» (О. А. Аптекман. Общество «Земля
и Воля» 70 годов).
Конечно, бакунисты вовсе не отрицали пользы народного
образования. «И в статьях самого Бакунина,—пишет П. Л. Лав-
ров—и в наиболее обдуманных работах его сторонников можно
найти прямые указания на пользу или даже на необходимость
для русского революционера социологических знаний и озна-
комления с народным бытом, с народными потребностями
в России».
Как протест против варварского обращения с заключен-
ными, в декабре 1876 года была устроена небольшая, плохо
подготовленная демонстрация на площади Казанского собора.
Рабочих пришло на эту демонстрацию очень мало—200 или
250 человек. Много больше пришло учащейся молодежи. Полиция
жестоко избила на этой демонстрации многих ее участников
и правительство свирепо, каторжными работами, наказало за-
хваченных участников ее.
Еще ранее, в начале 1877 года, петербургская молодежь
демонстрировала на похоронах Чернышева, умершего от тяже-
лых условий тюремной жизни. Тюремный режим того времени
порождал самоубийства заключенных, скоротечную чахотку
и другие тяжелые заболевания.
В 1875—6 годах многие анархисты идут добровольцами
к восставшим против турок славянам и сражаются в рядах
последних.
АНАРХИСТЫ В НАРОДНИЧЕСКОМ движении 70-х годов 197
В 1875 и 76 годах правительство организует несколько
небольших процессов анархистов и социалистов, а в феврале
и марте 1877 года ведется процесс пятидесяти. На скамье под-
судимых находятся почти исключительно анархисты. Блестящую
речь произнес рабочий ткач Петр Алексеевич Алексеев, за-
кончивший ее следующими словами: «Приказчик фабрики
Носовых (свидетель на суде) говорит, что за исключением
праздничного дня все рабочие под строгим надзором, и неявив-
шийся в назначенный срок на работу не останется безнака-
занным, а окружающие их сотни подобных же фабрик набиты
крестьянским народом, живущим при таких же условиях,—зна-
чит они все крепостные. Если мы, к сожалению, нередко бываем
вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистом
заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь,—
значит мы крепостные. Если мы со стороны капиталиста
вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие
перемены доброты материала и притеснения от разных штра-
фов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского
ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых,
как зачинщиков, ссылают в далекие края,—значит мы кре-
постные. Если из нас каждый отдельно не может подавать
жалобу на капиталиста и первый же встречный квартальный
бьет нам в зубы кулаком и пинками гонит вон,—значит мы
крепостные... Из всего, мною вышесказанного видно, что рус-
скому рабочему народу остается только надеяться на самого
себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей
интеллигентной молодежи: она братски протянула нам руку.
Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные
крестьянские стоны Российской империи. Она одна до глубины
души почувствовала, что значит и отчего* это отовсюду слышны
крестьянские стоны. Она одна не может хладнокровно смотреть
на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угне-
тенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски про-
тянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает выта-
щить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех
стонущих путь. Она одна, не опуская рук, ведет нас, раскрывая
все отрасли для выхода всех наших братьев из этой лукаво
построенной ловушки, до тех пор пока не сделает нас само-
стоятельными проводниками к общему благу народа. И она
одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит,
подняв руку) поднимется мускулистая рука рабочего люда
и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разле-
тится в прах».
Петру Алексеевичу мешал говорить председатель суда,
сенатор Петерс криками «молчать! молчать!», но Алексеев
кончил свою речь.
Хороша была речь мирной анархистки Софьи Илларио-
новны Бардиной, которая работала на фабрике и читала рабочим
198
А. КАРЕЛИН.
анархическую литературу. Она говорила на суде: «Я принадлежу
к разряду тех людей, которые между молодежью известны под
именем мирных пропагандистов. Задача их—внести в сознание
народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя,
указать ему недостатки настоящего строя, или же уяснить ему
те идеалы, которые коренятся в нем бессознательно; указать
ему недостатки настоящего строя, дабы в будущем не было
тех же ошибок; но, когда наступит это будущее, мы не опре-
деляем и не можем определить, ибо конечное его осуществление
от нас не зависит. Я полагаю, что от такого рода пропаганды
до подстрекательства к бунту еще весьма далеко».'С. И. Бар-
дина закончила свою речь словами: «Преследуйте нас! За вами,—
пока, —материальная сила. За нами сила нравственная, сила
истории, прогресса, сила идеи, а идеи, увы! на штыки не ула-
вливаются» 1). Ею была сказана удивительная по своей глубине
фраза: «Государство само в себе носит зародыш разрушения».
И. Джабадари пишет о пропагандистах, привлеченных
к процессу 50-ти, следующее: «Двухмесячный опыт пропаганды
среди московских фабричных рабочих дал блестящие резуль-
таты: мы охватили до 20 фабрик, а также мелкие мастерские,
столярные, слесарные, кузнечные и мастерские Курско-Харь-
ковской железной дороги. Во всех этих фабриках и мастерских
у нас были небольшие группы рабочих из 4—5 человек, делавших
свое дело по намеченной нашей организацией программе».
«Организация наша была построена на принципе безусловного
равенства всех членов и отсутствия всякой власти в руках цент-
рального бюро организации». Эта организация не стремилась
к захвату власти.
Не успели замолкнуть толки, вызванные названным про-
цессом, начался в октябре 1877 и продолжался по январь
1879 года процесс 193 подсудимых. Один из обвиняемых,
Ипполит Николаевич Мышкин сказал на суде блестящую речь,
из которой приведу одно только место й ее окончание, вызван-
ное постоянными перерывами со стороны мешавшего говорить
Мышкину председателя. «Ведь, в нашем распоряжении,—говорил
Мышкин,—нет ни тюрем, ни военных команд, ни больших про- '
мышленных предприятий, закабаляющих тысячи рабочего люда.
Следовательно, мы не имеем никаких средств насиловать народ-
ную волю в пользу излюбленных нами идей. Мы можем действо-
вать только убеждением. Все средства насилия находятся
в распоряжении, и, действительно, практикуются нашими про-
тивниками. Если же, несмотря на крайне неблагоприятные для
нас условия, правительство все-таки имеет серьезные осно-
Э Дикари-сенаторы приговорили ее сначала к каторжным рабо-
там, но после пересмотра дела, Бардина была сослана на поселение;
откуда бежала и, пробыв полтора года в России, уехала заграницу,
где и умерла в Женеве в 1881 году-
АНАРХИСТЫ В НАРОДНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 70-Х ГОДОВ
199
вания опасаться, что наша деятельность увенчается успехом,
то, значит, мы не ошибаемся, рассчитывая на сочувствие народа
нашим идеям; но в таком случае мы не преступники, не зло-
умышленники, а лишь выразители потребностей, созданных
народом...» Постоянно прерываемый председателем суда, Мышкин,
не обращая внимания на крик председателя и попытку жан-
дармского офицера физическим насилием помешать ему говорить,
кончил свою речь словами: «Это не суд, а пустая комедия,
или нечто худшее, более отвратительное, более позорное, чем
дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своиМ
телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за
чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной
и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого
для человечества».
Любопытно, что из 193 человек подсудимых Сенат оправ-
дал 153 человека и, действительно, все движение того времени
носило, по преимуществу, мирный характер. Тем -не менее,
царь отказался помиловать тех обвиняемых за смягчение нака-
зания которым ходатайствовал сенат, и многие оправданные
были административно сосланы на окраины России.
«Припоминая теперь движение 1870—1878 годов, я могу
сказать, не боясь ошибиться, писал П. А. Кропоткин, что
большинство молодежи удовлетворилось бы возможностью спо-
койно жить среди крестьян и фабричных работников, учить их
и работать с ними, либо в земстве, словом, оказывать народу
те бесчисленные услуги, которыми образованные, доброжела-
тельные и серьезные люди могут быть полезны крестьянам
и рабочим».
Помимо разных мастерских, о которых говорилось выше,
пропагандистами устраивались в селениях мелочные лавочки,
где пряталась нелегальная литература и где можно было полу-
чить необходимые связи. Сначала пропаганда шла, главным
образом, среди городских рабочих, но тотчас же была пере-
несена в деревню. Была основана в Москве типография Иппо-
литом Мышкиным, в которой печатались социалистические книги
и брошюры, чаще всего ярко анархического характера.
Как заграницей, так едва ли не главным образом в России,
появились многочисленные разнородного содержания брошюры. Эта
литература была богаче современной литературы для крестьян,
если не говорить, впрочем, о прикладных ремесленных и сельско-
хозяйственных книженках, зачастую изложенных некрестьян-
ским плоховатым языком; нечего и говорить, что лите-
ратура того времени по политическим и общественным вопро-
сам была честнее и интереснее буржуазной правительственной
макулатуры.
Некоторые пропагандисты (например долгушинцы и другие)
пользовались евангелием и находящеюся в нем анархической
проповедью для того, чтобы подорвать уважение крестьян к царю
17 +
М. П. САЖИН
ческим рассуждениям, программам всякого нового человека он
придавал значение второстепенное и старался реально, практи-
чески определить его способности, его пригодность для какой
либо стороны деятельности. Поэтому он тотчас же давал какое
либо поручение, которое соответствовало его способностям: если
лицо выражало желание и заявляло о своей способности быть
полезным в .качестве писателя, Бакунин поручал ему или предла-
гал, что либо написать и т. д. Этим путем он постепенно узна-
вал человека и бывало, что он прекращал с ним всякие деловые
сношения, в виду его неспособности. Особенно частенько полу-
чался такой финал с иностранцами: через несколько месяцев
человек выходил, так сказать, в тираж. Я помню один такой,
случай с русскими, в котором я принимал косвенное участие.
В Цюрихском Университете в мое время была группа русских
студентов из трех человек, тесно связанных друг с другом. Они
были хорошие люди с прекрасными намерениями и желаниями,
все будущие врачи, но, к сожалению, как мне казалось, это были
будущие культурные люди, но по натуре не революционеры. Я
поддерживал с ними дружеские товарищеские отношения, но не
втягивал их в революционные дела. Бакунин знал их заочно
с моих слов. В каникулярное время они отправились походить
по Швейцарии, посетили Бакунина, познакомились с ним и вы-
разили свое горячее желание работать с ним. Бакунин пошел
им навстречу, заключив с ними союз с программою старого быв-
шего «алльянса», дал им небольшой шифр для переписки, слове м
все, как он когда-то делал прежде. И вот дело тянулось чуть ,
не год, а когда представилось настоящее дело, то скоро обна-
ружились дефекты. Бакунин скоро почувствовал, что из союза
проку не выйдет и поэтому ждал только случая, чтобы прекра-
тить безобидно все отношения. Случай представился и он им
воспользовался.
Вернусь к продолжению рассказа о переговорах Бакунина
со мною. Постепенно выяснился вопрос прежде всего о необхо-
димости по возможности периодического издания листа в три—
четыре, сообразно средствам, и выходящего в два три месяца
один раз. Он, конечно, брал на себя всю редакторскую часть, а
я принимал организацию печатания, распространение и тран-
спорт в Россию. Относительно сотрудников он называл своих
друзей-эмигрантов из русских, а также и иностранцев. Я пред-
в таком-то кафэ, где читает итальянские и французские газеты, полу-
чаемые здесь. Приходим в кафэ и тотчас же увидели лицо, читающее
газету, в котором узнали Бакунина. Подошли к нему, отрекомендовались,
как профессора уголовного права. Бакунин довольно неприветливо
спросил их: что же им нужно. „Нам очень интересно познакомиться
с вами и побеседовать*. „А мне это совершенно неинтересно; что-же
может быть общего между вами, юристами, защитниками государства,
а следовательно всяческого насилия и мною—решительным противни-
ком его. Решительно ничего". После этого отвернулся от нас и стал
продолжать чтение газет. А мы вынуждены были удалиться'.
ВОСПОМИНАНИЯ О М. А. БАКУНИНЕ 175
дожил П. Г. Лаврова, как философа, который только что бежал
из ссылки и поселился в Париже. Бакунин согласился его при-
гласить, но с тем, что он будет писать только статьи философ-
ского содержания. «Он (Лавров) не признает господа—бога, а
потому пусть с ним и воюет». В другие отделы пустить его
нельзя.—Лавров тогда был по вопросам социальным, политиче-
ским не более не менее, как кадет, чуть не правый.
Издание это предполагалось начать не ранее поздней осени,
потому что Бакунин был завален работой по интернациональным
делам, а я это время взялся за подготовительные работы я
главное за добычу средств и за организацию сношений с
Россией.
Бакунин недолго оставался в Женеве и очень торопился
домой в Локарно. Он приезжал сюда главным образом затем,
чтобы вполне и окончательно ликвидировать свои отношения
с Нечаевым. На последнем нашем совещании он предложил мне
в нашей будущей переписке установить шифр на фамилии, а
затем дал мне адрес для писем на имя швейцарца, жившего
вблизи Локарно. Вот и все; никакого тайного союза между
нами заключено не было. Пользуюсь случаем, считаю нужным
здесь сказать, что за все время моей дружбы и совместной
деятельности с ним и с другими общими нашими друзьями, как
Гильом, Швицгебель, Кафиеро и другие, никогда не было никако-
го тайного общества, заговора. Пресловутый «алльянс» давным
давно, еще до моего знакомства, с Бакуниным, прекратил свое
существование, был распущен, .если не ошибаюсь в 1869 году.
В сущности была группа лиц одинаково мыслящих, и работа-
ющих в одном и том же деле. Мы сами иногда называли себя
«союзом», а Бакунин иногда употреблял термин — «святая
святых». Гильом прав, когда в своей 4-х томной книге об
Интернационале, говорит, что все рассказы и даже обвинения
в существования «алльянса» чистейшая фантазия. Повторяю
еще раз, что за все шесть — семь лет моей самой интимной
дружбы с Бакуниным, Гильомом и другими, никогда ничего
не было, что бы указывало, что е'сть какой то между нами
заговор, тайный союз. Последние четыре года я безусловно
знал все, что делалось и что предполагалось делать, а делалось
все обыкновенно с ведома по возможности всех, близко стоящих
около Бакунина, который никогда не изображал собою «папы»
или диктатора.
Ко всем нам он относился и держал себя безусловно по
товарищески и в случаях несогласия с кем либо из нас, он
обычно старался убедить словом, доказать противнику свою
правоту.
Накануне своего от‘езда у Бакунина вечером собрались
несколько человек и он много говорил об общем политическом
и социальном положении дел в Европе. Тогда только что полу-
чились известия о кандидатуре гогенцоллернского принца на.
200
А. КАРЕЛИН
там, где они сохранили это уважение. Я помню закат пропа-
ганды 70-х годов, и тогда впервые услыхал, что такие тексты,
как „цари господствуют над народами... а вы не так..." (от
Луки 22, 25—26) и прочие производили на некоторых крестьян
сильное впечатление. Но евангельская пропаганда занимала не
самое важное место. Чаще читались и распространялись такие
брошюрки, как «Сказка о четырех братьях», «Хитрая механика»,
доказывающая тяжесть косвенных налогов и несправедливость
податного обложения, «Дедушка Егор», «Внушителя словили»
(Иванчина Писарева), «Сказка говоруха», «Сказка о копейке»
(С. К. Кравчинского), «Как жить по закону природы и правды»
(Флеровского), «Слово на великий пяток», «Заживо погребен-
ные», «Речь Мышкина», «Речь Бардиной», «Отцам и матерям»,
«Отчеты по процессу 193», «О правде и кривде» (С. Кравчин-
ского), «Рабочие рассказы для народа», «За богом молитва, за
царем служба не пропадает», «Паровая машина», «Про богат-
ство и бедность», «Как наша земля стала не нашей», «Правда»,
«Золотая грамота», «Храбрый воин», «Четыре странника» (Ти-
хомирова). Журналом «Вперед» Лаврова были изданы: «В па-
мять столетия Пугачева», «По поводу Самарского голода»,
«Общественная служба в будущем обществе», «Государственный
элемент в будущем обществе», «Хитрая механика», «Мудрица
Наумовна», «Пролог к прологу Чернышевского». Издавались ре-
волюционные журналы в России и за границей.
С 1875 года пропагандисты выставили ряд резких требо-
ваний и заранее понимая полную невозможность удовлетворения
их, при барско-царском и даже вообще при государственном
строе общества, энергично призывали народ «бунтовать». Пере-
дача всей земли народу, полное уничтожение всех налогов,
освобожденная от государственного и кулацкого гнета община —
таков был план минимальной программы пропагандистов рас-
сматриваемого времени.
В рядах-яреваиндистов громадное большинство было в это
время анархистами, но .им^ далеко не всегда приходилось раз-
вивать до конца свои взгляды. Во всяком случае революционеры
мечтали об организации заговоров, с целью поднятия крестьян-
ских бунтов, по примеру бунта Разина. Даже маленький бунт
считался важнее пропаганды брошюрами и разговорами. Есте-
ственно явились призывы к организации боевых дружин.
Александр Дмитриевич Михайлов указывает, что первые
пропагандисты социализма в народе поняли причины неудачи
«своего движения в народ» и пишет: «Опыт обнаружил их
ошибки, и народники, поставив на своем знамени исторический
лозунг «Земля и Воля», чутко прислушивались к говору массы,
присматривались к ее обыденной жизни, отыскивая для каждого
момента деятельности наиболее могучий рычаг. И их деятель-
ность, сравнительно очень непродолжительная, не пропала без
следа. «Народники» имели большой успех в деревне, благодаря
'•'Г*;
АНАРХИСТЫ В НАРОДНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 70-х годов 201
тому, что опирались на желания самого народа. Везде, где они
жили, они скоро приобретали друзей, передавали им свои планы
и находили в них горячих и деятельных помощников».
То же самое говорит и М. Р. Попов, указывая, что кре-
стьяне угадывали в пропагандистах своих истинных друзей и
были о них наилучшего мнения: „Завоевать симпатию крестьян
в такой мере, чтобы потом вести среди них пропаганду совер-
шенно откровенно, не составляло большого труда".
В конце 1876 года, чайковцы организуют тайное револю-
ционное общество народников, под названием «Земля и Воля».
Его члены были социалистами федералистами. Северяне и по-
волжане примкнули к этому обществу.
Революционное общество «Земля и Воля» ставило своей
целью переход всей земли в руки трудящихся—черный передел,
отказ от платежа податей, революционную агитацию; побуждало
крестьян подавать прошения об улучшении их быта нарезкой
земли; настаивало на посылке ходоков к царю и к высшему
начальству, что прекрасно выясняло полный разрыв правитель-
ства с крестьянством; создавало, где могло, атмосферу аги-
тации. Это общество старалось поднять крестьянские бунты-
восстания, оно указывало на необходимость сельского террора,
а в городах побуждало рабочих устраивать забастовки. Земле-
вольцы стремились заменить современное государство «строем,
определенным народной волей, при непременном осуществле-
нии широкого общинного и областного самоуправления». (А. Д.
Михайлов).
Землевольцы делали попытки связаться с плодившимися в
народе сектантами и раскольниками, с организациями этих групп
населения.
Основной группой «Земли и Воли» была так называемая
«деревенщина», пропагандисты и агитаторы, живущие или приез-
жающие в деревни, под видом торговцев и т. п. Но эти же лица
работали в ряде случаев и в городе, так что М. Попов имел
некоторое основание сказать, что «никаких ни горожан, ни
деревенщиков в действительности не было». Здесь надо отметить,
что крестьяне часто сочувствовали революционерам, вполне до-
веряя землевольцам. Землевольцы работали среди интеллигенции
и среди рабочих. Ближайшей практической задачей среди ра-
бочей массы считалась агитация на экономической почве, гла-
вным образом, во время стачек. Наконец, в рядах землевольцев,
была и так называемая «дезорганизаторская группа», ставившая
своей целью освобождение заключенных, самозащиту при аре-
стах и, вообще всякую защиту от произвола правительства и
месть правительству за его дикое обращение с революционерами.
«Земля и Воля» остановилась на способе воспитания в народе
протеста на почве злобы дня, на том или ином факте недоволь-
ства в той или другой местности, на почве столкновения той
или другой деревни с той или иной стороной враждебной инте-
202
А. КАРЕЛИН
ресам народа, будет ли то столкновение с администрацией, по-
мещиком, кулаком й проч.» (М. Попов).
«Земля и Воля», пользуясь протестующим настроением
крестьян, старалась вызвать их активный протест и об'единить
разрозненные выступления.
Все землевольцы хотели вызвать народную революцию. Тем
не менее они определенно высказывались за террор, хотя и не
рассматривали его, как средство освобождения народа. «Мы
должны помнить, читаем мы в 1 № «Земли и Воли», что не
этим путем мы добьемся освобождения народных масс. С борь-
бой против основ существующего порядка терроризация не
имеет ничего общего. Против класса может восстать только
класс; разрушать систему может только сам народ. Поэтому
главная масса наших сил должна работать в среде народа.
Террористы—это не более как охранительный отряд». Первый
номер «Земли и Воли», в котором была помещена цитируемая
статья С. Кравчинского, вышел в конце октября 1878 года.
Террор «Земли и Воли» рассматривался просто, как защита
против вредных личностей. В апреле и мае 1878 года были
выработаны ‘программы народников и устав организации. Зем-
левольцы нередко шли в народ чернорабочими, но скоро стали
занимать в деревнях такие места, как места фельдшеров, пи-
сарей, лавочников, мельников, врачей, кузнецов и т. п. Они
постоянно старались привлекать в свои ряды кого-либо из
местных жителей-единомышленников.
В 1878 году стало вполне ясно, что главным врагом земле-
вольцев являлось правительство, а не капиталисты. Тем не менее,
часть землевольцев полагала, что конституция России ненужна.
В конце 1878 года происходили студенческие волнения в
Харькове, где студентов били нагайками и где к студенческой
манифестации присоединились приказчики; в Петербурге, от-
куда выслали 600 студентов; в Киеве, где было выключено 140
студентов, из которых 15 человек было отправлено в Восточ-
ную Сибирь и в северные губернии. Московские студенты сде-
лали овацию высылаемым киевским студентам. Студентов мо-
сквичей били, по науськиванью полиции, мясники Охотного ряда
и дворники. Вообще говоря, студенческие волнения усмирялись
саблями жандармов и нагайками казаков. Нелегко жилось в
то время и обывателям. Полицейское насилие, отсутствие безо-
пасности, грубый административный произвол, давали себя чув-
ствовать на каждом шагу.
О третьем отделении П. А. Кропоткин писал в своих «За-
писках революционера» слудующее: «Третье отделение правило
и правит под различными именами Россией со времен Николая I
вплоть до настоящего времени, и составляет истинное государ-
ство в государстве...» «Шеф жандармов стал лицом более
страшным, чем сам император». «В России пропала честь и
исчезла совесть»—писал Михайловский.
АНАРХИСТЫ В НАРОДНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 70-X ГОДОВ 203
В это время, в конце 70-х годов, начались стачки петер-
бургских ткачей и прядильщиков. В начале 1878 года генерал
Трепов явился в тюрьму и увидел арестованного Боголюбова,
который не снял перед ним шапки. Трепов обругал Боголю-
бова, «бросился на него с кулаками», а когда Боголюбов ока-
зал сопротивление, не только велел отвести его в карцер, но,
не имея на то по закону права, приказал подвергнуть его еще
телесному наказанию.
Вера Засулич выстрелом из револьвера ранила наглого
деспота, за что и была предана суду присяжных, оправдавшему
ее к величайшему негодованию царя-деспота. Выстрел Веры За-
сулич прогремел 24 января 1873 года. После оправдания Веры
Засулич, жандармы хотели арестовать ее, но студент Сидорац-
кий начал стрелять в них из револьвера, Веру Засулич увезли
и она была переправлена за границу. Сидорацкий тут же за-
стрелился и его похороны сопровождались большой демонстра-
цией... Французская пресса прославляла поступок Засулич.
В 1878 году революционеры убивают нескольких шпионов—
Рейнштейна, Розенцвейга, Фетисова, Никонова. В 1878 году 23
февраля покушается на жизнь товарища прокурора Котлярев-
ского Валерьян Осинский. Попко убирает 25 мая жандармского
офицера Гейкинга. Сергей Михайлович Кравчинский и Баран-
ников убивают 4 августа начальника третьего отделения
Мезенцева. В 1879 году Гольденберг убивает харьковского
губернатора Крапоткина, Мирский — (позднее предатель) по-
кушается в Петербурге на жизнь Дрентельна, а 2 апреля
1879 года Соловьев раз пять стреляет в царя. Покушение
Соловьева стоит отдельно от вышеперечисленных покушений
землевольцев.
30 января 1878 года в Одессе оказывает вооруженное со-
противление Ковалик и его убивает правительство по приговору
суда. 11—12 октября оказывается вооруженное сопротивление
в Петербурге при аресте Малиновской и Федоровой. Оказывает
вооруженное сопротивление 14 декабря Дубровин. Защищается
при аресте Бобохов. В Киеве на своей квартире защищаются
братья Ивичевичи и Братнер.
Летом 1879 года происходит 2 с'езда революционеров.
С'езд в Липецке высказывается за завоевание политической
свободы, за созыв учредительного собрания, за централистиче-
скую организацию и за то, что царь должен быть убит тер-
рористами. На с‘езде говорилось о бессилии либералов, о том,
что главное дело социалистов-революционеров заключается
в том, чтобы сломить политический деспотизм. Немного позже
в Воронеже происходил с'езд землевольцев, большинство кото-
рых отрицательно отнеслось к централизации, к террору и к
чисто политической программе Липецкого с‘езда. 15 августа
1879 года революционеры разделились на 2 партии—на партию
«Народная Воля» и на партию «Черного Передела».
204
А. КАРЕЛИН
„После окончательного раздела «Земли и Воли» (на «Чер-
ный Передел» и на «Народную Волю»),—писал М. Попов—было
обещано с обеих сторон не только не мешать друг другу, но
по возможности помогать, и это была вовсе не< пустая любез-
ность, а братское обещание11.
Народовольцы называли себя в своей программе социали-
стами и народниками. В программе, помимо обще-либеральных
требований, говорилось о передаче земли народу и о системе
мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики.
Тем не менее, не замалчивая крупных заслуг народовольцев,
энергично боровшихся с деспотизмом, заметим все же, что их
политическая борьба почти заставила партию забыть о воз-
можности самостоятельного народного движения.
В начале 1879 года был организован «Северно-русский
рабочий Союз». Анархическое движение, в виду увлечения по-
литической борьбой за власть, пошло на убыль.
Вне анархического движения этого времен^ стояли попытки
поднять крестьянское восстание именем царя. Нечего и говорить,
что анархисты отрицательно относились к ним. когда до Баку-
нина дошли слухи о том, что Дебогорий-Мокриевич и Стефано-
вич хотят поднять крестьян при помощи подложных царских
манифестов, он отнесся к этому плану крайне неодобрительно.
«Ложь всегда шита белыми нитками»,—говорил он лицу, служив-
шему между нами посредником, писал позже Дебогорий-
Мокриевич.
А. Карелин.
Отдельные анархисты и анархические группы
60-х—70-х г.г.
А. В. Долгушин.
Александр Васильевич Долгушин родился в 1848 году
в Тобольской губернии. Он был студентом С. П. Б. технологи-
ческого института и 21 года от роду, в январе 1869 года,
был арестован по делу С. Г. Нечаева и предан суду, как прина-
длежащий к «пятой категории» «нечаевцев». В конце августа
1871 года он был оправдан спб. судебной палатой. Одновременно
с указанным обвинением, Долгушина привлекли к судебной от-
ветственности как организатора кружка сибиряков-автономистов.
По указанным двум делам Долгушин сидел в Петропавловской
крепости год восемь месяцев. Выйдя на свободу, он организовал
кружки, называемые кружками «долгушинцев». К основному дол-
гушинскому кружку принадлежали—сам Долгушин, Лев Дмохов-
ский, Иван Панин, Николай Плотников, Дмитрий Гамов,' А. Чи-
ков, молодой рабочий Ананий Васильев и другие революционеры.
Долгушин и его товарищи познакомились с В. В. Флеровским
(Берви) и просили его написать для народа небольшую книжку,
которая заменила бы народу евангелие. Для них Флеровский
написал свою знаменитую брошюру—«Как надо жить по закону
природы и правды», которую издали и распространяли долгу-
шинцы.
Неподалеку от Москвы, в одном из сел, они поставили
типографию и издали две прокламации: одну к народу, другую,
менее интересную — к-интеллигенции. В прокламации к народу
долгушинцы требовали уничтожения оброков; выкуп земли назы-
вали насилием и грабежом; требовали передела всей земли,
принадлежащей крестьянству, помещикам и казне, по справе-
дливости, так, чтобы «всякому досталось сколько надобно».
Прокламация требовала уничтожения рекрутчины, замены ее
вольным обучением в школах, настаивала, «чтобы только во время
войны собирались войска». Прокламация требовала, наконец,
устройства хороших школ, уничтожения паспортов; в ней гово-
рилось о податях, что «мы не хотим, чтобы с нас собирали
сколько угодно и' тратили все, куда хотят».
Долгушинцы звали интеллигенцию итти «в народ».
2 06
A. A. К.
В своей прокламации долгушинцы приглашали молодежь
итти в народ для того, чтобы «возбудить его к протесту во имя
лучшего общественного устройства». Долгушинцы отрицали
культурничество.
Долгушин и его товарищи были, безусловными анархистами,
но вместе с тем были христианами в лучшем смысле этого слова:
даже в своей прокламации к народу они цитировали евангелие.
Евангелие нередко читалось тогда революционерами-анархистами
и производило потрясающее впечатление. О. А. Аптекман пишет:
«Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже в народ,
читала евангелие и горько рыдала над ним».
Долгушинцы были арестованы в сентябре 1873-го года и
в первой половине июля 1874-го года судились особым присут-
ствием сената. 15 июля 1874-го года Александр Долгушин и Лев
Дмоховский были приговорены к-10 годам каторги, Д. Гамов —
к 8 годам, Панин и Николай Плотников—к 5 годам каждый.
Остальные отделались сравнительно легкими наказаниями.
До 13 октября 1880 года А. В. Долгушин был заключен
в Ново-Белогородскую центральную каторжную тюрьму в с. Пече-
неги. По дороге на Карийскую каторгу, он дал в Красно-
ярской Тюрьме пошечину смотрителю тюрьмы за ложь, которую
смотритель говорил жандармскому офицеру. За эту пощечину
он был приговорен к 15 годам каторги; на Кару он прибыл
в начале 1882-го года вместе с добровольно следовавшей за ним
женой Агриппиной Дмитриевной.
В 1883-м году его увезли в Петропавловскую крепость,
а оттуда перевели в Шлиссельбургскую тюрьму, где он и умер
в июне 1885-го года.
Д. И. Гамов.
Дмитрий Иванович Гамов принадлежал к числу членов
долгушинской организации. О. В. Аптекман, из книги которого
мы заимствуем нижеприводимые данные, пишет: «Гамов —
в высокой степени вдумчивый человек, с критическим умом,
беспокойным, ищущим. Он все хочет предвидеть, предусмотреть,
чтобы не было промаха, ошибки». «У него, конечно, евангелие,
но рядом с этим «Исторические письма», сочинения Флеровского
с обширными выписками как из этих сочинений, так и из его
статей в «Сборнике Недели»; начинает он с плана организации
революционных сил». Гамов предлагал централистический тип
организации. Мечтал о том, что военные и духовенство перейдут
во время революции на сторону народа. Гамов предлагал разде-
лить Россию после революции на 29 федеративных обла-
стей, принимая во внимание исторические, этнографические и
бытовые особенности населения. Тем не менее, федеративный
строй был, по мнению Гамова, лишь переходным к анархо-ком-
мунистическому строю. Понимание собственности Гамова резко
ОТДЕЛЬНЫЕ АНАРХИСТЫ И АНАРХИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 60-х - 70-х г.г. 207
расходится с общепринятым: «Всякий человек считает своей
собственностью то, что воспроизвел своим трудом, на что
приходилось употреблять собственные его физические силы и при
этом будет считаться собственностью только в количестве, огра-
ничивающем его жизненные потребности. Всякое исключительное
владение чем-нибудь, какой-нибудь частью земли отменяется и
земля предоставляется в полное обладание всем, так как земля,
как стихия природы,'есть достояние всех, как воздух и вода».
Гамов говорил: «Нужно выдумать такую религию, которая была
бы против царя и правительства... Надо составить катехизис и
молитвы в этом духе». «Если нельзя будет обойтись без царя,
он должен быть выбран из 29 представителей 29 вольных феде-
раций». «А конечная цель федеративного устроения России—«анар-
хия* т.-е. «естественный союз» людей, основанный на свободе
и равенстве, без принудительной силы закона».
Таков идеал будущего общественного устройства России
после революции.
Гамов настойчиво требовал детальной разработки буду-
щего общественного строя.
Одно время Гамов был секретарем ссудо-сберегательной
кассы в боровичском уезде.
Дмитрий Иванович Гамов был осужден на 8 лет каторги
в крепости и умер через два года (в 1876 году) в одиночной
камере харьковской каторжной тюрьмы.
И. Г. Прыжов.
Иван Григорьевич Прыжов был привлечен по нечаевскому
делу и сослан в Сибирь. С ним вместе пошла и его жена. Она
вскоре умерла. Прыжов запил и умер на Петровском заводе За-
байкальской волости 27 июля 1885 года.
Отец Прыжова был крестьянского рода и стал дворянином
на службе.
«Болезненный, страшный заика,—пишет о себе И. Г. Пры-
жов—забитый, загнанный, чуждый малейшего развития, я был
отдан в гимназию (1-ю Московскую), поистине лбом прошиб себе
дорогу и в 1848 году кончил курс одним из первых, с правом
поступления в университет без экзамена».
Поступить на словесный факультет ему не удалось, так
как царь приказал в то время сократить число студентов. Он
все-таки учился в университете. Кончить ему курс не удалось
и, написав злую брошюру «Смутное время и воры в Московском
университете» (запрещена и не допущена к печати в 1867 г.
СПБ Ценз. Комитетом), он оставил университет и поступил служить
в московскую гражданскую палату, где получал в течение 14 лет
по 23 рубля в месяц. Тем не менее, Прыжов составил прекрасную
историческую библиотеку.
208
A. A. К.
Прыжов написал ряд работ, из которых большая часть не
увидела света, даже в настоящее время. Им были написаны: «Поп
и монах, как первые враги культуры человека» —была запрещена
цензурой; «История свободы в России»—сожжена в ожидании
обыска. Затем Прыжовым был задуман и частью подготовлен
большой труд: «Исследование о русской (славянской) культуре
сравнительно с культурой Греко-Римлян, Кельтов и Германцев».
Собранный для этого сочинения материал Прыжов распределил
на шесть больших томов. Из статей, помещенных в газете «Наше
время», образовалась брошюра «Житие Ивана Яковлевича» и в ней
описан «целый мир неслыханного фанатизма, невежества и раз-
врата, какого не найдешь и у дикарей и все это на лоне
московского православия». Далее им написаны книжки—«Нищие
на святой Руси», «Двадцать шесть московских юродивых», „Исто-
рия мещан» (запрещена и удержана цензурой), «История питей-
ных откупов» «История кабаков в России».
О себе Прыжов писал, что «вечно был нищ, вечно боялся
завтра умереть с голоду, а отсюда, по милости занятия наукой,
испытал миллионы оскорблений, унижений, каких и каторжный
подчас не испытывал».
Прыжов страшно бедствовал и ему пришлось продать свою
книжку, позже изданную в количестве 2000 экземпляров и рас-
проданную—за 25 рублей. Издатель нажил на ее продаже 1000
рублей. Другую написанную им книжку, отданную за гонорар,
равный рюмке водки, издатель продал в количестве 2000 экзе-
мпляров по 1 рублю экземпляр. Сочинения Прыжова зачастую
запрещались, а из всего, что было напечатано Прыжовым, «це-
лая половина была урезана цензурой, или им самим, другая же
половина являлась исковерканной».
Последние годы перед арестом по делу Нечаева и после
суда, Прыжова сильно поддерживала его жена, урожденная Мартос,
последовавшая за ним и в ссылку.
Прыжов доказывал в своей защитительной, приготовленной
для адвоката записке, что он обманывал Нечаева, что он не
принимал участия в нечаевском заговоре, что он — Прыжов —
не был даже социалистом. Надо, впрочем, иметь в виду, что Пры-
жов был алкоголиком, и его большая записка, написанная для
адвоката, в некоторых случаях кажется составленной психиче-
ски неуравновешенным человеком.
Н. Д. Ножин.
Николай Дмитрович Ножин родился 8 декабря 1841 года
и умер в 1866-м году.
Отец Ножина был управляющим конторой великого князя
Константина Николаевича, а мать—светская дама. Ножин полу-
чил образование в императорском Александровском лицее, куда
был принят по приказу Николая I и где за учение его плавил
в. к. Константин Николаевич.
ОТДЕЛЬНЫЕ АНАРХИСТЫ И АНАРХИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 60-Х—70-Х Г.Г. 209
«Окончив лицейский курс—пишет Лев Мечников —Ножин,
к величайшему негодованию матери и вотчима своего Делагарди,
отказался от предлагаемой ему очень выгодной по летам и по
чину служебной должности...» Лишенный всяких средств, он
отправился за границу, сначала в Гейдельбергский университет,
русские студенты которого чуть не поголовно были социалистами
и коммунистами, а затем в Тюбинген, потом в Ниццу и еще
позднее во Флоренцию, где жил в то время М. А. Бакунин с женою.
Ножин не сошелся с Бакуниным: в то время, он не решил
даже вопроса о том, эволюция или революция приведет к корен-
ному изменению устоев общественности и нравственности.
Ножину удалось опубликовать только одну свою работу о
нисших морских животных. Эта работа, вместе с работами
Ковалевского, легла в основание тех блестящих обобщений,
которые сделал Геккель в конце 60-х годов»1). Н. К. Михайловский
писал, что Ножин «вернулся в Россию ученым в полном и луч-
шем смысле этого слова».
В начале 1865 года Ножин вернулся в Россию.
В России Ножин напечатал ряд статей, в том числе инте-
ресную статью в «Искре», под заглавием: «По поводу статей
«Русского Слова» о невольничестве (Искра, 1865 год, № 8). Затем
Ножин дает ряд статей в «Книжном Вестнике» 1865 — 66 г. г.
В своих работах он указывает, между прочим, что «разделение
труда между индивидуумами одного вида—явление патологическое
то-есть, источник болезней, противоречий и борьбы за суще-
ствование Индивидуализм — анархизм — вот условие полной,
здоровой, счастливой жизни всех неделимых животного царства».
«Что такое труд экономистов?—спрашивал Ножин и отвечал:
«насильственный чрезмерный продукт мышечной деятельности
эксплоатируемых членов общества. Что такое капитал эконо-
мистов?— задержанный в руках эксплуататоров продукт труда
рабочих. Что такое собственность?—признанное право неприко-
сновенности приобретенного эксплоататорами несправедливым
путем капитала. Что такое рабочая плата?—оставленная в руках
рабочих незначительная часть произведенных ими продуктов»....
Основой учения Ножина, по справедливому замечанию
С. Сватикова, были солидарность и взаимопомощь, противопо-
лагаемые им разделению и «борьбе, основанной на ненавистном
ему разделении труда».
Оценивая теорию Дарвина, Ножин указывает, что Дарвин
не видит, что борьба за существование невыгодна для развития,
что «она сама по себе есть лишь источник патологических
явлений... Вся теория Дарвина поэтому может быть названа
теорией гениального буржуа натуралиста». Ножин следую-
щим образом формулировал закон развития организмов: «Вполне
Ч См. Сватиков С. Г. Николай Дмитриевич Ножин. „Голос Минув'
шего“. 1914 г. № 10.
„ 14
Очерки.
210
A. A. К.'
сходные друг с другом организмы не борятся между собой
за существование, но стремятся, напротив, сливаться друг с дру-
гом, так сказать, связывать воедино свои однородные силы,свои
интересы и при этом, вместо разделения труда, замечается в их
отношениях только сотрудничество».
Ножин отрицательно относился к социализму, вероятно,
потому, что поверхностно был знаком только с одним утопи-
ческим социализмом.
От Н. Д. Ножина не осталось большого научного труда.
После его неожиданной и внезапной смерти, его научные труды
пропали. Возможно, что они были забраны жандармами. Ножин
умер 3 апреля 1866 года, как раз накануне 4 апреля, когда
Каракозов стрелял в Александра II. Из правительственного
сообщения того времени видно, что у Ножина, названного в этом
сообщении крайним нигилистом, был какой-то «социалистический»
кружок и что Ножин находился «в связи и переписке с загра-
ничными агитаторами». Какова была роль Ножина в каракозов-
ском покушении мы не знаем; знаем только, что он был в это
время не только анархистом, но и революционером, верившим
в близкую революцию в России. Упрекая Ольхина в том, что он
избрал для себя служебную карьеру, Ножин с сожалением гово-
рил ему: «Не долго тебе осталось жить. Скоро будет революция,
и тебя, увы! повесят на фбнаре».
Ножин встречался с кое кем из лиц знавших о подготов-
лявшемся. Каракозовым покушении на жизнь царя (Худяков, Н.
Курочкин). Возможно, что он знал о готовящемся покушении
Каракозова, но болтовня о том, что Ножин готовился донести
о готовящемся покушении или даже донес на Каракозова, совер-
шенно фантастична.
А. А. И.
С. Г. Н е ч а е в.
(Из личных воспоминании).
На заре моей юности, в начале 70-х годов, в Москве
я встретился совершенно случайно- с выдающимся революционе-
ром и анархистом, Сергеем Геннадиевичем Нечаевым. Это
произошло при таких обстоятельствах: в качестве юного кон-
торщика большой купеческой фирмы (Морозовых) я сталки-
вался со многими купцами, между прочим с Иваново-Вознесенсикм
купцом Зубковым; помнится, ездил даже в Иваново-Вознесенск.
Нечаев, бывший учителем одной из школ в Иваново-Вознесенске
и репетитором в семье Зубковых, имел на самого Зубкова
большое влияние. У Зубковых же мне пришлось познакомиться
с Нечаевым. Он присмотрелся ко мне, взял меня, как говорится
на зубок, и назначил в одном из медвежьих углов Москвы ’
свидание. Я не замедлил явиться по адресу.
Беседа с С. Г. Нечаевым тянулась часа полтора—два. Он
говорил мне о ненормальном состоянии России, ее политическом
и экономическом режиме, патриархальном строе; говорил,
что молодежь надо встряхнуть, чтобы она поняла, что далее
так жить нельзя. Надо созвать немедленно «Земский Собор» —
т.-е. собрание тяглых людей, трудящихся. Состав и структура
Собора в его характеристике выходили очень похожими на
современные «советы рабочих и крестьянских депутатов».
Нечаев толковал далее о равномерном распределении благ среди
трудящихся, уничтожении паразитов, сидящих на шее народа,
необходимости подготовки рабочей социальной революции и пе-
реходе всех предприятий к трудящимся. Все это пересыпалось
замечаниями: «цели оправдывают средства», «сентиментальности
к черту», «нужно действовать с врагами всякими средствами»,
«ибо враги далеко не этичны», «с ними церемониться нечего».
Из полутора-двухчасовой беседы с Нечаевым я вынес
удручающее впечатление. Почва у меня была подготовлена
только накануне прочитанными отрывками из Бланки, Лассаля.
Картины, нарисованные Нечаевым были ярки и живы. Россия
предстала передо мною, как на ладони—страна бесправия, уни-
жения, порабощения. Помню, я ушел от Нечаева с клятвой
в душе работать над свержением политического и экономи-
ческого гнета, висевшего над Россией. Эта встреча укрепила
мою революционность. Я решил основательно ознакомиться
14*
12
К. МЕДЫНЦЕВ
с социалистической литературой Запада (за неимением своей),
главным же образом, с Лассалем и Бланки, к которым тогда
сильно тяготел.
Позже, в начале 71 года, мне пришлось быть однажды
на сходке, носившей консипративный характер, на выселках
Петровской- Академии, где выступал Нечаев. Я был введен одним
товарищем, который потом близко сошелся с Нечаевым. Нечаев
производил на слушателей сильное впечатление, как своей эру-
дицией, так и своим ораторским талантом. Он говорил о зна-
чении развития трудящихся масс на Западе, о тирании монар-
хизма и капитала, о Международном Товариществе Рабочих
Запада. Очевидно, Нечаев только что приехал из-за границы,
куда уезжал конспиративно. То, что я слышал на этой сходке,
легло могучим впечатлением на мою юную душу.
Известно, что С. Г. Нечаев пользовался всегда и всюду -
исключительным влиянием на людей, притом людей самых раз-
личных слоев. Я помню—он, бывало, писал записки в контору
купца Зубкова, спрашивая денег и тот сейчас же отдавал рас-
поряжение о в-ыписке просимой суммы. Так было много раз.
В конце 70 годов пр. ст. я познакомился с двумя
братьями — кустарями-гребенщиками из Иваново-Вознесенска.
• Один из них по делу Нечаева высидел что-то около полутора
лет в Петропавловской крепости. О Нечаеве они вспоминали
всегда с благоговением. Один из братьев спрятал у себя на
огороде данную ему Нечаевым литературу и ни одним звуком
не выдал своего отношения к Нечаеву. По словам одного из
братьев, Нечаев, бывший одно время учителем в их селе, поль-
зовался всегда большим уважением и любовью.
Односельчане Нечаева относились к нему, как к знающему
и уважаемому советчику. Он всегда стоял за обездоленных.
«Это наш народный заступник»—говорили они. С. Г. Нечаев,
по словам тех же братьев кустарей, был знаком не только
с их селом, но и со многими окрестными селами и деревнями
Иваново-Вознесенского округа. Как сильна была любовь
к Нечаеву простых крестьян, свидетельствует безхитростный
рассказ одного из братьев-кустарей про свое заключение по .
делу Нечаева в Петропавловской крепости: «Возили нас обоих,
меня и брата; брата после допроса отпустили, а меня посадили
в крепость. В этом узилище я просидел около года. Вышел
оттуда седой, с сильно пошатнувшимся здоровьем, все грозили
каторгою, веревкою, чтобы я говорил все, что знаю про Нечаева.
Держали меня в темном каземате, где был пол каменный,
а стены, глухие, я чувствовал, что нахожусь в могиле. В тече-
ние года все являлись разные люди и все они мне угрожали.
Стали морить голодом, питали соленым. Когда вышел из кре-
пости, очутился дома, все думали, что я «помутился умом».
По целым дням мое молчание и сильная задумчивость на одно-
сельчан производила угнетающее впечатление».
С. Г. НЕЧАЕВ (из ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ) 213
Тем не менее, никакие страдания не могли выжать из него
слов, которые могли бы повредить Нечаеву.
Позже мне приходилось встречаться с разными лицами
из Иваново-Вознесенска, знакомыми с Нечаевым, из разных
слоев населения:—рабочими, мелкими служащими на фабриках
и даже стоящими во главе предприятий. Так, помню, как один
конторщик с фабрики Зубкова рассказывал, что ему неодно-
кратно приходилось исполнять поручения С. Г. Нечаева к раз-
ным лицам, работавшим на соседних фабриках. Несмотря на
кратковременное знакомство с Нечаевым, конторщик вынес
впечатление о нем на всю жизнь. По его словам, Нечаев был
«человек не от мира сего»: когда он говорил, «он смотрел
через очки» и «таких я после никаго не видал», «да, может быть,
и не увижу».
Когда схваченного Нечаева провозили по одной из пло-
щадей около Кремля на позорной колеснице, веяло холодом от
встречных московских мещан. Два-три десятка, может быть,
и было сочувствующих, а подавляющее большинство-враждебно
встречало его и в преступнике с надписью «убийца»—видело
определенного злодея. Провозили его рано утром,. Фантасти-
ческим рассуждениям не было конца. «Он, дескать, десять душ
загубил», «он знается с черной магией» и т. п. Из публики
один, по виду ремесленник, рассказывал мне: «он кричал
с эшафота, стараясь заглушить барабаны—«долой деспотизм!»,
«Да здравствует земский собор!». Мастеровой просил меня раз’-
яснить эти слова. Когда я удовлетворил его, он весь сосредо-
точился, перекрестился, взглянул на меня и быстро отошел,
потупив голову.
Позднее, уже в Сибири, в SO годах пр. ст., я встречал
ссыльных, бывших караульных солдат «Алексеевского равелина»
Петропавловской крепости. Старики, осевшие в Сибири, с лю.-
бовью вспоминали Нечаева. Он был для них окружен ореолом
борца за народ, был легендарным героем, владевшим челове-
ческими душами, наделенным мифической силой. Он — «все
может». Нечаев был для них не простым смертным, а избран-
ником.
Анархическое мировоззрение С. Г. Нечаева окончательно
сформировалось в его вторую поездку за границу. Нечаев
работал в Бельгии на заводах, вращался преимущественно
среди рабочих, устраивал активные (до вооруженного отпора)
забастовки. Он так близко сошелся с бельгийскими рабочими,
что они несколько раз отбивали его от полиции, укрывали
в потайных местах, устраивали ему конспиративные квартиры
и т. д. Бельгийские рабочие смотрели на него, как на близкого,
своего человека.
В 1871 году, будучи во Франции в Марселе, Нечаев
пытался поднять социальное движение для поддержки Парижской
Коммуны. Он выступал с проповедью федерализма, децентра-
214
К. МЕДЫНЦЕВ
лизма, устранения власти. В конце-концов, потерпев полную
неудачу, он уехал в Швейцарию
В Швейцарии Нечаев (нелегально) вращался среди мелких
.ремесленников, кустарей, часовщиков, переплетчиков, печат-
ников и т. п. Он должен был усиленно конспирировать, скры
ваться, часто менять квартиру и т. д. Но травля началась
и в Швейцарии были пущены в ход всевозможные средства, чтобы
убить его политически: что он уголовный, агент русского пра-
вительства, правокатор и т. д.
В недавнем исследовании Р. М. Кантора—«В погоне за
Нечаевым» J) подробно описывается вся эпопея погони, посылка
агентов царской власти за Нечаевым, с отпуском им для этого
больших сумм. Вся эта история очень характерна и ярко
вскрывает значение, какое царская власть придавала такому
преступнику, как Нечаев. Ни на Герцена, ни на Лаврова, ни на
какого другого из крупных революционеров царское прави-
тельство не тратило таких огромных средств.
Когда швейцарское правительство выдало Нечаева русскому
правительству, последнее судило его в Москве в Окружном суде,
как уголовного преступника, по всем правилам буржуазного хо-
лопства и приговорило его на двадцать лет каторжных работ.
Его возили по городу в колымаге по главным улицам и площа-
дям с надписью на груди—«за убийство».
Когда Нечаева везли по Красной площади около Спасских
ворот, он под заглушенный бой барабанов кричал: «Да здрав-
ствует земский собор. Долой тиранов»!
Шедшие вблизи старушенки говорили, крестясь: «Ишь,
сердечный, о соборе все печалуется».
На суд публика пускалась по билетам, билеты выдавал
лично председатель суда Дрейер, публика была профильтрована.
Я, несмотря ни на какие усилия, не мог пробраться в суд, но
все же увидел Нечаева у входа в зал суда. Своей наружностью
Нечаев, лет 25, небольшого роста, но очень плотно сложенный,
производил впечатление человека с выдающейся силою воли. Оде-
вался он без всякой претензии на элегантность, скорее небрежно.
Один учитель, народник, мой хороший знакомый, когда
увидел его у здания суда, воскликнул:—«Вот Микула Селяни-
нович».
Комедия суда была полная. Присяжные заседатели,
один к одному были типичные мещане, мелкие лавочники; ни
одного интеллигентного лица. Мне потом много лет спустя,
вспоминался процесс В. И. Засулич в Петербургском окружном
суде, под председательством Кони, обвинявшейся в покушении
на убийство Трепова. Я невольно сравнивал эти два процесса.
Какая разница в обстановке!
J) Напечатано в „Былом“, 1923 года, книга 22. Есть отдельное
издание: „Мысль“, Петербург, 1922 г.
С. Г. НЕЧАЕВ (из ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)
215
Все двенадцать присяжных заседателей в процессе Н ечаева
смотрели в глаза Дрейеру и ловили каждый его жест, каждое
его слово. Хозяином всего дела был Дрейер и холопству его
не было границ. Один судейский чиновник, далеко не сочув-
ствовавший Нечаеву говорил мне: «много раз я был свидетелем
сенсационных процессов, но такой постановки, такого отноше-
ния к подсудимому со стороны суда никогда не видал». Попи-
ралось всякое человеческое достоинство.
В крепости Нечаев остался тем же героем, что и на
воле. Профессор Щеголев в своем докладе о пребывании Нечаева
в Алексеевском равелине, на основании архивных документов
Ш-го отделения, между прочим сообщает: «из всех узников,
содержавшихся в Петропавловской крепости с 1825 года, только
один Нечаев проявил к власти и к царю такую непреклонную,
железную ненависть и неприязнь, что этим поставил себя в осо-
бое положение: его прйковали на цепь, законопачивали окна,
не топили каземат, делали все возможное для ухудшения его
и без того худого положения».
И все это делалось в либеральное время Александра II,
когда буржуазно-либеральная печать пела дифирамбы импе-
ратору.
В Алексеевский же равелин были заключены в конце 70 г.
два народовольца—Ширяев и Мирский. К Ширяеву Нечаев от-
несся с полным довернем и установил с ним сношения, наобо-
рот к Мирскому с большим недоверием и подозрительностью.
Он не ошибся; впоследствии Мирский выдал начальству крепости
замысел Нечаева об установлении связи с внешним миром, на
предмет организации побега из крепости.
Ширяев вскоре сошел с ума и что-то около двух лет су-
масшедшим сидел рядом с Нечаевым, наводя на него ужас своим
соседством. Только железная сила воли восторжествовала в Неча-
еве над окружающей обстановкой, и он остался до конца дней
тем же стойким борцом, как и вошел в равелин.
Малоизвестное стихотворение Огарева — «Молодому
другу Нечаеву» дает верную его характеристику:
Он родился в бедной доле;
Он учился в бедной школе,
Но в живом труде науки
Юных лет он вынес муки.
В жизни стала год от году
Крепче преданность народу,
Жарче жажда общей воли,
Жажда общей лучшей доли.
И гонимый местью царской
И боязнию боярской,
Он пустился на скитанье
На народное восстанье—
216
К. МЕДЫНЦЕВ
Кликнуть клич ко всем крестьянам
От Востока до Заката:
«Собирайтесь дружным станом,
Станьте смело брат за брата,
Отстоять всему народу
Свою «Землю и Свободу».
* *
*
Жизнь он кончил в этом мире —
В снежных каторгах Сибири
Но до тла нелицемерен
Он борьбе остался верен
До последнего дыханья
Говорил среди изгнанья:
«Отстоять всему народу
Свою Землю и Свободу»;
К. Медынцев.
Бакунизм и реакция.
«Мы хотим полного умственного, социально-экономического
и политического освобождения народа» — так кратко формули-
рует свое учение Михаил Бакунин и далее поясняет: «1. Ум-
ственного освобождения, потому что без него поли-
тическая и социальная свобода не могут быть ни полными,
ни твердыми»... «2. Социально-политического осво-
бождения народа, без которого всякая свобода была бы от-
вратительной и пустозвонной ложью»... и наконец, «3. Вся
будущая политическая организация должна быть ничем другим,
как свободною федерациею вольных рабочих, как земледельче-
ских, так и фабрично-ремесленных артелей (ассоциаций). И по-
тому, во имя освобождения политического, мы хотим прежде
всего окончательного разрушения государства, хотим искоре-
нения всякой государственности со всеми ее церковными, поли-
тическими, военно и гражданско-бюрократическими, юридиче-
скими, 'учеными и финансовыми учреждениями». Такова вкратце
«наша программа» Бакунина, напечатанная в -№ 1 журнала
«Народное Дело» («La cause du Peuple») в 1868 году.
В следующем году Бакунин в своей прокламации: «Не-
сколько слов к молодым братьям в России» пишет: «Молодые
друзья, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, эти
университеты, академии и школы..., в которых стремились всегда
вас раз‘единить с народом. Ступайте в народ. Там ваше поприще,
ваша наука. Научитесь у народа, как служить народу и как
вести его дело. Помните друзья, что грамотная молодежь должна
быть не учителем, не благодетелем и не диктатором-указателем
для народа, а только повивальною бабкою самоосвобождения
народного, сплотитёлем народных сил и усилий...»
Этот призыв Бакунина, как и другие идеи его, высказанные
в многочисленных речах, воззваниях и памфлетах, не остался
без ответа.
«Мы составляем лишь частицу многочисленной в настоящее
время на Руси социально-революционной партии, понимая под
этим словом всю массу лиц одинаковых с нами убеждений —
одинаковых, конечно, вообще, а’не только в частностях — лиц,
между которыми существует, хотя преимущественно только
внутренняя связь, однако связь достаточно реальная, обуслов-
218
Т. ПИРО
ленная единством целей и большим или меньшим однообразием
средств и практической деятельности. Основная задача соци-
ально-революционной деятельности»—говорил в своей знамени-
той речи в «Деле о революционной пропаганде в Империи», на-
низываемом иначе «Процесс 193-х», Ипполит Мышкин, понимая
под вышеназванным словом «партия», почти все революционное
движение своего времени—«установить на развалинах тепереш-
него государственно-буржуазного порядка такой общественный
строй, который, удовлетворяя требованиям народа в том
виде, как они выразились в крупных и мелких движениях на-
родных и повсеместно присущи народному сознанию, составляет
вместе с тем справедливейшую форму народной организации.
Строй этот—земля, состоящая из союза независимых произво-
дительных общин. Осуществлен он может быть только путем
социальной революции, потому что государственная власть пре-
граждает все мирные пути для достижения этой цели и добро-
вольно никогда не откажется от насильственно присвоенных ею
прав. В этом нам ручается весь ход истории»...
Мы не станем приводить полностью этой речи. Укажем
лишь, что она первоначально была напечатана на французском
языке в органе анархической секции Интернационала: «Bulletin
de la Federation jurassienne de 1’Association Internationale de
Travailleurs», а затем и на русском языке в № 1 журнала
«Община» («La commune») Социально-революционное обозрение.
Женева. Январь. 1878 г.
Мы не будем здесь также подробно доказывать .мысль,
ставшую трюизмом, о том, что почти все революционное дви-
жение второй половины 60-х и 70-х годов в России окрашено
бакунизмом.
Приведем лишь еще две-три выдержки из памятников того
времени. «Уходя с поля битвы пленными, Но честно исполнив-
шими свой долг, мы завещаем нашим товарищам по убеждениям
итти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой
цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради ко-
торой готовы бороться и страдать до последнего вздоха»... На-
правляя это свое завещание из Петропавловской крепости
в редакцию русской бакунинской газеты «Община», выпускаемой
Павлом Аксельродом, Николаем Жуковским и др., осужденные
по процессу 193 х добавляли: «Прилагаемое наше заявление
должно быть напечатано непременно. Орган партии, к которой
мы принадлежим не может нам отказать в этом». Редакция
«Общины» свято выполняет пожелание своих единомышленников,
воспроизводя присланное заявление факсимиле; в числе подписей
под этим заявлением на ряду с подписью Сажина и других, зна-
чатся, между прочим, подписи Шишко и Брешковской (стр. 2,
№ 5—6 «Община», 1878 год).
В другом месте, напечатанном сравнительно недавно, а
именно в воспоминаниях Льва Дейча, между прочим, читаем:
БАКУНИЗМ И РЕАКЦИЯ
219
«Вследствие настояния товарищей, членов организации «Черный
Передел», Г. В. Плеханов в январе 1880 года, вместе со мной,
Верой Засулич, Яковом Стефановичем, которых полиция энер-
гично разыскивала, эмигрировали из Петербурга. Мы все при-
держивались тогда народнических воззрений—были последова-
телями Бакунина» («Дела и Дни». Петербург, 1921 год, кн. 2-я
сТр. 100).
Итак,—здесь мы хотим подчеркнуть это—Георгий Плеханов,
Павел Аксельрод, Вера Засулич, Леонид Щишко, Екатерина
Брешковская и немало других незаурядных революционеров
своего времени были бакунистами. «Разложение Бакунизма»
начинается с первых шагов торжества реакции. «Что касается
шпионов рабочих, то ведь у нас из -своей среды их вышло до-
вольно: господин Низовкин, плоть от плоти нашей. Над соста-
влением обвинительного акта вместе с слабодушными рабочими
потрудились также достаточно господа Рабиновичи, Городецкие
и Трудницкие (последний, правда искупил свою виду самоубий-
ством»)—пишет «Община» (1878 год, № 1, стр. 5) о процессе
193-х.»
С течением времени «разложение бакунизма» под вли-
янием жесткой реакции не прекращается и принимает различ-
ные формы.
Одни из прежних бакунистов совершенно отказались от
общественной деятельности. Таков например Дмитрий Клеменц,
писавший по поводу вышецитированного завещания в «Общине»:
«ни казни, ни осадные положения не остановят нас от испол-
нения завещания наших товарищей и оно будет исполнено»
.(№ 5-6, 1878 г.).
Другие, впоследствии, дошли до открытого восхваления
русского самодержавия, православия, и народности. Таков, на-
пример, Лев Тихомиров, выступивший со своей знаменитой
книжкой «Почему я перестал быть революционером».
Наконец, третьи, и таких было подавляющее большинство,
свернули во многом на путь западно-европейских политических
противников, став активными деятелями и основоположниками
тех разложившихся бакунистских ячеек, из которых рас-
пухли впоследствии такие исторические в России партии, как
«Р.С.Д.Р.П.» (Плеханов, Аксельрод, Дейч и другие) и «П.С.Р.»
(Шишко, Брешковская и другие).
Правда, Бакунин вообще, по словам Дебагория-Мокриевича,
«далеко не льстил себя надеждой на непременный успех.—Мы
должны делать попытки, говорил он. Пусть нас разобьют один,
два раза, наконец, десять и двадцать раз, но если на двадцать
первом народ поддержит... жертвы окупятся» (Дебагорий-Мокри-
евич «Воспоминания» 3-е издание СПБ, стр. 96—97). Однако,
Бакунин, вряд ли мог думать, что следующие его слова,
сказанные случайно, за три года до смерти, Дебагорию-Мокри-
евичу окажутся во многом столь пророческими: «Да что рус-
220
Т. ПИРО
ские... Всегда отличались они стадными свойствами. Теперь они
все анархисты. На анархию мода пошла, а пройдет несколько
лет ни одного анархиста среди них не будет» (там же стр. 100).
Но Бакунин конечно не мог не ошибиться, когда утвер-
ждал, что не будет «ни одного анархиста».
Неправ также вышеупомянутый Дейч, когда пишет, чТо
«лишь один единственный Кропоткин до глубокой старости со-
хранил общие с товарищами его молодости убеждения» х). (Жур-
нал «Творчество» Москва, № 4—6. 1921 г.).
Анархизм не был преходящим романтическим настроением
и для таких людей, как забытый редактор первой русской
газеты для рабочих «Работник»—Николай Жуковский (1842—
1895) или умерший в. Лондоне в 1925 году Вениамин Черке-
зов, как и для целого ряда других менее известных имен,
отдавших анархизму всю свою жизнь. Несмотря на реакцию,
воцарившуюся после падения Парижской Коммуны и за грани-
цей, на отдельные случаи отхода от анархизма, все же не заме-
чалось разложения бакунизма у таких людей, как Джемс
Гильом, братья Реклю, или ныне здравствующий Эррико Ма-
латеста. Для них, как и для множества анархистов, синдика-
листов, индустриалистов и иных революционеров всех стран,
верных заветам Бакунина, всякие неудачи, недочеты револю-
ционного движения и тяжелые, пусть даже массовые, случаи
политического Самоубийства—ренегатства, есть лишь новый стимул
к совершенствованию и углублению методов воплощения анти-
авторитарной общественности и культуры, совершенно так, как
это было для самого великого вдохновителя революционного
Интернационала Михаила Бакунина, или для такого бакуниста,
каким был анархист-коммунист Петр Кропоткин.
Торжество бакунизма неминуемо. Он шествует по трупам
не только борцов за него, но и его неудачных, случайных и
разлагающихся носителей вплоть до «полного умственного, со-
циально-экономического и политического освобождения народа».
Т. Пиро.
Ч Но этим исчерпывается отличие Кропоткина от всех остальные
его сверстников — продолжает далее Дейч. „Никто другой нейтрал
столь выдающуюся роль в революционном движении всех цивилизо-
ванных стран"'... (см. там же стр. 27).
Кропоткин.
Петр Алексеевич Кропоткин родился в 1843 году в Москве,
в семье родовитых дворян, ведших свое происхождение по пря-
мой линии от Рюрика. Семья Кропоткиных была той средней
семьей этого круга, которой быт и нравы достаточно описы-
вались в нашей литературе.
Мальчик был очень живой и очень отзывчивый, глубоко
воспринимавший все совершавшееся кругом, обладавший той
широтой души, которая позволяла ему вживаться во нее со-
бытия и сопереживать страдания и радости окружающих.
Благодаря этому сильно увеличивался душевный кругозор,
который вводит в сознание человека богатый опыт сопережи-
ваемых чужих страданий. Глаза души видели у него гораздо
дальше и глубже, чем у более старших и противоречия
между сущим и должным уже в детстве тревожили его. Ко-
нечно, эти противоречия не выростали у него, как философская
проблема, но принимались из глубины его детских переживаний,
как разногласия самих переживаний, как непосредственное чув-
ство несправедливости, жалости, жестокости, добра, лжи, лице-
мерия—всевозможных эмоций—связывающих и разделяющих
человеческие души, служа для них побудителями поступков.
Благодаря углубленной способности сопереживания—его опыт
становился все больше и позволял ему легко прозревать сквозь
оболочку условностей, сквозь искусственные перегородки соци-
альных неравенств—то общечеловеческое в страдании, что
присуще каждой душе, несмотря на все ее индивидуальное и
личное своеобразие. Способность к такому переживанию кра-
сной нитью проходит через всю жизнь Петра Алексеевича и
впоследствии, когда перед ним, уже взрослым человеком, рас-
крылись гораздо более широкие горизонты, то же свойство
позволило ему проникать во внутреннее души—как индиви-
дуальной, так и массовой, легко отделяя все те призрачные
формы, которые привносятся схемами и предрассудками. Поэ-
тому же он никогда не мог стать на точку зрения классовой
борьбы и т. п. схематизаций... Перед ним всегда был человек—
конкретный, живой, в опыте данный, не завуалированный тео-
риями и только его он видел, его прозревал, к нему спешил
с вестью об освобождении...
222 с о л о н о в и ч, а. а.
Вообще Кропоткин принадлежал к тому типу людей, у
которых крайне сильна душевная восприимчивость, позволяющая
создать на ряду с обычным опытом внешних чувств, как бы
разновидность его более углубленную и мощную—опыт сопере-
живания. Обычно такой более углубленный опыт редко встре-
чается и в общем люди не умеют как следует наблюдать а
экспериментировать в этой области, а между тем подлинная
человечность, подлинный гуманизм, а стало быть и настоящее
понимание человека, как существа общественного, возможно
только благодаря такому опыту... Ведь иначе и нет у человека
средств познать другого человека!.. В известной мере каждый,
конечно, обладает способностью сопереживания, но чрезвычайно
важна степень интенсивности этого переживания, ибо только
начиная с известной степени ее возможно подлинное понимание
психической и тем более социальной жизни. Громадное боль-
шинство людей, мнящих себя психологами и социологами,
имеющие томы и томы сочинений по этим вопросам, на самом
деле ровно ничего не знают о подлинных живых людях, опе-
рируя в своих мыслях и действиях с трупами, убитых их схе-
матизмом людей и нагромождая саркофаги всевозможных теорий.
В дальнейшем крайне важно усвоить себе факт своеобра-
зия того, что Кропоткин имел, как опыт, ибо это своеобразие
дает ключ к его учению и к его поступкам. Здесь же коре-
нится и та особенность в понимании науки, которая была при-
суща Кропоткину. Наука есть систематизированный опыт, но
разный опыт был у Кропоткина и у официальных предста-
вителей науки, у тех которые не имели главного опыта Кро-
поткина или даже не понимали его и который он сам опи-
сывает в «Записках Революционера»: «Наука—великое дело.
Я знал радости, доставляемые ею, и ценил их, быть может,
даже больше, чем многие мои собратья... Но какое право-
имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня—гне-
тущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба?-
Когда все истраченное мною, чтобы жить в мире высоких ду-
шевных движений, неизбежно должно быть вырвано изо рта
сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно чер-
ного хлеба для собственных детей? У кого-нибудь кусок должен
быть вырван изо рта, потому что совокупная производитель-
ность людей еще так низка». (Стр, 180—181. Изд. 1924 г.)
Видеть не только физиологию слезоотделения, но и сочув-
ствовать тому горю, которое их вызвало, сопережить это го-
ре—вот путь к тому опыту, которым был так богат всегда
Кропоткин и который определило в конце концов все течение
его жизни.
Обычный ученый прекрасно знает, что; в дровах горящих
в его печке, - расходуется подлинная, настоящая солнечная
энергия и он знает, что та же энергия горит в лампочке на
его письменном столе, но он не знает, не чувствует, не пони-
КРОПОТКИН
223
мает, что форма, которая придана этой энергии, чтобы сделать
самую энергию полезной, эта форма создана, буквально соз-
дана из человеческого пота, крови и слез... Этого он не чув-
ствует... Его наука ему об этом ничего не говорит и он
удивлен науке Кропоткина... Он не знает ее—эту науку, науку
о горе и страданиях живых людей, а не марионеток классовой
борьбы квази—научного социализма и не науку лживых ака-
демий, приводящих человека к полному его использованию в гор-
ниле производства с помощью научных организаций труда.
Поэтому то и впоследствии, когда Кропоткин приступит
к построению своего мировоззрения, он использует свой опыт
и получит свою научность не вполне совпадающей с обще-
принятой.
Как бы там ни было, но до 1857 года, т.-е. до своего
поступления в Пажеский Корпус, Кропоткин жил в семье,
в обстановке, которая давала много пищи его впечатлительности
и раскрывала перед ним изнанку человеческих отношений.
«Ключница Ульяна стоит в корридоре, ведущем в кабинет
отца и крестится. Она не смеет войти, ни повернуть назад.
Наконец она прочитывает молитву, входит в кабинет и едва
слышным голосом докладывает, что запас чая почти на исходе,
что сахара осталось всего лишь фунтов двадцать, и что осталь-
ная провизия также скоро вся выйдет.—«Воры! Грабители!—
кричит отец.—А ты заодно с ними!» Голос его гремит на весь
дом. Мачеха послала Ульяну, чтобы на ней разрядилась гроза...
Отец не желает угомониться. Он призывает настройщика и
под-дворецкого Макара и высчитывает ему все недавние про-
ступки и прегрешения. Макар на прошлой неделе напился и
наверное был пьян также в.чера, потому что разбил несколько
тарелок... Отец продолжает кричать, что хамово отродье заслу-
живает всяческого наказания.
Внезапно наступает затишье. Отец садится за стол и пи-
шет записку. «Послать Макара с этой запиской на с'езжую.
Там ему закатят сто розог».
В доме ужас и оцепенение.
Бьет четыре. Мы все спускаемся к обеду, но ни у кого
нет охоты есть. Никто не дотрагивается до супа. Нас за сто-
лом десять человек. За каждым стоит скрипка или тромбон,
с чистой тарелкой в левой руке, но Макара нет.
— Где Макар?—спрашивает мачеха.—Позвать его.
Макар не является и приказ отдается снова. Входит Ма-
кар, бледный, с искаженным лицом, пристыженный, с опущен-
ными глазами. Отец глядит в тарелку. Мачеха, видя, что никто
из нас не дотронулся до супа, пробует оживить нас.
— Не находите ли вы, дети,—говорит она по фран-
цузски—, что суп сегодня превосходный?
Слезы душат меня. После обеда я выбегаю, нагоняю Макара
в темном корридоре и хочу поцеловать его руку, но он выры-
224
СОЛОНОВИЧ, А. А.
вает ее и говорит, не то с упреком, не то вопросительно:
«Оставь меня, когда вырастешь и ты такой же будешь?
— Нет, нет, никогда. (Стр. 53—54 ib.)
Заключительный момент этой сцены был возможен только
при условии, что мальчик получил из данных комплексов воспри-
ятий, одинаковых у него с другими присутствовавшими нечто
дополнительное, чего не получили другие и это дополнительное
заключалось в том, что мальчик вчувствовался во внутреннюю
сторону явлений, а другие нет; для него было открыто еще
нечто кроме внешней стороны сцены и он видел то общечело-
веческое в Макаре, что было во всех окружающих и в нем
самом... Он чувствовал и сознавал в Макаре себя и в себе
Макара, он прозревал в страданиях другого и переживал их,
как свое собственное страдание. Он видел то, чего не видели'
другие и это было самое важное...
До пятндцати лет он жил в семье, где характер его раз-
вертывался в среде, которая не ломала и не насиловала его, а
в то же время сильно влияла, подобно тому, как это проис-
ходит с семенем, раскрывающим свои собственные потенции, но
воспринимающим все воздействия извне. Обычно человек стоит
перед человеком, как неграмотный перед книгою. Редко кто
умеет читать эту книгу по складам и чрезвычайно мало чи-
тающих и понимающих... Физический опыт человека грамотного
и человека неграмотного от раскрытой книги один и тот же,
но психический глубоко различен и то, что для неграмотного
составляет в опыте все, для грамотного это только незна-
чительная подробность. Один человек в другом воспринимает
только его внешнее проявление и не идет слишком далеко за
это проявление... Его опыт о человеке ограничивается азбукой
•физико-химических и механических соотношений; он не дости-
гает чтения этих букв, не разбирает смысла написанного и
таковы по большей части представители официальной науки и
к ней так или иначе подделывающихся, ищущих тех или -дру-
гих научных обоснований. Но для Кропоткина везде и всюду—
в природе и человеке раскрывается нечто, стоящее за явле-
ниями так же, как за буквами стоит смысл написанного. Од-
нако это не значит, что Кропоткин философствовал, искал за
явлениями сущность, или душу мира за его формами, но не
важно то, как можно было бы формулировать тот смысл, ко-
торый Кропоткин называл научным, который он сознательно и
бессознательно искал, находил за буквами жизни человека и
природы. И не напрасно, позднее он говорит про себя: «Моно-
лог Фауста в лесу приводил меня в экстаз, в особенности те
стихи, в которых он говорил о понимании природы:
Могучий дух, ты все мне, все доставил,
О чем просил я. Не напрасно мне
Свой лик явил ты в пламенном сияньи
КРОПОТКИН
225
Ты дал мне в царство чудную природу,
Познать ее, вкусить ее мне силы дал....
Ты показал мне ряд созданий жизни,
Ты научил меня собратий видеть
В волнах и в воздухе и в тихой роще.
Когда в лесу бушует ураган,
И повергает ближние деревья,
Ломаясь с треском, богатырь—сосна,
И холм ее паденью глухо вторит,—
В уединение ты меня ведешь,
И сам себя тогда я созерцаю
И вижу тайны духа моего...»
И теперь еще это место производит на меня сильное впе-
чатление. Каждый стих постепенно стал для меня дорогим дру-
гом»... (ib. 77—78).
И снова цитирует он великого язычника, Гёте, когда
говорит об отношении к человеку: «Заходил я также и в про-
тестанскую церковь; но когда я вышел оттуда, то поймал себя
на том, что шептал стихи Гете:
«... пожалуй, этим
Вы угодите дуракам и детям,
Но сердце к сердцу речь не привлечет,
Коль не из сердца ваша речь течет...» (85)
Чрезвычайно важно, что Кропоткин всюду находил речь
сердца, если она была и только этой речи всегда внимал. Он
чувствовал, если речь шла не от сердца и больше всего нена-
видел лицемерие, что так великолепно и выявил при разговоре
в тюрьме с Николаем Николаевичем. И впоследствии он, буду-
чи в первый раз заграницей, отмежевывается от государствен-
ников—социалистов, ведших свою интригу в борьбе за власть
и примыкает к юрской федерации, хранившей заветы безвластия,
ибо поведение партийных вождей было таково, что: «Я был
в ярости... Я не мог согласить этих махинаций вожаков с теми
пламенным речами, которые они произносили с платформы. Я
был вполне разочарован и сказал Утину, что хочу познако-
миться с «бакунистами»..., он долго смотрел на меня и сказал
со вздохом: «Да, вы больше не вернетесь к нам, вы у них
останетесь». Он был совершенно прав.
Не один Кропоткин обладал, конечно, этим чувством чу-
жого сердца и не он обладал им в наибольшей мере, но в нем
это чувство взрастило ясный, призрачный, как горное озеро,
несколько рационалистический гуманизм, ибо наряду с мощ-
ной способностью сопереживать все общечеловеческое, а в ча-
стности—массу и ее психологию, у Кропоткина нет углубления
в самого себя... Он на всю жизнь остается ребенком—ласко-
Очерки. 1'5
226
С О Л О Н О В И Ч, А. А.
вым, отзывчивым и наивным... Нет у него познания бездны
внутренней, той «достоевщины», которая так характерна для
русского и отсутствие которой роднит его с европейской куль-
турой и духом... Для него, как и для Н. К. Михайловского..
Достоевский остается только «жестоким талантом» и до конца
дней остаются ему чужды бездны и провалы человеческого
духа, так что г-жа Линд пишет в своих воспоминаниях (Сбор-
ник— «Памяти П. А. К.» 1922 стр. 112) о том, какие чув-
ства вызвал в нея образ умиравшего Кропоткина, сиделкой у
постели которого она была. «Как-то в порыве нежности я ска-
зала ему, что он прелестное маленькое дитя».
Так и в отношении природы, отвергая цель и телеологию
в мире, он в то же самое время глубочайшим образом верит
в рациональность мира, в то, что его можно познать, хотя бы
только с вероятностью.
«Вероятность, малая, большая, или почти бесконечная»,
говорит он своему брату Александру (3. Р. 262—263),—осно-
вание всех научных предсказаний.—Так можешь ли ты сказать,
что вероятность открытия новой силы, не физико-химической,
так же мала, как вероятность того, что завтра Венеры не
будет в нашей солнечной системе или даже не будет солнца».
— Нет,—отвечал он,—это -совершенно другого раз-
ряда явления: о них я ничего не знаю.
Так он и остался кантианцем, отрицая материализм, ко-
рый он называл нахальным невежеством, и даже о боге говоря,
что он не может сказать, что такого существа нет. «Если бы
я сошел с ума, разве только тогда я мог бы уверовать в бога.
Я недавно видел во сне, что уверовал в бога, и проснулся сию
минуту, заливаясь хохотом. Но утверждать научно, что бога
нет, я не имею права. Наука не может ни доказать существо-
вания бога, ни опровергнуть его.
— Но, ведь, ты знаешь генезис этой идеи.
— Генезис плох; но и генезис идеи о круглых орбитах
был плох; это ничего не доказывает».
Детская чистота его души позволяла ей ,быть зеркалом
окружающего и глубина ее не была замутнена переживаниями
карамазовского толка... Его рацио был прозрачен й чист, совер-
шенно во французском духе... Он был конгениален не с вели-
кими немецкими метафизиками, включая сюда, конечно, и Канта,
но с французскими рационалистами и материалистами XVIII
века. Последнее совершенно правильно подчеркивает Н. К. Ле-
бедев в своих примечаниях к «Запискам», когда говорит в пр.
21, что в России: «...влияние Вольтера было вытеснено немецкой
идеалистической философией Шеллинга и Гегеля, так что Бакунин,
напр., и Белинский не испытали на себе большого влияния Воль-
тера. Петр Алексеевич Кропоткин, питавший органическое отвра-
щение к туманной идеалистической философии немцев, напротив
воспитывался главным образом, под влиянием французской фило-
КРОПОТКИН
227
софии конца XVIII века и на него Вольтер оказал большое
влияние». В своих «Записках» Кропоткин сам говорит об этом
(стр. 86): «...по субботам до глубокой ночи я читал энциклопе-
дистов, «Философский словарь» Вольтера, произведения стоиков
в особенности Марка Аврелия и т. д. Бесконечность вселенной,
величие природы, поэзия и вечно бьющаяся ее жизнь произво-
дили на меня все большее и большее впечатление, а никогда
непрекращающаяся жизнь и гармония природы погружали меня
в тот восторженный экстаз, которого так жаждут молодые
натуры. В то же время у моих любимых поэтов я находил
образцы для выражения той пробуждавшейся любви и веры
в прогресс, которой красна юность и которая оставляет впеча-
тление на всю жизнь».
Последние слова относятся к периоду, когда Кропоткин
был в корпусе. Когда он перешел во второй класс, его захле-
стнули волны движения широко и мощно охватившего тогдашний
интеллектуальный мир. «То было время»,—пишет он (Записки,
стр. 98), «всеобщего научного возрождения. Непреодолимый поток
мчал всех к естественным наукам, и в России вышло тогда
много очень хороших естественно-научных книг в русских пе-
реводах. Я скоро понял, что основательное знакомство с есте-
ственными науками и их методами необходимо для всякого, для
какой бы деятельности он ни предназначал себя».
Если до поступления в корпус превалировало развитие
эмоциональной стороны характера Кропоткина, причем эта
эмоциональность носила сильно познавательную окраску, то
в корпусе начинает все более и более оформляться его интел-
лектуальная сторона и притом при воздействии только что упо-
мянутых рационалистических и материалистических течений,
нахлынувших в Россию,
«Никогда не прекращающаяся жизнь вселенной, которую
я понимал, как жизнь и развитие, стала для меня неистощимым
источником поэтических наслаждений, и мало-помалу фило-
софией моей жизни стало сознание единства человека с при-
родой как одушевленной, так и неодушевленной». (Записки,
стр. 99).
Ум Кропоткина формировался также ясно и просто в ярких
резких линиях французского схематизма и в этой резкости и
ясности не оставалось места для странных «ignorabimus»,
для темных «границ познания», для смутных метафизических
пустот и провалов для еще более смутных и призрачных ми-
стических бездн... Все было чисто на безоблачном небе познания
ибо если сейчас «ignoramus», то ни в коем случае не
«ignorabimus» ...Последовательными приближениями все большей
и большей вероятности прогрессирует познание человека и яркий
оптимизм его натуры пламенно верил, что «все идет в конце
концов к лучшему в этом далеко не лучшем из возможных
миров». Французский рационализм, начиная с Декарта ставший
1а«=
228
СОЛОНОВИЧ, А. А.
одним из главных творцов механистического мировоззрения,
через эпоху энциклопедистов, полный, совсем из него не выте-
кавших революционных лозунгов, достиг, наконец, в 60-х годах
широких кругов русской молодежи и пропитал ее с ног до го-
ловы тем, что можно и теперь назвать «нигилизмом», беря это
слово со всем тем, свойственным ему ароматом, который от
«Отцов и детей» достиг до наших дней. Богом стал разум,
разум с большой буквы и как всякий бог вышел из под кон-
троля разума с маленькой буквы. Разум стал непознаваемым,
вездесущим и всемогущим... Отныне вера в Разум и в его тело
и проявление—Природу стала иррациональной основой рациона-
лизма Кропоткина, как и всего поколения тех и многих позд-
нейших годов.
Как бы там ни было, но рационализм в определенных
границах есть нечто для человека неизбежное, ибо он позво-
ляет оформить и схематизировать сырой материал опыта и
в истории эпохи рационализирования часто представляет из себя
блестящие страницы формул, заключающих краткое резюме
многих изысканий... Однако рационализм неизбежно приводит
к религии человека или человечества в открытой или завуали-
рованной форме —у Кропоткина не менее чем у Конта.
В самом деле, только в человеке ощутим разум и только чело-
век разумен в природе, по крайней мере, в смысле самосознания...
Поэтому, признавая Разум и Природу, рационалист любуется на
свое собственное отражение в зеркале природы и познает отра-
жение Природы в зеркале своего Разума... В наиболее прекра-
сном виде религия человечества является, как гуманизм, в самом
широком и глубоком смысле этого слова и Кропоткин, несо-
мненно, может считаться основателем нового гуманизма.
А между тем в течение годов учения в корпусе закалялся
характер Кропоткина, кристаллизовалась его воля и то, что
в ребенке могло подчас сойти за упрямство, постепенно пере-
ходило в непреклонную настойчивость, создавало сильную и
гибкую натуру. В совокупности с рационалистическим уклоном
все это делало из Кропоткина человека с ясным светлым умом,
не останавливающимся перед выводами из богатого опыта пере-
живаний, не склоняющего головы перед последствиями, выте-
кавшими из сознания справедливости того или иного поступка
или взгляда. В корпусе же он особенно сильно пережил те
чувства, которые присущи личности, когда она чувствует себя
тесно связанной, почти слитой в одно целое с массой. Особенно
характерный момент переживаний подобного рода Кропоткин
описывает в Записках (стр. 102): «Я понял..., что значит колонна,
идущая сомкнутыми рядами, возбужденная музыкой и насту-
плением. Перед нами стоял император, наш военный начальник,
к которому мы все относились с благоговением. Между тем, я
чувствовал, что ни один из нас не подвинулся бы на вершок и
не остановился бы, чтобы дать ему дорогу. Мы составляли
КРОПОТКИН
229
идущую колонну, он являлся препятствием, и колонна смяла
бы его».
Вообще года, проведенные в корпусе дали ему почувство-
вать массу изнутри, ибо только года в детском или юношеском
возрасте, проведенные в стенах закрытого военного учебного
заведения, могут дать почувствовать всасывающие и нивелли-
рующие силы человеческой массы, ее стихийность в эмоциях,
ее слепоту, если она не дифференцирована. Все время Кропот-
кину приходилось в корпусе отстаивать свою личность, проти-
вопоставлять ее натиску чужих и часто чуждых эмоций, но ни
раньше—в семье—ни теперь—в корпусе, все же стихия массы
никогда не касалась его чересчур враждебно... Всегда он чув-
ствовал в себе нечто роднившее его с этой массой, говорившее
ему, что он сам, со своим особенным «я» затерян среди многих,
многих «ты», но все эти «ты» в любое время могли стать для
него «я», благодаря его способности к переживанию. Корпусная
жизнь дала ему ряд впечатлений кооперации, товарищества,
массового действия. Как бы там ни было, но когда в 1862 году
двадцати лет, Кропоткин кончил корпус— это была уже вполне
оформившаяся в своих главных линиях личность, достаточно креп-
кая, чтобы тут же, при производстве в офицеры, вопреки всему,
настоять на своем и сломать свою всеми ожидавшуюся карьеру.
Но и здесь он не поступает опрометчиво. Недаром его
предка, князя Смоленского, умершего в 1470 г. за хозяйственную
кропотливость прозвали Кропоткиным... Петр Алексеевич обладал
этим наследственным свойством и обстоятельно обдумал и взвесил
не только принципиальную, но и хозяйственную сторону своего
решения. Поступать обдуманно было его натурой и эта обду-
манность «кропотливость» сквозит во всех его поступках и
работах.
Так или иначе, но по окончании корпуса он уезжает в Си-
бирь офицером Амурского конного казачьего войска.
«Пять лет»,—пишет он (Записки, стр. 133),—«проведенные
мною в Сибири, были для меня настоящей школой изучения
жизни и человеческого характера. Я приходил в соприкосно-
вение с различного рода людьми, с самыми лучшими и с самыми
худшими, с теми, которые стоят наверху общественной лестницы
и с теми, кто прозябает и копошится на последних ее сту-
пенях: с бродягами и так называемыми неисправимыми преступни-
ками. Я видал крестьян в их ежедневной жизни и убеждался,
как мало может им дать правительство, даже если оно одуше-
влено лучшими намерениями. Наконец, мои продолжительные
путешествия, во время которых я сделал более семидесяти ты-
сяч верст на перекладных, на пароходах, в лодках,— главным
образом, верхом—удивительно закалили мое здоровье. Путеше-
ствия научили меня также тому, как мало, в действительности
нужно человеку, когда он выходит из зачарованного круга условий
цивилизации. С несколькими фунтами хлеба и маленьким за-
230
С О Л О Н О В И Ч, А. А.
пасом чая в переметных сумах, с котелком и топором у седла,
с кошмой под седлом, чтобы покрыть постель из свеже-
нарезанного молодого листвяка,—человек чувствует себя удиви-
тельно независимым даже среди неизвестных гор, густо поросших
лесом, или же покрытых глубоким снегом...»
Так сам Кропоткин описывает то, что дала ему Сибирь...
Здесь он прошел школу жизни, позволившую окончательно
выкристаллизоваться его характеру. Однако уже сейчас необхо-
димо подчеркнуть одну сторону характера Кропоткина, ту сто-
рону, которая в конце-концов быть может в большей части его
жизни оказалась почти определяющей.
Дело в том, что пробегая в воображении путь жизни Петра
Алексеевича с детства через корпус и в Сибирь, отдавая себе
отчет в ситуациях, среди которых он жил и действовал, мы
можем уловить одну резкую черту, красной нитью окаймляющую
его личность. Чрезвычайно важно, что условия и ситуации жизни
все время для Кропоткина складывались так, что не наносили
глубоких ран его самолюбию. Ничто в жизни его не унижало,
он никогда не был достоин презрения, никогда его не оскор-
бляли по крайней мере глубоко и мучительно, жизнь не била
его, не ставила его в безвыходные противоречивые положения...
Нет, ясно и цельно все время идет его жизнь и такой она
остается до могилы... Дитя и старик идут в нем рука об руку
и он, такой борец прогресса, сам стоит вне его. Ребенком про-
ходит Кропоткин сквозь жизнь, ребенком он сходит в могилу...
Старик говорит его устами в суждениях о целях мира и таков
он у первых ступеней своей жизни.
Чистый и ясный взгляд ребенка, отзывчивого и всегда го-
тового на всякое дело, где нужна любовь, смелость, которое
вызывается требованиями братства или свободы, но все же взгляд
ребенка. Правда, это ребенок лучший и гораздо более прекрас-
ный, чем все дети современной культуры —ее мудрецы и соз-
датели, но это ребенок в еще недифференцированной цельности
души которого не зарождается и тени сомнения в самых прин-
ципах этой культуры, в ее духовной надменности... Мучительный
надрыв и протест «из подполья», протест против «Эвклидова мира»,
утверждение бытия подлинного зла в мире, зла субстанцио-
нального, волевого, а не только формального — интеллектуали-
стического—все это было глубоко чуждо Кропоткину. Правда,
он чувствовал здесь нечто и этим, в сущности, вызываются его
позднейшие попытки дать новую этику... В попытке создать
новое обоснование морали можно видеть проблески своеобраз-
ного бегства Кропоткина из «Ясной Поляны» — его светлого
рационалистического оптимизма, попытка убедить себя, что
может быть можно уйти из старого, не отрекаясь от него,
сохраняя его прежнюю цельность... Как бы там ни было, но у
Кропоткина было много Шиллеровского, но не было Гётевского
и потому, вероятно, он цитирует именно Гёте.
КРОПОТКИН,
231
Отсюда же и философская беспомощность Кропоткина, так
характерная вообще для всего поколения 60 годов, но последнее
даже и не так существенно. Гораздо более важно то, что бла-
годаря всему сказанному, Кропоткин всегда имеет перед собой
не цельную личность, а только ту ее сторону, которая повер-
нута во вне. Для него остается наглухо и навсегда закрыта
внутренняя сторона личности, что предохраняет его от многого,
делает его цельным, но зато и не дает ему возможности глубже
взглянуть на жизнь и самих людей. Сама личность в силу этого
истончается перед его глазами, делается прозрачной и сквозь
нее Кропоткин видит одну только массу.
Однако беспомощность перед проблемами о глубинах лич-
ности и даже простое незнание их, тем рельефнее оттеняет
острую ясность ума Кропоткина в решении социальных проблем.
Подобно ясному летнему утру воззрение Кропоткина на При-
роду и только от человека веет печалью, ибо он первый в ряде
существ сознал свое неумение в деле общественности, сознал свои
стремления и невозможность их удовлетворить. Но зато у че-
ловека есть разум, осенивший его и способный, как некий бог,
повести человечество в страну исполнения.
И все же отношение Кропоткина к личности настолько
бережно, что, в конце-концов, неважно—знает ли он сам, что
заключено в сосуде личности — важно, что он его бережет...
Последнее существенней и правильней, чем восхищаться глуби-
нами и пропастями, заключенными в личности, божественным
достоинством в ней скрытым, а в то же время бить этот сосуд
о камни своей глупости и жестокосердия... Для самой личности
приемлемей тот, кто не считает ее сосудом абсолютного и в то
же время обращается с ней по крайней мере, вежливо, чем тот,
кто кричит о неизмеримых драгоценностях ее содержимого и
бросает ее в мусорный ящик своего безумия. Все эти монахи
различных религий — от теистических до материалистических
всегда готовы сжигать сосуды для спасения содержимого и
в этом великая ложь, которой избегает Кропоткин и впослед-
ствии, когда он создает свой идеал человеческой обществен-
ности; он всегда имеет в виду, что личность должна стоять
на первом плане, и что поэтому свобода должна лечь в основу
общества, претендующего на подлинную культурность, ибо по-
следняя как раз может измеряться только степенью уважения,
которое она возбуждает в людях друг к другу.
Годы, проведенные в Сибири, годы вдумчивого наблюдения
позволили оформиться многим мыслям Кропоткина, не оста-
влявшим уже его более в течение всей жизни.
«Годы, которые я провел в Сибири,—пишет он («Записки»,
стр. 165—165), «научили меня многому, чему я вряд ли мог бы
научиться в другом месте. Я быстро понял, что для народа
решительно невозможно сделать ничего полезного при помощи
административной машины. С этой иллюзией я распростился
232
С О Л О Н О В И Ч, А. А.
навсегда. Затем я стал понимать не только людей и челове-
ческий характер, но также скрытые пружины общественной
жизни. Я ясно сознал созидательную работу неведомых масс,
о которой редко упоминается в книжках, и понял значение
этой построительной работы в росте общества. Я видел, напри-
мер, как духоборы переселялись на Амур, видел сколько выгод
давала им их полу-коммунистическая жизнь, и как удивительно
устроились они там, где другие переселенцы терпели неудачу,
и это научило меня многому, чему бы я не мог научиться из
книг. Я жил также среди бродячих инородцев и видел, какой
сложный общественный строй выработали они, помимо всякого
влияния цивилизации. Эти факты помогли мне впоследствии
понять то, что я узнавал из чтения по антропологии. Путем
прямого наблюдения я понял роль, которую неизвестные массы
играют в крупных исторических событиях—переселениях, вой-
нах, выработке форм общественной жизни. И я пришел
к таким же мыслям о вождях и толпе, которые высказывает
Л. Н. Толстой в своем великом произведении «Война и Мир».
«Воспитанный в помещичьей семье, я, как все молодые
люди моего времени, вступил в жизнь с искренним убеждением
в том, что нужно командовать, распекать, наказывать и тому
подобное. Но как только мне пришлось выполнять ответствен-
ные предприятия и входить для этого в сношения с людьми,
при чем каждая ошибка имела бы очень серьезные последствия,
я понял разницу между действием на принципах дисциплины
или же на началах взаимного понимания. Дисциплина хороша
на военных парадах, но ничего не стоит в действительной
жизни, там, где результат может быть достигнут лишь сильным
напряжением воли всех, направленной к общей цели. Хотя
я тогда еще не формировал моих мыслей словами, заимство-
ванными из боевых кличей политических партий, я все-таки
могу сказать теперь, что в Сибири я утратил всякую веру
в государственную дисциплину: я был подготовлен к тому,
чтобы сделаться анархистом».
Да, поистине Сибирь была великой насмешкой над госу-
дарственными тенденциями, ибо в течение нескольких веков
государственная власть проявлялась в Сибири только, как
наглый, открытый и беспощадный грабеж и издевательство
и если население Сибири все же не переело друг друга, не
выродилось в сплошных скотов или разбойников, а наоборот,
несмотря даже на усиленный поток из Европейской России так
называемых «преступных элементов» всякого рода сумело
создать свою общественность, то все это служит ярким под-
тверждением того, что человек не только волк для человека,
но может быть и часто бывает братом.
Вообще говоря, человек не слишком хорош, ни слишком
плох и, конечно, в очень большой степени зависит от окру-
жающих условий... Поэтому-то и приходится ставить в первукг
КРОПОТКИН
233
голову вопрос об изменении этих условий... Ведь не сразу
могут воздействовать сознательно единицы, а среда действует
бессознательно на миллионы... Поэтому и приходится соци-
алистам—государственникам прибегать к софизмам, утверждая
формирующее влияние социалистической среды на отдельную
личность и сейчас -же аргументируя против анархистов, тем,
что, якобы, люди должны стать другими, чтобы стал возможным
анархизм. Но если так, то и для социализма необходимо,
чтобы предварительно люди стали другими, если же опреде-
ляющие влияние среды справедливо для социализма—оно на
совершенно таких же основаниях справедливо и для анархизма.
И для Кропоткина было понятно то, что впоследствии стало
непонятным, благодаря непонятной, благодаря вуалирующей
агитации социалистических партий, а именно, что вовсе соци-
ализм не есть переходная стадия к анархизму—социализм есть
социализм, а анархизм есть анархизм и между ними колесо
причинности не вертится...
Как бы там ни было, но восстание ссыльных поляков по-
ставило Кропоткину непосредственный вопрос о том—может ли
он оставаться на военной службе: «для меня и для брата, пишет
он, («Записки», 169) восстание послужило уроком. Мы убедились
в том, что значит, так или иначе, принадлежать к армии...
Мы решили расстаться с военной службой и возвратиться
в Россию... и весной 1867 года мы поехали в Петербург».
В Сибири Кропоткин прошел серьезную школу научно-
исследовательской работы, совершив ряд продолжительных
экспедиций и собрав богатый материал. По приезде в Петербург,
осенью 1867 года он поступает в университет. «Занятия в уни-
верситете и научные работы поглотили все мое время в течение
пяти следующих лет. («Записки», 170). В течение этих лет он вел
интенсивную научную работу, о которой говорит в «Записках»
(стр. 172); «Кто испытал раз в жизни восторг научного твор-
чества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения.
Он будет жаждать повторения. Ему досадно будет, что подобное
счастье выпадает на долю немногим, тогда как оно всем могло бы
быть доступно в той или другой мере, если бы знание и досуг
были достоянием всех».
В то же время все больше и больше Кропоткин вовле-
кался в революционную работу, все больше сходился с деяте-
лями освободительного движения, все ближе подходил к под-
полью. Все это совершалось естественным, само собой разуме-
ющимся образом, ибо, сказав «А» надо было пройти уже весь
алфавит вплоть до «Z», и не Кропоткину было останавли-
ваться на полпути ... Из него постепенно выковывался боец,
готовый грудь с грудью встретиться с врагом, сразиться с ним
в рукопашную, получая и нанося удары ... Он знал и чувство-
вал массу и, как в случае с колонной кадет, он глубоко пере-
живал в себе весь под‘ем и восторг революционного вихря,
234
С О Л О Н О В И Ч, А. А.
когда толпа может превратитьсв в собрание героев, когда она,
как могучий прибой, бьет в берега и рокочет по улицам, на
площадях, на баррикадах ... Он великолепно чувствовал, что
в такие моменты пробуждается, хотя бы даже только на мгно-
вение, могучая общечеловеческая мощь, задавленная буднями
серого существования, полного насилия и ‘жестокости, пробу-
ждается и развертывается гигантским пожаром ... О, конечно,
он прекрасно знал как много тяжелого несет в себе восстание,
но разве в этом тяжелом виноваты те, кто сбрасывает гнет
и хочет дышать полной грудью—конечно, нет. За это ответ-
ственны только те, которые накладывают гнет —насильники
и эксшюататоры, бешено отстаивающие свое право на безна-
казанное убийство, называемое судом, на дневной грабеж,
называемый капитализмом, на постоянное и всевозможное
насилие, называемое государством. Он прекрасно учитывал зна-
чение максимы «не борись со злом путем зла», но не менее
прекрасно учитывал он, что сплошь и рядом не бороться против
большого зла—меньшим является в свою очередь еще большим
злом. Путь Толстого не был путем Кропоткина, ибо сама моло-
дость не допускала последнего до ригоризма первого. К этому
надо прибавить влияние на Кропоткина тех образов, которые
слабее воздействовали на Толстого, а именно революций, пере-
житых Европой в последнее столетие. Толстой скорей монах.
Кропоткин скорей—рыцарь ... Так или иначе, но события
внешней жизни вместе с течением его внутренних переживаний
все более толкали его к работе революционного характера
и он постепенно сходится с членами кружка Чайковского,
а затем и сам вступает в него. Но тут же происходит событие,
сыгравшее свою роль в деле оформления его мировоззрения—
весной 1872 г. он едет за границу. «По приезде в Цюрих —
пишет Кропоткин («Записки», 204—205)—я вступил в одну из
местных секций Интернационала и спросил своих русских
приятелей», по каким источникам можно познакомиться с вели-
ким движением... «Читайте,—сказали мне». Кропоткин садится
за чтение социалистических газет: «... совершенно новый мир
социальных отношений и совершенно новые методы мышления
и действия раскрываются во время этого чтения, которое дает
именно то, чего ни в каком другом месте не узнаешь, а именно
об'ясняет глубину и нравственную силу движения и показывает
насколько люди проникнуты новыми теориями, насколько работ-
ники подготовлены провести идеи социализма в жизни и постра-
дать за них. Всего этого из другого чтения нельзя узнать,
а потому все толки теоретиков о неприменимости социализ-
ма и о необходимости медленного развития имеют мало зна-
чения, потому что о быстроте развития мюжно судить только
на основании близкого знакомства с людьми, о развитии
которых мы говорим. Можно ли узнать сумму, пока неизвестны
ее слагаемые».
КРОПОТКИН
235
Здесь Кропоткин попал в лабораторию грядущего, при-
сутствовал при творчестве нового—новой жизни, новых соци-
альных отношений. Он видел наглядно и непосредственно—перед
ним, с одной стороны, стояло то общество, которое сверху до
низу было построено на иерархии—общество русской дорево-
люционной действительности, основанное на насилии, насилием
скрепленное и насилием увенчанное. Он видел как бесплодно
было это общество, как мертвило оно все окружающее, как
убивало все живое и как цепко держалось за старое . .. Тут же
было творчество и жизнь ... И только на мгновение запнулся
Кропоткин о государственный социализм, но сразу же узнал
знакомые черты власти и с презрением отвернулся. В то время
носителем идей безгосударственного социализма, т.-е. анархизма
была Юрская федерация, вдохновлявшаяся Бакуниным. Здесь—не
среди люмпенпролетариата, но среди высококвалифицированных
часовщиков прочно обосновался анархизм, чтобы постепенно
охватить всю Европу. Бакунин в то время был в Локарно
и Кропоткин не видел его, но это, конечно, не помешало ему
примкнуть именно к Юрской федерации.
«Теоретические положения анархизма, как они начали
определяться тогда в Юрской федерации,—в особенности Баку-
ниным,— критика государственного социализма, который, как
указывалось тогда, грозит развиться в экономический деспотизм,
еще более страшный, чем политический и, наконец, револю-
ционный характер агитации среди горцев неотразимо действо-
вали на мой ум. Но сознание полного равенства всех членов
федерации, независимость суждений и способов выражений их,
которые я замечал среди этих рабочих, а также их беззаветная
преданность общему делу, еще сильнее того подкупали мои
чувства. И когда, проживши неделю среди часовщиков, я уезжал
из гор, мой взгляд на социализм уже окончательно установился.
Я стал анархистом. («Записки», 214).
Темперамент бойца не позволил пойти Кропоткину по
линии «непротивления» и вместе с умением его прозревать
сквозь условные маски в общечеловеческой сущности каждого,
предопределили всю дальнейшую тактику его на поле социаль-
ной борьбы.
Однако не просто он принял путь революции; «Был, однако,
один пункт,—говорит он («Записки», 216—217),—который я при-
нял только после долгих дум и бессонных ночей. Я ясно видел,
что великие перемены, долженствующие передать все необходи-
мое для жизни и производства в руки общества,—все равно
будет ли то народное государство социал - демократов, или же
союз свободных групп, как хотят анархисты—не могут совер-
шиться без великой революции, какой еще не знает история.
Больше того. Уже во время французской революции крестьяне
и республиканцы должны были напрячь все усилия, чтобы опро-
кинуть прогнивший аристократический строй. Между тем,
236
С0Л0Н0ВИЧ, А. А.
в великой социальной революции народу придется бороться
с противником гораздо более сильным умственно й физически:
с средними классами, которые имеют при том в своем полном
распоряжении могущественный механизм современного госу-
дарства ... Кроме того, я постепенно начал понимать, что
революции т.-е. периоды ускоренной эволюции, ускоренного
развития и быстрых перемен, также сообразны с природой
человеческого общества, как и медленная постепенная эволюция,
наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз,
когда темп развития ускоряется и начинается эпоха широких
преобразований, может вспыхнуть гражданская война в более
или менее широких размерах. Таким образом вопрос не в том,
как избежать революции—ее не избегнуть,— а в том как
достигнуть наибольших результатов при наименьших размерах
гражданской -войны, то есть с наименьшим числом жертв и,
по возможности, не увеличивая взаимной ненависти. Все это
возможно лишь при одном условии: угнетенные должны составить
себе возможно более ясное представление о том, что им пред-
стоит совершить, и проникнуться достаточно сильным энту-
зиазмом. В таком случае они могут быть уверены, что к ним
присоединятся лучшие и наиболее свежие элементы из самых
правящих классов».
И в вопросе о революции Кропоткин так же обстоятелен.
Там, где Бакунин бросил просто, что революция мол, зло,
но на него приходится итти, потому что насильники находятся
в перманентном наступлении и революция просто есть момент,
когда насилуемые перестают нести это насилие, так что рево-
люцию в сущности производят не насилуемые, а насильники—
Кропоткин в дополнение к этому приводит целый ряд аргу-
ментов, доказывающих, что без борьбы все равно, хотим мы
этого или нет — ничего не выйдет и раз борьба неизбежна,
нужно принять это как факт и быть к ней готовым, нужно
самим брать оружие в руки.
В приведенных только что словах Кропоткина звучит еще
крайне важный мотив, делающий в конце - концов Кропоткина
не представителем секты, класса или партии, но всего чело-
вечества. Это мотив, который звучал в устах мальчишки из
знаменитой сказки Андерсена «Платье короля». Каждая партия
имеет своего короля—дворянство, буржуазию, пролетариат,
крестьянство, интеллигенцию, духовенство и т. д. и каждая
обряжает этого своего короля во всевозможные костюмы —
сословные, классовые, партийные, научные и пр. И вот Кропот-
кин, говорит им всем: «Бросьте . . . Все это чепуха . ,. Прежде
всего вы все просто люди, голые люди и нечем вам чваниться—
ни голубой кровью, ни белой костью, ни мозолистыми руками,
ни большим черепом . . . Более отзывчивые и духовно более
развитые пойдут за справедливое дело, независимо от кажу-
щегося платья, а кто погрубее и поглупее, ну те, правда,
/
КРОПОТКИН
237
поверят, что они обряжены в партийное или классовое
платье...»
Что может быть нелепее марксистов, кричащих о классо-
вой психологии, определяемой производством, в то время как
у самих от Маркса до Зингера, от мелкого ремесленника Бебеля
до фабриканта Энгельса—весь командующий состав по своему
происхождению ничего общего не имел с пролетариатом...
Но ведь так везде, стоит просмотреть любую историю револю-
ционного движения любой страны—всюду вместе с обездоленными
шли лучшие представители из рядов противоположного класса.
Явная наглядная нелепость, как платье короля. .. Гаплерея
русских революционных деятелей состоит, главным образом, из
представителей, вышедших из рядов привилегированных, а по
роли, которую отдельные из них играли в истории революцион-
ного движения—почти исключительно. Они были дрожжами,
которые не составляют теста, но без которых не может быть
теста. Кропоткин ясно понимал роль таких дрожжей и ясно
представлял себе тот великий соблазн, который совращает
людей, превращая их из дрожжей в вождей. Пока человек
идет в массу, чтобы будить ее, чтобы поднимать ее—он
подлинно творит народное дело, но как только он начинает
там командовать, превращаясь в лидера—он продал черту вла-
столюбия свою душу—он становится отныне гасителем народной
свободы.
Последнее, т.-е. большее или меньшее сочувствие самих
привилегированных к обездоленным—необходимый и желатель-
ный факт, имеющий помимо только что указанной стороны
еще и другую: «... Я скоро заметил—пишет Кропоткин—что
никакой революции: ни мирной, ни кровавой не может совер-
шиться без того, чтобы новые идеалы глубоко не проникли
в тот самый класс, которого экономические и политические
привилегии предстоит разрушить. Я видел освобождение крестьян
и понимал, что если бы сознание несправедливости крепостного
права не было широко распространено среди самих помещиков..,
освобождение крестьян никогда не совершилось бы так быстро,
как в 1861 году. И я также видел, что идея освобождения
работников от капиталистического ига начинает распростра-
няться среди самой буржуазии. Наиболее горячие сторонники
современного экономического строя отказываются уже от
защиты своих привилегий на почве права, а довольствуются
обсуждением своевременности преобразования. Они не отрицают
желательности некоторых перемен, но только спрашивают,—
действительно ли новый экономический строй, предлагаемый
социалистами, будет лучше нынешнего? Сможет ли общество,
в котором рабочие будут иметь преобладающее влияние, лучше
руководить производством, чем отдельные капиталисты, побу-
ждаемые личной выгодой, как в настоящее время?». («За-
писки», 216).
238
С О Л О Н О В И Ч, А. А.
Позднее Кропоткин, в силу тех же оснований предлагает
в кружке организацию агитации в аристократических кругах
Петербурга. Он пишет («Записки», 233): «.. когда террористы
были всецело поглощены страшной борьбой с Александром 11,
я пожалел о том, что кто-нибудь другой не занялся в высших
петербургских кругах выполнением плана, который я изложил
перед кружком. Если бы почва была подготовлена, то разветви-
вшееся по всей империи движение, быть может, сделало бы то,
что тысячи жертв не погибли бы напрасно. Во всяком случае,
рядом с подпольной деятельностью Исполнительного Комитета,
обязательно должна была бы вестись параллельная агитация
в Зимнем Дворце и в верхних слоях общества». Совершенно
понятна глубокая тактическая правда этих утверждений Кро-
поткина, как и в других случаях, обнаруживающая удивительную
цельность и монолитность его натуры, в которой не было
ничего нарочитого, ничего придуманного на случай .. .
И в той же плоскости вопросов революции, тактики дей-
ствия масс, общечеловеческих идеалов и непосредственного глу-
бокого сострадания звучат его слова: «Если в развитии челове-
ческого общества,—рассуждал я,—существуют периоды, когда
борьба неизбежна, и когда гражданская война возникает помимо
желания отдельных личностей, то необходимо, по крайней мере,
чтобы она велась во имя точных и определенных требований,
а не смутных желаний. Необходимо чтобы борьба шла не за
второстепенные вопросы, незначительность которых не умень-
шит взаимного озлобления, но во имя широких идеалов, спо-
собных воодушевить людей величием открывающегося горизонта.
В последнем случае исход борьбы зависит не только от
ружей и пушек, сколько от творческой силы, примененной к пе-
реустройству общества на новых началах. Исход будет зависеть
в особенности от созидательных общественных сил, перед кото-
рыми на время откроется широкий простор, и от нравственного
влияния преследуемых целей; ибо в таком случае преобразова-
тели найдут сочувствующих даже в тех классах, которые были
против революции; борьба, происходя на почве широких идеалов,
очистит социальную атмосферу. В таком случае число жертв как
с той, так и с другой стороны, будет гораздо меньше, чем если
бы борьба велась за второстепенные вопросы, открывающие ши-
рокий простор всяким низменным стремлениям. Проникнутый
такими идеями, я возвратился в Россию». («Записки», 217—218).
Так постепенно вырабатывался в Кропоткине тот гуманист,
который мощнее старых гуманистов повел борьбу с инквизито-
рами современности, который так ярко провозгласил человеч-
ность среди озверяющей обстановки и зоологических тенденций
окружающего. Осенью того же 1872 года вернулся Кропоткин
в Россию, став сознательным анархистом в том, часто стихий-
ном анархизме, которым были пропитаны в России семидеся-
тые годы.
КРОПОТКИН
239
Немедленно по приезде он начинает работу в кружке Чай-
ковского и идет к рабочим массам, с которыми он уже сошелся
в Швейцарии на почве совместной борьбы за освобождение.
А в России в это время поднималась волна широкого дви-
жения в народ, выростал нигилизм, создавались первые зачатки
широкой общественности. Нет ничего нелепее, как представлять
себе движение в период 70-х годов в виде Каноссы кающихся
дворян... Абсолютно никто из шедших в народ не каялся, да и
не в чем им было каяться... Вся концепция «кающихся дворян»,
как ее часто к сожалению понимали впоследствии, представляет
из себя полемический трюк и больше ничего... Совершенно
просто говорит шлиссельбуржец Морозов в своих воспоминаниях,
что ничего похожего на настроение кающихся не было у шед-
шей в народ молодежи... Правда, это массовое движение сби-
вает с толку классовые психологии иных прочих, но тем хуже
для них и пора освободиться от подобных гипнозов... Михай-
ловский, бросивший крылатое выражение «кающийся дворянин»,
подхваченное сперва народничеством, а затем марксизмом, имел
в виду человека, сознавшего свой долг перед народом. Однако
такой долг, если его чувствуют, могут одинаково чувствовать
и разночинец, рабочий... Суть же в том, что такой долг просто
миф, ибо, идя в этом направлении дальше, можно утверждать,
что смерть людей есть следствие их покаяния перед землей, у
которой они заняли на время материал для своих тел...
Так или иначе, но хождение в народ было чревато послед-
ствиями, ибо здесь впервые была протянута связующая психоло-
гическая нить между различными общественными слоями и сквозь
них был пронесен единый факел свободы, бросивший свой свет
в области разных классов и групп, осветив им углы и щели их
жизни, паутину, сор, и неприглядность, в которой они все жили,
каждый по своему.
По приезде из-за границы Кропоткин с головой окунулся
в революционную работу, не прекращая, однако, и научной
деятельности. Так пролетело время вплоть до марта 1874 года,
когда он был арестован. Мы не будем останавливаться на под-
робностях его жизни в этот период—она достаточна известна
со всей ее интенсивностью, плодотворностью и романтикой...
Знаменитый побег приводит его в августе 1876 года в Англию.
Только через слишком 40 лет удалось ему снова попасть в Рос-
сию и все эти 40 лет уходят на творчество мирового анархи-
ческого движения, на создание и выработку анархического
мировоззрения.
Когда, вскоре он переезжает в Швейцарию, он вступает
там в Юрскую федерацию и отныне окончательно связывает
свою работу с историей анархического движения на Западе.
Мы не будем останавливаться на этой стороне деятельно-
сти Петра Алексеевича, ибо она принадлежит международной
истории анархизма. Нас интересует здесь разработка Кропот-
240
С О Л О Я О В И Ч, А. А.
киным теоретических основ анархизма, то что он внес в анар-
хическое мировоззрение, что он тем самым дал человечеству.
В течение своей жизни Кропоткин написал невероятно
много, но наиболее крупные его труды включают: 1) «Речи бун-
товщика», 2) «Хлеб и Воля», 3) «В русских и французских тюрь-
мах», 4) «Записки революционера», 5) «Взаимопомощь, как фактор
эволюции», 6) «Поля, фабрики и мастерские», 7) «Современная
наука и анархия» 8) «Идеалы и действительность в русской
литературе», 9) «Великая французская революция», 10) «Этика»,
т. I.
Во всех этих этих книгах развертывает Кропоткин свое
мировоззрение, уже сложившееся в своих главных чертах ко
времени приезда в Англию в 1876 г. С тех пор Кропоткин лишь
развертывал в печати и в практике те принципы, которые в нем
были и поэтому довольно безразлична хронологическая после-
довательность его трудов... Цельным сложившимся человеком—
не сгибаясь и не колеблясь идет Кропоткин по своему жизнен-
ному пути... Те принципы, которые звучат в его «Записке» при-
ложенной к «делу 193-х» суть те же самые принципы, которые
раздаются в его речах 1918—20 годов, т.-е. через 45 лет.
Прежде чем итти дальше необходимо ясно себе представить
факт, что нельзя искать анархического мировоззрения обяза-
тельного для всех... Было бы глубокой ошибкой думать, что
можно найти единое для всех, общезначимое мировоззрение...
Его не может быть и всякая попытка в этом направлении зара-
нее обречена на неудачу... Взгляните на капли дождя, падаю-
щие летом... Каждая капля, раньше чем упадет на землю отра-
зит в себе весь мир, но в каждой капле это будет особый мир,
только ей одной присущий. Нельзя поэтому дать и общеобяза-
тельного, для всех одинакового и одинаково должного образа
желательной общественности... Если бы анархист выработал
план построения общества и попробовал бы навязать его дру-
гому—он перестал бы быть анархистом. Но, конечно, необхо-
димо такие планы строить, ибо они выясняют детали возможного
строительства. Такие планы, в свою очередь, не могут иметь
ничего общеобязательного. Раньше чем приступать к постройке,
я должен ознакомиться с принципами строительства, я должен
знать, как строят дома вообще, любой дом и это не значит,
что я обязан следовать в моих постройках единому плану —
едины только принципы строительства...
Вообще необходимо твердо помнить, что начало анар-
хизма — в терпимости к чужим мнениям и в нетерпимости
к злым поступкам, ибо там, где это наоборот — там и власть.
' Чрезвычайно важно для того, чтобы какое-либо мировоз-
зрение добилось успеха в жизни — связать его с основными,
господствующими идеями эпохи, ибо только тогда принципы
новых воззрений становятся доступными массам. И вот вели-
чайшей заслугой Кропоткина было то, что он связал анархи-
КРОПОТКИН.
241
ческие принципы с научными, показал, что, стоя на почве науки
мы, несомненно, придем по отношению к общественности —
к анархизму. Разрывая схоластику интеллектуалистических по-
строений, идя в глубину жизни, Кропоткин находит там эле-
менты для построения анархического мировоззрения и тем
связывает главнейшие устои нашей эпохи с анархизмом, как
с прямым и неизбежным выводом из них. В наше время можно
смело и не боясь ошибиться, сказать, что не анархистом из
додумывающих до конца может быть только дурак или лице-
мер. Каждый думающий до конца, должен быть анархистом!..
Ясно, что в этом нет принуждения, ибо анархизм есть термин,
дающий отрицательное определение, которое, как известно, не
является определением по существу. Почему же каждый должен
быть анархистом?.. Да потому, что это наиболее рационально
и целесообразно, наиболее человечно и справедливо... То, что
Бакунин с такой мощью делал, Кропоткин доказывал и его до-
казательства строго позитивны... Культура, построенная согласно
принципам науки может быть только анархической и никакой
другой...
Самое главное в точке зрения Кропоткина, это утвержде-
ние, как позитивного факта существования, не только половой
любви, но и взаимопомощи, не только борьбы за существование,
но и жертвы существованием!.. Это основной пункт, ибо если
бы не было так, то прав был Гоббс с его «homo homini lupus
est» и одиночество должно было бы восторжествовать над обще-
ственностью. В начале мира был хаос и в нем царила Вражда,
говорил Эмпидокл... Но вот все более и более берет верх лю-
бовь—Эрос и хаос медленно преобразуется в Космос. Космос
возможен только, как Космос любви, взаимопомощи и солидар-
ности... Вопреки, а не благодаря вражде появляется из хаоса мир;
вопреки, а не благодаря борьбе за существование совершен-
ствуются существа... Здесь Кропоткин стоит как бы пророком
нового воззрения, идущего в далекое будущее... Он утверждает
в мире любовь... До сих пор в природе находили только разум,
только мудрость и Кропоткин первый указывает на любовь...
Конечно, это можно выразить в терминах положительной науки
также, как и в формулах немецкой метафизики—важно не это,
а самый факт. И понятно, что в данном случае под любовью
приходится понимать целый комплекс различно дифференцируе-
мых чувств, что нисколько не противоречит определениям Кро-
поткина, который термину «любовь» приписывает более огра-
ниченный об'ем. В своей книге «Взаимопомощь», он говорил
(стр. 7): «Во всех этих случаях (случаи взаимопомощи при от-
сутствии личной симпатии) главную роль играет чувство не-
сравнимо более широкое, чем любовь или личная симпатия.
Здесь выступает инстинкт общительности, который медленно
развивался среди животных и людей в течение чрезвычайно
долгого периода эволюции, с самых ранних ее стадий и научил
Очерки.
242
C 0 Л 0 Н О В И 4, А. А.
в равной степени многих животных и людей сознавать ту силу,,
которую они приобретают, практикуя взаимную помощь и под-
держку, а также сознавать удовольствие, которое можно найти
в общественной жизни. Важность этого различия будет оценена
всяким, кто изучает психологию животных, а тем более—люд-
скую этику. Любовь, симпатия и самопожертвование, конечно,
играют громадную роль в прогрессивном развитии нравственных
чувств. Но общество в человечестве зиждется вовсе не на любви
и даже не на симпатии. Оно зиждется на бессознательном или
полусознанном признании силы, заимствуемой каждым человеком^
из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья
каждой личности от счастья всех, и на чувстве справедливости, или
равноправия, которая вынуждает личность рассматривать права
каждого другого, как равные его собственным правам». К этому
в «Этике» (стр. 14) он прибавляет: «Но и это еще не все,
в этом же инстинкте лежит зачаток тех чувств благорасполо-
жения и частного отожествления особи со своею1 группою, кото-
рые составляют исходную точку всех высоких этических чувств.
На этой почве развилось более высокое чувство справедливости
или равноправия, равенства; а затем и то, что принято назы-
вать самопожертвованием». И далее (стр. 18): «Таким образом
оказывается, что природа не только не дает нам урока амо-
рализма, т.-е. безразличного отношения к нравственности, с кото-
рым какое-то начало, чуждое природе, должно бороться, чтобы
победить его; но мы вынуждены признать, что самые понятия
о добре и зле и наши умозаключения о «высшем добре» заим-
ствованы из жизни природы».
Совершенно подобно тому как человек от совокупности
фактов тепла, движения, света, химизма и т. п. умозаключает
к «электричеству», точно таким же образом от фактов взаимо-
помощи, солидарности и т. п. он умозаключает к «высшему
добру» или любви, как бы разлитой в природе. Конечно, мы не
прибегаем к космологическому доказательству бытия бога, но-
остаемся на чисто позитивной точке зрения, ибо только она
может быть принята в наше время и на ней же все время
остается Кропоткин.
Из всего предыдущего следует, что те социологи, которые
для своих построений рассматривают человека то злодеем, то
ангелом, то продуктом классовой психологии, то героем, то эго-
истом, то альтруистом поступают так, как поступил бы социолог
с гипертрофированным устремлением к математике, когда он
просто стал бы каждого человека считать единицей и ничем
больше. Ясно, что обобщающая сила его выводов была бы гро-
мадна, но ничего кроме тривиальностей в роде того, что толпа
состоит из людей, или нелепостей при смешении единиц—лю-
дей с единицами — например, ослами, у него не получилось бы.
Чтобы поставить себя в правильную переспективу к точке
зрения Кропоткина, представим себе, что муравьи—в обществе
Кропоткин.243
которых абсолютно нет власти, если не брать исключительных
и, просто, нам еще мало понятных случаев, постепенно стали
бы получать личное сознание и возможность все более полного
общения между собой. Стали ли бы они в таком случае поедать
и истреблять друг друга, пока не удосужились бы учредить
власть. Понятно, что муравьи тут не при чем, ибо разговор
идет, конечно, о людях, но мы будем брать то, что мы о них
мыслим... Совершенно ясно и то, что муравьи поймут, что им
гораздо выгоднее более тесно кооперировать, чем поднимать
междоусобную борьбу. Нужна ли власть для учреждения коопе-
рации? Конечно, совершенно не нужна.
Таким образом, Кропоткин показывает, что социологи опе-
рируют с абстрактными, воображаемыми людьми, и что вовсе
не только эгоизм и звериная жестокость свойственны людям,
но раз так, то тем более, когда мы говорим о человеческой
массе, ибо в ней как раз еще более начинают преобладать че-
ловеческие силы.
«По мере того, как мы ближе знакомимся с первобытным
человеком,—говорит Кропоткин, (Этика, стр. 19)—мы все более
и более убеждаемся, что из жизни животных, с которыми он
жил в тесном общении,—ой получал первые уроки смелой защиты
сородичей, самопожертвования на пользу своей группы, безгра-
ничной родительской любви и пользы общительности вообще.
Понятия о «добродетели» и «пороке»—понятия зоологические, а
не только человеческие».
«Кроме того, едва ли надо настаивать на влиянии идей и
идеалов на нравственные понятия; равно как и на обратном
влиянии нравственных понятий на умственный облик каждой
эпохи. Умственный склад и умственное развитие данного обще-
ства могут принимать по временам совершенно ложное напра-
вление под влиянием внешних обстоятельств: жажды обогащения,
войн и т. п.; или же, наоборот, они могут подняться на большую
высоту. Но и в том и в другом случае умственность данной
эпохи всегда глубоко влияет на склад нравственных понятий
общества. То же самое верно и относительно отдельных лично-
стей». И далее он утверждает идею прогресса нравственности,
связывая ее с общей теорией эволюции.
«Взаимопомощь, справедливость, нравственность, таковы—
«говорит он (Этика, 26), —«последовательные шаги восходящего
ряда настроений, которые мы познаем при изучении животного
мира и человека. Они представляют органическую необ-
ходимость, несущую в самой себе оправдание, подтвер-
ждаемую всем развитием животного мира, начиная с первых
его ступеней (в виде колоний простейших животных) и посте-
пенно поднимаясь до высших человеческих обществ. Говоря
образным языком, мы имеем здесь всеобщий мировой
закон органической эволюции; вследствие чего чувства
взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко зало-
16*
244
С О Л О Н О в И Ч, А. А.
жены в человеке, со всей силою прирожденных инстинктов;
при чем первый из них, инстинкт взаимной помощи, очевидно,
сильнее всех, а третий развившийся позднее первых двух,
является непостоянным чувством и считается наименее обя-
зательным».
Кропоткин прекрасно отдает себе отчет в том, что прогресс
является равнодействующей, интегралом всех отдельных воль,
совокупным результатом работы всех личностей. Его задача
дифференцировать аморфную массу толпы на отдельные личности
и затем эти личности собрать вновь, но уже на началах созна-
тельной кооперации, на принципах свободных договоров.
Совокупность свободных договоров — вот та единственная
форма действующего права, которую признает Кропоткин. Боль-
шинство и меньшинство или договариваются или расходятся, но
не может быть государства, из которого они юридически никогда
не могут выйти.
Мы не будем повторять общеизвестной критики государ-
ства, к которой вполне присоединяется Кропоткин, добавляя
с своей стороны ряд чрезвычайно веских аргументов. Его уче-
ние—анархический коммунизм непосредственно вытекает из всего
предыдущего.
В самом деле, Кропоткин указал совершенно новые пути
для политической экономии, которая до сих пор была метафи-
зикой, особенно ярко проявившейся у марксистов, обосновывавших
свою философию на «вещи в себе» — трудовой стоимости. Для
Кропоткина политическая экономия есть прежде всего наука о
человеческом обществе и его определенных функциях, а не об
абстрактных категориях с нелепыми квази-математическими
формулами. Он никогда не забывает, что в политической эко-
номии человек должен быть на первом плане. Поэтому полити-
ческая экономия дифференцируется из ряда дисциплин, каждая
из которой изучает совершенно об'ективно окружающую дей-
ствительность. Политическая экономия есть наука о наилучшем
удовлетворении человеческих потребностей. Она должна решить
вопрос о том, как строить жизнь хозяйства, если максимой
является, например, требование: лучше беднее да свободнее—
найти хозяйственный. оптимум, удовлетворяющий этому требо-
ванию. Здесь политическая экономия вступает в тесный союз с эко-
номической географией, социологией и т. д. На путях, указанных
Кропоткиным, анархистам предстоит разработать обший план
мирового хозяйства в связи с особенностью народов, местности
и т. д., план, построенный на началах свободного коммунизма
и кооперации. Может быть, тысячи планов подобного рода, охва-
тывающих большие и малые области, должен быть разработан
и тогда в совершенно конкретных формах предстанут перед
человечеством его экономические возможности. Понятно, что
из всего этого должно быть изгнано государство как на стадиях
достижения, так и впоследствии.
КРОПОТКИН.
245
«И вот эту-то гигантскую работу,— говорит Кропоткин
(Совр. наука 195),—требующую свободной деятельности народ-
ного творчества, хотят втиснуть в рамки государства, хотят
ограничить пределами пирамидальной организации, составляющей
сущность государства. Из государства, самый смысл существо-
вания которого заключается.., в подавлении личности, в уничто-
жении всякой свободной группировки, всякого свободного твор-
чества, в ненависти ко всякому личному почину и в торжестве
одной идеи, которая по необходимости должна быть идеей,
посредственности,—из этого-то механизма хотят сделать орудие
для выполнения гигантского превращения... Целым общественным
обновлением хотят управлять путем указов и избирательного
большинства... Какое ребячество».
Так снизу до верху все учение Кропоткина является при-
менением научных методов к изучению социальной действитель-
ности и в этом отношении он является основоположником
подлинно научной социологии.
Глубоко вникая в сущность социальных отношений, вели-
колепно разбираясь в механизме массовых движений, он говорит
о действии двух порядков — творчества масс и формирующей
силы идей. Идеи и массы — вот, по его мнению, движущие силы
исторического процесса, но при этом масса у него не принимает
характера «великого безликого», но всегда является совокупно-
стью творческих воль. «Два главных течения», говорит он (Ве-
ликая Франц. Революция, стр. 1, изд. 1919 года), «подготовили
и совершили революцию. Одно из них, наплыв новых понятий
относительно политического устройства государства, исходило
из буржуазии. Другое действие для осуществления новых 'стре-
млений,—исходило из народных масс: крестьянства и городского
пролетариата, стремившихся к непосредственному и осязатель-
ному улучшению своего положения. И когда эти два течения
совпали и об'единились в виду одной, вначале общей им цели,
и на некоторое время оказали друг другу взаимную поддержку,
тогда наступила революция».
Учитывая влияние идей и работу личностей, он требует
гармонического слияния в человеке борца, воина, с одной стороны,
и моральной личности—с другой. Только тогда, когда в народ-
ном движении формируется своеобразное рыцарство революции,
только тогда люди и само движение могут быть на высоте
стоящих перед ними задач.
А. А. Солонович.
Анархическое движение в Одессе.
1.
Не историю, а беглый очерк анархистов в Одессе намерен
я дать. Для истории еще не настало время, еще не собраны
материалы и не разработаны архивы. В этом очерке мне только
хочется наметить основные этапы, через которые прошло дви-
жение в течение 1904—1908 г.г.
| Одесса сыграла видную роль в истории русского анархизма.
I Это один из немногих пунктов, где движение стало действи-
' тельно массовым. В этом отношении Одессу опередил только
Белосток и рядом с нею, но за нею идет Екатеринослав.
В сущности во всей остальной России анархизм нигде не играл
выдающейся роли, ибо нигде он не овладел массами.
Эта характерная черта анархического движения в Бело-
стоке, Одессе и Екатеринославе вызвана была одной общей
причиной. В этих городах анархические группы не оторвались
от общих интересов масс, а, наоборот, шли вместе с ними и
стали в известный момент их авангардом. Вот почему в этих
городах анархизм навеки оставил неизгладимую печать.
Дать общую картину движения в Одессе нелегко. Здесь
сплелись все течения, все оттенки мыслей, борющихся внутри
анархического движения. Не обо всех движениях мне придется
говорить одинаково подробно. Многое из того, что когда-то
занимало анархические группы и считалось чрезвычайно зна-
чительным, потом оказалось никчемным, совершенно забытым
не только историком, но и самими участниками дела.
В настоящее время, когда оглядываешь путь, пройденный
русским анархизмом, видишь только два принципиальных тече-
ния: с одной стороны, безмотивники (они же чернознаменцы),
а с другой синдикалисты. Их борьба наполняет собой весь пе-
.риод расцвета русского анархизма 1906—1907 годов. На борьбе
и судьбе этих обоих течений русского анархизма мы должны
построить наши основные выводы.
2.
М ах а ев ц ы.
Анархизм, подобно социализму, не является созданием
теории, по крайней мере, одной теории. Нужно, чтобы в соци-
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ
247
альной среде что-то изменилось и подготовило почву: лишь
тогда семена теории падают не на бесплодные камни и дают
ценные всходы. Анархизму почву готовит социализм, подобно
тому, как социализму подготовляет путь его антипод-^либера-
лизм Т).
Русские социалисты, как истинные государственники, в
борьбе с так называемым «экономизмом» перегнули палку.
Чтобы доказать «экономистам» и «рабочедельцам», что необ-
ходима борьба с самодержавием, они настолько выпячивали вперед
политические задачи, что совершенно сливались с либеральными
буржуа. Меньшевики и не скрывали этого уродства, а, наобо-
рот, очень гордились им; они на банкетах с либералами, с зем-
цами открыто звали рабочих итти на поддержку либеральной
буржуазии. Большевики спорили с меньшевиками и требовали
не союза с либералами, а союза с крестьянами. Но и те и дру-
гие на первый план выдвигали задачу свержения самодержавия.
Этот крайний политицизм, предвестие парламентского кре-
тинизма и всех предательств, которые за этим скрываются, дол-
жен был вызвать реакцию в известной активной части рабочих.
И, действительно, к концу 1904 г. в России назревает своеоб-
разное течение, которое получило название от имени его тео-
ретика— Махайского (Вольского). В Одессе создается группа
махаевцев.
В чем была сущность ее программы. Она сводилась к трем
пунктам: 1) рабочему классу ненужно идеалов; 2) нужна эко-
номическая, революционно-террористическая борьба с капиталом;
и 3) интеллигенция — класс эксплоататорский, враждебный про-
летариату.
Члены махаевской группы, начавшие работу в Одессе, не
были сильны в теории, и выступления их часто носили харак-
тер кустарный; их очень легко и очень часто удавалось разбить
опытным ораторам социал-демократии. Но теперь спустя много
лет необходимо признать, что в этой группе было что то зна-
чительное,— не все в ее взглядах было вздорно, как казалось
тогда.
Конечно, нельзя утрировать принцип недоверия к интелли-
генции. Но последние два десятилетия русской истории, деся-
тилетия богатые надеждами и разочарованиями, показали, что
интеллигенция не всегда вела пролетариат по пути его классо-
вых интересов. Было бы гораздо здоровее для рабочего класса
России, если бы он больше слушался своего классового инстинкта.
Было бы здоровее для русского пролетариата, если бы в нем
была сильнее махаевская струнка, столь враждебная социал-
демократии.
1) Смотри прекрасную брошюру А. А. Борового. ..Либерализм
социализм, анархизм1'—изданную в 1905 г.
248
новомирский. д. и.
Группа махаевцев не пользовалась особенным успехом
среди одесских рабочих. Но она значительно, кажется, окрепла,
когда к ней примкнул приехавший тогда из Николаева Стрига
? (Владимир Лапидус). Это имя молодого энтузиаста, погибшего
1 в Париже в Венсенском лесу от взрыва собственной бомбы,
' стало теперь всероссийски известным. Талантливый юноша из
I еврейской буржуазной среды, он вносил всюду, где ни появлялся,
* пламя одушевления, буйную стихийность борьбы. Это была бес-
покойная натура, горевшая ненавистью к буржуазии и к тем,
что шли на помощь буржуазии. Он был по натуре махаевцем
и, конечно, был сильно обрадован, когда нашел группу махаевцен
в Одессе. Жизнь Стриги входит в одесское анархическое движение
лишь отчасти. Махаевская группа заметно оживилась с его прихо-
дом. Но Стрига не мог спасти группу от гибели. Махаевцы не могли
стать авангардом массового движения, так как вся их программа
была почти исключительно отрицательной. Здоровое экономи-
ческое содержание не могло дать ожидаемые плоды, так как
исторический момент был неблагоприятен для отвлечения рабо-
чего движения в сторону чистой экономики. Те самые причины,
которые загубили «экономизм», свели на нет зубатовщину,
нанесли смертельный удар и махаевщине. Политическая борьба
была исторически необходима и махаевцы своим отрицанием
политики сами себя поставили вне истории. После первого круп-
ного ареста группа махаевцев была ликвидирована и исчезла.
Однако, махаевцы исчезли не бесследно. Из махаевской
группы вылупилось ядро группы анархистов. Когда махаевцам
говорили, что они анархисты, они обижались, а через несколько
месяцев они стали открыто именовать себя анархистами-ком-
мунистами.
3.
Царская полиция с первой минуты появления анархизма
узнала в нем своего заклятого врага. На анархистов полиция
| обратила особое внимание, за ними установлена была особо
J суровая слежка.
30 сентября 1904 года на квартире одного рабочего соб-
! рались пять анархистов. Среди них был Сергей Борисов. Неожи-
i данно в комнату нагрянула полиция. Впереди ворвался около-
I дочный Янцеловский, крикнув: «Вот они!». Борисов немедленно-
выхватил револьвер и трижды в упор выстрелил в Янцеловского..
Борисов пытался бежать, но был задержан и полицейские свя-
зали ему руки. Во время обыска ему удалось развязать руки,
он хватает лежавший на кровати кинжал и бросается на шпиона,
руководившего обыском. Это новая попытка кончается новой
неудачей. Борисов обезоружен и отправлен в тюрьму.
16 марта 1905 года Борисова судила Одесская судебная,
палата. Его обвинили в покушении на убийство Янцеловского.
Это был первый громкий анархистский процесс в Одессе. Сергей
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ.
249
Борисов с достоинством держался на суде, начав собою славный
ряд молодых героев, отдавших свою жизнь за анархию.
Когда его спросили признает ли он себя виновным в по-
кушении на убийство, он ответил: «Я стрелял за неприкосноч
венность жилища и личности. Я на насилие ответил насилием.
Но я не признаю за вами права судить меня. Вы слуги и за-
щитники существующего строя. Вам место на скамье подсу-;
димых».
Его прервал председатель, но он продолжал в том же духе,
пока его не лишили слова. Суд приговорил его к 4 годам ка-
торжных работ, а он на приговор ответил: «Да здравствует
анархизм! Да здравствует братство, равенство и свобода»!
Анархисты ведут свою незаметную, но чрезвычайно важ-
ную работу пропаганды. Рабочие прислушиваются к ним все
более внимательно. Однако, анархисты в этот период не стали
еще достаточно близки к массам. Они еще слишком заняты,
часто отрицательной критикой социалистов. Это, между прочим,
видно из прокламации, которую они выпустили в ноябре 1904 г.
В ней нет конкретных требований. Анархизм рисуется слишком
обобщающим, слишком отвлеченным. Так, в прокламации мы
читаем:
«Надо ли нам слушать все их (социалистов) рассказы о
концентрации капитала и исторических законах, о том, что
буржуазия должна развиваться. А рабочие и босяки, умирая
с голода, должны валяться в ночлежках. Им до этого дела нет.
Пускай же их слушают те, которым хорошо живется и кто
может терпеть. Мы же, голодающие на фабриках и заводах,
на улицах и в гаванях терпеть больше не в силах. Слишком
дорого нам обходится их теория постепеновщины—терпеть, да
терпеть. Не будем же откладывать на разные «завтра», а нач-
нем сейчас же борьбу со всем ненавистным нам строем, с бур-
жуазией, нашими хозяевами, которые живут на наш счет, и ее
прислужниками попами, которые проповедуют нам смирение
и покорность, и с государством, которое посылает на нас войска,
сажает нас в тюрьмы, посылает на каторгу, когда мы заявляем
о наших требованиях и наших надеждах;—начнем борьбу на
жизнь и смерть, борьбу, которая должна окончиться полным
уничтожением наших врагов. Не борьбу, под которой подразу-
меваются мирные стачки и демонстрации, а вооруженные на-
падения на частную собственность и государство; частные рево-
люционные стачки, подготовляющие всеобщую стачку, сопро-
вождающуюся экспроприацией предметов производства и потре-
бления, стараясь вырвать у них все, что по праву принадлежит
нам».
Кто помнит конец 1904 года, — великого кануна нашей
первой русской революции, тот согласится, что не такие отвле-
ченные прокламации нужны были в то время. Не в ненависти
был тогда недостаток,- а в понимании и организованности.
250
новомирский, д. и.
Конец 1904 и начало 1905 года в Одессе ознаменован
целым рядом стачек, все более широких и все более бурных.
Бастовал^ матросы, портовые рабочие, булочники, набор-
щики, фотографы, прачки, сапожники, шапочники, приказчики.
Особенно упорно боролись булочники и мясники. На скотобой-
нях пришлось работать солдатам и казакам под сильной охра-
ной. Забастовка булочников развертывалась чрезвычайно дра-
матически.
Социал-демократы и эсеры были совершенно не в силах
справиться с движением. Они едва успевают обращаться с про-
кламациями к бастующим. Рабочие с большим вниманием слу-
шают анархистов, когда те находят время и возможность вме-
шиваться в стачку. Призыв к экономическому террору принимается
сочувственно, но вряд ли экономический террор был тогда
в интересах широких масс, организованных еще очень слабо.
Пропаганда анархистов, призывавших к экономическому террору,
тем не менее была ценна тем, что будила в массах боевые
инстинкты и тем готовила их к великим событиям великого
года.
Социалисты начинают бояться анархистской пропаганды.
Они отбирают оружие у своих боевиков, чтобы удержать их от
подражания анархистам.
Не дремлет и царская полиция. 20 апреля она делает на-
бег на квартиры анархистов и берет в плен 18 человек, Среди
арестованных—студент Владимир Окуджава, Герцфельд, С. Садов-
ский, Кирякова и др.
4.
13 мая; 1905 года неожиданно был арестован один из луч-
ших русских анархистов Лев Алешкер, которого во Франции
знают под именем А. Даля, как автора маленькой, но яркой
брошюрки «Documents socialistes» с предисловием известного
французского анархиста Малято. Возвращаясь из Николаева
в Одессу, Алешкер был опознан в порту шпионом Федором
Мазеповым. Алешкер успел выхватить револьвер системы «буль-
дог» и несколько раз выстрелил в Мазепова, но без всякого ре-
зультата. Он был доставлен в тюрьму и предан военно-окружному
суду, хотя в это время в городе не было военного положения. Сви-
детелями были исключительно городовой Терещенко и шпионы—
Мазепов и Чеботарев. Тем не менее военно-окружной суд при-
говорил его к смертной казни через позешение. Этот приговор
Алешкер встретил возгласом: «Долой вас всех, негодяев палачей.
Да, здравствует анархия!» Смертная казнь, однако, была заме-
нена ему в начале бессрочной каторгой, а потом, после мани-
феста 17 октября,—20 годами каторги. Алешкер был закован
в кандалы и отправлен в Акатуйские рудники.
В лице Алещкера анархистское движение имеет одного из
самых энергичных и самых умных работников. Это был вполне
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ.
251
образованный человек с прекрасной теоретической подготовкой.
Совершенно больной, после долгих голодных скитаний за гра-
ницей и после изнурительной работы в русском подполье, он
попадает в А кату й, но и здесь он не сдает оружия. Он продол-
жает борьбу не на жизнь, а на смерть с каторжным режимом.
В ответ на оскорбление надзирателя он ударяет его стеклянной
бутылкой, прекрасно зная, что этот ничтожный акт протеста
будет стоить ему жизни.
В ожидании суда и неизбежной смертной казни, он пишет
исповедь под заглавием: «На пороге смерти». Этот документ,
несмотря на некоторую рисовку автора, отражает его большой
ум и яркий идеализм. «Я вижу, говорит он, издали предстоящую
народную борьбу, хотя знаю, что не доживу до ее появления.
Время слишком давит. Борьба неминуема, но она еще не так
скоро завершится победой, ибо последняя наступит лишь тогда,
когда борцы пошлют к черту власть и бедность. Эти две язвы
должны быть уничтожены, а не только изменены их формы.
Видеть счастье в перемене хозяев нелепо. Пока существует на-
дежда на доброго начальника, освобождение не может осуще-
ствиться. Задача человека быть самим собой. Это
значит проявлять себя в жизни и охранять себя от всяких
опасностей». Именно, исходя из этого убеждения Алешкер
считал необходимым всегда быть на страже своего лич-
ного достоинства и всюду на угнетение отвечать отпо-
ром, на насилие—насилием.
В этой исповеди есть много прекрасных мест, рисующих
нам душевный строй анархиста-борца. Есть места, которые
достойны стать эпиграфом всей нашей борьбы за анархию. Вот
его слова: «Рабство, бедность, слабость и глупость—вечные оковы
человека — будут разбиты. Человек будет центром природы.
Земля и ее продукты будут каждому покорно служить. Оружием
перестанет быть признаком силы, золото—признаком богатства,
силен будет отважный и смелый в борьбе за завоевание новых
благ у природы, а богач—тот, кто полезнее. Такой мир назы-
вается «Анархией». В нем никакие замки не будут повешены
на жизнь рабами и господами, там им нет места. Жизнь от-
крыта всем. Каждый берет ее, сколько хочет — вот наш идеал
безначалия. При его осуществлении люди будут жить разумно
и прекрасно. Вся масса должна принимать участие
в построении рая на земле».
5.
В средине 1905 года во всей России чувствовалось, как
назревали крупные события. 9 января словно громом разбудило
самые широкие слои рабочих. Одесса, уже давно охваченная
стачечной лихарадкой, принимает еще более грозный вид. На-
зревает грандиозная всеобщая забастовка. Одесская полиция
252
Н0В0МИРСКИЙ, д. и.
безумствует: идут аресты за арестами, которые, однако, бес-
сильны остановить растущую волну революционного возбу-
ждения х).
13 июня забастовали заводы рабочего преместия Пересыпи.
10.000 рабочих как-то сразу бросили работу. Когда появились
казаки, рабочие стали забрасывать их камнями. Казачий есаул
ранен. Вызываются войска, которые немедленно открывают
стрельбу. Выстрелы и убийства не только не остановили дви-
жения, но ускорили его. Теперь бастует вся Одесса. Закрыва-
ются магазины, лавки, мастерские. Толпы бастующих ходят по
городу и всюду снимают рабочих и служащих с работы. Трам-
ваи прекратили движение.
В это время анархисты делают несколько удачных терро-
ристических выступлений. Арестованных зверски избивают, но
среди полиции начинается паника.
В Одессе в этот момент было сравнительно мало войска:
в уезде были серьезные крестьянские волнения и туда напра-
влены были значительные части гарнизона. Солдаты морского
батальона, а также карантинная стража заявили, что они ни
в коем случае стрелять в народ не будут. Если я не ошибаюсь,
это первое открытое заявление о братании армии с бастующим
народом. В пододесском селении.Севериновке восстали крестьяне.
Пришедшая на усмирение рота солдат была окружена крестья-
нами и обезоружена.
Вечером, 14 июня, анархисты бросили бомбу в полицей-
ский патруль. Один городовой был разорван осколками бомбы
в куски, другой тяжело ранен. Был ранен также помощник
пристава. Один из бомбистов был сам смертельно ранен, дру-
гой скрылся. Этот террористический акт анархистов вызвал
в городе чрезвычайный под‘ем настроения.
На другой день в порт прибыл броненосец «Потемкин»
и развернулись события, которые знает вся Россия. Анархисты
принимали живейшее участие в потемкинских событиях. К со-
жалению, общий грех анархического движения — неорганизован-
ность помешал анархистам сыграть ту руководящую роль, на
которую их назначила история. Известно, что впоследствии
многие потемкинцы стали анархистами. Правда, социал-демо-
краты и эсеры оказались столь же мало подготовленными.
3 Во время одного из набегов полиция попадает в квартиру
Шампенуа, французского гражданина. Так как для анархистов, оче-
видно, не существует законов, полиция жестоко избивает Шампенуа.
18-летний рабочий, Дубинский, возмущенный грубостью пристава Оль-
шевского, производившего обыск, пытается стрелять, в него, но не-
удачно. Дубинский предается Одесскому военно-полевому суду. В ка-
честве свидетеля, суд вызывает, между прочим, студента Владимира Окуд-
жава, недавно освобожденного из тюрьмы. Хотя факт насилия пристава
над Шампенуа был совершенно установлен, суд приговаривает Дубин-
ского, несмотря на его несовершеннолетие, к смертной казни. Но поли-
ция, суд и палачи не могут остановить колеса революции.
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ.
253
6.
Не стану описывать подробно ход событий в эти истори-
ческие дни. Вот что пишет один из участников событий о ра-
боте анархистов х).
«Погромы явились ответом на манифест. Когда народ узнал
о манифесте—все высыпали на улицу, бросились к националь-
ным флагам и принялись срывать национальные цвета, оставляя
только красные. С такими флагами толпа целый день расхажи-
вала по улице с радостными криками: «Да здравствует свобода»!
Это был настоящий народный праздник. Многие братались с сол-
датами. Народ так увлекся своим праздником, что совершенно
не заметил( что моментально полиция исчезла со своих постов
и мобилизовала свою черную сотню. Везде, где отсутствовали
войска, самооборона отлично справилась с хулиганами и про-
гнала их. Но через два или три дня начальство прислало им на
подмогу казаков и солдат, и тогда началась страшная резня
на Калантаевской, Картомышенской, Средней, Мясоедовской ули-
цах..., где ютится вся еврейская беднота — рабочие и мелкие
ремесленники. Все разбито, разграблено. Тайная и явная по-
лиция вдохновляла и подогревала хулиганов —босяков к зверским
убийствам, говоря им: «Жиды хотят уничтожить нашу право-
славную веру и поставить своего царя жида. Бей жидов».
В участках черную сотню кормили обедами, поили водкой, снаб-
жали флагами и оттуда направляли в город громить. В числе
жертв погрома пал и наш товарищ «Яша Портной». На углу
Пушкинской и Греческой на него напала толпа хулиганов, шед-
шая со знаменем и портретом царя. Он бросил бомбу, которая
убила и ранила несколько человек. За ним погнались, он ^отел
бросить другую бомбу, но в это время поскользнулся и упал
Разорвавшаяся бомба оторвала ему руку и ушибла грудь. Он
умер почти моментально, не приходя в сознание. Еще две бом-
бы брошены нашими товарищами: одна на углу Екатерининской
и Старо-Резничной, другая — на углу Старо-Резничной и Алек-
сандровской. Первая разорвалась, не причинив никому вреда.
Вторая ранила несколько человек. Это навело на черносотенцев
такой страх, что они больше не пытались пройти в город в этом
пункте».
Это обстоятельство подтверждается наблюдениями, сделан-
ными во многих местах—в Белостоке Екатеринославе и всюду,
где анархизм приобретал серьезное влияние: полиция и даже
войска с животным страхом обходили районы, в которых по слу-
хам жили анархисты.
«Потемкинские дни» и октябрьские события сделали анар-
хистов известными в городе: о них стали серьезно говорить.
Но было бы чрезвычайно легкомысленно думать, что в этой
1) „Хлеб и Воля" за 1905 г. № 24 стр. 8.
254
НОВОМИРСКИИ, д. и.
славе было много положительного. Об анархистах в рабочих
кругах создали себе представление, как о бомбистах, способных
на отчаянные террористические акты, но не совсем чистых на
руку. Может казаться диким, но это факт: анархистов смеши-
вали с погромщиками и черносотенцами.
7.
В ноябре месяце я приехал в Одессу из Парижа, где при-
ступил к изданию журнала «Новый мир»,—первого анархистского
журнала, который на своем заголовке носил надпись—«орган
анархистов-синдикалистов». Кстати, скажу это название в то
время возбуждало не только недоверие, но и насмешки в рус-
ской анархической среде. Издав первый номер летом 1905 года,
я решил перенести издание в Россию, как только до Парижа
дошла весть об октябрьских событиях.
Когда я приехал в Одессу—еще всюду были следы потем-
кинских боев и октябрьских погромов. В рабочей и студенче-
ской среде, однако, еще сильно чувствовалось революционное
настроение. Аудитории университета были переполнены рабо-
чими и интеллигентами. Шли митинги, на которых выступали
представители всех партий и всех течений.
Моим пожеланием было войти немедленно в соглашение
с местной группой анархистов-коммунистов и попытаться рабо
тать вместе. Состоялся ряд совещаний, которые ни к чему не
привели. В группе тон задавал, если я не ошибаюсь, Густав
Эрделевский и Лазарь Гершкович. Гершкович считался хлебо-
вольцем, но мало отличался от остальных — чернознаменцев и
безначальцев.
Группа произвела на меня неприятное впечатление своей
политической малограмотностью и чрезвычайным легкомыслием.
С этими людьми мне нечего было делать. Мы разошлись
со словами: «Нас рассудит история».
Через несколько дней после нашего разрыва ко мне нео-
жиданно явилась делегатка группы с просьбой выступить на
митинге, организуемом группою. Когда я ответил, что нам вы-
ступать совместно нет никакого смысла, в виду наших серьез-
ных разногласий, она от имени группы заверила меня, что эти
разногласия для внешнего мира не существенны и во всяком
случае ораторы группы будут считаться' со мною и не вступят
ни в коем случае в полемику. Я отказался наотрез. Но когда
ко мне прислали другого делегата, я счел неудобным упорство-
вать и дал согласие на следующем условии: первым выступит
оратор группы, и если я найду возможным, я выступлю вслед
за ним.
Когда я пришел в университет, аудитория, в которой был
назначен митинг, была настолько переполнена, что собрание
пришлось перенести в более обширное помещение — в так на-
зываемую мертвецкую. Митинг открыл, кажется, Эрделевский
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ. 255
и каково было мое удивление, когда он заявил собранию, что
с первым докладом выступит Новомирский. Это было наруше-
нием нашего уговора, но я снова уступил самым настойчивым
и льстивым просьбам.
Когда я набросал общий очерк наших воззрений на капи-
тализм и государство и на способы борьбы с существующим
строем, из толпы стали раздаваться одобрительные возгласы.
Один молодой студент спросил меня: «Неужели у анархистов
есть мировоззрение. А я думал, что это разновидность погром-
щиков». И этот наивный возглас студента поддержали многие
рабочие. В толпе слышались восклицания: «Если это анархизм,
то я хочу быть анархистом». Между мною и публикой завязался
оживленный разговор: меня стали просить указать литературу, .
засыпали вопросами.
Невероятно, но это безусловный факт: как раз в это
время, когда аудитория стала с величайшим напряжением меня
слушать и всеми способами выражала мне свое сочувствие, ко
мне подошел член группы и сказал: «Кончайте, товарищ, кон-
чайте». Полагая, что я слишком затянул свой доклад и лишаю
возможности выступить другим ораторам, я скомкал свои по-
следние фразы и уступил свое место на трибуне. На трибуну
вскочил Лазарь Гершкович и сразу завопил истерическим голо-
сом: «Товарищи, то что говорил Новомирский это его собствен- о
ный взгляд. Он не уполномочен говорить от имени группы. I
Анархисты-коммунисты резко расходятся с ним, мы говорим \
рабочим: «Режь, грабь, бей. Не надо никаких союзов, никаких
организаций: «Грабь, режь, бей». И захлебываясь собственными '
словами, он несколько раз с каким то изуверством повторял i
слова: «Грабь, режь...» В зале раздался настоящий хохот. Над
ним буквально издевались. Это предательское выступление
надолго отбило у меня малейшую охоту вступать в какие бы то
ни было отношения с той публикой, которая прикрывалась чер-
нознаменством.
Я решил действовать отныне совершенно самостоятельно.
Это было не легко. Против меня были не только социалистиче-
ские партии, имевшие за собой долголетнюю историю, но и анар-
хисты. Без всяких средств, без малейшей помощи не легко было
создать организацию. Но мне не мало помогли мои старые связи
здесь в этом городе, где будучи большевиком, в течение несколь-
ких лет, я вел массовую агитацию во время подполья. Я нап-
равил свои усилия на тот район, где некогда работал в каче-
стве организатора: на Пересыпь и каменоломни. Рабочие встре-
чали меня крайне дружелюбно. Рабочие каменоломщики мне
наивно сказали: «Как вы, Данила, так и мы».
Чтобы не смешивали нашей зарождающейся организации
с местной группой, анархистов-коммунистов, я предложил име-
новать ее «Союз коммунистов». От имени союза была выпу-
щена прокламация с изложением основных пунктов программы.
256
новомирский, д. и.
Моя задача в этот момент не столько сводилась к пропа-
ганде или агитации, сколько к созданию прочных связей с рабо-
чей массой. С этой целью я принимал деятельное участие
в организации различных профсоюзов.
В то время, когда маленький «союз коммунистов» надры-
вался над своей организационной работой и строил медленно,
но прочно массовую рабочую организацию под знаменем анар-
хизма, местная группа «анархистов-коммунистов» сосредоточила
всю свою волю на чисто террористической работе, незначи-
тельной по размерам и незначительной по результатам. В конце
1905 года осенью полиция нагрянула на квартиру Гершковича,
где оказалась вполне оборудованная лаборатория. От неосто-
рожного обращения с огнем произошел взрыв, которым убиты
и ранены были 8 полицейских. Гершкович был арестован и су-
дился в январе 1906 года, когда и был приговорен к 8 годам
каторжных работ. Этот арест лишил группу самого культурного
работника и она совершенно развалилась.
17 декабря группа чернознаменцев, главным образом при-
езжих из Белостока, организовала террористический акт, на-
долго сокрушивший влияние анархистов-коммунистов в Одессе.
Это знаменитое нападение на кафе Либмана. Чернознаменцы
думали дать один из образцовых актов «безмотивного» террора.
: Нельзя было придумать более неудачного акта для пропаганды
этой теории. Кафе Либмана—второклассный ресторан, который
посещали отнюдь не крупные богачи, а люди самых различных
классов, вплоть до мелких служащих и захудалых интелли-
: тентов. Кроме того и самый акт был исполнен чрезвычайно
i неудачно: бомбу бросили на улице и она, конечно, ничего кроме
шума не произвела.
Рабочие с недоумением спрашивали друг друга: «Что озна-
чает это швыряние бомб в обыкновенный ресторан». Никто не
верил, что это дело революционеров. Я лично был в толпе,
собравшейся после взрыва, и слышал, что говорили рабочие:
«Неужели теперь революционерам нечего делать, как только
бросать бомбы в рестораны? Разве царское правительство
свергнуто, разве власть буржуазии уничтожена? Наверное
бомбу бросили черносотенцы, чтобы дискредитировать рево-
люционеров».
Известно, что это предприятие обошлось очень дорого
анархистам-коммунистам. Шерешевский, Брунштейн и Мец при-
говорены были к смертной казни, Ольга Таратута к 17 годам
каторги. Было грустно думать, что за такое дело были поне-
сены такие большие жертвы.
Конец 1905 года был тяжелым для всего революционного
движения России. Декабрьское восстание в Москве и в ряде
других мест было подавлено. Несмотря на это в Одессе также
готовилось восстание, хотя Совет Рабочих Депутатов был против.
Шли переговоры с военными организациями.
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ 257
Мне лично пришлось иметь дело с группой военно-морских
инженеров: офицеры уверяли меня, что, если действовать уве-
ренно и решительно, войска перейдут на нашу сторону. Но
очень скоро выяснилось, что в городе нет ни одной достаточно
сильной организации, которая могла бы взять на себя инициа-
тиву. Мы могли только расчитывать на крупную вооруженную
манифестацию, не более. Настроение среди солдат упало, рабо-
чая молодежь также охладела к идее восстания и дело рухнуло.
Полиция в это время оправилась от своей паники и от-
крыла поход против недавно возникших рабочих союзов и ле-
гальных организаций. Начались аресты. Только что родившийся
«союз коммунистов» стал распадаться за полным отсутствием
материальных средств и опытных организаторов. Я вынужден
был временно выехать за границу.
8.
Когда я говорю, что чернознаменцы и безначальцы загубили
русское анархистское движение, я отнюдь не руковожусь фрак-
ционной ненавистью. Нет, в результате очень печального опыта
у меня сложилось убеждение, что безначальцы и чернознаменцы
в сущности отпрыски чисто буржуазного либерализма: это взбе-
сившиеся либералы. Их мнимый «коммунизм» чисто буржуазный
индивидуализм, а их терроризм—ненасытная мстительность оби-
женных судьбой людей. Оттого на устах носителей этого течения
всегда горит слово «ненависть». Чернознаменцы и безначальцы
гордилйсь своей ненавистью к буржуазии. В «Черном Знамени»,
«Бунтаре» и «Анархисте» мы на каждом шагу встречаем это
дикое сочетание' «святая ненависть». Что может быть святого г
в ненависти, которая в лучшем случае неизбежна и необходима,
но ни в коем случае не достойна поклонения. На ненависти [
нельзя ничего построить: это закон жизни. Ненависть ’
отталкивает, ненависть разрушает, но увлекать, об'единять и i
вести на великое дело можно только под знаменем великого,
обобщающего и в даль ведущего чувства. Такова любовь к классу I
или человечеству, такова гуманность.
Но и хлебовольчество никогда меня не удовлетворяло. Меня
отталкивала его народническая сентиментальность, как я уже
имел случай сказать в предисловии к книге «Из программы
синдикального анархизма». Хлебовольчество всегда отдавало
филантропией. Это не политическое учение, не политическая
программа, а скорее какая-то система социальной морали. В хле-
бовольчестве не было того, без чего я не мыслю политического
движения: не.было строго социалистического анализа и кон-
кретной, деловой программы, построенной на данных этого
анализа.
Оттого на опыте работы «союза коммунистов» я пришел
к выводу, что необходимо предварительно создать небольшой,
но солидный подготовительный кадр работников, которые могли
17
Очерки.
258
НОВОМИРСКИЙ, д. и.
бы взять на себя ответственную работу, работу организации
нового течения в русском анархизме, который я первый назвал
«анархо-синдикализмом», в отличие от анархо-коммунизма. .
В конце 1905 года, ускользнув из рук шпионов, следивших
за мною по пятам, я выехал за границу в Америку. Без боль-
шого труда мне удалось в Нью-Йорке создать группу, которая
приняла название «Новый мир». В группу вошли, между прочим
Д. Левенбук, Эндрюс, Шамраевский и др.
Группа «Новый мир» вся решила ехать в Россию при первой
возможности. Сигнал к от‘езду нам подало восстание матросов
в Свеаборге, которое показалось нам второй волной революции
в России. Такова же была мысль матроса Матюшенки, который
в то время был в Нью-Йорке. Мы разработали общий план дей-
ствия. Матюшенко должен был предварительно заехать в Париж,
но мы условились с ним встретиться в Одессе или в Севасто-
поле. События сложились, увы, не «так, как мы рассчитывали.
9.
Коней 1905 и начало 1906 годов ознаменовались в Одессе
целым рядом экспроприаций и так называемых «мандатов», т.-е.
письменных приказаний, адресованных частным лицам—торгов-
цам, врачам, адвокатам—об уплате известных сумм под угрозой
смерти. Постепенно волна мандатов так широко разлилась, что
казалось, совершенно потопила анархистское движение. Под
флагом анархизма многочисленные группы грабителей и мошен-
ников стали фабриковать мандаты и вымогать ‘деньги.
Случалось, что одному и тому же лицу направляли мандат
различные группы, и тогда каждая из них уверяла, что именно
она представляет идейный анархизм. Одна группа устанавливала
засаду против другой и между ними часто устраивались пере-
стрелки. Нетрудно понять, какой моральный ущерб это наносило
престижу анархизма. И все-таки, интерес к идейному анархизму
в рабочих массах разростался.
Весна 1906 года была особенно богата террористическими
актами анархистов. Как раз в тот момент, когда местная эсе-
ровская организация чрезвычайно ослабла и впала в полную
апатию, анархисты произвели ряд политических убйств. Анар-
хистами убит известный палач пристав Погребной, брошена
бомба в надзирателя Полтавченко, его главного сподвижника.
Сделано покушение на известного охранника Лопату, убит целый
ряд шпионов и т. д. Анархисты произвели взрыв жандармского
управления, произведший сильное впечатление на население
города. Анархическое движение достигло апогея, когда вновь вспых-
нуло стачечное движение. Стачечники наперерыв обращались
к анархистам с просьбой послать своих агитаторов и руково-
дителей. Рабочие с . жадностью слушали анархическую про-
поведь. В местной группе особенно выделился тогда И. Покотилов,
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ
259
молодой рабочий-портной, с пламенным энтузиазмом звавший
рабочих к светлому царству анархии. Поколотилов не был ора-
тором, но его речи были так искренни и убедительны, что ра-
бочие не уставали его слушать.
В мае месяце вспыхнула забастовка печатников. Рабочие
требовали 8-ми часового рабочего дня, изменения расценки и
некоторых других мелочей. В ряде маленьких типографий хо-
зяева уступали. Но крупные типографии были в то время об’е-
динены в трест под названием «Южно-русское акционерное
общество печатного дела». Во главе общества стоял директор
Кирхнер, считавший себя «левым кадетом», чуть ли не социа-
листом. Он собственно ничего не имел против требований ра-
бочих, но его возмущала дерзость: «Если бы рабочие просили,
а не требовали, я уступил бы. Я не признаю за рабочими права
требовать». И он не уступал.
Не уступали и рабочие. Борьба завела борющихся в тупик.
Вывести из тупика могла только героическая рука и эта рука
нашлась. 1 июня, в 5 часов дня, Покотилов встретил Кирхнера
на улице и выстрелом из браунинга убил его. Этот акт не был
делом мести, а актом самопожертвования.
Беспрерывно стреляя в полицейских, гнавшихся за ним по
пятам, он ранил многих и, вероятно, скрылся бы, если бы не
несчастная случайность. Один рабочий-грузчик, не поняв в чем
дело, напал на Покотилова сзади и выдал его полиции. Когда
этот рабочий впоследствии из газет узнал, кого он выдал по-
лиции, он покончил самоубийством.
Выстрел Покотилова решил судьбу забастовки. «Общество
печатного дела» немедленно уступило по всем пунктам. Рабочие
'с восторгом говорили о героическом акте. Группа анархистов-
коммунистов немедленно заняла силой типографию и отпечатала
прокламацию, в которой об‘ясняла смысл убийства Кирхнера.
Трогательно было отношение к Покотилову со стороны рабочих:
на другой день после его ареста стачечники послали ему в тюрьму
букет цветов.
13 сентября военно-окружной суд судил его и признал ви-
новным по 279 статье свода военных постановлений. Хотя суд
нашел смягчающие вину обстоятельства и постановил ходатай-
ствовать о смягчении участи подсудимого, командующий войсками
постановил привести приговор немедленно в исполнение. В ста-
ринной крепости Александровского парка, что близ моря, Поко-
тилов был повешен.
Еще Покотилов не успел сойти в могилу, как одесские
палачи получили новую жертву. Анархист Евгений Тарло, встре-
тившись на улице со шпиками и полицейскими, пытавшимися
его арестовать, оказал вооруженное сопротивление. В течение
долгого времени за ним гнались неприятели, Тарло мужественно
отстреливался. Он вскочил на извозчика и заставил его гнать
лошадь. Но так как его настигали он соскочил на ходу с дрожек
17*
260
НОВОМИРСКИЙ, д. и.
i и вскочил в автомобиль, но шофер ударил его в висок, и Тарло
I потерял сознание. Он был арестован, весь изрешетенный пулями
' и предан военно-полевому суду, который приговорил его к рас-
стрелу, так как в то время не оказалось палача. 7 сентября
его полуживого вынесли на тюремный двор и на виду у аре-
стантов расстреляли.
Любопытно, что в тюрьме стали рыть могилу еще до суда.
Едва произнесли приговор, как через два часа его вынесли на
казнь. Говорят, что его мужество глубоко тронуло офицера рас-
поряжавшегося казнью, а из солдат многие стреляли в воздух.
Перед тем, как дать сигнал «пли», офицер нагнулся к Тарло и
спросил его, что передать на волю, Истекающий кровью Тарло
’прошептан: «Передайте, что на воле остались люди, браунинги и
1бомбы». Его смерть вызвала стихотворение «Константина Чер-
ного»—«К казни Тарло» *). Автор его Константин Тодоров,
*) Его несли сомкнутыми рядами,
Солдаты шли за ним и впереди,
I А он лежал, влачимый палачами,
I Бессильно голову покоя на груди.
. И взоры всех прикованы к нему,
С тюрьмы друзья глазами провожали,
Последнюю кровавую стопу
И свой привет прощальный посылали.
Вот столб стоит и яма роковая,
И связан он на плахе недвижим.
Ряды штыков в лучах зари играя.
Руками рабскими поднялись перед ним.
Еще лишь миг... безмолвие кругом...
Ужасный миг немого ожиданья,
Какая мысль мелькнула в нем?
Какое страстное желание? \
Быть может, он былое вспоминал.
V Скорбел о скорби матери любимой,
Иль, гордый, как всегда, он мести лишь искал.
I И к ней друзей по делу призывал.
: Но слышен свист, и залп раздался
! За ним другой и третий... Стихло все.
И пулями к столбу прикованным остался
Лишь только труп, кровавый Труп его-
В могилу мрачную рукою загрубелой
Палач толкнул истерзанное тело
И бледные взволнованные мы
В бессильной ярости за казнью наблюдали
И стоном вырвалось из мрачных стен тюрьмы:
Убийцы Палачи!Зачем его терзали!
И снова тишина. Пустынный двор широкий,
И столб стоит—кровавый, одинокий.
Константин Черный.
Одесская тюрьма.
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ 261
молодой болгарский анархист, также принимавший видное уча-
стие в террористической работе одесских анархистов, и осужден-
ный по малолетству (ему было 16 лет при аресте) на 8 лет
тюрьмы. Впоследствии Костя Тодоров, освобожденный по амни-
стии, принял видное участие в общественной жизни Болгарии.
Он отошел от анархизма и стал одним из видных вождей бол-
гарского «Земледельческого союза». После убийства Стамбуль-
ского, он вместе с Обовым руководил всеми действиями кресть-
янской партии. В 1906 году это был молодой чрезвычайно
искренний и чрезвычайно преданный анархизму юноша.
10.
В сентябре месяце я приехал в Одессу вместе с несколь-
кими товарищами по группе «Новый мир». Чернознаменская-
группа развивала в то время уже довольно энергичную работу
и имела прочные связи среди рабочих, преимущественно среди
еврейских ремесленников. Почему-то выходило так, что среди
фабричных рабочих, а также и среди матросов и портовых
рабочих чернознаменцы не вели работы.
Снова, как и год тому назад, я попробовал столковаться с
чернознаменцами. На этот раз особенно соблазнительно было /
то, что в Одессе был Иуда Гроссман-Рощин, крупнейший тео-
ретик этого течения. Во всяком случае, я не считал возможным ‘
отказаться от дискуссии, когда ее предложил Рощин.
На Молдаванке в полупустой квартире рабочего было
устроено многолюдное собрание, на которое пришли все актив-
ные работники чернознаменской группы. Мне было предложено
изложить программу анархо-синдикализма. Вслед за мной вы-
ступил Иуда Рощин. За мою программу голосовало только три
человека: я и два товарища, приехавшие со мной из Америки.
Конечно, результат этого голосования не мог изменить
план моей будущей работы. Первым шагом послужил доклад,
прочитанный мною в большой аудитории медицинского факуль-
тета. Моими оппонентами были главным образом социал-демо-
краты, и было странно видеть с каким недружелюбием огром-
ная аудитория встречала ораторов самой популярной в городе
организации, работавшей там в течение 15 лет.
Первый публичный доклад послужил и первым камнем для
постройки организации, которая через два месяца стала самой
могущественной революционной группой в городе. После доклада
и прений ко мне подошел пожилой человек в очках, который
оказался инженером-технологом, носившим польскую фамилию,
которую я забыл. Он спросил меня, не угодно ли будет мне
зайти к нему поговорить о ряде вопросов, связанных с докладом,
только что прочитанном мною. Я выразил свое согласие, не-
смотря на необычность и на неконспиративность такого пред-
ложения. Во время моего разговора с инженером ко мне подошли
262
НОВОМ РСК и й, д. и.
также несколько рабочих, и просили уделить им несколько
времени. Они назвали себя социалистами-максималистами. Но
тут же добавили, что мой доклад раскрыл им много недочетов
в их политических воззрениях, и они были бы очень благодарны,
если бы я согласился в более тесном кружке изложить более
подробно свои взгляды. Я и на это согласился.
! Через несколько дней эти товарищи, из которых один
' оказался И. Робинзоном, а другой Имасом («Иван Иванович»),
созвали собрание, на котором присутствовало человек 15 макси-
малистов. Изложенная мною программа была ими принята еди-
ногласно, и они просили меня об'явить это собрание учредитель-
ным. Так как в наш план входило охватить работой не только
Одессу, но и окружающие районы, то мы нашу организацию
назвали «Южно-русской группой анархистов-синдикалистов».
В течение нескольких недель устраивались собрания в са-
мых различных концах города, и ежедневно целые группы эсе-
ров, максималистов и даже эсдеков входили в состав Южно-
русской группы. Через месяц организация была настолько мно-
голюдной, что назрела необходимость выработки более или
менее строгого устава.
На общем собрании всей организации был принят мой
проект, на основе которого, каждая составная группа пользуется
широкой автономией в деле пропаганды и агитации, но всеми
делами организации управляет «организационная комиссия», со-
стоящая из представителей всех автономных групп. Делегат
в организационную комиссию выбирается единогласно. В случае
разногласий внутри автономной группы в организационную ко-
миссию посылаются два делегата от большинства и от меньшин-
ства. Эта организационная комиссия решает все вопросы боль-
шинством голосов.
Рядом с автономными группами, но в строгой конспирации,
существует боевая дружина, представитель которой входит в
состав организационной комиссии. В течение всего периода
существования «южно-русской группы» представителем боевой
дружины в организационной комиссии был я, так как не хоте-
лось расконспирировать наших боевиков, а мое имя было
и без того всем известно. В нашей боевой дружине было не
больше 35 человек в самый расцвет ее силы. 06‘ясняется это
тем, что мы с чрезвычайным разбором принимали в состав
дружины. .
В группе сразу выдвинулись на первое место, как органи-
: заторы И. Робинзон и Д. Левенбук, приехавший также из
J Америки, а как боевики Порфирий Сулеймовский и Александр
^Задорожный.
Задорожный вступил в организацию при следующих об-
стоятельствах. У нас шло заседание организационной комиссии.
Присутствовало 26 человек. Неожиданно открывается дверь и в
маленькую комнатку, наполненную людьми и дымом, вваливается
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ 263
целая банда здоровых моряков. Оказывается, что кто-то из
членов оргкомиссии сказал по секрету Александру Задорож-
ному, одному из видных моряков, что на Молдаванке происхо-
дит собрание анархистов-синдикалистов. Он долго не сумняшеся,
взял всю боевую группу моряков эсеров и двинул ее к нам с
тем, чтобы коллективно войти в состав нашей организации.
Несмотря на странность такого стремительного выступления,
организационная комиссия решила принять моряков.
В этот вечер мне пришлось пойти домой с собрания
вместе с Задорожным, который рассказал мне всю свою жизнь.
Меня глубоко взволновал тогда этот молодой моряк из довольно
интеллигентной среды. Он рано бросил семью, чтобы уйти в море
и искать приключений. Эсеры привлекли его в свою организацию,
но ему там стало тесно и вот, услышав об анархистах, он за-
жегся какой-то мистической страстью к анархизму. Идя рядом
со мной, этот высокий, красивый моряк говорил мне дрожащим
голосом: «Если вы меня не примете в организацию, я застрелюсь.
Мне жить не за чем. Жить я понимаю — это делать какое то
дело. Ради анархизма стоит жить». И его дальнейшая жизнь
оправдала его слова. Его преданность была безгранична.
Порфирий Сулеймовский был менее интеллигентен, чем
Задорожный. Сын капитана, он ушел в море против воли отца,
не желая учиться. В нашей боевой дружине это был самый
спокойный, самый выдержанный боевик.
11.
Инженер поляк, обратившийся ко мне на митинге, оказался
заведующим южно-областной лабораторией партии соц- револю-
ционеров. Когда мы с ним разговорились, он предложил мне
снабжать нашу организацию бомбами... из лаборатории эсеров.
Это было очень ценное предложение, так как создание собствен-
ной лаборатории было делом не только чрезвычайно трудным,
но и дорогим, а у нас, конечно, не было тогда никаких мате-
риальных средств.
Он же познакомил меня с техником, тоже поляком, по
фамилии Козловским, известным под кличкой «Кэк». (Если не
ошибаюсь, эту кличку получил он за любовь к танцу кэк-уок,
который он часто танцевал с женой в лаборатории, с бомбами
в руках). Козловский маленький, худенький и шустрый человек
оказался исключительно способным техником, любящим свое
дело до самозабвения. Он служил в личной канцелярии коман-
дующего войсками Каульбарса, который очень доверял ему.
В помещении Каульбарса Козловский и устроил склад бомб.
Здесь он, чтобы испробовать свойства изобретенных им запалов,
бросал бомбы с кровати на кровать, играя ими с женою, как
мячами. Козловский оказал неоценимые услуги нашей органи-
зации.
264 .
Н О В О М И Р с к и й, д. и.
Таким образом, в течение двух месяцев южно русская
группа анархистов-синдикалистов выросла в солидную обще-
ственную силу, имея собственную лабораторию, боевую дружину
и что важнее всего—широчайшие связи с рабочей средой.
Успех анархо синдикалистов был настолько разителен, что
вызывал всеобщее удивление не только среди социалистов, но
и среди черно знаменцев.
Рощин как-то сострил в моем присутствии: «Я уверен,
что бог, если он только существует, наверное синдикалист».
Когда его окружающие с недоумением спросили: «Почему?», он
с горечью ответил: «Иначе Новомирский не мог бы пользоваться
таким успехом».
Конечно, успехи нашей организации об'яснялись гораздо
менее мистическими причинами. Сущность всей нашей работы
состояла в том, что мы не расстрачивали своих сил на вспышко—
пускательство. Мы не тратили драгоценных жизней на мандаты,
или грабежи, но мы сосредоточили всю свою волю и всю свою
энергию на организации рабочих.
В ноябре месяце мы опубликовали «программу анархо-
синдикалистов». Это, насколько мне известно, первый случай
попытки краткой, научной формулировки основных принципов
нашего мировоззрения и нашей политики. Каковы бы ни были
недостатки этого первого наброска, он оказал влияние на наше
движение. И наша организация стремительно росла. Кружки,
группы и целые районные организации других партий заявляли
о своем желании войти в нашу организацию. Получив заявление,
мы послали делегата, который подробно излагал и комментиро-
вал им нашу программу. И если после этого группа заявляла о
своем твердом желании войти в нашу организацию, она прини-
малась и сейчас же избирала своего делегата в организацион-
ную комиссию. Не из отдельных личностей, не маленькими ка-
мешками, так сказать, строилось здание «Южно-Русской
Группы», а словно глыбами, большими нетесанными камнями.
Ко времени напечатания нашей программы в организации нашей
числилось около 5.000 членов, но сфера влияния ее была, конечно,
значительно обширнее. К тому времени мы были самой сильной
и самой популярной организацией в городе1).
Было, однако, одно обстоятельство, мешавшее нам раз-
вернуть работу: это отсутствие материальных средств. В это
время бдин из боевиков социалистов-революционеров, А. Д. За-
фириди предложил нашей организации принять участие в орга-
, низуемом им нападении на «Петербургский Международный
i Банк». У Зафириди был подробно разработан план, для про-
ведения которого нужно было всего 6 человек. Мы согласились
Ч «Хлеб и Воля» отнеслась очень сочувственно к нашей попытке
См. № 5 от 27 декабря 1906 года, стр. 9.
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ 265
делегировать двух боевиков: Петю и Сеню (фамилий их не
помню); оба были портовыми рабочими, из босяков.
Экспроприация в «Петербургском Международном Банке»
произвела большой шум, так как произведена была с большим
искусством, но нам она стоила дорого: мы на ,ней потеряли
товарища. •
Цело было так: согласно плану, один из участников должен
был занять пост в отдаленной комнате у телефона. Этот пост
выпал на долю Пети. Зафириди (его кличка была «Митрич»)
конфисковал деньги без малейшей тревоги, так как кассир и
все служащие охотно подчинились приказанию людей, держав-
шихся корректно и заявивших, что пришли «конфисковать
деньги в пользу русской революции». Всех служащих и слу-
чайных посетителей собрали в кладовую и заперли. Затем все
вышли из банка по очереди и в полном порядке, как было
условлено. Забыли только снять Петю, который продолжал
стоять на'посту, хотя слышал, как постепенно стихал шум и,
‘наконец, воцарилась странная тишина. Что его забыли, он по-
нял только тогда, когда услышал шаги людей поднимающихся
по лестнице и какие то тревожные разговоры. Он выглянул из
своей комнаты и увидал, что кругом было совершенно пустынно.
Он решил уйти, но на лестнице встретил поднимавшихся двор-
ников и городовых. За ним началась погоня, он стал стрелять.
Наконец устав от долгого бега и убедившись, что у него в ре-
вольвере остался только один патрон, он забежал в ближайший
двор и застрелился.
Эта первая экспроприация была чревата последствиями:
мы не только потеряли прекрасного товарища, но и впервые
испытали отрицательные стороны экса. В организации появились
деньги и сразу худшие элементы выплыли на поверхность. Са-
мые ничтожные- и наименее деятельные из работников заявили
о своей нужде и стали требовать себе пособия. Любопытно,
что Сеня, участник экса, совершенно лишенный всяких средств
к существованию, простой босяк, и не подумал просить денег.
Когда кто-то намекнул ему, что ему не мешало бы взять не-
большую толику, он очень искренно обиделся. Однако, дух
дисциплины был тогда еще достаточно силен и первые дурные
поползновения были быстро подавлены.
Мы получили на нашу долю около 25.000 рублей, из них
большая часть денег была немедленно ассигнована на покупку
динамита и оружия и на напечатание моей книги: «Из программы
синдикального анархизма». В это время социалисты-революци-
онеры и социал-демократы-большевики получили каким-то об-
разом солидные, транспорты браунингов. И так как, как раз в
это время в руководящих верхах этих партий решено было
распустить боевые дружины, то нам охотно продавали оружие.
Таким образом деньги из кассы международного банка благо-
получно перешли в кассы партий, отвергавших всякие «эксы».
266 НОВОМИРСКИЙ, д. и.
Администрация международного банка опубликовала номера не-
которых ценных бумаг, захваченных нами. Сбыть их в обычном
порядке было невозможно. Тогда наша организация делегировала
в Москву т. Левенбука, где знакомый ему социал-демократ
охотно скупил у него ценные бумаги за полцены, конечно. Не-
которые из оставшихся бумаг были нами проданы впоследствии
в Амстердаме, во время неудавшейся попытки экспроприации
за границей.
Деньги дали нам возможность создать подпольную типо-
графию и’мы приступили к печатанию собственной газеты.—
«Вольный Рабочий». Вышел толвко один номер: вскоре атмо-
сфера настолько накалилась и организация настолько была
захвачена боевой деятельностью что издание следующего номера
пришлось на время забыть.
В это время вспыхнула и загорелась забастовка моряков
Черноморского флота. Забастовкой руководили эсеры. Очень
скоро стачка зашла в тупик: забастовало несколько тысяч
моряков, а «Русское общество пароходства и торговли» не шло’
ни на какие уступки. Надо вспомнить, что акционерами обще-
I ства состояли члены царской семьи и многие другие влиятельные
лица. Они считали несовместимым с их достоинством уступить
морякам. И забастовка длилась, к отчаянию моряков, буквально
умиравших с голода. Собирались кой-какие крохи путем пожер-
твований, но нужда росла и забастовка была накануне гибели.
От социалистов-революционеров входил в состав стачечного
комитета, между прочим, Сибиряк (П. Витязев), понимавший, что
единственное средство произвести давление на акционеров, а
также поднять настроение в бастующих моряках—это начать
широкую террористическую борьбу. Но против этого плана был
комитет социалистов-революционеров, считавший несвоевремен-
ным раздражать либеральную буржуазию, как раз накануне
выборов во вторую государственную думу.
В виду таких обстоятельств, Сибиряк, с разрешения коми-
тета соц.-рев., предложил стачечному комитету пригласить к
участию в руководстве забастовкой «южно-русскую группу
анархистов-синдикалистов». Наша организация делегировала
в стачечный комитет меня.
5- В это время готовили к отплытию в Нью-Йорк самый круп-
ный пароход русского общества «Григорий Мерк». Мы решили
его взорвать. Однако, нам не хотелось в то же время лишних
жертв. Поэтому решено было, что мы дадим «Григорию Мерку»
выйти из гавани и произведем взрыв вблизи берега. Это должно
было послужить только угрозой и предостережением для адми-
нистрации парохода.
Чтобы провести этот план, необходимо было проявить
величайшую осторожность и изворотливость Дело в том, что
все пароходы после первого нашего взрыва, который мы орга-
i низовали совместно с эсеровскими боевиками на одном большом
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ
267
пароходе, охранялись особой дружиной черносотенцев из «союза
русского народа». Чтобы взорвать «Григория Мерка» надо было
добиться того, чтобы наш боевик был назначен на охрану этого
парохода. А для этого он должен был раньше стать членом
«союза русского народа».
Эту задачу разрешил молодой рабочий Иларион Ларионов,
которого мы попросту звали Ларька: круголицый, краснощекий,
курносый и светлоглазый, он выглядел таким добродушным рус-
ским парнем, что был немедленно принят в состав местного
отдела союза русского народа, а через несколько дней попал
в качестве дружинника на «Григория Мерка». За несколько
часов до отхода парохода Ларька пронес в машинное отделение
20 фунтов динамита и бикфордов шнур. Это было ничтожное
количество для такого огромного парохода, но, к несчастью, у
нас больше динамита не было и достать его быстро нельзя
было, а между тем, забастовка шла на'убыль и моряки с нетер
пением ждали от нас какого-нибудь акта.
На собрании стачечного комитета многие уже делали мне
намеки на то, что они рассчитывали на большую активность
с нашей стороны. А социал-демократы ехидно подшучивали надо
мной. Каково же было мое торжество, когда однажды во время
заседания стачечного комитета, который собирался, кстати, не-
далеко от гавани, мы вдруг услышали страшный взрыв. Через
несколько минут к нам прибежали моряки и восторженно сооб-
щили, что «Григорий Мерк» взорван, что стачечники торжествуют,
а в гавани—страшная паника. Члены стачечного комитета меня
стали поздравлять и пожимать руки.
Однако один взрыв «Григория Мерка» не мог решить
судьбу забастовки. Стояла холодная зима. Многосемейные
моряки стали сдаваться. Мы решили начать ряд террористиче-|
£ких актов против капиталистов, уводивших в море суда с штрейх- ;
брехерской командой, преимущественно из черносотенцев. Капи- ;
талисты эти все состоял членами союза русского народа, и j
моряки их ненавидели всеми силами за грубость и жестокость.
Более порядочные капитаны воздерживались от плавания, не .
желая сорвать забастовку. <
Я должен здесь отметить, что о предпринимаемых нами тер-
рористических шагах знал стачечный комитет. Это необходимо
было для того, чтобы он чувствовал себя ответственным за
наши террористические акты и чтобы в бастующих массах не
теряли доверия к его руководству. Мы менее всего хотели узур-
пировать авторитет выборных стачечного комитета.
Первой жертвой был намечен капитан Сенкевич. Убить
его взялся Порфирий Сулеймовский.
В течение нескольких дней Сулеймовский выстаивал в рай-
оне российского общества в ожидании Сенкевича, но, словно
предчувствуя свою судьбу, Сенкевич не являлся. Однажды к ве-
черу Сулеймовский его неожиданно увидел, когда он выходил
268 новомирский, д. и.
• из дома градононачальника в сопровождении какого то видного
। чиновника. Суелймовский подошел к нему, снял шапку и покло-
| нился. Сенкевич, ненавидевший матросов, подумал, что у него
i просит милостыню какой нибудь забастовщик и спросил Сулей-
: мовского грубо: «Чего тебе?». Порфирий вынул браунинг и отве-
’ тил: «Я к вашей милости» и выстрелил в него три раза в упор.
'• Сенкевич упал замертво. На улице поднялась паника. Полицей-
‘ ские, стоявшие на стражи квартиры градоначальника, разбежа-
, лись. Сулеймовский побежал и почти уже скрылся, когда
некоторые городовые, опомнившись от страха, побежали за ним
Он стал отстреливаться.
Сулеймовский был исключительно прекрасным стрелком.
Ни один выстрел его не пропадал. Вот почему толпа держалась
на почтительном расстоянии. Во время своего отступления ' он
как-то потерял магазинку (обойму), нагнулся, чтобы ее поднять,
но не мог найти. В поисках этой магазинки он потерял довольно
много времени. Лишь увидав, что полиция начинает настигать
его, он бросил смешные искания (магазинок и без этой у него
было вполне достаточно) и стал снова отстреливаться. Этот
отстрел продолжался более двух часов и Сулеймовский благо-
- получно ушел от преследователей.
Прибежав на заседание организационной комиссии (она
собиралась почти ежедневно), он со слезами на глазах просил
прощения за то, что потерял магазинку: он считал это большим
позором, какими то воинским преступлением, что потерял мага-
зинку, стоившую нам рубль.
12.
I р Кроме «Григория Мерка» был взорван еще один пароход,
I если я не ошибаюсь, по имени «Светлана». Было сделано нами,
11 покушение на взрыв третьего парохода. Покушение оказалось
неудачным. Все эти террористические предприятия произвели
эффект на руководителей «Русского общества пароходства и
торговли». Нам передавали из достоверных источников, что
в верхах готовы были итти на уступки. В массе моряков
настроение поднялось.
Делегатское собрание, собравшееся для перевыборов стачеч-
ного комитета, приняло предложение анархистов о том, чтобы
выразить стачечному комитету доверие, дополнив состав его
несколькими новыми делегатами, и просить анархо-синдикалистов
, поддерживать забастовку всеми мерами.
) Главные массы штрейкбрехеров давал союз русского народа.
С помощью этих союзников Российское общество пароходства
и торговли имело возможность по немногу срывать забастовку.
Наша организация решила нанести серьезный удар организации
союзников- для того, чтобы отбить у них охоту играть роль
? штрейкбрехеров. Мы стали готовить взрыв помещения на Тор-
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ
269
говой улице, где собирались члены союза русского народа под
председательством графа Коновницына.
Между тем во время одного уличного столкновения с по-
лицией были арестованы два члена нашей организации. Без
малейшей вины с их стороны их обвинили в каком то ограбле-
нии и по приговору военно-полевого суда расстреляли. Случайно
присутствовавшие на казни лица, кажется солдаты, передавали
нам о том, с каким достоинством и героизмом держались эти
простые ребята во время казни. Рассказ об этой казни сильно
взволновал всех членов нашей организации и решено было—
реагировать немедленно. Вместо взрыва чайной, где соби-
рались союзники, решено было совершить массовое терро-
ристическое выступление: снять все полицейские посты во всем
том районе, где преследовали наших двух товарищей, невинно
погибших.
Так как мы имели в виду направить всю боевую дружину—
25, среди которых были еще некоторые никогда не выступавшие
в террористических предприятиях, мы решили до выступления
устроить примерную стрельбу. Вся боевая дружина небольшими
кучками была выведена за город: стреляли в одиночку и пач-
ками, чтобы приучить боевиков к собственным выстрелам
(Известны были случаи, когда боевики пугались... своих собствен-
ных выстрелов).
Для общего выступления назначено было для всех одно
время—6 часов вечера. В один и тот же момент в 10—12 ме-
стах города должна была раздаться стрельба, которая должна
была очистить от полиции целый район. Задача не была разре-
шена в той полной мере, как она была задумана. Лишь в 6—7
местах наши боевики действительно сняли посты, а три—четыре
полицейских были смертельно ранены. На полицию наше терро-
ристическое выступление произвело совершенно паническое дей- '
ствие. Городовые на постах дрожали при приближении всякого
молодого человека. Посты были усилены вдвое, иногда втрое.
По городу раз'езжали военные патрули и арестовывали по малей-
шему подозрению.
Вечером в один из этих дней я возвращался вместе с
Левенбуком на извозчике. При нас были ценные бумаги, взятые
в международном банке, а также бомбы и револьверы. Деньги
мы носили на заседание организационной комиссии, так как во
время отчитывания пред'являлась наличная касса. Револьверы и
бомбы мы перевозили на другую квартиру. Когда мы проезжали
по Болгарской улице, нас остановил патруль солдат, и нас спасло
от несомненной гибели только самообладание. На вопрос началь-
ника патруля, откуда и куда мы едем, мы ответили деланной
грубостью, выразив недоумение, что нас останавливают словно
каких то бандитов. Солдат ворчливо об'яснил нам, что не его
вина, что так приказано, и, видя, что мы весьма «прилично»
одеты, не посмел нас обыскать, и мы благополучно от'ехали.
270 новомирский, д. и.
Город фактически оказался в осадном положении. В день
похорон убитых городовых по городу циркулировали слухи, что
союзники готовят погром. Мы ответили на слухи прокламацией,
в которой обещали, что в случае малейшего покушения на
погром, не остановимся ни перед чем. Для напечатания этой
прокламации мы силой заняли типографии. Мы вступили в пере-
говоры с эсерами на случай необходимости организовать оборону.
Союзники не посмели сделать нам вызов, и погрома не было.
1 Однако, забастовка моряков осуждена была на гибель с тех
** пор, как социал-демократы решили во что бы то ни стало сор-
вать ее. Они добились того, что отдельные группы моряков,
находящихся под их влиянием, становились на работу. При
таких обстоятельствах можно было бы продлить забастовку
только ценою огромных финансовых жертв. Но денег у нас
к тому времени уже не было, хотя на содержание бастующих
нужно было всего 100 рублей в день.
В это время организатор экспроприации в международном
V банке А. Д. Зафириди предложил нам другое дело, которое обе-
; щало крупные средства: ограбление одного из крупнейших
р западно-европейских государственных банков Он принес план
и дело казалось серьезным.
Так как к тому же слежка за мною и другими товари-
щами в то время стала чрезвычайно упорной,.нам необходимо
было выехать из Одессы, дабы совершенно не провалить всю
организацию. Я решил поехать с Зафириди заграницу и при-
нять участие в этой экспроприации. Была организована группа
кажется в 7 человек (между ними Задорожный, Левенбук, Коз-
ловский) и мы выехали в Вену. Средства на организацию дела
дал Зафириди.
Не стану рассказывать о всех деталях этого плана экспро-
приации, так как это вывело бы меня за рамки одесского анар-
хистского движения: скажу только, что план оказался фантасти-
ческим и после долгих скитаний нам пришлось отказаться от мысли
организовать экспроприацию за границей. Дальнейшая история
С оправдала наше решение. Когда другая группа анархистов-комму-
: | нистов устроила экспроприацию в Монтре, результат ее был са-
> мым плачевным, чтобы не сказать позорным, для анархистов.
Когда я уезжал за границу, организация поручила мне
создать печатный орган для идейного руководства анархо-син-
дикалистским движением в России. Имелось в виду привлечь
редакцию «Буревестника», если она согласится работать в плане
«Южно-русской группы анархистов синдикалистов». В Женеве я
действительно начал переговоры с редакцией, в лице Манюэля
Даинова, Нины Даиновой, Александра Гроссмана и Николаенко.
Эти переговоры, длившиеся месяца три, ни к чему не привели
в виду целого ряда разногласий.
Летом 1907 года я решил вернуться в Россию. Когда я
приехал в Одессу, я застал совершенно иное положение.
•
.АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ 271
13.
За время моего отсутствия организация значительно вы-
росла. Крестьянское движение, намечавшееся с самого начала,
за это время сделало ’значительные успехи, благодаря Петру
Малиновскому (партийная кличка Петро) и его товарищу Петру
Грынько (по кличке «Петруня»), Деятельное участие принимал
в крестьянском движении еще один сельский учитель по фами-
лии, кажется, Никитин. Их работа имела большой успех в обшир-
ном районе вокруг Одессы, Голты, Тирасполя и Херсона. Не
менее 50 крестьянских групп, примыкавших раньше отчасти
к партии социалистов революционеров, присоединились к южно-
русской группе анархо-синдикалистов. Какова была работа этих
групп, кроме террористической, направленной против помещиков,
не достаточно известно. Эта часть истории нашего движения
чрезвычайно интересная, совершенно не освещена и не рассле-
дована.
В Голте, Тирасполе и кажется. Кишиневе и Херсоне соз-
дались настоящие филиалы нашей группы. Оттуда приезжали
в Одессу за оружием, за литературой и за материальной помощью.
Главное ядро южно-русской группы анархо-синдикалистов
постепенно целиком втянулось в террористическую работу. Была
организована экспроприация парохода «София». Участвовали 1|
в захвате парохода Павел Кулешов, Порфирий Сулеймовский, '
Александр Задорожный, Давид Робинзон и другие. Руководство '
делом было в руках Кулешова, бывшего штурмана дальнего :
плавания. На пароходе взяты были 50.000 рублей денег, кото- Г
рые однако же, принесли мало пользы революционному делу. '
Деньги расползлись по карманам отдельных участников, начались
попойки. Организация стала разлагаться.
Следующим предприятием было нападение на поезд на
14 версте от Одессы. Павел Кулешов и здесь проявил удиви-
тельное самообладание Рискуя быть раздавленным поездом,
он стал среди полотна навстречу идущему поезду с красным
флагом и заставил машиниста остановить паровоз. Затем
с обеих сторон боевики начали обстрел поезда, чтобы удержать
пассажиров в вагонах. Целью нападения был захват значитель-
ных сумм, бывших в почтовом вагоне. Однако же, когда Давид
Робинзон неожиданно увидал жандарма в почтовом вагоне, он
стал обстреливать вагон, чем вызвал пожар, от которого по-
гибла вся почта и в том числе все деньги.
Единственное, что успели сделать члены группы—это со-
здание большой лаборатории в Лермонтовском переулке. Во главе
дела стоял Козловский («Кэт»). Полиция выследила лабораторию
и явилась туда с большим нарядом для обыска и ареста. Искали
Кулешова, официально занимавшего квартиру. Вместо него
полиция застала какого - то молодого человека, который при
виде полицейских открыл стрельбу и меткими выстрелами
272
НОВОМИРСКИЙ, д. и.
уложил на месте нескольких человек, а сам перелез через
забор и скрылся. Это был «Кэт», который вскоре выехал за
границу и здесь открыл кампанию против А. Д. Зафириди, кото-
рого обвинил в провокации.
Порфирий Сулеймовский также был арестован, как говорят,
по предательству. Полиция явилась ночью на его квартиру, не
разбудив его, и, точно зная, где он хранит револьвер, немед-
ленно обезоружила его, связала и арестовала.
В связи с нападением на «Софию» были арестованы
и другие, боевики. Таким образом, главное ядро организации
распалось. Оставшиеся члены еще недавно сильной организации
стали заниматься грабежами и даже «мандатами». Пропаган-
дистская и организаторская работа были совершенно заброшены.
Когда моряки, привыкшие видеть в южно-русской группе свою
организацию, явились к членам анархо-синдикалистской группы
с просьбой о литературе и о посылке - организатора, им отве-
тили: «Если вы анархисты, то заботьтесь сами о себе и ни
от кого не ждите помощи».
Когда я приехал из-за границы, я с трудом нашел связи
с своей собственной организацией. Одним из первых на пути
исканий мне встретился Петр Макаров.
Вокруг Макарова создалась группа мало известных мне
людей. Помню только Арабачана. На мой вопрос, что они
делают, Макаров смущенно дал мне понять, что их единствен-
ное дело грабежи, конечно, под фиговым листком общественных
интересов: нужны материальные средства, без них невозможно
вести пропаганду.
В таком же положении нашел я несколько других групп,
образовавшихся на развалинах южно-русской группы анар-
хистов-синдикалистов ... А. Д. Зафириди также считал себя
теперь анархистом-синдикалистом. У него на квартире я встре-
тил несколько товарищей, между прочим Ржебышевского.
Конечно эта группа занималась исключительно экспроприациями.
Когда я предложил Зафириди и Ржебышевскому бросить гра-
бительства и взяться за революционную работу, они ответили
мне: «Какая работа в сухомятку», то-есть без денег. Для начала
: работы Зафириди считал необходимым создать фонд не менее
миллиона рублей. К этому времени у него, кажется, было около
. 100.000 рублей. Еще предстояло немало грабежей, чтобы
вспрыснуть пропаганду. Мне, очевидно, было не по пути
и с ними.
Мне сказали, что из старых анархистов-синдикалистов
лишь одна группа, руководимая П. Кулешовым, верна традициям
анархо - синдикализма. Встретившись с Павлом Кулешовым,
я, однако же, не вынес ожидаемого впечатления. Знавшие его
товарищи тепло отзывались о нем, как о человеке в высшей
степени бескорыстном, очень отзывчивом и беззаветно предан-
ном делу. Вероятно это и было так, но на меня, мало его
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ
273
знавшего, он производил тяжелое впечатление. Кулешов мне
показался чрезвычайно мелочным и очень озлобленным чело-
веком.
Впоследствии, в тюрьме, на каторге я узнал о вероятных
причинах этой исключительной озлобленности: его личная
жизнь сложилась до крайности тяжело. Это оправдывает
и об’ясняет многое. Но в то время я испытывал органическое
отвращение к озлобленным людям и совершенно не доверял им.
Кулешов чувствовал мое к нему недоверие.
К своему стыду сознаюсь в этом обманувшем меня чувстве
недоверия к человеку, который его не заслужил, между тем
как я в то же самое время безусловно доверял человеку, кото-
рый потом оказался старым провокатором, агентом охранного
отделения на жалованьи. Этот провокатор и есть Зафириди.
Уже на первом свидании моем с Кулешовым он заявил
мне резко, что А. Д. Зафириди провокатор и что он убьет его, i
как собаку. Так как обвинение Зафириди в провокации для
меня было новым и так как мне не было дано никаких убеди-
тельных доводов (кроме: «Я это чувствую»), то подозрение
высказанное Кулешовым, и вызвало, быть может, мое недоверие
к самому Кулешову.
Встретив Зафириди, я тут же на собрании сообщил ему,
что его обвиняют в провокации. Он, к моему удивлению, отнесся
к этому чрезвычайно спокойно. Мы пошли к нему на квартиру;
он жил со своей матерью, очень интеллигентной старушкой.
Помню, что, когда я вошел в комнату и увидел это честное
старушечье лицо и чистенькую, белую, уютную комнату, я ска-
зал себе: «В такой комнате не живет провокатор». Увы, и это г.
чувство оказалось обманчивым: в этой беленькой комнатке жил
провокатор, много лет служивший в охранке. И его мать также 1'
мало подозревала это, как и беленькие занавески на окнах.
Мне стало ясно, что работа при таких условиях невоз-
можна. Я стал подумывать об от‘езде. Но куда? В Москву?
В Петербург? Одинаково бессмысленно; всюду провалы, всюду
разложение. У меня начинала мелькать мысль об от’езде за-
границу.
С первого дня моего приезда из-за границы за мной стали
следить шпики. Как я впоследствии узнал по материалам
к моему делу, за мной следили еще из-за границы. Агент тай-
ной полиции сопровождал меня оттуда. -Охранка прекрасно
знала о дне моего приезда. Она знала нечто большее. В Одессе
у
провокаторы братья Гринберг открыли кафе на Торговой улице. ?
Это кафе служило как бы центром для всех анархистов и глав- :
ним местом явки. Меня, конечно, направили туда же и в пер-
вый же день агенты охранки, по их техническому выражению,
«взяли меня», то-есть, стали за мной неотступно следить.
Первую квартиру (на Софиевской), которую мне наняли,
-пришлось покинуть, так как шпионы не отходили от ворот
Очерки.
18
274
НОВОМИРСКИЙ, д. и.
моего дома. Я нанял другую, но во время переезда меня высле-
дили шпионы. Было ясно, что не сегодня-завтра меня арестуют.
Мне пришлось бросить и другую квартиру. Мои друзья пере-
везли мои вещи на третью квартиру, где я стал скрываться.
В течение нескольких дней я совершенно не выходил из дому,,
надеясь замести след. Эта осторожность оказалась тщетной.
Когда я на пятый день вышел, меня догнал мой товарищ
(по кличке «Азя») и шепнул: «За тобой следят». Рядом удачных
маневров я пытался было скрыться на базаре и выбежал на
шумную улицу. Оказалось, что шпики проделали за мной все
мои маневры и шли за мной неотступно. Я решил пойти Садо-
вой, очень людной улицей в уверенности, что здесь шпики не-
посмеют напасть на меня открыто, боясь перестрелки. Это
предположение оказалось верным. Укрылся я в квартире одного
знакомого мне врача, близ знаменитой кофейни Либмана. Азя,
шедший по моим следам, известил моих товарищей, что я оса-
жден в одном доме. Товарищи: И. Раух, Василий Триполка
и еще кто-то, вооруженные револьверами и бомбами, пришли
на выручку.
Азя зашел за мной на квартиру доктора и мы выработали
следующий план: он наденет мою шляпу и мое пальто и выйдет
на улицу. Когда шпики бросятся за ним, я воспользуюсь момен-
том сумятицы, чтобы сесть на извозчика. Если бы шпики, за-
метив ошибку, бросились за мной в погоню, наши боевики
должны были открыть пальбу им в спину, а на крайний случай
бросить бомбу.
План- был проведен. Я сел на извозчика, но тут же на
мои дрожки вскочил один из наших товарищей—Раух, который
не пожелал оставить меня одного на случай перестрелки. Мы
вынули револьверы и приказали извозчику ехать, в полной
уверенности, что нам вслед начнется перестрелка. Наши ожи-
дания были приятно обмануты. Как оказалось впоследствии,
шпики испугались, увидев группу подозрительных лиц с ка-
кими-то пакетами в руках.
Однако это избавление отсрочило лишь на несколько дней
мой арест. Я укрылся в другой квартире, прекрасно снабженной
всеми средствами обороны. Но так жить в городе не было
никакого смысла: я был лишен возможности вести какую бы
то ни было работу. Я окончательно решил выехать за границу.
В первый же день, когда я вышел на улицу, на меня сзади
напали шпионы, схватили за руки и арестовали.
В тюрьме я застал многих членов нашей организации:
Сулеймовского, Ларионова, Робинзона и многих других.
Однажды, когда я вышел на прогулку, меня подозвали
к одному окошку. Я увидел за решеткой «Петруню» (Петра
Гринько). Я слышал, что Гринько в свое время уехал из
Одессы в родну'ю деревню. Я был уверен, что он на свободе.
Увидав его за решеткой и взглянув в его глаза, я в них про-
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ в ОДЕССЕ 275
читал: «Меня скоро убьют». И не знал, о чем говорить с ним.
Мне чувствовалось, что в гибели этой молодой жизни виноват и я.
Он сообщил мне, что здесь в одесской тюрьме он только
временно, что пересылается куда-то на суд, и его ждет смертный
приговор. Когда я выразил надежду, что, может быть, еще
увидимся на свободе, он сказал: «Что я? Я рад умереть.
Больно то, что вы здесь». И в глазах его сверкнули слезы.
До конца своих дней этот голубоглазый крестьянский
парень ничего не знал в жизни лучшего и высшего, как слу-
жение революции. Не о себе жалел он, не о ранней смерти
(ему было лет 20—21), а о том, что полезный для народного
дела человек сидит в тюрьме.
Однажды к фортке моей одиночки подошел молодой ра-
бочий-моряк открыл волчок и крикнул мне': «Данила, я—здесь».
Это был Ларионов («Ларька»), организатор взрыва на «Гри-
гории Мерке». Он об'яснил мне, что арестован по пустячному
делу и скоро выйдет на волю. И тут же успел шепнуть мне:
«Не долго будете сидеть здесь. Все организуем». Я не сомне-
ваюсь, что он действительно организовал бы.
Но случалось вот что: через несколько дней, идя на про-
гулку, он снова подошел к моей камере и сказал мне: «Мне
«паяют» новое дело—убийство пристава и еще что-то—при-
дется посидеть».
Он ошибся; ему не пришлось долго сидеть. Скоро состоялся
суд. Из суда он снова подошел к моей фортке и крикнул мне
каким то удивленным голосом: «Смертная казнь без хода-
тайства ..». Его приговорили к смертной казни, но особенно
странно—за чужое дело. Его не судили за взрыв «Григория
Мерка», за десятки террористических актов, которые он дей-
ствительно совершил. Его осудили на смерть за дело, в котором
он не участвовал и которого даже не знал.
Мы знали, что скоро будет казнь Ларьки, и каждый вечер
с трепетом ждали, что раздастся шум шагов, шум открываемой
камеры и его поведут... И действительно, однажды ночью мы
услышали грустный, но твердый, мужественный голос: «Про-
щайте товарищи». Мы ответили: «Прощай товарищ». Это шел
умирать Ларионов—этот . веселый, добродушный, круглолицый
курносый парнишка, которого все любили.
Вскоре пришла очередь Сулеймовского. Дело было так:
благодаря его несдержанности и даже болтливости в тюрьме
очень многие знали о его прошлом. Когда дело дошло до суда,
оно было слишком ясно. Он был приговорен к смерти.
Но тут в нем произошел надлом. Не скажу, чтобы он упал
духом. Этого собственно не было. Но он загрустил. С отцом
он был не в ладах, но теперь написал ему, чтобы тот приехал
похлопотать. Отец, верный монархист, отказался приехать. Это
очевидно было сильным ударом для Порфирия. И ему тем сильнее
захотелось жить.
18;
276
НОВОМИРСКИЙ, д. и.
О чем он думал, сидя в своей одиночке смертника? О чем
думал этот молодой человек, не привыкший к чтению, не лю-
бивший раздумывать, живший импульсивно, инстинктом; не бе-
русь судить.
Однажды я получил от него записку, в которой он спра-
шивал меня, написать ли ему свою биографию для печати.
Я ответил, что хорошо бы написать, но что это ему может
повредить. Он ответил мне, что повредить ему уже ничто не
может и послал мне большую рукопись, в которой действи-
тельно описывает всю свою жизнь, но в которой рядом с прав-
дой было и много вымысла. Случилось так, что когда он пере-
давал эту рукопись, кто-то заметил. Донесли администрации,
сделали обыск в моей камере перерыли все и нашли рукопись.
Возможно, что эта рукопись действительно повредила: через
несколько дней его судили по новому делу и вторично приго-
ворили к смертной казни. Возможно, что не будь этой новой
улики ему заменили бы смертную казнь. По крайней мере так
думал сам Порфирий.
Я часто подходил к его камере, когда шел на прогулку.
Однажды открыв волчок и заглянув в его одиночку, я понял
всю безысходную тоску этого осужденного: так беспомощна
была его поза. Я подозвал его к волчку и спросил о самочув-
ствии. Порфирий знал о моем дружеском к нему отношении
и потому со мною посмел на то, на что не осмелился бы ве-
роятно с другим: попросить денег на телеграмму царю. «Знаю,
что подло»... пробормотал он. Я сказал ему, что сегодня же
пошлю ему денег, но добавил, что вряд ли будет какой-либо
толк из прошения. «Знаете,—ответил он виновато—теперь перед
Рождеством они часто милуют» Он послал прошение по теле-
графу, а через день или два его обманом взяли в контору и
вместе с другим анархистом Коротковым повесили.
14.
Один за другим сошли в могилу наши славные боевики.
Мне остается теперь сказать очень немногое.
22 ноября 1907 года в 4 часа дня Павел Кулешов, идя по
Московской улице вместе с Мишей Нехорошим был схвачен
шпиками, которые повалили его на землю и обезоружили.
Он вместе с Мишей были немедленно отправлены в участок.
Товарищи, узнав об его аресте, выработали план побега. Но про-
вокатор Роман Лаевский выдал весь план.
Кбгда арестованных повели в тюрьму из участка, то Мишу
вели впереди, окруженным городовыми, а за ним на расстоянии
вели Павла. Когда они подошли к железнодорожному мосту,
Миша Нехороший бросился бежать, повалив двух городовых на
землю. Однако, он был немедленно расстрелян. Судьба Миши
не остановила Кулешова. Дойдя до моста он также бросился
АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОДЕССЕ
277
бежать, но тяжело раненый упал на землю. Уже лежав-
шего на земле полицейские продолжали его расстреливать и
избивать.
Кулешов выздоровел от ран, был передан военно-окружному
суду и получил 15 лет каторги; затем его снова судили и по
новому делу приговорили к смертной казни. 4to6jj не отдаться :
в руки палачей, он принял яд по дороге на эшафот. I
Так. же трагически умер и Давид Робинзон, когда-то про- j
сто уголовный вор, а потом глубоко преданный анархист, цели- i
ком отдавший свою жизнь работе. Когда его вызвали в контору,;
он принял яд, так как знал, что из конторы уже не вернется.
Говорят, что на казнь его волокли полуживого.
В Киевской губернии, приблизительно в это же время,
погиб один из последних боевиков южно-русской группы анар-
хистов-синдикалистов Петр Малиновский, которого все знали
под кличкой «Петро Крестьянский». Это был очень талантливый
и очень культурный молодой крестьянин, которого чрезвычайно
уважали в деревне. Он завел в селе тайную типографию и
буквально наводнял весь округ своими прекрасными проклама-
циями. Одновременно он принимал участие в террористической
борьбе. Он погиб в перестрелке с сельскими стражниками.
Кажется, никого не забыл, кроме молодого моряка (по
имени кажется Гриша). Мне жаль, что не могу подробней рас-
сказать об этих светлых бойцах, отдавших народу все, что
имели: свою беззаветную преданность и молодую жизнь.
Отсутствие материалов, а главным образом архивных дан-
ных лишает меня возможности давать о них точные биографи-
ческие сведения.
К началу 1908 года революционное движение в Одессе
сошло в сущности на-нет. Еще кое-где были отдельные группы
«анархистов», но об идейной работе не было и речи.
Вот что пишет в «Буревестнике» корреспондент из Одессы
в 1909 г.1). «Несколько лет тому назад в нашем городе было
довольно большое количество революционеров всех оттенков:
были c.-д., с.-р. всех видов, были там и анархисты. В 1906 году
последние пользовались влиянием среди рабочей массы. В особен-
ности это влияние было сильно среди моряков и портовых ра-
бочих. За последние полтора—два года у нас все пошло на убыль..
Не стало ни c.-д., ни с.-р., об анархистах хотя и слышно было,
но анархическое движение здесь окончательно выродилось. При
тов. Н. и его последователях велась пропаганда и агитация
идей анархизма; за последние же полтора—два года об анар-
хистах и анархизме только можно было слышать в связи
с разного рода предприятиями денежного характера. Наряду
с действительными революционерами, воодушевленными высоким
идеалом, появились и такого рода типы, которым не было дела
!) „Буревестник11 № 18, ноябрь 1909 года.
278
НОВОМИРСКИЙ, д. и.
ни до каких идеалов, но которые выступали под флагом анар-
хизма с единственной целью нажиться.»
«К сожалению, приходится констатировать, что за последнее
время эти господа почти совсем вытеснили идейных работников.
Были факты, что к подобного рода господам примыкали и будто
бы вполне убежденные люди... Разумеется, что при таком поло-
жении вещей связи, среди рабочей массы все более и более
терялись... Даже среди широкой массы рабочих постепенно
создавалось соответствующее этим печальным фактам предста-
вление об анархизме; анархистов считали людьми, которым
важно кого-нибудь ограбить, но которым совершенно безраз-
личны интересы рабочих.»
«Моряки, служащие в «Русском обществе пароходства и
торговли», всячески притесняются администрацией названного
общества: уменьшается жалование, увеличиваются часы работы,
ухудшается пища, сокращается состав и т. п.; среди моряков
замечается острое недовольство, и господа социал-демократы,
желая использовать это настроение, повели сильную агитацию
за немедленное об'явление забастовки. Часть моряков заявила,
что они на мирную забастовку не согласны, что бастовать они
будут только тогда, когда они будут вооружены, когда у них
будут боевые припасы, когда будет уверенность, что на террор
администрации и полиции они смогут ответить тем же. Тогда
почтенные одесские социал-демократы предложили морякам вне-
сти по полтиннику с человека, якобы на покупку оружия, ко-
торое им и будет куплено, а пока все-таки об‘явигь забастовку.»
«Боясь, чтобы анархисты не помешали проведению подобного
сорта забастовки, они в глубокой тайне от нас созвали на одной
из барж собрание в 46 человек, которое должно было по их
расчетам об'явить забастовку всех моряков «Русского общества»
(всего моряков несколько тысяч). Собрание удалось собрать
в глубокой тайне от анархистов, но не от полиции, которая
задержала всех на месте. Многие побросались из баржи в воду,
откуда их вылавливали.»
«Ведется работа по деревням, где крестьяне очень чутко
прислушиваются к пропаганде наших идей, но и там условия
работы также затруднены по тем же причинам, да и полити-
ческие условия тоже очень тяжелые; приходится прятаться по
оврагам, ходить по 25 — 30 верст, пешком и т. д.»
«Из местной тюрьмы отправлено на каторгу много наших
товарищей, в том числе и тов. Новомирский.»
Д. Новомирский.
Чернознаменцы и Безначальцы *).
Историки анар<изма жалуются на невозможность дать
•сколько-нибудь исчерпывающую картину анархических движений,
анархической работы. Целые течения, полные глубочайших ценно-
стей и давшие, быть может, сильнейшие сдвиги и в быте, а потому
и в истории народов, часто живут только в формах непосред-
ственной жизни и революционного действия, развиваются только
через личное общение, через устную передачу, и, выполнив свои
• исторические задания, передают легенду о себе и о невыпол-
ненных задачах, как живое наследство новым течениям, не
оставив ни толстых книг, ни громких теорий. Другие течения
расплескиваются в ярких, но недолговечных брызгах летучек,
газет и революционных опытов и актов,—которые кто же сумеет
собрать и сохранить под ревнивым и беспощадным оком бесчи-
сленных врагов анархизма. Наконец, если, вопреки всем стро-
гостям цензуры, удавалось издавать и книги, так это почти
всегда были простые и ясные книги для широких масс, для
поднятия их культурного уровня и революционного сознания,
а вовсе не для часто праздной любознательности исследова-
телей и изощренного вкуса теоретиков. Всегда свободе и ра-
дости угнетенных, а не доказательству своей «умности», отда-
вали свои силы анархисты.
Самим анархистам обычно почти некогда писать историю:
они творят историю. Фактом своей самоотверженной борьбы
и смерти они склоняют весы истории все более и более на свою
сторону. И лишь в годы затишья, пересмотров позиций, пере-
группировок сил, после разгромов со. стороны временно сильней-
шего противника они улучают минутки и для писания истории.
По случайным материалам, конечно, написать историю
нельзя, тем более для движения из такого яркого периода
в истории русского анархизма, как 1905—1907 г.г. Я попытаюсь,
все же, вызвать, поскольку это будет возможно, перед читате-
лями дух и картины этого движения.
1) Настоящая статья построена в значительной мере на основании
материалов, имеющихся в книгах: а) „А л ь м а н а х". Сборник по истории
анархического движения в России т. 1- Париж 1909 г. стр. 191;
С) И. Генкин. „По тюрьмах; и зтапам“. Петербург. 1922 г; стр. 486;
в) Г россма н-Р о щ и н. „Думы о былом". „Былое". 1925 г. 27—28. д
280
А. С.
Убийственно-суровую оценку этому времени дает П. А. Кро-
поткин:
«Героев, людей отваги личной, наша революция дала не-
мало. Но не дала она людей с отвагой мысли, способных внести
революционную мысль в волнующиеся массы, сплотить
их и вдохновить на крупные революционные акты, со-
вершающие переворот в строе жизни, в экономическом распре-
делении сил, во всех понятиях бедных и эксплу-
атируемых масс»1). Мы здесь не будем входить в споры
между «хлебовольцами», позиция которых довольно ярко выра-
жена в приведенной цитате, и сторонниками т. наз. безмотив-
'(ного террора, которым посвящена эта статья. Факты пусты
говорят за себя сами.
Конец прошлого века и первые годы этого века—золотые
были годы для демократических партий. В эти годы определи-
лось их исключительное влияние на судьбы русского рабочего
и крестьянского движения, судьбы ближайших революций.
«Анархистскую смуту» (выражение с.-д. бундовцев) сеять было
некому: не было даже анархистских групп, и, казалось, на ,
спинах рабочих и крестьян открывался «вождям народа» уве-
ренно-спокойный путь к депутатским (а потом и к министер-
ским) креслам.
Государство, как оно было, было видно по жандарму, по
казацкой нагайке. Капиталист — по кошельку, по надменно-
хозяйскому лицу, по раболепству окружающих. А партийный
лидер—ведь над ним сиял ореол обещаемых программой свобод
и благ—кто же смел прозреть в нем умелого дельца своих
планов и интересов партийной фирмы.
И все же в это время (совсем почти гегелевская диалек-
тика), и именно внутри самих демократических партий с.-д.
и с.-p., рабочие партийные массы чувствуют свое, чреватое
последствиями, подчиненное положение.., из которого не так-то
легко выбраться. Кое-где вырастают внутрипартийные револю-
ционные «оппозиции». И чрезвычайно своеобразное, но яркое
обнаружение лжи демократизма дает т. наз. «махаевщина»:
«под щитом социалистической науки произрастает новейшая
форма грабежа».
А. П. Махаев (псевдоним—А. Вольский), сосланный в 90 г.г.,
как с.-д, в Якутскую область, пришел там к выводу, что за
плечами капиталистов вырастает новый класс эксплоататоров
и господ: интеллигенция, командующая интеллигенция, выдумав-
шая и социализм для превращения рабочих в орудие своих
целей. Его книга по этому вопросу — «Умственный рабочий»
вызвала тогда широкую полемику.
*) Передовая „Наши задачи" органа группы анархистов-комму-
нистов „Хлеб и воля“. Лондон. 1909- № 2 (июль).
ЧЕРНОЗНАМЕНЦЫ И БЕЗНАЧАЛЬЦЫ
281
«Господа же, заграбив все средства, воспитывают всех j.
своих детей—сколько ни будет тупейших голов в их числе— 1
в высшую расу, призванную править»—так написано в перво- 1
майском листке махаевцев в 1902 году. 1
Перед этим всемирным «заговором» господ и интеллигенции
никчемны парламенты и законы,—против этого заговора нужно |
поставить свой «рабочий заговор» и силой прямого наступления i
взять в свои руки общественную жизнь.
Естественно, что именно рабочие оппозиции партий и
кружки махаевцев дают потом первых «неофитов» для анархи-
ческих групп. Так в Одессе из махаевцев и анархистов'соз-
дается группа «непримиримых». Так в Белостоке анархистами
и спропагандированными ими бундовцами создается интернацио-
нальная группа «Борьба» и т. д.
1903 год—год собого значения для анархистов России, г
С этого года по широкой Руси начинают появляться анархиче- I
ские группы—и скоро занимают яркое место в фактах рабо- \
чего и крестьянского движения. Изтза границы приезжают то-
варищи-анархисты, направляются в рабочие центры, в центры
крестьянских волнений, об'единяют местных одиночек-анархи-
стов и развертывают буйную, по-анархически могучую револю- \
ционную активность, подлинно выбивая из рук партий их ко- 1
мандующую роль и вызывая рабочих и крестьян на свое—пря-
мое действие.
В августе 1903 года, в Женеве, силами русских эмигран- г
тов-анархистов, сгруппировавшихся вокруг Оргейани (Гогелия)
и П. А. Кропоткина, издается первый русский орган «Хлебо-
вольческого» направления под названием «Хлеб и Воля», и на- 1
чинает транспортироваться в Россию. «Анархическая смута» ,
началась и для нее.
«Мы накануне революции»—заявляет уже первый номер |
«Хлеб и Воля», и развертывает по анархически острое обна-
жение якобински-деспотических и в то же время глубоко согла-
шательских замашек революционно-демократических партий,
настаивает на иных, анархических, методах организации рабо-
чего движения и революционного наступления. Требование чи-
стоты классовой позиции, обнаружение, что лишь анархисты
«были и остаются сторонниками классовой борьбы, но не
столько на словах, сколько на деле» («Хл. и Воля» 1903 г.),
призыв, к высвобождению рабочего движения из пут политиче-
ской диктатуры партий и к переходу движения на прямс е,
явочное завоевание—осуществление своих прав и свобод мето-
дами анархического «прямого действия»—особо характерны для j
идейного лица этого органа:
«... важна не декретированная свобода, а свобода внутренняя,
разлитая широким морем в самом же обществе, ставшая его
неот‘емлемым аттрибутом и смело, открыто им осуществляемая»
(«Заметка об анархической тактике в России», «Хл. и Воля»).
284
А. С.
8) Безусловный отказ "от совместных выступлений с ка-
кими бы то ни было политическими партиями, будут ли они
либералы, социал-демократы или социалисты-революционеры: все
они политические шулера, буржуи и враги народа, и временные
выгоды от совместных действий никогда не окупят той демора-
лизации, которую вносит в ряды товарищей подобное сотруд-
ничество партий.
9) Интернационально-международную солидарность... Вместе-
с Интернационалом в будущем обществе, признание необходи-
мости создания и в настоящем великой Международной
федерации для социальной революции, живой феде-
рации, тысячами живых связей связанных друг с другом боевых
товарищеских групп, не признающих никаких национальных и.
расовых различий и, как нелегальная крамольная сила, вар-
вары для буржуазного общества, выступающих на.
завоевание старого мира во всеоружии революционной
б ом б и стики... Было бы величайшим преступлением анархи-
стов не приложить всех усилий к тому, чтобы революция, ра-
зыгравшаяся в России, не ограничивалась только ей, а разли-
лась бы по всей Европе, выливаясь в могучую и непобе-
димую всемирную и кровавую народную рас-
праву1).
«... А анархизм?—Практически—то была единствен-
ная сила, развивавшая классовую борьбу, единственная
носительница идеи борьбы классов, а не сотрудничества...
Но как непозволительно теория отстала от практики! Элементы
утопического идеализма, отрывки мыслей XVIII века смеши-
ваются с современными «прогрессивными теориями» и все это
только местами пронизано лучами классовой теории... Это, по
нашему, факт. Мы глубоко убеждены, что именно анархиче-
ская мысль кроет в себе элементы для стройного и гармони-
ческого миросозерцания; именно анархизм, давая теоретическую-
санкцию классовой насильственной борьбы трудящихся, охраняя
и развивая бунтовской дух, этот же анархизм может и дол-
жен давать свои ответы на все вопросы современности, на все
самые сложные и утонченные запросы ума и души... Но это
может быть сделано только при двух условиях: 1) чтобы анар-
хизм не только сохранял, но увеличил бы, заострил бы клас-
совую тактику и классовую непримиримость, 2) чтобы велась-
упорная и непрекращающаяся работа для примирения классовой
тактики и теории, вытравления из последней абстрактно-гума-
нических тенденций...» * 2).
«... возможность пользования демократическими гаран-
тиями кончается там, где начинается систематический отказ
9 Листок группы „Безначалия11, 1905, № 1.
2) „К товарищам-анархистал\“. „Черное Зна,мя“. 1905. № 1.
ЧЁРН03НАМЕНЦЫ И БЕЗНАЧАЛЬЦЫ 285
от выполнения подчиненным классом его функций,' переходя-
щий в прямые нападения на собственность...»
«... классовая анархическая борьба характеризуется пре-
кращением функций и активными нападениями на собствен-
ность» 1).
В I томе Альманаха «Сборника по истории анархического
движения в России» (Париж, 1909) есть статья некоего «Бело-
сточанина» под названием «Из истории анархического движе-
ния .в Белостоке». Беру из нее отдельные моменты, для
гладкости иногда в слегка измененном изложении:
Весной 1903 года, прибывший из Лондона, товарищ про- 1
чел несколько рефератов среди бундовской интеллигенции и
рабочих и ему удалось привлечь на свою сторону несколько ,
очень энергичных революционеров. Вместе с Григорием Брумэ-
ром («Борис», умерший в Петропавловской крепости) он в са-
мое короткое время успел организовать в Белостоке первую
анархическую группу, называвшуюся Интернациональной Труп- (
пой «Борьба». Началась работа. Устраивали кружки, массовки,
посещали собрания других организаций и на них вызывали дис-
куссии; выпустили несколько гектографированных прокламаций
•(из них одну о полицейском, тяжело ранившем рабочего).
С самого начала стали вести рабочие стачки (из стачек, во
главе которых в то время стояла группа, помню стачки порт-
ных, ткачей, сапожников).
Появление анархистов вызвало большой переполох во всех
организациях, в особенности среди бундовцев, которые стали
закидывать их грязью, называть их ворами и так далее в бун-
довском духе.
' С первых же дней своей работы группа «Борьба» начала
агитацию среди воров. Из среды последних впоследствии вышли /
такие видные революционеры, как М. Шпиндлер и др. Этой |
агитацией бундовцы воспользовались.
Несмотря на это, анархическая работа росла и крепла.
Анархисты стали вмешиваться также и в другие области рабо-
чей жизни. Во время демонстративного шествия рабочих в июле |
1903 года из леса в город полиция напала на демонстрантов и
сильно избила многих из них. На следующий день после этого j
события анархисты тяжело ранили особенно усердствовавшего i
старшего городового Лобановского, а через несколько дней они
стреляли (неудачно) в полицейместера Метяенко. Оба эти акта
еще больше укрепили симпатии рабочих к анархизму. Спрос
на литературу возрос. Было издано несколько гектографирован-
ных брошюр: Черкезова «Раскол среди социалистов государ-
ственников»; Неттлау «О взаимной ответственности и солидар-
-----------
‘ . г) „Демократия и анархическая тактика". „Ч. 3.“, там же.
282
А. С.
Здесь дело идет уже не об анархических утопиях мысли-
телей, но об анархизме реальном, непосредственно осуще-
ствляемом в поведении и организационных формах людей и масс,
об анархизме, вырывающем в своем развитии свободы за сво-
бодами, сметающем правительства за правительствами, экспло-
атацию за эксплоатацией, пока перед лицом его грозной мощи
не посмеет никто больше заявить претензий на власть, эконо-
мическую, политическую, какую бы то ни было, словом речь идет о
том, социальную ценность чего в ход теоретической мысли не-
изгладимыми чертами вписал гений М. А. Бакунина.
Но и «прямое действие»—этот анархизм на факте—имеет
не меньшее разнообразие форм, чем анархизм теорий: каждому
присуща своя форма осуществления своей совести и свободы.
1 Бомбы безмотивного террора и толстовское «не убий»,
I революция и пассивное сопротивление, отказ «Безначальцев»
I участвовать в производстве, чтобы не быть эксплоатируемыми,
и стачка, оправдание «Без_начальцамц>2_крд>к_.уг капиталистов и
социальная, экспрол ршация_эюотдоатаяюррв^я—^ескоё~свХГёвРлие
Штирнерианства и творческий экстаз социальной анархии и т. д. —
эго даже несовместимые формы прямого действия, это —дистан-
ция от зверя до ангела. В этой дистанции и развертывается
анархическая практика 1905—1907 г.г. Кто боится самоутвер-
ждения в прямом действии—иди на поводу у власти.
Гуманистичное направление «Хлебовольцев», высказывав-
шихся против «распыленного»1, хотя бы и анти-буржуазного,
террора против экспроприаций—не социального характера, а
также их попытки заложить федералистические организацион-
ные основы для дальнейшего развития анархизма и признание
попутной значимости так назыв. «свобод», заявление, что
борьба должна итти «во имя широких идеалов, способных во-
одушевить людей величием открывающихся горизонтов» (слова
П. А. Кропоткина),—все это было,. однако, некоторыми анархи-
стами оттенено, как отступление от классовой чистоты анар-
хических принципов, как некоторого рода «минимализм» J).
! Даже заявление «Хлебовольцев», что «в деле разрушения, само
iсобсй разумеется, перчаток надевать не приходится» * 2) неко-
1 торым показалось недостаточно радикальным. Разрушение клас-
совых цепей выростало в революционную стихию и многим
стало казаться самодовлеющей ценностью.
И вот в апреле 1905 года в той же Женеве выходит пер-
.'вый номер «Безначалия», а в декабре—«Черного Знамени».
Чтобы ярче охарактеризовать идеологические позиции
этих новых направлений, так ярко вспыхнувших и угасших
вместе с той революцией, я приведу отрывки из редакционных
’) См., напр., „Думы о былом"—Гроссмана-Рощина.
1925, № 27—28.
2) „Хлеб и Воля" № 4, „Террор".
„Былое",
ЧЕРНОЗНАМЕНЦЫ И БЕЗНАЧАЛЬЦЫ
283
заявлений в первых номерах этих изданий, а затем уже пе-
рейду к истории деятельности наиболее характерных для этих
направлений русских групп: «Чернознаменцев» Белостока и
«Безначальцев» Петербурга.
«Группа «Безначалие» находит, что анархизм, если он
только не желает беспомощно топтаться на одном месте, все
более и более погрязая в невылазную тину реформистского оп-
портунизма и самодовольного ученого доктринерства, должен
поставить на своем черном знамени:
1) классовую борьбу, признавание и резкое подчер-
кивание глубокого классового антагонизма,... который может
исчезнуть лишь на второй день после социальной революции.
2) Анархию, безначалие, отрицание всяких и добрых и
злых властей и правительств и в виду сильной конституцион-
ной горячки, охватившей у нас синих и красных представите-
лей буржуазного общества, беспощадную борьбу со всякими
зигзагами и увлечениями в эту сторону, поскольку этому увле-
чению поддаются и действительные революционеры; противопо-
ставление буржуазному возгласу «долой самодержавие» единого
пролетарского возгласа «долой какую бы то ни было
власть: и самодержавие и земский собор и всякую
форму государственности». В организационном деле
отрицание явных и тайных центров и централистических партий,
торжественно возвещающего или торжественно умалчивающего о
своем существовании централизма, под какой бы благовидной
маской ни старался он скрывать свою настоящую личину.
3) Коммуниз м...
4) Социальную революцию, и ничего кроме нее:
борьбу с реформизмом и легализмом...
5) Как способ ее реализации, беспощадную крова- ,
вую народную расправу, вооруженное восстание на- '
рода, крестьян, рабочих и всякой голытьбы, признавание тер-
рора и всяких восстаний: и открытой уличной борьбы во всех >
возможных видах ее и в какой бы жестокой форме и террор ;
и уличная борьба ни выливались. Революцию еп permanence,
т.-е. целый ряд народных восстаний до окончательного торже-
ства бедноты. Отрицание борьбы за реформы и частичные 1
улучшения.
6) Нигилизм—борьбу с авторитетами в какой бы то
ни было сфере; атеизм, отрицание семьи, борьбу со всеми ос-
новами буржуазной морали и укоренившимися в нашей обыден-
ной жизни, предрассудками и суевериями; признавание краж и
всяких открытых нападений на лавки и дома, совершаемые
угнетенными классами.
7) Работу не только среди крестьян и рабочих, но и среди
так называемой «подлой черни», т.-е. безработных: босяков,
бродяг и всяких «подонков и отщепенцев общества», ибо все
они наши братья и товарищи.
286
А. С.
. ности в борьбе рабочего класса» и неизвестных авторов: «Труп»,
' «Симон Адлер», «Воровство».
В январе из за границы был привезен транспорт литера-
туры—фунтов в двадцать. При тогдашнем голоде на книги это
показалось насмешкой. Денег на издательство также не было.
Товарищ Городовойчик (Ицхох Влехер, казненный 15 ноября
1906 г.) взялся разыскать одесских «Непримиримых» и, связав-
шись с ними, получил от них немного денег и литературы.
•I Началась организация безработных для экспроприации
i хлеба, обуви, платья и т. д.
г Тем же летом анархист Нисель Фарбер тяжело ранил вла-
I дельца крупной прядильной мастерской Кагана. В этой м-астер-
ской происходила стачка. Когда бастовавшие рабочие пришли
снимать штрейкбрехеров, произошла свалка, во время которой
один из рабочих был тяжело ранен железной палкой в голову.
Опасаясь мести стачечников, Каган окружил свою квартиру.и
мастерскую полицией. Дождавшись его у синагоги, Фарбер
тяжело ранил его ударом ножа в шею.
Так в организации стачек с экономическими требованиями,
в террористических актах—ответах на насилия полиции и бур-
жуазии,—в организации эксов для голодных безработных и,
конечно, в усиленной пропаганде, развертывается работа бело-
сточан. Немудрено, что буржуа начинали дрожать и спешили
! удовлетворять требования рабочих, когда узнавали, что в стач-
Иках действуют анархисты. Террор достигал цели и увлек горя-
Цчие головы. И если революционно-анархическая молодежь, сде-
лавшая потом экономический террор чуть ли не главным мето-
। дом борьбы и пропаганды, и была удивительно чиста и прекрасна
|в нравственном смысле, тем не менее она не умела владеть нрав-
ственными силами, как орудием в тех же целях, как силами
организующими и освобождающими. А между тем это более могу-
чие силы прямого действия, чём силы устрашения. Но продолжаю:
Анархическая работа разрослась и окрепла. Удовлетво-
ряться гектографированной литературой стало совершенно невоз-
можно. Группа вместе с с.-р.-овской организацией организовала
\ нападение на легальную типографию и экспроприировала более
двадцати пудов шрифта.
На этом кончается первый и самый тернистый период
анархистской работы в Белостоке (1902—1905 г.г.).
Десять—двенадцать человек, составлявшие белостокскую
группу в первый период ее существования, должны были обла-
дать железной волей, чтобы при таких условиях создать основу
для широкого массового движения. А ведь они, кроме Белостока,
: создали группы в Гродно, Вельске, Заблудове, Хороше, Трости-
нах, Волковыске, Орле, Крынках, Ружанах и во многих других
. местах.
От Бунда и П. П. С. откололись «оппозиции», которые
целиком перешли к группе.
ЧЕРНОЗНАМЕНЦЫ И БЕЗНАЧАЛЬЦЫ
287
В мае 1905 года вся так называемая агитаторская сходка
организации с.-р. вместе с большим числом кружков перешла ,
к анархистам. Среди членов этой сходки были между прочим
Елин (Глинкер) и Судобичер (Цалька-портной, казненный в Bap-i
шаве в ноябре 1906 года). 1
В мае 1905 года белостокская группа состояла из шести-,'
десяти вполне сознательных анархистов. Чтобы производитель-'
нее использовать свои силы, она разбилсаь на пять группок
или—как тогда называли—«федераций». Федерации склады-
вались двояко: или по чисто личным привязанностям их членов,
такова «С.-Р.-овская Федерация» которую составляли бывшие
с. р., или по условиям работы, такова «Польская Федерация»,
задачей которой была агитация в срс “ значительно отсталых
польских рабочих, где другие члены группы не могли работать
по незнанию языка. Каждая «федерация» была вполне автономна:
самостоятельно проводила стачки, распространяла литературу,
заведывала обслуживанием близ лежащих местечек. Для дел,
касающихся всей группы (типография, сношения с заграницей
и т. д.) существовали специальные федерации, или, как мы их
называли, «сходки». Таких сходок было три: техническая, ору-
жейная (белосточане в шутку называли ее «вооруженная» и
литературная. Из них первая заведывала только типографией;
«вооруженная» снабжала группу оружием, которое состояло
главным образом из бомб; литературная добывала из за-границы
литературу и обслуживала типографию рукописями. Неконспи-
ративные дела, касающиеся всех пяти группок, решались обык-
новенно на их общих собраниях. Помню, на первом таком
общем собрании группы, на котором мне пришлось присутство-
вать, обсуждался вопрос о типографии. Шрифт был, не хватало
только денег на постановку. Сбор дал немного более 200 руб-
лей. На эти деньги и была поставлена первая Белостокская
типография «Анархия».
Кроме рефератов для членов группы и кружков для «сочув-
ствующих», устраивались массовки от 300 до 500 человек каж-
дая; почти каждый вечер на Суражской улице («биржа») начи-
нались дискуссии, постепенно переходившие в митинги. Очень
часто эти митинги, в особенности, если выступал Стрига или
Виктор (Ривкинд, казненный в Варшаве в числе 16), собирали
по три и по пять тысяч человек. Из выступавших на этих митин-
гах назову также Вахраха («Нотка», убитый во время погрома).
Среди кружков было также несколько солдатских. Про-
кламации на злобу дня, обращенные к рабочим, крестьянам или
солдатам выходили почти каждые два—три дня.
Для борьбы с анархизмом Бунд стянул все свои интелли-
гентные силы со всего района. Кончилось дело тем, что они
перенесли свою биржу в богатые кварталы. *
Из-за границы в большом количестве экземпляров были
привезены «Хлеб и Воля», «Безначалие», сочинения Грава, Кро-
288
А. С.
поткина и др. Кроме того московская, киевская и петербург-
ская группы присылали нам свои листки (большрй успех имела
перепечатка манифеста к крестьянам, первоначально изданного
московскими анархистами - общинниками). Из Риги покойный
Энгельсом, всецело посвятивший себя делу издания анархической
литературы, прислал довольно большое количество гектогра-
фированных книг и брошюр.
В июне 1905 г. произошла знаменитая лодзинская бойня.
Белостокские максималисты предложили тогда нашей группе
об’единиться с ними для проведения всеобщей стачки протеста.
Предложения максималистов мы не приняли. Было ясно видно,
что рабочие настолько возмущены, что забастуют и без нашего
призыва. Казалось, что если мы будем настолько энергичны,
то движение пойдет куда дальше обыкновенной стачки.
Тут-то Стрига и выдвинул впервые свою идею временной
коммуны. Предстояло захватить город, вооружить массы, выдер-
жать тяжелый ряд сражений с войсками, выгнать их за пределы
города. Параллельно со всеми этими военными действиями дол-
жен был итти все расширяющийся захват фабрик, мастерских
и магазинов. Начинать нужно было со сражений, а для них не
। было оружия. Одна из наших федераций предприняла крупную
1 экспроприацию. Наспех организованная, последняя не удалась.
Здесь определилась высшая точка движения. Переход на
высшие позиции оказался невозможным. Отсюда развитие могло
продолжиться по инерции только в той же плоскости движе-
ния, в тех же формах, какие уже были завоеваны, но лишь
в расширенном масштабе. Дальше же движение ожидали спад
и крушение, так как вне Белостока и вовсе не было сил, кото-
рые смогли бы развернуть движение, поднять его на высшую
ступень революционной борьбы, а тем самым дать под‘емный
толчок и поддержку и Белостоку. Борьба создала организации
наступления, но не дошла до той ступени развития, когда
создаются новые организационные формы быта. Об этом должна
была подумать следующая революция, вернее подготовка к ней.
Но об этом за анархистов подумали другие, которые учли их
опыт. А анархистов было слишком мало. Слишком короток
был период их работы. Не желая командовать, они принимали
на себя все первые удары, шли всегда в авангарде, и ... гибли.
Самые последние оставляли поле битвы и ... гибли. Кто осудит
их революционную совесть.
В «Думах о былом» бывший выдающийся теоретик черно-
знаменства Гроссман-Рощин так рисует кипучую работу
Белостока.
' «В .городах, селах, местечках возникали, как грибы после
; држдя, группы. Белосток был организационным центром, серд-
цем всего движения. Группы сохраняли полную самостоятель-
ность, но всегда делегаты являлись за директивами идейного и
тактического характера. Делались попытки установить единство
ЧЕРН03НАМЕНЦЫ И БЕЗНАЧАЛЬНЫ
289
методов и лозунгов. Откликалась деревня. Белосток кипел.
Вскоре слух о Белостокском анархизме прошел по всей рево-
люционной России. Приезжавшим представителям других партий
местные организации жаловались, что демократические лозунги
среди белостокского пролетариата не имеют успеха, и что есть
опасность захвата всего края анархистами. Беспрерывный тер-/
pop против полиции окончательно дезорганизовал последнюю.1'
За последнее время полиция буквально не смела являться в ра-|.
бочие кварталы, особенно туда, где находилась «ставка» анар
хистов. Характерно, что даже во время безумного, по жесто-
кости, еврейского погрома в Белостоке полиция и даже армия <
не посмели явиться на Суражскую улицу, квартал анархистов», j
«Громадным триумфом было, когда масса работниц пришла
на Суражское кладбище, требуя тут же читать им лекцию
о классовой борьбе, и клялась не сдаваться и не приступать
к работе ни в каком случае».
Октябрь 1905 года со своей всеобщей политической
стачкой показал, однако, насколько не глубинны в массовой
психологии такие скороспелые успехи. Цитированный выше
«белосточанин»1) пишет:
«Под влиянием общероссийского движения рабочие и в на-
шем городе утратили уже начавшееся выясняться представле-
ние о единстве политического и экономического угнетения.
После целого ряда митингов, массовок и частных собраний нам
все-таки удалось добиться того, что рабочие отказались вер-
нуться на работу и выставили целый ряд экономических тре-
бований. Хозяева поспешили эти требования удовлетворить,
благодаря чему движение на этот раз дальше обычной стачки
не пошло.
Перед группой стал вопрос о том, как зафиксировать
создавшееся в моменты столкновений с полицией и хозяевами
боевое настроение масс. Большинство группы, состоявшее из
чернознаменцев, решая этот вопрос, склонялось к тому, чтобы
начать усиленную боевую деятельность, которая, по возмож-
ности, непрерывно поддерживала бы атмосферу войны. Только
несколько человек, незадолго до того вернувшихся из за гра-
ницы, внесли на этот момент предложение легализации анар-
хической работы. В результате приезжие товарищи откололись
в отдельную группу «Анархия». Группа эта выпустила отдель-
ным оттиском статью из «Хлеба и Воли»—«Анархизм и поли-
тическая борьба» и, проработав короткое время, прекратила
свое существование.
Старшая группа после этого уже оффициально была об‘-
явлена чернознаменской. Сейчас же после раскола был поднят
вопрос о реорганизации группы. Все кружки, примыкающие
к нашей группе, были разбиты по профессиям и образовали про-
Гроссман-Рощин, о. с., стр. 176—178-
Очерки.
290
А. С.
фессиональные федерации. Предполагалось, что эти федерации,,
находясь в непосредственной, связи с жизнью своего цеха, будут
-каждый раз брать на себя инициативу стачечных выступлений.
Многие из нас надеялись тогда, что деятельность этих феде-
раций ликвидирует, наконец, пассивное настроение массы, выжи-
давшей помощи от анархистов. Этого, однако, не произошло.
В таком маленьком городке, как Белосток, где почти все участ-
ники революционных организаций знают друг друга в лицо и
живут общей жизнью, от этих федераций очень скоро должно
было не остаться ничего, кроме названия. Но попрежнему масса
продолжала проявлять очень мало боевой инициативы, по преж-
нему ее пассивность возмещалась деятельностью анархической
группы».
То, что я отметил выше, чернознаменцы почувствовали, но
учли по-своему. На вопросе—«как сказать анархическое
слово», чтобы услыхала его «многомиллионная народная масса»,—
они раскололись на два направления: группу «безмотивников»
и группу «коммунаров». Чернознаменский «Бунтарь» (декабрь,
1906) в статье «Недочеты движения», принадлежащей, по сло-
вам Гроссмана-Рощина (стр. 174), Леониду Виленскому, так
характеризует эти направления:
«Как те, так и другие согласны были в том, что движение
принимает нежелательный характер, что теперь (т.-е. тогда) не
время заниматься мелкой местной работой и, во всяком случае,
не в ней центр тяжести анархической деятельности сейчас. Они
находили, что местная работа сдавила, сузила кругозор групп,
что группы всецело ушли в нее и из-за нее не замечают обще-
российских задач анархизма в данный момент, не в состоянии
подняться до них. Согласны были они также в том, что в тер-
рористической деятельности групп преобладают чисто полити-
ческие акты и что акты экономического террора чересчур редки,
бледны и мелки. Им казалось, что политические акты теперь
играют на руку демократии, что должно отказаться от них,
или, по крайней мере, низвести подобного рода акты до воз-
можного минимума, совершая их только в самых крайних слу-
чаях. На первый план, полагали они, должны быть выдвинуты
акты экономического террора. Его проявления надо участить и
усилить. На этом кончалось единогласие «безмотивников» и
«коммунаров»; дальше между ними начиналось крупное’ расхо-
ждение по целому ряду вопросов.
Как формулировали «безмотивники» свое понимание мо-
мента, в чем видели они свою специальную миссию?—Вскрыть
и обнажить грубый буржуазно-демократический обман, проявить
протест, сказать сильно и ярко свое анархическое слово можно
только рядом крупных анти-буржуазных «безмотивных» актов.
Анархисты должны направить свои террористические удары на
буржуазию не только за ту или иную частичную, конкретную
вину ее перед пролетариатом; надо разить буржуа, как пред-
ЧЕРНОЗНАМЕНЦЫ И БЕЗНАЧАЛЬЦЫ
291
ставителей и цвет буржуазного общества. Пусть вечная угроза
смерти, как страшное напоминание о «вечной вине», висит над
буржуа каждый миг, каждый час его существования. Пусть не-
будет среди них «невиновных». Да не знают они покоя.
«Безмотивные» анти-буржуазные акты внесут смятение
и хаос в лагерь буржуазии, быть может хоть «на миг» отвле-
кут внимание масс от демократических лозунгов, раскроют
перед ними новые и яркие горизонты истинно классовой борьбы
и, наконец, подымут падающую энергию групп, углубят и рас-
ширят их кругозор.
Так думали и верили «безмотивники»; и цельно, беззаветно
отдались они своей вере. Была сформирована тесная, небольшая
группа, добыты необходимые денежные средства; начались приго-
товления к актам. Результатом их деятельности было дина- ,,
митное покушение на отель-ресторан «Бристоль» в Варшаве I
в ноябре и оглушительный взрыв в Одессе пяти бомб в кафе
Либмана в декабре 1905 года.
«Безмотивников» не стало...
Перейдем к «коммунарам».
Будучи вообще горячими сторонниками анти-буржуазного
«безмотивного» террора, они, однако,полагали, что индивидуаль-
ный террор не в состоянии разрешить стоящей перед анархи-
стами задачи, что он бесследно незамеченный, потонет в ко-
лоссально-огромной демократической волне. Они утверждали,
что целой исторической полосе нельзя противопоставить инди-
видуальный протест отдельных террористических покушений.
Пройдет революция, говорили они, и образами героев-бор-
цов, кровью павших жертв, крестами братских могил на многие,
долгие годы осветят в глазах масс демократическое знамя. Чем то
дорогим, выстраданным станет оно для них. Враждебно и хо-
лодно встретят тогда массы всякую критику демократии. Чем
то кощунским, святотатственным покажется она им. И надо
теперь же на гуманном фоне демократии создать хотя бы одну
враждебную всей картине точку. Пусть это будет только точка.
Пусть только вспыхнет и угаснет она. Но след она оставит.
Многомиллионные массы заметят и запечатлеют ее в своих
умах, как нечто идущее вразрез с идеями и лозунгами демо-
кратии. Такой «точкой», утверждали «коммунары», может быть
только массовый анархический акт — попытки восстания во к
имя безгосударственной коммуны. Они хорошо сознавали всю 1
колоссальность и трудность такой попытки, всю слабость и не-
соответствие своих сил такой задаче. Но именно глубокая
важность и вся неотложная необходимость в попытке восстания,
во имя коммуны, давали им смелость, заставляли взяться за.
разрешение этой задачи. «Коммунары» стали усиленно гото
виться к деятельности. Была сформирована небольшая группа,
добыто все необходимое для начала работы и скоро вся группа j
была в пути по направлению к избранному городу... Внезапный!
19*
292
А. С.
арест почти всей группы пресек ее начинания в самом зародыше.
Попытка «коммунаров» заглохла...
«Белосточанин» об этом говорит так:
«В декабре 1905 г. из Белостока, с целью вызвать об‘явле-
I ние народом коммуны, выехала в Екатеринослав целая группа
товарищей. Все они, кроме Струги, были арестованы в первые
дни после своего приезда».
Дальше начинает развертываться сначала спад массовой
волны, а затем и крушение движения. Кишиневский (в январе
1906) с‘езд «безмотивников» не дал ничего нового. Стачки и
И терроряст.ическая.-н-оддержка их анархистами окончательно'об-
наруживают, что сама масса неспособна к самозащите, неспо-
собна к решительному прямому действию, что успех стачек —
дело * террора со стороны немногих анархистов, а не самой
массы. И «Белосточанин» отмечает:
«Сбитые с толку всероссийской политикой и политикан
ством, рабочие массы Белостока далеко отошли от ими же
вспоенного революционного авангарда. Вместо того, чтобы быть
застрельщиком движения, этот авангард силой обстоятельств
превратился в единственное действующее лицо.
Т^ТКрах наступил в нашумевшей забастовке нитарей. Перво-
начально забастовало всего человек 300. Но по условиям про-
изводства эта забастовка заставила бездействовать несколько
тысяч человек. С самого начала она приняла самый бурный ха-
рактер. Уже во время снимания с работы на одной из фабрик
произошло форменное сражение с полицией. (В этой стачке
был тяжело ранен и арестован казненный в июне 1907 г. в
Варшаве т. Исаак Гейликман). Хорошо понимавшая положение
дела, крупная буржуазия организовала несколько собраний, на
\ которых было решено во что бы то ни стало бороться до конца!.
Эта стачка, говорили буржуа, должна решить вопрос, кто хо-
зяева Белостока — мы или анархисты. В первые же три дня
| стачки четыре динамитных снаряда было брошено в квартиры
- фабрикантов. Три из этих снарядов бросил т. Юзеф Мыслин-
ский, казненный в Варшаве в 1906 году. Владельцы фабрик
бежали после этого за границу, но, чувствуя за собой мораль-
1 ную поддержку всего, что было в Белостоке имущего, они твердо
стояли на своем и не уступали. Вместо того, чтобы нападать
, на фабрики, рабочие ждали, что сделают анархисты... Был ис-
н ход—взять исключительно на себя войну со всей белостокской
|| буржуазией. Только благодаря случайному присутствию одного
из редакторов «Бунтаря», который сумел доказать, что в таком
единоборстве белостокская группа неминуемо погибнет, ничего
не добившись, план этот был оставлен.
Стачка потерпела поражение...
Дальше в удивительно героической борьбе постепенно
гибнет почти вся группа. Докончила ее, как и всегда, про-
вокация.
________________ЧЕРНОЗНАМЕНЦЫ И БЕЗНАЧАЛЬЦЫ 293
Гроссман-Рощин, бывший чернознаменец, а теперь ленинист,
в статье «Думы о былом» сообразно своей новой позиции, пы-
тается представить «чернознаменство», как некоторого рода
преддверие к ленинизму. Не вступая в диспут, отмечу, что для
«чернознаменцев» существо классовой борьбы было тожественно
с прямым действием рабочих масс, а не с централизованной
диктатурой орабоченной демократии.
Закончу очерк о «чернознаменцах» яркой характеристикой
некоторых из них, данной в цитированной выше неоднократно
статье Гроссмана-Рощина.
«Арон Елин — личность почти легендарная. После его ги-
бели—он был убит солдатами, ворвавшимися на кладбище, офи-
циозный самодержавный «Варшавский дневник» писал, что по-
гибла громадная боевая единица. Арон Елнн один отстреливается и
обращает в бегство казацкий патруль. Совершает террористи-
ческие акты против буржуазии и полиции с поразительным
хладнокровием... Арон Елин точно взвешивает все опасности,
точнее—заранее предполагает, что враг бесконечно сильнее. В
нем нет ни капельки рисовки, авантюризма. Он спокоен, прост и
ясен. Он знает: надо сделать то-то и делает. Елин связан с
массою, он выполняет определенную функцию. Рядом с ним —
Митя. Митя мог бы написать из своей жизни изумительную
поэму борьбы и риска. Митя знает только радость кипучей,
напряженной борьбы. Митя признает одного врага—спокойствие,
размеренность, быт. Бледный, точно изнуренный лихорадкой,
он воистину «ищет бури» и подозрительно смотрит и на группу,
боясь, что она поддается постепеновщине и благоразумию. А
вот — Самуил. Рабочий. Вот сейчас он ложится под деревом и
сейчас же разворачивает Зомбарта. Он «материалист», всегда
говорит о реальной практике, но на деле это «этический роман-
тик». Вот выдержанный, закаленный, крепко с массой слитый,
ровный и заражающий деловым идеализмом Пушель»1).
О работе в других городах под руками нет достаточных
материалов. Просмотр методов работы, произведенный оставши-
мися товарищами в тюрьмах, обнаружил в самом направлении
работы глубокие недочеты, обнажил в «чернознаменстве» боль-
шую однобокость. Но об этом мы поговорим когда нибудь
в другом месте.
«Безначальцев» ярко характеризует уже само подчеркива-
ние—в вышеприведенном в выдержках редакционном заявлении—
мест, близких знаменитому «Революционному Катехизису» Ба-
кунина Нечаевского периода... Фактически они никогда не имели
и не могли иметь такого тесного контакта с движениями масс,
какого иногда достигали «Чернознаменцы», «Хлебовольцы» и др.
Их значение было не в массах сплоченных, там они терялись,
а в массах статистических, распыленных, в значении пропаган-
>) Гроссман-Рощин, о- с. Стр. 179—380-
294
А, С.
дируемого ими словом и делом «распыленного» террора и в раз-
рушительности их нигилистического отрицания всяких начал,
всяких «устоев» общества. Быть всюду, вселяя во властях и в
буржуазии парализующий ужас—такова была привилегия «Без-
начальцев»; быть всюду,'хотя бы даже не самолично, а зарази-
тельностью «распыленного» террора для обезумевших от безы-
сходности, доведенных до крайности несчастных ограбленных
масс. Революции, конечно, и это может пойти в счет, и в боль-
шой счет, и в положительный и в отрицательный. Мы здесь не
будем производить эту оценку. Отметим лишь, что для такой
«тактики» конечно не нужно ни организационных форм, ни
предварительной серьезной выработки общественной психологии.
Фактически такой анархизм обречен быть или лишь выражением
буйного протеста не останавливающейся ни перед чем в своем 1
самоосушествлении личности, которая в этом «обществе» чув- '
ствует себя, как в диком лесу затравленной, или же лишь по-
путным фактом в революционном процессе, обостряющим его. >
Самодовлеющим творческим социальным принципом он быть не *
может. ' -•
Удивительно героические личности таких анархистов, в
силу чистоты своей социальной совести пришедшие (ирония со-
циальной жизни) к террору, зарисованы Иосифом Генкиным
в его книге «По тюрьмам и этапам». Последняя представляет
для нас тем большую ценность, что автор очерков — марксист-
коммунист. Далее я частью излагаю, частью привожу in extenso
отдельные его характеристики.
„Каторжанин Романов (судился под фамилией Тер-Огане-
сова, в книге Генкина от назван псевдонимом-Битбеев. См.
стр. 283) невольно обращает на себя внимание уже при
первом знакомстве с ним. Маленького роста, худой, с темно-
пергаментной кожей и черными на выкате глазами, он по сво-
ему темпераменту был необычайно подвижен, горяч и по-
рывист.
Среди каторжан (в Шлиссельбурге), всегда толпившихся
вокруг него на прогулке и заранее ожидавших, что вот-вот он
скажет что нибудь меткое и едкое, Романов пользовался боль-
шим уважением и любовью. Простота его характера, доступ-
ность, не наносный и рассудочно книжный, а какой то прирож-
денный демократизм, искренность и чуткость невольно к нему
располагали. Нравился он-еще всегдашней готовностью первым
начать бунт против тюремного начальства и поддержать малей-
ший (безразлично, по какому поводу и какой важности) про-
тест против приманок и репрессий».
Сын землевладелицы и купчихи, он еше будучи студентом
Петербургского горного института принимал участие в студен-
ческом движении в начале этого века, сидел, из-за инцидента с
проф. Коноваловым, в «Крестах», а затем был выслан на ро-
дину и исключен из института.
ЧЕРНОЗНАМЕНЦЫ И БЕЗНАЧАЛЬЦЫ
295
В первое время он примкнул к c.-д., проштудировал лите-
ратуру, пытался сойтись с рабочими (шахтерами), но «пьяно-
буйная масса шахтеров того времени мало соответствовала
тому суждению об авангарде человечества и строителей храма
будущего, какое он составил себе на основании отвлеченно-
теоретических рассуждений.
Эмиграция в Болгарию, а потом в Париж разочаровала
его в европейских порядках. Он отходит от марксизма и зна-
комится с парижским кружком русских анархистов-коммунистов.
«Однако, учение Кропоткина, окрашенное в цвет коллек-
тивизации и, сравнительно, миролюбивого просветительства,
скоро потеряло авторитет в глазах нашего бунтаря. С присущей
•ему склонностью находить во всем черты смешного, Романов
рассказывал об отдельных представителях французского анар-
хизма, рисуя их благородными чудаками и шаблонными гума-
нистами».
И вот, в Женеве, он заостряет свои мысли в формулы и
выпускает тот самый «Листок группы Безначалие», который
для многих пылких русских юношей стал в то время их боевым
знаменем. «С помощью двух-трех сотрудников он сам же и
набирал свои статьи и брошюры. В одной из них (привожу
полный заголовок: «О революции и о казарменных добродетелях
господ Тупорыловых». Составитель) он яростно нападает на
социалистов, особенно на германских; в другом памфлете (пол-
ный заголовок: «О Люцифере, великом духе возмущения, „не-
сознательности", «анархии и безначалии». Составитель) он с
едким и искрящимся остроумием ополчается против буржуазных
добродетелей и прославляет врага всякой морали — смелый и
прямолинейный люмпен-пролетариат».
Характерно его поведение на эмигрантских собраниях:
«Взойдет на кафедру, так и не снимая пальто, шапки и калош,
и при общем шуме и протестах одних, одобрении и смехе
других, начнет пускать свои стрелы, смоченные ядом сарказма
и иронии. На подобных собраниях он сам же и продавал и
и распространял номера своего «Безначалия».
Возвратившись в 1906 г., на родину и не устроившись в Киеве,
он пробирается в Петербург, где уже была группа «безначаль-
цев», часть которой составили бывшие «махаевцы».
Из членов этой группы интересен Дивногорский (клички:
«Толстой», «Ростовцев»), «Немолодой уже, лет за 30, уроженец
Саратовской губ., сын чиновника, воспитанник харьковского
университета, откуда он был исключен за участие в студенче-
ских волнениях, Дивногорский, человек подвижной и непоседли-
вый, имел характер непосредственный, темперамент сугубо сан-
гвинический. Вечно носился со множеством планов и проектов.
Пламенный грезовидец, он в то же время был и усердным тру-
жеником, способным приложить массу самой бурной энергии и
296
А. С.
проявить много изворотливой смекалки, лишь бы осуществить
какую-нибудь из своих идей».
«По складу своей души искренний фанатик, отзывчивый
добряк, широкая натура, что называется, рубаха-парень, с очень
некрасивым, но очень привлекательным лицом, Дивногорский
всем своим сердцем был влюблен во все русское».
Увлекшись в университете учением Л. Н. Толстого, он
«немедленно же приступил к практическому осуществлению
своей новой веры: переоделся в мужицкое платье и лапти и
двинулся в деревню пропагандировать царство божие». - «Воз-
мущенный крайне антигигиенической, чуть ли не сарайной обста-
новкой фабричного помещения, в котором жили рабочие», он
подговаривает рабочих сжечь казармы, а в другой раз и сам,
побитый за то, что голодный открыто жарил картофель
из помещичьего огорода, он возмутился и поджег в ту же ночь
помещика. Диссонанс между делом и словом в поведении и жизни
его родственника-толстовца, также «порядком коробил нашего
восторженного и чуткого безсеребренника-демократа».
В Тамбове, где его арестовали по подозрению в бродяжни-
честве, он познакомился с анархистами и нашел то, что искал.
Затем он уехал заграницу, откуда уже возвращается с ма
ленькой типографией и стереотипом от прокламаций, а по до-
роге разбрасывает из вагона им написанные и им же напечатан-
ные прокламации к рабочим и крестьянам.
В Петербурге «сформировавшаяся группа анархистов пе-
чатала и распространяла их по заводам и садам для гуляний в
особых коробках-петардах, заряженных динамитными патро-
нами; коробки с треском взрывались и, привлекая публику, це-
лыми фонтанами рассыпали воззвания и листки. Наряду с этим
группа энергично распространяла среди рабочих рецепты заго-
товления македонских бомб» (любопытно, что в «безначальской»
и «чернознаменской» прессе большое место занимают рецепты
• террора, уничтожения сыщиков, способов поджога и т. д.).
К концу 1905 г., когда в группу вступил сам Романов, в
ней насчитывалось уже 12 человек: несколько студентов (один
из них, по кличке «Адмирал» погиб в Севастополе во время
взрыва тюремной ограды), один исключенный семинарист, одна
женщина-врач, три-четыре бывших гимназистки. У безначальцев
были еще связи с рабочими и матросами, но главной популяр-
ностью они пользовались среди интеллигенции, особенно среди
i учащейся молодежи. Им охотно давали квартиры для собраний и
деньги, а когда они, под фиктивным предлогом убийства, якобы
Победоносцева, собирались на самом деле экспроприировать гла-
вную кассу удельного ведомства и обратились за содействием к
сочувствующим, им дали рублей 500 деньгами и предоставили в
их распоряжение автомобиль. Затем из типографии одной вуль-
гарно-радикальной газеты безначальцам, передавали шрифт для
печатания прокламаций, а один из популярных журналов, в то
ЧЕРН03НАМЕНЦЫ И БЕЗНАЧАЛЬЦЫ
297
время сильно накренившийся в сторону самого махрового мак-
симализма, обещал им место для агитации и пропаганды анар-
хистических лозунгов. Но как раз накануне осуществления
одного очень крупного предприятия почти все наши безначальцы
были арестованы. Выдал их некий Дмитриев. По указанию
Дмитриева охранное отделение арестовало 13 человек, но семе-
рых из них, действительно активных членов группы, Дмитриев
знал мало и их волей-неволей пришлось выпустить. Дивногорский
и Зильберман, посаженные в Петропавловскую крепость, симу-
лировали душевное расстройство и на время отставлены были
от дела. Зато к остальным подсудимым были присоединены еще
два анархиста: Соколов и Сперанский (в книге Генкина «Ран-
ский»). Осенью 1906 г. все безначальцы предстали пред судом
петербургской судебной палаты.
Нет уже ни «чернознаменцев» ни «безначальцев». Они
пали, побежденные, но не смирившиеся. Мне чужд их метод,
но я не могу их судить. Нечто прекрасное во всем их лике, в
их жизни, метеором вспыхнувшей над родной историей, говорит
мне, что сквозь их кровавые жесты говорила прекрасная, обли-
вающаяся собственной кровью среди мук этого мира. душа. Пре-
красная душа, не нашедшая других слов. Я преклоняюсь перед
нею. Пусть в будущем мне удастся положить на их могилу
лучший венок, чем эта наспех составленная, статья.
А. С.
В России и заграницей.
1903—1907.
В революционном социалистическом рабочем движении я
начал принимать участие с 1896 года. Ко времени моего всту-
пления в ряды РСДРП я уже руководил работой нескольких
пропагандистских кружков, состоявших исключительно из рабо-
чих или городских ремесленников гор. Одессы. В это время мне
было 16 лет и я со всем пылом неофита учился сам и учил
других социалистической теории, принимая непосредственное
участие в рабочем движении. Кружки, массовки, массовые заба-
стовки и демонстрации были формами революционной работы.
Моими первыми учителями социализма были Борис Лейбович и
Лиза Тинтман и непосредственно вслед за ними в 1907 году
Л. Д. Бронштейн, теперь Л. Д. Троцкий, который читал «Фило-
софию истории» в кружке учеников училища «Труд».
Революционная работа не могла долго оставлять меня на
одном и том же месте, в одном и том же городе. Уже в начале
1898 года я должен был оставить Одессу и перебраться в Киев,
где снова принялся за учение, продолжая участвовать в рабочем
движении.
В 1901 г. за участие в рабочей демонстрации я был заклю-
чен под стражу на 4 месяца в моем родном городе Елизавет-
граде, с лишением права пребывания во всех университетских
и портовых городах Российской Империи,. После отсидки я пере-
ехал в Екатеринослав, исключительно для революционной работы,
перейдя одновременно на нелегальное положение. В этом городе
я работал весь 1901 год.
После большой рабочей демонстрации 25 декабря, приуро-
ченной к дню чествования восстания декабристов, и много-
численных арестов я был вынужден покинуть Екатеринослав и
проехать сперва в Николаев, потом в Херсон и наконец, в Фео-
досию, где я пробыл до конца февраля. Работа моя велась глав-
ным образом среди ремесленного пролетариата и так как постоян-
ная непрерывная работа в этом небольшом городе не могла
остаться долго незамеченной для шпиков и скрываться стало
трудно, я и мой ближайший товарищ Розенберг задумались
над выбором нового города и нового места для работы.
Таким была избрана Тверь, куда мы пробрались с большим
трудом после многочисленных приключений.
в России и заграницей. 1903—1907 г.г.
299
Март, апрель, май и июнь я пробыл в Твери за очень
интенсивной работой, проводя иногда до шести кружков в день,
то с ткачами Морозовской Мануфактуры, то с рабочими фран-
цузского машиностроительного завода, устраивая время от вре-
мени общие об'единенные массовки в нескольких верстах от
города в густых зарослях кустарников. Однако, и здесь скоро
мы стали предметом усиленного шпиковского внимания. Пришлось
оставить Тверь.
От Московского Комитета я получил новую явку в Нижний-
Новгород. По совету товарищей (Пискунов, Яроцкий, Долгопо-
лов) я решил начать работу в Сормове, где удалось продер-
жаться целых шесть месяцев. Тут впервые передо мною всплыла
властная необходимость пересмотреть ряд пунктов, как моего
мировоззрения, так и тактики рабочего движения. В самых
недрах РСДРП остро стал вопрос: быть или не быть террору.
Появился первый номер журнала «Заря», со статьей Веры Засу-
лич против террора. Вопросы революционных методов борьбы
стали вопросами чрезвычайной остроты. Наметилась необходи-
мость поездки за границу, в Швейцарию, где в то время жили
Плеханов, Аксельрод, Мартынов и другие. В России я не мог
рассчитывать найти ответы на мучившие меня вопросы. В Ека-
теринославе я нашел средства и нужные мне указания для пере-
правы через границу.
В начале марта я был в Женеве и был принят Плеха-
новым. Я не нашел в Плеханове человека, которого искал.
Передо мной был сухой, изощренный в диалектических рас-
суждениях теоретик. В то время, как в рабочем дви-
жении России бурно наростало стремление к революционному
вмешательству во взаимоотношения между трудом и капиталом,
между трудом и государственной системой, Плеханов все время
говорил о необходимости сдерживать назревавшие порывы и
думать раньше и больше всего о накоплении сил. Трудно было
мне не считаться с авторитетом Плеханова, но, не говоря уже
о резком расхождении в вопросе о терроре, целый ряд положе-
ний в вопросах программного характера разделял меня с Плеха-
новым. Тем охотнее беседовал я с Мартыновым и Акимовым.
С ними я был связан по типографии, где набиралось «Красное
Знамя». В то время вся Женева жила бесконечными разногла-
сиями, дискуссиями и столкновениями между представителями
различных мировоззрений. В это время конфликт между
беками и меками в рядах РСДРП, был в полном разгаре. Появился
П. Б. Струве с «Возрождением», оформлялась работа и деятель-
ность партии социалистов-революционеров. На крайне левом
фланге маняще, внушительно высилась система анархического
мировоззрения. Но и оно раздиралось на части: чернознаменство
с одной стороны, синдикализм—с другой. Мучительно было чув-
ствовать себя затерянным и терзаемым этим великим множеством
течений, толков, нюансов и систем, особенно после твердой почвы
300
ТАРАТУТА, А. Г.
практической работы, среди настоящей живой массы рабочих
наших фабрик и заводов. Меня все больше и больше толкало
на крайне левый фланг. Частые беседы с О. И. Таратута, Гогелия,
Церетели, Романовым и другими товарищами; чтение Кропоткина^
Бакунина, Моста и Реклю; доходящие вести об анархической
работе в России все больше и больше останавливали на себе
мое внимание. При свете нового учения особенно ярко выявлялась,
ложь западно-европейского демократизма, нелепость надежд —
решать социальные проблемы путем усовершенствования демо-
кратических форм, во имя которых звала рабочих бороться
и умирать всемирная демократия. Парламентская демократия
ясно вскрывала полную безнадежность самого строительства
на этих принципах. Мне стало ясно, что только путь непосред-
ственной революционной борьбы за уничтожение частной соб-
ственности и государства будет верным и близким. Для меня
стало ясно, что эта дорога моя единственная дорога. В это-
время у нас были идейные попутчики в лице представителей
Махаевского движения. Сам Махайский жил в Берлине. Нас
об'единяла непосредственная борьба за экономическое освобо-
ждение и свержение не только политической системы в лице-
тогдашнего царизма, но и идейная борьба против всех демо-
кратических течений, зовущих к замене монархии демократи-
ческой конституцией.
В начале мая 1904 г. я уже был в России, в гор. Одессе.
Тогдашнее состояние недовольства среди рабочих масс Одессы
нельзя было бы определить иначе, как бурным клокотанием,
готовностью броситься в бой, способностью преодолеть любые
препятствия. Не требовалось длительной агитации, углубленной
пропаганды: каждое слово подхватывалось на лету, призыв
к активности встречался с неудержимым восторгом. Кружки за
кружками росли с неимоверной быстротой. Стачки и забастовки
больших и небольших размеров вспыхивали одна за другой. Все
рвались в бой. Не дремали и враги: каждый день вырывали они
из наших рядов товарищей. Встречи с жандармерией на кружках
или массовках сплошь и рядом превращались в сражения. Не
легко было арестовать кружок во время занятий; в этих сраже-
ниях подчас складывали свои буйные головы то один то другой-
из наших лучших товарищей. Запросы и задачи рабочих дви-
жений становились все острей и острей. Надо было выявить
неуклонную революционную энергию. Одиночки рабочие неудер-
жимо рвались к проявлению активности и в этом была опасность
распыления и нерациональной растраты сил. Общее же высту-
пление только назревало, но еще не назрело. Мы все мучительно
искали тех путей, тех способов, которые могли бы дать общую
спайку и повести рабочие массы к общим и массовым высту-
плениям.
В это время ярко ощущалась потребность не только обви-
нения усилий в том или другом городе отдельно, но и об'единения
В РОССИИ И ЗАГРАНИЦЕЙ. 1903 —1907 г.г.
301
выступлений ряда городов одного района. Так на юге—Екатери-
нослав, Николаев, Херсон, Севастополь естественно тяготели
к Одессе, часто обращались к нам, просили литературы, сове-
тов, указаний и общего организационного плана.
Я выехал в Екатеринослав—там та же кипучая атмосфера.
Массовки в Монастырском лесу собирали по нескольку сот
человек с Чечеловки и Брянского завода. Собрания городских
ремесленных рабочих были столь многочисленны, что собираться
на квартирах стало физически невозможным. Анархическая
мысль все шире и шире прокладывала себе дорогу и завоевы-
вала массы рабочих на фабриках и заводах. Не будет преуве-
личением сказать, что не было ни одного с.-д. и с.-р. собрания,
где рабочие не требовали бы ответа на программные вопросы,
выдвинутые анархическим течением.
Необходимость организационного об'единения в более широ-
ком масштабе стала совершенно очевидной. Стало совершенно
необходимым столковаться с представителями анархического
движения из различных городов. Порыв одиночек к выступле-
ниям стал выливаться иногда в уродливые формы. Необходимо
было спешить с внесением организованности в движение. Нужна
была литература, нужно было завести свой типографский ста-
нок, потребовались средства и оружие для непосредственной
борьбы.
После долгих размышлений наиболее организованная часть
товарищей пришла к решению, что только заграницей, где
находились наши старые и опытные товарищи, можно будет
раздобыть необходимые средства. Меня отправили заграницу
и в октябре того же 1904 г. я очутился снова в Женеве. По до-
роге я был в Белостоке и в Ковно, где нашел ту же картину,
что и на юге России. К миссии, которая была мне поручена
южанами, присоединились и товарищи с запада. В ту эпоху много
наших товарищей было во Франции и Англии. Нужно было
встретиться всем в одном месте и, естественно, что мы оста-
новились на мысли с'ехаться в Лондоне, где в то время жил
П. А. Кропоткин. В декабре 1904 г. состоялась конферен-
ция русских анархистов в Лондоне. Здесь удалось встретиться
с Сашей Шапиро, секретарем Международного Анархического
06‘единения; с старым анархистом еще 60 годов—тов. Нагелем;
здесь были Николай и Ольга Рогдаевы, тов. Гогелия и целый
ряд других товарищей; здесь же я впервые встретился с т.т. Мала-
тестой и Неттлау.
На этой конференции удалось обменяться с товарищами
мнениями по целому ряду вопросов принципиального и такти-
ческого характера. Само собой разумеется, что главной темой
всех наших совещаний были выдвинутые практикой работы
в России. Немало’ было здесь споров и толков, но по основным
вопросам были достигнуты более или менее единогласные реше-
ния. Особенно резко отнеслась конференция к явлению, именуемому
302
ТАРАТУТА, А. Г.
эксизмом. П. А. с необычайной силой теоретической и историче-
ской аргументации продемонстрировал перед нами все то зло
и разложение, которое таит в себе это ненормальное уклонение
революционаризма в рабочем движении. Немало вызывало разго-
воров положение о том, что на практике русским анархическим
движением выявлено было стремление резко отграничить себя от
всех революционных политических партий, остававшихся на
почве политического парламентаризма. Тут весьма авторитетно
высказалось убеждение в преимуществе иной позиции, а именно:
стремление к максимальной солидарности со всеми революцион-
ными партиями, исходя из принципа, что лучше всего итти
врозь, но бить вместе. Также немало вызывала толков оценка
того факта, что целый ряд товарищей и группировок часто
выступали по отдельным частным моментам борьбы отдельными
небольшими группами. И тут с большой доказательностью под-
черкивалось, что такой метод действий крайне неэкономно
распыляет силы без должного эффекта, тогда как все должно
быть направлено к тому, чтобы концентрировать силы и эконо-
мить их с максимальным результатом, как в каждом отдельном
выступлении, так и во главе рабочих массовых выступлений.
На конференции с большой осторожностью и вдумчивостью
было выявлено отношение к единичному террору. И в этом
случае были обильно документированы те отрицательные резуль-
таты, к которым приводил террор в тех случаях, когда им просто
«злоупотребляли», прибегали к нему слишком часто. Примеры
и факты, которые приводились в защиту этого положения, были
столь разительны, что на всех присутствующих произвели глу-
бочайшее впечатление. Не имея возможности здесь остановиться
подробно на работах конференции, я должен сказать, что резуль-
таты их были, несомненно, чрезвычайно благотворными для всей
нашей дальнейшей работы.
Мне нельзя было долго задерживаться за границей. Зная
с каким нетерпением товарищи ждали моего возвращения в Рос-
сию, я только заехал на обратном пути в Женеву, где швей-
царские товарищи анархисты должны были снабдить меня взрыв-
чатыми веществами. В этом отношении много было сделано
тов. Гогелия-Оргейяни, который сносился непосредственно с мест-
ными швейцарскими анархистами. Они то и раздобыли из
швейцарских государственных арсеналов некоторое количество
пироксилина и мелинита. Я наскоро прошел курс искусства
обращения с этими взрывчатами веществами, и разместив по
банкам и пакетам драгоценную, столь страстно ожидаемую в Рос-
сии, кладь, и собрав все что только можно было получить под-
ходящего из революционной литературы, я двинулся в дорогу.
Но в пути меня ожидал большой удар. Те же контрабан-
дисты, которые меня. благополучно перевезли из России,
ожидали меня на обратном пути только для того, чтобы
подороже получить за выдачу меня в руки жандармов. Я ожидал
В РОССИИ И ЗАГРАНИЦЕЙ. 1903—1907 г.г.
303
с минуты на минуту переправы на русскую сторону в погра-
ничном городке Эйдкунене. Это совпало с событиями 9 января
1905 года.
Из немецких газет я узнал, что в Питере происходят
какие-то чрезвычайные события. Из телеграфных сообщений
трудно было представить действительную картину происходившая
Тем с большей силой и нетерпением я рвался поскорей пере-
браться на ту сторону. Но, очевидно, у предателей не все было-
готово. Они откладывали мой переезд со дня на день и только
14 января они мне доставили свидетельство на право перехода
границы для пограничного жителя на имя Моисея Столяр. Неда-
леко от границы в Ландверове комедия была закончена. Десятка
два солдат пограничной стражи во главе с жандармским пол-
ковником окружили меня, тут же обыскали: не раскрывая ба-
гажа, стали мне перечислять, что в нем находится. В тот же
день я был перевезен в Вильно в военную тюрьму, откуда через
два дня, под усиленным конвоем, меня перевезли в Петербург
и водворили в Петропавловскую крепость.
Все для меня рухнуло и рухнуло сразу. Я почувствовал
себя заживо похороненным. 3 месяца я не мог прийти в себя.
К счастью, я своевременно понял, что со мной происходит что-то
неладное. Я с‘умел взять себя в руки и отвести от себя тот
удар, который столь многих поражал в подобных условиях.
Усиленное чтение и изучение 'новых языков —вот чем я старался
занять свою мысль и время, чтобы укрепить свой дух. Немало-
важную роль для меня сыграли в то время мои соседи по кре-
пости: Соня Эфруси, Вера Васильевна Штолторфер и Серафима
Георгиевна Кличоглу, Борис Марков. Перестукивание с ними
весьма скрасило мое существование.
Мои взаимоотношения с следственными властями были очень
упрощенными. После первого же допроса, когда на тонкую
дипломатию и уговаривания, я ответил категорическим отказом
давать показания — меня надолго оставили в покое. И только
через несколько месяцев меня еще раз привели в жандарм-
ское управление^ где я имел беседу с тем самым жандармским
полковником, который меня когда-то арестовал в Ландверове,
и который тут же сообщил мне, что мое дело совершенно
безнадежное, так как правительство решило всех террористов
предавать смертной казни. Мне оставалос^.только поблагодарить
его за любезное сообщение просить меня, больше не тревожить.
Я был всего два раза вызван на допрос за 'все время. Так тянулись
полтора года: пересидел я октябрьские события 1905 года; был
момент, когда, в связи с амнистией, я остался в единственном
числе в Петропавловской крепости, в бастионе Трубецкого. Как
я узнал впоследствии, обвиняемые в террористической деятель-
ности не подлежали амнистии, и в бастионе Трубецкого в это
время, очевидно, кроме меня больше никто не сидел по терро-
ристическим процессам. До сих пор мне не удалось устано-
304
ТАРАТУТА, А. Г.
вить, сидел ли еще кто-либо в то время вместе со мной
в Петропавловке. Сидёние мое в единственном, числе в Петро-
павловке длилось недолго, скоро захлопали затворы на наших
дверях, через которые подавали пищу и кипяток. По счету хло-
панья этих затворов мы вели счет количества заключенных
в нашей крепости. Помню, что тюрьма начала быстро напол-
няться, скоро нехватило второго этажа, куда сажали в первую
очередь, стали сажать в нижний—сырой и темный этаж; среди
новых пришельцев были также на недолгое время переведенные
к нам Шлиссельбуржцы. На мою долю выпал счастливый случай
очутиться через стену в смежной камере с Н. Морозовым. Тут я
впервые узнал от чудесного гостя, посредством упорного пере-
стукивания в стену, о всеобщей забастовке, восстании рабо-
чих, о царском манифесте, о конституции, окончании японской
войны, о вырванной политической амнистии и пр. и пр. Затаив
дыхание, я ловил каждый стук через стену. Вскоре хлопнули
затворы в дверях камеры Морозова. Прервался стук в стену.
В этот же день Н. Морозова куда-то вывели из камеры и стена
снова замолкла.
Так я просидел до 6 мая. Уже в пути, в вагоне, мне
жандармы сказали, что в этот день открывается Государственная
Дума. Меня везли обратно в Вильно на суд, который был на-
значен и состоялся 16 мая. Меня приговорили к ссылке и на „веч-
ное" поселение в Сибирь. От весны Святополка-Мирского и
медовых дней существования Думы мне тоже кое-что перепало:
меня не приговорили к каторге. Просидел я в Виленской тюрьме
в Лукашках до начала сентября 1906 года. Несмотря на то, что
эта тюрьма была одна из самых отвратительных провинциальных
тюрем, я ее не замечал. После полутора годового из'ятия
из внешней жизни, я снова встретился с товарищами, узнал
от них, как сильно разрослось за это время анархическое дви-
жение по всей России. Действительно, не было ни одного малень-
кого города, в котором-бы не было анархистов. Широко развилась
и всюду проникла анархическая мысль. В то время, как все
демократические партии, соц.-революционеры и соц.-демократы,
в том числе, всячески приспосабливались к новой конституции,
единственно анархическое течение боролось против всякой
и всяческой конституции, как новой еще более утонченной
формы политического обмана и экономического грабежа. В это
время анархическое течение было первым и единственным
течением за социальное равенство, за свободное самоуправление,
за безгосударственный коммунизм.
С этого же времени у меня еще в тюрьме востанавли-
вается самая тесная связь с товарищами, как в России так
и за границей. Удается вступить в оживленную переписку
с друзьями, с некоторыми удается встречаться и на свида-
ниях. Ждут на воле. Работы масса. Предлагают устроить по-
бег с пути. В сентябре меня отправляют в кандалах по этапу
В РОССИИ И ЗАГРАНИЦЕЙ. 1903—1905 г.г.
305
в Сибирь — в Тобольскую губернию. По дороге останавливаемся
в 20 тюрьмах. Всюду масса старых друзей и новые встречи.
Всю дорогу до Сибири мы едем под развернутыми черными и
красными флагами, развевающимися из окон арестантского вагона.
На станции нас встречают толпы рабочих и крестьян. Речи,
обещания, угрозы и пожелания. В половине октября я на месте
ссылки в деревне Ашлык, Тобольского уезда и губернии.
В ноябре (через 28 дней) я уже „бегу" и в начале декабря
я в Киеве. Отсюда спешно еду в Одессу, по вызову для участия
в устраивании побега Ольги Таратута, осужденной на 18 лет ка-
торжных работ. Побег удается и в 20-х числах декабря мы обо-
сновываемся для революционной работы в Москве с целым рядом
товарищей, приехавших вместе с нами. Особенно нужно отметить
тесную связь, установившуюся между анархической организацией
в Москве и рабочими брянского завода. Здесь нужно отдать дань
глубокого уважения светлой личности юного товарища Евгения
Краснощекова, которого панически страшились Брянские власти,
для которого они трусливо добивались смерти во что бы то ни
стало, и добились ее.... Евгений разбудил многие тысячи рабочих
Брянского завода к активной непосредственной борьбе против
власти капитала и государства. Под влиянием его страстной
агитации рабочие массы целого фабричного района в 1907 году
добивались полного свержения угнетателей всякого рода. Впервые
заронил Евгений в этом районе семена борьбы за безгосудар-
ственный коммунизм.
Время было тяжелое, начало 1907 года — разгул черной
реакции, карательных экспедиций, полевых судов. Под бременем
бешеных репрессий революционное движение ушло вглубь как
в городах, так и в крестьянстве. Несмотря на то, что револю-
ционные организации выкашивались одна за другой с чрезвычай-
ной быстротой, на их месте зарождались новые. Перед нашим
приездом в Москву, только что произошел большой разгром
анархической организации. Тем не менее в одну-две недели—
связи были востановлены, работа закипела с новой силой. Про-
пагандистские кружки проводились, нами по 5-6 в день. Через
рабочих этих кружков беспрерывная агитационная работа шла
на целом ряде фабрик и заводов, и среди рабочих городского
трамвая и чаеразвесочных. Через кружки распространялась лите-
ратура, которую раздобывали с большим трудом и в чрезвычайно
недостаточном количестве. Недостаточность литературы была
органическим недочетом всей революционной работы вообще, а
в работе анархистов в особенности. Запросы же и требования на
литературу были необычайно многочисленны и настоятельны.
Приходилось прибегать как можно чаще к печатанию и распростра-
нению прокламаций. Количество примыкавших к анархической ор-
ганизации рабочих росло с замечательной быстротой. Мы были
не в состоянии удовлетворять запросы на пропагандистов, аги-
таторов и на литературу, поступавшие из рабочих районов.
Очерки. “
зсб
ТАРАТУТА, А. Г.
Такая напряженная работа продолжалась около трех с по-
ловиной месяцев. Из нас уцелели немногие: к счастью, между
уцелевшими от ареста была Ольга Таратута, хотя полиция ее
уже настигала. Однако ей удалось вырваться из ее рук и вскоре *
уехать за границу. Вновь наступила для меня пора сидения по
тюрьмам, в каторге, ссылке, и позже в эмиграции. Активная
работа непосредственно в рабочей среде надолго была прервана..
А. Таратута
„Свобода внутри нас“. >
(К истории анархического движения в Севастополе после
революции 1905).
В начале 1907 года, в Севастополе появилась Рев. Боевая
Дружина под наименованием «Свобода внутри нас».
За давностью лет, мне не удалось отыскать всех листков,
издававшихся данной группой; нет также обвинительных актов
судебных процессов, имевших место в 1907—8 гг.
В первом выпущенном «Извещении», найденном ныне и
хранящемся в Одесском Истпарте (папка лит.—«С»), Севаст.
Р. Б. Дружина заявляет следующее: «работать внутри партии
Соц.Революционеров мы не можем, директивам С‘езда подчи-
няться отказываемся и нашу самостоятельную, вне партии ра-
боту, находим более продуктивной».
Здесь шла речь о том знаменитом с'езде партии Соц.-
Революционеров, на котором постановили централизовать бое-
вую работу, обязав периферию информировать Ц. К. о всех
начинаниях и проектах. Конечно, теперь мы знаем, что в этом
решении видна была твердая воля Азефа, стремившегося дер-
жать в своих руках нити замыслов боевиков; таким образом,
Центральная Охранка являлась не слепой Немезидой, а кара-
ющей по выбору, как своих, им не нравившихся лиц, что пока-
зало «дело» Столыпина—Багрова, так и тех, кто имел прича-
стность к революционному подполью.
Рев. Боевая Дружина «Свобода внутри нас» зародилась
несколько раньше, чем вступила в партию—с.-р. и задолго до
выхода из этой же партии.
История возникновения группы такова:
В Севастопольском «Боржоме»—ночлежном приюте, среди
босяков появился некто и золоторотцы дали ему кличку «Джон-
ка». Скоро вокруг него сгруппировалось человек 10 отобранных
им товарищей. Эта первоначальная ячейка, после того, как
провела насильственуню забастовку в Севастопольском порту,
по случаю проводов осужденных матросов на каторгу, Севаст.
Комитетом партии с.-р. была приглашена работать совме-
стно с боевым отрядом партии. Отсутствие средств и оружия
не давали возможности »Джонке» с товарищами организовать
2G*
308
АНДРЕЕВ, Л.
самостоятельную активную единицу. Группа приняла предло-
жение с.-р-, вступила в их организацию, хотя небыла эсе-
ровской идеологии: анархическим духом было пропитана она,
боевизмом грезила.
«Джонка», бывший с-демократ, работавший в Киеве и
' Иваново-Вознесенске под кличками, в первом—«Андрея», а во
втором—«Степана», вел среди своих товарищей пропаганду
анархизма, был представителем и идеологическим выразителем
народившейся группы.
Период работы с эсерами ознаменовался актами, за кото-
рые несколько товарищей цогибли на эшафоте.
(° Так между Симферополем и Феодосией была экспропри-
ирована почта, но об этом не было оглашено в отчетах партии;
в Севастополе убит начальник охранного отделения «доктор
Петровский», скрывавшийся под этим псевдонимом провокатор,
за это дело казнен тов. «Машина»; в Феодосии бомба, брошен-
. ная в градоначальника Давыдова, не взорвалась, а браунинг дал
осечку, тов. «Немец» повешен; в Ялте, снаряд, ударившись о
ветку дерева, взорвался в воздухе и известный Думбадзе отде-
лался испугом, из товарищей, «Мастеровой», не желавший
скрыться покончил с собой выстрелом, второй—«Иосиф» благо-
получно ускользнул.
Таким образом, первоначальная группа в 10 человек имела
уже свой синодик; была обстрелена и закалена в огне боевого
фронта. «Джонка» выехал в Петербург для работы в боевом
отряде при Ц. К. партии с.-р.
— Недовольство среди оставшихся, замечавшееся раньше
и начавшееся с неудачных террористических актов, плохо
организованных, стало выливаться в открытую оппозицию. Роль
смертников, нечуткое отношение к товарищам, третирование
их иногда как кондотьеров, и в то же время жизнь их в про-
голодь и в холоде, вызвали к моменту возвращения «Джонки»
стремление порвать с партией с.-р.
В апреле, среди белого дня, была совершена экспроприация
! севастопольского почтамта, давшая- в кассу организации
18,000 р., что видно из первого отчета Р. Б. Друж. «Свобода
внутри нас», приложенного к извещению, отпечатанному и
распространенному в количестве 2 тысяч экз. Боевая дружина,
вместе со старыми членами, около 20 чел. вышла из партии
с.-p., образовав самостоятельную партию под известным уже
необычным наименованием. Выход этот вызвал большой шум
не только среди эсеров. Как мне передавали, и Плеханов ото-
звался статьей, в которой писал, что верно... «Царствие божие...
внутри нас» и, правда—«врата адовы не одолеют его», но и т. д.
В Симферопольской и Севастопольской тюрьмах на дверях
многих камер появились надписи: «Свобода внутри нас».
Первым делом народившейся боевой дружины было улуч-
шение лаборатории взрывчатых веществ и оборудование типо-
«СВОБОДА внутри НАС» 309
^истков и считалась одной из лучших
график. Поставленная подпольная типография успела до своей
ликвидации издать 7
в России.
Изящество работы с полиграфической стороны, виньетки,
заставки, общий тираж до 30.000 экз., не могли допустить
мысли, что это—выпуск «подпольной типографии». Под Бала-
клавой сняли домик в три комнаты, где под видом душевно-
больного поселился тов. наборщик. Специальный письменный
стол имел открытую внутри наборную кассу: в диване храни-
лись корректурный станок и вал, экспроприированные в ти-
пографии газеты «Крымский Курьер».
Помню заметки в «Биржевых Ведомостях» и «Маленькой
всеобщей газете», в которых писалось о появлении в Крыму
строго дисциплинированной, неуловимой шайки бандитов, под
лозунгом «Свобода внутри нас», на которые боевая дружина
ответила информационными письмами, отпечатанными в своей
типографии, с приложением всех изданных до того листков.
Неудивительно, что на полях «Извещения» Б. Дружины,
рукою охранника сделана пометка: «самое главное—захватить
типографию».
Вместе с «Джонкой"—он же «Митрофан»—в Б. Дружине
находился бывший эсеровский инструктор «Стенька»; они и
были главными инициаторами и руководителями работы. «Митро-
фаном» были написаны все изданные дружиной листки.
Лабораторией в подземной, замаскированной пещере, на
хуторе Карабуб в 30 верстах от Севастополя, ведал химик—
Карл Штальберг («Дальний»), впоследствии сжегший себя в
Симферопольской тюрьме. Это был серьезный, с колоссальной
выдержкой товарищ. Хотя я сам прошел лабораторные курсы,
но не представлял себе остроты напряжения при контроле"'"'
бомб во время выемки капсуль с гремучей ртутью. Застав од- ]
нажды Штальберга за работой, я понял какого нервного
напряжения она стоила. Малейшая оплошность или неосто-
рожность грозила мгновенной смертью не только ему, но и
всей его семье. -1
Деятельность дружины расширилась и имела свои филиалы
среди крестьян Херсонской губернии, где велась агитация.ь
Полиция терроризировалась, судьи убивались, сжигались поме- il
щичьи усадьбы. В этой губернии казнено около 18 человек I
с Рабоштаном во главе. Дружина имела связь с Таганрогом,
Одессой, Елисаветградом, с матросами Черноморского военного
флота, портовыми рабочими Севастополя. Но только общим
сочувствием масс можно об‘яснить сравнительную долговечность
дружины.
Последний выпущенный листок «Что же делать», с тира-
жом в 6.000 экземпляров был найден в 1925 г, при разборке
на слом фрезерного станка. Это указывает, что идеи дружины
проникали в самую гущу рабочих.
310
A H
РЕЕВ, А.
В Севастополе, полиция была столь запугана, что боялась
появляться в одиночку и ходила табунами, в особенности это
имело место на Корабельной стороне, которую еще Думбадзе
) хотел снести с лица земли и засеять пшеницей.
Некоторые чины полицейской администрации искали пред-
ставителей Дружины для предложения своих услуг; в охранке
’ находился бывший жандарм, человек абсолютно надежный, от
которого мы имели сведения. Интересен эпизод, когда отставной
П адмирал, приглашал нас для переговоров, обещая дать средства на
. убийство столь крупного бюрократа, что не решался назвать
чего фамилии; дружина, конечно, отказалась иметь с ним дело.
В «извещениях» оглашен первый список из пяти человек
контр-революционеров, уничтоженных дружинниками. Позже
был издан новый перечень. О каждом своем выступлении бое-
вая дружина оповещала печатно. Адская машина, подложенная
I, в один из домов на Корабельной стороне, после анонимного
доноса, что именно там хранится легендарная типография, взры-
вом уничтожила несколько человек полиции и выбила из колеи
власть имущих. Ликвидация шпиков, агентов, стала будничным
3 делом.
, Одно время дружина настолько чувствовала свою мощь,
что предполагала об'явить Севастополь на военно-революционном
положении. Но некоторые потери товарищей отразились на
работе боевиков. Так был арестован товарищ Баздырев за пись-
менным столом, в котором хранились снаряды и оружие; он
оказал вооруженное сопротивление полиции и уже со связан-
ными руками вырвался и исчез бы, но его указал один из обы-
вателей. Его вновь схватили;в ночь с 26 на 27 сентября 1907 г.
Баздырева казнили. С 30 октября на 1 ноября того же года,
Г повесили «Неизвестного»; судьба его трагична до жути: он
стрелял в тюремного надзирателя, дежурившего под воротами;
за ним устремилась погоня. Устав, и не будучи в состоянии бе-
жать, он присел на землю и выстрелил себе в висок, но пуля сколь-
знула, едва задев кожу. Тогда он другой рукой пустил пулю
в противоположный висок; она пошла рикошетом, повредила
челюсть, зубы и, залитый кровью, но все еще живой, он был
взят. В тюрьме «Неизвестный», бывший чернорабочий, пытался
отравиться, но неудачно: резал стеклом вены, покалечил пальцы.
Однако палачи зорко берегли его и вылечили. Его вывели на
эшафот в белом мешке—как «куль с опилками»; он умер
^•«Неизвестным», незаметным героем. Баздирева и «Неизвестного»
казнил палач Жекмаки: их. имена он занес в свой дневник,
найденный и изданный в период революции.
25 апреля 1908 года повешен Михаил Кучеров, аресто-
ванный в 1907 году за групповое вооруженное сопротивление
полиции, в котором участвовало шесть товарищей. После этого
вооруженного отпора, не было возможности оставаться в Се-
вастополе, сравнительно небольшом городке.
«СВОБОДА ВНУТРИ НАС»
311
В Таганрогской тюрьме также ожидали своей участи
несколько товарищей за другое вооруженное сопротивление при
аресте; среди них находился Мефодий Мартынцов, после не-
скольких удачных побегов, казненный в Новочеркасске за
подготовку покушения на Харьковского губернатора.
Решено было свернуться всей дружине и перекочевать
в другой город. Типографию зарыли в землю. Часть товарищей
перебросилась в Киев; там, благодаря провокатору, многие сразу
были арестованы и революционная боевая дружина «Свобода
внутри нас», в начале 1908 года прекратила свое суще-
ствование.
* *
К какому же идеологическому течению примыкала и что
выражала в своих листовках, некогда грозная боевая дружина.
За отсутствием других документов процитирую данные из
судебного приговора по делу группы, судившейся в Севастополе
11—12 декабря 1908 года в числе 16 человек:
«Вступили в сообщество, присвоившее себе наименование
севастопольской революционной боевой дружины «Свобода
внутри нас», заведомо для подсудимых поставившее целью сво-
ей деятельности насильственное посягательство на изменение
в России установленного законами образа правления, отвер- .
гающее власть вообще и всякий государственный
строй, требующее от сухопутных и морских войск воору-
женного восстания, а от всех граждан насильственного путем j
террористических актов захвата частной собственности..., при-
зывающее к уничтожению всякой власти, законов и к'
захвату всего в свои руки, а солдат и матросов к вооружен-
ному восстанию под красным знаменем с надписью: «Наше
оружие за народ»...
В цикле листков, под очень резким и для того времени
заголовком—«Смерть власти богр>, «Смерть власти государ-
ства», «Смерть власти буржуазии», боевая дружина была со-
звучна с анархизмом.
Хотя она не связалась идеологически ни с одной группи-
ровкой и не согласилась примкнуть к «южно-русскому союзу
анархистов», от которого из Одессы приезжал Петр Черный,
но по общим линиям своих настроений, она выявила себя
вполне анархической.
В своем последнем листке «Что же делать»? группа при-
зывала к «Всеобщей экономической забастовке, прекращению
какой бы то ни было работы на капиталистов и государство..,
не для политической свободы, а для уничтожения экономиче-
ского неравенства».. «Когда сила будет на нашей стороне, то
первым долгом захватим все нам необходимое, дабы бороться .
дальше; необходимо разоружить всех врагов народных и их
-уничтожить, необходимо уничтожить все акты на продажу и |
312
АНДРЕЕВ, А.
куплю земли и т. д., уничтожить и запахать все знаки границ
собственников земли, уничтожить все документы в банках,
казначействах, судах, конторах, чтобы в случае неудачи на-
шего восстания дезорганизовать их их же оружием»..., «пересе-
лить всю бедноту из лачуг в дома богатеев, установить общее пи-
тание для всех, ни в коем случае не выбирать представите пей
в Учредительное Собрание, ни в коем случае не позволять
образоваться Временному Правительству...» и т. д.
Нам нужно добавить еще несколько штрихов, чтобы за-
кончить очерк драматической судьбы дружины «Свобода внутри
нас».
Куда шли и как распределялись экспроприированные деньги?
Из первого напечатанного отчета, имеющегося у меня под.
руками видно, что
«Передано в Севаст. к-тет партии С.-Р-ов . 5.329 р.
«На оружие ..............................1.412 р.
«Техника (лаборатория А. А.).............. 800 р.
«Конспиративные расходы (типография А. А.) 378 р.
«Передано в Красный Крест................. 300 р.
«Помощь семьям арестованных................ 70 р.
Помню случай, когда налетчики от имени дружины «Сво-
бода внутри нас», вырезав нашу печать с листовки, наклеили,
ее на письмо с требованием денег и послали крупному купцу.
Последний обратился к дружине с просьбой оградить его от
шантажа. По этому поводу был выпущен специальный листок,
где указывалось что дружина не защитница буржуазии, но
будет протестовать и примет меры против высгуплений от ее
имени.
Из судебного приговора, по 102 ст. Уг. Ул. по делу «16-ти»
видно, что трое были оправданы—Елизавета Караваева, Ека-
терина Штальберг, привлекавшиеся за лабораторию в Карабубе
и один слизняк, случайно оказавшийся на этом процессе.
Осуждены по делу «16-ти» следующие лица, из которых
некоторые уже имели смертные приговоры и каторгу по другим
процессам группы:
1. Агафонов-Мартовский С.—«Стенька», бежавший, бес-
срочный каторжанин, осужденный за вооруженное восстание.
Приговор усилен одиночным заключением с продолжением
кандального стажа.
2. Андреев Андрей Н. (он же «Джонка», «Митрофан»,
иногда «Отец Митрофан», «Николай Богданов», «Филипп Яцы-
шин») с 1902 года принимал активное участие в партийной
работе; осужден на 15 лет каторжных работ, потом к смерт-
ной казни.
3. Гизер Георгий И., приговорен на девять лет каторжных
работ, ранее привлекался за ноябрьское восстание матросов
в 1906 году и получил 4 года тюрьмы, бежал.
«СВОБОДА ВНУТРИ НАС»
313
4. Пыркин Михаил Л., приговорен к бессрочной каторге;
раньше судился за отстрел и приговорен к смертной казни.
5. Ященко Филипп Я., к бессрочной каторге; ранее при-
влекался за отстрел и приговорен к смертной казни.
6. Чесноков Николай Н., на 15 лет каторжных работ.
7. Чесноков Николай П,—на 9 лет каторжных работ.
8, Левченко Фома Л.—на 15 лет каторжных работ, потом к
смертной казни.
9. Гордеенко Ф.—на 12 лет каторжных работ, потом
с смертной казни.
10. Ткаченко Петр С.—на 10 лет каторжных работ, потом
к смертной казни.
И. Соютин Федор А.—на 6 лет каторжных работ.
12. Пеньков Афанасий И.—на 6 лет каторжных работ.
13. Мирошниченко Илья А.—на 5 лет каторжных работ.
По процессам в Севастополе и в других городах—Никиты
Скрипниченко, Жени Рожановского и.др. было много смертных
приговоров. Женя Рожановский, живчик, способный на совершенно
неожиданные проявления своих скрытых талантов. В Херсон-
ской губернии он и Никита Скрипниченко после экспроприации
почты, окруженные во время отступления сотнями крестьян, охот-
ников с собаками и ружьями, оказавшись в центре большого
замкнутого враждебного круга, не желая стрелять в толпу,
по требованию преследователей, разделись догола и сдали
оружие. Но Женя выступил с речью столь захватывающей, что
женщины плакали. Когда стало темнеть; один крестьянин сделал
знак глазами, преследователи расступились и пленники прошли
свободно сквозь строй. В деревне их спрятали в телеге под
сеном и вывезли в Елисаветград, через кордон. Никита Скри-
пниченко, самоотверженный работник дружины, за отстрел
при аресте в Севастополе был судим военноморским судом
и казнен; перед смертью он бросил в лицо своим врагам все
совершенные им дела. Их оказалось около 30-ти. Такая де-
ятельность, из ряда выходящая, была не всякому по плечу.
Помимо того, он взял на себя дело и кличку «Митрофана»,
выдавая себя за него, желая его спасти; только случай помешал
осуществлению этого плана, но карты жандармов он смешал.
Через 9 лет, в 1917 году, часть попавших в неволю была
освобождена революцией и приняла участие в новой революцион-
ной эпохе. Некоторые погибли, а кое-кто жив и до сего дня.
31 Декабря 1925 г. Андрей Андреев.
Москва.
Анархические течения накануне 1917 г.
Анархическое движение в России шло волнами, то поды-
маясь до наибольшей высоты с ростом революционного дви-
жения, то падая и даже исчезая совершенно. Вал за валом
идет с многолетними промежутками, каждый раз вовлекая
в движение новые поколения людей.
, Первая волна анархического движения поднимается в 70-х г.г.
; и сходит на нет уже в начале следующего десятилетия. Вторая
волна поднимается в 1904—5 г. г., причем суровые преследо-
| вания царского правительства в несколько лет разбивают его.
i После 1907—8 г.г. наступает временное затишье: одни истре-
j блены, другие заточены в тюрьмы, третьи вынуждены скрыться
заграницу. Оставшиеся на воле притихли в ожидании лучших
времен. Некоторое оживление замечается после 1912 г., который
вообще был переломным годом в русском революционном дви-
жении, и третья волна поднимается лишь в 1917 г.
Но если не было преемственной связи между первым и
вторым поколением русских анархистов, то этого отнюдь
нельзя сказать о третьем поколении, которое унаследовало от
второго не только литературу и традиции, но частью и актив-
ных работников. В особенности же сильно было влияние второго
поколения на анархистов периода безвременья, т. е. накануне
революции 1917 г.
Анархическое движение в России после 1912 г. возро-
ждается частью благодаря проявлению активности анархистами,
оставшимися на воле или освободившимися из тюрем, частью
проникает из-за границы через возвращающихся эмигрантов и
доставляемую ими литературу, частью же, благодаря влиянию
литературы, изданной анархистами в 1905—7 г. г. Последним
путем идет молодежь, выросшая после революции 1905—7 г. г.
Но... все дороги ведут в Рим—гласит старая поговорка. Каким
бы путем ни возникали новые анархические группы, в дальней-
шем они находят друг друга и работают вместе.
В 1911 г. среди студентов Московского Коммерческого
Института организуется кружок изучения анархизма. Кружок
небольшой, человек 10—12. Изучают анархизм по книгам,
оставшимся от революции 1905 г. В это время у букинистов
г. Москвы можно было найти кое-какие анархические издания,
подчас даже нелегальные, в большом количестве экземпляров.
АНАРХИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ НАКАНУНЕ 19'7 Г. 315
В библиотеке кружка имелись следующие издания: Кро-
поткин—«Речи бунтовщика», «Хлеб и воля» (Завоевание хлеба»),
«Поля, фабрики и мастерские», «Взаимопомощь, как фактор
эволюции», «Записки революционера» и ряд мелких брошюр
того же автора; Жан Грав—«Умирающее общество», «Будущее
общество»; С. Фор—«Мировая скорбь»; Реклю—«Анархия»;
Малатеста—«Крестьянские речи», «Краткая система анархизма»;
Маккей—«Анархисты»; Штирнер—«Единственный и его досто-
яние» (двухтомное издание с комментариями Гохшиллера и
Гиммельфарба); Тукер—«Вместо книги»; А. Боровой—«Идеалы
современного человечества»; Я. Новом.ирский—«Из программы
синдикального анархизма», «Манифест анархистов-коммунистов»;
Бакунин—«Государственность и анархия» и ряд других мелких
брошюр разных авторов. Кроме того в библиотеке имелась
литература неанархических авторов, как например, Л. Куль-
чицкий—«Современный анархизм», Л. Кульчицкий—«Анархизм
в России», Цокколи—«Анархизм», Эльцбахер—«Анархизм»,
Боргиус—«Теоретические основы анархизма», Штаммлер - «Тео-
ретические основы анархизма» и критическая литература об
анархизме разных авторов.
Все. это добросовестно прочитывалось членами кружка,
давая пищу докладам и бесконечным спорам. Собрания кружка
чередовались с вечеринками, благодаря которым ширились связи
со студенчеством, росло число сочувствующих и анархическая
литература ходила по рукам.
Переварив прочитанную литературу, кружок начал идео-
логически оформляться. Индивидуализм был отвергнут и ком-
мунистический анархизм стал мировоззрением членов кружка.
В 1913 г. осенью было решено преобразовать кружок в «Группу
анархистов-коммунистов»1).
Приступая к политической деятельности, группа стала
вырабатывать программу практических действий и искать связи
с анархистами других стран.
В комментариях к книге Штирнера нашли адрес италь-
янского анархического журнала «Пенсиеро» и написали письмо.
Через две недели получили открытку от Луиджи Фаббри, из
которой узнали адреса итальянских анархических газет и через
несколько недель стали получать «Волонта» и «Аввенире Анар-
кико». Из «Записок революционера» узнали, что Ж. Грав из-
дает в Париже «Тан Нуво» и написали ему. По прошествии
двух недель стали аккуратно получать этот журнал. В эспе-
рантском журнале «Ля Воче де ля Пополо» нашли адрес аме-
риканского «Голоса Труда» и вскоре стали получать это из-
дание на условный адрес в МКИ, а также письма от Максима
Раевского. Родственник одного из членов группы ездил в Гер-
манию по коммерческим делам и его упросили привести нам
«Фрейе Арбейтер». Честный немец покривлялся, но исполнил
просьбу. Из Испании получали «Тиерра е Либерд'а».
316
В. X У Д О Л Е Й
Затем попробовали спросить у Ж. Грава, не может ли он
дать нам адрес какого-нибудь анархического журнала на рус-
ском языке. Он ответил отрицательно, но добавил, что пере-
даст письмо русским товарищам. Вскоре группа получила по услов-
ному адресу «Рабочий мир» и письмо от Р. А. (Рабочий Альфа—
Аникст Гиттерман). Последний просил группу найти способ отре-
комендоваться, чтобы знать, с кем он имеет дело. Тогда группа
обратилась к Голубю—с.-д. эмигранту, который одно время скры-
вался у членов группы после бегства из ссылки, пока не достал
заграничного паспорта. Голубь отрекомендовал ее редакции «Ра-
бочего мира», после чего с последней установились прекрасные
отношения. Сам же Голубь вскоре перешел в ряды анархистов.
На страницах «Рабочего мира» обсуждался вопрос о син-
дикализме и антисиндикализме. Ясно, что группа тоже должна
была проработать эти вопросы, окунувшись в те споры, кото-
рые разделяли в 1906 г. русских анархистов на фракции «хлебо-
вольцев» и «чернознаменцев».
Это разделение группа понимала таким образом. Анар-
хизм—это народное массовое творчество, которое возникает
в результате взаимодействия сознательного меньшинства и массы.
Сознательное меньшинство выражает наиболее глубокие, основ-
ные интересы своего класса, которые вследствие этого явля-
ются более удаленными, более общими и менее индивидуаль-
ными. Масса же, наоборот, руководствуется в своей деятельно-
сти более близкими и понятными повседневными нуждами и
интересами, преимущественно экономического характера. Твор-
ческое, взаимодействие возникает тогда, когда сознательное мень-
шинство представляет массе ее основные классовые интересы
в простой и наглядной форме повседневных требований, а масса,
действием поддерживая эти требования, постепенно поднимается
до понимания своих основных интересов и усваивает идеологию
сознательного меньшинства. Действуя таким образом, масса
перевоспитывается в духе анархической культуры, перестраивая
общество по образу и подобию своему.
Взаимодействие между сознательным меньшинством и мас-
сой развивается таким образом: сперва оно актами индивиду-
ального протеста привлекает к себе внимание масс и возбу-
ждает недовольство масс теми явлениями, против которых
направлен протест; когда же эта цель достигнута—сознатель-
ное меньшинство организует акты коллективного протеста,
пытаясь вызвать подражание со стороны масс и направить мас-
совое движение по намеченному им руслу; когда же массовый
протест принял стихийный характер и протекает в анархиче-
ских формах, сознательное меньшинство переходит к актам
свободного строительства, увлекая массы на путь строительства
анархо-коммунистического общества.
Группа анархистов-коммунистов твердо усвоила мысль,
что террористические акты анархистов, направленные в 1904—
3
АНАРХИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ НАКАНУНЕ 1917 Г. 317
5 г. г. против власти и капитала, имели целью обеспечить
анархизму место среди других политических партий и напра-
вить внимание масс на борьбу с капитализмом (в противовес
чисто политическому уклону других партий). После революции
1905 г,, перед анархистами встала новая задача, разрешение
которой разделило анархистов на синдикалистов и антисинди-
калистов или, иначе, «хлебовольцев» и «чернознаменцев». Пер-
вые считали, что настала пора для организации актов коллек-
тивного протеста и попробовали опереться на беспартийное
профессиональное движение. Последние же считали, что массо-
вое движение носит характер борьбы за власть и поэтому ста-
рались привлечь внимание масс к анархизму организацией
актов «безмотивного» антибуржуазного террора и попыткой
вооруженного восстания во имя анархической коммуны.
Группа а.-к. считала, что период терроризма уже пройден
и возвращаться, к нему бесполезно. «Чернознаменство» (анти-
синдикализм) было отвергнуто группой, как путь, ведущий
к отрыву от масс. «Хлебовольчество», начинавшее в 1913—4г. г.
превращаться в анархо-синдикализм, отказывавшееся от анар-
хического учения о массовом народном творчестве, тоже не
удовлетворяло группу. И группа пришла к выводу, что созна-
тельное меньшинство должно представлять собою анархическую
партию, которая организует синдикальное движение в качестве
•средства массового протеста против власти и капитала и
использует кооперативное движение (в особенности -потреби-
тельскую кооперацию) для строительства анархического ком-
мунизма. Эта точка зрения нашла выражение в прокламациях,
которые весною 1914 г. были разбросаны группой в окрестно-
стях Брянска и Тулы. (Эта прокламация была напечатана за-
тем в американском «Голосе Труда»),
Начиная пропагандистскую и организационную работу,
группа стала искать связи со старыми анархистами в России и
с другими анархическими группами.
Некоторые члены группы работали в революционном сту-
денческом Красном Кресте, через который удалось установить
связь с доживавшим свои дни в богадельне анархистом Григо-
рием Неизвестным (настоящей фамилии его не помню—кажется
Кривошеин). Он был приговорен к пожизненному тюремному
заключению, но во время одного избиения в Орловской тюрьме
ему сломали позвоночник и после этого калеку поместили
в богадельню.
Через Григория группа получила связь с бежавшим из
ссылки Николаем Романовым (кличка «Стенька Разин»), про-
живавшим в Кинешме, с Сафьяном, находившимся в ссылке
в Иркутской губернии и с двумя ссыльными анархистами, жив-
шими в Туруханском крае.
Григорий организовал в Орле небольшую группу среди
учеников Коммерческого училища, при содействии которых под-
!
318
В. X У Д О Л Е Й
держивал связи с группами анархистов в Бежице Брянской губ.
и с анархистами г. Тулы. В качестве представителя Орловской
группы в Москву очень часто приезжал Иван Хархардин, кото-
рый доставлял в Москву оружие (наганы Тульского завода), за-
бирая из Москвы анархическую литературу для библиотек
Орловской, Бежецкой и Тульской групп и гектографы для пе-
чатания прокламаций.
«Стенька Разин» в Кинешме организовал большую группу
анархистов среди местных фабричных рабочих. Для связи
в Москву приезжал его брат, который получал от Московской
группы а.-к. анархическую литературу, гектографы для печата-
ния прокламаций и оружие. Кинешемская группа, не раз руко-
водившая стачками, однажды после сильных волнений на заво-
дах, сопровождавшихся вооруженным усмирением, была аресто-
вана почти в полном составе и ее деятельность замерла до-
начала 1917 г. Все эти группы, связанные с Московской,
к счастью, вовсе не разделяли ее синдикалистских заблужде-
ний. Связанные же с ней ссыльные анархисты были террори-
стами-боевиками. Однако, различие взглядов не мешало тесному
сотрудничеству групп.
Мировая война внесла раскол в Московскую Группу А.-К.
После временной растерянности, группа определила свое отно-
шение к войне. Антимилитаристское меньшинство вышло из
группы и кооптировав друх новых членов, образовало Москов-
скую Группу Анархистов-Синдикалистов2). Программа М.Г.А.С.
только тем отличалась от программы прежней группы а.-к., что
она безразлично относилась к кооперации и видела в профес-
сиональных союзах будущие органы управления производством;
это ошибка, за которую в дальнейшем пришлось поплатиться.
Оборонческая же группа а.-к. вскоре распалась и более актив-
ные члены ее ушли к с. р.
М.Г.А.С., унаследовав связи, имевшиеся у старой группы
а.-к., приступила к развертыванию работы в Москве. Прежде
всего нужно было наладить печатание прокламаций. Так как
все члены М.Г.А.С. были служащими Московского Союза По-
требительных Обществ (Центросоюза), то естественно, что пер-
вые прокламации печатались на его рота’ ше и на его бумаге.
Вскоре однако пользование чужим ротат^ эм было признано
неудобным и группа, на паях с Замоскворецким комитетом
с.-д. большевиков, приобрела свой ротатор. Прокламации выпу-
скались несколько раз в год, причем каждый раз в количестве
нескольких тысяч экземпляров. Распространительный аппарат
был поставлен очень хорошо и, кажется, что в Москве не было
-такого уголка, в который бы не проникали прокламации
М. Г А. С.
Анархисты, которые не были связаны с группой, отзыва-
лись на прокламации проявлением активности. Появились про-
кламации одной замоскворецкой' группы среди рабочих Дани-
АНАРХИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ НАКАНУНЕ 1917 Г.
319
ловской мануфактуры. На сходках рабочих Сокольнических
мастерских стали выступать анархисты — местные рабочие
(Ермолаев, Цыганок). В газетах промелькнуло сообщение об
одной неудачной экспроприации, в результате которой была
арестована Северная группа анархистов, работавших на зав.
Доброва и Набгольц (т. Пучнев и др.). Зашевелились и анар-
хисты на зав. Гужона за Рогожской заставой. Т. о., вся анар-
хическая Москва уже обнаружила себя и М. Г. А. С. оставалось
только установить с ними непосредственные связи. Однако,
в виду конспиративности группы, связи установить удалось
только в дни Мартовской революции 1917 г.
Возрождение анархического движения было замечено
общественными кругами Москвы. Один из членов Ц. К. с.-д.
меньшевиков говорил в частной беседе об анархической опас-
ности. В одном меньшевистском журнале изд. 1916 г., говори-
лось о необходимости борьбы с поднимающим голову анархиз-
мом. Замоскворецкая организация с.-д. большевиков предлагала
группе заключить соглашение о совместных выступлениях.
Однако соглашение не состоялось в виду неуступчивости анар-
хистов, которые никак не хотели принимать демократического
лозунга Учредительного Собрания и высказывались за советы
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Большевики
тогда не предвидели, что пройдет не больше года, как они
сами выставят этот лозунг, а анархисты еще были молоды и
не понимали, что советы, всякие советы, есть форма госу-
дарства, а не анархия.
-В это время группе удалось связаться с рядами старых
анархистов. Доброхотов через народников познакомился с Павлом
Тырымовым, вернувшимся из-за границы и ввел его в М.Г.А.С.
Тырымов познакомил группу с Львом Черным (П. Д. Турчани-
новым), тоже приехавшим в Москву, и связал ее с А. А. Карели-
ным, жившим в Париже. Через одного случайного человека,
группа познакомилась с В. Бармашем, работавшим в это время
в Москве в Земском Союзе. Группе удалось также связаться
с Я. Новомирским, сидевшим в Бутырской тюрьме.
В Москве в течение 1916 г. группой были организованы
три новых группы среди рабочих разных профессий: первая
среди кожевников, вторая среди железнодорожников и третья
среди печатников. Кожевников было в начале человек 10—12,
наиболее активными среди них были Михаил Кривошеин, ,1'mi т
рий Шехалин, Аня из Белостока (фамилию забыл). Группа на-
зывалась «Рабочей группой анархистов коммунистов Авангард*.
Они были а.-к., отрицательно относившиеся к синдикализму, н.
тем не менее не вышли из профессионального союза, членами
которого состояли, а решили использовать его для своих
партийных целей. При выборах правления профсоюза они про-
вели туда анархистов и сочувствующих им, что дало возмож-
ность очень часто устраивать в помещении правления собрания
320 в. худ о лей :.=ж
............. .... - ----------------------------- ------
группы, а равной собрания сочувствующих, на которые прихо-
дило по нескольку десятков человек.
Группа «Авангард» усердно распространяла прокламации
М. Г. А. С. и еще печатала свои. Она первая подняла вопрос о
необходимости постановки в Москве тайной типографии для
издания подпольного журнала. Осенью 1916 г. ждали рабочих
демонстраций и группа «Авангард» стала подготовлять массовое
анархическое выступление. Было заготовлено черное знамя
с лозунгами. Кривошеин провел у себя на квартире ряд сходок,
на которых перебывало несколько сот человек. Ряд летучих
сходок он провел и у себя на заводе. В результате утром
в день выступления большая часть членов группы была аресто-
вана вместе со знаменем и анархическая демонстрация была
сорвана.
В группе железнодорожников наиболее активным был Ка-
зимир Ковалевич. В эту пору он был анархистом-синдика-
листом, зачитывался чисто синдикалистской литературой и ме-
чтал об организации подпольного союза жел -знодорожников.
Эта группа усердно распространяла прокламации М. Г. А. С. и
активно помогала устройству тайной типографии. Группа же
печатников была самой молодой и самой слабой. Идеологически
она была неустойчива и растаяла после мартовской революции '
1917 г.; общий уклон она имела синдикалистский. Через нее
М. Г. А. С. добыла пуда два шрифту для своей типографии.
Через нескольких товарищей М. Г. А. С. поддерживала
связи с армией. Через них отправляли на фронт прокламации
антимилитаристского характера и получали ручные гранаты и
патроны для наганов. Оружие и снаряжение быстро расходилось
по группам. М. Г. А. С. только один раз почувствовала особенно
острую нужду в оружии, когда подготовлялось нападение на
Арбатский полицейский участок в целях освобождения питер-
ского анархиста Федорова. Но Федоров был неожиданно пере-
веден в другое место и нападение не состоялось.
. Кроме того, независимо от М. Г. А. С., образовалась группа
анархистов среди студентов Московского Университета, среди
которых был Долголиков, позже кооптированный М. Г. А. С.
Эта группа стояла вне течений анархизма и занималась агита-
цией среди студенчества. Кроме них был ряд анархистов оди-
ночек, стоявших в стороне от организаций по различным со-
ображениям. чаще всего—фракционных расхождений: Чебокса-
ров, Шарко, А. Хавский, Н. Нерсесьян. Тюханов, Поляновский,.
Пиро, М. Фишман, Синицын-Пашкевич, Е. Зверева. М. Артыш
. и др. •
В связи с ростом движения и необходимостью обслужи-
вать его надлежащим образом, М. Г. А. С. была реорганизована
и проведено строгое разделение функций членов. При группе
организован был ряд комиссий: пропагандистская, связи, изда-
тельская и редакционная. Первая должна была давать доклад-
АНАРХИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ НАКАНУНЕ 1917 Г.
321
чиков для кружков и собраний. Вторая должна была устанав-
ливать связи с массами, подбирать людей для кружков, а так-
1 же распространять прокламации. Третья должна была поста-
| вить тайную типографию. Четвертая—подготовлять №№ жур-
нала, который должен был выйти в марте под названием «Воз-
, рождение».
В каждую комиссию входили два-три члена группы, кото-
рые имели право кооптировать в состав ее кого угодно. Комис-
сии имели технический характер. В целях конспирации был
принят и твердо проводим старый принцип: посвящать в каждое
дело только того, кто в нем участвует и больше никого. Ни-
кто из членов группы, входящих в комиссию, не имел права
посвящать других членов в общие дела группы, называть ее
членов или рассказывать об обсуждаемых вопросах, планах и
предложениях. В свою очередь, никто из членов группы, не
входящих в данную комиссию, не должен был знать, кто вхо-
дит в комиссию и как она работает. И, конечно, никто не
мог входить во все комиссии, хотя вовсе не обязательно было
состоять только в одной. Каждый нарушитель правил конспи-
рации был бы об‘явлен предателем.
^Итак, нужно было ставить типографию. Шрифт добывали
две группы. Типографский станок взяли вооруженной рукой.
Понадобились средства, которых ни у одной группы не было.
Встал вопрос об экспроприации. Большинство групп давно уже
предлагало организовать экспроприацию и стоило большого
труда удержать их от возврата на торную дорожку 1905—6 гг.
Однако, выхода не было и М. Г. А. С. пришлось уступить. Одна
экспроприация была организована несколькими молодыми анар-
хистами, но дала очень небольшие результаты. Другая экспро-
приация подготовлялась одной из Сибирских групп. Достали
оружие, нашли человека, который должен был отвезти оружие
и привезти деньги, но... Мартовская революция 1917 г. изме-
нила все планы и предположения.
Когда совершилась в 1917 г. революция и анархисты
вышли из подполья, в семи группах, об‘единившихся 13 марта
в Московскую Федерацию Анархических Групп, было всего
около 70 человек, причем большую половину составляла моло-
дежь, пришедшая к анархизму накануне революции3). Однако,
благодаря преемственной связи с движением 1904—7 г. г., анар-
хическое движение в 1917 г. началось с той ступени, на кото-
рой оно остановилось в 1907 г.
Примечания-
г) В состав кружка входили: Александр Поль, Алексей Хон,
Алексей Чепиков, Леонид Вучетич. Михаил Доброхотов. Александр
Хавский, В. Худолей, Н. Бого.молов.
л ^1
Очерни. -1
322 в. худолей
2) В состав МГАС. входили: Александр Абрамов, Ефим Евдо-
кимов, Алексей Чепиков, В. Худолей, а в 1916 г. вошли еще Иван ;
Хархардин и Павел Тырымов.
») Численность московских анархических групп в это время была» "
такова: '
а) МГАС................................6 чл. . J
б) „Авангард1'.. . . •................18 „ 1
в) Группа железнодорожников...........10 /
г) Северная группа а-к................15 „
д) Сокольническая группа а-к..........12 „
е) Рогожская группа а-к.............. 5 „ *
ж) Даниловская группа а-к..............7 „
з) Гр. ан. освобожд. из тюрем....... 8 „
Итого...........81 чл.
Таким образом в Москве, накануне Мартовской революции 1917 г.
было всего не более сотни анархистов. Около сотни анархистов было,
в Петрограде. Несколько человек оставалось в Кинешме. Около десятка
было в Бежецке. Человека 3 было в Орле и 4 или 5 в Туле. Но мало-
численность нас никогда не смущала, потому что мы считали анархи-
стов тем сознательным меньшинством, сила которого кроется в сочув-
ствии масс и готовности их отзываться активным выступлением на егб-
призыв.
В. Худолей.
Главные течения в анархической литературе
XX века.
Начало XX века—расцвет и возрождение анархических
идей в России.
Эпоха переоценок и разрушения, органически чуждая за-
стывшим и окоченевшим схемам рационализма, актуально вра-
ждебная бесплодному догматизму, тем самым была благоприятной
для анархического мировоззрения. Вулкан антигосударственных
идей, было окончательно потухший с 80-х годов, неожиданно
оказался бурным и пламенеющим...
Этому, несомненно, содействовал рост и классовое развитие
русского пролетариата, его безверие к общественному полити-
канству и неотвратимая вражда к доктринам всех государ-
ственников. Умственный нигилизм той эпохи, с его литературным
и философским индивидуализмом, русское ницшеанство еще
более укрепляли все растущий интерес к анархической идеоло-
гии и движению.
Действительно, уже летом 1903 года в Женеве ученики
и соратники П. А. Кропоткина при самом тесном и близком его
участии стали издавать ежемесячный журнал «Хлеб и Волю».
Этот журнал в течение нескольких лет был одинокой и един-
:твенной цитаделью русского анархизма.
Только в 1905 году, когда в анархическом движении воз-
<икло несколько идейных течений, хлебовольчество (свое назва-
ше получило от журнала) стало выявлять позицию так назы-
1аемого анархо-комм ' изма. Впоследствии анархо-коммунизм
t печати получил нисколько оттенков, но, несомненно, в нем
лавная теоретическая ценность принадлежит хлебовольчеству.
Это об’ясняется тем, что во главе этого течения была такая
(сключительная личность, как П. А. Кропоткин, один из перво-
слассных теоретиков не только в истории русского, но и между-
1ародного анархизма.
В этом идейном направлении есть несколько своеобразных,
5ыть может, парадоксальных положений для анархического ми-
ропонимания. Несомненно—одно из самых главных—это реши-
тельное и определенное противоположение анархизма инди-
видуализму.
21*
324 ОТВЕРЖЕННЫ;’;, В.
«Анархизм не есть индивидуализм1). Анархизм
признает для всех равноправность существования и самозащиты
от чьих бы то ни было экономических и политических посяга-
тельств. Анархист не говорит: «я выше всех»—он говорит: «я равен
каждому, но ни отдельной личности, ни многим я не подчинюсь—
я хозяин своих поступков». «Анархизм не есть отрицание обще-
ственности, отрицание организации, солидарности; он призывает
к добровольной организации, солидарности и считает осво-
бождение человечества возможным только при условии осво-
бождения личности» -). «Наоборот, коммунизм и безгосударствен-
ный социализм теоретики хлебовольчества считают понятиями
разнозначущими анархизму. Анархизм для них — программа
рабочего класса, которая всегда руководится двумя целями:
экономической свободой и свободой личности или образно вы-
ражаясь: «борьбой за хлеб и борьбой за волю». Но это может,
по их мнению, быть достигнуто только при одновременном
разрушении всяких основ государственности и института частной
•собственности.
Поэтому хлебовольцы утверждали, что первая обязанность
анархиста состоит в том, чтобы создавать такого рода органи-
зации, в которых рабочие сплачивались бы для успешной борьбы
с капиталистическим и государственным произволом посредством
стачки, бойкота, саботажа, демонстраций во всех формах.
В такой организации рабочий, действительно, воспитывается для
социальной революции. Хлебовольчество, резко критикуя парла-
ментаризм и различные формы реформизма, тем не менее,
признавало, что анархизм не только не отрицает политической
борьбы, но, напротив, только анархисты ведут революционную
борьбу с государством и его представителями, а государство,
ведь, учреждение политическое.
Анархизм только, по их мнению, против политики лега-
лизма, «с присягой современному строю, против политической
борьбы с, избирательным билетом вместо оружия в руках, ибо
такая политическая легальная деятельность не только не рево-
люционна, не только не ослабляет современный государственный
и политический строй, а напротив упрачивает власть правящих
и эксплоататоров». Признавая, таким образом, «политику»,
хлебовольцы считали, что «единственная почва, на которой
можно построить здоровую, целесообразную революционную
тактику», является классовая борьба. В основу этой тактики
они клали два принципа: 1) непримиримость интересов проле-
тариата и буржуазии при всяких условиях современном эко-
номическом положении. Отсюда вытекала невозможность союзов,
даже временных между этими двумя классами, невозможность
!) Курсив всюду мой. Н. О.
2) См. „Хлеб и Воля11 сборник статей П. Кропоткина, Черкезова,
Рекл о- Бертони и др. Изд. „Священный Огонь1' Ал. Морского. СПБ.
1906, стр. 24.
ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АНАРХИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 325
примирения; 2) невозможность осуществления принципа социа-
лизма без насильственного воздействия на буржуазию.
Проблема «насильственного воздействия» должна была
столкнуть хлебовольцев с террором, тем более, что он широко
применялся и оправдывался принципиально сильными анархи-
ческими направлениями: безначальцами, безмотивниками и чер-
нознаменцами.
Для хлебовольцев террор —неизбежный спутник револю-
ционного периода. Но он должен быть антибуржуазным и анти-
государственным. Террор имеет, по их мнению, различные формы:
он может проявляться в виде индивидуального акта или в виде
массового, коллективного: фабричный, аграрный и т. д. Значение
его в том, что он часто бывает единственно возможным ответом
угнетенных народных масс против угнетателей, во-вторых, он —
могучее и плодотворное средство пропаганды и, наконец, он —
«из‘ятие^ из обращения», наиболее жестоких и талантливых );
представителей —реакции? Но противники индивидуализма, хле-
бовольцы остались и здесь верными себе: они отдают несо-
мненное предпочтение коллективному террору перед индивиду-
альным. Мало этого, в своих статьях они пишут: «необходимо
заменить личный акт коллективным, даже попытку коллектив-
ного акта предпочесть осуществлению личного акта».
Несомненно, на Кропоткина и хлебовольцев оказало воз-
действие революционное синдикальное движение рабочего класса
во Франции. Это относится отчасти к принципу классовой
борьбы и в особенности к всеобщей стачке. Как и синдикалисты,
хлебовольцы методом борьбы выдвигают всеобщую забастовку..
«Всеобщая стачка есть прелюдия к революции», читаем мы в их
статьях. «Расстройством, дезорганизацией и частичным обезору-
живанием врага она обеспечивает успех революции, в которую
она и переходит с того момента, когда рабочие пошатнув,
благодаря ей все опоры частной собственности, начнут факти-
ческое разрушение капиталистического режима, конфискуя
средства производства и все богатства в общественное поль-
зование».
Не являясь, таким образом, принципиальными противни-
ками террора, хлебовольцы отрицали его, как организованный
и тем более подчиненный контролю какой-либо партии.
Но сближаясь с синдикалистами в значении всеобщей
стачки хлебовольцы расходились с ними в вопросе о профес-
сиональном движении. Эта проблема особенно заострена в статьях
известного и талантливого анархо-коммуниста Оргейани. «Ста-
вить себе организационную работу в рабочих союзах главной
задачей значило отдавать силы союза на дело, которое делается
и без того, самой жизнью, в ущерб специально анархической
пропаганде и революционной агитации, которая есть наша
задача и выполнить которую мы не имеем право представить
нашим противникам», читаем мы в журнале «Хлеб и Воля»
326
ОТВЕРЖЕННЫЙ, Н.
Наша задача пользоваться существующими организациями
входить в них, вносить в них свое направление, пока эти орга-
низации не успели проникнуться духом законности, культом
парламентаризма»...
Организационная работа должна быть направлена на соз-
дание своих групп. Прежде всего только имея такую группу
можно вступать в рабочие организации. «Недаром, Кропоткин
в такой ответственной статье* 2) как «Наши задачи» прямо
указывает, что для анархической революции, которую будут
творить массы, «нужно, чтобы в каждом городе большом или
маленьком и в тысячах деревень были свои группы рево-
люционного почина». Еще более определенно и настой-
чиво отстаивает анархические группы Оргейани в своих изве-
стных статьях: «Недостатки синдикализма» 2). «Современный
синдикализм представляет собой группировку людей на почве
общности их жизненных интересов—в этом его главная сила
и заслуга. Но вместе с тем он в целом не реализует полную
общность стремлений революционных целей—в этом его недо-
статок... Он не дает полной принципиальной преемственности
движения после поражения».
Критикуя тактику и методы анархо-синдикалистов в России
хлебовольцы в общем относились сочувственно и примирительно
к этому идейному течению. Позиция анархо-синдикалистов,
была в этом отношении, несомненно, более острой и резкой.
Это об'ясняется тем, что при всем уважении к личности
П. А. Кропоткина, теоретики анархо-синдикализма осознавали,
что их разногласия и споры лежат не только в плоскости
тактической, но, быть может, еще более в философской.
Разнородное, почти противоположное понимание анархизма,
как мироощущения и философии жизни разделило эти идейные
направления. «Преодоление кропоткинизма» стало почти основ-
ным вопросом анархо-синдикалистского движения в России.
И, действительно, хлебовольчество и даже весь русский
анархо-коммунизм в целом может быть почти исчерпан учением
П. А. Кропоткина. Блестящий теоретик, эрудит, первоклассный
ученый и революционер, Кропоткин был не только идейным
руководителем, но и «духовной сущностью» этого движения.
Его ученики и соратники по существу не внесли почти ничего
нового в его учение. Их, несомненно, важная роль—в том, что
целым рядом своих статей и работ они освежали и заостряли
некоторые проблемы кропоткинского анархизма.
Из них в особенности надо выделить Оргейани. Блестящий
полемист и опасный диалектик, вдохновенно поражающий своих
противников на словесном турнире, Оргейани оставил целый ряд
!) См. журнал „Хлеб и воля“. Лондон. 1903. № 2.
2) См. газету „Голос Труда11 1912 г- изд. русской рабочей группы
в Нью-Йорке. № 16.
ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АНАРХИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 327
•статей по вопросам анархизма. Некоторые его работы стали
почти «кпассическими» в области полемического жанра. Таковы
его известные статьи по анархо-синдикализму, быть может, на
иболее продуманные и логические из всех статей идейных про-
тивников этого мировоззрения в русском анархизме.
В настоящий момент наиболее известным и авторитетным
•именем среди анархистов-коммунистов в России, несомненно,
является имя А. А. Карелина. Энергичный и неутомимый практик
и организатор анархического движения, Карелин выделяется
среди всех анархистов особой, исключительной плодовитостью
в области анархического слова. Трудно назвать какой-нибудь
вопрос в анархической жизни, теории или практики, на который,
хотя бы в маленькой брошюрке, не откликнулся автор «Госу-
дарство и анархисты».
Насколько одиноко от общего «ортодоксального» анархо-
коммунизма стоит странный, глубоко своеобразный и во много-1
загадочный силуэт Солоновича. Весь его анархический путь
с большой тягой к мйстике и иррациональному, настолько
необычаен и сложен, настолько еще не выявлен в литератур? т),
что можно только лишь интуитивно полагать, что в его облике
•русский анархизм приобрел, быть может, во многом пародок-
•сальную, но, несомненно, талантливую и самобытную личность.
Имеется еще целый ряд других имен в этом идейном на-
правлении. Но ценность их работ и статей, несомненно, лежит
в особой плоскости. Популяризаторы основных идей Кропоткина,
они, конечно, содействовали тому, чтобы имя их учителя сде-
лалось после Бакунина самым известным среди русских анархис-
тов, а его мировоззрение почти адекватным самому понятию—
анархизм.
Иным идейным течением, бурно захватившим русских
анархистов было, несомненно, то направление, которое может
быть условно названо «анархическим терроризмом». К нему
относятся в равной степени—безначальцы, безмотивники и чер-
нознаменцы. Уже в 1905 году заграницей выходят три номера
«Листки группы Безначалие» и ряд различных прокламаций,
в которых намечаются основные положения этого течения.
Бакунин и Штирнер, быть может, в несколько утрирован-
ном понимании, являются основоположниками этого миро-
воззрения. Отрицая парламентаризм, трэд-юнионизм и син-
дикализм, за то, что все они хотят «продлить агонию уми-
рающего врага», безначальцы утверждают своеобразную фило-
софию анархизма. основа в том, что не существует
никаких начал /норм, принципиальных и обязательных для
1) Из статей Солоновича следует в особенности отметить: „Пози-
щии интеллектуального духа". См. „Клич“ № 1 и 3—„Квадрига мировой
революции1*, а также „Всероссийская генеральная конфедерация интел-
.лектуального труда". См. „Революционное творчество" № 1, 2. 1918 г.
Москва.
328
ОТВЕРЖЕННЫМ, н.
V человеческой личности: «Человек слишком добр и гуманен по-
1 своей природе, чтобы нуждаться в насилии и принуждении. Все
должно быть основано единственно на сознании и чувстве
'данного члена общества. Всякая ссылка на авторитет—преступна».
Какое бы то ни было вмешательство чужой диктующей
воли, даже давление общественного мнения самой коммуны есть
уже нарушение суверенных прав человека. Никаких регламентов
\и установлений. Никаких подчинений меньшинства большинству».
Методом борьбы с государством и капитализмом безна-
чальцы выдвинули террор решительный и беспощадный, заба-
стовки и стачки, которые 'должны быть «буйными» с обязатель-
ным уничтожением фабричных зданий, с ограблением с'естных
i припасов, убийством хозяев и т. д. Апофеоз террора встретил
особенно горячих адептов со стороны так называемых «безмо-
‘ тивников», наиболее крайней группы^в этом течении.
Отрицая политический террор, безмотивники пропаганди-
. ровали и проводили в жизнь террор социально-экономический.
Они явились сторонниками так называемых «безмотивных поку-
шений». «Виноват не какой нибудь строй общества, а каждый,.
Дкто поддерживает этот строй, и пользуется им в свою пользу.
, '.(“Конкретный повод к убийству безразличен, лишь бы агитацион-
i '/] ный и устрашающий эффект был бы налицо. Это и будет
V-(террор без мотива, почин без ближайшего и непосредственного
।. (мотива. Эта философия безмотивного террора, как известно
!(взрыв «Бристоля» в Варшаве, кафе Либмана в Одессе и др.),
'настойчиво проводилась ими в жизнь.
К анархической работе в профессиональном движении
безначальем отнеслись резко отрицательно. Это движение, по-
их мнению, рассчитано на «ряд длительных и постепенных за-
воеваний». Оно заражает рабочего гибельным оппортунизмом.
Профессиональное движение изобилует квалифицирован-
ными рабочими, оставляя совершенно в стороне люмпен—проле-
тариат. Оценивая тех и других, безначальцы несомненно возвра-
щаются к истокам бакунизма. «Если первые склонны к прими-
ренчеству и постепеновщине, то вторые свободны от всяких
обязательств, и потому легче могут стать носителями идеи со-
циальной революции», пишут безначальцы. Поведение анархиста
| должно быть непримиримым. «Анархист не должен участвовать
; в производстве продуктов, не должен своим трудом на фабриках
- укреплять позицию той буржуазии, которая подлежит истре-
।! бленйю. Удовлетворять свои материальные потребности анархист
I должен путем ограбления и похищения Имущества богачей». К
I безначальцам примыкает близкое, родственное и мало чем от-
личающее от него направление «чернознаменцев». Чернознаменцы
резко критиковали анархо-синдикалистов. Гроссман, один из вид-
ных теоретиков «чернознаменства» считал, что «синдикализм,
проповедуемый анархистами, является опасным, роковым для
анархизма, так как отвлекает часть наших еще столь мало-
ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АНАРХИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 32?
численных сил на дело не только чуждое, но и вредное для
анархизма, вредное потому, что фактором революционного вос-
стания, школой активной революционной воли синдикат так же
мало служит, как и парламент».
Только через несколько лет эта резкость была несколько
сглажена. Чернознаменство было вынуждено признать ценным
и важным профессиональное движение, но тем не менее своя
чисто-анархическая работа была для них более значительной’ и
существенной. В своих газетах: «Бунтарь» и «Анархист» черно-
знаменцы продолжают настаивать на том, что их главная за-
дача—организация экономических и политических актов и
организация крупных экспроприаций для снабжения русских и
заграничных групп деньгами и оружием.
Глубоко противоположным хлебовольчеству и чернознамен-
ству, идейным направлением явился анархо-синдикализм. Наи-
более интересным теоретиком этого течения был, без сомнения,
Новомирский. Натура глубоко раздвоенная, с повышенно эмоцио-
ональным началом, безмерно склонная к эстетизму, наделенная
литературным талантом, она внесла в русский анархо-синдикализм
богатство своих душевных противоречий и многообразие своих ли-
рических уклонов. Прошедший, как и большинство русских анархи-
стов, через идейную школу Кропоткина, Новомирский органически
не мог в ней оставаться. Дух спокойствия, пафос безмятежности
и рационализма был без сомнения чужд Новомирскому, с его
большим изначальным тяготением к индивидуализму. Естественно,
что автор «манифеста анархистов-коммунистов» должен был
уже через два года занять своеобразную позицию в русском
анархизме, враждебную «Кропоткинизму». Учение Кропоткина
кажется «расплывчатым», слишком изобилует остатками чисто
народнических предрассудков с их крайним «суб'ективизмом»,
пишет Новомирский. «Мы, русские анархисты, прошедшие школу
марксизма, не можем удовлетвориться теми туманными, чувстви-
тельными фразами, которые у нашего дорогого, старого учителя
часто занимают место аргументов. Мы хотим основать наше
мировоззрение на твердо реалистическом базисе борьбы классов,
а не на туманной «взаимопомощи». Мы хотим свою тактику
строго, последовательно выводить из общих принципов нашего
учения, а не механически прицеплять к ним. Мы расходимся осо-
бенно резко с товарищем Кропоткиным и его сторонниками в
России, так называемыми «хлебовольцами» в целом ряде такти-
ческих и организационных вопросов».
И, действительно, его книга: «Из практики синдикального
движения» является не только «новым словом» в анархизме, но
и критикой анархо-коммунизма. На самом деле, в его книге мы
находим цельную и сложную философию «анархо-синдикализма».
«Революционный синдикализм, пишет Новомирский, «исходит
раньше всего из глубокого убеждения, что государство было,
есть и будет организацией господства владеющего класса и
330 ОТВЕРЖЕННЫЙ, н.
потому бессмысленно угнетенному пролетариату стремиться '
•его завоевать». Главная работа анархо-синдикалистов - развитие
классового сознания и организация городских и сельских
рабочих в один революционный Союз Труда, который охватил
бы весь мир, проник бы во все фабрики, мастерские, во
все копи, во все лачуги сельских пролетариев, во все светелки
кустарей, в казармы солдат». Новомирский в дальнейшел ..ше
чает практические задачи, которые стоят перед анархизг—суд ,
«Нам неебходимо -пишет он—выработать ясную npo'rh
и тактику и на почве общих программных и тактических прин- <
ципов об'единить все здоровые элементы русского анархизма в '
единую федерацию—Анархическую Рабочую Партию. Во-вторых,
необходимо идейно и организационно отмежеваться от тех по-
дозрительных элементов, которые проповедуют и практикуют
теорию краж, как средство борьбы за анархизм. В-третьих,
нам нужно поставить в центре нашей работы—участие в рево-
люционном профессиональном движении, чтобы превратить его
в анархическое; наконец, необходимо выдвинуть практический
лозунг: широкий бойкот всех государственных учреждений осо-
бенно армии и парламента с превозглашением в городах и се-
лах рабочих коммун с Советами Рабочих Депутатов во главе.
Новомирский, однако, не понимает революционный синдикализм,
как идеал, он только указывает, что это определенный и пра-
вильный путь в революционном движении, ведущий к «рабочему
анархизму». Значение синдикатов не только в том, по мнению
Новомирского, что они подготовляют и создают успех перево- .
рота, торжество социальной революции, но они играют суще-
ственную роль и после ее, быть может, более важную и зна-
чительную, ибо они сумеют организовать производство и обмен
в Анархии. «Федерация революционных синдикатов, «пишет Но-
вомирский», овладеет орудиями труда и организует производство !
и обмен на коммунистических началах». Критикуя безначаль-
цев, отрицая «безмотивный террор», культ эксов, как анархиче-
скую тактику, признавая, что все это не только не содей-
ствует сознанию масс, но, наоборот, отталкивает их от анар-
хистов, а в среду последних вносит развращающее и разлагаю-
щее влияние, Новомирский тем не менее принципиа 1ьнэ не
отрицает террор. Он только придает ему второстепенное, вспомо-
гательное значение в революционной анархической деятельности.
«Террор—пишет Новомирский,—должен быть отмечен печатью
некоторого величия: он должен быть направлен преимущественно
•против крупных, видных врагов народа, а не против мелких
слепых орудий государства и капитала»* 2).
Но критика Новомирского направлена не столько против
безначальцев, сколько против анархо-коммунизма. Новомир-
*) См. Новомирский. «Манифест анархо-коммунистов» 1905 г.
2) См. Новомирский. «Из практики синдикального движения».
Изд. Голос Груда. 1907 г., стр. 4.
ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АНАРХИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 331
ский, как теоретик анархизма, главным образом звучит в пре-
одолении и отрицании «кропоткинизма: «Анархизм не только
учение об отрицании государства», пишет Новомирский. «Анар-
хизм— сложная всесторонняя система глубоких идей, захваты-
вающих всю необ'ятную область общественных знаний... Цен-
тральная идея анархизма, в которой весь ее смысл, программа
и ^"дософия,—определяет Новомирский—это—свобода». Здесь, по
г-^^-.нению, решительное и радикальное разногласие анархизма
т-' .йализмом. «Согласно анархической доктрине, человек—не
слепое орудие общества, а его основной элемент, его единствен-
ный фактор, потому анархизм сводит свою проблему к беско-
нечному, беспрерывному и всестороннему развитию личной
«свободы.»
Но как понимает он свободу?
«Свобода—пишет он—как ее понимает анархизм, есть стало
быть, полная, абсолютная возможность личного творчества,
.полная неограниченная автономия личности. Эта автономия,
эта свобода личности нарушена не только тогда, когда деятель-
.ность ее извращается страхом наказания, но и всякой причиной,
становящейся между ней и окружающей средой. Анархизм и
стремится к полному разрушению всех социальных учреждений,
насильственно отделяющих отрывающих личность от его среды—
физической и социальной».
Считая, что «социалистический строй есть общество, в
котором интеллигенция организуется в особый класс и сосредо-
точивает в своих руках власть над классом работников»* 2), Но-
вомирский полагает, что анархо-коммунизм тоже бессилен
.разрешить проблему свободы личности.
По мнению, Новомирского анархическая коммуна не пред-
ставляет «никакого скачка, никакого резкого разрыва с прош-
лым». «Не трудно заметить—пишет он—что анархическая ком-
муна есть единственная наследница современного общества.»
Но определяя коммуну, как общество, Новомирский прихо-
дит к убеждению, что всякое общество, а значит и анархи-
ческое немыслимо без некоторых определенных норм, но «там
яще существует норма, хотя бы основанная на свободном дого-
-воре, неизбежно нарушение этой нормы С нарушением этой
нормы, с преступлением борется наказание».
Но отрицает ли анархический коммунизм идею наказания,
исступленно вопрошает Новомирский, возвращаясь к изначаль-
ным истокам философии подпольных людей Достоевского.
«Ни в коем случае», отвечает он на этот вопрос. «Отрицается
-идея физической кары, но никогда анархисты-коммунисты не
отрицали да и не могут отрицать, оставаясь анархистами, нрав-
i) См. Новомирский. «Что такое анархизм». Изд. Федерации Со-
юза Русских Рабочих Соединенных Штатов и Канады. Нью-Йорк-1919 г.
2) Здесь Новомирский очень близок к мировоззрению_махаевцев.
€м. Лозинский: „Что же наконец такое интеллигенция-'. 190< г.
332
ОТВЕРЖЕННЫЙ, Н.
ственных порицаний, которое обладает уже теперь неимоверной-
карательной силой».
«Наконец», пишет Новомирский, «остается про запас еще
такое ужасающее средство репрессий, как изгнание из коммуны.
Нужна непростительная доля легкомысленной наивности, чтобы
не видеть в этом изгнании кары, иногда равносильной смертной
казни». Анархический коммунизм, резко отрицая современный
классовый суд, создает и укрепляет другую форму суда--суд
третейский. Но третейский суд, по мнению Новомирского’ -.ох.
же произвол, ничем не оправданный, тоже нарушение суверенных
прав личности. Беспощадно и резко критикуя анархо коммунизм,
Новомирский определенно заявляет, что между коммунизмом и
анархизмом, между свободой личного творчества и коллективным,
произволом нет ничего общего. Ибо свобода личности есть-
прежде всего, по мнению Новомирского, уничтожение всяких-
общественных организаций, основанных на нормах. Но это вовсе
не означает, что Новомирский требует и хочет уничтожения
социальной жизни и общественности.
«Пусть в один прекрасный день будут уничтожены все
юридические, религиозные и моральные нормы, которые, теперь
скрепляет насильственно общество», пишет он. Через короткое
время перед нами самопроизвольно вырастет новый мир. Отдель-
ные личности начнут искать друг друга и об'единяться в большие
или мелкие группы. В основу своей группы они положат не устав,
не договор о взаимной помощи, а свое естественное влечение,
свое естественное духовное сродство. Такая группа, не ассоциация
для производства, а естественное общежитие, которое находит
свое основание, оправдание и предел в личных чувствах сочленов.
Этот союз не на основе интересов, а на основе сродства».
Общежитие из этих групп по сродству, абсолютно не знаю-
щих никаких норм, кроме чувств отдельных личностей, соста-
вляющих эти группы называется Анархией.
Но признавая эту Анархию осуществимой только в далеком
будущем, признавая ее, как прекрасный маяк—мечту, освещаю-
щий трудный и тернистый путь человеческой борьбы и жизни,
Новомирский совершенно не отвергает анархо-коммунизма. Это
для него ближайшая задача, которую необходимо исполнить и
совершить, ибо для конкретной исторической обстановки анархи-
ческая коммуна при всех своих существенных дефектах наиболе
идеальная организация интересов пролетариата.
Новомирский после этой книги дал еще несколько статей,
из которых в /особенности любопытна статья о Лаврове *).
В них, если не считать тех, которые были написаны в период
его временного возвращения к «большевизму», автор книги
«Из практики синдикального движения»' остался верен своему
анархическому миропониманию.
Ч См. Новомирский. Лавров на пути к анархизму. Изд. Колос.
Петербург- 19?2 г.
ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АНАРХИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 333
Организатор и практик южно-русского анархического движе-
ния, настойчиво предостерегающий анархистов от отрыва от масс,
в течение многих лет постоянно призывающий к идейному един-
ству и даже к анархической партии своих товарищей по работе,
Новомирский тем не менее был и остался истинным индивидуа-
листом. Мечтатель и эстет анархизма он должен был оставить
в антигосударственной литературе свою лирическую философию,
насквозь пронизанную пафосом неустанного беспокойства и пы-
тливости, одновременно противоречивую и двойственную.
Проблема индивидуализма, заостренная в личной судьбе и
творческом пути Новомирского, не была одинокой в истории рус-
ского анархизма.
Индивидуалистический анархизм, сложившийся у нас в Рос-
сии во многом под воздействием Штирнера и Тэкера, дал ряд
оригинальных и интересных личностей, которые освежили и углу-
били эту идейную разновидность в анархизме.
Наиболее ярким из них надо признать имя А. А. Борового.
Профессор Московского Университета, первоклассный оратор
и исключительный эрудит, автор двухтомной диссертации,
признанной такими авторитетными специалистами, как М. Кова-
левский и Н. Кареев, Боровой, тем не менее, не был никогда
настоящим учёным.
Блестящая образность, смелая фантастика его стиля и речи
скорее обличают в нем облик поэта, художника слова, чем
теоретика в обычном понимании. Лирик анархйзма par excellence,
его вдохновенный проповедник, Боровой, несмотря на все мно-
гообразие своих творческих порывов и исканий, автор единой
темы, единой Музы.
Действительно, все его книги насквозь насыщены и до
конца пронизаны одной, постоянно волнующей и мучительной
проблемой, начиная от лирического стихотворения в прозе, как
смело может быть назван его ранний этюд: «Общественные
идеалы современного человечества», через научную диссертацию:
«История личной свободы во Франции», к его «Анархизму»
и книге о Достоевском1).
ч» Эта проблема — свобода человека, изначальная и неприми-
римая тяжба, вечный поединок между личностью, которая упорно
отстаивает и защищает свое „святое право“ на абсолютное и
•безграничное выявление всех возможностей своего творческого
/духа и обществом, которое в любых общественных и историче-
ских формах, начиная от восточной деспотии и кончая анархи-
ческой коммуной, неумолимо вырабатывает свои нормы и
обязательства, которых не смеет нарушить дерзающая челове-
ческая индивидуальность.
Эта единственная и кардинальная проблема всех творческих
работ Борового. Как бы ни были разнообразны вопросы, какие
П Ненапечатанной и известной мне в рукописи.
334
ОТВЕРЖЕННЫЙ, Н.
ставит и разрешает Боровой в своем писательском пути, какие
бы мучительные сомнения не терзали его творческую душу,
по существу все они только варианты, экскурсы, опыты для
одной и той же проблемы.
Первая работа Борового в анархической области—«Обще-
ственные идеалы современного человечества» (либерализм, социа-
лизм, анархизм)2).
В ней автор — всецело анархист-индивидуалист. Отмечая
большое значение в истррии общественного развития за ком-
мунистическим анархизмом, Боровой, тем не менее вынужден
констатировать его, только как определенную разновидность
общей социалистической мысли. «Это—либертарный социализм, <
который бросил миру новые великие идеи», пишет он, «но который
оказался совершенно не в силах наполнить свои соблазняющие
формулы конкретным содержанием».
Ибо, утверждает в дальнейшем Боровой, анархический
коммунизм бессилен разрешить самую важную и основную,
проблему творческой личности—полную, абсолютную свободу ее
творческих проявлений и действий.
Анархические коммунисты признали принудительные нормы
для человеческого индивидуума, но «куда», спрашивает Боровой,
«итти анархисту с его свободой самоопределения, изгнанному
из пределов общины; и в чем же, наконец, принципиальная раз-
ница между таким принудительным удалением и наказанием,,
которые расточает современный режим. Анархизм обещает дать
полный простор индивидуальной воле, но ее там нет, где есть
организация, где есть принуждение, где есть общая воля».
Поэтому более продуманной и законченной доктриной
представлялся Боровому анархизм индивидуалистический, «но и
он вопреки своему названию не может быть назван торжеством
индивидуалистической идеи». Действительно, индивидуалистиче-
ский анархизм принципиально признающий правовые и прину-
дительные нормы, нарушение которых карается чрезвычайно
сурово, вплоть до смертной казни, (Тэкер) едва ли может, *
по мнению Борового, окончательно «разрешить величайшую проб-
лему человеческого духа»—свободу творческой личности. . <
Таким образом, анализ различных анархических доктрин '
привел Борового к неутешительным выводам. Тем не менее, .
он решительно отказывается признать анархический идеал .г.
неосуществимым. Последние страницы его лирического этюда ®
посвящены «капитальной» проблеме анархизма: каким образом
можно осуществить абсолютную свободу индивида, не прекращая
общественной жизни. Боровой намечает ту тенденцию социально-
экономической жизни, которая должна благоприятно разрешить,
этот вопрос.
См. А. Боровой. „Общественные идеалы современного челове-
чества". 2 изд. Петрова. Москва. 1917 г.
' ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АНАРХИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 33S
«Процесс дифференциации функций—пишет он—разделение
труда сменится другим колоссальным процессом, процессом инте-
грации, процессом обратного собирания функций. Человек будет
в состоянии один, собственными силами произвести целиком тот
продукт, в котором он нуждается. Ему не нужны помощники,,
не нужны будут специалисты в отдельных отрасляк хозяйства.
Он станет самодовлеющей хозяйственной единицей.. Таким
образом мы стоим перед разрешением величайшей социальной
задачи. Процесс интеграции есть процесс уничтожения всяких
внешних организаций,. всяких принудительных учреждений".
Радостно и бодро, с большим лирическим под’емом заканчивает
j свой этюд автор. Это, несомненно, самая оптимистическая, «ве-
сенняя» книга Борового.
Боровой скоро почувствовал сам хрупкость своих творче-
| ских мечтаний, осознал невозможность «подвести социологиче-
I ский фундамент там, где упразднялось «социальное», воздвигнуть
, штирнерианский купол на марксистской базе».
Начался период страстных исканий. «Новые» истины были
; вскоре найдены. «Дерзание» и «революционаризм» были об'явлены.
«абсолютной самоцелью» т).
Этот этап тоже оказался быстро пережитым.
Увлечение Бергсоном и близкое знакомство с революцион-
ным синдикализмом окончательно оформили анархическое миро-
: воззрение Борового. Критика «традиционного» анархизма, наме-
ченная еще в его первых работах, получает теперь философское
оправдание в его книге «Анархизм»2). Эта книга посвящена
j целиком пересмотру основных положений «традиционного», анар-
| хизма3)и выявлению общей анархической концепции самого автора.
Как же понимает природу и сущность анархизма Боровой?
' Анархизм есть прежде всего разновидность, определенная
.( вариация в истории мировоззрений, глубоко коренящаяся в изна-
I чальных истоках человеческой души. Анархическое мироощуще-
ние, как известный вид философии жизни, также изначально
Ьп^исущ человеческому сознанию, как анархическая психика,
! «анархический характер». Как мировозрение, анархизм есть,
‘«романтическое учение, враждебное органически «науке» и «раци-
! онализму», но тактика его должна быть строго реалистической».
! Это, по мнению Борового, кардинально отличает «его* анар-
1x1 1м от «традиционного». «Последний», пишет Боровой, «в лице
л\ ших представителей его—оставляя в стороне частные проти-
Э См. Боровой „Революционное миросозерцание". Изд. ‘Логос".
(Москва. 1907 г.
1 2) См. Боровой. Анархизм. Изд. „Революция и культура" Москва
,1918 г.
i 8) Под .традиционным" анархизмом Боровой разумеет „господ-
ствующее в современном анархизме—коммунистическое течение, кото-
рое представлено именами Бакунина, Кропоткина, Грава, Малатеста и
других-* 1.
336
ОТВЕРЖЕННЫЙ, Н.
воречия,—есть рационалистически построенное учение (теория
анархизма), из которого делаются романтические выводы (его
тактика).» Наконец, в противоположность почти всем теоретикам
анархизма, признающим этот последний общественный строй,
как символ гармонии, примирения всех'социальных противоречий,
Боровой выдвигает новое и своеобразное его понимание. «В основу
анар> ического мировоззрения, «пишет он», можеть быть положен
один лишь принцип—безграничного развития человека и безгра-
ничного расширения его идеала».
«Анархизм не знает и не может знать того последнего
«совершенного» строя, успокаивающего все человеческие запросы,
отвечающего на все его искания, о котором грезили и грезят
утописты».
«Сущность анархизма—в вечном беспокойстве, вечном отри-
цании, вечном искании. Ибо в них—свобода и правда. Успокое-
ние — есть смерть анархизма, возведение временного и относи-
тельного в степень абсолютного».
«Наконец, для анархизма никогда и при никаких условиях
не наступит полная гармония между началом личным и обще-
ственным. Их антиномия — неизбежна. Но она — стимул непре-
рывного развития и совершенствования личности, отрицание всех
конечных общественных идеалов».
Определив сущность анархического мировоззрения, его
психику, Боровой в дальнейшем дает анализ и решение основных
проблем, тесно связанных с анархизмом.
Главная проблема — это личность и общество в анархиче-
ском мировоззрении. Ей посвящена одна из самых важных глав
книги, а впоследствии даже целый самостоятельный этюд *).
Для Борового анархизм утверждает только личность подлин-
ной, неповторимой и вечно движущейся реальностью. Но это
основное положение приводит автора «Анархизма» к двум вы-
водам: «к признанию неизбежности принципиального антагонизма
между личностью и обществом» и, во вторых, «невозможности
«конечного общественного строя», ибо, если антиномия личности и
общества неустранима—невозможно и «анархическое общество»,
как раз навсегда определенный постоянный порядок отношений.
Более—ни один общественный идеал, с точки зрения анаохизма,
не может быть назван абсолютным в том смысле, «что он венец
человеческой мудрости, конец социально-этических исканий че-
ловека». И тем не менее, для Борового только анархизм может
«оправдать общественность».
«Ибо», пишет он, «в ней мы родимся, из нее черпаем пита-
тельные соки, ее же обращаем в орудие нашего освобождения...
Чувство общественности—нам имманентно. Оно родится и растет
с нами. Но общественность есть лишь связность подлинных
1) См. Боровой. „Личность и общество в анархическом мировоз-
зрении". Книгоизд. „Голос Труда". Петербург — Москва. 1920 г.
ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АНАРХИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 337
реальностей—своеобразных и неповторимых. Поэтому обще-
ственность не может быть абсолютной целью личности. Она
не может быть безусловным критерием его поступков. Она —
есть средство к осуществлению личностью ее творческих целей».
Принципиально и резко расходясь с теоретиками «тради:
ционного» анархизма в понимании общественного и личного
начала и их взаимоотношений, настойчиво указывая в своих
книгах на изначальную вечную непримиренность самой их при-
роды, Боровой не менее резко расходится с ними и в философском
обосновании анархизма. Страстный бергсонианец, Боровой в своей
книге дает бичующую критику рационализма, столь типичного
для обычного анархического мышления.
Культ разума для Борового несет страшные и суровые
последствия. «С внешним освобождением», пишет он, «разум
несет «внутреннее рабство»—рабство от законов, рабство от тео-
рий, от необходимости, необходимости тех представлений, кото-
рые породил он сам. Обещая жизнь, он близил смерть».
И философией, на которой должен строиться анархизм,
для Борового является интуитивизм Бергсона, утверждающий
«свободное, радостное постижение жизни». Она по своему суще-
ству—полное «признание автономии конкретной человеческой
личности».
Но, если в плоскости философии анархизм имеет свое
обоснование и оправдание в интуитивной философии Бергсона,
то в практической, жизненной деятельности рационализму на-
несен жестокий и непоправимый удар со стороны синдикализма.
«Первоначально стихийный, непосредственно выросший из
жизни—пишет Боровой—синдикализм в наши дни становится
сознательным классовым протестом против рационализма, —
против слепой веры в непогрешимость теоретического разума,
всеустрояющего силой своих отвлеченных спекуляций. Синди-
кализм утверждает автономию личности, утверждает волю творче-
ского и потому революционного класса».
«В синдикалисте живут рядом: «страстный индивидуализм»,
ревниво оберегающий свою свободу и напряженное чувство
«пролетарского права». Синдикалист уже не исполнитель только
чужих мнений, но непримиримо и героически настроенный борец,
своим освобождением несущий свободу и другим».
Здесь необходимо отметить одну существенную психоло-
гическую черту Борового. Вопросы анархической тактики и,
если можно так выразиться, самая «политика» анархизма меньше
интересуют Борового, чем самая философская сущность этого
мировоззрения.
На страницах, посвященных синдикализму и вообще практи-
ческой стороне анархизма, Боровой менее самобытен и оригинален.
Конечно, яркость творца чувствуется и здесь, но она, я сказал
бы, больше формальная, литературная. Патетика стиля, напря-
женность лирических эмоций, вдохновенный пафос, смелость и
Очерки. —
338
ОТВЕРЖЕННЫЙ, Н.
красота образов во многом, конечно, оживляют идеологическую
традицию анархических постулатов.
Впрочем, некоторые проблемы освежены даже и здесь.
Террор, некоторые методы анархической работы и кой-какие
другие вопросы несомненно трактуются автором оригинально,-
своеобразно и суб’ективно. Тем не менее не в них, конечно,
лежит настоящая значимость книги. Принявший анархизм, как
мировоззрение, как веру, слишком интимную и личную, Боровой
был естественно обречен итти по творческому пути без сорат-
ников и адептов.
Трагически звучат его строки: «Я шел одиноко и своим
путем. У меня не было союзников, я боялся их».
Оторванный от практической анархической работы, Боро-
вой менее всего мог стать «политиком» или политическим деяте-
лем. Оправдать и принять синдикализм, как «реальную» тактику
анархизма и вместе с тем неразрывно слить его в- своей анар-
хической конценции с интуитивной философией Бергсона было
несомненно задачей не практика-революционера, но лирика-
анархиста.
Книга Борового «Анархизм»—несомненно любопытный па-
радокс в духовной истории анархизма. Это, конечно, не «си-
стема», прочно укрепленная разнородными аргументами и строй-
ными логическими схемами, еще менее—«наука», опирающаяся
на многолетний опыт и продолжительные эксперименты,— это
лирическая «исповедь», неотразимо вдохновенная, патетически-
страстная и эмоционально-взволнованная.
Все «научное», «об‘ективное», «рационалистически доказу-
емое» здесь играет только роль вспомогательную, роль аксессу-
аров, культурных подробностей и блестящих украшений. Пафос
книги, конечно, в «недоказанном» и «недоказуемом», но «суб‘-
ективно достоверном».
И это, конечно, не случайность. Бесстрашный' и смелый
искатель истины, органически враждебный академизму, чуждый
догматизма в своих творческих исканиях и работе, Борбвой
несомненно был чужд «учительству». Анархизм знает в своей
среде целый ряд великих имен, которые жили, горели пафосом
проповедничества и духовного наставничества, знает насто-
ящих фанатиков слова и дела, которые властно требовали от
своих учеников, конечно, не покорности и рабства, но пови-
новения, принятия на веру «абсолютных истин» своего учения.
И, конечно, это «учительство» глубоко чуждо сущности и
природе анархизма.
Анархист не знает и не может знать «абсолютных» истин
в своем мировоззрении. Его истина—лична, интимна, поскольку
за ними стоит внутренний опыт их творца и пытливые искания
его духа. Поэтому ему дороги, ценны «истины» других людей,
ибо в них он. находит все своеобразие, неповторимость отдель-
ной человеческой личности.
ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АНАРХИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 33?
И эта черта безусловно одна из основных в творческом
, характере Борового. Анархист-индивидуалист, несмотря на все
«признание» синдикализма, одна из наиболее оригинальных и
ярких личностей в русском анархизме, Боровой всегда—в жизни,
в книге, в творчестве умел ценить своеобразие, неповторимость,
особенность человеческого духа.
Быть может, эта инстинктивная, врожденная боязнь «ли-
чин» и «масок», которые неумолимо-властно одевает суровая и
жестокая жизнь, среда, общество на прекрасное и «единствен-
ное» лицо человека заставила Борового быть автором единой
темы, верным рыцарем конкретной человеческой личности.
Из других теоретиков, несомненно связанных с индивиду-
, алистическим анархизмом, надо назвать еще имя Льва Черного.
Аскет, подвижник анархизма, фанатик подполья, Лев Чер-
ный не был выдающимся мыслителем. Тем не менее его книга
«Ассоциационный анархизм»1) любопытна и интересна в некотором
отношении. Она возникла, как идейный протест против анархо-
коммунизма. Черный, не признавая коммунизм за анархизм,
находит посленний у Прудона, которому дает высокую оценку,
Текера и Штирнера. Свобода человеческой личности может
быть утверждена, по мнению Черного, только в ассоциационном
анархизме. «Анархизм,—пишет он,—разрубил гордиев узел, вводя
обассоциированное производство. Благодаря этому производству
анархизм дает индивидам полную экономическую свободу. Инди-
вид, вступая в те или другие ассоциации, может удовлетворить
свои потребности. Благодаря ассоциационному производству,
анархизм уничтожает эксплоатацию».
Октябрьская революция оживила анархическое движение.
Целый ряд интересных направлений и течений возник в бур-
ном потоке анархического мировоззрения, под влиянием колос-
сальных исторических событий. Но они слишком связаны с на-
шей современностью, слишком злободневны, чтобы можно было
хоть с какой-нибудь’ об'ективностью осветить их. Но, несомненно,
будущий историк анархизма должен остановиться перед этим
пестрым, разнообразным узором творческих исканий и дости-
жений. Эпоха пестрых переоценок, революционных взлетов и
падений, заметно обогатившая анархическую идеологию и движе-
ние, конечно, для негр неотразимо пленительна и волнующе
интересна.
Н. Отверженный.
X Ч См. Лев Черный. „Новое направление в анархизме'*. Ассоциа-
ционный анархизм. Москва. 1907 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Cm
От редакции............................................
П. А. Анархические устремления в русском сектантстве...
РУСОВ, Н. Н. Анархические элементы в славянофильстве...
А. С. П. Петрашевцы......................................4
НЕТТЛАУ. Бакунин-..................................... I
БОРОВОЙ, А. А. Бакунин....................'.............13
САЖИН, М. П. Воспоминания о М. А. Бакунине...........• . Г'
КАРЕЛИН, А. Русские бакунисты за границей...............1Ь
КАРЕЛИН, А. А. Анархизм в народническом движении 70-х годов. 193
А. К. Отдельные анархисты и анархические группы 60—70-х г. г. . 263
МЕДЫНЦЕВ, К- Н. С. Г. Нечаев (из личных воспоминаний) . . . 211
ПИРО, Т. Бакунизм и реакция............................221
СОЛОНОВИЧ, А. А. Кропоткин .......................... 22?
НОВОМИРСКИИ,Д. И. Анархическое движение в Одессе - . • . 24?
А. С- Чернознаменцы и безначальцы......................283
ТАРАТУТА, А. Г. В России и за границей 1903—1907 г. г..
АНДРЕЕВ, А. „Свобода внутри нас“................... . . 31j|
ХУДОЛЕЙ. Анархические течения накануне 1917 года.......31$
ОТВЕРЖЕННЫЙ; Н. Главные течения в анархической литературе <>
XX века.......................................... 32?