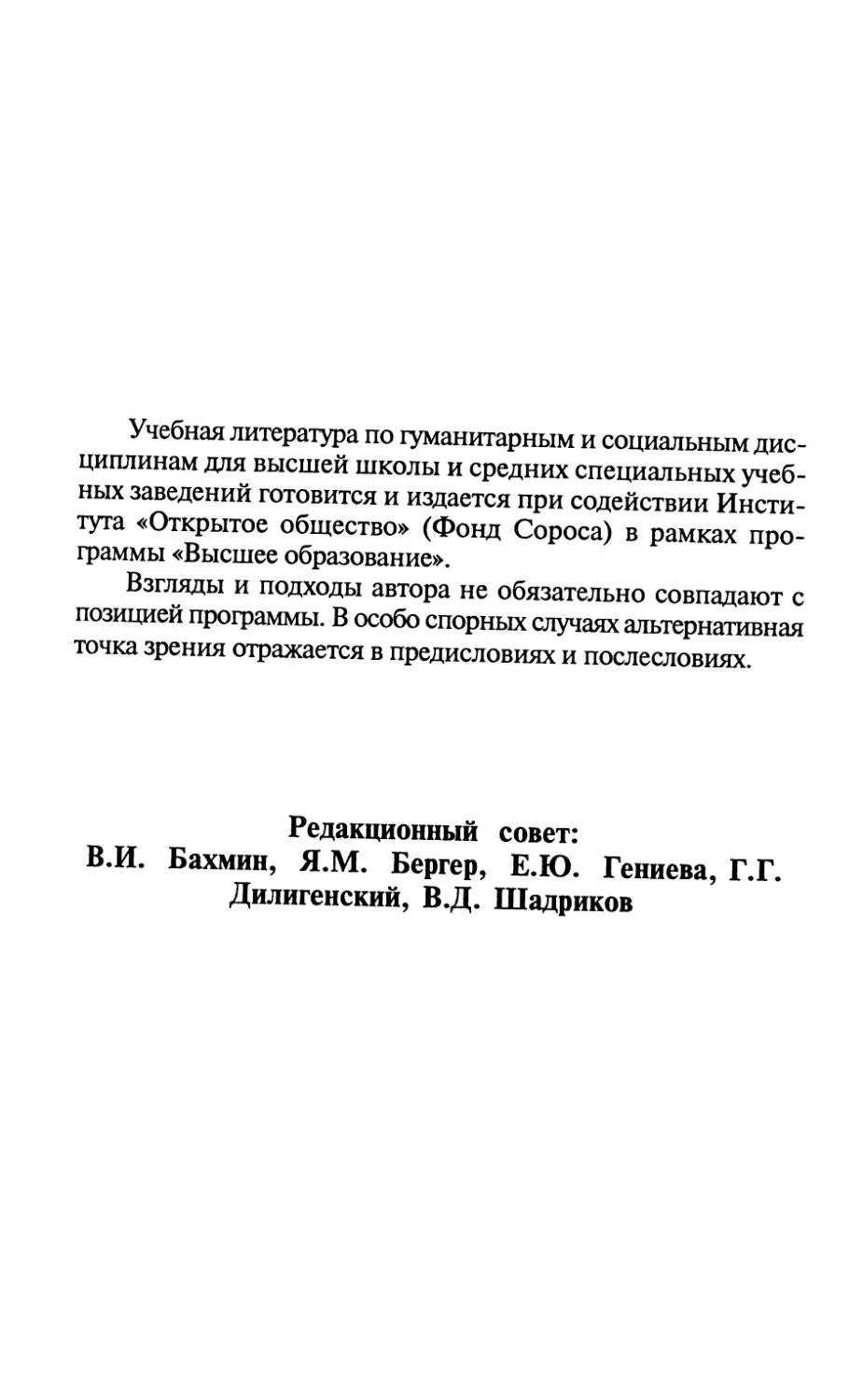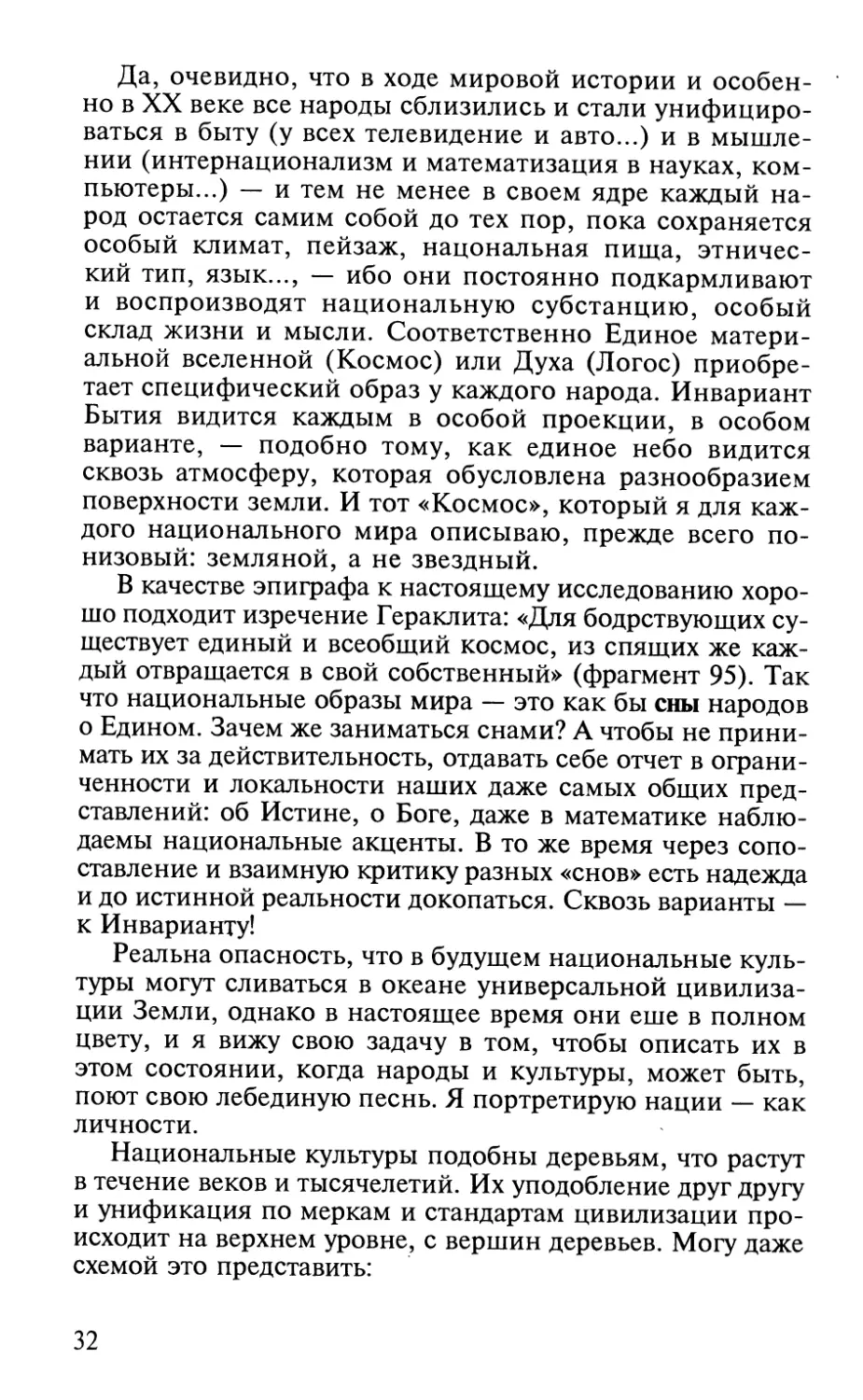Автор: Гачев Г.Д.
Теги: цивилизация культура прогресс теория культуры культурология общество история цивилизаций технический прогресс обществознание издательство academia
ISBN: 5-7695-0181-2
Год: 1998
ОТКРЫТАЯ КНИГА
ОТКРЫТОЕ СОЗНАНИЕ
ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО
ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА
ОТКРЫТАЯ КНИГА ОТКРЫТОЕ СОЗНАНИЕ ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО
Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы и средних специальных учебных заведений готовится и издается при содействии Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках программы «Высшее образование».
Взгляды и подходы автора не обязательно совпадают с позицией программы. В особо спорных случаях альтернативная точка зрения отражается в предисловиях и послесловиях.
Редакционный совет:
В.И. Бахмин, Я.М. Бергер, Е.Ю. Гениева, Г.Г. Дилигенский, В.Д. Шадриков
ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА
Курс лекций
Москва
Academ А
1998
ББК 71.05я73 Г24
УДК 008(100)(042.3)
Автор послесловия В.А. Шнирельман
Рецензенты:
В.А. Подорога, д-р философских наук, профессор РГГУ, В.А. Шнирельман, д-р исторических наук, ведущий научный сотрудник Ин-та этнологии и антропологии РАН
Г.Д. Гачев
Г24 Национальные образы мира: Курс лекций. — М.: Издательский центр «Академия», 1998. — 432 с.
ISBN 5-7695-0181-2
Книга посвящена национальным особенностям культур и цивилизаций. В основу настоящего курса положен цикл лекций, который автор читал в 1991 г. в Весленском университете в США. Каждая национальная целостность рассматривается как Космо-Психо-Логос, т.е. единство местной природы, характера народа и его склада мышления. Междисциплинарный подход позволяет описать национальный мир и национальный ум как некий инвариант на разных уровнях: в быту, языке, религии, литературе и искусствах, в естествознании и т.д. В книге даны «портреты»: Германия, Франция, Англия, Америка, Россия, Еврейский образ мира и др.
Книга предназначена для гуманитариев всех профилей и уровней образования: от старшеклассников до профессоров.
ББК 71.05я73
© Гачев Г.Д., 1998
ISBN 5-7695-0181-2 © Издательский центр «Академия», 1998
ОТ АВТОРА
Национальное — стало жгучей проблемой в современном мире. Политики разжигают национализм и торопятся практически «решать», не подозревая, с какой многослойной толщей бытия и культуры тут приходится иметь дело.
Наш подход — не прагматико-идеологический, а культурно-эвристический: понять национальное как особый талант зрения, в силу которого человек (ученый, художник...) из данного народа склонен открывать одни аспекты в бытии и духе, а выходец из другой традиции — иные. Наша цель — явить взаимную дополнительность, как бы разделение исторического и культурного труда между странами и народами, описать национальный мир и ум как инструмент с особым тембром в симфоническом оркестре человечества и так продемонстрировать богатый спектр в наличном достоянии современной цивилизации Земли. Возлюбленная непохожесть — этим дорожить надо, это наша общая ценность. Ценить надо то, что не я и не мы, а значит, знают и умеют то, что восполняет — мое уникальное тоже умение и понимание... Таков пафос сей книги. Она призвана содействовать взаимопониманию между народами и культурами.
Национальные образы мира я описываю более тридцати лет. В 1991 году я был приглашен в США прочесть в Веслен-ском университете курс лекций на эту тему. Шестнадцать томов рукописей захватить с собой в Америку я, естественно, не мог, и когда мне надо было в трех-четырех лекциях описать Английский или Итальянский или какой другой образ мира, я мог опираться только на память... Но это и хорошо: вспоминались только самые важные тезисы, идеи, факты, образы. Так что забвение выполняло абстрагирующую, отсеивающую работу.
Далее. Лекции я читал на английском языке. Не владея им, как родным, я был несколько стеснен в выражении мысли: не мог предаваться раздольной игре слов и метафор... Но и это пошло во благо: в результате текст — а я должен был писать свои лекции заранее, не надеясь на экспромт, — вышел более жилистым, мускулистым. На русском языке я
5
такого сжатого курса лекций не смог бы написать: соблазнялся бы там и сям порастекагися мыслию по древу...
Когда же курс был прочитан, возникла идея дать его и для русской аудитории, и я принялся переводить себя... на себя же. Предлагаемый текст более чем наполовину — это как бы авторизованный самоперевод с английского.
В курсе три части. В первой — поставлены общие проблемы и изложена техника, какою проникать в национальный мир и описывать национальный ум, «менталитет» (как ныне модно это обозначать). Во второй — даны «портреты» национальных миров. Для полноты картины, чтобы представить множество вариантов национальных миросозерцаний, я присовокупил сюда несколько своих опусов, в которых охарактеризованы культуры стран, которых я в лекциях не затрагивал. А третья часть курса — семинарий, практикум, упражнения в анализе разных аспектов национального: как оно сказывается в естествознании, в кино, в индивидуальности художника.
Почему я избрал именно термин «Национальные образы мира» для обозначения проблемы, подробно объясняется в первой части курса, посвященной общим вопросам. Но заранее должен оговорить его приблизительность и что границы его весьма расплывчаты. Вполне допускаю, что другие ученые могут предложить иные общие понятия (например, «национально-исторические особенности культур», «национальный менталитет» и др.) и работать с ними, исследуя аналогичный предмет.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Обшие вопросы
ЛЕКЦИЯ 1
Здравствуйте! Значит: желаю я вам здоровья, мой слушатель или читатель. Итальянец же бы вас приветствовал так: Come sta? = «Как стоишь?» Француз же бы поинтересовался: Comment са va? = «Как это (нечто) идет?» Подобно и немец: Wie geht’s? = «Как идется?» Иудей сказал бы «Шалом!», что значит: «Мир!» Англичанин (и американец) бы спросил: How do you do? = «Как вы делаете?»
Уже в простом и повседневном акте взаимного приветствия люди разных народов выражают свои «символы веры», подчеркивают, что ценно для них в существовании. Для русских — здоровье, целостность, для англичан и американцев — работа, труд, для евреев — мир, для итальянцев — стабильность, статика, вертикальное изменение бытия, для французов и германцев — движение, динамика...
Таким образом, уже в повседневной речи мы разговариваем на языке сверхценностей, используем философские идеи и принципы, но не осознаем того, употребляя их бессознательно. И я призываю вас быть внимательными к привычкам будничного словоупотребления. Многие фундаментальные категории и понятия там залегают, подразумеваются. Если мы осознаем их, это даст нам важное средство проникновения в арсенал архетипов и принципов, в шкалу ценностей, что формируют национальную ментальность данного народа, его культуру. Корни слов, в особенности, содержат ключи к основополагающим идеям, и в них надо вслушиваться острым слухом, испытывать их и допытываться.
Я называю мою тему — «Национальные образы мира». Или — «Этнические картины мира» (Ethnic Pictures of the World) — так перевели в Америке в 1969 году мою первую статью на эту тему: «Национальные картины мира», опубликованную в журнале «Народы Азии и Африки», 1967,
7
№ 1. Или — «Национальные ментальности». Я предполагаю (еще до исследования предмета, так что это — гипотеза), что каждая национальная целостность: народ, страна, культура — имеет особое мировоззрение, уникальную шкалу ценностей. Я не стану настаивать на строгом определении терминов: «национальный», «этнический», «региональный» и т.п. Они практически переплетаются, их границы размыты. Но и того смутного представления о них, которое каждый имеет, будет достаточно для нашей цели и работы. Предаваться изощренным предварительным дискуссиям по уточнению терминов — эта софистика была бы тратой времени: в ней завязнешь до дела самого. «On s’engage et puis on voit», — говаривал Наполеон: «Надо ввязаться в дело, а там видно будет». А дело наше — конкретные описания, сопоставления и толкования различных национальных целостностей: Россия, Америка, Греция, Франция... Одни из них, как Россия и США, — сверхнациональные образования, а Древняя Греция существует в настоящее время лишь как культурный феномен, но термин «национальное» в состоянии обнимать и покрывать все эти реальности.
В предпринимаемой нами работе есть серьезная интеллектуальная польза: понимание того, как одна идея, та же вещь может представляться и пониматься различным образом, вариантно, — это расширит умы, освободит их от стереотипов. Есть также и этическая, моральная ценность в такого рода исследовании: если я буду осознавать ограниченности своего кругозора и понимания (не только как мои личные, но и как проистекающие от моего членства в данной национально-культурной целостности), я буду с большим уважением относиться к другим народам, которые могут видеть и понимать вещи и идеи, которых я не понимаю.
Есть даже своего рода психотерапия в такого рода медитациях. Ведь каждый человек обеспокоен насчет своей «идентичности»: куда себя отнести, к какой группе? Каждый принадлежит к той или иной этнической группе или есть дитя смешения народов, живет или на родине, или в другой стране, на «чужбине». «Кто же я такой?» — это первый и главный вопрос при пробуждении ума или рефлексии: русский, англичанин, грузин, еврей, американец? А если «американец», то какого происхождения: ирландского, польского, итальянского, китайского?.. «Познай самого себя!» — древняя, сократова заповедь каждому человеку. Но реализована она может быть только в процессе позна
8
ния окружающего мира. Это двуединая задача и работа: познавай себя и познавай мир.
Для меня — я должен признать это сразу — проблема национального самоопределения была одним из главных стимулов, побудивших меня заняться темой «Национальные образы мира». Мой отец — болгарин из-под Ро-допскихгор на Балканах. В 1926 году он прибыл как политэмигрант в Советский Союз — «обетованную землю», как это казалось издалека социалистам-романтикам. И действительно: вначале отец смог развернуться как философ музыки, литератор. Он писал о Вагнере и Декарте, о Бетховене и Стендале, переписывался с Роменом Ролланом, защитил диссертацию и издал книгу «Эстетические взгляды Дидро»... Но в 1938 году он был арестован как «враг народа», сослан на Колыму, где и умер... Учась в Московской консерватории на музыкально-научно-исследовательском отделении, он встретил там еврейскую девушку из Минска, которая стала его женой и моей матерью. Я родился в 1929 году в Москве, так что моя родина — Россия (или Советский Союз как ее временное продолжение), а родной язык — русский. Так кто же я такой? Какова моя «национальная идентичность»? Должен ли я и могу ли я считать себя членом болгарской целостности или еврейской, или русской и следовать какой-то определенной (и какой?) традиции, системе ценностей — считать ее своею, примыкать к какому-то стилю в мышлении?.. Но ведь я не совпадаю, не совмещен («конгруэнтно», как говорят в математике при наложении треугольников...) ни с одной из них. Я — смешанный. Я имею отношением™ всем им, но не полностью, а частично. В той же математике в теории множеств есть такое явление, как «пересечение множеств».
Заштрихованная область — это моя личная «земля», персональная «почва», которая стала основанием для моих исследований различных национальных образов жизни и
9
миросозерцаний. Перед аналогичной задачей — самоопределения в национальном отношении — стоят многие. И я надеюсь предоставить некую интеллектуальную терапию, излечение от тревог и беспокойств своему слушателю и читателю...
Раз уж я начал исповедоваться, то — еще одно признание. Все хорошее в этой жизни, что положено человеческому существу, я испытал: и любовь, и семью, и красоту в природе и в искусстве, причастился к сокровищам культуры, испытал наслаждение свободной мысли и радость творчества... Только вот мира не видел, не мог путешествовать в другие страны: не посылали, не пускали, да и денег не было. У нас ведь, в Советском Союзе, за «железным занавесом», только «проверенным товарищам» дозволено было выезжать... Я очень страдал от этой невозможности. Даже такой эпизод был в моей жизни, когда я, тридцати трех лет от роду, будучи кандидатом наук .и научным сотрудником Института мировой литературы Академии наук, бросил все и нанялся плавать матросом в Черноморском пароходстве в надежде попасть в загранплавание и увидеть таким образом мир. В течение двух лет (1962—63) работал моряком на Черном море, но мне не открывали визу... Я вернулся в Институт и принялся читать о разных странах и культурах, описывать их, сравнивать. Теперь я понимаю, что мои описания национальных образов мира стали моим способом путешествовать — умом и воображением. На несколько лет я зарываюсь в ту или иную страну: в Индию, Германию, Америку и т.п., читаю о природе, истории, обычаях, кухне, религии, изучаю литературу, философию, ' науку и технику, проникаюсь национальным языком и его логикой — и в результате пишу портрет этой национальной целостности. Таким образом, я удовлетворял свою потребность видеть мир в течение 30 лет. Много таких портретов мною написано, целая серия в 16 томах. Некоторые уже начинают публиковаться, но большинство — еще у меня в рукописях. Некоторое резюме этих исследований и «дайджесты» национальных портретов и будут мною предложены в этих лекциях.
То, что я исповедуюсь в личных мотивах своих научных исследований, нарушает принятый в науке этикет, согласно которому всякие чувства, психологию, авторскую субъективность следует оставлять за скобками, а подавать надо объективные результаты, — а что нам до твоих эмоций и прочих слез и соплей!.. Но ведь всякая научная теория име-10
ет личностное происхождение, и отдать себе в этом отчет важно не только для честности мысли, но и для ее глубины и именно объективности. Ведь при открытых картах идет тогда научная игра, и слушатель и читатель может видеть мои ограниченности и где меня заносит страсть в односторонность идеи, и имеет возможность со стороны меня судить и выправлять мою мысль. Да и вообще такая — «отчетная» авторская мысль прозревает вещи и сцепления, которых не зрит мысль безотчетная. Потому я именую такое мышление Привлеченным (ATtract ) — к ответственности, в том числе и передо мной как человеком живущим, в отличие от мышления Отвлеченного (ABStract), которое почтенно и ритуально в науке. А культурологию, которую я развиваю, я называю ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИЕЙ.
В экспериментальной физике XX века столкнулись с тем, что прибор влияет на получаемые данные опыта: потоки элементарных частиц, пролетая в поле прибора, испытывают из-за него отклонения, и надо делать поправку на вторжение прибора в опыт. Ну а в гуманитарной науке что прибор? А вот я — такой-сякой человек, подверженный страстям, комплексам и настроениям, которые гнут мысль сегодня в этом направлении, а завтра, встань я с другой, там с левой ноги, — в ином. На все это и надо делать поправку — и хорошо, когда сам это делаешь или по крайней мере не умалчиваешь, а вносишь в текст, а читатель уж да смекает и судит сам...
Итак, эти мои портреты национальных целостностей неизбежно субъективны, это МОИ ОБРАЗЫ о национальных образах мира разных стран и народов. Читатель пусть сомневается, критикует, моя мысль да провоцирует его собственную, порождает творческую активность его ума — чего же более может ожидать автор от своего текста? У меня нет претензии и амбиции дать точное понятие (это и невозможно в подобных материях), но стремлюсь дать идею, представление об избранном предмете, раскрыть его проблемность.
В последние годы я, наконец, получил возможность повидать некоторые из стран, которые я перед тем описывал в своей манере «интеллектуальных путешествий» (как у Стерна — «сентиментального путешествия» жанр). С удовлетворением я обнаружил, что мои основные интуиции оказались верными. Я внес, разумеется, некоторые поправки в свои описания под влиянием конкретных впечатлений и
11
наблюдений. Но, к своему удивлению, я не нашел в душе того творческого импульса, который двигал моим умом, когда я должен был работать только внутренним видением умозрения, когда я мог за один год (зимой 1975—76 гг.) написать тысячу страниц об Американском образе мира — книгу, которую бы я, если издавать, озаглавил: «Америка глазами человека, который ее НЕ видел».
Так я осознал, что мой интерес и азарт заключается не в том, чтобы ЗНАТЬ точно, но в том, чтобы, не зная, — УГАДАТЬ правдоподобно. Вот что возбуждает творческую силу во мне. ЭРОС УГАДЫВАНИЯ — вот что вдохновляет и ведет в такой работе. Живые впечатления этому даже мешают. В отличие от журналиста, который в своих очерках описывает множество любопытных особенностей и курьезных деталей, я стремлюсь докопаться до некоего единого принципа, что лежит в основании всего сооружения национальной жизни, цивилизации, составляет его динамическую душу, «энтелехию» (= «целевую причину»), которая, по Аристотелю, в начале и в конце данного организма, целого, и одушевляет развитие и ведет как бы спереди, из будущего, и проследить затем ее разветвление в многообразии фактов здешней жизни и культуры. Платон полагал, что наше познание есть в сущности ПРИПОМИНАНИЕ того, что душа врожденно знала, но забыла среди забот и впечатлений повседневной жизни, а вот в сосредоточении умозрения может восстанавливать это знание. Подобным образом и наш разум обладает способностью реконструировать различные миропонимания как возможности и вариации Мирового Духа, а также и нашего личного сознания с Ним...
То, чем я и мы будем заниматься, — это не «национальная проблема», не «национальный вопрос» — эта болезненная, мучительная и неразрешимая дилемма (ПОЛИ-лемма, лучше сказать, ибо множество в ней поворотов...), что обуревает фанатиков и доводит до головной боли политиков во все времена, в том числе и нынешнее. Для меня это не проблема, которую надо разрешать бинарным: «или-или» способом, но— гносеологическая радость, благословенное изобилие интеллектуальных вариаций, в каких мож-/ но представлять идеи и творить вещи. Индивидуум, вырос-/ ший в атмосфере определенной национальной культуры, ! одарен ею талантом особого видения явлений бытия — даже в физике, не говоря уж об искусстве и поэзии. Национальная природа и дух питают интеллект и воображение своих де
12
тей, снабжают особыми архетипами, оригинальными интуициями, неповторимыми образами, странными ассоциациями. ЭВРИСТИЧЕСКАЯ сила национальной ментальности: дар открывать и изобретать особым образом — вот что меня интересует более всего.
Я осознаю, что много возражений можно выдвинуть против моего подхода, и я сам лучше всех мог бы оспаривать свои же построения. Мне возражают: так ли уж различны умы народов? Разве не все мы одинаковые человеческие существа, способные понимать все? Разумеется, все равные и равноценные. Но взгляните на инструменты оркестра. Они все — музыка, все исполняют ее. Но один — флейта, другой — скрипка, труба, фагот, арфа... Каждый обладает своим тембром и добавляет свою краску в симфонию Вселенной. И следует ли нам обижаться на другой инструмент из-за его неравноподобия мне: валторне, например, на фортепиано? Напротив, восхищаться надо, обожать его особый тембр и талант, то особое знание и умение, которыми он одарен, а я их лишен, не умею так. ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НЕПОХОЖЕСТЬ! Вот что да будет наш пафос в исследовании национальных особенностей.
Отличия народов друг от друга с самой древности занимали умы. Для первобытного племени другое — это уже не «мы», что у славян, например, в отношении германцев высказалось: они — НЕМЦЫ, то есть то ли «не мы», то ли «немы» = не умеют говорить по-нашему. Все человечество в примитивном сознании совпадает с нашим племенем, этносом, а прочие — это уже «нелюди», часть природы. (Этноцентризм и национализм у современных людей — рудимент такого воззрения). С развитием контактов и в ходе истории стали понимать, что другие этносы — это тоже люди, но только иные. Путешественники, торговцы стали описывать разные страны, так что именно в книгах по землеописанию — географии находим характеристики народов как обитателей своих (нам чужих) стран. Знаменита и интересна в этом отношении «География» Страбона: она сводит и обобщает знания античности о странах и народах Европы, Азии и Африки. Но до того в книгах по истории эти данные можно было встретить, в частности, в «Истории» Геродота. И у философа Платона в его диалогах, например в «Государстве» и «Законах», есть наблюдения и размышления об образах жизни и понятиях разных общественных групп, народов и соответствующем им устройстве государств.
13
В Новое время классические сочинения, близкие к нашей теме, следующие. Джамбатиста Вико — «Основания новой науки об общей природе наций» (1725), Монтескье — «О духе законов» (1748), Гердер — «Идеи к философии истории человечества» (1784—1791), Гегель — «Философия истории» (лекции в 1820-е гг.), Данилевский — «Россия и Европа» (1869), Шпенглер — «Закат Европы» (1918—1922), Тойнби — «Исследование истории» (1934— 1961). Собрали богатейший материал и расширили наши представления о менталитете народов мира исследования по первобытной культуре — Тэйлора, Фрезера, Леви-Брюля, Леви-Стросса, Е.М. Мелетинского. Науки, занимающиеся предметами, входящими в круг наших интересов, — это этнография, лингвистика, семиотика, социокультурная антропология, культурология и др. Назову также авторов, труды которых имеют непосредственное отношение к тому, чем мы занимаемся: Л.Н. Гумилев, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, Вяч.Вс. Иванов, С.С. Аверинцев, А.Я. Гуревич и другие.
ЛЕКЦИЯ 2
Нас интересует не национальный характер, а национальное воззрение на мир, не психология, а, так сказать, гносеология, национальная логика, склад мышления: какой «сеткой координат» данный народ улавливает мир и, соответственно, какой космос (в древнем смысле слова: как строй мира, миропорядок) выстраивается перед его очами и реализуется в его стиле существования, отражается в созданиях искусства и теориях науки. Этот особый «поворот», в котором предстает бытие данному народу, — и составляет национальный образ мира.
Плодами истории являются как цивилизация, общая для всех и способная переноситься и строиться, так и культура, которая вырастает. Нельзя построить дерево. (Хотя тут же ловлю себя на слове и возражаю: а по-немецки «дерево» = Вайт, от глагола Ьаиеп = «строить», так что как раз «построенное» оно буквально и значит! И вот уже задача для будущего распутывания...) Цивилизацией современные народы сближены, культурами различены, и в этом, с одной стороны, — возможность взаимопонимания, а с другой — красота разнообразия.
Но с чем постоянно сталкиваешься в общении? Все произносят одни и те же слова — и на политических кон
14
ференциях, и на международных научных симпозиумах, а ведь люди из разных культур разумеют под ними очень разные вещи. Знаки — те же самые: «Бог», «права человека», «справедливость», «закон», «время» и «пространство», «секс», «хороший вкус», «художественное» и т.п., но понимание, комплексы представлений и идей, что залегают под этими знаками, различны, а иногда и противоположны. И как могут быть одинаковыми представления, например, о «свободе» у англичанина, который датирует традицию личных гражданских свобод еще с «Великой хартии вольностей» XIII века и для кого «свобода» значит self-madeness, самостроительство и самоответственность, сдержанность и самообуздание, способность владеть собой и условиями своего существования, — и у русского, или, как говорят ныне, «россиянина», который только вышел из патерналистских режимов империи и социализма и который может понимать свободу прежде всего как развязывание внешних уз и удержей, как волю вольному и что теперь все позволено?.. Или о «рыночной экономике»: как могут вкладывать одно и то же понятие в эти слова американец, у которого его цивилизация уже при ее основании почти четыре века назад строилась на этом принципе свободными индивидами и с тех пор постоянно развивалась в одном этом направлении, совершенствуя этот тип производства, — и тот же самый россиянин, кто после почти века коллективно-социалистической экономики и воспитания находится сейчас в понимании о том, что есть рынок, даже не на нуле, а в минусе?.. Но и напротив: понятия о «братстве», «товариществе», «самопожертвовании за родину» — тут русский американцу сто очков вперед даст. Или в «беседе по душам» и о «высших материях», о «смысле жизни», не считаясь со временем, не переводя его в деньги...
Беда же — в том, что об этой разности разумеемого и подразумеваемого под одними и теми же терминами и словами в большинстве случаев и не подозревают. Чтобы мнимое взаимопонимание максимально приближалось к действительному, надо делать поправку на национальноисторическую систему понятий и ценностей, т.е. учитывать, что представитель другого народа может видеть мир несколько иначе, чем я.
Но как? Что видит он в мире такого, чего я не вижу? И*от чего это зависит? Вот в чем загвоздка. Если удалось бы как-то прояснить этот вопрос, в наше распоряжение по
15
ступил бы словно некоторый «коэффициент», который облегчал бы контакты между народами и культурами.
В общем виде решение проблемы национальных мировоззрений ясно: интернациональное и национальное находятся в единстве, определяемом единством мирового исторического и культурного процессов. (Хотя сразу сомнение возникает: есть ли на самом деле такое «единство» или это — старомодное гегельянское представление?) Однако, как только мы пытаемся более конкретно определить, в чем именно заключается национальное своеобразие данной целостности, культуры, нас сразу подстерегает ряд опасностей.
Это, во-первых, произвол, импрессионизм и необязательность суждений. Эту опасность можно постараться предотвратить с помощью сравнительно-исторического подхода. Во-вторых, затрагивание национальных чувств, обычно очень щепетильных к попытке определения, т.е. ограничения своего мира и понятий (Спиноза говорил: Omnis determinatio negatio est = «Всякое определение есть ограничение», потому что оно исключает другие связи данной вещи, идеи с прочими). Здесь единственное спасение — доброжелательность и объективность анализа — при той предпосылке, что каждый народ воспринимает и понимает все бытие в целом, и ничье вйдение не выше и не ниже, а все неподменимы и необходимы человечеству. Могут быть различия в историческом уровне развития культуры, народа, но не в их возможностях.
Но одно дело иметь общее убеждение, что все народы воспринимают единый мир, но по-разному его представляют, а другое — видеть, как это по-разному. И вот, чтобы изучение национального своеобразия протекало напряженно и дало больше результатов, исследователю, по-моему, полезно исходить из, так сказать, ПРЕЗУМПЦИИ НЕПОНИМАНИЯ как рабочей гипотезы. В самом деле, если я, придя в другую страну и знакомясь с новым человеком или идеей, заранее полагаю, что здесь встречу то же самое, что я уже знаю, но с некоторыми нюансами, — я слишком самоуспокоен, мой мозг ленив и самодоволен и, естественно, подсунет мне привычную схему мира, и я так и доложу, что здесь все то же самое, лишь свою расцветку дают да орнаменты вышивают по одной и той же канве и одному рисунку главного; ничего существенно интересного и особенного нет, значит, и поучиться здесь нечему. Но если я войду с трепетным ожиданием встретить неведо
16
мое, парализую свои привычные схемы, попробую превратить свой ум в tabula rasa (чистый лист), чтобы новый мир там беспрепятственно писал свои письмена, и буду вслушиваться — о! тогда больше гарантии, что я постигну здешний образ жизни и мыслей. Сказав себе: «я не понимаю», — ученый всегда в итоге работы добывает более глубокое знание, чем сказав себе: «я понимаю». Так что «презумпция непонимания» не только не ставит преграды реальному пониманию между народами, которое и так осуществляется жизнью, но имеет целью расширить это понимание, чтобы оно было более сознательным.
Главная проблема: есть ли у каждой национальной целостности некая устойчивая физиономия, структура мира и мышления, относительно не зависящая от времени, — или все они на одно лицо, а разнятся лишь тем, что одни находятся на более ранней, а другие — на более поздней ступени исторического развития? Конечно, и национальное находится во времени (вместе с Землей и жизнью на ней), но его период обращения, его «год» — иной, чем год исторический. При том, что все народы под одним солнцем и луной и почти одинаковым небом ходят, вовлечены в единый мировой исторический процесс (и этот покров, крыша их объединяет и приравнивает друг другу), они ходят по разной земле и разный быт имеют, из различной почвы вырастают, жизненными темпоритмами различены. А отсюда ценности, общие для всех народов (жизнь, свет, дом, семья, слово, бог и т.п.), располагаются в разном соотношении. Эта особая структура общих для всех элементов (хотя и они в каждом национальном мире понимаются по-разному, имеют свой акцент) и составляет национальный образ, а в упрощенном выражении — модель мира. Это можно рассматривать как определение.
ЛЕКЦИЯ 3
Рассмотрим теперь элементы разнообразия. Что более важно и как бы врождено данному народу в его культуре?
Пространство или Время? Для германцев — Время роднее. Согласно Канту, Время есть априорная форма чувственности человека, a Innere, внутренняя жизнь души, — привилегированная ценность в германской шкале сверхидей. Sein und Zeit — «Бытие и Время» — философский труд Мартина Хайдеггера. Для русских же Пространство более свойско. Недаром в нем тот же корень, что в слове «стра
17
на». Англосаксонское уравнение: «время = деньги» не могло бы прийти в голову русским. Ну а в Соединенных Штатах как? Страна столь же обширна, как и Россия. Но англосаксы высадились сюда с принципом Труда и Времени как его мерой. Так что отношение Пространства ко Времени:
S
— = V , т. е. Скорость здесь важнейшее: отсюда быстро-
та, у-спех — ценности.
Или возьмем проблему Вертикальной или Горизонтальной преимущественно ориентации в мире. Для России, которая «бесконечный простор» (Гоголь), горизонтальные идеи: Даль, Ширь, Путь-Дорога — превалируют. Германские же архетипы: Tiefe (Глубь), Hohe (Высь), Stammbaum (генеалогическое Древо), Haus (Дом) видятся а приори в каждом существовании, т.е. вертикальный акцент.
То же самое — в Италии, где «комната» — stanza, что значит буквально «стоянка» (ср. французское logement = «лежанка»), а в приветствии, как уже говорилось выше, спрашивают: Come sta? = «Как стоишь?» Однако здесь обнаруживаются различия уже в вертикальной ориентации. Италия — космос нисходящей вертикали, а Германия — восходящей. В итальянской архитектуре купол, арка есть небо, опускающееся на землю. В германской кирхе готический шпиль есть усилие земли проткнуть небо, как и Вавилонский столп. В немецком языке характерны восходящие дифтонги: auf, aus, ein, а в итальянском — нисходящие: ia (mia), ua (quanto), ue (questo). В Италии Галилео Галилей развил в механике теорию «свободного падения тел». И в итальянском мелосе часто встречается мелодия типа «вершина-источник», ниспадающая секвенциями, как арки в палаццо (неаполитанская тарантелла, Санта Лючия, ария Чио-Чио-сан и т.д.). В германской музыке усилие к восхождению, завоеванию выси (ср. кульминации бетховенских разработок) знаменательны. Сравните аналогичные по настроению предсмертный дуэт Аиды и Радамеса в опере Верди и «Смерть Изольды» у Вагнера. В первом — плавные ниспадания, во второй — восхождение из глубины в бесконечную высь.
Соотношение Мужского и Женского начал (китайские Ян и Инь) специфичны в каждом национальном космосе. Россия = «мать сыра земля», ее главная река Волга — «матушка», и кукла здесь — «матрешка». В Германии — отчизна Vaterland (в России — Родина-мать), и ее главная река Рейн — Vater Rhein, «отец Рейн».
18
Существуют страстные отношения между странами в историкокосмическом Эросе, во взаимовлечении-отталкивании их историй. Германия выступала как мужское начало в отношении к России, как и Англия — к «сладкой Франции» (douce France) с ее Девой Жанной д’Арк. Вообще страны романско-католического Юга с их культом Матери-Девы выступают как женские в отношении к германским, англосаксонским, протестантским странам Севера, где утрачен культ Богоматери. Зато возрастает в удельном весе ипостась Святого Духа в Троице, а Бог акцентирован не как Отец, а как Творец, чем освящает принцип Труда, «ургии» там. В Америке Соединенные Штаты — мужское начало по отношению к романско-католической Латин-ской Америке, имеющее там свой гарем малых стран. Однако в наше время вдруг маленькая Япония вонзается в обширные и рыхлые Штаты, как Давид контра Голиаф... Китай — мужчина при Индии-женщине и т.п.
Растительный или животный символизм — тоже важный аспект в различении национальных миросозерцаний. Для кочевых народов, где человек — кентавр на коне, священны животные: Конь, Верблюд, Лев, Овца. Так это для арабов, тюркских народов: наши казахи, киргизы... Вспомним образность киргизского писателя Чингиза Айтматова. И на юге Европы: в Греции, Италии — животные интимнее душам народов. Греческие боги Олимпа — животноподобны, с эротическими страстями, и все разнообразие мира порождено, согласно «Теогонии» Гесиода, в бесконечных соитиях титанов, богов и богинь. В Платоновом «Тимее» Бог сотворил космос как совершенное животное; «гилогизм» там распространен — учение о живой материи. В Риме священна Волчица, сосцы которой вскормили братьев Ромула и Рема, и в первой песне Дантова «Ада» три хищника символизируют человеческие страсти. А вот в России, Польше, Германии превалирует растительная символика: лес, дерево, трава, лист, цвет, зерно. В Англии и Франции равномерны животная и растительная символика: собака, волк, лиса, птицы, цветы, сады. В Соединенных Штатах фавориты — хищные животные: Белый Клык у Джека Лондона, Спрут и краб у Норриса и Драйзера, Акула в «Старике и море» Хемингуэя, Кит в «Моби Дике» — сии океанные обитатели Атлантики, которую пересекать приходилось иммигрантам и которые залегли архетипами в их подсознание. Но главный символ там, конечно — Машина. Автомобиль — творение искус
19
ственное. И там выведен новый кентавр — man-in-a-car = человек-в-машине.
Культуры и миропонимания различаются тем, как они понимают происхождение мира и всего в нем. Порождены они Природой или сотворены Трудом? Генезис или Творение? В Старом свете Евразии цивилизации развивались в каждой стране от натуры к культуре постепенно, но и тут свои акценты. Для миросозерцания Эллады типичен взгляд на все, как на порождаемое: Теогония и Космогония. Для иудеев характерен креационизм: Творение мира Богом за 7 дней. Эти принципы я обозначаю терминами ГОНИЯ и УРГИЯ. Первое от греч. gone = рождаемое, того же корня, что и «ген», и обозначает то, что порождено природой, возникает естественно. Второе — от греческого суффикса деятеля ourgos, означающего «труд», «работу», как в слове «демиург» (творец, труженик, ремесленик) или в моем имени «Георгий», которое означает «земле-делец». «Ургия» — это искусственное сотворение^ создание трудом, понимаемое как первоценность в сравнении с бессознательным рожанием Природы.
В Германии «ургия» преобладает. Немцы знамениты в труде и чувстве формы (они просто не умеют работать плохо) и в инструментальной, «ургийной», не вокальной музыке, которая более натуральна, «гонийна». Ургия тут перехватывает и продолжает гонию. Даже слово «дерево» — Baum (как уже говорилось выше) означает вместе и нечто растущее, и «построенное»: это причастие от глагола bauen = «строить». И «крестьянин» по-немецки Bauer = буквально «строитель», конструктор на земле.
Для русского сознания происхождение вещей — вообще не столь важный предмет для мысли; гораздо важнее — зачем все? для чего? Но если уж делается выбор, то склонны, скорее, к «гонии»: Бог его знает, как все возникает, может быть, рождено Матерью-Землей...
В Англии обитает self-made man = «самосделанный человек», и там спрашивают How do you do? = «Как ты делаешь делание?», с двумя do, выражая пристальный интерес к тому, как ты строишь свою жизнь. И даже в молитве Господней, там где по-русски просто «Да будет воля Твоя», в английском переводе Thy will be done = «Твоя воля да будет сделана». То же по латыни: Rat voluntas Tua и по-французски: Que ta volonte soit faite — ургийный подход. А вот по-гречески: genetheto to thelema sou = «Пусть родится воля Твоя», от «генезиса», «гонийный» вариант. По-не
20
мецки же Dein Wille geschehe = «Твоя воля да произойдет», случится. Употреблен глагол geschehen — того же корня, что и Geschichte = «история», и Schicht — «шихт», слой в шахте. Так что идея «глубины», Tiefe, тут залегает, а «история» = «сослойность» буквально. Взгляд народа горняков-трудяг, адептов вертикали бытия.
Ну а в Соединенных Штатах высадился self-made man, самосделанный человек, и построил себе self-made world, самосделанный мир. Тут абсолютное преобладание принципа «ургии».
Могут быть отмечены национальные варианты религиозного чувства, национальные образы Бога. И в христианстве догматические различия коррелятивны национальным: не случайно географическое распределение зон православия, католицизма, протестантизма и его разных течений, — тут созвучие с национальным Космосом и Психеей... Рассмотрим, например, символ Троицы: каков удельный вес Отца, Сына и Святого Духа в разных мирах? В России Троица, хоть и введена Сергием Радонежским как национальное средоточие, все ж для народного чувства слишком абст-рактно-математична эта идея, и воспринимается тут милый суффикс «ица», который сразу повлек ее во Богородицу (Георгий Федотов исследовал эту миграцию Троицы в Богородицу в народных духовных стихах). И Богородица тут оттеснила в культе все прочие ипостаси христианского Божества: Бого-Матерь естественно сблизилась с «матерью сырой землей» и «Матерью Родиной», «Матерью Россией». Так что в благотворной, но и в опасной близости здесь оказались христианское и патриотическое чувства (одно может приниматься за другое). И в Богоматери-Деве акцент на матери, а не деве.
В католических странах на Юго-Западе роль Бога-Сына возвышена в силу принципа filioque («и из Сына» исходит Св. Дух). А в восточном христианстве православия — только из Отца исходит Св. Дух. Это очень многое значит: Отец, старое, традиция — сильнее нового, молодого. Ведь что есть возвышение Сына на Западе? Это сопрягается с культом нового, молодого, динамического в Западной цивилизации. Здесь ценятся — «новелла» и «новел» (роман), «новости», мода, прогресс. Это соответствует Эдипову комплексу, что есть мотор Западной цивилизации (Сын убивает Отца и женится на Матери = на Жизни, на реальности...).
В Италии пара: Мать-Сын превалирует в религиозных чувствах, но «мадонна» слишком введена в меру челове
21
ческого существа, умалена ее сакральность: не Бого-Ма-терь она, а как mamma mia. То же самое и Бог-Отец секуляризован здесь: папа — как Его инкарнация. В Польше Богоматерь воспринимается как Прекрасная Пани, скорее как супруга Польского народа, и она почитается как Королева Польши, соскальзывая с Богова на Кесарев уровень. Матка Бозка Ченстоховска носит ожерелье, как колье. Мицкевич уподобляет польский народ Христу, и они соперничают в претензии на любовь Марии.
Реформация в германском регионе Севера Европы аннигилировала теплое почитание Матери Бога (как слишком земное и телесное), умалила роль Сына, но возвысила образ Святого Духа. Но и Злой Дух появился тотчас, как alter ego Святого (блестящий Люцифер в «Авроре, или Утренней заре в восхождении» Якоба Беме, и в «Потерянном рае» Мильтона, Фауст и Мефистофель и т.п.). А что означает акцентация Духа? Мастер своего дела исполнен уверенности в своих силах и в себе как сотрудник Бога в продолжающемся Творении. Его «Я» выходит на прямой контакт с Богом, как это произошло на Пятидесятнице, когда Бог в ипостаси Святого Духа излился на лысые головы апостолов и они принялись спонтанно глаголати языками разными. Отсюда — разнообразие сект и толков в германских и протестантских странах: баптисты, методисты, пуритане, мормоны, квакеры... Отсюда и принцип плюрализма и терпимости к разному в Англии и США. В этих странах нет тенденции к монизму и унификации, как в России и даже в Германии (Гегель — монизм Абсолютного Духа, Бисмарк — объединение Германии и т.д.).
В США эти английские принципы плюрализма и терпимости прогрессировали далее. В этой стране предельной «ур-гии» Бог чувствуется прежде всего как Творец, а все натуральные идеи: «отец», «мать», «сын» потухают здесь без любовно-природной пищи. Только у негров живая теплота к Богу, и Иисуса они именуют «брат» («brother Jesus»). Англосаксонский и американский вариант христианства имеет ветхозаветный акцент, приближается к иудейскому образу Бога как духа и Творца (но не Отца). То-то и имена ветхозаветные так распространены в Англии (Исаак Ньютон, Адам Смит, Давид Рикардо, Урия Гипп у Диккенса, Ребекка Шарп у Теккерея и т.п.). Между прочим, не нашел я следов дьявола (Сатана, Люцифер...) в американском религиозном чувстве. И это понятно: дьявол, демонизм — аристократические идея и образ, и много его в феодальной Европе изыс
22
канных проявлений. А плебеям-пуританам, высадившимся в Америке, достаточно суеверий и ведьмовства (процесс «Салемских ведьм»...). Однако ныне уже и сатанинские секты возникают там, — но тоже плебейски массовые, как эзотерические общины, варварски суеверные...
Продолжая перебирать элементы разнообразия, задумываемся над тем, какой из основных вопросов существен для нации. Что это за вопросы? Что? Почему? Зачем? Как? Кто?...
Что это есть такое? — главное вопрошение в греческом умозрении: вопрос о бытии и его членораздельности формой.
Почему? — вопрос важнейший для немцев, их интерес направлен к происхождению, к причинам (причинению = мастерению) вещей. И они ищут причины в Глубине: в основании, в фундаменте (Кант полагает фундамент для здания метафизики, Маркс в германской традиции мыслит о базисе и надстройке, Шеллинг ищет «основу в Боге» и т.п.), в глубинах прошлого, где корни древа бытия залегают. Warum? = Was um? = «Что вокруг?» Мир предполагается состоящим из двух частей: «Я» и «He-Я» (как это в философии Фихте), субъект — объект, Haus — Raum (Дом — Пространство).
Для французов тот же самый вопрос «почему?» звучит какроиг-quoi? = «для чего?», т.е. «зачем?». Цель важнее Причины. Сущность бытия полагается лежащей где-то впереди, в будущем. Отсюда французские теории прогресса (Руссо, Кондорсе), эволюции (Ламарк, Тейяр де Шарден), социальные утопии (Сен-Симон, Фурье, Конт).
Между прочим, польское «почему?» звучит как dla czego? = «для чего?» тоже. И есть взаимное притяжение и сродство между Польшей и Францией через голову Германии — в политике и культуре; напомню о Шопене и Жорж Санд; культ прекрасной дамы и пани, куртуазность, католицизм и т.д.
А вот для англичан и особенно для американцев главный вопрос будет «Как» — How? Как вещь работает? Как сделана? Принцип «ноу-хау» (Know how) распространился по миру отсюда. Бесконечное количество книг про How to: «Как что сделать?», «Как добиться успеха?», «Как приобретать друзей и влиять на людей?» (стиль Дэйла Карнеги) выходят в Штатах как бестселлеры.
Ну а что же будет основной вопрос, интересующий русских в бытии? Под каким модусом-соусом рассматривается
23
всякое существование здесь? О, это самое трудное: определить то, что близко, в чем обитаешь, как трудно определить себя самого. Может быть — «Кто?», «Кто виноват?» — знаменитый вопрос герценовской повести. И стиль взаимных подозрений: кто ты? каков? «А ваши кто родители?» (Маяковский к убийце Пушкина в «Юбилейном»)... Анкеты, вопросники, расследования твоей подноготной в отделах кадров и КГБ. Автобиографии, что пишем... И сейчас мы снова вопрошаем: кто виноват в наших бедах? Кто бес, искуситель, враг? Но есть и благородный, и возвышенный аспект в этом интересе к «кто?». Это принцип Личности. Это гуманизм русской классической литературы, ее интерес ко внутренней жизни души, духа (Толстой, Достоевский...).
А может быть — «На кой?». Этот народный вариант вопроса «зачем?», но без позитивного интереса и к «за», и к «что», как бы наперед будучи убежден, что и не стоит усилия делать и интересоваться — все равно не выйдет. Так что уж лучше и не делать ничего...
Но в последнее время, когда будто выбивается из-под тебя платформа, на коей стоял, расползается земля, тает льдина, где космос твой, где прописан ты и язык, и труд твой, а именно: российская (и советская) цивилизация, — вслушиваясь в свое мироощущение, на своем опыте, словно в доказательстве от противного состояния, убеждаешься, что основной вопрос в России — «Чей?» Оказавшись теперь «ничей», человек ощущает, будто стержень и тягу, и смысл жить из-под тебя выбивают. Недаром и фамилии русские все поссесивны, родительны: Иван-ОВ, Пушк-ИН... Человеку тут потребно знать-чувствовать свою принадлежность к какому-то целому больше него: роду, Родине, Идее, Богу... В разреженном космосе и сыро-мерзлом, в бесконечном просторе России он не может самостоять совсем один, но в некоем «мы»: дома-семьи, села, страны. «Мы — псковские!...» Человек в «Философии общего дела» Н. Федорова определяется как «Сын человеческий» и в братстве — по родству. И патриотизм здесь — живая пуповинная связь. Понимаешь слова песни: «Была бы только Родина!...» — тогда я прикаян, на месте, при пространстве-времени. Даже в песенке милой детской про чибисят: «Ах, скажите, чьи вы?..» — тот же основной вопрос ставится. А если и могли обличать русскую и советскую цивилизацию и хорошо творить культуру блудные сыны бессемейные (там Чаадаев, Лермонтов, Тургенев, Маяков-ский, Мандельштам...), то это потому, что крепко стоял Отец (дворянская цивилиза
24
ция, российско-советская) и при нем — Сын послушный (крестьянин, служивый, солдат, чиновник, партаппаратчик...), и было блудному куда возвращаться, припасть-каяться и где тельца на радостях подадут... Так что на привязи памяти ЧЕЙ ОН себя и Блудный сын (шалун, блатной, люмпен, диссидент...) осознавал, содержим был и содержателен мог быть... Но теперь у нас, кажется, и ни отцов, ни сынов послушных, а — из одних сынов блудных, люмпенов, уповаем страну, хозяйство, культуру построить. А «патернализм» и «инфантильность» — эти ругательные слова фигурируют вместо «патриотизм» и «сынов-ство»... Но проблема есть: «речь не мальчика, но мужа» — когда на Руси раздастся?..
Попробуем теперь вычленить символическую фигуру, эмблему, модель мира. То, что предложу, конечно, — субъективно, плод моей интуиции. Но она опирается на некую частотность и существенность объективную, так что не случайна...
Шар -круг с центром и диаметром — модель Космоса у греков: в виде Сфероса представляли Бытие Эмпедокл, Платон, Архимед, Плотин...
Дом — модель мира для немцев. Все видится как структура (мир — как миро-здание) с разделением на внутреннее, где «Я», и внешнее, где «He-Я», т.е. диалог: Haus — Raum = Дом — Пространство.
Арка — модель мира для Италии: купол Неба, нисходящий на Землю.
25
Крест Декартовых координат с синусоидой на нем — для Франции: симметрия, дуализм, баланс между экстремами противоположностей, между прямой мужской линией и женской кривой, волной.
Корабль-остров с мачтой = «самосделанным человеком», self-made man — схема Бытия для Англии: вглядитесь в эмблему фунта — £
Менора, семисвечник — эмблема Еврейства: столь малое основание — сцепление с Землей («минус-Космос» еврейства в диаспоре) и разветвленное развитие в воз-духовной сфере Психо-Логоса.
Путь-дорога от порога в бесконечность по горизонтали равнины — русский образ мира: реактивно, ракетою «от самой от себя у-бе-гу!»...
$
Эмблема доллара не случайна и многозначна в США. Тут вертикаль небоскреба со Змием, обвивающим Древо. Если же положить эту фигуру, то получим автобан с развилками в форме «спагетти», — типичный американский пейзаж в этой Фордом выделанной стране для «челове-ка-в-машине» (man-in-a-car)
26
Чаша вверх и вниз дном — для Болгарии. Горы Балкан, где гайдук Ботева, человек воз-духа и песни, — и долина-ложбина, где уют дома, «кыца», и ввинченность в землю и земное, практицизм.
Липа Кохановского — для Польши. Стихия влаго-воздуха, лик Пани сверху, ниже человек-факел, шляхтич Кордиан (у Словацкого), а под ним — Хам, «хлоп», улитка Слимак (у Пруса), но кем незыблема земля Польши.
Конечно, все эти элементы: пространство и время, вертикальное и горизонтальное измерения, ориентировки, мужское и женское, растительный и животный символизм, «ур-гия» и «гония», основные вопросы и прочее существуют в каждом национальном образе мира. Можно присовокупить и другие важные элементы, по которым различаются национальные миросозерцания. Например: в физике и математике представление мирового пространства как континуума, со страхом пустоты (как у француза Декарта) — или дискретным, как в германском регионе. Или в строении вещества и света: копускулярные теории отмечаются в германских странах (Ньютон, Планк); а во Франции — волновые (Декарт, Френель, де Бройль) и т.п.
Итак, ВЕЗДЕ ВСЕ ЕСТЬ, но в разных пропорциях. Эти соотношения и акценты нам и следует выяснять.
ЛЕКЦИЯ 4
Первое, оче-видное, что определяет лицо народа, — это ПРИРОДА, среди которой он вырастает и совершает свою историю. Она — фактор постоянно действующий. Тело земли: лес (и какой), горы, пустыня, тундра, вечная мерзлота или джунгли, климат умеренный или с катастрофическими изломами (ураганы, землетрясения, наводнения, засуха, пожары...), животный мир, растительность — все это предопределяет и род труда, которым здесь надо заниматься населению (охота, бортничество, кочевье, скотоводство,
27
земледеление, мореплавание, торговля, промышленность...), и образ мира: устроен ли Космос как мировое яйцо, мировое древо (ясень Игдразилль в скандинавском эпосе); каковы тут священные животные: Конь, Олень, Верблюд у киргизского писателя Ч. Айтматова, из народа кочевников в недавнем прошлом, или тело Кита дает модель миру, как Левиафан (для англосакса Гоббса) или Моби Дик (для американца Мелвилла). Здесь коренится и образный арсенал национальной культуры (архетипы, символы), метафорика литературы, сюжеты искусства — все весьма стабильные. Например, горы выступают как мировые координаты в искусстве народов Кавказа (Эльбрус, Казбек...) и для греков = «горцев» буквально (Олимп, Ида, Парнас...), и в Индии: священная гора Меру в Гималаях, что послужила богам мутовкою во время пахтанья Мирового океана, в результате чего образовалась, свернулась Земля. Для русских в космосе равнины архетипичны «бесконечный простор» (Гоголь), ширь, даль, ровная гладь, «ветер, ветер да белый снег» (Блок), «разливы рек ее, подобные морям» (Лермонтов), «за далью даль» (Твардовский), Путь-дорога и роль образов движения тут: «Медный всадник» (Пушкин), «Русь-тройка» (Гоголь), «Железный поток» (Серафимович), «Бронепоезд 14—69» (Вс. Иванов), «Броненосец Потемкин» (Эйзенштейн) и т.п.
Природа определяет и цветовую символику. Например, для народов экваториальной Африки недействительны индоарийские соответствия: добра, идеала, истины — цвету белому, а зла, «низменного», лжи — цвету черному, так что выражение типа «черная неблагодарность» там будет восприниматься как противоестественное, как оксюморон, вроде «благодетельное зло», а восклицание Отелло «Черен я!» может быть понято не трагически, а одически, как самовосхваление.
Итак, первое, очевидно напрашивающееся соображение: национальное в народе есть как бы почва его исторического развития, ему предшествует, в то время как история есть выравнивание народов. Следовательно, чтобы доискаться до национального, надо погружаться в древность, в «доисторическую» эпоху народов, а жизнь национального в последующие века есть сохранение «завета», так что радеющий о национальном своеобразии должен заботиться о консервации, о замедлении исторического развития, ограничения влияний со стороны и контактов с другими культурами. Так, русский мыслитель конца XIX в. Констан
ов
тин Леонтьев предлагал «подморозить Россию», чтобы удержать ее в состоянии «цветущей сложности», которой она достигла к этому времени.
Однако изучение быта и мышления, мифов первобытных народов, проделанное наукой XX века (Тэйлор, Фрэзер, Леви-Брюль, Леви-Стросс и др.), обнаружило следующее парадоксальное соотношение: чем глубже погружаться в древность народов и их воззрений, тем более на одно лицо начинают они выглядеть. Сходные орудия производства: топор, игла, колесо...; аналогичные системы кровнородственных отношений; однотипные мифы о происхождении неба, земли, солнца, человека и т.п. Разнообразие, выходит, не на этом, древнейшем, уровне начинается, и, может быть, именно история создает лицо народа?
Действительно, фундамент истории есть история его труда по преобразованию природы, среди которой он живет. Это двуединый процес: человек пропитывает окружающую природу собой, своими целями, осваивает ее — и одновременно пропитывает себя, всю свою жизнь, быт (дома из камня или дерева, или из песка; одежда, пища из чего?), все свое тело и опосредованно душу и мысль — ею. Приспособление природы к себе есть одновременно гибкое и виртуозное приспособление данного коллектива людей к природе. Так что КУЛЬТУРА есть прилаженность — человека, народа, всего натворенного ими, выплетенного за срок жизни и историю, — к тому варианту ПРИРОДЫ, который ему дан (и которому он придан, человек и народ, как соответствующая ему порода существ) на любовносупружескую жизнь в браке и на взаимопроникновение. И как жена — не рукавица, не скинешь, так и природа — народу: нельзя ее произвольно сменить без потери народом своей субстанциальной сути. Национальный Космос есть ПРИРОД И НА Народу. Культура же есть разработанная за жизнь человека и за историю народа техника, инструментарий любви, объятий Народом Природины своей и всего разного, что на ней. Нарты, юрта, домна, трактор, самолет — все это способы общения и взаимопроник-новенного сожительства в любви.
Итак, если Культура есть любовь Народа к Природе своей в супружестве Истории, то Природа ему выходит — и мать, и жена, и дитя родимое, взращиваемое и воспитываемое. По древним мифам, Земля (Гея эллинов) рождала себе Небо (Уран) в супруги, который таким образом оказывался и сыном, и мужем. Народ же есть при Природине своей
29
ей сын и муж, и родитель. Ибо возделанная Природа есть уже чадо, «инобытие» Народа, зеркало его души, материализация его духа и характера. Через Труд Народ-сын становится супругом и отцом Природине своей. Культура же ле-жит-простирается как овеществление и одухотворение их совместной семейной жизни.
Выходит, рациональное есть итог исторического развития народа. Человек современный более национально своеобразен, чем древний. Достоевский — более русский, чем Князь Игорь, Генри Форд более американец, чем Джордж Вашингтон, генерал де Голль более француз, чем рыцарь Роланд и т.д. Следовательно, радеющий о национальном своеобразии должен заботиться о прогрессе, об интенсивном развитии производства и техники, о цивилизации и культуре, о максимальном общении с другими народами, ибо лишь в ходе контактов и сравнений обнаруживается и шлифуется свое — то, чего нет у других.
Таким образом, в ходе своей истории каждый Народ не только обретается в диалоге с Природой своей страны, так сказать, в вертикальном измерении, но и вступает на поверхности Земли в горизонтальные контакты с другими странами и народами — в торговле, войнах, дипломатии, в культурном обмене. Пока народ существует изолированно, он не имеет возможности иметь национальное самосознание1. Оно начинается лишь в актах сравнения с другими народами, которые предлагают собой многостороннее зеркало данному народу для многогранного познания самого себя в рефлексии.
История — род трения. Когда мы трем кусок дерева или камень, мы полируем их, делаем их поверхности ровными и гладкими. Но когда я растираю живое тело, я не только «полирую» кожу, но и делаю массаж внутренним органам и сосудам, стимулируя собственную энергию организма. Подобно и национальные организмы в ходе мировой истории формируются, отливаются в самосознающие личности: все не только «самосделанные» но и «другими-сделан-ные».
Самое увлекательное в исследовании — это уловить и определить особенные национальные черты в современных произведениях и развитых личностях, которые все многосложны и многоуровневы и денационализированы под
Примеч. ред. Он его имеет, но, может быть, не осознает.
30
влиянием мировой цивилизации в той же мере, в какой они цветуще национальны. Как же уловить национальное в таких явлениях?
По крайней мере три точки опоры для этого необходимы: архаика (миф, фольклор, эпос, сага, Библия, «Илиада»...), классика (Данте, Шекспир, Декарт, Гёте, Толстой, Мелвилл...) и современность (Феллини, Джойс, Сартр, Т. Манн, Цветаева, Фолкнер...). Движение мысли по этой орбите может дать известную гарантию, что мы не примем за существенные черты национального миропонимания то, что ему случайно или чуждо.
В охоте за национальным самосознанием народов важно находить его в различных сферах жизни, культуры: в языке, кухне, играх, физике, поэзии... Проецируя одно в другое и обнаруживая соответствия элементов на различных уровнях внутри каждого национального образа мира, мы отыскиваем «инвариант» и обретаем для него род «реле», контролирующий механизм, который может подтверждать или отвергать наши гипотезы и положения. Поэтому наше исследование должно преодолевать рамки современной детальной специализации в культуре, быть энциклопедическим, имея своей целью — реконструировать целостность национального бытия. Границы между различными областями жизни и культуры должны размываться, а предметы сопоставляться не в их традиционных связях (поэзия — с поэзией, механика — с механикой...), но все может рассматриваться в терминах всего другого: нисходящие дифтонги итальянского языка отражаются в теории свободного падения Галилея (я уже подчеркивал их соответствие), а германское блюдо «шницель» (от schnitzeln = «резать») перекликается с теориями немецких мыслителей о дискретности вещества (кванты Планка).
ЛЕКЦИЯ 5
Итак, объект наших реконструкций — национальное Целое. Однако сомнение и скептицизм преследуют меня снова и снова — как извне: в возражениях других людей, так и изнутри, в моем самокритицизме и рефлексии: как это возможно вычленить некое «национальное Целое» из универсальной мировой цивилизации с ее всепроникающим и нивелирующим излучением?
31
Да, очевидно, что в ходе мировой истории и особенно в XX веке все народы сблизились и стали унифицироваться в быту (у всех телевидение и авто...) и в мышлении (интернационализм и математизация в науках, компьютеры...) — и тем не менее в своем ядре каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняется особый климат, пейзаж, нацональная пища, этнический тип, язык..., — ибо они постоянно подкармливают и воспроизводят национальную субстанцию, особый склад жизни и мысли. Соответственно Единое материальной вселенной (Космос) или Духа (Логос) приобретает специфический образ у каждого народа. Инвариант Бытия видится каждым в особой проекции, в особом варианте, — подобно тому, как единое небо видится сквозь атмосферу, которая обусловлена разнообразием поверхности земли. И тот «Космос», который я для каждого национального мира описываю, прежде всего понизовый: земляной, а не звездный.
В качестве эпиграфа к настоящему исследованию хорошо подходит изречение Гераклита: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос, из спящих же каждый отвращается в свой собственный» (фрагмент 95). Так что национальные образы мира — это как бы сны народов о Едином. Зачем же заниматься снами? А чтобы не принимать их за действительность, отдавать себе отчет в ограниченности и локальности наших даже самых общих представлений: об Истине, о Боге, даже в математике наблюдаемы национальные акценты. В то же время через сопоставление и взаимную критику разных «снов» есть надежда и до истинной реальности докопаться. Сквозь варианты — к Инварианту!
Реальна опасность, что в будущем национальные культуры могут сливаться в океане универсальной цивилизации Земли, однако в настоящее время они еше в полном цвету, и я вижу свою задачу в том, чтобы описать их в этом состоянии, когда народы и культуры, может быть, поют свою лебединую песнь. Я портретирую нации — как личности.
Национальные культуры подобны деревьям, что растут в течение веков и тысячелетий. Их уподобление друг другу и унификация по меркам и стандартам цивилизации происходит на верхнем уровне, с вершин деревьев. Могу даже схемой это представить:
32
Земля
Цивилизация
XX века
Франция Германия Италия Россия
(дуб) (ель) (пиния) (береза)
Но ствол и вся ткань — различны. И до сих пор текут национальная кровь и сок из корней, подпитывая национальную плоть.
Национальные культуры и цивилизация XX века — суть сообщающиеся сосуды. Причем культуры — вертикальны, а цивилизация действует по горизонтали нынешнего состояния мира сего. Все существа и вещи возникают вертикальным путем — через страсть Эроса (Труд — тоже его ипостась); но готовые изделия поступают в обмен в ходе торговли по расчету, где работает уже рассудочный, но импотентный создать живое и новое — Секс (процедура сечения, виви-секции всего: «разделяй и таким образом властвуй»). Родники и фонтаны национальных культур втекают в общий резервуар цивилизации XX века, что содействует распространению их творений. Но творить цивилизация не может. Она — рынок для уже рожденного и созданного. Культура = жизнь и творчество.
Искомую национальную целостность я определяю как Космо-Психо-Логос. Подобно тому, как каждое существо есть троичное единство: тело, душа и дух, — так и всякая национальная целостность есть единство местной природы (Космос), характера народа (Психея), склада мышления (Логос). В Космо-Психо-Логосе три элемента (уровня) национальной целостности находятся в отношении и соответствия (тождества друг другу) и взаимной дополнительности (противоположности и уравновешивания). В описании и анализе тут требуется тонко работать — ассоциируя и расчленяя, дифференцируя.
Эта концепция напоминает гипотезу Сепира-Уорфа. Действительно, они, как и многие другие лингвисты в XX
2 Гачев Г.Д.
33
веке, сопоставляя структуры, грамматику и лексику различных языков, описали много характеристических особенностей национального мышления. Но их анализ исходит только из языка, тогда как сам язык вплетен в целостную ткань национального Космо-Психо-Логоса и отражает его жизнь.
Природа каждой страны — это не географическое понятие, не «окружающая среда» для нашей эгоистической человеческой пользы, но мистическая субстанци — ПРИ-РОДИНА (мой неологизм: Природа + Родина в одном слове). Мать-земля своему Народу, кто в отношении ее одновременно и Сын, и Муж — как в древнегреческой мифологии Гея (Земля) рождает себе Урана (Небо), который ей и сын, и супруг.
Что же тогда История? История — есть супружеская жизнь Народа и Природины за смертный срок данного национально-исторического организма. Культура же — чадородие их брака.
Ныне ахнули: что сделали с природой! — и возникло слово «экология». Но оно, научненькое, — тоже гуманистично-эгоистично: станем жалеть природу, как рачительный хозяин жалеет кобылу: не загоняет конягу в усмерть. Нет, — вернуться к благоговению перед Природой как сокровищницей сверхидей тайного разума — вот что надо. Природа — это текст, скрижаль завета, которую данный Народ призван п(р)очитать, понять и реализовать в ходе истории на своей земле.
Тут является новый актер в национальной космо-исторической драме — Труд, который — создатель Культуры на этой земле. Труд работает в соответствии, в гармонии с Природой — и в то же время восполняет искусством то, чего не дано стране от естества. Например, в Нидерландах («низкой земле» буквально), где Природа отказалась дать достаточно земли своему Народу, последний расширил себе территорию по вертикали и по горизонтали благодаря труду.
Другой пример Россия. Она — страна равнин и степей, без значительных гор, так что Природа как бы отказала ей в вертикали бытия. И вот, как бы в компенсацию за это отсутствие, в России в ходе истории выстроилась искусственная гора гигантского Государства с его громоздким, многоэтажным аппаратом, и жизнь страны обрела таким образом вертикальное измерение.
Уникальный случай являет собой Еврейство. В то время, как другие национальные целостности сочетают Кос
34
мос, Психею и Логос, этот народ смог существовать в ходе истории без своей Природы1. Благодаря этой уникальности (в частности) они — «избранный народ». Еврейский вариант я определяю как «Психо-Логос минус Космос». И как в математике минус, отрицательное число есть не просто отсутствие, но значащая величина, так и «минус-Космос» есть весьма значащее отсутствие. Те субстанции и энергии, которые в других народах распространяются экстенсивно на их территориях (уходят в возделывание земли, постройку городов, тратятся в войнах с соседями...), здесь удерживаются в Психее и в Логосе, делая их необычайно активными и дифференцировнными. «Тора» — их терри-тора. Природа Еврейства — это его народ. Космос оказался как бы вдавлен в этнос. Главная заповедь здесь — жить, выжить: «Быть живым, живым и только до конца», — как это выражено Пастернаком. И, кстати, когда в России после разделов Польши оказались миллионы евреев, тут же возникло метафизическое «влеченье — род недуга»: минус—Космос привился к такому сверх-Космо-су, как Россия. И этот восторг — в Левитане-пейзажисте, а у Пастернака — так просто плотоядная влюбленность в русскую природу...
Если национальный Космо-Психо-Логос может быть понят как Судьба данному народу, то Труд, история и культура могут быть поняты как его Свобода. Или, точнее, — как Творчество в силовом поле между полюсами Судьбы и Свободы.
Тут важнейший пункт и акцент. Все бытие человека и человечества совершается между Предопределением (природа, тело, этнос, смертный срок, традиция...) и Свободой (личность, дух, воля, творчество...). И то, что я взялся описывать: национальный Космо-Психо-Логос, — это, в общем, зона Судьбы. Я пытаюсь понять волю объективного бытия — до моего входа в мир, предданность, как бы Ветхий Завет каждому народу. Но так же равномощно действует и Новый Завет — Свободы, Личности — в каждый данный миг, и будущее созидается в их диалоге. Но Новый Завет пишется по скрижалям Ветхого, и резец Свободы гравирует по табло Судьбы. Последнее (как бы ПРЕД-оп-ределение) я и усиливаюсь расчитать. А значит: только один аспект и сторону каждой национальной целостности. Об
1 Подробнее об этом см. в главе «Еврейский образ мира».
2*
35
этой ограниченности открыто заявляю у врат предстоящего путешествия, и о ней не надо забывать при каждом ходе мысли и положении.
Мой подход — КОСМОСОФИЯ, то есть «мудрость Космоса» (по аналогии с «историософией», которая — «мудрость Истории»). Слово «космос» берется в первичном, эллинском смысле: как «строй мира», гармония, но с акцентом на природном, материальном.
ЛЕКЦИЯ 6
Самая трудная задача — определить логику мышления другого народа, национальный Логос. Это была моя первая цель, когда я начал думать над национальными аспектами Бытия более, чем 30 лет назад. Тогда у меня не было еще терминов: «национальный образ», «национальный Космос», но я отважно и опрометчиво атаковал «национальные логики»... Теперь-то это — не первая, а конечная цель моих исследований в национальной области. И в ходе их я вынужден был удовлетвориться более умеренными задачами и понятиями. Сама история моего наступления и отступления на этом поприще показательна и может выявить дополнительные аспекты и трудности в проблеме.
В этом пункте я должен сделать еще одно признание. Я не чувствую себя уверенно в точных науках, в математике, в рассудочной логике, но своей стихией более ощущаю созерцание, медитацию, интуицию, воображение. Однако, как это часто бывает, я в молодости испытывал некий комплекс неполноценности в отношении вещей и занятий, к которым у меня не было больших способностей, и с тем большим рвением я принялся изучать философию. С 1955-го по 60-е годы грыз я Гегеля под руководством нашего замечательного философа Эвальда Васильевича Ильенкова (1925—1979), еще и Канта, Фихте, Шеллинга, осиливал их эзотерический язык, философский жаргон, технические термины, осилил, полюбил и смог созерцать великолепные здания их философских систем — гармонические, как и современные им симфонии венской классики: Гайдна, Моцарта, Бетховена... И все же нечто вроде интеллектуального бунта поднималось тогда во мне: неужели мне в России середины XX века, чтобы понять сущность Бытия, смысл Жизни, Истину и проникать в смыслы всего, обязательно ум двигать именно по этим траекториям — немецкой классической философии, этого великолепного,
36
но все же готического собора? Так ли уж всеобща и универсальна эта претендующая быть таковою логика и систематика? Не лежит ли на ней локальная печать именно германского склада мышления? Менее ль глубоки и менее ука-зуют путь к Абсолюту Платон и Декарт, чей стиль столь прозрачен и естествен? И так ли уж вообще чист Чистый' Разум?... И зародилось предположение, что у каждого народа, каждой культурной целостности есть свой особый строй мышления, который и предопределяет картину мира, что здесь складывается и сообразуясь с которою и развивается здешняя история, и ведет себя человек и слагает мысли в ряд, который для него доказателен, а для другого народа — нет.
Национальных логик, однако, мне выявить не удалось: не по зубам орешек. Принялся я было сравнивать в лоб логику с логикой: Аристотеля с Кантом, Декарта с Бэконом т.п. — все работают вроде однотипной формальной логикой (силлогизмы, анализ—синтез, индукция—дедукция...), доказывают свои положения и строят систему; отличия же могут быть объяснены разностью и исторических эпох, и индивидуальных миросозерцаний.
Тогда я отступил и с философского синтаксиса перешел на лексику, что проще. Вслушиваясь в термины философии, науки, обнаруживаешь, что в их корнях залегают метафоры, образы, и они не могут не изгибать мысль ученого и философа (осознает он это или нет) в своем силовом поле и не излучать-изливать интуиции, диктовать их ему. Но чтоб уловить их, узнать, различить, надо читать тексты не в переводах, а на национальных языках. Ибо перевод текста с языка на язык = перевод с космоса на космос: незаметно подставляются совсем иные (в)идеи. И наоборот: то, что кажется таким неестественным в переводе (как мне показался сперва неким эзотерическим жаргоном язык германской классической философии), оказывается таким простым, очевидным и легко понимается — в родном языке.
Например, изучая философию Декарта, русский узнает, что у него две субстанции предполагаются в Бытии: «протяжение» и «мышление». Отчего, почему, какая связь? Никакой логики в этой паре. Но вот открыл французский текст — и что же? Там EX-tension и EN-tendement. Оба — от латинского tendere или французского tendre, что значит «тянуть». Так что — ВЫтяжение и Втяжение, как вы-дох и в-дох. Материальный мир = такт выдоха Бытия, саморас-
37
ширение Духа. Мышление = такт вдоха Бытия, его вбирание в себя, аннигиляция пространства в точку и вообще в имматеральность. Как все просто стало, — и проступила, очевидна стала интуитивная основа их спаривания — этих «субстанций» Декартом. И — красиво: выявились симметрия и баланс, что есть эстетический критерий во Фран-цузстве, и он метит собой дуализм Декарта, тогда как германский вариант дуализма — это уже анти-номия = «противозаконие», противоположность. И это тоже очевидно в терминах немецкой философии. «Предмет» по-немецки — GEGEN-stand, т.е. «противо-стой», а значит, — враг, противник, которого надо осиливать Волей — сие Пред-ставление (имею в виду главные идеи-термины философии Шопенгауэра, чей главный труд — «Мир — как Воля и Представление»). Тут же припоминается и WIDER-spruch — «противо-речие», что fuhrt = «ведет», по Гегелю, в развитии всякого явления. А из пространственных координат-ориентировок в мире Вертикаль акцентирована: «стояние» в Gegen-STAND и в Vor-STELL-ung — «представление», тогда как у Декарта-француза, скорее, горизонтальный вектор превалирует в его «тянутиях», как и в русском «пред-мет» (калька с латинского ob-jectum от iaceo — «метать»). Вот сколько разных интуиций содержится подспудно в элементарном и основном термине научной и философской рефлексии — «предмет». Еще: германский Gegen-stand, как «противо-стой», подразумевает закрытое пространство: субъект и объект стоят напротив друг друга, как стены в германском Haus = доме, что есть модель мира во Германстве. Латинское же ob-jectum, как и наш «предмет», предполагают операцию метания, бросания, которой нужно открытое пространство.
Произнесешь термин «Пространство» на разных языках — и уже множество интуиций захороводилось вокруг слова, как мошкара. В русском — страна, сторона, отсыл в бок, в ширь-даль, в родимую сторонку, где «мое дело — сторона», так что мое — это «моя страна». Латинское spatium (откуда и французское espace и английское space) — от глагола spatior = «шагать» (ср. немецкое spazieren = «гулять»). Spatium — есть пространство, творимое и меряемое шаганием, т.е. дискретное, рубленое, а не плавное, жидкостное, континуум, как Декартово extension = «тянутие», «вытяжение». Так что образ, содержащийся в термине, обязывает к определенному внутреннему созерцанию, представлению: в spatium — шагать, переступать 38
твердотельно через пустоту, что вполне родно для рим-ски-итальянского ощущения мира, как состоящего из атомов в пустоте (космос Лукреция): твердые тела-камни-индивидуумы в Галиллеевом сухом безвоздушном пространстве, без сопротивления среды (что важна, напротив, во французском влаго-воздушном, континуальном космосе)...
А вот немецкий термин для «пространства» — Raum — со значением «пусто», «чисто»; ср. raumen — убирать (комнату), очищать (улицу от снега), уносить (мусор), отодвигать, устранять; освобождать (это я по словарю уточнил значения). Так что германское чувство пространства есть как бы «от-странство», у-странение, а не рас-про-стран-ение — протяжение — растекание некоей полноты — жидкой среды (как у француза Декарта).
Кстати и о терминах для Времени. В русском оно — от «веремя» = веретено, вращать, идея круга-цикла. А в немецком Zeit — от ziehen = «тянуть». Так что германская интуиция для Времени аналогична французской — для Пространства: непрерывность, континуум...
В терминах застыли также характерные действия. Так, для понятий «разум» и «рассудок» у немцев — Ver-stand (буквально: «об-стой», опять вертикаль акцентирована) и Ver-nunft = «об-н-ятие». А «понятие» = Begriff = «об-хват».
В термине «Материя» — Мать слышится на многих индоевропейских языках — материнское начало, женское в Бытии — то, что обожествлялось как Великая Матерь в культах древних, Мать-земля.’. Дух же — Свет, Небо, мужское начало. «Идея» = ВИДея: то, что связано со светом, тогда как МАТЬ = ТЬМА: из перестановки тех же слогов составлены оба слова, и это важно для русского понимания этой философской категории: Материя = МАТЬМА и ТЬМАТЬ...
А акценты в терминах для понятия «Истина» проницательно промедитировал еще Павел Флоренский в трактате «Столп и утверждение истины». Греческое aletheia значит буквально «несокрытость», слово того же корня, что и «Лета» — река забвения. «Несокрытое» = что ОЧЕ-ВИД-НО, на свету, зрению, как и ВИДЕИ Платоновы. В латинской veritas (французская la verite) аспект ВЕРЫ слышится, что есть прерогатива религии. Так что в западном мире науки — в опасной близости к религии, и между ними постоянные трения от этого. Русская же ИСТИНА = «ести-на»: то, что «есть»: в ней акцент Бытия слышится, и пред
39
положен онтологизм русского мышления: всерьез брать и буквально — построения разума, а не условно, гносеологически, как это более принято в западной традиции... Английское Truth от true = «верный» — друг, «лояльный» — к закону... Немецкая Wahr-heit — от индогерманского корня, означающего «нужда», «забота». Истина как необходимость, нужда — наставник человека во Германстве; она побуждает к труду. И недаром «Нотунг», Notung (от Not — «нужда») — так многозначительно назван меч Зигфрида в «Кольце нибелунга» Вагнера. И т.д.
Итак, чтобы восстановить прерванный обильными примерами ход рассуждения, — в охоте за национальными логиками как особыми способами связывания понятий, идей, то есть за философским синтаксисом, я стал вникать в более мелкие элементы, в морфологию — в строение самих понятий, терминов — и обнаружил, что в глубине самых отвлеченных терминов, обозначающих самые абстрактные понятия и идеи разума, залегают образы, простые, даже примитивные, жесты, акты, действия (шагать, тянуть, брать, хватать, бросать, стоять...) и прочее, понятное и ребенку, и простолюдину каждого народа в его языке. И это очень важно понимать, ибо мышление, Логос национальный — это не только операция рассудочного связывания понятий и идей по правилам логики, но и воображение, созерцание, медитация...
И вот следующий шаг в восхождении на национальный Логос был — уловить интуиции, созерцания, видения под системно-рассудочными выкладками философов и ученых. Они проступают в наглядных примерах, сравнениях, иллюстрациях, к каким прибегают мыслители, чтобы пояснить свои логические построения. Шар, Сферос выступает как модель мира, априорная для ума эллинов (Пифагор, Архимед, Плотин, Птоломей...). Если что приведено к шару, кругу или выведено из них, то ты на пути истинного понятия. И споткнулся эллинский ум-разум как раз на проблеме квадратуры круга. Квадраты же и прямоугольники — интимны для мастерового Германства, чья основополагающая всемодель мира — Haus, Дом, структура многоэтажная, из уровней, клеток и ящичков, куда можно разложить все по полочкам, дискретно, аккуратно. Кант в своей «Критике чистого разума» закладывает ФУНДАМЕНТ для будущей возможной Метафизики (так он формулирует свое намерение и предприятие) и строит ЗДАНИЕ Разума — постоянны у него эти образы, вдохновля-
40
ющи. По германской интуиции, развернутой Кантом же в его «Всеобщей естественной истории и теории неба», Вселенная = Миро-ЗДАНИЕ. По Шеллингу, даже Бог = Дом: он предполагает «Основу в Боге» (в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы»). И Карл Маркс, выросший в лоне-купели германского Логоса, увидел структуру Общества состоящей из базиса и надстройки, — явно модель Дома витала перед его умом. И по Хайдеггеру, Язык = Дом Бытия.
Кстати, когда я применил слово «предприятие» к затее Канта, я поймал себя за руку, воспомня, что по-немецки я бы должен тут употребить слово UNTER-nehmen, а по-английски UNDER-taking, — в обоих случаях приставкой unter (under) акцентируя ПОД, низ, вертикаль Бытия, тогда как русское слово имеет в созерцании — ПЕРЕД, то есть горизонталь. И так на каждом шагу мышления язык направляет наши мысли, но мы большей частью не отдаем себе отчета в этих его управляющих импульсах. Однако мы в нашем предприятии: осмыслении национальных образов мира — должны особенно приглядываться и прислушиваться именно к таким безотчетным и неосознаваемым движениям ума и слова, выражения.
Другой частый образ в германском умозрении — Растение, Дерево — в том числе и Мировое, и «генеалогическое» — Stamm-baum, которым лингвисты объясняют родство языков индогерманских (индоевропейских). А Гегель свою «триаду» — главный инструментарий в каждом построении — поясняет так: зерно = тезис; стебель = антитезис, первое отрицание; колос = синтезис, отрицание отрицания: то же зерно, но «сам-сто». Зерно, прекрасно круглое само по себе, будучи посеяно, гниет, становится безобразным, вытягивается — умирает, но дает жизнь Стеблю. Потом Стебель, дав жизнь Колосу, становится не нужен, «снимается» в Колосе, содержится в нем «в снятом виде». Но Колос — есть то же Зерно — на высшей стадии развития. Имея эту последовательность образов-идей в уме на заднем плане, легко станешь понимать все изощренные построения и объяснения Гегелем явлений и процессов и в природе, обществе, истории, сознании, искусстве и т.д.
Для сравнения: в эллинской мысли убедительны для них аналогии не с растениями, а с животными, и боги там — зооморфны. Так что какой символизм преобладает: растительный или животный в национальных картинах мира —
41
надо нам тоже вглядываться и черпать оттуда важные характеристики.
Для Английского Логоса характерные понятия, в которых постигается Бытие, следующие. Это СИЛА: «Знание = сила» — утверждение Бэкона; в механике Ньютона идет исследование и измерение разных сил: действие и противодействие... — и по силам, исходя из них, объясняются движения тел (тогда как Декарт обходится в своей физике, системе мира без применения силы, а с помощью разного вида движений объясняет все); это БОРЬБА (Дарвин, Спенсер — «борьба за существование»); это КОНКУРЕНЦИЯ, соревнование, состязание (Адам Смит и Давид Рикардо в политэкономии этим объясняют бедность или богатство стран); это СПОРТ (бокс, футбол, волейбол, баскетбол — прежде всего в Англии развились)... И в теории английского историка XX века Тойнби главная пара понятий: ВЫЗОВ и ОТВЕТ (Challenge and Response) — из той же оперы борьбы, силы, состязания...
Таким образом, каждому народу и его мыслителям как бы ВРОЖДЕНЫ Бытием определенные идеи=видения, интуиции, схемы, модели, в которых ему свойственно представлять все явления. Применить если термин Канта — «а приори»: что нечто предшествует акту познавания, — то налицо существует ОБРАЗНЫЙ АПРИОРИЗМ. Он залегает под рассудочным априоризмом (с чем имеет дело Кант в своей «Критике чистого разума») и понуждает выкладки логики так, а не иначе располагаться — подобно тому, как железные опилки в электромагнитном поле разбираются по его силовым линиям. Но это силовое поле — уже сверх или под логикой: оно истекает из всего бытия данного народа, включая и особый склад природы (материю, вещество), быт, язык, историю (культуру), этнос и характер (психику).
Таким-то путем и вышел я к тому, чтобб! произвести понятие НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМО-ПСИХО-ЛОГОС. И чтобы проступила национальная логика, надо целостность бытия одного народа сравнивать с аналогичной целостностью другого. На этом фоне и национальные логики — как верхушки сих айсбергов — различимы и понятны станут. Таким же способом и «национальный характер», и «национальный дух» — эти трудноуловимые сущности, обычно импрессионистически описываемые, — можно по-садить на более объективные основания: тип природы, культуры, языка и пр.
42
Я могу представить это даже чертежом:
В этом представлении я следую античной традиции. Аристотель полагал, что в человеческом существе присутствуют три души: разумная (расположенная, по современным представлениям, в голове, но он помещал ее в сердце), чувствующая, эмоциональная, афективная — душа воли и энергии (расположенная в груди) и душа животная (расположенная в животе и гениталиях). Все эти души и уровни взаимно коррелируют, так что особенности ума могут быть лучше поняты, когда ум рассматривается в связи со всей статью данного существа, и не надо пытаться напрямую сопоставлять только логику с логикой, на чем я обжегся на первых порах своего исследования.
Такова история моей атаки на «национальные логики» и отступления к более умеренному термину «национальные образы мира». Он более смутен, расплывчат, но и более широк и гибок.
ЛЕКЦИЯ 7
Опасение возникает: можно ли объять необъятное? Особенно в наш век научной специализации, когда стиль мышления поощряет узкий профессионализм? Не лучше ли сконцентрироваться на едином национальном образе мира, например, русском, но представить его наивозможно исчерпывающе?
Да, но каким же образом выявить то, что специфически национально в данном обороте мысли у писателя или философа, если не отдавать себе отчета в других возможных способах смотреть на вещи? В осознании нашем должен содержаться максимум вариантов: миропредставлений и путей исторического развития народов; тогда отчетливее определится единственность и незаменимость русской кар
43
тины мира и особенность пути в данном космосе, в России. И именно чтобы увидеть наше не только изнутри, но и со стороны, надо отдаляться, отстраняться и делать заходы в иные народы и мировоззрения. И русская версия бытия проступит не только там, где исследуется Толстой, но и там, где анализируются «Приключения Геккльберри Финна» Марка Твена, — рикошетом отбрасываются в таком случае лучи познания — как самопознания всегда. Таким образом, целью познания других образов мира является самопознание того, на котором мы стоим и изнутри которого смотрим на мир. Отсюда следует, что предмет наш в общем ограничен, а не необъятен, а именно: раскрыть в его богатстве смыслов русское мировоззрение.
Каким инструментом, на каком языке проделывать это исследование? Один путь — выработка нейтрального языка, условной знаковой системы, которыми можно было бы описать разные модели. Другой путь — локальные сопоставления одного образа с другим. В первом случае — слишком редкое решето, через которое все проскочит и нуль останется, все одинаковыми завыглядят; во втором — частое сито, через которое можно цедить бесконечно долго и улавливать лишь единичные особенности, без гарантии их принципиального значения. Мне вообще-то более по душе второй путь: восписать пестроту каждого образа и толковать смыслы деталей, микроэлементов быта и языка, которые ведь сочатся философическими значениями, но они обычно проглядываются мимо. На этом пути хорошо работает взаимное удивление языков, их взаимное «дразнение» — те заусеницы, которыми культуры задирают друг друга при контакте, что особенно видно при переводах: в осадок и остаток выпадают некие «непереводимости»... А в них-то — и вкус!...
Конечно, строящиеся на локальных наблюдениях более общие соображения могут иметь лишь характер гипотез. Но это не страшно. Ибо конечная цель изучения национальных образов мира — не в том, чтобы натвердо закрепить какой-то аспект видения мира за данным народом (всякое утверждение здесь может быть лишь примерным), но в том, чтобы разглядеть многовариантность мироздания, используя в качестве точек наблюдения разные национальные космосы, откуда прозрачнее проступают те или иные грани бытия.
Вот, кстати, вглядимся в употребленные только что термины. «Бытие», «миро-здание», «в-селен-ная», «космос» — как раз пример упомянутого «дразнения» языков, которые
44
обозначают самое всеобщее «это», икс — в том повороте, в каком данному народу натуральнее представлять его себе. Очевидно, что идея «бытия» органичнее в немецком мировоззрении, хотя бы потому, что слово das Sein проще, народнее, употребительнее, чем в русском, где естественнее звучит «в-сел-енная» (даже в песне встречается). Представление об «этом» как о «миро-здании» чужеродно звучало бы в мировоззрении кочевого народа.
Таким образом, само наше затруднение: интерференция < национальных миров — открывает и выход. Столкновение национальных образов мира извлекает искры, которые освещают и тот, и другой: совершается обоюдопознание. Нельзя, например, при рассказе на русском языке, в орбите русского же образа мира, об английском образе мира — полагать, что мы познаем только то, что у нас является предметом; в той же мере при этом познается и та точка зрения, с которой мы рассуждаем, — сам русский образ мира. Мы познаем его как бы рикошетом, глазами англичан, т.е. обретаем добавочное зрение, каким получаем возможность видеть уже собственные уши. Преодолевается «само собой разумеющийся» порог нашего познания — тот запрет самопознания, что имеет в виду поговорка «не видать тебе этого, как своих собственных ушей»...
Итак, искры взаимоудивления — вот свет, что проливается на наш предмет, в котором должно происходить исследование. Достоинство этого света — в том, что он не извне приходящий, а излучается, генерируется самой нашей проблемой: непрерывно самопорождается столкновением национальных миросозерцаний... Так что у нас как бы свой источник света есть: свой «движок», портативная электростанция...
Отсюда следует, что нашей проблеме внутренне присущ сравнительный способ исследования. Компаративистика!..
Однако при двустороннем контакте мы имеем еще свет бесцветный. Нации же составляют спектр человечества. Сравнение, значит, должно быть многосторонним, перекрестным облучением. Причем каждый новый изученный и описанный национальный тип культуры становится про-жектором-объяснителем всех предыдущих: вносит поправки к предыдущим тезисам, бросает на них новый свет и добавляет им в доказательности. Каждый одновременно — и объект, и инструмент анализа. Но также и ранее описанные образы мира со своих сторон его, новенького, облуча-
45
ют, наваливаются мять-тузить-объяснять. Веселая работа! «Куча мала»! Так что, когда к 5 уже описанным национальным образам мира добавляется еще 2, то тут не сложение понятий происходит в понимании и тех и этих, а умножение, иль даже возведение в степень: не 5+2, но 5x2, но 5 — т.е. не 7 и не 10, а 25 «битов информации» (как выражаются в теории последней); иль «на порядок выше» становится общее понимание.
Национальный характер народа, мысли, культуры — очень хитрая и трудно уловимая материя. Ощущаешь, что он есть, но как только пытаешься его определить в слова, — он часто улетучивается, и ловишь себя на том, что говоришь банальности, вещи необязательные или усматриваешь в нем то, что присуще не только ему, а любому, всем народам. Избежать этой опасности нельзя, можно лишь постоянно помнить о ней и пытаться с ней бороться, — но не победить.
Менее всего поддается национальное своеобразие лобовой атаке: когда подступаешь к нему с четкими формулами и определениями. Ибо суть и назначение формул, определений и терминов — всеобщность, то есть применимость ко всем случаям. Значит, они противопоказаны как оружие в охоте за национальным. Ибо описать национальное — это выявить уникальное. Эта задача не поддается только рассудочному мышлению. Здесь образ, символ и миф эффективнее работают. Строгая логика и «бинарные оппозиции» обесцвечивают: все — на одно лицо выходят, а национальные особенности — это как выражение лица, интонация. В этом деле не до-казать, апо-казать — возможно. Ведь цель-то — сообщить представление (не понятие — это невозможно) о каждом национальном мире, чтобы оно было ярко и убедительно. И тут поле ассоциаций из разных сфер вокруг костяка рассуждения обладает «доказательной» силой и убеждает более, нежели непротиворечивое выведение звена из звена. И такое поле залито и воспринимается тем же «естественным светом разума», как говорил Декарт. Рассудочное и образное мышление должны у нас работать вместе. Смотреть на национальное — как на солнце: прямой взгляд и подход напролом («прямой наводкой») слепит — предмет ускользает. А вот сбоку заглядывать, подглядывать, вроде случайное улавливать — глядь! — вдруг некий целостный образ и складывается... Так что окольный путь — предположений, гипотез, даже фантазии — здесь оказывается ближе. И это не прихоть автора, а повеление 46
самой природы изыскуемого объекта, к которому иным способом не подступишься. Так что, полагаю, такой метод соответствует предмету.
Такой подход — не структуралистский. Структурализм предполагает строгие уровни, рассечение на них живого тела. Сравнения могут делаться строго в рамках соответствующего уровня. Можно сопоставлять фонетику с фонетикой, архитектуру итальянскую с архитектурой германской. Но запрещено соотносить нисходящие дифтонги итальянского языка с архитектурной формой купола и с Галилеевой теорией свободного падения тел в физике, а восходящие дифтонги немецкого языка с архитектурной формой шпиля (как я делаю). Логика типа «в огороде бузина, а дядька в Киеве» тут вполне возможна, потому что все они — члены Бытия как целого.
ЛЕКЦИЯ 8
Для описания национального Космо-Психо-Логоса нужно иметь некий метаязык, на котором можно было бы выражать как духовные, так и материальные и эмоциональные явления. В качестве такового я использую древний натурфилософский язык четырех стихий. «Земля», «вода», воздух», «огонь» (в двух ипостасях: «жар» и «свет»), понимаемые расширительно и символически (и потому я ввожу эти слова-термины в кавычках), — суть слова этого метаязыка, а его синтаксис — Эрос (Любовь и Вражда в философии Эмпедокла, притяжение и отталкивание в естествознании и т.п.).
Что означает земля как первоэлемент? Это — твердое, тяжелое, инертная материя, субстанция, инертный человек, тяжкий на подъем... Вода означает нечто текучее, мягкое, всесвязующее, женское, милосердие, жалость, сентиментальный характер... Воз-дух — это небо, дыхание, духовное, душа, то, что легкое и свободное. Огонь — это активность, мужское, воля, энергия в двух вариантах — позитивном, как творчество, труд, интеллект, энтузиазм — и в негативном: разрушение, отталкивание, война... Это наиболее диалектический первоэлемент.
Давно уже в человечестве и многие умы, особенно в XX веке, бьются над тем, чтобы создать поверх естественных национальных языков, слишком обремененных п(л)отной, тяжкой вещественностью, и поверх жаргонов научно-профессиональных, искусственных языков — метаязык, кото
47
рым можно бы обозначать все. И вот изобретают язык условно-договорных знаков: А, В, С..., система/?, элемент#... Но такие знаки — даже не символы. От них, от этого языка нет перехода к реалиям, к вещественности, от нашего гнозиса — к логосу...
Язык же первоэлементов не надо выдумывать, — он есть и незыблемо пребывает в смене времен и прибое племен. Его термины внятны и эллинским натурфилософам, «до-сократикам», которые называли их «стихиями» (= устоями) бытия, и индийским Упанишадам, где они выступают как «махабхута» (= великие элементы); правда, там их пять: еще и «акаша» (= эфир), а в разных системах философии и еще больше. Но и современное научное знание не станет от них открещиваться. Ведь что такое «четыре агрегатные состояния вещества», как не «земля» (твердое), «вода» (жидкое), «воздух» (газообразное), «огонь» (как бы плазма)?
Но «четыре стихии» расширимы и в духовную сторону: языки обиходный и поэтический непрерывно производят зацепление явлений Духа баграми метафор, и вся художественная образность в искусстве и литературе может быть распределима и классифицируема по гнездам четырех стихий. Но и дальше в зону духовного можно с ними углубиться. НапримерУАристотелевы «четыре причины» (категории уже чисто интеллектуального порядка) допускают приуроченье к стихиям, и вероятное распределение может выглядеть так: «земля = причина материальная, «огонь» = деятельная. Это предствляется безусловным. «Вода» = целевая причина, «энтелехия» (ибо — течение, процесс, откуда и куда). «Воздуху» остается формальная причина: воз-духовны, невещественны эйдосы, идеи, хотя еще и свето-вы они, «огненны».
Таким образом, на языке стихий можно выразить и * физику, и метафизику, идеальное. Он универсален. Более того, он демократичен, понятен даже ребенку и простолюдину: каждый может опереться на вещественный уровень и понимать на нем, о чем идет речь, позволяя в то же время отвлеченным умам воспарять по стихиям в эмпиреи духа и мыслить под ними феномены. И поскольку никто не отлучен от этого метаязыка, и наше сознание может по его каналам подключаться к любому явлению и тексту и, «читая» его, как бы сотрудничать в представлении разных вещей и в толковании их значений посредством некоего со-воображения. Сам акт наложения древнего языка четырех
48
стихий на современность (когда мы будем на нем выражать и модерные явления и понятия перекладывать), заарканивая и отождествляя концы и начала духовной истории человечества, есть фундаментальная мета-фора (= пере-нос) и образует поле, с которого снимается богатый урожай образов и ассоциаций посредством дедукции воображения и воображением, — или «имагинативной дедукции»: обозначим это дело так для любителей иностранных терминов — тогда оно пребудет в «научном законе»...
Платон дал и геометрические соответствия четырем стихиям в диалоге «Тимей». Ему согласно, форма «атома» земли — куб, огня — пирамида (тетраэдр), воды — гексаэдр, воздуха — икосаэдр. Так что и в математику, и в физику тут выход.
И в культуре гуманитарной четыре стихии значимы. Например, в философии первокатегории можно приурочить к стихиям. Субстанция = «земля», Жизнь = «вода», Дух = «воз-дух», Воля = «огонь»...
И вот как мне видятся соответствия стихий разным явлениям Бытия. В своих интуициях я опираюсь и на мифологическую традицию.
Во временах года: зима = земля, лето = огонь, весна = воздух, осень = вода.
В странах света: север = земля, юг = огонь, восток = воздух, запад = вода. Эта же мета и в соответствующих цивилизациях: Востока (откуда воз-духовные религии...), Запада (откуда «атлантизм» и мореходы, географические открытия, тоска по Ост-Индии...), Севера (откуда воины, власть, государство, царство умерших, где «гипербореи»...) и Юга (откуда Жизнь и размножение, Природа напирает...).
В теле человека: скелет = земля, кровь и нервы = огонь, легкие = воздух, мясо = вода.
В темпераментах: флегматик = земля, холерик = огонь, сангвиник = воз-дух, меланхолик = вода.
В цветах-красках: черное = земля, красное = огонь, синее (голубое, белое) — воздух, зеленое = вода, Жизнь... По интуиции А.Ф. Лосева, ад — красный, рай — зеленый.
Комбинации цветов = сочетания стихий. Например: коричневое = черное + красное = земля + огонь. Индустрия = обогниванье земли. Труд (форма) = огнеземля. Германский флаг: черное, красное, золотое, что в сумме дает — коричневое. И уголь — бурый там, и кирпичи домов, и коричневорубашечники. И Вагнер весь — коричнев (так его слышу-вижу). И Рембрандт... Германство вообще...
49
Кстати, национальные флаги — важные природно-культурные тексты, и многое в них прочитывается.
В музыке — голоса: бас (контральто) = земля; тенор (сопрано) = огонь, свет; альт (меццо-сопрано) = вода; баритон = воз-дух. Кстати, Онегин и Демон, и Герман, кто = огнедухи, демонические персонажи, — баритоновыми партиями выражены.
В струнном квартете: первая скрипка = огонь, вторая скрипка = воз-дух, альт = вода, виолончель = земля.
В симфоническом оркестре — так мне слышится. Деревянные инструменты = воз-дух (дудочки древесные, куда дуют). Струнные, которые из жил, жизни, женские, = вода. Медные, прошедшие огонь, горнило, — в них звучность огня. Наконец, ударные: барабаны, литавры — передают глухой звук вещества; в них — земля-стихия.
Вот почему симфония — в силах звучание Космоса передавать, мироздание в целом представляет — во множестве вариантов.
История тоже поддается «чтению» на языке четырех стихий.
Россия — мать сыра земля, значит, «водо-земля». Над нею трудятся в ходе истории два мужских персонажа-стихии: огонь (Государь-ство, Кесарь) и воз-дух (Народ). Русский человек широк душой, душа — нараспашку, «гуляет, где ветер...». Русский народ — СВЕТЕР (свет + ветер). Он России, матери-родине, — Сын. А ей ведь, как бабе-женщине, еще и Мужа надо. И на то — Государь-ство, Кесарь-царь, Петр, Труд, жар, индустрия, аппарат, форма, закон — все с Запада, как правило, пришедшие. Муж России — обычно Чужеземец. Аморфность безбрежно расползающейся России («бесконечный простор»), матери сырой земли, призваны стянуть закон и форма, власть и труд = «огнеземля».
Наводнение Невы, описанное в «Медном (= индустриальном, огнеземельном) всаднике», — это бунт Матери сырой земли против огнекамня Петра (petra = «камень», по-гречески): «в гранит оделася Нева»... А революция 1917 года, когда «Ветер, ветер, да белый снег», — это уже СВЕТЕР, Народ русский, сын и первый муж России, попер на Государя (царя-батюшку) и овладел Матерью-Родиной. Совершился акт Эдипова комплекса после ввязыванья России в дела Запада в ходе Первой мировой войны. А именно для хода истории Запада Эдипов комплекс типичен: молодое, новое осиливает старое, прогресс, новости, 50
мода — тогда как для Востока характернее сила Отца и традиции, «Рустамов комплекс», по имени богатыря Рустама, кто, в поэме Фирдоуси «Шах-намэ» на поединке побивает сына — Сохраба.
Ипостаси стихий прочитываются в персонажах русского (и, естественно, всяческого) романа. Онегин = огне-дух: слышится «огонь» в его имени и русское мужское «ОН». Татьяна же любила снег: в ее сне — снег и поток. Она — русалка, ундина-водяная, но и — Снегурочка. В ней это сюжет: огонь страсти (письмо пишет в жару-бреду) — и не смеет ей отдаться, ибо — растает... Потому отдается князю-генералу (из Кесарева мира), кто одел ее стихию в гранит-форму супружества на долгую жизнь, а Онегина обдает холодом на рауте.
Обломов — обл, кругл (шар) и «голубь» (так его Ольга чувствует), значит, «воз-дух». Штольц (Stolz, нем. = гордость = труд) «огнеземля» германства. Ольга — Волга = вода. Тоже своя русалка, но «другому отдана» — и в ней динамика разлуки и русская поэзия несостоявшейся j/юбви.
В «Анне Карениной» снег в начале страсти, а гасит ее жизнь Железный поток Бронепоезда — тоже Медный всадник = огнеземля.
В «Докторе Живаго» Лара вся — на фоне снега, и тело ее — белое чудо. Он же поэт, воз-дух, светер. Но ей нужен и жар — Кесарь = рас-Стрельников-комиссар...
Я и себе АВТОПОРТРЕТ на языке четырех стихий написал. Я как-то проделал себе самоанализ — не рефлексией на уровне Психеи, но взглянул на себя как на тело во Космосе и перевел текст(уру) своего существа на язык вещества. И если гармоническое во Космосе существо должно в идеале иметь по 25 процентов каждой из стихий, то, вглядываясь в себя очами Бытия, нахожу, что состав мой таков: 35% земли, 30 — огня, 30 — воз-духа и 15 — воды. Так примерно. Из чего я так заключаю? Телом сбит я, низ тяжелее верха, ноги стальнее рук. Жёсток. Тяжек. Телец по Зодиаку, чей знак — Земля; да еще Гео-ргий = «земледелец», по-гречески, — таково значение моего имени. Налит земностью и Природу люблю, язычник. Много и огня во мне: смугл и опален и жестокож я, тощ, сух и поджар, а снизу еще и дремучеволос. А волосы — черные: уголь — от сожжения земли. Гееннск я и в лютости часто оцепеневаю. Много, значит, и огня во мне: еще и творческий огонь, энергия, воля, страсти, гнев... Но все же огня во мне меньше, чем земли: не вся сгорает — и чад, и смрад, и сажа, и
51
копоть, и угар во мне остаются: мрачность и меланхолия — некоторые. Мало во мне, недостача — воз-духу. Потому так свежий воздух люблю и сплю в холоде. Остуда нужна моей огнеземле: «здоровью моему полезен русский холод» — мне, жидоболгарину по крови, что есть горючая смесь! И потому так к Духу тянусь — по контрасту: воз-дух нужен и как тяга для прогорания в печи моего существа. Тянусь и к идеям = ВИДеям, идеалист и умозритель я: надо лечить и облегчать мое существо, приподнимать его, тяжкое, — впе-реньем в Небо и Свет. Меньше же всего во мне — воды, то есть, мягкости, жалости: жёсток я и себе и скрежещущ. И потому так к женщине = воде — Жизни стремлюсь, алчу, жаждущий я — как «Пантагрюэль» (= «всежаждущий», по-гречески). В чудо Женщины воззрен я и устремлен — как в диво дивное и невероятное мне, и так тянусь к ней — как к восполнению.
И повезло мне — любить жену, СВЕТ-лану, большую русскую лебедь-бабу, чье тело — белое, рассыпчатое, как сугробы: зарывайся до беспамятства. Хоть и большая она, но стихии земли в ней мало — процентов 15: провоздуш-нена плоть, пориста. Воз-духу в ней — 30%, воды — 30. Так что основной состав в ней — «влаго-воздух». А это есть ПЕНА — состав Афродиты, которая «пеннорожденная» (хотя это та еще пена: из спермы, брызнувшей из отсеченного Кроном члена отца его, Урана-Неба...). Еще и огня — 25%: на стыке Льва и Девы она, солнцеликая, по Зодиаку. Так что в целом у нас на двоих приходится по 50% каждой из стихий, и мы восполняем друг друга — как контрасты с большой разностью потенциалов. И потому наш союз гармоничен — при том, что шлемоблещущий Эрос ярится в нем... СВЕТ-лана + ГЕО-ргий = Небо + Земля.
Советую каждому произвести подобный самоанализ — и себя, и супружеской пары своей. Это помогает...
Каждый национальный Космос имеет особую иерархию, пропорцию и структуру этих четырех элементов, и этим один отличим от другого. Например, Россия = мать сыра земля, значит: вода + земля в субстанции своей основной. Франция = сладкая — douce France — такой постоянный эпитет имеет. А что есть «сладость»? Это — сок, просолнечный, значит: огонь (жар) + вода. Национальный флаг Германии трехцве-тен: черное, красное, золотое, что символизируют: землю, кровь (человека), солнце. Но кровь = вода + огонь; солнце = воздух 4- огонь. Так что Германство — это космос «огне-земли», по основной субстанции...
52
Кстати, стихия «огня» имеет две ипостаси-варианта: жар и свет. Свет = Небо, Бог, Дух. Жар = Труд, индустрия, «ургия» (огонь ада, в том числе, дьявол...). В России, которая полгода зимы покрыта снегом = белым светом, стихия огня в варианте света преобладает. И самоименуется она «Святая Русь», и «мир» здесь — «свет»...
Иерархия четырех элементов (по моим интуициям, субъективным, конечно) в национальных мирах может выглядеть так.
Германия: огонь (как жар), земля, воз-дух, вода. Германия — страна «ургии», которая (труд, индустрия) — обо-гниванье земли и придавание ей формы. Огонь = Hohe (высь), земля = Tiefe (глубь) — основные их координаты. Это страна инструментальной (ургийной) музыки и философии (воз-Дух)...
Франция: вода, огонь (жар), воз-дух, земля.
Россия: земля, вода, воз-дух, огонь (свет).
Италия: земля, огонь (свет), воз-дух, вода.
Англия: вода, воз-дух, огонь, земля.
США: огонь (жар), земля, вода, воз-дух.
Однако в этих иерархиях я смешал две точки зрения, два подхода: по тому, что есть в избытке, по наличию, — и по тому, чего недостает, что желательно, в цене. Например, для России той же самой, где в изобилии земля и вода, воз-дух и свет, для ее аморфного, расползающегося тела в «бесконечный простор» и «апейрон», — особо ценна форма, предел, граница, что образуется приложением стихии огня как жара — к земле и всему. Так что явления из оперы огня как жара тут — особо ценятся, даже (в эпоху Петра Великого и строительства социализма в СССР) обожествляются: структура, власть, государство, аппарат, организация, партия, границы, наука, техника, рассудок...
Для космоса пустынь Юга вода занимает по наличию последнее место в актуальной иерархии стихий, но она — на первом месте в представлении там идеального Космо-Психо-Логоса. Вспомните образ мусульманского рая — как оазис с фонтанами и тенистыми садами...
ЛЕКЦИЯ 9
Естественные национальные языки — могучие инструменты, позволяющие проникнуть в субстанцию национального Космо-Психо-Логоса — и со стороны своей фонетики, и со стороны грамматической структуры. Во рту совер
53
шается таинство перетекания Космоса в Логос, материи в дух: язык еще веществен (звуки), но уже и спиритуален (смыслы). В фонетике каждого языка имеем портативный космос в миниатюре: именно — переносимый (porter — «носить», по-французски), так что можно и не ездить в чужую страну, чтобы постичь ее менталитет, а вслушиваться в язык.
Национальные языки в звучности своей — голоса местной природы в человеке. У звуков языка — прямая связь с пространством естественной акустики, которая в горах иная, чем в лесах или степи. И как тела людей разных рас и народов адекватны местной природе, как этнос — по космосу, так и звуки, что образуют плоть языка, находятся в резонансе со складом местной природины. Рот и есть везде такой резонатор, микрокосм — по космосу.
Сейчас я предложу серию важных уравнений, что будут работать в реконструкции каждого национального Космо-Психо-Логоса: какие смыслы содержатся в органах артикуляции, какие идеи они излучают. Рот — стяженная модель пространственно-временного континуума, микрокосмос — по Космосу национальному. В нем нёбо = небо (свод). Язык = человек, индивид, единица (как математическая и философская идея), потому что он — один. Он подвижный, живой, аналогичен стихие огня: есть такое выражение «язык пламени». И даже загадку могу сочинить на стих: «Бьется в тесной печурке огонь» — что такое? Ответ: язык во рту. Язык — мужское начало, самец, как и фаллос: плоть обоих та же, «пещеристое тело» — так обозначается в анатомии.
Губы = женское (как вагина), мягкое, влажное, формой — волна, стихия воды; их — пара, и они несут с собой математическую и философскую идею Двоицы, чет: парность, баланс, симметрия.
Зубы = кость, твердое, горы, стихия — земля, принцип — множество.
Дыхание = воз-дух, легкое, дух, энергия, воля...
Нос(оглотка) = труба музыкальная, резонатор, увлажнение струи воздуха там, так что тут смешение стихий: водо-воздух.
Теперь — о звуках, фонемах: какие особенные идеи, значения и со-мыслы они в себе содержат и могут излучать сами, независимо от слогов и слов. Последуем здесь за фонетической классификацией.
Гласные = чистые координаты пространственно-временного континуума. А = вертикаль, верх-низ, открытое про
54 х
странство. Е и И (Ы) = горизонталь мира, причем Е = ширь, И (ы) = даль. О — центр, круг, шар. У = глубь, нутро, недро. Удельный вес этих гласных в речи на данном языке представляет шкалу соответствующих измерений, ценностей, идей в национальном Космо-Психо-Логосе.
Согласные заполняют чистый космос, эту сетку координат — разнообразием. Глухие смычные ( «п», «т», «к»...), что образуются, когда струя воздуха с силой прорывает, взрывает преграду во рту (отчего их еще называют «взрывные»), — звуки мужские, энергии-воли-усилия, «огне-зем-ля» ими выражается. Звонкие смычные («б», «д», «г»...) означают то же, но в женском, увлажненном варианте. Фрикативные («трущиеся» — таков их буквальный смысл) — стихию воздуха знаменуют, ибо в них дыхание струится через теснину, свистит, шипит, причем глухие: «с», «х», «ш», «ф»... — мужские, а звонкие: «з», «гх», «ж», «в»... — женские. Носовые: «м», «н», = водо-воздух, скорее: возду-хо-вода, ибо женские они. Из сонорных «л» — женское, звук мягкости, милосердия, музыки («ля-ля» — напеваем...), любви; «р» — звук мужескости, активности, воли, энергии, труда, гордыни, самости, «я»... Полугласные), w, у... (наше «й») почти имматериальны, духовные, улетучивающиеся с земли — выражают «огне-воздух», свет...
Вдумываясь в частоту и пропорции всех этих звуков в языке и речи; принимая также во внимание, что звуки бывают передне-, задне-, верхне-, нижне-язычные, — удается в лаборатории рта просчитать иерархию ценностей в данном Космосе национальном: что здесь важнее: верх/низ, даль/ширь, перед/зад, зенит/надир, мужское/женское и т.п. По, так сказать, ландшафту фонетики можно представить природу данного национального мира, а изучая иностранный язык, себе как бы иную челюсть приходится вставлять.
Вот, например, берусь выяснять Польский Космо-Пси-хо-Логос. В фонетике стихий упираюсь в потрясающее преобладание шипящих звуков. Это мне — подсказ для стихийного состава польского космоса. Что есть шипение? Это огонь в воде, загашение стихии огня влаго-воздухом, драма человеческого факела здесь, по прогорании которого остаются, в идеале, «Пепел и Алмаз» (знаменитый фильм Анждея Вайды), но это самоидеализация Польства... Проверяю — Шопеном. Клубление волнующегося вокруг мелодии, темы — пространства: пассажи, овевания, мелизмы, дух, дышащий в «аккомпанементе», — все это активность посреднических стихий: воды и воз-духа. Сравните щелка
55
ющий в пустоте форшлаг сухой, затакт, даже трель на одном горизонте в германской музыке, в космосе «огне-зем-ли», — с шопеновскими фигурациями и мелизмами: в них Логос влаго-воздуха. Пассажи Шопена, фактура трепещущая его, рокотание и дрожь — это аналог шипящим в фонетике. Даже «р» превращается в Польше в «ж» (латинское res тут увлажняется в rzecz, звучащее как «жеч»): это ожен-ствление мужского, ургийного начала «огнеземли»... Еще и носовые гласные польского, как и французского языка, — соответствуют активной роли женщины: пани здесь и дамы там. Ибо носовые — это «вода» + «воз-дух» = пена (состав Афродиты). Пена — Пани.
На языке фонетики стихий можно описать космос одного стихотворения. Возьмем, к примеру, «Цицерон» Тютчева.
Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги: «Я поздно встал — и на дороге Застигнут ночью Рима был!»
Так!., но, прощаясь с римской славой, С Капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавый!...
Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был — И заживо, как небожитель, Из чаши их бессмертье пил!
Сразу нас оглушает раскатистыми «Р». Рим = миР исто-Рии, боРьбы, тРудов, гоРдыни — идеальный кесарев универсум, образ людской деятельности, энергии. И недаром он выговорен «р»—звучностью (как и Лермонтовым в «Умирающем гладиаторе: «Торжественно гРемит Рукоплесканьями шиРокая аРена...). Это звук Работы, tRavail, ARbeit, woRk, laboR, всякой res, rei (вещи), которая состоит из материи природы, коей придан образ и форма, грань.
Если привести это к стихиям, то, во-первых, видим здесь землю (твердое вещество, камень), подверженную обработке. Деятельное же начало из стихий — огонь. Значит, мир, истории и трудов = мир пылающей земли. И дей
56
ствует в нем человеческое тело, пылающее страстями, одержимое целями, стремлениями и идеями и пролагающее себе дорогу в борьбе. Критерий красоты здесь — героизм. Главное чувство — радость борьбы и гордость викторией. И люди в этом космосе: Цицерон, Цезарь, Гораций... Этот мир вводится через пафос; гордость взыскует патетики: риторика и громогласие царят в первом четверостишии — оглушительный звук, фортиссимо. И это — улика, заставляющая нас подозревать, что весь этот пассаж вводится русским поэтом как тезис-жертва — по формуле русской логики: НЕ ТО, А... (ЧТО?)... Все к этому сходится: и начальное в стихотворении место — обычно оттолкновенное у Тютчева, и чуждый русскости состав стихий, который мы уловили через звучность, — огнеземля, а значит: день, шум и суета, когда Абсолют затемнен у-словиями существования и не может быть выговорено Слово Истины.
Вторая строфа — опровержение первой и излагает ДА поэта, наше, русское, при-сущее. Основное слово — «блажен», и оно повторено в определении богов — «все-бла-гие». «Все» = свет, «благие» = влага («б» и «в» заменимы, как в «алфавит» и «альфаБета»). Значит, «всеблагие» — это «свето-вода», свет как влага, что есть первоматерия Русского Космоса и что еще лучше передает слово-имя СВЕТЛАНА своим смыслом и звучностью. Недаром и далее: «зрелища», «зритель», «совет» = свет ( из стихии света все), и «из чаши их бессмертье пил» — как свет пил. Естественно, что путь от огненной земли истории, трудов, борьбы и гордости к совету и всеблагости пролегает через влагу, и тогда смертный полубог — «блажен».
Вся вторая строфа — как бы орошение звучности первой. «Р» мало, а те, что есть, — безраскатные: смягчены через «е» и «и»: «мир», «пир», «зрелищ», «зритель», «призвали», «бессмертье»; лишь в «роковые» — звучность первой строфы, хотя и здесь «р» не ударное, и слово истаевает на «ые» (ыи). Вся коробка челюстей приподнята. Если в первой строфе преобладали гласные вертикали и глубины: «а», «у», «о», «ы», то во второй — «э», «е», «и», «ые», (ыи), «ие». Эти гласные — гласные переднего ряда, ближе к выходу и воздушности, к истаиванию телесности: при их произнесении низ рта приподнят, скулы расширяются, и пространство мира предстает как ширь, даль — плоскость И верх.
Слово-ноумен «всеблагие» не только идею свето-влаги своим звучаньем выражает, но и русскую огласовку миро
57
вого пространства: je-a-iji. Начинается оно из шири и как продолжение чего-то. Je — словно из бесконечности слетает тончайший звук; J — как придыхание, как душа (j — самая тонкая звуковая материя и соответствует бвету и огню). Затем включается «а» = «высота ли высота ль поднебесная, глубота ли, глубота ль окиян-море». Но на этом русский глас пространства не останавливается. Он уводит из вертикали и полной объемной трехмерности «а» в горизонталь и в верх, а точнее, в даль-высь, что и выражается истаиванием звука в iji = в свете и воздушности.
ЛЕКЦИЯ 10
Если фонетика языка аналогична национальному Космосу данного народа (страны), то грамматика языка — средство проникнуть в национальный Логос. Существует несколько структур для связывания слов в предложения, но главные и ближайшие нам (в индоевропейской группе языков) — два типа: синтетический и аналитический. Синтетические языки — санскрит, латинский, греческий, русский, немецкий... Аналитические — французский, английский... Синтетические (от греческого syn-thesis = соположение, со-ставление) — более древние, естественные, «гонийные»: в их странах культура вырастает из натуры, там синтез «гонии» и «ургии». Аналитические (от греческого ana-luo = развязывать, разделять) осуществляют принцип «разделяй — и властвуй!» (через эту процедуру разделения). Таков был принцип римских императоров (divide et impera), но таким же методом работает абстрактная мысль и наука: разделить объект на части — и поочередно орудовать с ними. Так же действует и принцип разделения труда в производстве — для большей продуктивности.
Аналитический способ связи слов в языке приспособлен к «ургийному» стилю в жизни и в мышлении; он хорошо служит более отчетливому и быстрому восприятию команд и приказов, массовому производству товаров и слов.
Тенденция прослеживается в развитии языков — от синтетического типа к аналитическому. Английский язык прогрессировал в этом отношении далее всех, французский — меньше, немецкий — еще меньше. Русский язык остается синтетическим. Но и английский язык, поскольку он язык естественный (не искусственно изобретенный), органический, содержит черты «гонии», природы — в себе. Например, традиционное, не рациональное правописание, так что
58
иностранцы шутят, что по-английски пишется «Ливерпуль», а произносится «Манчестер». Такое правописание подобно упорству англичан в неприятии рациональной десятичной системы счисления, что принята на континенте Евразии и в мире вообще; но они придерживаются своих архаических «дюймов», «футов», «дюжин», «милей», «фунтов», «пинт», «баррелей», которые связаны с телом человека как привилегированной естественной системой oTi счета и мер.
— Следовательно, латинский и русский языки примитивны, в сравнении с английским? — спросил меня студент Весленского университета Джеймс, когда я излагал эти идеи.
— Да, — ответил я. — Как и Библия, что «примитивна» в сравнении с компьютером. Как симфония Бетховена, что «примитивна» в сравнении с сонористикой в современной музыке.
Помедитируем теперь над специфическими чертами синтетического типа языковой структуры. В таких языках есть система «склонений» и «падежей». Вслушаемся внимательным слухом в корни этих грамматических терминов. «СКЛОНЕНИЕ» (лат. Declinatio) есть наклонение, наклон — вниз, туда, где Мать-земля распростерта. «Склонение» есть вариант гравитации, земного притяжения и выражает сыновство Логоса по отношению к Космосу, что естественно в странах Евразии, где народы рожались местными природами, а потом стали трудиться среди родной природы, постепенно созидая Культуру, которая выступает как продолжение Природы в жизни человеческого Общества.
То же самое и термин «падеж» (лат. casus от глагола cadere = падать, опускаться) означает некое припадание, поклонение: словно слово прижимается к груди Земли в поклоне сыновнего почитания.
Вслушайтесь в названия падежей, — как много идей и эмоций они излучают! Только Именительный (Nominative) нейтрален, рационален, есть как бы «нулевой» падеж, означает просто «наименование». Падеж Родительный (Genitive от genesis) — падеж «гонии»: выражает отношение к родителям, предкам, родство, сыновнее чувство. Он сообщает идею рождения и принадлежности: чей ты? чья вещь? — на этот вопрос отвечает и потому именуется и Posessive case (англ.). Падеж Дательный (Dative от dare = давать) предлагает дары, подарки, это падеж любви, ми
59
лости и жертвы, благодарения... Падеж Винительный (Accusative от accusare = обвинять) означает, напротив, отношение противостояния, оппозиции, страстное отношение к «врагу», противнику как объекту моих усилий, работы. Ведь в процессе работы над предметом я полагаю его изначально плохим, сырым — «сырье» он лишь, и вот я преобразую его, воспитываю, веду к совершенству, возвожу в перл создания, шедевр (что есть по-французски chef-d’oeuvre = «шеф изделий»). Падеж Творительный (Instrumentalis — инструментальный) прозрачен в своей идее: это падеж творения, труда, «ургии»; также данная вещь, сущность полагается существующей не для себя, но в служении иному существованию, становясь орудием их жизни и совершенствования. Это как бы — «христианский» падеж — служения ближнему и самопожертвования. Падеж Предложный (Locative от locus = место) выражает уважение к Пространству, к ложу и лону; слова становятся как бы вместилищами, восприемниками других сущностей или кланяются куртуазно друг другу. Еще падеж «Отложительный» (Ablative от ablatere = класть в сторону, отлагать) выражает тоже некое эмоциональное отношение к ценности вещи в пространстве и времени. Падеж Звательный (Vocative от vocare = звать, окликать, голосить) — падеж коммуникации, приглашение к совместному деланию.
Тенденция развития языков от синтетического типа к аналитическому шла параллельно и отражала развитие Труда, «ургийного» отношения к Бытию, вытеснение Природы Культурой. Язык должен был отсекаться от естества и чувства и воспитываться в направлении от субстанциальности и экзистенциальное™ к рациональности и функциональности. Подобно тому, как спиленное дерево обрубается от сучьев и ветвей, в нем выпрямляются изгибы и узлы, — так и слово обтесывалось от суффиксов и флексий и укорачивалось почти до своего корня. Слова английского языка стали большей частью короткие, односложные. При этом те идеи и значения, отношения, которые выражались в синтетическом типе слова суффиксами и окончаниями, трансформировались в различные операторы, указатели, вспомогательные знаки (как это в математике...), которые ставятся перед или после слова — как предлоги, артикли и т.п. В результате этой длительной хирургической операции слово стало своего рода стандартной деталью, подобно детали механизма в машине, которая способна изыматься и вставляться с помощью операторов и индикаторов и рабо
60
тать в любой функции: как существительное, глагол, прилагательное... Так, слово work может быть a work (работа), to work (работать), work-shop (рабочий-магазин, мастерская)... Было слово организмом — стало механизмом.
Работа анализа в преобразовании синтетического типа языка может быть уподоблена технике Геракла в его борьбе с Антеем, титаном, сыном Геи (Земли-матери). Последний прижимался к Земле (Склонение! Падеж!) и получал энергию и силу (Смысл!) в контакте с почвой. Геракл же с великим усилием отодрал Антея от Земли-матери: отделил, поднял в воздух, где Антей утратил свою силу и был побежден.
Имя существительное (так было!) стало обстругано = абстрагировано от своих падежей, их окончаний, уже не имело нужды кланяться земле и другим существам, но стало самостоятельным и Self-made (= самосделанным, каков англичанин-джентльмен) — намеревался сказать, но вдруг осознал, что, напротив: в английском языке слово не может стоять в предложении само по себе, и не «само-сдела-но» его значение, но «другими-сделано» — предлогами, частицами и т.п.
Строгий порядок слов в аналитическом предложении — это их дисциплина в гражданском обществе, с разделением труда между частичными индивидами. Слова же синтетического языка способны к инверсии — то есть свободны занимать разные места в последовательности членов предложения, не теряя при этом свой полный смысл, потому что они снабжены всем, в чем нуждаются, внутри себя. Так сказать, Omnia mea mecum porto — латинский афоризм, означающий: «все мое ношу со мной», — как это в идеале независимой, свободной личности. Возможность инверсии — это роскошь и красота в стиле литератур, поэзии на синтетических языках.
Мы в этом размышлении подошли к интересному парадоксу. Общее место в современном миропонимании — утверждать, что индивидуум становится в ходе истории более самостоятельным, тогда как в патриархальном, античном и средневековом стилях жизни он был более зависим от природы, рода, общества. Однако сюжет: строгий порядок слов и инверсия — хороший индикатор как раз противоположного. В самом деле: современный человек, допустим, великолепный профессионал в химии, умрет, если профессионал в сельском хозяйстве не произведет пищи и на него, а специалист в торговле не свяжет их друг с дру
61
гом. Архаический же человек, старомодный, сам выращивал корм на своей земле, сам строил дом, молился богам (Богу) и пел, знал секреты лечебных трав и как жить в согласии с временами года, — такой, целостный человек, был действительно самостоящим в бытии и «самосделан-ным» — не то что современный частичный индивид, раб в системе разделения труда, от которой полностью зависим.
Строгий порядок слов строит предложение посредством операции сложения, прибавления значений, которая проще, нежели умножение значений, что происходит при свободном порядке слов в синтетическом предложении, с возможностью инверсии.
Система родов была разрушена в процессе прогресса языков к аналитическому типу. Священный Эрос претерпел операцию обрезания или, точнее, стерилизации. Все имена были сущностями, прикрепленными к Мужскому или Женскому началам бытия, и таким образом переживались как более одушевленные и поэтические. Ныне же мы работаем с кастрированными, выхолощенными словами, в жанре «унисекс», что есть идеал для современного феминистского движения.
Однако есть свои минусы и в синтетических языках. Например — та же самая роскошь, неэкономность, сверхизобилие, когда одно отношение (родовое, к примеру) выражается и в существительном, и в соотнесенном с ним адъективе — прилагательном, в глаголе и т.д. Слова аналитического языка мобильны, оборотисты, а синтетического — неуклюжи...
ЛЕКЦИЯ 11
Теперь давайте спустимся с интеллектуальных высот к материальному и даже к наиболее земному и телесному — к национальной еде, пище, кухне, блюдам. Они предлагают нам текст большого значения и должны быть проинтерпретированы с национальной точки зрения. Может быть, следует начать с некоторых общих идей касательно философии еды.
Каждый этнос рождается на своей земле его Природи-ной — так же, как растения и животные разных видов и пород здесь. Все они — инкарнации (воплощения) местного Космоса, который для них — род божества. Будучи составлены из ткани этого Космоса, они имеют с ним одинаковую субстанцию и состоят из аналогичной компози
62
ции четырех элементов. В процессе еды все отдельные существа, в том числе и человеческие, воссоединяются с целым снова, с национальным Божеством и его божественным миром, подкрепляют в себе субстанцию, односостав-ность с ним.
Еда — есть религиозный акт. Ведь что такое, в сущности своей, Религия? Термин re-ligio происходит от латинского re-lig-are, что означает «вос-со-един-ять», «снова связывать», «воссвязывать», — предполагая, следовательно, тем самым, что нечто было отделено и имеет нужду вернуться, периодически возвращаться в свое родное Единство.
Существа: деревья, бабочки, тигры, торговцы — могут ощущать себя независимыми и совершенными — до момента, когда голод и жажда возникают в их организмах. Эти чувства — канаты и цепи, что волокут нас домой, в наше исходное родительское сообщество. Голод и жажда — это нам — memento mori ( = помни, что умрешь) и memento religare (помни, что надо воссоединиться) — суть религиозные чувства и сигналы внутри нас. Вот почему термин comm-union («коммуна», «со-един-ение») употребляется для обозначения акта «при-част-ия» (и тут идея: часть и целое — в значении слова). Принятие пищи — всегда священнодейство, акт сакрального соединения моего тела, кости и плоти моих, — со вселенной, чтоб состоять в гармонии с нею. Так что в пище мы съедаем нашего бога, некую часть от него прикусываем...
В священной книге индусов «Бхагавадгита» есть мистическое учение о том, что Мир, в своей сущности, есть «жертва Брахмо» — тела и духа этого величайшего их божества, равного Абсолюту. И в самом деле — как функционирует Бытие? Каждое сущее жертвует собой всякому другому. Смерть дерева есть жизнь очага, где вы греете тело, или стола, где вы читаете эту книгу. Бытие совершается как взаимное любезное или вынужденное и враждебное — служение существ друг дружке. Жизнь есть жертвоприношение, История — алтарь; развитие = обмен жизнью и смертью между существами — процессы, что именуются в науке как «ассимиляция» и «диссимиляция» (оба от корня simil = «подобный», так что эти заграничные термины можно проще понимать: как «уподобление» и «расподобление»). Так что тут содержатся те же идеи единения и разъединения, как и в «ре-лигии».
Итак, в акте питания некоторые части местной Природы предложены в жертву, чтобы продлить существование
63
другим организмам. Однако в акте съедения я в то же время предлагаю свое тело — как трубу иль туннель, насос, чтоб частицы окружающей материи трансформировались из одного состояния вещества в другое, из одного вида и формы (яблоко, мясо, хлеб) — в «экскременты», уравнивая все в месиве, выполняя работу энтропии, возвращая материю в ее первичный статус materia prima, которая есть потенция для возможного развития в разнообразные формы и существа.
Теперь, что такое ЕДА? Еда, пища — есть та часть национального Космоса, внешнего мира, которая пригодна войти внутрь нас1, в святилище нашей тонкой и нежной внутренности, внутреннего мира. Вот почему диета и ритуальные посты для очищения заповедуются в любой религии. Некоторые книги Ветхого Завета («Левит» и «Второзаконие», в особенности) содержат детальные диетические предписания, различая «кошерную» пищу, чистую, от грязной, «трефной». Также и возможные сочетания предусматриваются. «Не вари козленка в молоке его матери» — эта заповедь блестяще анализировалась антропологом Фрэзером в его «Золотой ветви». Смысл диетического этого предписания — в том, чтобы не смешивать молоко с мясом, потому что они противоречат друг другу...
Для Еврейства диетические предписания, введенные в библейский период их истории, стали оплотом их этноса, потому что они утратили свой Космос2, Природину, и лишь плоть тел их народа оставалась родною в течение двух тысячелетий существования в диаспоре на территории космо-сов, чуждых их плоти и крови. Специфическая их диета играла роль границ «страны» из тел; то были стены и барьеры, что удерживали этнос от растворения.
Другие народы могут быть более свободны и открыты в своих диетах, потому что природа, среди которой они живут, обучает их практически каждый день и корректирует их ошибки — через болезни и смерти. Но евреи не могли себе позволить такой экспериментальный метод проб и ошибок: он стоил бы им слишком дорого; так что они должны были придать законам диетики сакральный статус, подтверждая их авторитетом Священного Писания. Прочие
1 Примеч. ред. Как же быть с импорт-экспортными поставками?
2 Примеч. ред. Если утрачен национальный Космос, какой же смысл придерживаться диеты? Продукт-то из чужого Космоса!
64
народы устраиваются в этом отношении проще — обычаями и традицией.
Итак, Пища = посредник между нашей внутренней жизнью и наружным окружающим миром, между большим Макро-Космосом вокруг человека и его микро-космосом.
Что же может войти в наше тело напрямую в его наличной форме, не прибегая к приготовлению пищи, сваренное самой Природой? Фрукты, орехи, ягоды. Они приподняты над землей стеблями и стволами и пропитаны солнцем и водой (дождей и росы). Это значит, что сама Природа подвергает эти куски земли крещению водой и огнем. Потому что именно такую процедуру («крещение», баптизм!) должна пройти любая материя и любое вещество, чтобы приобрести то качество, в каком оно может получить допуск в святилище человеческого тела. У врат этого Эдема стоят два херувима с мечами: один — с огнем, другой — с водой.
Фрукты, ягоды — сладки. Сладость — есть огне-вода, что есть сок Эроса.
Какие же части животных мы может потреблять в их естественной форме? Яйца птиц. Молоко животных, млекопитающих. Икру рыб. Что общего между всеми ними? Они — семена, так же как плоды, орехи, ягоды. Все они — результаты жизни и развития природных существ. Следовательно, человеческое существо начинает с того пункта, на котором Природа заканчивает. Здесь — род эстафеты: человек принимает ее от растений и животных, чтобы продолжать эстафету Бытия не на уровне «гонии», а уже на уровне «ургии», искусства (не естества), изобретения.
Подобное же может быть сказано и о минералах. Соли и витамины суть результаты химического развития земных элементов. Они, так сказать, волшебные сказки (английский термин, что я тут употребил: fiery tales = «огневые сказки», «рассказы огня», — дает основание для следующего шага мысли...) земли и солнца. Соль действует подобно огню: она прекращает органические процессы в плоти. В некоторых языках «соль» и «солнце» имеют тот же корень.
В области Пищи — два полюса: совершенно естественная и совершенно искусственная (когда больной получает пищу в форме раствора через трубку прямо в вены). И в XX веке наука и техника изобрели множество видов искусственной пищи в своих лабораториях.
Вмешательство в природу, «ургии» в «гонию» нигде не пошло так далеко, как в Соединенных Штатах Америки.
3 Гачев Г.Д.
65
Все эти продукты без холестерина, витаминизированные, стерилизованные, «декалоризированные» — все это ухищрения интеллекта и труда. Человек тут не может съесть фрукт, выпить чай, съесть кусок мяса, выпить чашку кофе без того, чтобы не почувствовать в упаковке, дозах, надписях, советах, что неисчислимое множество людей принимает участие в твоем послеполуденном чае с хлебом и маргарином, предвкушая их вкус, разумеется, delicious = «изысканный»! — «Я не могу поверить, что это — не масло!» — надпись на пакете маргарина...
Даже чай промерен малыми пакетиками. Зачем? Может быть, я хочу больше или меньше? И что ты суешь свой нос в интимный акт моего причащения к Божественному миру? Где свобода, личный выбор? Их совершенно невозможно иметь тут, в стране политической свободы. Нет свободы на уровне быта: вся толща цивилизации тут вяжет вас и окутывает. Даже потребности вам предписываются агрессивными рекламами: «Ешь это! Купи то!..» Миллионы новых потребностей изобретаются (дабы дать работу людям в сфере сервиса) — ради вашего же блага, не сомневайтесь! Но ведь каждая потребность лишает вас некоей свободы: новая необходимость, нужда — есть новое рабство. Так что порабощение современного цивилизованного человека, живущего в комфорте в свое удовольствие, окруженного сервисом и услугами, — не менее проникающе в душу и вяжуще твое существование, нежели грубое порабощение силой и цепями, которое характерно для деспотических варварских социумов.
Таким образом, режим тоталитаризма и уравниловки тел, душ и умов до униформы имеет место в США не менее, чем имел в СССР. Даже когда экологически чистые продукты рекламируются (например, вода из горных родников в бутылках), они — то же самое суть изделия труда. И нынешний в Америке культ Природы, даже некоторое помешательство на ее счет — пришли сюда как следствие высочайшего развития индустрии, «ургии». Тут — своего рода «отрицание отрицания» (термин Гегеля). Первое отрицание Природы произошло тогда, когда переселенцы из Старого света уничтожали индейцев-туземцев и их леса, чтобы пахать и работать самим. Как результат этих усилий, была выстроена эта грандиозная искусственная цивилизация, в которой человек начал страдать уже от искусственных условий существования и испытывать ностальгию по чистой Природе. Это настроение и склонность к естествен-
66
ному бытию и пище — есть уже второе отрицание, отрицание отрицания...
Но возвратимся к философии Еды. Итак, первое различение в ней — пища естественная или приготовленная. «Приготовленная», «сваренная» — это значит: вещество прошло через стихии воды и огня, через их цензуру. Следующее различение — между мужским и женским в еде: пища Ян или пища Инь, если применить эти термины китайской философии, которые усматриваемы во всяком бытии. Пища «ян», «мужская» — это рис, зерно, пшеница, все каши. Также — орехи, мясо, лук, перец. Много огня, солнца, энергии — в этой пище. Она поближе к Небу и делает человека активным, динамичным. Пища «инь» — это картошка, капуста, овощи. Много воды в землях произрастания, в самой плоти этих растений. Подобная пища экстенсивна, большое количество инертной материи входит с нею в ваш организм. Она делает человека пассивным, вялым и сонным. Он уподобляется мирным травоядным животным, как коровы, овцы. Не как звери, мясо-ядущие...
Распределение напитков между странами и народами на поверхности Земли имеет также свою логику. Не случайно, что алкогольные пития запрещены в странах исламского региона. Что такое — вино, виски, водка?.. Это — огне-вода. Но страны исламского региона расположены большей частью в зоне субтропиков, тропиков, зоне экваториальной. Солнце мощно там, и человеческое существо не имеет нужды в получении дополнительной порции огня. Запрет поглощать свинину (в исламе и иудаизме) имеет тот же смысл.
Напротив, народы, живущие в более северных широтах, со сменой времен года, испытывают нужду в огне-воде, чтобы поддерживать свою кровь против сырой и холодной погоды, мороза. Я обнаружил даже некое соответствие между градусом северной широты и градусом алкоголя. В Средиземноморье пьют легкие вина с 8—10 градусами алкоголя (греки, итальянцы...). Севернее: испанцы, французы... — пьют более крепкое вино: мадера, херес, шампанское, портвейн... — с 12—18 градусами. Горцы на тех же широтах (а чем выше = тем как бы севернее): народы Балкан, Кавказа... — чередуют вино с бренди (ракия, чача...). Еще севернее, где немцы, англичане, поляки, русские обитают, — там пьют водку, шнапс, ром, грог, виски с 40—60 градусами алкоголя, что соответствует, совпадает с 40—60 градусами северной широты, где эти народы живут. Между прочим, свинина, мясо грубое и сильное, снаб-
67
з*
жающее людей дополнительной энергией, любима здесь. Бекон тут известен не только как славное сало (излюбленное блюдо в Англии — яичница с беконом), но знаменит и в именах Роджера и Фрэнсиса Бэконов, великих английских философов.
Еще севернее люди, обитающие возле полярного круга, пьют чистый спирт (96 градусов). Однажды путешествие вывело меня на берег Северного Ледовитого океана, и там гостеприимные хозяева выставили угощение с местным коктейлем. Он состоял из смеси спирта с шампанским, что равнялось 70 градусам, где как раз и расположена бухта Тикси. Изобретено ими было и красивое имя для этого коктейля северных широт, а именно — «Северное сияние».
Правительства в России периодически предпринимают очередные кампании, чтобы искоренить или ограничить употребление водки русским народом. Но эти-кампании обреченй на неудачу, ибо они посягают, в сущности, на национальный Космос, его устроение. В человеческом существе, обитающем в этом пространстве Севера Евразии, где царят Мать сыра земля с ее супругом Дедом Морозом, естественна потребность дополучить огня-жара в доступной форме огненной воды — спирта, чтобы одолеть меланхолию, унылость и подавленное настроение (low spirits по-английски, так что тут я игру слов применяю: спирт контра low spirits, чтобы поднять душу к небу во вдохновении — in-spiration). Поэты в России и художники, чтобы одолеть притяжение низа, гравитацию Матери сырой земли, как противовес ей, часто употребляют водку, эту огне-воду, что придает им крылья возлетать в пространство воображения.
Наблюдается резкое различие между кочевыми и земледельческими народами вообще и в отношении к пище в частности. Кочевой стиль жизни эксплуатирует Пространство, земледельческий — ориентирован на Время. Крестьянин, что живет всю жизнь на одном и том же месте, трудится в координации с календарем. Он сеет зерно и ждет, пока оно вырастет, то есть, рассчитывает на работу Времени. Собрав урожай, он должен заботиться о складах, запасах, чтобы сохранить пищу зимой, и о холодильниках, чтобы сохранить ее летом.
Кочевник ездит верхом на своей пище: лошади, верблюде... и пасет стада овец... Он не нуждается в запасах, хранилищах. Верблюд сам есть запас воды в пустыне; лошади, коровы, овцы суть самокормленные и самоходные (авто
68
мобили!) запасы еды. Кочевой народ и его стадо — родственники. Архетипы в мышлении кочевого этноса большей частью зооморфны. Части тела и органы животных имеют символическое значение. На праздничных застольях (когда «курбан-байрам», например) хозяева, угощая своих гостей, часто преподносят им те органы животного (части головы, в особенности), которые могут связываться с характером или профессией гостя. Язык может быть предложен поэту или, напротив, молчаливому человеку. Дар этот может выражать шутку или насмешку, когда предложен гостю, кто известен как болтун. Ухо может быть предложено музыканту, глаз — охотнику или человеку, кто не замечает неверности своей жены и т.п. Во всех таких случаях орган есть текст, и его преподнесение равняется произнесению речи.
Эти обычаи демонстрируют то родство, что существует между народом кочевым и его стадом. Следы этих обычаев могут быть найдены в Библии, поскольку древние иудеи были частью кочевым, частью земледельческим народом. Иисус Христос в своих притчах говорит о заблудшей овце, уподобляет христиан овцам среди волков, говорит о стаде свиней в одержимом, — и он же говорит о сеятеле, винограднике, горчичном зерне, смоковнице и т.п. Община христиан уподобляется апостолом Павлом стаду, пастве, а священник именуется «пастырь», «пастор» = пастух... И, наконец, символ жертвенного Агнца применяется к самому Христу.
Что касается американской пищи, то тут ГАМБУРГЕР — очень значительный текст, рассказ и даже философский тезис о Бытии. Он есть быстрая еда для занятого человека, который торопится и для кого время — это деньги. Далее, это — индивидуалистическое кормление одиночной личности (так гамбургер и приготовлен) в отличие от ИНДЕЙКИ в День благодарения, что съедается коллективно, есть общественная трапеза, застолье (для гамбургера не нужно и стола, Пространство сведено до минимума, как, впрочем, и Время: аннигилирована округа Бытия...), род причастия к социуму, блюдо для любви к ближним, друг к другу, для обмена тостами.
Гамбургер есть абстрактная еда — только для получения порции энергии в надлежащее время. Как бензин для автомобиля. Гамбургеру не нужно иметь вкус и запах: его поглощают в рассеянности, обдумывая при этом свой бизнес. Гамбургер съедается в молчании. Ибо, если вы разговари
69
ваете в это время, гамбургер, не имея подпоры в виде тарелки или вилки (а это — помощь от субстанции, от матери-земли снизу, от окружающего мира), может выпасть из ваших рук. Так что его надо держать обеими руками, как руль машины.
Питие, скоординированное с такой абстрактной едой, — это кока-кола (пепси-кола) — тоже абстрактная жидкость, продукт индустрии и химии. К гамбургеру может подаваться и соус (или заключен внутри него) — чтобы стимулировать аппетит бизнесмена, кто может быть вовсе и не голоден (атрофировано это естественное чувство, природное), но время питания подошло, и он полагает свои долгом подать порцию топлива в свой работающий механизм.
Теперь рассмотрим структуру гамбургера: его материю и форму. Он есть по происхождению — «бутерброд» (Butter-Brot = масло + хлеб, по-немецки) — на завтрак. В Америке усовершенствовали бутерброд и поместили во время ланча — на «обед», как скорая еда посреди рабочего дня. И он стал самодостаточным блюдом для самосделанного человека, производящего самосделанный мир.
Из чего же состоит гамбургер? Между двух ломтей хлеба помещен кусок мяса (или сыра) в одежде из зелени, — прямо подобно человеку в машине, который есть тоже животное в одежде, кусок мяса между ломтями железа сверху и снизу. Американский кентавр — человек-в-машине есть также гамбургер. И вот: ланч между двумя половинками рабочего дня, человек-в-машине и гамбургер — все они имеют аналогичную троичную структуру. Вот — Тринити-колледж! (Trinity = Троица). Подобно тому, как Человек и его Жизнь есть медиум, посредство, мост между Духом, Небом, мужским и Материей, Землей, женским. Так что гамбургер — космическое блюдо, микрокосм, модель мира, снедаемая американцем в ежедневной литургии.
Одна из моих студенток в Весленском университете, Рэчел Лонг, дала в своей курсовой работе остроумное сопоставление национальных блюд. «Одно из необычных французских блюд — это пылающий (жженый) десерт (flaming dessert). Фрукты и пирожные поливаются ликером, и блюдо ставится на огонь, — и сим французы создают осязаемый и снедаемый образец страсти и огня в их национальном характере... Французская кухня, когда в других странах практикуется, отличается элегантностью и великолепием... А неукротимые пузыри шампанского отображают пылкость (effervescence) французов этого региона, которые празд
70
нуют жизнь — так же, как шампанское пьют по праздничным случаям.
Понятие «скорой еды» (fast food) уже существовало, но американский народ возвел его до формы истинного искусства. Американский гамбургер, горячие сосиски (hot dogs = «горячие собаки», если буквально), вариации пиццы поглощаются не из-за их высокой питательности, которая, напротив, весьма низка, и не из-за их тонкого вкуса, который весьма спорен, но из-за быстроты, с которой эта еда может быть приготовлена, приобретена и съедена. Страна усеяна ресторанами Макдональда и иными вариациями на эту тему, и эти установки для еды (eating establishments — хорошее выражение для понимания еды — как тоже производства в Америке — Г. Г.) всегда находятся вблизи от магистралей или сквозных проездов, потому что эти рестораны рассчитаны на людей в автомобилях и для обслуживания на ходу — так же, как и на тех людей, которые предпочтут вылезти из своих машин и посидеть в ресторане в компании немного времени. Скорая еда — прямое выражение американской ментальности. В стране, где эффективность массового производства — самое важное, соответственно, и подходящая пища, блюдо, единственно выдуманное американцами, — тоже массово производится. Гамбургер — идеальная пища для американца, потому что он всегда в спешке и не хочет быть препятствуем пожирающим время процессом сидения, чтобы есть с другими. Скорая пища пахнет подобно обертке, в которой она предлагается, и гамбургер так же плох для тела, как и его пластиковый контейнер для окружающей среды.
...Одна из основ итальянской пищи — это «паста» (тесто макаронное); но что необычно, так это то, что этот, в сущности, один и тот же материал повторяется снова и снова, но во множестве дифференцированных форм и фигур. Вы едите спагетти, феттучини, лингвини, фюзилли, равиоли, зити, тортелини, манакотги и т.д. Отчего столько форм для одной субстанции? Итальянцы — народ пластически одаренный, что очевидно в их искусстве и в скульптуре...
Пища евреев исполнена символики и традиции. Самая символическая пища на Пасху — это маца, незаквашенный хлеб, который применяется, чтобы представить ту поспешность, с которой евреи были вынуждены покинуть Египет. Тот гнет, что народ испытывал в Египте, символизируется «харосетом», комбинацией из орехов, яблок и циннамона, причем текстура харосета напоминает о це
71
ментном растворе, который евреи применяли в кладке кирпичей, а сладкий вкус яблок и циннамона представительствует за сладкую надежду и веру, которую народ никогда не забывал...»
ЛЕКЦИЯ 12
Сегодня наш предмет —- национальный идеал тела и смыслы телодвижений: жесты, танцы, игры, спорт.
Антропологические типы человеческих тел находятся в соответствии с природой, с национальным космосом (или развиваются в соответствии с ним, приходят в ходе исторического развития к гармонии с ним...). И обратно: тело аборигена может служить матрицей, моделью для познания национального космоса.
Тела земледельческих народов отличаются от тел кочевников — соответственно различаются идеалы красоты человека. Крестьянин подобен дереву: дубу, ясеню, сосне... Его торс с руками и ногами должен быть кряжист, подобен мощному стволу с ветвями. У него должны быть широкие плечи («косая сажень» — мера русского богатырства) и грудь. Его конечности — узловаты, он жесток в кости, чтобш быть устойчивым на земле. Его фигура — из прямых и острых углов: чтобы шарнирами рук и ног работать лучше, пахать...
Идеал тела кочевника — гибкое, округлое, обтекаемое (не угловатое), животно-подобное, даже кошачье, не большое, но пластичное, не прямоугольное, а шарообразное. Ноги слегка кривоваты — чтобы обнимать коня.
НОС несет много информации об этническом типе и индивидууме. Нос — это перед, это угол, наиболее выдающаяся часть лица. Острый, длинный нос выражает энергию, волю пронзать бытие в деятельности и агрессии. Римляне, германцы, норманны (люди Севера), арийцы, семиты (евреи, арабы), грузины, армяне... Нос выражает волю быть личностью, меру «я»: «задирать нос»— означает гордость.
«Римский нос» характерен для германцев и соответствует их прямо линейной воле вперед, однако одновременно символизирует и недостаток гибкости, склонность к ригидным формам, стереотипу и шаблону — даже в военных операциях. Толстой в «Войне и мире» поиздевался над диспозициями штабистов Пфуля и Вейротера, согласно которым так гладко все писывалось на бумаге: die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert
72
= «первая колонна марширует, вторая колонна марширует...» — а реальное сражение развертывалось совсем по-другому.
Носы кочевников (монголы, тюрки...) уплощены. Перед в их пространстве не более важен, чем бок-сторона или спина: человек призван быть подвижным и оборачиваемым быстро, иметь мобильную реакцию во все стороны — подобно кошачьим хищникам, чьи носы тоже плоски.
Носы русских — картошкой или курносые. Они свидетельствуют об отсутствии гордости в характере, о слабости самоуважения и эгоизма, что они — женоподобны, добряки. Курносый нос (с провалом небольшим там, где в римском носе — горбинка) — это как искривленный фаллос, пенис-вагина. Вообще нос — представитель, субститут и посол мужского полового органа на лице: тот — скрывается, а этот — в открытую. Нос и фаллос — гомологи в вертикальной симметрии человеческого тела. И когда в повести Гоголя «Нос» нос разгуливает как независимая персона, — это означает, что его обладатель, майор Ковалев, — кастрирован... И повесть — его сон в страхе кастрации — накануне женитьбы...
ГУБЫ тоже многое рассказывают о народах и характерах личностей. В губах — наша внутренность, везде сокрытая кожным покровом, слегка высовывается, заголяется — и тем самым мистерия наших глубин, недр чуть приоткрывается наружу. Тайное становится явным — ткань и текстура, из чего мы состоим.
Выпуклые губы означают открытость, доверчивое отношение к людям и к миру. В то же время они — вагиналь-ны и могут означать похотливость. Индивидуумы с узкими сжатыми губами — замкнутые, центростремительные, с развитым чувством своей обособленности, «я»-йные, мало коммуникабельные...
Глаза и уши людей тоже скоррелированы с национальными космосами. Окно = око. А вот юрта, жилище кочевника, не имеет окон, тогда как изба земледельца и дом горожанина богаты окнами = взглядами в мир вокруг, а точнее — перед ними, ибо именно юрта округла, как и тело кочевника. Кочевники (монголы, тюрки...) — имеют раскосые глаза, в отличие от широко раскрытых, озерных, даже как бы вогнутых глаз северян-земледельцев и от выпуклых глаз (как и губы) жителей экваториальной Африки и Америки, которые словно притянуты интенсивным солнцем. Китайцы, японцы — косоглазы: чтобы видеть вбок, иметь боко
73
вой обзор, что необходимо в густоте существ природы там и в изобильном населении вокруг них.
Земледельческий, статический народ и человек среди полей и вертикали лесов должны иметь широко раскрытые глаза, чтобы видеть разнообразие явлений, которые вблизи, так что тут близорукость распространена, и космос работает на близком расстоянии. Мысль человека из земледельческого народа работает в сторону дифференциации вещей и их свойств, его Логос любит описания и классификации.
Для кочевника окружающий мир более монотонный: степи, пустыни, горы вдали... Вблизи — особо нечего разглядывать, зато зрение должно разглядывать горизонт: не появятся ли вдали враг или дичь, или зверь? Зрение кочевника дальнозорко, и его глаза — маленькие линзы, стянутые, как у орла или сокола. И в метафорах: кочевник-джигит сравнивается с орлом, соколом, а крестьянин — с волом, лошадью...
Национальные жесты, танцы, игры, спорт на свой лад отображают, каким образом различные народы обращаются с Пространством, и тем самым их рассмотрение тоже поможет нам в объяснении национальной космо-психологии. Термин «жест» происходит от латинского gestus, что означает «деяние», «действие». Каждый жест, поза есть определенное поведение, разговор с Пространством, и при этом органы человеческого тела служат как слова, а телодвижения — как предложения. А уж «асаны» индийской йоги: позы «Лотос», «Змея», «Свеча» и др., а также различные позы в соитии, описанные в Кама-сутре, — это уже целые философемы, определенные мировоззрения. Ибо в своей позе йог подражает некоей структуре Вселенной, вызывает ее строй-склад пред очи своей души и ума.
В статических позах человек исповедует свою сущность как растения, при движении — свою ипостась как животного. Своими телодвижениями человек вышивает орнаменты по пространственному континууму. Каждая национальная культура в ходе истории развила множество ритуальных телодвижений, что зафиксированы в национальных играх, танцах, видах спорта, и в них отражены различные представления о человеке и мире.
Вклад американцев в мировой арсенал поз — это ноги на стол. Поза эта — оскорбительна в русской шкале ценностей, и у нас даже есть пословица: «посади свинью за стол — она и ноги на стол». Однако эта поза представля
74
ется американцам совершенно естественной. Пионеры-первопроходцы, трудяги, исходив десятки миль, испытывали потребность дать отдых ногам, и такая поза целительна для оттока крови по венам. Таково прагматическое объяснение этой позе. Но есть в ней и метафизический смысл. Стол в обиходе людей Старого света — место для трапезы, застолья и беседы, для обмена мыслями, для чтения книги, — то есть для социально-культурных действий. И вот на этот уровень, высший для евразийцев, американец... положил. Американская цивилизация начинает там, где евразийская кончает, и она служит первой в качестве пьедестала.
Руки, ноги = плавники и крылья человека. Когда мы плаваем, наше тело определенными взмахами производит разнообразные волны, и их упругость дает нам ощутить грудь воды. Подобно этому в танцах и играх наши движения в воздушном пространстве расписывают его геометрическими фигурами и созданиями воображения. Пройти расстояние от одного угла сцены до другого можно за несколько секунд, но выходит балерина и расписывает телом воздушные замки, и мы, захваченные изобретательными трудностями преодоления этого пространства, готовы часами смотреть на сцену...
Ритуальные религиозные процессии и танцы, и пляски в Африке, где у аборигенов нет специальных храмов, помещений, где обитают их боги, выполняют функцию спонтанных зданий, живых домов из человеческих тел, как из кирпичей. Вот почему африканские танцы столь экстатичны и оргиастичны: они — акты сакральной литургии, соития со своими богам, воссоединения, религии.
В танцах имитируются телодвижения в ходе различных работ: «А мы просо сеяли, сеяли!..» — и хоровод изображает притоп и прихлоп; телодвижения охотника крадучись, воинственные марши...
В танце человек уподобляет себя разным животным: даже современный городской танец «фокс-трот» — буквально «лисий шаг»; есть и «гусиный шаг», и как медведь-увалень вперевалочку. Но больше всего уподоблений — с птицами, потому что танец есть в принципе война с нашей земнос-тью, одоление гравитации и декларация нашей, человеков, йоз-духовной природы. Русская женщина в танце — выплывает «лебедушкой», есть и танец «уточка» = птицы водоплавающие, как и сущность русской девушки — русалочья. Это женщина-мать = водо-земля в этом космосе, а девушка =
75
водо-воз-дух. У мужчин главное в танцах — прыжки, подскоки, а руками — как крыльями себя по фюзеляжу тела, по бедрам хлопают, словно стимулируя взлет прочь от земли. То же — и чечетка цыган и стремительный перебор на носочках в лезгинке.
А вальс — это же целая философия! Это космический танец Коперниканской эры. Проделываем вращения двух родов: вокруг своей оси (с партнером мы — воссоединенный целостный человек, «андро-гин» Платона, что значит, буквально, «муже-жена) и по кругу зала — то есть в вальсе мы равны Земле, земному шару, что и вокруг своей оси вращается, и по орбите вокруг Солнца. В этом — упоение вальса; его захватывающее дух кружение — той же природы, что и коловращение Земли: мы ей уподобляемся в танце, ее собой чувствуем. В вальсе мы — само совершенство. Отсюда и само-и-взаимо-восхищение во время вальсирования. И недаром в послекоперниканской Европе так развился этот танец и перешагнул все границы, давая всем чувство сопричастия к универсуму: чуять себя не немцами и русскими, а «землянами» и «солнцарами».
Такт вальса на 3 есть троица — совершенное и полное число: ибо лишь тремя точками можно осуществить поворот кругом (и окружность лишь через треугольник характеризуема и описуема). Остальные же такты и размеры-метры в музыке: на 2 и на 4 — парные, квадратные, прямоугольные — выражают уже машинную цивилизацию, «ургий-ны»: в танго и фокстроте ходят граждане — как шатуннокривошипный механизм в паровой машине (еще и углами локтей туда-сюда толкают).
Вольные же, импровизационные танцы середины XX века: рок-энд-ролл, твист («расщепляй») шейк («тряси») и проч. — это уже бунт естества против машинной цивилизации, бунт «гонии» против «ургии».
Дробь ногами у испанской танцовщицы и щелканье кастаньет — это язык птиц.
И у нас в русской пляске своя идет обработка Пространства и вычерчивание своих фигур и орбит там. Хлопанья в ладоши, по голенищам, пяткам, по бедрам — это плоскостями (= родимыми сторонками), обработка воздуха (как в бане — духовитым веничком), а не уколами рапир-шпаг...
Да, еще в добавление к современным танцам: рок-энд-ролл, твист и проч. — понятно, что после того, как человек целый рабочий день отдал, своему боссу, Молоху индуст
76
рии, человеческое существо испытывает потребность — развинтиться (буквально: ибо у конвейера работник словно привинчен к железной ленте...), освежить жизненную силу в себе тем, что — броситься в противоположную крайность: ощутить себя животным, даже зверем (вот откуда потребность в глазении жестоких фильмов ужасов с садизмом и сексом)...
Не могу удержаться, чтобы не привести выдержки из работы моей студентки в Весленском университете Габриэллы Маркус «Разнообразие миров в национальных танцах». Она демонстрирует, как вечные проблемы Духа и Материи, Души и Тела ставятся в танце: его фигуры — это изобретательные опыты победить Пространство, расширяя применение и диапазоны человеческого тела.
«Во Франции возник классический романтический (возможное сочетание! — Г.Г.) балет. Если мы будем иметь в виду концепцию равновесия, присущую французскому народу, никакой танец не соответствовал бы этому более. Сама сила, надобная танцовщикам, сбалансирована с грацией. Балет требует чрезвычайно мощной физической формы, однако эта форма, особенно в балерине, едва ли предполагается быть видимой. Цель балетного танцовщика — развить мускулы, которые не видимы. Здесь развитие видимых мускулов препятствует развитию тех, что менее видимы, но более нужны...
Балет может рассматриваться как комбинация противоположностей: воды и огня. Текучести танца противополагается огненная страсть; волнообразной эмоции симметричны огонь и энергия физического движения. Образ Франции — это фонтан и взрыв. Фонтан есть парящий взрыв; он есть текучий прыжок без усилия, и этому только классический балет соответствует. Как пишет танцовщик Эдвин Денби, «только в танце классического балета танцовщик умеет прыгать сквозь воздух медленно». Прыгать сквозь воздух медленно! Это значит: применить упругую пылкую энергию, но демонстрировать безусильную грацию — как это точно подобно фонтану, который взрывается каждый миг вверх — только чтоб стекать вневременно вниз...»
Да, ФОНТАН — наиболее адекватный символ для французского космо-психо-логоса «огне-воды». Хотя он изобретен в древности, но усовершенствован и распространен во французском парковом искусстве вокруг дворцов. Фонтаны Версаля породили и фонтаны Петергофа возле Петербурга. Фонтан — постоянный источник вдохновения для
77
французских поэтов: достаточно вспомнить знаменитую балладу Франсуа Вийона «От жажды умираю — под фонтаном», — сочиненную как раз во французском стиле парадоксального баланса между крайностями.
Но вот как далее Габриэлла Маркус трактует африканские танцы. «Ряды мужчин и женщин в одинаковых одеяниях, танцуют мерными шагами, топая и прыгая, их взгляды внимательно и напряженно вперены в землю, которая — их источник... И в самом деле: бог и земля неотделимы для них, в соответствии с некоторыми верованиями племени «вуду» все — одно, едино. Итак, народ — един, танцуя в унисон; небо и земля — единое, почитаемые одновременно». А вот какое преобразование претерпели африканские танцы, когда попали на американскую почву: «В Соединенных Штатах восприняли их огнеподобную энергию, но сопрягли ее с манифестацией личности. Можно так интерпретировать каждого танцующего, что он исполняет как бы свою «Песнь о Себе» (название поэмы Уолта Уитмена.— Г.Г.), и это небольшое, но энергичное изъявление его (или ее) индивидуальности».
Танцы в Азии выражают другую философию: «В воинственных танцах, несмотря на их очевидный неистовый характер, акцент полагается на внутреннем спокойствии, так чтобы обезоружить врага — его же собственной энергией... Таковы танцы в символике «Инь-Ян»: в них энергия статики и мощь покоя».
Национальные виды спорта — другая область, где национальные образы мира, идеи о человеке выражены очевидным образом. В американском футболе поле разделено на ряд параллельных линий (как ступеней к успеху), и задача команды — продвигаться упорно к воротам команды противника, захватывая линию за линией, по-бульдожьи, шаг за шагом, прямолинейно с силой и волей, брутально, набрасываясь друг на друга и образуя ужасные кучи из тел. Тут нет элегантного маневрирования — этих орнаментов, что вышивают по полю, как по ковру, движения игроков в европейском футболе — нитями своих траекторий, бегая, и танцуя с мячом — именно играя с ним. Виртуозно обрабатывая мяч, игроки как бы кокетничают с шаром земным, флиртуют с любимой матерью-землей в свободном и артистическом отношении к Пространству. В американском футболе Пространство трактуется более примитивно: оно — в прямых линиях и барьерах для преодоления, осиливания...
78
Интересные идеи о национальных видах спорта выражены в курсовой работе одной из моих студенток в Вселенском университете — Рэчел Лонг. Она сопоставляет американский футбол с итальянским (европейским вообще): «Игра — манифестация идеалов: брутальное торжество победоносной команды выражает дух американского империализма, а защитная одежда игроков напоминает об американской зависимости от техники ради выживания. Футбольная игра развивается очень быстро в духе американской души, которая чувствует себя при себе в наиболее скоростных, напряженных ситуациях.
Итальянский футбол называют в Соединенных Штатах «соцер». Этот вид спорта запрещает применение рук... Ведь итальянцы работают руками более, чем нужно, разговаривая между собой...
Теннис — очень техничная игра, он распространен у англичан. Движения четки и аккуратны. Правила игры очень специфичны, и замечания судей редко оспариваются. И это характерно для английского отношения к миру: человек должен действовать внутри рамок системы, не оспаривая работу социума и не стремясь к резким переменам. Уимблдонские корты покрыты натуральной травой, что отражает любовь англичан к естественным паркам. В конце игры участники делают поклон вежливости в сторону судей или королевской семьи, члены которой могли бы присутствовать...
Французский буль — провинциальный вид спорта, он разыгрывается между друзьями, а не между организованными командами. Это очень древнее времяпрепровождение не выходит за пределы Франции. В паузах между таймами игроки оживленно беседуют, ибо французы очень говорливы, и время для них — пропащее, если не заполнено разговором. В конце игры по традиции победитель покупает вино и угощает остальных участников (восстанавливая баланс.— Г.Г,), которые поднимают тосты в честь победителя (честь ценнее во Франции, чем деньги.— Г.Г.). Щедрость и взаимное уважение характерны для французов».
Шахматы — игра, изобретенная в Индии, — отражают Индийский Космос, изобилующий бесконечными комбинациями элементов и неисчислимыми переселениями, превращениями душ. И если пешка ( = существо низшей касты) следует законам своей дхармы, то в конце своего * существования она имеет шанс возродиться в высшей касте — явиться ферзем с другими уже правилами поведения и передвижения. В религии индуизма — политеизм, там мно
79
го «главных богов»: Брама, Индра, Вишну, Шива, Сурья, гандхарвы, асуры и прочие существующие во множестве миров... И в шахматах любая фигура может тотально изменить ситуацию своим изобретательным ходом. И когда я читал в эпопее «Махабхарата» описания сражений между пандавами и кауравами, я не мог удержаться, чтобы не сопоставить их с дуэлями на шахматной доске. Например: Дурьодхана поразил стрелой возничего Юдхишхитры. Последний в свою очередь сразил четырех коней колесницы Дурьодханы. Тогда Дурьодхана послал стрелу с алмазным наконечником... и т.п. Тут эквивалентные комбинации напоминают меры сил шахматных фигур. Слон равен трем пешкам, тура равна двум коням; королева = тура + два слона = тура + слон + конь = слон + 8 пешек и т.п. То же самое и в эпосе: возничий = 4 коня; стрела с алмазным наконечником = палица... И т.д.
В играх Западной христианской Европы забавляются с Шаром, который был Сферосом — совершенным телом и моделью мира для языческой Греции. Европейцы-христиане унижают, пинают, бьют и давят священный Сферос руками и ногами (инструментами их «ургии») в своих футболе, волейболе, бейсболе, гандболе — так же, как иудеи насмехались, плевали и поносили всячески Иисуса Христа.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Портреты национальных миров
Предложенные здесь «портреты» национальных миров представляют собой резюме, дайджесты многолетних междисциплинарных исследований автора, целых томов, посвященных каждой национальной культуре. Букет особенностей каждого национального мира составлен мною — и состав его неизбежно субъективен и неполон. Другой автор, в зависимости от своего образования, эрудиции и интересов, мог бы подобрать иной набор качеств. Однако даже будучи просто соположены рядом, описания национальных целостностей облучают друг друга, доставляют дополнительные значения и смыслы, корректируют — и в итоге целая панорама вы-игрывает в объективности. Предупреждаю, что некоторые примеры из разных национальных культур, что в первой части иллюст-рировали общие положения, здесь могут быть повторены как элементы в построении данного национального мира. И сравнения кочуют из портрета в портрет.
ГРЕЦИЯ
Радость и благоговение — с такими чувствами приступаю я к размышлению над образом мира древних греков, над их шкалой ценностей и системой идей. Прежде всего мы, современные люди, не должны вводиться в заблуждение Историей: полагая, что мы, поскольку живем на два-три тысячелетия позднее них, понимаем в сути Бытия больше и лучше. И ради чего жить и как. Такое историческое самомнение и высокомерие смешно, как и национальный шовинизм. Современный человек, конечно, лучше исследовал многие частности, но что касается Целого Бытия, — тут мне сдается, что Сократ и Платон имели более развитое понятие о высших ценностях и как жить в гармонии с миром и с собой, нежели любой из научных или идеологических героев и властителей дум нашего века, будь то Дарвин, Маркс, Ницше, Фрейд, Эйнштейн, которые действительно глубоко проникали в тот или иной аспект Природы, Общества или Психеи человека, но Абсолют, смысл Целого — удалялся от них в той же про
81
порции, в какой углублялись, зарывались они в ту или иную частность... Сократ не знал радио и автомобиля, но он познал себя лучше, чем мы, и вел совершенную жизнь и совершенным человеком принял смерть.
Древнегреческая цивилизация была разветвленной и динамичной, потому что каждый остров, полуостров, каждая область и т.п. образовывали самостоятельный «полис», то есть город-государство. А в маленьком государстве каждый индивидуум должен выполнять много разных функций и должностей и понимать разные аспекты Бытия. Взгляните на карту, территория Греции так дифференцирована: горы, долины, побережья, столь изрезанные морем, острова... Имя «грек» имеет тот же корень, что индоевропейское «гор», что значит «гора». В русском языке оба слова звучат очень близко: «греки», «горцы»... Греки — горцы и островитяне. О том, как себя чувствуют таковые в мире, проницательно писал Монтескье в «Духе законов»: «В стране гористой можно сохранить свою собственность, да там немногое приходится и сохранять. Свобода, т.е. существующее правление, есть единственное благо, которое там стоит защищать, поэтому она и царит главным образом в странах горных и неудобных, а не в тех, которые, по-видимому, всего более облагодетельствованы природой.
Горцы пользуются более умеренным правлением, потому что им менее грозит опасность завоевания. Защищаться им легко, а нападать на них трудно» (кн. XVIII, гл. II). Подобное же замечает Монтескье и об островитянах: «Островитяне более склонны к свободе, чем жители континента. Острова бывают обыкновенно небольших размеров; там труднее употребить одну часть населения для угнетения другой; от больших империй они отделены морем, и тирания не может получить от них поддержку» (кн. XVIII, гл. V)- Сопоставим Грецию и Англию — с Римом, Германией или Россией — и нам очевидна станет справедливость такого расклада ценностей.
Почва в Греции умеренно плодородна и умеренно жестка и сурова, что подстегивало трудолюбие в людях. «Бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными, способными к войне; ведь они должны сами добывать себе то, в чем им отказывает почва. Плодородие страны приносит им вместе с довольством изнеженность и некоторое нежелание рисковать жизнью» (кн. XVIII, гл. IV)1.
’Монтескье Шарль Луи. Избранные произведения. — М., Госполитиздат, 1955. — С. 393,394,395.
82
«В Греции все есть», — заявляет персонаж Чехова. И это верно: РАЗНООБРАЗИЕ — в образах жизни и ведения хозяйства (земледелие, пастушество, мореплавание и торговля, ремесло и градостроение), в образах правления, в типах государств (монархия, теократия, аристократия, демократия, тирания, анархия, республика...), в богах и мифах (политеизм...), в учениях философов..., в видах искусств, в жанрах поэзии и т.д. Живя в окружении многих вариантов существования, видя в ближайших соседях нечто совсем иное, чем то, что привычно у них, люди имели возможность развивать умы, питать любознательность, ценить плюрализм, терпимо относиться к идеям и взглядам, отличным от их собственного, и осознавать ограниченность своих представлений.
УДИВЛЕНИЕ — начало познания, по мысли Аристотеля. И древние греки умели удивляться и выражать, формулировать свои удивления разнообразному. Это — и в мифах о происхождении богов и распределении их уделов («Теогония» Гесиода), в эпических поэмах о деяниях царей и героев («Илиада» и «Одиссея» Гомера); это и «История» Геродота и «География» Страбона, где рассказаны чудесные предания и описаны дивные обычаи разных народов и стран. А книги Аристотеля — это энциклопедия, компендиум разных знаний и сведений, собранных с заботой и уважением и к идеям, противоречащим его собственным.
Миропонимание греков могло быть столь универсальным — благодаря умеренному развитию всего у них. Каждое поселение должно было заниматься и земледелием, и ремеслами, и судостроением, и вести войны, и справлять религиозные обряды... Разделение труда, дифференциация занятий — развивались у них, но не заходили слишком далеко, так что Одиссей и Сократ могли быть умелыми во многих видах труда, по крайней мере иметь ясное представление о них. Человек мог быть целостной личностью, а не частичным индивидом, односторонне развитым, как по мере усложнения производства, общества и цивилизации, мог быть гармоническим.
Принцип МЕРЫ — важнейший в греческом образе мира. Вблизи него, как его варианты и ипостаси, — Судьба, Гармония, Ритм, Совершенство, Справедливость, Мудрость и т.д.
Вот гимн Ритму у первопоэта Архилоха (VII в. до н.э.):
83
Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой. Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады, — твердо стой, не трепещи. Победишь — своей победы напоказ не выставляй, Победят — не огорчайся, запершись в дому не плачь. В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт.
(Пер. В.Вересаева)
Не надо ничего слишком: быть слишком богатым, слишком сильным, слишком славным — быть сверхчеловеком (какова, напротив, амбиция Германской Психеи), основать сверхдержаву (какова амбиция-Русской Души)... Судьба («Ананке») и три старые Мойры (= «меры», буквально) стоят на страже, наблюдая жизни и поведение существ и вещей. Бесчисленные мифы и притчи наставляли греков на этоЬ счет. Например, «Поликратов перстень» — история, рассказанная в «Истории» Геродота. Поликрат, тиран острова Самос, был богат, славен и счастлив сверх меры и гордился этим. Такое — опасно: навлекает зависть богов. И ему посоветовали пожертвовать чем-то дорогим и тем как бы откупиться от Судьбы. Он бросил в море любимый золотой перстень, изукрашенный драгоценными камнями, — и что же? Наутро рыбак приносит к его столу рыбу, в которой заглотан сей перстень. Он понял, что от Судьбы не уйти. И действительно, кончил он очень плохо: держава его была разгромлена, а сам он принял позорную смерть... Так что не полагай себя счастливым прежде смерти... Катастрофа ожидает тех, кто прешел свою меру.
Но не только люди: герои, цари, — но и сами боги и даже стихии природы находятся под управлением Меры и ее исполнительного директора — Судьбы. Гераклит сказал: «Этот космос, тот же самый для всех (принцип равенства, демократии! — Г.Г.), не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим» (фрагмент 24). «Солнце не прейдет своей меры, иначе его за нечестивость накажут эринии, помощницы правды» (фрагмент 29). Это те самые эринии, богини-мстительницы, что преследовали Ореста, жаля его, как осы, когда он преступил меру Природы и убил свою мать Клитемнестру — в отмщение за то, что она, с любовником Эгистом, убила его отца, царя Агамемнона. Но ведь и последний преступил меру закона Рода, когда, в амбиции своей как вождя эллинов в походе
84
на Трою, принес в жертву их с Клитемнестрой дочь — Ифигению...
Справедливость — тот вариант закона Меры, что действует и среди элементов Природы, в Космосе, и особенно в Обществе. Платон в диалоге «Государство» всесторонне исследовал это понятие, которое есть принцип разумного устроения Социума.
Смерть — Мера жизни: они взаимно умеряют и питают друг друга. Тот же Гераклит полагал, что «Огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, а земля — смертью воды» (фрагмент 25). Такой образуется цикл = круг, который тоже есть модель мира у греков. А внутри него работает диалектика взаимопревращений и отождествлений. Так Смерть равна Жизни: моя смерть дает место другому существу жить внутри Целого. «Смерть земли — рождение воды» (там же)... При такой организации Бытия действительно может существовать плюрализм субстанций, божеств, идей, интересов, страстей (а не всеутоп-ляющий монизм и монотеизм...). Всему свое время и место. Все имеет право на существование — при условии: не заступать за положенные пределы. Живи — и давай жить другим. Все ограничивают = определяют друг друга.
Такой же разнообразный Космос — и в зоне Божества: там — политеизм. В Элладе были сотни богов, и каждый имел свой регион, удел управления, которым заведовал в Бытии. В «Теогонии» Гесиод расписал эти уделы: кому — что положено и за что и как его почитать. Множество мифов описывают отношения в обществе богов Олимпа — и там оказывается своего рода сакральная демократия. Иудаизм, Христианство и Ислам похваляются своим монотеизмом, усматривая в нем более высокий уровень абстракции и спиритуальности в Божестве. Это — верно. Но это — тоталитаризм во Божестве, на поприще сверхидей и идеалов. Это — монархистский, царистский подход, подавляющий разнообразие и пестроту Бытия. В Элладе же Зевс, царь богов и людей, вынужден был страдать от стрел такого маленького божка, как Эрот, сын Афродиты. Не было бюрократической иерархии и субординации меж богами, и величайший должен был считаться с малейшим, а если нет, то и его наказывала Ананке (Судьба). Права меньшинства уважались на Олимпе.
Политеистический подход к Бытию учил уважать каждую реку, ручей, ибо богиня «наяда» обитала там, и бояться срубить дерево, потому что «дриада» могла избрать его
85
своим домом. Очень было бы полезно возродить такой подход к Природе и нам, в конце XX века, когда «окружающая среда» обитания человека под угрозой и встала проблема экологии. Однако порча и уничтожение Природы как раз явились следствием христианского разбожествления ее, которую сочли обителью языческих, поганых богов и назвали их «дьяволами» и «бесами». Да, эти нежные нимфы и веселые сатиры были так высокомерно унижены и приравнены «дьяволам»... Так что ныне, чтобы спасти Природу на Земле, мы должны возродить благоговейное отношение к ней и ее элементам, видеть в ней священную, одушевленную Матерь-ю нашу (как умели чтить ее эллины в своем политеизме), а не как бездушную «окружающую среду» для нашей человеческой эгоистической пользы.
Жанр ТРАГЕДИИ был в Греции род публичного, открытого, демократического суда над сильными и славными мира сего. Граждане при этом имели шанс созерцать работу Меры в жизнях царей и героев — тех, кто в обычной жизни представлялся счастливее простых людей. Однако эти «действующие лица» театра человеческой истории — стоят в такой же пропорции к богам, как простые люди к ним, царям и героям. И та зависть, которую простые люди испытывают к ним в будничные дни, переселялась в праздничные дни постановок трагедии в души богов. Зависть богов обрушивалась на славных смертных, когда они обнаруживали себя слишком умными, богатыми, смелыми. Тем самым они оскорбляли космос, наличный порядок мира, и заступали в те сферы, где другие сущности: божества, стихии, законы, идеи — должны проявлять свою суверенность. И таковые смертные сурово и жестоко карались богами: не только сами они страдали, но и весь их последующий род — потомки расплачивались за грех, за «трагическую вину» (важное понятие в античной драматургии) предков.
Я уже коснулся выше трагедии Агамемнона. Но ведь он не первопричина, а лишь проходное звено Рока, что действовал сквозь его род — Атридов. А началось... — впрочем, начало неуследимо, ибо в цепи преступлений героями порядка космоса к каждому деянию миф приставляет предыдущее, причинное как бы; но и оно выступает следствием еще более прежнего... Так вот: перед Агамемноном был отец его Атрей. И тот, в отмщение за некоторый предыдущий грех, пригласил своего брата Фиеста к себе на пир и там попотчевал гостя жарким, приготовленным из его же собственных сыновей. Этот «пир Фиеста» — ужасное преступ
ав
ление Атрея — послужил ближайшей действующей причиной цепи страшных событий в роде Атридов. Агамемнон вынужден принести в жертву свою дочь Ифигению, дабы укротить гнев-зависть бога морей Посейдона, и тот бы дал попутный ветер кораблям эллинов в их походе на Трою в отмщение за похищение троянцем Парисом Елены, супруги Менелая, царя Спарты, кто — брат Агамемнона и тоже Атрид. Несчастная мать Ифигении Клитемнестра в возмездие убивает ее отца и своего мужа; затем их сын Орест во исполнение воли Эвмениды, богини мести на Олимпе, убивает свою мать — и теперь сам мечется по миру, преследуемый эриниями, служанками той же Эвмениды. Где справедливость? — хочется возопить. — И где конец, как он может быть положен?...
И все же конец страданиям рода Атридов, предел — был положен, и о нем гениальная трилогия Эсхила — «Оре-стея». Когда Орест, нигде не находящий себе места в Элладе, прибывает в Афины, собирается ареопаг = совет старейшин, и при голосовании половина черепков (а ими производилось голосование в Афинах, так что от этого слова — «остракис» = черепок — и назван обычай «остракизм» = изгнание опасно сильного человека из государства Афин) легла во наказание, а половина — во оправдание Ореста. И тогда невидимо явившаяся на суд богиня Афина положила лишний черепок во оправдание несчастного матереубийцы — и это был всемирно-исторический момент перехода от материнского права Рода, Природы, «гонии» — к патриархату и мужскому праву Социума, закона, права не «естественного», а искусственного, права «ургии»: на основе разума и общественного договора.
И так зрители трагедии, простые граждане Афин, созерцая эти сверхмерные страдания героев и царей, получали возможность и утолять, и очищать свои души от зависти — в процессе КАТАРСИСА = ритуального очищения души страхом и состраданием. Привести человека — зрителя к катарсису — было сверхзадачей античной трагедии, игры актеров на сцене. Выходя из амфитеатра после спектакля, гражданин Эллады мог себя чувствовать счастливее в скромных условиях своего существования: его возможные поползновения в душе преступить меру и притязать на лучший жребий — пресекались. Триумф Меры, воспитание в духе положительного в парадигме эллинской шкалы ценностей понятия ПРЕДЕЛА (против идеи Беспредельного, «Алейрона», что в пифагорейской таблице десяти
87
противоположных пар стоит в ряду минусовом, наряду с женским, «четом», «тьмой», «левым», «кривым» и т.п.; кстати, в шкале ценностей русского сознания Беспредельное — в положительных понятиях: «безмерное», «бесконечное», «широта души», «русский революционный размах»...) — такова моральная цель эллинского театра.
Трагический герой в период везения, успеха впадал в психологическое состояние, которое греки именовали hybris = гордость излишнюю (как это представлялось с точки зрения закона Меры), самонадеянность, которая — как «са-моопорность», «самосделанность» (self made man!) — есть положительное качество в английской и американ-ской шкале ценностей: уверенность в успехе есть уже полпобеды в космосе «открытых возможностей», каким видится мир для человека «ургии» и в Американском мифе. Ведь если изобретательный гений трудяги наталкивается на предел, на «закрытые возможности» в одном месте, он прорывается в другом и основывает новое поле деятельности индустрии, применения ума и энергии.
Но в античном видении мира возможности для человеческой активности в труде и мышлении были до известной степени открыты, но именно до некоторой степени и меры, а не абсолютно. В мифе об Эдипе, гениально разработанном в трилогии Софокла «Эдип-царь», «Антигона» и «Эдип в Колоне», — представлена драма человеческой активности и разума. Эдип был очень умен: он разгадал загадку Сфинкса, и благодарные граждане Фив пригласили его стать их царем, и он женился на вдовствующей царице Иокасте. Какой успех для человека, победа и награда его уму и энергии! — так кажется и нам, и самому Эдипу, кто впал в самоуверенность, «гюбрис» и слишком полагался в жизни на свой разум, который, по его надежде, должен помочь ему избежать той ужасной судьбы, что была предречена при его рождении оракулом: это существо убьет своего отца и женится на своей матери! Когда Эдип, уже выросши, узнал об этом пророчестве оракула, он бежал из родной страны и от родителей (так ему представлялось). Но он не ведал, что это были не действительные, а приемные его родители, которые восприняли случайного подкидыша младенцем, когда подлинные родители, ужаснувшись пророчеству, велели слуге отнести новорожденного и убить его... И вот уже взрослый добрый и разумный молодец Эдип, убегая от своего Рока, приходит в Фивы и там в случайной ссоре на дороге убивает какого-то старика, о чем он и по
88
забыл в славе и успехе и мудро правя государством. Однако через несколько лет ужасная болезнь поразила город и страну, и оракул устами прорицателя Тирезия объявил, что граждане должны отыскать ужасного преступника, кто убил своего отца, женился на матери и прижил с нею детей в кровосмесительном браке. Чтобы исполнить и эту волю оракула, царь Фив Эдип предпринимает расследование, как истинный детектив, — с тем, чтобы в конце концов узнать, что этот преступник — он сам.
Такая демонстрация заблуждений рассудка даже в самом сильном уме — была выразительно зрелищной школой диалектики. Успех Эдипова расследования — привел его к катастрофе. Вот как могли быть тождественны счастье и несчастье, царь и выкидыш из общества, истина и ложь!.. Эдип в отчаянии сам наказывает свой разум, свет очей, — ослепляет себя. Однако, став слеп в отношении внешних, рациональных вещей и причин, он жертвой этой обретает мудрость в уразумении глубинных, мистических сущностей и причин, и в священной роще Афин, в Колоне, куда судьба приводит слепца, его уже почитают как святого, как пророка... Подобным же образом и философ Демокрит (как гласит предание) в жажде истинного познания ослепил себя, чтобы внешние впечатления и образы, их агрессивное множество, наплывающее на ум своими волнами и оболочками (от каждой вещи они отделяются и наплывают на нас — такова теория познания в опыте, по Демокриту), не рассеивало его мысль и не отвлекало от медитации над Единым, над невидимым, «интеллигибельными» сущностями и началами Бытия.
Греки, существуя внутри активного плюрализма мира, среди множественности истин, хорошо понимали, что наш ум, существа срочного и смертного, в состоянии улавливать лишь короткие части совершенной Истины, что позднее и апостол Павел с горечью выразил: увы, «по частям познаем, по частям разумеем». В баснях Эзопа эти иллюзии и ошибки частичного разумения дали материал для прекрасных притч. Вот, например басня «Лоза и Коза» — пересказываю ее.
Коза обгладывала виноградную Лозу, ее глянцевитые листья и нежные усики. «Зачем ты так поступаешь со мною? — проговорила Лоза. Разве дурна трава? Но погоди, бородатая Коза: придет пора сбора винограда — и тогда я буду отомщена. Потому что это я доставлю к алтарю вино, которое жрец с благочестивыми речами прольет на тебя, принося тебя в жертву Дионису, богу винограда».
89
Коза (подобно Эдипу), воспринимает первую часть истины — беззащитность Лозы. Но последняя ведает продолжение co-бытия: жертвоприношение Козы. (Кстати, и трагедия возникла из этого ритуала, и потому буквальный перевод этого термина — «козлиная песнь, ода».) А Судьба созерцает частичные истины обоих и связует их: мера — за меру...
Вариант принципа Меры — ГАРМОНИЯ = равномерное развитие и в человеческом существе его различных способностей: физических и умственных, так что эллины выдвинули идеал гармонически развитой личности. Гимнастика, атлетика, спортивные состязания и состязания певцов и поэтов были столь священными в Элладе, что греческие полисы, города-государства, прекращали войны между собой на то время, пока происходили всегрече-ские Олимпийские или Истмийские игры. Вы можете себе представить, чтобы военные операции во Второй мировой войне прекратились бы на время, пока происходил мировой чемпионат по футболу?...
Это Рим, а затем Христианство — эти цивилизации заступили за принцип Меры и Гармонии в Бытии и человеке, побуждая человека развиваться односторонне и совершей-ствуя лишь одну из его способностей. Цезарь, император, становится сверхчеловеком и таким воспринимается и почитается; христианин становится аскетом, умерщвляет свою плоть, чтобы сподобиться чрезвычайных духовных озарений и видений в экстазе религиозном, и стремится аннигилировать себя как телесное существо, материальную субстанцию.'
Нет, греки почитали тело — как инкарнацию души, высокого духа, и их боги представлялись имеющими плоть и форму. Вот почему.именно пластические искусства: архитектура, скульптура, театр и в нем хорея, танец и мимика — процветали в Древней Греции и столько несравненных шедевров в этих жанрах было создано там. Идеальные пропорции человеческого тела — Канон его — в статуе Дорифора (копьеносца), принцип «золотого сечения» — все это мы получили от эллинов.
Я уже упомянул выше такой обычай в политической жизни греков, как ОСТРАКИЗМ. Обдумаем его: он очень мировоззренчески значителен. Когда индивидуум становился слишком богат, знаменит и влиятелен, он мог подвергнуться изгнанию. Такие знаменитые полководцы — стратеги, как Фемистокл (спаситель Эллады в Греко-персидской
90
войне), Алкивиад (стратег в войне между Афинами и Спартой) и другие политические лидеры, победители в войнах, могли становиться опасны для демократии, подвергнуться искушению установить тиранию, опираясь на свою популярность у масс. И чтобы избежать этой опасности, граждане Афин посылали таких суперменов в изгнание — на 5, 10 лет посредством голосования черепками («остра-ками»). Но они не убивали их, переступая меру гуманности. Афинская демократия в своем идеальном виде — понимала, что власть не может рожать, давать жизнь — и потому не имеет права отнимать ее. Конечно, и там, в Афинах, были казни (достаточно вспомнить казнь Сократа на закате золотого века Афин), но само существование такой меры, как остракизм, к возможным «врагам народа» говорит о многом в отношении к человеку, в понимании Бытия, в антропологии и логике эллинов. Это связано, я думаю, с малостью их городов-государств. Греки осознавали ограниченность свою и своих законов и понятий — это было именно очевидно: им, мореходам и островитянам, был очевиден просторный мир и пространство за пределами их родных государств: Спарта, Афины, Фивы, Коринф, Микены, Милет, Родос...
Разумеется, такие государства-гиганты, как Египет, Персия, Рим, Китай, Россия, — думают слишком много о себе и полагают себя совпадающими с Бытием вообще, в целом, — и потому не испытывают сомнений в своем праве отнимать жизнь у своих граждан. Но греки чтили «го-нию»: понимали, что труд и искусство не могут состязаться с природой — ведь и Космос рождается («космо-го-ния»), и боги («тео-гония»), и мир вообще, может быть, есть живое существо (такой «гилозоизм» выражен гипотезой в диалоге Платона «Тимей»).
Таким образом, в воззрениях греков существовала гармония между самоуважением индивида, совершенствованием личности (Сократа опять же, к примеру), ее «само-сделанностью» — и почитанием Целого Бытия, Единого, и в нем — Природы. В итоге греческой цивилизации выработалась гармония между «гонией» и «ургией» и во взглядах философов на происхождение мира, вещей и существ: и через рожание, и через творение (см. опять же диалог Платона «Тимей»).
Итак, два ряда причин существовало для греков, и они уловимы во всех явлениях их цивилизации: от эпопей Гомера («Илиада» и «Одиссея»), где события идут параллель
91
но на двух уровнях: на Олимпе, среди богов, где принимаются решения, — и на земле, среди людей, их царей и героев, — вплоть до изощренной диалектики (где двоица содержится в самом корне слова: «диа» — «через», разрез надвое) Платона и Аристотеля: последний был приверженцем как теории идей, так и материи и опыта.
Вот пример из Гомера. В Первой песне «Илиады» царь Агамемнон оскорбляет главного героя — Ахилла, отбирая его наложницу Бризеиду. Ахилл в гневе вытаскивает свой меч... — и останавливается:
...Могучее сердце
В персях героя власатых меж двух волновалося мыслей: Или, немедля исторгнувши меч из влагалища острый^ Встречных рассыпать ему и убить властелина Атрида; Или свирепство смирить, обуздав огорченную душу.
В миг, как подобными думами разум и душу волнуя, Страшный свой меч из ножен извлекал он, — явилась Афина, С неба слетев; ниспослала ее златотронная Гера, Сердцем любя и храня обоих браноносцев; Афина, Став за хребтом, ухватила за русые кудри Пелида, Только ему лишь явленная, прочим незримая в сонме...
Сыну Пелея рекла светлоокая дщерь Эгиоха:
«Бурный твой гнев укротить я, когда ты бессмертным покорен, С неба сошла; ниспослала меня златотронная Гера;
Вас обоих равномерно и любит она и спасает.
Кончи раздор, Пелейон, и, довольствуя гневное сердце, Злыми словами язви, но рукою меча не касайся».
(Илиада, 1, 188—211).
Значит, Ахилл и сам был накануне принятия разумного решения, и в то же время в решающий момент он получил подсказку-помощь от богини. Вот такая «двойная мотивировка», параллелизм причин приемлем для греческой ментальности — и в наивном Гомеровом варианте, и в изощренном уме Сократа, который признавался, что некий «демон» сопровождал его с детства и подавал ему знаки: «Началось у меня это с детства: возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет» (Апология Сократа, 31d).
Разделение областей и зон тут очевидно: демон, божество, некая сверхсила — говорит «нет!» (какова и формула библейских заповедей — декалог Моисея весь на «не»: не
92
убий, не прелюбы сотвори, не пожелай и т.п.) и тем самым помогает смертному отвернуться от зла, от неверного направления. Но уже предоставляется самому человеку, его личности и свободной воле — найти, выйти своим разумением к некоему «да», к правильному позитивному решению и ответу.
Ведь в Бытии достаточно места для обоих уровней: для сверхидей и сверхценностей, воплощенных (или символизированных) в божествах, — и для разума и умений смертных. Человеческое существо обладает относительной самостоятельностью и «самосделанностью», — но лишь относительной...
Философское открытие древних греков — ДИАЛЕКТИКА. Этот способ рассуждения связан с плюрализмом, разнообразием (индивидуумов и идей, понятий), динамизмом, подвижностью людей и их опытов, а также с принципами Меры и Справедливости. Слово это, производное от глагола «диа-легомай», что значит «взаимно размышлять», — составное и предполагает нескольких или двоих (dia= duo) по крайней мере существ, вещей, понятий, чтобы и уладить, и разрешить (с помощью мысли и слова: «legomai = «говорить»), когда они сходятся — занять одно и то же место. В тех космосах, где нет густоты жизни и плотности населения (как в степях, в лесах), так что вещи и существа не вытесняют друг друга, — там нет нужды в такой изысканной логической технике, в этом инструменте, вращающемся в уме с большой скоростью, чтобы успеть координировать различия и противоположности и справедливо устанавливать меры всему и каждому. Напротив, в космосах и странах, где люди, вещи, идеи разбросаны в пространстве и времени (какова Россия, например), достаточно думать, знать и понимать все однозначно и позитивно (догматически), статически и безотносительно друг ко другу, получая понятия из традиции и обычая, имея устойчивые верования и не имея нужды в критицизме и рефлексии, в скепсисе. Но греки, в динамике их контактов, развития и изменений в одном и том же месте и в уследи-мом времени, были принуждены сомневаться, вопрошать, создавать новые идеи, замещая старые, что и делали философы: они разрушили наивные верования в телесных и подверженных страстям и порокам богов Олимпа и населили умственное пространство Эллады — а затем и всей мировой цивилизации — множеством систем и принципов, противоречащих друг другу — и тем не менее имею
93
щих свой смысл, который и надо было уметь улавливать и согласовывать с прочими.
В философии эллинов почти все возможные начала, принципы, идеи и подходы открыты, изобретены и выражены: идеализм (Платон, Плотин), атомизм и материализм (Демокрит), диалектика (Гераклит, Сократ), монизм (Парменид, Зенон), плюрализм (Эмпедокл), релятивизм (софисты)... Все возможные элементы, стихии избирались в качестве субстанции всего, на роль «материа прима»: Вода (Фалес), Воздух (Анаксимен), Огонь (Гераклит), Земля (Ферекид). Затем — имматериальные субстанции: Алейрон (Анаксимандр) = Беспредельное, Бесконечное, то, что без Меры, что есть ужасное, Хаос, и что, по закону контраста, свидетельствует о понятии Меры как домашнем, уютном для эллинов, интимно родном. Еще из имматериальных субстанций: Число и Гармония (Пифагор), Нус (Разум) — у Анаксагора, Логос — у Гераклита... А из принципов в этике: аскетизм (Пифагор), благоразумие (Сократ), гедонизм (Эпикур), стоицизм (Зенон, Эпиктет), цинизм — у Диогена, кто, по преданию, жил в бочке, но был высоко чтим, и когда Александр подошел к нему для философского разговора и консультации о смысле жизни, тот посмел дерзко ему сказать: «Отойди! Ты мне заслоняешь солнце!»
У греческих мыслителей был уникальный талант: гармонизовать Единство и Множество, Единое и Разнообразие, Дух и Материю. Категория Прекрасного была реализована в искусстве и эстетике греков, в отличие от категории Возвышенного, которая характеристична уже для искусства христианской цивилизации, где Идея, Дух начинают поборать и порабощать Материю, плоть и тело.
В античных эллинских статуях налицо гармония между индивидуальным характером и всеобщим идеалом. Зевс, Аполлон, Афродита, Артемида, Афина, Дионис, Геракл... — каждый узнает их сразу, их личности, но все они, как и статуи героев и смертных, носят в себе и реализуют тот же самый канон красоты, который нейтрализует характерные черты и аномалии, что получат эстетическое право на выражение уже в римском скульптурном портрете.
Некая легкая меланхолия, однако, выглядывает из лиц греческих статуй: словно они несколько подавлены принципом Меры, предустановленным пределом, границами свободы... Они дают свое согласие сему, как справедливо
94
му, но это ограничивает личность, «я», творчество, свободу, дерзание и усилие... И это уже свойство «Фаустианской души» (в терминах Шпенглера) человека Нового времени: преступать через пределы и принцип Меры, врожденный в «Аполлоновой душе» грека, — в усилии к абсолютной свободе и в воле к осуществлению своего «я», личности.
Что же до греческого Логоса, то наиболее ценный вклад эллинского ума в философию мировую, помимо диалектики, — их способность выражать свои идеи и понятия в философских МИФАХ, символах, образах... Миф есть такая форма человеческой мысли, которая способна постигать Бесконечное Бытие, Универсум нашими малыми конечными средствами и силами, примерами, — не впадая при этом в ту «дурную бесконечность» обоснований одного другим, предыдущим, куда проваливается рассудочная мысль в цепи своих последовательных выкладок причинно-следственных... А миф самоопорен: сразу хватает быка за рога, цепляет кусок Истины и самодержится в Познании. Миф есть, с одной стороны, — рассказ, сказочка, чудесная история, которую можно бабушке рассказывать ребенку на сон грядущий, а с другой стороны — в нем философическое видение, прозрение, подход к самым мистериальным глубинам Бытия, к Абсолюту. Ибо, подобно богам Олимпа, которые нисходят на землю, окутанные облаком, чтобы не слепить зрение смертных, так и Абсолют является в притчах и мифах в некоем «кенозисе» = самоумалении, как и Бог в облике своего Сына, Иисуса, который тоже притчами глаголал и объяснял это апостолам тем, что они пока — как дети, кого надо питать молоком и разжеванной пищей, а когда возрастут во Духе, тогда им можно будет напрямую вещать тайны царствия небесного. Пока же, в силу малости и ограниченности, их души и умы не имеют пространства воспринять, вместить и содержать-усвоить высшую Истину.
В «Бхагавадгите», философской книге индийского эпоса «Махабхарата», есть песнь, где герою Арджуне дается откровение-явление «тысячеликой формы» Брахмо (Абсолюта). И это оказывается невыносимо очам и психике смертного, так что лишь с помощью своего колесничего, в котором бог Кришна воплотился, смог Арджуна взглянуть на Брахмо и не сгинуть. Те бесконечные множества существ, уровней и понятий, что мы можем воспринять по частям, в последовательности, перебором одно за другим и то с великим напряжением ума, — в таком откровении даются
95
в одновременности! Представьте дирижера симфонического оркестра, кто должен сразу слышать 100 инструментов, умножьте это... — и трудность такого восприятия может представиться вам. Кстати, Моцарт говорил, что он слышит сочиняемую симфонию (которая есть последовательность развития и звучания во времени) сразу, как художник видит картину. Но это — способность гения...
Итак, перед человеческим умом парадоксальная задача: как совместить конгруэнтно (как выражаются в геометрии при наложении фигур друг на друга) Бытие — и «я»? В решении этой задачи философы изощряют свой гений и создают ту роскошную ткань многих систем и методов, что нам являет история человеческой Мысли.
Особенно Платон был несравненен в изобретении философских мифов. Вообще-то нет более мощного средства сразу уловить и передать сущность Бытия, философское видение мира, нежели через миф. Идея дается тут не в абстрактной форме некоего схоластического рассуждения, но как живой рассказ с широким, символическим значением. Мифы Платона аналогичны античным статуям. Миф есть идея-статуя. Кстати, слово «идея» происходит от индоевропейского корня (v)id, который означает «вид», «видение».
Миф о ПЕЩЕРЕ в Седьмой книге «Государства» — быть может, самый известный и характерный для Платонова метода представлять свои идеи. «Вообрази себе людей как бы в подземном пещерном жилище, которое имеет открытый сверху и длинный во всю пещеру вход для света. Пусть люди живут в ней с детства, скованные по ногам и по шее так, чтобы, пребывая здесь, могли видеть только то, что находится пред ними, а поворачивать голову вокруг от уз не могли. Пусть свет доходит до них от огня, горящего далеко вверху и позади них, а между огнем и узниками на высоте пусть идет дорога, против которой вообрази стену, построенную наподобие ширм, какие ставят фокусники пред зрителями (какая мизансцена сложная с декорациями вымышляется! И не диво: Платон ведь был и поэт, автор трагедий, и хорег — их постановщик, «режиссер». — Г.Г.), когда из-за них показывают свои фокусы. — Воображаю, — сказал он. — Смотри же: мимо этой стены люди несут выставляющиеся над стеною разные сосуды, статуи и фигуры, то человеческие, то животные (вот: животный символизм, не растительный — характерен для эллинов. — Г.Г.), то каменные, то деревянные, сделанные различным образом, и что будто бы одни из проносящих издают зву-
96
ки, а другие молчат. — Странный начертываешь ты образ и странных узников, — сказал он. — Похожих на нас, — промолвил я. Разве ты думаешь, что эти узники на первый раз как в себе, так и один в другом видели что-нибудь иное, а не тени, падавшие от огня на находящуюся перед ними пещеру? — Как же иначе, — сказал он, — если они принуждены во всю жизнь оставаться с неподвижными-то головами? — А предметы проносимые — не то же ли самое? — Что же иное? — Итак, если они в состоянии будут разговаривать друг с другом, не думаешь ли, что им будет представляться, будто, называя видимое ими, они называют проносимое? — Необходимо. — Но что, если бы в этой темнице прямо против них откликалось и эхо (вспомните эллинский миф о нимфе Эхо! — Г.Г.), как скоро кто из проходящих издавал бы звуки, к иному ли чему, думаешь, относили бы они эту звуки, а не к проходящей тени? — Клянусь Зевсом, не к иному, — сказал он. — Да и истиною-то, — примолвил я, — эти люди будут почитать, без сомнения, не что иное, как тени. — Весьма необходимо, — сказал он. — Наблюдай же, продолжал я: пусть бы, при такой их природе, приходилось им быть разрешенными от уз и получить исцеление от бессмысленности, какова бы она ни была; пусть кого-нибудь из них развязали, вдруг принудили встать, поворачивать шею, ходить и смотреть вверх на свет: делая все это, не почувствовал ли бы он боли и от блеска не ощутил ли бы бессилия взирать на то, чего прежде видел тени? И что, думаешь, сказал бы он, если бы кто стал ему говорить, что тогда он видел пустяки, а теперь, повернувшись ближе к сущему и более действительному, созерцает правильнее?..» И далее: если бы кто из них поднялся вверх и побыл в свете и увидел истинное, а потом вернулся бы вниз в пещеру и стал бы им рассказывать о том, что видел, «не возбудил ли бы он в них смеха и не сказали бы они, что, побывав наверху, он возвратился с поврежденными глазами и что поэтому не следует даже пытаться восходить вверх?..» (Государство, 514 А — 517 D).
Прекрасно и впечатляюще тут дана экспозиция идеалистической философии, согласно которой мир и предметы, факты и понятия, среди которых мы живем, суть не что иное, как тени истинных сущностей, которые существуют в чистом свете вверху и могут быть восприняты нами в форме «идей» = Видей!... Эту же самую философскую проблему выразит позднее Кант в различении ноумена («мыслимого») и феномена («явленного»).
4 Гачев Г. Д.
97
Но есть именно греческий акцент в мифологеме Платона. Греки = горцы знакомы с пещерами. И диалог между Пещерой и Светом в открытом пространстве — это диалог между Небом и Подземным миром, между богами Олимпа — богами поколения Зевса, чья субстанция есть огонь и свет, — и поколением их отцов и матерей, титанов. Битва между ними описана в «Теогонии» Гесиода: там боги-олимпийцы под предводительством Зевса с помощью перунов огня выжгли сыро-земный Хаос, в каком обитали еще мокрые, хтонические титаны, и образовали Космос, установив всему меру и зазоры пустот между существами и вещами. Титанов же сбросили в Тартар, где они обитают наподобие узников Платоновой «пещеры». Однако они унесли с собой некое знание о Бытии, которое не может принципиально быть воспринятым при свете (подобно тому, как некоторые растения и химические соединения разлагаются, теряют свою сущность, свою истину на свету). Это сокровенное знание сообщается земным смертным как некое эзотерическое ведение — «Веды» — оракулами и пи-фиями-сивиллами-ведуньями-вещуньями, «ведьмами», кто обитают в пещерах в испарениях недр. Это — сакральное, хтоническое (= подземное) знание Матери-и Природы, Земли, ее души, внутри которой Аид и Персефона обитают, передавалось также в мистериях — Элевсинских, Дельфийских, орфических, в дионисиях («вакханалиях» — в Риме). Это массовые празднестава, хоровые, разгульные — обычно приуроченные к весеннему возрождению Природы, Жизни. Если оракул — обращен к личности и давал персональное знание, то мистерии — хорово-общественные акты научения, образования и воспитания. Но они принципиально нощны: сам термин «мистерия» = «таинство». И туда допускались не все, но «посвященные» — особенно в мистерии орфиков, последователей Орфея, интеллектуалов, пифагорейцев. Хотя точнее бы тут говорить не «по-свящ-енные», а «при-ТЕМ-ненные»... Это сокровенное знание влекло и философов, и поэтов. Орфей, Одиссей — посещали царство мертвых, приникали к его испарениям и духам-подсказам. И сам Платон был инициирован в орфические мистерии. Впоследствии Ницше обозначил эти два начала в бытии и два типа знания — как Апол-лоновское и Дионисийское. Первое — рациональное, световое; второе — иррациональное, мистическое... Первое — закон, космос, порядок; второе начало — стихийная жизненная сила Эроса, Природы... И т.п.
98
Другой вариант картины греческого Космоса дан Платоном в диалоге «Федон»:
«...Во-первых, если Земля кругла и находится посреди неба (я подчеркиваю основные идеи греческого миросозерцания. — Г,Г.), она не нуждается ни в воздухе, ни в иной какой-либо подобной силе, которая удерживала бы ее от падения, — для этого достаточно однородности неба повсюду и собственного равновесия Земли. (Вот почему шарообразная форма рассматривается как совершенная. Подчеркнутые термины — варианты принципа Меры, Гармонии. — Г.Г.).., Далее я уверился, что Земля очень велика и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых Столпов (так греки именовали Гибралтарский пролив. — Г.Г.), занимаем лишь малую ее частицу; мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или ля1ушки (у Аристофана комедия «Лягушки» есть. — Г.Г.) вокруг болота, и многие другие народы живут во многих иных местах, сходных с нашими. Да, ибо повсюду по Земле есть множество впадин (как пещеры! — Г.Г.), различных по виду и по величине, куда стеклись вода, туман и воздух. Но сама Земля покоится чистая в чистом небе со звездами — большинство рассуждающих об этом обычно называют это небо эфиром. Осадки с него стекают постоянно во впадины Земли в виде тумана, воды и воздуха.
А мы, обитающие в ее впадинах, об этом и не догадываемся, но думаем, будто живем на самой поверхности Земли, все равно, как если бы кто, обитая на дне моря, воображал, будто живет на поверхности (начинается философская притча-миф, подобная Пещере в диалоге «Государство». — Г.Г.), и, видя сквозь воду Солнце и звезды, море считал бы небом (подобно теням от предметов в мифе о Пещере. — Г.Г.). Из-за медлительности своей и слабости он никогда бы не достиг поверхности, никогда бы не вынырнул и не поднял голову над водой, чтобы увидеть, насколько чище и прекраснее здесь, у нас, чем в его краях, и даже не услыхал бы об этом ни от кого другого, кто бы это видел.
В таком же точно положении находимся и мы: мы живем в одной из земных впадин, а думаем, будто находимся на поверхности, и воздух зовем небом в уверенности, что в этом небе движутся звезды... Но если бы кто-нибудь все-таки добрался до края или же сделался крылатым и взлетел ввысь, то, словно рыбы здесь, у нас, которые высовывают головы из моря и видят этот наш мир, так же и он, под
99
4*
нявши голову, увидел бы тамошний мир. И если бы по природе своей он был способен вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную Землю» (Федон, 108 е — 109 е).
Принцип Пропорции работает в этих платоновых видениях и уравнениях. А именно: если люди на Земле подобны муравьям и лягушкам вокруг болота или вообще жителям впадины на дне моря, то наше «небо» из воздуха подобно плотности их воды. И следовательно: истинное небо — эфир так относится к нашему «небу» людей, как наше «небо»
людей относится к воде = «небу» рыб. Так что
вода _ воздух
воздух эфир
Еще более разработанную систему пропорций можно встретить в диалоге Платона «Тимей», где рассматривается творение мира богом-демиургом. Из двух вариантов возникновения мира и всего — генезис или творение — Греция начинала с первого («Теогония» Гесиода, VIII в. до н.э.), но в процессе развития греческая мысль стала склоняться ко второму, так что у них, в общем, гармония между обоими вариантами. Философы V в. н.э. и среди них пифагореец Тимей, да и сам Платон, были чутки к учениям, приходившим к ним из Египта, а оттуда шло и учение о переселении душ (метемпсихоз), а из Иудеи рядом — учение о Творении мира Богом.
«Рассмотрим же, — начинает излагать гипотезу Творения Тимей, — по какой причине устроил возникновение и эту Вселенную тот, кто их устроил. Он был благ... Он пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому... Он привел их из беспорядка в порядок, полагая, что второе, безусловно, лучше первого... Он устроил ум /г, ум душа
в душе, адушу в тел. (Вот пропорция: —-— = —— — душа тело Г.Г.)... Следует признать, что наш космос есть живое существо».
Взгляд на Вселенную как на живое существо («совершенное животное» — так определяется наш Космос в другом месте) — такое воззрение на мир именуется «гилозоизм» — от греческих корней: «гюле» (= материя, а буквально «лес», «древесина») и «дзоо» («=жизнь). Так что «гилозоизм» — это представление материи — живою, одушевленною, а мир, Вселенная понимается как организм — не механизм, как это естественно представлять в индустри
100
альном обществе, в цивилизации нового времени, только «ургийной».
«Итак, — продолжает Тимей, — телесным, а потому видимым и осязаемым — вот каким надлежало быть (вот эллинский априоризм в подходе к пониманию всякого бытия: в нем должна быть форма — скульптурность, а также — телесность, и все — видимо, то есть быть «в-идеей» в свете. — Г.Г.) тому, что рождалось. (Видите: то «создал», то «рождалось» — чересполосно и «ургия», и «гония» идут. — Г.Г.), Однако видимым ничто не может стать без участия огня, а осязаемым — без чего-то твердого, твердым же ничто не может стать без земли. По этой причине бог, приступая к составлению тела (вот! — Г. Г.) Вселенной, сотворил его из огня и земли. (Здесь можно усмотреть эхо иудейской концепции Творения мира Богом, изложенной в книге «Бытие», согласно которой Бог отделил Небо от Земли и создал Свет. Тогда эта концепция была эзотерическим учением для греков, но Платон был посвящен в него. — Г.Г.) Однако два члена сами по себе не могут быть хорошо сопряжены без третьего (тут важнейший в Эллинстве принцип — медиации, посредства, «среднего термина»! Такова структура, составленная из двух противоположностей и среднего, «третейского» звена между ними, — как бы врожденная в греческом Логосе, и она априори усматривается во всем. — Г.Г.), ибо необходимо, чтобы между одним и другим родилась некая объединяющая их связь. Прекраснейшая же из связей такая, которая в наибольшей степени единит себя и связуемое, и задачу эту наилучшим образом выполняет пропорция...
...Телу Вселенной надлежало стать... трехмерным, а трехмерные предметы никогда не сопрягаются через один средний член, но всегда через два. Поэтому бог поместил между огнем и землей воду и воздух, после чего установил между ними возможно более точные соотношения, дабы воздух относился к воде, как огонь к воздуху, и вода относилась к земле, как воздух к воде. (Значит, такие выходят пропор-ции: лоздух = огонь. вода_ воздух _ ГГ) Такон вода воздух земля вода
сопряг их, построяя из них небо, видимое и осязаемое.
На таких основаниях и из таких составных частей числом четырех родилось тело космоса, стройное благодаря пропорции, и благодаря этому в нем возникла дружба, так
101
что разрушить его самотождественность не может никто, кроме лишь того, кто сам его сплотил» («Тимей», 29е — 32 с).
Итак, мы рассмотрели Космо-Психо-Логос античной Греции. Нынешняя Греция — это особый национально-исторический организм, но я его не знаю и ничего о нем сказать не могу.
ИТАЛИЯ
Когда принимаешься описывать Итальянский образ мира, сразу возникает вопрос: а как быть с Римом, с Римской цивилизацией? Должно ли их совместить в одном национальном образе мира или смотреть на них как на самостоятельные образы мира?
Оба подхода возможны. Италия, конечно, — новое образование, одна из наций новой Европы, Западной цивилизации Нового времени, христианской эры. Италия адекватна в этом отношении таким новым странам-нациям, как Англия, Франция, Германия, которые не имели такой славной традиции в прошлом, как Италия. Но она-то — имела! Это наследие славного прошлого — Рима и Римской империи — и было, и сейчас видно повсюду. И оно — и гордость, и главный элемент новой цивилизации на той же самой почве. Природа, Космос — не изменились: те же самые Везувий и Этна — сии вулканы, разверзтые пасти действующего Ада — все так же дышат и приносят время от времени катастрофы, как это было и в дни Плиния Младшего в I веке нашей эры.
Конечно, это потребует от нашей мысли большего обобщающего усилия: объединить цивилизацию Древнего Рима и Италии нового времени в некий общий образ мира. Я попытаюсь это сделать; однако это будет естественно — потом различить их, дифференцировать.
Без сомнения, это постоянная рана в душе итальянцев — прежнее величие, что взирает из римских развалин на каждое новое поколение людей с немым вопросом и упреком: а достойны ли вы своих славных предков? С точки зрения обширности территории и славы империи — нет, не достойны, не сравнимы. Но итальянцы новой Европы сумели развить большое разнообразие микроцивилизаций и центров культуры: Флоренция, Милан, Венеция, Генуя, Пиза, Сиена, Парма, Феррара, Болонья, Неаполь... Эти «города-государства» (как и «полисы» в античной Гре
102
ции) — результат интенсивного развития в сфере качества жизни и культуры — то, чего недоставало Риму (имеется в виду — на почве Италии, ибо в Римской империи было великое разнообразие культур в провинциях: Греция, Египет, Иудея, Сирия...).
Может быть, мне лучше начать с того, что проследить римские черты в Итальянской цивилизации христианской эры. Когда она зарождалась на стыке Средневековья и Ренессанса, Данте определенно идентифицировал себя с традицией Рима: недаром взял Вергилия в качестве своего чичероне, путеводителя по Вселенной.
Рим был центром Римской империи и, в сущности, всего известного в античности мира. И ныне Рим — центр католического варианта христианства, к которому относятся сотни миллионов, почти миллиард людей на планете, и так продолжает царить и влиять...
Рим породил новый тип человека: индивидуум, человек-атом, отделившийся от Целого и ведущий частную жизнь (Гораций, Марциал). И Данте среди свары гвельфов и гибеллинов во Флоренции говорил о себе: «Я сам себе партия».
Рим выработал jus romanum — римское право, чтобы защищать и координировать интересы и собственность отдельных атомов-индивидуумов, которые теперь, видя, что порядок, закон и справедливость установились снаружи, вне человека и независимо от него, — получили основание освобождаться от совести, сей внутренней справедливости, и могли позволить себе становиться развратными и преступными. Таковы стали императоры Рима (Нерон, Калигула, Тиберий...), а потом гений беспринципности в новой Италии — Цезарь Борджиа, описанный в трактате Маккиавелли «Государь» (Il Principe).Но тот же самый тип безудержной личности — в пресловутых «титанах Возрождения» — в этих кондотьерах, каковы Сфорца в Милане... И в художниках, как, например, чеканщик и скульптор Бенвенуто Челлини, который (как это он сам поведал в «Жизни Бенвенуто Челлини, описанной им самим»), не останавливался перед вероломством и убийством. И он рассказывает про эти свои деяния с таким простодушием, наивностью и без зазрения совести, как если бы таковые входили в общепринятую норму жизни... Тут приходят на ум также мафия (ma fia = «моя вера») и «коза ностра (= «наше дело»), что именно из Италии распространились по всему миру и в Америке получили наименование «гангстеров».
103
Я связываю это именно с юридическим сознанием, которое вынесло нравственность вовне человека — в право, во внешние установления гражданского законодательства, предав индивидуума своему индивидуализму антиобщественному.
Юридический подход к Бытию очевиден и в «Божественной комедии» Данте: он сам совершает Страшный суд грешникам в песне «Ад» и выносит очень детализованные приговоры и наказания, проявляя при этом чуть ли не казуистику законника.
Римская жестокость, садизм, с каким граждане «Вечного города» созерцали сражения гладиаторов в цирке Колизея, их кровь и смерти, а также истязания первых христиан, кого бросали на съедение львам, — не проступают ли они у Данте в тех пространных описаниях мук, каким подвергают грешников в разных кругах Ада? Данте Алигьери, сей поэт с вдохновенным воображением, явил себя и как мелочный судья с казуистическим умом рационалиста. А строя три царства загробного мира: Ад, Чистилище и Рай, — он обнаруживает математико-геометрический талант, расчисляя педантично пространственные меры разным кругам, мостам, стенам, озерам...
Подобный же синтез присущ и Леонардо да Винчи, кто сочетал художественный гений с изобретательностью в технике и математике. Огромные соборы с куполами, как небосводами, построенные великими архитекторами Италии: Браманте, Брунелески, Микеланджело... в частности, собор Св. Петра в Риме, было бы невозможно созидать без точного инженерно-математического расчета.
И вообще: Рим и Италия столь же первенствуют в архитектуре, как Греция — в скульптуре. И это тоже выдает разность их национальных образов мира. Человек мог быть «мерой всех вещей» (Протагор) в греческом космосе малых обществ на островах, в полисах = городах-государствах. Человеческое тело было способно представлять собой универсум в гармонии между Духом и Материей. Однако эта мера не могла работать в Риме и Италии. Человеческое существо в огромной империи становилось или слишком мало значащим частным индивидуумом, важным только для себя самого, или слишком великим: императором, Цезарем, сверхчеловеком, которого возвеличивали как полубога. Октавиан Август даже повелел обожествить себя.
Отсюда две тенденции проступают в искусстве Рима. Первая — монументализм архитектурных сооружений, об-104
служивавших жизнь общества, нужды pec-публики (латинское слово res publica значит буквально «дело общественное») и ее учреждения, истеблишмент: Форум, Капитолий, цирки (среди них Колизей, буквально «Колоссеум», от слова «колосс»), термы (бани), арки в честь многочисленных побед и триумфов. Вторая тенденция, характерно римская в мировом искусстве, — это скульптурный портрет. В нем не тело как целое представлялось: оно покрывалось тогой и так уводилось в незначимость, в абстракцию, — но голова (сей «капитолий» тела, от caput «капут» = «голова») и особенно лицо, которое передавало черты смертного человека во всех деталях, в его уникальности (так же, как в стихах Горация, Катулла или Марциала изображались подробности частной жизни римлянина): с безобразным носом, узкими губами, с жирной шеей... Реализм до натурализма в портретировании облика и характерности человека именно этого. Сравните с этим обобщенные гармонические головы, лица греческих скульптур, с их благородной, но нейтральной красотой.
Искусство Итальянского Ренессанса приняло эстафету как от греческой скульптуры, так и от римского портрета, но уже в ином роде искусства, а именно — в живописи. Живопись — вообще более абстрактное искусство, чем скульптура: в нем отсутствует объем, но это значит: в нем возросла степень свободы — от третьего измерения. Тенденция к абстрактному мышлению, которая прогрессировала в Риме, была таким образом продолжена в искусстве Италии: вспомним законы перспективы, разработанные здесь для живописи...
Слово «индивидуум», универсальное в Западной индивидуалистической цивилизации, — латинского происхождения: in dividuum, то есть «то, что не делится» далее. То же самое значит и греческое слово «а-том» = «не делимое». Но в греческом мышлении это слово не применялось к человеку, а только к природе, к материи. И только в Риме эта идея: «далее не делимое» — была применена к человеческому существу. Это значит, что индивидуум понимался как последняя часть, частица социума, империи. Но это относилось — сей предел — лишь к гражданам Рима. И можно себе представить, как облизывали себе губы римляне в предвкушении разъятия человеческих тел, сидя в Колизее и созерцая бои гладиаторов (кого набирали из пленников, рабов...). Divide et impera! = «Разделяй и (таким образом) властвуй!» — это был девиз римских императоров в их во
105
енной политике, их стратегия в завоевании стран и народов. Но таков же принцип и рационального мышления, формальной логики, анализа: при этом всякая органическая живая целостность расчленяется на части, они рассматриваются по отдельности (в о-пре-дел-ениях), а затем собираются уже в новое, умственное целое — в синтезе. И недаром именно латинский язык стал универсальным языком для философии и науки при становлении западноевропейской цивилизации: он наиболее подходящ для абстрактного мышления и формальной логики — так же, как английский язык естественно выдвинулся как универсальный язык для обслуживания «ургийной», технической цивилизации индустриального общества, где уже даже не о-пыт (он, наблюдения научного на-учения — хорошо описываются на естественных национальных языках, и они процветали в науке «доброго старого времени» — XVIII— XIX вв.), а конструирование искусственных объектов выходит на первый план.
Каков же космос Рима-Италии на языке четырех стихий? Гений камня обитает на Апеннинском полуострове. Стихия «земли» в Италии — это не аморфная «мать сыра земля» (т.е. «водо-земля»), как в России, расползающаяся вширь плавнями рек по равнине, но жесткий камень Апеннинского хребта. Камень! Это хранитель формы! Вечность! (Недаром Рим именуется «Вечный город».) Определенность! В итальянской живописи — четкие очертания, а не расплывающиеся пятна, как во французской дымчатой акварели (от лат. aqua = «вода»). В итальянской музыке звук берется четко и упруго — в marcato, staccato, и слово произносится в четкой дикции — не то, как в плавном русском распеве, где звук, гласный тянется безразмерно, как и простор тут «бесконечный». Нет, в Риме-Италии принцип предела, определения суверенен. Недаром бог Термин — один из важнейших в Римской мифологии — от слова terminus = «граница», «предел». Так что принцип четкой границы обожествлен здесь.
Как принцип Меры, пропорции, гармонии в Элладе, — на тех же правах в ментальности Рима-Италии Термин. И недаром в науке нового времени первым делом устанавливают термины для каждого явления: как бы границы действия понятий, словоупотребления. И на конференциях ученые могут до бесконечности спорить и договариваться о терминах, их смысле и значениях — так же, как политики на международных конференциях — о гра
106
ницах стран. Тоже принцип «разделяй и властвуй!» — работает и там и сям.
Для нашей цели — характеристики национальной ментальности — полезно сопоставить греческую и римскую мифологии. Те же самые божества имеют в Риме иные имена: Зевс = Юпитер, Гера = Юнона, Афродита = Венера, Деметра = Церера, Арес = Марс, Артемида = Диана, Дионис = Вакх, Гефест = Вулкан и т.д. Однако тут нет своих мифов — историй о богах. Мифами обильна Греция, и оттуда они заимствованы и Римом. Римская душа и ум бедно-ваты воображением, слишком земны и конкретны — без испарений фантазии, в отличие от Греции, где земля так причудливо и орнаментально изрезана, выгравирована морем; в отличие и от Англии, где туман, влаговоздух, «фог» и «смог» («отец сырой воз-дух», так сказать, как у нас «мать сыра земля»), и ветер наполняют души мужчин и женщин призраками, духами (как у Шекспира — в «Сне в летнюю ночь», например, или в «Гамлете» — призрак отца...). Ничего подобного в Риме-Италии. Почва Италии камениста, полуостров Апеннин — монолит без фантастической изрезанности берегов. Он лапидарен — подобно латинскому языку, который пословичен в «лаконичности» — в 'суровой густоте и точности выражения, без излишних словечек и частиц, которыми так обилен греческий язык — модальными (эмоциональными) «энклитиками» и «проклитиками». Хотя сам термин «лаконизм» — от Лаконики, где государство Спарта возникло, чей дух и весь стиль жизни отличался строгостью, суровостью и дисциплиной, а речи — немногословием, в отличие от богатых и изнеженных Афин, где и в словесности люди изобильны и избыточны...
Между прочим, термин «лапидарность» — от латинского lapis-lapidis, что означает именно «камень». Так что можно сказать, что латинский язык как бы выгравирован из камня, высечен. Как колонны, арки и купола...
Камень, как ипостась стихии «земли», благоприятствует принципу формы, идее строгого порядка: «ордер» и «орден» оттуда... Строгий порядок соблюдался в римских военных формированиях: «легионы», «когорты», «манипулы», «центурии»... — так же, как и в формулировках законов в римском праве, отчего и говорится: dura lex, sed lex = «суров закон, но — закон». Он тоже dura = «жесткий», как и камень. Кстати, именно латинский язык оказался наиболее продуктивен для формулировки афоризмов, сентен
107
ций, правил, изречений, максим, «крылатых выражений», которые вошли в мировой Логос и цитируются образованными людьми именно по латыни.
В Италии была выработана такая жесткая форма в поэзии, как сонет, — жанр, в котором неотменная структура из 14 строк с совершенно определенным порядком рифм. Величайшим мастером сонета был Петрарка (XIV век), чье имя, кстати, восходит к греческому корню petra, что означает как раз «камень». И папа римский мыслится как наследник, держатель престола св. апостола Петра, о котором сам Христос сказал: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). И главный собор в Риме посвящен Святому Камню = Святому Петру.
Терцины «Божественной комедии» Данте — эта триад-ная комбинация рифм через стих (oscura — dura — ранга...), которою вся текстура поэмы перевязана, — это арки и своды, что связуют строки — колонны стихов внутри этого монументального собора, даже города, с различными кругами-площадями, мостами, стенами, этажами... Подобное архитектурное видение мира наблюдается и в концепции современного итальянского физика Ферми относительно строения вещества. Он представил структуру атома и его ядра — как состоящих из различных уровней (этажей) энергетических состояний частиц.
И интересная деталь: кто из больших русских поэтов смог понять Данте наиболее адекватно? Мандельштам, кто написал книгу «Разговор о Данте» и чья первая книга стихов была озаглавлена «Камень». Вот — сродство душ и стихий...
Гуляя по улицам итальянских городов, поражаешься отсутствию деревьев: лишь только камень и камень — во Флоренции, Венеции, Пизе, Сиене... Деревья, парки находятся вне городов: они не суть граждане, кому добро пожаловать, — в отличие от городов центральной и северной Европы, России, Америки... Принцип Растения тут уступает в ценности Животному. Волчица выкормила Ромула и Рема, братьев-близнецов, основателей Рима. И Данте в первой же книге своей поэмы описывает, как встретил в темном лесу страстей трех символических зверей...
«Божественная комедия» начинается с характерного противоположения: selva oscura (темный лес) и diritta via (прямая дорога). Последняя напоминает via romana = «римский путь», что связывал все части, провинции империи и со делывал мир столь рациональным и управляемым для римлян.
108
Лес, что так почитается в космосах северных стран (Россия, Германия, Англия...) как волшебная мистерия, полная чудес и, в общем, дружелюбен он к человеку, — здесь, в Италии, ощущается как нечто совершенно чуждое и лишь опасное. Лес есть ересь в космосе камня и сияющей пустоты неба, спускающегося на землю, не имея препятствия в деревьях. И если вы вглядитесь в пейзажи художников Итальянского Возрождения, то удивитесь, как условны и безжизненны там деревья в сравнении с живописанием человеческого тела! Когда припомнишь пейзажи живописцев из северной Европы: Рюисдаль, Тернер, Шишкин и Левитан, — испытываешь стыд за Рафаэля и Леонардо, у кого образы природы — на дальнем плане, как условный фон...
Лазурь, полусфера небосвода объемлет камень Апеннин. Камень и сияние — вот главные элементы, составляющие Итальянский Космос. Что же до стихии воды, то она сослана на периферию Италии, как персона нон грата (подобно тому, как Овидия сослали из Рима к цыганам в Молдавию), к морю, которое не играет значительной роли в итальянской жизни, в занятиях итальянцев и в Итальянском образе мира, — в отличие от Греции и Англии, где море, вода, моряки — в первостепенной ценности. В римских акведуках (aqua + ducere = буквально «проводник воды», ее вождь, «дуче») мистерия стихии воды упрятана в камень, который более роден, понятен здесь... Можно, правда, возразить против такого истолкования: акведук означает, напротив, великое уважение к воде как к чему-то редкому и ценному здесь! Да, прагматически, функционально — это так: для быта и будничной жизни, но не идеологически, как стихия воды существенна в Греции.
В Греческом образе мира принцип медиации, посредства играет ведущую роль. В логике Аристотеля «средний термин силлогизма» связывал две разделенные идеи и был основным инструментом, рычагом развития мысли, работы мышления. И демиург, создатель мира в «Тимее» Платона, поместил стихии воды и воздуха между крайними — землей и огнем и соотнес их в равных пропорциях («Тимей», 32в).
Космос Рима-Италии имеет словно вакуум, пустоту между полярными стихиями: землей и огнем (в ипостаси света, не жара). Стихия воз-духа в такой же вторичное™ здесь, как и стихия воды: к нему лишь прагматическое отношение, особенно в городах, которые страдают от смрадного воздуха и от эпидемий холеры и чумы. Однако это не
109
итальянцы, а русский поэт Тютчев поднял эту ситуацию до идеологемы МаГапа (в стихотворении одноименном), объясняя эту порчу жизни действием Злого Духа, заимствуя эту идею у русского чувства этой стихии, где в слове «воз-дух» содержится идея Духа.
Святой Дух сопряжен в русском чувстве со стихией воздуха. Подобно этому и в Германии (Geist), и в Англии, где Ветер (Wind) возвышенная стихия (Ариэль — ангел воздуха и света в «Буре» Шекспира), и вообще Бог как Святой Дух вдохновляющ. В Итальянском чувстве Бога напротив: Святой Дух — самая бедная из ипостасей Троицы и не имеет столь богатых ассоциаций в душе и в уме, как Бог-Отец, Бог-Сын и Богоматерь — Ма-донна («моя госпожа» буквально).
Принцип filioque («из из Сына) оказался такой первостепенной важности для вселенской церкви Рима, что он выступил как оселок, на котором раскололись в христианстве два исповедания: католицизм и православие. В Символе веры Римской католической церкви утверждается, что Святой Дух «исходит и из Отца, и из Сына». И это означает усиление удельного веса Бога-Сына в составе Троицы — в сравнении с православным Символом веры, в котором утверждается, что Святой Дух «исходит из Отца» только. Но ведь Бог-Сын — это Богочеловек; таким образом принцип filioque поднимает престиж человеческого существа. «Человек» по латыни homo, от humus = земля, почва, пыль. И это означает, что стихия «земли» тут возрастает в важности за счет «небес», где Отец... Почитание Мадонны, которая есть обожествленный образ Матери-Природы, дает дополнительное подтверждение этой шкалы ценностей. Однако образ Мадонны не содержит в себе такого мистического ореола, как это в византийской или русской Богородице, не говоря о восточных культах Великой Матери: Кибелы, Астарты, Исиды... — или как даже во Франции с ее Notre-Dame de Paris, или в Польше с ее Маткой Бозкой Ченстоховской... Итальянская мадонна приземлена и упрощена, как mamma mia, домашняя...
Так же и почитание смертного человека в должности ПАПЫ имеет определенное целостное сродство с почитанием, обоготворением человека в гуманизма Итальянского Возрождения.
Таким образом возвышение «земли» и снижение «неба», света ведет к тому, что они как бы придвигаются вплотную друг ко другу, лицезрят взаимно и не имеют нужды в по
110
среднических стихиях «воды» и «воз-духа». Тела в Итальянском Космосе прямо в сияющей пустоте пребывают. Галилей производил опыты со свободным падением тел с высоты Пизанской башни, пренебрегая сопротивлением и плотностью воздуха. Нет пресловутого horror vacui = «страха пустоты» в итальянском мироощущении, который, напротив, преследовал мысль Декарта в его концепции Вселенной. Ну да: французский ум не может обходиться без некоей milieu, «Среды». Подобно и в Греции гностики видели Бытие — как некую «Плирому» = «полноту».
Но здесь, в Италии, Пустота — приемлемая идея. Итальянский физик Торричелли проделывал в XVII веке остроумные опыты по измерению давления Неба (воздуха) на Землю. Поднявшись на гору, он обнаружил, что давление в его трубке уменьшилось, и там образовался некий вакуум, что по его имени и был назван «Торричеллиевой пустотой».
Когда Рим победил Грецию военным образом, последняя победила Рим своею культурой, и началось мощное влияние Эллинской цивилизации на римлян. Среди открывшихся им многоразличных систем греческой философии римские мыслители могли выбирать что угодно. И каков же был их выбор? Их сухая душа не испытала симпатии к платоновскому возвышенному идеализму духовного Эроса. Не привлек их и принцип Единого, Целостности Бытия. Но Тит Лукреций Кар, единственный латинский философ большого стиля, автор поэмы-трактата «О природе вещей», был последователем «атомистов»: Демокрита и Эпикура с их концепцией мира как состоящего из атомов и пустоты, без промежуточных посредников.
Атом в обширной пустоте — да это же теоретическая проекция положения индивидуума в пространной империи Римской без того, чтобы нечто малое и теплое окружало его — будь то род или клан, или малый социум-община, каковы были греческие полисы = города-государства, или феоды средневековой Европы. Понятно отсюда, что подобный отдельный индивид-атом принимает в этике Эпикуров принцип carpe diem = «лови день, мгновение», наслаждайся мигом быстротекущей жизни. В одах и посланиях Горация много наставлений и рекомендаций такого рода. Вот ода «К Левконое»:
Не расспрашивай ты, — ведать грешно, — и мне и тебе какой, Левконоя, пошлют боги конец, и вавилонские
111
Числа ты не пытай. Лучше терпеть, что бы ни ждало нас, Дал Юпитер в удел много ль вам зим иль ту последнюю, Что в скалистых брегах ныне разит море Тирренское
Бурей. Будь же мудра, вина цеди. Долгой надежды нить Кратким сроком урежь. Мы говорим, время ж завистное Мчится: день ты лови, меньше всего веря грядущему.
(Пер. С.Шервинского)
Скоротечность индивидуальной жизни переживалась с особенной остротой в Риме — этом «Вечном городе». Вот почему категория Времени, будучи в контрасте к Вечности, ощущалась римлянами, как и итальянцами, — словно напрямую стуком сердца. И если Гораций отсекал себя от Будущего: не надо рассчитывать человеку на него, — то Марциал не полагается даже на Настоящее:
Завтра намерен ты жить, и твердишь только «завтра» да «завтра».
«Завтра»-то это, скажи, Постум, когда же придет?
«Завтра» твое далеко ль? Где оно? Где искать его нужно?
Скрыто ль у парфов оно, или в Армении где?
«Завтра» твое — уж старо: то Приама иль Нестора годы.
Ну, а какой же ценой «завтра» такое купить?
Жизнь твоя завтра... О, нет! И сегодня для жизни уж поздно. Постум, кто прожил вчера, тот лишь один и мудрец!
(Пер. Н.Шатерникова)
Этот радикализм Марциала в сравнении с Горацием напоминает мне о подобном ходе мысли в Греции. Если Гераклит утверждал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, то его последователь Кратил полагал, что и один раз невозможно войти в одну и ту же реку, потому что вода в реке меняется в то время, как входящий входит в нее.
Другой большой римский философ Сенека воспринял стоицизм — иной вариант моральной философии, сосредоточенной на индивидууме и его благе, как и эпикуреизм. Для обоих не существует уровня высоких идей и идеалов, которые могли бы вдохновить личность к Эросу и экстазу — выходу из себя в любви к чему-то Высшему, будь то Бог, Логос, Истина, Благо..., но приемлется скучный материалистический взгляд: что я есть только то, что я есмь вместе и внутри этого тела, и после смерти — ничто. Так что единственная нравственная цель и ценность, к которой стоит стремиться, — это самоуважение, а высшая
112
задача — уйти из жизни с достоинством, чему пример явил сам Сенека...
Так ситуация: атом и пустота, сочетание, в котором Итальянский образ мира представал применительно к физической Вселенной, — здесь проступает, как этот принцип работает в общественной жизни, в психологии, в этике.
Подобное же видение Бытия сказывается и в механике Галилео Галилея. Я уже говорил выше о его опытах с падением тела с Пизанской башни, когда он вычислил «ускорение свободного падения» равным 9,8 метров в секунду. И это было кинематической манифестацией силы притяжения центра Земли (Данте в видении своей «Божественной комедии» посетил этот центр Земли за несколько веков до этого и созерцал там Люцифера). При этом он игнорировал — Галилей — силу трения, сопротивления воздуха. Эллин Аристотель тоже задумывался над аналогичной проблемой применительно и к телам, плавающим в воде (как и Архимед), — и его ум склонен был полагать, что скорость падения и погружения зависит от формы: плоское, сферическое или заостренное тела падают будто бы с разной скоростью. И естественно было так полагать во влажно-воздушном космосе Греции, где стихии-посредники (вода, воздух) — образуют упругую среду и властное посредство Меры меж крайностями. Галилей же в сухом космосе Италии мог иметь почти чистый вакуум и там установить, что скорость ускорения свободного падения тел не зависит от их формы.
Талант абстракции от окружения, от Среды характеристичен для итальянской ментальности. Именно в Италии математик XVIII века Маскерони мог додуматься до новой системы геометрии, где построения осуществлялись лишь с помощью циркуля — без линейки. То есть остроумно находились искомые точки в пустоте листа, и не было надобности связывать их линиями. Тоже атом и пустота — та же парадигма работает в шагании ножек циркуля. А классическая геометрия грека Эвклида осуществляла построения своих фигур с помощью и циркуля (то есть модель Сферо-са), и линейки, что как диа-метр связует отстояния...
Когда я сказал о «шагании» ножек циркуля у Маскерони, я вспомнил, что латинский термин для «пространства» — spatium от глагола spatior, что как раз и значит «шагать» (ср. немецкое spazieren). И в обоих космосах — итальянском и германском — Пространство мыслится не континуумом, а дискретным.
113
Четко очерчены рельефы и грани всего в Италии — в том числе и в характерах людей, и в их страстях в жизни, и в их описаниях в литературе, искусствах. Тут нет интереса к психологическому копанию в неясных чувствах, дымчатых ощущениях, нюансах неопределенных, как в более туманно-северных: Германии, Франции. То-то Стендаль в погоне за сильными характерами и страстями устремился в Италию («Пармская обитель», «Ванина Ванини» и проч.) и любил здесь жить. Тут четки этажи и уровни, и шкалы ценностей. Сам термин «шкала» — оттуда пошел: scala = лестница, и знаменитая опера «Ла Скала» носит это архетипическое имя.
В итальянской комедии дель арте — несколько масок-персонажей (commedia del arte и переводится иначе как «комедия масок»): веселый Арлекин, меланхоличный Пьеро, плутовка Коломбина, печальная Мальвина, бравый Капитан, старый ученый дурак Доктор... И, как в шахматах, бесчисленные игры разыгрываются спонтанно, импровизируются с этим набором фигур.
В вокальной музыке шкала-лестница голосов тоже терминологически оформилась в Италии: сопрано, меццо-сопрано, тенор, альт, контральто, бас. И это не случайно, что «баритон» — этот смешанный мужской голос, несколько неопределенный, переходный от — тенора к басу, вошел в классификацию вокала не из итальянского, а от греческого корня barys, что означает «низкий», «тяжелый», откуда и «бар-ометр».
Артикуляция звуков в фонетике итальянского языка наиболее чистая: все гласные и согласные здесь — как на своих классических местах, а не сползают куда-то вбок под влиянием штормовых влажных ветров исторического развития, как эти процессы шли и идут в более северных германских странах, где латинские по происхождению слова будто простудились и стали произноситься хриплым голосом.
Даже рот человека здесь имеет ясную романскую архитектуру, в отличие от готической германской или барочной английской архитектуры ротовой полости. Вот почему итальянский язык есть «избранный язык» (как есть «избранный народ») для вокальной, оперной музыки всех стран, и германец Моцарт писал свои оперы на итальянские либретто (тоже итальянский термин). То же самое и латинский язык, в силу его отчетливости и рациональности, был «избранным» языком для юриспруденции, медицины, философии...
114
Итак, Итальянский Космо-Психо-Логос в разных областях жизни и культуры обнаруживает эту структуру: индивидуум в пустоте, камень в сиянии. Сила каменной гравитации действует тут даже на небо, которое притягивается землей и нисходит, спускается на нее по своей благодати — в форме купола на итальянские храмы. Италия — космос нисходящей вертикали в отличие от Германии, которая — космос восходящей вертикали: сравните готический шпиль с куполом.
Для итальянского языка характерны нисходящие дифтонги: ua (quarto), ia (via), ие (questo), тогда как для немецкого — дифтонги восходящие: auf, aus, ein.
Даже буквы латинского алфавита словно так прижаты к земле силой гравитации, что им пришлось защищать свою вертикаль чем-то вроде плоского пьедестала, как у колонны: n, т. Фигура I 1 арки характерна для итальянства, и
она работает здесь и в построении букв. Арка, как полусфера на двух колоннах, может быть принята как эмблема итальянской модели мира — подобно шару-кругу для греческой и фигуры дома — для германской моделей.
Даже течение жизни человека, согласно суждению, изложенному Данте в трактате Convivo («Пир»), может быть представлено в форме арки: жизнь достигает своего пика в возрасте около 35 лет. По этому следу филологи ученые определили год, когда явилось Данте видение, описанное им в «Божественной комедии». Это случилось Nel mezzo del cammin di nostra vita (Посередине дороги нашей жизни) — первый стих его поэмы. Данте родился в 1265 году, следовательно, это произошло примерно в 1300 году.
Гёте, кто был почитатель Италии (см. его «Путешествие по Италии», «Торквато Тассо», «Песнь Миньоны» и др.), сделал однажды любопытное замечание: икры женских ног на картинах живописцев Итальянского Ренессанса несколько чуть более нормы тяжеловаты, массивны... Космос нисходящей вертикали дает объяснение и этой детали.
И в музыке тип итальянского мелоса — это «вершина-источник» (как это именуют в музыковедении): когда мелодия начинается со своей высшей точки и затем нисходит волнами, арками. Вспомните неаполитанскую тарантеллу, Санта Лючия, Арию Чио-Чио-сан и т.п.
115
Домашняя жизнь итальянцев, благодаря сухому и солнечному климату, протекает большей частью в открытую, на виду: все соседи вовлекаются в семейную жизнь и скандалы и ссоры обитателе!) своей улицы (см. фильмы неореализма), невозможны уединение и тайна, и то, что англичане называют privacy —' «приватная, частная жизнь человека», интимная, куда никто не сует свой нос. Нет, итальянцы суют свои носы во все дела своих домашних, ближних и соседей...
Карнавал — самый любимый народный праздник в Италии: все люди высыпают на улицы, площади, и община может созерцать себя, всех своих членов. Рождество божественного младенца — излюбленный праздник северных, германских народов. Он протекает в интимной домашней обстановке, освящает свой очаг. Он обогревает внутреннюю жизнь каждой семьи, благословляет ее интимность, privacy.
ГЕРМАНИЯ
Попробую эскизно наметить Германский образ мира, или, применяя их термин, — Weltanschauung. Во-первых, каков тут Космос, Природа и какие идеи и ценности они подсказывают стране и народу на их бытие в истории и культуре? В сравнении с Элладой Германия — континентальная, большей частью, страна и имеет мало отношения к морю (хотя на севере, на берегах Балтийского моря, образовался знаменитый Ганзейский союз портовых городов: Гамбург, Любек, Бремен...). Но немцы — не моряки, в отличие от греков и англичан. И стихия ВОДЫ мало весома здесь среди четырех элементов. Но на уровне Психеи она многозначаща: «душа» по-немецки — Seele = «водяная», буквально «морская». И это проливает свет на ту сентиментальность, что характерна для немецкой души. И даже фашистский солдат, произведя с механическою душою экзекуцию над женщинами и детьми, мог прослезиться при виде канарейки в клетке.
Континент, стихия ЗЕМЛИ — вот что преобладает в космосе Германии. Однако Эрда, богиня Земли, мало ска-зательна в древней германской мифологии. Зато Локи, чей элемент — ОГОНЬ, играет там выдающуюся роль, в том числе и в сказаниях о Нибелунгах. Это активный, хитрый бог, который, благодаря своей негативной и деструктивной функции, стимулирует активность прочих, иначе инертных, элементов и божеств. Вот он уже — тот «дух отрицанья и
116
сомненья», в любви к которому признавался и христианский Бог в «Прологе на небесах» гётевского «Фауста». В разных вариантах и ипостасях он сопровождает шествие Германского духа в истории и в культуре. Люцифер изображен как прекраснейшее из созданий Бога, его гордость, ослепительный в своей красоте, соперник Сына, — в книге «Аврора, или Утренняя заря в восхождении» Якова Бёме, философа-мистика XVII столетия. Что важно, он — не университетский, а народный мыслитель (сапожник по профессии), как впоследствии, кстати, и Людвиг Фейербах (в Германии такого рода умы устремлялись в философию, тогда как в Англии — плодить религиозные секты, как Джон Бэньян, автор тоже народной книги «Путь Паломника»),
И Мартин Лютер чувствовал дьявола столь близким и постоянно активно действующим в своей внутренней жизни существом, что однажды запустил чернильницей в темный угол комнаты, где, как ему показалось, он скрывался. Ну а уж у Гёте в «Фаусте» Мефистофель выступает как такой симпатяга: остроумный и иронический искуситель сонного германского Михеля, который иначе бы препровождал жизнь в самодовольстве и ограниченности, без усилия, повинуясь сильной гравитации низа Земли, услаждаясь шнапсом и пивом. (Очами Ницше, ненавидевшего Михеля, обрисовал я его образ тут.)
«Частица силы я, желавшей вечно зла, творившей лишь благое» — так представляется Мефистофель Фаусту при первом появлении. И далее:
Я отрицаю все — и в этом суть моя.
Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, Годна вся эта дрянь, что на земле живет, Не лучше ль было б им уж вовсе не родиться! Короче, все, что злом ваш брат зовет, — Стремленье разрушать, дела и мысли злые, Вот это все — моя стихия.
Идея ТВОРЧЕСКОГО ЗЛА нигде так не развита, как в германской мысли. И сам Бог благословляет дух отрицанья на его искусительную деятельность среди человеков:
Слаб человек: покорствуя уделу. Он рад искать покоя, — потому Дам беспокойного я спутника ему: Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу!
(Пер. Н. А.Холодковского)
117
И вот германский вариант разрешения проблемы ТЕОДИЦЕИ — т.е. оправдания Бога за наличие, допущение Зла в мире. Оно нужно — как подстрекатель к деятельности, труду, к УРГИИ, — чтобы мог Фауст, переводя Евангелие от Иоанна, заменить «В начале было Слово» — на «В начале было Дело» (Im Anfang war die Tat). Другой вид Зла — Нужда, как стимул к труду. И в «Кольце Нибелунга» Вагнера меч Зигфрида поименован «Нотунг» — от Not = «нужда». Но тут прозрачен также и индоевропейский корень — «нет», опять же принцип отрицания, негации — как начало Бытия: из Ничто — Нечто. Й у германских мистиков (Мейстер Экхарт, да и Шеллинг...) Ничто, Небытие — как неточная глубина в Бытии и в Боге продумывается...
Да, это интересный поворот в решении проблемы Теодицеи — и отличен от рассуждений на эту тему как в романско-католическом, так и греко-российско-православном регионах. Там подходят созерцательно, статически: взвешивают пропорции Добра и Зла, умствуют над безвинно страдающими («слезинка младенца» в провокаторских на отмщение рассуждениях Ивана Карамазова) — и не приходит в голову поставить проблему динамически, как вот это сделал протестантский германский гений УРГИИ, Труда, преобразующего и Богом сотворенный мир. «Протест» — тоже, кстати, вариант отрицанья и сомненья, «творческого зла»...
Введя принцип движения, развития в философию, Гегель смог преодолеть кантовы антиномии, которые не переступаемы (трансцендентны) в его статическом построении. И орудием развития служит творящая ОТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ, противоречие, понятое не как беда разуму и бытию, но как агент-автор созидания: Widerspruch, der fuhrt = «противоречие — ведет», а не стоит на месте, как кантово противостояние и взаимная неисповедимость трансцендентного и трансцендентального, что глядят друг на друга — как Gegen-stand = «противо-стой», как стены дома, не сдвигаясь с места, мычат и не телятся. Гегель сделал антиномию — противоречием, то есть заставил ее работать над собой, а не созерцать лишь свои непреодолимости и мелочно кантово окантовывать их и высчитывать. Он сделал антиномию субстанцией-субъектом и агентом своего собственного преодоления, переступания. У Канта — запрет на переступание. У Гегеля — все переступает, транс-цендирует, и орган этого — двойное отрицание, ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ. Ну а модель сего — земляной огонь
118
РАСТЕНИЯ. Ведь как постоянно и популярно объяснял Гегель свою «триаду»? Образом растения. Зерно = тезис. Умирает зерно — рождается стебель-пламень, медленно воздвигающийся к небу. Это — первое отрицание, антитезис. Заканчивается (умирает) рост стебля — и образуется колос, в котором снова зерно, но сторицею. И это — отрицание отрицания, синтезис, поскольку это есть повторение зерна, начала, но на более высоком уровне развития. Понятие осуществило свой цикл, совершенство, энтелехия — налицо.
Однако, противопоставляя Канта и Гегеля, не забываю, что оба — гении германского Логоса (правда, Кант — с шотландской, англосаксонской примесью; недаром Юма впитал и разделение разумов, как разделение властей в Англии1, — установил...), и Кант задал те темы, расставил сюжеты, которые заработают в динамике всей германской классической философии (Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр...). Его — посев, их — жатва. Да, пожалуй, многоурожайная — из века в век...
Превосхождение меры, границ Природы и Бога — отличает германский Дух (их огненный — Geist) от греческого принципа Меры, Гармонии, Прекрасного. Освальд Шпенглер различил их как Фаустову и Аполлонову души. Для Фаустовой характерна эстетика Безмерного, Возвышенного (вместо категории «прекрасного»), в ней действует огонь-жар беспокойства (а не свет созерцания, как в Элладе средиземноморской), порыв и стремление (Streben, Drang). И это важнейшие идеи в германстве и ценности. Вон у Гёте:
Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange 1st sich des rechten Weges wohl bewusst — Хороший человек и в своем смутном стремленье вполне осознает прямой (правильный) путь.
Так аттестует Фауста сам Господь.
А ну-ка переведем «смутное стремленье» на язык четырех стихий: «Стремленье» = огонь, «смутное» = темное, материя = земля. Получается — ОГНЕ-ЗЕМЛЯ. А Растение — есть «огне-земля» тоже, только распределенная во Времени, как процесс.
1В самом деле: теоретический разум = власть законодательная, практический = исполнительная, способность суждения - судебная.
119
Стремление к превосхождению пределов — динамиче-ский дух германства и объясняет его склонность к бунту, протесту, атеизму. Мартин Лютер — отец протестантизма, который был, в частности, и национальным, германским отрицанием итальянского Космо-Психо-Логоса в лице романо-католического варианта христианства. Ницше мечтал о Сверхчеловеке, о превосхождении меры человека: «Человек должен быть преодолен», и «Если Бог существует, то как я могу вытерпеть не быть Богом?»
И в то же время немцы пресловуты своим механическим повиновением приказам любой власти — в том числе и ужасной власти фашистов в нашем веке: законопослушны и ей были в массе. Как объяснить таковое противоречие?
Русские путешественники по Германии удивлялись, глядя, как немцы стоят перед красным сигналом светофора, хотя никаких машин даже и вдали не видно. Русские пересекают улицы, немцы же стоят. У немца — а приори уважение к ФОРМЕ закона — а не просто к его конкретному смыслу и применению в данной ситуации. Вполне Кантов врожденный механизм: уважение к форме закона — как самоуважение. Русский же в данной ситуации рассуждает более субстанциально и экзистенциально: принимая во внимание само дело и его материю — и не понимая, не видя «дела» и «материи» — в установлениях Социума и Разума Целого; не выработана еще у нас традиция таковая, не взошла в плоть и кровь и автоматику поведения и реакций...
Попытаюсь объяснить это противоречие на моем языке 4-х стихий. Стремление, восстание, превосхождение мер — это действие стихии огня, которая побуждает душу восходить в высь, в Hohe. Инерция же, статика — производятся гравитацией земли, которая притягивает континентальную, материковую германскую душу с равной силой в глубь (Tiefe). Немец распялен между этими двумя полюсами вертикали Бытия. Глубины Земли также завораживающе влекут этот народ горняков, металлургов, химиков: таинство превращений земли-стихии силой огня-жара неудержимо влекло и средневековых .алхимиков тут и медиков. (Парацельс, Фауст — маги и чернокнижники, в сотрудничестве с дьяволом не случайно подозревавшиеся, ибо в неудержимом любознании своем и душу готовы были погубить, чтоб утолить интеллект и проникнуть в тайны Матери-и Природы и ее мужа — Бога-Отца). И мифические «нибелунги» — не только от «неба» и туманов (Nebel) «Германии туманной» испарения, — но и гномы они, божества,
120
связанные с подземьем. А как воспет труд горняков в романтической повести Новалиса «Генрих фон Офтердинген»! Горный мастер предстает как мудрец, доверенный фундаментальных (именно) тайн и истин Бытия, знающий язык Матери-и Земли, подлинно Muttersprache — материнский. А спуск по штольням и штрекам в пещеры и кладовые недр — изображен как мистический путь познания мироздания в его основах.
Итак, противотяготения между двумя равно мощными вертикальными ориентациями: в Высь (in die Hohe) и в Глубь (in die Tiefe) может дать объяснение этому противоречию между духом протеста, стремлением к превосхождению мер — и уважением к порядку, мистическим чувством формы, этим тяжелым педантизмом (от лат. pes-pedis — нога, тоже низ), неподвижностью, трудной строгиваемостью на внешние движения: ведь германец таким образом имеет поприще этих тяготений и своих усилий — в своем Innere, внутри себя, в напряжениях души. Innere (внутреннее) есть Tiefe (глубина) в Geist (духе). И германцы разработали для всего человечества этот регион Бытия: жизнь в Духе и Переживании, в интеллекте и чувстве. Германская философия и германская музыка несравненны... Причем не вокальная музыка, как в Италии (где этот «гонийный» вид музыки развит), но инструментальная = «ургийная» — вот что усовершенствовано в Германии: орган, клавир, фортепьяно, симфонический оркестр — как звучание самого Бытия, Космоса, минуя плоть человека и его натуру и ее меры, ограниченности природные.
Здесь мы подходим к проблеме: «гония» — «ургия». Немцы прославлены в народах как мастера: немец просто органически не может работать плохо. Труд осуществляет синтез между двумя главными тут элементами: земля и огонь. Индустрия = огнеземля. Форма, структура — это земля, прошедшая горнило огня. Бытие начинает мыслиться как ми-роЗДАНИЕ. Дом, Haus — универсальная модель для всего в германской ментальности. Всякое существо и вещь понимаются как структура. Структурализм в науках имеет свое происхождение в «Критиках» Канта. Как он сам объясняет свой замысел: он приступает закладывать ФУНДАМЕНТ для здания будущей возможной метафизики, подводит ОСНОВАНИЕ ей. И Хайдеггер писал про ДОМ Бытия. И Карл Маркс, родившийся в Германии, чья мысль двигалась в традиции немецкой классической философии, представлял общество как структуру, состоящую из «базиса» и «надстройки».
121
Известна в науке гипотеза Канта-Лапласа об образовании и устройстве Вселенной. Но аргументация мыслителей — вполне прослеживается в руслах национальных образов мира. Кант возжигается на мысль так: нестерпимо, что у нас, в доме Солнечной системы, такой стройный порядок, а во Вселенной — хаос. И следует порядок и устройство Haus распространить, проецировать на хаос Вселенной. Лаплас же, француз, разнообразие и разнодвиже-ние небесных тел выводит из разных климатов и температур жидкой Среды. Важно всегда разобраться, к чему апеллирует мыслитель, как к непосредственно ясному. Для Канта главным работником при вычленении небесных тел из туманностей является сила ОТТАЛКИВАНИЯ частиц (не притяжения, которая — Эрос, Любовь, позитивная сила), т.е. вариант отрицательности, силы «зла». Да и Маркс провозгласил классовую ненависть движущей силой истории обществ.
И в симфонической музыке РАЗРАБОТКИ (Durch-fiihrungen = «сквозные проведения») есть как раз труд «противоречия, которое ведет», по Гегелю. Именно диссонанс, что преступает гармонию и статику тоники, позволяет развернуть борьбу противоположных мотивов, стремлений, сил во внутреннейшем нашей души и явить ее в грандиозных сооружениях германского симфонизма, которые воочию, а точнее, воУШИю демонстрируют Werden = Становление, процессность Бытия. Например, главная тема «Героической симфонии» Бетховена начинается как решительные шаги по ступеням тонического трезвучия в Es-dur — и вдруг эта маршеобразная устойчивость сползает вниз двумя хроматическими полутонами, потом скачет вверх, образуя интервалы уменьшенной квинты и септимы, диссонанс ужасный, кричащее (именно!) противоречие; а на нем настаивается, его повторяют — и так разверзается пропасть, проблемность, которую теперь одолевать, и разрешить сей диссонанс удастся лишь на огромном музыкальном пространстве, развивая в разработке технику высшего пилотажа. А самый острый диссонанс в музыке — «тритон» (увеличенная кварта или уменьшенная квинта) в средневековой традиции именовался diabolus in musica = «дьявол в музыке» — и не без оснований... Творческое зло — опять же.
В Космо-Психо-Логосе Германства из осей пространственных вертикальное измерение преобладает над горизонтальным. Причем это вертикаль, восходящая из Глуби (Tiefe) в Высь (Hohe). Об этом свидетельствует восходя
122
щий, большей частью, тип мелодики (особенно в разработках) — в отличие от нисходящих, арочных секвенций итальянского мелоса, а особенно — архитектура: кирхи готические со шпилями, которые словно стремятся проткнуть небо — и выражать могут и высокое усилие к свету, но также и атеистическое усилие человека, в его гордой ВОЛЕ К ВЛАСТИ, стать Сверхчеловеком. Сопоставьте с этим Итальянский космос нисходящей вертикали, что очевидно в тамошних соборах, куполах, арках. Они нисходят как благодать-милость. А их формы напоминают женственную обтекаемость и даже вагину, тогда как готические шпили торчат фаллосами.
Мужской акцент германского мироощущения выражается и в том, что родина здесь именуется Vaterland («отцова земля»), а их главная река — Vater-Rhein (Отец-Рейн). Однако тут же на ум приходит опровергающее понятие Muttersprache — «материнский язык» — так родной язык обозначается, «гонийно». А «Фауст» Гёте заканчивается гимном Вечной Женственности: Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan, «Вечно-Женское влечет нас туда ввысь», а не просто «к себе». И это очень важный оборот в Логосе. В других космо-психо-логосах женская субстанция акцентирована как материальная, мать-земля, здесь же, где Muttersprache, — спиритуальная субстанция понимается матерински, как родина внутренней жизни души. Германский Логос огромно влияется своей сыновностью к матери-языку (а не матери-земле). Немецкие философы испытывают постоянное влечение медитировать над корнями слов и открывают там как бы подсказы от самого Бытия, слова «Основы в Боге» (термин Шеллинга). И Мейстер Экхарт, и Лютер, и Яков Бёме, и Гегель, и Хайдеггер — все имеют «влеченье-род недуга» к философской этимологии. И язык их щедро при этом одаривает.
И надо сказать, что эта способность немецкого языка — уникальна среди прочих западноевропейских современных языков, потому что лишь в нем архаические готические корни прозрачны, слышимы и современному слуху. Этого нельзя сказать о французском языке, где латинские корни радикально сменили звучность, и их маточные значения, первородные, неузнаваемы. Еще далее прочь от прародства и гонийности ушел английский язык. Там куча мала и каша, и смесь готических и романских корней в словах, да еще претерпевших сильнейшее фонетическое преобразование в тамошнем промозглом влаговоздушном космосе, где от
123
ветров океана все звуки перекошены и завихрились, лающее и воющее обрели пройзношение. И английскому философу не может и прийти в голову идея подвергнуть корни родного языка медитации, с целью извлечения сверхсмыслов новых и научения прямо от Бытия. Английские философы занимают ум комбинациями понятий и терминов, как уже готовыми продуктами, беря их как таковые, факты уже, не видя смысла в толковании их происхождения и пуповинной связи с Бытием. Это же: проникать в слова, буравить их корни — привилегия мыслителей на первоязыках или близких к ним: на саскрите, латыни, греческом, немецком, русском, на семитских... Евреи-талмудисты массу смыслов так извлекают. Вот и немецкие философы — фавориты духовной субстанции языка, который не сух или только функционально-инструментален, но природоподобен, живородящ. Вот почему великие оригинальные философы могли рождаться в Германии, как они рождались в Греции. И, в общем, они — чада «гонии», хотя могли исповедовать «ургию» (как Аристотель — Форму, как Кант...). Женского начала они исчадия — философы, как правило, маменькины сынки. Недаром к мистериям недр тяготели и Пифагор (еще и к Ночи), и Платон, и Сократ — к Диотиме-пифии. Умозрение, созерцание — это же нега, и ее могут себе позволить нежащиеся — на лоне, а не суетливые и беспокойные трудяги и борцы. И Плотин до 8 лет сиську сосал...
Но если в Греции — животный символизм преобладает, то в Германии — растительный. Дерево здесь модель, равномощная Дому, — и такая же всеорганизующая и собирающая все под себя. Генеалогическое древо языков (Stamm-baum) предложили миру германские лингвисты (Вильгельм фон Гумбольдт) и устремились искать его корни в прошлом человечества. А лес здесь — учитель музыки, родитель симфонического оркестра: деревянные инструменты в их разнообразии, голоса птиц и «Шелест леса» — идиллия в «Зигфриде» Вагнера...
Растительный символизм проявляется в буквах готического алфавита: вглядитесь — они ж древовидны и стеблевидны! Здесь нет прямых линий, кругов и полукружий, как в латинском алфавите Римской империи с ее прямыми дорогами (via romana) и как в романской архитектуре колонн и куполов-арок. Действительно: п — арка, m — две арки, р — прямая и круг и т.д. А готическая буква — ветвится изгибами растущего стебля. В латинских буквах под
124
колоннами вертикалей еще и маленькие пьедесталы внизу, словно они уплощены под тяжестью опустившегося купола неба. Или — как животные ступни (в Италии также животный символизм преобладает, как в Элладе, — вспомним Волчицу Ромула и Рема и зверей в первой песне «Ада»). Готическая ж буква — как пламешек снизу вверх, и у нее корень внизу, да и цветок может быть наверху... Во всяком случае ее динамика — восходящая вертикаль. Как, кстати, и дифтонги немецкого языка: auf, aus, ein — они восходящие, тогда как итальянские — нисходящие: ua, ia, ие...
Итак, в сюжете «ургия»—«гония» применительно к Гер-манству я начал за упокой «гонии» и во здравие «ургии», однако прихожу к их взаимопереплетенности. Ургия тут естественно вырастает над и из Гонии, перехватывает ее импульс и продолжает ее в своих формах, и на нее же обратно воздействует. Даже слово Baum = «дерево» означает одновременно и нечто «построенное» — от глагола bauen = «строить». И «крестьянин» по-немецки — Bauer, т.е. как бы конструктор на земле. Так что и «дерево» — тоже «здание». Оба символа гениально совмещены Вагнером в декорации первого акта «Валькирии»: там изображена хижина (Haus) Зигмунда и Зиглинды, а посреди нее — ствол ясеня Игдразилль, что есть германо-скандинавский вариант Мирового Древа.
Слово немецкого языка — домоподобно: как Haus — гласный, закрытый стенами согласных: Gans, Fritz, Wolfgang, Traum, Ver-stand. Слово составлено из закрытых слогов. Напротив, слово итальянского языка в теплом и сухом космосе юга — из открытых слогов: primavera, lupo, Verdi, marcato, legato...
Открытости жизни и нравов, и жилищ (колоннады, портики) — все на свету и на виду — соответствуют и открытые слоги слов. В северном же климате люди скрытны, закрывают двери в свою внутреннюю жизнь, где сосредоточиваются, как у своего очага; они более формальны в отношениях, сдерживают эмоции и прячут их, как душу за стенами тела, — подобно тому, как они оберегают гласный, окутывая его согласными.
Душу прячут, а вот конструкцию — выпячивают, потому что — Ургия! Ее тут бхакгы, адепты и фавориты. Как ощутимы узлы конструкции в готическом соборе: стрель-чатость, сцепления и замки сводов — как мышцы работающие! — и как все это упрятано в романской архитектуре: каким-то чудом все связано и держится; ургия тут — как
125
бы слегка постыдна (как художнику и поэту, Горацию — стыдно признаваться, сколько потов с него сошло и свеч, и сала пошло на труд). А всмотритесь в простой бюргерский дом в Германии: как там плетение косых балок прямо на фасаде выпячено, покрашено особо — и так красиво проступает остов сооружения.
Да и в музыке — тоже разность: в опере, которая жанр итальянский по преимуществу, оркестр упрятывается, спускается в «оркестровую яму» — как некий постыд, и лишь певцы красуются на сцене как герои музыки. А германский ургийный гений посадил оркестр на сцену — и мы смотрим, как работают инструменталисты в исполнении симфонии, концерта. Вагнер высмеивал роль оркестра в итальянских операх, который подобен большой гитаре. То ли дело — у них, где сам космос звучит — лесом! А в Италии космос голого камня — не звучит сам по себе, и лишь человеки — голосисты.
Однако Дом как модель я тоже упростил, как и сюжет «гония»—«ургия» в начале. В Германстве не просто Дом (Haus), но оппозиция Дом-Пространство (Haus — Raum) работает. Как у Фихте в философии Бытие поделено на «Я» и «He-Я», субъект — объект. И это — резко.
Вся душевность сосредоточена в «Я», в Haus и Innere, а то, что вне, снаружи, остается голым, чистым, абстрактным, безжизенным. И вот почему: сказали немцу, что вон за пределами твоего дома и расы все прочее — «Не-Я» = не люди, не имеют души, — и как закрылись двери субъективности у немца, человека и солдата, — и не слышит стонов убиваемых механически, как бьет неорганическую природу: в ней тоже не предполагается субъективности, так что не к чему и сочувствие...
Сюжет Haus — Raum — расслышим даже в германском слове для «почему?». Warum? — это Was шп?, т.е. «что вокруг?». Мир поделен на Haus «что» и Raum «округи».
Кстати, Warum?, Почему? — главный вопрос в Германстве: в нем устремленность разума к познанию причин вещей, а видят их тут — в прошлом, в происхождении. Ум немецких ученых — как под влиянием магнитного склонения, норовит зарыться в историю вопроса, в происхождение явления, которое приступает исследовать...
Поправить мне следует также и то, что сказано ранее о соотношении вертикально# и горизонтальной ориентации в Германстве. Геополитическое положение Германии — центр Европы и Северо-Запад континента Евразии. Ее при
126
звание — быть мостом между Западной Европой и Восточной Европой, где Россия, Польша, Балканы (которые уже — в сфере Австрийского варианта Германства). И Drang nach Osten = Стремление на Восток — постоянно действующий факт-op и тендения в бытии Германии. Пруссия — почти Россия (и по равнинности ландшафта тоже). И естественно шло перетекание и взаимопроникновение — и мирное, кормящее опытом и культурой (как немецкое проникновение в Россию с Петра), но и милитарное. Германия — тоже перетекание Европы в Азию, как и Россия (которая еще более эту функцию исполняет). Связь и мост между Европой и Азией — в индогерманстве, арийстве. У немцев Эрос — к Индии, Персии-Ирану, откуда арии. У Гёте — «Западно-восточный диван», а Ницше подхватывает образ Заратустры.
Это евразийское призвание делает Германию и Россию близкими и понятными друг другу и в культуре, и в типе психики — внутренне сосредоточенной, рефлектирующей. Недаром русские интеллектуалы, «любомудры» XIX века, испытывали наибольшее влияние именно германской философии (Шеллинг, Гегель) и литературы (Гёте, Шиллер). И «западники», и «славянофилы» (шеллингианцы) — из сходных родников питались. Да и марксизм к нам пришел из Германии.
Однако этот Drang nach Osten, горизонтальное «стремление на Восток», Эрос к «жизненному пространству», Lebensraum, уравновешены в Германии глубоко вкорененной вертикалью Haus’a, — Дома. Космос Германства составлен из огромного разнообразия больших и малых микрокосмосов государств, культур и традиций: Австрия, Бавария, Саксония, Пруссия, Померания, Швабия, Тюрингия, Рур, Рейнланд. У всех у них «лица необщье выраженье». И цветущий период германской культуры — это XVIII век, когда страна была раздроблена на десятки и сотни королевств и герцогств. Их культурное разнообразие напоминает и об эллинских городах-государствах, и об Италии в эпоху Возрождения, когда Тоскана, Ломбардия, Феррара, Неаполь, Венеция, Рим, Генуя, Болонья — все были седалищами и очагами уникального творчества. Объединение Германии, осуществленное Бисмарком во второй половине XIX века, не содействовало расцвету культуры. Германия становилась великой силой, но мудра пословица: «сила есть — ума не надо»... И история Германии в XX веке подтверждает ее, как и история России в советскую эпоху...
127
Между прочим, германцы в войнах чаще всего прибегали к тактике прорыва, осуществляя его через воинский строй «клин» или «свинья» (как тевтонские «псы-рыцари» на Чудском озере), что есть фаллический образ и акт проткнутая. А русские побеждали тактикой «котел», «мешок», заманивая в засаду, тактикой охвата и флангового удара, что есть «вагинальная» работа, которая и естественна для Матери-России, которая использует свои огромные пространства, чтобы рассеять и поглотить агрессора...
Германский национальный флаг состоит из трех горизонтальных полос (= этажей Дома), причем верхняя — черная, означает стихию земли, средняя — красная, означает кровь, человека, который — посредник между землей и небом, а нижняя — золотая = солнце, огонь. Парадоксальный, противоестественный порядок! Вся гамма цветов соответствует «огне-земле». Обогненная земля — это индустрия: сырье земли пропускается в труде через огонь и обретает форму. Результирующий же цвет из комбинации: чер-ное-красное-золотое — это цвет КОРИЧНЕВЫЙ, что есть цвет обожженного кирпича. Недаром и уголь в Германии — бурый, и именно «коричневорубашечники» — такой цвет одежды избрали тут рьяные националисты в XX веке.
Сюда же и юмор германский: он заднепроходен (в отличие от французского, что обыгрывает передок человека, мужчины и женщины): насчет газов и фекалий — полно и в анекдотах, да и в «Симплициссимусе» Гриммельсгаузе-на, бурлескном романе эпохи Барокко. Это приводит к предположению о «садистско-анальном» комплексе в зоне тутошнего подсознательного...
Чтобы проверить свои и выверить идеи и положения, я обратился к некоторым классическим, хрестоматийным для Германии текстам. Во-первых, знаменитый гимн Лютера Em feste Burg ist unser Gott = «Наш Бог есть крепкий город». Само это фундаментальное уравнение Бога с германским бургом, городом-крепостью, дышит моделью Haus’a. Бог есть дом домов. Он — стены нашей жизни. И мы, человек, есть Innere, внутреннее, душа внутри этого дома. И город — строится (принцип «ургии»...). Но проследим и последуем за развитием мысли Лютера: «Наш Бог есть крепкий город, Хорошая защита и оружие; Он высвобождает нас от всякой нужды (Not — ото всякого «Нет», Небытия, Ничто...), Которая бы нас теперь ни поразила».
Сразу воинственный акцент, настроение на борьбу и войну в Бытии. Душа германца ориентирована на сопромат
128
= сопротивление матери-и бытия, осиливать нечто. Она взыскует Врага, и если бы его не было, германская Психея бы его выдумала (как Бога — французская душа Вольтера...).
«Древний злой Враг Всерьез ныне мнит: Великая сила и много хитрости — Это его ужасающее вооружение И что на Земле нет ему подобного».
Вон он явился — возлюбленный враг, главный персонаж германского мира, родной и интимный. Начав с утвердительной дефиниции, что есть Бог, следующим шагом мысль делает модуляцию в противоположность — в негативную идею Врага Бога, — подобно тому как в экспозиции главной партии в сонатной форме соскальзывают из консонанса — в диссонанс. И начинается разработка образа этого персонажа — ему посвящен главный массив Лютерова гимна. Так что мощь Бога утверждается не прямо — через любовь и восторг перед Ним (как это в псалмах Давида), — но через воспевание мощи и силы того врага, которого Бог сокрушить в силах. То есть через отрицание отрицания. Такой путь глубоко врожден в германскую ментальность.
Пространство Бытия поделено: город (где Бог и мы) и поле (где полно бесов, которые грозят нас поглотить, и там Князь мира сего). И тем не менее Словечко (ein Wortlein), как нежно именует Лютер Слово Божие, способно поразить столь мощного врага. В Лютеровом гимне — мощная воля и усилие духа. Недаром Энгельс назвал его «Марсельезой Реформации».
Кстати, национальные гимны Германии в последующие времена: Wacht am Rhein («Вахта на Рейне» или «Стража на Рейне») и Deutschland, Deutschland uber alles («Германия, Германия превыше всего») — излучают архетипы опять же крепости — города, воинственности, а также — высоты, усилия-стремления в высь.
Эта позиция априорной ограды от наружного мира видится мне и в той закрытой слоговости германских слов, о которой говорилось выше: гласный (звук души и чистого духа, «я») оборонен согласными Burg, Gott, Welt, Furst, Wort, Dank, Not..., если вспоминать главные слова-персонажи этого гимна...
Хорошее представление о разности национальных кос-мосов может дать сопоставление стихотворения Гёте «Ночная песнь странника» с его возможным предшественником — элегией эллинского поэта VI в. до н.э. Алкмана.
5 Гачев Г. Д.
129
Спят в покое вершины гор и ущелья, Утесы и пропасти, Листья и все создания, питаемые темной землей, Звери лесные и пчелы, И в недрах у дна морское чудище, Спит и птиц быстрокрылое племя.
(Пер. В.Вересаева)
А вот как у Гёте:
Uber alien Gipfeln Ast Ruh’,/ In alien Wipfeln/ Spiirest du/ Kaum einen Hauch. /Die Vogelein schweigen im Walde./ Warte nur, balde / Ruhest du auch.
Это стихотворение известно в переводе Лермонтова «Горные вершины». Но он вольный, а мне важна буквальность образов, и потому переведу сам: «Поверх всех вершин гор / Покой,/ Во всех верхушках деревьев/ Чуешь ты/ Едва одно дуновение./ Птички молчат в лесу./ Подожди только, скоро/ Отдохнешь ты тоже».
Литературовед А. Горнфельд, обративший внимание на эту перекличку между Гёте и Алкманом, замечает: «Что прибавил Гёте к стихотворению древнегреческого поэта? Немногое — и все: последний стих — «подожди немного, отдохнешь и ты»...1 То есть «я» человеческое, субъективность, отнесение природы ко внутреннему миру души. Но для нашей цели важны и природные реалии, и их разность. Космос эллина Алкмана — камни и животные. Фигурны формы гор: вершины, пропасти, утесы, ущелья — детально фиксирует это глаз как важное. Также и три мира: земля, небо и море, как и три их божества соответственно заведующих: Аид, Зевс и Посейдон — существенны. И живые существа: звери, пчелы, птицы, морское чудище у дна... Для мироощущения же Гёте — космос леса с взглядом, устремленным в высь (вершины гор и верхушки дерев), там птицы и дыхание, дух. Вот что вокруг: Was urn (= Warum), каков Raum вокруг Haus’a моей (= твоей) души. И это ему — Слово Бытия, что льется внутрь, в его «я».
А вот Лермонтов переводит ощущение Гёте не только на другой язык, но и на русский космос. Во-первых, краткие стихи, как выдохи, и слова рубленые заменены про-
‘Горнфельд А. Как работали Гёте, Шиллер и Гейне. — М.: Мир, 1933.-С. 87.
130
тяжными и как бы увлажнены. Да, воз-дух тут осырен слегка («мгла»), опущен, притянут к земле, стал сыроземен, а стих более певуч и плавен.
Горные вершины /Спят во тьме ночной;
Тихие долины /Полны свежей мглой; Не пылит дорога /Не дрожат листы... Подожди немного, /Отдохнешь и ты.
Космос выполаживается: от вершин книзу — долины (не ущелья), дорога, да и «листы» — плоски, не иглы и не макушки. «Дорога» вносит русский мотив: Путь-дорога, странник; поворачивает Высь — в Даль, в это измерение Бытия: «Эх, дороги, пыль да туман...» («мгла»).
Так бы подытожил: у Гёте — Дух, огненный Geist ищет упокоения, у Лермонтова — Душа болящая, бессонная, завидует сну природы («Я б хотел забыться и заснуть». Вспомним еще и «Бессонницу» Тютчева, и «Когда для смертного умолкнет шумный день» Пушкина...). Если в германстве душа = «водяная», Seele, более увесиста и самогармонична, то на Руси она более ВОЗ-душа, ближе к стихии «воз-духа» и «света» — летуча, неприкаянна, в себе свет имеет (русский дух = СВЕТЕР: свет + ветер), и потому и в ночи видят, как «белые ночи» — зрящие бельма Северного Космоса...
И еще «все» — два раза alle — генерализация, обобщение у Гёте: Uber alien Gipfeln — как Deutschland fiber alles.
Философическая склонность Логоса парить поверх частного случая, человека и ситуации...
Баллада Гёте «Лесной царь» имеет сюжетом как бы Кан-тову антиномию двух оптик, которые непереходимы и неисповедимы друг другом. Бурной ночью всадник мчится лесом, сжимая в руках сына. Сын видит Лесного царя, слышит его речи, зовы, видит его чертоги, луга, хороводы дочерей и говорит об этом отцу — о событиях в своем внутреннем мире, в видениях души. Отец же видит другое своим материалистическим мировосприятием фактов и явлений:
— Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
— Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул;
Он в темной короне, с густой бородой.
— О нет, то белеет туман над водой.
— Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит.
— О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы.
5*
131
Вот два мира: ноуменов — и феноменов, и вместе им не сойтись. Сходятся они — лишь в смерти (по трагическому Психо-Логосу Германства, где еще прописан и Вагнер с «Тристаном и Изольдой» и др.).
Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал. Erreicht den Hof mit Muh und Not; In seinen Armen das Kind war tot.
Опять Not («нет», «нужда») и рифма при нем — tot.
И тут драма — между наружным Космосом и Психеей, внутренней жизнью души, которую мучится разрешить и согласовать германский Логос на протяжении всей истории немецкой культуры.
За душу младенца борются два отца: физический и метафизический — и последний — соблазном и насилием — берет верх:
«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой».
«Рустамов комплекс»: Отец убивает Сына, старое сильнее молодого, — что типично для Азии и России, проступает и в Германии. И тем снова сродство по евразийской сущности между Германией и Россией обнаруживается. То же и в «Кольце Нибелунга» Вагнера: гибнет юный герой Зигфрид, а старый Вотан жив, и ему еще оплакивать свою дочь — Брунгильду-валькирию. И в «Фаусте» Гёте гибнет Эвфорион, сын Фауста и Прекрасной Елены (в этом персонаже толкователи усматривают образ Байрона, погибшего в 36 лет), а Фауст продолжает свой путь, одержимый стремлением к Прекрасному мгновению, которое бы ему захотелось остановить и продлить и так выйти из рабства у Времени, в силках которого барахтается Германство — еще пуще, нежели в тенетах Пространства.
ФРАНЦИЯ
La douce France — «сладкая Франция» — так она называется еще в «Песне о Роланде», средневековом эпосе. Значит: сладкая страна, «дуся», женщина. Но не «Матушка Русь». И не old merry England — «старая веселая Англия», как бы бабушка своему народу. Ну и не Vaterland — «отцова земля», как для германцев. Но как возлюбленная и супруга.
132
Геополитическая ситуация тут — Запад континента Евразии, где он лицом к Атлантическому океану. Однако французы — не нация моряков, в отличие от англичан, их соседа на севере; также и от Испании (и Португалии), кто страны-соперники Англии по володению Новым светом Америки. Правда, в Канаде и в южных штатах США: Луизиана, Виргиния, Каролина, Новый Орлеан и др. — есть следы некогдашнего присутствия Франции; но это не случайно, что французы отказались, сдали эти территории. Франция — в высшей степени самоцентрированный, центростремительный космос и занимается преимущественно сама собой (как, кстати, и Китай на Востоке Евразии, к кому Франция испытывает своего рода избирательное сродство, как Германский дух — к Индии). В своей столице — Париже французы развили дифференцированное пространство разнообразных интересов, так что не только обитатели провинций влекутся в Париж, словно некоей центростремительной силой, но сей город претендовал и претендует быть идеологической и культурной столицей мира.
Если же бывали периоды экспансии в истории Франции, как в эпоху наполеоновских войн, то это происходило в силу внутреннего воспламенения Французской революцией, когда в стране заработал вулкан и принялся изливать свою лаву на окружающие страны. Ведь не от притяжения их магнетического (от Эроса володеть их землями и богатствами) вторгались в них французы, но от собственного избытка энергии: распираемы, а не влекомы. Не могло быть (и не было) никакого жизненного интереса у Франции к белоснежной России, чтобы зашвырнуть и туда свои легионы. Но только избыток и прилив воспламененной крови в организме страны и народа имел нужду в том, чтобы успокоиться и охладиться. Он и шибанул в головы мужей патриотическим опьянением и поклонением Императору и, словно налив им скипидару меж ягодиц, погнал их ноги в это абсолютно чуждое им, трансцендентное и ненужное пространство, где и успокоились кровяные тельца солдат французских. Так что не как практически полезная акция истории, но, скорее, как незаинтересованная и эстетическая, — затеялась война 1812 года между Францией и Россией. Но она дала толчок для ряда событий такого же плана: национально-патрический подъем в победившей России и восстание декабристов (тоже не прагматическое, а эстетическое: оно — символическая акция в Духе и в национальной мифологии России); затем Франция выст
133
релом Дантеса в солнце русской поэзии отомстила России за поражение в войне. Однако Россия снова взяла тут эстетический реванш, создав «Войну и мир», национальную «Илиаду», на материале этой же войны, необходимый каждой стране героический эпос, эпопею даже.
Кровопускание как универсальное медицинское средство не случайно было очень распространено именно во Франции — вспомним «Мнимого больного» Мольера и проч. И о Декарте традиция повествует: когда он простудился и смертельно заболел в Швеции и местный врач приступил к нему с предложением пустить кровь, философ из последних сил приподнялся на одре и воскликнул патриотически: «Не смейте проливать французскую кровь!» — подобно какому-нибудь шевалье иль мушкетеру.
Во французской истории и ментальности наблюдаемо особо интимное отношение к этому субстанциональному элементу — КРОВИ. Это первоэлемент не Бытия, но Жизни — витальной (а не абстрактной) субстанции. И «витализм» как философско-научное течение и якобы объяснение многих феноменов наиболее развился во Франции XIX века. Однако еще римский историк Тацит повествовал о жрецах древней Галлии, друидах, которые учиняли ритуальные кровавые жертвоприношения под священным дубом. И симптоматично, что женщина могла быть жрицей у галлов. Этот обычай нам донесен также оперой Беллини «Норма»: ее героиня — жрица друидов.
Кстати, Дуб (le chene) — французский вариант Мирового Древа. И поэт здесь — Андре Шенье (Chenier = «Дубовик», значит), тогда как в Германии на этих же правах выступает ель, сосна — Fichten baum в стихотворении Гейне. И философ там — Фихте (от пихты). Сравните готическую структуру Ели с романской архитектурой Дуба.
Ни в одной стране национальный гимн не столько кровожаден, как «Марсельеза»:
Contre nous de la tyrannic
L’etendard sangiant est leve
(«Против нас поднят кровавый штандарт тирании»). А враги намереваются egorger nos fils et nos compagnes = «перерезать горло нашим сыновьям и подругам». И патриоты восклицают в энтузиазме отмщения: Qu’un sang impur abbreuve nos sillons! = «Пусть нечистая кровь обагрит наши борозды!» — оплодотворит их, как спермою. Да, много в гимне крови на душу словесного населения приходится!
134
Космос сакральной Жажды — вот Франция. Здесь Пантагрюэль обитает — герой эпоса Франсуа Рабле. А имя его означает по-гречески — «Всежаждущий». А его отец, Гаргантюа, получил свое имя от возгласа удивления родителей своему только что рожденному дитяти: Que grand tu’as! = «Какую большую ты ее (глотку. — Г. Г.) имеешь!» Персонажи этой книги затеяли путешествие к Оракулу Божественной Бутылки за вопросом философическим о смысле жизни и что в ней делать. И ответ Оракула был: Drink! = «Пей!» Также некий Тринкуло подвизается там в персонажах — от того же корня, питьевого, его имя.
Анатоль Франс озаглавил свой роман из эпохи Французской революции «Les dieux ont soif» — «Боги жаждут». И действительно: тогда друидоподобные кровавые жертвоприношения осуществлялись не мистериально, таинственно, эзотерически, но публично-демократически, как национальные фестивали, на Гревской площади. И был изобретен даже ненасытный механический Рот — машина доктора Гильотена — для этой цели: глотка, про которую тоже можно было б сказать: Que grand tu’as («Какая она у тебя большая!»).
Но что есть кровь, если ее перевести на язык четырех стихий? Что это вода — сие очевидно. Но какого рода вода? Та, что смешана с огнем. Кровь есть ОГНЕ-ВОДА. Другие варианты и ипостаси обогненной воды будут — вино и семя, сперма. И Франция всемирно известна и почитаема как законодатель в этих областях и отношениях: Вино и Эрос.
Оба варианта «огневоды» (кровь и сперма) совмещены здесь маркизом де Садом («садизм»), как и Синей Бородой, легендарным аристократом средневековья, кто любил и убивал своих жен в собственном замке.
Вино, с другой стороны, выступает как метафора Знания — духовное вино, духовная жажда. И у раблезианских гигантов не только неимоверные глотки и животы, но они же — обладатели просвещенных умов, их черепа наполнены энциклопедическими знаниями.
В нашем веке долго тянулась тяжба между университетом Сорбонной и винными складами в Париже: оба претендовали на одну и ту же территорию в центре города. Рассказывают, что генерал Де Голль (gaul = «галл», древнее имя племени, обитавшего на месте нынешней Франции, — таков корень имени этого великого француза) предложил остроумное, поистине соломоново решение этого
135
казуса: отчего не построить небоскреб, расположив винные склады в нижних и подвальных этажах здания, а классы университета поместить в верхних этажах? Современная архитектура это позволяет сделать. И это было бы вполне в духе французской традиции совмещения спиритуального и спиртового: вина земного и вина небесного, что прекрасно выразил по-русски наш первейший галломан, воспитанник Шенье и Парни, — Пушкин, сказав:
...Что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом, Что ум высокий можно скрыть
Минутной шалости под легким покрывалом.
(«Каверину»)
Итак, В космосе Франции следующая композиция элементов преобладает: огонь + вода. Сравните с русской комбинацией: вода + земля («мать сыра земля»), огонь + земля в Германии, камень + свет в Италии и т.д. Французский космос центрирован на Кровь, Эрос, Женщину. Cherchez la femme! = «Ищите женщину!» — как причину всего. Снова — «douce France = «СЛАДКАЯ Франция». «Сладость» — это солнечный сок, вариант «огневоды».
В Римской империи земля нынешней Франции называлась Галлия, созвучное слово с gallina — курица. И пословичный символ здесь — «Галльский петух», этот фанфарон-задира, пастух стада кур в куртуазности своего двора, подобно набольшему Петуху — Королю Франции, пасущему гарем своих любовниц (мадам де Помпадур, де Мон-теспан, де Лавальер, де Ментенон...) при дворе тоже, где «маршалы» — на самом деле «конюхи»...
Петух — птица, интимно связанная с огнем («пустить петуха» = учинить пожар) и с солнцем: крик петуха означивает конец ночи, приход утра, восход солнца. И самый славный король Франции — Людовик XIV — был прозван «Король-солнце». И это не просто метафора, но имеет прямое отношение к структуре социума во Франции и даже к его администрации. Она устроена наподобие солнечной системы с планетами-провинциями (Нормандия, Гасконь, Шампань, Прованс...), вращающимися вокруг столицы в Париже, или в Версале (что от глагола verser = крутиться, отсюда — Versaille, центр вращения в обществе, в «свете» лучей Короля-солнца). И эта централизация совершилась во Франции уже в XV веке, в отличие от других стран Ев
136
ропы: Англии, Германии, Италии, в которых единение произошло гораздо позже, так что там Шотландия, Саксония, Тоскана... могут рассматриваться как подцивилизации со своим собственным мировоззрением. Франция же завращалась вокруг Парижа, который действительно «стоит мессы» (то есть ценнее религии: центр важнее выси Неба в топографии-иерархии мест здесь), по решению Генриха IV, кто принял католичество, чтобы воссесть в Париже и стать королем Франции на этом условии.
Между прочим, в «Трех мушкетерах» Дюма Д’Артаньян — это типичный «галльский петух», легко возбудимый, драчливый, женолюб. Он огнен, легко воспламеняющийся южанин, гасконец. Даже полная одежда мушкетера — в шляпе с пером и со шпорами — петухоподобна. Несравненная популярность этой книги по всему свету обязана, в частности, тому, что ее четыре главных персонажа четко распределимы по четырем стихиям и темпераментам. Д’Артаньян = воздух + огонь, сангвиник — «кровяной», если буквально перевести с латинского, где sangua = «кровь». И не случайно он наиболее яркий и родимый изо всех и наиболее выражает галльскую душу. Аналогичен ему потом Жюльен Сорель у Стендаля и актер Жерар Филип... Атос = огонь + земля, холерик по темпераменту. Арамис = вода 4- воздух, сентиментален, меланхолик. Портос = земля-стихия, массивен, флегматик. И все они — как планеты, вращающиеся вокруг солнца короля и луны t королевы центростремительным тяготением чести, что есть тут главная добродетель — пуще совести. Кесарево (Социум) во Франции роднее Богова: страсти общественно-политические сильнее интеллектуально-духовных идей и убеждений.
ВРАЩЕНИЕ — самый всеобщий тип движения во Французском Космосе, Социуме и Психее, и это — в согласии с первоэлементом крови в организме, в субстанции страны: кровообращение предполагает центр — сердце, средоточие и узкий круг — двор (cour), где людям подобает courir — бегать-обращаться в Версаль (verser — Versaille) и вращаться там в разговорах (conVERSAtions) и в пробежках рассуждений (disCOURses), и быть ловкими, обратимыми — versatiles. Вот уж где воистину «хочешь жить — умей вертеться!»
Все эти общекорневые соответствия — не игра слов, но соответствуют принципу французского Космо-Психо-Логоса. Рене Декарт предложил такое видение Вселенной,
137
согласно которому она состоит из множества вихрей, вращающихся вокруг своих звезд-солнц как центров.
Каждый вихрь вращается между соседними, и среди них развивается соперничество: одолеть друг друга и пленить звезду соседа — подобно тому, как рыцари состязаются на турнирах (от tourner — тоже verser = вращаться) в присутствии прекрасной дамы, что созерцает дуэль своих возлюбленных. Особенно на латыни (на которой первично был изложен Декартом его трактат о мире) выразительно звучит эта история о том, как Vortex (Вихрь) пленяет Stella (Звезду) и умыкает ее из дома соседа. Наши персонажи, так сказать, — Герцог Вортекс и прекрасная Стелла, — такая выходит романтическая история и адюльтер.
В Декартовом вихре, на центрифуге его вращения, совершается сепарация, образование разного типа частиц-элементов-корпускул-индивидуумов, личностей и их распределение и классификация. Самые большие, грубые, неуклюжие, неотесанные (= вилланы, простолюдье) получают свое естественное место на периферии вихря=со-циума. Декарт назвал их «частицами третьего элемента», который практически совпадает со стихией земли. Самые малые, тонкие, мобильные, ловкие, гибкие и остроумные (esprit!) частицы естественно собираются вокруг центра, вокруг Стеллы-звезды-солнца вихря, образуя солнце и двор. Это — частицы «первого элемента», и он соответствует стихии огня. А между периферией и центром вращаются частицы «второго элемента», которые образуют «небо» каждого вихря и соответствуют элементам воды и воздуха. Такая структура Космоса близка к Платоновой в «Тимее», где элементы-стихии воздуха и воды рассматривались как посредники («средний термин силлогизма» у Аристотеля припомним...) между крайними стихиями огня и земли.
138
Три элемента Декартовой физики абсолютно подобны трем сословиям французского общества: третье сословие — буржуазия, второе — духовенство и первое — дворянство. И в занятиях меж ними соответствие. Третье сословие занимается материей, веществом (= грубые частицы «третьего элемента»). Второе сословие, духовенство, занимается спиритуальными, имматериальными субстанциями, которые могут быть символизированы в стихиях воды (Любовь — сострадание, милосердие) и воз-духа (Дух, Слово...). Первое же сословие, аристократия, призвано быть воинством, рыцарством, проливая и жертвуя кровь — сию огне-воду.
Между прочим, у Декарта «первый элемент» представляется жидким (не сухим), родом тонкой огненной жидкости, проницающей повсюду, в том числе и между частицами третьего и второго элементов. Космос купается в жидкой субстанции. Бытие — континуум, непрерывность. Первоматерия — жидкость. У Декарта — панический страх пустоты, horror vacui. Полнота, непрерывность — да! Пустота, дискретность — нет! И в этом Декартово, французское видение Бытия сходно с эллинским, Платоновым и неоплатоническим, да и гностическим, по которому Бытие = Плерома, Полнота. Такое воззрение естественно клонит и к гилозоизму (сравните французский «витализм»): представлять Космос живым существом, кровообращаю-щимся, дышащим. Это естественно было в эллинском пантеизме и политеизме — в их тео-и-космо-ГОНИЯХ = происхождение всего полагалось приРОДным путем Эроса-зачатия и рожания женским началом. Возникший также в Элладе атомизм недаром на периферии ее, в Малой Азии и Фракии сложился (Левкипп — из Милета, Демокрит — из Абдеры, Эпикур — с Самоса) и откочевал на другую периферию греческого мира — в Сицилию и Италию — к Лукрецию. Вот в Риме-Италии, в космосе камня и сияющей пустоты, естественно Бытие представлять дискретным, состоящим из атомов и пустоты. Во Франции же атомизм не органичен, чужероден и исповедовался Гассенди — не французом, но итальянцем, кстати.
Бытие видится и Жаном-Полем Сартром как непрерывное марево, континуум, сплошняк, тесто, где вязнет дух, «я» в клейкости: viskeux = «липкое», — таков атрибут Бытия в его философии. Сартр — атеист в традиции французского либертена, вольнодумца. Но и у Тейяра де Шардена, католического мыслителя, в трактате «Божественная Сре
139
да» (Le Milieu Divin) основная интуиция такова: человек плавает в Боге как в Океане, в сплошняке Бытия. Бог все-проникает извне и изнутри, божественные энергии и милость окружают и пропитывают нас, как огнежидкая субстанция «первого элемента» в вихре, небесном океане Декарта. И вот Материя у Сартра, Дух у Тейяра — в одном образе видятся, который как бы врожден французскому сознанию.
Ну а вглядитесь в фактуру живописи Винсента Ван Гога: это клубление, вихри мазков, кривые, закручивающиеся линии, словно живчики-сперматозоиды, что стремятся по пространству с нервно-бешеной скоростью, — да ведь таковы опять же частицы Декартова «первого элемента», имеющие «желобчатую» (cannelures) структуру. Каждое тело, предмет у Ван Гога — поле, небо, лицо человека, одежда — предстает как тело внутреннего вращения, словно из вихрей-монад в каждой точке. Вращение — взволнованное у Ван Гога, предстает как плавное и магическое в «Болеро» Равеля. Вихрь оцепенел в заколдованный круг. Музыкальный орнамент может варьировать шествие по нему, но не прорвать и развить. Жанр Рондо излюблен и французским народным танцем, и поэзией — и средневековой, и у Франсуа Вийона, и у Беранже, и у нынешних шансонье: куплеты (совокупления парочек стихов), рефрены (возвраты на круги своя).
Rondeau ведь буквально — «круг», цикл, цирк. Читая рондель Франсуа Вийона «Диспут сердца с телом», я воспринимаю его как диалог солнца-сердца со всем протяжением — телом своего вихря, как красноречивый разговор (con-versation = «co-вращение») между Стеллой и Вор-тексом.
Внутренняя жизнь французского Общества видится мне в модели СОЦИАЛЬНОГО РОНДО, где все индивидуумы-частицы вращаются в тесном соприкосновении (соци-абельность и коммуникабельность прославленная и пресловутая французов!) и в ходе общений-трений полируют (politesse — вежливость, социальная воспитанность!) острые грани друг друга, так формируя из себя граждан (citoyens!). Механизм этого процесса хорошо описан в «Общественном договоре» Руссо. Как я хорошо помню, он там применяет следующий образ: как речной поток полирует-обтачивает камешки угловатые в гальку, таким же манером общество воспитывает граждан из вилланов. Но подобным же образом Декартов жидкостный вихрь своим вра
140
щением-ротацией, как токарный станок, фрезерует и обтачивает частицы трех элементов, формируя из них порядочных членов соответствующих сословий Космоса.
Но я еще недостаточно промедитировал СТРАХ ПУСТОТЫ во французском миросозерцании, точнее — мироощущении, сенсуалистическом, чувственном здесь, на всекасании основанном. Вот германский Логос и МИРОВОЗЗРЕНИЕ (тут на месте этот корень для их термина Weltanschauung) не боятся пустоты, но предполагают бытие дискретным, с оппозицией Haus — Raum (дом — пространство): этимология последнего — от корня, означающего «пустое», «чистое». И от точки-тверди-формы к такой же протягивается пунктир-тире-луч зрения. Декарт же даже луч света уподобляет палке — трубке, в которой кишат частицы мельчайшие первого элемента и которым мы касаемся отдаленных предметов, передавая им так давление глаза. И если нам кажется, что вот она — пустота, вакуум, то мы заблуждаемся: просто наши чувства и приборы не улавливают населенности этого места еще более мелкими частичками и энергиями. Любой зазор-интервал полон кишением частиц, которые движут, толкают более грубые куски вещества, и так повсюду разливается и передается единое движение вихря в целом.
Так работает СРЕДА (Milieu) — важнейшая идея во французском Космо-Психо-Логосе. В Германстве есть — «опосредование», «посредство» — нечто, происходящее в промежутке, в зазоре между субъектами бытия. Но во французском мировоззрении Среда есть в полном смысле то, что Гегель называл «субстанция-субъект». Она — активный перводеятель, в отношении которого частицы и индивиды — объекты приложения сил и энергий Среды: они — пассивнее ее, страдательны. «Среда заела» — оттуда это выражение. Социальное окружение — решающий фактор в формировании человеческих интересов, целей, страстей, мотивов и эмоций — все, кстати, кинематические идеи (от латинского motus — «движение», откуда и. «мотор»), не статические, что и характерно для французского космоса и социума вращения. Люди здесь мыслятся не как АВТО-мобили = САМО-движимые (как это врождено себя чувствовать человеку в английском космосе — self-made men = самосделанных человеков), но АЛЬТЕРО-мобили = друг другом движимые, а еще точнее — Целым-движимые, внутри него.
Национальный образ ДВИЖЕНИЯ — эта проблема вырисовывается теперь перед нами. Ньютон в английском
141
космосе, постулируя абсолютное пространство и время, полагая пустоту и отвлекаясь от механизма действия сил всемирного тяготения: КАК это совершается, — может брать два или несколько изолированных тел и высчитывать прилагаемые к ним силы и их траектории в уравнениях, усматривая причины и импульсы в самих телах, их движения как бы «самоеделанные», как и англосакс-джентльмен. В Декартовой картине Вселенной такое невозможно: существует одно тотальное общее движение внутри данного Вихря, а уж частицы передают его друг другу, трогая соседа. Декарт определяет движение — как смену соседства, ближайшего окружения (соприкасался с частицами А и В, а вот теперь — с О и Р), а не по шкале расстояния, дистанции. Его космос — близкодействия, тогда как дальнодействие в космосах Англии (Ньютон) и Италии (Галилей) предполагает пустоту и дискретность, диалог твердых тел (или математических точек) в вакууме, как свободных атомов = индивидуумов, самостоящих сами по себе. Как кот, что ходит сам по себе. Француз же — не атомарный человек, индивидуалист, самостоящий вертикально, но прежде всего социальный человек, не вертикальный, но приклоненный туда или сюда: к даме в реверансе или к цели. И мышление его — не абстрактное, но ориентированное. Французский Логос — ситуационный, векторный, считающийся с обстояниями. Он — ум Среды, из ее воли. Именно во французских социологических теориях, столь влиятельных в европейском гуманистическом XIX веке, человек объясняется как функция обстоятельств, продукт окружающих условий и воспитания. В таком же направлении работал и французский реалистический роман (Бальзак, Золя...), описывая обстановку, условия и быт, землю и климат-природу как предопределяющие поведение персонажа субстанции и силы, с чем он сцеплен и чем пропитан, так что по обстановке жилища можно прочитать характер человека. В этом плане Стендаль, тяготевший к Италии, где космос дискретности атома и пустоты, более налегает на свободу воли и индивидуализм личности, которая мотивируется своими страстями и вламывается в обстоятельства со своей кинематикой (Жюльен Сорель в «Красном и черном», Фабрицио в «Пармской обители». Кстати, еще и в романе «Красное и белое» из цветов константен «красный» — цвет крови, первосубстанции во Французском мире). И он — не бытописатель, но психолог-рационалист, картезианец...
142
Социализм, взгляд на человека прежде всего как на члена общества, — детище прежде всего французского Логоса: Руссо, Сен-Симон, Фурье, Конт и проч. Недаром и Ленин в исследовании «Три источника и три составных части марксизма» наряду с «английской политэкономией», «немецкой философией» перечислил и «ФРАНЦУЗСКИЙ социализм». И его известная формула «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» — вполне французска по интуиции и интенции.
Русской психее и уму социализм и близок, и отталкивающ. Патриархальный «мир» и деревенская община склоняют полагать человека малым сим, мальчиком, не вполне ответственным за поступки и вменяемым: за него в ответе коллектив, все... Но оторвавшиеся от земли горожане — и Достоевский-петербуржец, и даже люмпен-пролетарий Горький, — антиподы во многом прочем, сходились в неприятии этой теории всевластия Среды: «Среда, мол, заела! Я не виноват, что есмь такое дерьмо и гад-подлец!» И Горький даже так красиво сформулировал: «Человека создает его сопротивление окружающей среде».
Но не так-то просто с этим и у французов. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ и СВОБОДА ВОЛИ — постоянная тема и проблема ума здесь, начиная со споров схоластов в средневековой Сорбонне; продолжая янсенизмом в XVII веке в монастыре Пор-Руаяль, в «Письмах к провинциалу» и в «Мыслях» Блеза Паскаля и т.д. Семя проблемы посеяно еще Августином в трактате «О ГОСУДАРСТВЕ Божием» (De CIVITATE Dei — у нас традиция переводить это как «О ГРАДЕ Божием», и при этом теряется важнейшая идея романского Логоса — Общество, Государство, Целое, «социальное рондо»). Карфагенец, в космосе, сходном с Италией, где жесткая твердь и самость земли — камня-человека и сияние Света-Духа-Неба вокруг, он чуял этот сюжет именно как нелегкую разрешаемость, как проблему. Сам французский Космо-Психо-Логос, который есть клубле-ние теплого влаго-воздуха, континуум, лиение-влияние климата и Среды, тут бы склонялся к Предопределению из Целого, тотальности (католицизм — из греч., «кат — холос» = «при целом»), однако соседство Рима-Италии с юга и германских космосов с востока и севера надоумливало на другое: акцентировать самость «я», самодеятельность и самоответственность личности. И во французский католицизм вторглась из германства ересь Реформации, и вот — гугеноты тут, и тот же янсенизм. Да и Декартово
143
cogito ergo sum «я мыслю = следовательно, я существую» — навеяно, как еще увидим, не без содействия и сотрудничества Германского пространства.
Итак, Двоица начал: или все предопределено волей и разумом Бога, или все во мне, я — источник. Эллинский Логос развил тут виение ДИА-лектики в философском гедонизме-игре мышления. Германский дух переживает это как антиномию, кричащее противоречие и ищет выхода, трансцензуса — переступить через противоречие к синтезу (Кант, Гегель...). А французская душа не выносит взаимо-исключаемости («крайности — сходятся» — их девиз: les extremites se touchent — опять же КАСАЮТСЯ в чувственном сенсуализме, обнимаются!), и ей по душе — БАЛАНС, РАВНОВЕСИЕ, СИММЕТРИЯ противоположностей. Повсюду это видим: в приятии КАК Предопределения Бога, ТАК И Свободной воли человека, в дуализме субстанций Декарта (протяжение и мышление), в его же «психофизическом ПАРАЛЛЕЛИЗМЕ» — между душой и телом: в сенсуализме и рационализме в его же философии; в симметрии как эстетическом принципе французского классицизма, в статических антитезах Гюго: Гуинплэн («Человек, который смеется») безобразен лицом, но ангел душой; то же и слепая Деа, монах-демон Клод Фролло и цыганка Эсмеральда («Собор...») и т.п.
Однако Баланс принципов и подходов осуществляется во французской истории и культуре не только статически: так что всегда все уравновешено, — но и динамически: в непрерывных колебаниях и биениях, в осцилляции маятника и кренах то в одну, то в другую сторону между полюсами. Ну да: в коловращении Социального Рондо должны быть равномощны и направление-сила центростремительная, и вектор-сила центробежная. И натяжение-усилие-перекос в одну сторону тут же мобильно и динамично компенсируется перевесом в другую. Хорошо тут работает обратная связь: смена МОДЫ, течений и вкусов в искусстве... Кстати, «обратная связь» —•в кибернетике, французском открытии Винера, — ну да: в Социуме администрации развитой, поднаторевшей в искусстве управления среди гибко реактивного народа. («Кибернетика» от того же корня, что и «губерния» — «управление»...). И недаром из Франции термины пошли: префектура, мэр, провинция... Там наследие Рима подхвачено — и в кодексе Наполеона еще — искусство администрации в централизованной стране.
144
Детерминизм и свобода — в таком виде сюжет: Предопределение и Свобода воли — предстает во французской философии с рационалистической эпохи Просвещения по не менее рационалистический экзистенциализм, который настаивает на принципе choix originel = «первичный выбор»: он делается человеком свободно (как первородный грех), но затем уже предопределяет всю цепь поступков и жизнь. Абсолютный детерминизм исповедовал из материалистов XVIII века барон Гольбах, один из авторов «Энциклопедии». Такое воззрение перекликается с фатализмом ислама. И у Франции в истории ее культуры недаром наблюдается «влеченье, род недуга» — к Ближнему Востоку, к миру ислама и взаимопонимание с ним. «Персидские письма» Монтескье, «Магомет» и философские повести Вольтера, которых действие — на территории условного Востока; Алжир у Доде («Тартарен из Тараскона») и у Альбера Камю; «Искатели жемчуга» Бизе... И ориенталисты французские наиболее освоили именно Ближний и Средний Восток, начиная с Шамполиона и т.д.
Лаплас, великий математик и физик, выдвинул идею Мирового Интеграла, который если вычислить, то можно предзнать все будущие события в истории человечества и поступки людей, то есть Причинность овладеет всей Возможностью, и случай и свобода будут изгнаны из Бытия. Рассказывают, что, когда Наполеон на одном из приемов выразил Лапласу недоумение, что в его системе мира не нашлось места для Бога, ученый ответил: «Sire, je n’avais pas besoin en cette hypothese» = «Ваше величество, у меня не было нужды в этой гипотезе», — знаменитое изречение, mot. И для француза — дело чести (point d’honneur) — произнести некое mot, остроумное слово, которое, в силу тесного взаимного прилегания вращающихся индивидов в социальном рондо салонов и в «co-вращении» конверсась-онов (разговоров) там зациркулировало бы по Среде и вошло бы в субстанцию и память Франции. Ориентировка на mot — характерная установка французского Логоса.
Во французской душе нет того гордого самочувствия изолированной личности, которое может иметь германец в глубине своего внутреннего мира (Innere) и содержать в Haus’e, доме своего «я», и в силу чего его самость (das Selbst) способна к самообоснованию и самоопределению в существовании. Для француза существовать — значит: существовать в глазах соседа; впечатление, производимое на ближнего, рефлективно приносит доказательство моего
145
бытия. Сам язык французский располагает к такому пониманию, усоседив «быть» и «казаться». От одного они корня etre; а «казаться» = par-aitre, то есть «при-быть», «возле-быть», «подле-быть», «чрез-быть».
Близость и конфликт между Etre и Paraitre образуют сюжет знаменитой трагикомедии Ростана «Сирано де Бержерак». В Роксане, женской ипостаси французского антро-поса, две эти (как и прочие дуализмы) субстанции — совмещены: высокий интеллект и красота, творчество и грация. Маргарита Наваррская (автор «Гептамерона»), мадам де Скюдери, Мадам де Сталь, Жорж Санд и т.д. Это единство — прерогатива самой douce France. В мужской же ипостаси Француза дуализм субстанций — проблема. И здесь они разведены до предельной антитезы. Сирано — гениальный интеллект и красноречивый поэт — безобразен наружностью (его пресловутый НОС!). Юный Кристиан — херувим внешностью, но бездарен на mot, слово. Сирано одержим страстью к Роксане, своей кузине, но та очарована Кристианом; однако тот на свидании не может выдавить из себя и двух слов. И вот между мужскими персонажами совершается своего рода симбиоз: Сирано жертвует собой Кристиану и пишет для него любовные письма Роксане, исполненные огня и красноречия, от которых ее целостность (взыскующая от предмета своей любви того же тождества ума и красоты, духа и тела, что и в ней самой) тает, внимая Сирано и взирая на Кристиана (такой там маскарад). Таким образом Сирано становится душой Кристиана, его духовной субстанцией, его мышлением, cogito, его etre. Кристиан же становится «протяжением» Сирано, его paraitre. В этом симбиозе они образуют одно существо, функционирующее наподобие Декартова «психо-физического параллелизма».
Важнейшесть «казаться» над «быть» во Франции сказывается в том, что французская психея склонна к тщеславию, тогда как германская склонна к гордыне. Различие между этими двумя из грехов духа в системе семи смертных грехов — в том, что тщеславие есть род служения ближнему: тщеславный и честолюбивый выбивается из сил, чтобы его полюбили и почитали люди, он обращен к ним, зависит от них и в их зеркале видит подтверждение своему существованию, ценности его, в чем он сам не уверен, значит. И это — более легкий грех, нежели гордость, которая более эгоистична, самоцентрична, сатанинска. Тут человек самоуверен и самодостаточен, и самозамкнут. Когда
146
я приятелю своему, Юзу Алешковскому, сказал как-то, что я тщеславие преоборол гордыней, то есть меньший грех — большим, он живо среагировал: «А, понял — как если бы кто триппер вылечил сифилисом!»
Сверхчеловек (Ницше), Супермен — идеал германства. Французский же будет — Сверх-общество, Суперсоциум — вот чего домогаются французские мыслители: Руссо, Монтескье, Сен-Симон, Фурье, Конт, Тейяр де Шарден, мечтатель о социуме, о коммуне в Боге...
Германский дух способен творить в одиночестве, как Фауст и Кант. Французский мыслитель нуждается в отклике, чувствовать свое влияние — лиение (inFLUence, где FLUide — «флюид» = тоже liquide — жидкость!) на умы, на дух века, слыть «властителем дум», как Вольтер, Руссо, Гюго, Сартр... По крайней мере — блистать в каком-нибудь салоне, где он развивает мысль в обществе прекрасных дам, чьи восторженные глаза питают его дух соком восхищения. Вольтер, Руссо, Дидро — все имели просвещенных женщин-друзей, поклонниц их таланта. И это было французское изобретение в культуре — салоны мадамов: Ролан, Рекамье, де Сталь... — как территории, благоприятнейшие для развития философии, чем кафедры. Даже Декарт вел обширную корреспонденцию с принцессой Елизаветой и не устоял перед приглашением Христины, королевы Швеции, приехать к ней и лично излагать ей свою философию. И он поехал зимой в эту ледяную страну Снежной королевы — он, теплокровный француз из Турени, схватил простуду и умер там в возрасте 53 лет...
О, это требует чрезвычайного усилия от французского духа —; прорваться чрез Paraitre (кажущееся существование) KEtre (подлинному бытию). Этот прорыв, брешь сквозь Среду — обволакивающее нас пространство смутных ощущений, чувств, эмоций, образов, что окружает и пленяет наш разум, — к чистому Бытию проделал Рене Декарт, когда он пришел к формуле cogito ergo sum = «я мыслю — следовательно, я существую». Этот принцип лег в основание философии Нового времени, его развил Кант в своем «априоризме» и т.д.
И это совершилось, кстати, не без помощи Германского космоса: что французу удалось трансцендировать к такому абстрактному принципу. Как сам Декарт описывает окружение этого ему откровения в «Рассуждении о методе», — сие озаренйе нашло на него, когда он, молодой офицер (прямо Д'Артаньян!) оказался в Германии (то есть
147
трансцендируя космос «сладкой Франции» даже физически), в одиночестве:
«Я был тогда в Германии, куда меня привели события войны, которая и сейчас еще там не окончилась. Когда я с коронации императора вернулся в армию, наступившая зима задержала меня на месте стоянки армии. Не имея ни с кем общения, которое бы меня развлекало, свободный, по счастью, от забот и страстей, которые бы меня волновали, я проводил целый день один у очага и имел полный досуг отдаваться своим мыслям» («Рассуждение о методе», ч. II.).
Итак, была зима, и он грелся у очага — типичная ситуация германского Haus‘a, и он уГЛУБлялся (Tiefe — глубина, важнейший архетип германства, в противовес наружности и открытости француза) в свое Innere = внутреннее, «я». Благодаря этому озарению, которое совершилось НОЧЬЮ (тоже привилегированное во германстве время суток: Фауст, Новалис — «Гимны к Ночи», тогда как во Франции привилегирован полдень) 10 ноября 1619 года, когда «Дух Истины» снизошел на него, — он и оправдал свое имя Рене — Re-ne, Re-natus = «снова рожденный». Он стал как «дважды рожденный» (качество брахмана в Индии) и породил новое направление в мысли Запада.
Подобный же прорыв сквозь Среду к Свободе, к Я, проделал в нашем веке Жан-Поль Сартр — в трактате «Бытие и Ничто». Он ощущал Бытие как липкую, клейкую массу, тесто (хороший образ для Материи, ее континуума, для Среды, для Декартова «протяжения») — без просвета вакуума, где бы в порах Бытия могла обитать Свобода. И чтобы освободить дух и «я» от этого заключения, надо настроиться на Небытие: оно становится субстанцией, основанием для существования Pour-soi («Я для себя»). Этим усилием создается пространство Свободы. Но требуется долгий процесс «феноменологической редукции», чтобы победить клейкость Бытия и снова выйти к Декартову Ego.
Эта тенденция к чистому разуму, рационализм, находится во французской культуре в балансе с противоположной тенденцией: сенсуализм, чувственность радостно открыты навстречу Среде, ее объятиям и проникновению в меня. Природа — блага, «человек от природы добр», — тезис Руссо, тогда как Кант напишет «о радикальном зле в человеческой природе». Дух законов зависит от климата — в социологической теории Монтескье, а Ипполит Тэн объясняет особенности искусства во Франции и Англии влиянием местного космоса, географической среды.
148
И, конечно, в искусстве Франции сенсуализм, приветливость к окружающей среде жизни — многообразно проявились. Couleur locale, «местный колорит» в романтизме, натурализм, импрессионизм. А там — живопись на пленэре: не в дому между стен «я», но отдаваясь целиком флюидам и радиации среды, — вот открытие французов. Но что есть plein air? Это же дословно — «полный воздух». То есть стихия воздуха; но пузырьки его газа не в сухом вакууме, а между ними — влага. Жидкий воздух. Влаго-воздух. ВОДО-ВОЗДУХ. Сравним с субстанцией России, которая «мать сыра земля», то есть «водоземля».
Это сочетание элементов оказало мощное влияние на фонетику французского языка и стиль произношения. НАЗАЛИЗАЦИЯ сухих и твердых звуков языка латинского, когда он перешел Рубикон и вторгся в Галлию, — сие есть работа французского космоса сырого воздуха. Звуки солнечного итальянского космоса словно простудились и им заложило нос после прибытия и натурализации в новой среде. И вот все эти характернейшие для французского языка носовые звуки: an, en, in, on, un, am, em, om...
Далее. Космос Полноты не мог дозволить словам стоять раздельно в потоке произношения и стал сливать и сплавлять концы и начала слов в акте lien и liaison (связи, соединения). Так, в Allons enfants de la Patrie («Пойдем, дети отчизны!» — запев «Марсельезы») оба слова произносятся одним потоком, как единое, и в нем сухое мужское s преображается во влажный звонкий согласный z. В потоке французской речи мы не можем различить, где кончается одно слово и начинается следующее. Воистину Les Liaisons sont dangereuses — «Связи — опасные» (аллюзия на роман Шо-дерло де Лакло того же названия).
Космос влаго-воздуха сказался даже во французских интуициях в физике, в теориях, касающихся строения вещества и света. Так, Френель в XVIII веке выдвинул ВОЛНОВУЮ теорию света, тогда как англичанин Ньютон в «Оптике» развивал КОРПУСКУЛЯРНУЮ теорию: согласно англосаксу, свет состоит из частиц. Френель же видел свет как жидкостную субстанцию и полагал, что он распространяется волнами, как и естественно осуществляться движению в континууме, в непрерывности и заполненности. Передвижение же частиц, телец («корпускула» — это маленький «корпус», тельце) предполагает пустоту, куда им двигаться и чье место занимать-стать.
149
Да, но ведь и в современной, на что уж интернационализированной науке, внутри квантовой теории германец Макс Планк выступил с идеей «кванта» энергии, как бы атома энергии: что она порциями обитает, дискретно, пунктирно; а вот француз герцог Де Бройль выдвинул кванто-во-ВОЛНОВУЮ теорию строения атома, вещества.
Если уж мы зашли в физику, то тут же вспоминается классический трактат Паскаля «О равновесии жидкостей и о весе воздуха» — тоже ведь выбор характерен: стихии воды и воздуха. А вот Галилей, современник почти Паскаля, занимается изучением падения твердых тел в пустоте, абстрагируясь от воздуха как субстанции, сводя его к вакууму. Опять же классическое сочетание римско-итальянского атомизма: атомы и пустота. Кстати, проблема равновесия, которою занимается ум Паскаля, — это же знакомый нам БАЛАНС снова. Ну а если вслушаться в сам термин, как он звучит по-французски: equi-libre — да ведь это сложное слово из двух корней: equus, 6gal = «равный» и libra, что может означать и «рычаг», но liber — это «свободный». Так что «равно-весие» по-французски — это «равно-свободие». Вот как: принципы 89 года (Французской революции) «свобода, равенство и братство» словно предзаложены в Логос француза и могут быть обнаружены даже в наклонении его и физических исследований...
ВОДОВОЗДУХ на многое здесь накладывает свою «печать», а лучше сказать «взводняет» и «вздувает». В живописи тут акварель развита, письмо пятнами («ташизм»), а ведь «акварель» от латинского aqua = вода. Напротив, немцы, в космосе «огнеземли» и жесткой формы и грани, — расположены к четкому рисунку (а не размытым пятнам) и мастера в графике (Дюрер, экспрессионизм...).
Французская кухня изобрела СУФЛЕ — от souffler = «вздуть». Влаго-воздух вдувается в стихию «земли», делает ее пористой, невесомой (вспомним также и пирожное «безе», что буквально значит «поцелуй» — baiser) и таким образом причащает ее к своей субстанции. Так стихия земли имеет свою евхаристию — причастие к сакральному в этом космосе «водо-воздуху». Земля-стихия тут пария. Иерархия четырех стихий в космосе Франции мне видится таковой: огонь, вода, воздух, земля.
Сама ПЛОТЬ французских мужчин и женщин — как «суфле»: нежная и чувственная. Камень — не чувствен. Стихии земли, чтобы стать чувственной, надо стать пористой, смешаться с воздухом, водой и огнем. Живая телесность
150
именно такова. Малейшее прикосновение к плоти, сотканной таким образом, сочной и наэлектризованной, производит мгновенный ответ. Сексуальная реактивность и возбудимость французского антропоса пословична в народах и их анекдотах.
Но и физика опять же тут как тут: основатель электростатики Кулон — как додумался до закона, согласно которому электрический заряд любого тела располагается целиком только на его поверхности, так сказать, на коже тела? Не острейшая ли чувственность «откожно» мирочувствующего и мыслящего француза наводила его на именно такую интуицию? И, кстати: электроСТАТИКА — открытие французов, не электроДИНАМИКА, что уж — дело англосаксов (Фарадей, Максвелл...). А статика — это закон уравновешивания, баланса опять же и симметрии.
Теперь в нашей шкале ценностей может получить свою реабилитацию ПОВЕРХНОСТНОСТЬ француза, что пресловута во мнении о нем чужеземцев, не посвященных в таинство здешнего космоса, в особый склад вещества, материи, телесности тут. Германцы и русские кичатся своей «глубиной» и «внутренним» человеком, презирают поверхность как бесчувственное и бездуховное пространство. И это так, справедливо в отношении их жесткой и суровой нордической плоти и древесной кожи, как коры. «Чтобы в московите пробудить чувствительность, — писал Монтескье в «Духе законов», — с него надо содрать кожу», которая, по его соображению, состоит из грубых волокон. Потому-то северяне мужественны и обычно побеждают южан в войнах... Но все ж показательно это: что Шарль Луи Монтескье и в кожу поместил окуляр своего умозрения, до чего вряд ли додумался бы выходец из другого народа и космоса. Во французском антропосе поверхность кожи работает как в высшей степени чувствительная антенна и мембрана.
Вот почему в иерархии чувств по-французски ОСЯЗАНИЕ — первочувство. По моей интуиции, пять чувств человека расположатся в такой тут последовательности по степени важности: осязание, вкус, обоняние, зрение, слух. Для сравнения, германская иерархия-шкала мне видится так: слух, зрение (теоретические чувства дальнодействия, на расстоянии, тогда как во Французском космосе первенствуют чувства близкодействия, которое есть принцип и в физике Декарта, в его картине Вселенной), осязание (труд руки), обоняние (цветы значат в поэзии), вкус.
151
Объяснение есть акт приведения чего-то сложного и неясного — к простому и знакомому, и очевидному. Так вот: Декарт, усиливаясь дать объяснение сложному явлению СВЕТа и акта зрения, приводит их к осязанию — как чему-то первородному здесь. Глаз в акте зрения КАСАЕТСЯ своего предмета, а посредником служит столб частиц первого элемента. Так что и зрение ОЩУПЫВАЕТ свой предмет.
И вообще ТРОГАТЬ во Франции очень интеллектуальное действие, и много качеств от него происходит: «трогательный» — как эстетический критерий — у нас калька с французского touchant. Также и характер прикосновения к музыкальному инструменту — «туше» — оттуда же.
Также и ТОЛКАТЬ здесь многосмысленное действие. Если в физике Ньютона действует всемирное ТЯГОТЕНИЕ, то в физике Декарта внутри Вихря идет толчея частиц, такая вселенская «тусовка», — и так передается движение: трением частиц, вращающихся в обществе друг друга. Есть такая фигура — Тяни-толкай. Так вот: англосакс Ньютон выбирает для организации своей Вселенной принцип ТЯНИ! Декарт же, француз, — ТОЛКАЙ!
Из оперы рсязания-касания и такой феномен и критерий социального поведения, как ТАКТ — от латинского tango = «касаюсь».
«Материя — как щекотка и боль» — так, помню, сформулировал я Декартов анализ материальной субстанции, его «протяжения». Оно ведь через осязание-касание становится внятно нам, через сенсуализм. Мгновенное и сильное касание есть удар и производит боль. Легкое и плавное касание — щекотка, сладострастие. Разница между ними — лишь в силе и степени. Зная-читая Декарта или нет, но на ту же закономерность, на то же тождество напал другой французский философ, знаток Эроса — маркиз де Сад: взаимопере-текаемость сексуального наслаждения и истязания плоти.
ВКУС и ОБОНЯНИЕ — ипостаси Осязания: тоже ведь от касаний в близкодействии эти ощущения возникают. В кухне французы — гурманы и гедонисты, их кухня в разработанности уступает разве греческой. И с ближним Ори-ентом в этом тоже перекличка. Как и в чувственности сексуально-гаремной. Слизистая оболочка рта у французов столь же нежна и отзывчива, мысляща, как у вагины и у пещеристого тела, и они взаимозаменимы — в минете.
Но ВКУС поднят во французском мироощущении из сферы консумации блюд и дегустации вин и соусов, —
152
ввысь: стал категорией эстетического «суждения вкуса» — в искусстве, литературе. И даже германец Кант воспринял это изобретение французского Логоса и впустил этот термин в свою «Критику способности суждения».
Утонченность вкуса, finesse, рафинированность чувственной сферы — качество, присущее французам, и оттуда, как и «вкус», вошло в обиход мировой цивилизации. Но вслушаемся в корень слова: он от лат. finis = конец, цель, острый конец, острие (как и в «остроумии», что есть качество именно французского ума — esprit), качество микрочастиц Декартова «первого элемента», этой огненной жидкости, субстанции электричества.
ОБОНЯНИЕ прославлено французской парфюмерией и Бодлером в «Цветах зла», где мы утопаем и в роскошнейших «Экзотических запахах» (так прямо одно из стихотворений именуется: Parfums exotiques), и в гиньоли падали (Charogne), из чего декадентски рафинированный сатанинский вкус извлекает свое сладострастие.
Кстати, о САТАНИЗМЕ французском. Он остается на уровне грехов плоти (обжорство и блуд раблезианцев и либертенов; сребролюбие ростовщиков — «Гобсек» и проч.), на уровне грехов души: уныние, тоска, печаль, романтическая меланхолия (ennui, tristesse, nausee, Le soleil noir de la melancolie) и гнев, воспламенения революций; ну и из грехов духа — тщеславие, человекоугодничество. Но все это — детские шалости, мелочь и мелкие бесы во сатанинстве, не дотягивают до Князя Тьмы, которого как раз германский дух, в грехе гордыни, во множестве ипостасей породил. Люцифер в «Авроре» Якова Беме, в «Потерянном рае» Мильтона, «Каин» Байрона и «Манфред», Сверхчеловек (и Антихрист) Ницше; пара: Фауст-Мефистофель в народных легендах и у Гёте и Томаса Манна... И атеизм во Франции — скорее, просто бытовой, нечувствие, равнодушие к Богу, а не воинственное ополчение человеческого Я на Бога. Просто француз слишком утопает в радостях Жизни и в сюжетах и битвах внутри Социального рондо, Кесарева универсума, чтобы оставались силы души и духа на богоборчество. И атеизм социализма расплывчат: просто рай на земле хотят создать, — а не личностно-персоналистично антибожь он...
Но что есть ЗАПАХ по своему составу? Он производится мелкими частицами стихии «земли», несомыми на крыльях ангелов=вестников воз-духа, и накатывающимися волнами на влажную ткань ноздрей. Опять — обогненная зем
153
ля, пыль, продутая чрез влаговоздух и вздутая им. Снова суфлеподобная ипостась вещества, материи.
О ЗРЕНИИ достаточно уж мы толковали в связи с живописью тут и трактовкой света Декартом. Но вот об иерархии частей суток и времен года уместно помыслить. Полдень, ночь, вечер, утро — так мне чувствуется здешняя шкала ценностей, исходя из космоса и культуры (не из жизни земледельца, для которого естественно ценить иначе: утро, полдень, вечер, ночь). Полдень — предельное расширение существа, вскипание крови, солнце в зените. Ночь — излияние избытка огневоды-семени во Эросе или в творчестве: Бальзак и Пруст творили ночью. Вечер — пространство-время тусовки в Социальном рондо общения и вращения в «свете».
Из времен года иерархия: весна, лето, осень, зима — нормальная, не извращенная последовательность (почему-либо). Весна — время надежды, esperance, что постоянно рифмуется в поэзии и народных песнях с France — Францией. Весна = кровь, сангва. Лето = холера (желтая желчь, пережженная жидкость). Осень = «мелан-хола» (черная желчь). Зима = флегма и лимфа, первосоки у северян медлительных, трудно возбудимых...
Что же до СЛУХа и МУЗЫКИ во Франции, то тут, во-первых, такое соображение: латинский язык, назализовавшись во французском космосе влаговоздуха, зазвучал здесь столь сонорно, плавно, «музыкально», что во многом отбил почву и потребность в надобности чистой музыки здесь. Тут говорят, произносят — как поют, в отличие от немцев, что каркают и лают, и кому, как в компенсацию, нужна чистая инструментальная музыка — не вокальная, подальше от резкого голоса своего.
Та же музыка, что есть во Франции, наклонена не к личности (песнь Innere души, что выпевает германец в своих Lieder: «песня» от Leid = «страдание»), но к социальности и публичности: трубадуры Прованса, шансонье — от Франсуа Вийона чрез Беранже до Эдит Пиаф и Ива Монтана — у всех социально ориентированные песни, исполняемые не камерно, но публично, на ярмарках, на турнирах, на стадионах, электризуя слушателей и на политические акции. Так родилась и «Марсельеза» Руже де Лиля, песня прикладная для марша отряда марсельцев на Париж, ставшая гимном Франции.
Жест, декламация, патетика, наружный эффект — отличают и симфонизм Гектора Берлиоза. Его Траурно-три -
154
умфальная симфония (баланс противоположностей, что сходятся, касаются друг друга уже в заглавии), посвященная жертвам Июльской революции, с грандиозными размерами оркестра, призвана как бы сопровождать всенародное действо, шествие. Так же и его «Ракочи-марш» из «Осуждения Фауста», и «Шествие на казнь» из «Фантастической симфонии». Музыка тут не чистая, а программная, прислоняется к литературе, не самостоит. Или — опера, при дворе короля, с балетом, или «большая опера», как «Гугеноты» Мейербера, на кровавый сюжет Варфоломеевской ночи. Ну и Бизе — с экзотикой ориентальных «Искателей жемчуга» и с жрицей свободной любви, цаганкой (как и Эсмеральда Гюго) Кармен, что подливала огонь движению эмансипации женщины. Кармен — это любовь, кровь и смерть — так же Fort comme la mort «Сильна, как смерть» — название романа Мопассана. Кармен — фонтан страсти, огневода в обеих испостасях: кровь и сперма, и танец на площади. «Публичная женщина» в благородном смысле — тоже чадо социального рондо.
А с другой стороны — импрессионизм, музыка чувственных нюансов, нега слуха, музыкальные акварели Дебюсси (много сюжетов с водой у него и музыкальная картина «На воде»...) или густая эротика Мориса Равеля: «Послеполуденный отдых фавна», «Дафнис и Хлоя», «Павана», то же «Болеро» и т.д. Все это музыка не внутреннего человека, но обращенного наружу: в социум-общество или чувственность тела индивида в неге.
Но Верлен-то начинает свой манифест «Поэтическое искусство» (Art poetique) призывом: «Музыки, музыки, прежде всего!» (De lamusique avant toute chose). Да ведь это — для поэзии, для словесного искусства: усилить подпитку литературы развившимся уже самостоятельным искусством музыки. Вообще это стихотворение Верлена характерно для французского Логоса по ходам мысли. Оно, во-первых, откровенно полемично против «Поэтического искусства» Бу-ало, которое было манифестом классицизма в литературе (XVII век), устанавливая принципы картезианского рационализма, акцентируя требования меры, пропорции, симметрии, четкость и рельефность формы, запрещая все смутное и низкое. Верлен выдвигает прямо противоположные критерии.
De la musique avant toute chose, Et pour cela prefere I’lmpair
155
Plus vague et plus soluble dans Pair, Sans rien en lui qui pese ou qui pose.
Музыка прежде всего, И для того предпочитай НЕПАРНОЕ (отвращение к симметрии и балансу. — Г.Г.), Более смутное и растворимое в воздухе (космос влаговоздуха. — Г.Г.), Без чего-либо, что весит или твердит.
Следует также, чтоб ты не выбирал слов безошибочных (sans meprise).
Ничто не дороже пьяной песни (chanson grise),
Где Неясное с Точным соединяются (Ou ITndecis au Precis se joint — и сам сбалансировал пару! — Г.Г.)
Не надо Цвета, только Нюанс! (Pas de Couleur, rien que la nuance).
Избегай Остроты убийственной (la Pointe assassine),
Остроумия жестокого и нечистого Смеха (L’Esprit cruel et le Rire impur). Возьми красноречие и сверни ему шею! (Prends Г eloquence et tords-lui son сои)
Но ведь все эти Pointe, Esprit, Eloquence составляли принципы и гордость французской мысли и словесности!
Итак, все рекомендации Верлена происходит из тезисов Буало — как им антитезисы. Но если Германский Логос не выносит состояния противоположности и имеет нужду в синтезе: или трансцендировать антиномии (Кант: его «Критика способности суждения призвана навести мост между антиномическими друг другу «Критикой чистого разума» и «Критикой практического разума»), или через принцип развития, в диалектике преобразить одно в другое, или свести их в высшем Единстве (Гегель, его «триада»), то Французский Логос не испытывает жгучей, жизненной потребности в синтезе, но его удовлетворяет БАЛАНС КОНТРАСТОВ — или в статическом положении (как статические антитезы контрастных персонажей у Гюго опять же: слепая Деа видит светлую душу урода Гуинплэна...), что зафиксировано в известном французском принципе «les extremites se touchent» = «крайности (чрезмерности, экстремы) касаются друг друга» (не «сходятся», как, меняя статику на динамику, переводят в русском космосе пути-дороги, игнорируя важнейшую во французстве процедуру КАСАНИЯ), — или в осцилляции, колебании, в мелких и быстрых шажочках (как у «петиметра») туда-сюда: «Du grand au ridicule n’est qu’un pas»(«OT великого до смешного — только один шаг» — кажется, Наполеона изречение, mot).
Отталкивание от предыдущего (моды в одежде вчерашней, стиля в искусстве) — просто автоматический механизм развития французской жизни и культуры, который
156
они, по влиятельности Парижа как мирового центра цивилизации, навязали миру и в XIX, и в первой половине XX века. Оттуда все эти «последние крики» во всем, что призваны сбалансировать предыдущий последний крик: от импрессионизма к экспрессионизму, от натурализма — к абстрактному искусству, потом сюрреализм и т.д. И снова работает сила ОТТАЛКИВАНИЯ, а не проникновения внутреннего тяготения (напоминаю «Тяни!» Ньютона и «Толкай!» Декарта...).
Такой механизм дает шанс французам в любой момент быть на шажочек впереди прогресса и выступать законодателями вкусов Западной цивилизации.
Французский Психо-Логос — это une demoiselle sur une balancoire («барышня на качелях» — из известной песенки Ива Монтана). Для французской модели мира я как-то ес-
тественно вышел к такой эмблеме:. Тут крест
Декартовой системы координат из прямых, мужских линий и синусоида обвивающей их женской кривой. И выходит подвижный баланс. Французский Ум словно не может утверждать нечто, тут же механически не двинувшись в противоположную сторону. Это производит впечатление развития, но в сущности это — статика, осцилляция, равновесие, параллелизм.
У того же Декарта — дуализм субстанций: духовной и материальной, психо-физический параллелизм (между душой и телом), рационализм уравновешен сенсуализмом. Вслушаемся, кстати, в термины. То, что у нас переводят как «мышление» и «протяжение», у Декарта — entendement и extension: оба от глагола tendre, что значит — «тянуть» с различными префиксами: EN = «в» и ЕХ = «вы». То есть «В-тягивание» и «ВЫ-тягивание», как «в-дох» и «вы-дох» — вот ведь какие простые интуиции залегают под сложными категориями Дух и Материя во французском Космосе. И в самом деле: мышление — это как бы втяжение пространства в точку и аннигиляция вещественности таким образом, а континуум мира образуется вытягиванием, эманацией, вытеканием-расширением из точки Бога, как Вселенная расширяется (вытягивается опять же) из взрыва первичного «атома» бытия.
Вопрос «Почему?» по-французски звучит POUR-quoi и означает буквально: «Для чего?» Если Германский Логос в
157
аналогичном вопросе делает акцент на Причине, происхождении, прошлом явления, то Французский Логос — на Цели, призвании вещи. То есть вперед, в Будущее его вектор. Отсюда — теории ПРО-гресса, Э-волюции, «жизненного прорыва» (elan vital) — именно во Франции блестяще развивались умами (Руссо, Кондорсе, Ламарк...).
АНГЛИЯ
Англия — это остров-корабль с «само-сделанным человеком» (self-made man) как мачтой.
Англия — эпилог Евразии и пролог Америки. Таково ее призвание на Земле-планете. Но это — ее бытие «для других», их глазами. Однако сама она себя чувствует центром планеты (недаром нулевой меридиан проходит здесь, в Гринвиче) и в высшей степени бытием «для себя».
Англия содержит результаты исторического развития и культурных процессов, совершавшихся на континенте Старого Света: она, так сказать, консервы Евразии; в то же время она — питомник, где семена будущей Американской цивилизации были взращены.
Культура Англии наиболее универсальна изо всех культур Евразии. Она содержит все принципы, которые рождались там. Плюрализм и терпимость отличают английскую ментальность от других, более односторонних национальных миров, жестоко и страстно принципиальных в подходе к идеям. Но чтобы сосуществовать вместе и не вытеснять друг друга, все эти принципы и идеи должны были несколько умалить свою силу, глубину, ослабить творческую страсть. Они отрекаются от претензии на Абсолют и мирно сосуществуют во взаимном скептицизме, юморе и релятивизме. Как овощи и фрукты в статусе консервированных, так в английском соке чуть меркнут свежесть и аромат творений с материка. В Англии есть музыка, но не равномощная немецкой; есть живопись, но не сравнима с итальянской; есть философия, но не конгениальна с греческой и германской классической...
Но театр, Шекспир! — Да! Уникальная ситуация сложилась в Елизаветинское время. Со стороны континента наплывали достижения Ренессанса в их высшем цвету, собирались на палубе Англии, как на новом Ноевом ковчеге. А тут мощно зрела англосаксонская субстанция уже несколько веков. И вот они встретились в Шекспире — на взаимное понимание, столкнулись и на схватку — идей,
158
индивидуальностей, стилей жизни — беспрецедентную по своей динамике. Это страстно-яростное влюбление и противоборство отлилось в драмах шекспировых, писанных будто самим Бытием, анонимно, потому что мы до сих пор не знаем точно, кто был их автор, словно они были вдохновлены — кем? Мельпоменой? Иль Богом самим?..
Но английский Космо-Психо-Логос еще не достиг зрелости в шекспирово время. Важнейшие исторические и культурные события, которые образовали уникальную физиономию Английской цивилизации и ее вклад в мировую, — еще впереди. А именно: парламент, разделение властей, Великобритания как владычица морей и ее империя, с Америкой включительно, промышленная революция, изобретения в технике, опыт и эксперимент как путь познания в науке... Вся эта будущая творческая продуктивность существовала в Елизаветинское время в потенции и прорвалась вулканом Шекспира, выразившись в художественной форме, которая, вообще-то говоря, чужда сущности английского прагматического и утилитарного духа, умеренного и скептического, без крайностей континентальных пророков.
Правда, в пуританах и Английской революции XVII в. эта страсть к Абсолюту присутствует. Но это движение было продолжением извержения того самого вулкана английской субстанции, которая сперва излила свою лаву — в художественное русло театра Шекспира. Теперь она стала изливаться в религиозное русло (пуритане, диссиденты, секты: методисты, квакеры...); затем в политическое: Гражданская война 1640—1660, Реставрация (1660—1685), «Славная Революция» (1688). Далее — законодательное творчество: установление трех независимых властей (законодательной, исполнительной, судебной). Параллельно развивается мореплавание и совершаются великие географические открытия, и Британская империя утверждается на пяти континентах. Тут же затевается промышленный переворот (Джемс Уатт), творят великие экономисты (Адам Смит, Рикардо...), изобретения в технике преобразуют индустрию, а в науке гениальные экспериментаторы (Фарадей, Резерфорд...).
Это была, так сказать, «перманентная революция», которая протекала в Англии в течение трех столетий на различных уровнях и поприщах. Благодаря своей длительности эта революция проявилась как эволюция и создала психологию традиционализма, консерватизма. Умеренность в
159
подходе ко всему, способность зараз видеть многие стороны в каждом явлении отличает английский склад ума в сравнении с континентальными тенденциями к монизму того или иного рода, что отличает ментальность Франции, Германии, России...
Все это: плюрализм, множественность возможных объяснений — началось с «Гамлета», который написан как раз в 1600 году и был первым мощным откровением Английской сущности, которая будет развиваться в течение последующих трех веков. Гамлет — именно в силу развитости своего ума и образования — ошеломлен многовариантностью Бытия и мотивов в поведении человека и в оцепении не может однозначно решать и действовать. Он — как царь Арджуна в индийской философской поэме «Бхагавадгита» в миг, когда ему открылась «тысячеликая форма Брахмо» (Единое в бесконечной множественности форм сразу), что невыносимо очам смертного.
Становится понятно, почему английский ум склоняется к принципам опыта (Бэкон), эксперимента, импульса, «впечатления» (Локк). Ведь в перспективе бесконечного Абсолюта, теоретически мысля, все возможности и ценности, и идеи равны (скептицизм Юма). И человек может оцепенеть в медитации над этим на всю жизнь, как то могут себе позволить делать на твердом материке индийский йог или германский философ в рефлексии. Но в космосе Англии, на острове-корабле, человеку приходится действовать. И действие-движение, которое я должен исполнить как раз в этот данный момент (а не во всякий вообще), может (должно) быть PE-акцией на какое-либо воздействие мира на меня, на мои чувства (напоминаю теорию Локка об идеях, которые, согласно ему, суть «впечатывания» — «импрешнз» — impressions окружающей реальности на воске пружинящем наших чувств). Это ментальность моряка, действующего во время шторма. Опыт же был произведен в источник истинного знания Фрэнсисом Бэконом, Лордом-канцлером Англии, современником Шекспира. Есть даже гипотеза в шекспироведении, что именно Бэкон спрятан под псевдонимом «Shakespeare» = «Потрясающий копьем», если буквально перевести.
История Англии с древних времен — это шествие к своей сути, самосделывание и самопознание. Британия рассматривалась римлянами как дикая, пустынная и варварская провинция их империи (так у Юлия Цезаря в «За-
160
писках о Галльской войне»). Во время великого переселения народов в 4—7 вв. германские племена англов, готов, саксов пересекли будущий Английский канал и поселились жить там вместе с туземными кельтами на земле мало плодородной. Можно полагать, что люди, тут живущие, не очень требовательны к жизненным условиям, к комфорту. Тот же тип людей через тысячелетие отважится переселяться в Америку. Однако, как подчеркивает Монтескье в своем «Духе законов» (кстати, труд этот вдохновлен его восхищением перед английской организацией общества в XVIIIb.), «бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными, способными к войне; ведь они должны сами добывать себе то, в чем им отказывает почва. Плодородие страны приносит им вместе с довольством изнеженность и некоторое нежелание рисковать жизнью» («О духе законов», кн.18, гл. 4).
Этот суровый стиль жизни сформировал то «йоменри», свободных земледельцев с сильным чувством собственного достоинства, которые образовали собой становой хребет английского народа. Христианство проникло на остров, одухотворяя грубых язычников, и так мирно зрела субстанция Англии в симбиозе кельтов и германцев, англосаксонских баронов с йоменами.
Однако в XI веке норманны оккупировали остров, словно осуществляя волю континента Евразии удерживать при себе эту окраинную землю, обратить ее в свою, континентальную, веру и стиль жизни. Французы были призваны исполнить эту службу для Матери Евразии. («Континент» = «протяженность» буквально, был, естественно, недоволен своим «отломанным ломтем» — островом, где слишком уж самостоятельным становится сын «материка» = «Земли материнской»). С XI в. и на века надвинулись французский язык и римская католическая вера, и кровь французской аристократии, внося новый мощный элемент и пласт в складывающуюся «английскость». И вот узел, сюжет и интрига английской истории затеялись с этого момента. Это — противостояние германоподобных англосаксов (вместе с туземными кельтами) — и французоподобной новой аристократии, сконцентрированной вокруг короля и его двора, который поддерживался папством Рима.
Итак, Остров — против Континента — эта борьба составляет содержание истории Англии в течение второго тысячелетия, включая и Наполеона, и Гитлера, кто гото-
6 Гачев Г. Д.
161
вились высадиться на острове, — вплоть до наших дней, когда англичане стали уже столь уверены в прочности своей субстанции, в незыблемости и нерастворимости своей сути, что дали согласие на туннель под Английским каналом. Французы именуют тот же пролив презрительным словом «Ла-манш», что значит «рукав» — второстепенная часть одежды на теле, которое имеет сердцем — само собой разумеется — Париж.
Таким образом, РУКАВ против РУБАШКИ — в таком образе можно себе представить историческую битву англичан за свой стиль существования. Рукав, однако, содержит нечто весьма ценное, а именно — Руку, инструмент для Труда. И это — Индустрия, «ургия» — стало главным оружием населения острова в установлении власти не только над собой — стать «самосделанными», а не французами сделанными человеками, стать зрелым джентльменом, а не маменькиным сынком или бастардом Материка Евразии, — но, по достижении сего статуса (в XVII веке), — установить свое правление над земным шаром (включая и Мать-Евразию — Индию) в империи Великой Британии. Даже после, в общем, мирного распада этой империи (дружественные отношения между членами Британского Содружества наций сохранены) англичане, с их принципом Труда, индустрии, экономичного производства, продолжают заправлять современной мировой цивилизацией — уже руками США, своей прежней колонии. Потому что эти, американцы, не изобрели существенно новых принципов бытия, которые не были бы открыты в Англии.
Принцип «время = деньги», индустриализм, культ техники, экономичность — это повелось с Д жемса Уатта и Адама Смита. Конституция, «права человека» — пошли с Великой хартии вольностей (XIII в.) и со Славной революции. Плюрализм и терпимость в религиозной области и в идеологии — тоже из Англии XVII века. Прагматизм, утилитаризм — с Бентама в начале XIX в. Динамизм в конкуренции — с «борьбы за существование» Дарвина и Спенсера и т.д. Однако ж есть тут и разница с Америкой. В Англии эти принципы не всепоглощающи, но сожительствуют в симбиозе с принципами, царствовавшими в прежние времена: монархия, аристократия, театр... Истеблишмент Англии имеет толщу и глубину; там, как геологические пласты, залегают разные стили жизни, идеи и нравы, тогда как в США последнее, новенькое и модерное, односторонне развивается и заливает плоскость этой страны без толщи и корней и
162
распространяется по поверхности и мировой цивилизации. Да, многослойна цивилизация Англии, и недаром геология как наука именно здесь первооткрыта (Чарльз Лайель). Американская же цивилизация плоскодонна.
Но возвращаюсь к образу — Рукав против Рубашки. Эта Рука, сокрытая в рукаве, набрала однажды столько дерзости, что смахнула и Голову с плеч — обезглавив в 1641 году своего короля, Карла I. Кромвелевский период Великого мятежа (1640—1660) был в то же время войной мужского начала (которое воплощалось в англосаксонских йоменах и в мелкой аристократии джентри, в нижних классах английского общества) против изнеженного, женоподобного нобилитета, группировавшегося вокруг короля и его офранцуженного двора. Король ощущался как инкарнация чуждого начала МАТЕРИка Матери Евразии, его женственного духа, что протянул свои французские щупальца через рукав Ламанша править островом, который хотел жить, петь и играть по своим нотам и скрижалям, что и выработали тогда пуритане.
Любопытно, что нежная плоть в человеке виделась идеологически подозрительной пуританам. Джон Мильтон, великий поэт и публицист в годы Английской революции, в юности тяжко переживал, что соученики прозвали его «леди» за деликатную комплекцию, и он так оправдывался в «Предварении» (Prolusion), написанном в 1628 году. «От некоторых из вас я получил недавно прозвище «леди». И почему ж им кажется, что во мне так мало от мужчины? Не потому ли, что я не мог заглатывать огромные порции выпивки, подобно круглобрюхим атлетам, или, без сомнения, потому, что моя рука не затвердела, удерживая плуг, или потому, что я не растягивался на спине под полуденным солнцем, как семилетний погонщик волов?» Черты простолюдина перечислены здесь. И не комплекс ли неполноценности перед мужланами подвиг Мильтона написать в свои преклонные годы драму не о ком-нибудь, а о супермужчине Самсоне («Самсон-борец»)?
Отщепление от римской католической церкви и тут же расщепление пуритан на множество сект — важнейшие события в формировании Английского бытия и мышления. «Католический» означает — «вселенский», излучает идею универсума, Единого, как и Материк. Английский же принцип — плюрализм индивидуальностей и характеров. А католические священники с их целибатом и тонзурой выгля
163
6*
дели евнухоподобными, отвратительными в глазах мужественных пуритан.
Однако английский принцип плюрализма сказывается во всех областях, в том числе и в соотношении мужского и женского начал тут. Андрогинен Альбион! (За белые скалы Дувра прбзвали римляне так остров бритов: от лат. albus — «белый».) Андрогин же — «муже-женщина», как гермафродит. Под холодным северным солнцем и в сыром воздухе не возжечься пламенной страсти (таковых своих персонажей Шекспир ссылает на юг, в Италию: Ромео, Отелло...), и любовь тут склоняется быть как дружба. Культ друга — и у матросов, и в поэзии Роберта Бернса. А в пьесах Бернарда Шоу сколь мужеподобны и разглагольны умные женские персонажи: активнее вяловатых мужчин. В то же время Оскар Уайльд был осужден за гомосексуализм. А переодеваться в женщин — обычное дело в шекспировском театре. И не случайно именно королев (не королей) на своем троне обожают здесь, и они дают имена эпохам: Елизаветинская, Викторианская. Ну и «железная леди» Маргарет Тэтчер приходит на ум.
Отталкивание от романо-французского католицизма зашло так далеко, что отразилось на трактовке христианства тут и, в частности, в сдвиге от Нового Завета, с его натуралистическими символами Отца, Сына, Матери, — в сторону Завета Ветхого, с интимным для самосделанно-го англичанина образом Бога как Творца-трудяги, кто создает «самосделанный» мир. Эллинско-евангельский Генезис (= порождение всего в бытии природным путем, через Эрос и Бога как Любовь) тут отодвинут, а придвинут к сердцу и уму иудейский Креационизм (сотворенность всего трудом, «ургией»).
Сюжеты Ветхого Завета тут переживаются интимнее евангельских. Вспомним эпос Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Иудейские имена широко распространены в Англии: Исаак Ньютон, Адам Смит, Ребекка Шарп (в «Ярмарке тщеславия» Теккерея), Урия Гипп (у Диккенса)... В других странах Европы такое не наблюдается. В романе Вальтера Скотта «Айвенго» (а ведь то же имя, что и у «русского Ивана», у этого средневекового рыцаря: IVANhoe!) благородные англосаксы и Ричард Львиное Сердце, в том числе, защищают еврея Исаака и его дочь Ребекку от притязаний французского рыцаря Бриана де Буагильбера. В Англии даже премьер-министром стал еврей Дизраэли и получил титул «Лорд Биконсфильд».
164
И хотя в Англии много «Тринити»-колледжей, однако в Троице важная перетасовка ипостасей по ценности произошла, сравнительно с трактовкой Троицы на континенте: в католицизме и в православии. В связи с ослаблением Природы и Матери-и здесь и усилением Труда и изобретательности Разума на первый план выдвигается Бог не как Отец, а как Творец, а также ипостась Святого Духа, который нисходит на верующих (как в Пятидесятнице) и изливает на них дар пророчествования, так что напрямую и без посредства пресвитеров каждый англичанин сам сообщается с Богом — и так многие там основывают свои толки и секты, самоопорные и «самосделанные» и в вере. Культа же Богородицы (как в православии) или Мадонны-Девы (как в католицизме) тут нет. И Иисус не столько как Сын ощущается, а сам по себе, оторванно от Отца и Матери. Как брат Человеку...
САМ против Целого (SELF contra TOTAL) — такая тенденция может быть прослежена в формировании английской сущности, «эссенции». На континенте напротив: тенденция к Единству и монизму и в религии, и в мировоззрении (католицизм, социализм, патриотизм...) сильна. В Англии же — культ частной жизни (privacy): «мой дом — моя крепость». Англичанин хочет сам определяться, самим собой — и в вере, и в идеях, и в стиле жизни и быта. (Потому тут уважают чудаков, странных людей, со сдвигом, идиотов, шутов — у Шекспира. И термин «джокер» — «шутник», отсюда пошел.) Нет нормы человеческого характера — напротив, пестрота чтится! Сколько их, разных — в «Кентерберийских рассказах» Чосера, у Шекспира и у Диккенса!..
Если на континенте в чести Великое и Единое (французский культ Grand, grandeur), и Высокое, то в Англии — Малое и Низкое выдвигаются как почтенные. На Материке единый и великий глава христианства — Папа, а в Англии каждый приход самоуправен общиной «малых сих». Даже в терминологии богослужебной это очевидно. «Пастырь» даже в Лютеровой реформации именовался как «магистер» (от лат. magis — «больше», «большевик», значит), а в англиканской церкви священник именуется «министер» (от лат. minus — «меньше»). Еще Томас Гоббс так различал англиканскую и лютеранскую концепции: «Мы смотрим на кафедру — не как на магистерство, а как на министерство». Тут игра слов — между «большим» и «меньшим», как и Иисус повелел: кто хочет быть большим в царстве Божием, будь меньшим, слугою...
165
Также и «общее» тут в чести: «здравый смысл» здесь — common sense, а парламент, «Верховный (по русско-континентальной самоприниженности перед властью) совет» — House of Commons, «домишко общий»...
Идеал англичанина — ДЖЕНТЛЬМЕН. Это в высшей степени «самосделанный» человек, зависящий только от себя. Человек-остров. Но нелегко быть таким, много жертв приходится принести на алтарь независимости. Надо осознать свою меру, размеры своих талантов и способностей, и лучше недооценить их, чем переоценить (в отличие от француза, который склонен к обратному). Потому что в последнем случае вы можете выглядеть смешным и узреть презрение в глазах истинного джентльмена. В первом же случае (когда я сдерживаю свой потенциал) я имею сопрятанное самоуважение и право иронии.
Итак, самоограничение и воздержание. Но это значит, что вам надо обрезать свои желания, сдерживать страсти, ибо они могут вынести за пределы вашей меры и ввести в зависимость от других людей и вынудят заискивать, унижаться. Может случиться, что, практикуя самоограничение, вы можете потерять много шансов, лишить себя успеха, счастья. Вам надо было, может быть, всего лишь присогнуться малость и попросить... Но это значило б потерять нечто большее, чем удачу, — самоуважение. И вы предпочитаете быть скорее умеренным в амбициях, нежели рисковать и, может быть, выиграть. Джентльмен — смелый человек, он может рисковать жизнью, но не самоуважением.
Вот как идеал джентльмена описывается в книге Розен-штока-Хюсси «Из Революции»: «Роберт Пиль сказал однажды: «Требуется три поколения, чтобы создать джентльмена». В нем нет ни одной черты, связанной с положением, когда человек зависит от других или правит другими. Джентльмен — воплощение независимости. Он твердо держит слово — даже если его обещание приводит его к проигрышу... Джентльмен выдерживает себя в моральной дисциплине еще и через отречение от высокоумных претензий интеллекта. Он предпочитает находить свой путь инстинктом, через внутренние ощущения, но не логической цепью дедукции.
Кардинальная добродетель англичанина — присутствие духа. Если немец в своей речи предложит результат прошлой мысли, а русский изложит план на абстрактное будущее, то англичанин полагает невежливым вторгаться в настоящее со своими прошлыми мыслями или будущими
166
намерениями. Его речь изобилует преуменьшениями и мягкой иронией. Самоконтроль, самообладание, самоподав-ление, самостушевыванье, самозавоевание и т.п. — неистощимый список подобных слов указывает на это одно из величайших достижений англичанина. «Его отличала обычная английская тенденция скрывать свой талант, который мог бы подразумевать притязание на превосходство», — говорил сэр Джильберт Мэррей о своем молодом друге. Француз принимает во внимание внезапные повороты колеса фортуны, англичане берут на себя полный риск и умеют достойно проигрывать. И это не случайно, что «джентльменское соглашение» стало надежнейшим гарантом в международных отношениях»1.
Итак, француза заботит мнение о нем в глазах других, в кругу, в «социальном рондо» своего общества. Это не СА-МОуважение, но ДРУГИМИ-уважение. И лучше, если другие будут более высокого мнения о моих способностях, нежели они на самом деле. Чтобы понравиться людям, француз может из кожи вон лезть и развить способности за пределы своей меры, действительно превзойти себя. Так тщеславие может стать импульсом ко благу, к совершенствованию.
Немец обладает самоуважением, как и англичанин, но заходит в этом за свою меру, чувствуя себя бесконечным, Сверхчеловеком. Это гордость, высокомерие, что чуждо джентльмену, хотя он и может выглядеть похоже. Он просто замкнут, потому что «фамильярность порождает презрение» — английская пословица.
Еврей не заботится о том, как он выглядит и о самоуважении, но о результате своих усилий. Для этой цели он не остановится перед самоуничижением, потому что «я» — совсем не имеет такого значения для него, но реальные ценности: Бытие, Жизнь, Любовь, Богатство — эти серьезные сути. И царь Давид, и иудейские пророки были экстатичны, то есть выходили за границы своих «я» — чтобы встретить Бога, и не останавливались перед проклятьями своему «я» (как Давид в своих псалмах покаяния).
В самосделанном человеке-острове естественна тяга к обособленному житию, иметь свой дом — как микрокосмос: там и свой огонь — камин (долго сопротивляется анг
1 Eugene Rosenstock-Huessy. Out of Revolution. Argo Books. Norwich, Vt.1969.—P. 326-327.
167
личанин центральному отоплению, что дышит тотальностью, непрошеным континуумом континента; он же чтит дискретность — в Пространстве и во Времени). Ему надо иметь свою крышу — как свое небо, откуда выходить на прямой контакт с Духом Святым, минуя посредников. Принцип посредства, напротив, приемлем Континенталам: вспомним «средний термин» в силлогистике Аристотеля или «опосредствованье» в философии Гегеля... Это все элементы подчинения единичному всеобщему, целому и оттуда управления моей малостью. Англичанин же предпочитает, если подчиняться, то — себе самому (но зато и строг он к себе, не снисходителен), иметь, так сказать, «хоум-руль» во всем, самоуправление (о чем Ирландия века мечтает и чего добивается...)
Когда Англия пришла к своей сущности и установилась в своем особом сложившемся качестве среди стран и культур мира (а совершилось это в XVII веке, к концу его), настала пора ей вспомнить о своем втором призвании: что она не только остров, но и корабль в ОКЕАНЕ. Джентльмен преображается в Моряка. Отныне это два главных типа англичанина. Если Джентльмен весь — самосдержанность в своем доме-крепости у камина, то Моряк весь — спонтанность и открытость навстречу всем ветрам и впечатлениям, идеям и действиям. (Такое настроение и состояние человека выражено в «Оде Западному Ветру» Шелли.) Робинзон Крузо, Гулливер, Родерик Рэндом, наугад и наудачу плывущий в мир, Джон Сильвер (из «Острова сокровищ» Стивенсона) и прочие «джентльмены удачи» — подлинно!..
Вот Робинзон Крузо. Само имя — от милой птички Робин (малиновки, что излюблена в английских народных песнях и у поэтов) знаменует его как того истинного Сына Англии, кого она выпестовала за предыдущие столетия, кого отлила ее субстанция и кого теперь можно экспортировать в другие страны и земли, дабы цивилизовать их в английском стиле. Островитянин сам, он становится основателем цивилизации на новооткрытом острове, как новый Бог-Творец, обожаемый язычником Пятницей. За век до того подобный случай описан в шекспировой «Буре», где Просперо сходен с Робинзоном, а Калибан — с Пятницей. Но есть и знаменательная разница между ними. Просперо — волшебник, маг и чародей, тогда как Робинзон — прагматик и техник, чьи орудия совершенно рациональны. И как раз эта абсолютная рациональность того, что и как
168
он делает, образует уникальное очарование и поэзию этой книги. Это просто учебник для каждого: как быть «самосде-ланным» человеком и построить самосделанный космос вокруг себя. «Робинзон Крузо» может рассматриваться как пророчество о становящейся Американской цивилизации, которая тоже строилась самоед сланными людьми, пуританами, потерпевшими религиозное и бытовое кораблекрушение у себя на родине в Англии и высадившимися в Новом свете создавать самосделанный мир, — с той только разницей, однако, что они не вовлекли Пятницу с собой в творческую работу, но убили, чтоб он им не мешал работать самим. Такие лютые на работу трудяги, что даже раб им — помеха!...
«Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта предлагают другой вариант архетипа Моряка. Имея тот же изобретательный гений, что и Робинзон, Гулливер — прежде всего наблюдатель разных возможных образов жизни и систем ценностей — и не только у людей, но и у животных: ведь одно из путешествий привело его на остров благородных лошадей, «гуингмов», кому человекообразные существа «йэху» прислуживают. Широкий скептический взгляд, который приемлет плюрализм в стилях жизни и идеях, стал возможен благодаря встречам англичан с иными мирами в их мореплаваниях и множеству ОПЫТОВ, что расширило их знание, как и предполагал Бэкон.
Своими опытами Гулливер натренирован в ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, в релятивизме. И это было гносеологическим открытием в Западном Разуме, который доселе упорно стремился к Абсолюту и к единой Истине и тождеству (хотя еще грек Протагор-софист утверждал, что «человек — мера всех вещей», располагая их относительно человека, а не по своей истине объективной). В стране лилипутов Гулливер сталкивается с человечками — карликами по сравнению с ним. Но при путешествии в Бробдингнег он оказывается сам карликом в сравнении с великанами-туземцами. Эти рациональные математические пропорции соделаны аналогично Ньютоновым, кто одновременно сочинил свои «Математические начала натуральной философии». Правда, сатирический ум Свифта не пощадил и ученых умников: в «Путешествии в Лапуту» он поднимает на смех рассеянных интеллектуалов, углубленных в разрешение абстрактных проблем, не имеющих ничего общего с жизнью.
Вообще сатира и, шире,'ЮМОР — излюбленное в Англии настроение и принцип отношения к вещам и явлени
169
ям. У Бена Джонсона развита целая теория Юмора, и в английской литературе — многообразнейшие вариации и открытия в этом жанре. И это вполне связано с многосложностью английской субстанции. В самом деле: среди множественности пластов, залегших в поддон английского бытия, в толще Времени и среди ошеломительных, уму не постижимых открытий иных миров и представлений в Пространстве, человек мог бы сойти с ума, не имей он и не развей себе в юморе терапевтическое средство справляться с мощью наседающих из бытия идей («впечатаний», по Локку, вдавливаний в нас), смягчая претензии различных феноменов на абсолютную истину и ценность. Хороший урок по относительности всего преподал еще Гамлет своему ученому другу Горацио после философского диалога с веселыми могилыцйками на кладбище:
Гамлет. Как ты думаешь: Александр Македонский представлял в земле такое же зрелище?.. И так же вонял? Фу!.. До какого убожества можно опуститься, Горацио! Что мешает вообразить судьбу александрова праха шаг за шагом, вплоть до последнего, когда он идет на затычку пивной бочки?
Горацио. Это значило бы рассматривать вещи слишком мелко.
Гамлет. Ничуть не бывало. Напротив, это значило бы послушно следовать за их развитием, подчиняясь вероятности. (Прерву: вот Английский Логос — не необходимости, как у континентальных «тоталов», германцев, прежде всего, и не возможности, как у более лабильного в этом отношении эллина Аристотеля, но — ВЕРОЯТНОСТИ — likelihood — «подобия» точнее. А «вероятность» не железна, а свободна и включает Случай-ность. Принцип же «подобия», аналогии действует и в английском праве и судопроизводстве, основывающемся на «прецеденте», а не на жестком законе. — Г.Г.). Примерно так: Александр умер, Александра похоронили, Александр стал прахом, прах — земля, из земли добывают глину (— ургийный подход: оптика народа трудяг, индустриалов, переработчиков сырья, что и будет далее в веках делать промышленность Великобритании. — Г.Г.). Почему глине, в которую он обратился, не оказаться в обмазке пивной бочки?
Истлевшим Цезарем от стужи Заделывают дом снаружи.
Пред кем весь мир лежал в пыли, Торчит затычкою в щели.
(«Гамлет», акт V, сц,1, пер. Б. Пастернака)
Или такой силлогизм: Цезарь умер, Цезарь похоронен, червь ест его тело, рыбак ловит рыбу на этого червя, рыбу
170
ест нищий — таким образом Цезарь путешествует по кишкам нищего.
Гамлет дурачит, но как мудро! Вообще ДУРАК, ШУТ — важнейший персонаж в английском театре и литературе. И он в высшей степени философичен. Ведь люди, кто смертные и частичные существа, в сущности, обманываются и дурачат друг друга, когда претендуют знать и управлять реальностью. Так что честнее и лучше нам жить с презумпцией непонимания: что я дурак и дурачим. В этом философская мудрость Шута в «Короле Лире»: он собой представляет зеркало самоуверенному королю, и в нем тот узнает и себя дураком.
Да, именно юмор (а не сатира) характерен для английского смеха в художественной литературе. Сатира слишком рационалистична и жестка, абсолютна в отрицании, а ведь ничто в бытии не заслуживает такого серьезного отношения, и ни один человек не может быть абсолютно ужасным. Снова напоминаю о теории юмора Бена Джонсона, в которой он подчеркивает умиротворяющую функцию юмора в битвах за существование: юмор учит прощать и быть милостивым. Шеридан, Диккенс, Оскар Уайльд («Как важно быть серьезным»), Бернар Шоу... — сколько их, мастеров юмора в Англии!
— А Свифт, Байрон, Теккерей, Олдос Хаксли, Оруэлл? Это ж — сатирики! — Да, согласен: в Англии есть все. Я снова убеждаюсь в этом и готов признать себя дураком в моих амбициях утверждать здесь что-либо абсолютно.
Любопытно посравнить тип дурака английского с русским Иваном-дураком. Русский противопоставляется умным и работящим братьям; он же лежит на печи, не предусматривает и не планирует в заботе, — и ему, словно в благодарность за непосягательство, Бытие само отдается и осыпает благами — «по щучьему веленью, по моему хотенью»: невеста ему красавица, и царство... С ним чудеса и волшебства творятся. Восточная мудрость НЕДЕЯНИЯ, Дао — в нем, как и в толстовском Кутузове, кто не особо вмешивается в ход событий, а дает им идти своим чередом, подчиняясь естественности.
Этот аспект чужд английству: тут труд и предусмотрительность — в чести. Ну да: русский-то Иван — на печи, на каменке, на твердом материке; англичанин же — на палубе острова-корабля: тут «хочешь жить — умей вертеться!» Однако самоуверенная рассудочность и здесь подвергается осмеянию.
171
Теперь подумаем о национальных пороках: они ведь тоже специфичны в каждом мире. Лицемерие и Ханжество часто указываются как специфические пороки джентльменов и джентлледи в английском Социуме. Но они объяснимы и оправдываемы — как раз исходя из английского плюрализма! Уникальное и восхитительное качество английского развития, в сравнении с другими странами, — в том, что ничто не разрушалось там напрочь и не вытеснялось другим элементом, который вставал на то же место (как это в России, чья история не ведает эволюции и терпимости, но идет от одного абсолютного разрушения, как революция 1917 года, к другому, как «перестройка», и т.д.), но просто отодвигалось чуть и сохранялось рядом со своим прежним противником. Так монархия существует рядом с парламентом, палата лордов рядом с палатой общин, старые законы и прецеденты действуют рядом с новыми и т.п. Также и обычаи, и ритуалы, и нравы... Англичане аккумулируют и сохраняют («консерваторы» — консервируют!) все хорошие и все дурные явления во взаимном сосуществовании. Они — гении традиции. И ритуал вежливого поведения и почтительного обхождения хоть бы и с отъявленным мерзавцем есть уважение к строю Целого, к истеблишменту, который призван тут решать уравнение со столь многими неизвестными, согласовывать столь противоречащие друг другу интересы и страсти в многоразличных стратах национальной субстанции. «Лицемерие» таким образом может оказываться родом скромности и воздержанности от суждения и осуждения ближнего, с презумпцией возможной и неправоты своей. Быть искренним и откровенно и напрямую выражать мнения в столь сложном социуме — такое поведение изобличало бы, скорее, твою амбициозную самоуверенность и глупость. Enfant terrible («ужасное дитя», франц.), персонаж, столь излюбленный во французской литературе («Кандид» и «Простодушный» Вольтера...) и в русской (Пьер Безухов в «Войне и мире» Толстого, князь Мышкин в «Идиоте» Достоевского), приемлем, естествен в этих относительно прозрачных реальностях и просто устроенных социумах. Но в многоскладчатой Англии... — просто умнее держать свои мнения при себе и улыбаться человеку, которого ненавидишь, соблюдать декорум и не презирать, и не обличать в открытую. Можешь, пожалуйства, давать выход этим отравляющим тебя эмоциям — ну, в сплетнях, сбоку, потом, в своем кругу и слое. Да и как знать: может, я и неправ? Так что
172
заповедь «не суди!», христианская, может и через порок лицемерия воспитываться и исполняться.
Ханжество — это когда человек притворяется нравственным, не будучи таковым в действительности, и укоряет других, сам будучи гораздо хуже. Однако он ставит нравственный закон выше себя (раз притворяется и сгибается перед ним) — и то уже неплохо в человеке. И он не бьет, не убивает, рукам волю не дает, но остается в рамках слова. Да, и лицемер, и ханжа — сосуды с ядом, но отрава эта все-таки удержана за стенами этих существ, в их замке и крепости, как в капсуле, наиболее отравляя их самих, а не пространство социума. И в пороке — самосделанный здесь человек, самоотравный. Втисненный в себя, спрессованный.
Душа человека — не нараспашку в Англии. Не нараспашку и порок, но сокрыт... Ради Бога: травись им сам — все обществу лучше, коли он локализован в кастрюле твоего существа; тушись и душись там, пыхти-испаряйся. Все равно ты — самость при этом и джентльмен можешь быть. Ибо хуже этих пороков — фамильярность (а простодушие, искренность и откровенность — роды фамильярности), ибо она порождает презрение (повторяю).
Снобизм людей из низших классов и чопорность высших — в этих отрицательных душевных качествах тоже зрю смысл и плюс. В них средство против нивелирующей энтропии, они помогают содержать различные страты многоэтажного общества герметически закрытыми, сохранять свои качества и не растворяться в смеси и упрощении. Это — как шлюзы. В частности благодаря им, английский истеблишмент сохраняется в состоянии «цветущей сложности» и не впадает в состояние «вторичного смесительного упрощения» (я употребляю термины русского мыслителя Константина Леонтьева), как это происходит в более элементарном социуме чистой демократии (каковы США).
Путь наверх в густо структурированном английском истеблишменте весьма зутруднен: как пробиться в герметически закрытые клубы, общества, круги? Ребекка Шарп, героиня «Ярмарки тщеславия» Теккерея, уж какие только не употребляет средства: хитрость, ложь, соблазн, чтобы выбиться наверх! Но ее комета, прекрасная даже, сгорает в плотных слоях атмосферы разных страт, сословий, высших ее, куда она силится проникнуть. И она вызывает симпатию в своих отчаянных усилиях и борьбе. И ныне в литературе «сердитых молодых людей» после Второй мировой войны та же проблема стоит, и один роман так и
173
назван «Путь наверх», точнее, «По ступеням лестницы» — вот именно: по пластам. А они запаяны, как переборки между отсеками на корабле. Нелишняя предосторожность на судне-острове: если затопит один отсек, другой еще удержит корабль на плаву. Корпоративность социума может обеспечить его регенерацию в случае чего, восстановление.
ДЕТЕКТИВНЫЙ жанр, сей мощный вклад-открытие английской литературы в мировую (Конан Дойль, Честертон, Агата Кристи) — есть натуральный продукт этой густо сослоенной (как пирог) английской субстанции и втис-ненного в себя и замкнутого человека-крепости здесь. В них надо пробиться, вбуриться, как рудокопу — в глубокий поддон и каждой жизни, семьи, и каждого события и человека, в их «андерграунд». И Шерлок Холмс, как своего рода геолог и шахтер (классическая профессия среди анг-лий-ских рабочих), поднимает слой за слоем, чтобы отыскать жилу, напасть на нить преступления, что сокрыта в мистериальной запутанности событий.
Детективный жанр — хитроумное искусство, ювелирная микрохирургия. Она не разрушает организм социума, но, напротив: даже примиряет с ним и преступлениями, обычными в нем, раз они дают материал для такого изысканного интеллектуального наслаждения — читателю и публике: созерцать исследовательскую работу расследования (как ученые-экспериментаторы мастерски изобретательны в Англии) и тренировать свое знание законов и как их обходить, как быть преступником и лояльным гражданином в то же время.
В более грубой Америке изобрели потом «детектор лжи» — прибор, улавливающий: правду ль говорит человек или ложь? Какой примитив миропонимания — и человека, и Логоса! Бытие так сложно и перепутано, что при самых добрых намерениях узнать истину и говорить правду мы ошибаемся и лжем — объективно. «Мысль изреченная есть ложь!» — мудро это понимал русский поэт Тютчев. А уж в Англии, при такой сложности ее состава и устройства, ложь — как клей сложности, помогающий ей не развалиться. Все лгут и знают это — и серьезно, и весело, и остроумно-играючи — и снисходительны к сему. Как само-заговорщики и авгуры в этом — англичане.
Между прочим, «Гамлет» — тоже детектив отчасти: принц датский устраивает хитроумную ловушку своему дяде-королю, ставя спектакль «Убийство Гонзаго», следит
174
за реакцией короля и королевы, и они в его сети попадаются, а он удостоверяется в их преступлении.
Однако детектив, имеющий обычно дело со смертью, убийством, не дает катарсиса, того очищения души через страх и сострадание, которое давала и греческая трагедия, и шекспирова... В детективном жанре — не у дела эмоции, лишь любопытство и интеллектуальный интерес к логичности расследования. И не предполагается сострадания к персонажам. Эмоциональность, в общем, — нечто постыдное для джентльмена, особенно открытое выражение чувства. Детективный жанр — как джентльмен среди жанров литературы: он должен быть подтянут, сухожилен, не иметь ничего лишнего (там пейзажи, лирика и прочие «сопли» — никакой воды! — и так ее вдоволь в волглом космосе Британии), почти математически рационален, сдержан.
Да, сыр космос Англии, тут фог и смог, чахотка и силикоз у шахтеров, что описано и у Энгельса в «Положении рабочего класса в Англии», и у Дж. Лоуренса в его романах и рассказах в нашем веке. Глубины Земли мстят этими болезнями английскому человеку за вторжение в ее недра, нарушающее ее жизнь в себе и покой. Англичанам, которые потратили столько усилий, чтобы оторваться от Матери Земли континента, обособиться в замок острова от материка, теперь не осталось иного шанса приумножить себе материю, стихию земли, как выкапывать ее, поднимать, зарываться вниз в вертикальном направлении. Шахты — благословение и проклятие Англии. Они добыли уголь отапливать уютные домики-крепости, питают семейно-рожественское тепло каминов. Уголь поставил энергию — стихию огня, волю преобразовывать сырую материю в индустрии и промышленной революции. Но шахты очернили воз-дух, превратили его в фог и смог, обуглили-оземлили легкие (а они — представители стихии воз-Духа в человеческом теле), отравили жидкости (= воду-стихию) в тканях плоти, окрасив их в черное — в «мелан-холию», которая в буквальном переводе с греческого означает «черная желчь». Пресловутый СПЛИН, этот недуг от застоя соков в теле, принялся преследовать Английскую Психею: читайте Байрона, Уайльда, да и наш байронический герой Онегин туда же:
Недуг, которому причину Давно бы отыскать пора, Подобный английскому сплину, Короче: русская хандра
175
Им овладела понемногу;
Он....................
...к жизни вовсе охладел.
Как Child-Harold, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный, Ничто не трогало его.
(Гл.1, XXXVIII)
В английской гамме выдержана тут онегинская ситуация: и игра «бостон», и светская «школа злословия», ну и, конечно, модная тогда модель Чайльд-Гарольда. А причина-то, которую «давно бы отыскать пора», — анемия недвижности, оцепенение, холод в крови, меланхола и флегма — эти жидкости преобладают в английском антропосе, в отличие от сангвы (что во французе) и холеры — в итальянце. Цепенит Космос холодного влаго-воздуха вокруг — и потому «Бэтси, нам грогу стакан!» — горячительная огневода — еще и ром, и джин, и виски — это вливает в себя человек тут в противодействие сырому окружному пространству.
Однако чуткость Английства к вертикали земной (геология!) еще многим явлениям объяснение дает. Пиетет к могилам, кладбищам, захоронениям милых родных мертвых, кто лежат тут, внизу, как соседи жизни живых, и соотнесение с ними — вдохновляет английских поэтов. Знаменита «Элегия, написанная на сельском кладбище» Томаса Грея. Тут не только глубокие медитации о жизни и смерти, но впечатляет воскрешающая дума: подобно тому как церковь трактуется как объединяющая живых и умерших в одно целое, так тут население Англии, народ чувствуется двуслойным, по крайней мере:
Ах! может быть, под сей могилою таится Прах сердца нежного, умевшего любить, И гробожитель-червь в сухой главе гнездится, Рожденной быть в венце иль мыслями парить! Быть может, пылью сей покрыт Гемпден надменный, Защитник сограждан, тиранства смелый враг;
Иль кровию граждан Кромвель необагренный, Или Мильтон, немой, без славы скрытый в прах.
(Пер. В. А.Жуковского)
То есть потенциал жизни и деятельности провидится в покойных, планы и надежды. Или вспомним Гамлетово 176
меланхолическое «Бедный Йорик!», когда он над черепом этого королевского шута, своего друга и воспитателя, размышляет о переплетенности умерших и живых. Но все ж самое поразительное и уникальное — мы находим в стихотворении Вордсворта «Нас семеро». Поэт встречает девочку восьми лет:
«Всех сколько вас? — ей молвил я, — И братьев и сестер?» «Всего? — нас семь...
Нас двое жить пошли в село, И два на корабле, И на кладбище брат с сестрой Лежат из семерых, А за кладбищем я с родной, — Живем мы подле них».
...«Но вас лишь пять, дитя мое, Когда под ивой два»
...«О нет, нас семь, нас семь!»
(Пер. И.Козлова)
Память — тоже род геологии. Воспоминания — раскопки в душе. И в английской все содержащей и все сохраняющей субстанции память рода и предков придает дополнительное достоинство живущему. Культ фамильных склепов в аристократии, замки, населенные призраками живших здесь, — все говорит о вовлеченности ушедших вниз пластов в существование ныне живущих на поверхности. Ведь и они тоже в свою очередь (и об этом помнит англичанин!) станут ушедшими и станут также питать собою многоуровневую субстанцию Английства. Густонаселенный это Космос — и внизу, и вверху, над землей, в воздушном пространстве, где эльфы и сильфиды народных поверий (и у Шекспира в «Сне в летнюю ночь»), и призраки и духи в романах («Готический роман» Анны Радклифф, «Собака Баскервилей» Конан Дойля...), и теософии (спиритизм в конце XIX в., Анна Безант...).
Это памятование отличает англичан от американцев, которые, в своих постоянных миграциях по обширной территории США, меняя места работы и обитания с легкостью, оставляют могилы предков и родных позади себя, как экскременты, в забвении. Лишь на первых порах становления американской цивилизации, когда она еще не порвала пуповинной связи с метрополией Англии (у Анны
177
Брэдстрит в XVII в., да даже и у Эдгара По, с его памятью о той «единственной и лучистой деве, кого ангелы назвали Ленорой...»), аналогичные мотивы и настроения мы встречаем в литературе.
Итак, Космос Англии уже стал прорисовываться, как его можно описать на языке четырех элементов: «земля», «вода», «воздух», «огонь». Какова тут стихия «земли», я уж пытался представить. Теперь — о других. Стихия «воды» тут присутствует прежде всего в виде моря-океана: вода заполняет огромное, бесконечное пространство, протяжение бытия, которое континентальные нации (Россия, Германия...) привыкли воспринимать в виде стихии «земли»-матери-и, твердой суб=станции=«под-ставке», опоре, фундаменте.
Обитание же на палубе острова-корабля инициирует совсем другое чувство существования в душах людей, в английской Психее. Бесконечность, воспринимаемая в форме стихии воды, имеет в себе нечто мистическое и магическое. Море-океан столь зовущи, приглашающи и гостеприимны, как обитель Свободы. Вода так мягка и податлива на человеческое усилие, так уступает, будто это совсем и не материя, а нечто легкое, прозрачное, духовное... Как Любовь и Вечно Женское, как Благодать и жизнь на воле. И в то же время это — Смерть. В этой «воде», в ее мягкости — жесткость соли. А «соль» — это «огонь-земля»: ее убийственная острота присутствует в ранге посла в каждой капле, столь совершенно шарообразной по форме и улыбающейся. Эта вода не позволяет глотать себя во утоление вашей жажды, дабы продлить жизнь, но, напротив, заглатывает вас, предлагая тонущим морякам бесконечную могилу... Такого чувства и знания не могут иметь народы-ма-терикаты.
Остров Англии, таким образом, окружен мистерией, что дышит тут в ветрах, в туманах, в испарениях сырого воздуха, который населен духами и призраками, фантазиями и утопиями — всеми этими продуктами воображения, что образуют и окружающую среду для английской Психеи и питают творчество в искусстве и науке. Эти испарения конденсируются в «макбетовских» ведьм, в Ариеля из «Бури», в утопии и видения («Утопия» Томаса Мора, «Атлантида» Бэкона, «Королева Маб» Шелли, в научную фантастику Герберта Уэллса). Духовидение заразило и строгих ученых (толкования Ньютона на книгу пророка Даниила, напри-178
мер). «Естествознание в мире духов» Энгельса — об этом поветрии в умах английских ученых в конце XIX века. Это может показаться странным рядом с тем трезвым прагматическим подходом к реальности в труде, индустрии, опытном знании в технике, что так характерен для английской ментальности тоже.
Странное соседство — да. Тем не менее они находятся в дополнительности друг ко другу: опытная наука и духови-дение. Английский Логос этим как бы платит дань Мировому Разуму за свой отказ от теоретического подхода к Бытию, за отвращение от философии большого стиля, которая цвела на материке Евразии (Индия, Греция, Германия...). Вместо тотальных теорий и категорий (как Логос, Абсолют, Субстанция, Экзистенция...), вместо глоба-лий у них — теории ad hoc, сочиняемые применительно к данному случаю — подобно тому, как тут раскололи «диссентеры» и «диссиденты» единую христианскую религию и церковь на множество сект и толков.
Стихия воз-духа, точнее «влаго-воздуха» (в сочетании с «водой»-стихией) питает поэтическое чувство в англичанине. Ветры, облака, лучи, радуга, листья, цветы, птицы, озера, лужайки населяют это поприще. Смена времен года — постоянная и даже дидактическая тема в английской поэзии: она учит надежде, продолжать усилия:
Ты — труба пророчества, о ветер!
Если Зима приходит, может ли Весна быть далеко позади? — такой мажорной интонацией завершает Шелли свою «Оду к Западному ветру».
Что же обитель стихии «огня» в космосе Англии? Конечно, солнце на небе, но и черное солнце недр — каменный уголь. А более всего — энергия и воля в людях, полыхающий пламень борьбы (за существование) и труда, индустрия, промышленность, что пропустила через горнило (именно — кузницу!) труда и естественную природу, которая стала тут selfmade nature — «самоеделанной», как и человек. И если английский парк — естественный, в сравнении с французским, то естественный разброс тут и непринужденность — в высшей степени продуманы и есть та Природа, что дозволена человеческой Свободой.
Даже язык английский прошел, можно сказать, огонь, воду и медные трубы в ходе своей тысячелетней истории, превратившись из синтетического (что еще полуприроден, пуповинен с женским началом Матери-и) в аналитиче-
179
с кий, который более приспособлен к мышлению индивида в индустриальном обществе: экономичен по средствам, оперирует со стандартными деталями и блоками, более функционален, чем субстанциален...
Ну а теперь продумаем: как английский ум в науке и философии скоординирован с национальным Космосом, природой Англии и с антропосом тут — с типом англичанина и его национальным характером.
Итак, Космос Англии есть НЕБОГЕАН, а в нем остров-корабль — selfmade man. «НЕБОГЕАН» — это мой термин-неологизм. Он довольно емок. Тут и Небо + Океан, воз-дух + вода — как состав стихий; тут и «Бог» — вспомним религиозные искания в английском Логосе, в том числе и у Ньютона; и «He-Бог» = богоборчество: Люцифер Мильтона, Каин Байрона и т.д. Небогеан — тот самый Sensorium Dei = «Чувствилище Бога» (термин Ньютона о Пространстве), в котором происходят все события в шекспировой драме Механики Ньютона. Небогеан — это силовое поле, электромагнетизм Гильберта—Фарадея—Максвелла, эфир, к которому так долго была привязана английская физика, что с трудом принимала Эйнштейна.
А в Небогеане — остров-корабль-самосделанный человек.
На материке мать-земля огромная держит человека в бытии, и ему тут — не усиливаться, а понимать формы, фигуры наличных тел. Когда же человек в Небогеане — собой всю твердь и образует, он усиливаться должен и себя, и все создать искусственно уметь: не в веществе, но в воле и энергии может он уравняться с бытием. Отсюда сила важнее формы и массы, и движения. Страсть и энергия выражений, динамика отличают героев и действие драм Шекспира от, в сравнении с ним, малодвижных и резонирующих драм французского классицизма иль драм для чтения Гёте и Шиллера. Если языком Бхагавадгиты выразиться, то тут в космосе «тамаса», гуна «раджас» важнее «саттвы»: чтоб преодолеть инерцию — эту врожденную силу материи (так ее определяет Ньютон).
Человеку в космосе невидали регулировка в жизни возможна не световая: идеями = видами эллинского Логоса, но на ощупь: опытно-инструментальная. Потому вместо эллинского термина «идея» тут impression Локка-Юма: «впечатыванье» силовое. Потому Англия — страна опыта и техники: тут опыт провозглашен Бэконом как принцип добы-180
чи знания, а техницизм и изобретательность англичанина и в русской песне прославлены:
Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, Изобрел за машиной машину...
В самом деле: где в двух шагах ничего не видно — какие тут идеи-виды как регуляторы возможны? И Бог — тут не Свет эллинского по духу Евангелия от Иоанна, но Сила, невидимо движущая и управляющая векторно, в направлении определенном — наподобие магнита, что англичанин Гильберт в 1600 г. исследовал досконально, а за ним и электромагнетизм Фарадея—Максвелла, — или тяготения всемирного Ньютона. И в этом Небогеане двигаться кораблю-человеку можно по силовым линиям поля бытия, компасно-векторно, но регулируясь самостоятельно, руками и ногами — как шатунами-кривошипами: «самосделанный» тут человек, а не «рожденный» матушкой-природою: тут космос ургии, а не — гонии.
На материке материнском Евразии, где континент-континуум, — тут Логос дедуктивно-растительный: развить древо системы чрез непрерывность и ветвение логических выкладок. Логос в Евразии — Сын: Неба как тверди света и Матери(и)-земли.
В Англии же мысль то движется шаг за шагом, цепь за цепью, бульдожьей хваткой — как в «Началах» Ньютона. А Оливер Лодж предлагал даже устройство электромагнитного поля и распространение волн в нем представить наподобие системы зубчатых шестерен. И вдруг — перескок и прыжок в фантастический домысел. Тут спиритизм, теософия (Анны Безант)... Да и Ньютон: в «Началах» архиточен и брезглив к домыслам, даже гипотезы отвергает («нон финго»!), — а каким еще домыслам предается в своих толкованиях на книгу пророка Даниила и Апокалипсис!.. И, кстати: как в Механике предмет его — силы, так и здесь: власти и царства — все из сферы мира как воли...
Если «гений — парадоксов друг», то английский Логос парадоксален по преимуществу (напомню парадоксы Рассела, Уайльда и Шоу).
Если на материке — монизм, дуализм, Троичность, то тут — плюрализм и терпимость к сосуществованию многого и разного. Если остров Япония — пролог Евразии, то остров Англия — ее эпилог. Все, что на материке возникало, развивалось, превращалось, — тут сохраняется, рядом. Повторяю образ: Британия — консервы Евразии. Ибо то
181
Небогеан все нажитое в себе хранит-содержит, и одно вполне может не противоречить другому.
И это — тоже важнейший в логике момент: в Англии не боятся противоречия, и потому английские мыслители выглядят с континента как непоследовательные, ребячливые, не умеющие до конца свои же предпосылки довести, а оставляющие свои же принципы на полдороге, недодуманными. Тут открывают, а на континенте развивают в стройную теорию. Юм — и Кант, Резерфорд — и Бор. Ньютон открыл математический анализ и пределы, — но изящный аппарат предложил Лейбниц, а теорию пределов — Коши...
И, напротив, материковая логистика и схоластика и эллинская математика неперевариваемы в Англии. Рассказывают, что Ньютон, взяв «Начала» Евклида, «прочитав оглавление этой книги и пробежав до конца... не удостоил ее даже внимательного прочтения: истины, в ней изложенные, показались ему до того простыми и очевидными, что доказательства их как будто сами собою делались ясными»1. Понятно, что тут Ньютону показалось непонятным: зачем столько усилий ума тратится греком на доказательство само собой понятных вещей? Но для эллина, воспитанного на Логосе, надо сначала ему, посреднику, угодить и лишь через него можно общаться с Космосом и Истиной. А Логос — светов, идеен: не осязаем, а оче-ви-ден. Грек угождает Пространству между небом и землей, где разлит свет, и все »в его свете» предстать должно.
Англичанин же живет средь невидали: небо начинается рядом. Тут волглость на месте Логоса. Истина не далеко, а вот она, тут, сумей схватить и впечатать в ум и сердце. Англичанин мыслит рукой и духовным осязанием впечатления — как слепой, ибо глаза ему здесь не нужны, обманчивы.
Страстный король Лир (этот аналог умно-логосного, разгадавшего загадку Сфинкса Царя Эдипа в Британии) ослепляется не логикой («сатгвой»), а страстью («раджа-сом»), гневом, гордыней, сверхсилием своим.
«Математические начала натуральной философии» — это космология по-английски, так же, как «Начала» Евклида — эллинская. Суть последней — геометрия: землемерие. Суть первой — механика.
Mechanao по-гречески — изготовлять, замышлять, изобретать, строить. Главное — что механика — это искусст
1Б и о Ж. Б. Биография Ньютона. — М., 1869. — С. 5.
182
венное орудие освоения бытия. И вот Ньютон вводит ее в высокие права геометрии. Он не согласен считать ее низшей, неточной, прикладной, ремеслом: «Так как ремесленники довольствуются в работе лишь малой степенью точности, то образовалось мнение, что механика тем отличается от геометрии, что все вполне точное принадлежит к геометрии, менее точное относится к механике»1.
Здесь ведется подкоп — чтобы свергнуть с трона геометрию, эту царицу естественных наук в эллинстве, и водрузить на ее место механику. Геометрия — это глаз и свет, озирающий землю: взгляд с неба Урана на землю-Гею. Прообраз прямой тут — луч, а круга и шара — солнце и небосвод. Геометрия — это логос по лучу. И как незначащее полагается низовое ручное дело проведения линий.
Меж тем в Космосе Англии не верный глаз, но верная рука — основа и опора мысли и суждения. Свет здесь влажен и ложен, и начать можно и нужно не сверху (озирание, гео-метрия), но снизу, от человека-тела, от шага-фута его и дюйма пальца (потому, кстати, так трудно расставались англосаксы со своей измерительной системой по конечностям тела как по естественным своим рычагам-шарнирам и переходили на материковую десятичную) — и далее воздвигаться в стороны и в небо. Так что если геометрия — наука сверху вниз, то механика — с земли на небо. Так что самосознание островитянина Земли дает в своей Механике Ньютон.
Возьмем далее трактовку движения. Сравним корабль Галилея, корабль Декарта и ведро Ньютона. Как всем помнится, Галилей брал систему: корабль, отдаленный берег и падение тел на палубе иль в трюме; если корабль движется прямолинейно и равномерно, то ничто нам в опыте не покажет: движется он или стоит, а движется берег? По Декарту, движение есть перемена соседства: соседствует борт корабля с этими вот каплями иль сменил на другие? То есть если Галилей в итальянском дискретном космосе атома и пустоты (вспомним Лукреция) не обращает внимания на среду, посредство, но исключает ее (как и в опытах со свободным падением тел в пустоте исключил трение) и рассматривает дистанционно корабль и берег, минуя море, — то Декарт, в континуально-волновом француз
1 Ньютон. Математические начала натуральной философии. См.: Крылов А. Н. Собрание трудов. — Т. 7. — М.; Л., 1936. — С. 1.
183
ском космосе непрерывности и близкодействия, исследует движение — как сенсуальное касание поверхностей. Так что в рассмотрении движения нереальна для него система: корабль и берег, ибо от борта до берега — мириады движущихся частиц надо принять в расчет. Идея молекулярной механики Лапласа — из той же французской оперы сплошности и близкодействия.
Ньютон же вообще отводит взгляд от всякой внешности: будь то Галилеевых относительно друг друга передвижений на расстоянии (которое — реальность и видно, и необманно в средиземноморском лазурном космосе) иль галльских чувственных касаний-трений тела об тело — и ставит вопрос о внутреннем усилии: если мышца иль динамометр испытывают усилие, то именно я, данное тело, пребывают в абсолютном движении; когда в раскрученном ведре частицы воды в центробежном стремлении наползают на борта (в противоречии с относительным движением ведра и всей массы воды в нем), по силам и их векторам можно заключить о том, что движется в абсолютном смысле, а что — нет.
Если Декарт сводит массу и объем к поверхностям, на ее язык их переводит, то аскетический Ньютон редуцирует материк массы до математической точки (= самосделанно-го острова), при которой зато прозрачнее проступают силы, их векторы, сложения и разложения, параллелограммы и равнодействующие...
Основное понятие Механики Ньютона — сила. А у Декарта — отказ от применения силы в физике: во французском континууме полноты всякое малое действие отзываемо повсюду, и не шевельнуться ни человеку, ни вещи, чтоб через облегающую среду социального рондо не произвести переворота во вселенной (ср. и фатальный детерминизм Гольбаха и мировой Интеграл Лапласа). Если мы припомним также, что для английских социальных теорий характерно постулирование войны и борьбы в естественном состоянии (Гоббс — «Левиафан»: «человек человеку — волк» (= почти «долг»); иль Адам Смит — теория свободной конкуренции-соперничества; иль Дарвин и Спенсер: борьба за существование), а для французских социальных теорий характерно постулирование, что человек рождается добрым и свободным (Руссо—Дидро) от благой Матери природы, — то тут тоже нельзя не подметить некоего национального априоризма в миропониманиях. И в том, что аскетический Ньютон так императивно вводит поня
184
тие силы в физику, а откожный француз-эпикуреец Декарт расслабляет ее, растворяет, сращивая и сводя к разного рода движениям, — есть некое пристрастие и склонность Психеи местного Космоса. Французу желанно пред-ставлять-чувствовать себя в покое и гарантии на материнском лоне-ложе природы «сладкой Франции», где можно довериться, расслабиться в неге, забыться от кесарева мира социально-наполеоновских насилий, где ты должен быть постоянно начеку. А островно-туманного, вялокровного англосакса именно необходимо тонизирует в бытии и в его работе по самосделыванию себя (self-made-man) проекция на природу динамической ситуации войны всех против всех, борьбы-спорта (тоже, кстати, английское изобретение) и усилия.
Противостоя кинематической физике романского гения (Галилей, Декарт), ньютонова волево-динамическая физика силы противостоит, с другой стороны, эллинской физике геометрической формы и фигуры. «Вся трудность физики, — провозглашает Ньютон в начале «Начал», — состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления» (6, стр. 3).
Это совсем другая пара понятий, нежели эллино-германские: сущность и явление, идея и видимость, субстан-ция=подстанция и форма... У них — фигуры и формы статические: вглядывайся в них, остановленные, и себя оста-новя, в созерцании, — они и растают, «файномена», и проникнешь в статические идеи, склад Космоса. Эллины по фигурам представляют бытийственные сущности: Шар-«Сфайрос», квадрат-Тетрада, треугольник, крест... Платон в «Тимее» четыре стихии к фигурам приурочил: земля — куб, огонь — тетраэдр, воздух — икосаэдр, вода — октаэдр. Но зримость мало говорит уму и сердцу англосакса, напротив, уводит от интимного прикосновения к ему присущей ипостаси Истины: в силах и движениях. И Ньютон, истинно английский теолог и евангелист, создает способ постигать Бога в силах (а не в формах и видах) — чрез исследование движений. Кстати, не случайно к математическому анализу на материке подходили от фигуры (проблема нахождения касательной в точке кривой), а в Англии — от нахождения мгновенной скорости и силы...
Показательно последующее восприятие ньютоновых «Начал» на континенте. Операциональную — ургийную истинность ньютоновой системы мира тут попытались
185
трактовать как субстанциальную — гонийную истинность. Сам Ньютон в письме к нему Бентлея учуял эту возможную приписку ему субстанциональности тяготения и так ответил ему в письме от 25 февраля 1692 года: «Я хотел бы, чтобы Вы мне не приписывали врожденную гравитацию (innate gravity)... Тяготение должно быть причиняемо агентом, действующим постоянно согласно определенным законам, но судить, является ли этот агент материальным или имматериальным, я оставил разумению моих читателей».
То есть законы Ньютона положены им так, что они инвариантны относительно материалистических и идеалистических преобразований — то, что невозможно для континентальцев-материкатов, для которых или — или: служба сыновняя или Матери(и)-земле или «Отцу»-Небу, Духу.
Ньютон так же решительно отвергает врожденность гравитации в материи, как Локк — врожденность в нас идей, духовный априоризм. А именно априоризм принципиален для континенталов: верующее наделение Материи иль Духа силами и качествами. Тут никуда не деться от дихотомии. А островитянин в Небогеане — андрогинен, мыслит Целым, есть к нему в той же пропорции фаворит и приближенный, в какой тело острова его менее Материка Евразии. И в тенденции ньютоновой и пределе — вообще массу свести к математической точке, а континуум декартова протяжения — выпотрошить и создать вакуум, где бы силами играть беспомешно с математическими точками — как с шарами в крокет (тоже, кстати, издевательские над эллинским божественным Сферосом в Англии придумали игрища: шар мяча — в параллелограмм ворот загоняют и биют орудиями разными, пинают: крокет, гольф, футбол, волейбол, баскетбол, регби...).
И — несколько слов о языке Ньютона. Академик Крылов, переводчик «Начал», так пишет: «Вообще латынь Ньютона отличается силою выражений: так, тут (в формулировке закона инерции. — Г. Г.) сказано «perseverare» — «упорно пребывать», а не «гпапеге»— «пребывать или оставаться»; когда говорится, что какое-либо тело действием силы отклоняется от прямолинейного пути, то употребляется не просто слово «deviatur»— «отклоняется», a «retrahitur»— «оттягивается»; про силу не говорится просто, что она прикладывается, «applicatur», к телу, a «imprimitur», т.е. «вдавливается» или «втискивается» в тело и т.п.
186
Imprimitur — совсем аналогично основному философскому понятию у Локка и Юма: impression — от «пресс», «вдавливать», «впечатывать» — отсюда «пэттерн», что есть «идея» по-английски: не от вида она, а от нажима руки.
«В переводе, — заключает А.Н.Крылов, — принята менее выразительная, но общеупотребительная теперь терминология»1.
А — жаль: ибо перевод с языка на язык — это с Космоса на Космос. И не только на другой, словесный — русский язык, что уже есть целое иное миросозерцание, — но и на иное отношение ума к миру, что отличает современного частного специалиста, ученого физика, от тотального мыслителя, теолога Творения, состязающегося умом с Целым бытия, с Богом самим. В языке Ньютона — тот же раджас кипит, воля и страсть, — что и у Шекспира.
АМЕРИКА
Общая концепция Космо-Психо-Логоса США такова. Это мир ургии без гонии, т.е. искусственно сотворенный переселенцами, а не естественно выросший из Матери(и) Природины, как все культуры народов Евразии, где ургия (труд, история) продолжает гонию в своих формах и где культура натуральна, а население = народ. Здесь же население не на-род (нарожденность), а съезд, собирательность иммигрантов ex pluribus unum (девиз США: «Из многих — одно»), но в начале именно не единое, а самостоятельность индивидов (ср. соборность России, где формула «Один за всех, и все за одного», с собирательностью Соединенных штатов и особей, где формула «Каждый и все» — Each and All — стихотворение Эмерсона). И поэма Уитмена «Листья травы» — это обозрение-соединение шта-тов=состояний человека, это собирательность USA в Myself (Я), — но нет тут «мы» и «наше». Отсюда вечные жалобы американцев на недостаток чувства общности, единства в стране.
Переселение через Атлантику — это для человека как пересечение Леты в ладье Харона: смерть и новое рождение. Иммигранты — «дважды рожденные», как брахманы в Индии. Пересечение Атлантики — акт перекрещения (ана-’баптизм!), инициации в Америку и забвения прежней жизни.
‘Крылов А. Н. Собрание трудов. — Т. 7. — М.; Л., 1936. — С. 25.
187
Потому такую роль в американской символике играют Левиафан, Иона во чреве кита, кит Моби Дик, «Корабль дураков» — фильм Стэнли Крамера, где тоже «всякой твари по паре», да и плот Гека Финна — ковчег...
Америка растет как бы сверху и сбоку, а не из земли, без пуповинной связи с нею, которую здесь имели индейцы, кого пришельцы истребили, а не смешались, в отличие от космоса Латинской Америки, более в этом смысле натурального. Если бы они хотя б подчинили туземцев и превратили в рабов, а потом потихоньку смешались в ходе истории, — как это было в Евразии: многие ведь там, почти все народы, сложились из смешения завоевателей с аборигенами (итальянцы, болгары, англичане — и не счесть всех...), то совершился бы привой-подвой к Матери(и) Природине и к народу-природе местной — и культура последующая проросла бы натуральною. Но демократические переселенцы из низов Старого света хотели работать сами и вырубили индейцев, как деревья. Даже национально-расовый сюжет и конфликт тут не натуральные, а ввезенные: негры ведь тоже переселенцы, а не туземцы...
Истребление индейцев — первородный грех «отцов-пилигримов» и залегает в основании Американской цивилизации. Ныне, когда совесть проснулась и американское общество становится более гуманным, долг к краснокожим платится, за почти отсутствием уже таковых... — чернокожим.
США — это Ноев ковчег микронародов, первая составная внеземная цивилизация — из высадившихся на чужую планету сильных — хищных и исходно свободных индивидов, порвавших со своими Матерями-Природина-ми (в Старом свете) и начавших тотально новую жизнь. В Европе — Эдипов комплекс типичен: Сын убивает Отца и женится на Матери. Отсюда динамизм молодости в почете, культ НОВОГО, «новостей», роман-novel, ПРО-гресс в истории. Для Азии и России типично обратное: Отец убивает Сына — старое сильнее, традиция, былина. Это я называю РУСТАМОВ КОМПЛЕКС по имени героя поэмы Фирдоуси «Шах-Наме» Рустама, кто в поединке убивает своего сына — Сохраба. То же Илья Муромец — Сокольника. Иван Грозный и Петр Великий убивают своих сыновей, Тарас Бульба... Тут еще и снохачество: в «Деле Артамоновых» Горького, да и сам любил жену сына. А советская история — это интерференция Эдипова и Рустамова комплексов. Революция 17 года — после контакта с Европой в Первой мировой войне — по Эдипову комплек-188
су: молодчики-революционеры убили царя-батюшку и женились на матери-родине. Но далее они же, став отцами — когда сыновья их подросли и могли бы их вытеснить, — довели страну до войны ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, где руками немцев сыны были истреблены, а отцы-кощеи остались, — и после войны безмужние невесты поступили в их распоряжение. Тогда рядом с кощеевым царством развилось бабье царство: социально активная женщина везде...
Для бытия США типичен «комплекс Ореста» (так назовем его): матереубийство, — причем ее убивают дважды: покидая старую матерь-родину и обращаясь с новой землей без пиетета: не как с матерью, но как со шлюхой. Потому ее разызнасиловали вдрызг, загрязнили окружающую среду — и первые взвыли-открыли проблему экологии, в чем объявилась мстительность гонии чересчур уж прыткой трудово-индустриальной ургии.
Если европейский дух мучительно прорывался из Природы к Свободе, выискивая себе самоопору и собственную субстанцию — в Труде, Идее, Мышлении, «Я» (Декарт, Кант, Гегель, Маркс), то в Америке первична субстанция свободы (= переселенцы, со всем порвавшие), а инстанция Природы вначале в иммигрантах ничтожно по смыслу мала: она тут чужая = в ней видится нуль смысла, есть чисто неорганический бездуховный объект завоевания и труда; не Матерь и не материя даже, но материал-сырье труду в переработку, — и лишь с течением времени тут приходят к открытию понятия Природины как Матери(и) и ценности женского начала. Американцы — герои и мученики свободы, не умеряемой природой. Теперь алчут сотворить себе Мать — ургией гонию добыть... Слабость женского и материнского начал характерна для американской цивилизации: отсутствуют тут и куртуазность-галантность, и ars amandi, которые так уж выпестовали и утончили евразийского индивида от Китая до Франции; нет и любовно-психологического романа европейского типа, вместо которого брутальный секс.
Еще Генри Адамс горько сетовал на это, восхищаясь ролью Матери-Девы и культом Прекрасной дамы в цивилизации Европы. Его «Воспитание Генри Адамса» — как «Исповедь» Руссо, и полезно сопоставить бы ментальность француза и американца по этим книгам. Американский Логос отчетливо проступает в главе XXV его книги — «Динамо и Дева». Само уравнение этих двух символов характерно: Деву, как нечто более далекое, он приводит к более
189
себе понятному — принципу энергии. Посетив Всемирную выставку в Париже в 1900 году (рубеж столетий!), он восхищен лошадиными силами Динамомашины — и все же бросает их в подножие образу Девы, что вдохновлял строителей Шартрского собора. «Пар со всего света не смог бы, как Дева, построить Шартр... СИЛА Девы до сих пор чувствуется в Лурде и кажется столь же мощной (potent), как и Х-лучи; но в Америке ни Венера, ни Дева не имели когда-либо ЦЕНУ как СИЛА (value as force), в лучшем случае — как чувство. Ни один американец не испытывал когда-либо СТРАХА всерьез перед той или другой». Какая шкала ценностей и категорий для понимания! Сила. Потенция (Мощность). Х-лучи (электричество, излучение). Страх. Чтобы оправдать роль образа Девы в истории европейской культуры, искусства, ему требуется приравнять ее к тому, что естественно внятно Американской душе и духу. И вот — критерии Силы и Энергии (при презрении к «Чувству»), Динамики — наиболее говорящи не только простому американскому механику (как, например, другой Генри, Форд, кстати, в это же время конструировавший свою «безлошадную повозку», что вослед за Америкой преобразовала быт мира в XX веке), но и такому просвещенному аристократу духа из потомственных лидеров Америки (его дед — из первых президентов САСШ) и джентльмену, как Генри Адамс.
«Эта проблема в динамике серьезно озадачила американского историка. (Это сам Генри Адамс. Он, пуританин, не отваживается говорить о себе от первого лица, как Руссо в «Исповеди», чтущий расхристанность эмоциональной жизни, но скрывается, целомудренный, под «он». Но тут я прозреваю еще и инструментальный подход американца к самому себе — как к прибору опытов и познания, в данном случае. Себя ценит американец как хорошее или не очень орудие того или иного производства. — Г.Г.). Некогда Женщина была возвышена (supreme); во Франции она до сих пор кажется могущественной — не только как чувство, но и как сила. Почему она была неведома в Америке? Очевидно, Америка стыдилась ее, и она стыдилась себя, иначе б не покрывали ее в таком изобилии фиговыми листками. Когда она была истинной силой, она не ведала о фиговых листках; но выделанная ежемесячными журналами мод американская женщина не имела ни одной черты, которую бы узнал Адам... Во все предыдущие века пол был силой... Восточная богиня была божеством благодаря своей силе: она была
190
ОДУШЕВЛЕННЫМ ДИНАМО (animated dynamo)... Адамс снова обратился от Девы к Динамо, словно он был Брэнли-когерер (опять технический термин, некий счетчик, дабы быть понятным американцу как инженеру. Кстати, сталинское определение писателя как «инженера человеческих душ» — из оперы модной тогда «американской деловитости» и ее Логоса. — Г.Г.). С одной стороны, в Лувре и Шартре, как он знал по отчету о работе (record of work — перевожу намеренно буквально, чтобы не спрятался Логос американца под русификацией и метафорами, заради «гладкости». И вот он, наш «рекорд» любимый, стахановский, столь звучно-манящий — всего лишь сухой «протокол» в Логосе американской деловитости, ихней «ургии». — Г.Г.), действительно сделанной и что до сих пор перед его глазами, была величайшая энергия, когда-либо знаемая человеком, творец четырех пятых (просчитал! — Г.Г.) его благороднейшего искусства, упражняющая неизмеримо большую притягательность человеческому уму (exercising... attraction — косноязычием перевода сохраняю исходные технические термины, что пропали б в выражении «оказывающая влияние», что естественно в русском космосе «мати сырой земли» = водо-земли. — Г.Г.), нежели все паровые машины и динамо когда-либо могли мечтать, — и все же эта энергия была неизвестна американскому духу... Символ, илй энергия Девы, действовал как величайшая сила, которую Западный мир когда-либо чувствовал, и притягивал деятельность (activities — труды) человека к себе сильнее, чем какая-либо другая власть (power — тоже сила, мощь), естественная или сверхъестественная, это когда-либо делала».
Эта сила — не «секс», но сакральный Эрос, космическая энергия между Отцом-Небом и Матерью-Землей, между Духом и Материей (тоже от корня «мать»), и ее не ведает американский мир. Эрос тут перетек в «Ургос» — в Труд, что делается тут столь же эросно-яростно, как чувственная страсть в Евразии.
Но в общем Америка — не Мать-Родина чадам-сынам своим, но фактория своим жителям-трудягам. И философскую категорию «материи» здесь бы присущее назвать «па-терией» (мужской архетип Отца тут важнее) и даже «факторией»: вещественность бытия здесь вся изготовительна, а не вырастающа, — и так, сверху, как конфекция из кошелки рога — ургии, засыпается «манной» этой весь мир... Не отцово, а творцово тут житье-бытье, а страна — и не родина-мать, и не отчизна, но «творчизна».
191
Американец чужд вертикали растения как принципа бытия (а вместе с этим и идее корней, и долготерпению: дай срок! — не дают здесь срока, но все ускоряют) и уподобляет себя Животному хищному («Белый клык»), и в почете здесь челюсть и оскал зубов (на рекламных улыбках). Растение — дело долгое, а тут все некогда: нет времени выращивать своих гениев в науке и искусстве — давайте-ка переселим их, переманим-пригласим из Старого света, и будет у нас все «самое лучшее»: Эйнштейн, Чаплин, Стравинский, Тосканини и т.п.
Тут все молодо-зелено: не успевает естественным путем набухания своей субстанции дорастать до зрелости, но форсируется — как свиньи на чикагскую бойню, так и урожай удобрениями химическими. Тут из травы (а не из дерева) — листья: в американском евангелии «Листья травы» Уитмена не модель Мирового древа, характерная для всех культур Евразии (под древом Бодхи пришло Будде озарение, и Христос распят на кресте — схеме дерева): некогда тут дереву вырасти — ни одно уважающее себя дерево и достойное уважения не выросло за 360 лет со времени первых пуританских переселений (до модели Мирового Древа не дослужились еще!), но зато характерно самоуподобление с травой: у Уитмена и у Сэндберга стихотворения от лица травы, у которой корни не глубоки и расти может не из Материи-природы, а из платформы плиты: Форд писал в «Моей жизни и работе», что в Америке взрыхлен лишь верхний покров...
Стихотворение Карла Сэндберга «Трава» — архетипично для американской Психеи:
Громоздите тела высоко при Аустерлице и Ватерлоо, Закапывайте их вниз — и дайте мне работать.
Я — трава, я покрываю все.
Это общее место в американской поэзии — выражать пренебрежение к военным ценностям и гордостям европейской истории, к доблестям ее героев и полководцев, как Наполеон и Веллингтон, — с точки зрения добродетелей труженика. Найдем это и у Эмерсона, и у Уитмена. Но что самое поразительное в этом стихотворении, это находка выражения:
I am the grass, Я — трава,
Let me work! Дайте мне работать! —
не расти, как это естественно! Даже Природа работает здесь, в Америке! Гония замещена Ургией.
192
Отрочески опрометчивый дух царит в американской цивилизации: тут национальные герои — Том Сойер и Гек Финн, и никто не достиг возраста возмужалости, тем более — статуса мудрого старца. И добродетели их — потасо-вочные, как у отроков-щенков, что все цапаются (супермены вестернов, ковбои). Дивлюсь я американцам: такие они бодренькие, словно не отягощены сознанием первородного греха. Чувствуют себя невинными, хоть и жестоки порой... И хотя и подхватывают в нынешней Америке новомодные европейские теории (экзистенциализм, «новые левые» и проч.) и до пес plus ultra доводят рассуждения о «закате западной цивилизации», — в их устах несерьезно все это (автор так чувствует), лепет с чужих слов, чужие это все им маски-проблемы. Свои же и трудные у них вот: экология, робот-компьютер против человека, первоот-крытие женского начала и dolce far niente, созерцание вместо ургии (хиппи, дзен, Сэлинджер...), ибо в космосе прагмы созерцательное отношение к бытию есть трудность и ересь. Но все равно Космо-Психо-Логос здесь подростковый — оттого и впросак так часто попадают в политике и на посмешище. Наивность и сентиментальность американцев сказалась хотя бы в недавнем Уотергейтском деле: подумаешь, не могли примириться с тем, что президент матерился; вся Америка ахала, слушая магнитофонные записи. В Евразии давно понято и принято, что и царь на троне — человек, снисходительнее к такому...
Невоспитанные дети, непринужденные, фамильярные. Страна «тинэйджеров».
В Евразии в людях сильно торможение: рефлексия германца, сдержанность англичанина, застенчивость русского, французский страх быть смешным, китайские и японские церемонии, индийская дхарма (от dhar — держать) и т.п. Гравитация Матери-земли проявляется в этом, и она подавляет и частично парализует людей: священна ведь Природа, к которой они подходят в труде! Американец же этих задержек не имеет и наслаждается внутренней и внешней свободой — для труда и изобретения. Выглядеть дураком рядом с ученым — это не смущает Форда, и в этом отношении он близок европейскому архетипу «естественного человека», enfant terrible, или к русскому Ивану-дураку.
Преобладающие состояния психики в Америке — возбуждение, раскованность, быстрота моментальной реакции шофера (как в дзен-буддизме). Недаром и вид музыки «джаз» тут привился (от негритянского слова, означающе-
7 Гачев Г.Д.
193
го «будоражить», «торопить»), тогда как в музыке Европы, еще с пифагорейцев, цель — гармонизировать, укрощать животное начало в человеке. Здесь же при преизбыточной ургии и гонию надо стимулировать соответственно.
Между прочим, моя студентка в Весленском университете в США, Нэнси Мартин, сравнивая в своей курсовой работе 1991 года национальные танцы Америки и Европы с танцами Западной Африки, которые она изучала в танцевальном классе, выражала сожаление и зависть. Сожаление — при воспоминании о чинных танцах, которым ее обучали в детстве, когда, одетые в форму, отдельно мальчики и девочки, двумя рядами они двигались по залу. «В Африке же все тело движется всеми членами, и очевидна тенденция склоняться от пояса вниз, как бы стремясь ближе к земле. Бальные же танцы разделяют и сдерживают все. Группы не существует, но все разделены на индивидуальные пары. Тело (корпус) движется совсем мало, и подчеркивается жесткая прямая спина и жесткие и угловатые руки».
Таким образом, тело трактуется как механизм с жесткими прямыми деталями, которые движутся на счет: два, три, четыре — тоже механическая ритмика, не произвольная. Это — ургийный, автоматоподобный танец. Таковой стиль мог быть привлекателен на ранних стадиях цивилизации, в Европе. Однако в Америке^ где человек превратился уже в действительного автомата в своем труде-работе, — ему требуется в танце расслабиться и вернуться к природе. Вот почему африканский стиль танца как вольной импровизации был воспринят в Америке XX в.
Однако и ургия-то тут, в Америке, какая-то хулиганская, веселая, карнавальная: не мрак работы, но вечный праздник деяния, без чего не мыслит себе здесь человек существования, так что безработица — казнь американцу (евразиец заполнит время ленью, умозрением, любовной игрой, пересудами и проч.). В этой бесшабашной одержимости трудом, изобретением потребностей, изготовлением все новых вещей, все лучших, — открылось автору тождество современного американца, работающего уже в гигантских корпорациях винтиком, — с индивидуалистом-фригольдером XIX века в стране «открытых возможностей», чей образ и душа романтически воспеты в капитане Ахаве и Геке Финне. В этой безудержной скачке — и в том, и в нынешнем — ощущается гонка за идеалом, за чудом, преследуется какая-то несбыточная идея, — так что капитан Ахав на искусственной ноге (= существо полу-гоний-
194
ное, полу-ургийное), убегающий от уюта в даль труда, — это Психей и современной Америки. В этом была главная трудность для мысли: как сопрячь современного рекламно-улыбчатого среднего американца — с Эмерсоном и Торо, с героем Уитмена и Мелвилла?
Перехлест ургии над гонией — и в том, что тут искусственно производятся потребности (а они ведь обычно были прерогативой природы человека): рекламой навязываются изделия; а жизнь в кредит и пользование вещами в рассрочку есть явное житие в настоящем из будущего (а не из прошлого, как это привычно в Евразии, где отчизны, и отчий дом, и наследственный сундук).
Сравним «наСЛЕДство», «соСТОЯние» — и «кредит». Последний — от латинского credo = верю (откуда «Кредо» = «Верую»), и credit означает «он имеет веру (в меня)», доверяет и подает руку помощи из моего будущего (ибо только в будущем я смогу вернуть свой долг) в мое настоящее. А первые термины (что в ходу в Европе были) означают жизнь за счет прошлого, по его следам («наследство) и в статике («состояние»). Да, из ипостасей Времени (прошлое, настоящее, будущее) в Америке, порвавшей традиции, не важно прошлое, а важно настоящее, растущее спереди, из будущего, в него растворенное и оттуда подтягиваемое. Уолт Уитмен: «Я проектирую историю будущего!» — писал. И — «Я пою современного человека!».
Уитменово чувство Времени вообще характерно для американской ментальности. Все третье стихотворение из его «Песни о бебе» посвящено этому аспекту.
Я слышал, о чем говорили говоруны, их толки о начале и конце.
Я же не говорю ни о начале, ни о конце.
Никогда еще не было таких рождений, как теперь, Ни такой юности, ни такой старости, как теперь, Никогда не будет таких совершенств, как теперь, Ни такого рая, ни такого ада, как теперь.
(Пер. К.Чуковского)
В христианских странах Европы — в Италии, Франции, особенно в России — распространены апокалиптические настроения: ожидание конца света. Подобный эсхатологизм совершенно чужд Америке. «Должен ли я отложить свое признание и реализацию?» — вопрошает Уитмен свое «Я». Ответ, естественно, будет негативным.
195
7*
«Песнь о Себе» — подлинное американское Евангелие — так сказать, «Евангелие от Уолта». Здесь зафиксирован акт откровения и озарения самосделанного человека — самочувствие себя адекватным Космосу. Словно перед нами Адам, только что созданный Богом, ощупывает каждый орган тела в его контактах с универсумом, изучает свой чудесный механизм, целый завод себя, и восклицает: «О, Бог! Это хорошо!» Руки, ноги, груди, вены, половые органы — все совершенные инструменты для работы жизни. Он их обозревает поодиночке, а затем интегрирует в дивное единство. И в результате — как Соединенные Штаты Меня Самого воспеты, в которых всякий может зреть идеальное демократическое соединение «каждого и всех».
Я славлю себя и воспеваю себя,
И что я принимаю, то примете вы,
Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам.
Это — интонация Субботы. Словно сам Бог, создав свет иль человека, после тяжелой работы каждого дня Творения обозревает созданное и одобряет: «И увидел Бог, что это хорошо». Библейская интонация — в «Песне о Себе», юбиляция. Индивидуум осознает себя как Космос.
«Я приглашаю мою душу...» Этот акт коммуникации, жест обращения характерен для американского стиля в поэзии. И Лонг-фелло (буквально «Длинный Парень, Товарищ» — как и Линкольн, с длинными конечностями, руками и ногами, годными для труда и ходьбы) начинает свою «Песнь о Гайавате» в интонации диалога:
Если вы меня спросите... Я вам отвечу...
Словно читатель, как потребитель на рынке, хочет иметь «ноу-хау», знать, как вещь (песня) сделана, добротно ли. А поэт-производитель рекламирует свой товар. Акт сделки торговой — вот .жанр Вступления к «Песне о Гайавате», — и в высшей степени поэтично он предстает. Ибо, с другой стороны, не грязное дело — торговля в Америке, но в высшей степени остроумное, изобретательное и гуманное может быть. Ведь «сервис» — это служение!
А уж Уолт Уит-мен (= «Белый человек», если буквально) — откровенный зазывала на себя: приглашает приходить и опробовать и вкусить, консумировать его:
196
Мой язык, каждый атом моей крови созданы из этой почвы,
из этого воздуха,
Рожденный здесь от родителей, рожденных здесь от родителей, тоже рожденных здесь.
(Это существ.енно акцентировать гордо здесь — в стране переселенцев. — Г.Г.).
Я теперь, тридцати семи лет, в полном здоровье, начинаю эту песню, Надеясь не кончить до смерти.
Себя он чувствует «гаванью» души (I harbour for good or bad), добра и зла. Вот — ощущение души океаном: Атлантика в поддоне психеи каждого Американца. И пишет о «Природе без удержу (without chec), с первичной энергией». Американской шкалы ценностей тут критерии упомянуты.
Но Кредо, Символ Веры в Евангелии от Уолта — изложен в вводной песне One’s Self I Sing. Тут я не соглашусь с переводом К.Чуковского: «Одного я пою». Нет, здесь главное слово Self, аналогичное немецкому Selbst — «Самость», или Ichheit — «Яйность». A «One’s»— имеет смысл неопределенного местоимения. Так что: «Самость каждого я пою». Вот фундамент Американства — одиночка, самостоящая в мире, индивидуум. Естествен отсюда ход — к равенству и демократии. Он и совершается:
Одного я пою, всякую простую (не аристократа избранного. — Г.Г.), отдельную (а не некое коллективное или соборное единство, целое: ну там родина, страна, партия. — Г.Г.) личность,
И все же Демократическое слово твержу, слово En Masse,
Физиологию с головы и до пят я пою (= демократию между членами тела утверждает. — Г.Г.),
Не только лицо человеческое и не только рассудок достойны (эти аристократы в иерархии тела и души. — Г.Г.) Музы (абсолютно чуждое американской поэтике слово, фальшивый европейский звук здесь. — Г.Г), но все Тело еще более достойно ее,
Женское наравне с Мужским я пою
(тут не Feminine, a FeMALE и MALE, т.е. акцент на самке и самце, на животном в нас. Не «леди» и «джентльмен» имеются в виду и не абстрактное «Вечно Женственное» германства и российской «Софийности». — Г.Г.),
197
Жизнь, безмерную в страсти, в биении, в силе (все — категории динамики, энергии. — Г.Г.), Радостную, созданную божественным законом для самых свободных деяний (свобода и ургия! — Г.Г.)
Человека Новых Времен я пою.
(Нет, тут попроще: The Modem Man = Современного, человека настоящего, моего, значит, времени, которое — первоценно в США, а не некие «новые времена», что может отсылать к «светлому будущему» — куда подальше от меня и себя и моего времени. — Г.Г.).
Итак, перед нами — поэтический манифест Демократии. Соответственна и поэтика, и стиль: перечисление вещей, каталог явлений свободных, не связных в некое целое — сюжет. Все они — тоже как «отдельные личности» и так видятся с точки зрения тоже «простой отдельной личности». Они разрозненны. Между ними нет отношений, проблемы, противоречия — все они глядят в открытую вселенную, как лучи от центрального солнца его «я», самости. Универсум открытых возможностей, и он собой представляет не континуум, но дискретность («сепаратные персональное™») самочинных существ и явлений. Это все важно для философской картины Бытия в здешнем Космо-Пси-хо-Логосе.
Какие ж направления, куда ориентирован ум Уитмена? В сторону Неба, ветров, пространства надземного, к соседям по существованию (трава, товарищи, женщины); а если земля, то не зарывается в глубины и корни (где Ад христианства или Глубь германства), или в глубины психеи, куда смотрит еврейство (Фрейд) и российство (Достоевский, «Но старые, гнилые раны...» — Тютчев. И это — тоже ценность). No problems! = Нет проблем! — девиз американства. Оптимизм. Нет Зла в Бытии (и проблемы Теодицеи тоже, что так мучила европейский ум: оправдание Бога за наличие зла в сотворенном Им бытии), но только динамика:
Благостна и безмятежна моя душа, благостно и безмятежно все, что не моя душа...
Я доволен — я смотрю, пляшу, смеюсь, пою... —
подобно Ницшеву Заратустре. Кстати, тогда напрашивается проделать сравнение между двумя Евангелиями современного человека: «Песнь о Себе» и «Так говорил Заратустра». Два Сверхчеловека — по-германски и по-американски тут выделаны, напророчены. Однако Ницшево провоз
198
вестие возросло на фундаменте трагедии бытия: как усилие, даже истерическое, преодолеть ее. Уитмен же — в подростковой цивилизации, сам даже как дитя в колыбели (любит этот образ) и не подозревает о трагедии существования, недостаточно взросл для того, не имеет чем уловить ее, не созрели органы. Да, и в интеллектуальном развитии, как и в половом созревании, есть порог. Аме-риканство еще, похоже, не достигло пуберитета тут.
Принцип УРГИИ преобладает в Уитменовых объяснениях:
Ребенок сказал: Что такое трава?..
Может быть, это флаг моих чувств, сотканный из зеленой материи — цвета надежды.
Или, может быть, это платочек от Бога,
Душистый, нарочно брошенный нам на память, в подарок, Где-нибудь в уголке есть и метка, чтобы, увидя, мы
могли сказать, чей?
Частная собственность! Не только РАБОТАЕТ трава, но подчиняется законам и даже, может быть, платит налоги?
Через Уитмена мы прошли путь от категорий Времени— к категориям Пространства. Из его координат в США почтенна не вертикаль (со сверхидеями Глубины и Выси), но плоскость горизонтальная, а в ней — Ширь (не Даль). Даже фонетика английского языка испытала влияние обширности Нового света: звук а: вертикально-глубинный имеет тенденцию в здешнем произношении уплощиться и расшириться в к: I can’t (а: —> к). Эта плоскость Америки служит, чтоб кочевать по ней туда-сюда неуемным людям в автомобилях, не пуская корней и не прирастая к месту.
Джон Стейнбек в «Путешествии с Чарли в поисках Америки» обсуждает проблему КОРНЕЙ с семьей иммигрантов из Италии. Они живут в «доме-мобиле» — на колесах, что есть характерное явление американского быта. Они приезжают с домом туда, где есть работа, а когда кончается, — укатывают в другое место, где тут же подключают свой дом ко всем коммуникациям: вода, электричество, телефон и т.д. Вот новые кочевники. Естественно, исчезают соседство и землячество и «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» — святые чувства (Пушкин): могилы-то будут, как экскременты, не знай — где разбросаны...
199
«— Мы с малолетства уходим корнями в ту или иную почву, в ту или иную среду, — начал Стейнбек разговор. — Корни — это чуть ли не самое дорогое для человека. Как они относятся к тому, что их дети растут без корней? Хорошо это или плохо? Не придется ли им когда-нибудь пожалеть об этом?
Ответил мне глава семьи — красивый блондин с темными глазами.
— У многих ли сейчас есть то, о чем вы говорите? Какие могут быть корни, когда живешь в квартире на двенадцатом этаже? Какие могут быть корни в районах новых застроек, где сотни и тысячи почти одинаковых маленьких домиков? Мой отец приехал из Италии, — говорил он. — Вырос в Тоскане, в том самом доме, где его предки жили, может, тысячу лет. Вот вам корни — ни водопровода, ни канализации, а топливо — древесный уголь или виноградный сушняк. Комнат в доме было всего две — кухня и спальня, и валялись они там вповалку — дед, отец и все ребятишки. Негде ни почитать, ни побыть одному (вот — потребность быть индивидуумом, самостью — основание аме-риканства: «Одного я пою»! — Уитмена вспомним. — Г.Г.), и так всю жизнь... Дать бы моему старику возможность выбора (второе основание американства — свобода возможностей. — Г.Г.), — порубил бы он свои корни и стал бы жить, как мы живем... Отец так и сделал: корни обрубил и приехал в Америку...
— А вам не хочется чего-то более постоянного в жизни?
— У кого оно есть, это постоянное? (Константы в бытии исчезли. — Г.Г.). Фабрика закрылась — двинулся дальше. (Фабрика = пастбище: выела недро земли = слопало стадо траву, — и айда дальше. А с землей и делом на ней такого не бывает: вечно подает... Так что индустриальнофабричный век сходен с кочевьем, а не с земледелием. — Г.Г). Времена стали получше, где-то можно устроиться — туда и подался. А с корнями сиди сиднем и лязгай зубами от голода... Про первых пионеров (вот с кем тождественны авто-мобилисты. — Г.Г.) что написано в книжках по истории? Эти мохом не обрастали. Поднял целину, участок продал — и в путь-дорогу».
И Стейнбек, размышляя далее на тему «корней», приходит к предположению о некоей селекции, естественном отборе: беспокойные обитатели Старого света — снялись с места и переселились в Америку, «а те, кто пустил... глубокие корни, как сидели дома, так и до сих пор сидят... Мо
200
жет быть, мы преувеличиваем значение корней для нашей психики?»1
В Америке вывелась новая порода человекообразных существ, новый кентавр — ЧЕЛОВЕК-В-МАШИНЕ (шап-in-a-car). Ковбой (человек-на-лошади) — сему предтеча. Но ковбой — в Техасе, близ Мексики и гонийного принципа Латинской Америки. Когда же янки Форд изобрел «безлошадную повозку», ковбои были разгромлены. И это была новая победа в Гражданской войне между плебейско-протестантским Севером и полуроманским, аристократическим Югом. Так что, сидя в своем автомобиле, американец может чувствовать себя генералом Грантом в триумфе над генералом Ли.
Образовался уже и симбиоз между американцем и его автомобилем. Они уже переплелись тканями. Я был поражен, увидев вывеску Body shop («Магазин тел»): «Неужто тут уже торгуют телами человеков? — Нет, — успокоил меня друг. — Так называют кузов автомобиля». В то же время американское человеческое существо не имеет нужды в ногах — они заменены колесами. Предтечей была поза «ноги на стол», обычная у пионеров, первопроходцев Америки. Но ведь стол есть место для верхней части тела, для еды, для чтения, размена идеями, для общения, для симпозиума. И вот на все на это американец... положил: это ему — пьедестал для работы на более высоком уровне цивилизации. Американец начинает там, где Евразиец заканчивает.
Автомобиль становится истинным домом, где можно жить, — с телефоном и компьютером внутри. Завод пере-селенчества, как начался с переселения в Новый свет, так и продолжает работать уже там. Американцы легко снимаются с места, кочуют, вечные эмигранты-иммигранты и в самой Америке.
Автомобиль становится наставником в морали и логике даже. Я понял, почему американцы так, в общем, законопослушны: ведь они проходят тренинг законами уличного движения, и нарушение грозит смертной казнью (аварией). А перед каждым светофором их обучают бинарной, компьютерной логике: «да — нет», «третьего не дано».
Вечно движимые. Заведенные на вечное движение. Вот где «перпетуум мобиле»-то! И обратил я внимание на то, как тут называют кино — movie, буквально «движ/ущееся/».
Стейнбек Джон. Путешествие с Чарли в поисках Америки. — М.: Прогресс, 1965. - С. 102-105.
201
Все прочие народы пользуются термином «кино», cinema — от греческого «кинезис», что тоже означает «движение». Но это-то им непонятно: корень — чужероден. И лишь американцы испытали потребность натурализовать это делание и обозначить родным и понятным корнесловом, будучи сами — movies.
Итак, «Человек-в-машине» есть новое существо на нашей планете, сотворенное американским гением Генри Фордом. Он создал тело Америки и стиль жизни здесь. Воистину, Форд = Лорд (Господь Бог) этого мира: так что закономерно и молятся ему у Хаксли в антиутопии... Во всяком случае, важнее он Вашингтона даже...
Америка — страна изобретателей в технике: Эдисон, Форд — вот специфические гении здесь. Они — не в областях искусства и теории, которые предполагают долгое созерцание и сосредоточение — без быстрых практических результатов.
Интересно сопоставить главное американское изобретение — автомобиль — с часами, главным изобретением цивилизации Европы, особенно Германии. Часы — это са-модвижное Время и memento mori («помни, что умрешь») нам, смертным существам. Автомобиль — самодвижное Пространство, творение американского кинетико-динамичного духа. Часы — движение по кругу, о-предел-енность, динамика на службе у статики. Автомобиль — коробка скоростей — на службе у безудержности. В то время как на часах движение прямых и по прямой ограничено вечной статикой и совершенством Бытия как Сфероса (привилегированный образ-видение в греческой философии), автомобиль попирает идею круга-цикла в колеса и порабощает сферой служить прямым линиям кубического дома поверх колес и прямым линиям дорог, а вращательное движение служит прямолинейному.
Если Время, шар и статика часов сопряжены с женским началом — гонии (не ускоряема беременность!), то прямолинейное движение и ускорение в пространстве адекватны мужскому началу — ургии.
Человеческий тип здесь энергийно-заряженный: электричество в душе у него — недаром в США в науке и изобретении развито (Франклин, Эдисон). А Вильям Джемс сравнивает устройство психики и религиозное чувство — с электрическим полем («Разнообразие религиозного опыта»).
Про человека, кто исключительно популярен (актер, певец, спортсмен), тут говорят hot = «жаркий», «горячий»,
202
указывая на огонь-стихию как его субстанцию. Задумался я и над обилием алого цвета — scarlet в американской литературе, который цвет есть очевидная комбинация огня с воздухом, как «кровь», сангва — еще добавляет и воду-стихию к этому сочетанию. И вообще, если цивилизации и миры по темпераментам распределять, то американская мне видится пока — как сангвиническая: бодреньки и юны американы, и широко раскрыты их глаза, и нет тяготы прежних угрызений и гнилых ран традиций... «Алая буква» — роман Натаниеля Готорна; Скарлетт О’Хара — героиня эпоса «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, американской «Войны и мир»; «Алый знак доблести» Стивена Крейна (правда, для точности — там «Red Badge», «красный цвет», и это русский переводчик, очевидно, оттого, что «красный» у нас имеет сильную и специфическую идеологическую семантику, — чуть сдвинул краску...). Вообще цветовые названия книг — целая палитра красок — у этого писателя: «Невеста идет к желтому небу», «Синий отель», «Черные всадники»...
ЦВЕТ в Америке — идеологичен: белые, чернокожие, краснокожие, желтые (расы) — и категориален в познании и самосознании. От него мне и переход к важной в каждом космосе иерархии четырех стихий наклевывается. Система цветов в «Песне о самом себе» Уитмена тоже тут в помощь.
ОГОНЬ как жар (энергия, динамика «я», электричество). ВОЗ-ДУХ (Небо, Бог как Творец, не Отец).
ВОДА (кровь, жизненная сила, Океан вовне и в груди). ОГОНЬ как свет (теория, созерцания, идея-вид).
ЗЕМЛЯ.
Как видим, все надземно, небоскребно бытие в космосе США на плоской плите Земли. Да и небоскребы тут не как Вавилонский столп вырастают: из похоти черного солнца недр блудницы вавилонской, в чем МАТЬМА земли посягает на небо, — но как бы сверху НАДставляются на плиту земли.
И это не случайно, что ПТИЦА была избрана американской душой как символ, чтобы представлять себя среди существ. «К родяной птице» — хрестоматийное стихотворение Вильяма Брайанта, «Ворон» Эдгара По... И орел взят как символ «экспресс-почты» (thunder-mail — гром, напоминает о надземном воздушном пространстве, о молнии, об электричестве) и пророчит аэропланы и воздушные линии поверх обширной земли Америки, чтобы не чувствовать ее гравитации, преодолеть земное притяжение — опять же корней, природы, матери-и... И птица избирается
203
крупная — не то, что английский милый и малый Робин (Робин Гуд, Робин-зон...). Robin — малиновка, уютная птица, напоминающая о home — доме, моей крепости.
Иерархия же чувств, как мне представляется, может выглядеть здесь следующим образом.
ЗРЕНИЕ (самое важное для человека-в-машине и для птицы-самолета).
СЛУХ (не для мелодии-музыки, но для ритма труда и ходьбы).
ОСЯЗАНИЕ (руки, чтоб держать инструмент труда, но не чтоб обнимать и ласкать чувственную кожу, как это во Франции).
ВКУС (чтоб восклицать в рекламах: «Как это вкусно!» «It tastes delicious!»)
ОБОНЯНИЕ.
Существует предание, что белые переселенцы были прокляты и наказаны божествами местного Космоса за истребление индейцев — тем, что у них отныне отнимутся запахи, и пища и вода им будут безвкусны. И в самом деле, кажется, что Природа не пахнет тут так разнообразно и тонко, как в странах Евразии, но более абстрактна она, словно дистиллированная в ургии.
Спросили меня однажды там: как я думаю, отчего американцы так любят класть лед в напитки? Я полагаю, лед служит, как радиатор в автомашине: охлаждать мотор, раскаленность психеи американца на труд. А с другой стороны, пристрастие к крепкому кофе целит ускоренно заводить двигатель человека, как подпитка огненной в нем субстанции, как стартер.
У Эмили Дикинсон, поэтессы, аналогичные находим идеи и образы. «Когда я читаю книгу, и она делает мое тело таким холодным, что никакой огонь не сможет меня согреть, я знаю — это поэзия. Если я физически чувствую, будто верх моей головы снят (как скальп индейцем. — Г.Г.), я знаю — это поэзия»1. Шок от художнического потрясения выражается оппозицией льда и огня. Или как разряд молнии в громоотвод головы, как колпак на электрическом стуле. А вот какою силою она носит свое тело: «Как могут большинство людей жить без мыслей?... Как они находят силу надевать одежду по утрам?..» Мысль — как топливо, чтоб завести органы — колеса машины.
1 Selected poems and letters of Emily Dickinson. Anchor edition. — N.-Y., 1959. -P. 19.
204
Эмили Дикинсон — женская ипостась американской Психеи, подобно тому, как Уитмен — ее мужская ипостась.
Вот мое письмо к миру,
Который никогда не писал ко мне, —
начинает она одно из стихотворений с проблемы коммуникации, как и Лонгфелло: «Если вы спросите меня...» или как Уитмен, приглашая на диалог.
Я проживаю в Возможности...
И за вечную крышу — Мне двускатность неба.
И у нее — чувство страны открытых возможностей, пища духа в кредит из будущего. Но не земля и корни, а небо — ее крепость, и рост сверху вниз.
Успех считается сладчайшим
Теми, кто никогда не успевал, —
как она, писавшая стихи в неизвестности и без отклика, естественно. Но даже в полемике своего стоицизма она имеет в виду американский принцип «успеха». То же самое — как она противостоит тирании большинства, демократии, которую так славит Уитмен:
Во многом безумии — божественнейший смысл
Для проницательного глаза;
Во многом смысле — полнейшее безумие.
Большинство и в этом, как во всем, преобладает.
Согласись — и ты здоров, Возрази — и ты прямо опасен И с тобой обращаются цепями.
В американской концепции души, Психеи, принцип ур-гии, работы — доминирует. Иметь работу и успех в ней — главный стимул в существовании. Безработица — катастрофа для американца. Как писал в своем реферате мой студент Роберт Рич: «Во время Великой депрессии люди без работы страдали больше из-за бездеятельности, нежели от бедности, более от стыда и самонеуважения, причиняемых праздностью, чем от того, что им труднее стало кормить свои семьи».
В Евразии человек знает, как распорядиться свободным временем, умеет наслаждаться им. Он заполнит его dolce far niente «сладким ничегонеделаньем» (итальянец), любовной игрой, ars amandi «искусством любви», «наукой
205
страсти нежной», пересудами, сплетнями (как «Веселые Виндзорские кумушки» или в «Школе злословия»...). Но американцу неведома ars amandi, куртуазная галантность: тратить на это время, которое — деньги?!
Американские рабочие берут более короткий отпуск, чем рабочие других стран. А ведь свободное время справедливо трактовалось Марксом как критерий развития личности и счастливой жизни. Американец же стремится сузить свое свободное время, работая на 2—3 работах или используя его для подготовки к завтрашней лучшей работе: релаксация, спорт, сидение у ТВ с пивом и т.п. И как моя студентка Бернадетта Бак писала: «Многие американцы исповедуют принцип work hard, play hard («работай здорово, играй здорово»), причем занятия, которыми они занимают время досуга, тоже заставляют их вставать рано и могут быть столь же изнурительными, как и работа».
Душа американца одержима работой, озабочена проблемой занятости и беззащитна против стрессов и неврозов на этой почве. Однако высадившаяся в Новый свет пуританская душа прибыла с сильным оружием и лекарством против этих недугов — религией Бога-Творца. В протестантской этике Богом благословлен именно homo faber, человек работающий. Я читал книгу интересных воспоминаний о своей жизни Конрада Хилтона (чья сеть отелей покрывает мир) «Будь моим гостем». От своих родителей он унаследовал две главные заповеди: pray and work — «молись и трудись». И его обыкновение было: в 6 утра входить в церковь, молиться там и затем приступать к работе, исполнив душу Богом, и развивать бешеную трудовую энергию, что и принесла ему успех. Не могу удержаться, чтобы не процитировать те единственные стихи, что он приводит в книге, не помня, чьи они, но врезались они ему в сознание как модель американца и девиз на жизнь:
The man who wins is an average man, Not built on any particular plan;
Not blessed with any particular luck — Just steady and earnest and full of pluck. The man who wins is the man who works, Who neither labor nor trouble shirks; Who uses his hands, his head, his eyes — The man who wins is the man who tries.1
‘Conrad H i It on. Be My Guest. Prentice Hall Press. — N.-Y., 1987.— P. 56-57.
206
Буду переводить буквально, заботясь не о гладкости, а чтоб не потерять оттенков смысла (хотя все равно, конечно, отпадут многие).
Человек, который выигрывает, — это рядовой человек:
Не то, чтоб построен по особому плану,
Не благословлен какой-либо особой удачей —
Но как раз упорный и серьезный, и полный мужества.
Человек, который выигрывает — это человек, который работает;
Который не увиливает ни от труда, ни от беды;
Кто применяет свои руки, голову и глаза —
Человек, который выигрывает, — это человек, который пытается.
Вот она — игровая ургия американца! Выигрывает — через труд, но не «побеждает» (как воин, европейский идеал и евразийский), а через упорство и изобретательность, терпение и труд, и не как шулер, а честно — выигрывает. Американец = игрок: важно этот эстетический момент иметь в виду в характеристике его труда и бизнеса, и психики его: не уныние повседневного труда, но — азарт! И потому — не увиливает от неудачи и проигрыша, но упорно снова — пытается, уповая, что ни одна ситуация не закрыта, а есть шансы и возможности открытые, только сумей умом (голова) и изобретательностью (руки), и воображением (глаза) — найти эти выходы.
И подчеркивается, что это — средний, обычный человек, каждый, без особой структуры тела и рода, и генеалогии («особый план»), и без особой удачи. То есть: ни родовитость, ни талант — против этих аристократизмов от «гонии», евразийских, восстает средний американец, упорно «ботая» по своей демократической «фене».
И характерна логика, по которой построено это определение идеального американца. Она сходна с формулой русской логики: «НЕ ТО, А... (ЧТО?)...» — тем, что строится через отталкивание от чего-то, реактивно. От некоего готового образа и клише, традиционного и пришлого — в Россию, как правило, с Запада, а в Америку — из Старого света представление. «Нет, я не Байрон, я другой...» — начинает самоопределение Лермонтов. «Не то, что мните вы, природа» — так приступает Тютчев к построению своей мысли. И т.п. Но есть и фундаментальная разница. В американском определении отрицания удерживаются внутри четких определений по логике «ДА!», среди утвердительных положений. С такого и начинается мысль — «ЭТО ЕСТЬ ТО-ТО» — то есть по классической формуле западноевро
207
пейской логики, и ею дело заканчивается. Внутри же — развертывание смысла также и при помощи диалектики отрицаний. Русская же мысль с этого начинает — с нега-ции, потом долго и мучительно ищет: а что же есть? — с трудом что-то находит, но в общем оставляет вопрос не решенным, многоточие ставится в конце, а не точка... То есть — нет достижения, но процесс и незавершенность. Американец же, хотя тоже любит открытые возможности, но — посреди своего дела, которое надо дожать до успеха и совершения.
Итак, «молись и трудись!» — девиз образцового американца Конрада Хилтона. Задумался я: при таковом пиетизме американцев отчего не заметно там глубокой теологии, не развит идеализм в философии, но так приземленна она и прагматична? Этот кажущийся парадокс может быть объяснен как раз Хилтоновской комбинацией: он носит и пестует, и питает Бога в душе — и не имеет нужды держать его в объекте труда. Так они и дополняют друг друга: субъект и объект. Те же великие европейские идеалистические умы, которые были заняты Богом и доказательствами Его бытия, — трудились как раз в силу сомнения в нем. Паскаль, Декарт, Кант, Гегель... Их вера не была тверда, они были склонны к атеизму — и вот почему они могли объективировать Бога, Идею, Абсолют и медитировать над ними, убеждать самих себя, конструируя доказательства...
Для американца все, что сделано, стало продуктом, прошло через горнило «ургии», — уже тем самым как бы благословлено, даже мелочишка бытовая. Меня поразили субботние распродажи не нужных хозяевам вещей. Прямо перед домом своим их выставляют хорошо одетые интеллигентные хозяева, профессора, продают — за бесценок, да и просто отдают добродушно или передают в благотворительные магазины «Доброй воли». И здесь нельзя усмотреть корысти, ни даже филантропию только, но уважение к продукту предыдущего Труда как Бога: чтобы он не пропадал, но служил, жил...
Удивительно, что в России, которая совсем не так богата товарами, нет такого обычая, и вещи и изделия, что могли бы еще служить, просто выбрасываются, ломаются. Люди ведут себя, как аристократы, кому постыдно торговать, продавать. Но в основе — пренебрежение к Труду. В Америке богатые люди не усматривают ничего унизительного в такой процедуре. Напротив, имморально и постыдно было бы — по их этике Труда — отсылать в Ничто
208
продукт труда своего, или отцов, или братьев по бытию, который мог бы еще служить ближним.
Работа — центр, солнце американской жизни и устремлений человеческой души здесь. Она — средство избежать страданий и Судьбы — этих чудищ и сверхсил, владеющих душами в Евразии. И, главное, — это средство — во власти человека. Мои студенты в Весленском университете, читая русскую литературу, Достоевского в особенности, выражали крайнее удивление культом страдания у нас, которое чуть ли не обожествляется. И как же не делают люди ничего практического, чтобы одолеть его? Они напомнили мне, что в первых строках Конституции США провозглашается право человека на СЧАСТЬЕ. А американская Психея имеет а приори оптимистическую ориентацию в мире: все должно быть ОК («о-кей!»). И улыбка — conditio sine qua non, «абсолютно необходимое условие» для американца, чтобы показаться на людях: он носит ее на лице, как брюки на ногах. И обычен, и даже обязателен happy end — «счастливый конец» в их кино и романах вместо трагических развязок в произведениях русского искусства...
Кстати, решил я уточнить, что кроется под аббревиатурой ОК — и заглянул в словари, но ни наш, ни Вебстер — не расшифровывают, из чего она, но только — что значит: «Все в порядке». Стал я досадовать, но вспомнил, что есть у меня Оксфордский словарь — и там нашел: «первично из американского сленга»: «oil korrect». И вот разность в Логосах даже в этом сказывается, национальных. Английский, многослойно-иерархический истеблишмент, из геологии слоев, — ее, толщу субстанции, и в духе чувствует, как важную. Евразийский принцип «гонии» интересуется родословной, генеалогией слова. А американцу это все равно, без интереса и смысла, как Форду при приеме на конвейер безразлично: аристократ-профессор ты или ворюга из тюрьмы, но важно, КАК работаешь и что сейчас значишь... Правда, для честности, уточню: «Вебстер» у меня сокращенный, а «Оксфорд» — словарь, хотя и в одном томе, но большом...
Так вот, мои студенты обратили внимание на связь между русской наклонностью испытывать трагедию существования и отсутствием культа Труда в здешней ментальности и, напротив: взаимное соответствие американского оптимизма с принципом «ургии». Бог благословляет труд человека и живет в его трудах и так помогает избегать страданий существования.
209
В Евразии могучая религия буддизма усматривает в основаниях нашего существования — Страдание. Оно — субстанция Бытия. И сопряжено — с Желанием. Если хочешь освободиться от страдания, перестань желать чего-либо и воздержись от действий. Это воззрение — антиподно американскому: как раз усилиями труда побивается морока страдания, его анемия и уныние. А Желание — мотор, стимул, импульс Труда, и оно обожествляется и важная мифологема,в американской культуре. Здесь у Драйзера — «Трилогия Желания», у Шервуда Андерсона — «По ту сторону Желания», у Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание»» — и т.д.
Особо важно, что эта метафизическая проблема — страдание или счастье? — обрела и законодательное разрешение там: как пункт Конституции, согласно которому человек предназначен к счастью. Это дает легальное основание Американской Мечте, питает в человеке самоуверенность, оптимизм и право на успех.
Успех, Паблисити («публичность»), Просперити («процветание») как американские ценности и идеалы могут быть сопоставлены с евразийскими: Слава, Победа...
Политика, история и воинские добродетели в человеке здесь презренны, в отличие от Евразии, где они чересчур почтенны. Мальчишки тут мечтают стать не полководцами, а дельцами, и не славными, а мощно работающими. Слава и реклама — большая разница. И то, и другое — виды известности. Но слава центробежна: летит птицей, есть империализм-распространение меня после меня; реклама же центростремительна: есть стяжение потребительных ожиданий к моему текущему делу, кредит ему, прикорм из будущего, чтобы оно в настоящем шире развивалось.
Принцип истории — «новое», мода, новелла = новость; принцип ургии — «лучшее» (см. об этом у Форда рассуждение). И если у Гомера боги хохочут над трудягой Гефестом (= хромым, как капитан Ахав) и одобряют адюльтер Афродиты с Ареем-полководцем, — то американский эстетический вкус такого не потерпит: скорее воин тут осмеян будет (у Уитмена неоднократно, и Эмерсон по Наполеону прохаживается); да и Афродите такую волю распоясаться не дадут. Архетип Колумба = открывателя-изобретателя — в каждом американце, а не европейская модель солдата, носящего в ранце маршальский жезл: умеют тут в литературе и философии весело поиздеваться над тщеславными геро-210
ями европейской истории и их кесаревыми добродетелями. Сравнение лиц и статей Наполеона и Вашингтона на портретах являет разительную разность императора, «двуногих тварей миллионы» кому «орудие одно», и человека справедливости — первого среди самостоятельных и свободных тружеников. Не холен, но жилист и груб конечностями и Линкольн. Вообще в Америке развиты-усилены конечности: и для труда, и для ходьбы — словом, для зацепок с миром по его преобразованию в — ургии. И в драках тело как пятинога действует (включая и голову). Распущены конечности — и ноги на чопорный стол = площадь политики и общения социального, а Франклин вытянул конечность руки аж в громоотвод, и Уитмен любуется-перебирает свои конечности и прочие органы = работяги в «Песне о себе». Если в Англии self-made man = самосделанный человек, сдержанный, приноровивший себя к готовой социальнокультурной среде, то тут self-made world = самосделанный мир человеком несдержанным, раскованным.
И в Логосе, в мышлении сюжет ургии без гонии вполне сказывается. Неспособен американец к женски пассивному созерцанию платоновского типа, проращивать мысль в геге-левой филиации (= почковании) идеи (которая есть тоже — гонийная процедура: триада — Троица, святое семейство, а также модель зерна-растения = становления у него), — но их философское открытие — это прагматизм (В. Джемс), операционализм (Бриджмен), бихейвиоризм (Скиннер): умение вещь схватить-понять сразу в ее работе, без того, чтобы в генеалогическое древо ее происхождения из причин и начал вникать да так до сути и не добраться (как это делает европейская научная традиция, замешанная на гонии и природовитости сословно-аристократической). Если в Евразии правило «Смотри в корень», то здесь акцент «По плодам узнаете их» (на этом у В. Джемса упор). Вещь берется сразу сверху и технически. Понять, как работает вещь здесь и теперь, — вот что есть ее суть и критерий истины (вся гносеология операциональна), а не относить ее к предпосылкам вовне ее самости. И тут демократия, самоначатие от «я», а не от рода: тут не спрашивают у вещи: «А ваши кто родители?» Вон и у Линкольна опера-ционально-ургийное определение правительства: government of the people, by the people and for the people = «правительство народа, народом, для народа». Через предлоги: of, by, for указаны основные отношения в процессе производства и потреблении данной вещи (правительства): субъект тру
211
да, чья собственность (of), орудие труда, исполнитель работы (by) и кто потребитель (for).
И Франклином человек определен как животное, изготовляющее орудия труда, т.е. как субъект — ургии, а не как «животное политическое» (Аристотель).
И в лингвистике — семиотика, изобретение американца Чарлза Пирса, вклад в мировую культуру. Здесь функциональный (а не субстанциальный) подход к слову: как к знаку для работы сейчас и здесь, на месте, независимо от его происхождения, истории и строения. Сравните с этим индо-германское языкознание начала и первой половины XIX века, с его идеей генеалогического древа (Stammbaum) языков, с поиском праязыка, общего предка в семьях языков. Гонийный подход. Европейская научная традиция всегда имеет сильное склонение к НАТУРфилософии, т.е. к «гонийной» философии, субстанциальной, а не ургийно-функциональной.
И кто американские лидеры? Вашингтон = WASHington, т.е. тот, кто washed = стирал, т.е. прачка. Или Линкольн = LINKoln, т.е. тот, кто linked = связал Север с Югом. А в России кто? ЛЕНЬ-ин — так сладко пришелся тут по душе, суля молочные реки в кисельных берегах, а нам бы на печи, и по щучьему бы веленью чтоб скатерть-самобранка нас насыщала.
Замечательный закон был некогда принят в Америке: иммигрант в США, прибывающий сюда с аристократическим титулом: принц, князь, маркиз, барон и т.п., если претендует на гражданство, должен отказаться от своего титула. В этом я усматриваю не только волю американской демократии к поравнению всех, завистливую к природовитой возвышенности, — но и ее дар пришельцам: тем самым они освобождаются от оков своего рода-клана, традиции-репутации, которые не позволили б им почувствовать себя только «я», личностью, и заняться делом, профессией, что им по душе, или любой подручной работой — для заработка...
В стране Свободы естественно органичен стал в поэтике vers libre, свободный стих, причем у Уитмена есть еди-ноначатие-аллитерация: passion, pulse, power — и нет завершающих оков рифмы, т.е. принцип «открытых возможностей» и в стихе, — тогда как в европейской и русской поэзии рифма нужна как социальный порядок и строй, космос над хаосом природно-безбрежной, активно-рас-ползающейся — гонии. Единоначатие мира с каждым но
212
вым человеком подчеркнуто и у Томаса Пейна: он корректирует Руссо, выступая с теорией перманентно-возобновляющегося общественного договора с каждым новым поколением, для которого не должны быть обязательны установления предков.
Рифма = рефлексия, предел в конце, закрытие возможностей, круг и возврат внутрь себя, в Innere, оборот к со-кратову познанию самого себя. Нет культуры этого в американце, но он весь экстравертен, бешено устремлен вовне себя, одержимый деятельностью, как капитан Ахав. Но индивидуализм тут не значит эгоизм (себя-любие, замкну-ность, центростремительность), но включает самоотвержение (центробежность от себя к делу).
Вместо рифмы — анафора (одинаковые слова или выражения, начинающие стих) широко употребима в американской поэзии и, в частности, у Уитмена. Вот во Второй из «Песен о себе» шестистишие, в котором четыре срединных стиха начинаются с «You shall (not)» = «Ты (не) будешь», что не соблюдено в переводе К. Чуковского:
Побудь этот день и эту ночь со мною, и у тебя будет
источник всех поэм,
Все блага земли и солнца станут твоими (миллионы солнц в запасе у нас),
Ты уже не будешь брать все явления мира из вторых или третьих рук, Ты перестанешь смотреть глазами давно умерших или питаться книжными призраками,
И моими глазами ты не станешь смотреть, ты не возьмешь у меня ничего, Ты выслушаешь и тех и других и профильтруешь все через себя.
Кстати, все это построение типично для американской логики. Оно начинается со stop! «стой!»: зовет вас, адресуется в повелительном наклонении, ошарашивает шоком, как в рекламе, навязывается, хватает вас, как торговец, предлагающий свой товар. И далее идет беззастенчивое и гиперболическое его (= себя) рекламирование.
Второй же шаг в рассуждении, после повелительного обращения, восклицания, — негация, отрицание-отбрасывание всех остальных, кто не я, не мы, не наш принцип, американский. И в роли этих жертв отвержения — культурные установки европейской традиции: книжное знание, авторитеты отцов, и даже мне, автору, не верь, но все — сам и из своего опыта, самоначинайся!
213
А третий акт в «силлогизме» Уитмена — обещание, кредит, будущее в настоящем. Отчего там, в американстве, философское понятие «Истина» (которая «ЕСТИна» = то, что есть, сообщает), адекватнее бы заменить на «БУДЬ-ТИНА»!...
Итак, три звена в американском рассуждении, в их Логосе: восклицание, отрицание, обещание — твердое, опирающееся на уверенную в себе личность. А в формуле русской логики: «НЕ ТО, А... (ЧТО)... — отрицание, проба разных утверждений, вопрошение, повисающее неуверенно в воздухе. Нет разрешения, робость в утверждении. Но не оттого ли это, что в Евразии очевиднее бесконечность и сложность проблем? Ну и замах ведь — на журавля в небе, тогда как американец предпочитает синицу в руках...
Но доизвлечем смыслы из сопоставления рифмы и анафоры. Рифма — это конец, совершенство, продукт труда строки. Анафора — начальный пункт, и это в Америке всякое «я» как автор производства. Анафора = самоначатие. И между прочим, Генри Форд, отличая свой принцип и стиль производства автомобилей от европейского, вот в чем разницу усматривает: там производили ограниченное число совершенных изделий, роскошных и индивидуальных каждый раз, он же сначала отработал совершенную модель (знаменитую «Т-модель») и все усилия, и изобретательность сосредоточил на усовершенствовании процесса серийного производства уже найденной этой модели.
Каждое «я» в Америке — своего рода «анафора» = еди-ноначатие какого-либо дела, производства, приема...
Однако современная Америка — это уже трагедия «ургии». Об этом вся их научная фантастика (Бредбери, Воннегут...). Машины вытесняют людей с работ. Человеческие существа удваивают, умножают свои усилия, чтобы состязаться с машиной, — отсюда стрессы у тех, кто временно побеждает в скачке, и неврозы у сошедших с дистанции. Почему бы не работать умеренно всем — 3—4 часа в день, прочее время живота1 посвящая радости жизни, самосовершенствованию? Так нет же: шофер такси, молодой человек 23 лет, рассказывал мне, как он работает на 3-х работах по 78 часов в неделю, лишь воскресенья имея свободными, снимает комнату за 200 долларов, не имеет даже подружки, — и все для того, чтобы скопить 125 тысяч, как
1 «Жизни» — славянизм.
214
он рассчитывает, к 30—31 летам, купить дом и тогда жениться. От жизни он не имеет наслаждений, становится все примитивнее — и чего ради?...
Изобретения в «ургии» по переделке мира и человека начинают ставить и новые моральные проблемы. Это проступает, например, в юридических казусах, связанных с искусственным продлением жизни. Несколько лет назад широко обсуждался следующий случай: приемные (= тоже искусственные, не — гонийные) родители Карэн Энн Куинлан, 21 года, подали в суд Нью-Джерси, чтобы отключить дорогостоящий респиратор, которым искусственно (= ургийно) поддерживалась жизнь девушки. Похоже, что «американский бог» повелевает тут занять сторону -ургии, изъять ее существование из уже неправомочной -гонии семьи и принять на общественный счет штата как символическое существо(вание) = дело американского социума в целом. В этом же сюжете между -гонией и -ургией понятен и недавно принятый в Сан-Франциско закон о праве на достойную смерть: волей свободного «я» своего отказаться от медицинской помощи.
Однако все, что я описал, — это, так сказать, «Ветхий Завет» Америки. Сейчас же налицо признаки «Нового Завета»: развивается уважение к Природе (правда, тоже эгоистически: понимая в «экологии» ее как «окружающую среду» нашего, человечьего существования, а не как священную сущность, исполненную смыслов...). И феминистское движение, уважение к меньшинствам, принцип качества жизни, а не количества богатств. Это начало переоценки традиционной американской шкалы ценностей, национальная самокритика... А самосудная исповедь Капитана Ахава в главе «Симфония» из Мелвиллова «Моби Дика» сто лет назад пророчествовала об этой переоценке:
«О Старбек! какой ласковый, ласковый ветер, и как ласково глядит сверху небо! В такой день — вот в такой же ясный день, как сегодня, — я загарпунил моего первого кита — восемнадцатилетним мальчишкой-гарпунером!... Сорок лет назад! Сорок лет беспрерывных плаваний! Сорок лет лишений, опасностей, штормов!... Из этих сорока лет я едва ли три провел на берегу. Когда я думаю об этой жизни, которую я вел, о пустынном одиночестве, о каменном застенке капитанской обособленности, так скупо допускающем извне сочувствие зеленого мира, — о гнетущая тоска! о Гвинейское рабство капитанского самовластия! — когда я думаю обо всем этом, о чем я до сих пор только наполовину
215
догадывался, ясно не сознавая того, что было, — как я сорок лет питался сухой солониной — этим символом скудной пищи моего духа, — когда даже беднейший обитатель суши имеет каждый день свежие плоды к своему столу и преломляет свежий хлеб этого мира, покуда я ем заплесневелые корки, вдали за многие тысячи океанских миль от моей молодой девочки-жены, с которой я обвенчался, достигнув пятидесяти лет, а на следующий день после свадьбы отплыл к мысу Горн, оставив лишь одну глубокую вмятину в моей брачной подушке; жена? жена: вернее вдова при живом муже! Да, да, Старбек, я сделал вдовой эту бедную девушку, когда женился на ней. И потом, все то безумство, все неистовство, кипящая кровь и пылающий лоб, с какими вот уже тысячи раз пускался в отчаянную, пенную погоню за своей добычей старый Ахав, — скорее демон, чем человек! Да, да! каким же отчаянным дураком — дураком, старым дураком — был старый Ахав все эти сорок лет! К чему надрываться в погоне? К чему натруживать и выворачивать веслом руки, и гарпуны, и остроги? Разве стал от этого Ахав лучше или богаче?..»1
КОСМОСОФИЯ РОССИИ И РУССКИЙ логос
Удивительно, как гадавшим о судьбах России не приходило на ум спросить ее природу: чего она хочет, какой бы истории она могла желать от народившегося на ней человечества? Все русские мыслители: от Чаадаева до Шафаревича — думали в рамках историософии. То есть брали некие схемы развития и устроения обществ, которые сказались на поверхности Земли за тысячелетия цивилизаций, и прилагали эти карты к России, раскладывали ей пасьянсы. «Западники», «славянофилы», «соборность», «православие и католицизм»; «Византизм и Славянство», «Россия и Европа», «народ-богоносец», «Развитие капитализма в России», «Русская идея», «Евразийство», «Социализм», «Русофобия»... — все берут некие надземные готовости вокруг Ро-сии и принимаются ими соображать насчет нее. Так это и в нынешних страстных политико-публицистических спорах: «Что нам менять и брать?» Будто страна и ее природа есть некая пассивная безгласность и безмысленность и просто материал-сырье истории в переработку. Но ведь уже устро
1 М е л вилл Г. Моби Дик. — М., 1961. — С. 765—766.
216
ение природы здесь есть некий текст и сказ: горы или море, лес или пустыня, тропики или времена года — это же все некие мысли бытия, сказанные словами природы.
«Русь! Куда же несешься ты?» «Что пророчит сей необъятный простор?» Писатели-художники, поэты чуяли излучения воли и смысла от Русского Космоса и пытались угадывать их значения. Пушкин, Гоголь, Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак... Но чистые умники: философы, политики, даже историки (чуть малая есть о русской природе в начале «Историй» Соловьева и Ключевского...) как-то решали за Россию без хозяйки. Не говорю уж о МРАКсиз-ме, который будто уж «МАТЕРИализм», а совсем не любит «матушки-природы» (слышу это в иронической интонации Э.В. Ильенкова, гегельянца) и попросту налагает схемы своих пяти всеобщих формаций и не ждет милостей от природы, а насилует ее.
Какую же мудрость излучает Космос России? Россия — «мать сыра земля», то есть «водо-земля» по составу стихий. И она — «бесконечный простор». Беспредельность — аморфность. Россия — огромная белоснежная баба, расползающаяся вширь: распростерлась от Балтики до Китайской стены, «а пятки — Каспийские степи» (по образу Ломоносова). Она, выражаясь термином Гегеля, — «субстанция-субъект» разыгрывающейся на ней истории. Очевидно, что по составу стихий ее должны восполнить «воз-дух» и «огонь», аморфность должна быть восполнена формой (предел, границы), по Пространству должно врубиться работать Время (ритм Истории) и т.д.
Это и призвано осуществлять Мужское начало здесь. Природина, Россия-Мать рождает себе Сына — русский Народ, что ей и Мужем становится. Его душа — нараспашку, широкая: значит, стихия «воз-духа» в нем изобильна. Он легок на съем в путь-дорогу дальнюю. Русский народ — СВЕТЕР: гуляет, «где ветер да я», летучий, странник и солдат, плохо укорененный. Неважно он, такой беглый, пашет свою землю, как мужик бабу, — по вертикали, так что его даже пришпиливать приходилось крепостным правом, а то все в бега норовил...
Потому второго Мужа России понадобилось завести (уже не как Матери-Родине, а именно Женщине-жене) в дополнение, который бы ее продраил по вертикали да креп-но обнял-обхватил обручем с боков, чтобы она не расползалась: заставой богатырскою, пограничником Карацупою, железным занавесом — бабу в охряпку... И этот мужик —
217
чужеземец. Охоча холодноватая Мать сыра земля до огненного чужеземца плюс к своему реденькому, как иная бороденка, Народу: он свой, родимый, любимый, да больно малый да шалый. Воз-дух и Свет (недаром и мир тут — «белый свет», как снег) он ей подает; но ведь у стихии Огня вторая важнейшая ипостась — Жар, а сего недодает. Вот и вынуждена Россия варяга приглашать на порядок-форму и закон, из грек правостояние православия (тоже прямая, вертикаль и закон — Божий), половца и турка с Юга притягивает, татаро-монгола — с Востока. Потом немцы с Петра правили, социализм западный с Ленина, грузин Джугашвили, в ком соединились Петр с Тамерланом (догматический марксизм и талмуд идеологии Запада — и султан «секим-башка» с Востока). Уж он-то так продраил Русь-бабу, что бездыханная лежала... Потом полегче: хохлы-малороссы с Хрущева пошли, с выговором на фрикативное «гх» — и у Брежнева, и у Горбачева. Как бы в отместку за присоединение к России, Украина в пору «застоя» своими людьми стала Россиею править: куда ни глянешь в аппарат власти, армии, культуры — везде от всяческих «енко» рябило...
Даже стратегия русских войн — от охоты России-бабы на чужеземца. Она его приманивает (поляка, француза, немца), затягивает в глубь себя: никогда не на границах ему отбой, а взасос его вовлекает — и уж тут, во глубине России, самый оргазм битв: летят головушки и тех, и других, орошают ее топкое лоно огненной кровушкой, как спермою: им смерть, а ей — страсть да сласть. Так ведь еще в «Слове о полку Игореве» битва как свадьба описана, как смертельное соитие. Если германская тактика — «свинья», «клин» = стержень, то русская — «котел», «мешок» — как вагина, влагалище. (Кстати, французская тактика у Наполеона, — «маневр» — изгиб, волна).
Да, в каждом национальном Космосе обитает и особый национальный Эрос. Он определен прежде всего вертикалью: Небо (мужское) — Земля (женское). Как жгуче прободание в тропиках, где семиты (иудеи, арабы), и нет среднего рода там в языках семитских, и все формы резко пополам распределены. А в умеренном и северном климате России: «Здесь, где так вяло свод небесный На землю тощую глядит...» — такой, не страстный Эрос отмечал Тютчев у нас, где вектор Выси переходит в тягу Дали-горизонтали: возлюбленным сулится дальняя дорога: «Дан приказ ему на Запад, ей — в другую сторону»; тут разлука, поэзия
218
несостоявшейся любви, тоска... Родима тут сторонка, край, косвенное, «косые лучи заходящего солнца» любил Достоевский...
Итак, в Русском Космосе три главные агента Истории: Россия = Мать сыра земля, а на ней работают два мужика: Народ и Государство-Кесарь. И оба начала ей необходимы. Народ — это тот малый, что протягивается по горизонтали: из Руси — всю Россию собою покрыть (и в эротическом смысле слова тоже) напрягается, хотя и убогий числом-населением: мал да удал! Но — бегл, не сидит на месте. Потому и понадобилось жесткое начало власти, формы, порядка — и оно, естественно с Запада натекло. Оттуда же — индустрия («огне-земля» промышленности) и город. Народ = воля, а Государь(ство) = закон. Меж ними и распялена Психея, душа русской женщины. Недаром в русском романе при ней два героя, что реализуют эти ипостаси. При Татьяне — Онегин («воз-дух», беглый, охотник до перемены мест) — и Генерал, князь. При Анне — солдат Врон-ский, что не вьет гнезда, и министр Каренин. При Ольге — Обломов («голубь» — так его она чувствует, т.е. «воз-дух») и немец Щтольц («гордость» — его имя значит, в нем труд, рассудок и воля); при Аксинье — непутевый и бесстанный Григорий и есаул Листницкий. При Ларе — поэт «воз-дух»новенный, доктор Живаго, и комиссар Стрельников. И т.д.
Теперь — отемпоритмах русской жизни и истории. Представим эту обширную страну в ее начале, со скудным населением, обитавшим в лесах северо-западной Руси. Чтобы заселить и цивилизовать это пространство путем естественного размножения ее флегматического инертного народа (бегл-то он и подвижен — от власти стал), понадобились бы десятки тысяч лет. Однако Россия была окружена более динамичными и агрессивными народами, особенно с юга, жарко-страстными кочевниками-степняками, которые вожделели обладать ею и не раз оплодотворяли холодную русскую красавицу своей огненной спермою. В защиту от соседей понадобилось выстроить Государство. Однако призвание его в России не только милитарное, но и строительное: оно — главный хозяин и предприниматель, толкач цивилизации в этом пространстве лесов, степей, тундр, тайги, льдов Океана ц вечной мерзлоты, которые, поло-жась на охотку индивЛда, не освоишь. Петр с топором и Ленин с бревном — воткшмволы Государства русского типа. Топор, правда, этот применялся не только на верфях при
219
постройке флота, но и на плахе: рубить головы населению, не изобильному и так, без этих петро-сталинских прореживаний...
И вот'-у Народа и Государства в России разные темпо-ритмы во Времени. Народ тяготеет к натуральному развитию медленным шагом времени, что органично для русского медведя (кому еще и в спячку надо погрузиться долгою зимою) или даже мамонта — таким животным телам могут быть народ и страна русская уподоблены. И это естественно, что ритм сердцебиения и кровообращения и всех функций в таком огромном туловище должен быть иным, нежели в средне-нормальных зверях — таких, как волк Германии, лиса Франции (maitre Renard Лафонтена) или дог Англии. Но соседство с Западом и вплетенность в историю Европы подстегивало, и, к страданию для народа и жизни индивида — капилляра в нем, мера, скажем, волка («аршин общий») навязывалась нашему мамонту-медведю — как нормальный пульс, и вытаскивали его на ярмарку-Рынок плясать чужемерно и неуклюже, на посмешище. А если не поспевал, подгоняли его кнутом и насилием: слово «ускорение» у Государства на устах.
Так и сложилось веками, что русский человек свыкся трудиться не столько движимый своей охотой к зажиточности (он привык довольствоваться малым, как и свойственно мудрому: Сократу, Декарту и Ивану-«дураку»)/но исполняя наряд организующей воли Державы./Так что «командно-административная система» есть не прихоть на потеху нынешним острословам, но работающий костяк-остов, присущий Космосу России. Позвоночники Государства и Народа искривлены навстречу друг другу и образуют Арку хозяйства у нас, которая тем и крепится, что оба устоя не самостоят колоннами, но падают друг на друга. Отсюда очевидно, что расчет нынешних реформаторов России: распустить государственную организацию экономики в надежде, что русский человек враз воспламенится Эросом труда и станет рыночно вкалывать, вожделея жить, как американец, — без понимания Космо-Психо-Логоса России и темпоритмов русской жизни принят. Ведь и среди планет Солнечной системы различны по величине годы обращения, и нелепо Юпитер России заставить крутиться с тою же скоростью, как Венера Франции или Марс Германии. Китай-Сатурн свою меру понимает и не спешит...
Все процессы и фазы истории в России медленнее должны бы протекать.
220
Итак, несовпадение шага Пространства и такта Времени — вечная судьба и трагедия России, но и закономерность ее истории. К тому же тут еще расходятся интересы Народа и Личности.
Для индивида, чья жизнь короткомерна, кто «и жить торопится, и чувствовать спешит» (эпиграф к «Евгению Онегину» из П. Вяземского), западное склонение, ускорение — по душе: по мерке человека тот год, более Протагоров... Потому индивид в России падок на права человека и демократию.
Какие же последствия и особенности Русского Логоса проистекают из такого именно склада Космоса, Эроса и Психеи здесь? Русский Логос — функция этих четырех аргументов: Россия-Мать, Народ, Государство, Личность. У каждого из них — свое Слово и логика.
\/ Россия есть рассеянное бытие-небытие, разреженное пространство с островками жизни/«Как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города» (Гоголь). Точка жизни — тире пустоты. Пунктир, а не сплошняк цивилизации: нет связи, дорог, посредства, слабость среднего сословия и среднего термина в силлогизме. «Умом Россию не понять» = рассудок (который работает в притирке опосредствования звено за звеном) теряется. Тут лучше работает образ, который может перепрыгивать через зияния в мета-форе = пере-носе (вот наш «трансцензус»!). Потому строгая философия невозможна в России, но она — на грани с художественной литературой или религией. Ибо Россия, как Бого-Матерь-я, — религиозный объект, христианский. Тем более — для крестьянства = почти «христианства». Потому патриотизм тут — в благой, но и опасной близости к христианству: одно может приниматься за другое, понятийное qui pro quo получается.
Государство в России (как осуществляющее принцип Формы в ее аморфности), напротив, порождает и излучает жестко рассудочный Логос, догматический, и им обслуживается: формализм, бюрократия, начетничество синодального катехизиса и талмудизм максистско-ленинской идеологии, культ рассудка и научности, План и Предопределение, неприятие Случая и Свободы воли. Как alter ego, «свое другое» Логоса Государства, — Логос антиподной ему интеллигенции, что так же вестернизована, как и истеблишмент-аппарат, и ученическа у Запада, и боготворит Науку, Разум, логичность (Чернышевский, либералы,
221
социалисты, марксисты, диссиденты, Сахаров, рыночники ныне, демократы...).
Ну а Народ русский, СВЕТЕР — каков его Логос? Это — песня, поэзия, мат, блатной язык — и безмолвие. «Народ безмолвствует», «И лишь молчание понятно говорит» (В. Жуковский, «Невыразимое»).
В силовом поле этих 3-х сверхличных субстанций-субъектов русского бытия бьется Логос русской Личности: Пушкина, Достоевского, Федорова, Горького, Бердяева... — с «мукой понять непонятное» и «объять необъятное». Тут есть свои общие черты. Если формула логики Запада, Европы (еще с Аристотеля): ЭТО ЕСТЬ ТО («Сократ есть человек», «Некоторые лебеди белы»), то русский ум мыслит по формуле: НЕ ТО, А... (ЧТО?)...
Нет, я не Байрон, я другой (Лермонтов).
Нет, не тебя так пылко я люблю (Лермонтов).
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем (Пушкин).
Не то, что мните вы, природа (Тютчев). Не ветер бушует над бором (Некрасов).
Русский ум начинает с некоторого отрицания, отвержения (в отличие, например, от немецкого: отрицание — второй такт в триаде Гегеля, но начало развертывания мысли — «тезис» — положительное утверждение), Д в качестве «тезиса-жертвы» берется некая готовая данность, с Запада, как правило, пришедшая («Байрон» у Лермонтова, те рассудочники, кто мнят, что природа — «бездушный лик», у Тютчева), или клише обыденного сознания... Оттолкнувшись в критике и так разогревшись на мысль, начинает уже шуровать наш ум в поиске положительного решения-ответа. Но это дело оказывается труднее, и долго ищется, и не находится чего-то четкого, а повисает в воздухе вопросом. Но сам поиск и его путь — уже становятся ценностью и как бы ответом.
По этой же логике и «Война и мир»: не Наполеон, а Кутузов; и установка Достоевского: не Рим, социализм-атеизм, а... «народ-богоносец»?.. Даже ракета недаром у нас изобретена. Ее принцип движения — самоотталкивание (= национальная самокритика): тоже «не то, а...», «От самой от себя у-бе-гу!...»
Мир удивляется: как это у нас критика и полемика такая жестокая и страстная между собой: западники и славянофилы, народники и марксисты, демократы и партократы... А я это так понимаю — как необходимый разогрев: в
222
промозглом космосе мати сырой земли, чтобы не свалиться на обломовский диван, на успенье в медвежью берлогу иль в запой («огневоду» принимая, как панацею от той же мати сырой земли), все средства хороши — в том числе и разогрев злости. Да и работяга русский когда хорошо работает? Когда разозлится, раззадорится...
Модель-схема Русского Космоса: ।—ОО — это «путь-дорога», «Русь-тройка», космодром в однонаправленную бесконечность. В формуле русской логики «не то, а...» этому соответствует многоточие, незавершенность. Она и ценность, по Бахтину: открытость, вопрошание, не ска-занность ни о чем последнего слова. Русские шедевры — незавершенны: «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Братья Карамазовы»... Есть начало — нет конца. Как и на советчине: есть начальники — и незавершенка (в строительстве). И задушевная мечта русская — начать все снова, жизнь — сначала! Разрушим — и построим, наконец, то, что надо! И не устаем — НАЧИНАТЬ!..
С точки же зрения Времени (а пока я русский Логос из свойств Пространства выводил) — ЗАДНИЙ УМ тут крепок: очухиванье пост фактум и post coitu. В силу несовпадения шага Времени с шагом Пространства (о чем выше) возникает в Логосе истерика биений и шараханий односторонних: сначала все почти полагают одно, затем уразумевают противоположное и проклинают первое... А Медведь не успевает поворачиваться, и юркие иноземцы успевают схватить-попользоваться, пока-то русак расшевелится... Сейчас, правда, не затеяли ль из мамонта Союза, из медведя России понасечь два десятка собак?...
Напрашивается — сопоставить Россию и Америку. Уж из соположения рядом портретов разность очевидна. Лишь несколько пунктов акцентирую. И та, и другая цивилизации искусственны: в России — наполовину, в США — целиком. Агентом строительства в России было прежде всего Государство, в Америке — индивид-трудяга, жадный на работу и заработок (то, что за работой, за горизонтом). В России первично Целое, а индивиды, граждане — его функции. В США первичны индивиды, множество само-сделанных энергетических атомов, а уж из них собирается Целое. Государство — функция индивидов.
Пространством обширным оба Космоса схожи. Чувство незавершенности в России, «бесконечного простора»; в США — ощущение «открытых возможностей»: простор для деяния впереди, тяга. Но Россия границей, передвигая ее,
223
тут же закрывала себя, чтоб внутри себя жить по своим мерам и потребам и ценностям, отличным от других миров, как монастырь, или как дамба плотины охраняет низину от затопления. В США тоже граница все отодвигалась на Запад, пока не уперлись в Тихий океан, в четкий пре-f дел, и возникла обратная связь, отражение от предела. I В России обратная связь слаба: лишь из центра и Государства импульсы, но не слышна реакция ни Природы, ни Народа, ни Личности, ни Жизни../ А все шли, да и идут односторонние импульсы; и сейчас реформы — из схем и расчетов рассудка, не выверяя реакцией Бытия. И кажется: тут так можно было всегда. Согласие на долготерпение в Психее местной. Видны начала («начальство» — наши «ар-хай» — приЧИНЫ), а концов не сыщешь — и ответа нет (и ответственности: отвечать некому никогда), как Поэту — в «Эхе» Пушкина: «Тебе ж нет отзыва...» Потому Суд слаб (как и расСУДок тут слабо работает), и непонятна ценность и поприще Закона и Судебной власти. И верно: для их работы нужна определенность космоса и социума: чтоб было о что отражаться мерам, актам и предприятиям, а не беспредел — бесконечность и неслышимость отзвука. Тут космос Алейрона = беспредельного, по-эллински, что аналогично Женскому (с ним стоит в пифагорейских парах). Так что в России издревле упор не на Закон, а на Благодать (в «Слове» еще митрополита Иллариона в XI веке), на Милость, что есть, конечно, «суд» Женского начала, Материнского: Любовь и ее абсурд, и каприз, а не Справедливость прямолинейная и мужская, жесткая...
Ну а главная разницд — в темпоритмах Времени. Космос России — Север суровый присоединен к линии умеренных широт. Космос США — к линии умеренных широт присоединен Юг. Так что и вегетационный период роста в США почти в круглый год, два урожая снимать можно, а в России — от силы 5 месяцев. В США все темпы естественно скоры, да еще и искусственно ускорены — «ургией». У нас же естественно замедленны все процессы, а ускоряются -подстегиваются волей Державы, организатора трудов. На частной инициативе тут далеко не уедешь: ну как приватизировать тундру?...
Завершая сей текст, должен орудие анализа уточнить. Как в квантовой механике различны выкладки для частицы или волны, так и есть «мысль-частица», точная и точечная, рассудочная, а есть «мысль-волна», «мысль-поле», что работает с приблизительной истинностью. Но в Бытии
224
полно проблем, тем и объектов, что размытой мыслью, «мыслеобразом» улавливаются, а от точной — ускользают. Таков и мой объект — Национальный Космо-Психо-Логос.
ЕВРЕЙСКИЙ ОБРАЗ МИРА
Когда я приступил вникать в Еврейский образ мира, случилась осечка: мой инструментарий тут перестал работать. Я ведь танцую от Природы, ищу соответствия между окружающим космосом и душой и умом: как они взаимно пропитывают друг друга и приводят в соответствие. А тут — феномен диаспоры: две тысячи лет эта целостность — Еврейство — существует, сохраняется, но — посреди чужих, не присущих им природ, стран, космосов. Космос как бы вычитается — как субстанция...
О! да ведь это предлагает как раз и решение загадки Еврейства. Если все прочие, так сказать, «нормальные» национальные миры сочетают Космос, Психею и Логос, то Еврейство — это Психо-Логос минус Космос. И как в математике минус, отрицательное число есть не просто отсутствие, но значащая величина, так и «минус-Космос» есть весьма значащее отсутствие. Те субстанции и энергии, которые в других народах распространяются экстенсивно на их территориях (уходят в возделыванье земли, постройку городов, тратятся силы в войнах с соседями...), здесь со-держатся, сгущаются в Психею и в Логос, делая их необычайно активными и дифференцированными. «Тора» — их терри-тора. А также — Этнос. Природа Еврейства, его материя — это плоть народа. Космос оказался как бы вдавлен в Этнос. Главная заповедь здесь — жить, выжить. «Быть живым, живым и только — до конца!» — как это выражено Пастернаком. И Бог Израиля имеет эпитет «Живой», и они — «избранный народ Бога Живаго».
В истории Еврейства три главные эпохи: Библейская, диаспора и государство Израиль ныне. Нынешние идеологи трактуют это по модели гегелевской «триады»: Библейская эпоха = тезис; существование Еврейства в изгнании, в диаспоре, = антитезис; собрание евреев в восстановленном своем государстве Израиль = синтезис. Правда, насчет последнего у ортодоксальных иудеев есть сомнения: не преждевременное ли это и самочинное образование: Мессия-то еще не пришел?..
Итак, наша задача — выявить некую «квинтэссенцию» Еврейства, что действительна для трех его исторических
8 Гачев Г.Д.
225
эпох, некий инвариант. И, разумеется, основа и корень — эпоха Библейская, великая и славная меж прочими народами. Но чем прежде всего славная? Тем, что жизнь этого народа, его история — перелилась в Слово, в «Книги» (что значит по-гречески слово «Библия»), в Закон Божий, ставший еще и через христианство универсальным для половины населения Земли.
А по масштабам-то — мизерный народец, малое племя, на малой территории, да и то все время передвигалось, изгонялось, возвращалось — не сращено с землей. То клан Авраама по обетованию Божию уходит из земли Ур и приходит в Ханаан, перейдя реку Иордан (так что и самоназвание народа «еврей» возводят к слову «иври» = «перешедший»: имеется в виду — реку). Но и тут уже схвачена и пророчена суть Еврейства — как вечного кочевника, без-местного, среди стран и народов чужих. Это же продолжалось и дальше: переселение в Египет, исход из Египта, затем несколько веков золотой поры Иудеи и Израиля: основание Иерусалима, цари Саул, Давид, Соломон, построение Храма... Но потом — нашествие персов, изгнание в Вавилон, плач Иеремии на реках вавилонских, постепенный возврат, эпоха «второго Храма», собрание текста Библии, завоевание Иудеи Римом, возникновение христианства, Иудейская война и разрушение Иерусалима Титом — и изгнание на все стороны...
Уже в этом беглом очерке событий древней истории Иудейства бросаются в глаза некие черты, общие с будущим существованием в диаспоре. Константа — этнос, постоянно племя, семя авраамово, плоть и кровь, что удерживается строжайше выработанными гигиеническими предписаниями Бога, как великого медика, врача-диетолога своему избранному народу-сыну: 613 предписаний Торы = стены Еврейству от распадения и рассеяния — среди таких предстоящих мытарств и передвижений между чужих земель и народов!
Факультативна — земля, всякое «где» осесть, обретаться. Ханаан, земля обетованная, — мерцает: то есть, то исчезает и постепенно превращается в некое метафизическое понятие, некое видение идеала, как наш Китеж. Недаром термин «земля обетованная» стал далее пословичен и в прочих народах в ходе мировой истории. И Америка выступала как «земля обетованная» или «Эльдорадо» — другой вариант имени для сего идеала, и даже Советский Союз на первых своих порах — для социалистов-интернационалистов...
226
Занятие древнего Иудейства — это главным образом пастушество, а не земледелие (садоводство, виноградарство...). Земля-то Иудеи жестка, скалиста — как и народ тут «жестоковыйным» становится, в отличие от мягкой, влажной северной Галилеи виноградарей и рыбаков, откуда Иисус с Новым Заветом пришел — заветом кротости и орошения воз-души водой...
Иудейство же каменисто и огненно: жара, скалы Иерусалима, пустыня Негев... «Рыжие камни», как одна художница в современном Израиле назвала сей космос. «Рыжий» = огненный. И Бог тут — «огонь поядающий» и является в «не-опалимой купине»... «Огневоз-дух» — вот что такое иудей на языке стихий, таков его состав.
И идеологически: «ам-ха-арец» = «человек земли», «земледелец» — презрен в Ветхом завете... (Сопоставим с этим созвучие: «христианство» = «крестьянство»; это религия умирающего и воскресающего бога = зерна...). Но это уже означает некую провиденциальную НАД-земность, несоп-ряженность с тягой земли снизу, отслоенность от нее и, значит: большую причастность себя к выси, к небу, во-первых, что сказалось в том, что главные силы нации стали устремлены, излились в создание Торы, Закона самим себе, в Писание священное. («Ам-ха-сэфер» = «Народ книги» — таково самоназвание евреев в диаспоре в противостояние, «ам-ха-арецам» окружных народов.) А во-вторых, самозамкнутость в этносе, в плоти и крови, в теле человека, который отделен, не есть ни земля, ни небо, а вот он я — живое существо самодвижное, Жизнь!
На иврите «дам» = «кровь» входит и в понятие «человек» — А-дам, и «природа» — А-дам-а. По латыни же «человек» — homo от humus = «земля». А что есть кровь на языке стихий! — «Огне-вода». И вот такова субстанция человека-еврея. А «огневоздух» — это символ Бога Израиля. Недаром кроме огня он еще является в буре и ветре — и в тихом дуновении...
Жизнь — главная ценность и сверхидея во Еврействе. (Первая женщина — Ева — «Хава» = «жизнь», на иврите.) Не Истина, не Родина, не Идея, не прочие какие сверхидеи и сверхценности... Там еще Честь-Совесть, Слава, Бессмертие... — эти все категории отводны от живого, суть переливы в экстравертность — Истории, Культуры, в Пространство и Время. Опредмечивание, объективация, отчуждение = «овнешнение» по-немецки (Entausserung). И все это возможно в космо-исторических народах с большим
227
8*
«He-Я» своего Государства, Культуры и т.п... (В Еврействе же нет отчуждения... — сей муки личности в новоевропейской цивилизации. Кстати, и Слава не волнует так еврея, не честолюбив он и довольствуется быть на вторых ролях, в тени, но быть реальным двигателем и принимать решения, быть тайным советником и «серым кандиналом». Так и в СССР было, когда первый секретарь партии — русский или какой узбек или киргиз, словом, «национальный кадр», а второй — еврей, или русский...).
Итак, затеян особый народ, вне Пространства, а также и вне Времени, как «вечный народ»: недаром и Вечный Жид, Агасфер, не могущий умереть, — тут сей архетип рожден...
Таким образом, уже существование Еврейства в первый свой славный период, зафиксированный в Библии, когда они тысячу лет все же в одном пространстве, на территории Палестины обитали, — имело тенденцию к съемности с земли и к самозамыканию в Закон и Этнос, и тем самым было как бы приуготовлением к существованию Еврейства в последующем образе жизни — среди чужих земель и государств-народов. Еврейство же как бы свернуло себя с земли -- в Книгу и ввернуло себя — в родную плоть и кровь: блюсти несмешанной особую телесность, пронести через века особое семя и ген — в чистоте.
И тут им в помощь и приказ — сам Бог Израиля. Это бог страстный, ревнивый, исполненный Эроса и ярости. Он — как Муж своему народу: Израиль — жена Богу. Аналогично потом и в христианстве: Иисус понимается как Жених Церкви, что Ему — Невеста вечная. И так перетолковали страстный Эрос «Песни песней» Соломона: воспетую там кипяще чувственную любовь христианские теологи воссим-волизировали в свои идеалии, спиритуальности...
Обрезание — главный закон. Конечно, этот обряд имеет и гигиеническое значение — в южном космосе, где зараза и проказа и разные кожные болезни. Но в этом есть и мистический смысл: крайняя плоть, обрезанная, посвящается Богу. А это значит, что со всяким вхождением еврейского фаллоса в лоно израильтянки — Сам Бог туда входит, самолично совокупляется. Потому как к священнодейству относятся евреи к половому действу — и оно вершится ритуально, после праздничной вечери накануне Субботы.
Обоженная плоть так учинилась во человеках. И потому именно во плоти еврейки смог зародиться Сын Божий.
«Дщери иерусалимские» воспеты в «Песне песней», и «жены человеческие» соблазнили и ангелов Бога. Вообще в
228
Еврействе я замечаю явление, которое я бы обозначил — как «Лотов комплекс»: интимные отношения, особая привязанность Отца не к Сыну, а к Дочери. У Тевье-молочни-ка в книге Шолом-Алейхема — 7 дочерей. И Михоэлс знаменит в роли Короля Лира — с дочерьми. И в «Венецианском купце» Шекспира — Шейлок с дочерью: чадолюбив скупец. И у Вальтера Скотта в «Айвенго» Исаак и Ревекка. Писатели чутки — на сущностные архетипы...
Это у евреев взамен Эдипова комплекса — Лотов: с дочерьми, понесшими от отца. Для Европы это — извращение, садизм: «Эжени де Франваль» — роман Маркиза де Сада: отец выращивает себе дочь для дефлорации... А для Еврейства, когда нет мужей дочерям и нет жен отцам-вдовцам, чтоб род продолжился — дочь восходит на ложе к отцу. Причина тоже — отрыв от земли: семья Лота ушла из Содома, а жена превратилась в соляной столб...
В материковых народа-странах законно вожделение мужей к Матери(и) Земле: то ли в Эдиповом, то ли в Руста-мо-Кащеевом комплексе, как на Руси, где Отец убивает Сына и женится на Снохе... В Еврействе же не земля, а семя — сверхценйость. И потому грех Онана, кто не захотел войти во вдову брата, но излил семя не в живую землю Еврейства (= в женщину), а мертвую для них — землю природы, — величайшее кощунство...
А сыновья, действительно, не очень любимы во Еврействе: отцы готовы без особого страдания их заклать: Авраам — Исаака, Иаков — Иосифа (лишиться), Бог — Иисуса... Давид — Авессалома...
Да вообще женщина важнее в Еврействе, чем муж-отец. И недаром евреем считается тот, у кого мать — еврейка. Да, в диаспоре мужчина — постыден: прозевал страну-родину, не защитник-воин, так что служебен жене-матери-хозяйке быта семьи. И у Шолом-Алейхема недаром мужчин величают по женам: этот — «Леи-Двосин», а тот — «Райкин», «Гольдин», «Соркин», «Фрумкин», «Миркин». Тоже ответ на вопрос «Чей?», — что первовопрос для Русского Логоса, но в нем — по отцу принадлежность, а здесь — по женщине...
Но я увлекся — и отвлекся. Итак — обоженная плоть во Еврействе смогла сформироваться. Соединимы оказались Тора и Этнос, Дух и Материя. И христианская идея Бого-воплощения — пророчена уже законом обрезания = освящением соития. Потому-то нет в иудаизме аскетизма и монашества, целибата, безбрачия. Напротив, избранному «ко-
229
лену»-клану левитов и когенов, кому предписано быть священнослужителями, следует быть внимательно брачными и рожать много детей. Так ум и интеллект передается по наследству, а не расплескиваются в воздух, как у черного духовенства и монахов в христианских народах-странах, где дух через реактивное отталкивание от плоти набирает силу: жертвой телесности и жизни. И тут могут себе позволить такую роскошь, ибо есть свой Космос, страна, Мать-ПРИ-РОДИНА, что в силах воспроизвести снова наРОД, а в Истории, проходящей на этой земле, и в Культуре нарабатывает склад-амбар сокровищ-ценностей — в том числе и из жизней прошедших личностей...
Раз уж я коснулся христианства, встает вопрос: каков смысл сохраняться иудаизму — при том, что христианство впитало в себя и Ветхий Завет и, конечно, есть более универсальная и высоко-духовная религия, нежели иудаизм?
Но что произошло в христианстве? Центральной фигурой стал Иисус Христос, Сын Бога Живаго, Который уже важен не сам по себе, а как родитель, Отец Сыну. Более того, появилась фигура Матери Божией, что стала так любима в народах. И она постепенно срослась с архетипом Матери-земли, Природы, Матери-и. И вот пара, тандем: Сын и Мать — стали оттеснять в религиозном чувстве Бога, Отца. Свершилось — по Эдипову комплексу, что характерен для стиля бытия стран-культур-цивилизаций Западной Европы. Суть его в том, что Сын убивает Отца и женится на Матери. Значит, молодое сильнее, новое в чести, отсюда — прогресс, культ нового и новинок, новостей, моды и проч. И вот христианство — всемирно-исторический акт свержения Бога Сыном, Ветхого Завета — Новым законом. И тогда, как паллиатив и примирение, возникла идея Троицы: Бог един в трех лицах-ипостасях: Отец, Сын и Дух Святой.
Так вот: Еврейство с иудаизмом остается как собственный, жреческий народ просто Бога (никакого не «Отца», но Творца лишь) — одного, единого, целостного, не разменянного на Троицу божеств. Это — партия Бога — при том, что появилась партия Христа.
Ну и еще: христианство стало строить Дух за счет Жизни, тела, унижая плоть, кровь, Любовь как Эрос, брак и деторождение. Для народов с территориями-землями это не так убийственно опасно, ибо Матерь Божия как бы покровительница их (Ее Покров и над Россией...) и освящает матерей и деторождение. А природа-Мать воссоздаст, 230
сохранит свой народ-сын от вымирания... А у Еврейства такой защиты-инстанции нет.
Еврейство защищено Законом-Торой, что не просто спиритуальный закон, но своими предписаниями пронизывает быт, до деталей, распорядок времени и какую пищу употреблять, как и когда. Так создается этим свое переносимое повсюду, портативное Пространство-Время, особый «космос» — уже не в физическом смысле, как Вселенная, а в исконно греческом смысле слова: как строй-ряд-чин-красота-гармония-стиль существования. И практикуя его, все евреи пропитывают себя этой особостью: и узнают друг друга («экс нострис!» = «из наших!»), и узнаваемы извне — как особая порода излучает особую ауру и различима по флюидам, как по запаху.
Потому обрядовость, что в других религиях — как приложение к ее спиритуальному содержанию (в христианстве, например, отчего многие интеллектуалы готовно принимают учение Христа, но восстают против обрядовости церкви, ритуалов — как Толстой), тут насквозь обряжает быт и день, и ночь, и неделю иудея — правоверного. Шутка ли! 613 предписаний Торы надо помнить и исполнять, и не ошибиться! Их и называют «стенами Закона», что, как ограда городу, хранит Еврейство от растворения в окружной среде иных стран и народов-пород.
Таким образом, в Еврействе очень важно различать: как оно повернуто наружу и оттуда, снаружи, смотрится-выг-лядит, — и как оно внутри себя располагается, в отношениях между своими. То есть: ЭКЗО и ЭНДО. Внутри себя — любовь, нежность, мягкость, взаимопомощь: тут свое лоно — расслабления и жизни! А другое — обращенность на-руту, в мир, где ты — чужак, пришелец, не свой, весь в странностях обычаев, да к тому же эти самые «жиды — нашего Христа распяли!» Такова ситуация Еврейства в христианской Европе почти две тысячи лет. Естественно, что возникают застарелые привычки осторожности наружу: заранее, априорно занимать оборону и не раскрываться («душа нараспашку» возможна там, «где гуляют лишь ветер да «я» = в своем космосе-просторе!), замыкаться в себе и питаться лишь тут — и едой кошерной, и духом, благо он так богато разработан — в Торе и Талмуде, в Каббале и т.д.
Но снаружи них — растут цивилизации, создаются культуры, красота искусства, ум науки и философии, а христианство располагает к развитию Личности и Свободы. И естественно, чуткие к Духу и интеллекту евреи тянутся
231
включиться в окружную жизнь — как ее члены и творцы. И тут-то они становятся — изменниками Закона и рода, и община отлучает Спинозу, Уриэля д’Акосту и прочих.
И вот проблема такого просвещенного еврея-творца: он хочет быть Личностью! — но не дает его род-народ, давит, загоняет назад. Однако и извне не очень-то такого привечают: еврей ведь!' — его уже не как личность, а как нарой-породу воспринимая...
И этот сюжет особенно трагичен стал в Новое время и новейшее, в XIX—XX вв., Еврейство как народ и еврей как свободная личность вступили в кричащее противоречие — и даже в несовместимость. Когда в Европе с XVIII в., века Просвещения, а особенно после Французской революции в светской буржуазной цивилизации ослабли религиозные критерии, люди иудаистского вероисповедания стали легко переходить в христианство и без препятствий проявлять себя в разных сферах деятельности и творчества и втягиваться в проблемы и культуры стран, где живут, и становились деятелями уже их, а не еврейской национальной культуры. Немецкий композитор Феликс Мендельсон-Бартольди, немецкий национальный поэт Генрих Гейне, космополитический мыслитель крещеный еврей Карл Маркс, женатый на германской баронессе фон Вестфалей, математик Георг Кантор, английский премьер Дизраэли, Бергсон, Эйнштейн, Фрейд, Пастернак, Троцкий... — какое им и всем дело до их еврейства по происхождению? Они в этом смысле совершенно денационализировались — и были потерей, беглецами, блудными детьми, уродами в семье, что опасны для существования их исконной «семьи»,, ибо по их примеру миллионы евреев, приникших к мировому просвещению, забывали свою веру и обычаи и чувствовали себя человеками мира, свободными личностями. Пастернак в «Докторе Живаго» писал, что после Христа нет и не нужны народы, а есть личности, кем себя и осознавал.
Особенно в России, с образованием СССР, при идеологии интернационализма, когда исчезли все препоны (черта оседлости, вероисповедание, та или иная национальность), раскрепощенное еврейство хлынуло во все области деятельности: в политику, идеологию, науку, искуство — распружинилась та энергия, что стягивалась-накапливалась две тысячи лет в диаспоре, — и евреи по происхождению внесли огромный вклад во все области советской цивилизации. Но они же совершенно при этом денационализировались: веру предков — иудаизм — с презрением отбра
232
сывали, отрекались от своих местечковых родителей, ни языка не знали, ни суббот, ни кошерной пищи; пошли массово смешанные браки с «гоями»; еще одно-два поколения — и при таких благоприятных условиях проявления Еврейство как этнос растворилось бы, исчезло в этой стране...
Вот иронический парадокс Истории: благоприятствование личностям инородцев (со стороны коренного в данном космосе народа) приводит к гибели их народности путем ассимиляции, тогда как вражда, препоны, отталкивание (запреты, черта оседлости, сгоняние в гетто в городах), антисемитизм и погромы — приводят народ к консолидации, воспамятованию о своей особой сущности, к восстановлению и укреплению ее и к развитию национальной субстанции и культуры. Так что timeo danaos et dona ferentes (лат.) = «боюсь данайцев и дары приносящих» — как троянцы встретили дареного ахейцами Коня...
В самом деле, кто — идеологи сионизма? Теодор Герцль, австрийский еврей, был преуспевающим журналистом и ни религии отцов не знал, ни культуры, ни языка: идиш или иврита. Но когда присутствовал на процессе Дрейфуса, воспамятовал, что он — еврей сам, воспламенился идеей возродить евреям собственное государство на древней земле Палестины: лишь там не будет антисемитизма и еврей не будет стыдиться-скрывать, что он еврей. Также и Владимир Жаботинский в России: просвещеннейший интеллектуал, мыслитель, писатель и журналист с блестящим русским слогом, знаток русской, итальянской, немецкой культур, и даже украинскую лучше знал, о ней писал, нежели еврейскую традицию. Но после Кишиневского погрома в начале XX века резко переориентировался душой — и нацелился на возвращение евреев из Европы и России в Палестину, стал писать на иврите и даже возглавил военную организацию сионистов-социалистов. И стал идеологом воинствующего национализма. В своей статье «Раса» он суть нации свел к особой телесности, крови: «Территория, язык, религия, общность истории — все это не есть субстанция нации, а только атрибуты, хотя, конечно, атрибуты громадной ценности, в высшей степени важные для устойчивости национального существования. Но субстанция национальности, первый и последний оплот ее своеобразия — это особенность физической природы, рецепт ее расового состава... Нация... за вычетом всякого рода наслоений, обусловленных историей, климатом, окружающей природой, инородными влияниями, сведется к своей расовой осно
233
ве». (Цит. по: Шломо Авинери. Основные направления в еврейской политической мысли. Библиотека Алия, 1985.-С. 238-239.)
Но ведь общая теория эта выведена из опыта именно еврейского народа, у которого все обстругано-отсечено, кроме этноса, сохраненного с помощью гигиенических предписаний в пище и в браке, благодаря чему телесность еврея не менялась почти. В логике рассуждений Жаботин-ского слышится именно отлученность от Космоса, Природы, Пространства (они для евреев — «наслоения», в оптике их мыслителя) и от Времени, Истории («вечный народ»).
Конечно, падение универсализма в этих людях произошло: были Герцль и Жаботинский — всечеловеками, неангажированными личностями со свободными валентностями любить и заниматься, чем хотят, но вогнаны стали в свою породу животную и вместо Духа развили — нюх: на своих — и не своих.
Тут всеобщий вопрос — увы! — о ценности и сверхценности снова поднимается. Народ, нация, национальная целостность — это ценность или сверхценность? Мировая единая цивилизация, Личность, Свобода, космополитизм-интернационализм, мировая религия христианство, где «несть эллина и иудея во Христе», — все это, бесспорно, — выше, ближе к Небу, Духу и Свету. Но... — то-то и плохо и опасно — для Жизни, Природы, Земли: отрыв от плоти-крови, тела, Эроса, деторождения. И в общей ойконо-мии1 Бытия, в его шкале ценностей Глубина (глубокая мысль) не менее ценна, чем Высота. Снизу идет страсть, энергетика, а «без страсти не делается ничего истинно великого», — говорил Гегель. А сверху идет — Свет, рассеянный, развяливает человека к пассивному созерцанию, а не к энергичной деятельности.
Туг диалектика и баланс-весы: одно — за счет другого идет, и плюс оказывается минусом. Благоприятствование к евреям в гуманистической цивилизации Европы рубежа XIX—XX вв. — вело к расцвету творческих личностей, но к ассмиляции евреев как народа и к его погибели. Напротив, ужасный «холокост» — геноцид миллионов евреев гитле
1 Это, конечно, — «экономия», но в греческом первослове два корня: «ойкос» = дом, двор, хозяйство — и «номос» = Закон. Чтобы внять это, сознание слушателя-читателя должно не проскочить слово, как знакомое, а споткнуться об него.
234
ровцами в середине XX века пригнал ассимилированных евреев, кому уже сладко жилось во Франции, Германии, Англии, России-СССР, не говоря уже об Америке, — к воспамятованию о своей этнической субстанции и вызвал тот энергетический импульс, что привел к образованию государства Израиль, к превращению евреев в нацию-государство «как все». Что, в свою очередь, опасно — для их сущности-призвания как уникальной судьбы и «избранного народа», кем они были два тысячелетия диаспоры...
Очертив так панораму истории и судьбы Еврейства, сосредоточимся на особенностях еврейской «ментальности», их Психо-Логоса, что во всех национальных культурах меня наиболее интересует. Эти особенности сопряжены именно — с минус-Космосом. Еврейство пр быту оторвано от земли, природы, не знает простора: дали, выси... — но загнано в глубину, в центр, в сердце — подобно тому, как оно из Пространства загнано в Помещение: жить в городе, в скученности гетто и комнаты, где мал-мала меньше детей. Итак, се — Этнос, расположенный не на пространстве Земли и не во времени Истории, а в комнате города и в сроке жизни человека, семьи, в ее пульсе-трепете.
Недаром учение о человеке как микрокосмосе развито именно еврейскими мыслителями средневековья в Каббале — в учении об Адаме Кадмоне. Эта идея была еще у пифагорейцев — «пространственников» и не имела еще такой втянутости Вселенной в человека, в его органы. А каб-балисты в учении об Адаме Кадмоне — Вселеннском Первочеловеке, спроецировали систему внешних и внутренних органов тела — на строение Вселенной, приурочили их к созвездиям и развили астрологию. И акцент у них — на Центре Бытия, что занимает Первочеловек Адам и его сердце. Стянутость и втисненность всего — сюда.
Эта втисненность тех параметров Бытия, что в других народах со своими землями-территориями, с государствами и историями, рассеяны в окружном пространстве-времени, — порождает в евреях плотность Психеи и нервнодушевной жизни: все валится сюда, в нервную систему и в сердце — то напряжение, что в других народах может рассеиваться в природу, времена года, в путешествие, в дорогу (как русский странник, как Гоголь рассеивал грусть-тоску...).
Еврей постоянно в окружении родных тел-жизней, в любви-трепете за них. Ну и плюс к тому еще от Бога завещанные строгие диетарные законы, правила гигиены и
235
чистоты — все это самим Богом повелело евреям быть искусными врачами, диетологами, невропатологами. Психология и психиатрия и в XX веке — еврейская, по преимуществу, наука и практика (Фрейд и др.).
Кстати, эта втисненность Пространства в Помещение, так что крест четырех стран света тут сходится в центр, в нулевую точку, т.е. в сердце человека-микрокосма, — рождает в евреях сердечность особую, чуткость тут, но и... сердечные болезни. Как и астма, плод скученности в помещении, страха сквозняка и чистого воздуха, они — «национальные болезни»: астма и сердечные... Напротив, желудочно-кишечные болезни им благодаря строгим законам о кошерной пище и омовениях не присущи — те язвы, какими мучаются народы, что едят свинину и острые блюда и напитки...
Да, в библейскую эпоху еще проказа, кожные болезни донимали иудеев. В книге «Левит» главы 13, 1—59 и 14, 1— 54 целиком заняты предписаниями об очищении от проказы. Это именно — как налипчивость наружного пространства, космоса, от чего по сути своей призваны отталкиваться евреи; и вот, ввернувшись в «минус-Космос» в диаспоре, избавились от накожного контакта с наружным Бытием, и болезни эти исчезли у них.
Как жители городов, евреи отлучены от прямого производства пищи (что на земле и в пространстве открытом: земледелие и скотоводство-пастбища) и от созерцания Природы, ощущения ее. Зато все внутригородское и межлюдское для них стократ усилено в удельном весе значения и переживается остро. Превращенные формы Бытия для них, кто обитает не в «базисе», а в «надстройке» (по Марксу), — основная сфера занятий, интересов и деятельности. Не первосоздание, а обмен уже сотворенного другими: значит, торговля, деньги... Кстати, «дамим» — «деньги», на иврите — того же корня «дам» = «кровь», что и «А-дам» («человек») и «А-дам-а» («природа»). Так что когда Шейл ок требовал с должника в возмещение — срезать с него фунт мяса, тут в его сознании — эквивалентность... Евреи — искусные финансисты, юристы, журналисты — тоже разносчики чего-то где-то кем-то вертикально созданного. Они же форму вводят в Ин-форма-цию — для всех, в сферу обмена идеями, сведениями...
Вообще не сфера-уровень творчества первичного, но вторичного, ПРЕ-сотворения, — их. Первичное творчество — оно как продолжение родовой энергии Природы, откры
236
того Бытия, и это — у народов со своим космосом. Кто может шелест леса слышать, пенье птиц, прибой волн, народные песни, — там великие композиторы: у немцев, итальянцев, русских. Евреи же — великие, бесподобные исполнители, интерпретаторы...
— А Малер, Шенберг, а ранее Мейербер, Оффенбах, тот же Мендельсон?...
— Ну, по уровню они все же не Бах, не Верди и не Чайковский. Мейербер и Оффенбах — мастера, потрафляющие буржуазной публике, очень рыночные композиторы. Шенберг — плод урбанистической культуры, экспрессионист (как и Кафка) и комбинатор в звукоряде, ПРЕ-со-творитель наличного. Малер — прежде всего великий дирижер, исполнитель и из исполнительства вышел к творчеству.
— Но у него же — «Песнь о земле», как и у Мендельсона «Сон в летнюю ночь» — трепет Природы, великолепно прочувствованный!...
— Тут и наши живописцы русской природы приходят на ум: Левитан, Пастернак... У нас «минус-Космос» Еврейства привился к такому Сверх-космосу, как Россия, и естествен восторг человека, выпущенного из темницы хедера и местечка и из астматического помещения — на бесконечный простор. У Пастернака — так просто плотоядная влюбленность в русскую природу, в белое тело ее снегов и трепет листвы, так бы приник к ним губам!.. Кто-то сказал верно, что его стихи должны быть лекарственны от туберкулеза (как и астма — тоже легочная болезнь)... То же и Мендельсон и Малер: в них восторг первооткрытия природы у выпущенных на простор поля, леса и гор...
Разберем теперь деятельность Еврейства в других искусствах и в науке. Тут есть один главный, исходный мистикометафизический момент. В религии иудаизма мир же сотворен Богом. И — хорошо. Он совершенен и не предполагается к развитию. А Закон — лишь к пониманию и исполнению. В лучшем случае — к истолкованию: там может человек проявлять активность свою: ум и изобретательность. Священная история Ветхого Завета вся из чередования двух тактов: такт благочестивого исполнения избранным народом Закона, потом такт измены Богу своему и впадания во грех — идолопоклонничества или смешения с соседями, содомии и т.п. Следует казнь: потоп, испепеление — или более мягкая кара: изгнание или иное что... Затем на время снова восстанавливается благочестие, впадание во грех —
237
и снова кары. Такое — колебательное движение, но не развитие... Такой принцип отношения ко Времени и Истории — как к якобы «изменению», скепсис к развитию и прогрессу — как бы в крови у Еврейства: он еще Соломоном-Екклесиастом выражен: «И нет ничего нового под солнцем»...
А наивные, простодушные языческо-христианские новые народы Европы чего-то все изобретают — велосипеды, философии, науки, поэзию — будто первоначинают собой и мир, и жизнь, и культуру! Это — от их отсталости, от «молодо-зелено», от невежества и непросвещенности в Торе, где все уже есть и сказано, так что и буква не прейдет невыполненною. Вот толковать Тору — это достойное занятие. И гений Еврейства уходит в начетничество, в выискивание смыслов новых из сочетаний слов и букв в Торе. Мне в Израиле рассказывали: как ныне с помощью компьютера через счисление сочетаний букв обнаружили в Торе имя «Гитлер» и рядом с ним слово «Катастрофа».
Итак, евреи — гении толкования, герменевтики. Талмуд — толкование Торы и разработка способов, как обходить 613 ее предписаний, вроде и не нарушая их! Как нынешние поселенцы в одном кибуце стали разводить свиней и продавать с большим доходом. Тогда правоверные иудеи возбудили против них дело в суде: ибо сказано в Торе, что свинья не должна ходить по земле Израиля. Так кибуцники быстро сделали бетонное покрытие в свинарниках — и суд их оправдал...
Комбинаторика, пересочетание, переистолкование уже сотворенного учеными и творцами-художниками космических народов — вот область проявления еврейского гения в Новое время (не в Библейское: там-то все — перво-творное). Не гео- метрия (что от земли — Геи — и простора), но алгебра, буквенная математика, теория множеств Кантора... Если европейские физики и математики воспринимали Пространство и Время как абсолютные инстанции Бытия, то Эйнштейн, из минус-Космоса, имея свободное отношение к этим субстанциям, смог переком-бинировать их во взаимозависимость в теории относительности. А это очень скептическая, «соломонова» теория: вы мните, что имеете, создали нечно абсолютное? Ха-ха! Все пременчиво и суета сует... Растравительна и обескура-живающа эта теория. Ну что ж: не надмевайся, человече, деяниями умов и рук своих. Воспамятуй, что один Абсолют — Бог!..
238
В гуманитарных науках — структурализм, постструктурализм, деконструктивизм, семиотика, семантика, герменевтика, междисциплинарные исследования, математическая лингвистика... Опять пересочетания и комбинирования, как в торговле-обмене: воображение работает связать доселе не связывавшееся в новое сочетание. Но сами первичные элементы для связывания не ими производятся, берутся готовыми.
Еврейский Логос — великий комбинатор, как Остап Бендер!
Толковательский Логос! Интерпретаторы. Раздумывал я над тем: какой же главный вопрос для Еврейства? Напоминаю: для эллинов — «Что это есть?» — вопрос о Бытии. Для немцев: «Почему?» = вопрос о происхождении, причине. Для французов: «Для чего?», «Зачем?» = вопрос о цели. Для англосаксов и американцев: «Как?» — это делается, принцип «ургии». Для русских — «Чей?» = причастие к Целому больше меня. А для евреев?... После многих расспросов, чтений и раздумий я пришел к такому: «Что это ЗНАЧИТ?» Или: «Что это МОЖЕТ ЗНАЧИТЬ?» На идиш это — «Вос хейсст?» (с немецкого Was heisst?). А на иврите это будет: «Ма перуш ха давар?»
Когда я произнес это на лекции в Иерусалиме — меня одобрили: угадал какую-то глубинную интенцию, запрос Психеи иудейской. И еще напомнили, что «перуш» — того же корня, что и «перушим» — фарисеи, кто — толкователи Закона. И обратили внимание на то, что «давар» на иврите значит и «слово», и «вещь». Это уравнение очень метафизично и многосказуемо. Вот почему Бог мог сотворить мир Словом, и Слово есть Бог. И в то же время и мир, творение, всякая вещь как бы тождественна слову: тождество априорное Материи и Духа в этом. Ну и наука, познавание может состоять — не в изучении Природы, а в чтении Торы...
Итак: не «Что это ЕСТЬ?» — не вопрос о бытии, по существу и субстанции, но вопрос о значении — внутри некоей нашей системы координат, в междусобойчике условленных, договорных аксиом-параметров. Об этом и так ныне на международных конференциях, таков стиль... И то, что Знак и Значение так увесисты ныне в науках, — из той же ментальности превалирующей...
Ну а в искусстве XX века — абстракционизм, постмодернизм и художественная критика-эссеистика-истолкова-тельство — того же ума-разума наклонение. Когда я был в
239
Израиле, меня поразило отсутствие скульптур в городах, памятников «с человеческим лицом» и телом. В мемориале Яд-ва-Шем («Память и Имя»), посвященном жертвам «холокоста», я вглядывался в фигуру-статую скорбящей матери: прекрасные, выразительные складки тканей, но на месте лица — какой-то брус выпирает! Ужаснулся я — дегуманизм!...
И вспомнил: ведь «не сотвори себе кумира!» — из первых заповедей в декалоге Моисея. Запрет и изображать Бога, и имя Его упоминать. Возвышен этим Бог — да, но сколь унижен человек! Лицо! Личность!... И потому вочеловечение Бога в Иисусе и затем иконопись и живопись Европы = возвышение Человека — да, но за счет понижения Бога... (Аллаха запретно изображать и в исламе, но растения и животных — можно, и какие там орнаменты и газели!...). • - Ходил я по музеям Иерусалима и Тель-Авива: преобладают абстрактные «живопись» и скульптура, комбинаторика из пластических элементов или из индустриальных, но редки портреты, пейзажи. Ну да: минус-же-Космос! Все натуральное презренно в ценности: отстало, несовременно так диктуется эстетической критикой XX века. А вот коли перед тобой абстрактная картина — как требуется при ней человечек, что тебе станет истолковывать смысл, а другой — С ним спорить! Так и нужность истолкователей в цене поднимается — и страницы масс-медиа истолкова-тельскими ЭСсеями заполняются.
Так Что это взаимо-рыночное обслуживание: кунстш-тюки, изобретательные пересочетания элементов в абстракционизме — и надобность критиков-толкователей. Рука руку моет — и изгоняется всякий реализм и натурализм — как отсталость и традиционализм, несовременность, не модерность!...
Одновременно в науке — поход на наглядность. Это европейские физики и биологи «доброго старого времени» свои идеи и теории иллюстрировали наглядными образами. Но с конца XIX века стали к этому в науке относиться брезгливо и начали переводить все на буквенно-алгебраические модели. Они — по вкусу начетчикам Торы и Талмуда в хедерах, но труднее говорят душе индивидов из космо-исторических народов.
В науке — не опыт, а теории — преимущественная сфера приложения еврейских умов: физики-теоретики они блестящие. Вообще — вкус к априоризму, аксиоматике, к структуре: все возможности Бытия в них заранее предположить,
240
вычислить, высчитать... Опыт же и наблюдение, описание частного разного, разнокачественного — это более удел и домен ученых-из народов, живущих среди своих природ...
«Наглядность»! Это — пространственное внимание. И предполагает высокую значимость зрения из чувств. Дальнозорки горцы, степняки — вообще народы высей и далей, кому есть, куда вглядываться. У евреев же не зрение, а слух — первочувство (и музыкальный «абсолютный слух» в них чаще других...). Зрение = излучение, выход наружу. Слух = вбирание, втеснение Космоса — в себя, нутрь свою. Евреи в массе близоруки, в очках — от многопоколенного чтения в полутьме хедеров. Вообще иерархия чувств у каждого народа — своя. У евреев я предполагаю ее таковой: слух, вкус (тоже вбирание, снедание, втиснение мира в себя), осязание (чувствен еврей, в близкодействии тел и вещей; да и пещеристое тело обрезанное — чутко сенсуально, сексуально), обоняние, зрение. Для сравнения — у русских (мне так представляется): зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. У французов: осязание, вкус, зрение, обоняние, слух. У немцев: слух, осязание (труд руки!), зрение, обоняние (цветы!), вкус...
Склонность же еврейского Логоса к априоризму — в их языке пророчена. Когда я принялся изучать Иврит, я поразился там многому. Все — внутри происходит. Разной пере-огласовкой внутри согласных корней слово то именем, то глаголом становится. А гласный = тайна и дух при согласном = теле слова.
Глагол в настоящем времени имеет более смысл определения, причастия, имени: от «банах» — «бонэ» — это и «строит», и «строящий» = «строитель». Так что глагол выступает как средство характеристики того, что внутри человека действующего, т.е. интравертен, психологичен: Авраам — думающий, строящий, говорящий и т.п. Так что не на делание вовне направлен глагол: вещи, природу кромсать, но реактивно внутрь человека направлен, на действующее «лицо» — скорее: на действующую «волю», на субъект. Опять же вворачивание и минус-Космос тут проступают...
Вворачиванье и опоясыванье видятся мне и в построении будущего времени — с теми же аффиксами, что и в прошедшем; только они тут ставятся перед корнем, а в прошедшем — после. В этом — тождество времени, начала и конца, «архэ» и «эсхатон» (греч.) — вечный народ что значит! Например: «шамар-ну» = «мы охраняли»; а «ни-шмор» = «мы будем охранять».
241
Вообще иврит производит впечатление очень логичного, экономного в средствах языка: используется комбинаторика перестановок элементов, место их, а не только качество. Нет той щедрости в веществе языка, как в народах космовладельческих: у кого поля немеряные — тем и звуков на слова не жалко, и можно громоздить вещество на вещество в слово и фразу, их строя роскошно и расточительно. А тут простым переводом того же аффикса из суффикса в префикс, с заду слова в его перед-«кэдем», — время иное выражается. Интенсивность в этом, сбитость, энер-гийность, тогда как в тех — экстенсивность... Втяжение — и в том, что слово «олам» означает одновременно и мир как вселенную, и бесконечность во времени. То есть сразу и Пространство, и Время. (Вон откедова Эйнштейн вылез-предопределен!)
Логичность языка — он как будто нарочно создан мудрецами, а не естественно сложился...
И какой текст ни возьму — одно к одному: все особый Логос выражает, склад ума. Читаю «Блуждающие звезды» Шолом-Алейхема: «Одного из актеров Гольцман попотчевал совершенно новым, хотя и несколько длинноватым ругательством:
— Сколько дырочек есть во всей маце, выпеченной во всем мире со дня исхода евреев из Египта и до нынешней пасхи, — столько прыщиков тебе на язык, мошенник!»1
Да это же — Георг Кантор: теория множеств! Тут устанавливается «взаимнооднозначное соответствие» между двумя множествами: дырок и прыщей. Язык = табло, компьютер, память обо всех дырках на маце. И все здесь характерно: в качестве бесконечного множества берутся не объекты открытого пространства: звезды на небе, песчинки на земле, капли в море, — но пища, съедаемая внутрь антро-поса. Космос — кишечно-полостной, природа = пища. Ввер-нутость. И в проклятье этом — сексуальная симметричность дырок и выступов (прыщей) = полная бинарная дополнительность.
Далее: исходным берется моя точка отсчета: нынешняя пасха — и к ней притягивается Исход из Египта. Что же между ними — не имеет значения. И тут опять раскрывается еще одна тайна и качество еврейской логики и самочувствия в мире и чувства времени: прямая связь нынешнего
1Ш о л о м-А л е й х е м. Блуждающие звезды. — Минск, 1960. — С. 270.
242
события, соотнесение меня — с текстом Писания, событием божественным. Прямое замыкание, минуя посредство Истории и последовательность поколений и ступеней = звеньев цепи доказательств. Действительны лишь две точки в мире: моя жизнь (и окружающих меня, ныне живущих родных: «Вся мишпохэ») и событие, заповедь и мысль Священного Писания, Закон Бога. Несть тут опосредствования и отчуждения (внимай, Гегель!) — столь капитальных феноменов западноевропейской цивилизации и сознания...
Еврейство и Россия — трудный сюжет. До третьего раздела Польши в конце XVIII века евреев в России почти не было. Был, правда, Хазарский каганат до и рядом с Киевской Русью, где исповедовали иудаизм, но то не были этнические евреи. Когда же слава русского оружия, Суворов, взял Прагу (предместье Варшавы), к России отошла территория с 2—3 млн. евреев. Россия-мать, земля пространная и обильная, привечает многие народы, приветила и Еврейство, что, развившись, стал ей в конце XIX в. и в XX в. — как Сын Приемный, энергичный, предприимчивый. Но у России есть и Сын Родной, Русский Народ, кто по космосу и климату северному, не столь спор и скор, но более созерцателен. Так что естественно возникло некое соперничество меж Сыном Родным и Приемным за любовь и обладание Россией-женщиной. Антисемитизма в России нет, но возможен в ее Сыне Родном, как некая ревность к Приемному...
ПОЛЬША
То, что будет предложено ниже, не претендует быть научно точной моделью Польского Космо-Психо-Логоса. Это мой образ Польского образа мира. Мой миф о Польше. Однако это дело имеет такое же право на существование, как художественный портрет человека — рядом с его фотографией, подробными анкетными данными, отлагающимися в досье исследователя... Выводы здесь добываются посредством имагинативной дедукции (воображением).
Во-первых, надо перевести реалии Польши на мой метаязык четырех стихий: ЗЕМЛЯ, ВОДА, ВОЗ-ДУХ, ОГОНЬ — в какой пропорции распределены они в Польскости, что здесь акцентировано?
Вслушиваюсь в Польский язык. Язык — ведь это портативный космос: в нем материя утончилась в дух, но дух все
243
еще веществен: звучит. И вот поражают — ШИПЯЩИЕ. А шипение = огонь в воде. Польский гений путем палатализации тут разработал неслыханное в прочих языках разнообразие: взрывные = огнеземельные, сухие сделал мокрыми; перевел и смычный «т» в «ч» (теплый — чёплый, cieply); а фрикативный, из стихии воз-духа, «з» — в «ж» (земля — жьемя, ziemia), и даже рокочущее «р», звук огня, личности, труда-ургии и истории — в «ж» (из лат. res — тут «жечь», rzecz). Палатализация — смягчение = увлажнение, то есть к стихии ВОДЫ пригонка.
Итак, шипящие — диалог Огня и Воды, мужского и женского, их спор и Эрос. Но в воде огонь сразу гаснет, а тут — долго живет, звучит звонко; чеканно, кузнечно звучат шипящие. (Тут кузнец польских сказок бьет о наковальню германства.) Значит: Влаго-Воздух есть суверен Польского Космоса, и в нем — факельный человек, поляк: вспыльчивый, в ком гордость = кресало-огниво, и порывистость, и свобода (ибо при постепенности обво-локнет, загасит все Влаго-воздух), и, по прогорании, остаются Пепел и Алмаз.
Проверяю Шопеном. Сухой форшлаг и мелизм четко ударной («огнеземельной») германской музыки им превращен в божественное мелодическое поприще; все эти фигурации, овевания, клубление пространства, волнующегося вокруг опорных звуков темы; дух, дышащий в «аккомпанементе», — се активность посреднических стихий: Воды и Воздуха между полярными (по Платону, в «Тимее») — Землей и Огнем. Пассажи Шопена, фактура тре-мещущая его, рокотанье и дрожь — это аналог шипящим в фонетике.
Но что есть Влаго-воздух? Это — ПЕНА, состав Афродиты. Пена = ПАНИ, активная роль женского начала в Польше. Среди христианских божеств Матка Возка оттеснила здесь и Бога-Отца, и Сына, и Дух Свят и стала еще и Королева Польши, — то есть и Богово, и Кесарево в себе сопрягла. И Мать и Супруга поляку: вспомним средневековые и ренессансные статуи в жанре «Пенькна мадонна»; а Матка Бозка Ченстоховска не только корону имеет, но и кораллы-бусы, что есть уже атрибут Жены возлюбленной.
Итак, женское начало тут — не Мать-Земля, как в других космосах, но — надземно, воздушное пространство занимает. Женское облегает сверху, а Мужское — снизу в Польстве: столбом огня из земли. Теперь и символическую фигуру, образ устроения мира по-польски, попытаться
244
вывести можно. Это — ЛИПА Кохановского. Она — Мировое Древо в польском варианте. Тут — и роскошная листва, ее шелест, птицы райские, ветры с полей сюда доклады доносят, пчелы жужжат на польские шипящие: ЖЖ, ЖЬЖЬ, ДЖДЖ, ДЖЬДЖЬ, да и на 333, мед-пиво дают. Вот Древо Жизни! И его я вижу как Польскую модель мира:
Вот рисунок:
Листва = воплощенный
Влаго-Воз-дух: в преизбытке даже над куполом шара Небо зачерпнуто.
И она — как локоны Пани.
Сравним с моделью Мирового Древа по-германски: это — Stamm-Baum. Мы переводим как «родословное дерево», но тут СТВОЛ — Stamm задает смысл: сила осевой опоры, голая вертикаль и ее этажи, откуда сучья: Кантовы уровни, балки, перекрытия. Само Древо читается по модели ДОМА: Stamm-baum это — Haus. Да и слово Baum — от bauen = «строить»; так что крестьянин (Bauer) в германском сознании — это не мужик-земледелец-копатель, а именно строитель: труд — ургия подчеркнута даже среди гонии матери природы.
А в польскости ЛИСТВА важнее Ствола: она в образах поэзии воспета. Липа — округла, романска, как и Галльский ДУБ друидов. А между ними — готическое древо Fichtenbaum — ель. И философ в Германии — Фихте: Логос от Ели, тогда как во Франции поэт ШЕНЬЕ — от ДУБА (le chene). В Польше же Липе такое почтение, что даже месяц целый в году ею поименован: ЛИПЕЦ.
В России же не одиночное Дерево, но ЛЕС будет моделирующим: артель и собор дерев. Если Липа Кохановского — это Дерево как Лес: в Дереве, в самости поляка — богатство Польши, Леса («Еще Польска не згинела, до-конд мы живы»: человек — условие бытия Польши), то в русском сознании одиночное дерево — это сиротство, а личность отдельная — это малозначимость; и потому Кольцов, когда ему надо аналог Пушкину взвидеть, рисует ЛЕС (так названо его стихотворение на смерть поэта).
Промедитируем еще фигуру ЛИПЫ: Листва = Влаго-воздух; Ствол = Огонь; Корни — Земля. Женское — сверху, Мужское снизу: Кордиан-шляхтич-факел — и Хам, Сли-мак-улитка, Романтизм-Позитивизм. Польский флаг — Белое над Красным.
245
Итак, Польский Космос есть некое марево Бытия, надземное в основном, со стихией ЗЕМЛИ не натвердо связанное, так что земли может быть тут больше (как в Речи Посполитой) или меньше (как после разделов), но Польскость — не в квадратных километрах, а в воз-духе и в сердце, как в «Польском пилигриме» Мицкевича и у ссыльных в Сибирь поляках. В «Свадьбе» Выспянского Невеста видит сон: бесы везут: «Куда? — в Польшу. — А где же Польша? — Нигде, — отвечает Поэт. — Она в сердце». И показательно, что именно бесы мыслят пространственно-земельно.
Польша геополитически — как гармошка между Западом и Востоком Европы: то расширяется, то сжимается — и тогда перебегает в Дух, в Листву, во Влаговоздух, в романтизм прыснет — есть куда! Так что Польскость не боится, а даже навлекает на себя трагедию (с точки зрения земли и тела). Она и изощренна на трагедию — как на шипящие. Трагедия ведь — дар! Крестьянин Слимак в «Форпосте» кучу малу своих бедствий пересчитывает — и все мало! Но поляк вынесет и будет пировать и плясать. Недаром «Кулик» Словацкого восстание как свадебный поезд представляет.
Посредничество Польскости между германством и рос-сийством в том даже проявляется, что в тутошнем бутерброде колбаса (немецкий Wurst) вместе с сыром (русская Мать сыра земля)... То есть в Польском Космо-Психо-Ло-госе элементы и того и другого обнаруживаются и синтезируются. Но чтобы не растопиться именно из-за этой близости, Польскость через голову соседей союзится и питается романской субстанцией.
Удивился я далее, что предатель земли польской может не терять героического ореола. Вот Яцек Соплица в «Пане Тадеуше» — убивает из-за угла Стольника Горешку в момент его битвы с «москалями». А Ян Белецкий в поэме Словацкого орду татар приводит на родину — в отмщение магнату. И — покаялись — и славны. А все потому, что Польскость — не на земле, а в ЧЕСТИ. Даже парадоксально скажу: чем меньше Польши, тем больше поляка (и наоборот): вон — Конрад Валленрод!... Да и сам Адам Мицкевич. И Шопен...
Но за последний кус земли, чтобы было хоть где похоронить! — будут стоять насмерть: вгрызутся, как мужик Слимак в «Форпосте», кто один в абсурдном упорстве одолел нашествие немцев-колонистов. И в повести видно (как
246
и в «Гражине» Мицкевича), что национальная воля и ум — в женщинах Польши. Это Слимакова чует, что земля — не в моргах и деньгах, а в — «Дзядах»: чтобы было где душам умерших кружку поставить.
И вот еще великий в Польше сюжет: взаимоперетека-ние живых и умерших: чуянье умерших как живых духов, действующих и в нашей жизни. Про то — «Дзяды» Мицкевича. А в «Свадьбе» Выспянского персонажи истории — они же действующие лица в настоящем: Вернигора, Бра-нццкий, Станьчик и т.д. Смазаны Прошлое и Будущее в поляке — плывут в мареве Настоящего; но оно в «Свадьбе» не твердь, а полусон и иллюзия, пир полупьяного существования...
И в «Солярисе» Ст. Лема реализуются думы и мечтания, навязчивые идеи людей, их внутренняя жизнь и подсознание: Солярис их читает, знает — и воплощает... Да это же как и в «Дзядах»: воскрешение образов умерших, живущих в моей памяти. Кстати, Солярис — это же дышащий и водящий воздушный океан! Влаго-воз-Дух! Король Влаговоз-дух — как «Король дух» Словацкого! Океан — как живое всесущество, демиург. Если по иудаизму Бог — это «Огнь поддающий», ветер, гром и столп огня, то польский образ Бога имеет в стихиях себе соответствием — водовоздух...
Живость умерших, умение с ними жить в соседстве и ориентировке на них — и в балладах Мицкевича («Свите-зянка» и упыри), и в «Тренах» Кохановского, и у Бронев-ского «Ясеневый гроб», и Мацей Борына весь 2-й том «Мужиков» Реймонта лежит умирающий, как органный пункт на Смерти; и в «Березняке» Ивашкевича могилы жены и брата — при усадьбе; и современный прозаик Мысливс-кий пишет «Камень на камень», где строится — СКЛЕП.
Но отсюда и Польский Эрос: у Марыси в «Свадьбе» два возлюбленных: живой муж Войтек и умерший жених Призрак.
Эрос русской женщины — иной: ей, Матери сырой земле, тоже нужно два мужика: хмельной, разгульный Народ-Светер и Государство-Кесарь, закон-аппарат. Онегин и Гремин, Обломов и Штольц, Вронский и Каренин и т.д. И еще — поэзия разлук, коей препоясана русская земля: происходит перекос вертикали Эроса — на ширь-даль-го-ризонталь... чтобы любовь и песня прокатывались по всему необъятному пространству и его единили...
В польском Эросе она — наверху (а не внизу, как Мать сыра). И у Гоголя-Яновского, кто, на мой взгляд, Конрад
247
Валленрод польства в русской литературе (разъел пушкинскую цельность критическим и сатирическим направлением), Ведьма наяривается сверху на Хому Брута.
Глубинная амбиция поляка — соперничество с Христом: заменить его собой, Польским народом, на коленях у Пьеты (=Пенькны Мадонны). Жертвенность, мессианизм Товянского и Мицкевича.
Разберемся меж персонажами Эроса: Отец, Мать, Сын, Жена... В одних странах разворачивается Эдипов комплекс: Сын убивает Отца и женится на Матери (Эллада, Европа Западная так). На Востоке и в России — то, что я назвал «Рустамов комплекс»: Отец убивает Сына (Рустам — Сына своего Сохраба, Илья Муромец — Сокольника, Иван Грозный, Петр Первый и Тарас Бульба — сыновей своих) и, в варианте, женится на Снохе (у Максима Горького Эрос Артамоновых — снохаческий). В Америке — Орестов комплекс: «матереубийство»; переселенцы покидают Мать — родину Старого света, а новую землю не как Мать, не как Природину, а как пассивный материал-сырье для труда ощущают, без священного отношения...
А в Польше как с этими ипостасями?...
Отец оттеснен — в ничтожность: и король безгласен при «либерум вето»; и в литературе Отец — слабый персонаж (в «Границе» Налковской — разоблачение отцов). В «Дзя-дах» (не Отец, а Отец Отца тут сакрален — Дед) мятеж Сына на Отца-Бога: его поливает. А почему? Потому что сам так страдал, как другой сын Бога — Христос; и чуть ли не превзошел... Потому-то Папа тогдашний как еретические воспринял книги Мицкевича «Польский пилигрим» и «Книги народа польского»: как покушение заместить Христа Польским народом — в любви Матери Божией... Так что в Польше ревность Сына-Брата — к Брату (и в «Березняке» Ивашкевича): кто кого пережертвит, «Ромулов комплекс» (не скажу: «Каинов»...). Горизонтальное соперничество (однопоколенники: Соплица и Горешка), а не вертикальное...
Еще посравним с другими моделями.
Шар и Круг, столь совершенные в эллинстве, отвергаются Мицкевичем: лимоны Италии — мертвенные шары из золота (в «Тадеуше»); и «прусский король начертал КРУГ и сказал: «вот Бог новый» (в «Польском пилигриме»). Также и квадрат и куб герМанства — отвратная для польской эстетики фигура; и брнаменты преобладают тут лиственные, а не геометрические.
248
Чужд и итальянский космос атома-камня-индивида в сияющей пустоте. Ближе французская milieu — среда, значащая полнота: тут тоже из четырех стихий не крайние — земля и огонь, а посреднические — вода и воздух — значащи; также и носовые звуки, и роль женщины. Но нет в Польше симметрии и баланса, а вспыльчивость: прорвать облегание рывком — таков ритм тут: всполох!
Также и русские символы здесь оспариваются: если у нас Свет («белый свет»), то тут Цвет почтеннее, радуга — Ядвига! А Путь-Дорога тоже в минусе: в Польше вертикаль важнее горизонтали, и этим ближе к германству. «Дорога в Россию» Мицкевича — ужас, кошмар бескончности и белизны. И у Марии Павликовской-Ясножевской «Придорожная Верба» (Wierzba przydrozna) — при дороге = при чуждом себе месте, отвернута от нее руками — вверх! У нас Гоголь-Яновский, кто чуток к тому, чего в Польше нет, по контрасту восславил и Бесконечный простор, и Дорогу (Русь-тройка). И внес идею «мертвых душ» — как живых...
Чуждо и германское древо готическое — ель, кипарис: как он, чопорный, в сравнении с березой, в «Пане Тадеуше» отвергнут!
Теперь начнем пробираться к Польскому Логосу, т.е. складу мышления и важным в нем категориям.
В польских образах Пространства и Времени вот что замечаем. «Для выражения места в русском языке употребляются наречия «где», «там», «здесь», «нигде», «везде» и др., а для выражения направления в сторону предмета (с глаголами движения) — «куда», «туда», «сюда», «никуда» и др. В польском языке такого различия нет. В обоих случаях употребляются одни и те же наречия»1. Но это значит, что не так важны и проработаны тут в понятии пространственные векторы и страны света, что, напротив, так важно в ориентированном на горизонталь (даль-ширь) мира русском Космосе. Большая аморфность внешнего Пространства — ибо оно стянуто внутрь, ко мне, при-сут-ствует здесь и теперь, как и во Времени: Прошлое и Будущее стянуто ко мне, в сие существование. И потому оно так пышно и насыщенно цветуще — как Липа! Так ощущается текущая жизнь человека.
А Время?... Акценты в нем выдает язык: «почему» здесь — dlaczego (= для чего) и «потому» — dlatego (= для
1 Василе века Д., Каролак Ст. Учебник польского языка. — Варшава, 1964. — С. 70.
249
того), то есть взгляд не назад, в причину, происхождение вещи, в прошлое (как в германстве), но ближе к французскому подходу спереди, из цели («почему» — pour-quoi — то же самое «для чего»), к чему вещь?... Финализм и предопределение, характерные для многих французских мыслителей, перекликаются с польским мессианизмом..^
Но еще точнее: любит поляк рассуждать так: «ах, если бы тогда все произошло иначе?!» — под Рацлавицами в 1794-м, или в Варшаве в 1831-м... То есть, по модусу, так сказать, future in the past — возможного иного будущего в прошедшем...
Из трех точек: причина (прошлое), центр (настоящее), цель (будущее) здесь привилегированнее центр, где сердцевина) бытия. Об этом говорит и фиксированное ударение на предпоследнем слоге — в центре слова обычно; и Амфибрахий — польская стопа в шаге на 3 (мазурка, полонез...).
Поляку важно: как себя вести в миг настоящего времени и как выглядеть (а не победа): умирать красиво (и Бро-невский «Смерть революционера», и Пушкин в письме к Вяземскому 1 июня 1831 г. о декоративно-рыцарской смерти польского командующего Скрженецкого и всей свиты с ним, с гимном «Еще Польска не згинела» на устах).
Мицкевич в своих лекциях о славянских литературах, сравнивая Горация и Кохановского, отмечает у первого горловой голос и вдохновение, идущее от головы, а у второго — голос грудной и из глубины сердца. Тут топография важна: Рим = Голова, и головное, капитолийское вдохновение у Горация: рассудок и мера. Польша — грудь, сердце... Значит, идея «головного» и «начальства» здесь отступает в ценности перед принципом Центра, где сердце. (То же и в фонетике: «о» носовое съедает «а» = высь и «у» = глубь.) А грудь -г-' полость влаго-воздуха, обитель легких. Так соответствие устанавливается между Космосом (водо-воз-дух) и Антропосом (грудь), и Психеей (сердце), и Логосом. (центр, настоящее). Также и в Социуме польском: важна срединная фигура шляхтича, который психикой — дворянин, магнат, а бытом — мужик, однодворец. Во времена Мицкевича 18% населения — шляхта... Значит, чувство личного достоинства: Я сам! я пан! — демократично в Польше, массово. Об этом же вежливая форма тут — на 3-е лицо (как и в атомарно-дискретном италианстве — Lei): pan, panstwo, pani есть акт объективизации, создание дистанции между индивидами — против их фамильярного со
250
прикасания в «ты» и утопления во множественности «Вы» и «Мы». Учтивость, уважение к отдельности и самости другого. Неслиянность «Я» и «He-Я», индивида и Целого. Если Рок России — Единое, нечленораздельность, то Рок Польши — множественность, неслиянность... Отсюда — отсутствие эпоса; вместо него лиро-эпический жанр баллады, а также емкость здесь малой формы: фрашки Коха-новского, мазурки Шопена: каждая — микрокосмос...
В поэме Словацкого «Ян Белецкий» Пан Бжезани так рассуждает: «Наш польский край — готическая башня: В ней тысяча колонн — подпора в храме; Пусть выпадет одна — какою силой Ты сдержишь храм? Все ляжет грудой праха! Я выпаду!...» (перев. А.Коваленского). Тут уравнение 1=1000: значимость Одного! Все от его свободной воли зависит. Отсюда — «либерум вето»: Один имеет право преградить путь всем! (Ср. русское: «Один за всех, все — за одного».)
Кохановский: «Верно, что деды (не отцы — авторитет, а деды! — Г.Г.) богатств не имели, больше иметь они их не хотели»1. То есть не по нужде бедны, а по неохоте убиваться в труде, понимая, что качество жизни — не в количестве материй, а в ценностях души: свобода, честь, радость жизни. В германстве и американстве, напротив: ургийная, трудовая добродетель ценится. И бытом становится человек барин (нувориш), а душою — хлоп, тогда как в Польше обратная картина: шляхтич бытом — хлоп, а душою — аристократ, рыцарь, артистичен, беспечен. Такое создается впечатление, что тут постоянно пируют и танцуют и весело жизнь препровождают. Немногозаботливость. Бесшабашность. Радость бытия вкушается сразу, а не откладывается на потом, про запас... Недаром и гимн Польши это мазурка Добровского — плясовой ритм, не марш. И кто-то там заметил: «Проплясали поляки свободу Польши»...
Самодостаточность в Психее (отсутствие застенчивости, «комплекса неполноценности», польский «гонор») — координируется и с отсутствием опосредования в Логосе, которое — от неуверенности: перелагает на иное, отсылает от себя подальше, не берет на себя ответственность. Здесь же — решительность как в отрицании, так и в утверждении. Если формула эллинской и западноевропейской логики: «это есть то-то» («Сократ есть человек»), а формула
1 Цит. по: Мицкевич А. Собр. соч. — М., 1955. — Т.4. — С. Т11.
251
русской логики: «не то, а... что?» («Нет, я не Байрон, я другой...»; «Не то, что мните вы, природа...»), то формула польской логики: «не это, а вот что!» Она близка к русской тем, что начинается с негации, отталкивательно, реактивно, но близка к западноевропейской — своей утвердительностью в итоге, тогда как русская — разомкнута в бесконечность вопрошения и исследования, есть отсыл в даль...
Вот схема логического построения у Мицкевича:
«На каких людей отчизна наша возлагала... надежды?...
Не на людей, одевавшихся всех красивее...
И не на людей, воевавших где-то...
Но на людей, которых вы назвали добрыми поляками...»
(«Книги Польского пилигримства», VI)
Польский Логос выявляется и из особенностей вклада поляков в мировую Науку. Он — в отрыве и одолении Земли (Коперник и наш Циолковский, открывший реактивный принцип: ракета летит самоотталкивательно, как и мысль разгоняется по логике «не то, а...»); в развеществле-нии тверди: открытие Марией Склодовской-Кюри (опять французское склонение, как и у Шопена...) радиоактивности — ведь тем она гранит атома-камня (стихия земли) раскрыла как марево-истечение, радугу, влаговоздух, поле, континуум...
Подобно и у Юлиана Пшибоса в стихотворении «Материк» — тут весь польский Космо-Психо-Логос! И одухотворение вещества, и взмах-порыв; и Листва, и Тень; и волновая теория строения всего в мире; и кривая-лукавая, женская линия...
* * *
В общем, получилась у меня, так сказать, «романтическая» модель Польскости. Но недаром в дополнительности к ней возникла и «позитивисткая» модель. Ее raison d’etre столь же бесспорен. Ведь История, Культура находятся в диалогическом отношении к национальному Космосу и Этносу и антропосу: то что не дано последним от Природы, естественно, первые призваны восполнить, произвести искусственно: через труд и воспитание в Обществе. Национальная целостность поэтому есть нечто принципиально открытое, незавершенное.
Но подобно и в оркестре человечества каждый народ, как инструмент, ценен незаместимостью своего ума-уме
252
ния: гобой дорог скрипке тем, что он умеет то, чего она не умеет. Так что не унификация, а уникальность — вот верный курс. За что мужчина любит женщину? За то ли, что она похожа на него? Напротив — за диво совершенной непохожести. Так и соседнюю или дальнюю нам национальную целостность: ее возлюбленную непохожесть — вот что да восценим и чем будем дорожить!
БАЛКАНСКИЙ КОСМО-ПСИХО-ЛОГОС
Балканский менталитет я попробую охарактеризовать на материале знакомых мне культур Эллады и Болгарии.
Балканы — регион материка Евразии, представляющий собой диалог горного массива и полуострова (еще и с островами в море). С одной стороны, с севера — вздутие земли на небо, ее тяжкая гордыня. С другой, с юга — погружение земли в море, самоумаление тверди перед водой, мужского начала перед женским. (Хотя тут — амбивалентно: море — Посейдон, а земля — Гея, и гора — ее грудь).
Конечно, условно впряжены геополитической классификацией эти два типа бытия: островная Эллада и Болгария, прежняя Югославия, даже Румыния, эти сугубо материковые и жесткие, монолитные страны, в одну региональную целостность. Однако если вдуматься — и субстанционально-качественное можно обнаружить единство в этой общности. Внутри континента Евразии здесь перекресток между Европой и Азией, их диалог: Персидские войны Эллады, Османское иго над Балканами и т.д. Здесь стык ислама и христианства, динамика между ними: противостояние и взаимопроникновение, взаимопитание — и в обычаях (болгарский «кеф» и семейный уклад), и в одежде, в архитектуре, в языке (турцизмы и юмор турецкий), в мелосе восточные извивы и ритмы и в Болгарии, и в Греции — лидийский, миксолидийский, гипофригийский лады, что изгонял Платон из идеального Государства как разнеживающие. И кухня: ее многообразие, греческой и болгарской, — от стыка разных вкусов и их космизация, согласование в пестром единстве: острое, сладкое, пряности — это тебе не материковая суровость и простота германо-русская, но мелкая дифференцированность, как береговая линия Эллады или насеченность гор и ложбин на Балканах.
Балканы — не плато, плоский монолит, а изрезанность, так что каждое углубление, долина, где оседает человек на
253
жизнь, являет особый род и народ, стиль и склад — как особый полис на каждом острове Греции. Хребтами разделены эти микронароды и «островные» общины на материковых Балканах, сохраняющие свой быт и говоры (архаику в диалектах едут сюда изучать лингвисты), — так же, как морем отделены Родос и Самос, Хиос и Кипр в Элладе. И как воевали-цапались друг с другом полисы в Элладе, так и ныне в бывшей Югославии народы сцепились малые. И вот забрезжило сходство космоустроения меж Грецией и материковыми Балканами: остров в Греции = долина (ложбина) на Балканах: и там, и сям — особый мир, община, полис, стиль. Налицо диалог: остров есть выпуклость стихии земли в воде. Долина есть вогнутость земли в небе, уступчивость-смирение земли перед небом и, напротив, выступ Неба в лоно Земли. В сумме этих двух полушарий получается шар. Сферос — главная моделирующая фигура в эллинском миросозерцании. И Эмпедокл, и Платон, и Архимед, и Плотин — для всех шар есть образ совершенного Бытия, идеал Космоса. Тут примеров не счесть.
А как с этим на материковых Балканах? Мне они известны в болгарском варианте. Болгарский Космос — чередование Горы («Балкан» — он) и Долины: Котел, Клисура (ущелье), Широка лъка (широкая лука) — так обозначаются поселения, по рельефу. В итоге получается волна-синусоида из двух полушарий: Чаша вверх и вниз
дном. Но и в ценностном отношении между ними диалог: гора, «балкан» — местообитание гайдуков, свободных духом мужей, тянущихся к небу. Там и овчары с кавалом и гайдой, люди музыки (ближе к Парнасу). А в долине — «стара майка» и «тежки чорбаджии», создатели и хранители быта, очага, богатства и культуры. Там и «чорбаджийс-ката дъщеря» — мечта гайдука. Соответственны и духовные ориентиры: высота горы по климату соответствует посеве-рению широты: там холод, белый снег — свет и ветер вольный; и люди отвлеченного идеала и воз-Духа высокого тянулись из Болгарии на Север, в Россию, — туда и Караве-лов, и Ботев, и Георгий Димитров, и отец мой, Димитр Гачев. А люди более жизненно-телесные, трезвые и прагматические, тянулись на Юг и на Восток, в Цариград: Петко Славейков, Крыстевич, Богориди...
И тут еще один вектор на перекрестке Балкан проступает: между Югом (цивилизации Средиземноморья) и Севером (Германский и Русский миры). Балканы — на пути, 254
на оси «из варяг в греки», то есть между германо-славянским земледельческим Севером и торгово-изнеженным Югом (Финикия, Афины, Венеция...), где живчиком снует мобильный атом-индивид, у которого принцип «все мое ношу с собой» (как и Данте — «сам себе партия»). На Севере же Целое первично, а индивид — его функция. «Жила бы только Родина!..» — поет русский, а южанину «где хорошо — там и родина».
Но этому вроде противоречит германский протестантизм, где каждый — напрямую с Богом, свободная личность, «самосделанный человек» англосакс. Но именно «самосделанный» — акцент на труде, а на юге — на обмене (и обмане, лукавстве: Одиссей хитроумный — герой). Там или пастушество, где еда сама растет (иудеи, арабы), или обмен готовым — там даже целые торговые народы (финикийцы). Лишь монолит долины Нила, Египет, где тоже Целое первее индивида. Кстати, питавшийся и египетской мудростью Платон, у которого наиболее богатое миросозерцание изо всех древних, являет Эллинскую модель мира со склонением именно к материковости. В «Законах», вычисляя должную пропорцию земли и моря для идеального полиса, он замечает, что для нравственности народа лучше располагать его подальше от побережья, которое плодит изнеженных и плутоватых людей. Его привлекают Спарта и Фракия, откуда Орфей и орфические мистерии, где ПЕЩЕРА (в «Государстве», а и городок такой в Болгарии) и ВПАДИНА, с которой он в «Федоне» сравнивает местообитание нас, землян: как лягушки в водоеме, так и люди во впадине, наполненной воздухом. А на «островах блаженных» — высушенный космос. И болгары-фракийцы, блюдя материковую субстанцию, на побережье Черного моря строили дома спиной к воде, лицом в земле.
Однако учитывать надо, что мое построение — это взгляд из России, где совсем иной космос: равнина, нерасчле-ненность, монолит и лапидар. А тут — изрезанность, членораздельность осуществлена Бытием. «Разделяй и (таким образом) властвуй!» — этим принципом Бытие правит здесь своими насеченными членами: атомами-индивидами, городами-государствами, островами-полисами, долинами-«республиками». Все они — не субъекты, но объекты власти чего-то большего, чем они. Целого. То-то Сократ призывал к САМОпознанию: стать субъектами, но в уме, а не в бытии. Не к самообладанию, не к самосделыванию, как северянин-германец-трудяга.
255
И вот противоречие: эти малые социумы автарктичны, являют собой мир, закон и самоуправство. Но они очевидно марионеточны — среди огромности мира и моря вокруг, неба и Космополиса. Так что врождено им, бал-канцам, чувство Целого Бытия, принадлежности ему. Отсюда Ананке, покррность судьбе, и лица эллинских статуй излучают не бунт, но’смирение. При этом, однако, каждый индивид тут динамичен, подвижен, как животное (оно тут модель, особенно в Элладе, в ее мифологии). СамоДВИЖЕН, но не самоСДЕЛАН, в отличие от германца, который трудом-производством и на одном месте, по модели растения, земледелец и бюргер, цеховой мастер, созидает мир и себя, и его амбиция — прорыв от Судьбы — к Свободе.
Региональность и местный патриотизм характерны для фиванцев и коринфян, шопов и родопчан, боснийцев и хорватов... Хотя то же и у шотландцев, и в графствах Англии, в землях Германии... И Померания так же воевала с Австрией, как Спарта с Афинами. И все же естественная разделенность водой и хребтами сильнее обособляет и чу-жеродит, нежели легко преодолимые рубежи на равнине. Здесь же изолированность, относительная замкнутость внутри Целого, между Небом и Землей, островно-горной. Каждый мир — регион тут — шар. Вертикали во Космосе соответствует в Психее — гордость. Она — у горцев, черногорцев... А прибрежные — горизонтально ориентированы на связь, изгибчаты, лукавы. Это подметил и в греках, и в болгарах прямолинейный русский Константин Леонтьев. В этом смысле Византия •- сдвиг Эллады на север, материковый ее оборот и ипостась, тут балканская суть более проступила, как еще ранее — в Македонии, ее владычестве над Грецией и миром.
Македония — первый синтез Эллинства и Балканства. Тут материк Балкан возобладал над Элладой. Но чем? Монолитом, силой, не умом. А впрочем — Аристотель не случайно откочевал сюда учить Александра. Да и сам он — Стагирит, с севера. В нем важный оборот эллинского Логоса. Аристотель — расчленитель и логик в отличие от умоз-рителя и диалектика Платона. И недаром он так по душе пришелся германской' материковой цивилизации центра и севера Европы — как отец науки и предтеча Канта. Так что Аристотель, как мост между Афинами и Македонией, прообразует некий балканский синтез во Логосе: склонность все расчленять, не опьяняться идеями, как Платон, прак-256
тицизм, трезвость, умение часть понять из части, выработка теории «ад хок», для каждого случая, а не всеобщей. Допускается регионализм во Логосе. Так и стали все науки работать: каждая свою теорию сочиняет: физика, минералогия, лингвистика.
Итак, РЕГИОНАЛИЗМ — и во Космосе, и в Логосе. Ну и в Психее: что ни община — то свой характер у ее человечка. То-то ученик Аристотеля Феофраст характеры описывал, тогда как великие трагики Афин — судьбы и идеи, перипетии, игру обстоятельств Бытия. Из характеров трагедия не получится, а лишь комедия нравов. И, кстати, вот это хорошо умеют балканские писатели: Нушич, Радичков. Балканский юмор — бытовой, телесный, домашний, региональный тоже: описывает случаи со знакомыми, про родню, свояка; нужно знать контекст, чтобы засмеяться. «Самозадоволяване» (самоудовлетворение, болг.) и тут. Потому в принципе трудно возникнуть здесь универсально понятному мировому автору, ибо какая-то региональная складка на нем, для домашнего употребления. И не провинциализм это, а микрокосмичность. «Провинция» — от того, что где-то центр есть. А тут — самоцентрированность и самопонятность — своим, эзотеричность как бы. Посвященность в данный круг жизни и быта. Балканы — полй-центированный Космос. За пределами свое очевидное — непонятное, не смешно. Внутри же все — на высшем уровне. Вот где разница Цивилизации и Культуры очевидна! Балканские — культуры: их много, самородных, оригинальных. Но общечеловечность, как признак и свойство цивилизации, им трудно достается именно в силу довлеющей оригинальности культуры здесь. ОРИГИНальность = «рожденность», самородность, вблизи Природы (а не Труда, производства). А в больших цивилизациях налаженное производство идей, понятий, они более унифицированы, в ходе контактов общий язык полируется. Балканские культуры — мало сообщающиеся сосуды. Тут каждый мир свой набор архетипов, символов, идей, язык производит — так же подобно, как в Элладе каждая местность имела свой цикл мифов: Фивы, Лакедемон, Крит, Афины, Фракия, Иония... Это потом стали собирать местные культы в единую мифологию Эллады, но она все равно — искусственное образование, как и всякая цивилизация. Она обобщает, распространяет, но не рождает.
У Диогена Лаэртского — анекдоты о философах, фрагменты. Малая форма, как и малые полисы и общины. Да и
9 Гачев Г.Д.
257
Аристотель, обобщивший философскую мысль Эллады, передает, что кто говорил по каждому вопросу — как малые рассказы, слухи о знакомых или предках. Так что фрагменты, оставшиеся нам от культуры Эллады, это не только внешней волей истории остаток, но и присущее изнутри, свой жанр творчества, изделие регионального Логоса. Сращенность мысли с человеком: кто что говорил, как и в какой обстановке — об этом Диоген и всякая легенда и миф. Тезис — как характер. Не без-характерная, отвлеченная, отчужденная мысль, что самодержится своей логикой, но мысль, прорастающая из характера и ситуации и истории малой с данным человеком. Антропоморфность Идеи — что Гегель для классической фазы Духа и искусства отмечал. Но и в текстах болгарина Иордана Радичкова — набор мудрецов-чудаков сельских: кто где что сказал, повествует, и все дивуются, хохочут, задумываются...
Из мелкогабаритности космополисов, изделий труда и мысли, из здешнего стиля довольства малым и домашним кругом бытия — ненужность на Балканах больших стран. И если они возникали, то как искусственные образования сверху, насаженные не своими, а иноземцами: римлянами, турками, австрийцами, советскими (Югославия и Балканская Федерация, что замыслили Тито и Димитров). Внутри же там — раздоры, как между сербами и хорватами, как и между Ахиллом и Агамемноном, и для примирения нужна Афина, уровень олимпийцев, как ныне — вмешательство ООН, да и то малоуспешное.
Балканы — «пороховой погреб Европы», но отчего? Оттого, что лезут туда северяне-материкаты присваивать и володеть, равнинные Германия, Россия... — и мутят там, страсти и гордую вспыльчивость малых там народов поджигают. Впрыскивают им идею самостоятельности, государственности и величия. И вот уже в ход пошли идеалы: «Великая Сербия», «Великая Болгария», «Великая Румыния», тогда как их ценность — быть малыми и самодостаточными, не иметь Эроса к распространению, как он автоматичен у Континенталов протяженных и протягивающихся, у равнинных, кому нет естественных преград, как здесь горы и море. Как моя тетя Руска, приехав в Москву, говаривала: «У вас тут все БОЛШОЕ: «Болшой театр», «Бол-шая любовь», а България — мъничка» (маленькая), «таз шепа земя» («эта горсть земли»), как любовно о ней поэт Георгий Джагаров писал.
258
И когда ищут мировые ценности (универсальные) в культуре балканских народов, чтобы уловить их, надо сменить оптику и шкалу ценностей, присогнуться, тогда оценим эти самобытные, острые, терпкие породы культур. Так ведь и с возрождением Эллинства произошло: присогну-лись европейцы Севера и стали мелочи изучать: «Что ему Гекуба?» — дивился Гамлет на актера, что рвал и метал в страсти. Что нам наяды, Киприда, Атриды? А — много!... Потому что мы приникли к ним. Телескоп тут не работает, а вот микроскоп — да!
На Балканах БЫТ — главное Бытие. И под турками, и под австрияками, и под советскими, которые царили поверху, внизу свой родной многовековой уклад функционировал: семейно-родовые обычаи, корчма и кухня, народный календарь и обряды. «Приземленность» — так для ложбинных сказать, или «восхищенность» — для островитян, кто на пупыре своем как на Олимпе обитают, небожители. А те, «балканджии», — в пещерах, орфические мистерии своею жизнию справляют и пифийски мыслят, как ведьма Ванга или писатель Радичков, кто замысловатые вышивки характеров и ситуаций творит, орнаменты причудливые. Узорчат. Ориентален.
Ну, конечно: Балканы есть ОРИЕНТ в Европе. Мусульманская прививка там по душе пришлась: «ислам» — покорность, недвижность, не бунтарство во свободе и само-сделываемости, как это германский Север и Запад настроен и нацелен ПРОТЕСТантизмом, что есть антипод исла-му-покорству. А там — революционность.
Тут и симметрия с Пиренеями—Испанией, которые ОРИЕНТ на Западе Европы благодаря вторжению арабов и мавританскому вспрыску. Ориент с юга обошел Европу и в клещи взял: на востоке — Балканами, на западе — Пиренеями. Горы — рубеж против равнинных континен-талов-северян. И много сходства в ментальности между испанцами и балканцами: вертикальность, гордость, самодостаточность, довольство малым (тип идальго-мудреца-Диогена), внутренняя страстность, огненность, нежелание распространяться вширь и завоевывать. А если и распространилась Испания через Атлантику аж во Америку (Латинскую), то тут более — Португалия, а Испания тут просто волю континента Евразии к экспансии осуществила. Однако ж и разность есть с Испанством: нет в бал-канцах такого острого чувства смерти, мистерии Бытия, трагичности. Все умереннее, округлее: шар — модель, а
259
9*
там — эллипс, все вытянутее, как у Эль Греко фигуры и лица (в нем, кстати, тоже подтверждение сродства Испан-ства с Балканством).
. В Психее балканцев — гордость. Она — тоже довольство малым, скудным, но своим. Не производить наружу, на рынок мира и там получать удостоверение своей ценности и важности (таково тщеславие в отличие от гордости), но натурально, в своем круге. Психология вольных, не рабов. Вертикальных, а не лежачих. Но оттого, что не нуждаются в ближнем (народе), не ориентированы на него, — само-замкнутость и узкий круг идей и понятий. Зато — <&ой, оригинальный, характерный, доморощенный.
Как большая страна-государство, так и большая форма в искусстве, система в философии — тут не надобны. Не КАК ЭТО ЕСТЬ тут записывают, а КАК ДУМАЛ ПИФАГОР. Да и у Платона даром, что ли, диалог — форма? Тут КТО-МЫСЛЬ, а не ЧТО-МЫСЛЬ, о чем, как это интересует безличную науку нового времени, германской цивилизации. Тут фамильярность с сущностями и идеями — как фамильность их = личностность—характерность, домашность, дома рощенность.
Отсюда в Логосе — множество разного, противоречия и несогласия, разнобой. И это было бы какофонией, коли б не было такой прекрасной пестротой, что согласуется в космос и гармонию где-то на высшем уровне, в Целом, демонстрируя изобилие Бытия. А тут, внизу, и не надо согласовывать: так и удобно жить-бытовать разным и в отдельностях. Как народцам-общинам-полисам на островах или в ложбинах меж гор.
Мой эскиз балканской ментальности в связи с характером природы здесь получился, конечно, субъективен и груб: какой-то лубок тут намалеван. И все же некоторые свойства, надеюсь, проступили.
ГРУЗИЯ
(МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ГОРЦА)
Главная интуиция — это горы. Грузия пришпилена горами; горы — это спасение (оборона) и казнь Грузии. Потому что горы, во-первых, отняли полнеба. Во всем мире Небо — это Отец, архетип Отца, Бог-Отец, а земля — Мать. В Грузии ж горами земля вздыбилась на небо и отняла большую часть его. И, собственно, поэтому и в культуре: когда я
260
анализировал национальный образ божества, я понял, что из христианской Троицы в Грузии Отец слабо чувствуется, верх берут другие ипостаси.
Далее: горы — это неизменность, недвижность. И это — твердь. Одно дело, допустим, русский космос: «мать сыра земля». Она мягка, сдобна, рассыпчата, как тело человека. Человек вообще — срединное существо между небом и землей. Поэтому он всегда себя моделирует между ними. У равнинного народа таким архетипом — братом человека по срединности является дерево. И модель Мирового Древа руководяща в Логосе равнинных народов, так же, как животные — в космосе пустынь, кочевья (Конь, Верблюд и др.). Здесь же аналогичную роль играют горы, В Грузии недействительна модель Мирового Древа — ее замещают Горы.
Далее: древо мягко, растет, умирает. Над ним властна смена времен года, оно несет в себе идею изменения. Горы ж — неизменны. Идея круговорота, облегчающая существование и понимание (надежда, выход), здесь не так действует. В космосе Грузии все остается, пребывает, потому что некуда деваться: камениста почва. Остается и добро и зло, грехи. Космос совести.
Сравните равнинный народ, Россию, например. Это же космос переселения: нагрешил здесь — переехал туда, никто тебя не знает — и всё списано. Потому Достоевский мог задаться метафизическим вопросом: если бы вот ты там, на Луне, нагрешил, а живешь здесь, и никто об этом не знает,— каково б тебе было? В России это решается просто: а ничего б не было. Ну, не для всех, конечно. Но сколько мы имеем случаев: нагрешил где-то на Дальнем Востоке, а потом живет себе в центральной России и возделывает на пенсии свой вольтеровский садик.
В Грузии такое невозможно. Человеку некуда деться. Ему жить там же, где и грех совершил,— всему здесь и память. Значит, тут какой выход? Во-первых, в человеке неизбежно развивается сознание вины, раз ее некуда расплескать. Помните «колодец совести» царя Аэта в романе Отара Чи-ладзе «Шел по дороге человек»? Как царь опускает туда бечеву и чувствует, что там колхи, которых он изгнал. Все отразится — и с этим надо считаться.
Равнинные народы могут быть беспамятны: рвется традиция через переселение или кочевье, напряжение греха ослабляется. Я не вижу убийцу отца — он переехал, а я переселился. И дело с концом. Ни у него нет долга совести,
261
ни у меня нет долга отмщения. А в горах — вендетта. Никуда не девается добро и зло, действует их накопленная энергия. Но зато тут и милость прощения требуется. А также — юмор, ослабляющий напряжение на месте... Это очень хорошо видно в повестях и рассказах молодого прозаика Годердзи Чохе-ли. В его «Гудамакарских рассказах» все проблемы Бытия — в одной деревне. Нужно провести межу, чтобы по ту сторону поселить нагрешивших, а здесь чистых оставить. В общем, развертывается своя книга Бытия и мифологема мировой истории.
Так вот: о милости и прощении. Я вспоминаю, как Алико Гегечкори показывал мне семейную фотографию 1936 года, на которой изображен и Георгий Димитров: «Вот мы, наша семья. А вот видишь, этот старик осанистый — это убийца Ильи Чавчавадзе». Этот человек 30 лет спустя покаялся сам, и он благодаря покаянию1 имеет права. Поразительная нравственность. Но, с другой стороны, грузин вне Грузии может утратить удерж и стать гением бессовестности...
В этом космосе камня единственно трепетное, живое — это человек. Поэтому на него особо ложится эта нагрузка чувствительности, изменения. Грузины вообще — очень хрупкие и чувствительные сосуды. Это не всегда чувствуется, понимается, ибо они забронированы ритуалами, воспитанностью своей родовой, системой общения, выработанной веками, за которой легко прятать свою суть. До нее трудно добраться. В отличие от русского, который готов душу свою распахнуть, грузин — нет.
У меня, простите, такая ассоциация: грузин — как то хачапури, что подают в погребке на проспекте Руставели. Что представляет это блюдо? Твердь лепешки, крепость лепешки — с жизнью внутри: яйцо в сыре плавает, как озеро в берегах. И все искусство — так есть эту ватрушку, чтоб обламывать стены городские из хлеба и макать эти кирпичи в гущу жизни внутри, умудрясь не расплескать, не вылить жизнь наружу, надрезав брешь, проход, туннель. Так и Грузия: тоже не само-держица, а народом держится, как стенами, имеет стыд и уклад, ориентирована на суд и взгляд со стороны рода и села и памяти из прошлого. Грузин тоже есть хачапури: жизнь души в стенах крепости: одет, вышколен, глядит воинственно, а в душе чувствителен, даже плаксив. Моя дочь поразилась, как непрерывно пла
1 Фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе об этом.
262
чут витязи в поэме Руставели. И если вспомнить стих Лермонтова «Бежали робкие грузины», то тут, увы, даже наш любитель Кавказа, по русской, равнинной модели «поля Бородина» храбрость вообще оценивает. Но ведь они не «бежали», а скрывались в горы, которые их стены и космос и помогают, дома-то.
В истории Грузии невольно обращаешь внимание на прозвища: Давид — Строитель, Димитрий II — Самопо-жертвователь. Потрясающа эта история: когда Димитрий во избежание вторжения монголов сам поехал к хану и был казнен. Про это есть и поэма Ильи Чавчавадзе. Внешняя, политическая история Грузии сама по себе однообразна: расширились — сузились, снова расширились — опять какие-то земли потеряли. Не в этом смысл истории здесь. А в накоплении нравственных, этических ценностей, которые создавались в этом шевелении. Собственно, расширение Грузии при царице Тамаре, быть может, и совершилось главным образом для того, чтобы была создана Библия грузинства — поэма Руставели. Ценности Грузии в другой колодец складываются: нравственно-художественной памяти. Идея величия Грузии чужда. Тут — «Строитель», «Самопожертвователь», Георгий Блистательный: «блеск» — красота, эстетическая категория. Этика и эстетика, категории невоинственные, несолдатские,— здесь в почете. А если и воинские категории чтутся, то ценна тут не победа любой ценой, а нравственное поведение в битве. Честь важнее славы и победы, достигнутой коварством. В Грузии цель не оправдывает средства.
Как видите, я все время докапываюсь до Логоса, до некиих ценностных ориентиров, которые у каждого народа свои. В Грузии средства важнее цели, ибо внешней цели, собственно, и нет: некуда развиваться (по территории), стремиться. К чему? К расширению земель? К величию, славе? К мировой политике? К власти над соседями?.. Но Грузии извечно даны: ее земля, горы, космос; ей не расширяться, а сохраняться надо, расти не в ширь геополитическую, а в глубь экзистенциальную. Такова, я чувствую, «энтелехия» народа, целевая причина, его призвание. Тут нет цели, но есть Целое. Его себе сохранять, осваивать — вот это задача. Потому тут — самоудовлетворение. Космос самодостаточности. Фаустовское стремление к эфемерному идеалу, чем так гордится «германский гений», тут чуждо. Эта стремительность опасна уничтожением народа и природы, как основных живых ценностей.
263
Или русское стремление: все переделать, все переменить, начать сначала! Для этого здесь есть космо-психический шанс: простор дает возможность уйти отсюда («от самой от себя у-бе-гу!») и где-то начать новую жизнь. Тут же переделать все на новый лад — равносильно самоуничтожению, самовыкорчевыванию. И потому нравственный герой Дата Туташхиа в итоге приходит к принципу Дао, недеяния, воздержания от всяческого действия, ибо у него всё хуже получается в итоге.
И вот к такому я подхожу предуразумению. Есть три варианта Абсолюта: Истина, Высшее Благо (Добро), Красота. Так вот: для Грузии именно Красота есть та ипостась Абсолюта, которая наиболее реализуема. Сюда устремляется духовный потенциал нации. И именно потому, что Красота есть чувственный и конечный вариант Абсолюта, дух тут воплощен, телесен. Чистая спиритуальность, рассудочность — это не внемлется грузином. Недаром и в философии за своего приняли именно Дионисия Ареопа-гита, христианского неоплатоника, кто в сочинении своем «О небесной иерархии» божество представил много-ярусно — как гору. Идея бесконечности чужда здешнему Космо-Психо-Логосу.
Тут — окоём всего. Небо могло бы быть образом бесконечности, но ведь оно уловлено зубчатостью гор. Море могло бы быть таким образом бесконечности для приморской Грузии, Абхазии (кстати, если посмотреть по карте, Абхазия и Грузия находятся в перпендикулярном друг к другу отношении, как в электромагнитной волне, и они создают особый сюжет грузинской истории). Так вот: море могло бы стать образом бесконечности для приморской Грузии и Абхазии; но последняя чувствует себя скорее как Колхиду, место ири-бытия, берег, конец странствия тех же аргонавтов, приход к цели, осуществление, свершение.
Если для русского пространства-времени, как я чувствую, архетипы — это берег, порог и канун, причем берег не как приплытие, а наоборот, как отплытие; порог — не как прихор а как выход из дома в путь-дорогу (ибо место Абсолюта на Руси — в Дали, и Бог — вдали, а не наверху1); и канун: душа русского вечно накануне, в ожидании глав
1 Хотя по пословице: «До Бога — высоко, до царя — далеко», — но понятие царя здесь потеснило Бога — отчасти и потому, что архетип дали здесь интимнее выси.
264
ного события и разрешения всех мучительных проблем, она эсхатологична, а символическим изображением ее может служить геометрический «луч», однонаправленная бесконечность: —> °о, то в Грузии мы имеем скорее пункт прихода Бытия к своему осуществлению, к цели, свершению. Тут пункт при-бытия, при-сутствия. Тогда как на Руси вечный ток в даль, от-сюда, куда-то. Психокосмос от-бы-тия. Вечная неудовлетворенность. «Не-присебейность». А в Грузии — самодостаточность.
Теперь перехожу к грузинскому Логосу поближе — и прямо упираюсь в Логос застолья. Тамадизм — философия застолья. То, что совершается за грузинским пиршественным столом,— это совсем не просто насыщение. Это национальная литургия, домашняя церковь. Тамада — это первосвященник. На столе распластана сама Грузия, ее плоды. Происходит таинство пресуществления материи в дух, в логос — речами, великолепными речами. Застольный Логос Грузии продолжает, конечно, традицию Платона: «Пир» — «симпозиум», когда происходило это же пресуществление вещества в дух. В тамадизме происходит евхаристия «Циск-хари» — «дверь в небо», как назвал свой журнал Илья Чавчавадзе. В застолье непрерывно пробивается материя к духу. Раскрывается эта дверь.
Что происходит в застолье? Речи — беспардонное ласкательство. Гиперболическое восхищение. Это тип слова безусловно восточный, не христианский: не подобают человеку такие похвалы. Человек-гость тут играет роль одновременно и агнца жертвенного, и бога. Земной бог! — и каждый поочередно в этой роли выступает. О дурных качествах умалчивают. Человеку преподносится возможный идеал его самого, как бы платоновская идея тебя в наилучшем твоем виде. И получив такое в речах, в застолье, человек и в будни как-то будет подтягиваться, стараться соответствовать этому идеалу.
Русское застолье имеет совершенно иной вектор. Когда собираемся мы, если мало,— так начинается тяга к покаянию, биению себя в грудь, к исповеданию. Если грузинское застолье — это «аллилуйя» = «хвалите Господа», то русское застолье — это «Господи, помилуй!», печалова-ние, покаяние, биение себя в грудь со слезьми. Но это еще вопрос: что лучше воспитывает человека? Говорить ли ему, что он хороший, как говорит Грузия,— или говорить себе, что я плохой, а другой бы меня утешал и говорил бы: «Ну, не совсем уж ты такой плохой, Гоша, ты
265
еще не знаешь, какой я мерзкий бываю!» — и так мы взаимно поочистимся?..
Грузинский Логос моделью своей имеет тост, слово застолья. Это совершенно очевидно в грузинской поэзии. Но так оно и в философском умозрении. Я с большим наслаждением хаживал на лекции Мамардашвили, грузинского философа. Это действительно философ-тамада: он держит перед очами ума некую идею, как икону, и описывает ее так витиевато, красиво, артистически, ходя кругами в слове, применяя все изощрения диалектики. В Москве двух я таких разных противофилософов слушал: Библера и Мамардашвили. И так себе я сформулировал: у одного — талмудизм, у другого — тамадизм.
В философской традиции две главные матки: Платон и Кант. Кант — это рассудочная аналитика, диалектика; Платон — это умозрение. Грузинский Логос склонен к платонизму, умозрению.
Теперь я начну заход к Логосу с другого конца — с языка. Я был поражен в грузинском языке такой категорией глагола, как «кцеба», т. е. «версия». Я немного изучал грузинский и был удивлен в языке субъектно-объектной формой глагола. Это значит, что не просто «пишу», не просто «я пишу», но «я пишу лекцию для тебя». Особая форма, которая учитывает косвенный объект: «пишу тебе», «шью платье — для тебя». Здесь воплощена идея взаимности и возврата. Субъект зависит от объекта. Это есть хоровой, общинный Логос. И в этом мне увиделось что-то очень философически важное. То, что резко разрубил европеизм: «Я» и «He-Я», субъект и объект, и никак из этой оппозиции не может выйти,— здесь же гармония и имеется способ мыслить Единство Целого. Это подтверждает ту мою интуицию, что грузинство располагается как бы в Бытии, в центре Целого, в космосе совершения, и поэтому никуда не торопится от себя: переходить и трансцендировать...
Еще это и в такой черте грузинского глагола, как его «полиперсонализм», т.е. многоличностность,— сказывается. Не просто множественное число «мы», где снивелированы всякие «я», «ты», «он»,— а встречность лиц и душ в одном действии, их взаимосоотнесенность, увязка. Такое много-личие глагола должно иметь глубокие субстанциальные корни в национальной сути грузинства, образует важнейшую черту Логоса. Нет такой жесткой, резкой тяги у грузина обособиться в чистый субъект, стать личностью, стать абсолютно свободной личностью.
266
Это, между прочим, важнейший момент для прозы и мышления. Главный вопрос для Грузии — развитие личности, а отсюда — и личностного сознания и рефлексии, чем и рождается проза. Я вижу, что здесь нет европейской тяги стать абсолютно свободной личностью, потому что личность грузина связана с родом; и самый свободный из известных мне образов, Дата Туташхиа, весь — в перекрестных отношениях, считаниях, ориентировках на людей: как бы не принесть зло своим, пусть и нравственным вмешательством в ситуацию, которая всегда ведь многоперсональна, не учитываема в своих причинах и последствиях, но каждая ситуация хороша по составу и сути, так что лучше и не вмешиваться...
Хочу обратить внимание на отсутствие родов в грузинском языке. Что это значит? Дело лингвиста и науки — как это появилось. Но что бы это могло значить? — дело мыслителя. Еще и в английском языке, мы знаем, стерты историей родовые различия: нет ведь ярого Эроса в космосе Англии — андрогинен Альбион. Например, в семитских языках, в древнееврейском, например, столь резкое расчленение всего поля языка на полы, что и глагол весь ге-нитален — мощен тут Эрос и противостояние полов. И у арабов, турок, персов, вообще в зоне ислама и иудаизма,— резко означены мужская и женская половина, огромная разность потенциалов, ярое влечение.
В Грузии ж, в сравнении с ними более суровой и аскетичной по природе, где горы, камень, снег,— Эрос — не ярок. И не случайно Дружба тут первее Любви. «Витязь в тигровой шкуре» — ведь это есть не поэма войны, как «Илиада», не поэма любви-страсти, как восточная «Лейли и Меджнун»; это, конечно,— эпопея Дружбы. Или, например, повесть Казбеги «Хевисбери Гоча». Там обратный случай: герой, который возлюбил невесту своего друга, оказался преступен и грешен и отлучен, потому что он любовь предпочел дружбе. А в «Витязе» недаром Тариэлу, сыну условного Индостана, придано свойство «меджнуна» {— «исступленного», «неистового», «одержимого»). Это он безумен и юродив от нестерпимой любви к женщине, любви метафизической. А вот наш Автандил, сын условной Аравии, а по сути страны христианской, более северной, как Грузия, — он «меджнун» не от страсти к женщине, а от страсти к другу. Любовь же его к Тинатин — более покойная, разумная, как и ее к нему. Она скорее — сестра ему: не по внешнему положению, а по сути их отношений, не пылких.
267
Откуда же это? И как связано с космосом Кавказа? Чтобы понять это, вникал в символику стихотворений Важа Пша-велы. Вот «Гора и долина». Естественно, гора выступает как мужское начало:
Но взгляни в долину, на дорожки, На сады, что зреют впереди,— Это ль не жемчужные застёжки На расшитой золотом груди?
Я уж пишу карандашиком себе па полях заметку: «муж,-жен.» — имея в виду половую парность, брачную: Гора = муж, Долина = жена: тут низ и лоно, и даже грудь под лифом застежек жемчужных. И вдруг:
Не тебе ль сестра (!) она родная — Та долина, полная плодов?
Значит — не жена, не возлюбленная, а сестра. То есть не прямо противоположное, не полярность, а некая скошенность вбок, умягченность Эроса. Не лют он тут и рьян, как где прямопротивостояние. Даже графически это можно изобразить. Допустим, если в космосе ислама, в Аравии, где земля = равнина, прямолинейно-молнийный Эрос между Небом-Отцом и Землей-Матерью, перпендикуляр,— то в Грузии по скатам гор получается некая всемоделирующая наклонная плоскость. Так что здесь Эрос мягче, ослабленней. Кстати, и лицом и статью грузинка сходнее с мужчиной: горбоноса и сухощава, не разнежен-но-колышущаяся ее плоть, как широкие бедра и осиная талия персиянок или индианок, жриц чувственности. Подруга она, ум мужу и воля, как Тинатин Автандилу. Энергична, как властная, мужеподобная Дареджан в одноименном рассказе Пшавелы.
Так что если в послании Иоанна «Бог есть Любовь», то для Грузии надо переформулировать: «Бог есть Дружба». В «Витязе в тигровой шкуре» что происходит? Автандил-полководец во время отечественной войны покидает войско, действует как предатель родины и едет исполнять любопытную волю своей возлюбленной Тинатин: узнать, что это за странный витязь там? Долг побратимства и дружбы превышает для него и отношения любви, и интерес политики. Императив Дружбы и побратимства здесь абсолютный, категорический. Об этом свидетельствует и поэма Важа Пшавелы «Гость и хозяин», где Хозяин идет против всего своего села на бой и защищает врага своего народа и убийцу своего
268
брата — только потому, что тот в ночи, неузнанный, попросил приюта у очага и принят под кров Дома его.
Если для Запада есть такая формула: «Платон мне друг, но Истина — мне более подруга», то для Грузии это не действует. Друг дороже Истины. То же самое, кстати, и Достоевский говорил: «Если бы так случилось, что истина б разошлась с Христом, я предпочел бы остаться с Христом, нежели с истиной» (примерно, по памяти передаю мысль).
Горы есть также основа грузинского Этоса. Горное право — что это значит?
У Акакия Церетели прочел: он, княжич, был отдан в детстве не просто крестьянской кормилице на грудь (это и русские баре делали), но прямо в семью крестьянки и до шести лет рос там. Князь воспитывался в крестьянской семье! И он говорил, что «обычай отдавать детей на воспитание в семью крестьянки-кормилицы издавна повелся в Грузии: царские дети и дети владетельных князей воспитывались в семьях эриставов», эриставы — в семьях дворян и т. д. Возникали молочно-побратимские узы.
И вот тут мне видится закон обратной связи. Гора (= князь) добровольно идет вниз на поклон в долину, склоняется на смирение-отождествление-породнение с ней, с низами общества, с народом простым,— тем, что самое свое дорогое, наследника,—доверяет долине, народу, женщине-кормилице, Матери-Земле: на наполнение соками и смыслами вещими. А потом, когда воздымается вверх княжич и становится властителем, он уже никогда не будет жесток к народу, ибо там его молочные братья и сестры, побратимы, и узы эти сильнее даже родственных в Грузии. А в равнинной стране как? Здесь действует естественная тяга ее космоса к поравнению всего, к нивелировке, к смесительному упрощению. И для того, чтобы возникло здесь творчество культуры, цивилизации,— Истории необходимо искусственно создавать разность потенциалов, сословные перегородки, барьеры. Тут История воздвигает каскады, на равнине Космоса строит горы социальные, духовные: чтоб возжизнить склонную ко сну и энтропии Природу, чтоб возникла напряженность силово-магнитного поля в духе: надо вызвать искусственно динамизм страстей, яростей, что утепляет космос. В Грузии совсем иное: самой природой, естественными условиями хребтов все партикуляризовано в ее космосе. Противовесное космосу движение Истории должно быть направлено на склеивание сословий в общей жизни, психее, преданиях, обычаях.
269
Русские дворяне, например, даже добровольно чужеземное иго французского языка приняли — для разговора в свете, лишь бы от народа своего отъединиться-различить-ся. Как у физика-атомщика Ферми,—это «уровни энергетических состояний».
И тут важный закон всеобщей Истории вообще нащупывается: вектор (направленность) Социума (типа граждански общественного устройства), его строительства и склада, не просто гармоничен и в резонансе с национальной Природиной, но направлен и дополнительно к ней: противоположно к строю местной природы, складу Космоса образуется.
Еще я хотел сказать, что горы также блюдут права меньшинств: ведь непрерывны войны в истории Грузии, а в каждой долине — особый народ... В войнах что происходит? Умыкают стада, но не вырезают население и не переселяются на земли побежденных. Вот и в поэме «Гость и хозяин» тоже умыкают стада, но земли остаются. И в сказке «Цветок Эж-вана»: муж и красавица попадают в чужое царство, выполняют там все задания, и им, собственно, царство достается. Казалось бы: жить, поживать, добра наживать. А они — пошли к себе домой. Не надо им чужое, не жизненное это им, грузинам, пространство, как бы злачно ни было оно, а у них пусть и горно, и трудно, и каменисто...
Горы доставляют и эстетическую модель. Есть такой термин: «гадавардия» у Тициана Табидзе. Это — «очертя голову». Так поэт обозначил вдохновение: как каскад.
КИРГИЗИЯ
(МИРОВОЗЗРЕНИЕ КОЧЕВНИКА)
«Песни гор и степей», «Повести гор и степей» — так называет сборники своих повестей и рассказов писатель Чингиз Айтматов. Одновременно почти каждое произведение обрамлено образом рассказчика, который ходит по комнате и думает, думает... наконец, распахивает настежь окно и отдается потоку воспоминаний, рассказу бесхитростному, а вы уже судите сами... Помещение и пространство — вот полюсы им ощущаемого мира, к которым тяготеют все бесконечные сложности, конфликты бытия.
Это прямое отношение и ощущение человеком открытого пространства, эта помещенье-боязнь, вероятно, связана с кочевым прошлым киргизского народа. В одной из
270
сказок о популярном народном герое Алдаркосе («безбородом»), плуте и обманщике богатых, рассказано, как он перехитрил глупого сына бая. Тот приехал на базар продавать баранов. Алдаркос пригласил его на ужин и оставил ночевать. Когда же наутро сын бая проснулся, он увидел над собой открытое небо: оказывается, Алдаркос с женой ночью сняли юрту, взвалили все пожитки на байского коня и уехали в степь, уведя его стадо.
Вот эта призрачность помещения, мнимость, необязательность, так сказать, факультативность крыши над головой, так что в любую минуту она может исчезнуть, как мираж, и опять человек прямо в открытом космосе оказывается1, коренной устой мироощущения киргиза. Этому соответствует и его жилье. Такое воздушное и легко снимаемое помещение, как юрта, не создает у человека ощущения закрытости, защищенности (как дом, изба, камин и кружка, при том, что ветер остается за окном — у северян): он и в помещении ощущает себя раздетым,— лучи мирового пространства, беспрепятственно проникая сквозь «стенки» юрты, всегда облучают человека: он кожей и нутром чувствует эту свою пронизанность.
Это значит, с другой стороны, что почти не найдешь осязаемых следов прошлой жизни кочевого народа. Кочевой народ, принцип жизни которого: «всё моё ношу с собой»2, не может опредмечивать себя ни в городах, ни в храмах, ни в статуях, ни в письменности, ни в удобренной земле, ни в ирригационных системах. По отношению к этой вещественной форме опредмечивания кочевой народ играет отрицательную роль. Это — народы-ферменты, дви
1 В одной из народных песен джигит поет: «Ветер сдул мою кибитку, как верблюдицу верблюд».—В кн.: Глоба Андрей. Песни народов СССР.-М., 1947.-С. 447.
2 В эпических сказаниях киргизов животное фиксируется с поклажей, а человек — с одеждой. Вот описание Ак-Кула — коня Манаса: «Расстояние между его задними ногами подобно ущелью Чакал: под ними свободно может пройти верблюд, нагруженный до предела»; «в его ноздрю без труда могут вскарабкаться современные люди со всей их одеждой». О самом Манасе сказано: «кости его — литые, голова — самородок, даже самое малое количество его одежды составляет груз одного верблюда» (Киргизский героический эпос Манас. — М., 1961. — С. 125, 122). Это — зрение кочевника, который мыслит не «голого» человека, но в его таре, упаковке, что каждый раз собирать и переносить приходится.
271
жущиеся в порах истории. Они — орган и орудие развития, исторического движения. Но сами почти не развиваются именно потому, что их движение уходит в пространство (смена мест), а не во время (смена обществ на одной земле).
Отсюда уже априори можно сделать важное предположение о мировоззрении кочевых народов: понятие пространства у них должно превалировать над понятием времени (у земледельцев, очевидно,— наоборот). И наибольшее разнообразие и расчленение имеют, вероятно, пространственные отношения в их космосе.
При том, что мал, не плотен предметный посредник между людьми и миром, более тесны и активны их прямые, непосредственные связи. Жизнь мироздания прямее переливается в жизнь, поступки и мысли человека. Человек здесь космичнее. Особой жизненностью, населенностью обладает для кочевого народа «пустая территория», где вроде «ничего нет»: киргиз не осязает в степи следов своих предков, но помнит, что они здесь витают, ощущает их присутствие, видит внутренним зрением. Это рельефно выявлено Ч. Айтматовым в повести «Верблюжий глаз». Людей послали осваивать целинную землю. Но ведь «целиной» назван Анархай! — «колыбель» (если можно таким домашне-земледельческим предметом обозначить «корень» — опять земледельческий термин) Киргизии, точнее — киргизского народа. «Вот он древний, легендарный Анархай!..
Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас по мягким размытым греблям далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские дали»1. Пустая земля. Ни души.
— Как ни души? Не слышишь разве, что она обитаема? «Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхолмленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом».
— Вот они, первые живые обитатели пространства: «всхолмленная зеленеющая степь», «голубоватый туман». Но слушай дальше:
«Земля еще дышала талым снегом. Но в волглом воздухе уже различим был молодой горький запах дымчатой анар-хайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встречный ветер нес
‘Айтматов Чингиз. Повести гор и степей. — М., 1963. — С.
199.— В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию.
272
с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты».
— Какое пестрое население из стихий космоса оказывается здесь, какая интенсивная и бодрая жизнь идет!1А что, думаешь, только силы природы здесь обитают? Оборотись в измерение времени, и ты услышишь, как затаилось прошлое: пути народов пролегли здесь.
«И чудилось мне, что слышу я голоса минувших времен. Содрогалась, гудела земля от топота тысяч копыт. Океанской волной с диким гиканьем и ревом неслась конница кочевников с пиками и знаменами наперевес. Перед моими глазами проходили страшные побоища. Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я (это юноша-рассказчик въезжает в Анархай. — Г.Г.) тоже был где-то в этой кипучей схватке... Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему Анархаю белые юрты, над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, под звон колокольцев шли караваны верблюдов, неведомо откуда и неведомо куда,.,» (образ неограниченного космоса.— Г,Г.)
1 Чуткость бывшего кочевника к травам, запахам, покровам степи связана с тем, что он через своих животных — которые есть продолжение его существа — прямо поглощает во л осяно-растительный покров земли,— а потом снимает его шерстью и мясом. В народных песнях об овце, верблюде любовно перечисляется, что они едят, т. е. как понимают (т. е. поднимают, вбирают в себя) окружающий мир: «Расскажу тебе о той, что жует. Не чинясь, стебелек волчца, Подорожник, побег чабреца, Сухой василек — что найдет,— Чтоб кормить в свой черед народ. Мой друг, ее имя — овца».
А верблюд уж вообще предстает как космическое животное — тот «кит», на котором держится мир по понятиям мореходных народов; а здесь точнее сказать: он есть образ мира, внутри которого живет кочевник. «Две чашки — глаза его. Шея гибка, как лоза. Как плетка верблюжий хвост. Большой у верблюда рост — Дерево верблюду под стать, Может верблюд его обглодать, До верхних ветвей достать. Любит он колючку сжевать, Лебедой репей заедать, Поваляться любит в золе, Отоспаться любит в тепле, Почесаться любит в арбе».
Очень интимно ощущает кочевник верблюда, и любит он то же, что человек, мечтает о доме (атрибуты дома: «чашки», «зола», «тепло»...); но надо все идти: «Колченог, шея крива, Пучеглаз, в репьях голова, Расплюется — все бегут! Вот каков красавец верблюд! Хоть юрту на него взвали, Нипочем ему встать с земли,— Пойдет, куда б ни повели» (Антология киргизской поэзии. — М., 1957. — С. 109, 110—111).
273
Вот ведь какая полная цветущая жизнь бывала здесь. А ты говоришь: «целина»!.. Ты, самоуверенный современник, мнишь себя первым существом, одаренным разумом, что вступает на эту землю, и едешь «осваивать целину». А еще неизвестно: это, может быть, Анархай, видавший виды, осваивает тебя и вас — новое племя и поколение людей: а ну-ка, покажите, на что вы способны? И это, может быть, Анархай призвал вас, чтобы вами, как орудиями, возродить в себе жизнь...
Словно чуя эту притягивающую власть одушевленного космоса, юноша-рассказчик и себя и современность начинает видеть со стороны, как бы глазами Анархая: «Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, паровоз уходил, словно конь на скаку с развевающейся гривой и вытянутым хвостом».
Да это же «конь-огонь»! Нас подвело к первой конкретизации нашего исходного общего положения: «пространство» — «помещение» теперь предстает в своих атрибутах: «конь»— «железная дорог а»,— подробнее: образность, связанная с конем и миром железной дороги. Пространство (физическое и духовное), в котором происходит действие в повестях Айтматова, имеет четкие границы: там, где гуляет конь,— и там, где он шарахается. Черта железной дороги обозначает край айтматовского света. И действие происходит в этих пределах, от сих до сих, до железной дороги — исключительно. Что там, за ней, в ее мире — уже словно не нашего ума дело. Она буквально как deus ex machina, как сила судьбы, все узлы разрешающей, точнее: разрубающей,— выступает. На станцию, на разъезд спасаются от погони из аила Джамиля и Данияр. Лишь в обрамлении, в эпилоге повести «Тополек...» есть поезд и купе, везущие героев в куда-то...
Анархайская жизнь в «Верблюжьем глазе» начинается в тот момент, когда люди «пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше...». Железная дорога уводит одного за другим детей Толгонай на войну, и она, вместо сына, может лишь рельсы обнимать. В повести «Свидание с сыном» самая впечатляющая сцена — скачки между поездом и конем: отец догоняет поезд, чтобы увидеть сына.
Но обе грани: и пространство и помещение, и конь и железная дорога — необходимы: без них нет магнитного поля, в котором могло бы состояться действие. Ибо это не
274
просто предметы, но предметы представителветвенные, из них излучаются целые системы мировоззрения и принципы жизни. Железная дорога представляет собой мир цивилизации, новое, будущее, идейное, духовное, то неведомое, х, открытое, беспредельное, куда будут уходить герои. Она нужна — чтобы было куда уходить. Конь представляет собой космос естественно-природный, ведомый, несомый в крови, исходное состояние мира. Киргизу словно врож-дено ощущать и мыслить мир конем и о себе через коня рассуждать.
Каково же гносеологическое, так сказать, содержание этого мышления о мире через коня? В одной из народных песен проводится параллель между кобылой и коровой: «Десяток коров—пустяк, Десяток коров никак С десятком кобыл не сравнить. От коровы молока попьешь — И пасешь ее весь день,— Кобылу в плуг запряжешь...»1 — перечисляются все работы, которые на лошади сделаешь за день; и сама себя кормит, и то же молоко дает. Разница здесь такова: корова неподвижна, ты движешься и ее приводишь в движение. Лошадь же сама движется, а ты можешь с нею быть неподвижным. И это дороже, чем кто больше или меньше молока дает: корова, конечно, больше,— но это может быть дорого земледельцу, который, если сам не в силах поглотить все молоко, может его продавать или впрок и в запас откладывать в виде масла, сыра и т. д. Для кочевника же избыток молока — досада и обуза: доить еще, а девать некуда. Лучше бы меньше давала — лишь сколько на день нужно (бери пример с кобылицы, которая кумыса дает столько, сколько выпить можно, не больше) — зато хлопот бы меньше доставляла, сама бы себя кормила, неприхотлива была, как вон овца или верблюд,— и сама бы двигалась. Конь хоть и прихотливее в корме, чем овца и верблюд, но меньше, чем корова. Да на коня и не грех человеку поработать, ибо он дает главное — движение.
Корова — это земледельческая скотина, растение. Мало подвижна, как земля. Только в ней не годовой и сезонный, а суточный (полусуточный) цикл посева — жатвы: утром и вечером урожай молока собирают. В ней добро (молоко) вырастает, как злак, который сеют в неподвижную землю, и через некоторое время собирают урожай. То есть она — животное, работающее во времени (так же как вся жизнь
1 Антология киргизской поэзии, с. 110.
275
земледельца — в опоре и расчете на время протекает), тогда как от коня ожидается расстояние, а приплод во времени (кумыс) — вещь более второстепенная и побочная.
Свинья — уже земледельчески городская скотина. Когда люди стали стеснены в территории, а от интенсивного земледелия прибыток начал лавиной наваливаться и некуда стало загнивающее и отбросы выкидывать,— тут уж свинья незаменима оказалась: так бы загрязнилась территория от гниющих отбросов, а теперь валится в эту живую ходячую помойку: свинья же в с ё съест. Ее утроба — наиболее абстрактный мыслитель. Она производит в мире всеобщую уравниловку: уравнивает тыкву со своим же только что рожденным поросенком, которого ненароком съест, картофельные очистки — с курицей и т.д. Она приводит вещи к единому знаменателю, превращает многое, различное — в единое. В этом отношении свинья, стирающая качества всех растительных и животных явлений разных, аналогична другим всеобщим эквивалентам — таким, как деньги, число, логическое понятие.
Свинья — чрево Земли, Аид продуктов, Тартар, куда жертвоприносится то, что нам негоже,— и глядь! — добром возвращается. К тому же она из животных наиболее неподвижна. На Кубани, например, вообще сажают поросенка в «домушку» и, когда нальется в борова, его жнут,— т.е. совсем как животное-растение произрастает...
Итак, для киргиза-кочевника главная добродетель животного и вообще живого существа (и человека) — самодвижение, а плодовитость, производительность, прирост — дело второе. Что это так, видно и в гимне овце: «Не пропадешь нигде с овцой: Не замерзнешь в мороз зимой В юрте, покрытой кошмой, Или в пути под пургой. Не пропадешь нигде с овцой. Голоден будешь, овцу зарежь...»1
И перечисляются другие блага от овцы: жир — свет, курдюк — сосуд, молоко, каймак, масло, шерсть. Овца — как передвижной амбар, сусек, погреб и сундук с одеждой. «Всё держится в доме на ней».
Но, конечно, в иерархии животных конь держит первенство. Все остальные — только служат человеку, перед конем же человек не считает за унижение согнуться и быть ему слугой. Потому что это — живой образ божества, его отблеск, вечно поражающее чудо: «Быстр, как ветер, го
1 Антология.., с. 109.
276
ряч, как огонь (скакун — как единство космических стихий. — Г.Г.), И легче блохи в прыжке (в нем и макрокосм: ветер, огонь,— и микрокосм: блоха — из круга домашней жизни. — Г.Г.у Перепрыгнет любой арык (и стихия воды зачерпнута. — Г.Г). Как шомпол ружья, нога, Пряма, стройна и тонка. Как бархат, шерстка гладка, Зеркалами блестят бока. ...Ямки на бедрах — две пиалы».
Все это — область быта, производства: человеком, трудом сотворенных вещей,— все в дар коню приносится; в нем, его членах видится для всего образец — идеал всех качеств: прямоты, гладкости, зеркальности и т.д. Так что не только стихиями космоса стоит он сотворен, изукрашен и увешан, но и, как амулетами,— продуктами человеческого производства. Он — посредник между естественным миропорядком и искусственным — сотворенным человеком: модельер всех вещей в этом творчестве человека. А так как человек — тоже существо срединного царства: творенье природы и искусства (в старом смысле слова — как дела ума и труда), то конь наиболее родно, интимно ощущается: «Грудь — как из гранитной скалы (теперь последняя из стихий явилась: земля, горы. — Г.Г.), Не угнаться за ним борзой. Тысяча овец — вот цена За такого скакуна1.
Последние стихи рассматривают коня с точки зрения главной добродетели в мире кочевника — движения; а также устанавливают его в иерархии человеческого миропорядка через отношения к другой вещи и числу.
Итак, конь — космос кочевника, его единство, божество, увешанное всеми атрибутами бытия и мироздания (городской термин и сюда лишь условно подходящий). Выше подобное же указывалось в верблюде. Но тот — комический вариант космоса — коммос. Скакун же вызывает в человеке пиетет, благочестие2.
1 Антология.., с. НО.
2 Конь Манаса Ак-Кула — как раз телесный образ космоса (расставим иные акценты в уже приводившейся цитате): «Расстояние между его задними ногами подобно ущелью Чакал: под ними может свободно пройти верблюд (буквально ниже и ниже по иерархии.— Г.Г.), нагруженный до предела»; икры его подобны туловищу быка (тоже ниже по иерархии: вообще конь воздвигается, как из строительных материалов, из стихий неорганической природы и из других тел животных.— Г.Г.), бег подобен ветру горных перевалов» (Манас, с. 125).
Есть у него и эпитет: «Конь — огонь».
Т11
Потому конь и может стать для киргиза наиболее всеобъемлющим «телом отсчета» и в мире нравственных максим и абстрактных понятий. Среди пословиц и поговорок коню принадлежит «контрольный пакет».
«Не умеющего ценить лошадь — дорога научит, не умеющего ценить пищу — голод научит. Хорошо накормить — плохой конь будет скакуном. Хорошая лошадь от смерти не избавит, а от несчастья спасет»1.
Конечно, по пословицам можно лишь предполагать, а не утверждать, ибо, как сказал о пословицах современный остроумец: каждой пословице есть противоположная — в этом и состоит народная мудрость,— все же обращает на себя внимание акцент, поворот: пища — для движения, а не движение — для пищи (у земледельческого народа поворот пословиц иной: движение, труд — для пищи, достатка)2.
«Коня подковывают, а осел поднимает ногу».
«Кто не спешит, тот и на телеге догоняет зайца».
Конь везде выступает как аристократ в иерархии животных. И более отвлеченные идеи выражаются через коня:
«Не бывает языка без ошибки, копыт — не спотыкающихся».
«Если джигит бесстыдный болтун, он похож на коня без узды». Везде здесь язык — атрибут головы человека, источника мудрости,— приравнивается к мудрости и красоте движения, меру чего дает конь, его низ — копыта3.
Наконец конь — это верхняя часть космоса. «Пища для человека — сила, лошадь — крылья». «Упавший по своей
‘ Пословицы разных народов. — Новосибирск, 1959. Киргизские пословицы, с. 208—209.
2 «Наши откормленные кони стоят неподвижно, а воины тоскуют без дела» — такова, по наблюдению В. М. Жирмунского, обычная формула, которой Манас или Семетей призывают своих дружинников на новые бранные подвиги» (Манас, с. 115). Здесь тоже очевидно, что идеал — движение, а не пища.
3 Вассальный Манасу «катаганский хан Кашой» (Эр-кошой), семидесятилетний старец, «отец народа», согласно распространенному у киргизов сравнению — «подобный воротнику на халате и подкове на ноге лошади». Голова человека, которую предохраняет воротник, здесь приравнена к копыту, что укутывает подкова. И то и другое — «главное», пардон,— «копытное», ибо у кочевника-кентавра самое важное может обозначаться равно головой и копытом.
Здесь видно, как осторожно надо обращаться с языком при описании национальных картин мира, ибо наш язык, которым я пытаюсь предста
278
вине не жалуется». Все остальные животные земны, к ней тяготеют, в нее глядят. Конь — глядит вперед и вверх (грива = крылья) и отрывается от земли, преодолевает притяжение и взлетает. А вместе с ним и человек. Человек верхом — уже член неба, верха мира: от земли и ее тяготений он уже освобожден, опосредован конем. В народных песнях постоянно рядом светила и конь. В колыбельной песне — а младенцу поется о самом прекрасном (либо о самом страшном, что есть в космосе народа, рассказывается), так что в этих песнях бытие подается в наиболее очищенном от побочного, наиболее абстрактном виде,— поется: «Мойягненок, мальчик мой... Звякнул звонкой конь уздой. Конь — как месяц под тобой. Месяц тонкий над горой. Конь — как месяц золотой, в бок ударь его ногой — Изогнется конь дугой. Понесется конь гнедой Вскачь над степью голубой»1.
Пока мальчик мал, он ягненок — низший в иерархии животных (но и самый домашний и интимный). А вырастет — его атрибутом станет конь: он будто человекоконь и небесен. Месяц уподоблен коню: на нем ездят, и эпитет «тонкий» — очевидно, от стройных тонких ног коня. Из рельефа мира, земли названы «горы» и «степь» (прав, значит, Айтматов, тоже их назвав патронами своих произведений); из цветов: золотой (цвет дня, солнца) и голубой — цвет ночи (не «темная», не «черная» она); из линий — дуга; из сторон — бок (бок коня), из звуков — звон. Пока это лишь констатируем. Все это нам позднее еще пригодится.
вить чуженациональное и иноязычное мировоззрение,— незаметно может подкладывать на каждом шагу понятия и категории своей национальной модели (как это, к примеру, случилось в последней фразе, где слова: «подкладывать», «на каждом шагу» — совсем не индифферентны, но источают уже из себя русский образ мира). Так что все время нужно делать поправку на ту интерференцию (наложение) национальных моделей мира, которая происходит при попытке передать одну на небеспартийном для нее языке другой. Структуралисты пробуют избежать такой опасности, создавая условный, искусственный, промежуточный язык. Но при этом многое теряется: проскакивает сквозь этот фильтр. И главное: теряется то преимущество взаимного, так сказать, дразнения, каким один живой язык зацепляет чужеродное себе в другом — и тем самым оказывается ре просто пассивным передатчиком, но активным инструментом: искателем, выявителем и проявителем особенностей национальных мировоззрений.
1 Антология., с. 116.
279
Не счесть уподоблений с конем и в художественном мире Чингиза Айтматова. И не только таких очевидных, как в словах Ильяса: «В те горячие дни не удержался я в седле. Не так повернул коня жизни». В повести «Джамиля» — еще до того, как Данияр и Джамиля почувствуют любовь друг к другу, пара коней Данияра и пара коней Джамили вместе пасутся в ночном на люцерне1.
Это просто. Но конем организуются невидимые силовые линии, напряжения в киргизском образе пространства. В этой «пустоте» ощущается какое-то вихревое движение и устремленность. Вглядитесь в те зрительные представления, которые встают перед внутренним оком подростка, пока он слушает песню Данияра (в «Джамиле»): «То проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков; то проносились по гудящей земле с топотом и ржаньем табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестрижеными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток; то спокойной лавой разворачивались по пригоркам отары овец; то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белиз
1 О «симпатической связи» между батыром и конем пишет В.М. Жирмунский в работе «Введение в изучение эпоса «Манас»: «У кочевых и полукочевых народов роль коня как спутника и боевого товарища героя особенно значительна. Так, в эпических сказаниях среднеазиатских тюркских народов широкой известностью пользуются Байчибар — богатырский конь Алпамыша, Гырат — знаменитый боевой конь Гороглы, Тай-буруул — конь казахского богатыря Кобланды. Имена коням в большинстве случаев даются по их масти, а витязь в наиболее древних эпических сказаниях в свою очередь получает прозвище по своему коню. Например, в алтайских богатырских сказках: Кускун-Кара-Матыр, «ездящий на бархатном вороном коне» («Кочутей»); «на кроваво-рыжем коне ездящий богатырь Кан-Толо»; «на бело-сером коне ездящий богатырь Алын-Ма-наш»; в «Китаби-Коркут» —Вамси-Бейрек, «владелец серого жеребца», и другие» (Манас, с. 124—125).
Итак, имя героя — функция коня: конь рождает человека, есть причина, основание его (в буквальном и переносном смыслах). Эта неразрывность единого существа — человекоконя — проявляется и в параллельности рождения богатыря и коня: «Манас и его конь Ак-Кула в варианте Орозбаева рождаются в один день: в то время как Чийырды в тяжелых муках рожает Манаса, ее муж Джанып принимает новорожденного буланого жеребенка Ак-Кулу у своей черногривой кобылы. Таким образом, симпатическая связь между богатырем и его конем устанавливается с рождения» (там же, с. 125).
280
ной всклокоченной кипени; то в степи за рекой опускалось в заросли чия солнце, и одинокий далекий всадник на огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним — ему рукой подать до солнца — и тоже тонул в зарослях и сумерках».
Ошибся бы тот, кто увидал в этом наборе только личные воспоминания подростка-персонажа или произвольные картины, вызываемые в памяти по пристрастию этого писателя. Нет, это, очевидно, типовые, народно-отстояв-шиеся зрительные представления, и если бы пришлось снимать документальный фильм о Киргизии, эти картины вошли бы на правах национально-государственных, общезначимых созерцаний: картин-понятий.
Все предметы, атомы киргизского мира, которые здесь названы, одержимы стремлением — но не в даль, а вбок, вширь. Особенно это очевидно по всаднику, который летит, как на экране, «на огнистой кайме горизонта». Кроме прямых линий («проплывала», «проносилась», «скакал за»), обилие боковых, дугообразных движений: «ошалело обегали», «разворачивались» — и переходные: «срывался», «опускалось», «рукой подать», «тонул». Есть и круговое завихрение — «всклокоченная кипень» и обратно отраженное движение: «ослеплял». Средняя всех направлений движения — отлого вкось.
И на все космические персонажи (облака, весна, солнце, заросли чия, водопад и т.д.) — всего лишь один человек, да и тот — всадник, человекоконь. Вот простор-то и неограниченность! Безлюдье — да, но не безжизнье...
Взгляд на вещь не вплотную, а на как находящуюся среди вольного простора, где она не стеснена, — сказывается в изображении человека. Он берется с дистанции. Вот Джамиля приехала сдавать зерно на пункт «Заготзерно»: «В этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся охрипших людей Джамиля бросалась в глаза («в глаза бросается» вещь не вплотную притертая, а та, которая на некотором расстоянии, та, что изъята из «сутолоки», «толкотни» и смятения.— Г.Г.) своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе». Джамиля — дочь пространства, и где она является — словно степь ореолом вступает с ней, ибо она своей фигурой присущую себе среду вносит: ее движения — не стесненные, но вольные — рассчитаны не на сутолоку, предполагают простор: «И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и за-
281
кидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца косы почти касались земли». Да это же кобылица! — все это жесты и позы, свойственные коню, и в нем они так же созерцаются: «легкая походка», спина, шея, грива, изгибы. Это глазами кочевника воспринято, который вдруг остановился и созерцает остановившуюся плоть своего скакуна.
«Вот Джамиля идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются ее крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком» (опять тело кобылицы: крутые мускулы, пружинистый корпус и круп). Земледелец, узбек, например, не может так видеть женщину: она в чадре, закрыта вся, как растение корнями зарыто в земле, а наверху лишь цветок и плод.
И горожанин, глядящий на женщину из очереди, толчеи,— не может ее так видеть: его восприятия даже не зрительные, а осязательные — касания (танец «танго» = «касаюсь», по-латыни), утратившие от частоты ценность.
Джамиля в приведенном изображении — видится не зрением живописца, а зрением скульптора, что обращает внимание на рельефы, пластические объемы, а не на цвета и линии. И это не случайно. Зрительные впечатления, которые за века и тысячелетия нагнетались в сознании кочевого народа, связаны в большинстве своем с движением, пластикой тел (людей и животных). Увидеть, различить цвет и линию можно уже на остановившейся предметности — и живопись возникает, как правило, уже у оседлых, земледельческих народов. Цвет и линия, как более отвлеченные способы представления пространства и тел, возникают и развиваются в Киргизии уже в наше время.
Если проследить, какие краски, цвета и в каких случаях использует Чингиз Айтматов, то это золото или голубизна; и относятся они не к вещам и людям — например, в описании лица человека (кстати, лицо очень редко и мало обрисовывается), а к небу, степи утром, на закате, ночью — словом, к космосу, устойчивому фону, на котором движутся формы людей и тел. И родись в кочевой Киргизии философ, он, очевидно, высказал бы представление о мире, родственное демокритовскому, установив в нем как равно бытийственные: атомы и пустоту. А различия в мире видел бы так же пластически — скульптурно. Так, по изложению Аристотеля в «Метафизике», «они (Левкипп и Демокрит.— Г.Г.) говорят, что бытие различается только «очертанием, 282
соприкасанием и поворотом». Из них очертание есть форма, соприкасание — порядок и поворот — положение. На-пример* А отличается от N формою, AN от NA — порядком, N от Z— положением»1.
Но это одна грань в мировосприятии современного киргиза. Другая — железная дорога, город. Их соприкосновение, взаимодействие и высекает искры драм и сюжетов в повестях Чингиза Айтматова.
Вот киргиз приезжает на станцию. Джамиля, подросток и Данияр возят зерно. «Путь нам предстоял дальний: километров двадцать по степи, потом через ущелье, к станции». Едут полдня по степи и ущелью — киргизскому космосу. Пространство и вечность. А там — теснота и спешка: «Солнце немилосердно палило (сперто вокруг: нет ветра, чтобы донес воздух в загон «Заготзерна»), а на станции толчея (вот первое, что бросается в глаза кочевнику, как архипротивоестественное: кругом простору сколько хочешь, а люди вдруг скопились в точку и толкутся. — Г.Г.), не пробьешься (теперь искусственные, самими людьми себе созданные препятствия преодолевать придется: сантиметры, черепашьим шагом, в очереди — а только что, за оградой, было: скачи, куда хочешь. — Г.Г.): брички, можары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и волы из дальних горных колхозов. (Ярмарка, Ноев ковчег, всякой твари по паре — и здесь, в этом зеркале, состав киргизского космоса отражен: горы представлены навьюченными ишаками, степи — бричками. — Г.Г.) Пригнали их мальчишки и солдаты, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами. На воротах «Заготзерна» (диковинное существо с «заморским» именем. — Г.Г.) висело полотнище: «Каждый колос хлеба— фронту!» Во дворе (двор — это пространство земледельца, замкнутое: самозаключение земли и себя.— Г.Г.) — сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом маневрирует паровоз, выбрасывая тугие клубы горячего пара, пышет угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли».
1 Материалисты Древней Греции. Собрание текстов. — М., 1955. — С. 55.
283
Паровоз и Верблюд — вот два космических тела, и Верблюд чует: смерть ему приходит — и, дух кочевья, всем нутром не приемлет и бунтует — итальянскую забастовку объявляет: не желает подниматься. Верблюд слюняв: «корабль пустыни», воду в себе носит — жизнь; Паровоз ог-нист, жжет воду («клубы горячего пара»). «На приемном пункте под железной накаленной крышей горы зерна. Мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль спирает дыхание».
Вот модель киргизского природного и исторического пространства, как оно обрисовано в начальных строках повести «Первый учитель».
«Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях, на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт, на запад, через равнину.
А над аилом на бугре стоят два больших тополя». (Последнее звучит уже завязкой — внесением нового, единичного, человечески общественного — в исходное состояние мира.)
Здесь террасами, сверху вниз, как климатические зоны на горе, расположились эпохи истории. Высоко в горах — самый стойкий, старинный родовой образ жизни, почти не доступный для влияний; ниже, на плато аила,— кочевники, что время от времени спускаются с гор в долины (подобно шумливым горным речкам, что набухают летом) и обрушиваются на мирное оседлое земледельческое население,— это уже третий исторический слой. И, наконец, железная дорога говорит об индустриальном обществе, горизонтах современной цивилизации.
Подвергнем, однако5 этот силуэт космоса более подробному анализу. Нас интересует приуроченность духовных, мировоззренческих моментов к пространственным.
Это — срединное царство: между небом и землей. Оно возвышено, приближено к небу, по сравнению с ширью (ширью, а не далью) долины, где царит горизонталь. Нет, здесь она непрерывно перегибается, заламывается в вертикали, отрогами и предгорьями протягивается и ведет душу к небу, пока не станет чистой вертикалью — двумя тополями. Но это уже — смерть. Недаром тополя стоят лишь как памятники бывшему, вверх-вниз ходившему, сталкивавшемуся, бурлившему — ну, как эти шумливые горные реч
284
ки, что стекаются на плато. Итак, схематически киргизский пространственный образ мира можно изобразить так:
Это — от-кос. Важна ориентированность с боков. Ясно отсюда, что и глаза должны быть раскосые — чтобы отвечали тяготениям пространства: в ширь в одну сторону и в верх в другую. Но и ширь не горизонтальна, а слегка вниз скошена, и верх не вертикален: взор ползет по склону.
И это очень важно, как входит в нас свет: кругом (равномерностью, уравновешенностью) или эллипсом. Г л а -з а круглы у жителей севера и южан. У северян — в глубь ушедшие, плоские, озёрные; у южан — выпуклые, выпученные, вздутые, как плод, словно притянутые солнцем. Те же, кто живут меж гор и равнины, должны и то и другое пространство учитывать. Потому их глаз не кругл, а эллипс: они раскосы, глаза же миндалевидны. И недаром северяне, когда попадают южнее — жмурятся, щурятся от многого и резкого для них света (т. е. делают глаза косыми), переходя от северного к южно-прямому взгляду на солнце.
С чем же ассоциируются в сознании киргиза горы и степи, верх и низ? Горы близки по образу к человеку: стоят вертикально; и как индивидуальности — и в массе хребта, снизу вверх шапками, плечом к плечу, как народ. Недаром в эпических песнях естественное для киргиза сравнение: батыра с горой, а членов его тела — с деталями горного пейзажа. Вот Манас: «Его нос подобен целому холму, а переносица — горному хребту», «огромен рот, подобны обрыву веки»; «как будто он сотворен из подпорки между небом и землей, как будто он сотворен из луны и солнца, земля выдерживает его мощь только благодаря своей тол
285
щине»1. Это для мореходных народов важно было, на чем держится земля,— ибо они видели ее края. А вот для кочевых, которые видят лишь края неба, а земля — незамечаемая, ибо неизменная, субстанция,— важно, на чем небо держится. И здесь человек-гора — естественный образ. Ибо и тот и другая — срединное вертикальное царство, посредник, «подпорка» между небом и землей, к обоим мирам причастные. (Правда, у греков есть Атлант, но грекам вообще был дарован наиболее расчлененный космос: они и горцы, и земледельцы, и горожане, и мореходы...) Однако гора — в отличие от дерева, которое тоже является аналогом человека у лесных народов,— вертикаль мертвая. Дерево растет. Гора — мера для человека практически неизменная: лишь слегка выветривается и разрушается.
Если земледельцы хоронят человека в землю, роют могилу, то у кочевых, «срединных» народов виды «погребения» разнообразны: неглубокое плоское захоронение (ибо почва тверда, отталкивает от себя); подвешивание гроба (так хоронили шаманов в Бурятии); наконец, и наиболее распространенное, сжигание — отослание в воздух, вверх. Если для земледельца ад находится под, внизу, и даже греки-полугоряне там помещали Аид, то здесь нечисть, черные силы живут в горах: там еще человек — полуживотное, дикарь (как для жителей равнины — леший или водяной).
Если Персефону уволакивали вниз, то девушку Алты-най в повести «Первый учитель» люди гор умыкают вверх; если Орфей за Эвридикой спускался вниз, то Дюйшен с милиционерами будет подниматься за Алтынай вверх. И Ал-тынай, попав в горы, казалось бы, ближе к небу и свету должна себя чувствовать,— однако ощущает себя в колодце и яме и слышит «сопение и беспробудный храп» — там вечный сон. И когда она хочет вырваться к жизни, символично, что она подрывает юрту, т. е. выход на свет земной —
1 Цит. по кн.: «Манас», с. 122.
Приводившееся выше описание коня Манаса Ак-Кула тоже представляло собой горный пейзаж: «Расстояние между его задними ногами подобно ущелью Чакал...», «бег подобен ветру горных перевалов» (с. 125). Вообще: гора, конь, человек сплетены в киргизском космосе в один узел, точнее — слиты в единое космическое существо: «Камнем, сорвавшимся с горы, На хребте своего Алтары Бросился Конурбай на врага». Человек = камень; и у коня, и у горы — хребет есть; так что человек на коне = камень на хребте.
286
вниз (тогда как царевич Гвидон вышиб дно — хоть «дно», но, очевидно, то, что наверху,— «и вышел вон»)1.
Однако верх не так-то прост — не сводим к горам (да и горы еще многое другое выражают). Например, для земледельца, жителя равнины, плодородие (жизнь) исходит снизу: из земли все вырастает и родники бьют. У срединных народов, хотя и родники тоже чтятся, но плодородие, жизнь стекают, наплывают сверху, талыми водами скатываются. (В России — стекается вода откуда-то из дали, из простора — кстати: «простор» понятие горизонтальное, плоскостное.) Из стихий космоса, как главный источник жизни, податель благ, наиболее чтится не огонь (как у северных, лесных и промышленно-городских народов), не земля — как у земледельческих народов, но — вода. Для жителей российской равнины «мать» это — «сыра земля», а вода — не замечается, из-за всегда ее наличности, данности. Переводы кочевников — от воды до воды.
Вода воспевается в народной и литературной поэзии наравне с конем (ср. Гимн воде акына Клыча). Вот почему столь противожизненным показался на дворе «Заготзерно» («Джамиля») именно л^ровоз — т.е. истребитель воды, тот, что превращает воду в воздух (пар) — то, что и без посторонней помощи делает здесь сам космос: жар и солнце. Здесь-то как раз обратное надо бы: жар и солнце ловить и из огня воду делать... Конечно, англичанам-островитянам можно было направлять свой ум на уменьшение воды и паровой двигатель изобретать, но, родись некогда изобретательско-техническая мысль здесь,— уж ни за что водяной, паровой, а уж солнечный или ветровой двигатель сообразила бы... И недаром на паровоз в ужасе взирает именно верблюд — тот, кто как раз гений экономии воды — семени жизни.
Какой же вид и образ имеет здесь вода? Это важно выяснить, ибо образ воды — это представление о жизни, а
1 В народных причитаниях у киргизов указываются три точки, куда может уходить умерший: «там» это и горы, и земля, и долина — в итоге опять рельеф склона, откоса: «Дорогой Арпа-Куль-Ойрон, Что ты сделал, мой муж, со мной? В тьму глухую, ночной порой Ушел, бросил детей с женой! ...Несчастна вдова, что живет, Когда взят любимый землей! Пешком она юность пройдет (вот образ несчастья для кочевника.— Г.Г.). Крутая гора, красный склон, Пускал с нее ястреба он. Улетел ли ястреб в Китай? Ушел за ним Куль-Ойрон? ...Быть может, ушел мой Арпа К любимой родне в Андижан? В золотой пшенице тропа — Не по ней ли ушел Арпа?» (Антология.., с. 112).
287
режим воды — это ритм жизни, ее длительность и прерывность — словом, ток времени. Здесь это — «шумливые горные речки», ливень (гроза) и родник. Все они играют в мире Чингиза Айтматова исключительно активную роль. В повести «Джамиля» страсть Данияра и Джамили выступает как заключительный акт притяжения космических сил, разверстых друг к другу,—' и их слияние в ливневом потоке. «Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нее Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек». О! — это очень многозначительное для ритма жизни явление. В России, например, разлив рек, половодье отделены от сенокоса: одно — весной, другое — летом. Значит, и жизнь души более плавно и равномерно протекает: весной на человека одно действует и высвобождает часть его энергии, летом — другое. Здесь же половодье чувств — то, что обычно проходит весной, — задержано до лета: пока стает с гор и дойдет до долины. А это значит, что к уже горячему зною лета добавляется весенний разлив. Отсюда — ошеломляющий наплыв. По Гиппократу, который распределял по сезонам полосы наиболее активной жизни жидкостей в человеке, в такой ситуации сливаются вместе кровь — сок весны, и желчь — сок лета1.
«С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки». И в человеке, строй которого — в резонансе с космосом, начинают так же прибывать и прокатываться космические волны. Особенно если он не в помещении, а в пространстве — как здесь: у самого «пекла» — у реки ночует.
«Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш (т. е. свод шалаша выводит прямо в небосвод — сняты
1 См.: Гиппократ. Избранные книги. — М., 1936. — С. 202.
Когда родился Манас: «В первый раз пососал он грудь — Молоко пошло из груди. И опять пососал он грудь — И вода пошла из груди. Третий раз пососал он грудь — Быстро хлынула кровь из груди» («Манас», М., ГИХЛ, 1960, с. 28).
Вот они превращения, наплывы, слияния космических жидкостей. И все они есть в женщине. Кочевой народ неизмеримо выше чтит женщину, чем оседлый. И узбеки, и киргизы приняли ислам. Однако чадра и паранджа не вошли у киргизов в широкое употребление, женщина осталась гораздо более активной и самостоятельной.
288
крыши и шапки — весь верх сразу падает в душу — и она беспрепятственно вверх поднимается.— Г.Г.), порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревущая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас».
Небо и земля здесь спят, спокойны — как полюса мира: они вызвали движение, но сами неподвижны. Движение возникает в срединном мире: ветер, вода, человек. Вообще срединное царство, «подлунный мир» роднее человеку, чем небо и земля. Точнее — мироздание, то, что есть «подпорка» между небом и землей, замкнутое (как и сам человек), а не бесконечное пространство и время. Здесь больше аналогии с людским зданием — творением: человечеством, производством, обществом. Греки под Космосом, очевидно, понимали именно организованное бытие, как мироздание (в отличие от Хаоса). Всё, что в «срединном царстве», — аналогично и созвучно человеку: и деревья, и облака, и птицы.
«Хотя мы находились не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно нападал страх: а вдруг снесет, вдруг смоет шалаш?» Вода накатывается как истечение семени мира, и гроза в момент любовного слияния Данияра и Джамили — не просто метафора страсти — это было бы отчужденным от космоса, «помещенским» толкованием со стороны непричастного — но их тождество. А эта вырывающаяся из теснины река Куркуреу — как животворящая сила, через свои теснины (в том числе и стесненную душу Данияра, которого что-то распирает) прорывающаяся.
В народной песне есть такой образ: «Быть бы светлой мне водой — И чтоб мучил тебя зной».
Любовь зарождается и совершается возле воды: озера, родника, на берегу, где утки, ива, камыши, стан-тростник, озеро — наша чаша: «Золотой стал пиалой Кызыл-Куль для нас с тобой».
Ср. также встречу юноши с девушкой возле родника и наречение его (= порождение его, ибо дать вещи имя, слово — равнозначно ее сотворению для людей, введению из небытия в круг жизни человечества1) Верблюжьим глазом — в одноименной повести Ч. Айтматова.
1 Возможно, и то Творение мира, о котором рассказано в книге Бытия, на самом деле было разданием имен, слов уже наличным небу, земле, свету, дню, воде, земле, суше, солнцу, звездам... человеку,— что воспринималось людьми как равносильное их сотворению, т. е. превращению из хаоса в члены космоса, мирового уклада.
10 Гачев Г.Д.
289
Итак, вода — не покойная гладь, но — наплыв, бурление, клокотание, кипение. Аналогичным образом струится и кровь по жилам человека в таком пространстве. Она то замирает, спирается (также и дыхание неровное в этом пространстве), долго задерживается, уж весна кругом, тепло — а кровь сперта: ведь не оттаяли еще высоко в горах ее источники, ледники небесные, а уж когда дойдут к лету — тогда ошеломление, и все страсти, решения, удары совершаются. И происходит это шумно («шумливые речки»), враз и на виду, как переполох — как беркут в национальной охоте «буркутчи» с неба на зверя сваливается. Проявления киргизского характера — броские, а не в невидной глубине происходящие, как у более северных народов, где дела, как правило, тихо и медленно совершаются.
В отношении к источникам и направлению воды, аил (расположенный на плато), как и в отношении всего пространства, есть и пуп (стан, средоточие) — и в то же время плацдарм для скачка: открыт, как в горы, так и в равнины. И когда нахлынет потоками сверхсила, она, расплескиваясь в человеке, в роде, бежит то вверх, в горы, откуда истекли реки (ведь именно туда, в горы, бежит обуянный невероятным счастьем и тревогой старый отец Манаса в момент, когда жена должна родить. Он, кочевник, не может вынести, оставаясь на месте: в него дикий зуд вселился, разметывающий его),-- то вниз, в долины, в набеги, в кочевье. Кочевники в народах — как семя, как мужское начало: при притоке силы рек они нахлынут, рассыплются по земледельческой степи, которая «раскинулась» — как женщина со своей «Желтой долиной». Зимуют кочевники в горах, спят себе в аилах (как в яичниках семя накапливают), а потом низвергаются в долину равнины неудержимыми потоками. Затем снова стягиваются к истокам, уходят в себя.
Таким образом, в отношении верха-низа действуют силовые линии скошенного, бокового движения: клубления, кипения,— подобные тем, что мы обнаружили и на плоскости (в анализе пейзажа — аналога песни Данияра, и в описании двора «Заготзерна»).
Теперь: «Желтая долина» и «Черные горы». Красок, цветов в киргизском мире мало: кочевник, как уже говорилось выше, лучше воспринимает пластику, объемы в мире, т. е. то, что охватывает движущийся глаз,— а не цвета, предстающие остановившемуся взору. Но недаром именно эти два цвета отмечает Чингиз Айтматов. Это — наиболее абст
290
рактные цвета, почти приближенные к понятиям: свет — тьма. «Желтый» в киргизском мире играет ту же роль, что севернее «белый», т. е. абстрактный образ света, здесь равного солнцу и огню. (На севере «свет — белый», недаром такое окаменевшее сочетание родилось, и с огнем его не сравнивают: огонь — не небесное, а адское детище — ср. «Нибелунги»). «Черный» же имеет вариантом— «синий», «голубой», т. е. Чингиз Айтматов называет те же цвета, что выше отмечались и в народной колыбельной песне: «голубой» и «золотой».
Пространственное распределение черного и желтого — тоже противоположно русскому, например, где черная — земля, а свет — с неба. Здесь же мир тьмы, ночи, черноты — горы (недаром, значит, мы там поместили ад), а свет — внизу: земля, уподобленная солнцу. Однако нельзя всё это «железно» локализовать: ведь силовые линии киргизского пространства — клубление, т. е. предметы вверх-вниз по эллипсу носятся и меняются местами. Солнце встает из-за гор = сваливается с неба, заходит же в степи = в даль уходит.
«Когда мы погрузили последнюю можару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт... Лицо ее (Джамили. — Г.Г.) светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы».
Отождествились три отверстия: дыра солнца в небе, губы человека и «тандыр — устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в котором пекут лепешки». Вот оно, клубление вещей в киргизском пространстве. Во-первых, космизм быта кочевника сказывается, где юрта — призрачное помещение, и печь — тандыр — не очаг в помещении, а прямо на земле возле дома. А теперь это отверстие, что внизу, видится на горизонте. Оси координат космоса все заходили ходуном в косовицу — пору страсти и смерти (косить = умерщвлять), вертикали поменялись с горизонталями местами (как посеченная трава или падающая и отдающаяся в любви женщина).
А вот это мироздание по-киргизски в своем становлении. В повести «Первый учитель» находим следующее описание весны: «Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие (рождается в мире цвет, а не тьма лишь и свет) табуны весна. (Русская весна гонит птиц — вспомним «Снегурочку». А Дед Мороз? — кстати, есть ли аналогичный образ у кочев
291
ю*
ников? — Г.Г.) С оттаявших набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха (= по откосу вверх. Небу— не-бово: дух, воздух. Земля испаряет, испускает дух и дарит небу. Но это земляной дух, влажный — пар\ как у огня горький, от «горения», дух — дым). Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. (Дух земли — колоритный, не чистый, а напоенный — это запах. «Святой дух» — чистый снег зимы — не пахнет.) Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах (белизна и снег, атрибуты неба, «божьи» создания,— вдруг обнаруживают свою земность: что и они подвластны тяжести — и удрученно оседают, склоняются), и тренькнули ручьи (= родился звук), а потом, схлестываясь в пути (киргизское клубление в пространстве и всеобщее мировое соитие в нем), они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги (вода в страсти и изобилии пашет землю — так творится рельеф, формы мироздания)... Земля, словно бы раскинув руки (как птица — человек), сбегала с гор (земля = кочевник) и неслась не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем (солнце внизу: распластано в степи — «Желтой долины») и легкой призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель (уже множественность миров открылась) голубели талые озерца (эта вода — уже круглая, как солнце, а не поток), где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака (как посланники всеобщей связи — и все ждет «своего другого»: озера, кони — может быть, тебя?). Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?» Киргиза зовет космос, но не вверх и не вдаль, а вниз-вдаль.
Все эти элементы киргизского космоса допускают взаимное передвижение в клублении. Но одна его грань остается недвижной и определенной — она очерчена «темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт, на запад, через равнину».
Во-первых, это дорога — т. е. русское начало однолинейно направленной дали. Во-вторых — железная.
Дорога! Кочевье не знает дорог, а знает пути — как стаи птиц из года в год пролетают одними и теми же маршрутами — без того, чтобы они были оформлены в линию1. Зна
1 Вспомним видение, что предстало юноше, когда он въехал в Анархай: пространство, полное памятью о прошедшей живой жизни, но ни-
292
чит — это внутренне чуемая нить пространства. И кочевник обладает этим внутренним компасом пространства, которого оседлый житель равнины не имеет: ему для ориентировки нужны внешние пределы, очерченность направления1 — до-ро-га — и обязательно должны быть стороны (чтоб хотя бы глазеть по сторонам и чтобы, «косясь постпораннвалисъ другие народы и государства»). Кочевником же ощущается не сторона, а бок — то, что видят раскосые глаза.
Железная дорога теперь перенимает на себя и организует один край киргизского космоса: бесконечность как просто гладь — превращая ее в даль (тогда как киргиз скорее ощущал «гладь» как ширь: везде у Айтматова «широкая степь»2 — ср. «дальняя дорога» — основной образ России). И сразу стала путем в иной мир: туда уходят и обычно не возвращаются.
Но, с другой стороны, даль — это естественный выход для тяги души к бесконечности: туда можно за ее зовом последовать телом, тогда как по горам к небу — нельзя. И потому тянущиеся к идеалу — идут на железную дорогу, в иной, просторный мир. Так и в Киргизии появляется символический образ — дорога, путь к спасению души. Приглядимся, как все-таки выглядит этот путь к слиянию с бесконечностью мира. «Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и
каких материальных следов за собой не оставившей — даже древних путей, как рассеяли по всей Европе свои тяжелые каменные дороги древние римляне.
1 На живом ощущении «пустого» пространства основана национальная игра «Ак-чолмок» = белый челнок — «молодежная ночная игра, в которую, как правило, играют в лунные ночи. Игра является командной... Водящий, или капитан, одной из команд из кона бросает челнок, за овладением которым устремляются все игроки обеих команд. Направление полета брошенного челнока и ориентировочное место его падения чаще определяются слухом, чем зрением в темноте. Поэтому в момент броска стоит мертвая тишина, которая моментально сменяется стремительным и шумным бегом играющих к цели» (Омурзаков Д. Киргизские национальные виды спорта и народные игры. — Фрунзе, 1958. — С. 7).
2 Можно вспомнить и русское! «Уж ты степь моя, степь широкая...» — Прим. ред.
293
свету... (Удивительно! свет ведь вверху — а здесь будто низ, равнина излучает свет. И верно: горы, хоть они внешне и выше, но в них — среди стен, закрывающих полнеба и полсвета,— человек ощущает себя опущенным в глуби земли — в ее ущелья, бездны, пропасти — в дыры, откуда ад выходит наружу. — Г.Г.)
Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...
А через два дня Дюйшен повез меня на станцию».
Как видим, это не просто спуск с гор вниз в равнину — это символический путь обновления, очищения души.
Как его представляют себе европейцы? А как раз обратно: как трудное восхождение на гору, т. е. тоже для себя диковинным, «заморским» образом. Даже наш Державин оживляет этот международный условный образ, обращаясь к Фелице (кстати, царевне «киргиз-кайсацкия орды»), «...Которой мудрость несравненна Открыла верные следы Царевичу младому Хлору Взойти на ту высоку гору, Где роза без шипов растет, Где добродетель обитает...».
То же самое для Лермонтова и Пушкина горы Кавказа — это как раз те линии, те параболы, которые вздымают дух ввысь — к бесконечности света и мира.
Здесь же, для киргиза, таковым маршрутом выступает русская «даль», «дорога».
Так в этих сотах, порах мировоззрения: в представлении о пространственной структуре мироздания — происходит скрещивание национальных образов мира народов.
ПАНОРАМА ЕВРАЗИИ
Общее для Европы представление об Индии— «страна чудес». Чудо — то, что сверх меры и рассудка, способности судить своим людским умом. Следовательно, там — сверхчеловеческий ум, зона божеств (все религии — с Востока недаром). Ну да: Восток ведь — это восход солнца, зона первопричин. Оттуда — начала народов: индоарийцев, гуннов, болгар, татаро-монголов, тюрков — сгущается там бытие, оседает массами атомов и пускает их катиться против часовой стрелки (= против ритма Времени) — вращения Земли с запада на восток.
Все переселения народов и направление кочевий — оттуда, против Времени, и их призвание — оборачивать историю вспять (что и делали переселенцы: варвары-готы — с античным миром, половцы-печенеги — с Русью, с ней
294
же — татаро-монголы, арабы — с Египтом, Палестиной и Испанией, тюрки — с Византией...).
История — колесо; ее необратимость — в pendant1 тому, как на одно направление заведена, запущена вращаться планета Земля, если только цивилизация не произведет такой взрыв, в результате отдачи которого Земля обратит вращение свое (иль провиснет без вращения в пространстве, нейтрализуется), а история — течение свое. Во всяком случае, первый признак Востока в глазах Запада, Европы — большая причастность к свету, солнцу, огню-теплу, большая отсюда исконная посвященность в причины и тайны всего сущего, одаренность этим знанием, тогда как человеку Запада этого приходится добиваться усилием, напряжением, трудом — тянуться кверху, противоборствуя более сильной здесь тяге земной. Ну да: житель Востока более причастен к выси мира (Восход), а Запада — к падению на Землю, к стихии земли, к низу мира; и все низости в истории — творятся с Запада, и оттуда распространялись приземляющие оковы повсюду (колонизация и империализм).
Отсюда следует ожидать, что из стихий надземных большую роль здесь играют: воздух, огонь, вода, тогда как на Западе земля — ось и середина, и столько же бытия видится под нею, сколь и над нею. Здесь — разработанные представления о хтонической сфере подземья: Аид, Персефо-на, Изида-Озирис; зерно — умирающий и воскресающий бог; у Платона в «Федоне» анатомировано нутро земли; вспомним также дифференцированные представления об аде в христианстве, о царстве тьмы и геенне огненной; а в германстве — культ глубины, Tiefe в душе и в мысли.
На Востоке же если и есть противостояние света и тьмы, то тьма не крепка, не есть земля и недро («твердый орешек»), но тоже полувоздушна (Ормузд и Ариман). И в индуизме подземье очень слабо намечено: трудно там локализовать в подземье и царство мертвых, и его бога Яму. И погребение-то — не в землю зарывание, но сжигание; иль труп — в воды Ганга; иль, как в Тибете, где земля камениста, — грифам, т.е. в воздух, в высь мира иль в бок (когда в воду); иль зверям = демонам, пожирающим трупы: ракшасам и якшам — опять в надземном уровне. В Индии — не внедряются в Землю, ее глубь не смотрят; и хоть есть там глины золотые и серебряные, но богатства свои
1 Соответствие (фр.).
295
предпочитают брать из воды (искатели жемчуга в волнах моря, в раковинах), а не в разработке недр, куда, напротив, направлено воззрение горняка-германца1. И то еще верно, что стихия земли в Индии не маняща в недра свои, но отталкивающа: каменисты горы — Тибет, Гималаи, Декан. А если почва там плодородная, то ведь не земле она этим обязана, но воде: наносы ила поверх земли могучими реками произведены, а берег накатан прибоем моря.
Итак, земля там непривлекательна (нет и войн за захват земли, и противоречий вгрызающейся в низ собственности на землю); не самость она, но от себя самоотрицатель-на: ввысь взор обращает по линиям гор — хребтов их и рамен. Там ведь высочайшие горы мира, и наиболее земля ввысь устремлена, грудью выпячена, а не вогнута, засасы-вающа себя любить, как в равнинах Европы, а тем более — в низинах, у моря отвоеванных, Фландрии и Нидерландов. Оттого на Западе — частная собственность на землю (атомы-тела людей более плотные, плотнее здесь воплощение рассеянного бытия в точки-индивидуумы — «неделимые»; на Западе, где свило бытие крылья, где пало оно и где основной организующий миф — о грехопадении человека — мифа этого ведь нет в Индии, — атому-телу требуется при падении место под солнцем, в пространстве, жизненное); а на Востоке, где воплощение рассеянного бытия более кипуче и кишаще и где массовидны скопища атомов и не/ пустот меж одним телом и другим, — там не разглядеть под кишением живых существ и растений земли и невозможна индивидуальная, но лишь общинная собственность на землю (ср. Маркс о восточноазиатской общине). В России — «мир». Правда, здесь просторы, и народу мало, но, хоть и полно места на земле каждому, община тоже складывается — по слабости в России вертикальных тяготений и по силе оттягивающих — горизонтальных: в сторону, в «родимую сторонку».
В Индии конфликты меж людей не из-за того, что один взял у другого землю, но из оскорбления наземного — например, коров священных и т.д.
Наука геология сообщает нам, что Мировой океан — воды — первоначально покрывал землю. А может, вообще
1 И в медицине сопоставим: запрет на анатомирование трупа в Индии, развитие терапии травяной с внешним укалыванием на Востоке, т.е. не вскрывая нутра тела, — и развитие анатомии и хирургии на Западе.
296
земля была каплей расплавленной жидкости (как мы себе представляем солнце — шар раскаленных паров), в которой по мере остывания поляризовались земля и воздух (атмосфера), а связным меж тремя стихиями был огонь («Джата-ведас» = «знающий существа» — эпитет Агни в Ригведе). То же сообщает Книга Бытия: что «Божий дух носился над водами»; и по Тютчеву, в Последнем катаклизме:
...покроют воды, И Божий лик изобразится в них.
Итак, земля выступает из вод Мирового океана — проявляется во времени (как в фотографии в ходе «выдержки» — времени — проступают очертания) рельефами своими. И по мере превращения капель1, с одной стороны, в атомы, частицы-песчинки — и в пузыри воздуха — с другой, на землю оседали, высаживались из просторов рассеянного бытия (= иль на земле в этих особых условиях возникали, что одно и то же, ибо эти «особенные условия» устроило само бытие в ходе своего раскола) истины-сути-существа-идеи-эйдосы-виды-семена-искры жизни, огни — словом, живые существа всех родов и видов, как залоги всеединства расколотого бытия и имеющего быть воссоединения всего и возврата воплощения в рассеянное бытие. Это огни, и люди-огни по преимуществу (недаром они начинаются с откраденного Прометеем огня). Их суть — вгрызаться в землю (= труд, цивилизация) и стремиться ввысь — к идеалу, к духу, к свету, что есть возврат в рассеянное бытие, но уже зачерпнув из земли запрятавшееся туда «Черное солнце» (термин манихейства) = сопрелый во тьме и без воздуха, под коркой-тюрьмой, в плену земли, огонь: нефть, уголь, энергию атома. До людей то же дело делают растения (чья ткань набухает от света, воздуха и воды и которые суть труба между надземьем и недром-ядром Земли) и животные — разносчики живота — жизни, уплотнители земли удобрением.
Так что и древние предания: что духи-ангелы, грехо-пав, отяжелев, отвердев, породили людей (что душа посылается на воплощение в тело); и нынешние мифы: что некогда на Землю высадились разумные существа с других планет, прилетев на кораблях-эйдосах-архетипах всякого
1 Ниже предлагается некая поэтическая космогония.
297
умения, знания и существования, — варианты одного подсказа бытия.
Этот подсказ дан и нам в карте земного шара. Две трети поверхности — океан. Потом Запад — землян, Восток — водян: там Великий или Тихий океан, и солнце, по идее, встает не из земли, а из воды. Земля ж расширяется и проступает к Западу: на Востоке узкий мыс Японии; потом разрозненные острова и мысы: Чукотка, Камчатка, Курилы, тысячи островов Индонезии, Австралия. Потом собирается в протяжение континента (Китай, Русь, Индия), кулак и узел гор. И далее распускается в ширь и ровнь: Европа — Африка, а меж ними лишь рудимент океана — щель Средиземного моря, т.е. вода среди земель уже пленена, а не как было на Востоке: земли среди вездесущей воды. И моря здесь недаром так земельно-каменно называются: Черное море (от тьмы, а не свето-воздуха), Мраморное, Мертвое, Красное (кроваво-ржавое, ибо кровь = огне-вода, как и окисление = сгорание металла), тогда как на Востоке воды — Желтое море, Тихий (самодостаточный, благой, ибо Великий, уверенный в себе) океан.
Однако признаюсь, что во всем этом рассуждении я вчувствовался и проникся эллинским воззрением, по которому в начале — вода (Фалес). И Платон многократно исходит из древних мифов о потопах1, о гибелях и циклах цивилизации: о затонувшем материке Атлантиде (в «Тимее»), о началах обществ на вершинах гор (в «Законах»). «Избежавшими тогда гибели оказались чуть ли не исключительно горные пастухи — слабые искры (люди = огни. — Г.Г.) человеческого рода, спасшиеся на вершинах» (Законы, 677 В). И Страбон развивает это эллинское толкование происхождения народов, стран и государств: «По предположению Платона после потопов возникли три формы цивилизованной жизни: первая — на вершинах гор, примитивная и дикая, так как люди испытывали страх перед водами, которые еще держались как раз на поверхности равнин; вторая развилась по склонам гор, так как люди уже постепенно стали набираться храбрости, потому что
1 Циклы цивилизации, отсчитываемые по воде, потопам, — мировоззрение средиземноморских народов: эллины, иудеи... Германцы же рассуждают по огню — видят циклы мировых пожаров: гибель богов в «Эдде» — пожар Валгаллы; закат Европы Шпенглера — тоже сгорание огня-света.
298
равнины начали высыхать (таким образом, храбрость — от большей сухости человека, который более воспламенен, тогда как страх = сырость, большая причастность воде: плач, слезы от страха, — нежели огню; страх гнетет, и душа по артериям, как капля, загоняется в пятки, туда стесняется. — Г.Г.)-, третья образовалась на равнинах. Можно, пожалуй, говорить равным образом и о четвертой, пятой формах и даже больше; последняя же форма цивилизации возникла на морском побережье и на островах, после того как люди совершенно избавились от подобного рода страха. (Ну здесь Страбон явно как высший образ человеческого бытия трактует свой родной эллинский Космос, который есть острова средь моря: самостоятельные крепкие атомы-индивиды — в пустотах бытия. — Г.Г.) Действительно, большая или меньшая решимость приблизиться к морю заставляет, по-видимому, предполагать также некоторые различия ступеней цивилизации и нравов, так же как и доблести и дикости, которые до некоторой степени составляют уже переход к культурной жизни на второй ступени» (Страбон, География, кн. XIII, 1, 25).
Историк склонен эти отличия расположить по времени и назвать словами: «лучше» — «хуже», «культура» — «варварство», помещая добро в прогресс, а зло — назад. Однако с точки зрения бытия и его измерений (истина, святость, чернота-грех, совесть) в отличие от уровня жизни и человечества (правда, добро-зло, стыд) ни один Космо-Логос не оставлен бытием, и «ниже» здесь (по склону горы) не значит «хуже», а так данному народу заповедано: здесь стоять! сей именно необходимый бытию форпост удерживать и стадию воплощения рассеянного бытия (иль уже рассеяния воплощенного) собой осуществлять. С этой поправкой на оценку — т.е. на бесценность — можно и принять вывод Страбона, по которому цивилизация распространяется сверху вниз: «Совершавшиеся тогда такие переселения в нижележащие местности, по моему мнению, указывают также на различные ступени образа жизни и цивилизации» (География, кн. XIII, 1, 25).
Осаждение народов на землю (ибо как вода, оседая, наносит ил, частицы песка, так и твари оседают на земле из рассеянного бытия в ходе его воплощения: народы = наносы, пласты, слои) идет слоями сверху вниз — с Востока на Запад. Это сохранено нам в преданиях о смене веков и поколений людей (см., в частности: Гесиод, Работы и дни). Первыми осели самые вышние, горние народы, прибли
299
женные к солнцу-золоту1: золотой век и поколение людей. Соответствует ли этому периоду осадок нынешней желтой расы иль она вторична, судить не берусь, однако священность желтого цвета (= цвета золота) в Китае и Агни-огня в Индии на связь с этим слоем указывает. Местонахождение золота (= представителя солнца из металлов, в зоне недр — черного солнца) — тоже преимущественно Восток: Колыма, Аляска, Лена, а также средняя, зенитная полоса, приближенная к солнцу: экватор и тропики (Атласские горы иль ЮАР); цветные металлы — в полосе средиземноморской и Средней Азии: медь — Балхаш и т.д.
Следующий век и поколение и слой — серебряный: бледнолицые, цвет Луны и Ночи: цвет света, воздуха и снега — истины — белизны. Таковы индоарийцы, расы Европы и России. *
Переходные — бронзовый и медный век: инки, майя, семиты (творцы архекультур), эллины-римляне, отчасти романские народы — смуглолицые.
Белые же — выцветшие: свет их — от тьмы и ночи кругом: бледность. И их упование — низ мира (и тепло им оттуда — огонь черного солнца, добываемый огнивом: трение железа о камень — искра!) и что там — железо. Недаром страны Запада славны железом (и углем): Рур-Эльзас, Англия — им оно больше всего нужно. Золотым же народам (в частности, Индии) не нужно железа, и нет там его залежей. По Платону, у первых народов, осевших после потопа на вершинах, не было надобности в железе: «Железо, медь и все руды слились вместе и стали скрытыми, так что было очень затруднительно их извлекать. Поэтому редко удавалось тогдашним людям срубить дерево. ...Значит, столько же времени не существовали тогда или даже долее и те искусства, для которых нужно железо, медь и тому подобное. ...И вот, в те времена совершенно исчезли во многих местах междоусобия и войны. ...В изобилии имели они одежду, подстилку, жилища и утварь, как огнеупорную, так и простую. Ибо ни одно из искусств, касающихся лепки и плетения, не нуждается в железе» (Законы, 678Д — 679А). -----
Однако Платон объясняет миролюбие послепотопных людей также их малочисленностью и изолированностью:
1 Недаром и географам бытийственная интуиция подсказала обозначать горы золотым — желто-коричневым — цветом.
300
«Ввиду своей малочисленности люди с удовольствием взирали друг на друга в те времена» (679С), — что есть типично эллинский взгляд, видящий в мире атомы (и социальные) и пустоту. В Индии ж миролюбие — и при кишмя кишении людском.
И то еще характерно, что для Индии тепло — с верха мира, от солнца падает лучом, а для германцев тепло и жизнь — из низа мира: вздымается огнем, пламенем очага, который питают уголь (недро, глубина, черное солнце) и дерево = застывший язык пламени снизу вверх. Так что северные народы, когда им жарко, как бы на сковородке поджариваются, в «геенне огненной» снизу кипят, — а южные народы (иудеи, арабы) испепеляются гневом Божиим сверху. Огонь на Севере передоверен Богом черту.
Свет и тепло сверху из просторов даны — в Индии; в Германии ж — снизу и из точки: из искры-свечи — в ширь и стороны, от «я» вовне, из Innere: и свет от «Я» сознания возжигает мир, субъект полагает объект (априоризм, трансцендентальное Канта, Идея Гегеля, Труд, производящий все, — Маркса). Свет в Индии обволакивает человека из пространств; в Германии ж от человека, его очага, Haus’a и Burg’a — «жизненного пространства» — распространяется в якобы (ими предполагаемое) «мертвое» пространство Востока; и Drang nach Osten предпринимается — чтобы во-живить его будто и упорядочить.
Вообще если движение с Востока на Запад — оседание слоев и переселение народов, кочевье, то движение с Запада на Восток — поход (Александра Македонского, Крестовые, Ермака в Сибирь, тевтонов в Литву). Поход — сбитый клин, «свинья»-рыло, римская «фаланга», французский строй и маневр. Все это — способ с малым занять великое, распространиться (= возжжение искры). Переселение ж народов — это как стекают ручьи в узкую линию реки и оседают: из бассейна мировых пространств — на место, на ту или иную землю стекаются и густеют там.
(О черной расе не берусь высказываться — неясно в этой схеме.)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Семинарий: Анализ национальной образности
НАЦИОНАЛЬНЫЕ УМОЗРЕНИЯ
В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ
1
В науке одна из основных руководящих идей — Канто-Лапласова гипотеза о происхождении и структуре Вселенной. Плодотворно поэтому проследить ход мысли обоих мыслителей, те целостные умозрения, которые стояли перед их внутренним взором, и частные образы, которыми они пользовались в развертывании мысли.
Кант создает в 1755 г. сочинение «Всеобщая естественная история и теория неба» («Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels»). Лаплас называет свое сочинение 1796 г. «Изложение системы мира» («Esposition du systeme du Monde»).
Кант—философ при энциклопедических интересах в естествознании. Лаплас—математик, астроном и физик. Оба встречаются на едином ристалище, равно отдаленном несколько от основного занятия: философ Кант создает частную естественнонаучную теорию; профессиональный ученый астроном и математик Лаплас создает глобальную концепцию Вселенной, претендующую не только на научное, но и на общемировоззренческое значение.
Конечно, и особенности профессиональные сказались в ходе мысли, но мы попробуем от них отвлечься. Нас интересуют национальные наклонения в ходе мысли, ее склад, что можно надеяться прощупать здесь не изолированно, конечно, но памятуя аналогичные явления у других мыс-- лителей данного народа.
Сначала попробуем изложить сжато ход мысли Канта и Лапласа.
Кант начинает с того, что устанавливает противоречие в наличных воззрениях на устройство Вселенной. В Солнеч
302
ной системе — стройность и порядок, а остальное небо, так называвшиеся тогда «неподвижные звезды», которые (как уже предполагалось) тоже суть Солнца с системами, остаются во власти хаоса: нет у нас никакой организующей для них идеи. Это нелепо и нетерпимо.
«Та стройность (здесь и далее курсив мой. — Г.Г), которая наблюдается в связи, существующей между планетами и их солнцами, оставалась незаметною в массе неподвижных звезд, и выходило так, как будто закономерность, наблюдаемая для каждой отдельной системы, исчезает, как только речь идет обо всех членах Вселенной. Неподвижные звезды остались без всякого закона, который бы определял их взаимные друг по отношению к другу положения, и существовало воззрение, будто они наполняют все небесное пространство без всякого порядка и без всякой цели» [1, с. 126].
Итак, внутри дома, где мы живем, в нашей Солнечной системе царят образцовый порядок и целесообразность: все балки нашего мироздания взаимно пригнаны, а в том пространстве (Raum), которое за стенами нашего Haus’a,— хаос. Такое сочетание разнопринципного бытия невозможно, антиномия невыносима: откуда бы взялась вдруг ни с того ни с сего стройность в нашем Haus’e при дезорганизации Вселенной? Но раз мы убеждены, что внутри нашего дома, на Шипке, все спокойно и в порядке (не усомняется германец, что порядок Haus’a может быть призрачным, как усомняются в России, например), то это не может быть случайно и не может не иметь себе соответствия в Raum’e (в пространстве).
Итак, Haus — априорная модель, которая должна расшириться в синтетическое суждение a priori уже о более широком бытии—Вселенной. Это не индукция—от частного к общему, но именно выведение из монады—бытия (а не из части—целого, ибо монада—не часть, а все в бесконечно малом, центр Единого).
Но для того чтобы такой империализм мысли, завоевание ею иных горизонтов и пространств, опираясь на убежденность в своей до сих пор правоте (правильности), порядке и целесообразности, стал возможен, нужно усмотреть разведкой из окон Haus’a какое-то избирательное сродство вне его, в открытом пространстве, — чтобы, зацепившись, начать распространяться и воздвигать на весь Raum грандиозный единый Haus. В эту сторону и устремляется хоботок кантовой мысли, ощупывая Вселенную.
303
«Каждый наблюдатель, созерцающий в ясную звездную ночь небо, может заметить светлую полосу, которая образуется массою скученных звезд, собранных здесь в большем количестве, чем где-либо в другой части неба (как скученное население средней Европы, например, на земном шаре. — Г.Г.), эта полоса светит однородным светом и называется Млечным Путем. ...не трудно заметить, что этот пояс занимает положение большого круга неба и притом тянется без всякого перерыва...» [1, с. 126—127].
Итак, дв£ пункта найдены: полоса-пояс и ее непрерывность. Есть, значит, основная балка перекрытия (или арка свода), а во-вторых, есть гарантия ее сплошности, всеохватное™, чтобы ничто за пределами этого принципа не оставалось.
(Зияния, перерывы, пунктиры на Руси, во всех ее линиях и поселениях среди ее пространств, предрасполагают русских мыслителей строить «заключения» скорее о незавершенности бытия, его открытости (будущем), о радостной неясности его возможностей,—нежели возлюбить определенность, завершенность умственного построения и бытия, исходя из непрерывности, как это свойственно германскому уму.)
И вот начинается грандиозная постройка. Для этого сперва обтесываются кривые линии и объемы небосвода до линий прямых и до плоскостных граней (эту тенденцию германского ума превращать «для удобства» шар в куб, прямоугольник, дугу— в прямую горизонта отмечаем и у нидерландца Стэвина в его гидростатике в отличие от эллина Архимеда, который работает с шаром):
«Если теперь мы представим себе площадь, проведенную через звездное небо и продолженную до бесконечности (как германец Меркатор переводил в XVI в. шарообразную поверхность Земли на плоскостную прямоугольную карту, которою мы ныне и пользуемся1. — Г.Г.), и допус
1 Круг — враг и для Ницше, у которого Заратустра следующим образом издевается над идеей Бога: «Бог есть представление, которое все прямое делает кривым и все неподвижное вращающимся. Как? Не стало бы времени, и все преходящее стало бы ложью? Мыслить подобное—это вихрь и кружение для костей человеческих и тошнота для желудка: поистине болезнью кружения (курсив мой. — Г. Г.) называю я подобные предположения» (см. [2, с. 109]). Германский космос чтит прямое, угловатое, и мужчина, по проповеди Заратустры, должен быть угловат и прям.
304
тим, что все неподвижные звезды и звездные системы так расположены относительно нее, что находятся к ней ближе, чем ко всякой другой площади, то глаз, находящийся вблизи этой плоскости, рассматривая эту область звезд, увидит по куполообразной поверхности неба наиболее густо расположенные звезды по направлению проведенной плоскости в виде освещенного пояса. Этот светящийся пояс будет расположен по направлению большого круга, если наблюдатель будет находиться в самой плоскости» [1, с. 127].
Трудно было представить этот рисунок, пока я не понял, что просто сквозь дугу Млечного Пути проводится плоскость, аналогичная плоскости соборных эклиптик планет в Солнечной системе, на которые мы смотрим, находясь на самой плоскости, ибо плоскость орбиты Земли, ее эклиптика, под тем же углом наклонена к Солнцу, что и эклиптики других планет, так что все они как бы в одной плоскости вокруг Солнца вращаются. И подобно тому как для наблюдателя из плоскости Солнечной системы обращающиеся планеты образуют пояс, узкую полосу, эту плоскость окаймляющую, сгущены к ней, а не разрозненны, подобно этому и Млечный Путь оттого видится нам поясом, что мы смотрим на него, находясь в его плоскости.
«В этом поясе будут кишеть звезды, которые благодаря кажущейся малости своей величины и видимой густоте своего расположения будут представляться ему в виде однородного беловатого сияния, словом, в виде Млечного Пути... Отсюда, наконец, следует, что наша Солнечная система, из которой система неподвижных звезд видна в направлении наибольшего круга, должна сама находиться в этой же проведенной нами плоскости и образовать с остальными неподвижными звездами одну систему» [1, с. 127].
Итак, Кант как бы поворачивает плоскость нашей Солнечной системы до совмещения с плоскостью, проведенной через дугу Млечного Пути, исходя из предпосылки подобия этих фигур: Haus’a нашей Солнечной системы и Raum’a Млечного Пути.
Теперь, в свою очередь, Млечный Путь может быть рассмотрен как маленький Haus в Raum’e бесконечного мирового пространства, как плацдарм для его мысленного завоевания, представления.
И теперь ищется возможная плоскость, которую бы провести ко всей системе неподвижных звезд:
«Если система неподвижных звезд, по отношению к которым может быть проведена общая плоскость, как мы
305
это только что сделали относительно Млечного Пути, настолько удалена от нас, что мы теряем способность отличить отдельные звезды даже при помощи зрительной трубы — словом, если такой мир неподвижных звезд находится на неизмеримом расстоянии от глаза наблюдателя, помещенного вне этого мира, то, рассматриваемый под малым углом, он будет казаться маленьким, слабосветящимся пространством круглой формы, если глаз смотрит на него в направлении, перпендикулярном к его плоскости, и эллиптическим, если глаз смотрит на него сбоку» [1, с. 127].
А это уже — туманность. Ведь если и на наш Млечный Путь из бесконечного далека смотреть, он «будет казаться маленьким, слабосветящимся пространством круглой формы». Так добрались до основного понятия в этой концепции Канта.
Постройка ступенчата. Мы восходили по этажам: Солнечная система, Млечный Путь, туманность. Но вначале он дал нам твердо ощутить почву, горизонт под ногами— плоскость пола: эклиптику; затем — плоскость через дугу Млечного Пути; затем — плоскость через сферу неподвижных звезд; и все время мы чувствовали проходящий сквозь них, как отвес, ось дома,— перпендикуляр глаза-ватерпаса. Значит, если мы еще различаем отдельные звезды на небе, то они члены нашего общежития, нашей туманности, где и Млечный Путь, прилегают «к одной общей плоскости и создают одно упорядоченное целое (привел-таки к успокоительной для германского ума формуле. — Г.Г.), представляющее собою мир миров. В неизмеримых расстояниях имеется еще много подобных же звездных систем (туманные звезды, туманные пятна), и все творение во всем своем бесконечном объеме построено по одному общему плану, и его части находятся во взаимной связи» [1, с. 128], что и требовалось доказать, исходя из умозрения Вселенной как грандиозного Haus’a, мира — как здания.
Теперь, раз установлено взаимное подобие Солнечной системы, туманности Млечного Пути, Вселенной, можно уже успокоенно вновь вернуться в родной Haus и, раз добыто убеждение, что он — модель Вселенной, надо внимательнее вглядеться в этот микрокосм, это «Я», его устройство, ибо его план и план грандиозного «Я» совпадают.
Это типичные направления и ходы германской мысли, которые потом мощно прочерчиваются и у самого Канта, и у Фихте, и у Гегеля. В самом деле, каким ходом выводит 306
Кант чистые понятия рассудка, или категории? А вот каким: распространяя свойства логического суждения, т.е. нашего домашнего, узкопрофессионально-философского внутреннего занятия: категория «реальности» берется просто из утвердительного суждения, «причинности» — из условного, «существования» — из ассерторического и т.д.
Итак, вглядываясь во внутреннее устройство нашей Солнечной системы, обнаруживаем такие сходства движений, что наводят на мысль, что это, может быть, есть одно существо (как думали бы древние), или единое тело, система, механизм (как думают новые, обездушившие мир).
«Если принять во внимание, что (I)1 шесть планет со своими десятью спутниками2 вращаются вокруг Солнца, как вокруг своего центра; что (2) все они вращаются в одну сторону и притом именно в ту, в которую вращается само Солнце; если, кроме того, припомнить, что (3) все их орбиты не особенно уклоняются от одной и той же общей плоскости, именно продолженной плоскости солнечного экватора, то можно думать, что во всем пространстве этой системы действовала одна (курсив Канта. — Г.Г.) причина, все равно, какою бы мы ее ни считали; единство в направлении и положении планетных орбит должно быть следствием той материальной причины, которая привела все небесные тела в движение» [1, с. 128—129].
Второе звено рассуждения Канта опять начинается с фиксации противоречия, как и первое. Там: стройность Солнечной системы — и хаос неподвижных звезд. Здесь: напрашивается мысль о единой, и именно материальной, причине движений тел Солнечной системы — и отсутствие материи между планетами, пустое пространство, через которое как может быть передана общая сила?
«Если, с другой стороны, принять во внимание то пространство, в котором движутся планеты нашей системы, то приходится сказать, что оно совершенно пусто, лишено какой бы то ни было материи, которая могла бы обусловить однородные влияния на все небесные тела и вызвать единство в их движениях.
Ньютон, основываясь на этих соображениях, не мог указать на материальную причину, которая, действуя в
1 Цифры признакам я ставлю для удобства последующего сопоставления с Лапласом, который тоже перечисляет свойства Солнечной системы.
2 Числа планет и спутников, известные в кантово время.
307
пространстве всего планетного здания (NB! — Г.Г.), могла бы поддерживать общность его движения. Он утверждал, что десница Создателя устроила этот порядок без применения сил природы» [1, с. 129].
Англосакс Ньютон позволяет себе остаться при двух причинах, при не сведенных концах с концами, не страдая от этого. Оставляя этот вопрос о первопричине в стороне, английский ум предается любовному испытанию, множественности опытов: как действует нечто, отбрасывая вопрос «почему?» — недаром самый сильный скептицизм насчет причинности высказан английским умом: Юм, Беркли. Этот принцип английского исследования природы видим проходящим насквозь от Бэкона через Джильберта, который около 1600 г., исследуя природу магнита, не мудря излагает серию опытов, через великолепного практика-экспериментатора и изобретателя Фарадея... Изощрен английский ум на предположения: а что, если вещь повернуть так, а что, если наоборот? — опыт ставя так остроумно, как и в голову не придет неповоротливому танку немецкого умозрения, докапывающемуся до единства.
Недаром и в XX в. именно английская философия исповедует плюрализм бытия, и Бертран Рассел потешается над наивными претензиями на монизм у Спинозы (в своей «Истории философии»)...
Идея множественности бытия здесь отличается от русской мысли, что разрабатывает идею незавершенности бытия, его открытости (Толстой, Достоевский1...). Множественность тоже, как и монизм, может предполагать бытие завершенным, определенным. Идея же незавершенности бытия, допуская множественность исходов, поворотов, судеб, в то же время одушевляется сходным с германским монизмом. Замахом объять-таки необъятное — тем хотя бы, чтоб так самому распахнуться, что душа из тела вон...
Итак, если англосакс Ньютон мог остаться при несведенных концах — они даже не встают перед его умом как дуализм, параллелизм (операция, которую проводит французский ум /Декарт, «психофизический параллелизм»/ и требует привести их хотя бы к равновесию, в баланс), а просто рядом, обрывками пребывают, — и мог, как дитя, предаться божественной игре экспериментаторства: а вот еще как, а вот еще! — то германский ум не успокоится,
1 Об этом см. [3].
308
пока, во-первых, просто различное не приведет во связь взаимную (как и французский дуализм); а во-вторых, в такую именно связь, при которой не равновесие, а кричащее противоречие, антиномия, вопиющая о выходе, образуется. И наконец, в-третьих, не ринется на поиск, не докопается до более глубокого пласта, этажа бытия или сконструирует более универсальную идею, откуда антиномии выглядят ипостасями (таков путь строителей германской классической философии: Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля).
«При нынешнем устройстве пространства, в котором вращаются шары всего планетного мира, нет возможности указать на материальную причину, которая могла бы направлять их вращение. Пространство это совершенно или почти пусто; следовательно, необходимо допустить, что прежде оно было иначе устроено и наполнено материей, которая могла передавать движения всем находившимся среди нас небесным телам и сделать это движение соответственным своему движению и, стало быть, для всех тел одинаковым. Когда затем сила притяжения очистила названное пространство и соединила всю рассеянную материю в отдельные массы (индивиды, «я». — Г.Г.), то планеты должны были, конечно, в этом не представляющем никакого противодействия пространстве беспрепятственно и неизменно продолжать свои движения» [1, с. 129].
Итак, делается выброс проблемы в историю, в происхождение явления. То есть там, где то, что есть, необъяснимо, приводится на помощь то, что не есть, т.е. небытие — но особого, завораживающего нас рода: то, что было, значит, тоже средь «есть», но для другого момента, наблюдателя и т.д. Историзм есть апелляция к небытию за помощью там, где бытие не раскрывает себя, непонятно. На вопрос: что есть причина стройного движения Солнечной системы? — следует ответ: что «есть» — не знаю, а что было — могу сказать.
И вот характерный для немецкого сознания способ заполнения зияния между антиномиями: единство логического и исторического. Недаром и сочинение Канта названо: «Всеобщая естественная история и теория неба», т.е. история природы принимает на себя бремя быть искомой причиной и обоснованием теории неба. Там, где логика не находит выхода, она призывает на помощь историю и, гибко орудуя бытием и небытием, вроде добивается решения и сведения концов с концами.
309
Русскому уму, как можно проследить, свойственна апелляция не к прошлому, происхождению, причине, но к цели как призванию, предназначению, ожиданию (мессианизм Достоевского и т.д.). И это понятно при предпосылке незавершенного, расширяющегося бытия: то, что было, — мало в ответе: ведь от него к чему-то идет, и это последнее лишь за все в ответе. Германский же ум призывает к ответу мастера, что делал: предполагается, что он добротным все предусмотреть должен. В отличие от эллинов, которые, тоже ссылаясь часто на прошлое и предание, происхождение толковали как порождение (Эросом), германский ум толкует происхождение трудово, деятельно: как изготовление, или, если модель естественной, а не искусственно-человеческой деятельности хотят привлечь, то модель здесь растение, древо, Stammbaum (ср. триада Гегеля: зерно—стебель—зерно).
Итак, вместо истины правдоподобие, но принимаемое не условно, а в полный серьез. На счет небытия (историзм) списывается то, что кричит и вопрошает проблемой в бытии! И вместо нравственно обязывающего к решению и поступку «есть» («да»)—«нет», подставляется теоретическое, вязкое «было— есть—будет». А откуда ты знаешь?
Но зато в этом-то и величие, смелость и дерзание германской мысли, что она таким образом подцепляет в обиход мышления не что иное, как это самое неуловимое «небытие», «ничто», о котором даже философски мудрые эллины не могли сказать ничего более внятного, как что «из ничего ничто не возникает» и что «небытия вовсе нету» (Парменид), а остальные народы Запада вообще примиряются с ничто, пустотой, небытием — как не нашего ума делом1.
И сам Кант прекрасно отдает себе отчет в том, что он этим ходом мысли—оборотном к истории—фактически «небытия», «ничто» касается: «Таким образом, я принимаю, что вся та материя, из которой состоят планеты и кометы, была в своем наиэлементарнейшем состоянии рассеяна по всему пространству мироздания, в котором теперь вращаются образовавшиеся из нее мировые тела. Такое состояние природы, если его рассматривать само по себе, без всякого отношения к какой-либо системе, представляется наипростейшим из состояний, могущим следовать за тем, что называется «ничто»» [1, с. 129].
1 Не то в мысли стран Востока, где в «дао» Лао-цзы и в «шуньяте» буддизма творческое Ничто глубочайше продумано.
31U
Итак, по Канту, и в состоянии материи — ступенчатость, этажность: ничто — рассеянность материи —• туманность —- вихрь—тело.
Вселенная как гигантская кузня, где выковываются твердые тела и задаются‘им формы, расстояния друг от друга и движения. «Природа в том виде, как она была непосредственно создана, была так груба и не организована, как только возможно себе представить» [1, с. 129]. И вот, словно невидимые карлы-гномы нибелунги, возникают среди рассеянного вещества и образуют силе тяготения — Эросу, стремящему частицы материи друг к другу,— противосилу отталкивания.
Всеобщий покой — один из мировоззренческих постулатов деятельного немецкого духа, который проецирует в бытие такие же энергично формирующие действующие силы, как он сам. Однако, зная за собой грех неустанного стремления и действия, питает и фаустианскую мечту: остановить мгновение—как высший и достижимый ли для себя момент?.. Здесь он обозначен как где-то в начале молнией явившийся (именно, ибо покоящийся миг можно созерцать лишь в мгновенном движении—со скоростью света. — Г.Г.) — и действительно, какой же это «всеобщий покой», если он преходящ? Тогда он не всеобщий и не покой, раз не безмятежен, а подвластен перемене времени...
«Элементы обладают запасом сил, необходимым для приведения друг друга в состояние движения, и служат сами для себя источниками жизни» [1, с. 130].
Значит, движение как бы запрограммировано рассеянным частицам вещества, ибо силы (т. е. неравновесия: от расколотости целого на полы—сексы-половинки) там заложены: в совершенном нет сил, усилий — нет в них нужды, все само собой держится и пребывает. Если же силы есть, значит, несовершенство налицо. Однако силы могут создать некий эрзац совершенства и покоя — порядок, организацию: «В материи является немедленное стремление организоваться» [1, с. 130].
Организм — не целое, оттого он живет, тогда как целое и совершенное пребывает. Силы поэтому и названы источниками жизни (и смерти), ибо для составления расколотого бытия («для приведения друг друга в состояние движения» с целью «организоваться») предназначены.
«Рассеянные элементы более плотного сложения (откуда взялись? — Г.Г.) собирают из окружающей их среды,
311
благодаря силе притяжения, более редкую материю. Сами же они вместе с той материей, которую они к себе присоединили, собираются, в свою очередь, в тех точках, где имеются частицы еще более плотные, — эти опять собираются к еще более плотным частям и т. д.» [1, с. 130].
Значит, начало всему — образование плотной частицы. В другом месте Кант это так представляет:
«Если представить себе точку, помещенную в весьма обширном пространстве (точка — это уже не частица, а место ее образования. — Г.Г), где притяжение элементов действует сильнее, нежели во всех прочих местах (значит, «поле тяготения» здесь сильнее, расколотость бытия, а значит, и силы Эроса, тяги к воссоединению, острее. — Г.Г.), то рассеянное вокруг этой точки основное вещество элементарных частичек станет падать на нее» [1, с. 130].
Значит, в какое-то пустое место, которое тем лишь отлично, что в нем силы притяжения «сильнее», падают частицы плоти — как в засасывающую пустоту и воронку (декартовы—кантовы «вихри», о которых позднее). Именно женское начало есть вакуум, как раз то, где ничего (материального) нет — ведь там не более тяжелое вещество, но как раз воплощенный недостаток и зияние (в отличие от мужского начала, которое есть воплощенный избыток, сгущение бытия, как раз та более плотная частица, о которой у Канта), зато туда влечет как магнитом плотные частицы (т. е. «мужское», плоть) — как трутней на алчную пустоту и ненасытную утробу самки пчелиной.
«Первым действием этого общего падения (как грехопадение бытия. — Г.Г.) будет образование в этом центре притяжения некоторого тела, которое, начавшись, так сказать, с бесконечно малого зародыша (вот! даже крайне целомудренный Кант не может подобрать более точного представления, как из сферы Эроса — «зародыш»! Значит, наши предыдущие приведения кантовой пустой точки, особой силы притяжения и плотной частицы, в связь с женским началом, с Эросом и началом мужским оправданны. — Г.Г.), первоначально будет расти медленно (при содействии химического притяжения), а затем уже довольно быстро (действием ньютонова притяжения)...» [1,с. 130].
Но само по себе притяжение, тяготение, воссоединение расколотого бытия, т.е. Эрос, для немецкого воззрения на мир — недостаточное объяснение и причина, ибо здесь еще нет формы.
312
И в этом смысле даже под влиянием силы притяжения лучшее, что может образоваться из встревоженного и взбаламученного рассеянием вещества хаоса (а рассеяние вещества — это осколочность разбитого целого бытия на сек-сы-секторы и полы-половинки, а отсюда и силы Эроса — как возвратные, воссоединяющие тяготения), — это частичные очаги целого бытия, напоминания о бывшем все-бытии и всеобщем покое.
«Сами же они (уплотнения частиц. — Г, Г.) вместе с тою материей, которую они к себе присоединили, собираются, в свою очередь, в тех точках, где имеются частицы еще более плотные,— эти опять собираются к еще более плотным частям и т. д. Если таким образом следить за формирующейся природой по всему пространству хаоса, то легко заметить, что следствием вышеуказанных причин будет прежде всего образование различных скоплений, которые далее, благодаря равенству притяжения (т. е. Эроса, который однороден и один для всех и не может быть источником различения1, а лишь поравнения всего. — Г.Г.), должны бы остаться в вечном покое» [1, с. 130].
Для немецкого же ума главное — образование лица, различия, Gestaltung, формирование вот этого в отличие от вон того, противодействие всеутапливающему и всера-створяющему соборному объятию всех в Эросе (шиллеро-бетховенское Seid umschlungen Millionen! — «Обнимитесь, миллионы!» — это уж вторичное объятие: на основе таких могучих индивидуальностей, которые уже тяготятся, как Фауст, своим лицом и отличием).
Отсюда центральный и самоличный момент кантовой гипотезы (ибо все объяснения до сих пор — из ньютонова всемирного притяжения) — это: откуда раскол, определение скоплений в форму тела, резкие черты лица из туманности марева взаимных притяжений? Все это обязано силе отталкивания,
«Но природа обладает еще другими силами в запасе; эти силы проявляются главным образом тогда, когда материя представляется в весьма измельченном состоянии. Эти силы, производящие взаимное отталкивание частиц, вызывают, благодаря своей борьбе с силами притягательными, то движение, которое точно так же является причиною непрерывной жизни в природе» [1, с. 130].
1 Недаром во тьме он и при отвороте и сокрытии лица и чрез утопление личности вершит свое дело.
313
То есть сила отталкивания давно в естествознании и умозрении известна — еще с эмпедокловых Любви и Ненависти, что образуют смешение и разделение всего. Но здесь важен поворот ее, истолкование у Канта как основного формообразователя, что понятно в контексте немецкой мысли. Это та непрерывная отрицательность, Wider-spruch, который fiihrt, что у Гегеля есть и основная сила различения бытия, и формировки единого в многообразие. Это отталкивание, отрицательность и у Канта выступает как фаустианско-мефистофельское вечное беспокойство, Streben, противоположное всеобщему покою — этому пустому (для немецкого умозрения) мгновению бытия. Недаром об отталкивании заговаривает сразу после удручающей перспективы вечно покоящихся (из-за равной силы притяжения) скоплений.
Но откуда отталкивание? Что его источник? Если притяжение всемирное, глобальное, сила, действующая извне частиц, тел, и по отношению к любому существу она внешняя (лишь по отношению к Бытию она внутренняя), то отталкивание есть отворачивание лица, противно направленная к бытию воля, и это уже исходит из атома, индивида, из «я». Это отталкивание есть его инстинкт самосохранения в мире — от засасывающих в воронку объятий любви и силы притяжения1. Ибо сила отталкивания не только из бесконечно малого, монады (недаром, кстати, разработка этих идей — дело немецкого ума Готфрида Вильгельма Лейбница), микрокосмоса (германцы Нострадамус, Фауст и Парацельс) в его внешнее самоотли-чие2 от Вселенной (и тем самым по равенству сил бесконечно малое объявляет себя тоже бесконечностью и Вселенной) исходит, но и изнутри, из скрытого, из нетелесного, из души. Так что если всемирное притяжение — это как бы «нус», разум, космостроитель, Ум, по Плотину,
1 Вот почему, когда герой Достоевского равно существенными объявляет для человека инстинкт самосохранения и инстинкт саморазрушения (разговор Евгения Павловича и Лебедева в «Идиоте» на дне рождения князя Мышкина), то здесь жажда раствориться, исчезнуть, распахнуться бытию в космическом Эросе и самопожертвовании любви сказалась (т. е. если б «малые сии» сами шли навстречу растопляющей их силе внешнего и растворялись, и это женское начало брало верх — податливость, падкость).
2 Лицо-внешность, и личность, и раз-личие — все это внешнее.
314
то отталкивание — это как бы «душа бессмертная», психея, частица — как особь, претендующая быть целым, а не осколком (полом—половинкой—сексом), чем она объявляется в Эросе — действием силы всемирного притяжения.
И вот эта активность «я», индивида, воли, как формо-образователь бытия и культуры, разработана именно немецким идеализмом.
Идеализм естествен при исхождении из силы отталкивания: внутренней, невидимой, так же как материализм — при исхождении из силы притяжения: внешней, созерцаемой.
Итак, благодаря силе отталкивания «вертикальное падение (частиц притягиваемых. — Г.Г.) обращается в круговое движение» (т.е. отсыл, вбок, «чур меня!») = описание предела и формы вокруг «я», тогда как вертикальное падение есть попадание, улучение личности (меня лучом света пронзение), гибель моей самости.
Так образуются опять шар и круговое движение, что суть совершенные фигуры, по эллинам. Но только там шар и круг — образы совершенного бытия, целого, не знающего о возможности распадения и половинчатости полости; здесь же шар воссоздается трудом, как вторичный, действием противоборства сил мировых и человеческих (бесконечно малых). Шар здесь — не совершенство и исконное целое, а гармония, согласие противоположностей, т.е. то прекрасное, что уже в «грехопавшем» расколотом бытии осуществиться может.
И вот картина этой гармонии в нашей Солнечной системе, которая есть как Haus = модель Raum’a Вселенной: «Когда масса этого центрального тела достигнет таких размеров, что скорость, с которою она притягивает частички с больших расстояний, благодаря слабой величине отталкивательной силы, противодействующей их взаимному перемещению, получит боковое направление, то тогда создаются крупные вихри частиц, из которых каждая описывает сама по себе кривые линии» [1, с. 130].
Это опять непорядок — уже от разгула индивидуальных воль, сил отталкивания, а не от первичного хаоса происходящий. Это лишь в русском космосе — «кривая вывезет!». В германском требуется ее в рамки прямых ввести.
«Однако эти различным образом борющиеся между собою движения естественно (?) стремятся уравновеситься, т.е. прийти к такому состоянию, при котором одно движе-
315
ние возможно меньше мешает другому (идеальное гражданское общество из самостных индивидов. — Г.Г.). При этом условии, так как все частички принимают одно и то же направление движений по параллельным кругам (т.е. не по одному, а по концентрическим, так что при одинаковом направлении интересов не мешают друг другу: каждое точно знает занимаемое место и функцию в общем производстве Солнечной системы. — Г.Г.) и, благодаря приобретенным центробежным силам, вращаются вокруг одного и того же центрального тела (= абсолютного монарха: оттого, и по Гегелю даже, централизованная в монархе власть — лучшее из государственных устройств. — Г.Г.), то борьба и столкновение отдельных элементов исчезают...
Так эти вихри круговые уплотняются, образуются твердые тела планет и спутников на естественно перераспределяющихся расстояниях в зависимости от масс. Так образуется совершенный механизм Солнечной системы. Но не забудем, что твердое и плотное возникло из туманностей и прошло горнило выковывающих сил» (с. 130—132).
И в этом плане не случайно, что эта так называемая небулярная («туманностная») гипотеза, четкую твердь и определенные пустоты Вселенной выводящая из туманностей, родилась в германском уме, стране Nifelsheim Эдды, средь нибелунгов, туманных существ, подземных гномов, цеховых мастеров, развивших еще в средние века пуще, чем в других странах, горное производсто и химию, а превращение веществ и формообразование их в кузнях хорошо испытавших. И вещества планет, эти твердые тела, возникают у Канта из вселенского химического пара и чада туманностей — как «философские камни». И кантовские круговые вихри и тела из них как-то перекликаются с полетом валькирий и с Ring des Nibelungen (кольцом нибелунга) — тоже твердым круговым телом, выкованным хто-нической туманной волей нибелунга Альбериха — тоже порождения «Германии туманной» (сколь точен Пушкин!).
2
С Лапласом менее ясно, однако кое-что прозрачно и у него.
Проблема у Лапласа и Канта сходная: «Обратим теперь наш взор на устройство Солнечной системы и на ее отношение к неподвижным звездам» (1, с. 133), однако способ развития мысли различный. Кант так соединяет две идеи: устройство Солнечной системы и мир неподвижных звезд, 316
что констатирует меж ними антиномию, противоречие, — и отсюда набирает энергию его роющая, докапывающаяся до единства мысль. Французский мыслитель, ставя в связь эти два представления, не под знаком противоречия их соединяет, но в простое отношение: аналогию и пропорцию (как увидим далее).
«Громадный солнечный шар, центр движений, вращается вокруг своей оси в 25 Уг суток. Его поверхность покрыта световым морем, которого энергичные волнения образуют в весьма большом числе изменчивые пятна, громадные размеры которых часто превосходят размеры всего земного шара. Над этой световой оболочкой возвышается невероятных размеров атмосфера; вне ее — планеты вместе со спутниками описывают свои почти круговые пути, плоскости которых лишь весьма немного наклонены к плоскости солнечного экватора. Бесчисленное множество комет, уходя от Солнца, теряются в глубине пространства, и это служит нам доказательством того, что влияние Солнца простирается значительно дальше известных нам границ планетной системы» (там же).
Французский мыслитель поражает воображение, рисует яркую картину, призванную удивить. Слово его красноречиво, пышно, Вселенная у него выглядит грандиозно, великолепно, помпезно; все — grand. Он создает «Exposition du systeme du Monde» («Изложение системы мира»), т.е. направленное экстравертно, на публику, слово — почти устное, рассчитанное на собеседника, слушателя, разговор, на него ориентированное. Потому трудность представления для него главная, тогда как для Канта — трудность понятия: как справиться самому в своей мысли с антиномией? Мысль Канта углублена и сосредоточена внутрь себя, а не ориентирована на другое сознание. Лаплас развертывает и экспонирует уже готовое и продуманное и заботится о том, чтобы оно предстало внушительно.
«Солнце не только действует своим притяжением на все эти шары, заставляя их двигаться вокруг себя, но посылает им также и свой свет и свою теплоту. Благодетельное влияние Солнца вызывает происхождение растений и животных, населяющих Землю, и по аналогии мы вправе думать, что подобные же результаты оно вызывает и на других планетах. Было бы в самом деле неестественно полагать, что материя, плодоносность которой мы наблюдаем в столь разнообразных формах у нас на Земле, чтобы эта материя была бесплодною, например, на такой большой планете,
317
как Юпитер, у которого имеется свой день и своя ночь» [там же].
И вот мы уже подступаем к сердцевине различий.
У Канта все образуется из туманностей и рассеянных твердых (плотных) частиц материи среди пустотных точек под воздействием сил притяжения и отталкивания.
То же устройство Солнечной системы образуется, по Лапласу, из жидкости, разлитой в мировом пространстве, которая способна передавать равномерно все давления и оттого, что она, огненная вначале, охлаждается, переходит в иное агрегатное состояние: из жидкости — в тело под влиянием силы сжатия, конденсации.
«Посмотрим, возможно ли изведать истинную причину вышеупомянутых явлений (однонаправленность вращения Солнца, планет, спутников, и это почти в одной плоскости и т.д. — Г.Г).
Так как эта причина обусловливала и регулировала движение планет и их спутников, то она должна была, какова бы ни была ее природа, распространяться на все тела. Принимая во внимание громадные промежутки, которые отделяют планеты друг от друга, она могла действовать в сфере жидкости, занимавшей огромное пространство» [1, с. 135].
Как раз французский ум Паскаля именно эту сторону исследовал в работах о жидкостях («Traitez de I’equilibre des liqueurs»)1: что именно жидкость обладает способностью равномерно и сразу передавать во все стороны давления, а значит, и воздействия сил. И Лаплас здесь: из громадности промежутков между небесными телами и в то же время связанности их движений заключает о заполненности пространства очень тонкой жидкостью. То же самое и Декарт в «Трактате о свете» не допускал пустоты, а всякий промежуток наполнялся у него аморфными частицами, способными принимать любую форму, что свойственно именно каплям, а не твердым атомам. Кант же явно не боится пустоты и допускает действие через нее сил притяжения и отталкивания, как для размаха кующего молота нужно пустое пространство. Именно механически трудовые силы притяжения и отталкивания допускают и даже требуют для себя гипотезы пустого пространства.
1 «О равновесии жидкостей» — галльский акцент ума здесь слышен, выдвигающего две эти идеи: «равновесие» (баланс, дуализм) и «жидкость» в отличие от инонациональных исследований по гидростатике: Архимеда, Стэвина и Галилея.
318
Если же пустота недопустима, то она может возникнуть лишь как вакуум не от хорошей жизни: в частности, от охлаждения и сжатия того, что некогда было теплым, горячим (и живым) и пространным; так что пустота — это страждущая и памятью о прежнем наполнении и жизни существующая идея, в вакууме (и его втягивающей силе) имеющая залог будущего наполнения жизнью и веществом.
«Если она (жидкость. — Г.Г.) сообщила планетам почти круговые и одинаково направленные движения вокруг Солнца, то необходимо допустить, что эта жидкость окружила Солнце наподобие атмосферы. Наблюдение над планетными движениями приводит нас, таким образом, к необходимости принять, что солнечная атмосфера (т.е. жидкость, «огненное море». — Г,Г.) первоначально простиралась во всем пространстве планетных орбит и что она постепенно сжималась до своего нынешнего объема.
...Но каким образом эта атмосфера могла вызвать движение планет вокруг Солнца и вокруг своих осей? Можно предполагать, что эти тела происходили благодаря последовательному охлаждению и сжатию поясов солнечной атмосферы в плоскости солнечного экватора. Спутники же подобным образом произошли из атмосферы планеты» [1, с. 135].
Итак, влага и тепло, охлаждение = сжатие — основные агенты, образователи Вселенной, по Лапласу. Какое же исходное созерцание, интимное впечатление чуть ли не детства, с молоком матери всосанное, побуждает далее холодный рассудок ученого выбирать из арсенала многих действующих в бытии причин и сил именно эти, а не иные?
Естественная жизнь земная, среди влаги и тепла, чуткое ощущение кожей и фибрами климата и среды — т.е. плотность и насыщенность чувственно-телесной жизни побуждают ум француза избрать жидкость и тепло — эти силы, что воспринимаются прежде всего чувствами осязания, запаха, вкуса, т.е. более телесно-практическими чувствами в сравнении с более теоретическими чувствами зрения и слуха, к которым апеллирует умозрение, теория немца Канта: ведь именно зрение и слух, воспринимающие на расстоянии и отвлеченно, побуждают нас принять пустоту, тогда как осязание, вкус, запах — чувства непосредственного контакта и предрасполагают к представлению напо(лн)енности мира, его конденсации.
И отвлеченная система Вселенной Лапласа в этом плане в одном континууме находится, в одном мировоззре-
319
нии — нет, точнее: в мироощущении (ибо «мировоззрение» более немцам соответствует — Weltanschanung) с Parfums exotiques («экзотические запахи») Бодлера, с boir и drink («пить») Рабле, с chaleur («жар») Камю, что в L’Etranger («Чужой») есть первопричина потери душевного equilibre’а («равновесия»), и ошаления, и убийства.
Итак, жизнь на Земле, ее климатическая среда и условия — прообраз выкладок насчет Вселенной. Кстати, недаром именно во Франции развивалась теория объяснения и духовно-культурных явлений условиями климата и естественной среды: Монтескье отсюда выводит дух законов у разных народов, Тэн — особенности искусства и т.д.
Но вникнем внимательнее, как жидкость и тепло работают в системе Лапласа над формами существ и предметов, их образуя.
По Лапласу, «разве нельзя допустить бесконечного разнообразия в строении живых существ сообразно с температурою небесных тел?». То есть он, во-первых, исходит из живых существ, организмов, их форм — и от них танцует к возможному разнообразию форм неорганической природы, т.е. просто тел. И условия строения живого существа: меру тепла — переносит и на возможную форму механического тела (и в самом деле, это возможно: где больше и равномернее тепла, там круг образуется — например, сердце и кровообращение; где оно сходит на нет — там угол и конечность и т.п.), т.е. исходит из более сложного к более простому, ибо тепло и влага, как причины, объясняя более сложное — жизнь, организм, способны объяснить (это предполагается) и более простое: механизм и движения и формы тела.
То есть здесь в умозаключении нисхождение, тогда как у Канта — восхождение: от ничто через рассеянную материю к устройству Вселенной.
Если у Канта отсыл к прошлому, теория неба перерастает в историю природы и из нее черпаются объяснения: из небытия к бытию, то у Лапласа: «Соображения относительно системы мира и о будущих успехах астрономии» — таково иное название труда Лапласа [1, с. 133].
И эта направленность вперед, мышление по цели, а не по причине и происхождению, прогресс, эволюция, а не история (происхождение) — такова же идея Ламарка — есть характерное наклонение французского ума, у которого и историзм — практический, злободневный: проецирование на прошлое нынешнего состояния вещей (классицизм в
320
искусстве; внешний картинный couleur local /местный колорит/ у романтиков, у Гюго; Руссо — объясняющий происхождение неравенства и падение нравов гипотезой естественного состояния, более работающей на критику современности, чем на точно научную истину о прошлом).
Заключительный раздел сочинения Лапласа — это описание заманчивых горизонтов для будущих исследований и успехов астрономии: «Теперь остается только определить путь Солнца и центр тяжести его туманного пятна. Но если требовались целые столетия, чтобы познать движения планетной системы, то какое же невероятное время потребуется для изучения орбит Солнца и неподвижных звезд?!» [1,с. 136].
Это основной у Лапласа ход в добывании мыслью нового сведения и суждения: исходя от уже известного знания — через аналогию и пропорцию. Этот же ход очевиден и в заключении рассуждения:
«Астрономия, во всей целостности, представляет прекраснейший памятник человеческого духа, благороднейшее свидетельство его разума. Возбужденный обманом чувств и своею собственною темнотой, человек долго считал себя центром, вокруг которого движутся светила. Наконец, работа столетий сорвала завесу (все это напоминает декартовы гносеологические принципы: очевидность и ясность — как критерии истины. — Г.Г.), за которою скрывалась истинная система мира. И тогда только человек понял, что связан с одной планетою, которая среди громадной Солнечной системы ничтожно мала\ он понял, что и сама Солнечная система, в свою очередь, ничтожно мала сравнительно с неизмеримой величиною мирового пространства» [1,с. 136].
Только здесь пропорция, как стержень умозаключения, уже обратно направленная сравнительно с началом рассуждения: если там от нашей малости — к величине, то здесь от величины — к нашей малости. В итоге и получается equilibre (баланс), искомое равновесие, симметрия и изящество в рассуждении^ что так изыскуется французским духом.
В этом плане показательна и роль числа: Лаплас, не мудрствуя, перечисляет пять групп явлений, которые побуждают заключать об одной причине, действовавшей в образовании Солнечной системы. Почему пять? Просто от счета подряд и измерения. Нет во французском духе того сакрального подхода к числу, как в немецком, которому до-
11 Гачев Г. Д.
321
пустимы либо 1 (единство), либо 2 (антиномия, противоречие), либо 3 (синтез, триада). Француз оперирует цифрами, количествами, немец — числом1. Оттого немецкий космос един, определен, но и замкнут, закончен в сравнении с французским более легкомысленным подходом к числу как прагматическому счету (Кювье, например, делит живые существа уже на 4 класса), отчего бытие оставляется открытым, чреватым будущим, незавершенным, свободным, допускающим случайность.
Чтобы утвердить, положить, смочь высказать какую-то мысль в таком, более открытом, свободном (со случайностями) космосе, поскольку невозможно ее опереть на четко выведенные необходимые причины и доказательства (что возможно лишь, если космос предполагается определенным и законченным — как Haus, а эта завершенность бытия — основная предпосылка в системах каждого из гигантов немецкой классической философии, и даже Гегель, у которого диалектика все разъедает и открывает каждую завершенйость навстречу изменению, все-таки свел концы с концами и завершил бытие — своей системой, как законченным самосознанием бытия), требуется большая апелляция к вере и чувству, которые, сра-щиваясь с мыслью, позволяют воспринимать ее утверждения не как голо(во)словные, а как достоверные. Ведь недаром и француз Декарт как критерий истины и всякого утверждения полагал не их доказанность, обоснованность, т.е. закономерную выведенность из предпосылок, а их прямую непосредственную достоверность, оче-вид-ность, ясность, т.е. сразу, без опосредствования. И это понятно, ибо опосредствование возможно лишь при предпосылке завершенного бытия (как у эллинов и немцев): тогда вывод может покоиться на обозримом, конечном числе причин. Когда же космос предполагается свободным и открытым — какие возможны выведения, доказательства и опосредствования, когда нет начала (и конца), когда они проваливаются в дурную бесконечность? В таком космосе единственно твердым основоначалом может быть сразу смыкаемость индивида с какой-то идеей, ко
1 Потому и в математике из европейских народов наиболее активно действовали французы, ее разработали и двинули, ибо более свойское, свободное у них отношение к числу, не связанное, как у немцев, непременно с обязанностью философемы.
322
торая для него несомненна и которая хотя бы тем обретает уже абсолютность и выводится из проваливающихся хлябей, засасывающих причин и обоснований, — что опирается в бытии на волю и чувство индивида, слившего с ней свое существо(вание). Потому Декарт смог как основоположение утвердить cogito ergo sum — совсем ведь частное свое ощущение и убеждение.
У Лапласа форма мысли гораздо более эмоциональна, чем у Канта; и это необходимое гносеологическое свойство французской мысли: ее большая яркость, броскость, эмоциональность, волевой напор1. Это, напротив, избегается немцами, которые, работая методом опосредствования, строят мысль как здание, для чего материал и дерево должны быть предварительно высушены и умерщвлены: всякая его яркость, влажность и теплота усиливают обманы. Хотя и Декарт начинает (в «Рассуждении о методе») с противоборства иллюзиям и обманам чувств, стремясь стряхнуть их как сон, но добытый им в итоге пробуждения рационализм — это непосредственный свет истины, разум, а не рассудок, и оттого то, что вещает разум, уже не нужно доказывать и обосновывать, ибо чистый свет очевидности есть сам по себе гарантия истины.
Потому метод Декарта — экспонировать, являть, открывать, проливать свет, излагать, но не обосновывать, доказывать и выводить, чем занимается в философии уже более скромный мастеровой — немецкий рассудок.
Рацио, французский ум еще приемлет теоремы, т.е. прямые умозрения, где все строится на предварительном приятии самоочевидных аксиом и постулатов, но не опосредствование и доказательство. Напротив, немецкий ум склонен расшатать теорему — в доказательство — и все время работает над расшатыванием аксиом и постулатов — как якобы истин, не требующих доказательств = работа критики разума, предпринятая Кантом).
Лаплас в своем «Изложении системы мира» постоянно пользуется недозволенным с точки зрения рефлектирующего немецкого рассудка приемом — обоснованием от противного: «Было бы в самом деле неестественно полагать...»
1 Не случайно Ницше, в котором германская классическая философия расплевывалась с собой, страстно любил французский склад мысли — афоризм, жанр pensee detachee — и терпеть не мог квелую основательность германского Михеля.
323
11*
Здесь какой ход мысли? Нечто утверждается и признается истинным только потому, что обратное утверждение представляется невозможным, очевидно противоестественным. Но ведь это такое шаткое основание! Почему оба не могут быть ложны?
Потому, чтобы такое заключение: от отбрасывания противного, т.е., так сказать, реактивное, набирающее силу и энергию существования через попрание антипода, — представилось нам достоверным и очевидным, его должен крепить и питать дополнительный свет: веры, воли и чувства — и эти гносеологические источники сильнее выбивают во французской мысли, нежели в немецкой.
Итак, в открытом свободном космосе что-то полагается не случайным (т.е. тем, что может быть и так и иначе), но твердым и обязательным: именно так, и это — есть (ести-на — истина). И это делается благодаря авторитету — личному (Декарта) или общества (общественное мнение, приговор света), т.е. автору, т.е. чувственно—лично—человеческому исхождению идеи. Так начинает просвечивать парадокс: почему в таком, как французский, свободном, открытом к случайности космосе велись столь непримиримые споры о предопределении и свободе воли (янсенизм, Паскаль, вообще католицизм)? Ведь то, что в германском космосе выступает как необходимость (т.е. нечто разумно практически усвояемое,' осмысленное, недаром и Гегель смог примирить с ней свободу, обозначив ее как «осознанную необходимость»), во французском имеет более роковой и жесткий облик фатальности (провидение, промысел, предопределение). И здесь либо—либо: либо все случайно, либо все неотменимо, необходимо — даже то, что кирпич этот пал на голову именно этому прохожему (фатализм у французских материалистов); а Лаплас полагал, что если ему дать все данные, то можно вычислить будущее Вселенной и каждого в ней существа.
Если что-то твердо в свободном космосе (в «абсурдном мире» экзистенциализма, к примеру, — недаром на французской почве эта идея особенно развилась), то именно благодаря авторитету; и как только он принят, т.е. состоялся акт веры себе (Декарт или экзистенциалист, идущий на действие без надежды на успех) или идее (католицизм, социализм «утопический»), — так мир тут же окостеневает в запрограммированной (своей, моей, принятой) закономерности, так что случайность и свобода и другое мнение исключаются (католицизм, Фурье). Вот почему на фран
324
цузской почве всегда проблемой была терпимость, и там доходило дело до крайностей (Варфоломеевская ночь, террор 1793 г., авторитарные режимы).
В немецком космосе, который предполагается единым, в общем определенным, естественно возникает идея необходимости как разумности и целесообразности его строя. Но так как опорой этой идеи является космос, бытие в целом, т.е. самое огромное «всё», нами неуловимое, то необходимость эта совсем не железна, трудно постижима личному уму, не ясна. Она не имеет облика фатальности и предопределения, т. е. направленности именно на это существо, на меня, и повеления и предначертания ему действовать так, а не иначе. Недаром во французской истории проявления мессианизма (= призванности) столь сильны: Жанна д’Арк, Бонапарт, чудеса в Лурде и т.д.; это же умонастроение и у стендалевского Жюльена Сореля, и у на французский дух настроенных вначале Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Необходимость как судьба и фатальность есть много чести человеку, ибо это означает личную, корыстную и практическую заинтересованность Бытия, его обращенность и ориентированность именно на этого человека: что «сорок веков смотрят с пирамид» — что к нему оно все сводится.
Немецкий же образ необходимости — это то, что само по себе бытует, а я должен осознать и строить разумно в увязке с ней свою жизнь. Но до меня лично ей дела нет — это мне есть дело и интерес до нее. В рамках определенного мира отношения необходимости как строя целого и свободы особи, индивида «я», более неопределенны оказываются, чем внутри вольного и открытого к случайности космоса галльского. Вот почему, когда лейбницевы идеи целесообразности как Предустановленной гармонии, касающейся всего бытия, проникли на французскую почву, они стали легко уязвимы для всяких нападок, ибо были перетолкованы на французский космос, где целесообразность была воспринята авторитарно и практически, как касающаяся именно этого индивида, в нем и в каждом его шаге заинтересованная, что дало Вольтеру повод для блестящего mot «Кандида», где мирная, расплывчатая, созерцательная лейбницева целесообразность была запряжена в повозку практики и жизненных судеб именно этих людей — и, естественно, стала выглядеть тупой, глупой, не от мира сего и не для мира сего.
И здесь еще один оттенок открывается.
325
В рассуждении Лапласа о соотношениях, пропорциях Земли, Солнечной системы, Вселенной употреблены выражения: «ничтожно мала» — о Солнечной системе и «неизмеримая величина» — о Вселенной. Я задумался: почему «ничтожно мала», а не «бесконечно мала»? И здесь мне приоткрылась еще одна бездна. В вольном, открытом в бесконечность французском космосе индивиды конечны, определенны, собраны, суть твердые тела, имена.
В едином, определенном германском космосе индивид есть монада, т.е. бесконечная величина. «Бесконечно малая» Лейбница, монада — это ведь, по сути, всебытие, все в себя включает, т.е. микрокосм, равный макрокосму. (Здесь как на графике: то, что бесконечно мало, сводится на нет в нижней половине координат, — вдруг делает скачок и всплывает откуда-то из мира бесконечно больших величин в верхней половине координат.)
Так и в кантовой системе Вселенной формообразование и разнообразие всего происходят из отталкивания бесконечно малых, от неистощимой деятельной энергии, из их нутра откуда-то источающейся, — и недаром вдруг в его «Критиках» окажется, что та «вещь в себе», что для чистого теоретического разума обитает где-то в запредельных мирах = в бесконечно большом (так это представлялось мне), вдруг всплывает в «Критике практического разума» как то, что постоянно и ничтоже сумняшеся функционирует в нравственной и прочей практической деятельности каждого человека, существа, — и здесь она дается запросто, свойски и интимно, и без нее ничего не делается. Значит, при конечности и в общем определенности всебытия германский космос открывает брешь в неопределенность, случайность, бесконечность — именно в Innere бесконечно малого, индивида. Он — индивид, атом, т.е. по слову и названию своему далее неделимый, т.е. конечный и твердый, — оказывается фонтанирующей прорвой, бездной, Тартаром и источником непрерывного прибавления к бытию. Значит, с этого конца бытие бесконечно ново и расширяется, оставаясь в целом и глобальном равным себе.
Поэтому германский индивид, нося на себе бремя бесконечности, имеет те всем известные психологические особенности: с одной стороны, жесткая конечность, педантизм, шаблон и «от сих до сих» (в этом он — именно индивид, деятельный), а с другой стороны, аморфность, т.е. пульсирующее (еще без формы) бесконечное, т.е. небытие
326
как потенциальное бытие, что и проявляется в грандиозных медитациях, философствованиях, рефлексиях, музыке (которые сами суть акты обытийствования небытия, акты его извлечения) или просто в сентиментальности и мечтательности (она — той же оперы: из отверзтости бытия именно в той точке, где оно — индивидуально).
Индивид во французском космосе — именно индивид (= неделимый), далее непроницаемый; его богатство не в Innere, а экспонировано: в богатстве его общественных (и иных) отношений, связей (liens и liasons), что и в языке проявляется: французская фраза изобильна именами (существительными, прилагательными), между которыми перекидываются связи и отношения, и склонна даже действие субстантивировать, т. е. глагол превратить в имя: твердое и даже нераскупориваемое бытие-вещь, предмет, — тогда как немецкая фраза богаче глаголами, а имена здесь более аморфны (складываются, раскладываются в сочетаниях и свободно составляемых словах и т.д., т.е. нутро их, Innere, пробиваемо).
Отсюда: немецкий индивид, «Я», дух занят самовыражением, развертыванием своей внутренней сущности и потенций вовне, опредмечиванием: «Я» полагает «Не Я» у Фихте. Французский индивид занят присоединением бытия и его вещей к себе: богатство лежит вне его: обилен и прекрасен развертывается чувственный мир вне меня — и надо как можно больше к себе, плотному, присоединить-загло-тать, как раблезианские гиганты. Отсюда: французский материализм, сенсуализм, теория отражения: значит, и то, откуда отражается, т.е. мир и его вещи, — твердые, отграненные, сомкнутые в себе и непроницаемые в Innere, и я — отражательная призма, нет, скорее зеркало, — тоже сомкнут и закупорен, вещен (активность французского индивида: Бонапарт, Жюльен Сорель, Растиньяк — присоединение мира к себе).
И в искусстве: немецкий поэт трудится над выражением своего Innerste, сокровеннейшего «я», души. Французский — над описанием окружающего мира, от-граниванием вещей-сочинений с филигранной формой и стилем.
Итак, индивид и целое образуют такие сочетания (схематически их, конечно, представляем и лишь подчеркиваем акценты).
В германском бытии: целое и как раз «дивид» (только не извне, а сам себя) бесконечный.
327
Во французском бытии: протяжение (термин Декарта, т.е. бытие не как целое, а как непрерывность аморфная) и индивид.
Отсюда и при постройке философских систем в германском мышлении за исходное принимается мир как целое: целесообразность Лейбница; априоризм, т.е. надличное «я» как субъект мышления Канта; таково же оно, а не психологично и в «Я» Фихте; далее это — тождество субъекта-объекта Шеллинга, субстанция-субъект Гегеля, Человек Фейербаха, Труд у Маркса. Во французском мышлении естественно, что как исходное, твердое и несомненное выступает малое «я», как индивид (cogito ergo sum), — и отсюда мир постигается через четкость рационализма или через отражения от меня (сенсуализм), через прокатывающиеся отсюда дотуда, от грани до грани, волны.
Такое соотношение индивида и целого проявляется и в социальных организациях, потенции которых тоже просвечивают в рассуждениях Канта и Лапласа. Солнечная система выступает у Канта как идеальный строй, где все индивиды — тела, не мешая друг другу, вращаются по параллельным — по своим — путям, т.е. беспрепятственно могут развертывать каждый свою сущность и энергию, вокруг центрального тела-организатора-устроителя, но не вмешивающегося в мелочи (вот необходимость и целесообразность в немецком космосе). Для него проблема: при активности индивидов и при антиномии действующих в мире сил (притяжения и отталкивания) как бы «прийти к такому состоянию, при котором одно движение возможно меньше мешает другому» [1, с. 130], — значит, предполагаются «борьба и столкновения отдельных элементов» [1, с. 131].
У Лапласа сказано так: «Хотя члены планетной системы и самостоятельны, тем не менее они показывают удивительные взаимные отношения, дающие нам возможность судить о самом возникновении системы» [1, с. 134]. И далее перечисляются известные уже нам признаки согласованности движения и делается вывод: «Подобное необыкновенное явление не может быть игрою случая; оно указывает на некоторую общую причину, определившую направление всех этих движений» [1, с. 134].
Для Канта проблема: Бог или материальная причина? — и он приходит к выводу об их первичном согласовании, так что закономерность в действии естественных причин не только не подменяет и не изгоняет Бога, но
328
есть дополнительный аргумент в пользу его существования: как исконный мудрый план бытия и совершенство, и законосообразность уже затем самостоятельного действия его частей — в том числе и стихий природы и материальной причины.
Так что то, что входит в бытие через естественное порождение — естественным путем Эроса, — по сути, промыслено Творением, т.е. бытием как трудовым актом.
Понятно теперь, почему Лаплас, французский интеллект, который ощущает бытие как жизнь, а не как мастерскую — n’avait pas le besoin de cette hypothese — не имел надобности в гипотезе Бога. Для него Бог — гипотеза, проблематичен, тогда как для немецкого мировоззрения акт, труд, деятельность (при том или ином субъекте: Бог, Идея, субстанция-субъект, дух, история, человечество...) несомненны и первичны. «Im Anfang war die Tat» («Вначале было Дело») — так Фауст у Гёте исправляет Евангелие от Иоанна, где «Вначале было Слово».
Но отсюда понятно, что стройность мира во французском миропонимании должна представляться как результат, следствие: стихийное развитие разноисточниковых и разнонаправленных стихий, сил, вещей и интересов (Гельвеций) в конце концов как-то согласовывается путем слаженности «взаимных отношений» между исконно «самостоятельными членами». Отсюда «общественный договор» на основе «естественного права» (Руссо).
Для германского же миропонимания естественно представлять не Хаос вначале и Космос потом, но сразу Космос, План, целесообразность и строй — как исконные, как причину, первоначало.
Итак, для Канта Вселенная смотрится через Haus, Труд. Это взгляд мастерового: из плана—на материал. У Лапласа Вселенная смотрится через Жизнь (тепло, влага, плодоношение) телесную.
В этом «ключе» — здесь это точная идея — звучит и опровергаемая Лапласом гипотеза Бюффона. Он в своей «Естественной истории» «считает, что комета при своем падении к Солнцу оторвала часть его материи, которая после удаления кометы от Солнца превратилась в маленькие и большие шары, различно удаленные от Солнца. Эти-то шары и представили собою планеты и их спутники, впоследствии застывшие и потемневшие» [с. 134].
Так и видишь эту комету, которая налетела, съела кусок мяса огненного и опять отвалила в мировое пространство...
329
В заключение предлагаю набор основных элементов, по которым германский образ мира отличается от французского, причем в каждой оппозиции (в духе пифагорейских пар) германский акцент подчеркнут. Таблица эта прорисовалась в ходе многолетних сопоставительных исследований германского и французского образов мира.
Иерархия четырех стихий: огонь, земля, воз-дух, вода; причем огонь — как жар или свет (франц.: вода, огонь, земля, воздух);
мужское или женское; -ургия. (т. е. трудом сотворенность) или -гония (т.е. рожденность естеством) всего в бытии; прямая юш кривая; вертикаль или горизонталь; даль или ширь’ зенит (высь, полдень), или надир {глубь, полночь)', перед или зад.
Иерархия времен года: весна, зима, осень, лето (франц.: лето, весна, осень, зима).
Иерархия чувств: слух, зрение, обоняние, осязание, вкус (франц.: осязание, вкус, обоняние, зрение, слух).
Музыка или живопись, рисунок или цвет.
Время или пространство. Пустота или полнота. Дальнодействие или близкодействие. Интравертность (психики) или экстравертность. Внутреннее или внешнее. Объем (дом) или поверхность (фасад). Свет и вещество = частица или волна. Притяжение или отталкивание (отрицательность)...
Для германского Логоса характерна антиномия, противоречие, тогда как для французского характерна фигура баланса, симметрия.
Еще добавим выведенные из сей работы о Канте и Лапласе аксиомы — принципы (аргументы, интуиции) понимания, от которых танцуют в рассуждении, как от печки, и постоянно к ним прибегают (сначала дается германский параметр, а потом французский). Дом или среда; форма или материя; Труд или Жизнь; происхождение или назначение; история или эволюция; причина или цель; исследование (для себя) или изложение (вовне); лекция или беседа; система или афоризм; мысль как здание или мысль-пробег (discours); доказательство или очевидность; теорема или аксиома; рефлексия или авторитет; опосредствование или достоверность; внутреннее или связи—отношения; индивид или социум; необходимость и свобода или судьба (предопределение) и случай; теория или картина и т.д.
Эти параметры, имеющие отношение к логике мышления, позволяют ставить вопрос о национальных логиках.
330
Литература
1. Даннеман Ф. Очерки истории естествознания в отрывках из подлинных работ. — СПб., 1897.
2. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. — СПб., 1913.
3. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1965.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА - В КИНО
Язык кино — универсальный и еще менее нуждается в переводе, чем языки архитектуры, живописи, музыки... Но каждый сложившийся уже к XX веку, веку кино, национальный мир, вливаясь в русло киноискусства, делает его средством самовыражения: сказывает себя и себе (акт самопознания), и миру со-общает(ся).
Описав ранее национальные особенности культур Франции, Америки и России (в ряду других...), в настоящем тексте я пробую уловить национальные повороты в понимании мира, человека и истории — в трех шедеврах киноискусства: «Дети райка», «Унесенные ветром» и «Чапаев». Хронология при рассмотрении с национальной точки зрения не имеет особого значения, и потому фильмы располагаются не в последовательности их создания, а как мне их показывали.
Текст написан в жанре дневника мышления, что соответствует принципу экзистенциальной культурологии, то есть с учетом присутствия субъекта в исследовании объекта.
«Дети Райка» — Франция
2 .VI.95. Наконец-то могу приступить расхлебывать = обдумывать позавчерашнюю магию: фильм француза Карне «Дети райка». Весь полон отравой кадров: вся нутрь заражена, поражена. Словно вселился туда целый мир людей, страстей, событий. И пролужены стенки сосуда моего — или изъязвлены, как катакомбы или парижские тесные проулочки, откуда выскакивают человечки — и начинают базарить, драться или убивать-любиться... И вот уже — не сам я, но — сожительствую!..
Но с кем-чем? — вот в чем вопрос, в котором я призван разобраться. Ибо то, о чем толковал доселе, — это просто сила искусства вообще, а в данном случае — шедевра кино, чем, бесспорно, является этот фильм. Но мне-то, на мой
331
уж профессионально наметанный глаз насчет национальных образов мира, надо отдать отчет: в чем именно Французскость этого фильма? Многое приходит на ум, масса ассоциаций сваливается беспорядочно. Попробуем разобраться и увязать их в размышление.
Я не готовился к просмотру и не знал про фильм ничего, кроме того, что он «шедевр», и шел глазеть, как Кандид простодушный, желая отдаваться непосредственному впечатлению. Но все же не удержался и спросил Леонида Козлова, кто мой науськиватель и затейник, что втравил меня в размышление о национальном в кино: когда сделан фильм? И оказалось, что он создавался в годы оккупации Франции немцами, и авторы даже тянули с окончанием и показали его вскоре после освобождения страны в 1944 году... И сказал мне далее Л. Козлов, что предыдущий фильм с Жаном Луи Барро «Фантастическая симфония», вышедший на экраны в 1942 году, обратил на себя критику германской цензуры и Геббельс обрушился на него как на «националистический» — то есть опасно патриотический...
— Ага, — смекнул я, — значит, фильмы тот и этот — акция французского Resistance — Сопротивления и этим родны могут быть философии французского экзистенциализма (Сартр, Камю...), что есть тоже могучее творческое явление, последняя пока философия большого стиля в Европейской цивилизации.
Итак, фильм должен быть эманация Французского Духа, спровоцированная и вызванная его унижением-подавлением в ситуации разгрома страны. Как противодействие, равное действию, — и им вызванное. Как упругость национальной пружины, что сжалась в сгусток и в творческий потенциал, — и вот разжалась и выстрелила — этим протуберанцем искусства.
Так что мало того, что фильм делали первостатейные таланты, но объединены они общей бедой и между собой, и с народом, — и потому ожидай здесь синтеза народности и изысканности утонченных мастеров, что есть редкостное сочетание. Ибо в обычной мирно-будничной жизни, не в «роковые минуты» истории, разведены они в разные стороны и сферы забот и трудов, и всяк ботает по своей фене: люди искусства, интеллигенты выкаблучиваются в узкопрофессиональных новациях и приемах, творят «из них — в них» (как памятно мне говаривала Наталья Александровна Вишневская, дочь известного актера МХАТа), а народец благодушно омещанивается...
332
И верно: фильм оказался и народный, и гениально творческий. И недаром (как мне сообщили уже после просмотра) этот фильм регулярно показывают во Франции в новогоднюю ночь. Значит, так любим он народом — как зеркало его сути, фильм национального самосознания. Причем, как это и положено в канун праздника, — подает ему самовосхищение, как и на торжестве по случаю дня рождения или юбилея человека в тостах ему его позитивный образ, преподносят икону его самого = лучшее в нем. Божий в нем образ и подобие...
Так вот в чем участие этого фильма в движении Сопротивления! Он — сопротивление Красотой! Нет в нем никакой политики, речей о величии Франции — де юре. Но де факто он являет такую разветвленную полноту жизни и народа, и человека, когда они заняты сами собой, — что ничто не в силах этой жизненной силе и упругости помешать. А следовательно, никакое временное налетное вторжение чужеземца: куда ему вклиниться? Его вытолкнут — как любое инородное тело, попадающее в упруго закрученный вихрь национальной жизни, на его центрифугу вращения.
И вот я уже начинаю выходить на систему образов фильма. Он сразу обрушивает на тебя картину кишения: по «бульвару преступлений» прет могучий, разноголосый и разноодетый поток людей — как река народной жизни, при том и в разнонаправленности «броунова движения» человеко-частиц, и свободовольного — и предустановленного...
А заканчивается фильм — картиной карнавала, где уж такое кишение торжествующее и движение единонаправленной воли национально-народной, что пытающийся продраться сквозь него наш герой, ищущий догнать-отыскать возлюбленную, только может воздевать руки горе — в радостном отчаянии...
То есть: ему — отчаяние, и в нас, в зрителе — сострадание ему, сочувствие, но в то же время и ликование-радость карнавала вливается в нас. Так и совершается искомый катарсис — эффект истинного искусства: очищение состраданием, отчего и слезы восторга источаются из нас...
Итак, в этих кадрах — как бы экспозиция и реприза, как в музыкальной форме. А внутри — разработка. В рамке народной жизни пойдут пути-переплетения судеб индивидуально-личных. И два эти массива уравновешены друг другом в фильме. Баланс. Как и в равновесии экспозиции и репризы — симметрия.
333
Я произнес здесь уже два характерные принципа французского духа, ума: Баланс и Симметрия. Они, разумеется, есть, как критерии эстетические, и в Логосе, и в искусстве, и в «ментальности» других народов и культур. Но нигде они не так изыскуемы и даже обязательны для национального чувства и миропонимания, как во Франции. Симметрия во французском классицизме (который наиболее «классический» из классицизмов XVII—XVIII веков в Европе), дуализм субстанций («протяжение» и «мышление») в философии Декарта, равновесие между рационализмом и сенсуализмом и у него, и вообще во французском ощущении и понимании мира. Этот космос — не разомкнутый наружу, открытый и незавершенный (как Россия, отчего ее стягивать обручами снаружи надо силой формы, границ, властью Государства), но самоцентрированный в балансе центробежных и центростремительных сил, образующих вращение жизни, социума, общения.
Вообще ВРАЩЕНИЕ — тоже специфический принцип Французства. И столица тут — Версаль — от Versatile от verser = вертеться, и даже разговор = conversation = «совращение», буквально. И не случайно я упомянул образ Вихря, что возникает из первых и завершающих кадров фильма. По Декарту, Вселенная состоит из множества вращающихся вихрей, каждый из которых — как Солнечная система вокруг своей Звезды = Прекрасной дамы — столицы, как Париж. И каждый Вихрь из частиц-элементов (= людей-индивидов) — словно страна: Франция, Англия, Германия; они упруго наяриваются друг на друга, стремясь обволочь своим вращением — и умыкнуть Звезду соседнего Вихря — как женщину. Это еще проступает из терминов: «вихрь» — vortex, по латыни, Он, а «звезда» — Stella, Она. Так что космогония, по Декарту, — это как любовно-авантюрный роман, где герцог Вортекс или защищает свою или стремится похитить прекрасную Стеллу из соседнего Вихря...
Так что cherchez la femme = «ищите женщину!» — как причину всего...
Собственно, этот французский принцип полностью закручивает действие и в нашем фильме. Оно все центрировано вокруг Гаранс: все персонажи мужские танцуют, вращаются вокруг нее, добиваясь ее любви. И как она появляется? Тоже симптоматично. В толчее броунова движения толпы на «бульваре преступлений», вольным шагом, фланируя, идет она, пронзая кружение...
334
Тут из картины Вселенной Декарта отличение Планеты от Кометы припоминается. Планета — та уже поймана, постоянно кружится вокруг Солнца Вихря. А вот Комета — совершает свободовольное движение, пронзая вихри-миры-уровни. Каждый Вихрь, через который она проходит, норовит обволочь ее, остановить, превратить в свою стационарную Планету. Но — не удается. Она остается «Любовь — дитя, дитя Свободы». Как Кармен. Что и подчеркивается цветком, который Гаранс бросает Батисту, миму, как та — Хозе.
Да, каждый из героев фильма (их много, тогда как героинь — две — опять баланс масс и симметрия! — обе нужны для организации жизненного и художественного материала: комета Гаранс и планета Мария, верная жена, что на месте и уверена, что в конце концов притянет к себе своего Вор-текса = установит вихрь Батиста вращаться лишь вокруг себя) образует свой вихрь, свое силовое поле, свой резко выраженный характер и принцип существования. Мим Жан-Батист, актер Фредерик, артистический злодей Ласенер и джентльмен граф де Монтере — образуют вокруг Гаранс как бы квадратуру круга — и сами симметрично-парно расположены друг против друга. Одна пара: мим Батист и актер Фредерик; другая — аристократ преступного мира Ласенер и аристократ «в законе» — Граф. Недаром именно последний убит Вотреном-Ласенером (а он именно напоминает романтического бальзаковского злодея или Жавера — из «Отверженных» Гюго...). А первые два разбираются между собой мирно и любовно. Ну да: они актеры, а эти — люди жизни. Тоже пара на пару — образует баланс...
И в развязке-разрешении многоперсонажного конфликта просвечивает французский акцент. Приходит на ум «Идиот» Достоевского, где тоже довольно симметрично располагаются фигуры: между двух женских персонажей (Аглая и Настасья Филипповна) — несколько мужских Вихрей: Князь Мышкин, Парфен Рогожин, Ганя Иволгин, Тоцкий... Но убита в итоге женщина! Как и в «Анне Карениной», и в «Тихом Доне»...
Француз же сохраняет Женщину — как константу своего бытия непреложную. (А Жюльен Сорель? — себе попро-тиворечу. Но там ему нет баланса мужского, лишь ей... А Кармен? — Но та — цыганка в Испании. — А Манон Леско?.. — 17.VIII.95.)
Ну и — в типе любви разность. Россия и русский вкус — это поэзия неосуществленной любви. Осуществившаяся
335
любовь — это или скука семейной жизни, или позор Анны Карениной. Или стыд и катастрофа «Обрыва» Гончарова...
Наш фильм, нагнетая напряжение многими волнами и коллизиями и модуляциями, постепенно сужая круг в долгом любовном танце между Батистом и Гаранс, все ж дает в кульминации фильма — Соитие, как разряд молнии. И французский Дух и вкус утолен, получил присущий ему катарсис. «Шайбу! Шайбу!» — загнали-таки в ворота...
Соитие для француза — восторг, le comble (пик, вершина) Бытия, и оно исполнено Красоты и есть Божественное делание, артистическое — так они умеют! Это ВКУШЕНИЕ божественно-солнечной плоти, телесности, напоенной всеми соками Божьего мира — прекрасной, СЛАДКОЙ Франции. La douce France («сладкая Франция») — такой она постоянный эпитет имеет в народном самосознании, тогда как Русь - МАТУШКА. Германия - БАТЮШКА (Vaterland = «отцова земля»). Англия — БАБУШКА-старушка (old merry England = «старая, веселая Англия»). И не стыд, а радость и полноценность и полнота Бытия — в ЭТОМ...
Вот опять аргумент к тому, что Космос Франции — самоцентрирован, не ориентирован наружу, на чужие меры — в стыде, грехе или прочем чувстве своей неполноценности. А тут они — в себе, при себе, и ничего не надо чужого: ни ума, ни территорий, ни занятий — все имеют у себя и в наилучшем виде, так что это вы нам завидуйте все! Отсюда — наивное самодовольство французов, но оно без спеси (как чопорность английского «са-мосделанного» — selfmade man — джентльмена, что тоже некая стена своей крепости, боясь размыть ее), простодушное, без рефлексии (германской или русской), — как у «французика из Бордо» или Дантеса, кто просто не понимал, что этот старый муж красавицы — еще и поэт, так вам важный! Тогда б не убивал...
Нет, француз уверен, что во всем — совершенен, comme il faut, и это именно ему должны подражать другие. Что злит этих прочих... И русских (опять же «французик из Бордо» или Толстой о Наполеоне), и немцев: в этой самоцен-трированности французов, и жизни и радости и занятости собою, несмотря ни на что — в том числе, и на них, победивших же их немцев! — и усмотрели последние (и справедливо) опасность этого аполитичного фильма.
Les enfants du paradis — называется фильм. А «парадиз» — это слово имеет два смысла: «рай» и «раёк» — галерка, верхний ярус в театре, где самая бедная, простонародная, но и 336
страстная публика располагается. Наш перевод взял только этот узкий смысл, ибо фильм по сути — спектакль: примыкает к театру и актерам. Но тут и первый смысл есть — Рай! Французы и суть таковые: ощущают себя «детьми Рая» — обитателями Прекрасной Франции. Народом превзыскан-ным, призванным к счастью и блаженству. И это чувство вполне сообщает сей фильм, отчего и этим он вызывающе бунтарск и сопротивителен германцам, вечно не утоленным и жаждущим чужого: «жизненного пространства», и ума, и культуры (как Гёте — в Италии, или Ницше как тянулся ко Франции...), в тоске и меланхолии, самоедстве и агрессивном самовозвеличивании, в культе вечного, неутолимого стремления (Streben dahin! dahin! «стремлении — туда! туда!» — эти германские архетипы-символы взяты из Гёте). Французы же спокойно самодовольны...
Но через ход этот: «рай» и «раёк» — мы переходим к следующему уровню анализа нашего кинофильма. Он есть некоторое соперничество Кино с Театром — как видами искусства. И в победе мима Батиста над актером Фредериком — как бы profession de foi — «исповедание веры», утверждение своего жанра — кино! Некое эстетическое Кредо тут есть, такой азарт и вызов в сем фильме. Он исполнен волей творческого соревнования — и это придает ему еще упругость и силу...
Если вихрь толпы народа — это большой круг вращения (и там еще «слабые взаимодействия», по современной теории строения вещества), то подмостки сцены, кулисы и зал театра — это малый, ядерный круг вращения (и тут уж — «сильные взаимодействия») событий в фильме. И здесь идет спор народного немого театра буффонады и жеста — против литературно-словесного высокоумного театра «доброго старого времени» — прежних веков. Ведь и в последнем французы мастера — декламации и словесного жеста, mot, изречения. Но и — высокопарности. И если сопоставить с нашими персонажами маски, итальянской «комедии дель арте», то амплуа первого любовника дано в раздвоении (снова парность-баланс-симметрия): мим Батист = меланхоличный Пьеро, а актер Фредерик = Арлекин сангвинич-ный. Оба совершенны в своем роде, но Фредерик несколько более буффонен и поверхностен, а симпатии киношников естественны — к тому, кто владеет языком телодвижения, к тому, что ясно без слов...
Недаром в народном театре пантомимы директором назначен даже штраф в три франка за звук — слово. Тоже
337
милый момент, сей «закон», нарушение которого в миг сверхсилы чувства и страсти — тоже один из художественных эффектов (когда Мария восклицает на сцене, когда Граф за кулисами ведет бурный разговор...)
Парность — и в Батисте = Луне и Фредерике = Солнце. Батист — это Au clair de la lune mon ami Pierot = «При свете Луны мой друг Пьеро...» — из французской песенки... Ну да: любовь Батиста и Гаранс — на фоне ночи. Они идут по улицам ночного Парижа и заходят в гостиницу, а в комнату светит луна. И он — уходит, Фредерик же — приходит и остается с нею до восхода или полдневного солнца.
И это тоже два привелигированных времени суток во французском Космо-Психо-Логосе: Полночь и Полдень. И в фильме педалированы эти два пласта света и тьмы и два типа освещения в кадрах. Массовые народные сцены начала и конца — залиты солнцем. Мне сказали, что и снимались они даже не в Париже, а на юге Франции, где-нибудь в Марселе или Лионе, где усилены солнце и пол-дневность.
Для сравнения: Россия больше любит, поэтичны тут — бока суток: рассвет, заря, утро — и вечер, сумерки. Родима сторонка суток, косые лучи восходящего и заходящего солнца...
Во Франции и тут резкое деление, и соответствия таковы: Полдень — это жизнь Социума, интенсивное вращение социального рондо (такова модель французского мира в моей терминологии). Ночь — это сгущение чувства, страсти, время личности и индивидуальной любви.
Однако и тому, и другому есть свой противовес-баланс. Колоссально богата и насыщенна — и ночная народная жизнь Парижа: дно его и мир преступный. Бальзаковский, кто, кстати, сам работал ночью под кофе, или Марсель Пруст — за шторами, тем самым и днем себе создавая ночь — как время сосредоточения души и сгущения силы творчества — Эроса духовного...
В фильме арена ночной жизни — кабачок, нет — целая ночная площадь — трактир, куда сходятся все боящиеся дневного света социальные слои: и старьевщик-доносчик «Иерихон», и вор, и шпик, и псевдослепец, и король всего этого мира — Вотрен-Ласенер. Он горд и, не имея возможности быть первым наверху, становится первым внизу, в поддоне Парижа. И когда закалывает Графа в ванне, он не бежит, говоря: «Не хочу, чтобы моей головы касался какой-нибудь провинциальный палач», — уже предвкушая-
338
пророча, как будет, красуясь, восходить на эшафот на Грев-ской площади в Париже.
И они тоже — пара масок из комедии дель арте: Капитан = Ласенер, а Доктор-рогоносец — это аристократ Монтере.
А как парно-репризно-симметрично возвращаются реплики, mots: «Париж не так велик, чтобы не встретиться объятым страстью» — это между Фредериком и Гаранс: «Любовь — это так просто!» — между Гаранс и Батистом.
Ну а «Батист» — прислоняется еще к «батистовому платочку», из-за которого Отелло задушил Дездемону. И в плане самоутверждения киноискусства над театром понятно пародирование здесь шекспировского сюжета, который ироничен французам еще с Вольтера, кто потешался над «варварством» Шекспира. И что ж: имеют свой резон и они, эти претензии...
Остроумные реплики Фредерика, кто с ходу импровизирует на сцене, нарушая сценическую иллюзию и посрамляя тупых авторов-драматургов, напоминает блеск Сирано де Бержерака (тоже герой национального типа), кто как фехтует — так и колет остроумием. И все же эгоизм киножанра чуть высмеивает тут изобильную словесность театра, отдавая предпочтение говорящим взглядам молчаливой Гаранс и единожды и навсегда влюбленного мима Батиста...
Ну да: роль Гаранс — это не говорить, а приходить-проплывать плавно, замедленно поворачивать голову и поднимать глаза. И даже просто стоять недвижно на сцене, .изображая собой античную статую.
Так что и тут сюжет и баланс: кругового движения народа, социума, толпы — и линеарных прохождений со стороны личностей. И в конце Батист бежит-пронзает толпу карнавалящую шпагой своего тела, ища-догоняя Гаранс, она же — загадочно уезжает в экипаже, уже по касательной к социальному рондо людей...
И женские персонажи парны — и взаимовращаются и превращаются друг во друга. Гаранс поначалу — дитя улицы, гризетка, жовиальная прачка, Коломбина по идее: ну да — так легко дает себя цеплять и сама цепляет: бросает цветок, как крючок любви на живца... Мария же — папина дочка поначалу, смиренная и задумчивая Мальвина. Но вот она выходит замуж за Батиста, рожает сына — и уже борется за свою семью-счастье, как активная Коломбина. Гаранс же все «мальвинеет»: становится лунна и задумчива, устала и разочарованно-аристократична, содержанка-недотрога — и тем загадочна, влекуща, романтична.
339
В противоположном друг другу направлении развиваются и первые герои: Батист-Пьеро, грустный и кроткий, вдруг таким пинком дает сдачи напавшему на него в трактире бандиту, что все ахнули, — и победительно забирает от Ласенера Гаранс и выходит с ней. И в конце он смеет и рвать семью, и сорвать спектакль, впав в любовную тоску. А Фредерик, победительно самоуверенный в начале, как бретер-петух галльский д’Артаньян, покоритель сердец, — в конце уступает смиренно Гаранс другому. Смиренно и галантно-артистично, игрово-рыцарски...
Вообще рыцарственность, куртуазность — царит во всех.
А самые низовые пары: это директор театра — и старьевщик Иерихон, всесоглядатай. Директор — сплошная жо-виальная, брутальная энергия клоуна, кого бьют, а он переворачивается — и снова жив курилка, как Кола Брюнь-он. Иерихон же — уж подземелий, ползучий язык. Тот — огнен, полуден; этот — водян, земноводное, нощен и склизок. Тот — огне-воздух, этот — земле-вода.
Ну и массы в нескольких ипостасях. Во-первых, труппа театра, где внутри — турнир кланов, и идет потасовка. Как меж Монтекки и Капулетти — прямо на сцене (тоже пародия на Шекспира). И, во-вторых: зрители райка, что, набившись до отказа и свеся ноги, орут, влияют, заводят актеров, превращают их в своих служителей — в именно «детей райка». Они там, как черномазые ангелы, с высоты амфитеатра и ярусов = небес взирают на сцену = землю, где человеки = срединные существа Поднебесной — живут, любят, страдают...
Так что да: сопротивление Красотой, Жизнерадостностью, Полнотой бытия и Счастьем — вот резистанс фильма «Дети райка» оккупации Франции немцами... Прекрасное самоосуществление Французства — не смотря, попросту не замечая пришельцев...
«Унесенные ветром» — Америка
3 .VIIL95. Сегодня показывают мне «Унесенные ветром» — американский фильм по роману Маргарет Митчелл: как там Американство выразилось — обдумывать мне надо будет... Ну что ж, настрою мысль снова на национальную волну. И начну со вчерашней реплики Светланы (жены) мне. Сказала она что-то по-французски, я повторил — и мысль такую ей высказал:
340
— Вот французы! Народ — без комплекса неполноценности. Все кругом: немец, русский, англичанин... — страдают им, а француз себя совершенным считает, апломб и гонор, самоцентрированная нация!
— А я тебе скажу, почему, — Светлана. — Потому что умеют утолить женщину. Как одна литературная дама, пе-репробовшая мужчин из разных этносов, мне говорила: «Красив испанец — Аполлон!.. Но все отдам за плюгавенького лысенького французика...»
Я вышел из ее комнаты в столовую-кухню. Через минуту она:
— Это совершенно серьезное объяснение, а не шутка. Ты — вдумайся!
И вот — вдумываюсь...
Однако солнце уже жарит. Пойду-ка лист лопуха сорву на голову: природная панама — не «шапка», а страна Панама на голове осядет. Экватор напомнен тем самым—под нашим косеньким солнышком.
Ух ты: не лопух, а «слоновьи уши» (декоративное растение из Индии,— 19.VIII.95), сорвал и надвинул на голову—и весь, с плечами оказался в тени! А это уж и Индия вошла в состав проживания мною сего дня...
— И англичанин — плохой мужчина, — добавила Св. — Педики недаром.
— Да, хоть и замыкается в чопорность и что «самосделанный» человек, но эта напряженность и есть от комплексования...
Итак, и тут в корне и причине—cherchez la femme = «ищите женщину». Так сами французы всё объясняют, причиняют... Но всеобща ли эта причина? Для мальчика она не существует, а комплекс этот в детстве складывается — среди сверстников, где игры, драки, лидерства... Кто трусил, самоскованность усиливалась — и уже в трудность контакта с женщиной при пришествии в половую зрелость переливалася. И тогда уж возникают разные виды убегания: война, героизм, спорт, творчество, активности всякие (опричь ЭТОЙ)—как сублимации Эроса...
Ладно. Не хочу в этом рыться, умом-носом зарываться снова в вагину. Хватит. Довольно ей отдал я дани — и мыс-лию, и словом. Вынырну... (Книга «Русский Эрос» вышла в 1994 г. моя. - 19.VHI.95).
Итак, переключаю диапазон ума — на Американизм.
Каждому народу нужно иметь свой национальный героический эпос — как «Илиада», «Песнь о Нибелунгах», «Вой-
341
на и мир»... У американцев романы Фенимора Купера замахнулись на нечто подобное: как благородные белые с благородными индейцами рыцарственно воевали в присутствии и спасая прекрасных дам. В этих романах плебеи Старого света, переселившиеся в Новый с тем, чтобы работать привольно и обогащаться, — из грязи в князи своих, себе подобных возвышали, аристократазм стяжевали. То же — и в фильмах «вестернах» = «западных» (буквально): о героической эпохе продвижения с Востока на Запад и колонизации = цивилизации континента. Доселе американцы и подростки всего мира (а американцы — народ подростков по шкале ценностей: недаром Том Сойер и Гек Финн — их архетипические герои. — 19.VIII.95) обожают вестерны смотреть, и их массово производит-штампует кино-бизнес.
Но все же это не тянет на ранг национального героического эпоса. На этом материале: встреча белых и индейцев — не эпос, а миф и сказка, как у эллинов — мифы о подвигах Геракла, его схватках с дикой Природой, а не людьми: с Лернейской гидрой, с Немейским львом и проч. В Америке «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, сей эпос о «культурном герое», — высшее... Хотя той же природы, но уже американского культурного героя, как Геракла, — вывел Мелвилл в «Моби Дике»: это корабль «Пекод» — как «Арго» аргонавтов — под водительством романтического, одержимого капитана Ахава (имя означает «Любовь» — на Иврите) в погоне за Китом (как Геракл — за львом)... Правда, демократизм Американства не позволяет одного Героя выделять. И потому весь корабль «Пекод», сей Ноев ковчег новый, Человечество в разнонациональных персонажах (каков и Нью-Йорк, Вавилон новый, и вообще принцип Американства — собрание лучших из всех народов, иммигрантов) — contra (против) Природа в «лице» Океана и его лидера — Белого Кита...
Но героический эпос, эпопея национальная — это непременно (по материалу) война между людьми: народами или гражданская, как у нас «Тихий Дон», а у них вот — «Унесенные ветром».
Была в истории Америки первая достойная эпоса война — за Независимость, в конце XVIII века, с Англией — за отделение. Причем и там две сверхидеи встретились: Королевство — и Демократия; и выдвинулись героические персонажи, достойные национального эпоса, — такие, как Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Сэмюэль Адаме, Томас Пейн и проч. И тем не менее материалом для национальной эпопеи эта 342
война не стала, а разве что — для гимна США и для их мифологемы руководящей: Декларация Независимости — и Конституция.
А вот Гражданская война 1861—64 гг. между Севером и Югом как материал для эпоса национального — сгодилась. И Фолкнер в «Сарториусе» с меланхолией к этим «преданьям старины глубокой» для его поколения обращается, и вот Маргарет Митчелл (в 20-е—ЗО-е гг. нашего века) — к сим «сказкам старой бабушки»...
И почему именно с позиции Юга, который — отсталый, рабовладельческий и отстаивающий вроде неправильную «каузу»: безнравственный принцип рабовладения и расового угнетения, и кто к тому же потерпел поражение, а не с позиции исторически прогрессивных янки Севера, не с позиции буржуазии и демократии и свободы рынка против полуфеодального Юга и его аристократии, — выступили и Фолкнер, и Митчелл, и вот киноэпопея по ее книге?
Да потому что — ЧИСТОГАН, власть его величества Доллара победила в той войне. Злато — над Булатом = над героизмом, честью и патриархальными добродетелями. И в этом состоянии мира уже необратимо стали жить американцы — и оттого с меланхолией и в романтической дымке начинают идеализировать Юг и аристократизм там, и домашйе-семейный стиль отношений между господами и рабами-неграми.
Тут — великодушие к побежденным, что могут себе позволить именно совершенные уж победители (в отличие от vae victis (лат.) = «горе побежденным!» — принцип не уверенных в себе победителей). Так и у нас: великодушное изображение французов Толстым в «Войне и мире» (хотя и с иронией) — от твердой уверенности в превосходстве Рос-сийства над Западным принципом бытия. И по этому самому — в СССР не могло возникнуть идеализированного изображения прошлой России: империи и жизни царей, аристократии и русских хозяев — как это уже сейчас вовсю идет... Тогда, в Sturm und Drang («Буря и натиск») периоде советской власти, еще боялись и трепетали старого, побежденного; теперь же пролегла эпоха необратимых перемен — и можно стало в искусстве идеализировать и царя, и империю, и все дореволюционное... Однако пора и в город собираться — кино смотреть. Уж II.
4 .VIIL95. Посмотрел вчера, наконец, фильм «Унесенные ветром» — второй в ряду трех киношедевров, что при
343
звался осмыслять в национальном плане. И вот задача: постичь его как именно Американского Духа проявление и творчество.
Что ж, займемся.
Когда идешь на экранизацию произведения литературы, романа, читанного тобою и уже воссозданного внутренним воображением и видением, когда носишь в себе уже сюжет и образы и картины, — все это как некое судящее силовое магнитное поле облучает пришельца в тебя из иного мира искусства — кино. И фильм в таком случае подается на экран не внешний (простыню перед глазами), но и на экран души и ума, где уже заложился твой персональный снимок, твой «извод» (вариант) сего произведения.
Несколько лет назад я взахлеб прочел роман Маргарет Митчелл — как давно не читал, а лишь в детстве так: доверчиво и простодушно, не в силах оторваться даже на ночь. И вот теперь — новый пласт видений. Как если на доску, на которой уже написана икона, пишется новая на эту же тему и образ (ну, как бы на Богоматерь XIV века наложилась запись XVI). И что же? После просмотра этого гранд-фильма, длившегося почти 4 часа, я вынес такое ощущение, что они естественно наложились друг на друга — и не просто совпали «конгруэнтно» (как выражаются про наложение фигур в геометрии), но что фильм проявил те потенции, которые недосказанными залегали в романе, и добавил смысла...
В чем тут дело? По размышлении я пришел к такому предположению: сам роман Митчелл бессознательно писался — как сценарий. Роман — не американский жанр и вид искусства, а европейский, русский. Собственно присущий Американству, его техницистской цивилизации, вид искусства — это кино (= кинетика, движение скоростное, автомобиль! — 19.VIII.95), и в нем наиболее адекватно са-мовыразима Американская Душа.
Но! Америка, как страна плебеев, всегда комплексовала перед Европой, ее аристократией, стилем жизни, литературой, философией — и романом. И строилась — как Новая Англия, Новый Йорк, Новая Европа, новая и литература: поэзия и роман — чтоб не хуже, но — лучше, перешибить в соревновании, как они перешибли в технике, богатстве (обстановочка-то в доме нувориша Батлера в фильме — попуще Людовика Каторза шик!), рациональности хозяйства и в качестве бытовой жизни. Но... — не тут-то было! Гонится Америка за этой мечтой-идеалом, как
344
капитан Ахав за Моби Диком, ан не дается Белый Кит: вот-вот схватишь — а роково ускользает.
Но может, это — не их идеал, не им присущий... Уж сколько раз обжигал их на этом Бог (Судьба), но они всё гонятся... Свое искомое выступает в чужой форме. Себя не знают, но страстно ищут; строят свою реальность, осуществляют себя де факто, но де юре, в сознании, ищут себя в другом месте и по иным нотам.
Вот тайна Скарлетт, главной героини. Она — как Американская Психея, что себя таковой не знает и ищет не там. В ее уме нет соузнавания с собственной сутью, нет сократова «познай самого себя!». И парадокс: она ЕСТЬ на самом деле — прекрасная, жизненная, героическая, одареннейшая и творческая, и реализует себя и проживает именно ей присущую жизнь! Но гонит-ищет-преследует Американскую Мечту где-то в иных измерениях Бытия. Живет — не БЕСпамятно, а как бы ДО-памятно: до знания самой себя.
Но именно в таком несамосознании еще себя — она подлинно САМА И ЕСТЬ — в своем истинном существе. Ибо, как только узнает — исчезнет в своем качестве-сущности. Как сон — при пробуждении. Как Жизнь — по Смерти.
В этом смысле роковой ее мужчина, Ретт Батлер, кто как раз угадывает ее сущность, знает и любит, — есть образ Смерти ей: недаром в черном он, как Ангел смерти, как булгаковский Воланд, с мефистофельской все понимающей усмешкой. И потому Скарлетт и влечется сутью к нему — и не дается, чует смерть свершения, законченности, совершенства — и ускользает в последний момент.
Ибо иначе рационально не постижимо: отчего они, так подходящие друг ко другу, только коснутся — отталкиваются?.. Как одноименные заряды электрической энергии? Родные души? Или контрастные?
Разберемся в этом. Тут, конечно, — и то, и другое, как в самых мощных метафизических парах любовников в мировой традиции. Меж ними — odi et ашо катуллово: «ненавижу — и люблю!» Притяжение-отталкивание...
Ну, конечно: Скарлетт и Батлер = Женское и Мужское в американском варианте. Психея и Амур — как Демон-Люцифер. Жизнь и Смерть.
И то, что Скарлетт не допускает себя стать жертвой, как в аналогичных сочетаниях в европейской культуре: женщины — жертвы Дон Жуана, героини-жертвы романтических демонов в XIX веке, Гретхен — жертва Фауста и
345
т.п., — это уже общезначимое ОТКРЫТИЕ Американской Психеи для мировой цивилизации, культуры и Духа.
Гретхен нравственнее Фауста, его жертва. Скарлетт сильнее и даже безнравственнее Люцифера-Батлера: тот в конце вочеловечивается, полюбив дочь безумно и отвратившись от Скарлетт — за ее антиматеринство... Когда я мать мою, читавшую роман, спросил, что ее поразило там, она сказала: жизненная цепкость Скарлетт и что она — плохая мать, не мать...
О, это важнейше! Это мне напомнило, как моя студентка в Вселенском университете (Миддлтаун, штат Коннектикут), когда я там в 1991 году преподавал курсы «Национальные образы мира» и «Русский образ мира», Маша Рас-кольникофф (в возрасте семи лет вывезенная из России с семьей), ярая феминистка, что не давала себя пропускать вперед к двери и подать пальто, — в своем реферате сопоставляла героинь русского романа именно со Скарлетт: она не жертвенница-страдательница мужчины, но борется за счастье и самореализуется. Скарлетт — как знамя и предтеча современного феминизма, что есть мощное идеологическое и социальное движение в США.
Да и имя ее многозначаще: Scarlet = Алая. Как кровь. Сок, энергия и сила Жизни. Она = Жизнь, по преимуществу. Как и Ева — Хава, что на иврите означает буквально «жизнь». Так что Скарлетт — это Ева по-американски.
А что же тогда Батлер? Он — вторичен, что касается импульсов поведения, как и Адам: тот ведь совсем пуст, пока Ева не вложила в него через соблазн Змия — интерес к познанию. Так и Батлер: как ни героичен по виду и брутален по поведению, в сущности-то имени своего — butler = «слуга», «лакей», «дворецкий»...
Так что такая они — мистическая и мифологическая пара во Американстве, в Американском мифе о себе, куда вклад творят и роман, и фильм.
И еще тут есть национальные смыслы. У американского писателя первой половины XIX века Натаниэля Готорна есть знаменитый роман «Scarlet Letter», «Алая буква», где главная героиня, женщина исключительная, страстная, клеймена этой буквой — как «ведьма» (как в процессе громком над «Салемскими ведьмами»). Вон откуда тоже Скарлетт, ее генеалогия и сверхидея, ею выражаемая. Само имя ее — это «Алая буква» в стяжении, ибо слог «лет» входит и в «скарлет» и в «леттер». Отсюда два «т», хотя могло бы быть — одно.
346
Итак, мы упираемся в сюжет Мужского и Женского, Ян и Инь — в американском варианте. И он — в том, что Женщина тут не остается в своей, положенной ей по патриархату мировой цивилизации в нынешнем эоне, роли — пассивной субстанции: Матери-и земли, ПриРОДы, чье дело — рожать, но стремится к полному равноправию, включая труд, индустрию, технику, бизнес. И принося в жертву этому — материнство и сокращая пространство и роль Любви. Так что в романе и фильме перекрещение Ян и Инь происходит: Батлер да дрожит-пеленает дочку, а Скарлетт да руководит лесопилкой и ведет счеты.
Но кабы было только так — было б скучно-прозаично: в реализации — конец, смерть. Жизнь же, Красота и Искусство — именно тогда, когда и ТО, И ДРУГОЕ: оба состояния мира и души в переходе-перетекании-борьбе друг с другом. Тогда оба полюса Бытия со-держатся, знание полного Целого в нас ввергается, в его игре, при ней мы присутствуем и созерцаем. Так и самодержится бессмертное произведение искусства: в нем — перелив состояний мира внутри него вечно происходит, оно — самопитающийся источник, в нем энергетика, перпетуум мобиле источающихся смыслов, не прекращая(сь)...
Теперь повникнем поглубже: в чем суть Американства, отставя пока в сторону вопрос о его понимании самим собой — в мысли, искусстве, в романе и кино этом?
Американство (имеется в виду США — и Канада. Север континента) — это опыт построения искусственной цивилизации переселенцами со Старого света, из Евразии — на новую планету: чтобы начать там жизнь по новым основаниям — разумным, Божьим (ведь пуритане строгие с Богом туда переселялись, гонимые в «растленной» аристократической и атеистической Англии). Работяги — с Библией. Сектанты самоуверенные, что вся истина — в их понятиях, все же опричь — от Лукавого: в том числе и местная Природа, леса и реки, и туземцы-язычники, кого они даже порабощать не собирались, ибо работать-то сами хотят, а иного — повелевать! — не умеют (то аристократов, благоРОДных, понимающих принцип ПриРОДы дело), но истребляли, как деревья вырубали. Таковы рационалистические роботы труда-работы и капитала-техники — янки, модельные американцы, ВАСПы (White Anglo-Saxon Protestant). Таков экстремальный американец, в пределе. Отпрыск Англии, ее «само-сделанного человека», что тут наработал «самосделанный мир». Остров Англии — предтеча и старт на материк Америки...
347
Но есть другая — Южная Америка, Латинская, романская, католическая. Туда переселялись люди — не работать, а властвовать, и они уже не истребляли туземцев, а порабощали, смешивались с ними, — и в итоге происходила креолизация, метизация населения: новые породы антро-поса-этноса образовывались.
Переходный меж ними вариант — это Юг Северной Америки. Туда первично французы высаживались: оттого там и штаты — от французских слов-имен: Луизиана, Каролина, Виргиния, Новый Орлеан... Там селились и ирландцы-католики, гонимые как англиканской церковью, так и пуританами. Люди тут, по типу, — переходны от Материка Евразии, от Европы и вселенскости католицизма с культом Матери Бога (= Матери-и ПриРОДы, значит) — к «ургийности» (производственности) англосаксонства, гер-манства, для которых все возникает — из Рацио и Труда и от Духа Свята, а не из Любви-Эроса, Природы = рожания и от Матери-и.
Скарлетт — О’Хара: ирландка по отцу и француженка по матери. И в ней живет странная в прогрессивных американцах-переселенцах любовь к земле, к родовому гнезду — Тара. Она все туда, как к магниту, стремится и припадает: тяга земли и корней в ней, тогда как полномерные американцы лишены корней, «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» их не волнует, и снуют-пере-селяются по континенту туда, где есть работа, оставляя по пути могилы родителей; дети же в подростковом возрасте отцепляются от родителей — и зарабатывают сами, и учатся в других местах: все «гонийные» (природные) связи ослаблены в угоду трудовым, «ургийным».
Прелесть-обаяние Скарлетт — в ее синтетичности, или точнее, синкретичности ее сути и образа. По сути она становится — янки: сама трудяга, после войны и пожара родового имения вся в трудовых хлопотах и хлещет по щекам своих «принцесс» — сестер-белоручек, что гнушаются крестьянской работой, когда они нищи стали. И потом под силой Нужды она становится расчетлива, хитра, корыстна (как и ее предок в Европе — Ребекка Шарп в «Ярмарке тщеславия» Теккерея, английском романе). Все это — де факта, в реальности... Но в голове у нее — идеальная романтическая любовь к Принцу (словно из сказки Шарля Перро), кого она усмотрела в интеллектуале Эшли, кто действительно голубая кровь, анемичен-беспол достаточно, как англичанин-альбинос; он аристократичен, выморочен, обречен...
348
И она преследует его как Идеал, словно надев шоры на действительность — и его, и себя самой, и клокочущего становления новой жизни, цивилизации вокруг.
И понятно: она-то, в сравнении с Эшли и его кузиной-женой Мелани, конечно, плебейка, не «леди», да и дурочка: книжек не читает и на фортепианах не играет. Руки же у нее — задубели от стирки. И она, разумеется, не понимает своего избранника, которому бы все за книжками в библиотеке сидеть. Она же ему: убежим! бросим всё, начнем новую жизнь! То есть предлагает именно американский путь и принцип: оставить старое (Европу, Родину и все прошлое), перекреститься в водах Атлантики — и уплыть в новую жизнь. Она это может, хочет, готова... Но и она уже вплетена в начавшуюся историю Америки, ее Судьбу и Рок, что начинает вязать и Американскую Психею, как многотысячелетнее прошлое вязало волю людей, народов Евразии, пригибало к земле и традиции. И тут тоже, пусть десятилетняя, ну столетняя, а традиция образовалась и в США.
И сюда как бы иммигрировал Европейский сюжет: между англо-германским, протестантским, капиталистически буржуазным, городским-гражданским, чистоганным, прогрессивно-демократическим Севером (где «янки») и романски католическим, полупатриархальным, аристократическим, романтическим, поэтическим — и отсталым Югом. Тут еще просторны усадьбы землевладельцев и живет рабство негров — правда, полудомашнее, с любовно-заботливыми отношениями между господами и Мамкой-кормилицей и Добрым Сэмом (кто как дядя Том у Бичер Стоу). Этот сюжет и сказался в Гражданской войне между Севером и Югом, что составляет исторический фон драмы героев романа-фильма нашего. И это не просто «фон» или ординарная война. Это — столкновение двух всемирно-исторических принципов устроения Бытия, хозяйства, общества и человека: полу-патриархального, основанного на любви-рабстве, — и современного, основанного на рассудке, числе, труде, эгоизме, корысти, на свободе и демократии, на науке и технике (тогда как тот — на мифе, на сказке, на поэзии, на идеальном...)
Вот это всемирно-историческое действо и разыгрывается в американском варианте в нашем-романе-фильме. Это тот же сюжет, что и в «Илиаде», где хитроумные ахейцы, технически вооруженные (Троянский Конь один чего стоит!), индивидуалистические, раздорные, демократически собранные в Союз, — воюют против патриархальной
349
полуазиатской Трои, с ее родово-семейными отношениями под любящим старцем Приамом... Эта же коллизия миров — и в «Гамлете», где
Распалась связь времен, причем в нем самом они оба: и инфантильная любовь к отцу, с понятием о чести и долге, — и ум, индивидуализм и рефлексия человека Нового времени... То же и в «Евгении Онегине», в «Войне и мире», в симфонизме в музыке: борение главной и побочной партий и т.п.
Так в чем же американский тут вариант? Мы кружим, но заходя с разных сторон и идей, все ж, кажется, загоняем трудно уловимый предмет в стойло-хлев — понятия его...
Стойло-хлев и скуку, конечно. Ибо как царственно гулял он на воле — на пространстве романа и кинокартины! А мне — сузить его до понятия надо. Выдоить квинтэссенцию, суть. СКУТЬ она — суть!.. И все же — тоже хота-охота: интеллектуальный танец, игра — уже ума.
Американство — это порыв Человечества начать совсем новую и хорошую, Божескую жизнь, построить ее на разумных основаниях и учитывая опыт зла и минусов — в Старом свете... И что же?
Ушли? Врешь! Всё — там же! — как писал где-то в письме Мусоргский — о прогрессе. И тут выплывает злоба и бесовщина — и глупость и поэзия, и все пестрое, что есть в человеческой природе...
И всё же! Выплывает — ПОСЛЕ прорыва, который — БЫЛ и ЕСТЬ и постоянно действует как актуальный фактор: Американство непрестанно самокорректируется в стремлении — к САМОМУ ЛУЧШЕМУ. И это — Американская Мечта. А корректировки ее действительностью Истории и Человека — восхитительное зрелище нам, из старой Евразии, взирать на наивную, еще молодую и малоопытную во Зле и Рефлексии Америку. Она всё — пытается! Неуемная! Как Скарлетт... На нее и взирает скептик-циник Батлер, как европеец — на американку. Он же туда-сюда снует: в Европу-Англию за кружевами женщинам и оружием конфедератам, торгует и с южанами, и с янки, потешается над мушкетерским хорохореньем южных аристократических мальчиков, которые, как он предвидит точно, будут разгромлены вооруженными техникой северянами.
Батлеру все равно — чем торговать и с кем. Он — как Капитал, с его свободомыслием и беспринципностью = всепониманием. Но и он в глубине своей знает свою Ахиллесову пяту — недостаток жизненности. Что он может всё
350
пересочетать, перекомбинировать, перевезти, переосмыслить, но — зачать, родить — даже злак или музыку — это дано Эросу, Лю&ви, ПриРОДе, Матери-и, Женскому. Он может сколько угодно потешаться, Разум, над дурочкой Жизнью и Любовью, но она, как злая Скарлетт, неудержимо влечет его, и он от нее зависим — и вторичен. Ради Скарлетт он совершает глупые (в его понятии) рыцарственные поступки: идет воевать в потерпевшее поражение войско южан, ведет себя рыцарственно, как принц: мог бы овладеть Скарлетт — против ее воли, хотя он чуял волю внутреннюю ее существа страстного, что хочет, чтобы ее ВЗЯЛ мужчина! Но никто не смеет — даже Батлер...
6.VIIL95. Застрял в Переделкине: вчера ливмя лил холодный дождь и совсем не охота ехать-идти лесом по мокроте в деревню в холодный дом. А тут обжито, кормяще... Еще соблазн — телеглаз в мир. Вчера увлекся кино: как раз американский фильм «Здесь течет река» смотрел, реалистический, бытоописательный и в то же время серьезнопоэтический: про жизнь семьи пастора с женой и двумя сыновьями в северном штате Монтана в малом поселении на берегу реки горной. Совсем другой космос, нежели в «Унесенных ветром», и стиль жизни тихой, медлительной, затаенной, как бы оцепеневшей, околдованной огромнопрекрасным миром — гор, лесов, реки, безлюдьем. Космос Гайаваты. Тут бы им, индейцам, пристало жить-оби-тать. А живут — белые, янки, пресвитериане. И когда единственную индианку тут ввел в ресторан дерзкий младший сын пастора, на нее хищно-злобно уставились квадратные лица примитивных, но мощных трудяг, кто чреваты дракой после виски и дыма.
И вот самое живое здесь — река горная, пенистая, порожистая. Она — как Скарлетт = неуемная жизненность, и дразнит овладеть ею. Как вон подростки на спор — на плоскодонке бросаются проплыть через водопадный порог... Или рыб, форель тут ловить. И это — лейтмотив: и в начале отец-пастор учит сыновей, как ловить на муху, и в середине фильма взрослые братья состязаются в ловле рыбы, и в конце старший, уцелевший сын, уже старик, всех похоронив, насаживает морщинистыми руками муху на крючок и забрасывает в воду...
Тут — оцепеневший космос, как Берендеев у нас. В «Унесенных ветром» — мир вздыбленный в архи-действиях активных: война, пожары, страсти. «Шум и ярость» — как
351
южанин Фолкнер озаглавил свою книгу, цитируя Шекспира из «Макбета» — про жизнь, что = театр, спектакль, «полный шума и ярости, ничего не означающий»...
Нет, пастор объясняет сыновьям-мальчикам, беря камушек из реки: «Ему полмиллиарда лет. А под ним — Слово, слова...» (имея в виду Слово, каким Бог сотворил мир, — Логос). Дыхание Вечности — в космосе, в пейзаже Красоты царственной. И при нем — насельники, пришельцыг люди. Колония бобров или муравьев... Хотя нет: эти-то тут свои, космосьи, а эти — явно прилетные птицы, тут не-у-мест-ные, иной породы. И какой-то стыд в этих людях обитает: в оцепенелости ритма жизни, реакций, молений в церкви. И в вечно полувиноватой улыбке главного героя, старшего сына, кто остается после всех: еще вместе с родителями он похоронил младшего брата, взрывчатого, кто пьет, курит, играет в покер, дерется, рискует — и убит в драке, переломаны кости. А вершина его жизни, кульминация — когда он сфотографирован на вечность с пойманной им огромной рыбой, ради которой он проплыл с удочкой порог — и все ж удержал уду и поймал рыбу (как Старик в повести Хемингуэя «Старик и море»). Равен — Реке.
Да, словно первородный грех разлит в воздухе — в оцепенелости леса, в замедленности и рутинной скуке, монотонной череде женитьб и смертей в людском мире белых людей, жизни, что слегка повозвышена задумчивостью при сидении в церкви на холме и слушании слова проповедника. Человек тут — как «чижика съел!» (из сказки Салтыкова-Щедрина про Медведя, кто — как не стыдно: чижика съел! — и идет по лесу, и из-под каждой травки и из дерева ему трубит эта фраза: «чижика съел!» — так мерещится...)
А американский первородный грех — это истребление индейцев, при-сущего тут племени людей. Хотя и взяли силой бездушной техники, а все равно — гостевые вы здесь существа! — как бы трубит им Природа... Правда, это совпадает с меланхолической думой — о преходящести Жизни и человека вообще. Но есть и этот, сугубо американский оттенок, вариант первородного греха: в несоответствии Природе, Космосу — и в насильственности, несообразности их тут поселения, этой породы человеков. Потому американцы тут или оцепенелы, как порядочные пуритане, держатся обетами религии, или взрывчаты, самоубийственны (как младший брат): нетерпеливы, неуживчивы...
Итак, оцепенели горы, леса, городок человеков в их рутине, — но бешено стремится бело-пенистая река. Ею —
352
как бьется сердце местного космоса. Она — квинтэссенция его, дистиллят его бытия, наилучшее, что он из себя выделяет в сне оцепенелой Вечности. И это — Временность, страсть, Жизнь, Скарлетт! Узнаем ее и в обличье этой Реки горной на севере Америки в штате Монтана (= «горы»), как и в южном штате Джорджия в фолкнеровском «Шуме и ярости». «Вы как огонь, как ветер, как что-то дикое»1, — определяет Скарлетт страшащийся ее анемичный Эшли.
Да, не сведешь суть Америки к той или иной из четырех стихий (земля, вода, воз-дух, огонь), но она именно «пятая» («квинт») эссенция = сущность, из них выделенная. И это — энергия, чистое стремление, преодоление препятствий несмотря ни на что, глупость возрождаться и начинать сначала и прорываться к успеху-победе, которые всегда временны и отбрасывающи, а ты не отчаивайся — и снова начинай. Как боксер-мексиканец на ринге в рассказе Джека Лондона. И — как наша Скарлетт. Которая — именно Душа Америки, воплощенная в человеческом облике, Психея Американства.
Как камни-пороги, через которые в стремнинах бело-пенится река, так и Скарлетт — среди препятствий: обетов-клятв, что она, как епитимьи (непонятно, за что), в опрометчивой пылкости и глупости своих реакций, наложила на себя. Так, Эшли она обещает заботиться о его жене Мелани, а когда та на одре — обещает ей заботиться об Эшли! — и так опутывает себя, будто мало и так существующих препятствий на пути человека и в отношениях между людьми, в законах, — для реализации своей сущности, для жизни по своей воле, из «я»! Абсурдны эти обеты, в них — глупость Скарлетт, ее незнание самой себя, по чужим нотам и правилам игры тут действует. Но—тем прекраснее ее бесшабашные порывы, отчаянные рывки к счастью... Нет, нельзя тут эти категории: «отчаяние», «надежда» — как мотив приводить: они рассудочны и теряются перед той «неуемной жаждой жизни» (с. 151), которой в Скарлетт страшится умный Эшли.
Но что же это я всё — внезрелищно рассуждаю? Где ФИЛЬМ? Кадры где?.. Хотел механичной выкладкой ума тут же сказать — о динамике его действия, напомнить кадры пожарищ, смятения, движения людей, толп, масс, скачки карет... Да, все это есть тут — и великолепно снято. И все
'Митчелл Маргарет. Унесенные ветром. — М., 1984. — С. 151.
353
12 Гачев Г. Д.
же — не в этом главное дело. Динамика — в Скарлетт. И чтоб оттенить ее, — вокруг нее не меняющиеся, статуарные характеры Мелани и Эшли, круг чопорных леди и джентльменов, и тоже статуарный, верный себе циник Ретт Батлер... И если стремительность Скарлетт встречается со стремительностью событий, картин подвижной наружи: бегущие в панике толпы людей или ряды отступающей армии, — то вектор ее бега — против течения. Она — как форель, что именно против струй горной реки упружит. Как самолет, что на упругости ветра, как на воздушной подушке, взлетает, взмывает...
О, это иной вид Материи, Тверди! Не земля и камень могут быть опорою — сии образы Вечности и непреложности. Но — скорость движения в невесомости (в обычном состоянии) воз-Духа, в прозрачности света: на них можно ложиться, держаться и висеть, как на и меж силовых линий электромагнитного поля в распяленности его полюсов.
То есть не Вечность, а именно Временность в своем движении стремительном — становится стихией «земли», «твердью», устоем, субстанцией, материей. Дух становится Материей. История в своей стремительной Временности — равносильна и равномощна Истине, Сущности, Логосу, Идее Бытия (что и уловил и пророчил Гегель на метафизическом языке своих категорий, их пасьянсы раскладывая в мысленных экспериментах).
И вот суть Человечества, что проявлялась уже в развитии Европейской цивилизации, в более очищенном виде проступила в новопостроенной цивилизации Нового света. Тут суть — именно в стремлении, в спехе, скорости (а не в до-стижении, совершенстве, у-спехе). Такое пророчили и Гегель, и Эйнштейн: в его формуле Энергии, приведенной к массе и скорости света. И дело человека тут — пытаться снова.
В этом месте рассуждения мне припомнилась американская формула о человеке истинном, что я вычитал у Конрада Хилтона, основателя всемирной системы отелей «Хилтон», в его автобиографической книге «Будь моим гостем». Он приводит там стихотворение одного поэта, что ему с детства врезалось в память, как выразившее его интимный идеал человека. Там есть такая формула:
The man who wins is the man who tries.
Человек, который выигрывает, — это человек, который пытается.
354
Этот идеал противоположен идеалу ДЖЕНТЛЬМЕНа, который — gentle = «нежный», «мягкий», кроткий, благовоспитанный — как Эшли, кто упадает духом при неудачах. А в «Унесенных ветром» как раз идет яростная полемика с этим принципом и идеалом «джентльмена» и «леди». Ретт издевается над идиотиками-мальчиками, джентльменами из южан, что по зову чести и без ума скачут на войну с умными янки. И сам он провокационно не джентльмен, вызывающе. Как и Скарлетт — не «леди», что и нравится ему и роднит их.
Кстати, вот их первый диалог, когда Ретт в библиотеке невольно подслушал объяснение Скарлетт в любви к Эшли и видел ее пощечину тому.
«— Сэр, вы не джентльмен, — отрезала она.
— Очень тонкое наблюдение, — весело заметил он. — Так же, как и вы, мисс, — не леди... Разве леди может так поступать и говорить то, что мне довелось здесь услышать? Впрочем, настоящие леди редко, на мой взгляд, бывают привлекательными. Я легко угадываю их мысли... И это временами становится скучным» (с. 153—154).
Ну да: предсказуемость, логичность (из воспитанности сугубой = опоясанности традицией) — это несвобода. Скарлетт же — непредсказуемость, поперек течения смеет и идет. Как в той сцене, где она, вдова в свежем трауре, идет на бал и становится его царицей, с помощию Ретта...
Между прочим, появление Ретта из-за дивана в упомянутой выше сцене напоминает появление Мефистофеля из камина перед Фаустом — и такие же язвительные и проницательные речи ведет...
Но — вновь к фильму. Музыка долгой Интродукции, как и Интермеццо между частями, — такая неспешная, сентиментально-романтическая, анемичная даже, приятная, но бескровная, не пылкая — как музыка в стиле «кантри» — именно: покойный простор Америки, арену раздольную действия приводит, на нее настраивает. Как бы фон и контраст к имеющей там разразиться стремительной, динамичной жизни, страстям. Меня удивил сперва такой характер музыки. Но когда предположил «от противного»: а если бы увертюра была тут динамичной, бурной — тогда каково?..
Нет, это было бы хуже. Фильм ведь — эпический, длинный — и надо меня настроить на долгое дыхание, а не на прерывистое. Им пусть дышат-волнуются — персонажи!..
А Скарлетт — это нерв и пульс, темп. Какое фортиссимо взяла в этой роли сразу Вивьен Ли — и великолепно,
355
12*
не снижая уровень реактивности, провела сквозь весь фильм! Она enfant terrible («ужасное дитя», франц.), естественный человек среди отмирающей чопорности полуаристократов. Как она на балу приплясывает под юбками, перебирает ногами, как кобылка, в нетерпении плясать кадриль, едва удерживая себя руками за перила! Разве подобает так — леди? А Ретт потом зажигает спичку о подошву — разве возможный это жест для джентльмена? Нет, это жест пионера-первопроходца, кому потребно ноги на стол закинуть для естественного оттока крови. Или — как у нее задралась юбка о колесо коляски Ретта: сразу милая детскость в ней и веселая игра их любви тут сказывается.
Скарлетт вынуждена жертвовать (приняв обеты) — тем, кто мало жизнен: Мелани, Эшли. А сама — Жизнь, переливающаяся через край! Как мотор-динамо, энергия избыточная, что заводит всех...
Кстати, Генри Адамс в своей исповеди «Воспитание Генри Адамса» именно так сопоставил эти силы — в главе «Динамо и Дева». Так он понял образ Девы Марии, что вдохновлял культуру старой Европы в течение тысячелетий на создание ее шедевров — таких, как Шартрский собор или Собор Парижской Богоматери и проч.: тут действует такая же энергия невидимая, как и та, что источает электричеством Динамомашина. Тут важен американский поворот ума, Логоса: чтобы сделать уму американца понятной энергию, питающую художественное, не практическое творчество, ему понадобилось привести к ургийно-му-трудовому, техническому изобретению — к динамомашине, которая — «авто-мобиле» = «само-движимость». Как perpetuum mobile — так и она — самозавод. Не статуарная «Самость», das Selbst Германства, «Я» — Европейского Духа принцип, чей идеал — автаркия, авто-номия, самодержавие, самосделанный человек», джентльмен...
Американство же соединило оба этих принципа: Самость («авто-») и Движение («мобиле») — то, что в проблеме «перпетуум мобиле» составляло идеал исканий ума европейской науки и техники... И в чем открытие их? «Вечного» (Perpetuum) — им не надо. Сняв требование «перпетуум», они впрягли Время (что = деньги) и сопрягли, сочетали браком с «Самостью» — «я»: «авто», свобода, независимость. И так изобрели АВТОМОБИЛЬ, чем и стали независимы от Пространства, земли, материи... И если Колумб открыл Америку, то Автомобиль, изобретение гения Фор
356
да, закрыл Америку: стянул ее тело от океана до океана корсетом дорог-магистралей.
Гонки, обгоны автомобилей — львиная доля кадров американского кино, и это адекватно выражает душу американца. Но в историческом фильме «Унесенные ветром» этой реалии быть не могло. Однако дух автомобиля выражается и в скачке кареты сквозь пожарище, а главное — опять же в Скарлетт, чья жизнь — как авторалли: скачка-гонка с препятствиями... Тот же захватывающий дух трепет мы испытываем, следя за нею: как-то она справится с опо-жаренной и разоренной Тарой, с сельским хозяйством, с содатом-янки, прущим на нее по лестнице, с общественным мнением ханжеских леди вокруг, осуждающих ее, с любовью покоренного Ретта, наконец — с собой?..
Быть сильнее Судьбы — вот принцип Американства, тогда как Старый свет, все культуры Евразии гипнотизированы принципом и волей Судьбы, Рока, Фатума, Анан-ке, Предопределения и прочими «мерами» и «мойрами». И — причинами. Американство же как бы полагает свои причины — в будущем, и живет за его счет — «кредит». «Я проектирую историю Будущего!» — писал Уитмен. Американство не дает себя гипнотизировать логикой причин, начал, но приникает — к целям, задачам, потребностям! Таковы тут ценностные категории.
«Чапаев» — Россия
14.VIII.95. Читал вчера «Чапаева» Фурманова: готовлюсь смотреть кинофильм. Как мифологично, по сравнению с текстом, — кино: сразу дается лик, врезаются в душу сцены, выпукло насыщенные главным смыслом, лапидарные. А в книге — те полтора часа, что идет фильм, тут может размазываться предыстория или описание, портрет, пейзаж или рассуждение — так все ослаблено эмоционально, хотя усилено рационально: ведь через контроль ума-рассудка проходит слово, прежде чем воздействовать на душу и пронять ее. Сперва слово-то понять надо читаемое... А в кино ничего предварительно понимать не требуется: сразу ударяет через прозрачность глаз = отверстий души в нее, сердешную.
Но каково ныне читать — про одушевленных разгромленной верой?! Слепцы? Глупцы?.. Вообще-то даже непонятно, ради какой идеи едет полк рабочих из Иванова-Вознесенска на Урал, а там крестьян-мужиков отряд воюет против казаков и офицеров-господ. Ну, последние луч
357
ше тех, богаче жили. А при чем тут Маркс, Коммунизм как формация, Революция даже? Это все было притянуто за уши, налеплено, подверстано интеллигентами: под свою каузу подвели слепую народную ярость — как «классовую ненависть», ее энергию использовать...
Как и сейчас: нюхательную неприязнь разных пород-этносов-вер друг ко другу раздувают в пожар войн и «этнических чисток» — ради идей Национальной независимости, Суверенитета, Государства! Еще ниже и зверинее идеал, чем социальной справедливости принцип.
И тем не менее, коли вынести за скобки тот или иной рационалистический идеал, остаются: человек, друг, талант, характер, герой... — и обратное: подлец, эгоист-шкура, бездарь, безликость, трус...
Так и тут: на фоне серости-скуки одноцветных рабочих и их речей — пестрота, цветная картина, живописная речь и своеобразный ум самоцветного самородка Чапая и его дружинушки хороброей. Как если бы современный рационалист, правильно мыслящий этический человек, комиссар Федор Клычков, — перенесся бы в былинную эпоху, в эпос богатырей киевских, иль к запорожским казакам — в эстетику героического эпоса, в первобытность народной жизни, в «Илиаду»... И вряд ли богатыри: Илья Муромец и Добрыня Никитич были умом иные, чем Чапай, а воины, наверное, так же страдали от вшей, спали вповалку у костров, сушили портянки и пели песни...
Или иная, ближе — модель уже культурного освоения народного мира приходит на ум, встреча просвещения с ним — это «Капитанская дочка» Пушкина. И там аналогичная пара: честный добрый малый Петруша Гринев (= правильный марксист-большевик Федор Клычков) — и Емельян Пугачев («Пугач», как и «Чапай» попросту, сокращенно, «по-уличному»), вождь народной вольницы, самородок и самобытный ум и нрав непредсказуемый: то грозный, то щедрый и милостивый. Эманация гения русского народа, протуберанец его энергии и красоты.
И в обоих мирах — пение, песня: «Не шуми, мат^и, зеленая дубравушка» у пугачевцев и «Черный ворон, я не твой» — у чапаевцев: обе как бы песни судьбы, плачи-причитания над собою, уже приговоренными. Как Пушкин писал про пиитический ужас, с каким внималась эта песня про виселицу приговоренными к виселице, так и в фильме, помню, потрясает душу это пение — как заклинание, чтоб отвести нависшую Смерть...
358
Но эпический герой смотрится извне, лапидарен: нутрь души его сокрыта и даже не предполагается имеющей быть. И потому, когда погибает он в битве, — это так и положено, и плач по нем ритуален, а не хватает за душу. А вот Чапай нам пронзителен, ибо душа его раскрыта, распахнута и в книге и в фильме.
Вот портрет его: «Обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, видимо, не большой силы (значит, не из Голиафов, что берут величиной-массой, а из Давидов, кто берут умом-храбростью — и вдохновением = подачей Божьей сверхсилы и огня и таланта в момент боя. А если приложить к эллинским моделям, то — не из титанов, поколения хтонических, сыроземных детей Матери-земли Геи, но из поколения Зевса, богов малых и сухих, но вооруженных перунами. — Г.Г.), с тонкими, почти женскими руками (Стоп! Да ведь «руки, как у артиста» отмечал Чехов в Лопахине, талантливом самородке, купце-предпринимателе русском; из той же породы, типа и традиции и наш персонаж. — Г.Г.), жидкие темно-русые волосы (и Яков из рассказа Тургенева «Певцы» припоминается — тоже не с густой шевелюрой брутального молодца. Невзрачен, а как запоет... — в миг вдохновения куда унесет нас!.. Тоже «Пока не требует поэта К священной жертве Апполон...» — тот же тип русского человека и Психеи, где резко различимы будни и праздник — творчества, боя, подвига и жертвы... Как и в судьбе России различимы периоды полусна, застоя — и красота ее в «минуты роковые» Истории. — Г.Г.) прилипли косичками ко лбу; короткий нервный тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы...»
Стоп опять! Нервная плоть, просквоженная духом и душой, так что в этом случае сама «натура» талантлива, умна, реагирует чутко и верно — и без надобности ума отдельного, рационалистически образованного, что и академию кончит, а дурак дураком останется. Чапаев же не вынес скуки учебы в академии — лишь два месяца смог. Но зато как проницательно читает карту перед боем, воображением оживляя местность!..
Кого же еще мне напоминает этот типаж? Да! — героя Шукшина: и его самого, и Егора из «Калины красной». Как борзая он, с чутко реагирующей нервной телесностью, где вся она — огонь и всполох, с трепетно дрожащей кожей: будто и без кожи, нагая душа в каждой клеточке проступает... Но продолжим далее облик Чапаева промышлять.
359
«...блестящие чистые зубы (как у породистого коня: лошадей ведь по зубам проверяют, и Чапай — всадник, в коня влитый = кентавр. — Г.Г.), бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы (щеголеват, как и герой Пушкина: подобран, эстетику чует — Г.Г.). Глаза... светлосиние, почти зеленые — быстрые, умные, немигающие».
Русские глаза: в них небо синее светится; или глаза озерные, прозрачные (не Китеж ли в них?) = проходящие: душа — сквозняк, а не эгоистическая страстность, как в глазах черных... А сочетание: «быстрые» и «немигающие» — многозначаще. «Быстрые» = огненные: та же нервность в них, что и в породистой, аристократической его телесности, быстрый ум и реактивность моментальная, чуткость натуры. А вот «немигающие» — это = внимание, сосредоточенный взгляд ума, не «твари дрожащей» беглость от ответственности, но — уставленность, самостоятельность, самообладание; глаза колодезные, глубину и ось Бытия внемлющие в медитации; ведающие Вечность, а не трепет Времени и текущего момента лишь злобу дня...
«Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, без морщин»1. Однако остановлю себя, а то не фильм, а роман и его текст увлекусь анализировать.
Пойду-ка пока накопаю картошки и прочее соберу: в отъезд ведь сегодня мне из деревеньки нашей...
15.VHL95. Вчера читал «Чапаева», а сегодня утром газета попалась — про наши тюрьмы и СИЗО, где содержатся подследственные. Такой ад. «Камера ждущих приговора мужчин. Их здесь 98 вместо 34 по норме. Липкий сводчатый потолок, забор двухэтажных железных коек, мутное окно в клетку под потолком. На всех один кран с тепловатой водой и одно «очко» с ужасающей вонью» («Московские новости» 1995, № 53). Чапаев и большевики сломали царизм, который построил тюрьму в Нижнем Новгороде на 1000 узников; по советским нормам там — 2500, а ныне содержится 6000. Вот — мера ПРОГРЕССА. При том, что населения меньше, вымирает, а страна пустует, ибо из сельского хозяйства и деревень в города скучиваться перегнали народ.
'Фурманов Дм. Чапаев. — М., 1950. — С. 50.
360
И вот наплывает в ум вопрос: ЗАЧЕМ? Какою иллюзией одержимы борцы ПРОТИВ всякого наличного состояния мира? Как смеется бес-искуситель после сбывания надежд и побед!
А ну-ка: каким умом и понятиями о мире, истории и обществе руководствовались Чапаев, комиссар и бойцы-мужики? Один мотив — зависть! Ненависть, разжигаемая пропагандистами. Никаких позитивно-строительных идей и ценностей: лишь бы «справедливо поделить», чтобы не было «господ» с холеными лицами и руками, как офицер, кого разоблачил Клычков и велел расстрелять. Какого-нибудь Гумилева, или Блока, иль Чайковского — белоручек...
А Чапай-то — на что пригоден? Только — воевать. Мужик — никудышный, крестьянствовать не любит; семьянин — никудышный: жена изменила, сам всё солдат... «Федору показалось, что с ребятишками (своими: в его село заехали. — Г.Г.) Чапаев обходится без нежности; он его об этом спросил:
— Верно, — говорит, — с тех пор, как у меня эта щель семейная объявилась, ничто мне не мило, и детей-то своих почти што за чужих стал считать...» (с. 109).
Итак, рожден для боя и славы: на сцене боя вдохновенен, артист. И только эстетически можно воспринимать его и братву его. А что касается смысла и целей — это надо вынести за скобки. Во всех армиях и за любые цели боевое товарищество и геройство — это инвариантные ценности, безразличные к тому, что за их скобками: идет ли бой против «фашистов», «коммуняк», «террористов»-арабов, «сионистов», сербов с хорватами, чеченцев с русскими, хохлов с москалями, запорожцев с «проклятыми ляхами» («Тарас Бульба») и т.п.
И рассудочный комиссар верно фиксирует — мгновенность этой красоты — Чапая и его стиля «жизни»: «И Чапаевы были только в те дни — в другие дни Чапаевых не бывает и не может быть: его родила — та масса, в тот момент, и в том своем состоянии» (с. 168).
Какая же это «масса» — разберем: «Масса была героическая, но сырая... Та масса была как неэкзальтированная» (с. 168). При этой «сырой массе» Чапай — огонь и нерв, вспыхивает и потому нужен как вождь. О нем комдив Сизов, с кем они чуть не пострелялисы «Он ведь какой — огонь! Чего с него взять? Запалит, да того и гляди,, и сам сгорит... Досматривать надо, а тебя не было в то время» (с. 177), — говорит он комиссару.
361
Итак, Чапай = огонь и пожар, а при нем требуется остуда и вода рассудка, что и выполняет комиссар Клычков: холодный ум при огне эмоций. Ум Чапая и характер — детский, и соображения его о мире — совсем мифологические. Такому достаточно: «гидра мировой буржуазии» и «братство мирового пролетариата» «против царя и господ» «за землю, за волю, за лучшую долю»... Ну а в религиозных или национальных войнах — против «гяуров» или «жидов» или «неверных», «язычников» = нелюдей разного найме? нования-наклейки...
А «масса сырая» — от матери сырой земли России. Ее чадо, сын — русский народ. Огня ему не хватает и членораздельности = единоличности: чтобы слитную массу аморфную превратить в собор личностей свободовольных и граждан.
Стоп! Что же это я сформулировал? Как раз идеал «гражданского общества» и «демократии»... Нет, не то...
Аморфная «сырая масса» — это, конечно, нехорошо: не дух, а материя преобладает тут. А если «дух» — то коллективный, общий из всех, а не из каждого — лично продуманный и выношенный. Ума своего нет, а есть заражаемость, воспламенение — от спички привнесенной идеи. То-то Фурманов так эту массу понимает: «экзальтированная». А это — эк-стаз = «выход из» (буквально) себя — из «я», личности; а тут и не из чего выходить-то... Наркотик общей верЫ-устремления, что доводит человека до бесчувственности личной жизни, которую не жаль положить. Влечение к смерти выпрастывается и получает оправдание. Ну и раз сам готов жертвовать собой — то ничего не стоит и убить другого человека...
Все это исследует автор книги «Чапаев». Она, конечно, никакой не «роман», а «художественное исследование», каким жанром Солженицын верно свой «Архипелаг...» обозначил: изучение феномена социума и общественной и человеческой психологии. Ближе — к «физиологическому очерку» натуральной школы XIX века.
А вот фильм «Чапаев» — это уже не «исследование», пусть и «художественное», в котором Чапай — объект отстраненный (хоть и любимый), как инфузория или бабочка — цветистая, роскошная, экзотическая, но ко мне и нам уже отношения не имеющее существо, локализованное в своем месте и времени: оно прошло, уникально, в тот момент, а мы — иные. Нет отождествления... Впрочем, и у Пушкина нет самоотождествления с Пугачевым. А то
362
же — дивование, восхищение. Но нет анализа-исследования. Для того отдельно у него книга «История Пугачевского бунта». Книга же Фурманова — это как если бы «Капитанская дочка» и «История Пугачевского бунта» слились в один жанр... Как, собственно, уже у Толстого в «Войне и мире» сложилось.
Фильм же «Чапаев» — это, конечно, эмоциональное пронзение, заражение души, инфекция образами, картинами страшной силы впечатывания в душу зрителя, так что после него выходишь — весь продавленный и в слезах от любви и сострадания к драгоценному сосуду человеческому, что вот пожил, герой-идеал и дитя, — и разбился. Как Икар в своем полете.
Отрываясь от строк слов книги, вижу-вспоминаю кадры фильма: как Чапай картошками диспозицию боя выкладывает, как поет «Черный ворон, я не твой», как летает в бурке перед цепью дивизии, как судит мародера, как, застигнутый врасплох, бежит в кальсонах на берег реки, как плывет по Уралу, и голова его в венце из булькающих пуль еще раз всплыла — и погрузилась... Вижу еще психическую атаку каппелевцев, Анку-пулеметчицу и Петьку-ординарца, сего Фигаро, Сганареля-Лепорелло при герое высоком, Дон Жуане... Еще слышу Лунную сонату и вижу холеное тело лысого полковника, а по комнате, переваливаясь медленно, как медведь, проходит русский смерд — слуга верный, немой, как Герасим в «Муму»; но и в нем назревает бунт: «Митька помер!»... Смерд. Медъеръ. СМЕРД-ВЕДЬ = русский мужик, крепостной...
Но что уж соделала советская эпоха — это разъединила «сырую массу» народа, расчленила — и так властвовала. Но каждый из русских еще ошеломлен разъединенностью, покинутостью на себя: ведь сам еще мальчик, недоросль, и тянется по старой памяти, недавней, сыроземной, утробной, из лона «матери сырой земли», — снова к ближнему, склеиться, и клеем выступает — ВОДКА, сия «огне-вода», панацея от засасывающей тяги матери сырой земли. За бутылкой мы снова — братва, и «ты меня уважаешь?». Тут важны эти появившиеся «ты» и «я» = следствие членораздела человека от человека, разрыва общности.
И верно: в советскую эпоху уже русские стали удивляться спайке и взаимопомощи людей из малых народов: как татары, эстонцы, евреи друг дружке помогают, вытаскивают. А русские стали безразличны к беде русского
363
же: пропадай — не помогут... А не было так: общинно заботились, и гостеприимство, и страннолюбие... А ныне — каждый сам за себя уж более. И лишь на миг водки-бутылки спаяны. И тогда из людей снова «экзальтированная масса» — под наркотиком-«шафе», огневодой воспламененная, и готова на смертный бой — друг с другом в драке...
Тоже особое состояние — исключительное, а не будничное. И в нем совершают преступления — и попадают-переваливаются уже на ТОТ СВЕТ = в загробную, тюремно-лагерную жизнь. Но не удерживаются в нормальной. Как-то она мало эстетизирована в советской шкале ценностей и в литературе и искусстве. Где идиллии любовной семейной жизни больших семей и кланов — как «Сага о Форсайтах» или наши «Детские годы Багрова-внука» Аксакова, или дом Ростовых в «Войне и мире»?.. Всё — разгромы-разломы семей из-за общественных поделений; потом — разводы и уходы, уже от проснувшейся самости и личности. Театр и кино и романы времен «застоя», мирно-будничной полосы, — про адюльтеры: «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон»... Эстетикой обладают лишь влюбленности, кануны брака — и адюльтеры, внебрачные романы. А вот любовь в семейной жизни да с деторождением и ращением детей — не воспета, не восписана как ценностная и прекрасный «модус вивен-ди»...
И каково же воздействие было фильма «Чапаев» в 30-е и прочие годы русско-советской цивилизации? Кино это питало, конечно, пацанов-драчунов, героизм, товарищество, воспитывало душу, пригодную на жертву за общее дело: а какое? — не важно, не моего ума дело-забота. На то умники-комиссары-идеологи есть...
А формы советской жизни, быта: бесконечные собрания, заседания, «чистки»... Это ж — просушивания «сырой массы» крестьянской, от земли, — в сталь, в винтики государственной машины. Усушка-утруска человеческого материала. Непрерывные тусовки-трения друг о друга, голосования = школы разъединения. Вроде за единодушие — но не органическое, а под страхом за свою шкуру — значит, за отдельность свою...
Думаю про РОМУЛОВ КОМПЛЕКС ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Ну да: Гражданская война — это Брат на Брата, одноуровнево. А то у меня модель Революции 1917 года была такая: жила себе Россия по присущему ей РУСТА
364
МОВУ КОМПЛЕКСУ (Отец сильнее Сына, убивает его — и володеет Матерью-Россией)1, но в Первой мировой войне вошла Россия в зацепление с Западом, что живет по Эдипову комплексу (Сын сильнее, убивает Отца и женится на матери: оттуда Революции, Прогресс, культ Молодого, Нового. Новостей, Моды и т.п.). И русский человек с ружьем, Народ-Сын, это воспринял — и, вернувшись, стал по Эдипову действовать: сверг-убил Царя-Батюшку и женился на Матери-Родине-России...
Но, по сути, в мотивах Революции и Гражданской войны нет этого, главного: Эроса положительного к земле-матери, к женской субстанции Бытия. А главный мотив — ненависть к господам, к Брату Старшему, кто успел вылезти за историю вверх и володеть страной при Отце. Теперь же Блудный Сын (люмпен-солдат, бедный крестьянин и ярыжка кабацкий) пошел на Сына Послушного, что при Отце. Когда же убили Отца-царя, то и Сына, что при нем: дворянство и служивый класс весь — к ногтю...
Так что братва партизанского воинства под Чапаем — это, в сущности, — беглые, безответственные, ярыжки кабацкие, меж кем спайка и связь лишь временная и горизонтальная: товарищество боевое. Когда сведены в отряд на миг — и вот ты за чужого тебе отдаешь жизнь, потому что он — товарищ в бою: «Сам погибай, а товарища выручай!»
Собственно, вот главный и итоговый принцип такого стиля жизни. Он не строительный — в веществе и духе, а он — в душевности: готовность к смерти, уступить жизнь — другому. Но не Любовь к чему-то. Не позитивное нечто: там крестьянствование на своей земле, семейная жизнь, созидание и проч. * В
1 В персидском эпосе «Шах-наме» Фирдоуси герой Рустам в поединке убивает своего не узнанного сына Сохраба, как и на Руси Илья Муромец — Сокольника. А потом Иван Грозный, Петр Первый, Тарас Бульба убивают своих сыновей; и у Горького отцы мощнее детей... В России это архетипично. Отсюда — сила традиции, старины, патриархальность социума и инфантильность человека.
В Америке (США) — ОРЕСТОВ комплекс: матереубийство. Причем американец убивает Мать дважды: покидая свою старую мать — родину в Старом свете: Ирландию, Польшу, Италию, Россию... — и обращаясь с новой землей не как с Матерью-ПРИРОДИНОЙ (не она его родила, переселенца), а как с бездушным материалом труда: matter for facts... — 1.IX.95.
365
И Чапай — как раз лидер-герой именно этой эстетики всеобщего погибания — в борьбе брата против брата и за выживание — совсем другого, чужого, сводного-сведен-ного на миг человека...
На важное я вышел поделение людей, вникая в Чапаевскую дружину боевых товарищей: жители Мига — и жители Жизни:
И не томясь, не. мучась боле, Я просиял бы — и погас!.. — такое душенастроение выразил Тютчев. Воинство, каста кшатриев = жители мига. Как и артисты — на миг вдохновения призваны...
16.VIIL95. «Черный ворон, я не твой...» — все звучит в душе после вчерашней встречи с «Чапаевым»-фильмом шестьдесят лет спустя. Помню, с отцом еще ходил в кинотеатр «Ударник» — и спускался ошалелый и плакал. Но плакал я и сейчас — особенно когда пели они, прекрасные и обреченные, кто
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали близ дубравы.
Сказка. Песня. Миф! Да, этот фильм — поэма, песня, миф. Облучение, эманация, видение. Налетают на тебя, как из невесть откуда: из Космоса? из Души глубин? из сокровищницы сутей Бытия? — эти архетипические видения, картины. Каждый кадр, сюжет и сцена — как былина, преданье старины глубокой — и наироднейшее, твое интимное в тебе: каким и ты хотел бы быть героем, и чтоб с тобою так произошло, и чтоб тебя так же любили и жалели и оплакивали, как уникальное чадо... Так же бы и ты — взлетел, просиял бы — и погас! Так в Чапаеве — себя жалко. Происходит в фильме чудо самоуподобления, отождествление — то, чего нет в книге: там, напротив, автор дистанцию старается блюсти и отстранить от себя предмет (Чапаева, народного героя) на расстояние, чтобы его изучить, понять и отЛИЧиться от него. Так, чуть свысока, как взрослый — к дитяти милому, талантливому, но несмы-шенышу еще...
В фильме этого нет, но с налету вихрем вторгается в тебя Чапай-птица (как гоголевская «птица-тройка») откуда-то из дали, то ли с неба архангел в кенозисе снизошел — и обернулся русским усатым мужичком, что стремительно налетает на бегущих навстречу ему человеков, смердов растерянных, беглецов с поля боя жизни и судь
366
бы, дезориентированных, разрозненных... И вдруг ОН — как видение смысла, идеи и воли (так Христос в картине «Страшного суда» идет с бичом гневный) поворачивает вшивую толпу и кристаллизует собою, вокруг себя Хаос — в Космос: в ряд-отРЯД, СТРОЙность, Гармонию — и Победу!
Важнейшее дело — первый кадр-эпизод. НА-летел (= С-летел, ибо в русской архетипии, в стране «Бесконечного простора», Даль замещает Высь) герой Вихрь, скрутил, спаял, «увидел, победил» — не только врага, но и нас покорил, полонил безвозвратно своим образом: как любовь с первого взгляда произошла и вонзилась в сердце. И дальше всё действо-видение, что в фильме, совершается уже — то ли перед очами наружными, то ли в сердце твоем. Как и Маяковский это точно выразил — в аналогичную эпоху высокого стиля Духа и Искусства:
Э/ho было — с бойцами или страной, Или — в сердце было моем...
Так и действо кинофильма разыгрывается — двуплано-во: в предмете, сюжете, с эпическими героями — и в зоне сутей Бытия, в ее Центре-сердце, каким в эти два часа представительственно выступает наше, мое сердце-душа, орган-молекула Мировой Психеи. И не просто Мировой, но — Русской Сути, Души... Об этом и будет речь далее.
Чапай-птица налетает, ошеломляя нас, средних смертных, — так же, как Моцарт по мысли пораженного Сальери:
Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после улететь!
Да, такое фортиссимо, что задается первыми кадрами фильма, — уже пророчит конец, погибель, трагедию, ибо не может человек вынести такого экстаза долго:
Мы в небе скоро устаем, — как исповедал Тютчев в «Проблеске». Или как Некрасов о том же: человек = «рыцарь на час» — вот именно: тот, сколько длится фильм...
Но за то сей час — коронный, звездный час нашей, всех души, благодаря именно сему Проблеску с Неба, каков герой-искра Божья Чапай. И как в том же стихотворении Тютчева сказано про этот час прозрения: в нем через нас
По жилам небо протекло —
так вереницей кадров Небо — не с овчинку, а лентой-стрелой вытянулось (вот Высь = Даль!) и вонзилось, прон
367
зило нас собой — чем-то горним, сверхмерным — и оставило на всю жизнь
Влажный след в ложбине — как Тучка золотая в морщине старого Утеса.
Эта крылатость Чапая-птицы — даже в бурке его, что развевается. Орел contra Ворон — вот тут сюжет. Лейтмотив души Чапаева:
Черный Ворон!.. Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не дождешься: Черный Ворон, я не твой.
Орел и Ворон! Да этот же символ и в «Капитанской дочке»: Пугачев там сию притчу рассказывает и свой выбор: чем жить триста лет и питаться падалью, лучше жить тридцать, да кормиться живою кровью. Опять: длительность и миг. Томление бессобытийного прозябания, бессрочное, — и миг вспышки, воли и полета — ценою смерти. То же и в притче Горького о Соколе и Уже, о сердце Данко, о Буревестнике и гагарах: «Им, гагарам, недоступно упоенье битвой жизни»...
Но вот что поразительно в фильме: ведь война изображена, бои — и нет черепов, рук-ног, крови, стонов, чем так перенасыщена палитра современного кино — как раз эпохи мирной жизни, особенно в кино американском, где наша душа словно принуждена лакать кровь, пригнетена похотью очей... И то понятно: ведь это упырям, теням, роботам присуще для самооживления приникать к живой крови. Но отсюда, как и в математике можно сделать умозаключение «от противного»: значит, там, где жизнь и история — реально страстно-кровавая битва, как у нас в Революцию, Гражданку, Коллективизацию, Гулаг, Войну Отечественную, — там душа стремится из кровавого месива и крошева возлететь в чистое небо, в душевную жизнь1: не столько в телах, а в переживаниях, тонких отношениях, взглядах робких, когда
Шепот, робкое дыханье...
(Так что «лакировка» действительности в искусстве — была не только социальным заказом власти и ее идеологии, но и отвечала душевным ожиданиям измученных в реальности людей — в 30-е годы, 40-е, послевоенные. Ког-
1 Фильмы ужасов, что процветают в Америке, — симптом их вековечной мирной жизни. Евразийские народы, увечившиеся в реальных войнах и кровях, не больно-то их созерцать желают. Американцы же через садизм фильмов таких выпускают из себя по малу беса зла из душ — и так мир в стране соблюдается. — 22.8.95.
368
да стали с удовольствием ужасами и обличениями нашей жизни зачитываться? Как раз в мирные годы хорошей (относительно) жизни — в годы «оттепели» и «застоя» и начала «перестройки». — 25.VIII.95.)
И в фильме «Чапаев» — как не грубо, а нежно-трепетно идет сдружение, слюбление, привязанность между комиссаром и Чапаем, между Петькой и Анкой, между Петькой и Чапаем! И вообще — атмосфера Любви там: войска к своему герою, преданность и самопожертвование — и его за них, и их за него.
А высшие моменты всепронизывающей фильм Любви — это песни, что, как музыкальные узлы, собирают вокруг себя эпизоды действия. На них не жалко фильмового скудного времени, в них душа распускается-расцве-тает, и это — как сцены любовных соитий в других фильмах. Тут слияние душ в гармонии: идет хоровое пение, или двухголосие-втора, или сам Чапай с Черным Вороном, своим демоном, состязается в задумчивости: «Что день грядущий мне готовит?..»
(И это—очень русское в фильме «Чапаев». Вспоминается, как Гоголь писал о песне, что протяжна и щемит душу и раздается по бескрайним просторам России — как голос души, Логос России. Не рационалистическое Слово, а именно выпеваемое — в песне, поэзии или симфонизме мышления, в полифонии русского романа, — лишь так дышит и выражает себя Русский Дух — оптимально, предельно, искренно... «Бесконечному простору» Руси соответствует, конгениальна именно русская песня — как его ум и дух... — 25.VIIL95).
Другой музыкальный узел — это «Лунная Соната», которую играет белый полковник в изысканном интерьере (а те поют — вповалку на полу, разбросанные, в пиитическом беспорядке воли и органики; в живописной пестроте одежд и поз) за божественно рядной клавиатурой фортепиано (стройной, как ряды офицеров в «психической атаке». — 25.VIII.95): кадр вводится с крышки открытой сего королевского высочества из инструментов: рояль («руай-яль» royal = «королевский», по-французски) — потрясающей красоты силуэт и ряды струн крупным планом — что трубы органа! Так против стихии народной и голоса природы в песне — высший продукт цивилизации, культуры. Форма ли-ры — такой у крышки изгиб.
О, это — как крыло Черного Ворона — эта гробовая Чапаю крышка «руайяля». Но и — достойный антипод и
13 Гачев Г.Д.
369
контрагент по красоте инфернальной формы. Как и то, что исполняется на рояле — Бетховен! Вот: Бетховен contra Моцарт (Чапай-архангел ему выше нами уподоблен). Равномощно идет состязание миров. Дворянская цивилизация, ее два века с Петра, и ее высший цвет — рыцарственное офицерство Белой Гвардии шествует прямыми линиями и вертикалями в «психической атаке» каппелевского корпуса. И в этом тоже диадог: прямые линии и квадратные углы — это линии Социума, Цивилизации, механического гражданского общества (правого = прямого). А чапаевцы все — в вольных конфигурациях (кривые = линии Природы, естества, женские, Матери-и...) и воюют, и лежат, и одеты так, чтоб одежда не мешала душе — на распашку и на вылет на волю, и погибать — так с музыкой!
Да, и это народное присловье и чаяние выражено песнями и всей музыкальной ритмикой фильма.
Белый стан изображен чуть шаржированно в фильме, резкими, даже плакатными штрихами: лысый, лопающийся от еды и шампанского, пузатый и с пресыщенным лицом умного циника полковник, при нем самонадеянный молодой офицер, плакат в штабе каппелевского корпуса с надписью: «Чапайцы убегают, словно зайцы»... И можно бы упрекнуть, что не паритетно, не равномощно изображен противник — и тем понижается и образ Чапаева и его дружины. Но всё выправляет — Лунная соната: она-то конгениальна народной песне — и подает мысль, зароняет подозрение о возможной высокой правде белых, господ, дворянской цивилизации Государства российского, против которого двинулась пугачевщина и разинщина «чапаевщи-ны». Недаром у Фурманова появляется этот термин: что он любил Чапаева, но боролся в нем и его бойцах с анархистски партизанским духом «чапаевщины». А в дивизии Чапаевской тоже не случайны наименования полков: «разницы», «пугачевцы»...
Но тут перед нами — не «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (как подобное именовал Пушкин), но божественно оправданное народное воинство: впереди которого
В белом венчике из роз
ну, не сам Христос, а — Разбойник Благоразумный, уверовавший... не знай, во что, ну — в «Интернационал», но во что-то хорошее, ослепительное, что продуцирует сама искра Божья в его душе, но не поддается выражению в формулах-терминах «программ» всяких там «Готских», но
370
звучит — песней и проявляется в поведении и поступках — в том числе и в выстреле, и в рубке, и в улыбке, и в белой рубахе — жертвенной и крестильной: недаром Чапай в последних сценах разубран как жертвенный агнец — в белой рубахе за пулеметом и потом спускается в исподнем с высокого (обязательно — как Утес Разина!) берега-обрыва к реке...
И чисто зрительно контрастны: круглый шар лысой головы полковника, мертвенной, как голова Фантомаса-упы-ря-вампира, — и все угловатое в Чапае: пики усов, трапеция папахи, плоскость лица = зеркала души — все так живо, подвижно: улыбка, гнев, гром и молнии мечет в ярости: «Его глаза /Сияют. Лик его ужасен. /Движенья быстры. Он прекрасен. /Он весь, как Божия гроза»... — что Петр под Полтавой... И тут же — детская, доверчивая улыбка и простодушный смех. (Ту же отходчивость легкую от зла и резкий переход с гнева на милость вспоминаю в исполнении роли Петра Первого Николаем Симоновым в фильме тоже 30-х годов. - 25.VIII.95.)
Чапай — топорщится, как пробивающееся к жизни деревце, поросль, подросток, вечный отрок — и любимый герой подростков советских, в чем он и самую суть Русского Народа выражает, кто — да, Сын Матери России, вечный мальчик, подросток, недоросль (то же выраженное в разных вариантах: позитивном и нега-тивном)... Но — не зрелый Муж. (Эту должность исполняет при женском начале Матери-и России — Государь-ство, Кесарь, Аппарат... - 25.VIII.95.)
Ну а шар — это совершенная фигура = совершенство — и завершенность — и конченность: развиваться некуда, тупик и смерть. Что и адекватно исторической завершенности цикла (круга) дворянской, петровской цивилизации, что в Революцию и Гражданскую войну означилось, произошло.
Если еще с точки зрения фигураций взглянуть, то сколько поз тело Чапаева занимает! И в бурке на коне перед боем на высоте — как статуя-памятник самому себе, и полулежа над картой, напевая. И в истерике скидывая с себя портупею, когда комиссар арестовал его боевого командира, и облокотясь в задумчивости на перила мостика, и оскалясь за пулеметом, лежа, и полуобнимая Анку, приглашая ее за стол к победному чаю (как и «Пирует Петр...»). И ковыляя, раненый, к реке, и вплавь... Сколько пластики!
371
13*
И какая гамма выражений лица!.. И какой контраст с лицом комиссара: на нем вечная полуулыбка, как у взрослого и всё знающего — по отношению к милому шалуну, которому перебеситься надо, а там и обуздается жеребец! Как не раз, мол, и не таких еще — стреножили...
И вот Чапай и его мир, и дружина, и Народ русский — меж двух — не огней (они — искры, они сами!), а тисков-форм-схем Социума: с одной стороны — мир господ, с другой — мир комиссаров. Первые оскорбительны народу, простому человеку тем, что хорошо живут-кушают, жируют, сидят на шее, паразиты, и высасывают соки из тела мужика: то-то он костист-жилист, а господин — из сала и жира лоснится и кругл. Это еще угнетение-эксплуатация на полуприродном уровне, животном...
Но комиссар — это другое и другой лик Смерти, конца Чапаю и Народу Русскому. Он идет от Механизма — против Организма. Власть четких, абстрактных формул «знания» — как стандартных форм машинного производства и души пролетариата, людей железа и стали. А те, Чапай, — из жил и нервов, из плоти-крови, и голоса живого, песенного, и страстей. Крестьянство — против Гражданства. Воля и вольница — против Свободы как категории права и Закона, что берет на себя Власть Государства. (По Гегелю, развитие Государства — это прогресс Свободы...) Отчуждение — против самобытия и самобытности — натур, характеров, приведение к общему знаменателю = винтику производства и тотального Социума...
Пока еще: на той стадии, которую Есенин так выразил: «Еще Закон не отвердел», — они могут быть вместе и дружбу крутить: комиссар и народный вождь; но скоро тот будет комиссовать последнего под чистую и займется обрезанием крыл у вольницы и кулаков — рабочих рук мужичьих...
В фильме это пророчится — заключением боевого командира Жихарева в амбар по приказу комиссара за то, что не препятствовал мародерству солдат. Какие красивые черты его лица, данного крупным планом в нависшей папахе, — самородок! Его же охранять поставлен — уже не человек, а боец из отряда иваново-вознесенских ткачей: в буденовке со звездой, маленький человечек в очках (не пророча ли бериевское пенсне?) и преграждает ружьем путь Чапаеву самому... Тот взрывается и с сарказмом вопрошает комиссара: кто здесь хозяин — я или ты? — и получает ответ: и ты, и я! Но это, конечно, временный ответ — в тактике большевиков. А они мастера — привадить союзни
372
ка, выжать его, употребить для своих целей, проманипу-лировать — и отбросить.
Так и в Гражданской войне Партии было выгодно использовать народный гнев против бар и господ, чтобы скинуть тех от власти в Государстве Российском и встать на их место. А уж как встанут — держись, Чапай и мужик!.. Так что сцена ареста комбрига — многообещающа на будущее. И это тоже к густосмысленности фильма мифологической — добавок, бессознательно пророческий. Фильм-то 1933—34 гг.
(А «Черный Ворон» чапаевской песни — заземлился, материализовался «черным вороном» — зловещей машиной, что по ночам впихивала в свое нутро живых людей и увозила их на тот свет — в темень тюрем, лагерей и казней - 25. VIII. 95.)
Вот эта легкость манипулирования доверчивым русским человеком со стороны демагога и умника, при всей его также подозрительности и презрении к «интеллигенту» белоручке (и в фильме Чапай презрительно на фельдшеров кричит, обзывая их этим словом как бранным), явлена в том, как манипулирует комиссар Чапаевым, как эквилибрист мячиком, и эта буффонада-клоунада даже добавляет живости и юмора фильму и приводит с собой атмосферу Игры, что есть сущность истинного искусства. При том, что сюжет трагедиен, тут и игра, и маски, и амплуа, и «кви-про-кво», всякие превращения: умного — в дурака, дурака — в мудреца...
Недаром именно кинофильмом создана эта клоунская пара: Чапай и Петька (как Тарапунька и Штепсель), что пошла серией анекдотов в жанре диалогов Петьки с Василием Ивановичем, с середины 60-х годов, после оттаивания уже хрущевской «оттепели», когда народ и его юмор стали брать реванш над властью комиссарской и делать ее объектом веселого поношения...
Но отчего так манипулируем русский человек? Комплексует он перед Образованностию, Наукой, Знанием: доверяет им простодушно и абсолютно, предавая свой здравый смысл. Хотя Чапай и кичится чуть даже тем, что «мы академиев не кончали», но это некое юродство, а в сущности он детски любознателен и страдает от своей необученности.
Это не просто, тут философский вопрос... Но на завтра оставим: уж ослаб сегодня мозг промышлять (с 10 сижу, а сейчас — 1.30).
373
6 веч. Взялся читать книгу Марголита Евгения Яковлевича, с кем позавчера познакомился в Институте киноискусства (высокий человек, яснолицый и хрупкий...) «Советское киноискусство. Основные этапы...» — М., 1988, — и так полезно чтение. Даже избитая цитата из Ленина заставила задуматься: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Почему «для нас»? Для кого «нас»? Для партии и ее пропаганды. Почему не роман, а кино? Да потому что чтение — процедура уединения, и слово сначала действует на ум, а потом работает воображение: оно вторично, после рацио-рассудка, что первым делом должен понять смысл слов читаемых. Ну и так вырабатывается собственное суждение из «я» и «критически мыслящая личность», каковая совсем не нужна в партийной пропаганде, вносящей свое готовое миропонимание в образной форме — и не в личность, а в массу, что сидит в кино, собранная, вся тут, да еще и заражают друг друга эмоцией, прокатывающейся через домино человеков...
В кино в тебя вливаются готовые образы-картины-моде-ли-схемы представления мира и человека. Трудиться своим воображением не надо: тебе готовенькое подается; воображали авторы, а ты глазей и поглощай, что дают. Забивается «репродуктивная способность воображения» — драгоценный талант человека, по Канту. А демагоги-политики через трюки-фокусы кино, как факиры, магически действуют на аудиторию: мнут, как скульптора глину, — души и умы — и лучше слова, речей, где еще ум надо включать, а тут зырь — и верь!
То, что в руках у них волшебный фонарь и палочка, сразу поняли кино-мастера, почуяли себя чародеями-манипуляторами с помощью авгурного знания техники-механики трюка-фокуса.
Вообще начальное десятилетие кино — это фокусы и трюки и, скорее, циркачество. Но этот пласт остается и в классическом повествовательном кино, каков «Чапаев». Там тоже уловимы маски комедии дель арте. Мы уже нащупали комическую пару в Чапае и Петьке. Чапай = высокий герой, Капитан, по роли-амплуа; а при нем слуга-плут, Дзанни. Но тот же Чапай в другой паре, с комиссаром — выступает как шут и Арлекин, клоун: дурачится, юродствует-паясничает. Комиссар же — скучный Доктор, амплуа Резонера (каков Стародум или Правдин у Фонвизина в «Недоросле»). Но и на него, мудреца, довольно простоты, ибо рядом с живым и многовалентным Чапаем он плосок и тем — глуп.
374
Еще и Анка-пулеметчица = Коломбина: с Петькой они образуют сниженный вариант пары высшего уровня. Но где же ОНА, героиня, примадонна? Первый любовник есть — Чапай, а напротив него — что? кто? Пустое место? Или тут Любовь перекошена в Дружбу, боевое товарищество? Как, кстати, и в паре: Петька — Анка — целомудренный Эрос товарищей по борьбе... Да, это, похоже, — так. Потому Чапаю нет женской пары, а вот друг — Комиссар...
А вообще-то... — Слава! Чапай превыше всего дорожит своей репутацией любимого народного непобедимого героя, чье одно имя наводит трепет на врагов, и они бегут врассыпную... Да, Чапай — бхакт Славы, Геройства, богини Победы. Как поэту — Муза, так герою — Слава, та ОНА, кому он жертвует земными женщинами и любвями. Как и присуще эпическому герою: при Геракле, Ахилле, Илье Муромце нет адекватной женской пары. Они уже — избранники Славы, ее жертвенные агнцы. Как и в «Слове о полку Игореве» воины шли на битву, «ища себе чести, а князю — славы».
А что есть Слава? Это — соборная Любовь народа, человечества, истории, Слова, памяти мировой...
И все же есть Сверхсубстанция и в этом фильме, что всех любит, емлет и покрывает. Это — Россия, Природа, русский Космос, редкие, но мощным мифическим содержанием насыщенные пейзажи. Это, во-первых, исходный кадр: Даль-Высь-Глубина, где сливаются низкое, белесое Небо и Земля в некое просто Бытие, откуда стремительно выскакивает, как из порождающего лона, на нас искра Чапая на тройке-тачанке: откуда ни возьмись, появляется наш эпический богатырь... Это закат и околица, куда выбегает Анка провожать Петьку, уходящего за «языком»: «Встань, казачка молодая у плетня, /Проводи меня до солнышка в поход» — такая песенность подразумевается в этом пейзаже... Но какие там графические силуэты дерев, какие дали, воды!.. Это — бугристые поля сражений, шири-дали степей, по каким именно «на лихом коне» пристало скакать: «Здесь ли, в тебе ли не родиться богатырю, когда есть место, где пройтись и разгуляться ему?» (Гоголь о том же...) Ну и российский «бесконечный простор» — при съемках далей с высокого берега реки (напоминая «Над вечным покоем» Левитана), где излучина ее змеей) вьется роковой, белесой, широкой лентой на фоне чернеющих берегов...
Вот она, Родина — мать сыра земля, что приемлет всех Своей всепоглощающей и миротворной бездной (Тютчев),
375
покрывая и «правых» и «виноватых»: и юнкеров, героев каппелевского корпуса, где могли бы идти Гумилев-поэт или Сергей Эфрон, муж Цветаевой.... Ну и, конечно, «наших», чапаевцев...
18.VIIL95. «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» — возвещает Петька-глашатай о событии важнеющем. Вот и я себя так настрою — и как раз на промышление о Русском Уме.
В фильме «Чапаев», как окинешь памятливым взором всю ленту, много состояний задумчивости, мысли. После яростной атаки, в коей Чапаев вскачь повернул бежавших и дал бой победный, — стоит он, усталый, облоко-тясь на перила мостика над водой, и к нему подходит комиссар — такой бодренький, с вечной улыбкой-маской всепонимающего рубахи-парня и ясным взором («Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто — глуп!» — изрек где-то справедливо Маяковский); Чапай же вяло отзывается и, не меняя позы, продолжает смотреть — в даль ли, в себя ли, в никуда ли... Но задумчивость — высокое (= глубокое) духовное состояние, и оно нашему герою так же свойственно, как и огневое стремительное действие. И тут пара: Чапай — Клычков напоминает другую русскую пару: Татьяна — Ольга. В Татьяне — «Задумчивость — ее подруга...» Ольга же вечно ясна, весела, кругла:
Кругла, красна лицом она, Как эта глупая луна...
Вот-вот: круглота в русском эстетическом чувстве = безжизненность:
В чертах у Ольги жизни нет.
Маловато ее и в рассудительном комиссаре. А вот и Татьяна, и Чапай, с их вспышками страсти-ярости — и задумчивостью, — темпоритмику жизни русского народа и истории России собой выражают. То жизнь — история тя-нется-тянется, как в полусне-дреме, то вспыхивает зарницей, пожаром и заревом — бурной деятельности, перемен, атак, катастроф, строительств... — и снова полусон, «застой»... Но равномерность, размеренность? — это не наше.
Так я снова — к уму Чапаева. «Соображать надо», — заканчивает он свой урок командирам, проведенный с учебными пособиями в виде картошек в мундире, высыпанных из чугунка: где надо в разных ситуациях похода и боя располагаться командиру. И какое вдохновение экспромптной, 376
тут же, на ходу рождающейся мысли — сияет на его лице = зеркале души! (Рассказал мне Л. Козлов, что самих создателей фильма картошка, высыпанная из чугунка, осенила, и сим вдохновенным наитием они сотворили эту сцену. — 25.VIIL95.) Вообще письмена, что пишутся на лице Чапаева-Бабочкина, — это главное и богатейшее кинодейство в фильме.
Ряд волшебных изменений милого лица, подсмотренный режиссерами и операторами в игре выдающегося актера, — несравненное сокровище фильма «Чапаев». Лицо переменчиво-прекрасно, как погода русского Севера. И эта радуга настроений-состояний-выражений так цветиста на фоне вечно ровного выражения лица комиссара. Оно — черно-белая графика по сравнению с живописью лица Чапаева. Или — лицо комиссара-пролетария из индустриального города светится ровным электрическим светом динамомашины, а лицо мужика-земледельца Чапая живет в лад со светом-тьмой дня и ночи естественной Природы с ее Солнцем.
Кстати, освещение белого стана тоже мертвенное, электрическое: и когда полковник играет Лунную, и когда в лунной ночи на белых конях — как Конь Блед = Смерть Чапая едет, размноженная на конников офицерья...
А беседы с комиссаром, когда так детски горько вздыхает Чапай о своей необразованности: что про Суворова и Наполеона знает, а про Александра Македонского — впервые слышит... И как сначала даже некоторый гонор в его лице: кто, мол, такой? раз я, Чапай, его не знаю, — то, может, и не стоит таковой усилий моего ума?.. А потом весь вытягивается, внимая, — и обмяк в виноватой улыбке... А тот его, наш Правдин-Стародум, цитатой из Гоголя менторски поучает...
Но не надо придираться и к комиссару и представлять его, а с ним и представляемое им явление (пролетариат, партия, большевизм) — узким, маложизненным, рассудочным. Тут — художественная логика и техника работают: объемность-стереоскопичность образа Чапаева можно-надо высветлить набором плоскостных зеркал-проекторов, в функции чего работают и комиссар, и Петька, и полковник, и солдат-анархист, крадущий поросенка, и комбриг Елань, и хор мужиков-крестьян, что сначала жалуются, а потом, «хвалебную песнь вопиюще», к Чапаю благодарно приступают.
От последних — тоже блик на Ум Чапая. Когда на митинге он речь держит, те его вопрошают с мужицкой хит
377
рецой: «Ты за большевиков, али за коммунистов?» — ис-кушающе его Логос. И тот, искренний, — смущен... И ответствует: «За Интернационал», звон которого он по песне слыхал, а смысл его откелева ему ведать?..
Тут тоже, в этом вопросе ребром, — оселок и водораздел умам: простонародному и государственному. «Большевик», с заманчивым (и заманывающим, как мана и обман) русско-славянским корнем слово, да еще со значением плюсовым: «большой»! (кто же при этом захочет, чтоб «меньше» и состыкуется с «меньшевиками»?) — вроде бы естественно его принять народному сердцу и за него встать. «Коммунист» же, с иностранным непонятным корнем, — Бог его знает, что означает... Это термин, присущий уже Логосу Государства, что во России обычно западническо, оттуда меры взимает: варяги власть принесли, греки — православие, Петр — германскую цивилизацию, Ленин — марксизм-социализм, ныне — Рынок и демократию...
И все же Чапай, душа русского народного Ума, поставленный перед таким двоичным выбором: «да или нет?» — замирает в оторопелости. Его торопят — и в этом подвох чует. Ловушка чужого и хитро поставленного вопроса. Хотя тут не вопрос судьи, а скорее, — в жанре загадки. Недаром и задает его лукавый мужичок, кривобородый да с прищуром глаз: мол, «А! Попался?!» И неужто Чапай не ответит? Не может он себе такого позволить.
Эта сцена мне напоминает Совет в Филях, где немец Бенигсен задает тоже ясный, в двоичной логике вопрос: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу Россию или защищать ее?» Хор генералов-патриотов (как тут хор крестьян) готов ответить однозначно героически: нет, не можем, дадим бой! И немец, мастер рассудочного Логоса, ждет, что в эту западню логично поставленного вопроса попадется и Кутузов. Но в нем, как и в Чапае, — ум народный, природный, не обмороченный логистикой (как и в бою — шагистикой прусской, которою и каппелевский корпус подавляюще и устрашающе шел), и он отводит общую постановку, ибо истина всегда конкретна: «Священную древнюю столицу России! — вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и тем указывая на фальшивую ноту этих слов. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека... Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сраже
378
ния?» Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение» (Толстой Л.Н. «Война и мир», т. III, ч. 3, гл. IV).
Чапай, конечно, не мудр, как змий старец Кутузов-князь, да и человек молодой, но и он ускользает из ловушки прямолинейной логики — и выскакивает вбок: «Я — за Интернационал». То есть одно неизвестное («коммунисты») подменил другим. И тем не ответ, а сам встречную загадку задал ловившим его на слове. Отфутболил... Да, митинг — это тоже как игра-спектакль на стадионе-сцене-арене. И тут Чапай — солист, артист, в своей тарелке, магия внушения из него исходит и припечатывает концовкой-каденцией: «Правильно я говорю?!»
Тут новый вопрос: демагог ли Чапай? В Революцию — как бы прорезался голос у немого прежде русского крестьянина — немого, как Герасим в «Муму» или денщик Петрович, тварь бессловесная. А в этой ситуации — разговорились! Митингование — как народные сходы миром... Хотя нет: «мир» — сход общины сельской, и там все — в ограниченном кругу друг друга знающих. А тут, откуда ни возьмись, сошлись на площадях не знаемые друг другом. И вот по слову, раз сказанному, различи своих и чужих, кто врет, а кто верно говорит!..
Много пророков и лжепророков явилось разглагольствовать в ту эпоху — и на ловушку слова арканили души и жизни. Ораторы были — Троцкий, Киров — «трибун революции» и, само собой, — Ленин. Это — демагоги = «вожди демоса». А «демос» — не «на-род». Народ приРОДен, организм. Демос — категория города и гражданского общества; сход, толпа индивидов, смесь, агрегат. И цель партии коммунистов в революции — мечеными атомами идеологически нацеленных речей бомбардировать, расколоть наРОД, как организм природный, — и превратить в собирательность атомарных граждан, кого уже легко вертеть и кем манипулировать логикой рассудочных словес.
Речь Чапая — иная. Тут слово ложится на славу его личности-легенды. Потому он себя подает, красуется на радость любящих его, лучи славы посылает и питает словами. Речь = акт Любви меж героем — и массой народной, Матерью Россией. Преданность и взаимопонимание — ее итог. Ловят друг друга и он, и она, масса. Он — как фаллос. Она, вагина же, размножена на раковины ушные внимающих... Так что много превращенного Эроса в сценах-кадрах этого фильма.
Логос Чапая — характерный = от его характера-натуры-личности. Общие мысли-тезисы он приводит к себе и
379
на себе раскладывает: «Я вам командир, но командир я только в строю. На воле я вам товарищ. Приходи ко мне в полночь и заполночь... Обедаю — садись со мной обедать, чай пью — чай пить садись. Вот какой я командир» (с. 87). И такое слово безошибочно стяжает ему сердца.
Чапаев и для себя не «я», а «он» — ЧАПАЙ! ЧАПАЕВ! Командир-герой личной — Чапаевской — дивизии, что не привыкла отступать... И в этом диапазоне между мужичком и героем распялен образ, в этом поле, между этими полюсами напряжения мечется персонаж Бабочкина, как его прототип — на лихом коне... Образ динамичен в самом построении в фильме...
И еще Чапаев — не Чаадаев!.. «Чапать» — плебейское дело и слово: у Даля такие значения сему слову: «трогать, брать, цапать; черпать; качать, зыбать; чапаться — качаться» и т.п. «Не чапайся за меня»... Прилипчивость — означает. И — к сердцу. Как и вклеился Чапай в душу русского народа, в Психею России, — в нашу, зрителей фильма «Чапаев»...
28.VIIL95. Да, бросил-повесил я в воздухе вопрос: отчего комплексует русский человек и народный ум перед образованностью, наукой и научностью, умом ученым, книжным?.. Да — из размеров России необъятных, в которой каждое село или даже регион — там Урал или Московия — лишь остров в океане. И своим умом и здравым смыслом лишь в этих узких пределах могу соображать... Но я знаю, что я и «мой край родной» — всего лишь капля в море Целого России, и мне отсюда не видно, а «ТАМ, Наверху — виднее!» Отсюда и доверие Центру, Власти, что — ожидается-предполагается — по науке действует и способна соединять разрозненные части страны — в Целое и интерес Всея России самодержать и государить...
А еще тут — Песня стыдится перед Наукой: я только петь могу, а не знать. Как вы там, ученые! И Песня чувствует себя глуповатой, как и Поэзия перед Математикой, Рассудком... А вот эти: Наука, Знание — не чувствуют стыда перед Жизнью и Искусством: у них уже атрофировался этот орган — стыда и совести, что вполне есть у эмоционально-чувственных Песни и Поэзии...
КОСМОС ДОСТОЕВСКОГО
У Достоевского исследовали: мысли его и героев; идеологию; его как психолога души человеческой; структуру его
380
романов (полифония и диалогизм — по М.М. Бахтину). Телесность же, материя, предметность его мира как-то оставалась без внимания1. А разве это все без значения, что у него город, сырь, белые ночи, нет животных, есть кухни, углы, перегородки, пауки, вонь, лестницы, чахотка, эпилепсия, нет матерей, есть отцы, нет рожания, нет Кавказа, нет моря, но есть пруды? То есть не только то, что есть, но и минусовая материальность, т. е. вещи, которых у него нет и которые есть у других русских писателей и значащи в контексте русской литературы, — все это тоже есть голос и смысл. И эта предметность есть не просто наполнитель структуры, — нет, она идейна, есть тоже полноправный голос в полифонии Целого. Ибо тела, вещи — духовно не бездарны, но сочатся духовными смыслами, суть тело-идеи.
Читать Космос (в эллинском смысле — как строй мира) Достоевского мы будем на древнем натурфилософском языке четырех стихий. Представим: если бы Эмпедокл воззрился на мир Достоевского, как бы он мог его прочитать?
1. Отлучение от природы. Город — что есть?
Почему у Достоевского нет природы и пейзажей, а все сосредоточено в городе, и что бы это могло значить? Природа нам pod-ная. Здесь нет отчуждения. Среди природы у человека рассасывается чувство своей особности и уникальности в бытии — то, что остро обступает в городе, так как человек там — единственное живое, природой рожденное существо-организм средь искусственного мира механизмов — окружающего, но не родного (ибо он не рожден в -гонии, а сотворен трудом в -ургии)2. Достоевскому нужно это отлучение от природы, чтобы, порвав пуповину с братской средой, накоротке замкнуть людей лишь друг на друга, создав тем самым громадное напряжение, вибратор, усилитель для разглядывания малейших внутричеловеческих душевных поползновений3. Город ему
1 Если не считать сочинения В.В. Вересаева «Живая жизнь» — ч. 1. О Достоевском и Льве Толстом (М.: Недра, 1928).
2 «-гония» (от греч. gone — рождение) — возникновение естественное, через порождение во Эросе; «-ургия» (от греч. ourg-erg — суффикс деятельности) — становление искусственное, творение, труд.
3 Кстати, потому физика микромира, развивающаяся в XX веке, стадиально аналогична подходу и эксперименту Достоевского над человеком.
381
нужен принципиально, чтобы очутить человека без иных родственников в бытии, кроме себе подобных: толькород людской есть родня ему, а не природа,— и поэтому у него монотема: человек и судьба человечества в вакууме без-жизнья и на чужбине вещества.
Толстой, напротив, отводит в небо (Аустерлиц князя Андрея) и в землю (травинка в запеве к «Воскресению») межлюдские напряжения. Человечество у него разомкнуто в природу = родную. У него и у Пушкина, у которого природа тоже входила в диапазон мироучета, бытие всестороннее, но зато и расслабленнее, ибо больше веществ, видов = идей, предметов. У Достоевского — никаких видов, сплошная невидаль (туман, ночь), никаких пространств наружных (пейзажей),— зато мир сил и энергий бродит в отрыве от масс. У него, как в динамике, сила и время — вот категории. Он создает динамику Психеи, Мировой души в ее воплощении в человеческую, посередь Космоса (мира Божьего, которого он не приемлет, — ср. Иван Карамазов) и Логоса (рассудка, «Арифметики»). И при изоляции от пространства настолько же усиливается отнесение себя к току времени. (Потому, кстати, так разукрупняется время действия у него в романах: за одни сутки чуть не вся драма, пол-«Идиота» — за ночь.)
Но отречение от содействия и соучастия пространства в России — стране пространств (ср. Гоголь: «что пророчит сей необъятный простор?») —это воистину уму не постижимое святотатство: именно на свет и снег покусился и затмил их нутренностью, кишками — душами человечьими. И это достоевское богохульство против «русского бога» (что, по слову Пушкина, в «грозе двенадцатого года» «нам помог») сопоставимо разве лишь с Петровым = каменным1 насилием над природной Русью, когда он ее обрезал, укоротил и согнал в каменный град на болотах, создав мифологему воды и камня как новый сюжет русской истории (слушай ее в «Медном всаднике» и «Железном потоке»). Потому Достоевскому органически нужен Петербург, как пуп его мира, средоточие Психо-Космо-Логоса по-достоевски. Даже в Черемошню и в уездные городки русские он выходит с фактурой Петербурга, как Николай Чудотворец с градом-храмом на руке: та же там петербургская погода (туманы, дожди, слякотный снег) да тесные улочки, дома, да залы и заборы — аналог городских стен.
1 Petra — камень (греч.).
382
Средь природы в человеке — естественность и непринужденность. В городе — свобода и (иль) необходимость. В природе — до- и бес-субъектно-объектное расчленение бытия и человека, докантово, додостоевское1 пребывание в натуральном («догматическом») доверии, в единстве и синкретизме бытия и мышления: нет еще критики, и гносеологическая проблема еще не возникла, в отличие от онтологии.
А вот он, Кантов бунт Ипполита в «Идиоте»: «Для чего мне ваша природа..,, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо...» (перечислены главные антагонисты миру Достоевского: небо и солнце. Нет неба у Достоевского: он отвернут к закоулкам города, взгляд его вниз и вкось. Нет и солнца: ни как света, ни как глаза в небе — лишь «косые лучи заходящего...»
Ну да, излюбленные им белые ночи есть бессолнечное марево света, безглазый свет, пелена, бельмо на глазу сокрытого полярного солнца. Это свет без своего субъекта, атеистический свет), когда весь этот пир, которому нет конца (и это враждебная идея: бесконечность, ибо она есть расси-ропливанье, противник силы, которая набирает себя именно по мере сгущения, оконечнивания (не)бытия в существо, вещь, жизнь единичную. Так что смертность и конечность человека есть предусловие того, что он становится энергичным сгустком сил и ареной их динамики. Бытие вгоняется в человеке в угол — основная геометрическая фигура у Достоевского — и там, в своей западне, где ему уже некуда деться, вынуждено признаваться на исповеди, из Психеи выжимаются ее секреты, она забилась-затрепыхалась в пульсации — в романе как на экране. И для постановки этого эксперимента сотворяется такая камера обскура, как Петербург Достоевского), начал с того, что одного меня счел за лишнего?»2 Вот ключевая фраза. Но все тут наоборот: не меня природа выкинула, а я ее отринул, самолишенец. Но этой жертвой, в этом акте обрезания пуповины, я добываю свое Декартово «я», на котором далее все будет строиться. Не мир-пир начал с того, что одного меня счел за лишнего, а я (персонаж мира Достоевского, и сам его демиург, Бог-
1 Об их аналогичности см.: Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант. - М., 1963.
2Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 10-ти т. — Т. VI. — М., 1957. — С.
469.— Далее цитаты приводятся по этому изданию. Курсив мой.
383
Творец-автор) начал с того, что мир счел за лишнего («мира Божьего не приемлю»).
Итак, учинен отрез от природы, от матери (и), ибо при-рода, как рождение, есть матерья. Город — мужское, отец. Природа — женское, мать. Так что недаром городская цивилизация происходит при патриархате. И по мере становления романа Достоевского ясно проследимо исчезновение образа матери и наращивание образа отца. В «Бедных людях» много еще места занимает матушка Варвары, ее бедствия, отец же неизвестен, а второй отец — Покровский — смешон, и намекается лишь на отца набольшого Быкова (а Бык — это тебе не созвездие Девы, под которым наш Блаженный — Макар1 Девушкин). И к возлюбленной своей сестре Макар обращается словом «маточка» = мат(ъ + дев) очка, стяжение. В «Преступлении и наказании» есть матери, и роман этот переходный, принадлежит еще к традиционному, монологическому, европейскому. В «Подростке» матерь блекла, важен отец. В «Братьях Карамазовых» отец вырастает до полнеба, полмира, а мать сведена на нет — в ветошку Елизаветы Смердящей.
2. Человек — недовоплощенный воз-дух
Каков же человек в городе, с точки зрения стихий? Переписка «Бедных людей» — это чириканье городских воробушков, что уселись в окошках каких-то этажей и через двор друг с другом перекликаются, обсуживая людские дела человечьим голосом. Он ее называет «пташка», «птичка», «голубчик», «ангельчик», мечтает свить гнездышко иль собирается упорхнуть, себя же под конец ощущает птенчиком, выпавшим из разбитого гнезда. И хотя религиознолитературным штампом отдает Макарово Варваре увещание жить, как птички божии,— однако недаром об этом и так заговорил и противопоставил себя образу некоей «хищной птицы». Они не хищные, но тоже те еще птицы!.. В именах их слышится некое меланхолическое «карр», и весь климат вокруг них серо-небный, присущий этим меланхолическим птицам, и все-то им несчастья впереди видятся, да и позади беды, так что лучше и не вспоминать.
Но тут многое в этом самосравнении наших бедных людей с птичками — не с лошадью, как у Толстого (Хол-стомер, Анна — сравнение с Фру-Фру), не с растением
1 Масаг — блаженный (греч.).
384
(дуб Андрея, репей Мурата, береза-барыня — «Три смерти»). Все толстовские пары людям тяжки, полны землей, увесистой жизни, снизу вырастают. Птица же есть жительница стихии воз-духа. Уже этим заявлено некое Credo: исповедую не стихию земли, не воды, не огня (хотя с ними со всеми и будет у воз-духа сложный сюжет), но легкую натуру. Даже отрицательные твари здесь — насекомые, обильные у Достоевского: тараканы, пауки (тот свет Свидригайлова), «вошь я или Наполеон?», «старушка-вошь». Все они некрепки на земле, обитатели того же промежуточного пространства меж небом и землей, что и птицы.
Вообще всякий человек здесь в душе своей паука чувствует: и сам сеть-ткань жизни плетет, и ею опутан и угнетен. И движения персонажей — не плавные, гибкие, округлые, как у больших существ земли и воды, но угловатые, судорожные, как огни, зигзагами их траектория, как у насекомых: Раскольников то на месте долго недвижно в углу-гробу, то мечется туда-сюда, угол свой в пространстве рассевая и множа (даже не петляет он после преступления: петля для него слишком округла, животно-лисья геометрическая фигура, но именно угольничает, (расщепляет — Раскольников!)1. И энергии все дискретны: то лежит — то убьет, то скрывается — то вдруг надрыв, заголится на исповеди. Нет, несерьезно, неувесисто, пунктирно земное бытие здесь, а есть некое надругательство воз-духа над наличным бытием нашим, его серьезностями, мерами, заботами и ценностями. Ибо неплотны, некрепки эти души в воплощении. Вот они встречаются из всемирья в вагоне третьего класса, демон Рогожин и ангел Мышкин, оба посланные на время на человечество (как на местничество), — и начинается сюжет узнаваний,
1 Геометрические фигуры, упоминаемые писателями вроде случайно и побочно, на самом деле глубоко архетипичны и суть фундаментальные модели. Например, у Толстого Пьер (в восприятии Наташи) — квадратный, а Каратаев (в восприятии Пьера) — круглый. Значит, Пьер и Платон Каратаев глядятся друг в друга, как квадрат в круг. И попытка Пьера рассудком постичь народную правду Платона — да это та же бытий-ственная проблема, что на языке математики предстает как квадратура круга! А это в символике чисел и фигур основные образы для обозначения Целого: круг (Шар, Сферос) и квадрат (Тетрада). Причем прямая — линия мужской, городской цивилизации (правда, справедливость), а кривая — линия природы, женского начала.
385
выявлений, в ходе которых одна тотальность, сошедшаяся клином Льва Николаевича, спознается с другою, пришедшей из подземелья манихейского черного солнца и загнувшейся углом на Парфене Рогожине. И вообще вся материя бытия здесь — с прорехой, лезет и расползается, как мундир и сапоги Достоевских чиновников, что стыд, смех и грех прикрывают приоткрывая, и засасывая, и завлекая, и заостряя на этом взор.
С воз-духом связана и необычная чуткость к запахам в квартирных описаниях: чад, угар кухонь, вонь лестничных клеток. Кстати, лестницы, столь важные у Достоевского, это птичьи насесты и шестки людей, подвешенных в земельных клетках в воздухе. И город тем мистически манит его, что здесь стихия земли поднята, овоздушнена в зазорах комнат-пустот, толща ее не столь безнадежно материальна и увесиста, но уже мужески обогненна и одухотворена.
Дух-то дух и воздух-то воздух — действительно первая, но уже дальняя родина в космосе Достоевского, а сейчас, пожалуй, ему и воздуху-то чистого не нужно, а дай подышать в углу кухни чадом и гарью жизни земной. Ибо воздух это^г ориентирован не на верх (небо и солнце), а на низ, им магнитно очарован плен(ен)ный дух, влюбленный воздух. Это как в Библии ангелы, что заглядывались любить жен человеческих — и не могли. Есть в космосе Достоевского сладострастие на человека, им быть, полновесным,— и немогота, ибо легковат, духовен ангел-демон, все пузырится из своего веса вверх. Уж он так себя заламывает, корежит, в подполье пониже загоняет, и принимает на себя все черни, вины и грехи, чтоб унизиться и стать как люди,— ан нет, уши, то бишь, крылья торчат: не удается всамделишно воплотиться, так и прыгает в падучей; как курица — не птица, персонаж Достоевского — не человек. Потому его все распяливает: то в человекобоги назад, ввысь, то в бесы — вниз, но полнотелого человеческого существо(вания) не получается. Фактура человеческой ткани растянута на станке достоевском и просвечивает (ся). И сам человек — клубок (любимая им ипостась шара Целого — как не плотно-непрерывного, но дискретно-^со-тканного из волн-нитей-жизней). Нужен, алчен грех, ибо лишь через него духу-демону можно оплотниться, снизиться, утяжелить свой флогистон, уносящий пружинно вверх после каждого заземления. Потому так любима здесь низменная природа и всякая грязь и гарь, зло и преступление,— ибо на них не снизу смотрят, но с верха недоступ
386
ности, откуда близок людской жребий — да не укусишь. Так что все эти Раскольниковы, идя на преступление, не Наполеонами стать хотят, имеют внутренней целью, — но именно человеками, старушкой, вошью; а образ Наполеона и сверхчеловека — это курс, как его берем на дальний предмет, чтоб дойти до нужного нам места посредине. Так у Достоевского: недочеловеки света берут курс на сверхчеловека низа — злодея, чтоб дотянуться до человека и в нем осесть.
У недовоплощенных воз-духов жажда жизни велика. У просто живых, в ком жизнь спокойна, нет жажды жизни, ибо жизнь-вода — при них. А у этих именно жажда на тепло жизни. Огня им не хватает, а огонь добывается трением — вот они и трутся о людей и любят теплоту раздражения, страдания. Они рвутся в стук, треск, толкотню людскую. (Даром, что ли, избрал Макар угол в кухне? Тут он возле жизни греется и малокровие свое подкрашивает.) Им потребен город, ибо город = гор-гарь, огонь. Город = каменный костер: взгляните на фактуру города — весь вздыбился языками каменного пламени: дома, небоскребы, церкви, шпили. И вот чем представлена стихия огня в космосе Достоевского. Как мотыльки тянутся к нему недовоплощенные воз-духи. Но так как плоти-земли-оде-жонки на них маловато и в прорехах она, то она быстро прогорает, и начинает гореть уже их субстанция — воздух. А это и есть чахотка — основная болезнь духовных героев. Потому и нужна им, с другой стороны, сырь: осень, дожди, слякоть — для орошения и охлаждения, как водяная рубашка двигателю. Летом они совершенно горят, исходят и сходят с ума, (потуга Ипполита на самоубийство — летом), как рыбы на песке бьются.
Итак, по жажде недовоплощенных воз-духов к земле, воде и огню и понятно, почему сгустились они на жизнь в том месте планеты, где и сырь велика (невские болота), и земля тверда («В гранит оделася Нева»: «Петербург» есть буквально «крепость камня»)1, и где трение людей друг о друга в скученности наемных квартир велико и, следовательно, социальный огонь сильно жжет (контрасты богатства и нищеты, высокомерие и унижение, неволя и тяга к свободе).
1 Как уже указывалось, Petra (греч.) — камень + Burg (нем.) — крепость.
387
3. Диалог Петербурга и России на языке стихий
Петербург — в углу России, где она клином сошлась (и где на нее тевтонская свинья клин клином натыкалася). Посредь России — Москва. Она — сердце. Петербург — окно в Европу. Окно — глаз избы. Глаз — на голове. Выходит, Петербург есть голова, ум, промозглый мозг; Москва — сердце, душа России. Москва — матушка, а Питер — батюшка. Россия есть на Земле страна рассеянного бытия по преимуществу, бесконечный простор, где светер (свет + ветер) гуляет и любит мать сыру землю. И вдруг ей задана такая крепь, как Петербург — кулак, острие, приемноизлучательная антенна, где волны Европы улавливаются и западное влияние (здесь — седалище «западников» в XIX в.) и где энергетика России собиралась в цивилизацию и снопом излучалась на мир1.
Но Петербург не есть Россия. И остатняя Русь не есть Россия. Россия осуществляется как бесконечный диалог Петербурга и Руси, города и дороги. Прочтите «город» наоборот — выйдет «дорог+а»: они — антиподы. Петербург есть «место»2, точка, а Русь — путь-дорога: дорога — дорога народному сознанию, потому и в песнях она. Суть России реализуется именно диалогически, как взаимообращен-ность города и дороги на «ты» друг ко другу (а не единым монословом) в соуважении, но и в яростной полемике, как и пристало протагонистам большого диалога. Россия ощущалась всеми ее писателями как незавершенное бытие, открытое.
В чем же сюжет этого диалога (Петербург — Русь) с точки зрения натурфилософской, если его выразить через стихии? Русь = мать сыра земля, значит, водоземля. Но такова она летом. Зимой же она — «ветер-ветер да белый снег»: ни воды, ни земли нет. Снег — свет. Значит, Русь есть оборотень, диалог двух ипостасей себя самой: женская — летом (живая жизнь, весна) и мужская — зимой (Мороз-воевода3 народ-светер). И так они живут себе и
1 Пока не было Петербурга, Новь город ту же функцию на аналогичном месте, в углу России, на воде Ильмень-озера, исполнял (ведь и Петербург есть, по идее своей, Новый город, «юный град»). Не Новгород, так Петербург, но свято место пусто не бывало.
2 «Место» — город, по-чешски и по-польски, откуда и у нас: «мещане» — букв, «горожане», т. е. жители Burg’a — бюргеры, буржуа.
3 А «зимушка-зима»? — Прим. ред.
388
любят друг друга, попеременно владычествуя в Психо-Космо-Логосе, как день и ночь; и зима здесь — день, муж, царство белизны и света, тогда Уран-небо опрокидывается на землю, звездами-снежинками ее осеменяя; а лето — темень, зелень, жизнь — жена (или, в духовно-эросном варианте,— «сестра моя жизнь»). И вдруг в этот завод и склад, в заведенный ритм Руси, брошен камень-валун Петр,— и вокруг него пошла кристаллизация раствора матери сырой земли. Новый мужик явился, соперник Мороза, Кесарь против Светра-народа. Был народ — старшой, стал народ — меньшой.
Итак, в стихиях: огнекамень на воде против ветра и света — вот что такое Петербург в России. И наводнения Невы — это восстания угнетенной матери сырой земли, придавленной камнем на болотах чухонских, отчего кровь-вода в ней наверх пошла наводнять поверхность — вкупе с ветром:
Но силой ветра от залива Перегражденная Нева Обратно шла гневна, бурлива И затопляла острова.
Точнее, это схватка ветра с камнем, их рыцарский турнир, а вода тут пассивна, как и подобает прекрасной даме. Вот ветер взял ее в оборот:
И всплыл Петрополь, как тритон, По пояс в воду погружен.
То же в революцию: когда народ пошел на Питер,— то «ветер-ветер да белый снег» врывается в город камня.
А то камень берет воду-жизнь в полон и затыкает ход ветру: негде ему средь стен и закоулков размахнуться, чтоб «раззудись, плечо!», и вода теперь — чернь и вонь болотная, стоячая, толпа самодовольного мещанства, что начинает поучать поэта = светер:
Как ветер, песнь твоя свободна, Зато, как ветер, и бесплодна —
оба вместе унижены, поэт и ветер,— и чернь предлагает ветру служить мусорщиком на улицах города (очищать пороки толпы).
4. Воплощения стихий в персонажей Достоевского
Уже прорисовываться у нас стали ипостаси России = возможные роли и амплуа для исполнения персонажами
389
Достоевского: они суть оплотнения русских первоэлементов (= стихий) или их сочетаний — в камере обскура Петербурга.
а. Камень — кесарево начало. Это прежде всего сам город Петербург, его дома, стены, заставы, дворы, его ритм и климат. Это — служба, «должность» — храм, куда ходят. Это порядок, социум, Запад, рассудок, логика, «арифметика», «бернары», «процент». Это закон, завершенность, о-предел-ение. Это вещи, богатые люди, сановники. В «Идиоте» — это генерал Епанчин, Тоцкий. В «Преступлении и наказании» — это Порфирий Петрович. Имя его — от порфиры = короны империи. А отчество — от Петра-камня. Вообще имя Петр или отчество Петрович — у тех персонажей, которые реализуют круг значений кесарева универсума. Лужин в «Преступлении...» — Петр Петрович. В «Бедных людях» друг Макара хмельной Емеля (Емельян Иванович — как Пугачев) советует ему: «А вы бы, батюшка... — вы бы заняли; вот хотя бы у Петра Петровича, он дает на проценты» (1, 157). И главный мелкий бес при Люцифере Ставрогине — Верховенский тоже Петр (Степанович: как если бы сын Степана Разина законником стал, предал отца): в социальнорассудочном мире политики его сфера действий.
Но уже по Порфирию Петровичу очевидно, что и Камень здесь отверзт в любопытстве, заинтересован, диалогичен (как и сам Петр был ведь и «потешный», и была в нем открытость и свобода, ухарская ухватка и атаманская удаль — нечто от Стеньки Разина на престоле). При Порфире — тут же и Раскол (как при Боге-демиурге—diabolos, букв, «раскольник»), В Родионе Раскольникове — мотив раскольников-старообрядцев при Петре, страстотерпцев, родимых, самосжигателей, как и Раскольников ведь не только старушку,— себя убил и шел пострадать. Так что Пор7 фирий Петрович и Раскольников — это вариант русской архетипической пары, что и в «Медном всаднике»: Петр и Ев-гений = благо-родный1, тоже родимый, Родион.
б. Светер в «Идиоте» двоится сразу на Свет-князь Лев Мышкин, весь белокурый и духовный, и Ветер-Рогожин, мужик удалой, разгульный, с бесовщиной и огнями (взгляд его из толпы жжет князя). Он — черная вьюга, вихрь, что закружит, заметет. А князь в конце, склоненный над
1 Evgenes — благородный (греч.).
390
трупом Настасьи Филипповны,— как белый снег и саван ее покрывает. Идиот в эпилепсии — провидец, как шаман арктический. Он — белый шаман, а Рогожин — черный шаман. Меж двумя мужскими полюсами: Камень и Светер — масса переходного люду, продувные, вроде Лебедева (и законник — и гуляка легкий) иль Гани Иволгина (и секретарь — и мелкий бес, ветерок слабый, завистник Рогожина). И у князя отголоски: Ипполит, подростки — све-тодуховники все, недовоплощенные.
Средь Карамазовых Дмитрий — светер, по преимуществу; Иван — огнекамень, = кесарь: недаром из него легенда о Великом Инквизиторе изошла, иль соблазняющий Алешу рассказ о генерале, затравившем мальчика; он разжигает социальную злобу и абстрактную волю и в Смердя-кове-рабе. Алеша — свет статуарный (не ветер, тогда как Дмитрий — больше ветер, чем свет, но и не столь темный, как Рогожин, а со светом и легкостью): недаром к монастырю тяготеет.
в. Ну, а женщина какова? Она не мать сыра, какова Русь-матушка, что распростерлась вне Петербурга как страна и природа — спокойная, медлительная, — нет, она такова, как Нева = женская ипостась в космосе Петербурга: короткодыханная, и не мать, а Нева-дева. Недаром имя такое: Неточка Незванова (= нет, не(з)-ва (ть) — это малая Невка. Не-ва это отрицание, небытие Руси (Моск-ва— утверждение, бытие Руси). Петербург — это воля, огнекаменное «Да»! А вечно женское (das ewig Weibliche Гёте) здесь говорит — «Не...».
Итак, женщина здесь не природа-роженица, а пара к Камню и Светру, меж ними колеблется, как ундина, разные облики принимая, смотря к чему льнет и примыкает. Настасья Филипповна — молодая ведьма, все шабаши, разгул, надрыв и истерика при ней: внести смятение во всякую упорядоченность Епанчиных, Тоцких, Иволгиных. Она — ветер, вьюга, метель (недаром откуда-то из глубинки русской взялась, из деревни, шаманка). И она — огонь, костер (недаром в ее печи горят ассигнации), ветер с бесовщиной, pendant к Рогожину, — но и князю сестра духовная (ее истерики = его эпилепсия): они узнают свое метафизическое избирательное сродство, но не на этом, а на трансцендентном уровне — братство в высях, по Граалю. Они друг для друга — как, по Юнгу, «анима» для мужчины и «анимус» для женщины, т. е. женская (мужская) ипостась своей души (духа). Аглая = aglaia (греч.) — блеск,
391
пышность, в(л)ажность, высокомерие. Дочь генерала Епанчина, мудрая дева Афина. София она — примыкает к Камню-Кесарю. (Но тоже диалогично открыта навстречу другим потенциям: страстна и глаза черные...) При Карамазовых Грушенька — светер, Катерина Ивановна — камень, рацио, дева Афина.
г. Отсыревший камень. Важнейший слой персонажей — это чиновник-расстрига, спившийся: Девушкин, Голядкин, Мармеладов, генерал Иволгин, Лебедев, капитан Лебядкин, отчасти Федор Павлович Карамазов, который когда-то тоже служил. Все это — отпрыски камня на болоте, плод его отсыревания при взаимодействии с матерью сырой землей: gutta cavat lapidem = капля (водки) точит камень Петров. Угораздило же этот валун ухнуть в топь и хлябь, где чудь и жмудь, меря, весь и чухна — им здесь пристало непотревоженно жить,— вот и отмстила почва российская залетному граниту европскому, валуну скандинавскому, званому, правда, гостю варяжскому (недаром со шведами было у Петра влеченье — род недуга), что в оледенениях на Россию наносились, а тут отсыревали и гнили, и выдавливались из-под них, и поползли пузыри земли, болотные огоньки. Итак, чиновник этот есть разжалованный камень, Кесарь в умалении, камень в отставке: изъеденный, источенный, готовый рассыпаться в прах, если бы не был мокр, глинист и липк, увлажнен, благодаря возлияниям — подачам воды снизу. И тут-то камень, глядишь,— близится к ветру: мысли такие вольные, завихрения, чертики замелькали, запаясничали. Это — сфера пародии на Петра (как Смердяков — пародия на Ивана Карамазова). Именно Камень допускает и изыскует на себя пародию. Ни светер, ни мать сыра земля пласта пародии при себе не имеют.
По составу своему этот слой — грязь (= плод союза камня и воды), столь любимая Достоевским разновидность земли: почва обычно — грязь, и по ней нужны сапоги — сии лодки по матери сырой земле. И фамилии их указывают на водяной состав: преобладают л, г, б, н, м, д — звуки сонорные, звонкие, женские, влажные, а мужское р и не слышно в их окружении: «Мармеладов». И гласные: е, я, и — переднего ряда, легкие, высокие, нет тяжести и увесистости, как в «Карамазов», «Ставрогин», «Свидригайлов». В сравнении с этими те звучат как легкие, недовоп-лощенные, полувоздушные, птичьи. Да и по смыслу рассудочному «лебедь» и «иволга» — птицы. Но птицы сы
392
рые, водяные (иволга — в росистом сыром лиственном лесу и кустарничке водится). И живут они на птичьих правах, и в слогосе (в слоге + Логосе) щебечут. Все они очень словесны и разглаголисты: и Мармеладов, подвыпив,— идеолог, а капитан Лебядкин уж чуть не Пушкин этой сферы. Но они — и наиболее люди из персонажей Достоевского, наш срединный уровень представляют (и в звучании фамилий это л, и, д ~ люд), человеческий жребий, и за сердце, за душу хватают птичьими своими коготками. И если и бесы они, то — водяные, а не огненные (как Петр Берховенский), и не домовые, хотя в Федоре Павловиче Карамазове есть черты домового: недаром так сопряжен с домом и из дома не выходит, сиднем сидит, совсем антисветер он, анти-Митя,— и такое при нем подробное описание дома и забора, флигеля и переходов — как лабиринта.
д. Хтонические. И это на хтонический, подземный, мистериальный состав его и суть указует: он, как Аид, драконом выползший на землю, и сидит над кладом, как положено змиям в мифах многих народов (ср. Фафнер над кладом Нибелунгов). А клад его — это три тысячи с бантиком и надписью «Ангелу моему Грушеньке, если захочет придти» — к Минотавру в лабиринт. Чудище это, земных дев соблазняющее и уволакивающее в преисподнюю. И весь он — земноводный, как жаба или ящер, склизкий,— но теплый: перегнойная теплота в нем, самая почва зарождения жизни. И убиение его сыновьями — это свержение Кроноса сыновьями: Зевсом, Аидом и Посейдоном в битве с сырыми аморфными массами титанов, детей Геи-земли, и установление обогненного перунами и высушенного царства аполлоново-светлых, рассудочно-логосных богов Олимпа. Сыновья Карамазова все более дифференцированы, особны, индивидуальны — и частичны. Он же синкретичен, нерасчлененная живая слизь и протоплазма, в которой все потенции и ипостаси сыновей зыблются. Так что в «Братьях Карамазовых» осуществляется артельный Эдипов комплекс по-русски — артелью сыновей.
Если Федор Павлович Карамазов — Кронос, хтоничен, то в структуре романа аналогичная ему по трансцендентности уровня светлая ипостась — старец Зосима. Однако и он, быть может, в прошлом Карамазов (= Черномазый, т. е. дьявол, Вельзевул), великий грешник (есть на то намеки, да и труп его смердел карамазовской гнильцой) — но тот, о преображении которого небеса ликуют, ибо много жизни и
393
грязи собой в свет и небеса зацепляет, и возносит, мощно просветляя материю, как бодхисаттва. Так что отец Карамазов — это, может, полпути к Зосиме. Что Митя таков — уже три четверти пути к Зосиме — это очень очевидно.
И выходит, что «Житие великого грешника» осуществ-лено-таки Достоевским в «Братьях Карамазовых», но не монологично (как задумал он серию романов, которые должны бы последовательно изобразить путь одного персонажа, допустим, Алеши) — к этому он, как показал М. М. Бахтин, был неспособен,— но так, что развернуты в одновременности разные ступени и ответвления этого пути, разные эпизоды и ипостаси этого Жития,— и они реализуются хором и полифонией всех персонажей и ситуаций. Так что это месса, страсти по Теодору1 — и именно в присущей ему диалогической, незавершенной, открытой и вопрошающей манере. К этому же, титаническому, уровню относятся Свидригайлов, Ставрогин, Версилов, но все они более сухи и социальны, более плоски.
Ставрогин больше огонь адский, Люцифер (лат.~ светоносный), блестящий, анти-Аполлон — и столь красив потому. Но он уже с отрезанной пуповиной хтонической (нет той силы жизни, что в узловатом пне Федоре Павловиче) и ходит как Агасфер, ввязавшись в социально-кесарев уровень, а здесь ему неуместно и худо, не рыба в воде, в отличие от Петра Степановича Верховенского. И Свидригайлов более гладок (недаром в фамилии нечто от шляхетского Ягайлы слышится и все поведение его в романе рыцарственно), бронированный ящер, тучен, чаден и кро-вян, тяжек, и нет ему подачи влаги-сыри и силы жизни, и потому тянет его в подземелье Аида (паук на том свете), и он, безнадежно-сухой, в окружении наружной петербургской сыри (ливень-потоп в ночь его самоубийства) в этом океане примордиальных космических вод, опускается на дно: стреляется и огнем возвращает себя в Тартар титанов. Хтонические мужские божества сопряжены, как титаны, с русской Геей, матерью сырой землей. Недаром они не петербуржцы, околоземные, из всемирного пространства; а это для Петербурга — деревня. Они — помещики: Быков, Свидригайлов; Федор Карамазов — закоренелый провинциал. В Петербурге они — залетные, приезжие. И Ставрогин — первый в деревне: в малом городке его арена. В Риме
1 Имя Федор — стяженное Theodoros — божий дар (греч.).
394
он будет второй — там Кесарь первый... В Ставрогине, несмотря на весь его западный лоск, слышится неуемная никчемная сила русского удальца-атамана (он и есть атаман партии, ее мистический, а не практически организационный глава), которой бы по Волгам да по Сибирям разметываться, а не на арене парламентско-политических казематов игроком заделаться. И что ему мелкие женщины Лебядкины иль Елизаветы? Он за борт ее бросает в набежавшую волну. И себя туда же.
Этот, хтонический пласт персонажей — полюс Огне-Камню = Олимпу, его социальной, созидательно-органи-зующей цивилизаторской Зевесовой работе. Он — сверхсоциален и трансцендентен. И самая многосмысленная непонятность принадлежит героям этого плана — сфинксы они. А сфинкс — льво-дева: хтоничен, как женщина, и в то же время солнечен (лев). В нем в одной плоти сошлись ясное и черное солнце. И персонажи эти гуляют по роману средь нравственно-метафизических проблем, что мучают еще человеков, вроде Раскольников, Шатова иль даже Кириллова, — как Крокодил Чуковского по улицам Петрограда. Для них нет нравственно-метафизических проблем, ибо они сами — сплошная метафизика и оплотившаяся трансцен-денция. В них — додуховное состояние Целого, синкретическое, до распадения на материю и дух. Хотя они и рассуждают иногда, но так, левой ногой, играючи, для них проблем нет; это все бирюльки в сравнении с той атлантовой тяжестью бытия, что им выносить приходится. Кронос ведь поболее да поглубже Зевеса и более его ведун, ибо тот только огнесвет ведает, а этот нюхом чует вещество, матерью и многое, что неисповедимо рассудком и зачисляется им по ведомству «иррационального». И от слизи — жизнь, как здоровая грязь в «Что делать?» Чернышевского (хотя гнилая грязь, может, еще более метафизична и жизнеродна).
Так что, пожалуй, Федор и Петр, Крон-Хтон и Камень-Кесарь не могут противостоять друг другу, ибо принадлежат разным уровням, состояниям Целого. Федор сопряжен с эоном титанов, и под ним Хаос шевелится и пульсирует его протоплазма. Им, Петру и Федору, взаимно нет друг до друга дела, они, лишь косясь, друг на друга поглядывают1.
1 Камень-Кесарь есть уже обогненная земля, высушенная и уплотнившаяся в железо, рассудок, плотный атом, предполагающий вокруг себя разреженное пространство, пустоту, небытие — место для света, ветра, воздуха: камень есть земля, материя, ориентированная на воз-дух,
395
И недаром Федор Достоевский свое имя, т. е. имя Бога-Творца мира своих героев, даровал именно отцу Карамазову, тем самым наиболее приблизив его к самому центру Психо-Космо-Логоса на его достославный лад (церковнославянский префикс досто-, как и препо-, означает превосходную степень качества, суть приставки для эпитетов божества). А что Ставрогин — того же уровня существо, что и Федор Павлович, который в перспективе Зосима, и в том сюжетном обороте проступает, когда он идет на исповедь к Тихону, т. е. только этот может его понять, у них общий язык, ибо одноуровневы они. Ведь даже Иван Карамазов в разговоре с Зосимой — дитя, сосунок, не на равных. А Ставрогин может на равных, ибо не рассудочно лишь грешит, как Иван — сухонький, чистенький, так что его, для полноты осуществления этой потенции в Космосе Достоевского, понадобилось оросить, осырить Смердяковым, — но согрешил по живому и задел бытие за живое.
В романных мирах слой хронических как жизнеродность, как первое темное влажное небо первичных космических вод, небо Варуны — Урана, облегает пространство всех последующих сюжетов, персонажей, светил, воз-духов и их ношений = отношений, конфликтов-аффектов, которые, кесари и светры,— все внутри первых находятся и совершаются. Во всяком случае, это — силовое поле, откуда волны, пульсация сил и поползновений, завод и затея всех сюжетов в романах: от Ставрогина — катаклизм «Бесов», от Федора Павловича — миро, которым мазана карамазовщина и по составу, и по динамике: в нем узел всех их страстей, поползновений и соблазнов. От Версилова — Подросток, и весь его мир и план внутри верси-ловского завода располагается, им предопределен. И Свидригайлов предстает перед Раскольниковым как некое допотопное диво, на которое этот, как гуси на гром, приподымает голову, куда ему приходит: «А ведь Свидригайлов — тоже выход...» Еще бы! В такие глубины и пространства, которые сухому девственнику старообрядцу-диакону и не снились.
тогда как масса, из которой хтонические, титаны, — нерасчлененно сырая, безвидная (безыдейная), непрерывная протяженность (тогда как камень — воздух есть пунктир: бытие — небытие, завелась дискретность как принцип склада Целого).
396
Так может быть представлен Космос Достоевского1. Но по завершении этого дела видишь, что при таком подходе провалилась куда-то вся нравственная и духовная проблематика — не улавливается им, наверное, так же, как в сфере Кантова теоретического разума, прикосновенного лишь к природе и необходимости, — неисповедима остается свобода воли и этика, личность и «я». И это — загвоздка для сведения концов с концами в дальнейшем обдумывании и проникновении в Целое Психо-Космо-Логоса, из которого здесь отщеплен лишь Космос.
1 Можно попытаться изобразить иерархию ролей в некоторой схеме. Если Целое есть Сферос, то уровни в нем могут видеться как концентрические сферы, причем каждая — двоична, в паре противоположностей.
&
или
X
В первой схеме мир — во чреве хтонических, как Иона в ките. А можно и обратно: узреть мир как эманацию из пульсирующего недра, развертывание и распускание. Человеческий уровень выходит промежуточный: его спирают (или растягивают) с одной стороны — хтонически природные и мать сыра земля (которая у Достоевского почти отсутствует, нулева), а с другой — духовно-исторические энергии.
Послесловие к книге Г.Д. Гачева «Национальные образы мира». Курс лекций
Поразительные процессы происходят в современном мире. Лавинообразная модернизация, создание мирового рынка, всеобщая урбанизация, вовлекающие многие народы и отдельные этнические группы в процессы интенсивной интеграции и смешения, приводят, вопреки предсказаниям ранних либералов и социалистов, не к унификации и нивелировке культуры, а напротив, к взрыву этнических чувств, к стремлению сохранить свою идентичность, к попыткам сознательной консервации наследия предков. Эти процессы, охватывающие ныне весь мир, ломают всю строгую логику кабинетных построений и заставляют существенно корректировать или вовсе отбрасывать прежние теории культурного развития. Растет интерес к культурному своеобразию — где его корни, на чем оно основано, как оно ухитряется уживаться с современными нивелирующими тенденциями, является ли оно священным наследием предков или, напротив, плодом творческих усилий наших современников и, наконец, каковы его перспективы на будущее. В последние десятилетия все эти вопросы неоднократно рассматривались отечественными специалистами, рассматривались весьма по-разному, и в их обсуждении участвовали этнографы, историки, литературоведы, социологи, политологи. Был среди них и Г.Д. Гачев, автор настоящей книги, с самого начала заявивший о себе своим достаточно нетривиальным подходом, отраженным на страницах нескольких солидных монографий, вышедших в течение последних десяти лет.
Этот подход развивается и в предлагаемом читателю лекционном курсе, посвященном проблеме различий в мировосприятиях разных культурных систем, в системах ценностей, неизбежно порождающих разные поведенческие стереотипы. В актуальности этой проблемы никаких сомнений быть не может. Обсуждение ее особенно важно в наше время — время «взрыва этничности», развития национальных движений, резкого роста интереса у людей к своей культуре, своему прошлому и своей идентичности. Какую роль играет национальное в жизнедеятельности и мировосприятии человека, как оно окрашивает его творчество — все это далеко не праздные вопросы.
398
Нельзя не согласиться с автором в том, что в этих условиях во избежание этнической напряженности следует обучать людей мультикультурализму и воспитывать толерантность, открытость к восприятию чужих культур и уважение к иным мировоззренческим моделям. Вполне справедливо утверждение автора о том, что в современном мире общей ценностью становится непохожесть, и с этим следует считаться как тем, кто занимается политикой, так и самой широкой общественности. С этой точки зрения можно лишь приветствовать стремление автора написать книгу, «способствующую взаимопониманию между народами и культурами». Не менее важно и то, что он ставит проблему «кризиса идентичности», которая в наш бурный век действительно заслуживает самого серьезного внимания. Столь же актуально стремление разобраться в проблеме разночтений в системах понятий разных национальных культур — ведь в условиях интенсивных межкультурных контактов эти разночтения порой порождают недопонимание, взаимное недоверие и даже враждебность. Поэтому большого внимания заслуживает тезис автора о «презумпции непонимания». Другое дело, как быть с этой «презумпцией», можно ли ее переломить или с ней надо просто уживаться, воспитывая в людях толерантность и стремясь снизить возникающие конфликты до минимума. Исходным моментом при этом может служить установка автора на то, что «везде все есть, но в разных пропорциях».
Вместе с тем специфика такой проблематики требует особого такта и тонких сбалансированных подходов, основанных на строго разработанной методике. Скажем, какими инструментами можно установить и измерить «разные пропорции»? Ведь претендующее на научность произведение должно быть верифицируемо, а для этого автор просто обязан познакомить читателя с особенностями применяемой методики и с системой терминологии. И именно в этом отношении работа автора вызывает целый ряд вопросов, ибо названные сюжеты остаются им нераскрытыми. Что автор понимает под национальным, под национализмом, остается неясным. Можно лишь догадываться, что национализм автор трактует в традиционном советском духе, понимая под ним именно крайний этнонационализм, но ведь известны и иные формы, скажем, либеральный национализм, которые в поле зрения автора странным образом не попадают.
Между тем определение понятий «национализм», «национальное», «нация», «этнос» безусловно требуется в по
399
добного рода работе, ибо без этого не только читатель может неадекватно воспринять рассуждения автора, но и сам автор рискует смешать несколько разных явлений. Что, собственно, и происходит. Ведь, уходя от обсуждения термина «национальный», автор фактически не разграничивает два его смысла, имеющиеся в русском языке, — «национальное» как государственное и «национальное» как этническое. В итоге возникает путаница, ибо в разных контекстах этот термин используется автором по-разному. Скажем, говоря о России, автор формально имеет в виду государственный аспект («наше дело — конкретное описание... различных национальных целостностей: Россия, Америка...»), но возникает резонный вопрос, в какой мере культура совпадает с государственностью. Ведь фактиче-ски в книге описывается прежде всего именно «славяно-русская модель», ибо обращение к якутским или татар-ским материалам дало бы иную картину. И действительно, во многих местах книги обнаруживается, что речь идет именно об этносах. Кстати, небесполезно было бы обсудить, что именно имеется в виду под русским народом. Ведь смысл этого инклюзивного понятия воспринимается разными современными авторами по-разному! Мало того, полезно было бы проанализировать, насколько изложенная автором модель подходит для поморов, казаков, бухтарминцев, марковцев и других специфических групп русского народа.
Не рассматривает автор и случаев бикультурализма. Поэтому та картина, которую он рисует, искусственно обеднена и не отражает всей вариативности культурных контекстов. А ведь именно анализ вариативности как будто бы и является целью его исследования. Без учета вариативности и культурной иерархии «национальное» становится самодовлеющим фактором, и его роль неоправданно преувеличивается. Тем самым, сам того не подозревая, автор демонстрирует типичный националистический подход. Это ярко проявляется, например, в его подходе к Древней Греции, которую он как будто бы рассматривает как «национальный организм», что в высшей мере спорно. Ведь «нация», равно как и сопутствующее ей «национальное», — это сравнительно новые явления, которых несколько веков назад не было. Древняя Греция не была единым государством, а распадалась на многочисленные небольшие политические общности, с которыми прежде всего и связывало себя ее население. Ни о каком серьезном более широком единстве там и речи быть не могло. Кстати, и по
400
отношению к Римской империи термин «национальный организм» можно было бы использовать лишь очень условно. Ведь там, как, впрочем, и в Древней Греции, первостепенную важность имело прежде всего гражданство («гражданин Рима»), независимо от культурной или конфессиональной принадлежности. И тот, кто попытался бы описать «национальный образ мира» Римской империи, встретил бы немало неожиданных сложностей. Так что автор поступил достаточно мудро, оставив Рим за рамками своего исследования. Очевидно, так надо было поступить и с Грецией.
Не избежал автор и этноцентризма. Скажем, он считает универсальным соотношение между четырьмя временами года и четырьмя стихиями. Конечно, такие рассуждения близки человеку, выросшему в средней полосе. А как быть с приполярными регионами, где сезонность и отношение к ней людей выглядят совершенно иначе? Кстати, такие накладки являются прямыми следствиями авторского метода, — чем больше он опирается на «интуицию и фантазию», тем больше в его построениях присутствует этноцентризм.
Многие соображения автора оригинальны и заслуживают внимания, однако они нуждаются в более убедительной аргументации. Скажем, весьма соблазнительно связывать формы приветствия с особыми системами ценностей, но возникает вопрос, насколько эти ценности разделяются современным населением, или же в приветствиях закрепились фоссилизированные остатки прежних ценностей, которые мало что значат для наших современников. Аналогичные проблемы возникают в связи с попытками автора обрисовать культурную специфику в восприятии пространства и времени, мужского и женского и т.д. Апелляции к языковым данным здесь явно недостаточно, ибо опытный читатель неизбежно задаст вопрос о том, не являются ли построения автора сродни народной этимологии. Скажем, хотелось бы знать, на каких данных основаны утверждения автора о том, что в южных странах превалирует животный символизм, а в северных — растительный. Как в этом случае быть, например, с эскимосами, у которых стержнем хозяйственной жизни и основой символического мышления является охота на морских млекопитающих? То же относится и к северным оленеводческим народам. И таких примеров можно привести немало.
Недоумение вызывает попытка автора опираться не на рациональные методы, а на некие иррациональные приемы,
14 Гачев Г.Д.
401
далекие от строгой логики, — «путь предположений, гипотез, даже фантазии». Не размывает ли это строгие рамки научного мышления? И если это — наука, то что же тогда — художественная литература? И как тогда быть с верификацией? Ведь, вставая на этот скользкий путь, мы должны будем допустить равноценность любых (!) фантазий. Не поставит ли это науку в ложное положение и не приведет ли в конечном счете к ее гибели?
Важной особенностью методологии автора является и то, что данные для своих построений он, как правило, черпает из художественной литературы, т.е. из профессиональной «высокой» культуры. Между тем народные представления далеко не всегда соответствуют тому, как о них повествуют профессиональные писатели. Так, специалист мог бы привести данные и в пользу выводов, расходящихся с авторскими. Не говоря уже о западной литературе, в отечественной традиции имеются удачные попытки культурологического анализа тех сюжетов, которые затрагиваются автором, и было бы небесполезно их обсудить. Ведь фактически большинство материалов, которыми автор оперирует (профессиональная художественная культура), мало соответствует его главной цели — раскрыть национальные образы мира. Действительно, последние надо искать прежде всего в глубинах народной традиционной культуры, которую автор не исследует. Его интересует художественная литература, которая в большей мере окрашена индивидуальным творчеством и в которой гораздо труднее вычленить народные традиционные компоненты. Не делая различий между этими весьма существенными аспектами, автор поневоле смешивает разные вещи. Ведь если образы коня, оленя и верблюда действительно играют важную роль в традиционной культуре киргизов, то нельзя сказать того же об образе кита для англосаксов.
Таким образом, фактически автор изучает не «национальные образы мира», а образы мира, создаваемые национальной интеллигенцией. А это далеко не одно и то же. Надо ли говорить о том, что интеллектуалы более свободны в своем самовыражении, чем представители народных масс? И что среди интеллектуалов, заботящихся более всего о самовыражении и занимающихся творческим конструированием действительности, можно обнаружить достаточно большой разброс мнений? И тогда возникает вопрос о том, как автор вел отбор своих героев, почему он опирался на мнения одних интеллектуалов и игнорировал других? Как он опреде
402
лял, чьи мнения лучше отражают «национальные образы мира»? Почему о французском образе мира надо судить по живописи именно голландца Ван Гога, а не, скажем, Поля Гогена или тем более Ренуара? К сожалению, этот круг вопросов автор не обсуждает. А ведь без этого достоверность его построений оценить невозможно.
Делая акцент на ценности, закрепленные в словесных формулах, автор, к сожалению, не касается вопроса о том, когда и в какой обстановке эти словесные формулы возникли. Скажем, противопоставляя мировоззрение эллинов и англосаксов, автор почему-то обходит вопрос о том, в какой мере общие принципы мировосприятия у вторых были обусловлены христианским учением. Кстати, в этом отношении мировоззрение античных греков-язычников, надо думать, существенно отличалось от современных православных греков. А стало быть, принципы «гонии» и «ургии» (так их называет автор) в данном случае имеют отношение не столько к национальным традициям, сколько к действию конфессионального фактора. Ведь идея «творения», тесно связанная с Ветхим Заветом, неизбежно интегрировалась во все культурные традиции, вошедшие в христианский ареал.
Вообще авторскому тексту не хватает динамики, и он создает впечатление вечности и неизменности ценностных ориентаций и «национальных» культур, что вряд ли соответствует действительности. Автор даже целенаправленно ищет устойчивые формулы национального мировоззрения, «относительно независящие от времени». Вот почему, подобно многим мыслителям-националистам, он придает такое большое значение теснейшей связи этноса с вмещающей природной средой, которая представляется раз и навсегда заданной.
Между тем XX век вносит существенные коррективы в это представление. И природная среда меняется, и люди переселяются из одного природного ареала в другой, причем порой речь идет о массовых переселениях. Урбанизация также существенно меняет привычное природное окружение. И в этих условиях происходит болезненная ломка прежних ценностей и установок. Так что ценности не являются раз и навсегда данными — они тоже подвержены изменениям. В то же время они отличаются большим консерватизмом, чем многие другие аспекты культуры. Мало того, в изменившейся обстановке люди порой склонны искусственно консервировать некоторые прежние ценностные ориентации, причем в гипертрофированной форме, так как это
Зоз
14*
играет важную роль в сохранении этнического самосознания, в самоидентификации. Поэтому вопрос о том, как соотносится этот консерватизм с динамикой, представляет особую очень важную проблему, которой автор почему-то не касается. Похвально намерение автора освободить ум от стереотипов, но неразработанность методических приемов фактически ведет его к обратному — к созданию новых стереотипов.
Иной раз автор очень тонко чувствует проблему — скажем, различия в подходах разных культур к одним и тем же явлениям, однако, к сожалению, не вникает в глубинный смысл этого явления, и его рассуждения нередко отличаются поверхностностью. Еще более субъективен подход автора к культурным символам мира. Здесь он не столько отталкивается от имеющихся народных моделей, сколько привносит свои собственные интерпретации, не заботясь о том, насколько они соответствуют собственным (эмным) представлениям носителей отдельных культур. Например, по Библии, евреи стали «избранным народом» еще в эпоху патриархов, когда они обитали в строго очерченном природном ареале. Так что ни с какой диаспорой эта «избранность» первоначально не соотносилась. Между тем автор связывает «избранность» именно с ситуацией диаспоры, что является переосмыслением исконного понятия и не соответствует первоначальному смыслу термина. Тем самым речь здесь идет не о картине мира самих евреев, а о том, как ее хочет понимать сам автор. Аналогичным образом автор полагает, что пищевые запреты строго соблюдаются лишь у того народа (евреев), который потерял родину. Но ведь эти запреты ввел еще Моисей! И нет оснований полагать, что тогда эти запреты соблюдались менее строго. Кроме того, как быть с мусульманами, которые связей с родиной не утратили и тем не менее ревностно соблюдают особые пищевые нормы? Мало того, это распространяется и на тех мусульман, которые приняли ислам относительно недавно, не меняя при этом среды обитания! Так что дело здесь, очевидно, не в природной среде, а в чем-то другом, о чем автор умалчивает.
Вообще примеры из этнографии, приводимые автором, по большей части легковесны и мало соответствуют реальности. Так, автор предлагает свою версию мусульманского запрета на свинину и алкоголь (кстати, вопреки его представлениям, Коран водку не запрещает), связывая это с жарким климатом. А как тогда быть с живущими в пустыне аборигенами Австралии, у которых жир является престиж
404
ной пищей? Автор считает, что в силу природно-климатических причин российский человек призван быть запойным пьяницей. Но почему этого не происходит в Канаде, лежащей в тех же широтах? Автор приписывает жертвоприношения и ритуальные поедания животных исключительно кочевым народам. Но аналогичные обычаи наблюдаются у горцев Кавказа, у папуасов Новой Гвинеи и у современных марийцев-язычников.
Носы кочевников уплощены, утверждает автор. Доводилось ли ему видеть носы туркмен или, скажем, бедуинов? Автор видит в играх с шаром некое издевательство Западной цивилизации над языческой Грецией. Знает ли он об игре в мяч в доколумбовой Америке, о ритуально-спортивном использовании черепов, о «козлодрании»? Неужели американские индейцы доколумбовой эпохи или казахи тоже думали о том, как бы поиздеваться над бедными эллинами?
«Метод» автора хорошо виден из его попыток объяснить аббревиатуру ОК, до сути которой он так и не докопался, хотя ее происхождение достаточно хорошо известно и не только специалистам. В Англии популярна притча о глупом короле, который учился, но так и не научился грамотно писать. И чтобы не делать лишних ошибок, он решил по мере надобности прибегать к аббревиатурам. В частности, не зная, как правильно писать all correct (т.е. «верно»), он решил ограничиться лишь первыми буквами и, конечно же, сделал сразу две ошибки — ОК (т.е. oil korrect).
И таких примеров можно привести много. Поэтому читателя непрерывно преследует вопрос — о каких картинах мира идет речь: о тех, которые реально существуют в разных культурных средах, или же о тех, которые навязывает им автор, исходя из своих субъективных представлений и недостаточных знаний? И сопоставления типа «Тора» — терри-тора — это не более, чем упражнения в остроумии, которые вряд ли уместны в научном произведении. Кстати, автор и сам сознает субъективность, интуитивность своего подхода: «У меня нет претензий на точность утверждений, но — на интересность». Действительно, отдельные страницы его рукописи читаются с интересом, но не более того. Но та ли это основа, на которой следует строить лекционный курс для студентов?
Связывая ценности с лингвистическими формулами, автор затрагивает очень важную проблему, получившую в науке название «гипотезы Сэпира-Уорфа». Эта проблема, стержень которой составляет тезис о влиянии самой структуры
405
языка на мышление его носителей, обсуждается уже не одно десятилетие, однако она и ныне остается открытой. Многие интересные соображения, в том числе критические, выдвигавшиеся разными специалистами, выносятся автором как бы за скобки, что не позволяет ему выработать более сбалансированный подход к проблеме. Мало того, его собственные постулаты нередко не опираются на развернутую систему доказательств и повисают в воздухе. Автор надеется на то, что читатель поверит ему на слово. Не думаю, что читателя это устроит.
Ряд принципиальных соображений автора противоречит фактам. Так, он видит истоки функционального подхода в американском характере, а европейскую традицию связывает с натурфилософией. Но вопреки автору, в Германии родилась не только лингвистическая теория генеалогического древа Шлейхера, но и теория волн И. Шмидта. Кроме того, именно в Европе были впервые сформулированы принципы функционализма и структурализма!
Вслед за известным лидером еврейского национального движения В. Жаботинским автор поддерживает миф о якобы своеобразной устойчивой еврейской расе. Но достаточно хотя бы раз побывать в Израиле, чтобы понять всю ошибочность этого утверждения. Кстати, этот миф подхватили и современные антисемиты, что необходимо иметь в виду, обсуждая любую тематику, связанную с евреями. На удивление, автор подхватывает некоторые антисемитские идеи, скажем, о том, что древних иудеев будто бы донимали кожные болезни. Между тем этот стереотип («жид пархатый») родился в эпоху античности в нееврейской среде. Аналогичным образом автор жестко связывает евреев с деньгами, финансами, как будто это имманентно присуще евреям как народу независимо от эпохи или исторической ситуации. Между тем это — позднее явление: в эпоху античности и раннем средневековье ситуация была иной. Да и сейчас она иная. Между тем идея о вечности и неизменности этой связи очень полюбилась антисемитам. То же самое относится к идее о вторичности творческой деятельности евреев. Развивая ее, автор фактически повторяет зады антисемитских концепций XIX в. Поэтому незаангажированному автору следует очень осторожно обращаться с такого рода идеями и не транслировать их без тщательной предварительной проверки. И утверждение автора о том, что «антисемитизма в России нет», более чем спорно. Хотелось бы посоветовать ему больше интересоваться жизнью современной России, бывать
406
на массовых манифестациях и почитывать «патриотическую» прессу. Кстати, в наши дни антисемитизм обнаруживается не только у русских «патриотов» («Сына Родного»), но и в нерусской среде. И это требует особого такта от любого, кто стремится высказаться по еврейскому вопросу. Кстати, не меньше такта требуется в наше время и при обсуждении русского вопроса!
Строя свою достаточно оригинальную концепцию, автор по непонятной причине забывает упомянуть, что сходные идеи и принципы уже обсуждались в науке, — стоит напомнить исследования культуры и личности, интенсивно проводившиеся в США в 1930—1940-е гг. Р. Бенедикт, Э. Сэпир и другие американские специалисты в те годы обсуждали проблему «моделей культуры», а корни этого подхода уходят еще глубже — к А. Бастиану, Ф. Ницше, О. Шпенглеру и т.д. Эти авторы, в частности, пытались разделить культуры на «аполлоновские» и «дионисийские» по темпераменту, мировосприятию, стереотипам поведения и т.д. Позднее все это вызвало широкую дискуссию относительно как методики такого рода исследований, так и конкретных выводов. В частности, критики указывали на неразработанность методических приемов и упрекали сторонников данного направления в «фантазировании», опирающемся в значительной мере на интуицию. Это относится, в частности, к евразийцам, которые задолго до автора рассматривали нацию как личность. Была показана также уязвимость самого понятия «национальный характер». Жаль, что соответствующая литература выпала из внимания автора.
Думаю, что читателю, заинтересовавшемуся проблемами, поднятыми в настоящей книге, будет небесполезно познакомиться с такого рода критической литературой и особенно с былыми научными дискуссиями. Если же речь идет о лекционном курсе, то студенты просто обязаны знать об этих дискуссиях для того, чтобы выработать свое сбалансированное отношение к заявленной проблематике. Без обсуждения историографических вопросов курс очень много теряет. В частности, перед любым, кто берется анализировать национальные идеологии, не зная о том, как проблемы национального и этнического обсуждаются в современной литературе, всегда стоит опасность воспроизвести давно отжившие представления.
Рассуждая о роли природы в жизни народа, автор оживляет идеи немецкой антропогеографии и геополитики и их
407
русских последователей. Однако хотя эти направления и имели в свое время определенные заслуги перед наукой, наш век интенсивной урбанизации и модернизации заста-вляет вносить в эти идеи существенные коррективы. Без этого появляется опасность дрейфа к крайнему консерватизму, что привело бы к некоторой политизации обсуждаемого научного направления. Кроме того, у автора явно проступает тенденция преувеличивать роль природно-ланд-шафтного и геополитического фактора в формировании «национального характера». Чего стоят одни его попытки вывести «душу» России напрямую из ее природной среды. Описывая менталитет грузина, он ищет его основы в горном ландшафте. Между тем севернокавказские народы тоже живут в горах. Но насколько они отличаются от грузин! Так в горах ли дело?
Главы, посвященные отдельным, странам, представлены в импрессионистском стиле, повествование ведется достаточно бессистемно, и целостной картины мира, к сожалению, не складывается. Зато выявляется явное тяготение автора к при-мордиализму, стремление выводить «национальный характер» из глубин веков, жестко связывать его с географией и ландшафтом, считать последние определяющим фактором в истории, которая тем самым как бы задана. Эта сомнительная позиция заставляет автора не только строить жесткую телеологическую схему, но и вступать в противоречие с историческими фактами. Фактически автор пытается объяснить своеобразную историю отдельных стран, исходя из своих представлений о «мистическом национальном характере» и игнорируя все остальные факторы (не говоря уже о разработках серьезных специалистов). Он не отличает случайное от существенного и привлекает случайные факты и казусы для суждений о каких-то глубинных сущностных явлениях (см., например, его остроумную игру с фамилиями национальных лидеров).
Такой подход применялся некоторыми авторами во второй половине XIX — начале XX в., но оказался непродуктивным, и с тех пор специалисты от него отказались. Не думаю, что его реанимация сослужит хорошую службу современной России. Хотя, повторяю, многие вопросы, которые поднимает автор, действительно заслуживают внимания. Но они требуют гораздо более глубокого анализа, чем тот, который демонстрирует автор. Кстати, непонятно, почему для описания России автору хватило в два-три раза меньше места, чем для описания Киргизии? Неужели «российский образ мира» кажется автору проще? Что же 408
касается главы «Панорама Евразии», то она просто создает миф, не имеющий никакого отношения к научному знанию. В Частности, вопреки автору, нельзя считать переселение народов с востока на запад вечным и неизменным явлением. Специалистам хорошо известно, что древние индоевропейцы, напротив, переселялись с запада на восток и юго-восток вплоть до Индии и Китая!
Некоторые пассажи, как, например, воспевание язычества, просто неуместны. Язычество — сложное явление со своими светлыми и темными сторонами, и касаться его походя не стоит. Вряд ли оправданно рассматривать античный Рим и современную Италию как некую единую цивилизацию — уж очень они разные как по социально-экономическим и политическим параметрам, так и этнически. Этот подход звучит тем более диссонансом с тенденциями к регионализации и обособлению, которые нарастают в Италии в последние годы. Вообще в авторском тексте подспудно содержится весьма сомнительная идея о некой врожденности «национальных качеств», например об извечной воинственности германцев или жестокости и садизме римлян. Не думаю, что такие идеи должны присутствовать в учебных курсах. С научной же точки зрения представляется методически неверным основывать столь ответственные заключения на текстах отдельных, пусть и знаменитых, интеллектуалов типа Мартина Лютера.
Гораздо более удачны три последние главы, представленные в третьей части рукописи. Чувствуется, что здесь автор полностью находится в своей стихии, и его рассуждения звучат гораздо более убедительно. В принципе «интеллектуальное путешествие», совершенное автором, безусловно, занимательно, и его книга наводит на размышления и очерчивает новые проблемы, до сих пор мало обсуждавшиеся или совсем не обсуждавшиеся нашими исследователями. Она богата озарениями, парадоксальными выводами и тонкими наблюдениями. Однако все они основываются скорее на интуиции, чем на глубоком всестороннем анализе. Книга написана в «постмодернистском» интерпретационном стиле (автор называет это «эросом угадывания»), и это вводит ее в контекст достаточно модного ныне дискурса. Многие догадки автора любопытны и, безусловно, привлекут внимание специалистов. Вместе с тем следует иметь в виду, что, трактуя этнографические материалы, автор основывается прежде всего на «здравом смысле». Но любому специалисту известно, как опасно опираться на
409
«здравый смысл» именно в этом случае. И ссылки на авторитет Ш. Монтескье вряд ли способны выручить. Ведь нельзя же всерьез полагать, что за 200 лет после Монте-скье наука нисколько не продвинулась вперед!
Итак, книга Г.Д. Гачева — это скорее некий поэтический, чем научный текст. Но для учебного пособия по культурологии это вряд ли годится. Ведь для того, чтобы готовить из студентов профессионалов, их прежде всего надо знакомить с идеями и концепциями, которые нашли поддержку у сообщества ученых, а не с гипотезами, в которых и сам автор сомневается. Мало того, студентов надо снабжать не только знаниями, но и методикой, причем основанной на строгой процедуре, а не на интуиции и фантазии; надо формировать у них умение критически переосмысливать получаемую информацию. А для этого надо знакомить их с исследовательской кухней, с разными точками зрения и подходами, имеющимися в науке, с результатами научных дискуссий. Это представляется тем полезнее, что по затронутым автором проблемам имеется обширный круг литературы, которая могла бы в чем-то дополнить авторские рассуждения, а в чем-то уточнить его подходы или даже поспорить с выдвигаемыми им идеями. В частности, удивительно, что из внимания автора выпадает огромный пласт этнологической литературы, без знания которой ни о какой культурологии и речи быть не может (ведь проблемы типа этнос и цвет, этнос и пища, этнос и природа, этнос и спорт и прочие давно и очень продуктивно обсуждаются учеными). Кстати, именно слабое знакомство автора с социокультурной антропологией лишает его возможности достичь тех целей, которые он поставил перед собой. Кроме того, сама структура представленного текста далека от той строгости и системности, которые требуются при чтении лекционного курса.
И все же книга Г.Д. Гачева может быть полезна — как попытка проникнуть в область, малоизвестную современному читателю, и как тот порог, с которого и надо начинать научные исследования в этой многообещающей проблематике. Не сомневаюсь, что студенты, наделенные критическим разумом, пойдут в этом дальше своего преподавателя.
В.А. Шнирелъман
National images of the world
(American-Russian comparisons)
В качестве резюме к книге предлагается текст лекции, с которой Г.Д. Гачев выступал в университетах США
Georgy Gachev November 12, 1991
I
My topic is national images of the world. Or — national mentalities. My hypothesis is that every national entity: ethnicity, country, culture — has a special world view, a unique national scale of values. The invariant of Being is seen by each in a special projection, in some variant, — the same as a single sky—through the atmosphere which is determined by the diversity of the earth’s surface.
As an epigraph for the work, I have chosen a saying of Heraclitus: «For the waking there is one world and it is common; but when men sleep, they turn aside each one into a world of his own» (fragment 94). So that the national images of the world are, so to say, the dreams of nations about a single One (Unity).
But why is it necessary to deal with dreams? you may ask me. I answer: so as not to take them for actuality and to be aware of the limitedness and local nature of even the most general of our ideas. About the Truth, even about God, even in mathematics — there are national accents.
But how to catch and describe those diversities, those variants? One way to penetrate into a national mentality is through language. Linguists in our century while analyzing structures and vocabularies of different languages, have described particular traits of national mentalities. For example the hypothesis of Sapir and Wharf.
411
I call my method Cosmo-sophy, the wisdom of the Cosmos. The word «Cosmos» I take in the ancient sense of «world order», harmony.
As every human being is a triple unity of body, soul and spirit, similarly every national totality is made up of Cosmos-Psyche-Logos, which is the unity of national nature (cosmos), national character (psyche) and mind (the order of thought and national logic). These three levels are interrelated and supplement each other.
The first obvious thing that defines the character of a people is the natural environment in which it lives and makes its history. This is a permanent factor. The body of the earth, the forest (and of what kind), the steppe, the sea, the mountains, deserts, tundra, permafrost or jungles; the climate, temperate or subject to catastrophic changes (hurricanes, earthquakes); the animal world and the flora — all determine beforehand what tend of work is done (hunting, pastoral nomadism, field agriculture, seafaring and trade, etc.). All this determines the model of the world: is the cosmos pictured as a world egg, world tree (the ash-tree Yggdrasil in the Scandinavian epics),sacred horse or camel (by nomads and in the works of the Khirghiz writer Chinghiz Aitmatov), or as a body of a whale (Leviathan or Moby Dick). Here the arsenal of symbols and archetypes has its roots, and is stored in the images of literature and poetry, which is usually very stable.
The nature in every country is not a geographical notion — not environment for our human egotistic use, but a mystical substance Mother Earth to her People, who in relation to her are simultaneously both Son and Husband. (As in ancient Greek mythology the Earth, Gea, gives birth to the Sky, Uranos, who is for her both Son and Husband). Then what is History? History is the consummation of their marriage. And what is Culture? Culture is the offspring of their conjugal life.
Native Nature is a kind of text, like the Biblical tablets of Moses, which a given People ought to read, understand and bring into effect in the course of their history.
Here another actor in this drama emerges: Labor which is the creator of Culture on this Earth. Labor works in harmony with Nature and at the same time supplements Nature by providing what she lacks. For example, in the Netherlands, where Nature refused to donate enough land to the people, the latter extend their territory both horizontally and vertically by their own labor.
Another example would be Russia. Russia is a land of plains and steppes without significant mountains. In consequence Nature has denied her the vertical of Being. And as if in compensation 412
for that lack, that shortcoming, the Russian People have a tendency to erect throughout their history an artificial peak of a huge State with its cumbersome Apparatus. And the life of the country obtains by that a vertical dimension.
Another and a unique example would be Jewry. Whereas all other national entities combine Cosmos-Psyche-Logos, this people has been able to exist in the course of history without their own Nature. By virtue of that uniqueness (partly) they are «the chosen people». The Jewish variant I describe as Psyche-Logos minus Cosmos. And as in mathematics, minus, a negative quantity, is not simply a lack, but a significant idea, so «minus Cosmos» is a very significant absence. Those substances and energies which among other peoples are spread rather extensively over their territories, here are contained in Psyche and Logos, making them extraordinarily active and developed. The Torah is their territorah... And the bodies and lives of people, the flesh of the Ethnos, take the place of, are equal to Nature for other peoples, who have their own countries. The main commandment here is — to live, to survive! «To be alive, and only alive to the very end» — as is said by our Russian Jewish poet Pasternak.
And so, whereas national Cosmos-Psyche-Logos may be understood as a kind of Destiny or fate of a given people, Labor and History and Culture may be comprehended as the Freedom of this people.
And to finish with the general ideas, let me say a few words about my terms. As a meta-language for my descriptions I use the language of the four elements, drawing them from the ancient tradition of natural philosophy: Earth, Water, Air, and Fire, understood very broadly and symbolically, provide the basic words of this meta-language. And Eros serves as its syntax.
Now let us examine the elements of variety. What is more important and innate for a given people in its culture? For example: Space or Time? For Germans it is Time («Sein und Zeit» [Being and Time] — a philosophical work by Heidegger). For Russians it is Space: even the idea of «country» is expressed by the word «strana», having the same root as the term «prostranstvo», literally «space». The Anglo-Saxon equation «Time is Money» would never occur to Russians.
And now about the United States: the country here is as vast as Russia. But Anglo-Saxons came here with the principle of work and time as its measure. So the relation of Space to Time is: s = у The idea of Velocity here is important for a man in a car, T speed, success,...
413
Or shall we take the problem of horizontal or vertical dimensions. For Russia, the country of infinite space (Gogol’s expression), the horizontal ideas of distance, of the far and wide, of the path-road are prevalent in their scale of values. For Germany the archetypes of Tiefe and Hohe (the deep and the high), the Stammbaum (stemtree),the idea of a genealogical tree, and the structure of «das Haus» (house) are seen a priori in everything. In Germany the vertical dimension prevails among the supervalues.
The same in Italy, where the word «room», is «stanza», which means «standing», and the greeting «How do you do?» is «Come sta?» = «How do you stand?» But there is a difference already within that vertical orientation. Italy is the cosmos of a descending vertical. Compare in architecture: in Italy the cupola, dome, figure of the arch, is the sky descending upon the earth. In Germany Kirche, Gothic spire, is an effort by the earth to climb up, to pierce, to conquer the heaven, as in the tower of Babel. In the German language there are ascending diphthongs: «auf», «aus», «ein», in the Italian — descending: «ua» («quanto»), «ia» («mia»), «ue» («questo»). In Italy, Calileo Galilei invented in mechanics the theory of free falling bodies. And in Italian music, melody descending from the top is typical (the tarantella, «Santa Lucia», the aria from Rigoletto: «1а-1а», Cio-Cio-San and so on) — all are sequences of descending arches, as in the Italian palazzos... On the contrary, in German music ascending effort prevails. Compare the analogous death-duet of Aida and Radames by Verdi, and Isolda’s death in Wagner’s opera. Here as well we see Streben in die Hole (striving for height). Recall die Durchfuhrungen (developments) in the Beethoven sonatas and symphonies.
Or let’s take the masculine and the feminine principles (the Chinese Yin and Yang). Russia is Mother — moist earth, and our main river the Volga is «Matushka» and we have the matryoshka doll. Germany is Vaterland (fatherland) and their river Rhein is Vater Rhein. There are passionate relations among countries in the sexual intercourse of their histories. Germany was male towards female Russia, England was male towards the female «la douce France» with her virgin Jeanne d’Arc.
In general, the countries of the Roman-Catholic South with their cult of Mother of God, Madonna-virgin, are feminine towards the WASP German Anglo-Saxon Protestant countries of the North, where they don’t have the cult of the Mother of God. There the hypostasis of the Holy Spirit in the Trinity is more strong, and there prevails masculine feeling of God as a Creator, which then gives rise to the principle of work, which sanctifies it. And in America, the United States are masculine towards the Roman-414
Catholic Latin America. But now, suddenly small Japan is screwing huge America, reminding us of David’s battle with Goliath...
Cultures and mentalities differ greatly in how they comprehend the origin of the world. Are they bom by Nature or made by work? Genesis or Creation? For the Greek there is Theogony and Cosmogony: all things are bom of goddesses after infinite sexual intercourse with titans and gods. For the Jews there is the act of the Creation of the World by God. Those principles I name «gony» or «urgy»: the latter, from the Greek suffix «ourgos», meaning ‘work», labor, as in «demiourgos» (demiurge), as in my name Georgy, that means «working on the earth»...
In Germany urgy prevails. Germans are famous for work and form, and instrumental music, not vocal. Urgy intercepts here and continues gony. Even the word «Baum» — «tree», means at the same time something that is «built», from the verb «bauen» = to build. And the peasant is a «Bauer», that is a «builder», a constructor on the earth. In Russia, the origin of the world is comprehended more passively from our human side: nobody knows how it was created, maybe by itself or bom by Mother Earth in the principle of gony.
In England there live self-made men. And they ask, «How do you do?», with the two do’s expressing interest in how you work. And even in the Lord’s Prayer there are the words: «Thy will be done», whereas in the Russian variant it is simply «da budet volya Tvoya» = «Thy will be»: «done» is omitted as in the Latin: «fiat voluntas Tua!»
In the United States there is the self-made world, the absolute prevalence of the principle of creation, urgy, work, not gony, not Nature.
Now we can take up the problem of how each nation asks the basic questions. (And here we confront the problem of national logic.) What are they? What? Why? What for? How? Who? What is it? is typical for the Greek: the question of Being. Why? = Warum? for the Germans is most important: their interest is directed toward the origin, the causes of things. And they look for these causes in the «Tiefe», in the depths of the Past, where the roots of the tree of Being are found. «Warum» is «Was urn» = «What is around?» The world is supposed to consist of two parts: «Ich» and «Nicht — Ich» = «I» and «Not — I» ( as in Fichte’s philosophy), that is, «Haus-Raum», the house-space opposition, the division between subject and object.
For the French the same question «Why?» is phrased «Pour quoi?» - «for what (purpose, goal)?» The essence of everything
415
is supposed to lie somewhere ahead, in the future. That accounts for the French theories of progress (Rousseau, Condorcet), of evolution (Lamarck, Thellhard de Chardin), and for social Utopians (Saint Simon, Fourier, August Comte, etc.).
By the way, the Polish for «why?» is «dla czego?» also meaning «for what?» And there is a mutual gravitation in politics and culture between them: think of Chopin and George Sand...
But for the English and especially for the Americans the main question would be «How?» How does the thing work? The principle «know-how» has spread over the world from here. Innumerable books of how-to are bestsellers. «How to achieve success?», «How to Win Friends and Influence People?» Dale Carnegie style...
And what is the basic question for the Russians? It is more difficult to define what is near, or where one is: that is to define oneself. Perhaps «Nakoj?», «А na khuia?» — the slang in Russian meaning «what for?» — but without the positive interest in either «what» or «for», but being certain a priori that it isn’t worth the effort, isn’t worth the work. And so the common response is not to do anything... Or the question: «Who?», «Who is to blame?» — the famous question of Herzen’s novel. And the style of mutual suspicion, the questionnaires, investigations of the KGB. And now again we are asking who is to blame for our misfortunes, who was the devil, tempter, enemy...? But there is a noble and lofty aspect in that interest in «Who?» It is the humanism of Russian classic literature, the interest in the inner life of the soul, the spirit. Dostoyevsky, Tolstoy,...
Now let’s take up the symbolic figure, the emblem of the model of the world:
the Circle with its center and diameter. For the Greek, the World was represented as a sphere by Plato, Archimedes, Plotinus...
the House for the Germans: everything is seen as a building, a structure with the division
“I” “Not I” in «Ьтеге» °f Ich (I) and «Aufiere», of Nicht
Ich (not I). Haus und Raum (house and space).
the Arch for Italy: the cupola of the Sky descending upon the Earth.
416
the Cross of Descartes coordinates, symmetry, dualism and balance of the «deux extremes» in France, and between masculine direct lines and feminine curved lines and waves.
the Ship-island with mast = self-made man for England. «L» — the sign for the pound...
i—>oo
$
the Menorah or seven-branched candelabrum for the Jews: so small an Earth foundation (minus-Cosmos) resulting in increased spiritual development.
the Path-road in infinity, for Russia, a horizontal turning away from oneself.
for the USA, the vertical orientation of the skyscraper with a serpent on the tree. If flipped horizontally, we get the highway with spaghetti-turns — the typical American landscape, a Ford-made country for the man in a car.
Of course all these elements: Time and Space, vertical and horizontal, masculine and feminine, urgy and gony, those basic questions exist in every national image of the world. But I am searching for accents, proportions, what prevails. I could enumerate additional elements: vegetable or animal symbolism, the vision of space as a continuum with horror vacui (fear of emptiness), as for the French Descartes, or the vision of space as discrete in physics and geometry: vague-or-atom structure of matter: corpuscular theories prevail in England, Germany (Newton, Plank), vague-continuous-vision — in France (Descartes, Fresnel, de Broille...). And so on...
And thus — I give a definition: it is this distinctive structure of elements common to all peoples that constitutes the national image or the national model of the world. Now it is natural to ask: does the national image of the world change in the course of time? Yes, it does... a little. For the national year differs from the chronological one. National structure, with roots in the past and tradition, has the great inertial force of destiny. It is a kind of Old
417
Testament for every new, young generation that is writing a New Testament of its own. But it is being written upon the tablets of the Old Testament.
And now, after these general theses, let me give you some illustrations. First, I will daringly expose my vision of the American image of the world, and then the Russian one. In order to compare them.
П
America is a world of urgy without gony. That is, it is artificially created by immigrants, but it did not grow naturally out of Mother Nature like all cultures of Eurasia did, where the urgy (labor, history) continued the gony and where culture is natural and population equals people. Here the population is not the people («па-rod», the Russian term, meaning «ир-bom», «in-nate»), but it is a union, a gathering of individuals — «ex pluribus unum» (the US motto, meaning «one from many»). In the beginning, however, it was not at all a whole, but the independence of separate individuals. Here we can use the Emersonian formula: «Each and all» — compare it to the Russian (American too?) saying «One for all and all for one» — meaning here «instead»: that one hides from responsibility behind all and vice versa (as the communist party hides behind Stalin or Brezhnev, and the person hides behind the collectivism of decisions and the unanimity of all)... And Whitman’s poem «Song of Myself» is a survey — the unification of states =~ the conditions of man; it is the collectivity of the USA in Myself (I). But there is no «we» and «our» here (which are typical pronouns in Russian thinking). Hence the eternal complaints of Americans about the lack of feeling of community and unity in their country.
For man to resettle across the Atlantic is like crossing the mythological river Lethe in Charon’s boat: it is death and rebirth, resurrection. Immigrants are twice bom, as Brahmans in India. Crossing the Atlantic is like a crucifixion, the act of being Baptized into America is to forget the previous life.
This is why such a large role in American symbolism is played by Noah’s Arc, Jonah in the belly of the whale, the whale Moby Dick and the «Ship of Fools», a film by Stanley Cramer, where there are «all sorts of creatures by pairs». And Huckleberry Finn’s raft is the arc too...
It is as though America was growing from the top downwards, rather than out of the earth, without the umbilical tie to it which the Indians had here. The newcomers exterminated them and did
418
not mix with them, unlike the cosmos in Latin America, which is more natural in this respect. Oh, if they had only subjugated the natives and turned them into slaves and then quietly mixed with them during the course of history, as was the case in Eurasia! After all, almost all people, nations there were formed from a mixture of conquerors and natives (Italians, Bulgarians, Englishmen — one cannot count them all...)... And so, if the settlers had subjugated and mixed with them there would have been a kind of grafting on to Mother Nature and to the nature of the local breed. And the subsequent culture would have grown up naturally. But the democratic, plebeian settlers form the depths of the Old World’s society wanted to work themselves and they cut down the Indians like trees. Even the racial conflict here is not natural, but imported: the negroes are also new settlers, after all, and not natives.
The extermination of the Indians is the original sin of the fathers, the pilgrims. It lies at the foundation of American civilization. Now, when the conscience is awakened and American society becomes more humane, the debt to the Red is being paid... to the Black.
The USA is the Noah’s Arc of micronations, the first composite nonterrestrial civilization made up of strong predatory and initially free individuals who landed on an alien planet, who broke away from their Mother Nature (in the Old World) and began a totally new life. In Europe the typical archetype is the Oedipal complex (the Son kills his Father and marries his Mother). Hence dynamic youth, the new are esteemed: hence the terms: «novel», «news»; hence, progress in history. In Asia and Russia the reverse is typical: the old is stronger, tradition prevails. I call it the «Rustam complex» from the epic of the Persian poet Firdousi «Shakh-Name», where its hero Rustam beats his son Zohrab in combat. In Russia, Ivan the Terrible, and Peter the Great killed their sons, as did Taras Bulba in Gogol’s novel... The same partly in Germany (that is transitional from West to East, similarly to Russia): «Erlkonig»(Fairy-King) by Goethe, and in «Faust» his son from Beautiful Helen perishes, and in Wagner’s «Nibelungen» Wotan lives, but young Siegfried dies...
And so for the USA the «Orestes complex» is typical (I shall call it that), namely matricide. Moreover, the mother is killed twice: by abandoning the old Motherland (Ireland, Italy, Poland, Russia...) and by treating the new land without piety: not as a mother, but as matter for «facts», as raw material for work. America is not a Motherland, but a factory for its people. Even Nature itself works here. In the famous poem of Carl Sandburg
419
we see: «I am the grass. Let me work!» In Whitman’s American gospel «Leaves of Grass», leaves come from grass, not from trees. There is no time to wait for a tree to grow here. As there is no time to grow native geniuses in science and art — let’s import them, have an exchange, invite them from the Old World and we will have «the best of all»: Einstein, Chaplin, Stravinsky, Toscanini, and so forth...
Similarly, there is no time to pronounce the whole word, to savour its sounding, its physical substance of nature, «gony», but abbreviations arose instead: GI, YUPpies, WASP’s. And in Russia, communists, mechanical people of «urgy», have borrowed that style; USSR, KGB... language for information only hot for inspiration...
The American human being is a kind of centaur: man-in-a-car. The cowboy, man-on-a-horse was a forerunner. But it was in Texas, where Mexico is near, the gony-principle of Latin America. And when Yankee Ford invented the horseless carriage, cowboys where defeated. And this was another victory in the Civil War between the Yankee North and the half-Roman, aristocratic South. Sitting in his car, the plebeian WASP-American may himself feel like a kind of General Grant, triumphing over Lee.
There is a kind of symbiosis between the American and his car. They are interwoven in their fabrics. I was startled when I saw a sign-board «Body Shop». I wondered: «are you selling peoples’ bodies?» — «No», my friend explained to me, «that is the outer part of a car».
At the same time the American human being has no need of feet, they are replaced by wheels. The precursor was the posture of feet on the table that was so characteristic of pioneers. The American begins where the Eurasian ends. The table is the place for the upper part of the body: for meals, a book, the exchange of ideas, social life, a symposium. And this becomes a pedestal for the American — to work on a higher level of civilization.
The car becomes a genuine house to live in: with a telephone and a computer in it. Many live in home-mobiles, described by Steinbeck in his «Travels with Charley». The Americans have no roots, no ritual of worshiping ancestral graves (which are sacral in Eurasia, in Russia), because they, easily changing places in work and life, continue to be resettlers in the New World, eternal emigrants-immigrants. The car comes to be a monitor in morality and logic. I’ve comprehended why you Americans are so obedient to laws: because you are trained in the laws of traffic every second of your movement (and you are «movies» everyday). You can’t violate the laws of traffic under the threat of capital punishment.
420
And traffic lights are your teacher in binary logic: yes or no, tertium non datur, a third way is not given.
By the way: I’ve used the word «movie». It is cinema — from the Greek root «kinesis», that signifies «movement». But all other people in the world use that word, foreign-rooted, to them, and only the Americans had the impulse to naturalize that word, being «movies» themselves. And so the man-in-a-car is a new creature on our planet, created by the American genius Henry Ford, who created the body of America and your style of life. Ford here is Lord (as Huxley says.)
America is the country of inventors: Edison, Ford — those are your specific geniuses, not in the fields of art and theory, that presuppose long contemplation, breeding without quick pragmatic results.
I look at you and marvel: you are so cheerful, as though with no consciousness of original sin. In Eurasia the human being is partly paralyzed: restraints predominate in peoples (the reflectivity of the Germans, the restraint of the Englishmen, the shyness of the Russians, the French fear d’etre ridicule, to be ridiculous, the Chinese and Japanese ceremonies, the Indian «dharma» — from «dhar» = to «keep» and so on). It is the gravitation of Mother Earth that suppresses us. The American enjoys internal and external freedom — for action and invention. Tom Sawyer and Huckleberry Finn, those bold teenagers are your heroes. The country of teenagers, without the age of manhood, not to mention the status of a wise elder...
And in the American concept of the Soul, the principal of work, urgy, dominates. Unemployment is a catastrophe for the American. In Eurasia man knows how to enjoy free time. He will fill it with la dolce far niente (sweet doing nothing),with ars amandi (the art of love), «the science of the gentle passion,» with gossip and so on. But the American does not know ars amandi, courteous gallantry, but interprets it as «sexual harassment» in Uncle Tom’s Cabin...
Work, urgy rules the American Logos. Benjamin Franklin gave the following definition of the human being: the creature that produces tools of labor (Marx cordially accepted that definition). Compare this to the Greek Aristotelian definition: man is «zoon politikon», a «social, political animal.»
And who are the American leaders? Washington, who washed, Lincoln, who linked the North with the South. But in Russia — Lenin, from the root «len’», which means «laziness». That’s why the Russian soul accepted him with hope for a golden age...
And in Logic, in philosophy, what are the American discoveries? Pragmatism( James, Dewey), operationalism (Bridgeman),
421
behaviorism (Skinner) — all about how to work and behave now, in the present («The modem man I sing!» exclaimed Whitman), without interest in the causes, in the past, in essences. And in linguistics you have semiotics, the idea of Charles Pearce: the functional comprehension of the word, as a sign for work now, independent of its origin, history and fabric. Compare IndoGerman linguistics in Germany in the first half of the XIX century with the idea of the genealogical Stammbaum, the stemtree of languages, in search of a common language ancestor. Gony — attitude...
Lincoln gave an operational definition of government in his famous Gettysburg speech: «the government of the people, by the people, for the people.» The operators: of, by, for indicate the basic attitude in the process of production and consumption of the given thing, here of government. «Of» indicates the subject of labor and whose property it is, «by» — the instrument of work, and «for» — the consumer in the market.
But everything I’ve described is, so to say, the Old Testament of America. Now there are signs of the New Testament: respect for Nature...although egoistically too: as the environment for us, for people, and not as a sacral substance... And the feminist movement, respect for minorities, the principle of the quality of life — not the quantity of riches... This is the beginning of a revaluation of the traditional American values, self-criticism...
1П
Now — Russia. I see three main actors in her history: Nature, that is Mother-moist earth (earth + water in the language of the four elements; clay, mud in its substance, amorphous) and two males working upon that female, whose vocation is to dry and warm her, to add the elements of air and fire, to give her form. The first male is the Russian People, the native bom Son and Lover of that female. His substance is air and light, «sveter» (svet + veter) — my neologism, meaning «light-wind.» He is amorphous too. The second maje is the State, her lawful husband, mostly a foreigner by origin. Fire and form are his principles.
The Russian novel gives support to that analysis. There are two masculine characters for one heroine. Pushkin’s Tatiana has Onegin—a demon (air in substance without roots) and her husband, the prince-general. Tolstoy’s Anna Karenina has a lover, the soldier Vronsky, and a husband, the deputy-minister Karenin. Goncharov’s Olga has Oblomov, who has a pigeon-soul (the air element) and the active German Stolz (which means «pride»). In Pasternak’s novel
422
the heroine Lara has the poet (light-wind in substance) Doctor Zhivago and the commissar Strelnikov, and so on...
Imagine that vast country, infinite space with such a sparse population in the beginning of its history, that lived in the forests and steppes of the European part of Russia. To populate, to civilize that country by the natural speed of reproduction of its phlegmatic and inert people would have taken a hundred millennia, more than for China.
And Mother Russia could not be satisfied in her conjugal life with her first husband, the People, who lacked passion and fire. Fortunately (for her desire), but unfortunately for her People, Russia was surrounded by more dynamic and aggressive peoples, who wanted to possess her and have historical sex with her, the nomadic peoples in the Southern steppes: Scythians, Polovtsy, Pechenegy, Tartars, Turks, Mongols. From the West and the North there were the Varangians, Sweden, Poles, Germans. To defend herself from them, Russia had to build a strong State, that was ruled first by the Varangians and by the Greek, orthodox form of Christianity. Then the Tartar-Mongol yoke came and their passionate seed fecundated the cold and snowy-white Russian beauty with southern fire. With Peter the Great in the XVIII century the German-like bureaucratic State was founded in Russia whose tsars had no Russian blood in their veins. That cumbersome State had its continuation in the tremendously huge Soviet apparatus, ruled by the German-Jewish Marxist ideology and by the Georgian Stalin-Dzhugashvili, who was a kind of Asian despot, a Genghis Khan, exterminating the Russian and other peoples.
The vocation of the State in Russia was: to accelerate its history and to build civilization upon her territory, taking model, measure and yardstick mostly from the countries of Western Europe. The slogan «acceleration!» was propagated by Peter the Great, by Lenin-State, and even our wretched Gorbachev began with it, however had soon to forget that word. Thus the State in Russia had not only the military functions, but had to be the main worker, boss, businessman, organizer of labor. Peter the Great, the tsar with an axe, is the eternal symbol of the Russian kind of State. That axe, however was used not only for building ships at slapyards, but for cutting heads off of the Russian population, which was not at all abundant even without the help of those Peter-Stalin exterminations.
And so there was a constant rivalry and war between the two husbands of Mother Russia: the People and the State. The People wanted natural development, the slow step of time, that is organic for such a bear (who has to sleep during long Russian winter) or
423
even the mammoth — to those animals the Russian People and country might be compared. And it is natural that the rhythm of heart-beat and blood-circulation in such a huge body ought to be different in comparison with the German wolf or the French fox (maitre Renard), or the English dog. But unfortunately (for the Russian People and for the life of the individual) the measure of wolf for our bear or mammoth was always considered the proper pulse. And if not, the State forced it by violence. Thus the Russian People have gotten accustomed to work not by their own need and desire, but «beyond desire,» at the order and by the whip of the State.
And so: in Russia the measure of Space and the pace of Time always were and are in awful discord, contradicting each other. That non-coincidence of the relationship between Space and Time is the constant destiny and tragedy of Russia.
Another image may explain this situation. Among the planets of our solar system it is natural that the year of rotation of Jupiter around the Sun should be 12 times longer than that of our globe, Earth. So France is Venus, Germany — Mars, China — Jupiter, Russia — Saturn. But by the will of world history and the Russian State Saturn was and is being urged to rotate with the speed of Earth...
Thus there is some resemblance between the USA and Russia in the historical development of civilization on their territories. Both are not natural, but built artificially there. In the USA completely. In Russia — to a great extent. But who were the agents in building those artificial civilizations? In the USA individuals,
424
separate, dynamic in their natural desire to work and to be rich. Self-made individuals have produced the self-made world here.
In Russia it was the State who was the motor of labors here, urging individuals forward. In America the economy is made by individuals themselves and the State even has to moderate the appetites of businessmen in work, to restrain them, defending the interests of the natural environment and individuals. In Russia the State was a worker together with the People. Especially in the Soviet era. I see their relations in the image of an arch: the two columns compounding the arch are inclined and are falling towards each other, and in this way the arch as a whole is fortified. The structure and the psychology of the Russian workers is molded by that constant orientation towards the State = the boss. But because of the constant war between them they were and are perpetually ruining each other. In the Soviet era such a monstrous State was built, that it almost ruined its People, its organic life. Now the State is being mined by what survived of the People. And chaos and mess — that is what our life and economy now looks like. Entropy.
But imagine that one day when Mother Earth will refuse to give oil to your so comfortably arranged man-in-a-car civilization. How will you be able to survive in your so well scattered homes and shops? Distances will become a curse and death to you. As for Russia the State is crucial, for America it is oil: these are the pivots of our one-sidedly built civilizations. And without them there will be Apocalypse.
However the holy geopolitical place of the North of Eurasia won’t be empty. Russia, like Eurasia, has its destination on the surface of the globe. And those 3 substances that I’ve described — Mother = moist earth, People = light + wind and State = fire + form — have to work here, now and in the future.
Now a new element in our social structure is being bom — Society, which was always so weak in the history of Russia. Now free individuals might appear, forming a middle class. But Yeltsin will probably have to take a whip and beat the Russian peasants and workers, urging them on, saying: «Be free! Be free!»
There are 2 possible ideals of a good life at ease: to be rich and satisfy many needs, or to cut needs down because the need is your dependence (by the way, in America you are geniuses at inventing new, artificial needs, thus multiplying man’s unfreedom!)The philosopher, the sage person, chooses the latter: Socrates, Democrites, Descartes and our sage Ivan the Fool too. And the Russian man prefers to be carefree, working only a little, rather than to become rich by hard work. This is the problem of Desire,
425
Eros. In America Desire is a very important idea and word: Theodore Dreyser’s trilogy is about desire, there is Sherwood Anderson’s book, «Beyond Desire»; Tennessee William’s «Streetcar Named Desire»...
I have a hut in a village not far from Moscow and for 23 years I have been observing the life of my neighbors, who are peasants. They work at a collective farm, however, they only pretend to be working. They steal fodder for their cows and swine; they receive wood, building materials and they have enough for themselves. But most of them don’t want to work more to sell to the citizens, to produce goods for the market. And it will take generations to develop in Russians an interest and desire to replace care-free-pleasure by the pleasure of getting rich by hard work.
But there is another kind of value, not material, but spiritual, and in that area the Biblical saying works: «the last will be first.» Russians are hard workers in Spirit and Word. And the sufferings and stupidities and even atrocities of their history serve as a cross, a crucifixion. Great art and literature have grown up out of that cross. In the XX-th century Russians, vaccinating themselves with the disease of communism, may have saved the entire world of that temptation...
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ АВТОРА.........................................5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.....................................7
Лекция 1. «Кто я такой?» Проблема и драма национальной идентичности. Смешанный индивид — как «пересечение множеств». Этнос, народ, нация, регион. «Познай самого себя» и «познай мир» — двуединая задача и работа. Экзистенциальная культурология и привлеченное мышление. Предстоят интеллектуальные путешествия. Эрос угадывания. Эвристическая ценность национального представления мира. История вопроса.7
Лекция 2. Нас интересует не «национальный вопрос», не «национальный характер», но особая шкала ценностей, логика, картина мира. Национальное понимание универсальных терминов в политике, в науке. Презумпция непонимания и коэффициент ошибки. «Год» исторический и национальный.
Константность национального образа мира......14
Лекция 3. Национальные варианты Инварианта Бытия.
Элементы разнообразия. Везде все есть, но нас интересуют акценты: что преобладает в данном национальном образе мира? Пространство или Время? Вертикаль или Горизонталь? Мужское или Женское? Растительный или животный символизм? Генезис или Творение? («Гония» или «Ургия»?). Национальные варианты религиозного чувства и образы Бога. Акценты в Троице. Преимущественные вопросы: Что? Почему? Зачем? Как? Чей?.. Символическая фигура, эмблема национального мира...........................17
427
Лекция 4. Природа — первое основание национального разнообразия. История — унификация или дифференциация: нарастание корпуса национальных качеств? Диалектика уподобления и различения при контактах стран и народов. Трение — полировка наружи, но и массаж внутренних органов. Три точки опоры для характеристики: древность (миф, фольклор), классика и современность. Междисциплинарность в реконструкции национального Целого..............................27
Лекция 5. Национальные организмы внутри мировой цивилизации. Космо-Психо-Логос. ПРИРОДИНА.
Народ — ее Сын и Муж. История — супружество Народа с Природиной. Культура — чадородие их брака. Труд — в соответствии и в дополнительности к местной Природе. Космософия и историсофия. Национальный Космос = Судьба. Личность = Свобода. Культура как творчество меж Судьбой и Свободой............................31
Лекция 6. Национальный Логос. Проблема национальной логики. Видения и интуиции мыслителей. Метафоры внутри «строгих» терминов философии и науки. Анализ национальных вариантов основных понятий: Идея, Истина, Материя, Пространство, Время и др. Образный априоризм....................36
Лекция 7. Сравнительный метод. Национальная компаративистика. Через познание разных миров точнее уясняется родной. Каждый национальный Космос — как предмет познания и инструмент описания прочих. «Дразнение» языков. Интерференция национальных миров. Недо-казать, апо-казать.
Не структурализм, а принцип «все — во всем».......43
Лекция 8. Проблема языка описания национальных миров. Метаязык четырех стихий. «Земля», «вода», «воз-дух», «огонь», понимаемые расширительно и символически, позволяют читать природу, физику и метафизику, поэзию, музыку. Естествознание Истории. Национальные символы, флаги. Иерархия элементов в национальном Космо-Психо-Логосе. Автопортрет на языке четырех стихий...........................47
Лекция 9. Национальные языки — как голоса местной природы. Фонетика стихий. Язык — портативный Космос. Рот — микрокосмос. Гласные — координаты
428
пространственно-временного континуума. Как читать иерархию ценностей в национальном Космосе по удельному весу тех или иных звуков в языке.
Физика поэзии. Космос одного стихотворения........53
Лекция 10. Грамматика языка и национальный Логос. Синтетический язык ближе к Природе, «гониен». Аналитический язык — ближе к Труду, «ургиен».
Смыслы падежей. Тенденция в развитии языков:
от синтеза к анализу. Инверсия и строгий порядок слов.
Система родов и Эрос..............................58
Лекция 11. Философия национальной пищи и питья. Еда — как религиозный акт воссоединения: причастие человека-микрокосма к Космосу вне его. Бытие — как взаимное жертвоприношение. Диета — как ограда Жизни среди энтропии Вселенной. Что вхоже внутрь человека в естественной форме? Семена: яйцо, икра, орех, ягода. Варение — цензура огня и воды. Напитки. Соответствие градусов алкоголя и северной широты. Водка = огневода в космосе матери сырой земли. Пища кочевых и земледельческих народов. Кочевник — верхом на своей еде = стаде, стрижет Пространство. Земледельцу — Время сотрудник. Национальные блюда. «Гамбургер» = американец: скорая еда для человека-в-машине.62
Лекция 12. Тело — как текст. Нос, губы, глаза. Национальные телодвижения: жесты, позы («асаны» = философемы), танцы. Философия вальса. Национальные игры, виды спорта...........72
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПОРТРЕТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ МИРОВ..............81
ГРЕЦИЯ..................................81
ИТАЛИЯ................................ 102
ГЕРМАНИЯ................................ 116
ФРАНЦИЯ................................. 132
Англия.................................158
АМЕРИКА............................... 187
КОСМОСОФИЯ РОССИИ И РУССКИЙ логос....... 216
ЕВРЕЙСКИЙ ОБРАЗ МИРА.................... 225
Польша..................................243
БАЛКАНСКИЙ космо-психо-логос............ 253
429
ГРУЗИЯ (Миросозерцание горца)............. 260
КИРГИЗИЯ (Мировоззрение кочевника)........ 270
ПАНОРАМА ЕВРАЗИИ.......................... 294
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
СЕМИНАРИЙ: АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗНОСТИ...............302
НАЦИОНАЛЬНЫЕ УМОЗРЕНИЯ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ... 302
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА - В КИНО......... 331
«Дети Райка» — Франция..................331
«Унесенные ветром» — Америка............340
«Чапаев» — Россия.......................357
КОСМОС ДОСТОЕВСКОГО....................... 380
ПОСЛЕСЛОВИЕ................................. 398
NATIONAL IMAGES OF THE WORLD
(American-Russian comparisons)...............411
Учебное издание
Гачев Георгии Дмитриевич
Национальные образы мира
Курс лекций
Книга издана в авторской редакции
Технический редактор Р. Ю. Волкова Компьютерная верстка: Г. Ю. Никитина Корректор И. Н. Голубева
Подписано в печать 24.12.97. Формат 84x108/32. Гарнитура Таймс Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68. Тираж 4500 экз. Заказ № 43
Лицензия ЛР № 071190 от 11 июля 1995 года. Издательский центр «АКАДЕМИЯ».
129336 Москва, ул. Норильская, 36.
Тел. 474-94-54, 475-28-10.
Отпечатано в типографии издательства «Дом печати».
432601, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14.
БЕСПЛАТНО
ИНСТИТУТ
• ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО •
ISBN 5-7695-0181-2