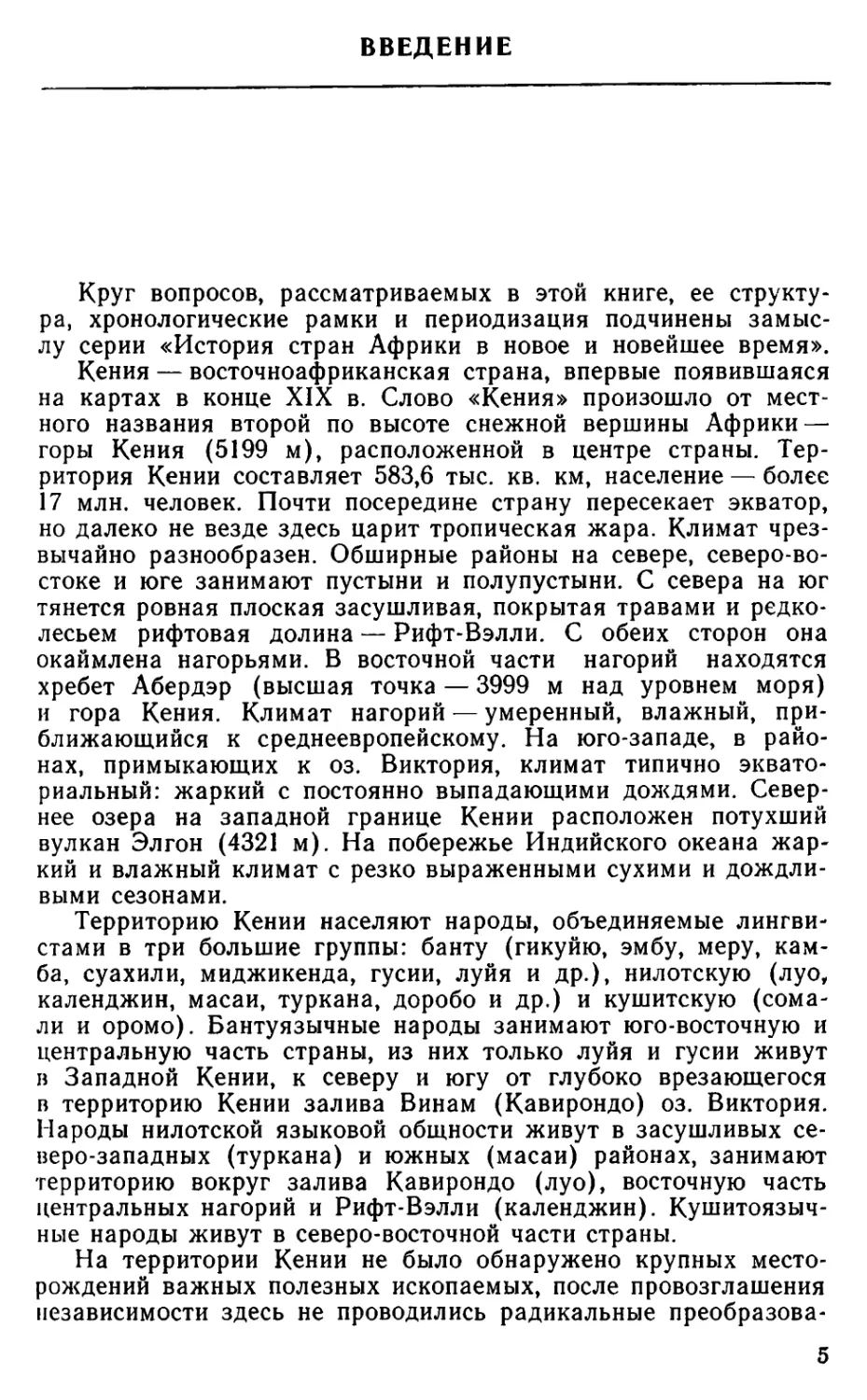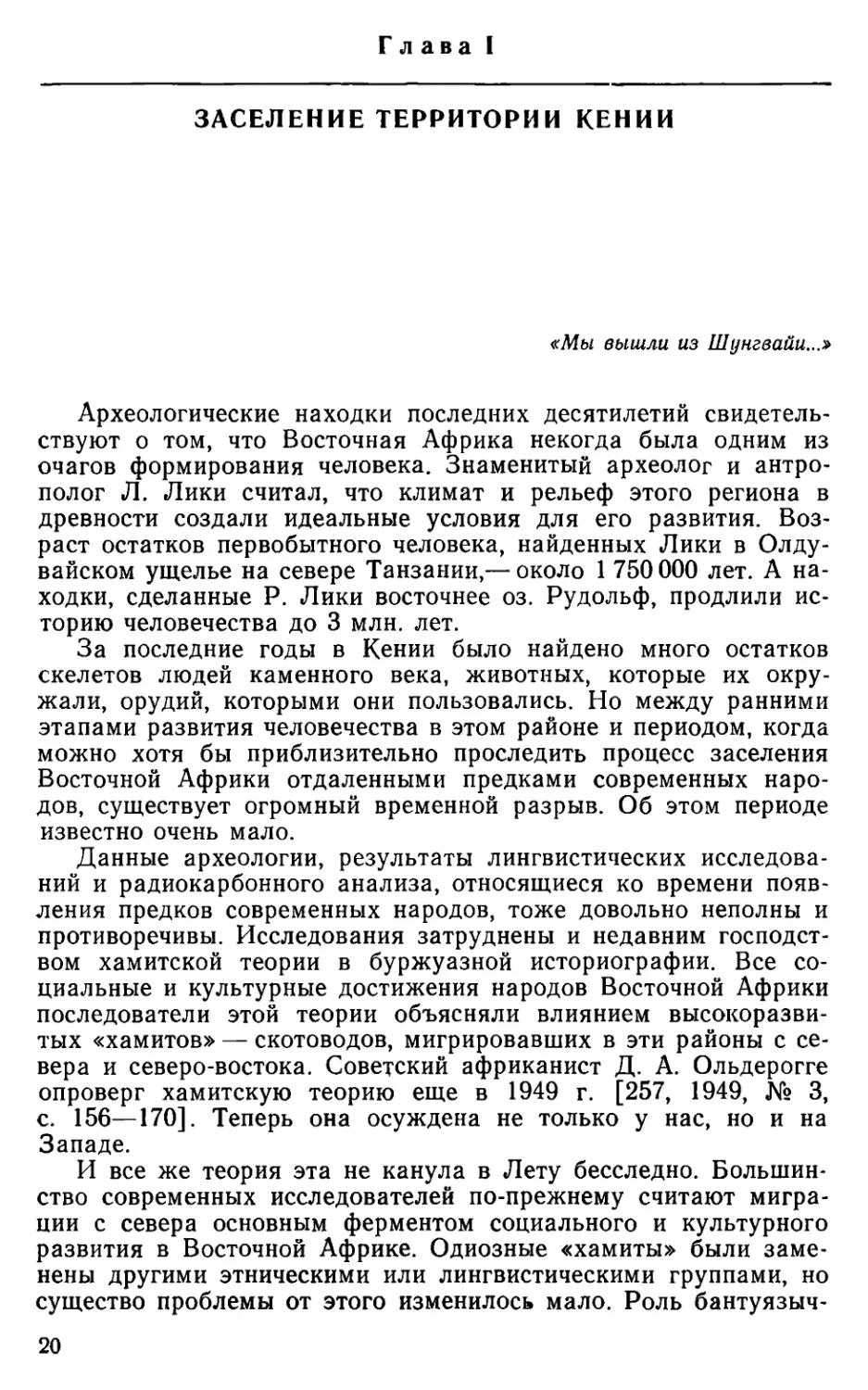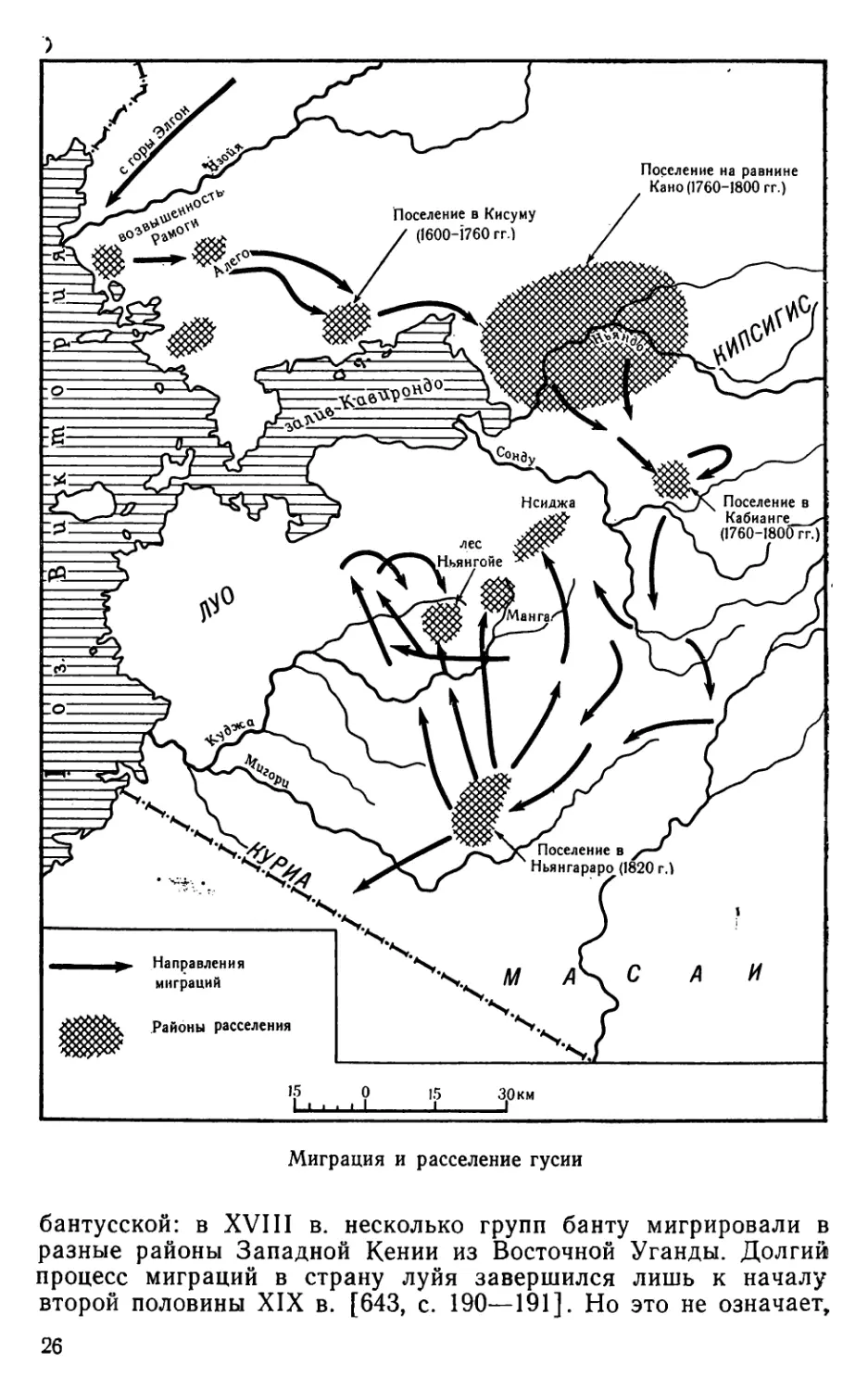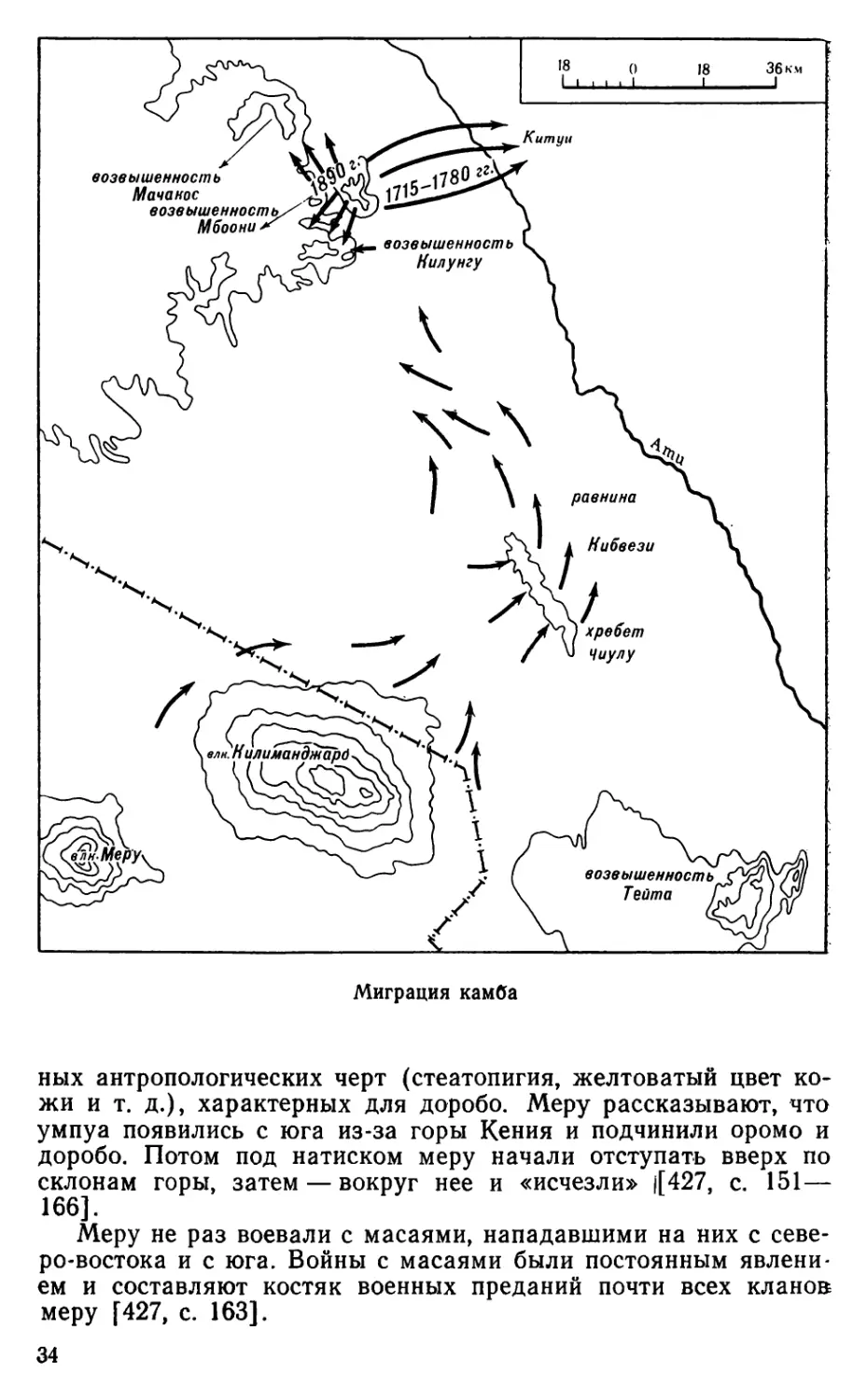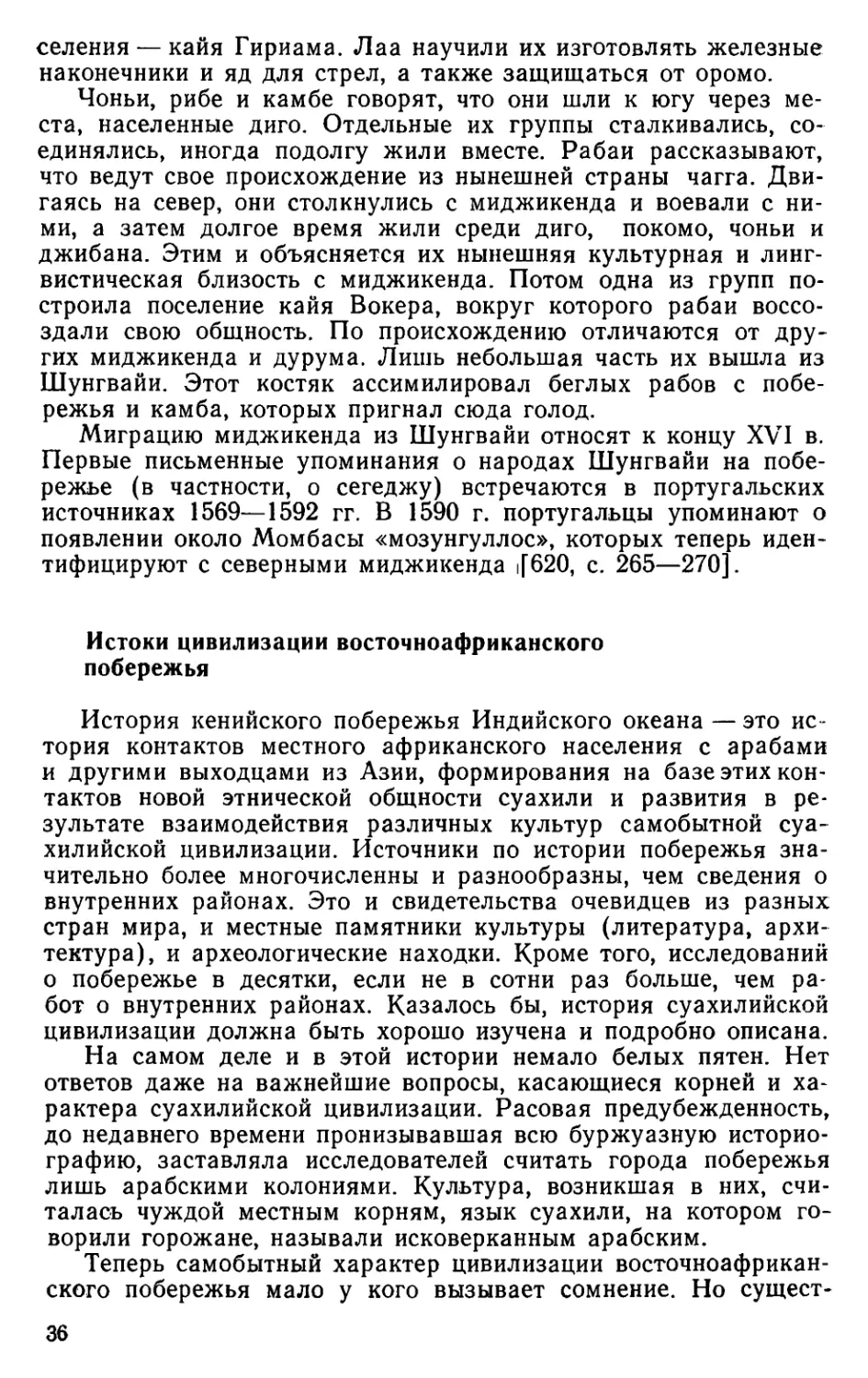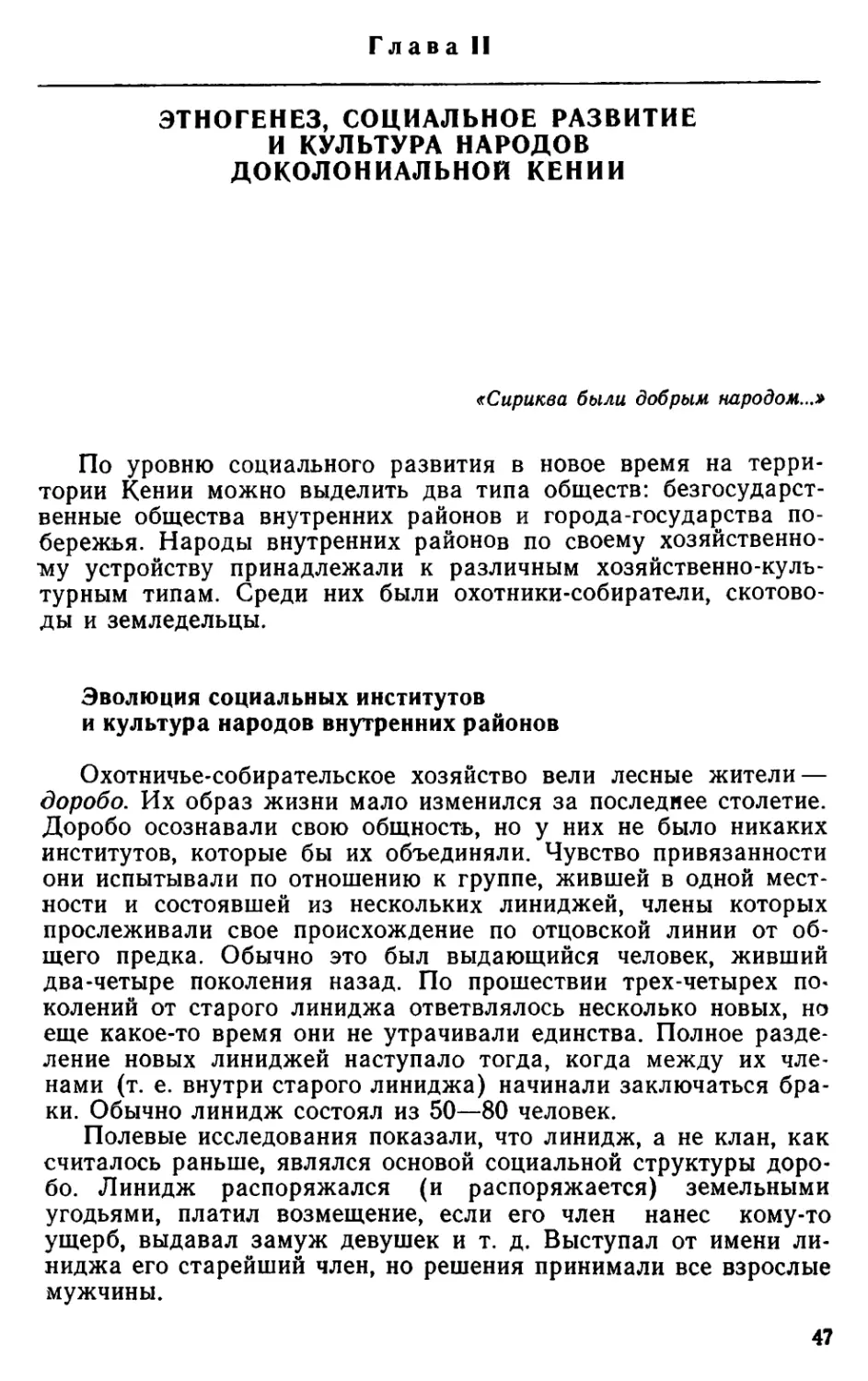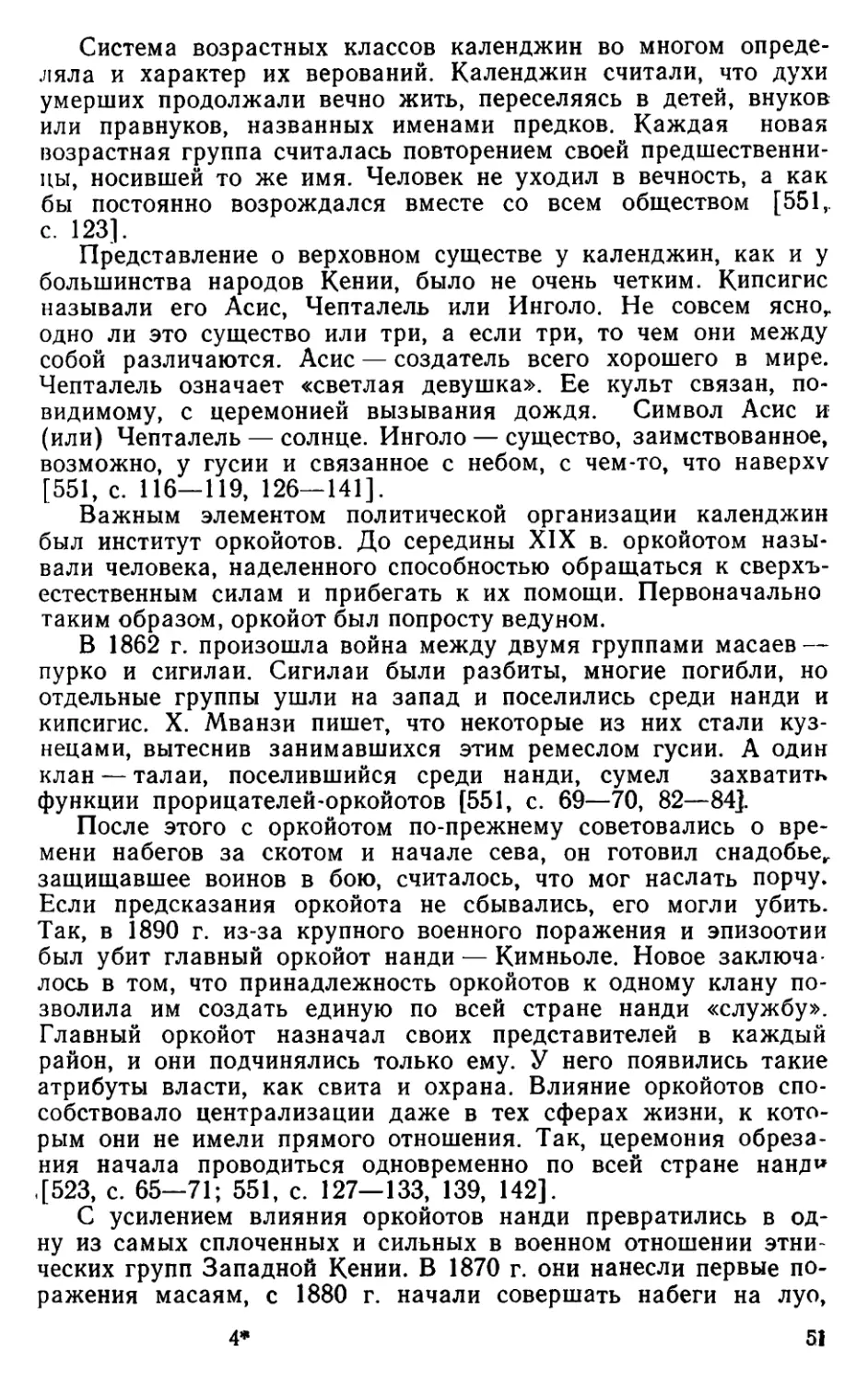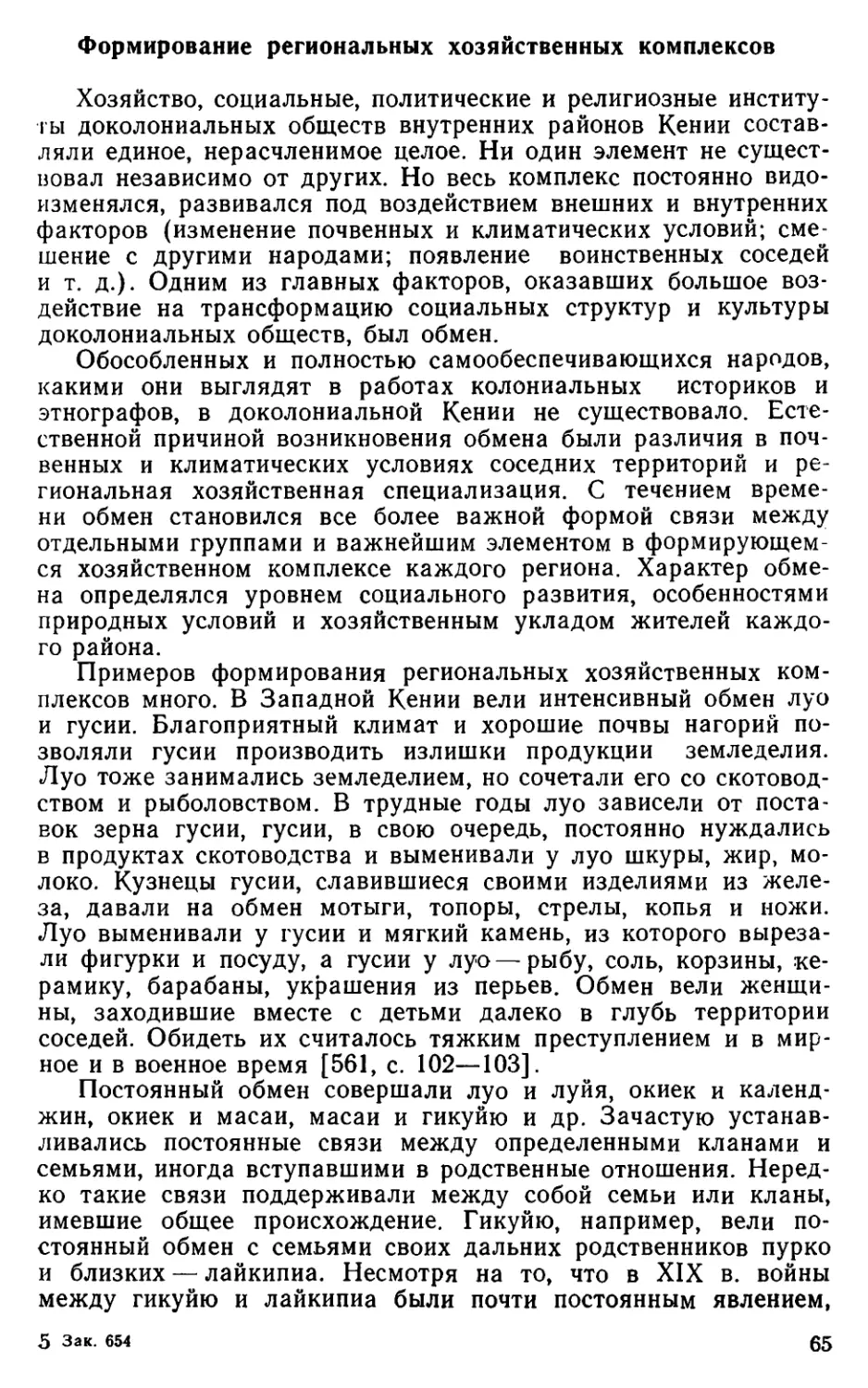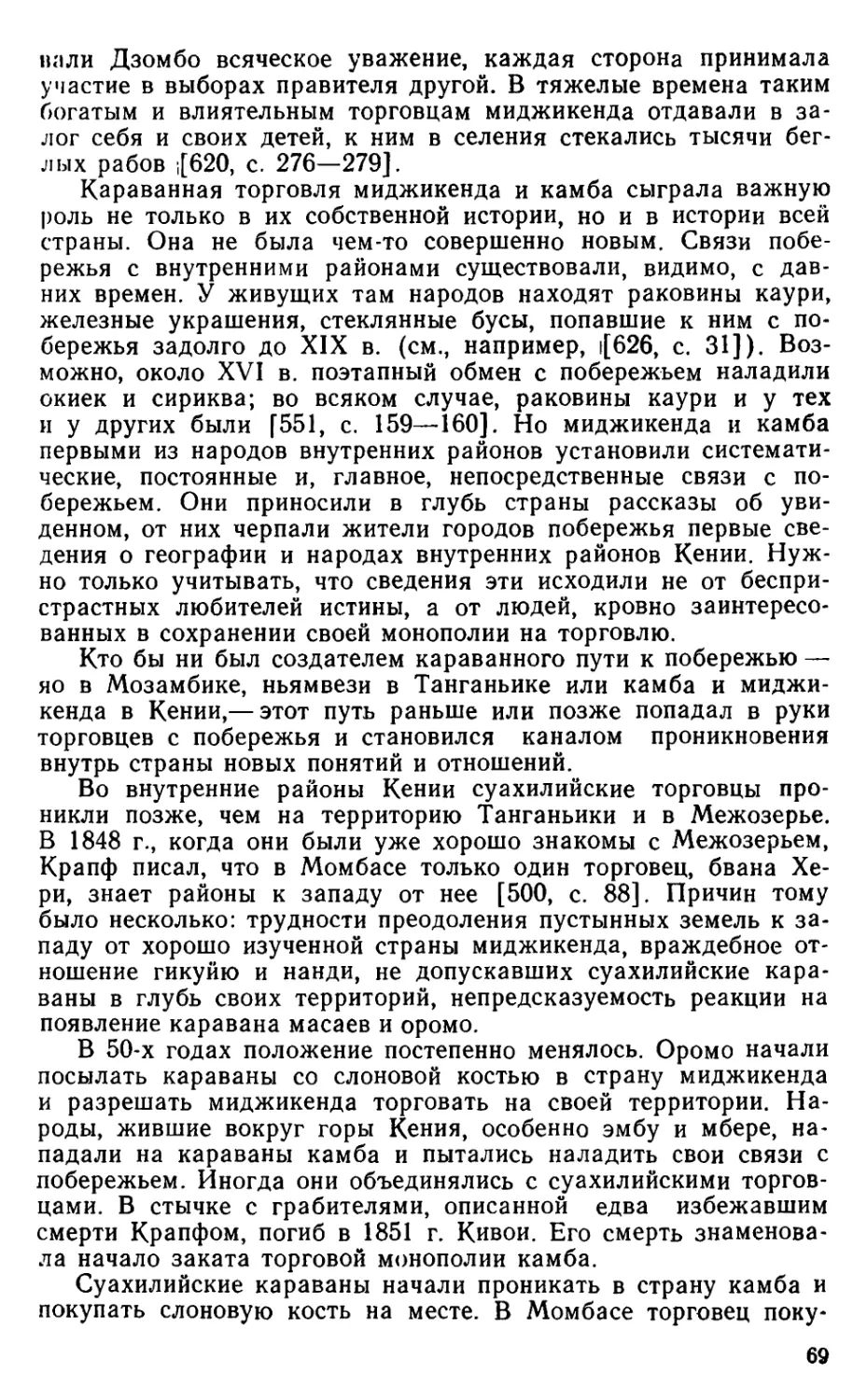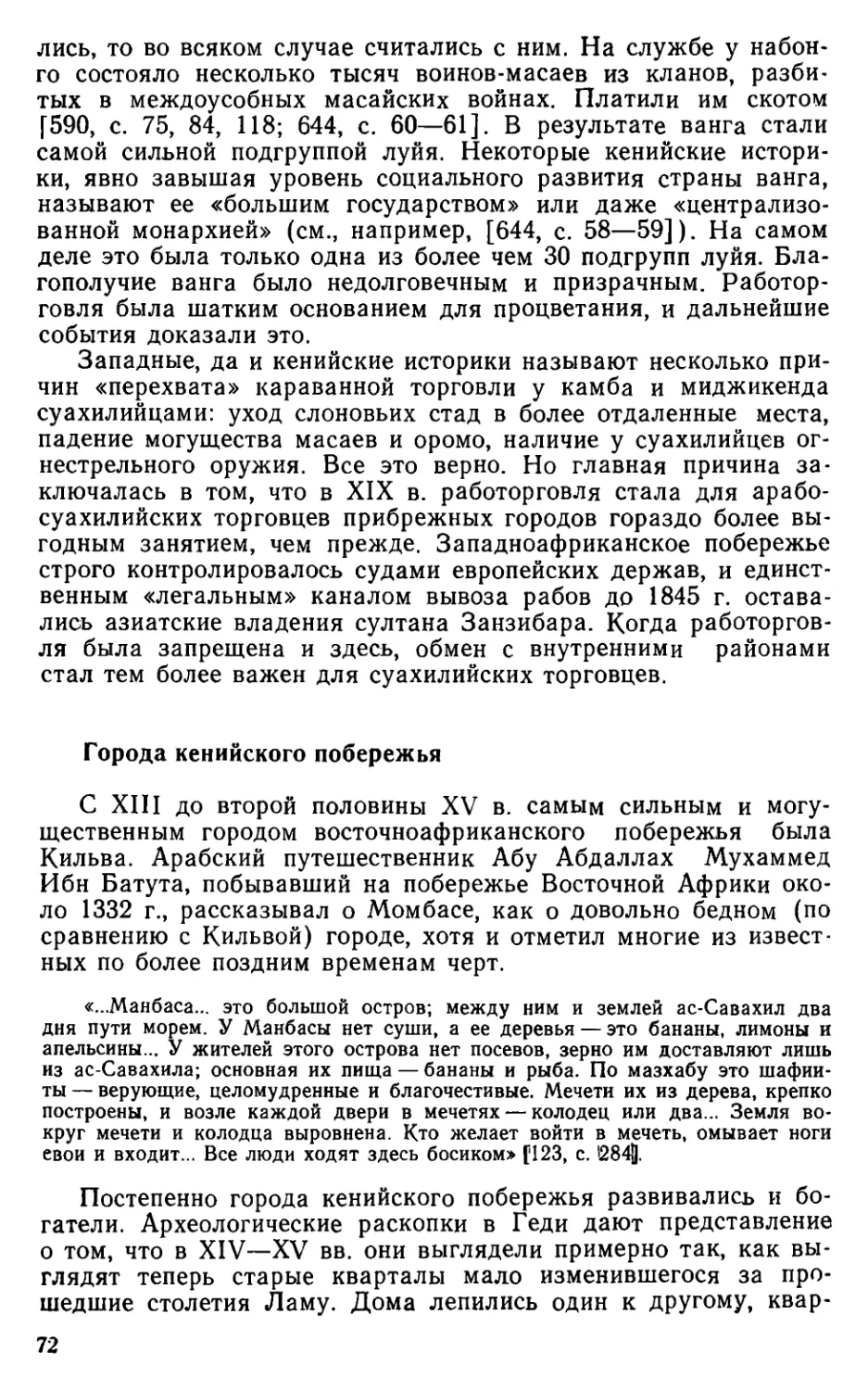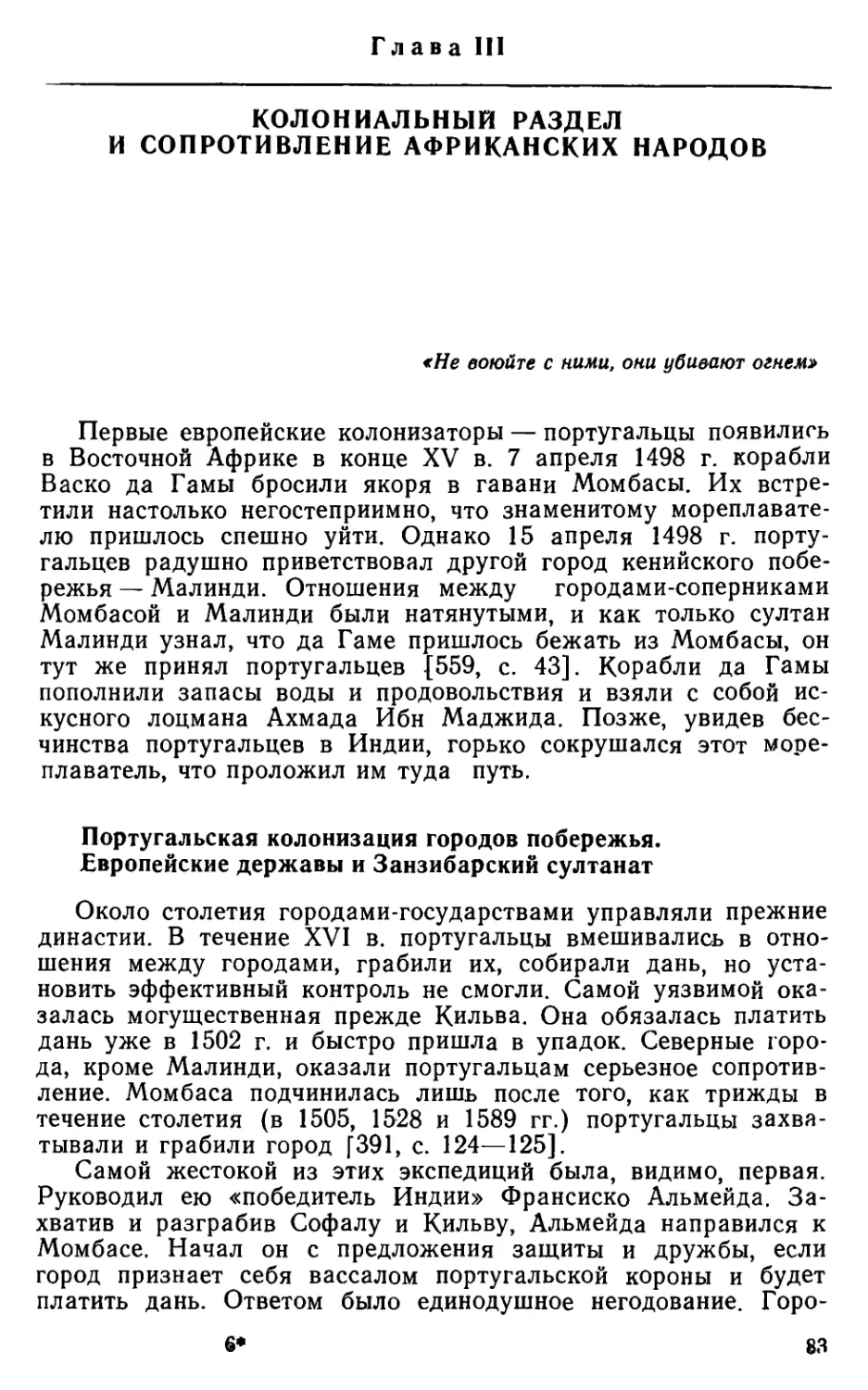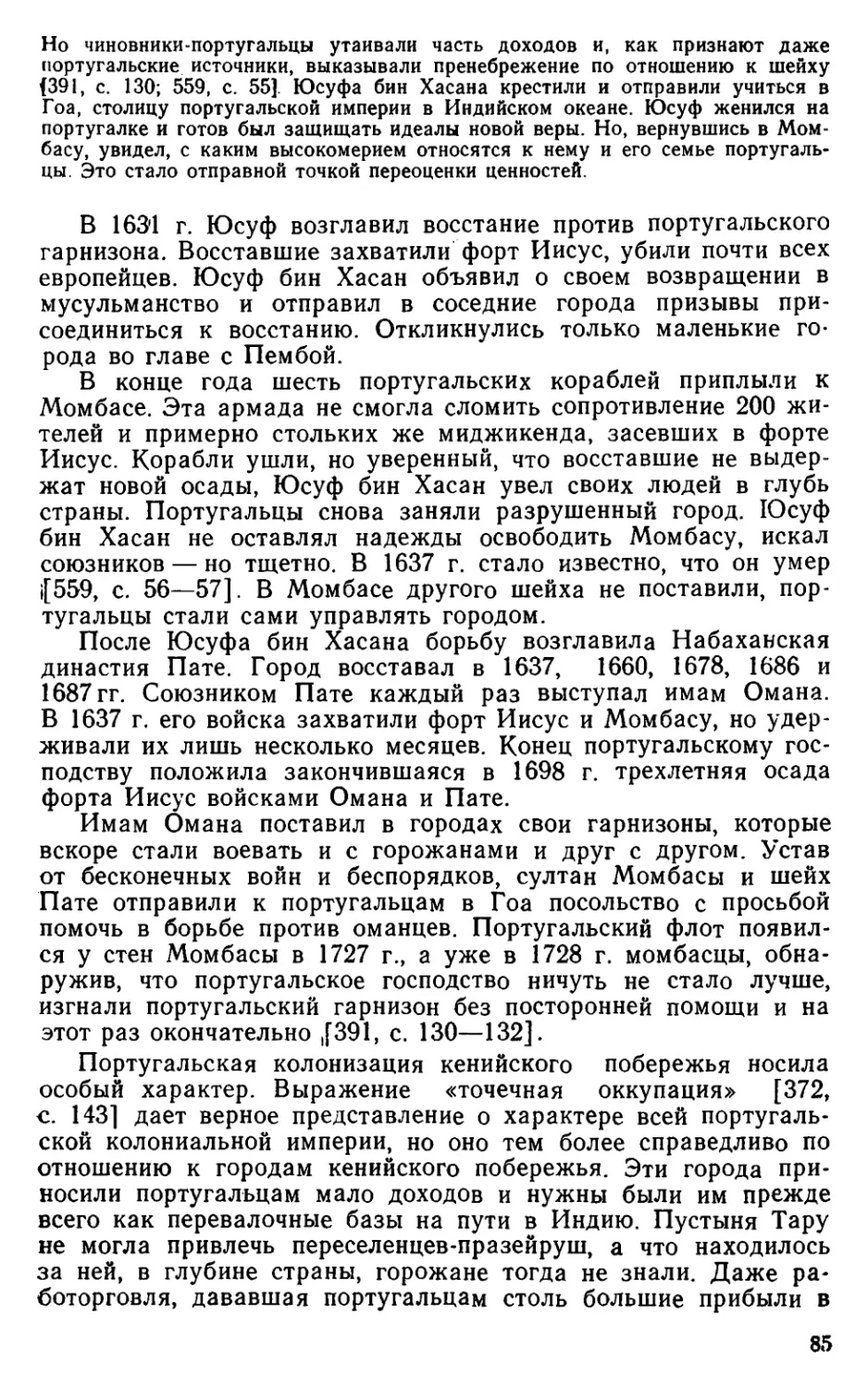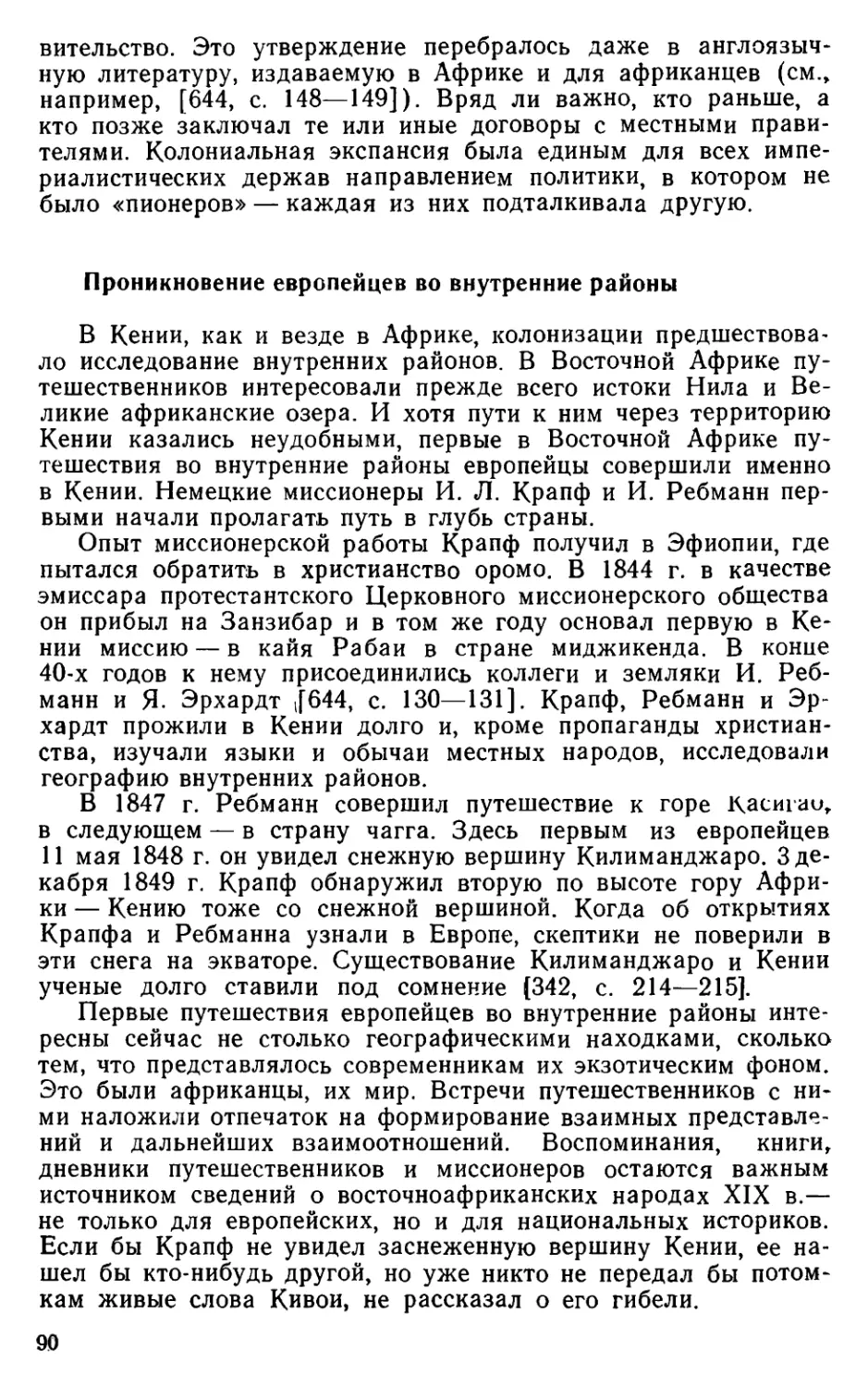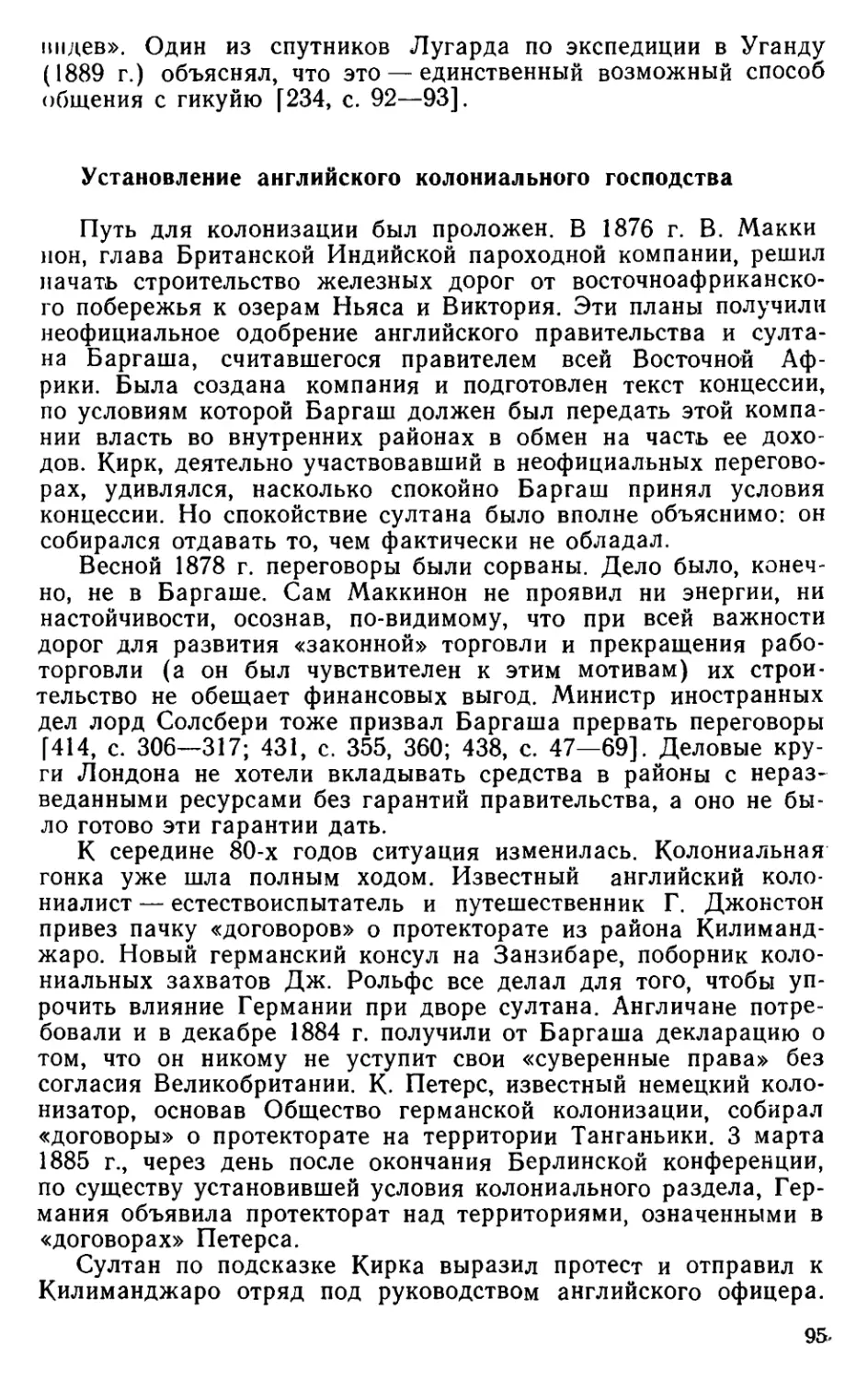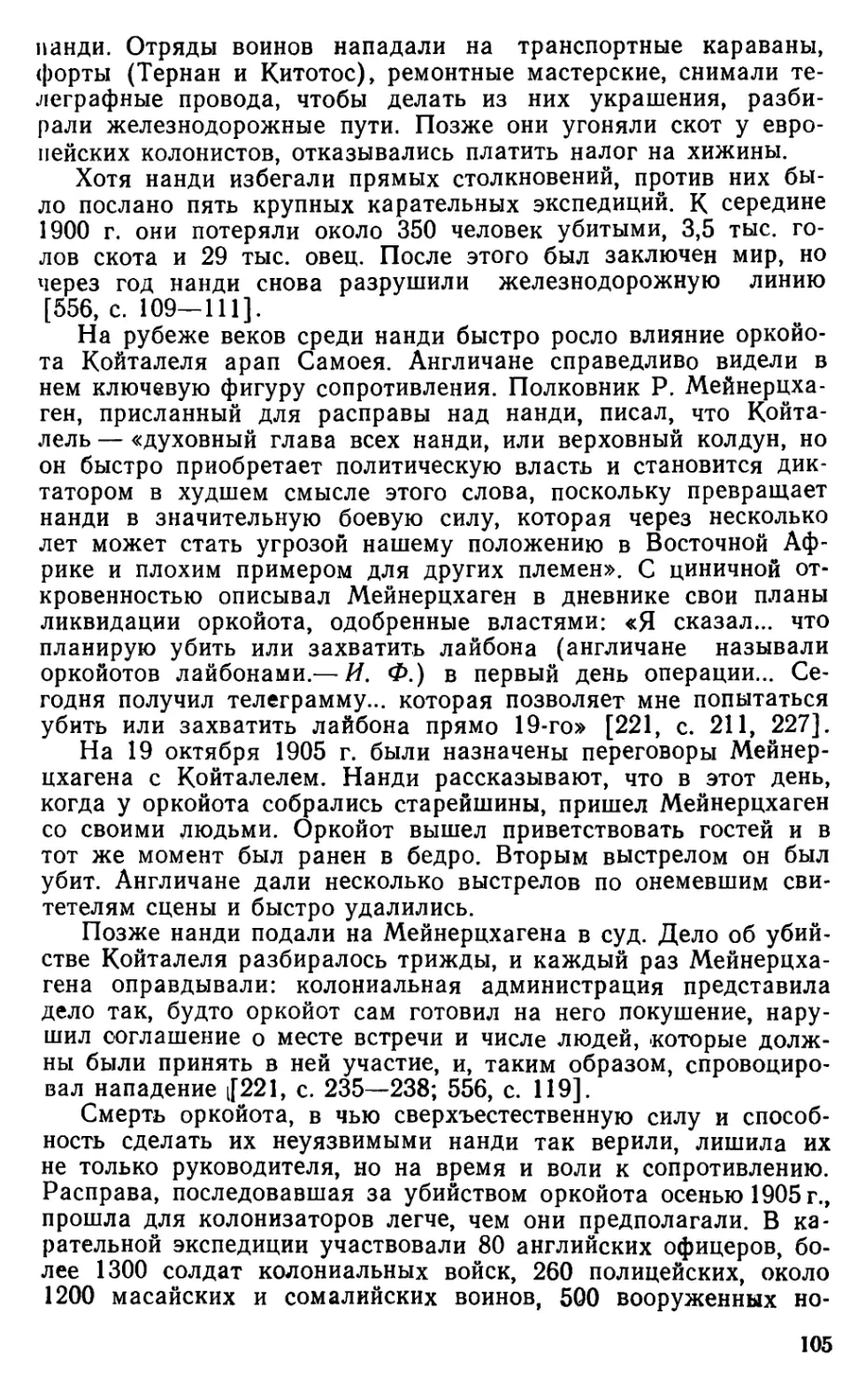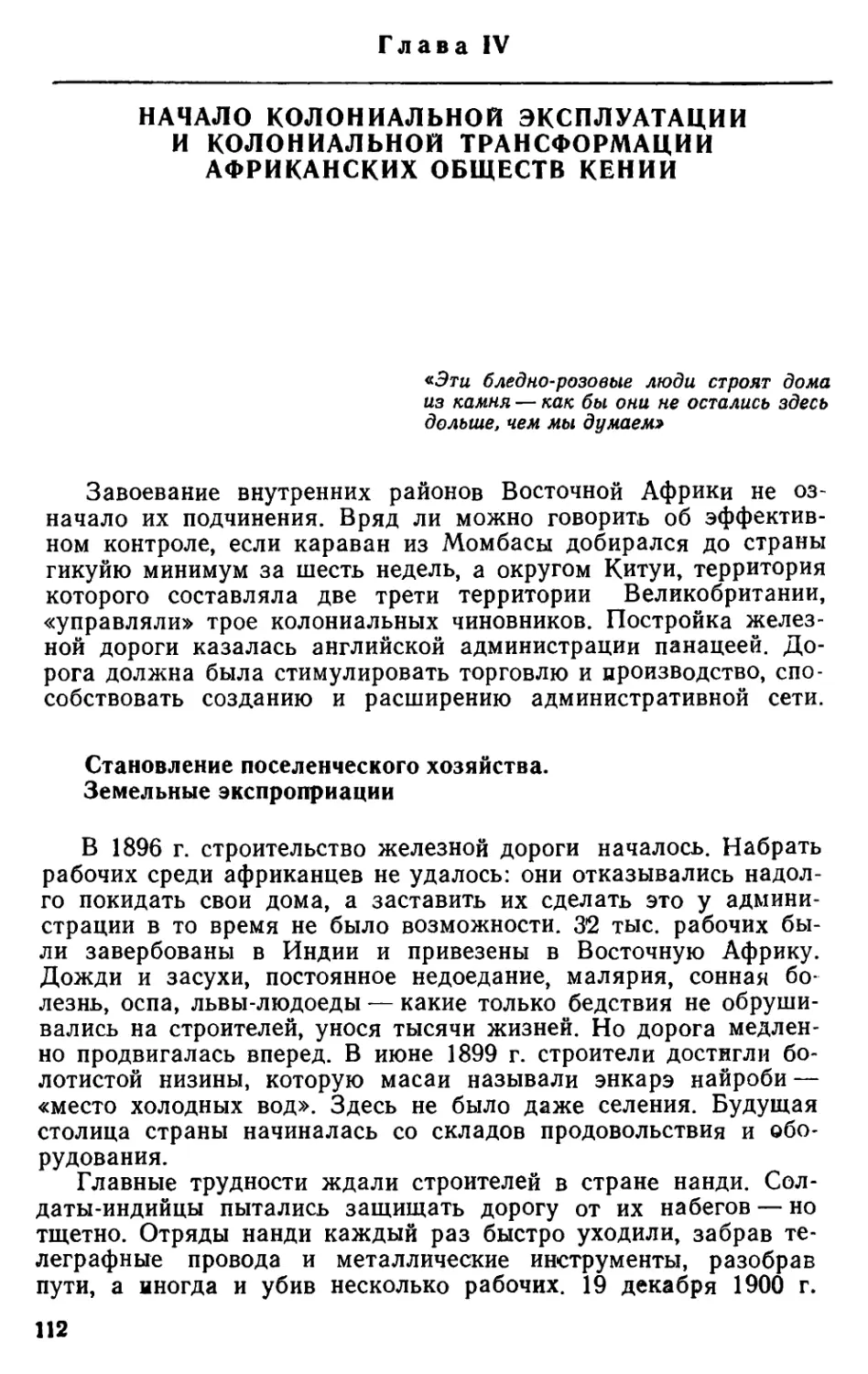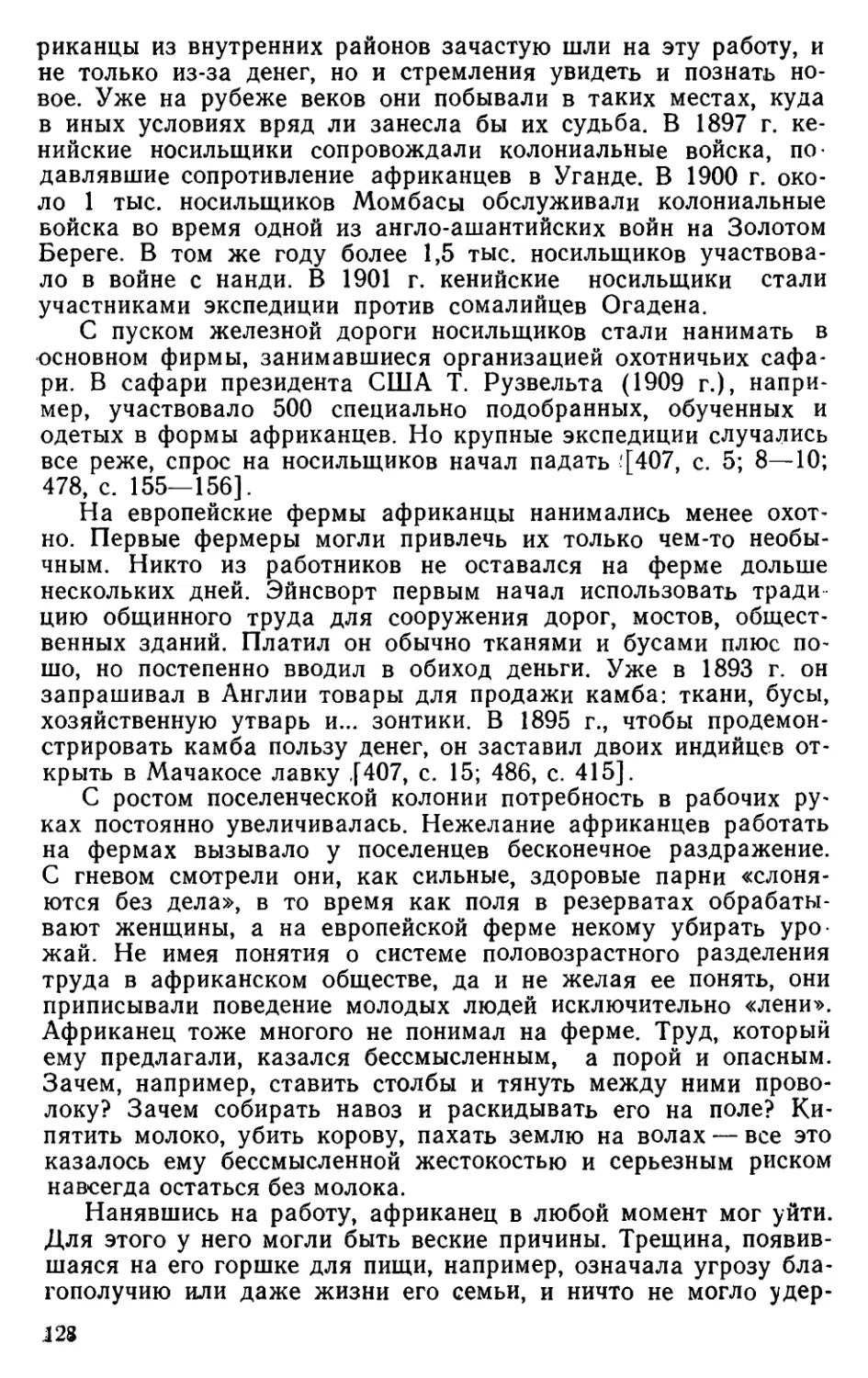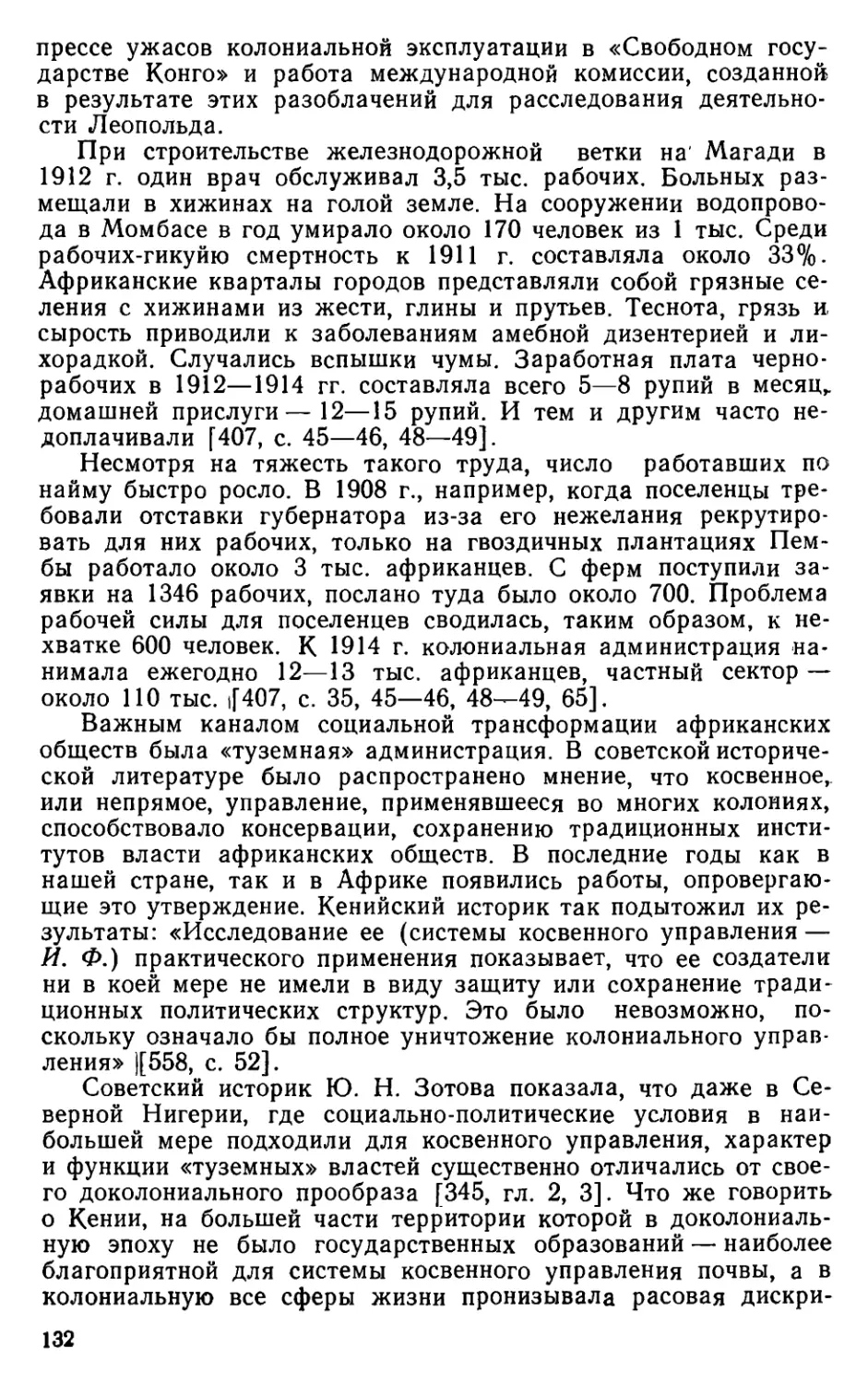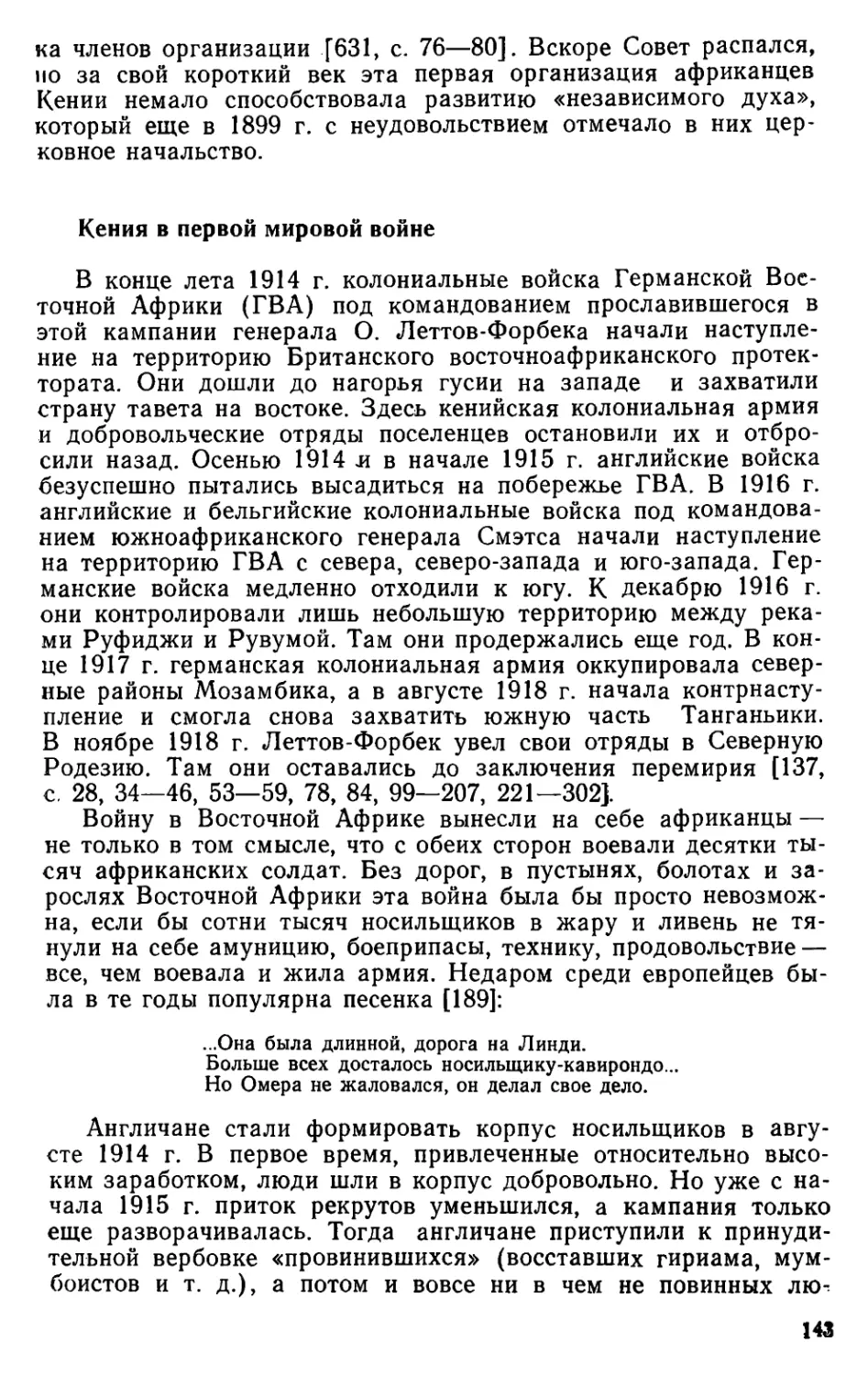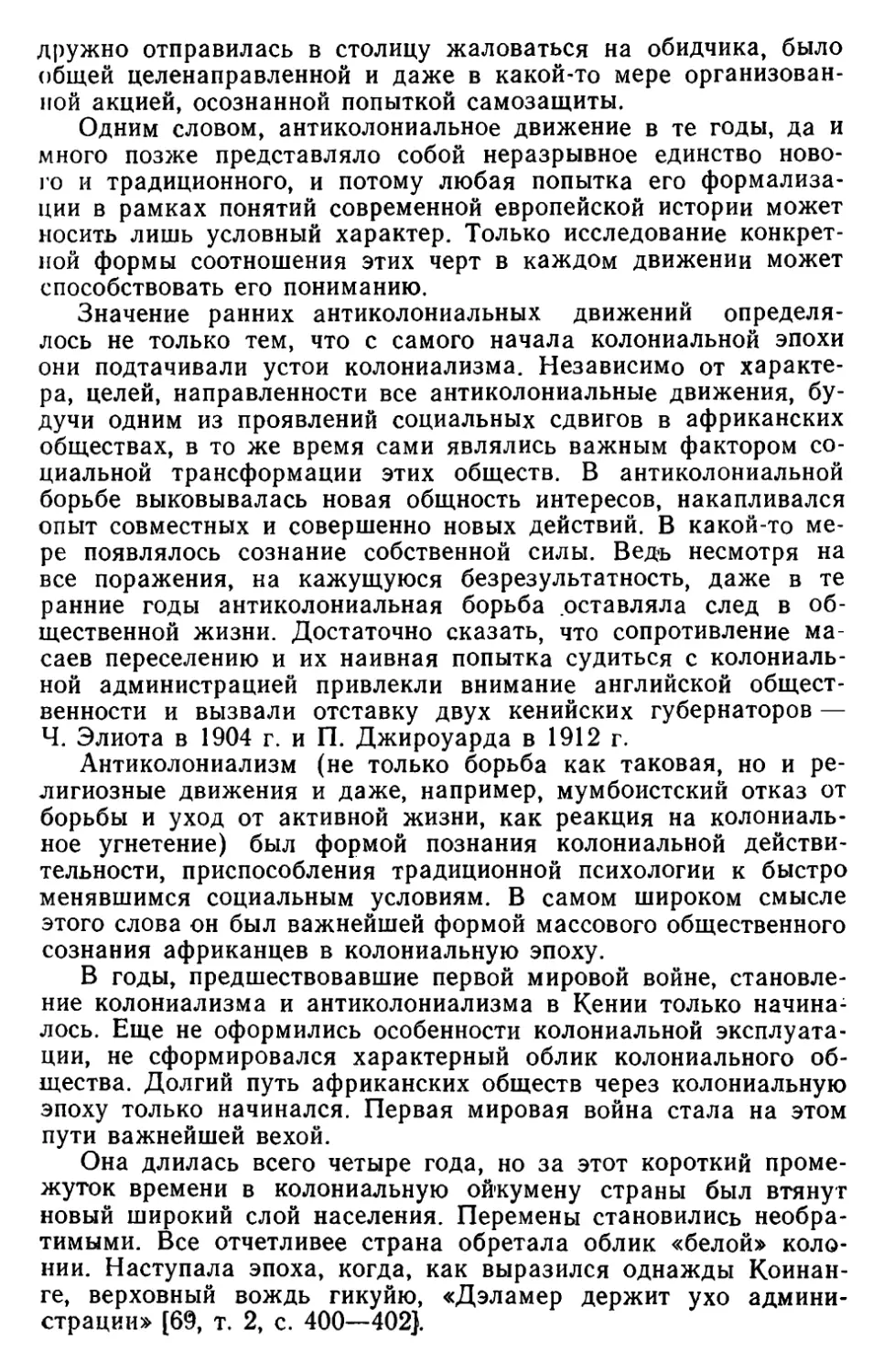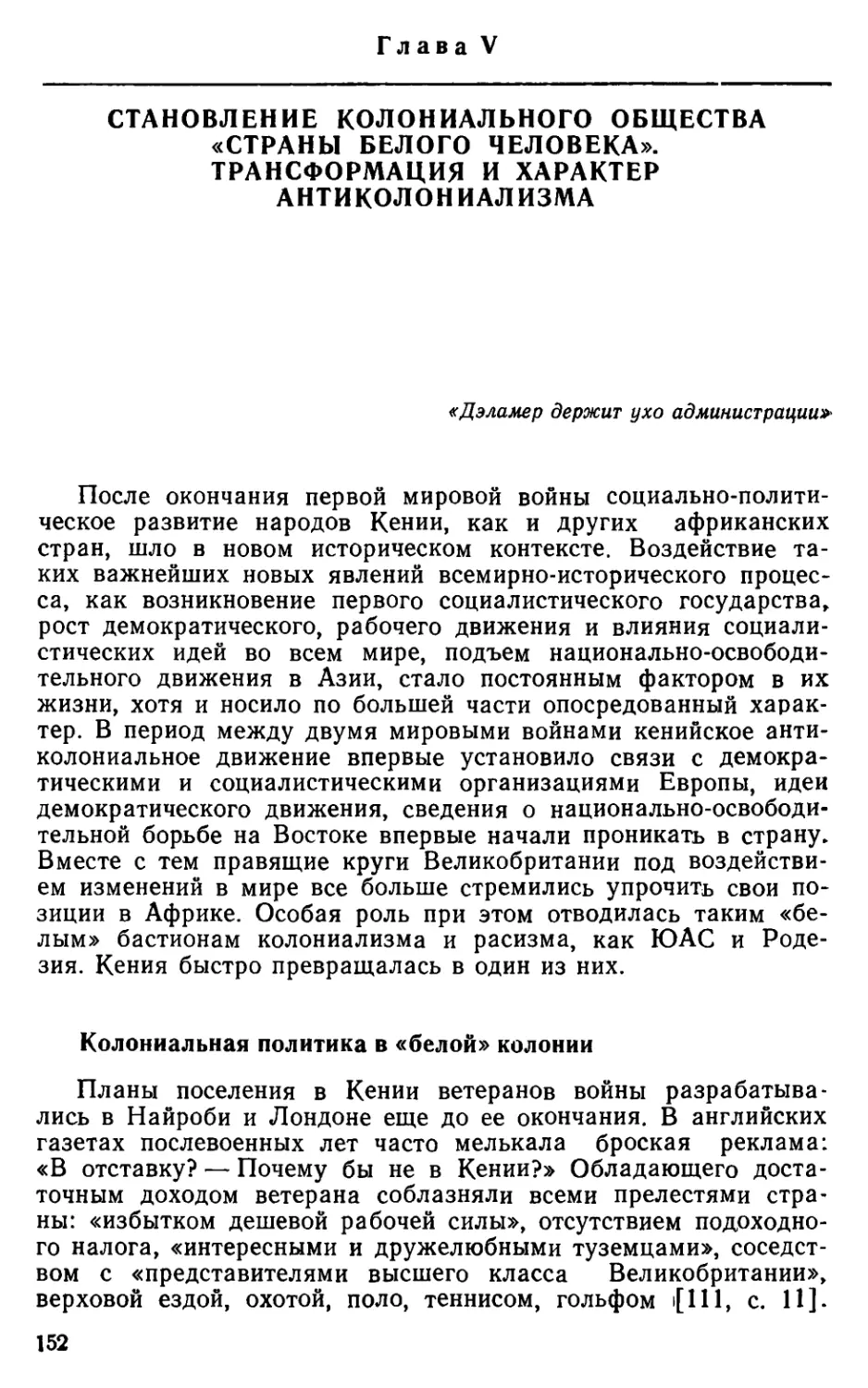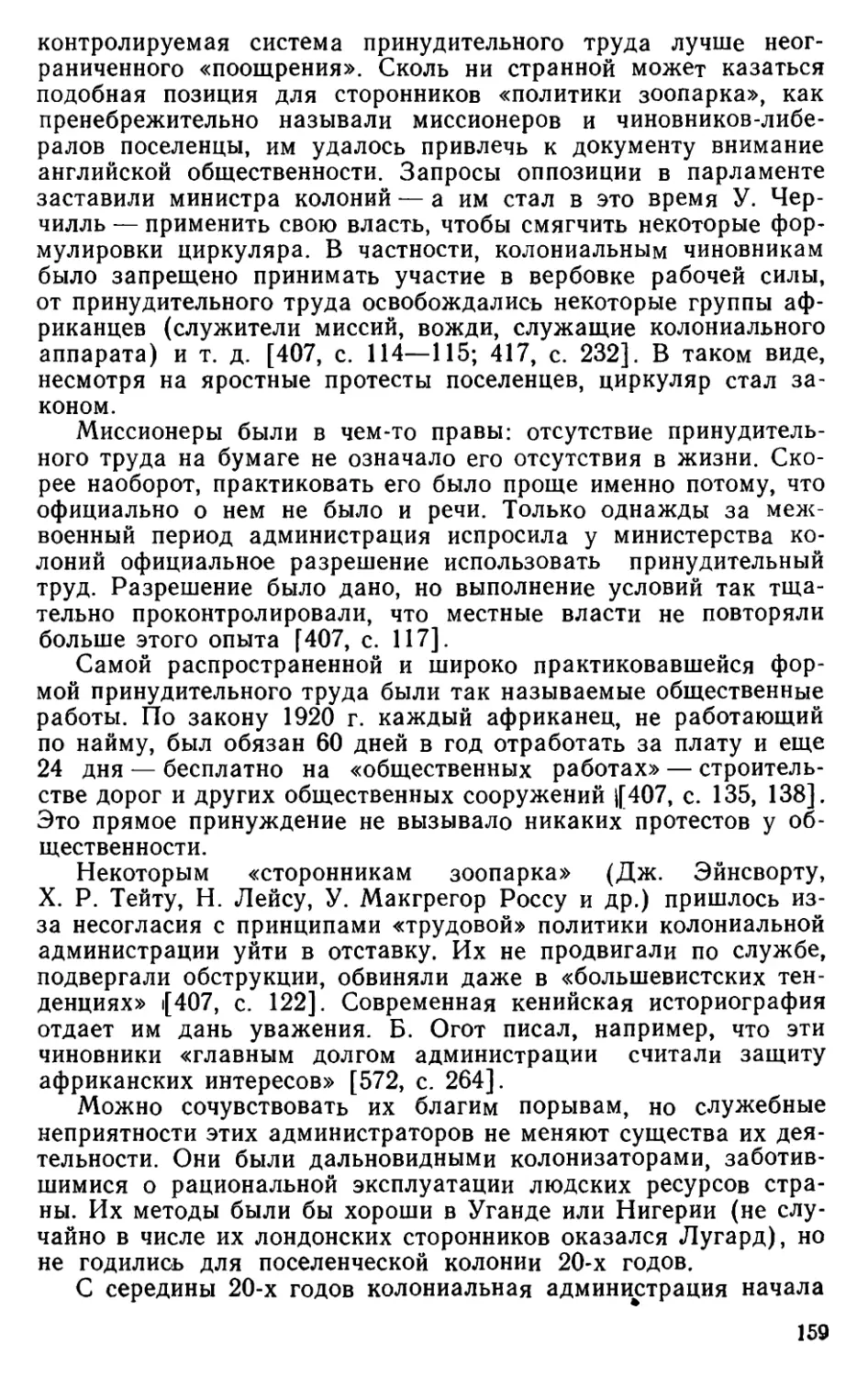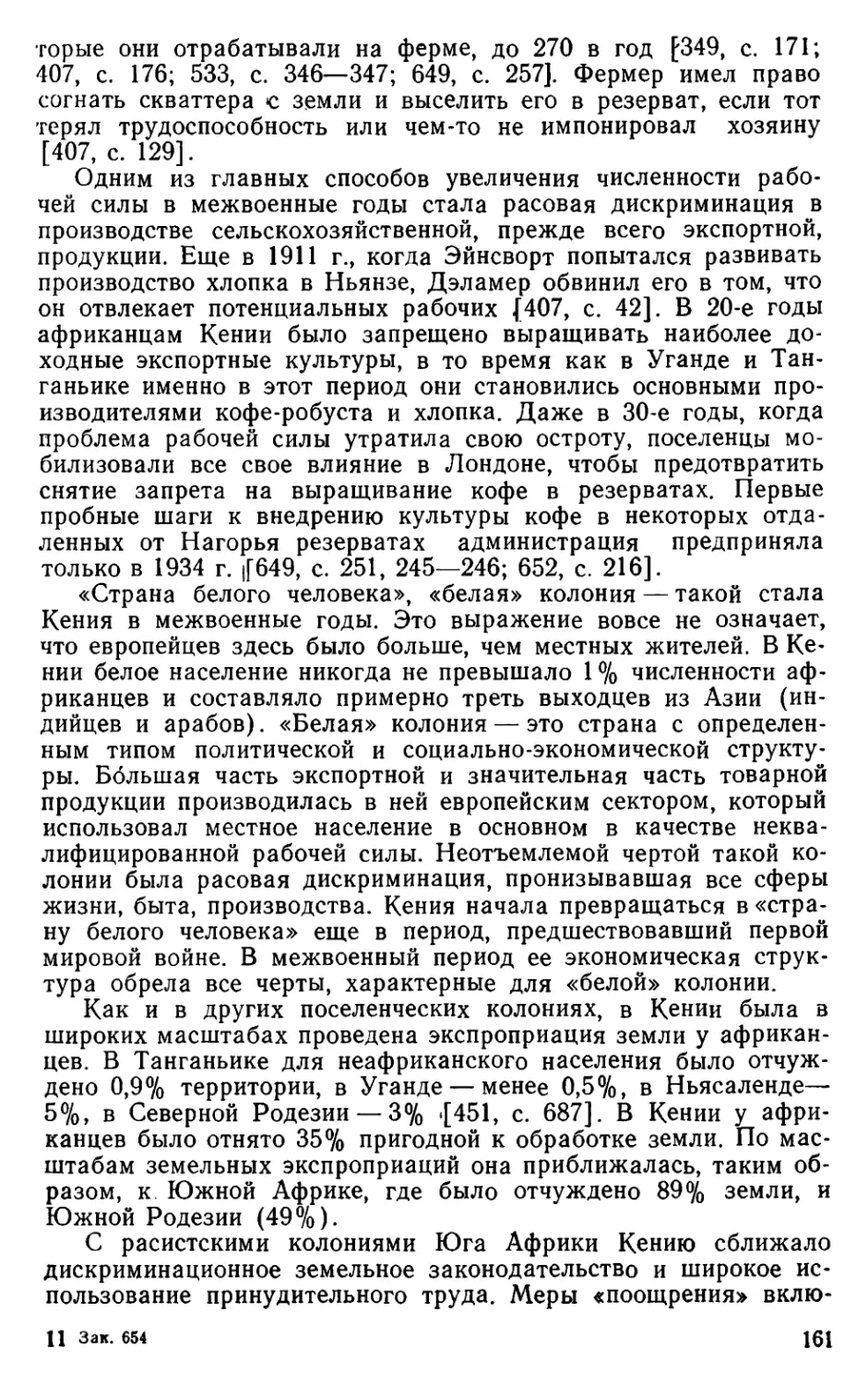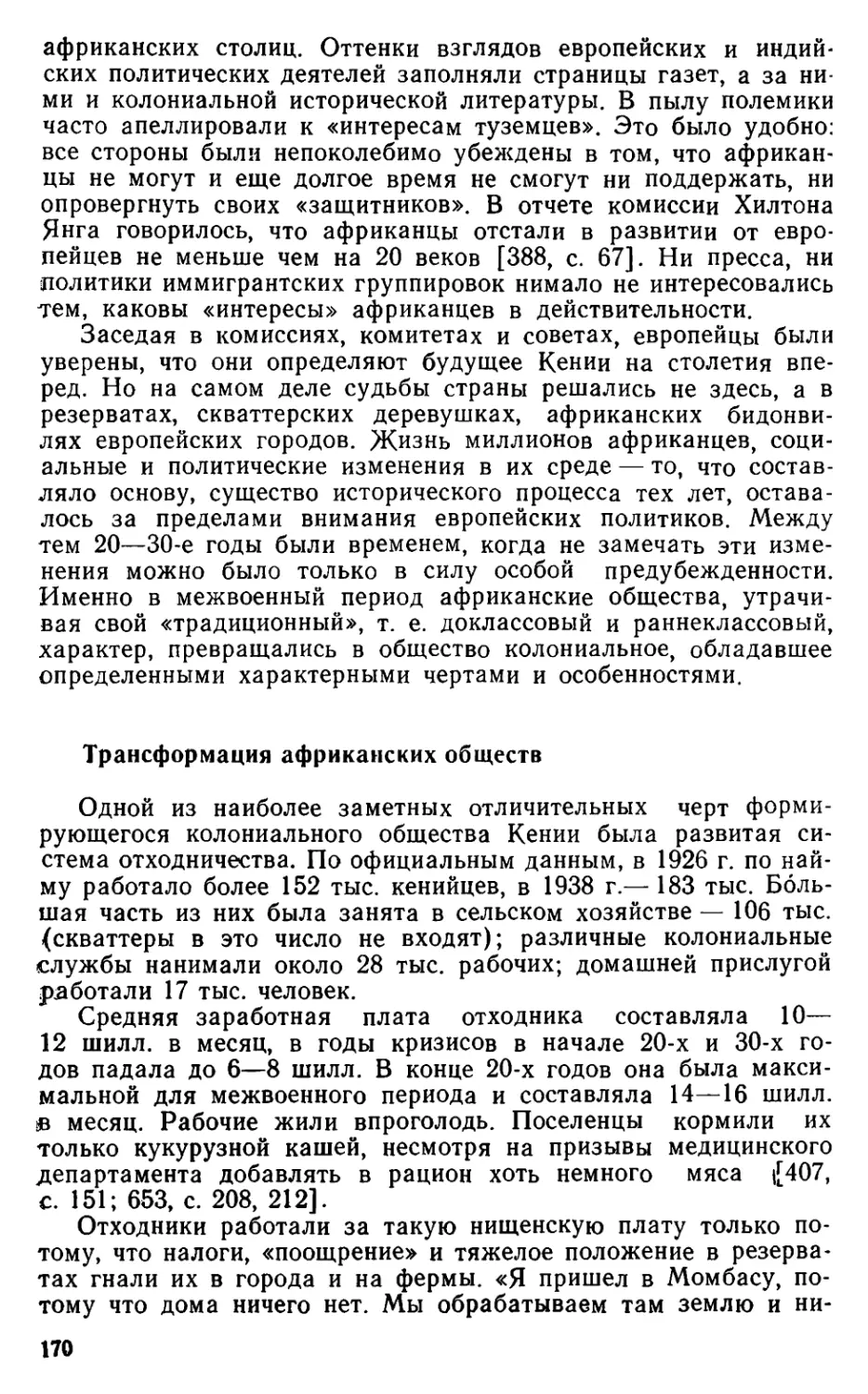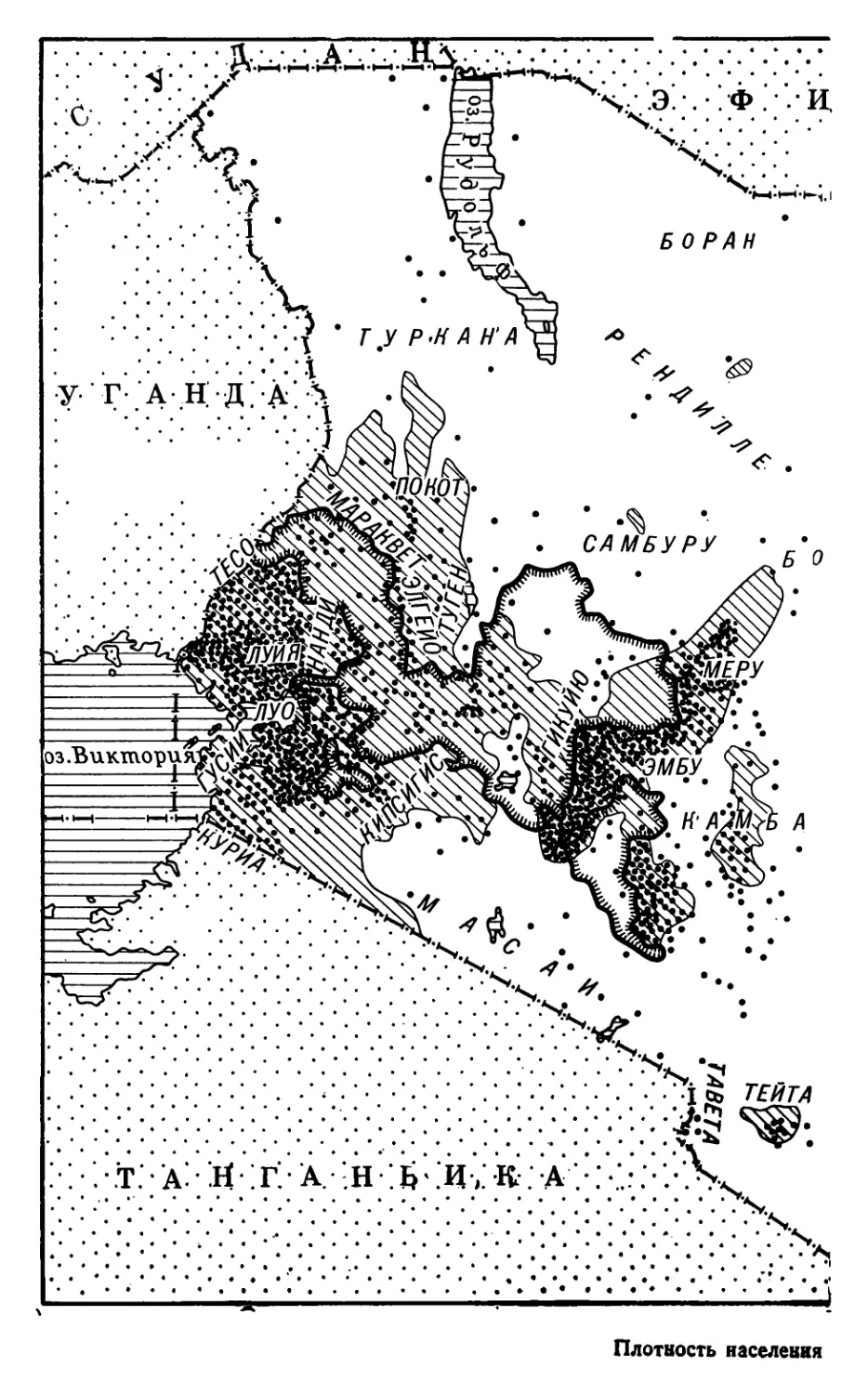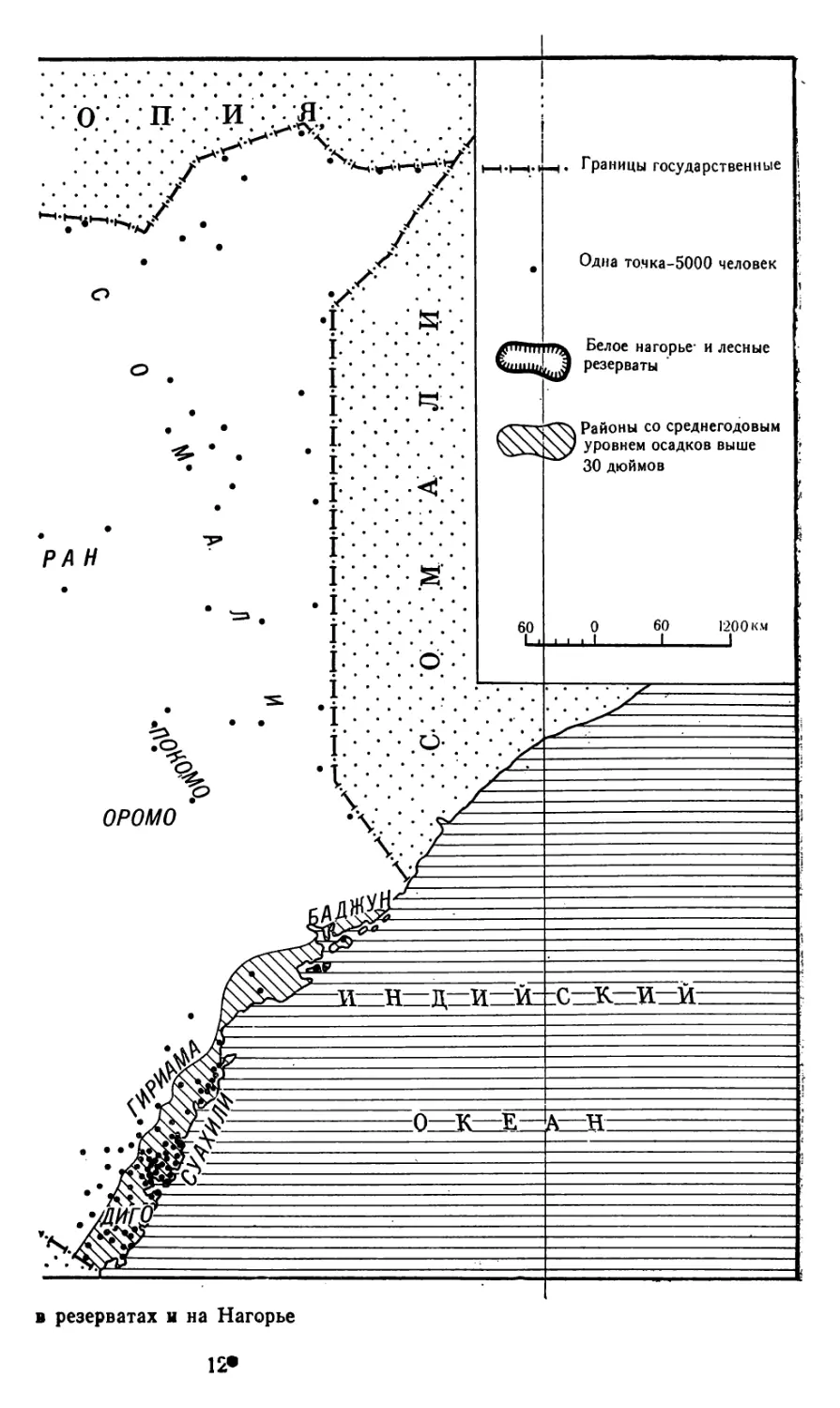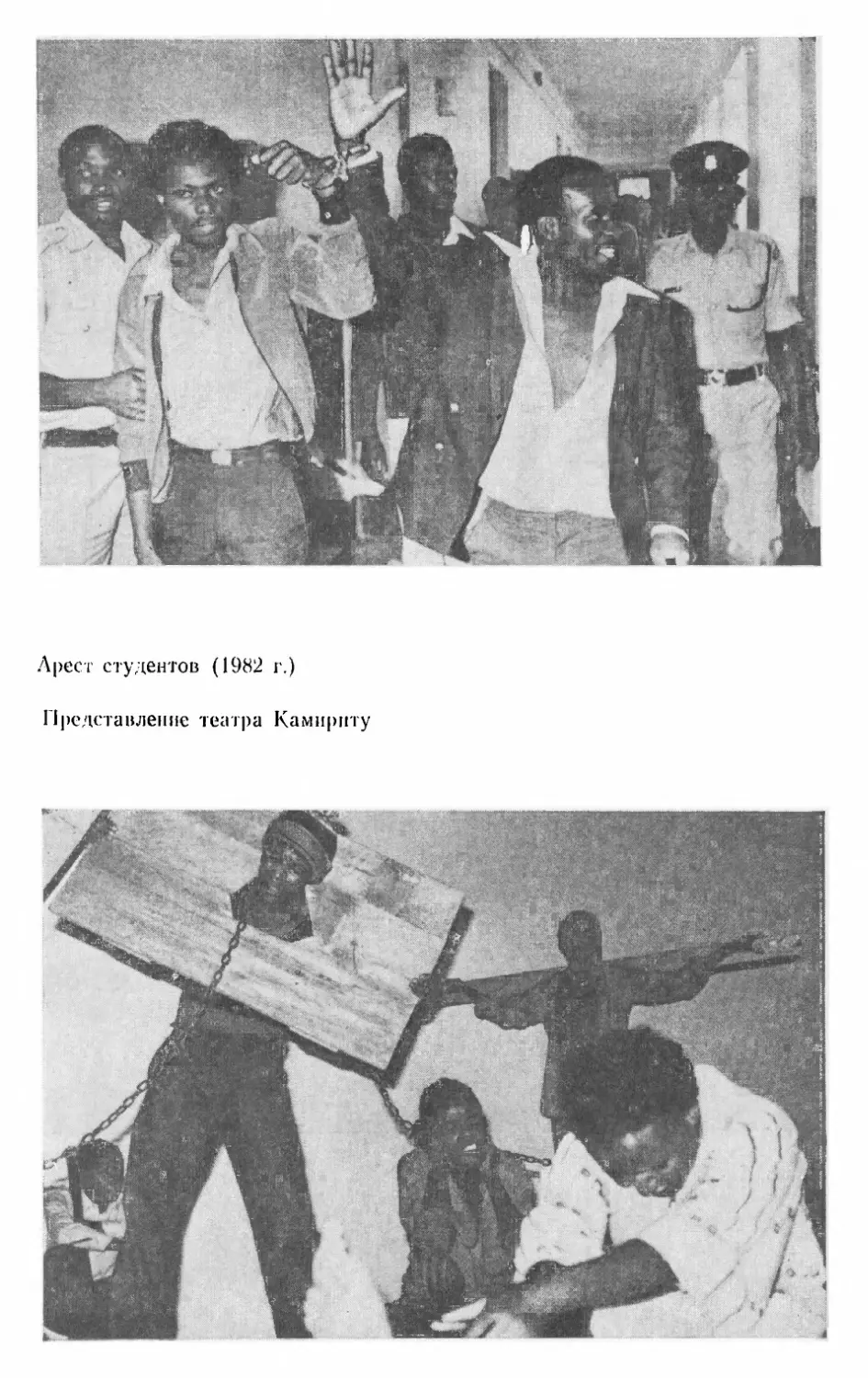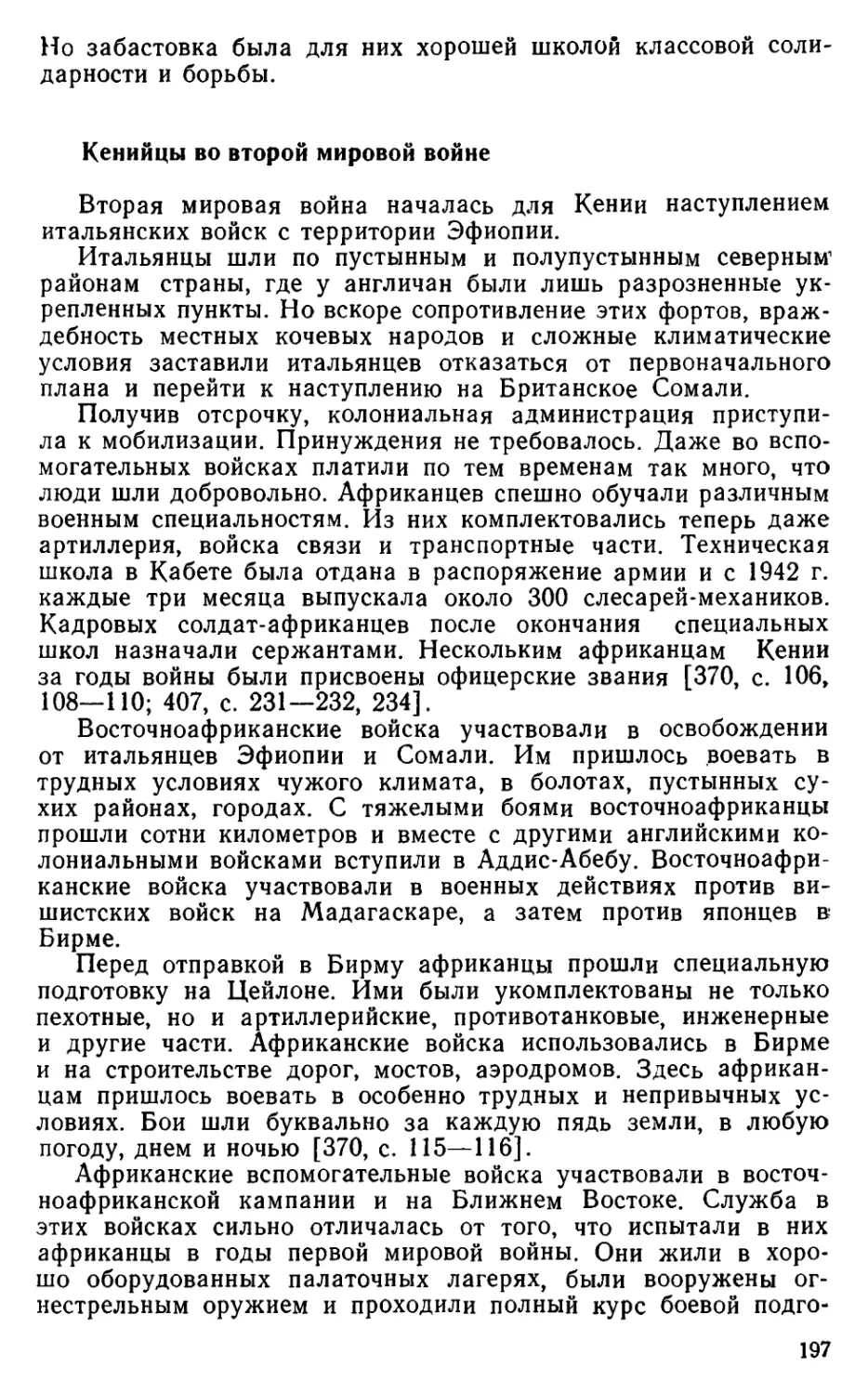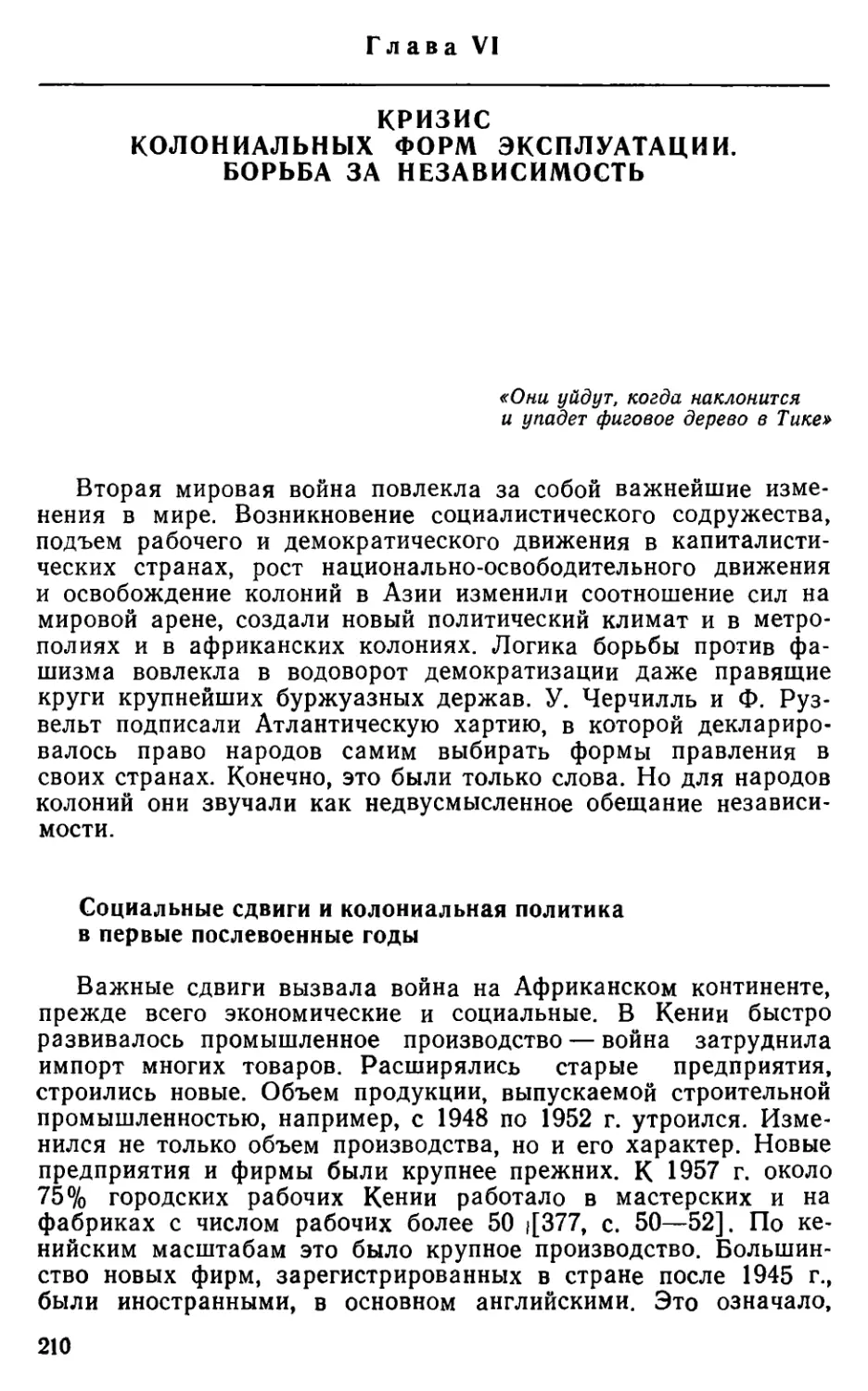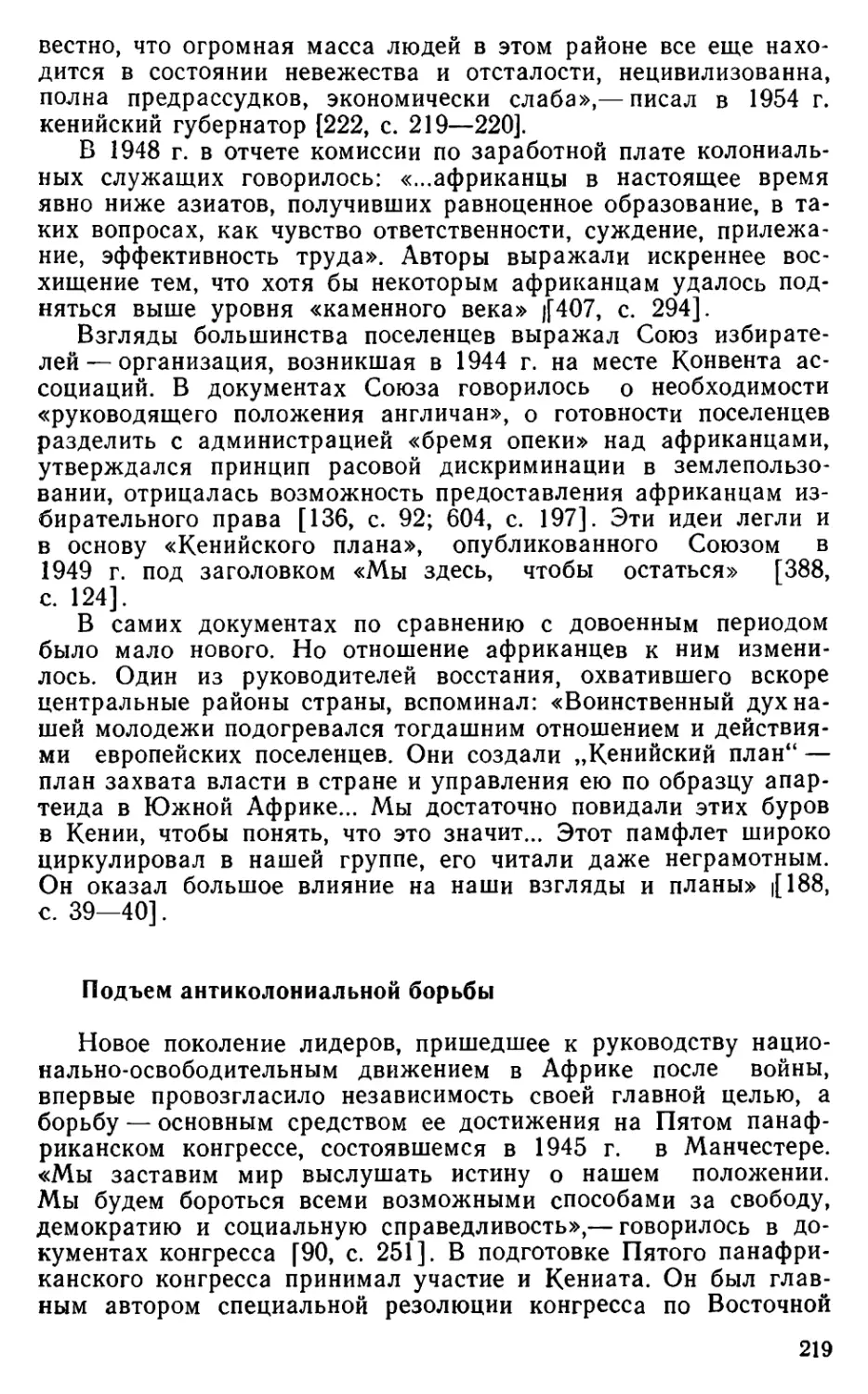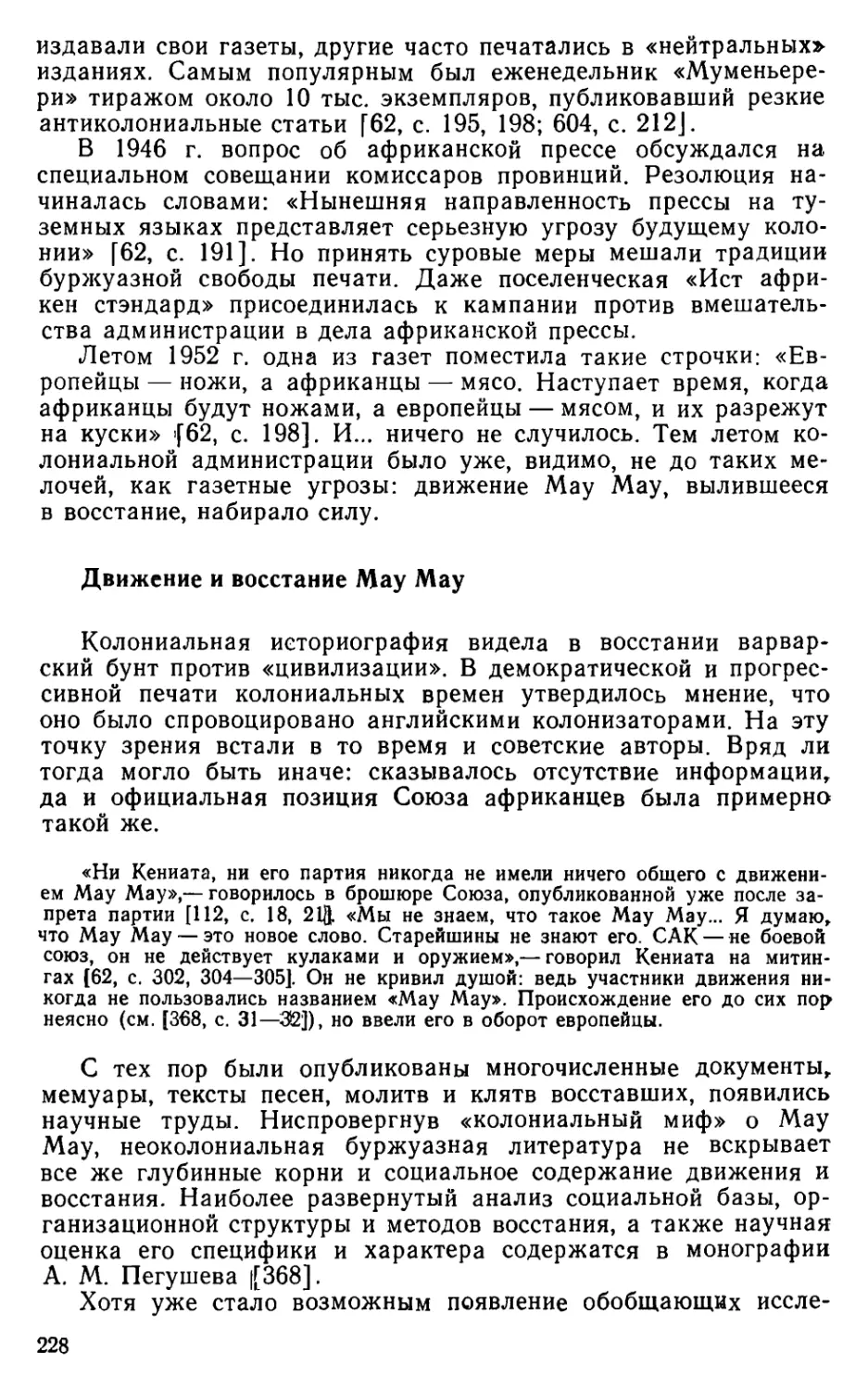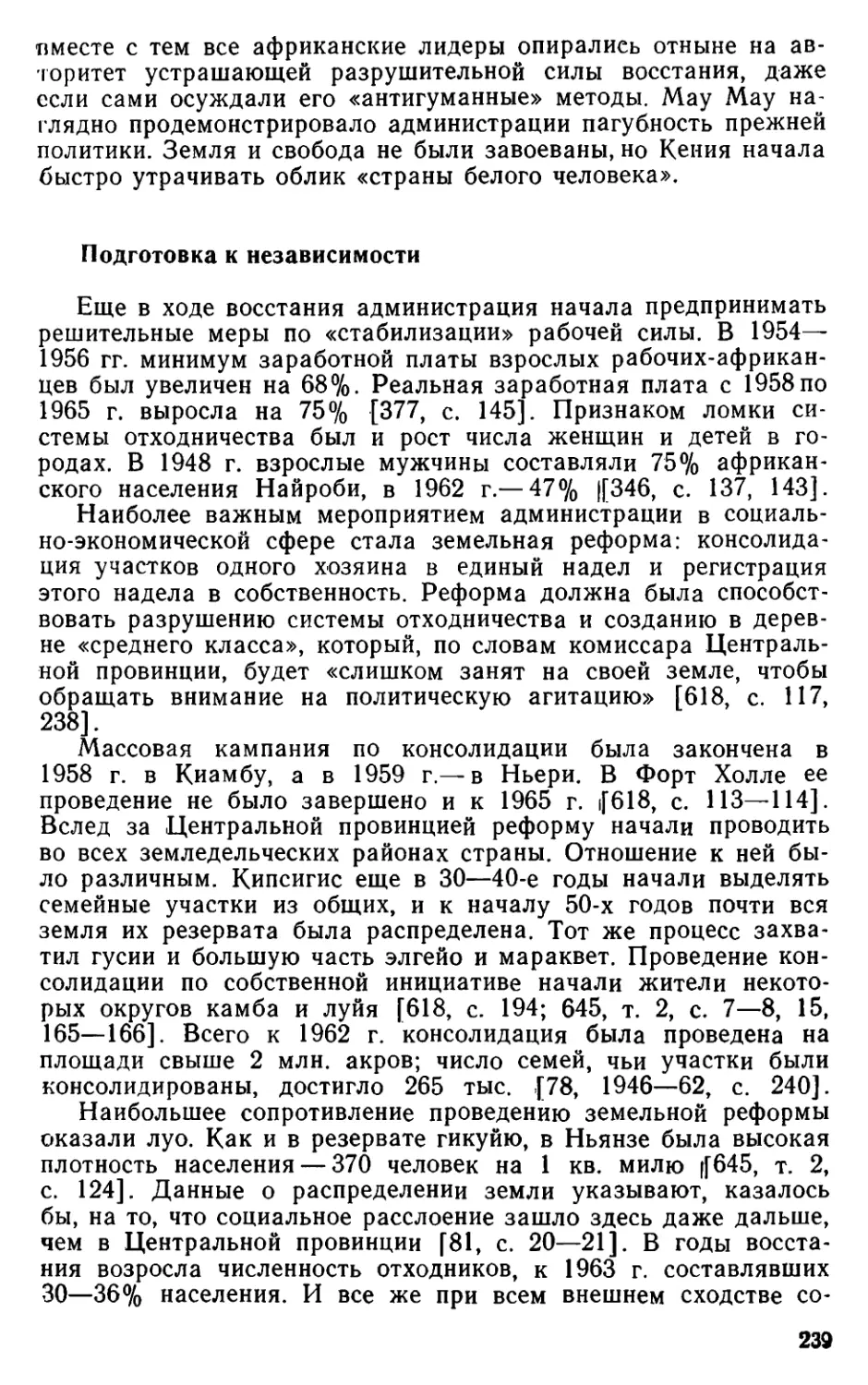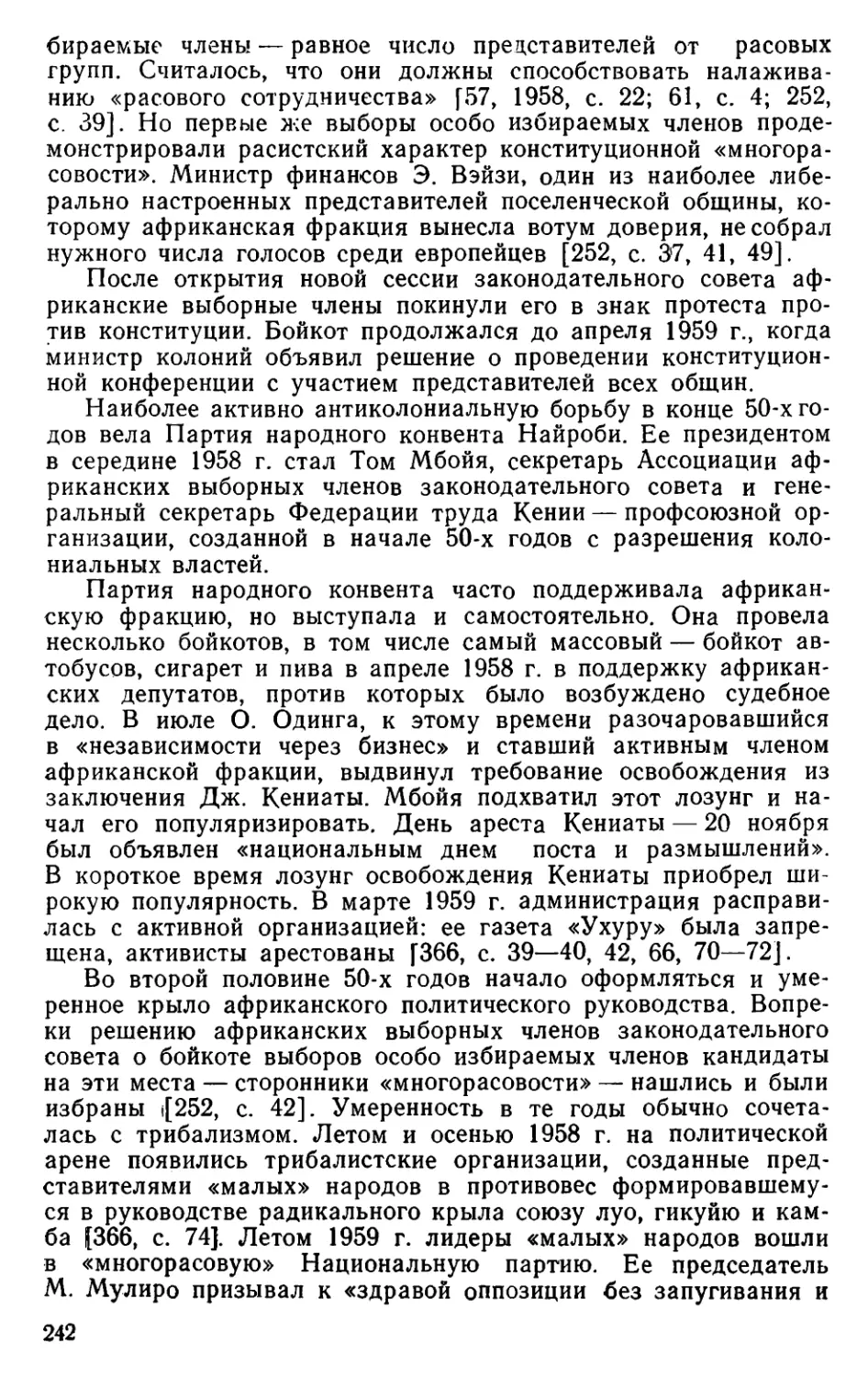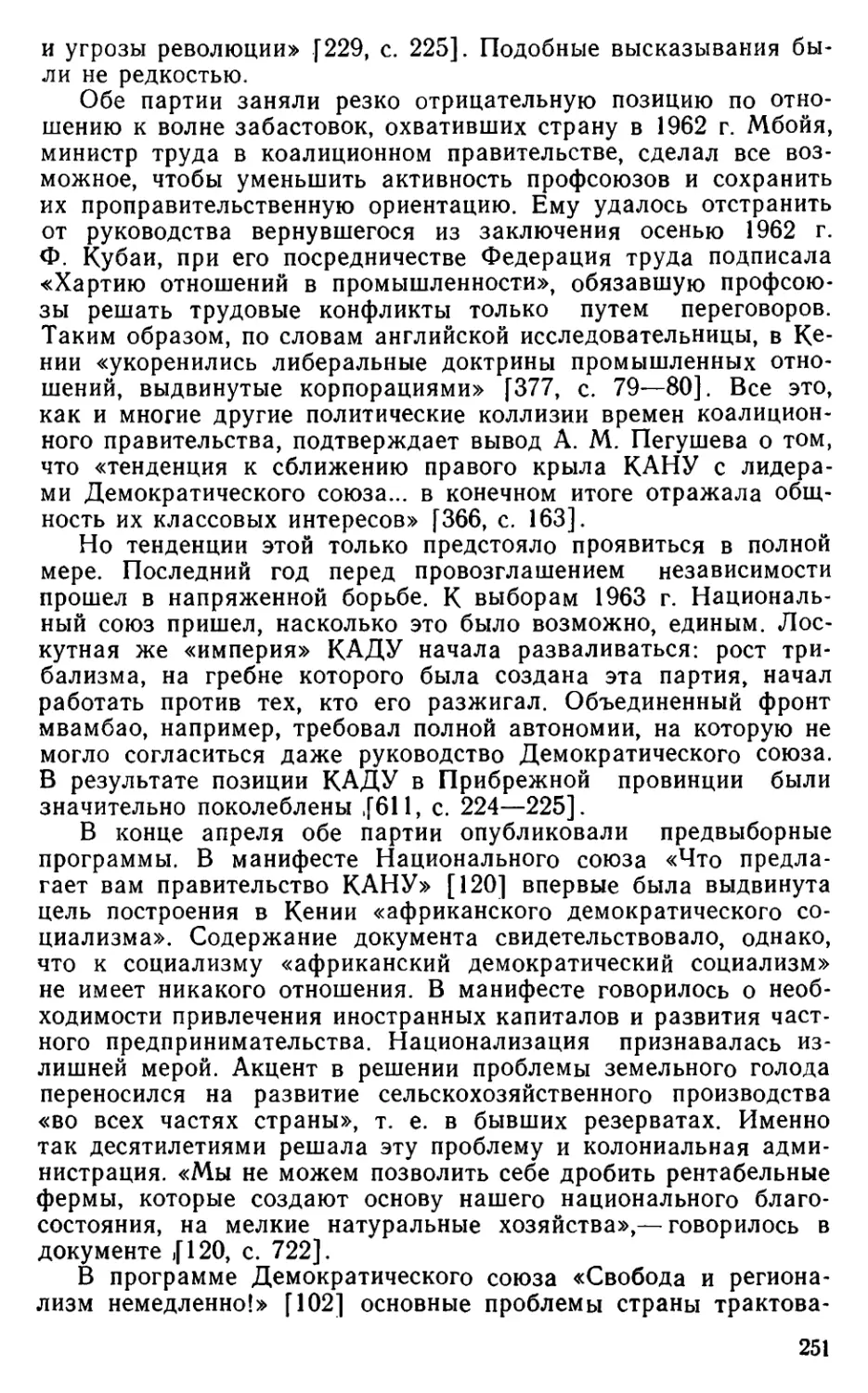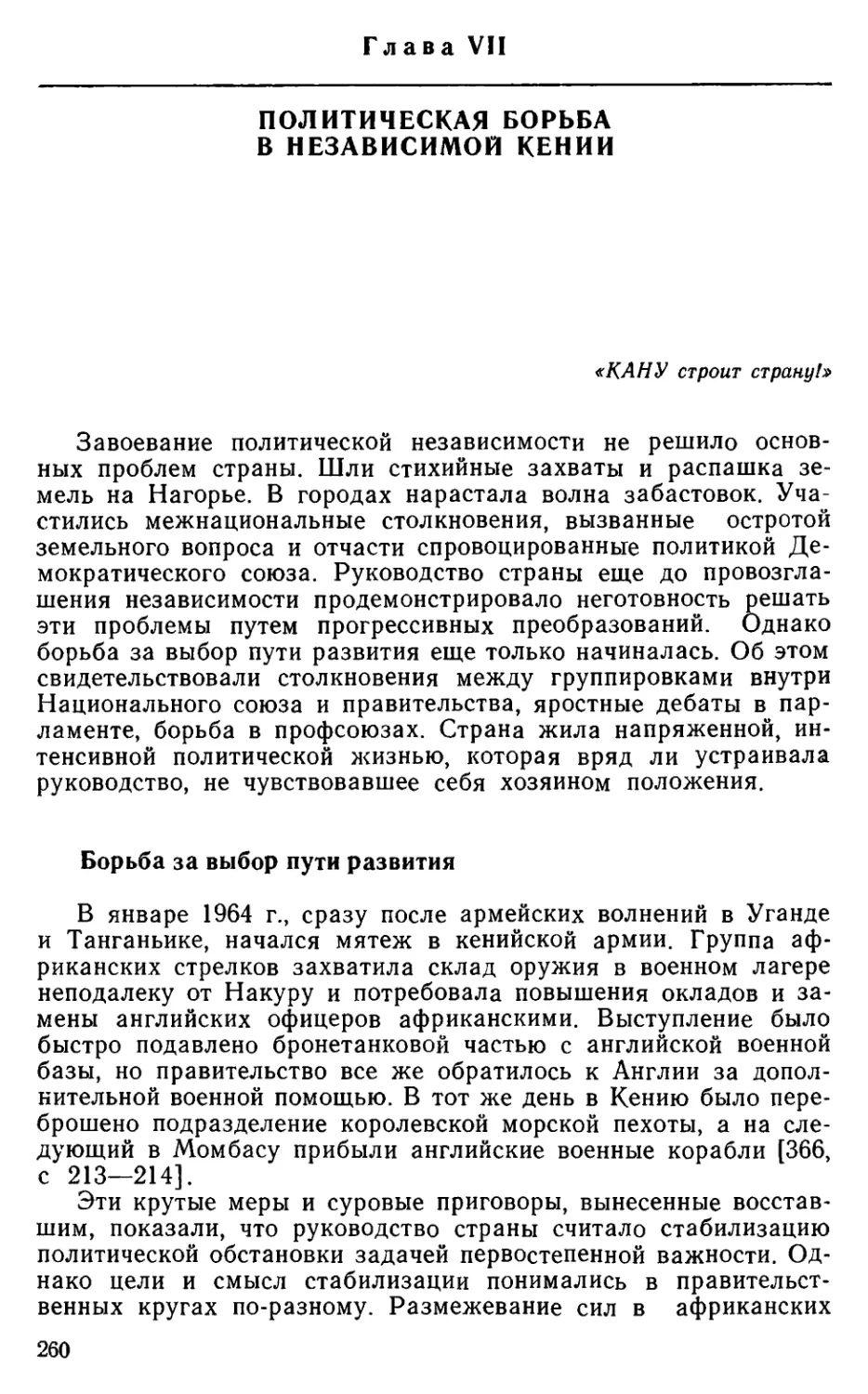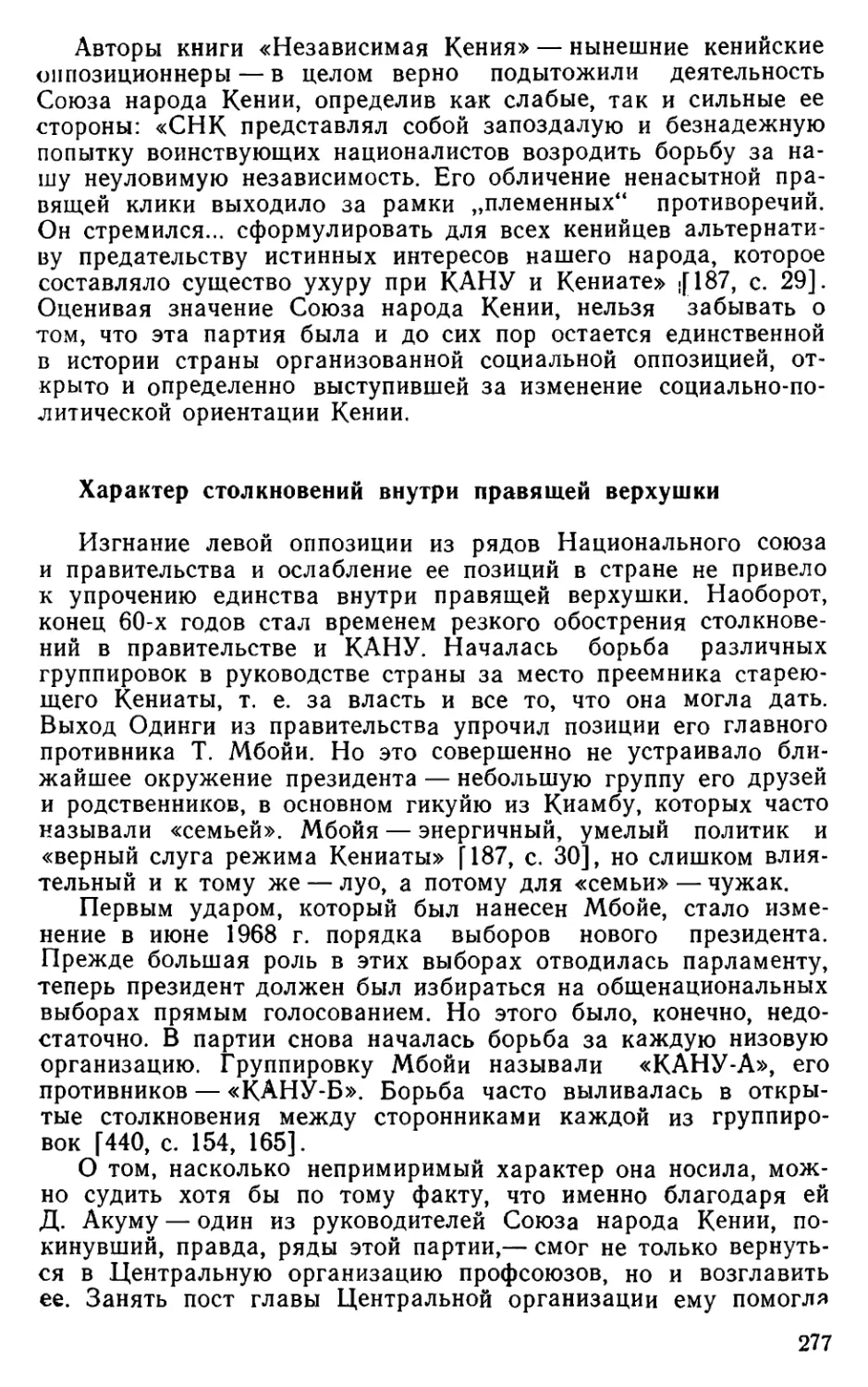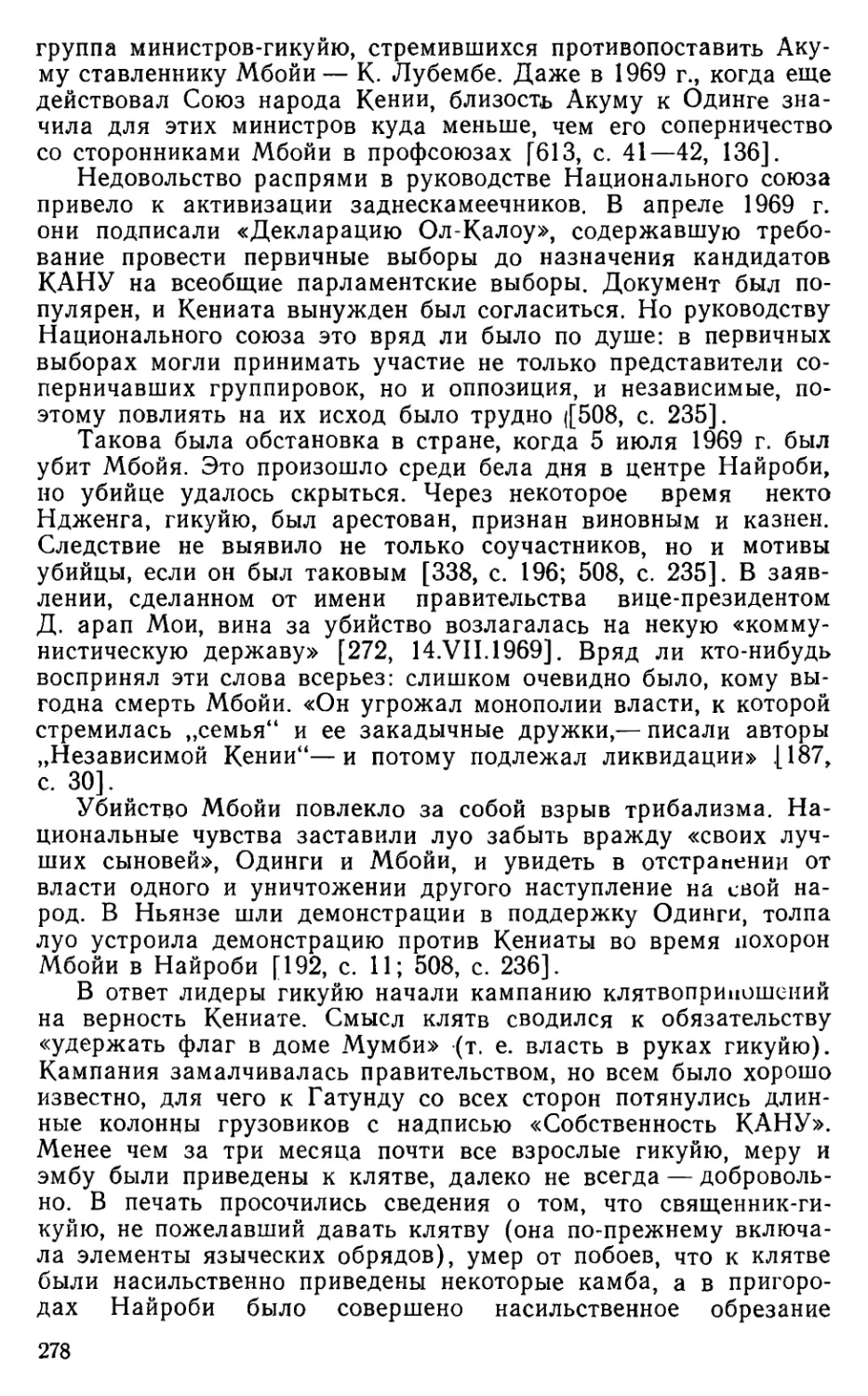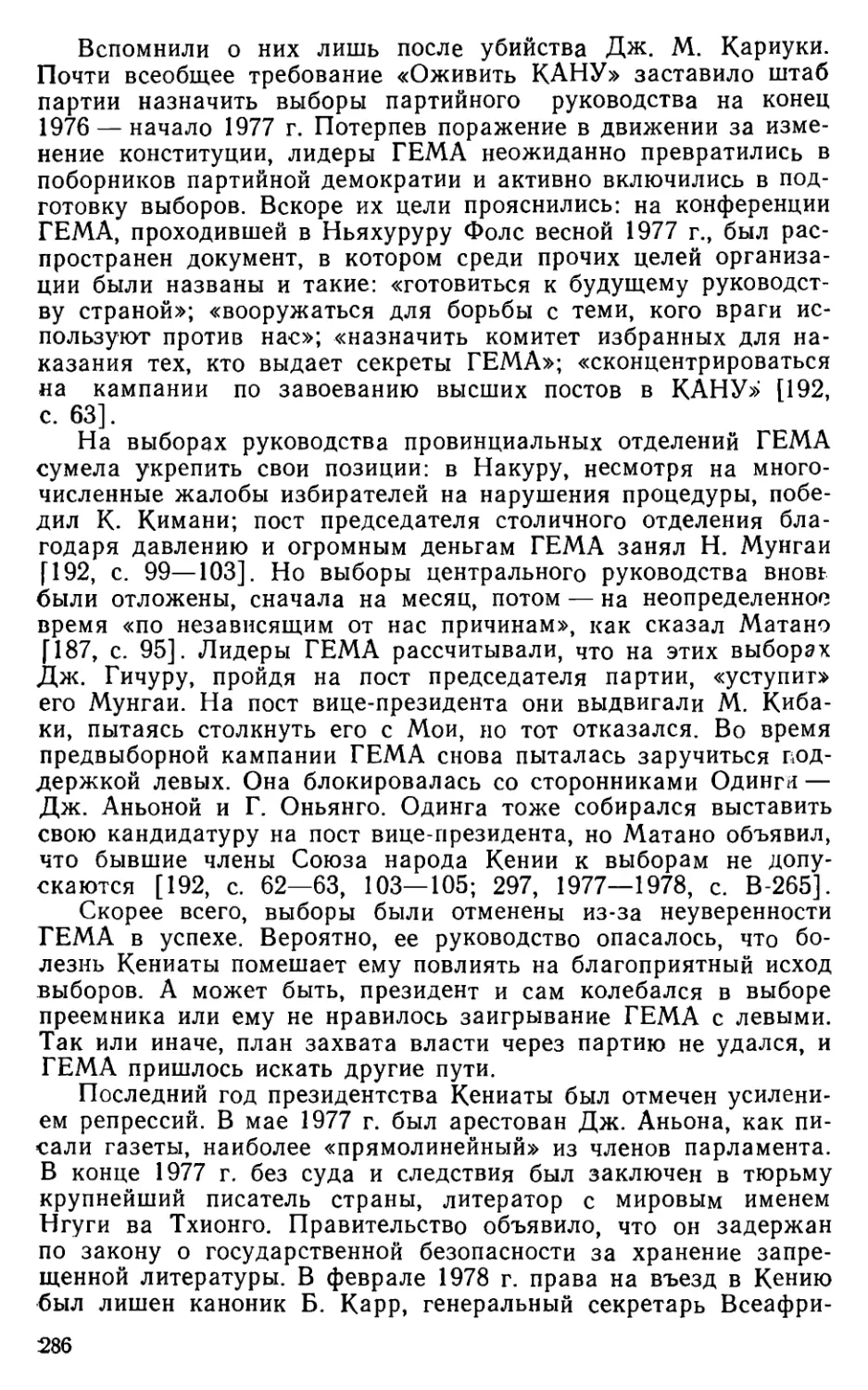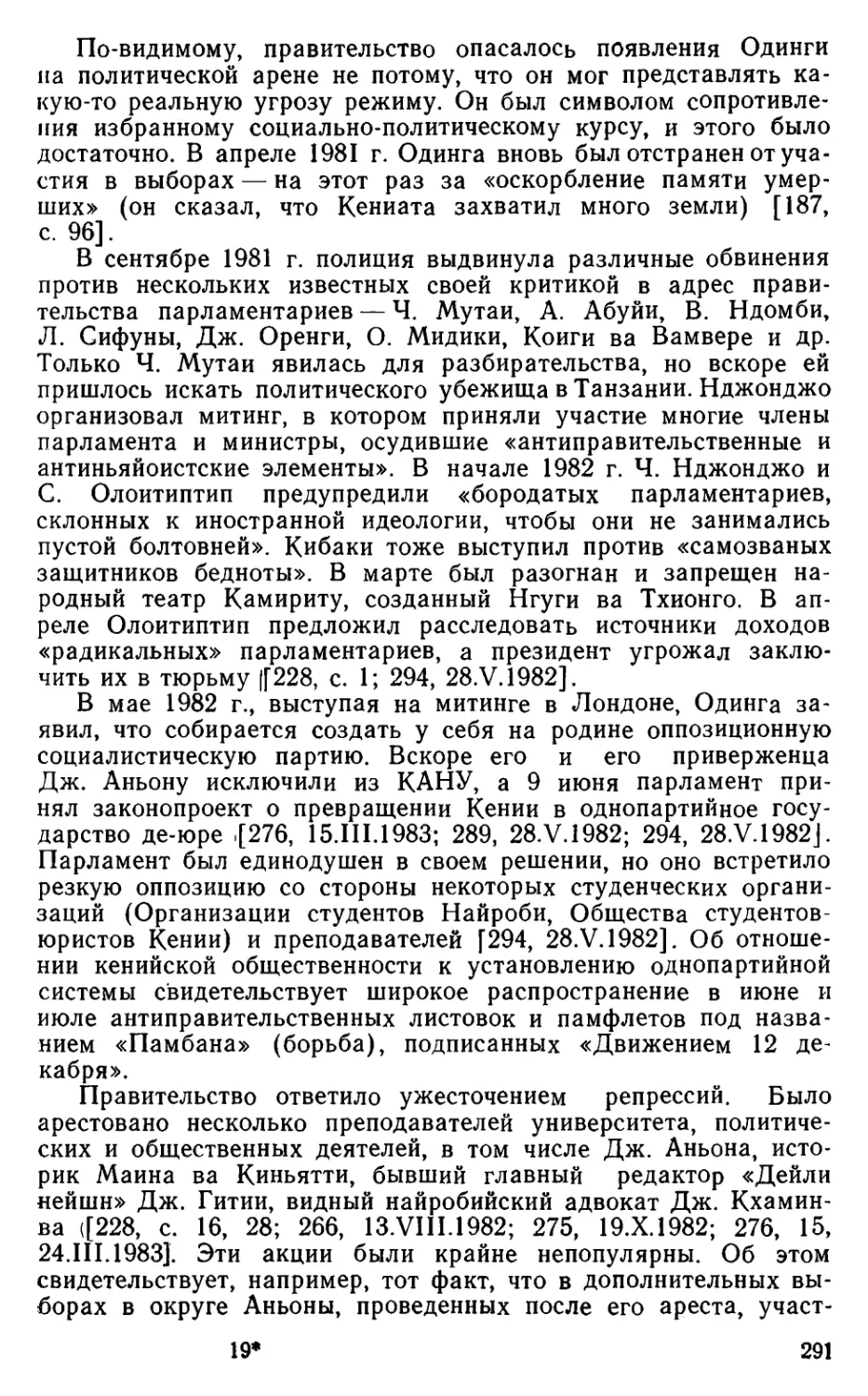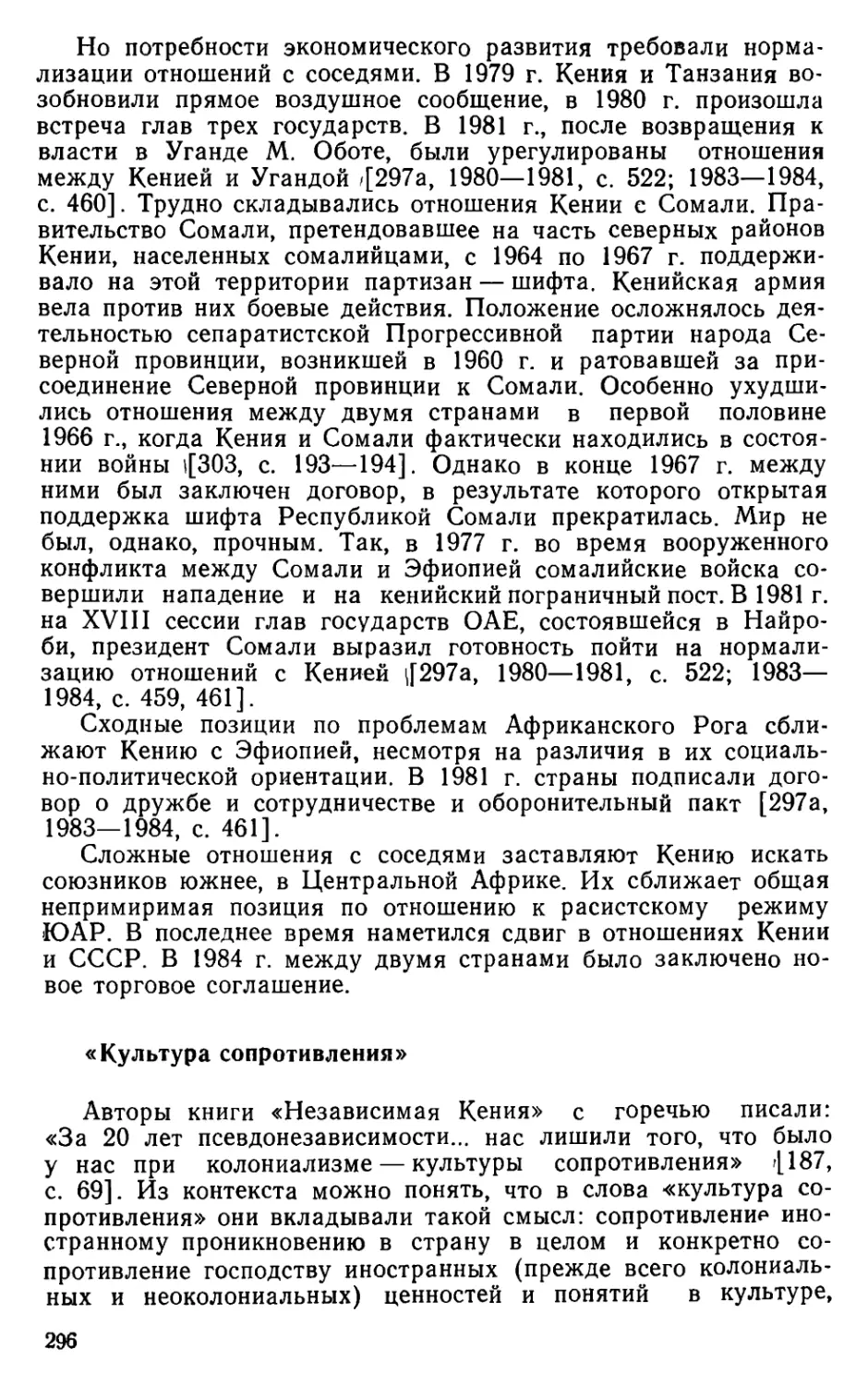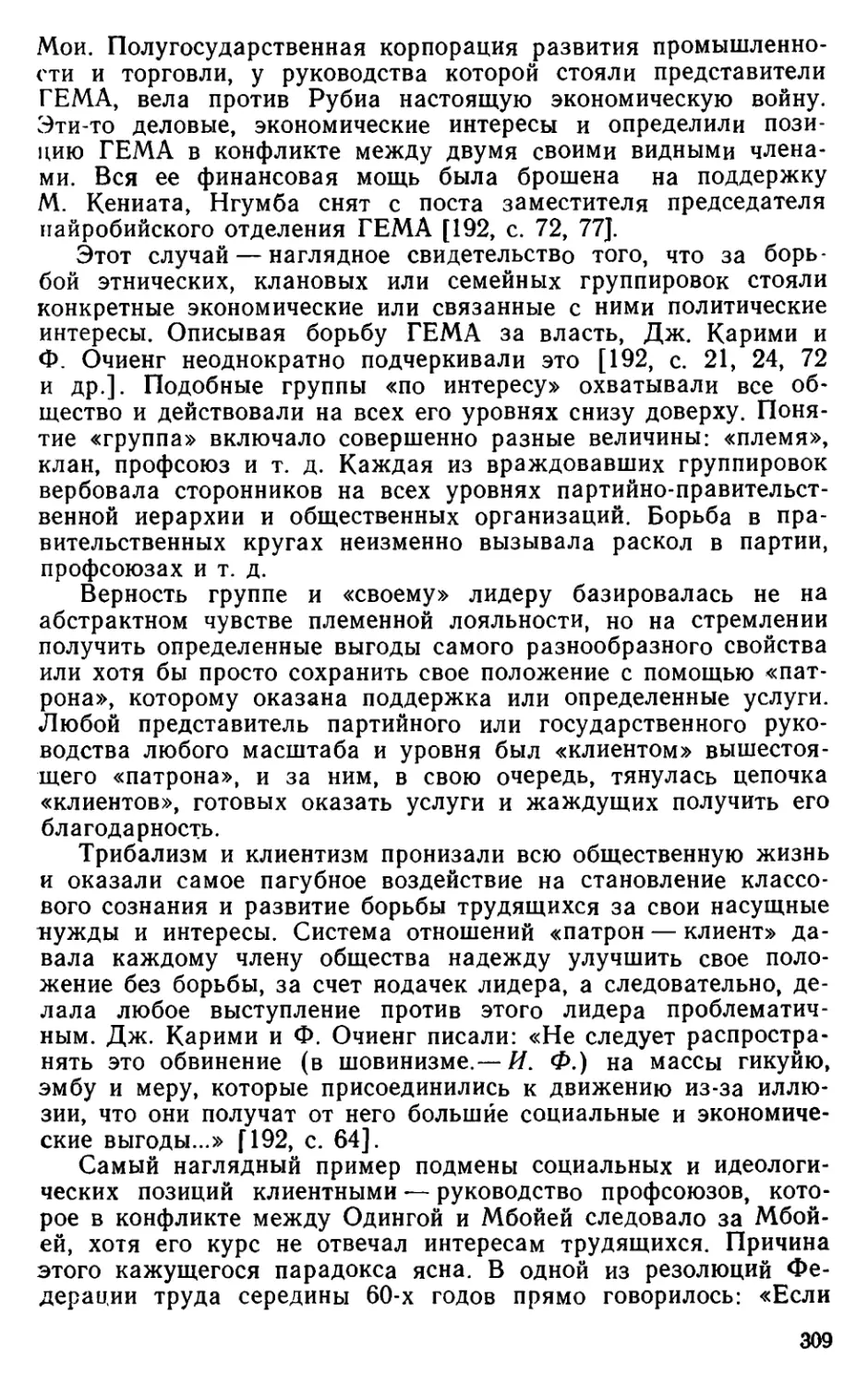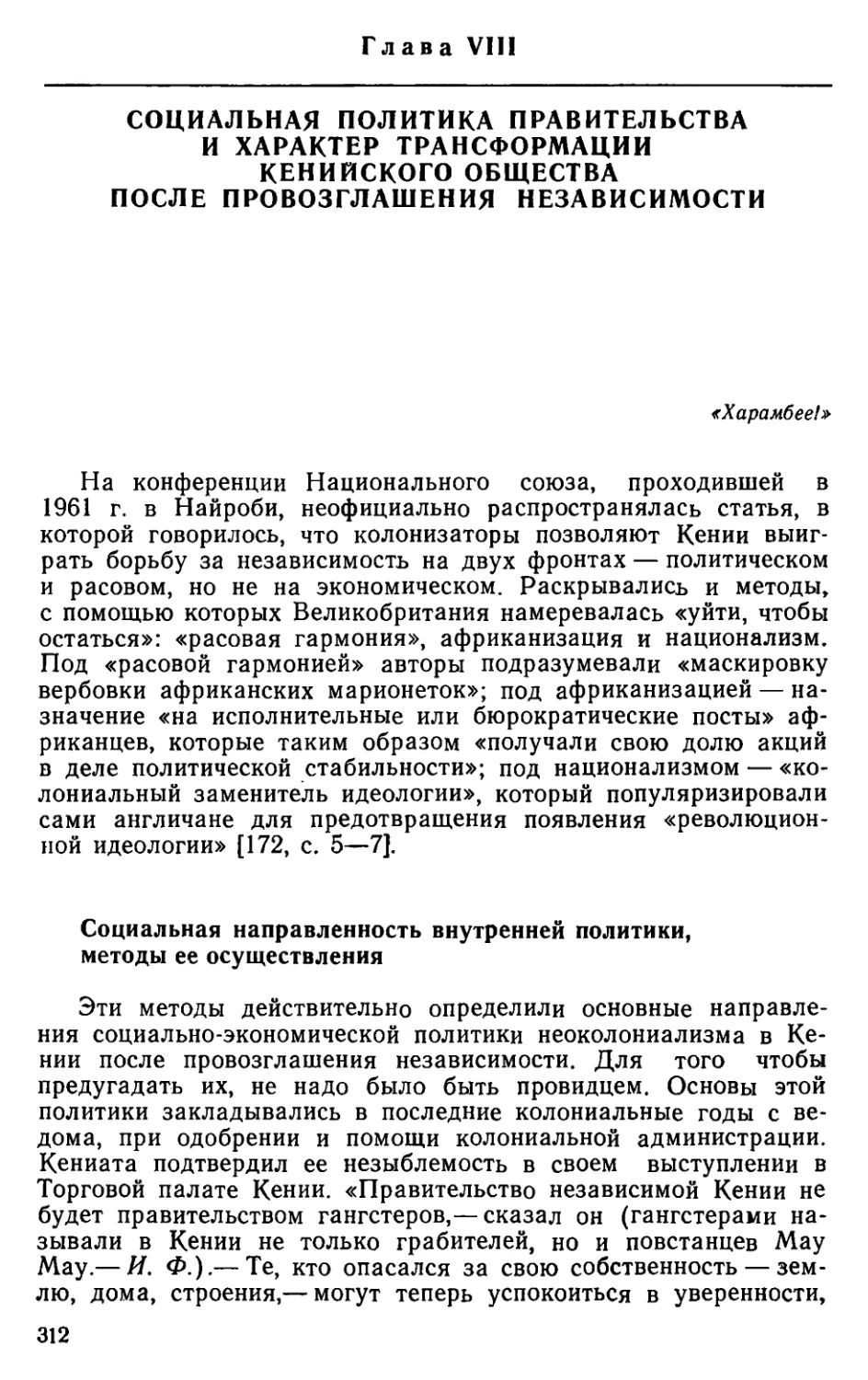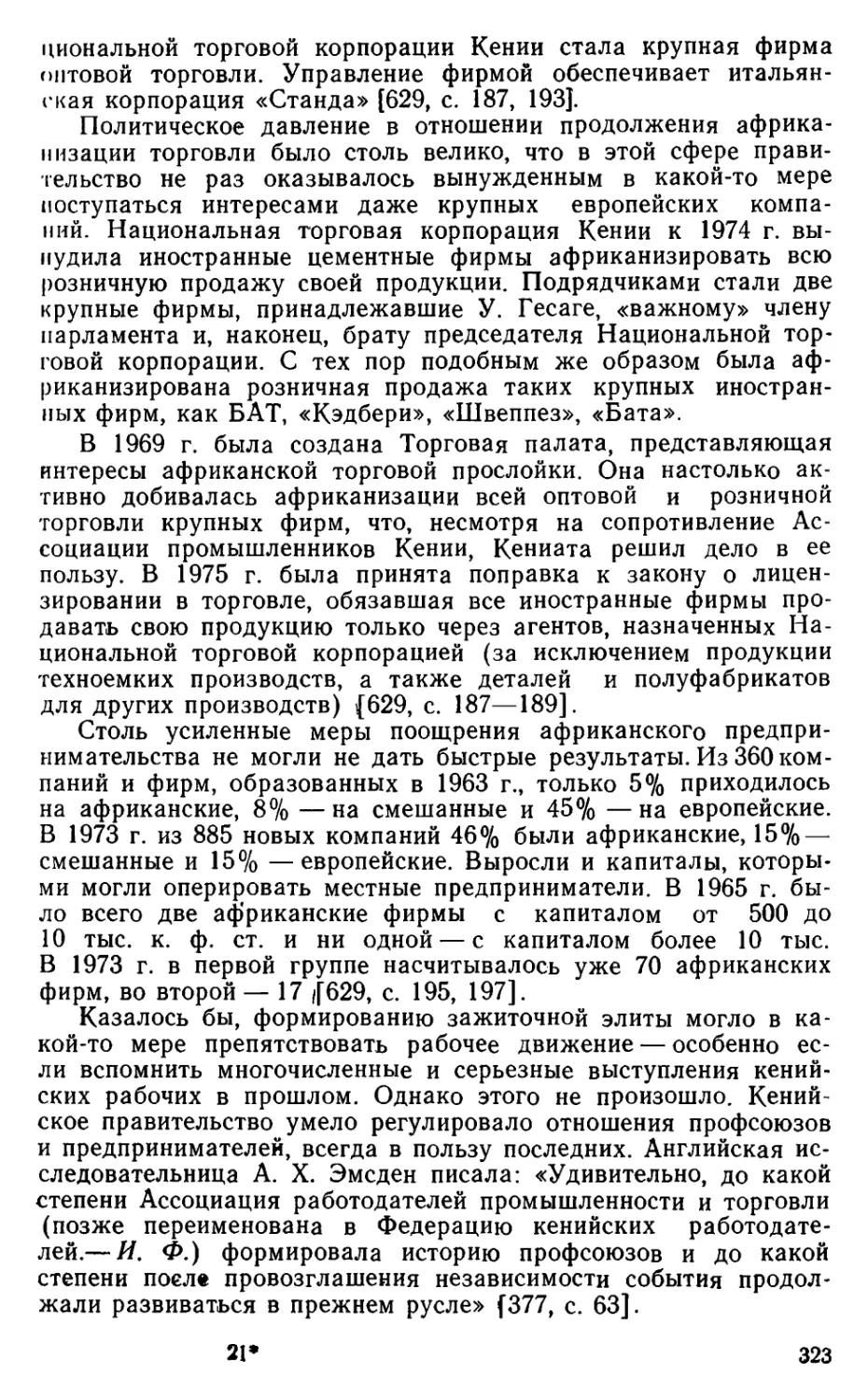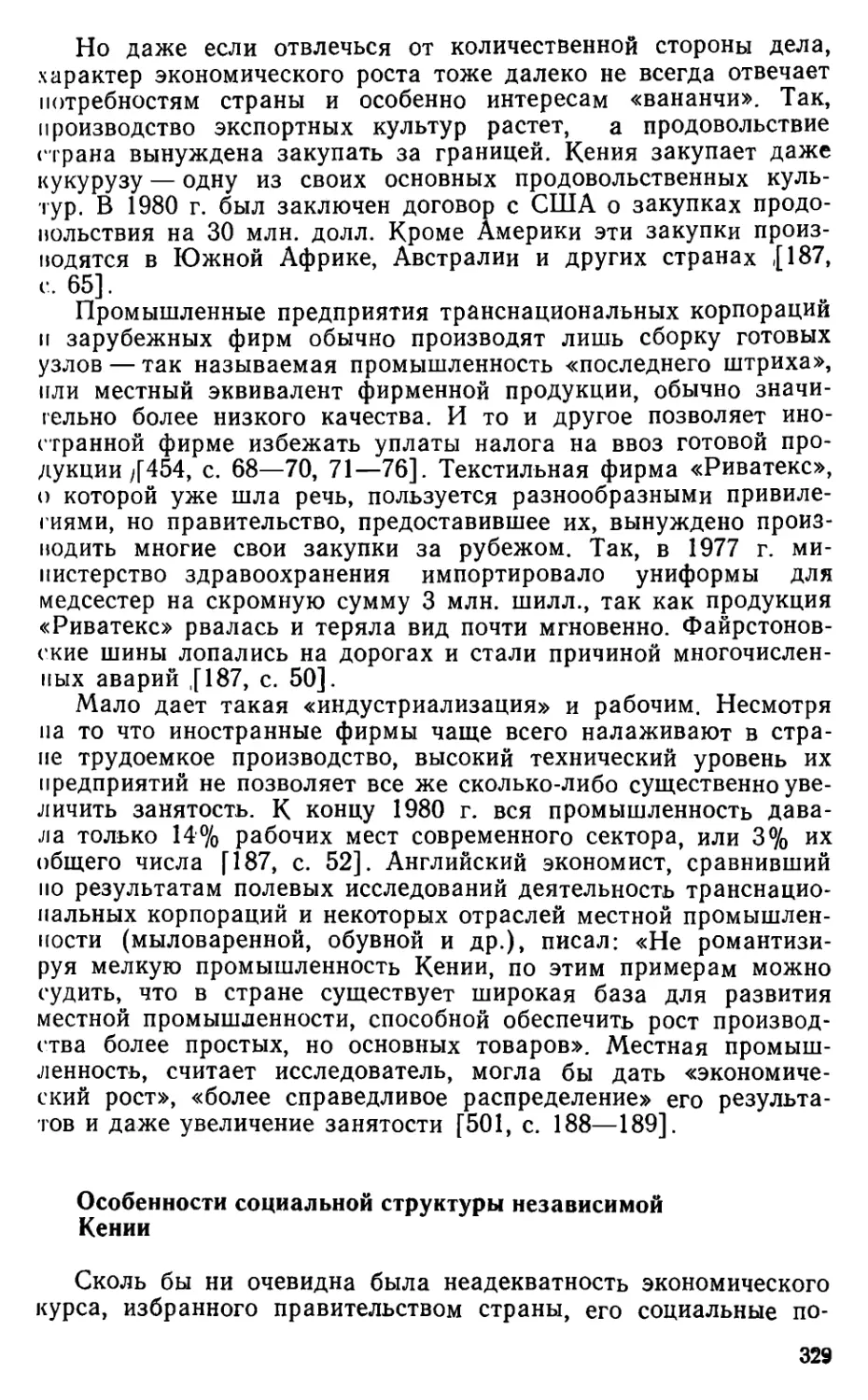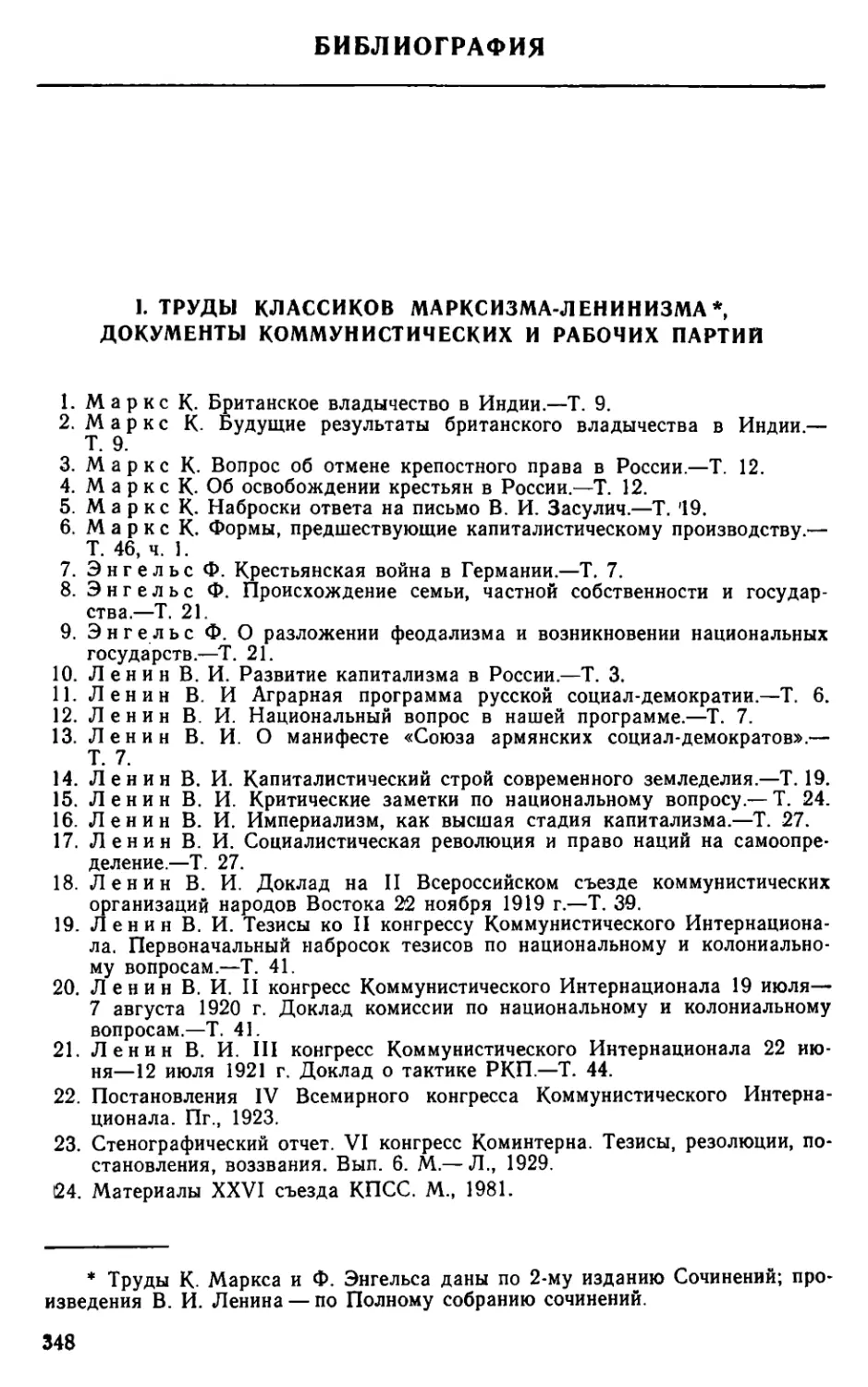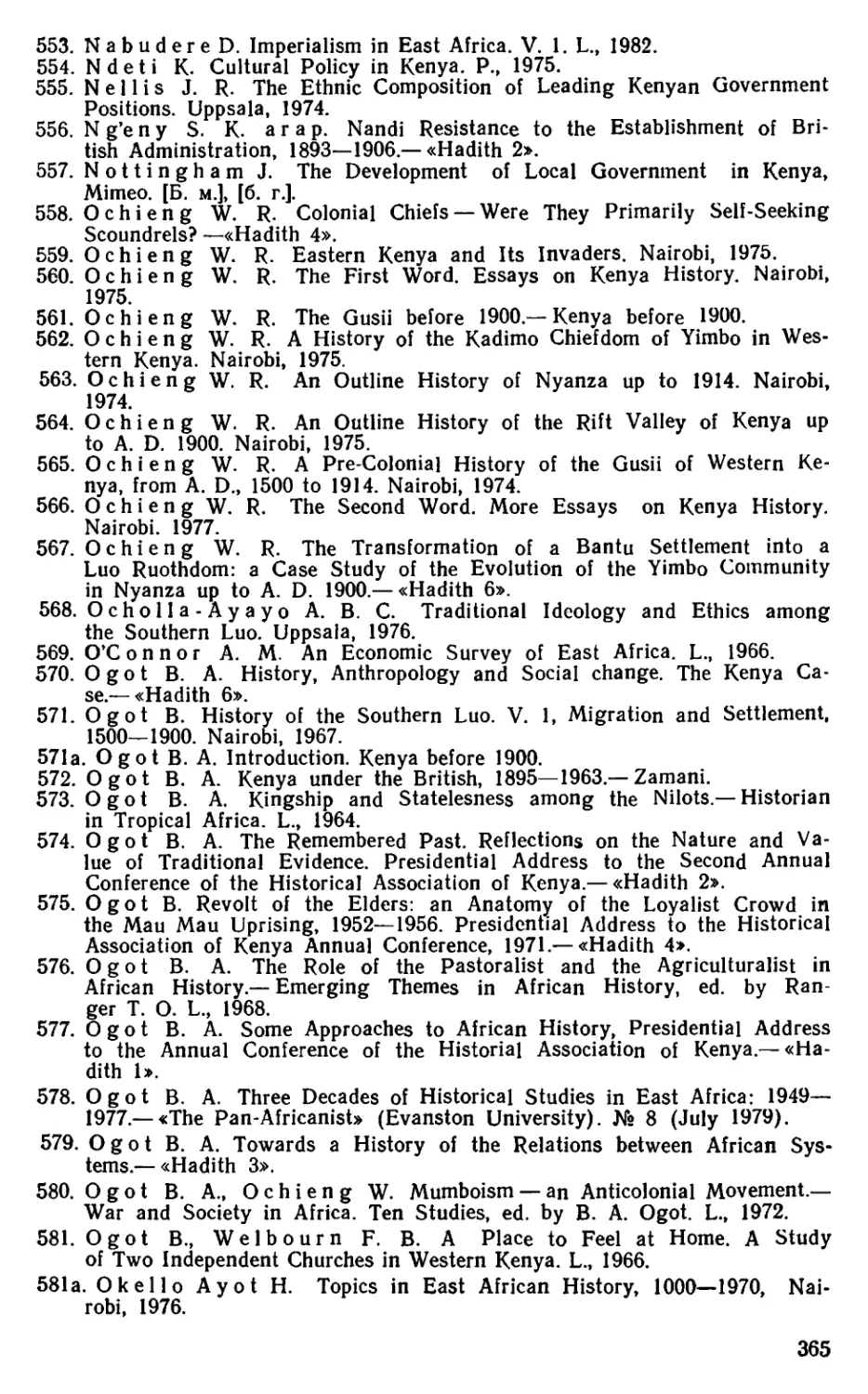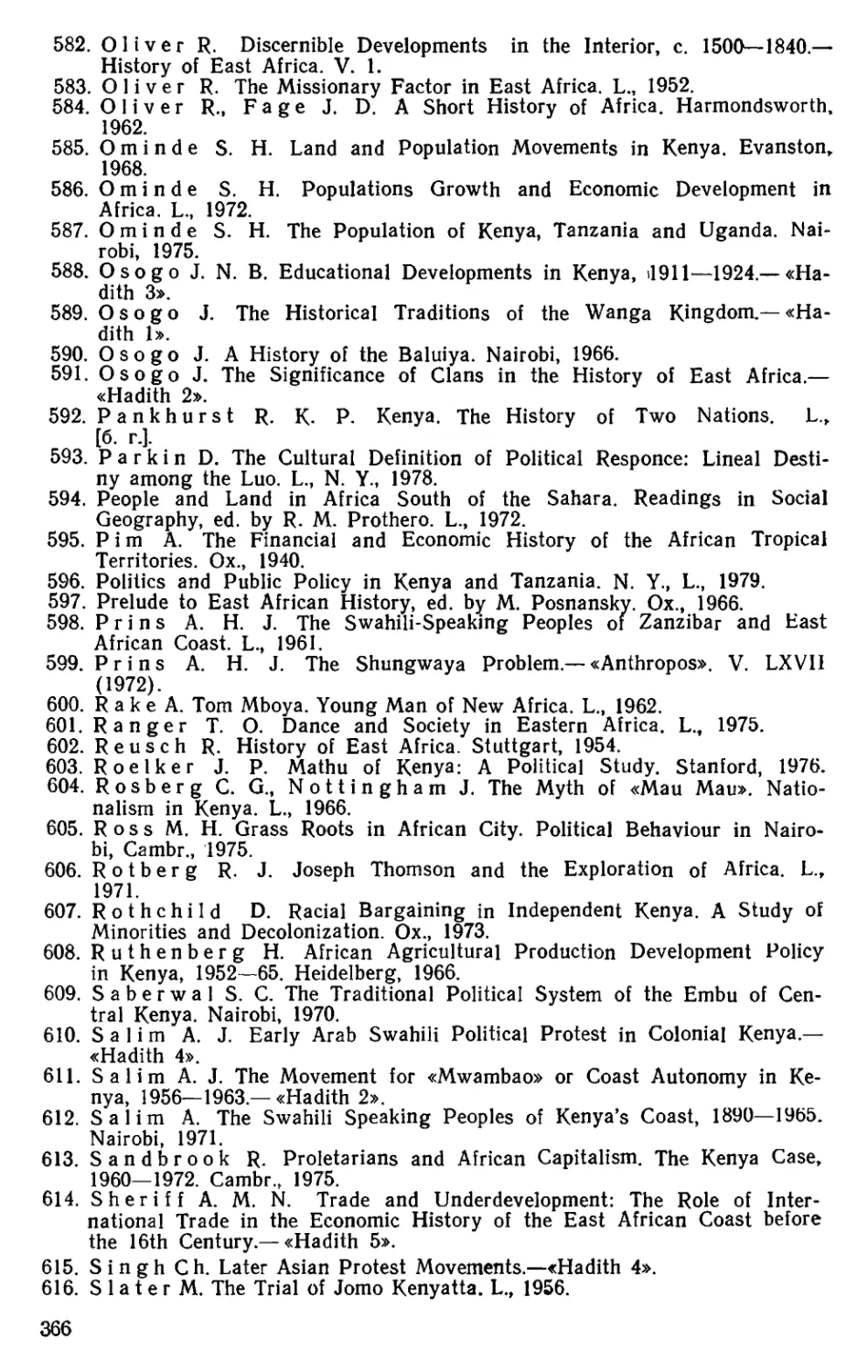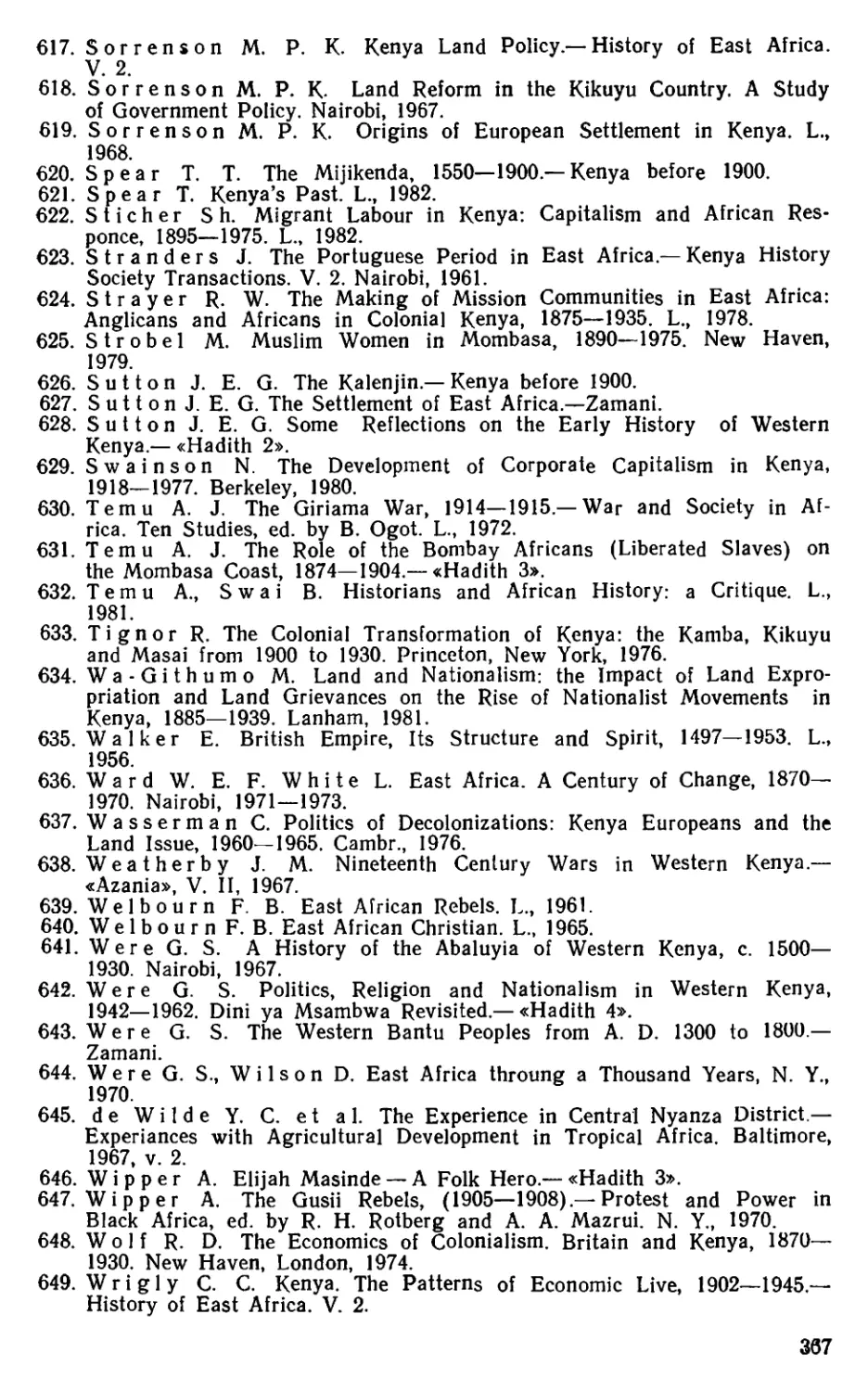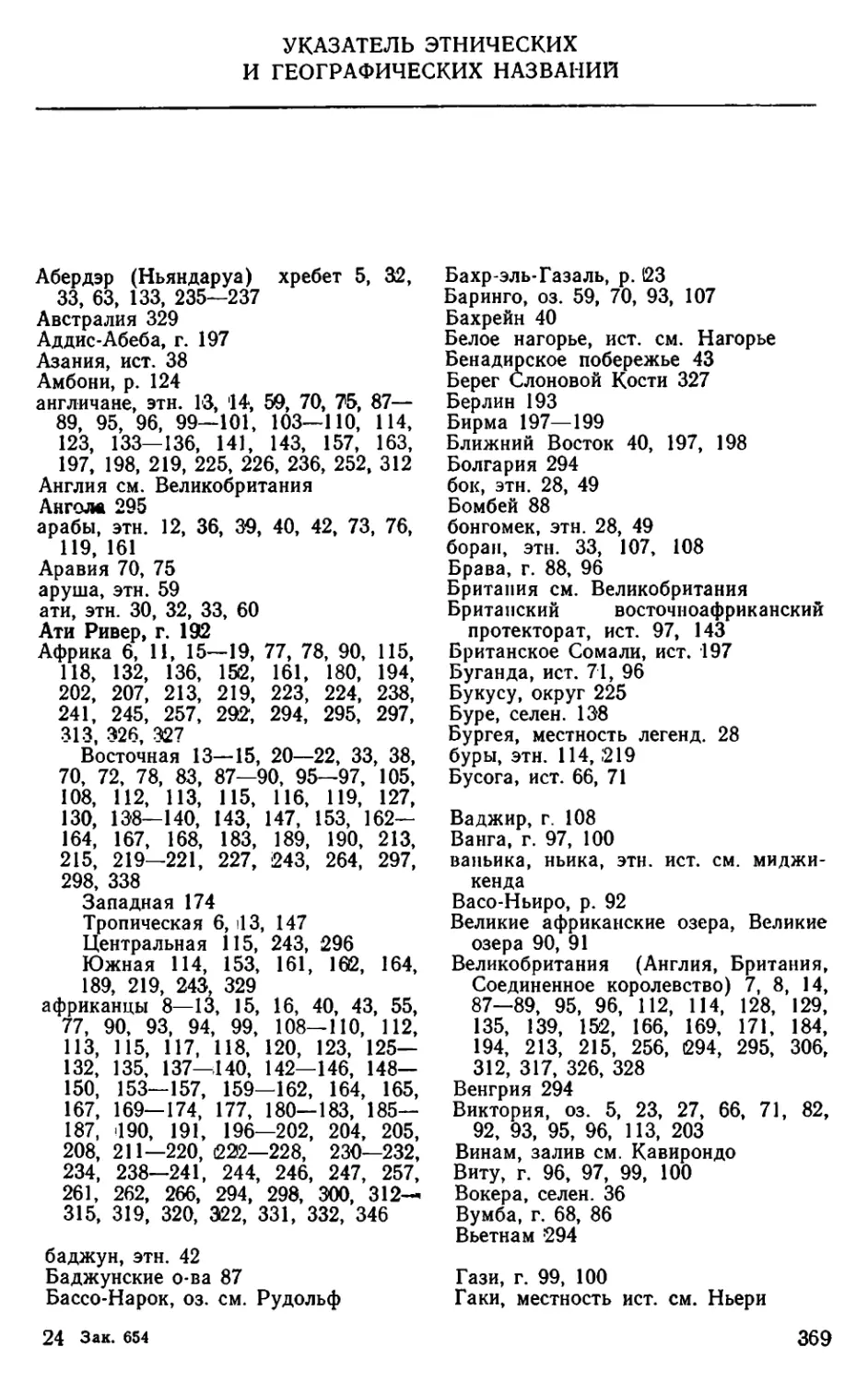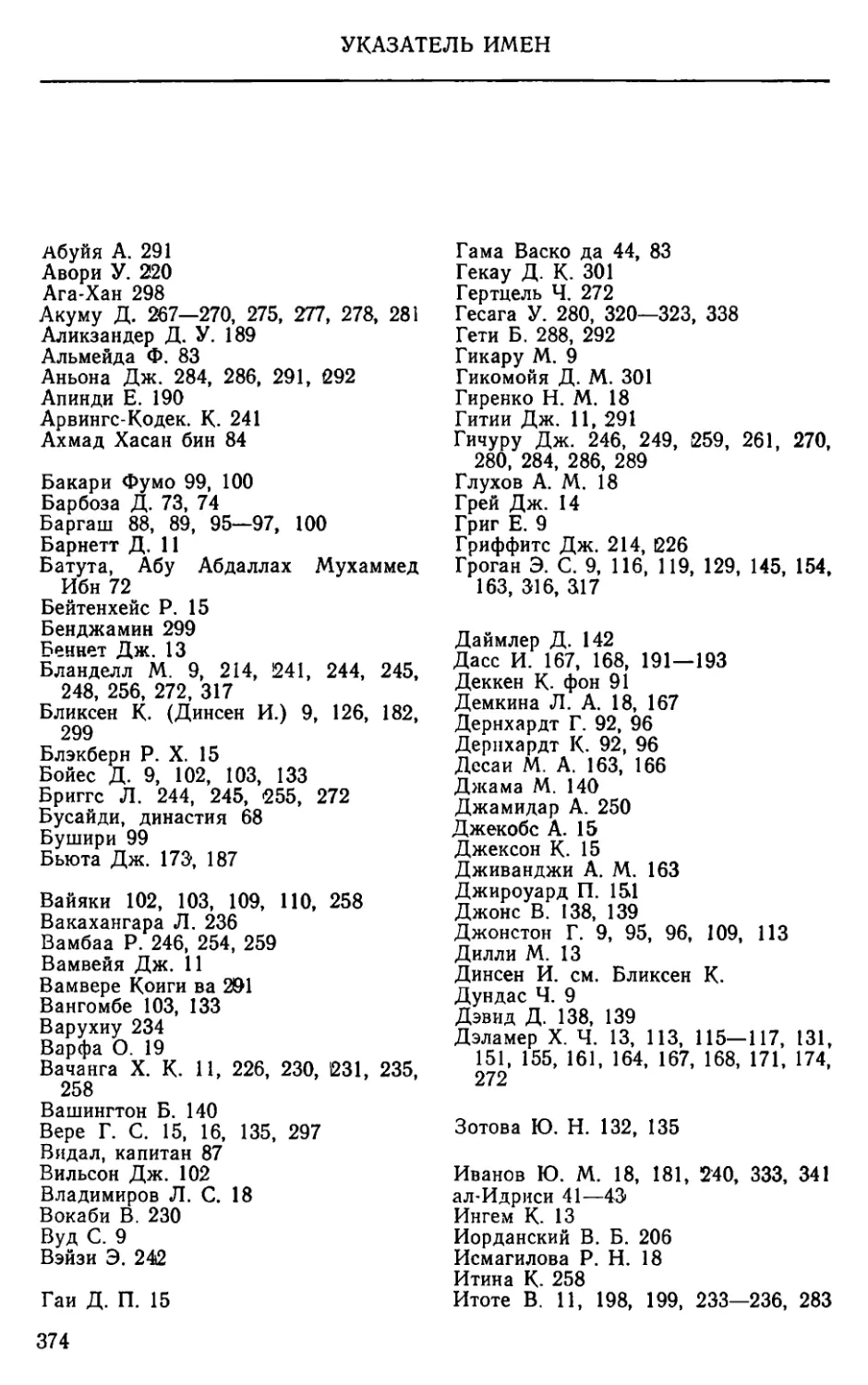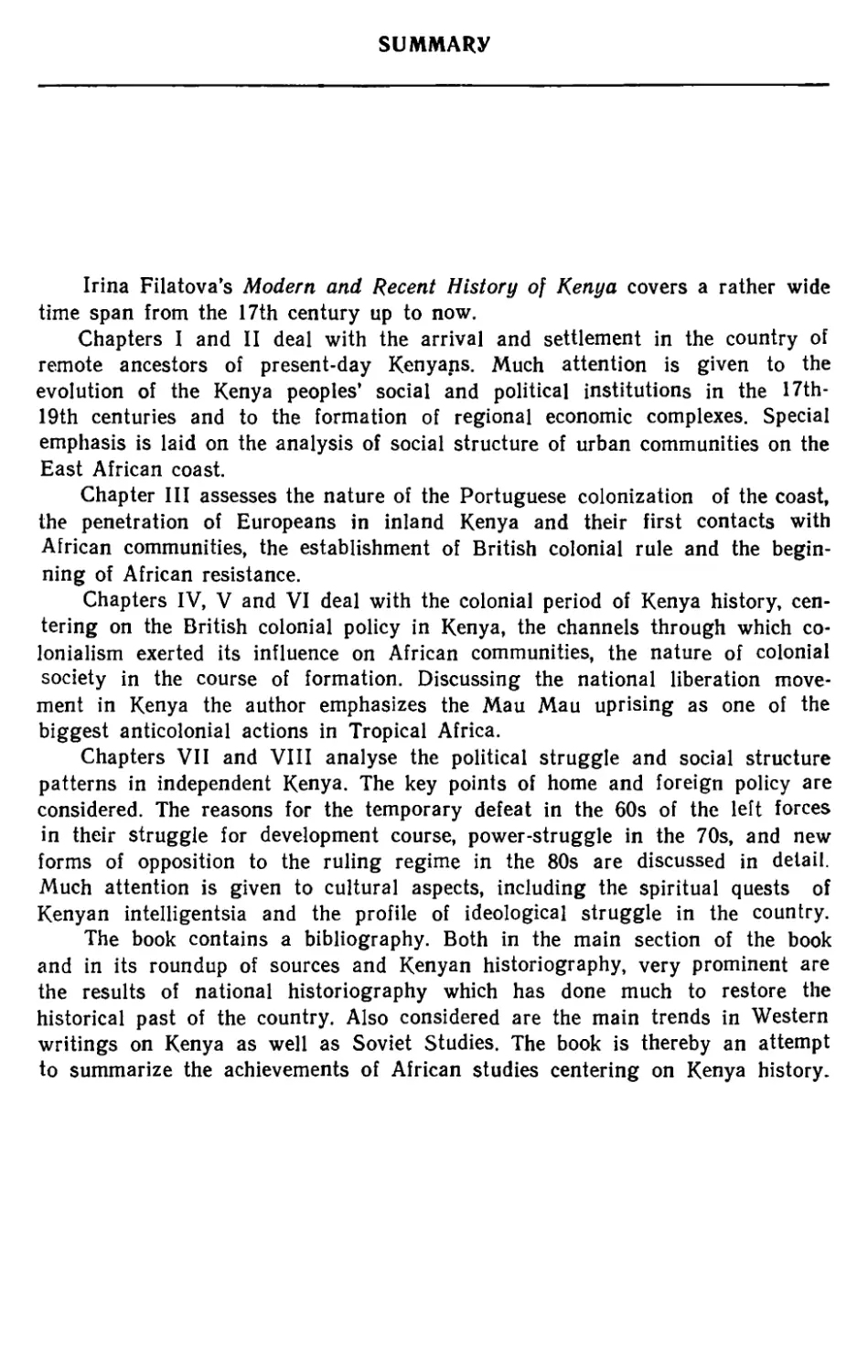Автор: Филатова И.И.
Теги: история новейшее время новое время история стран африки история кении
Год: 1985
Текст
г ^/УУ/у:У/УЛУу-
t .
ро:
.*•• •••• ■• .-.V ■•• ч • ■
ф и . .()>;•• и и
1 -А /
ч^- 1
1—OJ;
ЕЖ
I vd—
Ч- \ • 1
и То 1 (
о t « *■ ’
10^1
rrcd
\ГУРРЕ
Я
/
у
А .Н .-. Д:
ХАВ$Я\
\j \ бораН\
> )
4^3
/ ,f рщ / \-
-ген,^Ч
легч
м
■ //понотЛ
■ ■ ■J/ ! & .'Д
Г/ Г ./l н
-9
ч
y'-vj
• ■■ /лУ ■ *r
J Jy ©Какамега
Аден х
1
~\^ЛУИЯ $
Накуру^ ^ioV
1 ^
I
, О чоЭмбИ \
V Ньери ; <Ч/Ж| ч
V.
> ГИИУИЮ
\,-е^
у®НАЙРОБИч ч I
\ )) Л \1_
./ -*■ а- ,
$Vr
çy ||рГарисса
\
; ■ т, •'. А1
И . . .3
и
и
tn Ч,
)\ о V
60НИ \
лЬл,<^Е
°)т №
EH=H=a=VF=V1=r,=K=Vt=V<=
V
60 о ^■».1
60
J20'km
ИСТОРИЯ
СТРАН
АФРИКИ
Редакционная коллегия
Ан. А. Громыко (ответственный редактор) А. Б. Давидсон, P. Н. Исмагилова,
А. Б. Летнев, Д. А. Ольдерогге,
А. С. Покровский, Л. Н. Прибытковский, Г. Б. Старушенко, В. А. Субботин
И. И. Филатова
ИСТОРИЯ
КЕНИИ
в новое и новейшее время
Главная редакция восточной литературы Москва 1985
ББК.бЗ.З(Об) Ф 51
Редактор тома А. Б. ДАВИДСОН
В монографии рассматриваются основные этапы истории Кении. Проанализированы проблемы заселения ее территории и этногенеза, уровень развития и социальный характер цивилизации восточноафриканского побережья. Большое внимание автор уделяет особенностям английской колониальной политики, процессам становления национально-освободительной борьбы. Исследуются социально-экономическая политика руководства независимой Кении, проблемы современной идеологической и политической борьбы, развития культуры.
0504030000-086
Ф 35-85
013(02)-85
© Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1985.
ВВЕДЕНИЕ
Круг вопросов, рассматриваемых в этой книге, ее структура, хронологические рамки и периодизация подчинены замыслу серии «История стран Африки в новое и новейшее время».
Кения — восточноафриканская страна, впервые появившаяся на картах в конце XIX в. Слово «Кения» произошло от местного названия второй по высоте снежной вершины Африки — горы Кения (5199 м), расположенной в центре страны. Территория Кении составляет 583,6 тыс. кв. км, население — более 17 млн. человек. Почти посередине страну пересекает экватор, но далеко не везде здесь царит тропическая жара. Климат чрезвычайно разнообразен. Обширные районы на севере, северо-востоке и юге занимают пустыни и полупустыни. С севера на юг тянется ровная плоская засушливая, покрытая травами и редколесьем рифтовая долина — Рифт-Вэлли. С обеих сторон она окаймлена нагорьями. В восточной части нагорий находятся хребет Абердэр (высшая точка — 3999 м над уровнем моря) и гора Кения. Климат нагорий — умеренный, влажный, приближающийся к среднеевропейскому. На юго-западе, в районах, примыкающих к оз. Виктория, климат типично экваториальный: жаркий с постоянно выпадающими дождями. Севернее озера на западной границе Кении расположен потухший вулкан Элгон (4321 м). На побережье Индийского океана жаркий и влажный климат с резко выраженными сухими и дождливыми сезонами.
Территорию Кении населяют народы, объединяемые лингвистами в три большие группы: банту (гикуйю, эмбу, меру, кам- ба, суахили, миджикенда, гусии, луйя и др.), нилотскую (луо, календжин, масаи, туркана, доробо и др.) и кушитскую (сомали и оромо). Бантуязычные народы занимают юго-восточную и центральную часть страны, из них только луйя и гусии живут в Западной Кении, к северу и югу от глубоко врезающегося в территорию Кении залива Винам (Кавирондо) оз. Виктория. Народы нилотской языковой общности живут в засушливых северо-западных (туркана) и южных (масаи) районах, занимают территорию вокруг залива Кавирондо (луо), восточную часть центральных нагорий и Рифт-Вэлли (календжин). Кушитоязычные народы живут в северо-восточной части страны.
На территории Кении не было обнаружено крупных месторождений важных полезных ископаемых, после провозглашения независимости здесь не проводились радикальные преобразова¬
5
ния, не было пока ни междоусобных войн, ни переворотов — одним словом, всего того, что обычно привлекает внимание исследователей. И все же не случайно Кения — одна из самых изученных стран Африки. В доколониальную эпоху ее территория стала местом столкновения крупных миграционных потоков, анализ которых был необходим для восстановления картины этногенеза народов всего региона. На восточноафриканском побережье существовала самобытная суахилийская цивилизация, формационная принадлежность которой вызывала споры.
Многих исследователей привлекала специфика проблем истории Кении в колониальные годы, когда она стала «страной белого человека», «белой», т. е. поселенческой, колонией. Это -способствовало более глубокому, чем во многих других странах Тропической Африки, проникновению элементов капиталистических отношений в ее общественную структуру, наложило отпечаток на национально-освободительную борьбу, в том числе на возникновение и ход одного из немногих в Тропической Африке вооруженных антиколониальных восстаний (May May), а также в большой мере определило характер курса, избранного руководством страны после провозглашения независимости. Со циологов привлекали особенности общественной структуры Кении, которую неоколонизаторы попытались превратить в «витрину капиталистического развития» в Африке, экономистов — феномен высоких темпов экономического роста, превысивших за четверть века не только общеафриканские, но и средние мировые показатели, политологов — перипетии ее внутриполитической борьбы.
Главная тема этой монографии — трансформация африканских обществ Кении в новое и новейшее время. В той или иной степени эта тема позволяет затронуть все перечисленные выше основные проблемы истории страны. Кроме того, в соответствии с замыслом серии автор стремился обобщить новый материал по отдельным периодам и проблемам и дать его марксистский анализ, а также ознакомить читателя с основными достижениями мировой, прежде всего национальной, историографии по Кении.
Источники по истории Кении в новое и новейшее время многочисленны и разнообразны. Те из них, которыми удалось воспользоваться автору, можно разделить на несколько групп.
1. Свидетельства древнегреческих, а также средневековых арабских и португальских авторов, бывавших на кенийском побережье или обобщавших дошедшие до них сведения. Эта группа источников дает нерегулярные и порой трудноинтерпрети- руемые, но очень ценные сведения о возникновении и развитии суахилийских городов, их населении, экономическом, социальном и политическом устройстве, культуре, архитектуре. В сочетании с данными археологии, палеолингвистики и устной тра¬
6
диции они помогают восстановить целостную картину форми- рования и развития суахилийской цивилизации .[122; 123].
2. Исторические хроники и литературные произведения, созданные в городах восточноафриканского побережья. Хроники на арабском (автор пользовался английскими переводами) и суахили i[126], бытовавшие в городах побережья как в устной, так и в письменной форме, представляли собой собрания легенд и преданий устной традиции, династических списков,, комментариев рассказчиков и составителей. Они дают богатый материал по социальной структуре, экономическому развитию, хозяйственному устройству обществ восточноафриканского побережья, из них можно почерпнуть сведения о внутриполитических событиях и борьбе против иноземных завоевателей. Произведения суахилийской литературы, прежде всего тензи и ма- шаири, позволяют представить миропонимание жителей городов, их культуру [133].
3. Материалы устной традиции. За последние четверть века кенийские историки провели большую работу по сбору исторических преданий народов своей страны, их критическому анализу и осмыслению. Сейчас уже стали очевидны богатые и пока не до конца использованные возможности этого источника, позволившего уточнить многие факты и обогатить наши представления о прошлом кенийских народов.
В этой работе автор использовал доступные ему отрывки преданий, приведенных в работах кенийских историков (например, [544; 545; 551; 561; 562; 565; 571; 589; 590; 641] и др.), а также отдельные публикации/[132; 134 и др.], в основном в качестве иллюстративного материала, поскольку публикации эти носят отрывочный, несистематический характер.
4. Официальные публикации английского правительства, парламента, учреждений и ведомств Великобритании, а также кенийской колониальной администрации. Эти разнообразные по» содержанию и характеру документы (колониальные и статистические отчеты, доклады комиссий английского парламента и правительства, «синие» и «белые» книги и т. д.) дают бога.- тый материал по самым разным вопросам политической и экономической истории страны. Ценные сведения содержат, напри мер, официальные документы о восстании Мубарака [36], истории создания первого в Кении резервата (масайского) [44], а также колониальные отчеты за первые годы существования протектората [38; 39; 42; 45; 46; 48—56]. Статистические данные об экономике колонии и ежегодные обзоры важнейших политических событий содержатся в колониальных отчетах за более поздние годы [57]. Для характеристики экономического развития и социальной структуры Кении были важны отчеты департамента сельского хозяйства колонии j[75; 76] и сельскохозяйственные переписи [79; 80; 81].
Ценнейшим документом по системам землепользования африканских народов в доколониальные и колониальные годы и
7
по истории земельного ограбления африканцев Кении является трехтомный отчет комиссии, исследовавшей в 1931 г. проблему землепользования в Кении и опросившей десятки свидетелей (комиссия М. Картера) [70]. Важный источник по истории национально-освободительного движения как в межвоенный период, так и особенно в 40—50-е годы,— составленный по поручению парламента «Исторический обзор происхождения и развития May May» — так называемый отчет Ф. Корфилда [62]. Его составитель пользовался документами африканских политических организаций, стенограммами их митингов, информацией спецслужб, материалами африканской прессы. Некоторые сведения, приведенные Корфилдом, устарели, другие были намеренно искажены, однако документ содержит и данные, все еще остающиеся уникальными.
Авторы и составители этой группы документов — апологеты, •столпы и защитники колониализма, отсюда — крайний субъективизм в трактовке событий. Документы составлялись, однако, для практических нужд колониальной администрации, иногда — для служебного пользования, поэтому многие содержащиеся в них факты близки к действительности.
5. Официальные документы правительства и правительственных учреждений независимой Кении. Это прежде всего программа ее социально-экономического развития «Африканский социализм и его применение к планированию в Кении» [87]. Документ дает развернутое обоснование капиталистической ориентации, избранной руководством страны. Для характеристики экономического развития и социальной структуры независимой Кении важны планы экономического развития |[88], экономические и статистические обзоры i[85; 86].
6. Документы и материалы политических партий и других общественных организаций Кении, а также Великобритании, международных организаций, банков и т. д. Прежде всего это документы основных политических партий страны if97; 102; 106; 107; 113; 114; 119; 120], являющиеся ярким свидетельством острой идеологической борьбы в Кении как до, так и после провозглашения независимости. В эту же группу входят материалы английских общественных организаций о нарушении гражданских прав в Кении, особенно в годы восстания May May J91; 92; 95; 98; 101; 111; 116; 118].
Для характеристики состояния экономики Кении, а также методов проникновения в нее иностранного капитала были важны отчеты об экономическом и социальном положении Кении, в разное время составлявшиеся Международным банком реконструкции и развития, комитетами Организации Объединенных Наций и другими международными организациями [99; 100; 109; 121].
7. Свидетельства очевидцев и современников, мемуары, дневники и труды путешественников нового и новейшего времени, работы лидеров и участников общественно-политических орга¬
8
низаций. Эти источники многочисленны и разнообразны как по качеству, так и по позициям авторов. Труды и мемуары путешественников и миссионеров Г. Джонстона |[ 190], Л. Крапфа (198], Ч. Нью [226], Дж. Томсона [244], Л. Хёнеля [178] и других дают богатые, хотя и не всегда точные сведения этнографического и исторического характера. Ценный источник по проникновению европейцев во внутренние районы и установлению английского колониального господства — дневники и мемуары строителей английской колониальной империи в Восточ- пой Африке, таких, как Ф. Лугард >[210], Р. Мейнерцхаген [221], Дж. Портал [234], а также Д. Бойес f[ 148].
В работах колониальных чиновников Е. Грига [169], Ч. Дун- даса |[ 160, 161], У. Макгрегор Росса i[214], Ф. Митчела [222], Ч. Элиота {163] обсуждались конкретные события истории страны, эффективность тех или иных форм колониальной эксплуатации. Книги поселенцев — Б. Кренворта [156; 157] г
Э. С. Грогана [170], Дж. Липскомба ,[207; 208] и многих других отличает такая тенденциозность и грубая апология расизма, что они годятся в основном для характеристики взглядов самой поселенческой общины. Поток воспоминаний участников подавления May May (например, [173; 174]) дает немало примеров жестоких расправ над повстанцами. Мемуары М. Бланделла, поселенческого лидера 50—60-х годов [147], и близкой к нему по взглядам С. Вуд [252] содержат подробности идеологической обработки африканских политических лидеров перед провозглашением независимости. Выделяются — не по взглядам авторов, в этом смысле они типичны, но по художественным достоинствам — мемуары, переписка и публицистические произведения двух писательниц с мировыми именами, вышедших из поселенческих кругов Кении,— К. Бликсен (псевдоним— И. Динсен) ([159] и Э. Хаксли [181 —186].
Наиболее важны в этой группе источников воспоминания и труды африканцев — участников национально-освободительного движения в Кении. Первой была опубликована в 1934 г. книга студента восточноафриканского колледжа Макерере П.Г. Mo- кери «Африканец говорит от имени своего народа» |[223]. Ее автор выступил только против «поселенческого» колониализма в Кении, но все же критиковал царившие в колонии порядки. В 1938 г. вышла работа Дж. Кениаты «Лицом к горе Кения» [194], написанная под руководством известного представителя социальной антропологии Б. Малиновского. Кениата не только поднял голос в защиту культурных ценностей своего народа, но и в доступной для английской читающей публики форме обосновал совершенно необычную для нее в те годы мысль о том, что в доколониальные времена жизнь африканце» Кении была не хуже, а лучше, чем при колониализме.
Следующие работы появились лишь в 50-х годах. Это были переведенные на русский язык книги П. М. Коинанге ([136] и М. Гикару [135]. В них говорилось о подавлении восстания
9
May May и нарушении элементарных человеческих прав в Кении. В 60-х годах начали публиковать свои труды лидеры, боровшиеся за независимость конституционными средствами и вставшие у кормила власти после провозглашения независимости. Это сборник первых речей Кениаты, произнесенных им после возвращения на политическую арену i[196], и его вторая книга «Страдание без горечи» ([197]. Обе работы пронизаны одной мыслью: всем жителям Кении, к какой бы расе они ни принадлежали, какое бы социальное положение ни занимали и по какую сторону баррикад ни находились в годы восстания, нужно забыть былую вражду и простить друг друга во имя лучшего будущего. Тот же призыв к социальному миру — в книгах Т. Мбойи, лидера правого крыла Национального союза африканцев Кении, прежде всего в его программной работе «Свобода и после» ,[218].
Со второй половины 60-х годов начали выходить работы критиков складывавшегося в Кении режима и курса ее социально-политического развития. Это мемуары бывших лидеров левого крыла Национального союза африканцев Кении, основавших затем оппозиционный Союз народа Кении: О. Одинги «Еще не ухуру» [229] («ухуру» на суахили — свобода) и Б. Каггиа «Корни свободы» [191]. Главное расхождение авторов двух направлений африканской мемуарно-публицистической литературы заключалось в разном решении вопроса о том, какой должна быть независимая Кения. Но их позиции четко прослеживаются и в отношении к ретроспективе национально-освободительного движения, в частности к восстанию May May, ставшему лакмусовой бумажкой для проверки идейных позиций исследователей, писателей, политических деятелей. Мбойя, не осудив прямо восстание, все же подчеркнул свою приверженность к «мирным» средствам борьбы, что в кенийских условиях означало нежелание отождествить себя с восставшими. Одинга выразил солидарность с идеалами восстания и высоко оценил его роль в национально-освободительной борьбе.
Выступления первых оппозиционеров были подхвачены публицистическими произведениями Нгуги ва Тхионго: «Заключенный. Тюремный дневник писателя» [227] и «Дуло пера. Сопротивление репрессиям в неоколониальной Кении» |[228], работой .Дж. Карими и Ф. Очиенга «Наследование Кениате» [192], книгой анонимных авторов «Независимая Кения» [187]. Все эти работы, вышедшие в последние годы, содержат наблюдения авторов, их размышления о дальнейших судьбах страны, факты, (свидетельствующие об уродливом характере неоколониального развития Кении, эксплуататорской сущности установленного в лей режима.
На протяжении всего периода независимого развития страны выходили воспоминания участников движения и повстанцев May May. Эту серию работ открыла книга Дж. М. Кариуки «Заключенный May May» [193]. За ней последовали воспоминания
*0
Ч/к. Вамвейи «Борец за свободу» [250], X. К- Вачанги «Мечц Кириньяги. Борьба за землю и свободу» /[248], В. Итоте «Генерал May May» [188], Н. Кабиро «Человек посередине» [215], М. Мату «Городской партизан» [247], К. Нджамы (в соавтор- гтпе с Д. Барнеттом) «May May изнутри» [143]. Большинства н а них объединяет гордость за борьбу и свою роль в ней, горечь поражения, недоумение по поводу призыва Кениаты «заныть и простить». Эти мемуары вносят ценный вклад в восстановление полной и объективной картины самой яркой страницы национально-освободительной борьбы.
8. Материалы прессы. Событиями в Кении на протяжении мсей ее истории интересовались крупнейшие органы буржуазной печати, такие, как лондонские «Таймс», «Экономист», «Фай- неншл тайме», «Гардиан», «Обсервер», нью-йоркские «Тайм» » «Ньюс уик» и др. Они давали подробные подборки материалов о событиях в стране. Наибольшим подспорьем в работе над. этой монографией оказались материалы прессы по независимому периоду. Обычно буржуазная пресса освещает события и факты с позиций защиты неоколониального курса страны. Однако порой в ней проскальзывают материалы разоблачительного* характера. Так, тиражи номеров «Таймс», посвященных доходам! клана Кениаты [292, 10, 17.V1I1. 1975], были конфискованы на кенийской таможне и распространение их в стране запрещено.
Из английских периодических изданий по Африке оказались наиболее полезными хорошо осведомленный еженедельник «Ист Африка энд Родезия», публиковавший, в частности, в 60-е годы некоторые документы политических партий Кении, а также «Африка конфиденшиэл», «Африкен бизнес», «Нью африкен».
Большой фактический материал можно почерпнуть в кенийских газетах «Ист африкен стандард» (с 1974 г. «Стандард»), «Дейли нейшн», «Кения уикли ньюс» и еженедельнике «Уикли ревью». Почти вся кенийская пресса контролируется иностранным капиталом — отсюда ее в целом пронеоколониальные позиции. Однако она все же сохраняет еще демократические традиции времен борьбы за независимость и отражает порой рост недовольства общественности страны правящим режимом. Так, по политическим причинам был уволен главный редактор газеты «Стандард» Дж. Гитии; в 1983 г. по тем же причинам Национальный союз африканцев Кении купил газету «Найроби тайме» и превратил ее в центральный орган правящей партии [297а, 1983—1984, с. 460].
Среди источников этой группы важное место занимают периодические издания коммунистических партий: газета английской коммунистической партии «Дейли уоркер» (затем «Мор- нинг стар»), уделяющая большое внимание африканским проблемам, журнал Южно-Африканской коммунистической партии «Африкен комьюнист», где всегда можно найти политически заостренную оценку событий.
9. Художественные произведения кенийских авторов, как аф-
М
риканцев, так и европейцев. Романы и пьесы Нгуги ва Тхионго [312—316; 323—327], М. Мванги [308—311; 322], Л. Киберы <[319], Ч. Мапгуа -[320; 321] и других писателей страны затрагивают социальные вопросы, посвящены таким наболевшим и нерешенным проблемам кенийской действительности, как человеческие судьбы в восстании May May, роль восстания в истории и сегодняшней жизни страны, маленький человек в жестоком мире нищеты и эксплуатации. Произведения кенийских писателей помогли автору понять направление духовных поисков прогрессивной африканской интеллигенции. Кроме того, они дали конкретный материал по становлению и развитию общественной мысли и национальной культуры в стране. Колониальная литература, связанная с поселенческой средой — романы Н. К. Стрендж [333], Р. Руарка [328; 329], Э. Хаксли [318],— дала представление о мире повседневного расизма, социальной и национальной ненависти.
Изучение истории Кении началось в середине XIX в. публикацией хроник восточноафриканского побережья и материалов этнографического характера, собранных европейскими путешественниками и миссионерами. С конца прошлого века эти сведения начали обобщаться социальной антропологией и историографией. Внутренние районы были полем деятельности антропологов, поскольку считалось, что их жители находятся на «этнографическом уровне развития» <[632, с. 21]. Города побережья удостаивались внимания историков, однако представители колониальной историографии полагали, что цивилизация побережья была создана не местным населением, а выходцами из стран Востока, в первую очередь арабами. В обоих случаях, таким образом, африканские народы были сочтены «неисторическими». Б. Малиновский объявил, например, что африканская история представляет собой в лучшем случае «неадекватную мифологию» |[632, с. 20]. Подобная точка зрения с незначительными модификациями доминировала в колониальной европейской историографии до середины 50-х годов.
Однако изучение отдельных черт культуры, верований и социальной организации африканских народов антропологами (чаще всего — любителями из колониальных чиновников) все же шло. Были опубликованы работы X. Ламберта [499], К-Г. Линд ■блома [509], Г. Хантингфорда [465—467; 469], С. У. Хобли [176] и др. Собранные данные интерпретировались в этих исследованиях в расистско-колониальном ключе, свидетельства «прогресса» считались привнесенными с севера в соответствии с европоцентристской концепцией истории и хамитской теорией. В основу этногенеза были положены заимствования и смешение в ходе миграций, скотоводы считались более развитой со циальной общностью, чем земледельцы, население было разде лено на «племена» с четко выраженными и отличными от других «племен» чертами культуры, быта, психологии, хозяйственного и социального устройства.
12
По истории восточноафриканского побережья было опубли- мтаио несколько сборников документов и обобщающие труды С X. Штиганда «Страна зинджей» [243] и Дж. Штрандеса • Португальцы, немцы и англичане в Восточной Африке» (1899 г.). Наиболее подробно история восточноафриканского побережья была изложена в двух хорошо документированных работах Р. Купленда «Восточная Африка и ее завоеватели»
| ИЗ] и «Эксплуатация Восточной Африки» [414]. В них автор обобщил обширный материал, однако города побережья остались для него дальней периферией арабского мира, а их история— цепью завоеваний, закономерным завершением которой была английская колонизация.
В 20—30-е годы, с укреплением колониального режима, в колониальной историографии появилась еще одна тема — описание деяний белого человека в Африке. Поселенцы и администрация представлялись в этих работах носителями экономического, социального и политического прогресса, африканцы выступали лишь как объект исторического процесса. Сопротивление установлению колониального господства замалчивалось, уровень социального развития африканцев принижался. К научным трудам такого рода относятся биография лидера поселенческой общины лорда Дэламера [470] и история Ассоциации кенийских фермеров i[471] Э. Хаксли, книга американского историка М. Дилли, посвященная политической борьбе внутри европейской общины .[417], и др.
Все эти направления колониальной историографии межвоенных лет получили дальнейшее развитие в 40—60-е годы. Так, традиции М. Дилли были продолжены Дж. Беннетом '[388], который в работе под названием «Политическая история Кении» фактически обошел молчанием крупнейшее событие этой истории — восстание May May и лишь слегка затронул становление африканских политических партий. В духе и на базе трудов Купленда и работ социальных антропологов были написаны вышедшие во второй половине 50-х — начале 60-х годов обобщающие труды по истории Восточной Африки К. Ингема [473], Р. Рёйша [602], 3. Марша и Г. Кингснорта [520].
В первой половине 60-х годов появились два тома оксфордской «Истории Восточной Африки». Первый из них вышел под редакцией Р. Оливера и Г. Метью в 1963 г., второй — под редакцией В. Харлоу и Е. М. Чилвер в 1965 г. Патриарх национальной историографии Кении Б. Огот писал о первом томе: «Впервые была сделана серьезная попытка написать историю Восточной Африки, а не ее завоевателей... Более широко, чем до сих пор, использовались данные археологии и устной традиции... Ее («Истории».— И. Ф.) появление стимулировало дискуссию вокруг вопросов методологии и содержания, результатом которой стали более детальные исследования по отдельным группам и регионам» {571а, с. XV—XVI].
Оксфордская «История Восточной Африки» действительно
13
стала важным событием в развитии историографии Восточной Африки, однако все же вряд ли правомерно называть ее «скачком в новую историографию», как это сделал Б. Огот [571а,. с. XV]. Историк и сам нашел повод для серьезной критики: отметил возрождение «хамитского мифа» Г. Хантингфордом, «традиционность» трактовки истории побережья Г. С. П. Фримен-Гренвиллом и Дж. Греем.
К этому можно многое добавить. В работе бросается в глаза субъективизация и психологизация «племен». М. Кьевьет- Хемфил писала, например, что гикуйю «традиционно... горды и агрессивно враждебны по отношению к внешнему вмешательству» |[486, с. 415]. У «нило-хамитов» и «хамитов», сообщал Дж. Миддлтон, «не было иных амбиций, кроме того, чтобы их оставили в покое и дали возможность красть и пасти скот и верблюдов» |533, с. 335]. Доколониальная история отдельных районов выглядела цепью набегов, переселений, войн: «В районе Кавирондо нанди и кипсигис... нападали на племена Ньян- зы... Кейо вытеснялись с пастбищ на нагорья, а туген занимали более низкие районы к югу и востоку от холмов Камасия. Луо, страдающие от набегов кипсигис и нанди, уходили к северу и к югу от долины Ньяндо...» и т. д. [486, с. 418—419].
Немногим лучше обстояло дело и с изучением работорговли, колониального раздела и колониального периода в истории Кении. Дж. Грей в разделе об истории конца XIX в. подчеркивал роль французской и арабской работорговли, а англичан представлял борцами за «гуманизм» [447]. В статьях Дж. Флинта и М. Кьевьет-Хемфил доказывалось, что Великобритания не собиралась вступать в борьбу за колонии, но ее подтолкнули другие великие державы. В то же время установление колониального господства рассматривалось как естественное развитие и следствие предыдущих событий [431; 486]. К. Райли относил ухудшение качества африканских пастбищ в колониальные годы исключительно за счет увеличения численности стад в результате борьбы европейских ветеринаров с эпизоотиями [649, с. 236]. Он же писал, что гикуйю немало получили от установления колониального господства: были прекращены их войны с масаями, они заняли масайские пастбища и потому не страдали от истощения почв до начала 30-х годов [649, с. 255].
Перечисленные примеры свидетельствуют о том, что оксфордская «История» является плотью от плоти колониальной историографии. Однако она готовилась и публиковалась в тот период, когда новые тенденции начали набирать силу, и ее авторы не могли не подпасть под их влияние.
Развитие «новой» историографии началось со второй половины 50-х годов. Она не представляла собой единого течения исторической мысли, но ей все же были свойственны некоторые общие черты и сходные цели. Видные африканские историки — танзанийцы А. Тему и Б. Сваи, посвятившие анализу «новой» историографии специальную работу [632], сформулиро-
14
пали ее новые (по сравнению с историографией колониальной) черты так: «Постколониальные историки-африканисты утверждали, что у Африки было прошлое, достойное изучения»; «они хотели показать способность доколониальных африканских обществ к „рациональной" реакции на внешние и внутренние гтимулы трансформации»; «в доколониальном периоде они показали, каким чудом была Африка»; «они также показали ипо тонкость африканской инициативы в колониальную эпоху» (в понятие «инициативы» включалось и сопротивление колониальным захватам) /[632, с. 21—23].
Тему и Сваи считают, что «постколониальная историография Африки была идеологическим ответом своей предшественнице», «идеологической альтернативой колониальной историографии» || 632, с. 18—19]. В то же время они подчеркивают, что «на концептуальном уровне африканистика остается частью буржуазной историографии, несмотря на все попытки доказать обратное» )f632, с. 99].
Достижения «новой» историографии в исследовании истории Кении несомненны. В 1968 г. была издана коллективная монография «Замани. Обзор истории Восточной Африки» >[376], представлявшая собой первую попытку переосмыслить историю региона, прежде всего доколониальную. Кенийские ученые издали ряд монографий по доколониальной истории отдельных пародов. Эти труды были написаны ими на обширной Источниковой базе, в том числе материалах устной традиции. Б. Огот посвятил свою монографию доколониальной истории луо [571], В. Р. Очиенг — истории гусии [565], Г. Муриуки — гикуйю [544], X. А. Мванзи — кипсигис [551], Дж. Осого {590] и Г. С. Вере [641] —луйя.
«Новая» историография не была творением только истори- ков-африканцев. Во второй половине 60-х — начале 70-х годов появились написанные с антиколониальных позиций работы М. П. К. Сорренсона {618; 619] об истории белого поселения в Кении, К- Розберга и Дж. Ноттингема >[604], а также Р. Бей- генхейса {401] о May May, Д. П. Гаи и Дж. Макослана {444] о колониальном законодательстве в Кении. Зарубежные историки занимались также и сбором устной традиции и описанием доколониального прошлого кенийских народов. Дж. Фадиман записывал предания меру [429], А. Т. Матсон — нанди {523 Т. Спиар — миджикенда [620], P. X. Блэкберн — доробо 394 Дж. Саттон — календжин /[626], К. Джексон — камба {474^ А. Джекобе — масаи [476]. В 1976 г. был опубликован сборник «Кения до 1900 г.» [394 и др.], суммировавший собранные сведения о доколониальной истории народов центральных районов страны.
Важным вкладом в развитие «новой» историографии стала публикация сборников докладов, зачитанных на конференциях Исторической ассоциации Кении — «Хадиф». Кроме тем по доколониальной истории в них освещались различные проблемы
15
национально-освободительного движения f437; 524: 542J, «реакции» африканцев на колониальное господство {458], социальной трансформации африканских обществ как в доколониальную, так и в колониальную эпоху If453; 487; 489]. Эти публикации во многом изменили характер изучения истории Кении, особенно доколониальной. Пафосом «новой» историографии была устная традиция, позволившая значительно обогатить доколониальную историю некоторых народов страны и продвинуть изучение истории национально-освободительной борьбы [580; 630: 631] и становления национального самосознания [381; 382; 561].
Но именно большой ролью устной традиции в «новой» историографии объяснялись и многие ее минусы. Как пишут Тему и Сваи, «проблема африканской истории была низведена до вопроса о данных устной традиции...» [632, с. 99]. Уже в начале 70-х годов выяснилось, что «новая» историография не свободна и от других недостатков. Если «колониальная историография отрицала существование африканского прошлого, чтобы идеализировать колониальную эпоху», то «африканская постколониальная историография вместо этого искажала прошлое в угоду прославлению доколониальной эпохи, а по аналогии — и постколониальной эры» |[632, с. 64].
Раздувание роли африканской «инициативы» в колониальный период приводило к тому, что европейские колонизаторы оказывались в тени и как бы не участвовали в происходивших событиях. Ставшая классической книга «Миф о May May», написанная английскими исследователями К. Розбергом и Дж. Ноттингемом [604], трактует антиколониальное движение как совершенно самостоятельное, вырванное из колониального контекста явление. А. Тему в статье об освобожденных рабах подчеркивает их популярность в африканской среде и роль в создании миссий во внутренних районах, отрешившись от того факта, что они были проводниками колониального влияния [631, с. 63].
В решении многих проблем истории Африки «новая» историография несла на себе родимые пятна «старой». Так, в статье Г. Ходжеса «Реакция африканцев на европейское господство в Кении», помещенной в одном из сборников «Хадиф», доказывается, что все тенденции социальной и политической трансформации африканских обществ в колониальную эпоху существовали в доколониальные времена и что колонизация лишь ускорила уже шедшие процессы [458, с. 87—92, 100]. Некоторые кенийские историки, в том числе Дж. Осого г[590] и Г. С. Вере {641], настойчиво оправдывали колониальных вождей. Другие вторили колониальной историографии в субъективизации действий «племен». Так, С. К. арап Нгени писал, объясняя феномен сопротивления нанди колонизаторам: «Нанди в душе были очень воинственным народом, и молодежь отчасти видела в сопротивлении спорт» [556, с. 114]. Почти укладывается в рамки
колониальной историографии оценка некоторыми иоториками- коиийцами восстания May May. В. Р. Очиенг и Б. Е. Кипкорир писали, например: «May May — определенно не националистическое движение... (У него) не было национальной программы... Поэтому важно правильно оценить May May как дело в основном гикуйю» ([280, т. V, 1977, № 2, с. 303]. Б. Огот тоже недвусмысленно отказался ассоциировать May May с кенийским национализмом [280, т. V, 1977, № 2, с. 172].
Так являлась ли в конечном итоге «новая» историография той «историографической революцией», которой называли ее в момент расцвета? Вряд ли можно ответить на этот вопрос точнее, чем это сделали Тему и Сваи: «Революция в изучении Африки была предназначена для того, чтобы удержать африканистику в русле буржуазной историографии. В этом отношении декларированный ею разрыв с колониальной историографией — миф, но миф полезный для создания иллюзии независимости...» J632, с. 98]. «Идеологическое» противостояние колониальной и «новой» историографии — это в конечном итоге противостояние колониальной и неоколониальной тенденций в историографии.
Испытав разочарование в «новой» историографии, молодые историки-африканисты как в Европе, так и в Африке начали искать новые темы, методику и методологию работы. Направление их поисков в Кении отразила позиция, занятая в дискуссии о характере May May Маиной ва Киньятти {280, т. V, 1977,. № 2, с. 287—311], оценки и размышления, содержащиеся в работе Дж. Карими и Ф. Очиенга [192] и книге «Независимая Кения» {187]. Они вобрали в себя критический анализ политических событий в стране, элементы общенационального патриотизма, антиимпериализма, классового подхода к анализу политических проблем.
В Европе и Америке поиски пошли в направлении, впервые указанном социологом и политологом К. Лейсом. Его монография «Слаборазвитость в Кении. Политическая экономия неоколониализма, 1964—1977» [508], опубликованная в 1975 г., открыла дискуссию о характере социальной трансформации африканских обществ в колониальную и независимую эпохи, форм неоколониальной зависимости. Она была подхвачена такими авторами, как С. Ленгдон («Многонациональные корпорации в политической экономии Кении» |[501]), Г. Китчинг («Классовые и экономические изменения в Кении. Формирование африканской мелкой буржуазии 1905—1970» {491]),
Н. Свейнсон («Развитие корпоративного капитализма в Кении 1918—1977» [629]), А. Клейтон и Д. Севидж («Правительство и труд в Кении, 1895—4963» [407]), Р. Сендбрук («Пролетариат и африканский капитализм. Пример Кении, 1960—1972» [613]).
Авторы этих работ стоят на различных идейных позициях, однако во многом их объединяет интерес к марксизму: они цитируют труды Маркса, некоторые критикуют марксистскую тео¬
2 Эак. 654
17
рию, другие «развивают» ее. Наиболее претенциозно делает это Г. Китчинг. Осудив и «отвергнув» работы историков-марксистов по проблемам классообразования в развивающихся странах J491, с. 438], Китчинг в сущности подменяет анализ этого вопроса элементами буржуазной теории стратификации. Приписав Марксу идею о том, что до появления монополии не существует эксплуатации {491, с. 443], он утверждает, что если отбросить эксплуатацию Африки европейским капиталом, то ни в колониальной, ни в постколониальной Африке эксплуатации «в марксистском смысле этого слова» не существовало и не существует {491, с. 427]. Колониализму и его воздействию на африканские общества этот «марксист» уделяет столь мало внимания, что, знакомясь с описанием в его работе «исключительных возможностей» 1491, с. 279] для развития «мелкой буржуазии» в Кении межвоенных лет, читатель может просто забыть, что речь идет о колонии.
Монография Г. Китчинга довольно типична для современной англо-американской историографии: богатство привлеченного материала и стремление оправдать неоколониализм (а то и колониализм) и переложить на самих африканцев вину за те трудности, которые переживает их общество. Главный вопрос, занимающий умы авторов этой новейшей литературы,— характер и судьбы неоколониальной элиты и всей неоколониальной социальной структуры. Но этот вопрос остается нерешенным, да вряд ли он и может быть решен при отсутствии обоснованных критериев оценки.
Проблемы истории Кении привлекают внимание историков- марксистов (см., например, /[336; 450]). Советская историография этой страны довольно богата. Она ведет свою традицию с начала 30-х годов, когда первые советские африканисты И. И. Потехин и Ю. Юг написали работы о колониальной эксплуатации и колониальном управлении в Африке )[369; 373]. В 50—60-е годы несколько работ посвятила расовой дискриминации и колониальному угнетению народов Кении P. Н. Исмагилова [348, 349]. Большой вклад в изучение суахилийской цивилизации внес ленинградский ученый В.М. Ми- сюгин 1[361—364]. Отдельные проблемы этнографии и экономического развития, национально-освободительного движения, процессов социальной дифференциации, общественной структуры и внутриполитической борьбы в Кении подробно изучались H. М. Гиренко [339], А. М. Глуховым {340; 341], Л. А. Демки- ной [343], Ю. М. Ивановым [346], К. П. Калиновской [350], Н. Д. Косухиным [353], Л. Л. Кругловым [355], Д. Б. Малышевой {357], И. Б. Маценко [359]. Особое место среди советских исследований по Кении принадлежит работам, написанным с использованием уникальных материалов, собранных исследователями во время пребывания в стране, а также их бесед с участниками и очевидцами событий. Это — книги и статьи Л. С. Владимирова [337; 338], посвященные национально-осво¬
18
бодительному движению и проблемам выбора пути, С. Ф. Кулика о характере и роли африканизации в Кении, а также о> культуре страны [356; 356а], А. М. Пегушева о различных фор- мпх национально-освободительной и внутриполитической борьбы |[354; 366—368].
Некоторые труднодоступные материалы, использованные в монографии, были предоставлены автору С. Ф. Куликом, литературоведом и переводчиком африканской литературы В. Б. Рам- ICCOM, профессором Берлинского университета Г. Штёккером, а также кенийскими исследователями В. Р. Очиенгом, Мосони- ком арап Кориром и Османом Варфой. В процессе подготовки рукописи автору многое дали консультации Д. А. Ольдерогге, /1. Е. Куббеля, В. М. Мисюгина, Г. А. Нерсесова (1923—1982), Г. И. Потехиной (1926—1979), а также коллег из Института Африки АН СССР, Института всеобщей истории АН СССР» Института стран Азии и Африки при МГУ.
Глава I
ЗАСЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ КЕНИИ
«Мы вышли из Шунгвайи...»
Археологические находки последних десятилетий свидетельствуют о том, что Восточная Африка некогда была одним из очагов формирования человека. Знаменитый археолог и антрополог Л. Лики считал, что климат и рельеф этого региона в древности создали идеальные условия для его развития. Возраст остатков первобытного человека, найденных Лики в Олду- вайском ущелье на севере Танзании,— около 1 750 000 лет. А находки, сделанные Р. Лики восточнее оз. Рудольф, продлили историю человечества до 3 млн. лет.
За последние годы в Кении было найдено много остатков скелетов людей каменного века, животных, которые их окружали, орудий, которыми они пользовались. Но между ранними этапами развития человечества в этом районе и периодом, когда можно хотя бы приблизительно проследить процесс заселения Восточной Африки отдаленными предками современных народов, существует огромный временной разрыв. Об этом периоде известно очень мало.
Данные археологии, результаты лингвистических исследований и радиокарбонного анализа, относящиеся ко времени появления предков современных народов, тоже довольно неполны и противоречивы. Исследования затруднены и недавним господством хамитской теории в буржуазной историографии. Все социальные и культурные достижения народов Восточной Африки последователи этой теории объясняли влиянием высокоразвитых «хамитов» — скотоводов, мигрировавших в эти районы с севера и северо-востока. Советский африканист Д. А. Ольдерогге опроверг хамитскую теорию еще в 1949 г. [257, 1949, № 3, с. 156—170]. Теперь она осуждена не только у нас, но и на Западе.
И все же теория эта не канула в Лету бесследно. Большинство современных исследователей по-прежнему считают миграции с севера основным ферментом социального и культурного развития в Восточной Африке. Одиозные «хамиты» были заменены другими этническими или лингвистическими группами, но существо проблемы от этого изменилось мало. Роль бантуязыч-
20
ных земледельцев, а также охотников и собирателей доробо в процессе этногенеза народов Восточной Африки до сих пор недооценивается. Важность миграций преувеличивается в ущерб анализу воздействия определенных климатических и демографических факторов на характер формирующихся этнических групп.
Это осознают сейчас уже многие историки, в первую очередь носточноафриканцы (см., например, {551, с. 22—24, 29; 570, с. 1, 8]). Анализ новых источников, прежде всего устной традиции, зачастую позволяет им восполнить пробелы, уточнить, а порой и опровергнуть сложившиеся представления. Но, к сожалению, данных для воссоздания полной и точной картины формирования современных этнических групп на территории Восточной Африки пока недостаточно.
Заселение внутренних районов
Первые жители внутренних районов Восточной Африки — охотники и собиратели — заселили нагорья Кении около 10 тыс. лет назад. Что это были за люди — неизвестно. Некоторые из них принадлежали, по-видимому, к бушменоидному типу, особенно на юге Восточной Африки. В других районах, возможно, жили охотники и собиратели иного физического облика [627, с. 85—86]. Нынешние народы кенийских и танзанийских нагорий рассказывают о карликах, обитавших в давние времена в здешних лесах. Может быть, лесные жители Кении — доробо — осколок этого древнейшего населения страны ,[551, с. 31].
Земледельцы и скотоводы появились в Восточной Африке около 1000 г. до н. э. [627, с. 86]. Захоронения их обычно нахо дят под невысокими каменными пирамидками, которые встречаются в Рифт-Вэлли и на окружающих нагорьях. В захоронения клали горшочки с пищей, украшения. Видимо, люди, похороненные под пирамидками, не были знакомы с металлом. Они разводили коз и овец, выращивали сорго и просо, но занимались и охотой. Можно предположить, что это они построили известные ирригационные сооружения, остатки которых до сих пор сохранились в Кении и Танзании (оросительные каналы, дамбы, резервуары для воды, источники в скалах в более засушливых районах).
Религиозные верования первых земледельцев и скотоводов были связаны, видимо, с культом предков, о чем свидетельствуют захоронения (трупы мазали охрой, по-особому их укладывали). Таких захоронений очень много, и все они примерно одинаковы. Поэтому предполагают, что у народа, их создавшего, не было имущественной дифференциации (627, с. 87—88].
Некоторые ученые называют первых земледельцев и скотоводов Восточной Африки азанийцами, но название не объясняет их происхождения. Многие лингвисты считают, что эти люди го¬
21
ворили на языках южнокушитской группы. Есть свидетельства того, что они мигрировали с эфиопских нагорий .[424, с. 162; 468, с. 65; 627, с. 88]. Однако «кушитскую» версию оспаривают, прослеживая ее «хамитские» корни [551, с. 22—26, 29], и приводят веские аргументы, опровергающие «северное» происхождение земледельцев и скотоводов {597, с. 71]. Один из подводных рифов «кушитской» теории — те же лингвистические данные, которыми оперируют и ее сторонники: между некоторыми языками южнокушитской группы и языками банту много общего, причем сходная лексика встречается там, где заимствования крайне редки — в названиях частей тела [424, с. 162—163].
Есть и попытки «компромиссного» решения спора о приоритете в заселении Восточной Африки. Американский ученый К. Эрет считает, что «южные кушиты» пришли на территорию Западной Кении в I тысячелетии н. э., но когда точно, неизвестно: до банту, вместе с ними или после них {423, с. 3]. Банту, таким образом, с не меньшим правом, чем кушиты, могут претендовать на роль первых земледельцев и скотоводов Восточной Африки. У этой гипотезы тоже есть слабые стороны, и все же одно совершенно ясно: попытка просто заменить «хамитов» кушитами бесплодна.
Век железа в Восточной Африке начался в I тысячелетии н. э. Но даже в XIX в. железными орудиями пользовались далеко не все восточноафриканские народы |[627, с. 89]. Еще недавно считалось, что искусство плавки железа было привнесено в Восточную Африку с севера, из Мероэ. Сейчас предполагают, что его принесли с юга, юго-запада и запада банту. Еще один возможный источник искусства обработки железа во внутренних районах Восточной Африки — побережье Индийского океана [627, с. 90].
Расселение в Восточной Африке народов, говоривших на ни- лотских языках и языках банту, было сложным и длительным и происходило на протяжении тысячелетия (1—2 тыс. лет назад) неравномерными волнами. Чаще всего миграции были медленными и постепенными. Они растягивались на столетия и обычно представляли собой процесс мирного проникновения, длительных контактов, взаимовлияния и смешивания различных групп. Это, конечно, не исключает столкновений и завоеваний, но никак не походит на непримиримую вражду, постоянные бесцельные войны между «скотоводами-нилотами» и «земледельца- ми-банту», которыми колониальная историография еще так недавно заполняла белые пятна в доколониальной истории восточноафриканских народов.
Лингвистическая общность банту формировалась, возможно, в лесах излучины Конго, куда их предки мигрировали из центральных районов нынешнего Камеруна. Здесь протобанту научились выращивать просо и сорго, изготовлять железные орудия и оружие. Между 400 и 1000 г. н. э. протобанту распространились в районы с влажным климатом, в том числе в Меж-
22
пюрье и на побережье Индийского океана. Здесь они начали выращивать бананы и ямс. Уже в нынешнем тысячелетии банту заняли засушливые местности, меньше подходившие для ведения земледельческого хозяйства [277, 1966, № 3, с. 361—376].
Территории Западной Кении первые группы банту достигли еще до 500 г. н. э. Они проникали сюда с запада и юго-запада но суше и по оз. Виктория. Селились они к северу, а возможно, и к югу от залива Кавирондо и на прибрежных островах [ 563, с. 9—10].
Установлено, что от этих первых переселенцев банту ведут свое происхождение некоторые кланы современных луйя. Но как далеко продвинулись они на восток, когда впервые заселили плодородные нагорья Центральной Кении и какую роль сыграли и становлении других кенийских народов,— пока не ясно. Видимо, справедливо предположение о том, что уже в первые века нашей эры (до нилотов) банту занимали западную часть нагорий и были активными участниками формирования многих линг- нистических общностей Западной Кении. Некоторые исследователи утверждают, что первые группы банту заселили всю территорию к западу от горы Кения [551, с. 34—36]. Эта гипотеза возвращает нас к загадке первых земледельцев и скотоводов. К сожалению, устная традиция народов банту не дает на нее ответа.
С начала XVI в., тесня банту, на побережье залива Кавирондо начали проникать первые группы нилотоязычных луо. Родина нилотских языков — Южный Судан |[626, с. 35]. Образ жизни и культура нынешних луо сложились в районе к югу от впадения Бахр-эль-Газаля в Нил. Луо мигрировали несколькими группами и шли разными путями, но всегда через территорию Межозерья [408, с. 149—150; 563, с. 21—22].
Первая большая группа — джока-джок (джока-рамоги), по преданиям, достигла территории нынешней провинции Ньянза около 15 поколений назад, т. е. примерно между 1490 и 1600 г. [563, с. 23]. Вторая — джока-овини появилась в Ньянзе, видимо, в конце XVI — начале XVII в. Третья — джока-омоло обосновалась там примерно между 1540 и 1600 г. Четвертая группа — суба представляла собой конгломерат разрозненных групп различной этнической принадлежности, мигрировавших по озеру. Лишь позже они восприняли язык и культуру луо [563, с. 21—23].
Устная традиция описывает первую волну миграций как медленное и мирное проникновение. По-видимому, полукочевники- луо селились на территориях, еще не занятых земледельцами, жившими тогда в плодородных прибрежных районах. Новые переселенцы вынуждены были стать более воинственными: вся земля была занята. В рассказах о второй и третьей волнах миграций постоянно упоминаются сражения, завоевания, подчинение и поглощение банту (луо называли их джока-комбеком- бе). Некоторые кланы вынуждены были бороться чуть не за
23
Миграция нилотов и банту в Восточную Африку
каждую пядь земли, на которой теперь живут. Войны продолжались почти два века, примерно с 1590 до 1790 г. [563, с. 24- 26, 28].
К началу нового времени луо заселили всю территорию к северу от залива Кавирондо. Около семи поколений назад, т. е. приблизительно между 1730 и 1760 г. они двинулись на юг через залив Кавирондо. Другая датировка миграции луо в нынешнюю Южную Ньянзу— 1750—1800 гг. \[408, с. 156]. Это переселение тоже не было мирным: луо вытесняли и поглощали местное бантусское население. Постепенно они заняли все равнинные территории вокруг залива.
Отступая под натиском луо на север, юг и восток, кланы банту, жившие вокруг залива Кавирондо, сталкивались с другими группами нилотов, двигавшимися им навстречу,— тесо, карам- джонг, календжин, а также масаями. Борьба за территорию стала равнозначна для них борьбе за выживание [563, с. 32— 33]. Набеги нилотов вынуждали банту совершенствовать и укреплять свою военную организацию, и они смогли отстоять свое существование.
Банту, вытесненные луо с побережья залива Кавирондо на север и восток, стали важным элементом в формировании некоторых кланов луйя и гусии. В преданиях других кланов луйя говорится, что они происходят из страны Мисри. Мисри — название древнего Египта на семитских языках. «Исход из Египта» — сюжет, типичный для мусульманских преданий. В этноге- нетических легендах кенийских народов он встречается часто, но происхождение его не объяснено. Возможно, он был заимствован из арабо-суахилийских преданий и наложился на местные. Сейчас исследователи считают, что единственное место, по описаниям подходящее для роли мифического «Египта»,— район оз. Рудольф. Возможно, предки кланов, претендующих на столь необычное происхождение, мигрировали из этого района в Восточную Уганду. Оттуда с конца XVI в. примерно по 1733 г. в страну луйя переселилась большая группа банту |[643, с. 190]. Первоначально они остановились в Ньянзе, но после появления луо двинулись дальше. Скитания своих предков в местах, населенных теперь луо, во многих кланах луйя хорошо помнят. Банту, оставшиеся в Ньянзе, переняли язык и отчасти культуру луо [563, с. 11].
Но банту были далеко не единственным этнообразующим элементом для луйя. Возможно, что северную часть их страны первыми заселили нилотоязычные календжин (в конце XVI — начале XVII в.), и некоторые кланы луйя ведут свое происхождение от них. Примерно в последней четверти XVI — первой полог ине XVII в. другая группа нилотов — нанди (к тому времени они выделились из единой общности календжин) и масаи — пришла в страну луйя с востока. Они бантуизировались и утратили свои языки и культуру.
Последняя волна переселенцев в страну луйя была снова
25
>
бантусской: в XVIII в. несколько групп банту мигрировали в разные районы Западной Кении из Восточной Уганды. Долгий процесс миграций в страну луйя завершился лишь к началу второй половины XIX в. [643, с. 190—191]. Но это не означает,
26
что тогда же завершился и процесс этногенеза луйя. Неоднородность этнических корней этого народа сказывалась еще долгое время, и не случайно европейцы даже в 20—30-е годы XX в. не признавали луйя единым народом и называли их просто «банту Кавирондо». Самоназвание луйя закрепилось лишь в 40—50-е годы.
Гусии занимают сейчас плодородную юго-западную часть кенийских нагорий. По-видимому, они были среди тех банту, которые поселились в Ньянзе в XVI в. В преданиях гусии говорится, что когда-то они были одним народом с куриа, логоли, суба, гикуйю, эмбу и камба. Они тоже считают своей прародиной «Египет» — Мисри. Гусии говорят, что из «Египта» они странствовали вместе с ганда и сога Уганды, но разделились в районе горы Элгон. Оттуда ганда и сога пошли на юго-запад, а гикуйю, эмбу и камба — на юго-восток. Гусии, как утверждает традиция, двинулись прямо на юг и добрались до восточного побережья оз. Виктория 16—15 поколений назад, около 1520 г.
Гусии вспоминают, что из «Египта» к горе Элгон их вел Кинту — его считают своим прапредком и ганда. От одного из его потомков, Могусии, по преданиям, пошли гусии. Жившие по соседству луо поначалу лишь изредка совершали набеги за скотом на земли гусии. Потом набеги участились, и гусии двинулись на восток. Почти столетие (1640—1755) они жили на плодородной равнине Кано. Обилие рыбы в реках, прекрасные пастбища и, главное, •отсутствие врагов превратили ее в эдем гусийских преданий (563, с. 12—16].
Общность гусии быстро росла, и земли стали не хватать. В середине XVIII в. по соседству с Кано появились луо. Пережив несколько набегов, большая часть гусии мигрировала к югу. После десятилетий скитаний, столкновений с календжино- язычными кипсигис примерно в 1786—1809 гг. первые кланы гусии начали селиться на нагорьях. Другие кланы поселились к югу от этих нагорий, по соседству с масаями.
Устная традиция повествует, что для защиты от масаев гусии возводили толстые каменные стены вокруг своих поселений, иногда устраивали ответные набеги. В одном из сражений был убит воин масаи. Его брат, говорится в предании, выследил и убил самого храброго воина гусии. Те ответили нападением на близлежащие краали масаев, сожгли их, перебили жителей. Масаи разбили войско гусии, сожгли жилища, забрали скот, убили всех, кто попался им на глаза. Часть гусии бежали на юг, а большинство искало спасения у родственных кланов на нагорьях J563, с. 35—40]. Эти события относятся примерно к 1820 г. Климат нагорий был слишком суров для привыкших жить на равнинах гусии. Но другой свободной земли в Западной Кении не было, и им пришлось приспособиться к новым условиям.
Важную роль в этногенезе народов Западной Кении сыграли нилотоязычные календжин. Предполагают, что предки кален- джин жили западнее оз. Рудольф уже более тысячи лет назад {626, с. 34—35]. Среди некоторых групп календжин бытует ле¬
27
генда о том, что они вышли из Бургеи. Ученые считают, что это тот же «Египет», что и Мисри в бантусской традиции ^[551, с. 10]. Возможно, что в этом районе они подпали под воздействие кушитов, но не южных, о которых шла речь выше, а восточных— предков сомали и оромо (галла). От них календжин переняли некоторые важные элементы своей культуры и лексики [423, с. 164, 166]. К концу I тысячелетия началась миграция протокаленджин на юг. В районе горы Элгон они ассимилировали банту {423, с. 4, 6], дальше к югу смешивались с населением, говорившим на южнокушитских языках [626, с. 37].
В XV—XVI вв. [423, с. 170] календжин достигли границ современной Танзании. После этого их территория начала уменьшаться. К западу и юго-западу от нее началось наступление банту, бантуизировавшнх большое число календжин. К востоку, по Рифт-Вэлли, распространялись масаи, ассимилировавшие календжин. Только к концу XVIII в. календжин начали отвоевывать свои позиции |[626, с. 39—45].
В начале нынешнего тысячелетия из протокаленджин выделились покот. Они позаимствовали у своих соседей карамджонг (карамоджо) многочисленные слова и стали во многом следовать их обычаям [424, с. 169]. Второе разделение календжин произошло в начале XVII в., когда бок, бонгомек и кони отстали от основного потока календжин и остались в районе горы Элгон .[644, с. 75]. В XYTII в. масаи отделили остальные группы календжин друг от друга: кипсигис от нанди, нанди от элгейо и т. д. /[626, с. 45].
Гипотеза о «великой экспансии» календжин (так иногда называют их распространение на территорию Кении) была создана на базе лингвистического и этнографического материала. Она логична, однако не все исследователи считают ее верной. Существует мнение, что календжин вообще ниоткуда не пришли, а сформировались там, где теперь живут.
Кенийский историк X. Мванзи, изучавший устную традицию кипсигис (самой крупной общности календжин), убедительно доказывает, что костяком кипсигис были нилотоязычные окиек (доробо) и банту, в том числе гусии,— именно с этими двумя народами связывают свое происхождение все кланы кипсигис. Основные политические институты, традиции и обычаи календжин восходят к традициям и обычаям окиек и банту и начали оформляться в единое целое не раньше чем в XVIII в. Те институты, которые нельзя ассоциировать ни с банту, ни с окиек, сложились под влиянием местных условий и обстановки. Что касается нилотских языков календжин, то, возможно, не окиек позаимствовали их у календжин, как до сих пор считалось, а наоборот [551].
Эта гипотеза не во всем нова. Предположение о том, что календжин ниоткуда не мигрировали, высказывалось еще в прошлом веке. Устная традиция дала множество новых доказательств. И все же нельзя считать проблему происхождения
28
календжин решенной. Уже одно то, что исследователи так резко расходятся во мнениях по этому важному вопросу, достаточно ясно показывает, как много еще здесь неизвестного.
Одним из важных событий истории Кении в новое время было распространение на юг нилотоязычных масаев. Восстановить их историю непросто. Многие исследователи отмечают бедность их устной традиции. Возможно, что когда-то масаи и календжин принадлежали к одной общности, жившей у оз. Рудольф. Разделение произошло, когда календжин начали мигрировать в юго-западном направлении к горе Элгон. Оставшиеся ушли на юг и поселились на плато Уазин-Гишу. Они-то и стали предками масаев. Их миграция началась, видимо, сразу за миграцией календжин в XVIII в. Они заняли районы к востоку от календжин и продвинулись дальше на юг.
К середине XIX в. масаи прочно обосновались на огромной территории Рифт-Вэлли и плато Транс-Нзойя и Уазин-Гишу [644, с. 80—81]. Во второй половине XIX в. их действиями во многом определялась политическая обстановка во всей центральной части страны. Соседство с масаями наложило отпечаток на образ жизни, традиции, организацию и судьбы многих пограничных с ними народов: календжин, гусии, гикуйю и др.
К концу XVII — началу XVIII в. относится появление в Западной Кении тесо. Языки тесо и родственных им народов — карамджонг, кумаси, туркана и джие входят в восточнонилот- скую группу. Тесо считают своей родиной район неподалеку от нынешней территории карамджонг. В XIX в. они заняли всю свою нынешнюю территорию в Уганде и Западной Кении [644, с. 66—67].
Туркана завершают длинный список народов, мигрировавших, по мнению многих исследователей, из района оз. Рудольф. Если хотя бы часть этих предположений подтвердится, этот район по праву можно будет считать прародиной чуть не всех нынешних обитателей Западной и Центральной Кении. Туркана начали мигрировать со своей предполагаемой прародины на восточном побережье озера к западу и югу, видимо, в середине XIX в. Вместе с покот они вытеснили из долины р. Керио сам- буру. К концу прошлого века туркана заняли свою нынешнюю территорию [514, с. 320—321].
О ранней истории Восточной Кении почти ничего не известно. Лингвисты прослеживают здесь влияние южно- и восточнокушитских, а также южнонилотских языков, но судить о том, откуда оно пошло, трудно.
С XVI в. с эфиопских нагорий в Восточную Кению стали мигрировать кушитоязычные оромо. Одной из причин этой миграции было наступление с севера сомали. Оромо поселились в засушливой долине р. Тана. Банту, жившие там позже (по- комо, например), испытали на себе их сильное влияние. В XVII в. набеги оромо достигали современной Танзании, но в XVIII в. их продвижению положила конец консолидация бан¬
29
тусских племен на юге. Оромо господствовали на территории бассейна р. Тана до середины 60-х годов прошлого века. Потом •сомалийцы нанесли им сокрушительный удар, изгнали с пастбищ, отняли скот и обратили многих из них в рабство. Отступать на юг оромо не могли: их удерживали банту и масаи, и •сомалийцы двинулись дальше по их территории. К концу XIX в. •оромо были совершенно ослаблены ,[423, с. 175; 514, с. 321—322; €44, с. 78—79].
Самый большой по численности народ современной Кении — гикуйю. Они живут в восточной части кенийских нагорий, к юго-западу от горы Кения.
О ранней истории гикуйю известно мало. У них есть несколько общеплеменных легенд об их происхождении. Первая повествует о том, что человек ло имени Мумбере, умирая, призвал к себе сыновей, чтобы поделить между ними свое имущество. Один выбрал лук со стрелами, другой — пастушеский инвентарь, третий — дротик, четвертый — палку-копалку. От первого пошли •ати (часть доробо), от второго — масаи, от третьего — камба, от четвертого — тикуйю.
В другой легенде рассказывается, что, создавая мир, Нгаи, верховное существо, явился человеку по имени Гикуйю и отдал ему всю землю к юго-западу от Кириньяги (горы Кения). Он приказал ему построить дом под фиговыми деревьями в Муранге. Это место называется Мукуруе ва Гатанга и считается у гикуйю священным [545, с. 108—109]. Придя в Мукуруе, Гикуйю увидел, что бог дал ему жену Мумби. Нгаи сказал им: «Ваши сыновья и дочери заселят эту страну. Здесь умножится их число. Они будут наслаждаться красотой земли и фруктовых деревьев на ней и всегда будут помнить, что это я дал ее вам. Мое благословение пребудет с вашими потомками, куда бы они ни пошли» [559, с. 28].
Гикуйю и Мумби построили дом и народили девять дочерей, ставших прародительницами «девяти полных» кланов гикуйю. «Девять полных» — это десять. Сказать просто «десять» кланов или добавить к девяти прародительницам десятую — по числу кланов — было невозможно: гикуйю верили, что назвать точное число людей или скота — значит накликать на них беду. Гикуйю считали, что десятый клан — потомки добрачных детей дочери одной из девяти прародительниц [545, с. 109, 137].
Гикуйю рассказывают, что на их земле до них жили гумба. Это были низкорослые люди, занимались они охотой и собирательством, разводили пчел, умели обрабатывать железо, делали хорошие гончарные изделия. Жили в пещерах или крытых углублениях, вырытых в земле |[545, с. 115—116].
Потом гумба исчезли. Куда? «Некоторые говорили, что они бежали в ужасе перед птицами с огромными клювами и резким криком, которых заколдовали колдуны-гикуйю, и исчезли за горами. Другие считали, что они ушли через дыры под землю и все еще живут там, как гномы. Третьи рассказывали, что одна масайская женщина поселилась с ними, не вынеся мужниных побоев, и ее потомки были уже не маленького, а обычного роста (масаи — •очень высокорослый народ.—И. Ф.). Их становилось все больше, пока, наконец, они не заселили леса и не превратились в гикуйю» [559, с. 29].
Легенды подводят к мысли, что гикуйю ниоткуда не пришли, а сформировались как этнос там, где живут теперь. Для банту это не совсем обычная идея. Некоторые исследователи объясняют отсутствие преданий о миграциях у гикуйю их «сильной привязанностью» к земле. Привязанность эта была, видимо, не сильнее, чем у других земледельцев, но в результате экспроприаций земель гикуйю в колониальные годы она проявилась
30
резче. Кенийский историк писал: «С начала колониальных земельных экспроприаций... старейшины гикуйю условились забыть свои ранние традиции (т. е. предания.— И. Ф.)» 4559, с. 28—29].
Однако вероятность такого «заговора» невелика. Ведь экспроприации были не единовременной акцией, а длительным процессом, и далеко не всем гикуйю сразу стало ясно, что происходит. Скорее всего, легенды в какой-то мере отражали реальность, и этническая общность гикуйю действительно формировалась там, где они теперь живут, или неподалеку от этих мест.
Существует несколько научных версий происхождения гикуйю. Одни исследователи полагают, что предки гикуйю, меру, эмбу и камба мигрировали в Центральную Кению из Шунг- вайи — легендарной прародины многих народов банту Восточной Кении. Другие подчеркивают сходство языков и обычаев гикуйю с языками и культурой гусии и куриа [561, с. 87]. (Вспомним, что гусии в своих преданиях тоже называют гикуйю родственниками.) Но предания гикуйю, камба и эмбу прямо не упоминают ни Шунгвайю, ни миграции с востока или с запада. Некоторые информанты говорили кенийскому исследователю, что гикуйю произошли от эфиопов или рендилле и что туркана — родственники гикуйю. Другие полагали, что гикуйю— потомки гумба. Многие утверждали, что их предки мигрировали из Игембе и Тигании — районов, расположенных к северо- востоку от нынешней территории гикуйю в стране меру [545, с. 114—115]. Нельзя, видимо, отвергать ни одно из этих свидетельств.
Различные данные свидетельствуют о том, что страна гикуйю была постоянно заселена каким-то бантуязычным народом уже в XII—XIV вв. Меру и гикуйю называют его тагику. Кенийский исследователь Г. Муриуки пишет, что в середине XV в. или раньше новая волна банту вышла из Игембе и Тигании. Одна из групп направилась к югу и, возможно в XVI в., поселилась там, где, сливаясь, Тагана и Тика дают начало одной из крупнейших рек Кении — Тане. Это место — Итанга находится на западной границе нынешней территории гикуйю. Многие кланы эмбу, мбере и гикуйю утверждают, что их предки вышли оттуда.
Миграция этих кланов в страну гикуйю шла с XVII в. через район на границе Метуми и Гаки. (Территория этих местностей примерно соответствует нынешним округам Муранга и Ньери в Центральной провинции.) Именно здесь, в центре страны, расположен эдем преданий гикуйю — Мукуруе ва Гатанга. Здесь, на нагорье, их предки нашли плодородную землю, которую поливали обильные дожди. Общность гикуйю, до XVIИ в. небольшая, начала расти. В XVIII — начале XIX в. гикуйю заселяли территорию Гаки, с середины XVIII по конец XIX в. расселялись на юг в Кабете (территория нынешнего округа Киамбу в
31
Центральной провинции). Этот процесс еще не закончился к моменту появления здесь европейцев [544, с. 58, 62, 68—69, 111].
Нет сомнения, что в лингвистическом отношении костяк ги- куйю составляли банту. Именно банту мигрировали в страну гикуйю в XVI в., смешиваясь по пути также с бантуязычными тагику. Но кроме них, судя по лингвистическим данным, предки гикуйю ассимилировали народ, говоривший на одном из восточнокушитских языков, и две нилотоязычные группы. Восточных кушитов — гумба — помнят почти все народы района горы Кения. Вероятно, предки гикуйю сталкивались с гумба на всех этапах миграции. Судя по устной традиции, они часто воевали, но вряд ли «исчезновение» гумба — эпический синоним их истребления. Большую часть гумба предки гикуйю ассимилировали, остатки вытеснили за гору Кения. Гумба стали, таким образом, важнейшим элементом в формировании этнической общности и культуры гикуйю.
Одна из нилотских групп (а возможно, и обе) —это охотники-собиратели ати (доробо). Ати жили в лесах хребта Абердэр и Кабете. Гикуйю ассимилировали многих из них и позаимствовали некоторые черты культуры. Другие группы ати, сохра-
32
нив свой физический облик, переняли образ жизни гикуйю. Этот процесс облегчался церемониями взаимного усыновления, дававшими гикуйю право на землю ати и превращавшими тех в полноправных членов общества гикуйю. Небольшие группы ати ушли в леса Абердэр и Кении, часть поселилась среди масаев [545, с. 116—117].
На северо-восточных склонах горы Кения и в прилегающих к ним районах живут меру. В доколониальную эпоху только пять из нынешних девяти кланов называли себя меру. Остальных «подключили» к ним колониальные власти.
Меру — единственный из народов района горы Кения, который выводит свое происхождение с побережья Восточной Африки. Они рассказывают, что их предки были земледельцами и жили на о-ве Мбва в океане у устья большой реки. Дважды в сутки вода между островом и сушей, по словам меру, уходила «есть траву» на берег, и остров соединялся с сушей. Исследователи считают, что Мбва — это о-в Манда архипелага Ламу, расположенный примерно в 150 км от района, где предположительно находилась Шунгвайя [427, с. 139—142].
Неподалеку от их острова в небольших укрепленных деревнях жили, по преданиям меру, могущественные нгуо нтуни — «люди в красных одеждах». Они занимались торговлей и плавали на своих кораблях «за горизонт». Они были светлее и выше меру, и их язык—не суахили, нынешний язык межэтнического общения Восточной Африки, но он был понятен всем. Потом (около 1700 г.) «красные одежды» покорили остров и заставили мужчин-меру добывать слоновую кость и переносить ее от одной деревни на побережье к другой. В конце концов они начали давать предкам меру совершенно невыполнимые и бессмысленные задания: добыть «восьмистороннюю одежду», привести «рогатую собаку» и т. п. Наконец меру решили бежать. Они принесли человеческую жертву, вода расступилась перед ними, и люди перешли на берег [427, с. 142—146]. Сама нетипичность этих сюжетов для народов внутренних районов в какой-то мере может служить доказательством, что предки меру действительно жили на побережье.
После перехода через море меру, как они вспоминают, двинулись в глубь страны вдоль большой реки (это могла быть только Тана) и скоро оказались в пустыне. Людей они встретили не скоро, а когда встретили, то оказалось, что это тоже бантуязычный народ. Предки меру долго жили и смешивались с ним. Лесов у подножия горы Кения первые группы меру достигли в середине XVIII в. Они жили охотой и селились у кромки леса. Женщины обрабатывали землю на опушках. Потом под пашню начали расчищать лес [427, с. 147—149, 151—153].
В районе горы Кения меру встретили людей, говоривших на восточнокушитских и восточнонилотских языках. Кушитские народы, принявшие участие в этногенезе меру, включали, по мнению исследователей, боран, оромо (по некоторым классификациям боран или борана являются частью оромо) и, возможно, остатки древнего восточнокушитского населения, нилотские — охотников мвеси, доробо, усвоивших язык, некоторые обычаи и методы ведения боя масаев, а также умпуа и агумба (по- видимому, гумба из преданий гикуйю). Наименее известны из этих народов умпуа. По рассказам меру, они были скотовода ми, жили и держали скот в ямах, вырытых в земле. Следы таких ям встречаются и в стране меру и на территории гикуйю. Умпуа были людьми обычного роста, лишенными бушменоид- 33 Зак. 654
33
ных антропологических черт (стеатопигия, желтоватый цвет кожи и т. д.), характерных для доробо. Меру рассказывают, что умпуа появились с юга из-за горы Кения и подчинили оромо и доробо. Потом под натиском меру начали отступать вверх по склонам горы, затем — вокруг нее и «исчезли» |[427, с. 151 — 166].
Меру не раз воевали с масаями, нападавшими на них с северо-востока и с юга. Войны с масаями были постоянным явлением и составляют костяк военных преданий почти всех кланов меру [427, с. 163].
34
Поселившись у подножия горы Кения, кланы меру постепенно утратили чувство общности. Уцелели лишь общие религиозные, правовые и культурные институты. Они стали той базой, на которой уже в колониальные годы возрождалось единство общности )f427, с. 151—153, 167,168].
Засушливую территорию к юго-востоку от горы Кения занимают камба. В конце XV — начале XVI в. предки камба жили в районе горы Килиманджаро. До этого времени их история неясна, но отголоски их пребывания можно найти в западной и в прибрежной Танзании. Гору Килиманджаро, которую они называли «Киима кья Кьеу» («Белая гора»), помнят все камба.
Равнины вокруг Килиманджаро засушливы, и существовать там можно было, только ведя полукочевой образ жизни. Камба вспоминают, что были в то время скотоводами и все время передвигались по равнине. Воду они собирали во время дождей в специально построенные резервуары [474, с. 181 —188, 246].
В конце XVI в. камба покинули район Килиманджаро из-за участившихся нападений масаев. Вскоре они достигли территории, которую занимают теперь. Но климат и здесь был засушлив, и большая часть камба двинулась дальше на север. В се редине XVII в. они поселились на плодородных холмах Мбоони. Здесь они освоили новые хозяйственные навыки, изменилась и их общественная структура. За полвека население камба в Мбоони резко увеличилось, и они начали расселяться — в основном на север и юго-восток. К середине XVIII в. они заняли все свои нынешние земли [474, с. 191—203].
Холмистую местность на юго-востоке Кении вдоль побережья населяют бантуязычные миджикенда. Предания их повествуют, что когда-то вместе с тейта, покомо, килио (сегеджу) и оромо они жили в Шунгвайе. Случилось так, что от руки миджикенда погиб мужчина-оромо. Некоторые считают, что это было ритуальное убийство — часть церемонии инициации первой возрастной группы миджикенда. Миджикенда рассказывают, что они отказались платить возмещение родственникам убитого, и оромо напали на них. Не выдержав их натиска, миджикенда бежали. Общность миджикенда включает диго, дурума, рибе, ра- баи, камбе, каума, чоньи, джибана и гириама. Трудно сказать, существовало ли это деление уже в Шунгвайе, или оно оформилось в ходе миграций. Диго и сегеджу рассказывают, что в Шунгвайе они жили в стороне от остальных и первыми ее покинули. Разделились они перед переправой через Тану.
Вторая волна выходцев из Шунгвайи включала, по преданиям, покомо, тейта, рибе, гириама, чоньи и джибана. Покомо расселились в долине Таны, остальные направились дальше к югу. В районе Малинди от общей группы отделились тейта и ушли на запад. Гириама, рибе, чоньи и джибана расселились южнее. Гириама рассказывают, что на пути они встретили охотников лаа, которые помогли им выбрать место для первого по¬
3*
35
селения — кайя Гириама. Лаа научили их изготовлять железные наконечники и яд для стрел, а также защищаться от оромо.
Чоньи, рибе и камбе говорят, что они шли к югу через места, населенные диго. Отдельные их группы сталкивались, соединялись, иногда подолгу жили вместе. Рабаи рассказывают, что ведут свое происхождение из нынешней страны чагга. Двигаясь на север, они столкнулись с миджикенда и воевали с ними, а затем долгое время жили среди диго, покомо, чоньи и джибана. Этим и объясняется их нынешняя культурная и лингвистическая близость с миджикенда. Потом одна из групп построила поселение кайя Вокера, вокруг которого рабаи воссоздали свою общность. По происхождению отличаются от других миджикенда и дурума. Лишь небольшая часть их вышла из Шунгвайи. Этот костяк ассимилировал беглых рабов с побережья и камба, которых пригнал сюда голод.
Миграцию миджикенда из Шунгвайи относят к концу XVI в. Первые письменные упоминания о народах Шунгвайи на побережье (в частности, о сегеджу) встречаются в португальских источниках 1569—1592 гг. В 1590 г. португальцы упоминают о появлении около Момбасы «мозунгуллос», которых теперь идентифицируют с северными миджикенда if620, с. 265—270].
Истоки цивилизации восточноафриканского побережья
История кенийского побережья Индийского океана — это история контактов местного африканского населения с арабами и другими выходцами из Азии, формирования на базе этих контактов новой этнической общности суахили и развития в результате взаимодействия различных культур самобытной суа- хилийской цивилизации. Источники по истории побережья значительно более многочисленны и разнообразны, чем сведения о внутренних районах. Это и свидетельства очевидцев из разных стран мира, и местные памятники культуры (литература, архитектура), и археологические находки. Кроме того, исследований о побережье в десятки, если не в сотни раз больше, чем работ о внутренних районах. Казалось бы, история суахилийской цивилизации должна быть хорошо изучена и подробно описана.
На самом деле и в этой истории немало белых пятен. Нет ответов даже на важнейшие вопросы, касающиеся корней и характера суахилийской цивилизации. Расовая предубежденность, до недавнего времени пронизывавшая всю буржуазную историографию, заставляла исследователей считать города побережья лишь арабскими колониями. Культура, возникшая в них, считалась чуждой местным корням, язык суахили, на котором говорили горожане, называли исковерканным арабским.
Теперь самобытный характер цивилизации восточноафриканского побережья мало у кого вызывает сомнение. Но сущест-
36
вовала ли как единое целое этническая общность суахили? И если да, то когда она возникла и какие именно народы приняли участие в ее формировании? Однозначных ответов на эти вопросы пока нет. О ранней истории восточноафриканского побережья, о событиях примерно до XII в. известно очень немного.
37
Торговые корабли из Египта и стран Азии плавали в Восточ пук» Африку по меньшей мере с начала нашей эры. Они использовали северо-восточный муссон, дувший с ноября по апрель к побережью, а с июня по октябрь — в обратном направлении. Но первое дошедшее до нас достоверное описание побережья относится только к середине I — началу II в. н. э. Содержится оно в «Перипле Эритрейского моря» — древнегреческой лоции и торговом справочнике.
Считается, что его автор сам побывал во многих местах, о которых писал в лоции, в том числе и на восточноафриканском побережье. Но назначение «Перипла» — чисто практическое, и потому сведения, приводившиеся в нем, представляют почти одно только перечисление географических названий. Упоминаются «Пиралайские острова» — возможно, это Пате, Манда, Ламу и др.; «Канал» — возможно, район Малинди; о-в Ме- нутесия, или Менутий,— по-видимому, Занзибар; и, наконец, самый южный рынок «Рапты», находившийся, возможно, в старом русле р. Пангани или в дельте Руфиджи.
В «Перипле» сообщается, что на рынки Азании — так древние греки называли восточноафриканское побережье — ввозят «наконечники копий; местного вида топоры, мечи, шилья; разного рода изделия из стекла. В некоторые же места везут немало вина и хлеба, но не для наживы, а для раздачи ради приобретения благорасположения варваров. Вывозят из этих мест много слоновой кости... бивни носорога; отличную черепаху, подобную индийской; немного кокосового масла». О рабах ничего не сказано. Видимо, вывозили и их, но в то время они были далеко не самым важным товаром.
Что за люди населяли эти места — неясно. В «Перипле» говорится, что в окрестностях Рапт жили «громадного роста разбойники, причем каждый в равной степени держит себя в своей местности как царек» [123, с. 98—99]. Кроме «разбойников» упомянуты только «варвары». Видимо, они и занимались торговлей, если их надо было «благорасполагать». О расовой принадлежности ни тех, ни других не говорится.
Следующий дошедший до нас источник был создан столетие спустя. Это «Руководство по географии» Птолемея, написанное скорее всего во II в. н. э. Границы хорошо известных районов почти достигали тогда кенийской границы. Отмечаются новые порты Азании, но главным по-прежнему остается город Рапты.
В «Географии» Птолемея упоминаются «жители Азании (или фазаки) и бакалиты» и отдельно от них — различные группы «эфиопов». «Вокруг этого залива (речь идет о заливе „Барба- рик“, к которому с юго-востока „примыкает" о-в Менутиас.— И. Ф.) обитают эфиопы антропофаги, через ([землю] которых с запада проходят Лунные горы, с них на озера Нила низвергаются снега... Выше них [живут] эфиопы рапсии. Вдоль большого залива до Западного океана [обитают] эфиопы ихтиофаги» ,[123, с. 146—148].
38
Более точные и подробные сведения содержатся в работах арабских авторов. Арабы и персы называли восточноафриканское побережье «страной зинджей». Ал-Масуди, историк и географ, живший в первой половине X в.,— первый из арабских авторов, чьи описания восточноафриканского побережья дошли до наших дней,—подробно рассказывает о зинджах. Сведения, которые он сообщает, были отчасти результатом собственных наблюдений, отчасти почерпнуты из рассказов торговцев и моряков или из других географических и исторических трудов.
«...Зинджи расселились в этой области (южнее широты верховий Нила.—Я. Ф.), и места их обитания граничат с Софа- лой; это окраина страны зинджей... Это страны, обильные золотом, обильные чудесами, плодородные, жаркие. Зинджи сделали их центром государства; и посадили они над собой царя, которого назвали ваклими, это — название для прочих их царей во все времена...» У ваклими, писал ал-Масуди, есть войско — 300 тыс. всадников на коровах (зинджи, по его сведениям, не знали ни лошадей, ни мулов, ни верблюдов). Если царь был несправедлив, зинджи его убивали. Титул их правителя — «ваклими» означал, по словам ал-Масуди, «сын великого господа». Самого же творца зинджи именовали «Малканджулу» («великий господин»). Но поклонялись они не только этому высшему существу: «Кому из них понравится что-либо из растений, зверей или минералов, тому он и поклоняется». У зинджей «нет законов, к которым они бы обращались,— писал ал-Масуди,— но у их царей есть обычаи и разного рода (приемы) политики, посредством которых они правят».
Ал-Масуди сообщал и другие интересные подробности из жизни зинджей: о том, например, что они красноречивы и среди них есть прекрасные ораторы, что питаются они в основном просом, сорго и бананами, что охотятся на слонов, опьяняя их листьями и корой какого-то дерева, что украшения у них — только железные и что среди них есть племена, «затачивающие зубы и поедающие друг друга». Ал-Масуди тоже не упомянул о рабах и написал только о том, что из страны зинджей вывозят слоновьи бивни [122, т. 1, с. 236—238].
По-видимому, в лингвистическом отношении костяком общности зинджей были банту. Свидетельством тому — упоминаемые ал-Масуди зинджские слова. Считается, например, что «ваклими» («вафлими») имеет общую основу с бантусским «ва- фалме» (вожди), а «Малканджулу» соответствует «мукулунку- лу» — величайший (близко к зулусскому «ункулункулу» — старейший).
Первые группы банту появились на восточноафриканском побережье, видимо, во II—III вв. н. э. Добравшись сюда через территорию нынешней Танганьики, предки восточных банту начали мигрировать на север и к X в. достигли устья Джубы. Селились они в районах, пригодных для земледелия |[559, с. 7—8]. Существуют и другие версии расселения банту по побережью
39
(см., например, {419, с. 28—29]). Как бы то ни было, в X в. арабы могли называть зинджами только банту.
На пути к побережью и вдоль него банту могли ассимилировать какое-то местное небантусское население (возможно, скотоводческое) и отдельные группы, прибывшие из стран Востока. Именно на этом раннем этапе формирования общества восточноафриканского побережья было бы важно выяснить влияние и роль этого «восточного» элемента. Но, к сожалению, здесь приходится довольствоваться в основном легендами, содержащимися в хрониках, но не подтверждаемыми другими источниками.
Устная традиция побережья содержит богатые сведения о нескольких волнах переселений из стран Ближнего Востока. Почти каждое предание начинается рассказом об исходе основателей или правителей городов побережья из той или иной восточной державы. Советский историк В. М. Мисюгин предполагает, что до XII в., т. е. до широкого распространения ислама, каждый новый период наиболее активных переселений — событие важное и заметное в жизни побережья — становился как бы вехой своеобразного календаря [362, с. 148]. Ведь до сих пор во внутренних районах африканцы, рассказывая о прошлом своих народов, зачастую упоминают не даты, но важнейшие события: «это было после битвы такой-то», «это было во время такого-то голода», «это было, когда такие-то стали воинами» и т. д. В более поздние времена упоминание арабских или ширазских предков, которым приписывали честь основания городов, стало для правящих династий доказательством прав на престол и знатности происхождения.
Сопоставляя, где это возможно, содержание легенд с историческими событиями, исследователи восстановили древний «ка^ лендарь», в котором, впрочем, много белых пятен: переселение сирийцев-хариджитов («год вашами», т. е. сирийцев)—699 г.; переселение, вызванное исламизацией Омана ('«год Сулеймана и Саида», по именам упоминаемых в преданиях вождей, восставших против правителя Омана),— 712 г.; переселение последователей Зейда ибн-Али («год аму-зейдов», бежавших от религиозных преследований и поселившихся на бенадирском побережье, по соседству с районами, которые позже стали называть Шунгвайей) —757 г.; переселение предков Лионго Фумо, легендарного правителя города Шанги, в район архипелага Ламу в правление Харуна ар-Рашида — 786—809 гг.; переселение суннитов после возникновения Карматского государства в Бахрейне («год семи братьев из Эль-Хаса») —913 г.; переселение ширазцев («год ваширази»)—975 г. [362, с. 148—149].
Видимо, «календарь» действительно базировался на реальных событиях, но точность датировок вызывает сомнение. Некоторые исследователи склонны не слишком доверять хроникам, и многие предания «календаря», в особенности об основании городов, считают вымышленными (см., например, |[419, с. 32— 34]). Переселение с Востока шло постоянно, но иногда, в свя-
40
mu с определенными событиями, активизировалось. По-видимому, в легендах нашли отражение лишь самые крупные или чем- то запомнившиеся миграции.
Какой след оставили эти первые переселенцы на побережье, какое влияние оказали на местное население? Ал-Масуди упоминал о-в Канбалу, где «живут мусульмане, хотя язык их зннджский» {122, т. 1, с. 224]. (Советские исследователи считают, что Канбалу — Занзибар, зарубежные в основном придерживаются мнения, что это Пемба или Пате; некоторые полагают, что Канбалу — Мадагаскар.) Этническая принадлежность этих мусульман не уточнялась. Другой арабский автор, ал-Ид- риси, живший два столетия спустя, описал жителей побережья, как язычников, не упомянув ни о каких мусульманах {123, с. 237—238].
Если эти сведения верны (свидетельства ал-Идриси считаются не особенно надежными), можно представить, что, до того как сформировалась этносоциальная структура городских обществ, культурный синтез на побережье длительное время шел толчками, неравномерно. Даже предположив, что число переселенцев было невелико (оно неизвестно даже приблизительно), вряд ли можно считать, что они растворились в местном населении бесследно. Их роль и влияние не могли быть пропорциональны их численности потому, что они представляли более высокий уровень социального развития. Каждая волна переселенцев была своеобразной инъекцией понятий и ценностей классово расчлененного общества и мусульманской культуры. Постепенно ее действие ослабевало, но новые пришельцы приносили сходные идеи. Главным стимулом восприимчивости к восточным влияниям была огромная роль торговли в становлении классового общества и городов. Общество зинджей, таким образом, могло веками подспудно накапливать потенциал новых синтезированных культурных традиций. Под воздействием социально-экономических условий (оседлость, пригодный для земледелия климат, морская торговля) этот потенциал реализовался позже в расцвете суахилийской цивилизации.
Все это только предположения. Слишком мало известно об обществе зинджей, чтобы пытаться подробно и обоснованно характеризовать его. Но как бы то ни было, иммиграция из стран Востока была не первопричиной, а катализатором развития цивилизации побережья. Она ускорила становление этой цивилизации и придала ей ее специфические черты, но претендовать па роль единственных ее создателей переселенцы с Востока не могли.
Первые постоянные поселения побережья археологи датируют IX—X вв. Ал-Масуди пишет о «государстве» зинджей. Общество зинджей уже того времени историки называют высокоорганизованным. А ведь, по описаниям ал-Масуди, контакты с Востоком в то время еще не привели к важным качественным сдвигам в зинджской культуре.
41
Во времена ал-Масуди возник или должен был вскоре возникнуть легендарный город зинджей Шунгвайя (по мнению В. М. Мисюгина, более точно — «Шангвайя»), Впрочем, был ли Шунгвайя городом, неизвестно. Миджикенда считают свою прародину не городом, а регионом [620, с. 265—267]; на старых европейских картах Шунгвайя обозначался как город до 1700 г., потом его стали изображать районом {531, с. 200—202]. Археологические данные свидетельствуют, что в предполагаемом месте расположения Шунгвайи-города поселение возникло не ранее XV в. {419, с. 27—28]. Итак, Шунгвайя-город не найден. Шунгвайя-район располагался, по-видимому, между Ламу и Джубой.
Исследователи полагают, что Шунгвайя возник как важный центр торговли банту со странами Востока и что время его наивысшего расцвета — XII—XV вв. Общество Шунгвайи формировалось, видимо, в результате смешения бантусского большинства с небольшими группами персов, арабов и, возможно, индийцев. Язык протодиго подвергся наибольшему влиянию персидского; языки покомо, тейта и баджун — наименьшему. В этногенез шунгвайского общества кроме торгово-земледельческих групп внесли свой вклад и скотоводы — оромо и сомали [531, с. 200—202]. Устная традиция суахили содержит список народов Шунгвайи, и он полностью соответствует тому, что рассказывают о своем происхождении миджикенда, тейта, покомо, сегеджу и оромо. Кроме этих народов список включает суа- хилийские кланы килиндини и джомву, поселившиеся позже в Момбасе {620, с. 265—267].
Причиной упадка Шунгвайи принято считать наступление пустыни и распространение оромо, а в связи с этим и упадок торговли. Возможно, некоторые группы оромо жили в Шунгвайе или мирно сосуществовали с ее народами. Но с началом миграции на юг сомалийцев между этими двумя скотоводческими народами началась борьба за паетбища. Сомали теснили оромо к югу. К XVI в., а возможно, и раньше, оромо захватили всю территорию Шунгвайи, и предки восточных банту покинули свою разоренную прародину [531, с. 200—202].
Судить об уровне развития Шунгвайи и возможных путях его эволюции трудно — о нем слишком мало известно. Однако обратим внимание на то, что в арабских источниках XII— XIV вв., содержащих довольно подробные описания городов побережья, Шунгвайи нет. Значит, если в период своего расцвета он и был городом, его внешний вид и социальное устройство, по-видимому, не вполне соответствовали тому образу, который вкладывали в это понятие арабские авторы.
Современные названия городов восточноафриканского побережья впервые появляются у ал-Идриси, арабского автора XII в. Он рассказывает о двух городах кенийского побережья —Ma линди и Момбасе. «Город Малинда [расположен] на берегу моря, в бухте с пресной водой. Малинда — большой город. Жите¬
42
ли его занимаются охотой на земле и рыбной ловлей в море: на земле они охотятся на леопардов и волков, в море ловят разную рыбу, которую вывозят на продажу. У них есть месторождение железа, которое они раскапывают и разрабатывают... Жители Малинды утверждают, что умеют околдовывать хищных животных, так что те не причиняют вреда... Чародей у них, на их языке, называется ал-мканка. От этого города до города Манбаса по берегу [моря] расстояние в два дня {пути]. Ман баса —это небольшой город, принадлежащий зинджам. Жители его занимаются добычей железа... и охотой на леопардов... В этом городе находится резиденция царя зинджей. Все его войска состоят из пеших воинов, так как у них нет верховых животных... Они (зинджи.— И. Ф.) сами занимаются переноской грузов. Они носят свои товары на голове или на спине в два города — Манбасу и Малинду... У зинджей нет кораблей... только приходят корабли из Омана и других мест... Число жителей страны зинджей велико, но у них мало оружия. Правитель острова Киш в Оманском море [пользуясь этим] делает на кораблях набеги в страну зинджей и многих людей захватывает в полон...» [123, с. 237—238].
Если верить описанию ал-Идриси, города в его время еще оставались языческими. Но, судя по другим сведениям, в XII в. мусульманские фактории уже существовали в Мерке, Манде, Унгудже-Укуу на Занзибаре и в других городах. Некоторые исследователи считают, что во второй половине XII в. начали распространяться на юг ширазцы, жившие до того на Бенадир- ском побережье и в Шунгвайе. Они мигрировали несколькими волнами и расселились в Манде и Пате, в районе Танги, на Пембе, Мафии, на Коморских о-вах и в Кильве {406, с. 108, 111]. Несмотря на то что к тому времени ширазцы уже успели сильно смешаться с африканцами, в социальном отношении они представляли собой обособленную группу. От них ведут свое происхождение ширазские династии правителей городов побережья.
И сведения ал-Идриси и археологические данные свидетельствуют о том, что уклад жизни городов, просуществовавший до европейской колонизации, сложился к XII в. Города были ориентированы на торговлю, прежде всего со странами Востока. Вывозили из них слоновую кость, шкуры, черепашьи панцири, а из района Малинди и Момбасы, возможно, и железо. Ввозили керамику, стекло, ткани — больше всего из арабских стран и Персии. В пластах доширазского периода (т. е. до XII в.) археологи обнаружили осколки китайского фарфора.
Города располагались чаще всего на островах, а поля и охотничьи угодья — на материке. Горожане не отправляли караваны в глубь страны: то, что им нужно было для торговли с Востоком, можно было добыть на побережье или поблизости. Товары из внутренних районов попадали в города только в результате поэтапного обмена [406, с, 108—110].
43
XII век стал рубежом в формировании этнической общности суахили и становлении социальной структуры городов побережья. Конец XII в. совпал, видимо, с ускорением медленного и длительного процесса исламизации горожан. Во всяком случае, с этого времени никто уже не писал о них, как о язычниках. С XIII в. оживление торговли дало толчок расцвету Кильвы. Деньги играли все большую роль в хозяйстве. Шло формирование социальной структуры городского общества. Появление ширазской правящей прослойки превратило социальную пирамиду городов в этносоциальную и дало прецедент ее «достройки» сверху. Важные сдвиги произошли и в культуре. Со второй половины XII в. строилось все больше мечетей и других каменных зданий. Города начали постепенно обретать тот вид, в каком они предстали в конце XV в. взору Васко да Гамы.
История заселения территории Кении предками современных народов довольно сложна. Еще недавно английская колониальная историография представляла ее бесконечной цепью набегов, переселений, войн (см., например, [486, с. 418—419]). Читатель, которому преподносилась такая история, неизбежно должен был прийти к выводу, что колонизация была единственно возможным способом прекратить хаос и кровопролитие.
Подобные описания дают весьма одностороннее представление о заселении территории Кении, хотя в частностях они могут быть и верны. Миграции в этом относительно небольшом по площади районе были лишь частью длительного, шедшего тысячелетиями процесса заселения всего континента. Страна находилась в зоне пересечения нескольких миграционных потоков, и столкновения были неизбежны. Но миграции не были хаотическими. Их направления определялись климатическими условиями и расстановкой сил в каждом районе. Люди стремились найти наиболее благоприятные для своего хозяйственного уклада климатические условия, но вынуждены были соотносить свои возможности с военной силой соседей.
Самыми привлекательными районами и для скотоводов и для земледельцев оказались равнины Западной Кении и побережье Индийского океана. Скотоводы заселяли мало подходившие для земледелия северные и южные районы страны и соединяющую их Рифт-Вэлли. Чуть не в последнюю очередь (вероятно, из-за непривычно прохладного климата) земледельцы «открыли» плодородные и непривлекательные для скотоводов нагорья. Охотникам-собирателям оставались уменьшившиеся по площади леса.
Миграции растягивались на столетия и вовсе не были цепью непрерывных войн. Крупное сражение считалось большим событием, его помнили многие поколения. Мигрировали обычно отдельные кланы, группы кланов, больших семей или даже просто военные отряды, собиравшиеся вокруг талантливых и удач¬
44
ливых военных лидеров. В ходе мирного проникновения или конфликтов эти группы, зачастую не родственные ни в лингвистическом, ни в культурном отношении, перемешивались, взаимодействовали, влияли друг на друга. В Западной Кении и на побережье Индийского океана эти процессы шли наиболее интенсивно. Ассимиляция, культурные контакты, подчинение одних групп другими в ходе миграций стали важной, но не единственной составной частью этногенеза народов Кении.
Изначальной побудительной причиной миграций был рост населения, связанный с ростом производительных сил. При общем низком техническом уровне возможности прокормить это население в одной местности быстро оказывались недостаточными, следовала сегментация, а при наличии свободных земель — миграция. Уход части населения предотвращал важные социальные сдвиги, неизбежные при интенсификации производства. К началу колониального раздела практически вся территория современной Кении была заселена. Это означает, что в тот период народы ее внутренних районов стояли на пороге важных социальных сдвигов.
Собственно, эти сдвиги уже начались — сама интенсивность вооруженных конфликтов в XIX в. свидетельствовала об этом. Миграции, таким образом, не были движением без развития. Оценить их значение можно, лишь учитывая социальную перспективу, данную Ф. Энгельсом: «Возрастающая плотность населения вынуждает к более тесному сплочению как внутри, так и по отношению к внешнему миру. Союз родственных племен становится повсюду необходимостью, а вскоре делается необходимым даже и слияние их и тем самым слияние отдельных племенных территорий в одну общую территорию всего народа»
18, с. 164].
На побережье процесс этногенеза характеризовался некоторыми особенностями, поскольку в контакт вступали группы не просто разной этнической или даже расовой принадлежности, но, главное, представители разных уровней социально-экономического и политического развития. Пытаться взвесить вклад местного или восточного элементов в возникшую в результате взаимодействия цивилизацию — бесплодное занятие. Элементы эти сплавлены в единое целое, и любая попытка расчленить их может быть лишь условной. И в социально-экономическом, и в политическом, и в культурном отношении цивилизация побережья не могла бы возникнуть без какого-то одного из них.
История заселения территории Кении таит еще немало загадок. Новые исследования и находки могут способствовать решению некоторых важных и пока еще неясных вопросов и совершенно изменить наши представления о далеком прошлом этой страны. Вот только один пример. В легендах многих народов Кении упоминаются таинственные сириква, населявшие ее территорию, а потом исчезнувшие. В одних преданиях говорится, что сириква ушли к горе Элгон, в других рассказывает¬
45
ся, что, потерпев поражение в войне, они ушли на юг.
От сириква ведут свое происхождение некоторые кланы в районе горы Элгон. С этим народом связывают так называемые ямы сириква — углубления в земле, встречающиеся по всей территории Центральной Кении. Археологические раскопки показали, что ямы были когда-то окружены крепкими загородками или толстыми стенами, вход хорошо защищен. Они были сооружены, по-видимому, от двух до пяти столетий назад.
Большинство народов Западной Кении говорят, что их соорудили сириква. Масаи и гикуйю считают, что их построили гумба. Но кому только не приписывали их сооружение ученые! Одно из распространенных предположений состоит в том, что сириква — старое самоназвание календжин и что ямы служили им укрепленными загонами для скота [626, с. 48—51]. По другой версии, «ямы сириква» были сооружены народом, говорившим на языке масаев и происходившим откуда-то с горы Элгон, а затем заселившим плато Уазин-Гишу. Этот народ вел якобы смешанное земледельческо-скотоводческое хозяйство, строил ирригационные сооружения, обрабатывал железо. Ямы, по этой версии, использовались как жилища. Третье предположение: сириква не были предками ни одного из нынешних кенийских народов и до появления протокаленджин и масаев вместе с протодоробо населяли центральные районы Кении. Масаи отделили их друг от друга. Поселившись в разных местах, сириква дали начало гумба, а протодоробо — окиек [394, с. 75—76].
Многие данные свидетельствуют в пользу того, что сириква были бантуязычным народом. На это указывает прежде всего устная традиция. Слово «сириква» на языке кипсигис можно понять как «те, что ушли перед нами» — а это были банту. Исследователи ассоциировали сириква с банту уже давно. Потом от этого толкования отказались, но сейчас возвращаются к тому, что оно весьма правдоподобно [551, с. 27—28].
Как бы то ни было, загадка сириква не решена — а ведь есть и археологические данные, и устная традиция, и люди, считающие себя потомками этого народа. Да и жили сириква не в доисторические времена, а всего два-три века назад. Новые сведения о них изменили бы историю многих районов и народов Кении. Но пока остается довольствоваться лишь рассказами соседей об этом таинственно исчезнувшем народе.
«Сириква жили в ямах в земле. Они были добрым народом... Мы, окиек, жили на May (плато.— И. Ф.) до того, как пришли сириква. У нас были хорошие отношения с ними, потому что они были добрыми людьми. Они ни с кем не воевали... Мы продавали им глиняную посуду, и они научились у нас делать ее. Только их посуда была тяжелее нашей и не такая красивая... Масаи... воевали с сириква... Увидели сириква, что приходит им конец, и скрылись в пещерах в лесах May. А потом и совсем ушли — вон туда...» [394, с. 76].
Глава II
ЭТНОГЕНЕЗ, СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ ДОКОЛОНИАЛЬНОЙ КЕНИИ
«Сириква были добрым народом...»
По уровню социального развития в новое время на территории Кении можно выделить два типа обществ: безгосударст- венные общества внутренних районов и города-государства побережья. Народы внутренних районов по своему хозяйственному устройству принадлежали к различным хозяйственно-культурным типам. Среди них были охотники-собиратели, скотоводы и земледельцы.
Эволюция социальных институтов и культура народов внутренних районов
Охотничье-собирательское хозяйство вели лесные жители — доробо. Их образ жизни мало изменился за последнее столетие. Доробо осознавали свою общность, но у них не было никаких институтов, которые бы их объединяли. Чувство привязанности они испытывали по отношению к группе, жившей в одной местности и состоявшей из нескольких линиджей, члены которых прослеживали свое происхождение по отцовской линии от общего предка. Обычно это был выдающийся человек, живший два-четыре поколения назад. По прошествии трех-четырех поколений от старого линиджа ответвлялось несколько новых, но еще какое-то время они не утрачивали единства. Полное разделение новых линиджей наступало тогда, когда между их членами (т. е. внутри старого линиджа) начинали заключаться браки. Обычно линидж состоял из 50—80 человек.
Полевые исследования показали, что линидж, а не клан, как считалось раньше, являлся основой социальной структуры доробо. Линидж распоряжался (и распоряжается) земельными угодьями, платил возмещение, если его член нанес кому-то ущерб, выдавал замуж девушек и т. д. Выступал от имени линиджа его старейший член, но решения принимали все взрослые мужчины.
47
Исследователи считают, что некоторые социальные институты доробо-окиек позаимствовали у ближайших соседей. В районах, пограничных с территорией кипсигис, например, распространены патрилинейные кланы, названия которых совпадают с названиями ближайших кланов кипсигис. Члены клана считают его лишь полезным институтом общения с кипсигис, с которыми они ведут обмен. У масаев позаимствована система возрастных классов. Ее функции и структура почти полностью совпадают с масайскими, но некоторые названия и церемонии ведут, по-видимому, свое происхождение от календжин [394, с. 56—58].
Леса, в которых живут окиек, растут в основном по склонам гор и холмов. Участки, используемые каждым линиджем, это полоски земли шириной 30—60 км (от 20 до 40 миль), которые тянутся вверх по склону и пересекают несколько растительных зон. Благодаря этому окиек могут почти круглый год собирать мед — важнейший продукт обмена, используемый и в ритуале.
Члены линиджа имеют право собирать мед только на своем участке. Этому правилу следуют неукоснительно, а в спорных случаях происходят серьезные столкновения. Селиться и охотиться на чужих участках можно, хотя обычно так не делают. Это лишний раз доказывает важность меда в культуре окиек — ведь в их питании он занимает значительно меньше места, чем, например, мясо.
Доробо обменивают мед, бусы, деревянные ножны и щиты (многие красивые масайские щиты изготовлены их руками) на продукты скотоводства, орудия, украшения, утварь. Для себя доробо производят оружие и орудия собственного изобретения, в том числе особое копье для охоты на слонов, специальное лесное копье, туго сплетенные корзинки для переноски и хранения меда, определенный тип керамики и многое другое. Изготовление некоторых из этих предметов требует технической смекалки или хороших навыков [394, с. 59—61, 64].
Как формировалась культура окиек — неизвестно. Их устная традиция содержит сведения, самое большее, столетней давности, а культура — явно более древнего происхождения. Доробо говорят, что они «всегда были здесь» .[394, с. 69]. Но каково бы ни было их происхождение, можно считать доказанным, что окиек — не укрывшиеся в лесу от нападений соседей и голода и впоследствии деградировавшие группы живущих ныне народов, как утверждала колониальная историография. Это самостоятельная общность с самобытной культурой и особым физическим обликом.
Большинство земледельцев и скотоводов Кении вели смешанное хозяйство, в котором в разных пропорциях сочетались скотоводство и земледелие. Наиболее характерные примеры таких смешанных хозяйственных типов давали календжин и луо.
По переписи 1979 г., численность календжин — около 1,5 млн. человек ([86, 1982, с. 14]; 100 лет назад она составляла пример¬
48
но четверть нынешней. Среди календжин выделяют девять самостоятельных общностей: кипсигис, нанди, ньянгори, элгейо, туген, мараквет, покот, сабаот (подразделяются на кони, бок и бонгомек), себеи. Более половины численности календжин приходится на нанди и кипсигис. В культурном и лингвистическом отношении группы календжин не разделены четкой гранью, а постепенно переходят одна в другую (особенно это относится к мараквет, элгейо и покот). Не существует резко очерченной границы и между календжин и их бантуязычными соседями. У некоторых календжин внутренние различия и распри долгие годы играли большую роль, чем единство языка и территории. Календжин признавали свое родство, но это не сплачивало их. До конца колониальной эпохи у них не было единого самоназвания, а в доколониальные времена они воевали друг с другом так же, как и с соседями [424, с. 172; 626, с. 22—24].
Прежде считалось, что основой хозяйства календжин было скотоводство. В XIX в. у них действительно были большие стада, выпасавшиеся на дальних пастбищах в незаселенных местностях (например, отдельные участки плато Уазин-Гишу). Но возле селений всюду встречались островки обработанной земли, которые европейцы считали случайными. Лишь постепенно выяснилось, что земледелием календжин занимались «всегда» и что существовала определенная зависимость между численностью населения, поголовьем скота, который люди могли пасти и защищать, и площадью обрабатываемых земель. В колониальные годы с ростом численности населения и уменьшением количества пастбищ календжин начали расчищать леса и обрабатывать освободившиеся участки [626, с. 29—31]. Существует предположение, что скотоводством они занялись не более 200 лет назад под влиянием местных природных условий [551, с. 93].
Территория каждой общности календжин подразделялась на небольшие самостоятельные единицы. Делами каждой управлял совет старейшин. Наследственных вождей и должностей у календжин не было. Кланы и субкланы существовали и существуют до сих пор, но значение их невелико.
Социальная организация календжин была основана на еди ной для всей общности циклической системе возрастных классов, обеспечивавшей преемственность функционирования социального организма. Ко времени половой зрелости мальчики проходили длительную процедуру обучения, приобщения к традициям и ценностям общества и посвящения во взрослые.
Символика ритуала инициации была связана со скотом и войной и подчеркивала патрилинейный характер системы родства. Но в ней прослеживаются элементы культов, связанных с матрилинейностью, особенно у кланов, возводивших свое происхождение к бантусским народам и сириква. Во время инициации мальчики проплывали под аркой, установленной над рекой и символизировавшей корову. После этого, облачившись
4 Зак. 654
49
в одежду воинов и распевая военные песни, они собирали разбросанные яблоки, символизировавшие скот. Роль воды в этой и других церемониях, возможно, связана с культом плодородия и церемониями вызывания дождя, т. е., как считают некоторые исследователи, с древним, восходящим к банту, земледельческим пластом культуры календжин.
Кульминацией инициации была церемония обрезания. После церемонии мальчик получал новое имя — такой-то, сын (арап) такого-то. Все вновь обрезанные входили в возрастную группу (ипинда) младших воинов f551, с. 96—99, 125—126].
Каждая возрастная группа формировалась 15—20 лет, и в нее попадали и юноши и зрелые мужчины. Поэтому некоторые исследователи называют ипинда не возрастными группами, а поколениями. Когда старейшины закрывали каждую ипинда и объявляли об открытии новой, устраивалась важнейшая в жизни календжин церемония, символизировавшая передачу власти от одного поколения к другому. Те, кто был «младшим воином», становились «воинами у власти», бывшие «воины у власти» переходили в разряд «младших старейшин», а старейшины, оставшиеся в живых, занимали еще более почетное положение.
Хотя все дела решали советы старейшин, «воины у власти» тоже пользовались большим влиянием. Ведь именно они совершали набеги за скотом, пасли его и защищали. «Датируя» события, календжин говорили, что оно произошло, «когда такие- то были воинами». Функции старейшин сводились скорее к регулированию действий воинов, решению споров и сглаживанию трений между возрастными группами. Важнейшей функцией старейшин было объявление церемонии передачи власти от одного поколения к другому — от них зависело, когда открыть новую ипинда.
Цикличность системы заключалась в том, что у календжин было всего восемь названий возрастных групп: майна, чума, са- ве, коронгоро, кипкоимет, каплелах, кимньике и ньонги. Названия могли варьироваться, в некоторых случаях цикл сокращался. Первые три группы совпадали у календжин с гикуйю, камба, эмбу, меру. Цикл завершался за 100—150 лет, потом начинался новый \[551, с. 108—109; 626, с. 25—28].
Когда возникла эта система — неизвестно. Календжин говорят, что она была у них «всегда», хотя кипсигис и указывают на холм, где было проведено первое обрезание {551, с. 13—14]. Ученые почти единодушно называют систему возрастных классов у календжин «древней», однако X. Мванзи, основываясь на сведениях устной традиции, утверждает, что она оформилась в конце XVIII — начале XIX в. Он полагает, что система эта не была заимствована, а сложилась в связи с переходом к скотоводству и потребностью в сильной военной организации, возраставшей с учащением набегов масаев. Сначала возрастных классов было всего два, постепенно их число увеличивалось (551, с. 108—109].
50
Система возрастных классов календжин во многом определяла и характер их верований. Календжин считали, что духи умерших продолжали вечно жить, переселяясь в детей, внуков или правнуков, названных именами предков. Каждая новая возрастная группа считалась повторением своей предшественницы, носившей то же имя. Человек не уходил в вечность, а как бы постоянно возрождался вместе со всем обществом [551, с. 123].
Представление о верховном существе у календжин, как и у большинства народов Кении, было не очень четким. Кипсигис называли его Асис, Чепталель или Инголо. Не совсем ясно, одно ли это существо или три, а если три, то чем они между собой различаются. Асис — создатель всего хорошего в мире. Чепталель означает «светлая девушка». Ее культ связан, по- видимому, с церемонией вызывания дождя. Символ Асис и (или) Чепталель — солнце. Инголо — существо, заимствованное, возможно, у гусии и связанное с небом, с чем-то, что наверху [551, с. 116—119, 126—141].
Важным элементом политической организации календжин был институт оркойотов. До середины XIX в. оркойотом называли человека, наделенного способностью обращаться к сверхъестественным силам и прибегать к их помощи. Первоначально таким образом, оркойот был попросту ведуном.
В 1862 г. произошла война между двумя группами масаев — пурко и сигилаи. Сигилаи были разбиты, многие погибли, но отдельные группы ушли на запад и поселились среди нанди и кипсигис. X. Мванзи пишет, что некоторые из них стали кузнецами, вытеснив занимавшихся этим ремеслом гусии. А один клан — талаи, поселившийся среди нанди, сумел захватить функции прорицателей-оркойотов [551, с. 69—70, 82—84).
После этого с оркойотом по-прежнему советовались о времени набегов за скотом и начале сева, он готовил снадобье, защищавшее воинов в бою, считалось, что мог наслать порчу. Если предсказания оркойота не сбывались, его могли убить. Так, в 1890 г. из-за крупного военного поражения и эпизоотии был убит главный оркойот нанди — Кимньоле. Новое заключа лось в том, что принадлежность оркойотов к одному клану позволила им создать единую по всей стране нанди «службу». Главный оркойот назначал своих представителей в каждый район, и они подчинялись только ему. У него появились такие атрибуты власти, как свита и охрана. Влияние оркойотов способствовало централизации даже в тех сферах жизни, к которым они не имели прямого отношения. Так, церемония обрезания начала проводиться одновременно по всей стране нанд» ,[523, с. 65—71; 551, с. 127—133, 139, 142].
С усилением влияния оркойотов нанди превратились в одну из самых сплоченных и сильных в военном отношении этнических групп Западной Кении. В 1870 г. они нанесли первые поражения масаям, с 1880 г. начали совершать набеги на луо,
4*
51
.луйя, карамджонг и родственные группы календжин — элгейо, покот, туген. В 1884 г. нанди отразили набег крупного военного отряда масаев и после этого регулярно наведывались за скотом на территорию непобедимого до того врага /[514, с. 308— 309; 644, с. 76—77]. Оркойоты упрочили чувство принадлежности к единой общности не только у нанди, но и у пригласивших их к себе кипсигис. С середины XIX в. нанди не воевали с кип- сигис. Известны случаи, когда сильные группы кипсигис приходили на выручку попавшим в беду военным отрядам слабых f424, с. 172; 523, с. 61—62, 72]. Оркойоты — масаи по происхождению — могли способствовать и тому, что нанди начали перенимать масайские приемы ведения боя.
Влияние оркойотов постепенно распространилось и на другие группы календжин, хотя у нанди и кипсигис оно получило наибольшее развитие. Быстрое восприятие этого института свидетельствует о том, что в обществе календжин существовали предпосылки для централизации и возникновения первых форм власти.
Луо — третий по численности (после гикуйю и луйя) народ страны. Сейчас их 2 млн. [86, 1982, с. 14]. Во время миграции на территорию Кении луо занимались скотоводством и вели полукочевой образ жизни, их кланы, поселившиеся к северу и востоку от залива Кавирондо, часто воевали между собой из-за пастбищ. С ростом плотности населения, а отчасти в результате смешения с банту скотоводческое хозяйство луо сменялось земледельческим.
С течением времени развитие земледелия при отсутствии свободных земель стало важным фактором в формировании этносоциальной общности луо. Кланы или линиджи, первыми заселявшие какую-то местность, признавались главными среди тех, кто приходил позднее. Старейшины этих кланов распределяли землю и пользовались особым авторитетом при решении спорных вопросов и в руководстве военными действиями. Так складывалась система соподчинения [408, с. 155—156].
Большую роль в процессе формирования территориальных общностей сыграли и исторические традиции социальной организации луо. Еще на своей прародине западные нилоты, начав заселять холмы у речных долин, считали хозяином каждого холма того, кто первым построил на нем жилище. Только этот человек мог дать кому-то еще разрешение поселиться рядом. Его называли ретом (или руотом), и его семья становилась главной в селении. С течением времени рет обретал большую власть. Первым ретом луо считали Ньиканга, который поселил их на холмах и научил всему, что они умеют. Его потомки по мужской линии основали главный клан, а вокруг него возникли еще три группы кланов, подчинявшиеся первому [408, с. 145— 147]. Нечто подобное этой социальной организации начало возрождаться у луо с возвращением к оседлому образу жизни, переходом к земледелию, ростом значимости земли.
52
Миграция в Южную Ньянзу во второй половине XVII— XVIII в. способствовала усилению главных кланов, поскольку уходили в основном те, кто был недоволен их властью. Усилению сплоченности территориальных объединений, росту влияния ретов и осознанию луо своего этнического единства способствовали войны с масаями, календжин, луйя и миграция тесо, отсекшая луо от родственных народов Уганды. Между 1550 и 1750 г. в Северной и Центральной Ньянзе появилось, таким образом, несколько сильных территориальных объединений [408, с. 155—156].
В середине XIX в. луо делились на 13 территориальных подразделений. Кенийский исследователь называет их «племенами- государствами» или «племенными государствами» [568, с. 196— 207]. В действительности это были группы патрилинейных кла нов или линиджей, государственности у луо не было. Во главе каждой стоял рет, которому подчинялся совет старейшин. Были и отряды воинов, приводившие в исполнение волю рета. Но даже в XIX в. .недовольные в любой момент могли уйти, как зачастую и случалось [563, с. 49].
Несмотря на то что луо перешли к земледелию, одной из основных черт их культуры оставалось особое отношение к скоту. Скот играл важнейшую роль во всех сферах жизни: экономической, социальной, ритуальной. Корова была центром хозяйственного уклада: луо пили ее молоко и кровь, питались молочными продуктами и высушенной кровью; мясо использовалось в ритуале; из шкур делали постели, мешки, покрывала, щиты и т. д.; из костей — самые разные бытовые изделия; навозом мазали полы и стены, топили печи; мочой мылись и использовали ее как закваску при изготовлении молочных продуктов.
Церемония взаимного одалживания скота скрепляла дружеские узы. Брак считался узаконенным, когда семья жениха отдавала в семью невесты определенное количество голов скота. Скотом возмещали и причиненный семье или клану ущерб — увечье или убийство. Людям давали прозвища по особенностям их любимых коров. Скот приносили в жертву духам предков, он играл центральную роль во всех церемониях. Людей, у которых не было скота, презирали. Те, у кого его было много, пользовались уважением [408, с. 147—148]. Одним словом, писал кенийский историк, скот был для луо «основой благополучия, определял его положение в обществе, престиж и честь» {568, с. 30—33]. Земельными угодьями распоряжались кланы. Член клана имел право обрабатывать любой участок на его территории. После сбора урожая участки возвращались в общий фонд, но фруктовые деревья оставались собственностью тех, кто их сажал. С начала XIX в. каждая семья постепенно начинала обрабатывать один и тот же участок, но и тогда система землепользования оставалась общинной. Участок можно было уступить или подарить только члену клана; чтобы пере¬
53
дать его чужаку, требовалось согласие всех членов клана. Если чей-то участок требовался для нужд клана, держатель должен был искать другую землю.
Участок семьи делился между женами держателя, доля каждой жены — между ее сыновьями. Легко представить, что скоро участки были перенаселены, и безземельные сыновья и внуки вынуждены были мигрировать или уходить на заработки [563, с. 50—51].
Кенийский историк А. Очолла-Айайо, исследовавший «традиционную идеологию», т. е. духовный мир доколониального общества луо, писал, что жизнь представлялась им непрерывной. Они говорили, что человек и животные после смерти живут так же, как до нее, но только в глубине земли, под горами и лесами, под дном рек и озер. Мир умерших не печальнее и не хуже мира живых, наоборот, луо верили, что умершие достигают исполнения всех желаний. Духи умерших, считали они, по ночам приходят в дома своих родных. Рано утром люди могут повстречать духов, возвращающихся под землю [568, с. 171—172].
Клан, по мнению луо, состоял из всех его членов — живых, умерших и еще не родившихся, а церемонии и жертвоприношения нужны были для того, чтобы все они ощущали себя единым целым [568, с. 56]. Рет был символом этого единства. Считалось, что рет обладает сверхъестественными способностями и может связываться с Ньикангом и с главным духом — Джоком. Рет приносил особые жертвы, чтобы вызвать дождь или обеспечить победу в войне. На него возлагались определенные запреты, ограничения [408, с. 145—147; 563, с. 48—49].Джокалуи называли «старейшиной духов», который определяет судьбу человека, однако он представлялся им не существом, а некоей совокупностью душ, теней, духов предков, духов природы [568, с. 170—174, 177].
Магия играла в представлениях луо ту же роль, что и в верованиях других народов Кении. Она служила средством связи естественного со сверхъестественным на бытовом уровне. Очолла-Айайо различает колдовство и ведовство: «Ведун, знахарь — это человек, намеренно использующий зелье, снадобье или определенный предмет для мести или вообще для нанесения вреда. Он может также восстановить здоровье или благополучие пострадавших от вредоносных действий другого ведуна. Колдун — это человек, обладающий особой силой, заключенной в нем самом. Считается, что колдовские способности — врожденные. Они наследуются или могут быть приобретены путем выполнения особых обрядов». У каждого из колдунов и ведунов была своя сфера деятельности. Среди них были прорицатели, специалисты по вызыванию дождя, связям с духами предков и т. д. [568, с. 153—160].
Один из самых известных народов Кении — масаи (по переписи 1979 г.— около 250 тыс. [86, 1982, с. 14]). Эти сильные и
54
красивые люди неизменно привлекали к себе внимание европейских путешественников в XIX в. своим военным могуществом, а позже — физической выносливостью и силой, экзотическими обычаями, «благородной» осанкой, «добродушием» и т. д.— в общем теми достоинствами, которые готов был признать в африканцах английский патернализм. О масаях написано много, но история формирования их культуры и социальной структуры не изучена. Сведения о доколониальном обществе масаев, которыми располагают исследователи, относятся в основном ко второй половине XIX в.
По типу хозяйства масаев часто называют «чистыми скотоводами» или «типичными скотоводами» {257, 1970, № 6, с. 49; 350, с. 88]. Но это не совсем верно: масаи подразделяются на земледельцев — квави (илойкоп) и скотоводов — иль-масаев, т. е. «собственно» масаев. Иль-масаи считают, что квави произошли от «исчезнувших» илооголала, которые умели строить колодцы, жили в круглых каменных хижинах и занимались земледелием и скотоводством. Именно им масаи-скотоводы приписывают сооружение «ям сириква» [476, с. 23]. Некоторые исследователи отказывают квави и иль-масаям в родстве (см., например, i[257, 1970, № 6, с. 49]), но это мнение вряд ли можно считать доказанным: ведь и те и другие говорили на одном языке, в их социальной структуре было много общего, различия же в культуре определялись разными хозяйственными укладами.
Существует несколько объяснений происхождения этих различий. Одни исследователи полагают, что квави и иль-масаи разделились в ходе миграций из-за различий в климатических условиях и постоянных междоусобных войн. Другие считают, что еще в начале XIX в. квави были скотоводами, но к концу века лишились скота в результате военных поражений и вынуждены были заняться земледелием. Третьи утверждают, что эти различия уже существовали к началу XIX в. и что земледелие могло предшествовать у квави скотоводству [476, с. 23; 514, с. 304; 551, с. 82; 644, с. 80]. Видимо, вопрос о том, можно ли считать земледельцев-квави масаями, сводится к общей проблеме условности соответствия хозяйственных укладов этническим границам в доклассовом обществе.
Сейчас масаев-земледельцев на территории Кении не осталось, и поэтому дальше речь пойдет только об иль-масаях, которых в основном и исследовали этнографы. Исследования социального устройства общества масаев и их верований были обобщены и проанализированы советскими учеными К. П. Калиновской и К- Л. Татариновой.
В начале XIX в. масаи обладали огромными стадами скота, которые в строго установленном порядке перегоняли с одних пастбищ на другие по всей Центральной Кении. Было бы неверно сказать, что масаи постоянно занимали эту огромную территорию, но чужак не мог поселиться или даже просто по¬
55
явиться там без риска. Вся жизнь масаев с утра до вечера и с детства до старости была связана со скотом. Женщины и девушки доили коров, чистили их, готовили пищу, обрабатывали кожи. Женатые мужчины пасли, клеймили и забивали коров, разделывали туши. Воины захватывали скот в набегах и охраняли его. Маленькие мальчики пасли коз, овец, ослов, а мальчики постарше — зебу [350, с. 88—90, 94].
Основой социальной организации масаев была система возрастных классов. К. П. Калиновская выделяет три ступени в; возрастной системе масаев: 1) воины (младшие и старшие), 2) старшие (младшие и старшие), 3) старейшие. Церемонию обрезания масайские мальчики проходили в возрасте 12— 17 лет. Прошедшие инициацию вступали в новую возрастную группу, день открытия которой объявляли старейшие. После этого три года длился «закрытый» период, во время которого инициации не проводились.
После инициации юношей обучали воинскому искусству, и через два года они переходили в разряд воинов (моранов), пользовавшийся у масаев большим почетом. События прошлого масаи, как и календжин, датировали названиями возрастных групп воинов. Воинами (сначала младшими, потом старшими) масаи оставались до 25—30 лет. После особого ритуала воины становились старейшинами. Старейшины решали споры, обучали молодежь, указывали маршруты перекочевок, назначали и проводили важнейшие церемонии и т. д. Система возрастных классов охватывала и женщин [350, с. 91—94, 96].
Страна масаев делилась на несколько территориальных объединений. Кланы и субкланы сохраняли свое значение при женитьбе и наследовании, за ними сохранялось право пользования определенными водоемами. Но пастбищами распоряжалась территориальная община, а скотом — малые полигамные семьи. Делами общины ведал совет старейшин {257, 1970, № 6,
с. 49—51].
Системы возрастных классов и территориальных объединений тесно переплетались. Во время инициации мальчики каждого района выбирали главу своего военного крааля. Он улаживал конфликты и руководил воинами возрастной группы в мирное время. Военные вожди чаще всего выдвигались из среды сверстников благодаря храбрости в бою. Глава старших воинов района разбирал и решал споры всех воинов, намечал набеги, организовывал защиту. Старейшины тоже избирали из своей среды главного, которому подчинялись все младшие классы района.
Общество масаев было еще бесклассовым, но имущественное неравенство было отчетливо выражено. Богатство, исчислявшееся поголовьем скота, играло не последнюю роль при отборе кандидатуры на ту или иную должность. Должность, в свою очередь, способствовала умножению богатства.
В территориальных подразделениях важную роль играли
56
лайбоны. Они судили, пророчествовали, давали названия возрастным классам, служили посредниками между людьми и потусторонними силами. Все лайбоны принадлежали к одному роду.
Территориальные объединения не были связаны друг с другом ничем, кроме церемонии инициации (проводившейся одновременно по всей стране масаев) и личности великого лайбона. Влияние великого лайбона распространялось на всю страну. С конца XIX в. эта должность передавалась по наследству по мужской линии. Важнейшей функцией великого лайбона было объявление дня начала инициации новой возрастной группы [257, 1970, № б, с. 53—56]. Власть великого лайбона была отчетливо выражена, но закреплена только сакрально.
Масаи считали, что бог (вернее, верховное существо) отдал им весь скот на земле, спустив его с неба по ремню. Поэтому, отбирая скот у соседей, они только возвращают свою собственность. По преданиям масаев, до них на земле никого не было, кроме доробо, слонихи и змеи. Верховных существ у масаев несколько— Нгаи Нарок, Нгаи Наньоке и др. .[257, 1979, № 2, с. 54—60].
Масаев называют иногда «воинственным» народом, грозившим соседям-земледельцам чуть ли не истреблением. Действительно, масайские воины могли легко и быстро преодолевать огромные расстояния, их оружие — копья с широкими лезвиями. огромные щиты, обтянутые шкурами буйволов, дубинки из рогов носорога — делало их войско самым сильным в Центральной Кении. Во второй половине XIX в. торговцы с побережья обходили их пастбища стороной.
Но масаи не создали централизованного объединения, у них не было и единого войска. Даже воины одного района редко отправлялись за скотом все вместе. Земледельческие народы, жившие по соседству с масаями, были защищены лесами и реками, где шеренга масайских воинов, на равнине прикрытая сплошной стеной щитов, рассыпалась. К тому же земледельцы перенимали у масаев оружие и навыки ведения боя и укрепляли свои селения. Некоторые из них, как, например, гикуйю, не только воевали, но и вступали в союзнические отношения и активно смешивались с отдельными группами масаев. Таким образом, картина полной беззащитности «мирных земледельцев» перед масаями была нарисована колониальной историографией для оправдания вмешательства колонизаторов, предотвративших якобы полное уничтожение гикуйю, камба, гусии и др.
Сейчас иногда пишут, что слухи о кровожадности масаев намеренно распускали суахилийские торговцы, чтобы отпугнуть от своих торговых путей соперников-европейцев. Это один из возможных, но далеко не единственный корень легенды. Как бы то ни было, самые кровопролитные войны масаи вели не с другими народами, а между собой. Установить изначальную природу этих войн трудно. Большую роль в конфликте играло, по-
57
видимому, соперничество между влиятельными лайбонами. Ско- товоды-пурко — приверженцы лайбона Мбатиана — воевали, например с квави лайкипиа, жившими на северо-востоке масай- ской территории и поддерживавшими соперника Мбатиана — Койкойти. Но первые европейские путешественники по стране масаев отмечали, что большей воинственностью отличались квави и что именно они чаще всего совершали набеги и на соседей-земледельцев и на иль-масаев. Только Д. Томсон рассказывал о набегах и войнах масаев, не отмечая различий между квави и иль-масаями /[476, с. 25—27], но именно его точка зрения закрепилась в европейской литературе.
58
Начало вражды легенды относят к далеким временам, когда три группы масаев — матапату, киконьюкие и лайтокиток уни чтожили четвертую — илооголала. Когда это случилось — неясно [514, с. 304—305; 644, с. 80]. Самые кровопролитные войны иль-масаи и квави вели в XIX в. Первое из известных сражений произошло в 1815 г. на плато Уазин-Гишу. Есть свидетельства о столкновении масаев в районах к северу и к востоку от горы Килиманджаро. Победителями обычно оставались иль- масаи, а побежденными — квави.
В 40-е годы XIX в. произошло сражение между северными группами квави — лосегалаи, жившими между оз. Накуру и плато May, и лайкипиа. Пурко поддержали лайкипиа, и лосегалаи были разбиты. В начале 70-х годов уазин-гишу (квави) и сириа (иль-масаи), жившие к северу от Накуру, нанесли удар иль-масаям пурко, но те вскоре оправились и вместе с кисонго, ил-дамат и лойта разгромили недавних победителей. Войско уазин-гишу было почти полностью уничтожено. В конце 70-хгодов пурко сокрушили и лайкипиа. Кровопролитные междоусобные войны перемежались с природными бедствиями: нашествиями саранчи, эпидемиями холеры и оспы, эпизоотией.
Некоторые из оставшихся в живых квави поселились среди тавета, чагга и аруша. Разрозненные вооруженные группы квави Килиманджаро совершали кровопролитные нашествия на побережье. Остатки лосегалаи в долине Ньяндо разбили нанди и кипсигис. Остатки отрядов уазин-гишу нанимались на службу к главам кланов луйя. Часть лайкипиа поселились среди ги- куйю, другие ушли в район оз. Натрон и селения нджемпс на оз. Баринго [514, с. 305—308; 644, с. 82—84].
В колониальной литературе стало общим местом рассуждение о том, что в результате междоусобных войн масаев освободились и пустовали огромные пастбищные угодья в Рйфт- Вэлли и на плато Лайкипиа и Уазин-Гишу. Эти-то «пустые» земли и заняли якобы европейские поселенцы. В действительности Уазин-Гишу и Лайкипиа пустовали недолго. Уже с начала 90-х годов их использовали под пастбища календжин, да и численность переживших бедствия квави начала расти. Чтобы расселить на этих землях европейских колонистов в начале нынешнего века, английская колониальная администрация согнала оттуда десятки тысяч людей. Северную же часть Рифт-Вэлли иль-масаи заняли сразу после поражений квави.
Победы пурко принесли небывалый дотоле авторитет их лай- бону Мбатиану. Он прославился и как прорицатель и как военачальник, у него не было соперников среди других лайбонов масаев-скотоводов. В 1890 г. он умер, и его сыновья Ленана и Сендейо начали борьбу за первенство [644, с. 87]. Междоусобица дала англичанам повод для вмешательства. С 1894 г. они стали поддерживать Ленану, что и решило исход борьбы.
Среди земледельческих народов Кении выделяются своей численностью гикуйю. Сейчас их более 3 млн. человек [86,
59
1982, с. 14]. На рубеже XIX—XX вв. их насчитывалось около 500 тыс. Г148, с. 296; 236, с. 7, 80]. В колониальные годы, когда гикуйю стали авангардом антиколониальной борьбы, некоторые проблемы их доколониальной истории обрели политическое звучание, и потому она особенно часто искажалась и фальсифицировалась.
Основные этапы формирования общности и культуры гикуйю совпадали с главными этапами их миграции. Гикуйю рассказывают, что многие черты своей культуры — искусство изготовления железа, обычаи обрезания и клитородектомии, некоторые элементы системы возрастных классов — они переняли у гумба.
Кенийский историк Г. Муриуки пишет, что к началу XVII в. у них появились кланы, оформилась система возрастных классов, матрилинейный счет родства был заменен патри- линейным [544, с. 39—40, 43—44, 64].
На нагорьях гикуйю столкнулись с доробо-ати, масаями и «исчезнувшими» тикирри и позаимствовали у них много слов,, в том числе названия трех возрастных групп и ритуальных танцев во время инициации. В XIX в. гикуйю (особенно в северной части Гаки) переняли у масаев военную тактику [544, с. 64—66]. Эти влияния не противоречили друг другу, так как шли от народов, в определенной мере сходных в культурном отношении. Доробо в своих преданиях называют эндигири (те же тикирри) своими предками и считают их также предками квави и гумба. И квави лайкипиа и гикуйю Гаки ассимилировали большое число доробо. Между лайкипиа и гикуйю существовали тесные связи, закреплявшиеся браками [544, с. 41, 29]. Впрочем, еще более тесные и стабильные отношения гикуйю поддерживали с иль-масаями пурко. Родственные связи не играли большой роли: между собой и с близкородственными меру и эмбу гикуйю воевали не реже, чем с масаями [544,
с. 84—88].
Становление общности гикуйю на их нынешней территории характеризовалось не только новыми этнокультурными контак- тами (с доробо, оромо, сомали, а также масаями), но и становлением земледельческого хозяйственного комплекса, определившего важные сдвиги в их социальной структуре и культуре.
В колониальную эпоху вопрос о характере землепользования гикуйю, особенно в южных районах их страны (в Кабете), превратился в политическую проблему первостепенной важности. Колониальная администрация и европейские поселенцы утверждали, что землепользование у гикуйю было «племенным»,
т. е. что у земли не было конкретных хозяев. Любой человек, а значит и колонист, мог поселиться на любом свободном участке. Политические лидеры гикуйю, в первую очередь Дж. Кениата, а за ним и некоторые исследователи, утверждали, что у гикуйю, прежде всего в Кабете, существовала частная собственность на землю (об этом см. i[351, с. 294]).
60
Теперь установлено, что землепользование у гикуйю носило* не индивидуальный, а коллективный характер. Территория, которую они занимали, делилась на участки, которыми распоряжались мбари (одни исследователи считают мбари большими семьями (351; 544], другие — субкланами (202]). В Кабете такой участок назывался «гитакой». В общем пользовании оставались солонцы, дороги и лесные угодья. Купли-продажи земли не существовало, хотя гикуйю и говорили, что в Кабете главы мбари купили землю у доробо за скот. В действительности они получали эту землю, либо женившись на женщинах-доробо, либо выполнив с семьей доробо обряд взаимного усыновления.
Глава мбари не был собственником ее земли. Каждый член мбари имел право на участок внутри гитаки; ни один из участков нельзя было сдать в аренду, обменять, отдать или подарить до тех пор, пока все члены мбари от него не откажутся. Но и после этого, даже если земля уже была отдана в аренду, любой член мбари мог потребовать ее обратно.
В какой-то мере это правило продолжало соблюдаться и в колониальные годы. Даже в 1941 г. гикуйю говорили, что «мбари может повесить человека^ продавшего землю без ее согласия» [545, с. 125]. Г. Муриуки писал: «По обычному праву (гикуйю.—//. Ф.) продажи земли насовсем, навсегда не существовало» [545, с. 124].
В XIX в. мбари старались привлечь на свою землю арендаторов (ахои), чтобы увеличить боеспособное население. Это было особенно важно в пограничных районах. Ахои были членами других мбари, но по разным причинам предпочитали арендовать землю. Избыток земли давал им уверенность в том, что ни их, ни их потомков не сгонят с обрабатываемого участка [544, с. 34—35, 74—77; 545, с. 123—124].
Границы гитаки были строго определены, и увеличить ее площадь было невозможно. С ростом населения все большая часть ее обрабатывалась, число арендаторов росло, особенно в Кабете. Увеличение плотности населения гикуйю должно было бы привести к важным социальным изменениям в их среде. Однако засуха, эпидемии и голод, несколько раз обрушивавшиеся на их страну во второй половине 90-х годов, резко уменьшили их численность, особенно в южных районах, и замедлили этот процесс.
Мбари состояла из нескольких (или многих) малых семей. Ее называли по имени основателя, она прослеживала свое происхождение от одного из десяти кланов гикуйю. Кланы в повседневной жизни играли такую незначительную роль, что гикуйю начали забывать об их существовании: некоторые называли кланами мбари. Уже к концу XIX в. члены кланов оказались разбросанными по всей стране, общеклановые церемонии еще проводились на границе Метуми и Гаки, но очень редко 1544, с. 36, 112—115, 122].
Большую роль в упрочении единства общества играла си¬
61
стема возрастных классов. Словом «ринка» (возрастная группа) называли и группу юношей или девушек, прошедших инициацию в один год, и юношей, ставших воинами в течение одного «открытого» периода (когда инициации проводились каждый год), и «поколение»—часть общества, находившуюся в определенный период у власти. Через каждые 34—35 лет проводилась итвика — церемония передачи власти от одного поколения к другому. Она была очень сложной и длилась несколько лет. Одним из важнейших обрядов итвики было «падение» священного дерева уходящего поколения и освящение другого дерева, выбранного в качестве святыни новым. Считается, что в последний раз эта церемония проводилась в 1889—1893 гг. '[194, с. 190; 202, т. 3, с. 1078—1088; 543, с. 16—27].
Как и в других обществах, социальная организация которых базировалась на системе возрастных классов, особое место в жизни гикуйю занимала инициация. Она была одним из главных этапов обучения молодежи, приобщения к нормам и ценностям общества и знаменовала собой вступление молодых людей в число его полноправных членов. Важнейшей частью ритуала инициации у юношей было обрезание, у девушек — кли- тородектомия, дававшие вещественное и вечное доказательство принадлежности к гикуйю [542, с. 3—4]. Эти обычаи, таким образом, были полны для гикуйю глубокого сакрального смысла.
Делами возрастных групп управляли советы воинов и старейшин каждой территориальной единицы. Во главе каждого из них стоял мутамаки — влиятельный и обычно богатый человек. Мутамаки пользовался внешними атрибутами власти и носил знаки отличия, например серьги. Но было бы неверно сказать, что он действительно обладал властью — скорее это был просто авторитет [542, с. 6—7; 544, с. 121, 128; 545, с. 128 -129].
Верования гикуйю, как и всех доклассовых обществ, были тесно связаны с их повседневной жизнью. Социальное было неотделимо от сакрального, общение с потусторонними силами считалось необходимым элементом повседневной жизни каждого. Гикуйю молились духам умерших, оставляли им пищу, обращались к ним в любое время дня и ночи. Духи основателей мбари почитались особо и играли важную роль в ритуале. Считалось, что духи живут под землей, там у них есть дома, поля, одежда, скот. Гикуйю думали, что духи могут вселяться в животных, чаще всего в змей, и в людей.
Верховное существо гикуйю называли Нгаи, Мурунгу (от общеб.штусского корня — мунгу, мулунгу и т. д.), Мвенехинья (властелин),Мвененьяга (блестящий,сверкающий),Баба (отец). Гикуйю считали, что Нгаи создал весь мир. Но облик его неясен: он мог быть черным и белым, единым и двойным; в то же время он наделялся некоторыми антропоморфными чертами (мог говорить, слышать и т. д.). Гикуйю думали, что Нгаи
£2
живет и на небе и на земле. Его обиталище на земле — горы, окружающие страну гикуйю: гора Кения, хребет Ньяндаруа (Абердэр), холмы Ол Доньо Сабук и Нгонг. Молились гикуйю обычно лицом к горе Кения [202, т. 3, с. 1074—1088, 1103— 1106; 544, с. 112].
Мунду муго — ведун, знахарь, прорицатель — был одним из самых известных и авторитетных людей деревни. Чтобы стать мунду муго, нужно было обладать способностями, долго учиться и пройти особую церемонию инициации перед началом дея тельности. У известных ведунов существовала более или менее узкая специализация: лечение тех или иных болезней, обнаружение колдовства и борьба с ним и т. д. Были и знаменитые прорицатели, которым приписывают предсказание эпидемии оспы и мора среди масаев, голода в 1900 г. и многих других бедствий гикуйю.
Мунду муго иногда обращался с молитвами к Нгаи, потому что «вся магия исходит от бога», но никогда не считал себя служителем культа или человеком, передающим волю Нгаи. Во время молитвы мунду муго обращался не к четырем горам, а к солнцу. Мунду муго четко отличался от муроги — колдуна,, действовавшего во вред людям — иногда сознательно, иногда нет. Муроги мог производить те же действия, что и мунду муго, но, совершенные тайно, под покровом ночи, они считались вредоносными. Если муроги удавалось уличить, его убивали [176, с. 36—38; 202, т. 1, с. 16, т. 3, с. 1120—1123].
Один из народов, чей хозяйственный уклад приближался к чисто земледельческому,— миджикенда. По переписи 1979 г. их было больше 700 тыс. человек i[86, 1982, с. 14]. Миджикенда («девять деревень»)—общее самоназвание девяти народов со сходными хозяйственно-культурными укладами и единым (хотя и с диалектными различиями) языком: каума, чоньи, джи- бана, гириама, камбе, рибе, рабаи, дурума и диго. Культурные различия между народами миджикенда восходят ко времени их жизни в Шунгвайе. Там зародилась система кланов и возрастные группы каждого из них.
Миджикенда живут на возвышенностях, тянущихся вдоль океанского побережья. Первоначально они селились на труднодоступных для врага вершинах холмов. Там они строили крупные укрепленные селения (кайя), по одному-два на каждый народ: кайя Гириама у гириама, кайя Рибе у рибе и т. д. В кайя Рибе в 1844 г. проживали 600—700 человек, в кайя Камбе в 1848 г.— около 1500, а в кайя Каума в 1862 г.— около 1 тыс.
Существовали ли кайя в Шунгвайе — неизвестно. Но магические предметы, являвшиеся ритуальным центром каждой кайя (у чоньи — «камень с грудями», у гириама — нечто, называвшееся «нгириама»), они принесли оттуда. Эти предметы были главными святынями миджикенда. Английский исследователь Т. Спиар пишет, что люди, которые несли их из Шунгвайи, должны были умереть, опустив их на землю if620. с. 263—267,
63
A111 273]. Эти реликвии составляли главную особенность веро-
напмн миджикенда, в остальном близких к верованиям других земледельческих народов Восточной Кении (подробнее см. [154, с. 31, 35]).
Священные предметы закапывали в землю в центре большой пустой площадки, и их больше никто не видел. Там же находился дом совета старейшин. Вокруг располагались жилища, группировавшиеся по кланам. Селение окружал густой лес. Пробраться через него можно было только по нескольким специально проложенным тропкам, которые вели к тройным хорошо укрепленным воротам кайи. По склонам холмов тянулись поля. В 90-е годы прошлого века с уменьшением опасности набегов оромо миджикенда начала покидать кайя и основывать небольшие поселения, разбросанные сейчас по всей стране [154, с. 10; 620, с. 273—274].
Земля у гириама считалась собственностью всего племени. Старейшины имели право только распределять ее. Но на практике, получив участок, семья жила на нем постоянно. Переделов не было, и никто не мог без разрешения занять уже отведенную кому-то землю, даже если она пустовала [154, с. 21].
Основой социальной структуры миджикенда был клан. У гириама, например, было 26 кланов (мбари), сгруппированных в шесть групп, которые назывались «мбари я кайя». Каждая из этих групп входила в одно из двух объединений, на которые делилось все общество [[154, с. 10—И].
Мужчины каждой кайи объединялись в возрастные группы (рика), являвшиеся основой социального устройства. Рика состояла из 13 подгрупп, формировавшихся одна за другой из подраставшей молодежи через каждые 4 года. Формирование рики, таким образом, занимало 52 года. Инициацию проходила вся рика одновременно. После этого члены первых трех подгрупп сразу становились старшими старейшинами. Через семь- десять лет они уступали свои прерогативы следующим подгруппам. К тому времени, когда все члены рики заканчивали свое пребывание в статусе старших старейшин, сформировывалась новая рика {620, с. 271—273].
Большую роль в жизни гириама играли тайные общества: женское и мужское, объединявшие всех женщин и мужчин деревни; общество Гохо, объединявшее старейшин; наиболее привилегированное общество Вайя, в которое входили самые влиятельные старейшины и ведуны. Обряды, связанные с культом гиены, помогали обществу Вайя держать непосвященных в страхе перед священным животным и в подчинении обществу. «Гиены» занимали господствующее положение среди гириама и собирали дань с непосвященных [154, с. 22—23, 30].
Формирование региональных хозяйственных комплексов
Хозяйство, социальные, политические и религиозные институты доколониальных обществ внутренних районов Кении составляли единое, нерасчленимое целое. Ни один элемент не существовал независимо от других. Но весь комплекс постоянно видоизменялся, развивался под воздействием внешних и внутренних факторов (изменение почвенных и климатических условий; смешение с другими народами; появление воинственных соседей и т. д.). Одним из главных факторов, оказавших большое воздействие на трансформацию социальных структур и культуры доколониальных обществ, был обмен.
Обособленных и полностью самообеспечивающихся народов, какими они выглядят в работах колониальных историков и этнографов, в доколониальной Кении не существовало. Естественной причиной возникновения обмена были различия в почвенных и климатических условиях соседних территорий и региональная хозяйственная специализация. С течением времени обмен становился все более важной формой связи между отдельными группами и важнейшим элементом в формирующемся хозяйственном комплексе каждого региона. Характер обмена определялся уровнем социального развития, особенностями природных условий и хозяйственным укладом жителей каждого района.
Примеров формирования региональных хозяйственных комплексов много. В Западной Кении вели интенсивный обмен луо и гусии. Благоприятный климат и хорошие почвы нагорий позволяли гусии производить излишки продукции земледелия. Луо тоже занимались земледелием, но сочетали его со скотоводством и рыболовством. В трудные годы луо зависели от поставок зерна гусии, гусии, в свою очередь, постоянно нуждались в продуктах скотоводства и выменивали у луо шкуры, жир, молоко. Кузнецы гусии, славившиеся своими изделиями из железа, давали на обмен мотыги, топоры, стрелы, копья и ножи. Луо выменивали у гусии и мягкий камень, из которого вырезали фигурки и посуду, а гусии у луо—рыбу, соль, корзины, керамику, барабаны, украшения из перьев. Обмен вели женщины, заходившие вместе с детьми далеко в глубь территории соседей. Обидеть их считалось тяжким преступлением и в мирное и в военное время [561, с. 102—103].
Постоянный обмен совершали луо и луйя, окиек и календ- жин, окиек и масаи, масаи и гикуйю и др. Зачастую устанавливались постоянные связи между определенными кланами и семьями, иногда вступавшими в родственные отношения. Нередко такие связи поддерживали между собой семьи или кланы, имевшие общее происхождение. Гикуйю, например, вели постоянный обмен с семьями своих дальних родственников пурко и близких — лайкипиа. Несмотря на то, что в XIX в. войны между гикуйю и лайкипиа были почти постоянным явлением,
5 Зак. 654
65
женщины и с той и с другой стороны беспрепятственно приходили в семьи своих родственников и обменивали шкуры, кожи и скот на зерно, табак, сосуды для молока. Воины, иногда сопровождавшие группы женщин, могли подвергнуться нападению, но самих женщин обычно не трогали [545, с. 131 —133].
В местах, лежавших на пересечении торговых путей, особенно в густонаселенных районах Западной Кении, возникло несколько больших постоянных рынков. Определенных рыночных дней не было, торговля велась нерегулярно, но место рынка было строго определено, и хозяин территории, на которой он был расположен, собирал пошлину с торговцев [453, с. 100].
Для некоторых народов торговля стала одним из важнейших занятий и одним из главных источников дохода. На территории Западной Кении это относится прежде всего к жителям островов оз. Виктория. Некоторые из них участвовали в тройном обмене с Бусогой (Уганда) и Мусомой (Танзания). Они преодолевали большие расстояния на каноэ, хорошо знали положение на каждом местном рынке. У луо жители островов обменивали свою рыбу на зерно; зерно обменивали у жителей Мусомы на скот; в Бусоге за скот получали бананы и железные украшения — товары, пользовавшиеся большим спросом на островах и в стране луо. Жители о-ва Магета и близлежащего района кенийского побережья, носившего название Иимбо, обменивали в Южной Ньянзе зерно, копья, стрелы, мотыги и привезенные с южного побережья Виктории бананы, соль, украшения. Получали они в основном скот [563, с. 59—60].
В восточных районах Кении подобным посредничеством в обмене занимались камба. Камба превратились в «торговый» народ из-за бедности почв и засушливого климата почти всей их территории. За короткое время они перешли от переложного земледелия к террасному, научились искусственному орошению,, начали продавать соседям сильнодействующие яды собственного производства, красители, керамику, охотничий инвентарь и снадобье для подавления аппетита, использовавшееся во время путешествий. Обмен стал одним из важнейших способов выживания. Само слово, которым камба называли обмен, означает «поиски пищи» [474, с. 198—201, 215, 218].
В 20—40-е годы XIX в. камба создали систему караванной торговли, на которой в большой степени базировался их хозяйственный уклад. Своим соседям (гикуйю, эмбу, мбере и тарака) камба сбывали в эти годы товары не только свои собственные (яды, скот, наконечники для стрел и т. д.) но и те, что выменивали в городах побережья Индийского океана. В северной части страны камба сложилась система селений, обеспечивавших торговые караваны всем необходимым [474, с. 215, 218—219].
Связи с побережьем камба начали устанавливать с конца XVIII в., когда некоторые семьи мигрировали туда в поисках более благоприятного климата. Семьи камба селились непо-
66
цалеку от Момбасы, среди рабаи, после каждого голодного года. Обмен с миджикенда через эти семьи был естественным продолжением общей торговой активности камба. Миджикенда же начали торговать и поддерживать постоянные связи с прибрежными городами еще за два века до этого /[474, с. 213—218; 487, с. 79—80; 514, с. 307, 318].
Из всех товаров, которые камба могли предложить жителям прибрежных городов, тех больше всего интересовала слоновая кость. Возможно, они заинтересовались бы и рабами, но камба неоткуда было их брать: захватывать для продажи в рабство масаев и гикуйю им было трудно, а до продажи своих соплеменников общество камба еще не дозрело.
В обмен с побережьем была больше вовлечена восточная часть страны камба — Китуи. Объяснялось это и тем, что поблизости от Китуи было несколько слоновьих пастбищ, и тем, что эти районы особенно засушливы и там чаще случались голодные годы, да и оромо чаще нападали именно на эту ближайшую к ним часть страны. Постоянная угроза способствовала сплочению и организации общества, придавала ему большую мобильность. Наивысшего расцвета торговля с побережьем достигла в 40-е годы XIX в., когда почти каждую неделю караваны камба в 300—400 человек появлялись на побережье и приносили по 300—400 фрасил (единица измерений веса слоновой кости, приблизительно равна 35 фунтам) слоновой кости [487, с. 81].
Даже в тех обществах, для которых обмен был не самым важным видом хозяйственной деятельности, его развитие оказывало определенное воздействие на социальную структуру. Появление профессиональных проводников и переводчиков (хингч) среди гикуйю, рост богатства и влияния кланов кузнецов среди гусии, обогащение глав кланов, на территории которых i а- ходились рынки, среди луо,— вот лишь некоторые из так<х социальных последствий. Народы, участвовавшие в торговле ча большие расстояния, испытали на себе ее воздействие в большей степени. Караванная же торговля с побережьем требовала особенно большой подготовки и хорошей организации.
У камба караванной торговлей занимались межклановые ассоциации, насчитывавшие сотни человек. Костяком ассоциации была обычно группа родственников, чаще всего сплачивавшаяся вокруг умелого или удачливого лидера: охотника, торговца, воина, главы клана. Устная традиция сохранила около 30 имен самых известных из них. Одну ассоциацию, правда недолговечную, возглавляла женщина. Руководитель должен был организовать охотничью экспедицию за слоновой костью и доставку бивней в свое селение, а потом снарядить караван к побережью. Селения руководителей ассоциаций насчитывали до 500 жителей {474, с. 223—225].
Члены ассоциаций быстро богатели. По свидетельству европейского миссионера и путешественника И. Л. Крапфа, к 1849 г.
5*
67
у торговцев камба было столько товаров с побережья, что они обменивали свою слоновую кость только на скот, и суахилий- ские торговцы вынуждены были закупать его специально [500, с. 90]. Богатый и удачливый торговец пользовался большим влиянием. Его называли «мунду мунене» («большой человек»).
Известный торговец Кивои, описанный Крапфом, вмешивался в конфликты соседей и «продавал» свою защиту тому или иному селению. Он часто подменял совет старейшин в роли судьи. К нему обращались даже охотнее, поскольку у него были люди и средства, чтобы привести приговор в исполнение: караванщики Кивои имели даже несколько мушкетов. Говорили,, что Кивои собирал дань с живших поблизости масаев [198, с. 295, 298, 314 и др.; 474, с. 225—227; 500, с. 89—90].
Еще одним социальным следствием торговой активности камба исследователи считают усиление в их обществе во второй половине XIX в. роли атани — провидцев, целителей, ведунов. В отличие от более ранних времен атани сочетали функции знахарей, ведунов, вызывателей дождя.
Большую роль в развитии караванной торговли сыграли прибрежные жители — миджикенда, особенно гириама, диго и ра- баи. Из всех народов Кении они были наиболее тесно и постоянно связаны с побережьем, и их общество в наибольшей степени испытало на себе воздействие этих связей. Уже в начале XVII в. миджикенда снабжали города побережья зерном,, опиумом, табаком, слоновой костью. Продавали и рога носорогов, шкуры, фрукты, овощи. С начала XVII в. налаживались политические связи. Португальцы часто упоминали миджикенда как союзников жителей городов. В 1729 г., когда горожанам удалось изгнать португальцев, представители всех девяти мид- жикендских кайя отправились в Оман вместе с их посольством. Во время войн, которые вели жители Килиндини и Мвиты (островной и континентальной частей Момбасы), а также династии Мазруи и Бусайди, они выступали на стороне тех или иных сил и получали за это определенную плату.
С 1823 г., когда оманцы захватили Пембу, Момбаса почти полностью зависела от поставок зерна торговцами миджикенда. Даже после того, как Момбаса стала вассалом занзибарского султана, миджикенда оставались ее главными торговыми партнерами вплоть до 50-х годов XIX в. {620, с. 279—280].
С середины прошлого века в обществе миджикенда стала выделяться прослойка людей, выдвинувшихся благодаря своим торговым связям и богатству. Подобно камба, известные торговцы создали клиентно-иерархические организации, пользовавшиеся порой большим авторитетом, чем советы старейшин. Обычно они устанавливали кровнородственные связи с семьями как камба, так и суахилийских торговцев. Известный торговец Мвакиконго практически монополизировал торговлю с Вумбой.. Созданная им кайя Дзомбо поставляла в Вумбу продукты, а в случае необходимости — войско. Правители Вумбы выказы-
68
пали Дзомбо всяческое уважение, каждая сторона принимала участие в выборах правителя другой. В тяжелые времена таким богатым и влиятельным торговцам миджикенда отдавали в залог себя и своих детей, к ним в селения стекались тысячи беглых рабов {620, с. 276—279].
Караванная торговля миджикенда и камба сыграла важную роль не только в их собственной истории, но и в истории всей страны. Она не была чем-то совершенно новым. Связи побережья с внутренними районами существовали, видимо, с давних времен. У живущих там народов находят раковины каури, железные украшения, стеклянные бусы, попавшие к ним с побережья задолго до XIX в. (см., например, {626, с. 31]). Возможно, около XVI в. поэтапный обмен с побережьем наладили окиек и сириква; во всяком случае, раковины каури и у тех и у других были [551, с. 159—160]. Но миджикенда и камба первыми из народов внутренних районов установили систематические, постоянные и, главное, непосредственные связи с побережьем. Они приносили в глубь страны рассказы об увиденном, от них черпали жители городов побережья первые сведения о географии и народах внутренних районов Кении. Нужно только учитывать, что сведения эти исходили не от беспристрастных любителей истины, а от людей, кровно заинтересованных в сохранении своей монополии на торговлю.
Кто бы ни был создателем караванного пути к побережью — яо в Мозамбике, ньямвези в Танганьике или камба и миджикенда в Кении,— этот путь раньше или позже попадал в руки торговцев с побережья и становился каналом проникновения внутрь страны новых понятий и отношений.
Во внутренние районы Кении суахилийские торговцы проникли позже, чем на территорию Танганьики и в Межозерье. В 1848 г., когда они были уже хорошо знакомы с Межозерьем, Крапф писал, что в Момбасе только один торговец, бвана Хе- ри, знает районы к западу от нее [500, с. 88]. Причин тому было несколько: трудности преодоления пустынных земель к западу от хорошо изученной страны миджикенда, враждебное отношение гикуйю и нанди, не допускавших суахилийские караваны в глубь своих территорий, непредсказуемость реакции на появление каравана масаев и оромо.
В 50-х годах положение постепенно менялось. Оромо начали посылать караваны со слоновой костью в страну миджикенда и разрешать миджикенда торговать на своей территории. Народы, жившие вокруг горы Кения, особенно эмбу и мбере, нападали на караваны камба и пытались наладить свои связи с побережьем. Иногда они объединялись с суахилийскими торговцами. В стычке с грабителями, описанной едва избежавшим смерти Крапфом, погиб в 1851 г. Кивои. Его смерть знаменовала начало заката торговой монополии камба.
Суахилийские караваны начали проникать в страну камба и покупать слоновую кость на месте. В Момбасе торговец поку¬
69
пал, например, девочку-рабыню, вел ее в страну миджикенда и обменивал на коров. Коров он гнал в страну камба и обменивал на слоновую кость, которую продавал в Момбасе, получая семи-восьмикратную прибыль [500, с. 89—90, 98—99].
Введение в «торговый оборот» рабов не могло не оказать большое воздействие на вовлеченные в обмен общества. До того ни у миджикенда, ни у камба рабов не было. Побежденных убивали, оставляя в живых только маленьких детей, которых усыновляли и воспитывали в традициях своего народа, не делая разницы между своими и захваченными сыновьями и дочерьми. Даже о миджикенда, тесно связанных с побережьем, Крапф в 1845 г. писал: «У ваньика вообще нет рабов... кроме как у самых богатых». Через несколько лет картина изменилась. «Те ваньика,—отмечал Крапф,— которые хоть немного разбогатели на торговле, начинают очень скоро подражать суахили, используя рабов для домашних и сельскохозяйственных работ». К 1853 г. камба тоже покупали рабов — «не только женщин, но и мужчин — для обработки земли и выпаса скота». «Суахили снабжают их с радостью, так как не могут больше продавать рабов в Аравию» (в это время уже действовали договоры англичан с султаном Занзибара, ограничившие работорговлю) 198, с. 357; 500, с. 90—91].
В последние десятилетия XIX в. камба и миджикенда начали заниматься работорговлей. Лишь немногие из рабов, продававшихся на побережье, попадали туда из внутренних районов Кении, и в Восточной Африке эти районы меньше других подверглись воздействию работорговли. Но все же народы, жившие вокруг горы Кения, а также покомо и масаи до сих пор помнят, что камба продавали в рабство их соплеменников [500, с. 100]. Австрийские путешественники С. Телеки и Л. Хёнель сообщили, что гикуйю, в свою очередь, пытались продать им масайских девушек и камба [127, с. 249].
К 70-м годам торговцы с побережья, проторив путь через территорию тейта и камба, обойдя гикуйю и наладив отношения с квави на побережье оз. Баринго, вышли к заливу Кавирондо. В 80-е годы они достигли горы Элгон и заходили еще дальше на север и запад [514, с. 316—318]. Гикуйю, масаи и календжин не принимали активного участия в торговле, но обменивали продовольствие на товары, которые предлагали суахилийские торговцы. В этот период обмен далеко не всегда проходил мирно. Часто случались столкновения и стычки, суахили иногда захватывали и уводили в рабство своих «торговых партнеров», грабили селения и поля, забивали скот. В результате и караваны часто подвергались нападениям. Вырезали иногда всех, кто не успел спастись бегством.
Для защиты от нападений торговцам приходилось расширять состав караванов, нанимать вооруженную охрану — аскари. В одну экспедицию отправлялось порой до 1 тыс. человек. На южных караванных путях в этом не было необходимости.
70
Там суахилийским торговцам удалось установить постоянные контакты и оказывать влияние на политическую ситуацию. Возможно, именно небезопасностью северного, т. е. кенийского, торгового пути объясняется то, что на него приходилось лишь около 20% торгового оборота суахилийцев {514, с. 319—320].
Другое дело — территория вокруг горы Элгон, побережье и острова оз. Виктория — конечные пункты этого торгового пути. И в культурном и в экономическом отношении эти районы были тесно связаны с Межозерьем и уже участвовали в торговле. С появлением суахилийцев здесь возникали торговые фактории и небольшие мусульманские общины, быстро развивалась работорговля, появилось рабовладение. Жители Магеты и йимбо начали захватывать в Южной Ньянзе рабов. Большую их часть они обменивали в Буганде и Бусоге на бананы, украшения и соль, меньшую оставляли себе. Работорговля приносила доходы: когда в 1875 г. на Магете побывал Г. М. Стэнли, он увидел многочисленные и многолюдные деревни и хорошо обработанные рабами поля зерновых и кассавы [563, с. 60].
Набеги за рабами в этих местах чаще всего организовывали сога. Они нападали на земли буньяла и самиа (объединения кланов луйя), уводили захваченных рабов в Бусогу и продавали там суахилийцам или ганда. Жители этих районов пытались защитить свои селения. Для борьбы с работорговцами они усовершенствовали копье (самиа славились искусством плавки железа по всей стране луйя), перестроили организацию войска. Но все это мало помогало [590, с. 128].
К середине 90-х годов главным центром работорговли в Западной Кении стала страна ванга (объединение кланов луйя). В 80—90-е годы в главном селении ванга арабо-суахилийские караваны пополняли запасы продуктов и отдыхали перед походом дальше на север за рабами и слоновой костью [563, с. 73; 644, с. 60—61].
Набонго страны ванга (главы основного клана этого объединения — шитсетсе) стремились использовать оружие и военный опыт работорговцев для расширения своей сферы влияния. Работорговые экспедиции часто отправлялись на земли враждебных ванга кланов луйя, и тогда ванга становились активными участниками походов. Д. Томсон рассказывал о крупном набеге работорговцев на букусу (объединение кланов луйя) з конце 70-х годов. В походе приняли участие 1500 воинов ванга [590, с. 84]. Известно, что в набегах набонго Мумиа на соседей в 1889 и 1893 гг. принимали участие работорговцы «Абдулла» и «Жирный Суди» со своими людьми {486, с. 420].
На определенном этапе этот союз казался взаимовыгодным. Работорговцам было трудно обойтись без стабильной базы в этом районе, а набонго ванга из поколения в поколение расширяли свою территорию и умножали богатства. Мумиа был хорошо известен кабаке Буганды и поддерживал с ним постоянные связи. Его знали по всей стране луйя, и если не подчиня¬
71
лись, то во всяком случае считались с ним. На службе у набон- го состояло несколько тысяч воинов-масаев из кланов, разбитых в междоусобных масайских войнах. Платили им скотом [590, с. 75, 84, 118; 644, с. 60—61]. В результате ванга стали самой сильной подгруппой луйя. Некоторые кенийские историки, явно завышая уровень социального развития страны ванга, называют ее «большим государством» или даже «централизованной монархией» (см., например, [644, с. 58—59]). На самом деле это была только одна из более чем 30 подгрупп луйя. Благополучие ванга было недолговечным и призрачным. Работорговля была шатким основанием для процветания, и дальнейшие события доказали это.
Западные, да и кенийские историки называют несколько причин «перехвата» караванной торговли у камба и миджикенда суахилийцами: уход слоновьих стад в более отдаленные места, падение могущества масаев и оромо, наличие у суахилийцев огнестрельного оружия. Все это верно. Но главная причина заключалась в том, что в XIX в. работорговля стала для арабо- суахилийских торговцев прибрежных городов гораздо более выгодным занятием, чем прежде. Западноафриканское побережье строго контролировалось судами европейских держав, и единственным «легальным» каналом вывоза рабов до 1845 г. оставались азиатские владения султана Занзибара. Когда работорговля была запрещена и здесь, обмен с внутренними районами стал тем более важен для суахилийских торговцев.
Города кенийского побережья
С XIII до второй половины XV в. самым сильным и могущественным городом восточноафриканского побережья была Кильва. Арабский путешественник Абу Абдаллах Мухаммед Ибн Батута, побывавший на побережье Восточной Африки около 1332 г., рассказывал о Момбасе, как о довольно бедном (по сравнению с Кильвой) городе, хотя и отметил многие из известных по более поздним временам черт.
«...Манбаса... это большой остров; между ним и землей ас-Савахил два дня пути морем. У Манбасы нет суши, а ее деревья — это бананы, лимоны и апельсины... У жителей этого острова нет посевов, зерно им доставляют лишь из ас-Савахила; основная их пища — бананы и рыба. По мазхабу это шафии- ты — верующие, целомудренные и благочестивые. Мечети их из дерева, крепко построены, и возле каждой двери в мечетях — колодец или два... Земля вокруг мечети и колодца выровнена. Кто желает войти в мечеть, омывает ноги евои и входит... Все люди ходят здесь босиком» [123, с. 2841).
Постепенно города кенийского побережья развивались и богатели. Археологические раскопки в Геди дают представление о том, что в XIV—XV вв. они выглядели примерно так, как выглядят теперь старые кварталы мало изменившегося за прошедшие столетия Ламу. Дома лепились один к другому, квар¬
72
талы разделялись узкими улочками, за домами были садики. Почти все дома были одноэтажными, только в крупных городах встречались двух-трехэтажные. Плоские каменные крыши поддерживались деревянными балками. Комнаты были очень маленькими. За украшенным резьбой по камню входом в дом располагался внутренний дворик, затем шли приемная комната или веранда, главная жилая комната, спальни. В каждом домо обязательно был хотя бы один каменный туалет^ В домах Ге ди были комнаты для охлаждения сосудов с водой.
Окна располагались лишь на фасаде, выходившем во внут ренний дворик, так что в комнатах, видимо, было темно. Зато толстые стены и потолки хорошо защищали от жары. Стены штукатурили и украшали коврами и деревянными резными фризами. По обе стороны от входа делали ниши, в которые ставили кораллы. У богатых горожан была арабская глазурованная посуда, а иногда и китайский фарфор. К XV в. даже бедняки имели специальную обеденную посуду. Богатые горожане носили одежды из тонкого шелка и хлопчатобумажных тканей, у них было много золотых и серебряных украшений [406, с. ИЗ— 116].
Португальский хронист Д. Барбоза, посетивший Момбасу в начале XVI в., писал: «Там есть город мавров под названием Бомбазе (Момбаса), очень большой и красивый, с высокими прекрасными побеленными домами, построенными из камня, и с очень хорошими улицами... Городом правит король. Цвет кожи у жителей — смуглый и коричневый и такой же у женщин, которые носят шелковую одежду и золотые украшения» [559, с. 1бЦ.
Три столетия спустя, в 1824 г., когда главные города побережья были уже многократно разрушены и разграблены, на капитана английского флота Оуэна самое большое впечатление произвел пострадавший меньше Ламу. Он описывал его так: «Дома построены в чисто арабском стиле... между ними остается только узкая и всегда грязная дорожка. Город торговый и густонаселенный, решительно одна из лучших станций на побережье. В центре большая крепость площадью около сотни ярдов, окруженная стенами в 40—50 футов высотой... Население около 5000 человек... Здания... обычно возведены на руинах старого португальского дома. Комнаты в домах часто украшены блюдами, а. в одном, принадлежащем знатному арабу, показывали английский чайный поднос... В городе четыре школы, где учат читать и писать, причем детей бедных родителей-арабов обучают бесплатно» 127, с. XXI—XXII].
Жители городов выращивали просо, рис. В садах, орошавшихся водой из искусственных каналов, росли апельсины, лимоны, гранаты, фиги, лук и другие овощи. Горожане разводили овец, коз, кур, крупный рогатый скот. Занимались рыболовством и пчеловодством. Строили суда водоизмещением до 50 т [406, с. 11Э—116].
73
Побережье от начала нового времени до середины XIX в.
Торговля была одним из основных занятий горожан. Барбоза писал о Момбасе: «Это город большой торговли, там есть порт, в котором всегда много кораблей — и тех, что плывут в Софалу, и тех, что приплыли из Кембрея и Малинде, и еще тех, что плывут к островам Манфия и Пемба ... Эта Момбаса хорошо снабжается множеством всякой провизии... [Там есть] очень хорошие овцы с круглыми хвостами, много коров, цыплята, крупные козы, много риса и проса, апельсинов, сладких и горьких лимонов ... гранаты, индийские фиги, разнообразные овощи и очень хорошая вода. Население по временам Ъоюет с людьми на побережье а в мирные времена торгует с ними и получает много меда, воска и слоновой кости» [559,с. 16—17].
По всему побережью основной статьей экспорта были рабы. Сколько их вывозилось, подсчитать трудно. По подсчетам европейцев, в начале XIX в. Занзибар и Кильва продавали от 6 до 10 тыс. рабов ежегодно. В 1839 г. английский наблюдатель оценивал число рабов, проданных за этот год на занзибарском рынке, в 40—45 тыс. В 60-х годах было продано, возможно, около 70 тыс. человек [376, с. 244—245]. По другим данным, к кон¬
74
и.у 50-х годов с Занзибара вывозилось в среднем около 1500 рабой в год [650, с. 121]. Однако известно, что только с 1867 по I860 г., когда уже были введены ограничения на торговлю жн- ним товаром, около 37 тыс. рабов было доставлено в Аравию и еще около 3 тыс. освобождено англичанами [414, с. 147, 164].
Как бы то ни было, кенийское побережье играло в этой торговле наименьшую роль. Основным товаром кенийского участка побережья была слоновая кость. В 1840 г. одна только Момбаса экспортировала 2600 фрасил. Кроме того, вывозили скот, шкуры, кожи, рога носорога, зубы гиппопотама, черепашьи панцири и т. д. [514, с. 319—320]. Рабов вывозили тоже, но нерегулярно. Даже для своих нужд города от Момбасы до Могадишо получали большую часть рабов с юга [414, с. 171]. Это не значит, что они не наживались на работорговле. Работорговые суда пополняли здесь запасы продовольствия, закупали местные товары. Важным перевалочным пунктом на пути работорговых кораблей был Ламу.
В городах развивалась самобытная духовная культура. Жители побережья создавали литературные и исторические произведения на арабском и суахили, бытовавшие в устной форме или записывавшиеся. Традиция суахилийской письменности (на основе арабской графики) начала складываться, как считает В. М. Мисюгин, около X в., но не была непрерывной [363, с. 17]. К XIII в. письменность, по-видимому, сформировалась [342а, с. 6, 58]. Скорее всего, в это время стали создаваться, а затем и записываться произведения эпического характера на суахили (тензи). Именно тогда, возможно, начал складываться суахилийский эпос — «Сказание о Лионго Фумо» [342а, с. 52]. Древность эпоса о Лионго подтверждается архаичностью отраженных в нем социально-правовых норм [363, с. 17—18]. «Сказание о Лионго Фумо» — не только раннее, но и самое значительное из дошедших до нас тензи. Д. А. Ольдерогге ставит его в один ряд со знаменитым мандингским эпосом о Сундьяте [365, с. 265, 278].
В городах создавались и назидательно-нравоучительные поэтические произведения, в которых проповедовались нормы мусульманской морали. С XVI в., когда прибрежные города стали подвергаться иноземным завоеваниям, развивалась патриотическая поэзия. Позднее появились шаири — короткие лирические и бытовые стихотворения.
Одним из ярких проявлений развитой духовной культуры городов было существование исторического жанра. До нас дошли хроники почти всех крупных городов кенийского побережья на арабском и суахили. Они мало напоминают западноевропейские хроники или русские летописи. Восточноафриканские хроники составлялись из разрозненных династических историй, напоминавших устную традицию народов внутренних районов, воспоминаний, комментариев автора или составителя, мифов, преданий и т. д. Хроники бытовали в письменной и в устной форме, Из¬
75
вестные варианты их были записаны европейцами со слов или рукописей в XIX —начале XX в. [126, с. 220].
Из хроник на суахили наиболее длительный исторический период охватывала хроника Пате. Оригинал ее погиб в 1890 г., все известные сейчас варианты восходят к некоему бвана Ки- тини, надиктовавшему текст по памяти. Хроника представляет собой родословную Набаханской династии Пате и охватывает события с 1204 до 1885 г. [126, с. 241]. В. М. Мисюгин считает, что оригинальный текст был составлен в XVIII в. из нескольких династических историй по распоряжению одного из правителей, пытавшегося обосновать права своего рода на престол [364, с. 58]. Это не означает, конечно, что не существовало более ранних письменных или устных вариантов этого текста.
В хрониках редко встречаются даты. Обилие диалогов и характер изложения заставляют считать некоторые отрывки, особенно относящиеся к ранним периодам, пересказом мифов и преданий или, реже, вольным авторским текстом. Тексты хроник могли сознательно искажаться, неверно переписываться и пересказываться. И все же по ним можно судить о политических событиях, географических и социальных представлениях горожан, о нормах их жизни, об их занятиях и социальном строе их общества.
В хрониках действовали обычно две социальные силы: «султан» и «люди» («горожане»).«Султан Мохамед правил,потому что люди видели, что ему подчиняется побережье»; «люди были довольны им (султаном.— И. Ф.), потому, что он дал им по два рулона ткани и получал таможенные пошлины»; «люди следовали за ним из-за его могущества»; «люди соглашались с ним, потому что власть его была велика, и платили налоги зерном» [126, с. 222, 223, 225]—такие или подобные фразы встречались постоянно. В исключительных случаях на сцене появились рабы: «Было несколько рабов имама, которые решили не повиноваться приказам хозяина» [126, с. 213]. Значит, городское общество мыслилось хронистами как трехчленное: султан — «люди» — рабы. Роль «людей» при этом была довольно активной: они могли «соглашаться», а могли и «не соглашаться» с властью того или иного правителя.
У исследователей нет единого мнения о характере социальной структуры общества прибрежных городов. Разнообразие точек зрения объясняется, вероятно, не только скудостью сведений, но и размытостью социальных границ этого общества. Недаром хронисты считали свободных горожан единой недифференцированной массой.
Английский исследователь Н. Читик писал, что в городах проживали три группы населения. Правящий класс был смешанного арабо-африканского происхождения. Его представители, хорошо знакомые с исламом, называли себя арабами. На- баханская династия Пате и Пембы, например, гордилась своим оманским происхождением. В Момбасе, Малинди, Кильве и не¬
76
которых других городах правили семьи, называвшие себя ширазскими |[391, с. 124]. Во вторую группу входили «земледельцы», квалифицированные ремесленники, служители культа, торговцы. Самую низшую, третью, группу составляли африканцы (свободные и рабы), выполнявшие тяжелую физическую работу, обрабатывавшие поля [406, с. 113—114]. В основу этой схемы был положен расовый принцип (чем светлее кожа, тем выше положение на социальной лестнице), несколько скорректированный профессиональными характеристиками.
Реконструкция социальной структуры общества городов побережья, проделанная В. М. Мисюгиным, базируется на социальных признаках выделяемых им групп. По его схеме низшую ступень социальной лестницы занимали ватумва — рабы. Над ними располагались вазалиа — рабы, родившиеся в доме, а потому бывшие как бы младшими членами семьи. Еще выше стояли васуахили (или суахили) —свободнорожденные или потомки свободных и рабов. Над ними находились те, кто называл себя ваширази и ваарабу — ширазцами и арабами. Васуахили и ваширази объединялись в одну группу ваунгвана — свободнорожденных. Грань между ними была нечеткой, скорее экономической, культурной и идеологической, чем расовой. «Арабами» (ваарабу) зачастую называли просто культурных, хорошо образованных людей ,[361].
Рабы играли важную роль в экономической жизни городов. Главным и самым тяжелым их занятием была обработка полей. Но у них были свои наделы, и два дня в неделю они могли проводить по своему усмотрению: продавать на рынке свою продукцию, работать на другого работодателя и т. д. [414, с. 146]. Вазалиа имели некоторые преимущества. Им часто доверяли ответственные поручения, их ставили во главе работорговых караванов. Обычно они занимались караванной торговлей по многу лет, были хорошо знакомы с торговыми путями и знали языки и обычаи народов, с которыми им приходилось иметь дело. Иногда у них были свои собственные рабы [414, с. 146; 514, с. 319].
Ни у кого из исследователей не вызывает сомнения тот факт, что к XVI в., к моменту появления португальцев, цивилизация восточноафриканского побережья была одной из самых развитых в Африке южнее Сахары. Может быть, именно поэтому столь неоднозначны ее оценки. Ее часто называли арабской или восточной, города побережья считали арабскими колониями, язык суахили — испорченным арабским. Оспаривалась сама правомерность терминов «суахилийская цивилизация» и «суахи- лийская культура». Совсем недавно один из видных исследователей этой цивилизации писал: «До начала XIX в. побережье принадлежало Африке только в географическом смысле слова» [391, с. 119].
Несомненно, без связей, особенно торговых, с Востоком суахилийская цивилизация не могла бы возникнуть. Но называть
77
ее просто окраиной арабской ойкумены неправомерно. За последние годы историки, в том числе и советские, показали, сколь велика была роль местных корней в суахилийской цивилизации: африканских правовых норм в исламизированном обществе, следов африканских обычаев и норм в литературе и архитектуре, особенностей социального строя городских обществ, связанных с их местным, африканским происхождением. В последнее десятилетие кенийские историки внесли большой вклад в изучение проблемы экономических, политических и этнических связей побережья и внутренних районов. Эти исследования показали, насколько искусственны попытки оторвать суахилийскую цивилизацию от африканской почвы. Этносоциальная структура городских обществ, их экономическая база — торговля, самобытная культура и язык — все это было плотью от плоти, кровью от крови Африки, хотя и развивалось в тесном контакте с восточным миром.
Каков был уровень социального развития народов Кении к началу колониального раздела? Стремясь восстановить историческую справедливость и после десятилетий господства колониальной историографии воздать наконец должное культурным и социальным достижениям африканских народов, кенийские и многие другие историки ограничиваются восторженными описаниями, воздерживаясь от оценок. Это может привести к искажению исторической перспективы. Ведь даже об Индии, достигшей неизмеримо больших высот в своем социальном развитии, чем Восточная Африка, К. Маркс писал: «Я не разделяю мнения тех, кто верит в существование золотого века Индостана...» И дальше: «... мы все же не должны забывать, что эти идиллические сельские общины, сколь безобидными они бы ни казались, всегда были прочной основой восточного деспотизма, что они ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого величия, всякой исторической инициативы» [1, с. 131, 135].
Однозначно определить уровень развития доколониальные восточноафриканских обществ невозможно — слишком разными они были. На побережье существовала государственность, сложилось классовое общество, о формационной принадлежности которого ведется много споров. Дать окончательную и вполне определенную оценку его очень трудно, поскольку на протяжении длительного исторического периода это общество подвергалось воздействию многих разнородных по своей социальной сущности внешних и внутренних факторов. Это постоянный приток иммигрантов с Востока и африканцев из внутренних районов; смешанный этнический состав населения и частичное совпадение социальных границ в обществе с расовыми; характер экономики, ориентированной на экспорт, и роль работорговли;
7R
португальская колонизация и устойчивость традиционных институтов и многое другое. Относительно высокий уровень социального развития сочетался в этих обществах с многочисленными пережитками и политической раздробленностью, относительно развитая духовная и материальная культура — с застойностью.
Строение социальной пирамиды и характер производства, по многом базирующегося на рабском труде, сближают общества побережья с рабовладельческими. Относительно небольшое число рабов, их ничтожная роль в выполнении главной экономической функции городов — торговле, характер рабства, при котором положение ватумва было сравнимо с положением зависимых крестьян,— эти и некоторые другие черты сближают общества побережья с феодальными. Их можно было бы назвать периферийно-феодальными со значительным рабовладельческим укладом и многочисленными институтами и пережитками родового строя, но эта многоступенчатая характеристика даже в первом приближении не отражает всю специфику их общественного строя.
Разнообразие обществ внутренних районов Кении столь велико, что в кратком изложении невозможно было сколько-нибудь полно охарактеризовать весь культурный комплекс и социальную организацию даже некоторых из них. Приведенные здесь сведения дают представление о проблемах изучения социального строя кенийских народов, занимавших в последние годы умы историков, прежде всего национальных историков страны.
Важнейшая из этих проблем — характер становления, трансформации и взаимодействия хозяйственных и культурных комплексов этнических общностей, путей их исторического развития. Отдав дань исследованию миграций, историки пришли к мнению о том, что «понять, как развивались клан или племя в своем собственном регионе, гораздо важнее, чем выяснять, откуда они пришли» [628, с. 17].
Анализ хозяйственных укладов, языка, обычаев и верований этносоциальных общностей, основанный на изучении устной традиции отдельных кланов, показал гибкость и динамичность всех элементов хозяйственно-культурного комплекса, постоянно эволюционировавшего под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. Эти исследования доказали искусственность многих распространенных по сию пору установок колониальной социальной антропологии. Примером может служить концепция «племени» в том смысле, в котором она применялась социальными антропологами.
В доколониальную эпоху «племя» в Кении не существовало, оно находилось в процессе становления. В доклассовом обществе, где процесс этногенеза, в сущности, только начинался, где лингвистические и культурные границы между общностями были размыты, а каких бы то ни было иных не существовало
79
вовсе, любая линия, проведенная между ними, могла быть только условной. Вот почему кажется убедительным вывод, сформулированный на страницах периодического издания Исторической ассоциации Кении: «Племя как статичная и дискретная единица... с определенной территорией и даже определенными или определяемыми „племенными традициями" было колониальной фикцией, изобретенной для удобства управления» [628, с. 18].
К началу колониальной эпохи народы внутренних районов Кении не создали государственности. Все их общества были бесклассовыми. Но, во-первых, бесклассовость эта была бесконечно разнообразной как по типу, так и по стадии развития. Во-вторых, почти все они быстро эволюционировали. Процесс их трансформации в силу целого ряда причин особенно ускорился в XIX в. Важнейшей из этих причин был рост плотности населения, связанный с заселением последних свободных земель, завершением миграционных процессов, интенсификацией и специализацией производства, развитием обмена и т. д.
История внутренних районов Кении дала пример разнообразия типов социальной трансформации в доклассовом обществе. Можно проследить по меньшей мере три пути наметившегося выделения элитарных групп в родовом обществе. У луйя административную функцию начала присваивать родовая знать клана шитсетсе подгруппы ванга; у камба ее узурпировали мун- ду мунене, зачастую не имевшие отношения к традиционной родовой верхушке; у календжин и масаев ее начали обретать оркойоты и лайбоны. Становление политических структур тоже шло разными путями: у луйя за счет подчинения сильным кланом своих соседей; у календжин — за счет объединения равноправных кланов вокруг чужеродного по происхождению изначально сакрального института; у камба — за счет усиления нескольких не связанных между собой торговых «ассоциаций».
Такие или подобные социальные сдвиги шли во внутренних районах Кении почти везде, но особенно заметны были у народов, вступивших в интенсивный контакт с более развитыми обществами побережья. Эти сдвиги нельзя, конечно, переоценивать прежде всего потому, что они не были необратимы. Зачастую процесс становления политической организации по разным причинам прерывался и начинался в другом месте и на новой основе. Новые отношения почти всегда скрывались под традиционной оболочкой. Кивои, к примеру, пользовался влиянием не только потому, что был богачом, главой сильной кли- ентно-иерархической ассоциации. Он изготовлял и продавал различные магические средства, культовые предметы, священные камни, лекарства — а значит, имел отношение к магии и ведовству. Кроме того, Кивои обладал качествами, необходимыми старейшине: был умен, остер на язык, умел произвести впечатление [474, с. 224—227]. К этому стоит добавить, что в обществе камба, даже во времена расцвета караванной торгов¬
80
ли, походы к побережью мыслились лишь как средство разбогатеть и после этого заняться настоящим делом — земледелием. Торговля не отделилась от земледелия, не стала самостоятельным занятием.
Как бы ни короток был отрезок времени, пройденный народами внутренних районов Кении по пути разложения родовых отношений, в определенном социальном контексте эти сдвиги могли привести к важным последствиям. В колониальную эпоху они стали той базой, без которой колониальным властям было бы значительно труднее наладить как управление народами Кении, так и их эксплуатацию. Недаром подметил один кам- ба в разговоре с колониальным чиновником, что роль вождей, назначенных колониальной администрацией, напоминала ему роль мунду мунене ,[474, с. 227].
В противовес утверждениям колониальной социальной антропологии связи с побережьем были неотъемлемой чертой раз вития внутренних районов Кении на протяжении столетий. Во всяком случае, их можно проследить с начала заселения внутренних районов предками нынешних обитателей. Это были связи с более высоким уровнем социального развития, но, как бы они ни складывались, народы внутренних районов теряли в них больше, чем обретали. С точки зрения социальной эти связи способствовали ускорению становления более прогрессивных отношений, но отношения эти были классовыми, а значит, эксплуататорскими. С точки зрения экономической обмен побережья с внутренними районами никогда не был (и не мог быть) равноправным. Работорговля вела к обесценению человеческой жизни, отторжению наиболее ценных производительных сил общества. Рабы и слоновая кость обменивались в основном на ткани, табак, проволоку, бусы, спиртные напитки. Ни один из этих товаров не мог восполнить экономический потенциал и способствовать экономическому развитию. Это были отношения, типичные для первичных (побережье) и вторичных (внутренние районы) периферийных обществ.
Контакты с побережьем имели для внутренних районов и еще один результат. У некоторых народов прорицатели — наиболее осведомленная, проницательная и чувствительная к социальным сдвигам часть общества — предсказывали появление белого человека и многие из последовавших за этим событий. Первый оркойот кипсигис, например, предсказал появление белых людей после того, как приблизил к себе некоего Мугени («мгени» на суахили — чужой, чужестранец), проводника торговых караванов, и побывал с ним в 90-е годы в Момбасе. Всегда ли подобные предсказания были результатом конкретного знания и бесед с очевидцами, побывавшими на побережье, или они отражали слухи, особенно быстро распространявшиеся в периоды сильного социального напряжения в любом обществе, теперь вряд ли удастся установить. Отчасти и содержание и форма предсказаний могли непроизвольно «подгоняться» рас¬
6 Зав. 654
81
сказчиками под происшедшие позже события. Как бы то ни было, предсказания эти в какой-то мере психологически подготовили народы внутренних районов к встрече с колониальной «цивилизацией».
У камба прорицатели-атани предсказывали якобы, что в их страну придут чужеземцы со светящейся или очень светлой кожей, что они будут торговать с камба, но торговля эта будет нечестной. Потом чужеземцы захватят землю и товары камба, и с побережья в их страну приползет огромная страшная змея. Атани говорили, что хозяйство камба будет разрушено и что править ими будет могущественный чужеземный народ (474, с. 236—237].
Чеге ва Кибиру, известный прорицатель гикуйю, предупреждал, как они рассказывают, что чужестранцы придут в их страну из-за «большой воды» на востоке (т. е. Индийского океана). Их странный цвет кожи сделает чужестранцев похожими на маленьких белых лягушек. Они принесут с собой палки, плюющиеся огнем, и железную змею, которая побежит от «большой воды» на востоке до «большой воды» на западе (оз. Виктория) и обратно |[544, с. 137]. Сакава, прорицатель гусии, говорил якобы, что скоро придут белые люди, которые будут убивать «огненными палками» J563, с. 80]. Нанди верили, что верховный оркойот Кимньоле, убитый ими за неверный совет, перед смертью предсказал, будто страной нанди придут править чужеземцы и что однажды большая змея, изрыгая огонь и дым, приползет от восточного озера к западному, чтобы утолить жажду <[556, с. 107]. У масаев пророчество о пришествии белых людей и о том, что масаи будут их друзьями, произнес якобы перед смертью лайбой Мбатиан [163, с. 143; 367, с. 450]. Джо- било, прорицатели луо, тоже предвидели появление белых людей.
Некоторые из провидцев призывали не бороться с чужеземцами, не сопротивляться их вторжению. Чеге ва Кибиру запрещал воинам нападать на них — ведь ясно, что это не простые смертные. «Не воюйте с ними,— говорил один из прорицателей луо,— они убивают с безопасного расстояния. Они убивают огнем» [544, с. 137; 563, с. 80].
Глава III
КОЛОНИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ И СОПРОТИВЛЕНИЕ АФРИКАНСКИХ НАРОДОВ
«Не воюйте с ними, они убивают огнем»
Первые европейские колонизаторы — португальцы появились в Восточной Африке в конце XV в. 7 апреля 1498 г. корабли Васко да Гамы бросили якоря в гавани Момбасы. Их встретили настолько негостеприимно, что знаменитому мореплавателю пришлось спешно уйти. Однако 15 апреля 1498 г. португальцев радушно приветствовал другой город кенийского побережья — Малинди. Отношения между городами-соперниками Момбасой и Малинди были натянутыми, и как только султан Малинди узнал, что да Гаме пришлось бежать из Момбасы, он тут же принял португальцев {559, с. 43]. Корабли да Гамы пополнили запасы воды и продовольствия и взяли с собой искусного лоцмана Ахмада Ибн Маджида. Позже, увидев бесчинства португальцев в Индии, горько сокрушался этот мореплаватель, что проложил им туда путь.
Португальская колонизация городов побережья.
Европейские державы и Занзибарский султанат
Около столетия городами-государствами управляли прежние династии. В течение XVI в. португальцы вмешивались в отношения между городами, грабили их, собирали дань, но установить эффективный контроль не смогли. Самой уязвимой оказалась могущественная прежде Кильва. Она обязалась платить дань уже в 1502 г. и быстро пришла в упадок. Северные юрода, кроме Малинди, оказали португальцам серьезное сопротивление. Момбаса подчинилась лишь после того, как трижды в течение столетия (в 1505, 1528 и 1589 гг.) португальцы захватывали и грабили город [391, с. 124—125].
Самой жестокой из этих экспедиций была, видимо, первая. Руководил ею «победитель Индии» Франсиско Альмейда. Захватив и разграбив Софалу и Кильву, Альмейда направился к Момбасе. Начал он с предложения защиты и дружбы, если город признает себя вассалом португальской короны и будет платить дань. Ответом было единодушное негодование. Горо-
fi*
83
жане вместе с полуторатысячным войском союзников из внутренних районов сражались на улицах города, пока почти никого из них не осталось в живых. Тех, кто не мог спастись бегством, португальцы перебили. Добыча их (золото, серебро, слоновая кость и пр.) была так велика, что они не смогли увезти ее if559, с. 45—46].
Момбаса была богата и даже после таких набегов восстанавливалась. Только необычное стечение самых неблагоприятных обстоятельств смогло подорвать ее силы. В 1585 и 1587 гг. побережье посетили две турецкие экспедиции. Горожане, конечно, пытались заручиться поддержкой турок в борьбе против португальцев. Как раз когда турецкие корабли были в Момбасе, туда прибыл португальский флот из Гоа, усиленный войсками Малинди. Турецкие корабли были сожжены в гавани, а сами турки вместе с жителями Момбасы попытались спастись на побережье. Но в то время из внутренних районов, откуда-то с Замбези, к момбасскому побережью подошли зимба. Португальские источники называют их каннибалами. Момбасцы сами впустили их в город, поверив обещаниям помочь против португальцев. Зимба тут же набросились на доверчивых горожан и перебили их. Те, кто смог ускользнуть, бросались в море, но там их добивали португальцы. Пострадали и другие города— Сиу, Пате, Пемба, Манда, Ламу [391, с. 125; 559, с. 51].
Похоже, впрочем, что португальские источники преувеличили каннибальские аппетиты зимба: уже через два года Момбаса достаточно окрепла, чтобы организовать сухопутную экспедицию против Малинди. Эта-то экспедиция и обернулась катастрофой. В дороге момбасское войско разбили новые союзники Малинди — сегеджу. Они захватили и разграбили город, а потом уступили его португальцам. Португальцы, решив прочнее обосноваться на побережье, избрали Момбасу своей цитаделью. В 1593 г. они назначили шейха Малинди правителем Момбасы, поставили там свой гарнизон и построили крепость — форт Иисус. Момбаса стала резиденцией португальских губернаторов. Отсюда осуществлялось управление, здесь собирали таможенные пошлины [391, с. 126—127].
Но в XVII в. португальские корабли все реже заходили в восточноафриканские порты. Гарнизоны влачили жалкое существование и становились все малочисленнее. В начале XVII в. на восточноафриканском побережье и в долине Замбези оставалось, видимо, всего несколько сот португальцев. Явное ослабление противника, пример Персии и Омана, в середине века изгнавших португальцев из своих крепостей в Персидском заливе, вдохновляли жителей восточноафриканского побережья •на борьбу. Одним из самых ярких ее эпизодов было восстание под руководством Юсуфа бин Хасана.
Отец Юсуфа, Хасан бин Ахмад, был первым малиндийским правителем Момбасы. Ему пообещали выплачивать треть от сбора таможенных пошлин.
Но чиновники-португальцы утаивали часть доходов и, как признают даже португальские источники, выказывали пренебрежение по отношению к шейху (391, с. 130; 559, с. 55]. Юсуфа бин Хасана крестили и отправили учиться в Гоа, столицу португальской империи в Индийском океане. Юсуф женился на португалке и готов был защищать идеалы новой веры. Но, вернувшись в Момбасу, увидел, с каким высокомерием относятся к нему и его семье португальцы. Это стало отправной точкой переоценки ценностей.
В 1631 г. Юсуф возглавил восстание против португальского гарнизона. Восставшие захватили форт Иисус, убили почти всех европейцев. Юсуф бин Хасан объявил о своем возвращении в мусульманство и отправил в соседние города призывы присоединиться к восстанию. Откликнулись только маленькие города во главе с Пембой.
В конце года шесть португальских кораблей приплыли к Момбасе. Эта армада не смогла сломить сопротивление 200 жителей и примерно стольких же миджикенда, засевших в форте Иисус. Корабли ушли, но уверенный, что восставшие не выдержат новой осады, Юсуф бин Хасан увел своих людей в глубь страны. Португальцы снова заняли разрушенный город. Юсуф бин Хасан не оставлял надежды освободить Момбасу, искал союзников — но тщетно. В 1637 г. стало известно, что он умер (559, с. 56—57]. В Момбасе другого шейха не поставили, португальцы стали сами управлять городом.
После Юсуфа бин Хасана борьбу возглавила Набаханская династия Пате. Город восставал в 1637, 1660, 1678, 1686 и
1687 гг. Союзником Пате каждый раз выступал имам Омана. В 1637 г. его войска захватили форт Иисус и Момбасу, но удерживали их лишь несколько месяцев. Конец португальскому господству положила закончившаяся в 1698 г. трехлетняя осада форта Иисус войсками Омана и Пате.
Имам Омана поставил в городах свои гарнизоны, которые вскоре стали воевать и с горожанами и друг с другом. Устав от бесконечных войн и беспорядков, султан Момбасы и шейх Пате отправили к португальцам в Гоа посольство с просьбой помочь в борьбе против оманцев. Португальский флот появился у стен Момбасы в 1727 г., а уже в 1728 г. момбасцы, обнаружив, что португальское господство ничуть не стало лучше, изгнали португальский гарнизон без посторонней помощи и на этот раз окончательно ,[391, с. 130—132].
Португальская колонизация кенийского побережья носила особый характер. Выражение «точечная оккупация» [372, с. 143] дает верное представление о характере всей португальской колониальной империи, но оно тем более справедливо по отношению к городам кенийского побережья. Эти города приносили португальцам мало доходов и нужны были им прежде всего как перевалочные базы на пути в Индию. Пустыня Тару не могла привлечь переселенцев-празейруш, а что находилось за ней, в глубине страны, горожане тогда не знали. Даже работорговля, дававшая португальцам столь большие прибыли в
85
других районах континента, здесь не была столь уж выгодной: слишком далеко находились эти места от основных потребителей живого товара в Европе и Америке.
Вот почему восточноафриканское побережье (до Мозамбика) оставалось глухой окраиной португальской колониальной империи — не в географическом, а в экономическом и политическом смысле. Португальская колонизация длилась здесь одно столетие. Значит, и затронула она социальную жизнь побережья не так глубоко, как других районов империи.
Но все же было бы неверно назвать само это господство поверхностным. Португальцы разрушили прежнюю расстановку политических сил, изменили сложившуюся систему экономических связей, уничтожили многочисленные культурные ценности. Их присутствие наложило отпечаток на архитектурный облик городов, через них горожане впервые познакомились с техническими (прежде всего военными) достижениями Европы, португальские слова пополнили лексику суахили. Одним из важных следствий португальской колонизации было зарождение национальных чувств, стремления к единству. Именно после крушения португальского господства начались попытки политического объединения городов.
Вскоре после изгнания португальцев Момбасой начал править оманский клан Мазруи, служивший имамам династии Яру- би. В 1741 г. Али бин Атман аль-Мазруи провозгласил себя независимым от Омана правителем Момбасы и всего побережья от Малинди на севере до Пангани на юге. До фактического господства было еще далеко, но Момбаса действительно становилась самым сильным городом северной части побережья. С XVII в. города к северу от Момбасы пустели и приходили в упадок из-за набегов оромо. Исключением был только Пате, но и там шли ослаблявшие город династические распри. В Момбасе тоже враждовали между собой две группировки жителей «талафа таифа» («три племени») и «тиса таифа» («девять племен»), но Мазруи добились прекращения открытой борьбы.
Особенно усиливал Момбасу союз с миджикенда. Каждая группа миджикенда (кроме диго) считала одно из «племен» Момбасы своим союзником, торговым партнером и как бы представителем во внешнем мире. Коль скоро момбасские группировки подчинились одному сюзерену, город начал использовать военную силу всех их союзников-миджикенда [391, с. 133, 135; 559, с. 60].
В 1746 г. войско Момбасы разгромило оманцев. Али бин Атман аль-Мазруи подчинил Пембу. Его преемник Масуд бин Насир заключил союз с Набаханской династией Пате, предоставив ей возможность соуправления Пембой, но в то же время подчинив ее своему влиянию. Вумба также признала сюзеренитет Момбасы и помогала Мазруи поддерживать их влияние в Танге и среди южных диго [391, с. 138; 559, с. 61—62]. Но господство Момбасы оказалось недолговечным.
86
В 1810 г. войско небольшого города Ламу одержало победу над объединенными силами Момбасы и Пате — неожиданно, по-видимому, для обеих сторон. Жители Ламу сразу же обратились за помощью к правителю Омана — Сеиду Саиду бин Султану, которого из восточноафриканских городов признавал до этого своим сюзереном лишь Занзибар. В 1823 г. вспышка династической борьбы в Пате позволила ему вмешаться и покончить с влиянием Мазруи в этом городе. После столь удачной кампании на Баджунских островах оманцы отправились на Пембу. Здесь их снова ждала победа.
В 1832 г. энергичный и способный Сеид Саид перенес свою столицу из Маската на Занзибар и сосредоточил все силы на завоевании Момбасы. Через три года его главный соперник в Момбасе умер, а в 1837 г., воспользовавшись внутренней распрей, Сеид Саид заманил в ловушку в форте Иисус почти всех взрослых мужчин клана. Оттуда их доставили в одну из оманских тюрем и уморили там голодом. Сеид Саид оставил в форте Иисус гарнизон и разделил власть между новым ливали (губернатором), не принадлежавшим к династии Мазруи, и руко водителями «трех племен» и «девяти племен». Последним из суахилийских городов был захвачен Пате уже преемником Сеида Саида — Меджидом [391, с. 136—137; 644, с. 107].
Правление Сеида Саида открыло новую эпоху в истории восточноафриканского побережья. С созданием Занзибарского султаната города впервые объединились под властью одного правителя. Объединение совпало с новым расцветом торговли и работорговли. Города росли и богатели. Занзибар и Пемба покрылись плантациями гвоздики. Но в самом этом благополучии крылись ростки будущего упадка. Это были не только разрушительные последствия работорговли для африканских обществ внутренних районов. Именно с блестящим правлением Сеида Саида связаны первые договоры Занзибара с англичанами, которые ограничили работорговлю, а с ней и суверенитет занзибарских правителей.
Впервые английский корабль появился у кенийских берегов в 1608 г. Это был «Эсеншн», бросивший якорь у берегов Пембы. Позже, в XVII и XVIII вв., англичане неоднократно продавали в Восточной Африке рис и хлопчатобумажные ткани и покупали слоновую кость и золото [559, с. 54—55], но до начала XIX в. связи оставались эпизодическими.
Первые попытки установления контроля относятся к 20-м годам прошлого столетия. В 1822 г., еще до того как Сеид Саид перенес свою столицу на Занзибар, англичане заключили с ним договор, обязавший его запретить продажу рабов подданным христианских держав и развивать любую другую «законную торговлю» в своих владениях.
Вскоре после заключения этого договора губернатор Момбасы попросил капитана английской эскадры Видала заключить с ним договор о протекторате Великобритании над горо¬
87
дом. Англичане были не нужны Мазруи. Эту просьбу можно, видимо, было расценить как выпад против союзника Великобри тании Омана. Когда английские корабли покидали порт, над фортом Иисус развевался английский флаг. Капитан Оуэн в 1824 г. обнаружил, к своему удивлению, что флаг еще там. Кроме флага там был еще и оманский флот — ответ Сеида Саида на вызов Мазруи. Оуэну удалось уладить конфликт. Оманский флот покинул гавань, английский протекторат над прибрежной полосой от Малинди до Пангани был подтвержден в обмен на обещания принять меры против работорговли. Но Сеид Саид послал жалобу английскому правительству, и договор Оуэна был лишен силы |[127, с. XX—XXI; 414, с. 168; 433, с. 161].
Перебравшись на Занзибар, Сеид Саид продолжал поддерживать связи с европейскими державами. На Занзибаре были открыты французское, английское и американское консульства. Английский консул А. Хэмертон, сыгравший большую роль в постепенном подчинении Занзибарского султаната, прибыл в Восточную Африку в 1841 г. Долгие годы он поддерживал с Сеидом Саидом дружеские отношения и пользовался его доверием. Но «дружба» основывалась не на одной только личной симпатии. Султану постоянно нужна была поддержка английского флота для упрочения своего господства «а побережье; предоставляя ее, Хэмертон добивался все новых уступок. В 1845 г. он заключил с Сеидом Саидом договор, запрещавший работорговым судам из Восточной Африки плавать севернее Бравы. Этот договор перекрыл основной источник доходов наиболее влиятельных подданных султана. «Вы возложили на меня бремя более тяжкое, чем я могу вынести»,— говорил тот Хэмертону [414, с. 12—13].
К 1856 г., когда Сеид Саид умер, англичане уже прочно обосновались на Занзибаре. Его преемнику Сеиду Меджиду они помогали подавить мятеж другого претендента на престол — младшего сына Сеида Саида, Баргаша, которого они отправили в ссылку в Бомбей. В качестве платы за помощь Меджид запретил вывоз рабов на французский остров Реюньон, а затем, с 1864 г.,— торговлю рабами в течение «муссона», т. е. примерно с января по май [414, с. 23—24; 158; 447, с. 228—232].
После смерти Меджида, в 1870 г., англичане посадили на престол «мятежника» Баргаша. Всего за несколько лет до этого Баргаш противопоставлял себя Меджиду из-за его проанг- лийской позиции и писал: «Мы... не отдадим нашу страну ни англичанам, ни французам, ни американцам, ни кому-то другому; но если мы отдадим ее, то только ценой нашей крови и войны не на жизнь, а на смерть» ,[414, с. 32]. Но именно ему пришлось заключить с англичанами договоры, которые окончательно свели на нет независимость Занзибарского султаната. В 1873 г. под прямой угрозой блокады острова и сильнейшим нажимом британского консула Дж. Кирка, игравшего при Бар- гаше ту же роль, что играл при Сеиде Саиде Хэмертон, Баргаш
88
запретил вывоз рабов с восточноафриканского побережья '[414, с. 187, 191, 214; 644, с. 124—125].
Выполнение этого распоряжения обеспечивал британский кордон на море. Нельзя сказать, что англичане легко справились с этой задачей: борьба против нелегальной работорговли в Восточной Африке продолжалась до конца прошлого века. Но уже в 70-е годы работорговая верхушка обществ городов терпела большие убытки. В перспективе же прекращение работорговли означало подрыв стабильности всей сложившейся экономической структуры, авторитета и власти занзибарского правительства. Баргаш прекрасно понимал, что, подписав договор, он поставил себя в полную зависимость от англичан. С этого момента на него не нужно было оказывать давления — он выполнял все их требования.
Волнения начались еще до подписания договора. Даже на кенийском побережье, меньше потерявшем от запрета работорговли, чем южные районы султаната, было неспокойно. Власть султана в Ламу и Момбасе была почти номинальной. Жители Момбасы выступили в защиту работорговли в 1873 г., в начале 1875 г. там произошло восстание, подавленное англичанами [414, с. 228—229, 246—249].
Долгие годы борьба за прекращение работорговли трактовалась многими историками однозначно, как акт высокой гуманности и бескорыстия со стороны Великобритании. Такая оценка встречается не только в английской проколониальной литературе, но и в работах, опубликованных сравнительно недавно (в том числе и в Восточной Африке) и рассчитанных на африканского читателя. Есть и другая крайность: не только правящий класс Великобритании, политиков, администраторов, общественных деятелей, выступавших с лозунгами борьбы против работорговли, но все английское общество обвиняют порой в сознательном лицемерии, ханжеском стремлении прикрыть корыстные цели разглагольствованиями о гуманизме.
Лозунг борьбы против работорговли был действительно свя зан с «идеологией империализма XIX в.» [650, с. 108]. Каждый этап колониальной экспансии Великобритании в Восточной Африке оправдывался необходимостью установления действенного контроля над внутренними районами для пресечения работорговли. Но упрощенная трактовка органической взаимосвязи этих явлений может только исказить ее суть. Как идеология империализма в XIX в. не ограничивалась лозунгом борьбы против работорговли, так и этот лозунг, выросший из аболиционистского движения, вобрал в себя целую гамму политических и идейных течений. И хотя его появление в контексте колониального раздела было исторически и социально обусловлено, его нельзя оценивать однозначно.
Авторы английских трудов об эпохе колониального раздела подчеркивают, что не Англия, а Германия и Франция стремились к колониальным захватам и подталкивали английское пра¬
89
вительство. Это утверждение перебралось даже в англоязычную литературу, издаваемую в Африке и для африканцев (см., например, [644, с. 148—149]). Вряд ли важно, кто раньше, а кто позже заключал те или иные договоры с местными правителями. Колониальная экспансия была единым для всех империалистических держав направлением политики, в котором не было «пионеров» — каждая из них подталкивала другую.
Проникновение европейцев во внутренние районы
В Кении, как и везде в Африке, колонизации предшествовало исследование внутренних районов. В Восточной Африке путешественников интересовали прежде всего истоки Нила и Великие африканские озера. И хотя пути к ним через территорию Кении казались неудобными, первые в Восточной Африке путешествия во внутренние районы европейцы совершили именно в Кении. Немецкие миссионеры И. Л. Крапф и И. Ребманн первыми начали пролагать путь в глубь страны.
Опыт миссионерской работы Крапф получил в Эфиопии, где пытался обратить в христианство оромо. В 1844 г. в качестве эмиссара протестантского Церковного миссионерского общества он прибыл на Занзибар и в том же году основал первую в Кении миссию — в кайя Рабаи в стране миджикенда. В коние 40-х годов к нему присоединились коллеги и земляки И. Ребманн и Я. Эрхардт (f644, с. 130—131]. Крапф, Ребманн и Эр- хардт прожили в Кении долго и, кроме пропаганды христианства, изучали языки и обычаи местных народов, исследовали географию внутренних районов.
В 1847 г. Ребманн совершил путешествие к горе Каст au, в следующем — в страну чагга. Здесь первым из европейцев 11 мая 1848 г. он увидел снежную вершину Килиманджаро. Зде- кабря 1849 г. Крапф обнаружил вторую по высоте гору Африки — Кению тоже со снежной вершиной. Когда об открытиях Крапфа и Ребманна узнали в Европе, скептики не поверили в эти снега на экваторе. Существование Килиманджаро и Кении ученые долго ставили под сомнение (342, с. 214—215].
Первые путешествия европейцев во внутренние районы интересны сейчас не столько географическими находками, сколько тем, что представлялось современникам их экзотическим фоном. Это были африканцы, их мир. Встречи путешественников с ними наложили отпечаток на формирование взаимных представлений и дальнейших взаимоотношений. Воспоминания, книги, дневники путешественников и миссионеров остаются важным источником сведений о восточноафриканских народах XIX в.— не только для европейских, но и для национальных историков. Если бы Крапф не увидел заснеженную вершину Кении, ее нашел бы кто-нибудь другой, но уже никто не передал бы потомкам живые слова Кивои, не рассказал о его гибели.
90
Крапф жил среди миджикенда (он называл их «ваника» или «ваньика», как и суахилийцы), дважды посетил страну кам- ба. Вот как описал он встречу с Кивои: «Я нанес визит вождю и объяснил ему цель моего путешествия: выяснить, примут ли вакамба христианское учение, которое откроет им путь к истинному счастью через познание бога и сына его Иисуса Христа. Еще я сказал ему, что хотел бы продолжить путешествие до реки Даны (Таны.— Я. Ф.) и прошу дать мне сопровождающих для выполнения этого плана. В обмен на свои подарки я попросил не слоновую кость, а только продукты на то время, что проведу в его деревне».
Кивои был не вождем, а торговцем и ответил по-деловому, оставив в стороне совершенно невнятные для него рассуждения об истинном счастье, боге и его сыне: «Я понимаю твою цель, и ты получишь все что хочешь. Ты останешься со мной до следующего месяца, когда я отправлюсь в Муэа в стране ван- дуробо и в страну кикуйю за слоновой костью. И ты сможешь пойти со мной в эти места. После возвращения через четыре- пять месяцев я отправлюсь на побережье продавать слоновую кость, и ты можешь пойти со мной; но ты должен отослать своих ваньика, потому что я не люблю их — они воруют у меня слоновую кость, когда я прохожу через их страну». Из пребывания европейца в его селении Кивои решил извлечь политический капитал. По окончании беседы он встал и величественно сказал собравшимся: «Не говорил ли я вам, что приведу сюда мзунгу (европейца.— Я. Ф.)? Вот он, перед вами. Разве я не большой человек, если мзунгу сам пришел ко мне, в мою страну?» Восхищенная толпа хором ответила: «Воистину, Кивои — великий человек, он говорил правду...» [127, с. 27—28].
После Крапфа путешественники обходили Кению стороной. До Великих озер и истоков Нила европейцы добрались через территорию Танганьики. Только в начале 60-х годов немецкий путешественник барон К. фон Деккен совершил два путешествия из Момбасы к Килиманджаро и подтвердил наблюдения Крапфа и Ребманна [342, с. 256—257].
В 1862 г. Организация объединенных методистских свободных церквей основала миссию в Рибе. Ее миссионеры Т. Уэйкфилд и Ч. Нью совершили несколько путешествий в низовья рек Тана и Сабаки. Уэйкфилд собирал сведения о внутренних районах у суахилийских торговцев, а Нью в 1871 г. первым из европейцев совершил восхождение на Килиманджаро и добрался до ее снеговой шапки [127, с. 38; 342, с. 257—258]. В своей книге [226] Нью описал встречи с оромо, тейта, тавета и масаями — куда менее приятные, чем беседы Крапфа с Кивои. Когда он собирался в страну оромо (галла), суахилийцы предупреждали его: «Мы не отваживаемся на это. Вы знаете, что представляют собой галла? Это самые безжалостные дикари в стране. Вы можете пойти к ним, но никогда не вернетесь обратно». Подготовленный таким образом, Нью всегда держал ружье наготове, а
91
людей — настороже. Довершила дело «ужасная» сцена: в его присутствии оромо пили кровь из шейной вены коровы (предназначенной, кстати, на мясо для него и его спутников). Нью не задумываясь «выразил свое полное отвращение» хозяевам. А вскоре уже те не стесняясь обсуждали его внешность: «Смотрите, как он похож на обезьяну» j[ 127, с. 39, 44—45].
Следующим из европейцев побывал на территории Кении Г. М. Стэнли. Во время своего трансафриканского перехода в 1874—1877 гг. он проплыл вдоль побережья оз. Виктория, в том числе и того участка, который принадлежит теперь Кении. Залив Кавирондо, правда, он «не заметил», приняв его узкую горловину за небольшую бухту \[342, с. 300]. Стэнли и его спутники высадились на о-ве Магета и собирались переночевать там. Жители послали несколько человек разузнать, кто и зачем к ним пожаловал. Вскоре «толпа на берегу стала так быстро увеличиваться, что мы принуждены были,— пишет Стэнли,— снова погрузиться на лодки, чтобы подождать, пока они успокоятся и уйдут. Они, кажется, решили, что мы совсем уплываем, и из кустов по обе стороны от того места, где мы собирались высадиться, появилось такое количество копий, что мы действительно ретировались» [563, с. 61].
Обширные районы от побережья оз. Виктория до горы Килиманджаро оставались белым пятном для европейцев до начала 80-х годов. В 70-е годы было несколько неудачных попыток проникнуть в глубь страны. В 1878 г. немцы братья К. и Г. Дернхардты обследовали Тану, по которой собирались идти на запад, но дальше нижнего течения продвинуться не смогли [342, с. 348—349].
Первым европейцем, добравшимся до страны масаев, стал немецкий военный врач Г. А. Фишер, участник экспедиции Дернхардтов. В 1882 г. он вышел из Пангани, миновал горы Килиманджаро и Меру, по Рифт-Вэлли дошел до пресного озера Найваша и вернулся тем же путем обратно {342, с. 349].
Встреча Фишера с масаями окончилась кровавой стычкой. «Случайно» члены экспедиции убили троих знаменитых воинов и, что особенно неприятно поразило масаев (они говорили об этом другим путешественникам),— женщину. И все же масаи согласились, что произошел действительно «случай», и пропустили караван. Фишер повернул назад, когда его носильщики из страха перед большим масайским войском отказались идти дальше/[127, с. 213; 414, с. 363].
Еще до возвращения Фишера в 1883 г. в тот же район отправился молодой английский геолог и ботаник Дж. Томсон. Он обошел Килиманджаро с севера, пересек плато Капити, вышел к оз. Найваша. К северу от него обнаружил озера Накуру и Эльментейта, затем, повернув к востоку, вышел к горному хребту, который назвал именем президента английского Географического общества лорда Абердэра. Обойдя хребет с севера, Томсон спустился в долину р. Васо-Ньиро, подошел к горе Ке-
92
иия, потом повернул на северо-запад, через плато Лайкипиа,. оз. Баринго и возвышенность Камасия вышел к северо-восточным берегам оз. Виктория и обнаружил потухший вулкан Элгон. Отсюда болезнь заставила его повернуть назад. Выжил Томсон только благодаря заботам спутников-африканцев, которые доставили его в Момбасу [342, с. 349—350].
Английские историки с гордостью отмечают, что на своем длинном пути по неисследованным районам Томсон не убил ни одного африканца [414, с. 371]. Для той эпохи и это, вероятно, могло считаться заслугой. Но отношения его с африканскими народами складывались по-разному. На встречу с масая- ми Томсон шел с пучком травы (в знак мира) в одной руке, с ружьем в другой. Те припомнили столкновения с Фишером, но все же решили пропустить Томсона через свою страну. А ночью он тайком бежал обратно на побережье из-за слухов о якобы готовившемся на него «предательском» нападении.
Масаи производили на Томсона устрашающее впечатление, он спасался от них бегством не раз. И все же самое худшее мнение он составил о гикуйю: «Ни один караван не проник еще в глубь их страны, столь густы их леса и столь склонны к воровству и убийству люди. Им очень хочется одежды и украшений с побережья. Но они сами себе мешают, они совершенно не в силах превозмочь свои воровские наклонности или отказать себе в удовольствии пустить отравленную стрелу в торговцев». Томсон не испытал этого на собственном опыте, но был уверен, что слухи справедливы, и окружал свой лагерь в стране гикуйю тройным частоколом, переплетенным колючими ветками [127, с. 215—216].
Другое дело —страна «кавирондо» (луйя). «Со всех сторон несется суахилийское приветствие „Джамбо!“, люди бегут из деревни навстречу каравану, выходящему из джунглей». Здесь поля радовали глаз путников, на всем виделась печать достатка, и с вождем — «мягким и приятным молодым человеком» - Томсон вскоре был уже «в наилучших отношениях» [127, с 213—216, 221—222].
Экспедиция С. Телеки и Л. Хёнеля прошла по северным районам Кении. В 1887 г. Телеки и Хёнель вышли из Пангани, поднялись на главную вершину Килиманджаро — Кибо, побывали у подножия Меру. Телеки первым из европейцев совершил восхождение на гору Кения. Разными путями исследователи достигли оз. Бассо-Нарок, которое назвали озером Рудольф в честь австрийского наследного принца. По берегу озера Телеки и Хёнель дошли до нижнего течения р. Омо, повернули на восток и обнаружили еще одно озеро, названное ими в честь супруги Рудольфа — Стефании. Оромо не пропустили путешественников через свои земли вдоль западного берега озера, и они прежним путем вернулись в Момбасу |[342, с. 351—362].
У Телеки и Хёнеля отношения с жителями Кении складывались хуже, чем у их предшественников, а через страну ги-
куйю они прокладывали себе путь огнем. Первая стычка произошла, когда кто-то из членов экспедиции дал несколько выстрелов по толпе гикуйю, окружавшей лагерь. Ночью те напали на караван. «Агрессорами,— писал Хёнель,— были, конечно, туземцы, осыпавшие лагерь стрелами. В ответ раздался общий залп, хотя стрелы не принесли никакого вреда». Дважды из трех раз, что гикуйю нападали на лагерь, Телеки и Хёнель собственными глазами видели, как старейшины наказывают их «обидчиков», и тем не менее считали и себя вправе карать. Только в одном из боев они сожгли деревню, взяли 19 пленных, увели 90 коров и 1300 овец и коз {178, с. 294, 298, 310, 339—343].
Путешествия во внутренние районы Африканского континента вызывали неизменное восхищение современников-европейцев. Тогда казалось, что благородная цель счастливо сочетается в них с важными научными открытиями, мужество участников — с бескорыстием и гуманностью. Читающая публика эпохи не замечала ни унизительности спектаклей Томсона, притворявшегося «великим белым лайбоном» и впечатлявшего масаев своими вставными зубами, ботинками и «колдовской» смесью из воды и фруктовых солей [244, с. 194, 206, 225], ни жестокости Хёне- ля, учившего: «...в стране, где сила составляет право, где отмщение — традиция, а подчинение и терпение считаются признаком слабости и трусости, применение силы — единственный способ произвести должное впечатление» [178, с. 335—336]. Ружейные залпы в толпу вооруженных лишь копьями обитателей исследуемых земель действительно могли произвести «должное впечатление».
Теперь именно эта сторона путешествий привлекает внимание кенийских историков, исследующих первые контакты европейцев и африканцев (см., например, [546]). Один из них оценивал деятельность путешественников так: «Все эти исследователи, путешественники и миссионеры были шпионами империализма, собиравшими жизненно важные экономические и материально-технические данные и посылавшими их в Европу на изучение» |[559, с. 88]. «Шпионами» в прямом смысле этого слова, они, конечно, не были, но безусловно «работали» на колониализм. В Кении, где географические открытия пришлись на время, когда колониальная схватка была в разгаре, это было особенно заметно. Эпоха не могла не наложить отпечаток на взгляды Фишера, Томсона, Телеки и Хёнеля. Времена Крапфа, который никак не мог решиться выстрелить в грабителей, напавших на караван Кивои, миновали. Чем ближе к концу века, тем откровеннее шовинизм, тем громче призывы к «твердому курсу». Лорд Лугард, один из главных строителей Британской империи, выразил дух новой эпохи так: «Я убежден, что твердая рука милосердна, когда речь идет о невежественных дикарях, и что решительный и твердый курс на первых порах спасет много жизней в дальнейшем» [127, с. 298]. Выражение «твердый курс» означало на деле реализацию призыва «стрелять, за¬
94
видев». Один из спутников Лугарда по экспедиции в Уганду (1889 г.) объяснял, что это — единственный возможный способ общения с гикуйю [234, с. 92—93].
Установление английского колониального господства
Путь для колонизации был проложен. В 1876 г. В. Макки нон, глава Британской Индийской пароходной компании, решил начать строительство железных дорог от восточноафриканского побережья к озерам Ньяса и Виктория. Эти планы получили неофициальное одобрение английского правительства и султана Баргаша, считавшегося правителем всей Восточной Африки. Была создана компания и подготовлен текст концессии, по условиям которой Баргаш должен был передать этой компании власть во внутренних районах в обмен на часть ее доходов. Кирк, деятельно участвовавший в неофициальных переговорах, удивлялся, насколько спокойно Баргаш принял условия концессии. Но спокойствие султана было вполне объяснимо: он собирался отдавать то, чем фактически не обладал.
Весной 1878 г. переговоры были сорваны. Дело было, конечно, не в Баргаше. Сам Маккинон не проявил ни энергии, ни настойчивости, осознав, по-видимому, что при всей важности дорог для развития «законной» торговли и прекращения работорговли (а он был чувствителен к этим мотивам) их строительство не обещает финансовых выгод. Министр иностранных дел лорд Солсбери тоже призвал Баргаша прервать переговоры [414, с. 306—317; 431, с. 355, 360; 438, с. 47—69]. Деловые круги Лондона не хотели вкладывать средства в районы с неразведанными ресурсами без гарантий правительства, а оно не было готово эти гарантии дать.
К середине 80-х годов ситуация изменилась. Колониальная гонка уже шла полным ходом. Известный английский колониалист — естествоиспытатель и путешественник Г. Джонстон привез пачку «договоров» о протекторате из района Килиманджаро. Новый германский консул на Занзибаре, поборник колониальных захватов Дж. Рольфе все делал для того, чтобы упрочить влияние Германии при дворе султана. Англичане потребовали и в декабре 1884 г. получили от Баргаша декларацию о том, что он никому не уступит свои «суверенные права» без согласия Великобритании. К. Петерс, известный немецкий колонизатор, основав Общество германской колонизации, собирал «договоры» о протекторате на территории Танганьики. 3 марта 1885 г., через день после окончания Берлинской конференции, по существу установившей условия колониального раздела, Германия объявила протекторат над территориями, означенными в «договорах» Петерса.
Султан по подсказке Кирка выразил протест и отправил к Килиманджаро отряд под руководством английского офицера.
Но после английского отряда там побывал германский и заключил новые договоры. Весной 1885 г. Г. и К. Дернхардты заключили договор о протекторате с султаном Виту. Германские военные корабли прибыли на Занзибар, и в декабре 1885 г. Бар- гаш, отказавшись от своего протеста и договоров в районе Килиманджаро, признал протекторат Германии над Виту и фактически передал ей контроль над Дар-эс-Саламом. Англичане не протестовали и не настаивали, чтобы протестовал их подопечный. Положение Англии на международной арене в то время осложнилось из-за махдистского восстания в Судане, и англичане не могли позволить себе ссориться с Германией из-за Восточной Африки if414, с. 338—416, 430—442; 431, с. 367—371].
В октябре 1886 г. Германия и Великобритания заключили договор о Восточной Африке. Своему союзнику Баргашу великие державы «выделили» острова Занзибар, Пемба, Мафия и Ламу, города Брава, Мерка, Могадишо и Кисмайо и прибрежную полосу шириной в 10 миль от залива Тунги до Кипини. Виту был признан германским протекторатом. Внутренние районы Восточной Африки (до оз. Виктория) были поделены на две сферы влияния |(414, с. 474; 431, 373—374]. Однако английское правительство не оставило надежды «переиграть» Германию в Восточной Африке. Солсбери, занявший пост премьер-министра, подсказал Г. Джонстону передать свои договоры В. Маккинону. Тот в 1886 г. организовал экспедицию в район Килиманджаро и добился подтверждения некоторых из них. Эти договоры стали важным козырем в переговорах с Германией |[431, с. 374].
В 1887 г. Маккинон образовал Британскую восточноафриканскую ассоциацию и получил концессию от султана Баргаша. Султан на 50 лет передал Ассоциации всю полноту политической и юридической власти, в том числе право сбора таможенных пошлин в своих владениях и на побережье. В 1888 г. ассоциация была реорганизована в Британскую восточноафриканскую компанию (БВАК) с капиталом в 250 тыс. ф. ст. Султану положили выплачивать 2% от суммы прибылей и 1% дохода от каждой торговой сделки. Вскоре БВАК получила от английской королевы хартию с правом управления территориями, находившимися в «сфере влияния» Англии (414, с. 482; 431, с. 378—379].
БВАК сразу развернула бурную деятельность. В 1889 г. ей удалось установить протекторат над Ламу. В том же году после неудачной попытки Маккинона купить Германскую компанию Виту его агенты оккупировали Манду и Пате. Особенно напряженной была борьба за Уганду. Для установления протектората над Угандой БВАК откомандировала туда капитана Ф. Лугарда с военным отрядом. К. Петерс опередил Лугарда и заключил договор с кабакой Буганды Мвангой. Но соотно шение сил в мире изменилось в пользу Великобритании, и она могла диктовать условия. В мае 1890 г. Солсбери начал переговоры с Германией о переделе сфер влияния. Великобритания
96
отказалась от территории у оз. Танганьика, обещала «убедить1» султана продать Германии часть своих владений на побережье Индийского океана и передать ей о-в Гельголанд в Северном море. Германия вынуждена была отказаться от Виту, признать Уганду британской сферой влияния, а острова Занзибар и Пемба— английскими протекторатами. 1 июля 1890 г. договор был подписан [414, с. 484; 431, с. 381—384]. Занзибарский султанат фактически прекратил свое существование. Европейские державы расправились с ним тем более решительно, что покладистый Баргаш умер, а его преемник попытался демонстрировать им свою неприязнь [486, с. 399]. Граница между английской и итальянской сферами влияния (северная граница Кении) была установлена договором 1891 г.
Раздел Восточной Африки был тем самым почти завершен. Казалось, для деятельности БВАК наступили благодатные времена. Но дело обернулось иначе. Экспедиция Лугарда в Уганду и оккупация страны оказалась для нее непосильным (в финансовом отношении) бременем. Еще существеннее было то, что компания не нашла надежного источника доходов. Ее деятельность сводилась к покупке гвоздики на островах и обмену тканей на слоновую кость, шкуры, кожи, продукты для караванов. К 80-м годам торговый оборот Восточной Африки едва превышал 2 млн. ф. ст. Железная дорога, на которую БВАК возлагала большие надежды, существовала только в проектах. В 1893 г. она передала управление Угандой английскому правительству, получив компенсацию в 250 тыс. ф. ст.: 50 тыс. из них было покрыто за счет английского налогоплательщика, остальное взя то в долг у Занзибара [34, с. 1—5, 17; 431, с. 387—389].
Заодно была решена и судьба Кении, связывавшей Уганду с побережьем и казавшейся бесперспективной в экономическом отношении. В 1895 г. над ней был установлен английский протекторат. Британским восточноафриканским протекторатом называлась тогда часть нынешней территории Кении от побережья Индийского океана до оз. Найваша. Нынешние провинции Ньян- за, Западная и часть Рифт-Вэлли до 1902 г. оставались в составе Уганды. В Британский восточноафриканский протекторат вошла и прибрежная полоса. Султана Занзибара лишили, таким образом, последней части владений на побережье, которое всего за десять лет до этого было признано собственностью Занзибара международным договором.
На бумаге установление колониального господства свершилось быстро. В действительности оно растянулось на десятилетия. БВАК лишь положила начало колониальному «освоению» страны. Она организовала первые «административные центры» — станции, занимавшиеся в основном сбором таможенных пошлин. На побережье они располагались в Кисмайо, Малинди, Ванге, Ламу, Виту и Такаунгу. Восточноафриканский штаб БВАК находился в Момбасе. Здесь администрация насчитывала около 20 человек и занималась кроме сбора таможенных
7 Зак. 654
VJ
о?-Т‘:;:'-РБар,,НГ0
t \* • ‘КакЬмёга *. • • ;'
J; : 'A*D • : v-;Kanfcaéer ■ \ —r,
г-Яе«.™0
5'£к^умуГ^^>Ц;У:-4\ Ньери * Л
^Яийио°/
Q Арчерз-Пост
М.„„ ПРОТЕКТОРАТ \
Александра Of
I
А используемые в 1914 г.
А заброшенные
Основные форты и центры колониальной администрации, созданные в 1895-1905 гг.
П используемые в< 1914 г. В заброшенные
Территория, первоначально включенная колониальном администрацией в состав протектората Уганда,а в 1902 и 1909 гг. присоединенная к Британскому восточно африканскому протекторату
Границы Британского Восточноафриканского протектората, первые форты и фактории
пошлин отправкой торговых караванов в глубь страны. Во внутренних районах компания организовала станции Мачакос (1889 г.), Дагоретти (1890 г.; в 1891 г. станция была перенесена в Форт Смит), Мумиас (1894—1895 гг.) и пост Накуру (1894 г.). Первые станции, построенные британской администрацией, включали Мбири (1900 г.; в 1901 г. переименована в Форт Холл), Ньери (1902 г.), Эмбу (1906 г.), Меру (1908 г.) |513, с. II; 644, с. 163—164].
Здесь открывались первые лавочки торговцев-индийцев, вербовались отряды аскари. Африканцы с интересом и опаской приглядывались к необычным новым «соседям». Вряд ли они могли хоть отдаленно представить себе, что несет с собой появление горстки этих странных людей. Но жизнь в селениях текла по-прежнему лишь до тех пор, пока не сталкивалась с интересами и действиями чужестранцев. На побережье обычной причиной таких столкновений было стремление арабо-суахилий- ской верхушки сохранить свое влияние и прибыли от рабства и работорговли. Одно из первых волнений на кенийском участке побережья было связано с восстанием Бушири в Германской Восточной Африке. Напряженность достигла апогея, когда англичане решили принять участие в подавлении восстания. Представителю БВАК пришлось объясняться с разгневанными старейшинами Момбасы, которые требовали выдать беглых рабов, укрывавшихся в миссиях [486, с. 398—399; 610, с. 72]. Но вскоре щедрая компенсация за рабов, богатые денежные подарки и выгодные контракты убедили верхушку городского общества побережья в преимуществах сотрудничества с колониальной администрацией.
Наиболее серьезная оппозиция англичанам существовала в Виту. К этому городу, расположенному в центре английской части побережья и до 1890 г. имевшему статус германского протектората, тянулись антианглийски и антизанзибарски настроенные силы со всего побережья. Султан Виту Ахмед Фумолути, по прозвищу Симба (лев), укрепил город и усилил армию. После его смерти в 1889 г. султаном стал его брат Фумо Бакари. В 1890 г. султан Занзибара под давлением англичан издал декрет об освобождении тех рабов, чьи хозяева умирали бездетными, и о наказании хозяев за жестокое обращение с рабами, продажу, покупку или обмен рабов. Декрет вызвал сильное недовольство по всему побережью. Фумо Бакари начал переговоры с султанами Гази и Такаунгу о совместных действиях про тив Занзибара и англичан.
Недовольство, однако, вылилось в открытый конфликт по совершенно неожиданному поводу. Жители Виту убили нескольких немцев, попытавшихся войти туда без разрешения англичан. Это было, конечно, не проявлением покорности англичанам, а местью немцам за «предательство» (передачу Виту англичанам) и за грубость по отношению к местным жителям. Англичане не посчитались с тем, что формально жители города отстаивали их
7*
99
интересы — до формальных ли тут границ, когда «туземец» поднял руку на белого! — и послали карательный отряд. Каратели сожгли Виту и несколько деревень в округе, уничтожили урожай. Фумо Бакари бежал, потом собрал отряд, за которым англичане несколько месяцев безуспешно охотились в окрестностях нижней Таны. После смерти Фумо Бакари в 1891 г. третьему брату, Фумо Омари, было позволено стать султаном после заверений в лояльности. Уже через год он восстал, и понадобилась канонерка, чтобы «убедить» его прекратить сопротивление. Через год он поднял новое восстание. Карательной экспедиции удалось захватить Фумо Омари, его отправили в заключение на Занзибар. Правителем города был назначен дезертир из его войска [610, с. 72—75].
Долгие годы борьбу против Занзибара и англичан вел шейх Мубарак (Мбарук), пытавшийся воскресить величие династии Мазруи и отстоять свое личное влияние. Первый конфликт произошел в 1872—1873 гг., когда Мубарак принял участие в волнениях в защиту работорговли. В 1882 г. отряд Мубарака вместе с воинами миджикенда и масаями совершил нападение на порт Ванга. Карательная экспедиция во главе с английским генералом разрушила укрепленное жилище Мубарака в стране гириама и захватила около 400 пленных, но ядро отряда разгромить не смогла. Уже в следующем году он появился е новым отрядом миджикенда у Рабаи, потом ушел в глубь страны. Бар- гаш неоднократно предлагал Мубараку мир и губернаторство в одном из небольших городов, но тот претендовал на большее и каждый раз отказывался.
В 1885 г. Мубарак принял наконец титул султана Гази и признал власть Барраша, но вскоре поднял над городом флаг Германской компании. Англичане послали войска, и Мубарак бежал. Новый занзибарский султан в 1888 г. не только признал Мубарака правителем Гази, но и выплатил ему компенсацию, а БВАК даже установила ему денежное содержание. Но в 1895 г. Мубарак поддержал своего племянника в борьбе за пост правителя Такаунгу против претендента, назначенного англичанами вопреки традиционным нормам наследования. Вместе с войском он присоединился к восставшим жителям Такаунгу. К Мубараку стали стекаться недовольные, и вскоре в его войске было уже около 3 тыс. человек. К ним часто присоединялись гириама и диго. Отряды Мубарака нападали на английские гарнизоны, миссии, торговые караваны. Только весной 1896 г., дождавшись подкрепления из Индии, англичане разбили основные силы Мубарака. Остатки его войск отступили на территорию Германской Восточной Африки и сдались немецкой администрации ,[36, с. 1—38, 107; 367, с. 432—433; 414, с. 253—255, 457; 559, с. 96—97].
Колониальное освоение внутренних районов представляло собой непрерывную цепь карательных экспедиций и столкновений колониальных войск с местными жителями. Но у колони¬
100
заторов находились и союзники. Отношения с создававшейся администрацией в каждом районе зависели от конкретной ситуации и расстановки сил.
Для миджикенда начало колониальной эпохи было отмечено торговым бумом: число караванов с побережья непрерывно росло, доходы увеличивались. Поэтому, вероятно, первые годы колониального господства могли бы пройти здесь мирно, если бы не традиционные союзнические отношения миджикенда с побережьем. У них находил поддержку и прибежище Мубарак, гириама и диго часто пополняли его отряды. Когда англичане преследовали его на их земле, они никогда не выдавали союзника, хотя потом, когда он, разбитый, уходил дальше, каждый раз своей самой страшной клятвой — клятвой гиены клялись в верности новым властям fl54, с. 7].
Довольно большие выгоды получали от роста торговли и некоторые кланы тейта. Но и здесь не обошлось без столкновений. Исследователи упоминают несколько небольших карательных экспедиций и «инцидент» 1892 г. Состоял он в том, что члены кланов мванда и мганга отказались работать носильщиками на строительстве железной дороги. Отряд колониальных войск осадил «бунтовщиков». Тейта воевали, но против пулеметов были, конечно, бессильны. Вождь мванда, Мвангеку, был убит одним из первых [486, с. 414; 513, с. 16; 559, с. 98].
Первым из постов БВАК во внутренних районах был Мача- кос в стране камба. Сначала станция испытывала большие трудности, но в 1892 г. представителем компании туда был назначен Дж. Эйнсворт, которому удалось установить с камба дружественные отношения, а потом и создать зародыш аппарата управления. Административные таланты Эйнсворта были по заслугам оценены не только колониальными властями (позже он стал комиссаром по туземным делам), но и колониальной историографией, именно этими талантами объяснявшей быстрое «умиротворение» камба. Но дело, конечно, не только в них.
После того как камба лишились контроля над торговлей побережья с внутренними районами, они вынуждены были искать новые источники существования. Пытались снабжать караваны провизией, купленной у гикуйю, продавать рабов — но это не приносило дохода или не получалось. Появление станции открыло новые и немалые возможности. Эйнсворт лишь оценил и использовал потребность камба в каких-то оплачиваемых занятиях.
С его помощью молодежь камба организовала в Мачакосе и Китуи несколько постов для отражения набегов масаев и перехвата работорговых караванов. Юноши охотно работали на строительстве дороги, доставляли почту в Момбасу и Форт Смит, сформировали отряд для защиты станции. В стране камба была открыта первая во внутренних районах миссия; в Мачакосе поставил свою лавочку первый индийский торговец; здесь поселилась семья первого европейского колониста. Но и при
101
столь благоприятной ситуации для борьбы с отдельными возмутителями спокойствия потребовалось четыре карательные экспедиции и создание двух полицейских постов [474, с. 176, 242— 244; 486, с. 415; 513, с. 16].
Сложными и напряженными были отношения колониальной администрации с гикуйю. Дагоретти — первый пост БВАК в стране гикуйю — построил на пути в Уганду Лугард. В противоположность путешественникам, пересекавшим эту территорию до него, он был самого лучшего мнения об ее обитателях. «Вакикуйю — прекрасная раса интеллигентного вида с высокими лбами и головами хорошей формы... Мы стали закадычными друзьями, и я без колебания оставался среди них почти один, даже вдалеке от лагеря ... Я нашел их честными и прямыми, и у меня было мало неприятностей с ними ... Я очень полюбил местного вождя, Эйеки, и особенно его брата... Это были чрезвычайно интеллигентные и доброжелательные люди с хорошими манерами» [127, с. 303—304]. «Эйеки» — это Вайяки, влиятельный в Кабете мутамаки, который помог пройти через этот район экспедиции Телеки и Хёнеля и с тех пор поддерживал дружественные отношения с европейцами. Союз был ему выгоден — Вайяки получал от них помощь против масаев [544, с. 148, 150].
Мелкие «неприятности», о которых упоминал Лугард, произошли не с людьми Вайяки, а с жителями отдаленной деревни, укравшими у них несколько овец. Может быть, кража была вызвана какой-то внутренней распрей, но не исключено, что ее причиной была именно «дружба» Вайяки с чужестранцами. Всего несколько лет спустя англичанин Д. Бойес, авантюрист, поселившийся в стране гикуйю, писал, что «враждебные соседи» часто убивали его друзей и даже людей, просто носивших купленные у него вещи if 148, с. 93]. Так или иначе, Лугард пригрозил карательной экспедицией, овцы были возвращены, и возмещение, которое он потребовал от «нарушителей», заплачено.
Лугард заключил с Вайяки договор, одним из пунктов которого было, между прочим, обязательство администрации «не вредить и не мешать его людям», закрепил его церемонией «кровного братания» и отправился колонизовать Уганду. На обратном пути — через два года — он узнал, что в его отсутствие многое переменилось. «Из-за недостатка дисциплины в проходящих караванах, грабивших поля и вообще причинявших много неприятностей,— пишет Лугард,— люди (гикуйю.— И. Ф.)
убили несколько носильщиков». Представитель БВАК Дж. Вильсон отправился за подкреплением, а гикуйю, решив, что белые ушли совсем, разобрали вещи и сожгли форт. Вильсон набрал в Мачакосе добровольцев-камба, заручился поддержкой отряда масаев и «преподал гикуйю урок»: наложил контрибуцию в 50 коз ежедневно и обязал 300 человек бесплатно работать на отстройке форта. Воины-масаи, ставшие постоянными помощниками Вильсона, гарантировали исполнение [127, с. 328—329].
102
Не таким, видимо, представлял себе «кровное братство» с европейцами Вайяки, но проявил большое усердие в розысках похищенных вещей и продуктов и старался сглаживать противоречия. И все же конфликт был неизбежен по той простой причине, что англичане считали Вайяки «вождем», ответственным за действия своих «подданных», а он был всего лишь мутама- ки и не мог требовать беспрекословного повиновения даже от своей мбари.
В августе 1982 г., члены мбари гитунгури убили двоих известных своей жестокостью и грубостью суахилийцев, собиравших дань для БВАК. Узнав о готовившейся карательной экспедиции, Вайяки спрятал свой скот у родственных мбари — и тем самым предупредил «преступников». Каратели сожгли около 30 деревень, уничтожили все посевы, перестреляли всех встреченных ими вооруженных мужчин. Но скота не нашли и обвинили Вайяки в пособничестве. 17 августа его арестовали и отправили в Момбасу под конвоем. Г. Муриуки пишет, что при аресте пожилой Вайяки был ранен и в дороге умер [544, с. 143— 149].
Кенийский писатель-публицист Нгуги ва Тхионго приводит другую версию событий, более широко распространившуюся в народе: конвойные пытались убить Вайяки по дороге, но не убили и живым закопали в землю [228, с. 46].
С этого момента до 1896 г. вновь отстроенный форт — Форт Смит находился фактически на осадном положении. Ситуация усугублялась тем, что в 1894 г. в обмен на помощь администрация разрешила воинам-масаям (их было почти 400 человек) построить около форта свое селение и грабить поля гикуйю. Ф. Холл, возглавлявший администрацию форта с 1892 по 1899 г., писал в частном письме: «Есть только один способ исправить гикуйю— уничтожить их. Я бы с восторгом сделал это, но мы зависим от их поставок продовольствия» /[544, с. 153, 155].
После смерти Вайяки «вождем» в районе Форт Смита был назначен Киньянджуи, бывший проводник караванов БВАК. К этому времени он, получив в награду за службу ружье, сколотил банду и грабил своих соотечественников уже самостоятельно. В северных районах страны гикуйю англичане не осуществляли никакого контроля до 1898 г., когда там появился Д. Бойес. Он установил тесные отношения с Карури из Метуми и Вангомбе из Гаки, помогал своим друзьям в междоусобных конфликтах и обменивал безделушки и йодоформ на продукты для снабжения караванов (10—20 фунтов муки за щепотку йодоформа). В 1900 г. английские власти арестовали его за самоуправство, но воспользовались его связями. Карури и Вангомбе стали их преданными союзниками.
Каждый этап продвижения колониальной администрации о глубь страны гикуйю требовал новой карательной экспедиции (только крупных было четыре — в 1902, 1904, 1905 и 1906 гг.). Завоевание района горы Кения закончилось лишь в 1908 г., а
103
последняя карательная экспедиция (против тарака) была послана туда в 1910 г. {148, с. 88 и др.; 513, с. 24; 544, с. 153].
Масаи, о чьей «воинственности» так много писалось в колониальной литературе, не только не оказали сопротивление колонизаторам, но во многих случаях помогали установлению колониального господства в других районах страны. Отчасти это объяснялось, конечно, тяжелым положением, в котором они оказались после междоусобных войн, голода и эпидемий. Например, те масаи, которым дал прибежище в стране гикуйю Ф. Холл, принадлежали к разбитым в войнах кланам капутие и матапату. Помощь, которую он оказал им, позволила англичанам выиграть доверие лайбона Ленаны, поскольку эти группы принадлежали к числу его приверженцев [513, с. 2, 13]. Для деморализованных кланов, потерявших в войнах свой скот, продажа военной силы за «трофеи» была только естественной. Но в колониальных войнах на стороне англичан участвовали и хорошо организованные отряды победителей. Советский исследователь писал, что со стороны масаев, решивших не бороться с сильным противником, это было «военно-дипломатическим маневром» [367, с. 450]. Факты свидетельствуют, однако, об обратном. Масаи по-прежнему организовывали набеги на камба и гикуйю и, не разбираясь в тонкостях взаимоотношений их кланов с англичанами, зачастую нападали на их «друзей». Но англичане не вмешивались.
Не обращали они внимания и на стычки масаев с проходившими через их страну караванами. В 1895 г. масаи вырезали больше половины состава большого каравана — 90 суахилийцев и около 550 гикуйю — за то, что носильщики воровали у них женщин и скот. Погиб и торговец-шотландец, успев перед смертью застрелить много масаев. Но даже и в этом случае англичане возложили вину на суахилийцев и гикуйю и ничего не предприняли против масаев |[407, с. 5; 513, с. 12—14].
Все это наводит на мысль, что не масаи, а англичане, «поняв, что перед ними сильный противник», совершили «военнодипломатический маневр»: до поры до времени, пока им не нужна была земля масаев и пока не были освоены другие территории, не вступать с ними в серьезные конфликты, но использовать, насколько возможно, их военную силу. Эйнсворт по этому поводу писал: «Тактика постепенного охвата этого народа нашим контролем лучше, чем использование одного удара сразу ... пока у них есть большие территории к северу и северо-востоку» t[513, с. 12—14].
В Западной Кении наиболее последовательное сопротивление колониальному вторжению оказали нанди. Столкновения с англичанами начались сразу: нанди не допускали на свою территорию чужаков, будь то белые или черные. Они продолжали свои ночные набеги на соседей, а когда по соседству появлялись караваны, то и на них. Особенно осложнилось положение с 1900 г., когда железнодорожная линия дошла до территории
104
нанди. Отряды воинов нападали на транспортные караваны, форты (Тернан и Китотос), ремонтные мастерские, снимали телеграфные провода, чтобы делать из них украшения, разбирали железнодорожные пути. Позже они угоняли скот у европейских колонистов, отказывались платить налог на хижины.
Хотя нанди избегали прямых столкновений, против них было послано пять крупных карательных экспедиций. К середине 1900 г. они потеряли около 350 человек убитыми, 3,5 тыс. голов скота и 29 тыс. овец. После этого был заключен мир, но через год нанди снова разрушили железнодорожную линию [556, с. 109—111].
На рубеже веков среди нанди быстро росло влияние оркойо- та Койталеля арап Самоея. Англичане справедливо видели в нем ключевую фигуру сопротивления. Полковник Р. Мейнерцха- ген, присланный для расправы над нанди, писал, что Койта- лель — «духовный глава всех нанди, или верховный колдун, но он быстро приобретает политическую власть и становится диктатором в худшем смысле этого слова, поскольку превращает нанди в значительную боевую силу, которая через несколько лет может стать угрозой нашему положению в Восточной Африке и плохим примером для других племен». С циничной откровенностью описывал Мейнерцхаген в дневнике свои планы ликвидации оркойота, одобренные властями: «Я сказал... что планирую убить или захватить лайбона (англичане называли оркойотов лайбонами.— И. Ф.) в первый день операции... Сегодня получил телеграмму... которая позволяет мне попытаться убить или захватить лайбона прямо 19-го» [221, с. 211, 227].
На 19 октября 1905 г. были назначены переговоры Мейнер- цхагена с Койталелем. Нанди рассказывают, что в этот день, когда у оркойота собрались старейшины, пришел Мейнерцхаген со своими людьми. Оркойот вышел приветствовать гостей и в тот же момент был ранен в бедро. Вторым выстрелом он был убит. Англичане дали несколько выстрелов по онемевшим сви- тетелям сцены и быстро удалились.
Позже нанди подали на Мейнерцхагена в суд. Дело об убийстве Койталеля разбиралось трижды, и каждый раз Мейнерцхагена оправдывали: колониальная администрация представила дело так, будто оркойот сам готовил на него покушение, нарушил соглашение о месте встречи и числе людей, которые должны были принять в ней участие, и, таким образом, спровоцировал нападение if221, с. 235—238; 556, с. 119].
Смерть оркойота, в чью сверхъестественную силу и способность сделать их неуязвимыми нанди так верили, лишила их не только руководителя, но на время и воли к сопротивлению. Расправа, последовавшая за убийством оркойота осенью 1905 г., прошла для колонизаторов легче, чем они предполагали. В карательной экспедиции участвовали 80 английских офицеров, более 1300 солдат колониальных войск, 260 полицейских, около 1200 масайских и сомалийских воинов, 500 вооруженных но-
105
силыциков. У карателей было десять пулеметов, на железной дороге стояли два бронированных поезда >[221, с. 224; 367, с. 447; 556, с. 121]. Каратели прочесали всю страну нанди. Было убито около 700 человек, ранено — сотни, конфисковано более 28300 голов крупного и мелкого скота [367, с. 447; 540, с. 156; 644, с. 171].
Мейнерцхаген потребовал, чтобы до 15 января 1906 г. нанди выдали «убийц» и освободили территорию вдоль железной дороги, переселившись в созданный на оставшейся земле резерват [221, с. 264]. Когда ультиматум не был выполнен, на помощь снова была призвана армия, и людей вывезли силой. Их дома были сожжены, сотни людей погибли и были ранены, было конфисковано много скота, продовольствия [367, с. 447; 540, с. 158; 556, с. 123].
Во избежание распространения волнений и для закрепления нанди в границах резервата против них впервые в истории протектората были применены меры, к которым позже администрация прибегала неоднократно. В документе, подписанном верховным комиссаром протектората, говорилось: «1. Ни один нанди не должен без пропуска покидать территорию резервата, в котором он поселен... 2. Пропуск выдается в соответствии с настоящими правилами бесплатно и может быть действителен только на указанный в нем срок. 3. Любому нанди... может быть отказано в пропуске без указания причин. 4. Вне резервата нанди обязан предъявлять пропуск по первому требованию любого правительственного служащего или полицейского. 5. Любой нанди, не предъявивший пропуск или находящийся вне своего резервата без пропуска, может быть арестован на месте чиновником, полицейским или другим уполномоченным лицом. В обоих случаях он может быть приговорен к трехмесячному заключению, а при повторных нарушениях — к заключению до шести месяцев строгого трудового режима» [26, № 23 405].
Завоевание Южной Ньянзы тоже относится к первому десятилетию нашего века. В 1903 г. здесь (на территории луо) появился пост колониальной администрации. Главы некоторых кланов луо и соседних гусии поспешили к комиссару округа с просьбами о помощи и приглашениями посетить свои земли. Большинство жителей в первое время никак не проявили своего отношения. Но уже через год гусии отказались поставлять администрации зерно. Английские власти прислали полицейский отряд, в стычках с которым погибло около 100 воинов. Англичане захватили около 3 тыс. голов скота J563; с. 85].
В 1907 г. административный пост появился в стране самих гусии. Начались новые столкновения. Члены клана китуту убили двух констеблей, индийского торговца и нескольких колониальных служащих-луо. В январе 1908 г. они совершили покушение на помощника комиссара дистрикта. Карательная экспедиция унесла жизни 200 человек. Было конфисковано около 12 тыс. голов скота, сожжено много жилищ [644, с. 172].
106
Главным союзником англичан в Северной Ньянзе еще со времен Томсона стал Мумиа, набонго ванга. Административный пост в его столице Элуреко, названной европейцами Мумиасом, был создан в 1894 г. Со слов Мумиа европейцы описывали «королевство» ванга как централизованное, хотя и раздираемое сепаратизмом подданных «государство», в состав которого входила якобы не только вся страна луйя, но и часть территории, населенной луо. Активно включившись в борьбу за «восстановление» мифических прав «монарха», колониальная администра- ция продолжала в этом районе тактику работорговцев. Наиболее серьезное сопротивление англичанам оказали букусу и буньяла — традиционные противники ванга со времен работорговых походов отца Мумиа — Шиунду. Их хорошо укрепленные поселения, выстроенные в расчете на натиск не только масаев, но и работорговцев, стали препятствием и для англичан. Люди в этих местах были знакомы с огнестрельным оружием. В войске букусу были ружья. В 1895 г. колониальные войска вели с ними настоящую войну. Около 420 человек убитыми, много раненых и пленных, 450 голов захваченного скота — таковы были потери букусу в войне.
Между 1894 и 1900 гг. С. У. Хобли, представитель колониальной администрации в этом районе, организовал несколько карательных экспедиций против других «воинственных» кланов луо и луйя. Во время «умиротворения» кланов луо угенья и кагер было убито около 200 воинов. Буньяла, засевших в лесах, удалось разбить только большому объединенному отряду суахилийцев, суданцев, ганда и масаев. Меньшими силами англичане подчинили какамега, кабрас, тирики, буньоре, семе, саква, уйомо, име [563, с. 73—74; 590, с. 85, 129—132; 664, с. 171].
За услуги, оказанные англичанам, Мумиа получил не только большинство захваченных в плен женщин и конфискованного у противника скота. В 1909 г. он был назначен верховным вождем луйя, а члены его клана — шитсетсе — «губернаторами» по всей Северной Ньянзе, в том числе и на территории луо. Местные старейшины, воевавшие против англичан или Мумиа, были отстранены от управления, а «лояльные» подчинены «губернаторам» шитсетсе.
«Умиротворение» центральных, наиболее густонаселенных и плодородных, районов Кении закончилось в основном к 1910 г., но огромные территории, втрое превосходившие по площади то, что уже было завоевано, оставались неподчиненными. Это были северные районы, населенные покот, самбуру, туркана, рен- дилле, боран й сомали. В 1900 г. была построена станция у
оз. Баринго, с которой англичане пытались управлять туген, элгейо и мараквет. В 1908 г. они создали пост в долине р. Ке- рио, чтобы «помочь» покот, страдавшим от набегов туркана. Последовали карательные экспедиции. В 1907 г. была установлена граница между Кенией и Эфиопией — на сей раз чтобы
107
«защитить» туркана, а также самбуру, рендилле и боран от набегов работорговцев с севера. С этой же целью был создан пограничный патруль со штабом в Мояле.
На северо-востоке англичане «защищали» боран от сомали. Первая карательная экспедиция против них, включавшая индийские полки, была послана в 1898 г. В 1910 г. появилась станция в Серенли, в 1912 г.—в Ваджире. Но все же до первой мировой войны северные районы лишь формально могли считаться частью протектората. Вся эта огромная территория, названная Северным пограничным округом, практически не контролировалась {513, с. 9, 30—31; 559, с. 97—98].
В отличие от португальской колонизации, не повлекшей за собой таких серьезных социальных сдвигов, как смена социального строя или возникновение нового экономического уклада с соответствующими социальными прослойками, колониальный раздел открыл в Восточной Африке эпоху глубокой социальной перестройки. «Встреча» европейцев с доклассовыми и раннеклассовыми восточноафриканскими обществами была далеко не идиллической. Даже английские чиновники, не отличавшиеся склонностью к филантропии, вынуждены были иногда признавать это. Дж. Портал, генеральный консул Занзибара и комиссар британской сферы влияния в Восточной Африке, писал: «Ни за что не платя, совершая набеги, головорезничая, грабя и убивая туземцев, Компания настроила против белого человека всю страну» ,1*486, с. 417]. Портал считал все это издержками управления БВАК и полагал, что зло можно исправить, передав страну в колониальное ведомство. Но когда Кения стала протекторатом, методы управления почти не изменились. «Этих людей,— писал глава колониальной администрации протектората об африканцах,— нужно учить подчинению пулями, и это единственно возможная школа» |[559, с. 100].
Однозначно противопоставив белому человеку «всю страну», Портал упростил картину — как это делают подчас и теперь. Союза с колонизаторами искали слабые группы, теснимые более могущественными соседями. Союзниками англичан становились, наоборот, и сильные общности, которых до поры до времени опасались сами колонизаторы, не вступавшие с ними в серьезные конфликты. Поддержку англичанам оказали народы, связанные торговыми отношениями с побережьем (ванга, некоторые кланы камба). Среди причин коллаборационизма кенийский историк В. Р. Очиенг называет и довольно противоречивые личные мотивы: корыстолюбие отдельных личностей, любопытство, стремление старейшин, понявших бессмысленность борьбы, сохранить жизнь молодых воинов и, наконец, веру в предсказания ведунов, желание выполнить их завет не бороться с белыми людьми [563, с. 80—82].
Все это справедливо, но, анализируя причины коллаборацио¬
108
низма или, наоборот, антиколониализма тех или иных общностей внутренних районов, важно не забывать, что и союзники и противники англичан до конца не понимали, с кем они имеют дело, чему способствуют или против чего борются. Как бы ни нелики были первые европейские экспедиции (до 1500 человек), каким бы устрашающим оружием ни расчищали они себе путь, их численность была все же слишком мала, и они слишком напоминали суахилийские торговые караваны, чтобы африканцы могли считать их серьезной угрозой.
Одни старейшины считали необходимым вовлечь эту новую силу в свою борьбу с соседями, другие опасались. Представить себе, что за спиной горстки белых людей стоит мощь крупнейшего империалистического государства, да и какова эта мощь, не могли, конечно, ни те, ни другие. Европейцы приходили, воевали или заключали договоры и уходили. Разве могли африканцы, ставившие крестики под договорами, понять до конца их смысл, представить, что не один, не два, а десятки тысяч европейцев захотят прийти в их страну и остаться там?
Вот текст одного из договоров Джонстона, заключенных им в стране тавета: «Вышеупомянутый Генри Хэмильтон Джонстон, поскольку он желает обрабатывать землю в округе... и основать поселение и город, в котором будут жить его слуги и рабочие и куда он сможет приглашать жить и своих друзей, согласен отныне и навсегда платить вождям тавета 4 гора ме- рикани, 5 гора сахари, 1 гора носовых платков и 1 фрасилу бус (примерно 120 ярдов американской ткани, около 150 ярдов тканей для тюрбанов, около 30 ярдов ткани для носовых платков и около 35 фунтов бус.— И. Ф.) в качестве компенсации за любой налог на землю или дорожные взносы, которые они будут иметь право потребовать ... Управление и вся власть в границах ныне купленной территории будет принадлежать исключительно вышеупомянутому Генри Хэмильтону Джонстону или тому, кого он назначит своим представителем» [414, с. 383].
Джонстон платит за право обработки земли — значит, он арендатор и подчиняется правилам и нормам общежития общины. Что такое «округ» и «город», сколько «друзей», что представляют собой «налог на землю» и «дорожные взносы»,—это скорее всего осталось для старейшин тавета пустым звуком. Они мыслили другими понятиями и категориями. Опасность начинала вырисовываться не тогда, когда они заключали договоры или когда европейцы помогали им расправиться с соседями, а только тогда, когда начиналось «освоение» захваченных территорий. Вайяки выразил свои опасения так: «Что-то не нравятся мне эти бледно-розовые люди, не доверяю я им. Они строят дома из камня. Как бы они не остались здесь дольше, чем мы думаем» [559, с. 101].
Характер реакции африканцев Кении на колониальное вторжение в целом объяснялся огромным разрывом в уровнях социально-экономического развития европейского и африканских
109
обществ. Африканцы вступали в борьбу только тогда, когда какие-то действия англичан непосредственно задевали интересы каждой маленькой общности. Замкнутость, разобщенность, отсталость этих общностей заранее обрекали их на поражение. Именно о них писал Маркс: они, «сосредоточив все свои интересы на ничтожном клочке земли, спокойно наблюдали, как рушились целые империи, как совершались невероятные жестокости, как истребляли население больших городов,— спокойно наблюдали все это, уделяя этому не больше внимания, чем явлениям природы, и сами становились беспомощной жертвой любого захватчика, соблаговолившего обратить на них свое внимание» ,[1, с. 135—136].
Рано или поздно в той или иной форме столкновение происходило, борьба начиналась обязательно. В этом смысле антиколониализм был явлением всеобщим, повсеместным, но асинхронным. Современная историография, усиленно изучавшая ранние этапы антиколониализма, зачастую превращает тех, кто начал борьбу в самый момент появления англичан, в «героев», а коллаборационистов — в «предателей». Но, учитывая уровень развития африканских обществ и в конечном итоге повсеместный характер сопротивления, не является ли такое размежевание простой перелицовкой колониального стереотипа африканцев? Стереотип этот формировался как раз в годы колониального раздела и тоже представлял африканца в двух ипостасях: «добродушного туземца» и «злобного дикаря». Только «добрым» считался коллаборационист, а «злобным» — герой сопротивления.
Деление африканских лидеров тех дней на предателей и героев в зависимости от их отношения к англичанам в первые годы колониального раздела не только не всегда корректно с точки зрения теории, но зачастую и практически затруднено. Уже первый герой борьбы против португальцев Юсуф бин Хасан долгие годы был лояльным подданным и мог бы остаться им, если бы португальцы были менее грубы и высокомерны. Неоднократно менял знамена Мубарак. Вайяки мог бы умереть не героем, а коллаборационистом, если бы англичане получше разбирались в местной системе управления и не наделяли его функциями, которые он не мог исполнять.
Советский исследователь А. М. Пегушев верно заметил, что Мубарак «отстаивал узкоэгоистические интересы своей семьи, своего клана и своего класса» [367, с. 433J. Эту характеристику вполне можно распространить почти на любого лидера антиколониальной борьбы того времени в Кении (как, впрочем, и на коллаборационистов). Иначе и быть не могло. Но социально ограниченный характер их борьбы, обусловливавшийся определенным уровнем развития общества и сознания, ни в коей мере не умаляет ее значение. Определялось оно не только широким участием народных масс, но прежде всего тем, что интересы боровшегося клана или класса объективно совпадали с жиз-
ПО
пенно важными, хотя и не всегда осознанными интересами всех кенийцев — защитой их национальной независимости, духовных и материальных ценностей их обществ.
Да и просто по-человечески, можно ли упрекнуть вступавших в неравную борьбу лидеров за колебания, непоследовательность? Выбор был труден, условия примирения на первый взгляд почетны. Но эти люди выбирали борьбу, не желая или не умея смириться с утратой своих прерогатив и самостоятельности действий, отстаивая свой образ жизни, защищая свое достоинство. Уже одно это не могло не высветить их имена в истории для новых поколений боровшихся.
Глава IV
НАЧАЛО КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОЛОНИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АФРИКАНСКИХ ОБЩЕСТВ КЕНИИ
«Эти бледно-розовые люди строят дома из камня — как бы они не остались здесь дольше, чем мы думаем»
Завоевание внутренних районов Восточной Африки не означало их подчинения. Вряд ли можно говорить об эффективном контроле, если караван из Момбасы добирался до страны гикуйю минимум за шесть недель, а округом Киту и, территория которого составляла две трети территории Великобритании, «управляли» трое колониальных чиновников. Постройка железной дороги казалась английской администрации панацеей. Дорога должна была стимулировать торговлю и производство, способствовать созданию и расширению административной сети.
Становление поселенческого хозяйства.
Земельные экспроприации
В 1896 г. строительство железной дороги началось. Набрать рабочих среди африканцев не удалось: они отказывались надолго покидать свои дома, а заставить их сделать это у администрации в то время не было возможности. 32 тыс. рабочих были завербованы в Индии и привезены в Восточную Африку. Дожди и засухи, постоянное недоедание, малярия, сонная болезнь, оспа, львы-людоеды — какие только бедствия не обрушивались на строителей, унося тысячи жизней. Но дорога медленно продвигалась вперед. В июне 1899 г. строители достигли болотистой низины, которую масаи называли энкарэ Найроби — «место холодных вод». Здесь не было даже селения. Будущая столица страны начиналась со складов продовольствия и оборудования.
Главные трудности ждали строителей в стране нанди. Солдаты-индийцы пытались защищать дорогу от их набегов — но тщетно. Отряды нанди каждый раз быстро уходили, забрав телеграфные провода и металлические инструменты, разобрав пути, а иногда и убив несколько рабочих. 19 декабря 1900 г.
112
строители достигли Кисуму на побережье оз. Виктория. Через- несколько недель по дороге было открыто движение.
Дорога стоила жизни 2,5 тыс. индийских кули, 6,5 тыс. рабочих потеряли трудоспособность. Английский налогоплательщик заплатил за эту дорогу, по разным данным, от 5,5 до 8 млн. ф. ст. if 148, с. 47; 513, с. 21; 644, с. 188—190]. Но перевозить по ней было решительно нечего. Как и вся колония, в первые годы дорога не только не окупала вложенных средств, она приносила английской казне одни убытки. Даже там, где африканцы продавали излишки своей сельскохозяйственной продукции— а таких районов было немного,—ее не хватало, конечно, чтобы загрузить дорогу. Африканские общества оставались замкнутыми для европейцев ячейками, спрос на импортируемые товары был минимален. Чтобы наладить эксплуатацию природных ресурсов страны, колонизаторы стремились привлечь частные капиталы из Европы.
Единственное, чем могла тогда заинтересовать частный капитал Восточная Африка, были ее земельные угодья. Многие путешественники и миссионеры, повидавшие Кению в конце прошлого века, видимо, понимали это и восторженно описывали обширные плодородные нагорья и равнины внутренних районов. «Страна здесь — больше Швейцарии, почвы плодородные, климат здоровый,— писал Г. Джонстон.— Она пригодна для выращивания всех тропических и среднеевропейских культур и разведения скота, поскольку здесь нет мухи цеце. Страна населена немногочисленными мирными и трудолюбивыми земледельцами, жаждущими обучения и способными воспринять его. Эта страна чрезвычайно подходит для европейской колонизации» [414, с. 384]. «Страна, просто созданная для белого человека» — эти слова становятся постоянным эпитетом Кении в работах первых колониальных чиновников [163; 177; 212].
Некоторые авторитеты колониальной политики утверждали, правда, что белый человек не может постоянно жить в Тропической Африке, и какое-то время в академических кругах дискутировался вопрос о том, не лучше ли поселить в Кении индийцев |[414, с. 387]. На практике его быстро решила экономическая сторона дела. Освоение новых земель требовало больших капиталовложений. Лорд Дэламер, один из первых и самых богатых поселенцев, истратил на свое поместье около 80 тыс. ф. ст., прежде чем оно начало приносить доход [470, т. 1, с. 147]. У индийских крестьян, как и у английских фермеров средней руки, таких денег не было.
До 1897 г. администрация юридически не имела права распоряжаться землей в протекторате. На 12 заявок на приобретение участков в Кении, поступивших до этого года, она ответила отказом. С 1899 г. будущим поселенцам начали выдавать удостоверения на пользование участками в течение 99 лет без права приобретать их в собственность. Землю нужно было возвращать по первому требованию администрации без компенса¬
8 Зак. 6S4
ИЗ
ции за ее обработку и здания. Неудивительно, что до 1902 г. всего около 30 европейцев обратились к правительству за лицензиями. По закону 1901 г. администрация получила право продавать участки до 1 тыс. акров, а большие — сдавать в аренду на 99 лет.
Этот закон и завершение строительства железной дороги послужили важными стимулами иммиграции. Немало способствовали ей и усилия первого английского комиссара Кении Ч. Элиота. Всеми доступными ему средствами Элиот рекламировал страну в разных частях Британской империи, в первую очередь в Южной Африке. В 1901 г. в Кении было всего 8— 10 поселенцев, в 1903 г.— около 100, в 1904 г. к ним прибавилось еще 300 if619, с. 65, 69]. С этого времени на протяжении всей колониальной эпохи европейская община стала важным элементом экономической и политической жизни страны и фактором социальной трансформации африканских обществ.
«Пионеры» колонизации испытали на первых порах немало трудностей, красочно расписанных, конечно, колониальной литературой. Их семьям приходилось совершать пешие переходы к своим участкам, порой — с домашним скарбом за спиной. Носильщиков не хватало, рабочих не было. Не было дорог, магазинов, сельскохозяйственной техники. Жили поначалу в шалашах и хижинах с незастекленными окнами и глиняными полами /f470, т. 1, с. 136—137].
В первые годы больше всего европейцев приезжало в Кению из Южной Африки. После окончания англо-бурской войны отряд «непримиримых» буров прошел пешком полконтинента и в 1906 г. обосновался в Кении. Большая группа буров прибыла в 1908 г. морем. К 1911 г. на плато Уазин-Гишу было около 200 бурских ферм размером от 2 тыс. до 3 тыс. акров. Из Южной Африки ехали в Кению и англичане, недовольные неограниченной властью горнорудных магнатов. До начала первой мировой войны выходцы из Южной Африки составляли среди кенийских поселенцев большинство [619, с. 102, 145].
Выходцев из Англии было мало: золото и алмазы не находились, сельскохозяйственные эксперименты были не по карману мелкому фермеру. Объявления о продаже мелких участков стали характерной чертой жизни европейской общины в начале века. Максимум земли, которую один человек мог приобрести в собственность или в аренду, постоянно повышался. Поначалу поселенец мог рассчитывать лишь на 640 акров, причем 480 из них он получал по истечении трех лет, если первые 160 акров к тому времени были обработаны. В 1910 г. максимум составлял уже 15 тыс. акров. «В виде исключения, в целях экономического развития страны», европейцам зачастую предоставлялись угодья, в несколько раз превышавшие этот максимум. «Исключение» делалось так часто, что постепенно превратилось в правило. Уже в первые годы века земельная собственность по меньшей мере дюжины семей в десятки раз превышала
114
официальную норму. Дэламер, например, к 1906 г. владел бо лее чем 176 тыс. акров [619, с. 63, 145—146].
Неосвоенная, бедная ресурсами страна не интересовала деловой Лондон. Зато львы, «дикари» и, конечно, дешевая земля привлекли сюда искателей денег и приключений — младших сыновей аристократических семей. Европейская община Кении могла похвастать самыми блестящими именами лондонских великосветских гостиных. Главный отель в Накуру — поселен ческой «столице» — прозвали «палатой лордов». Связи и средства этой прослойки позволяли ей оказывать влияние на политику колониальной администрации не только Кении, но и Лондона, хотя численно она была невелика. Эти люди ехали в Африку не просто «из любви к спорту, в особенности к охоте», как писал один из них |[506, с. 130]. Они свято верили, «что введение законности и порядка в отсталых районах Африки, распространение христианства и установление поселенческих центров... принесут пользу всему миру». Писательница-публицистка из их среды, Э. Хаксли, добавляла: «Если, выполняя эту миссию, поселенцы получат выгоду и для себя, то это только справедливо» f185, с. 8].
Комплекс идей и представлений, основанный на вере в свою миссию, определял как отдаленные, так и непосредственные по литические цели белой общины. Главной из этих целей было построение в Восточной Африке «нового лояльного белого доминиона, прочно основанного на принципах британских традиций и западной цивилизации» [290, 1935, № 101, с. 97], а затем объединение его с таким же доминионом в Центральной Африке.
Первая организация поселенцев — Ассоциация колонистов возникла в 1902 г. Встретившись в одном из отелей Найроби, два десятка поселенцев послали Элиоту письмо, содержавшее в зародыше основные политические устремления европейской общины. Поселенцы требовали предоставить им землю в полную собственность, высказывали пожелание, чтобы африканцы подчинялись контролю поселенцев, упоминали о вреде, наносимом якобы иммиграцией выходцев из Азии, как они выражались, «местному населению вообще и европейскому поселенцу в частности» [388, с. 7].
В следующем году Дэламер создал Ассоциацию фермеров и плантаторов, выступившую за «расовую чистоту» будущего «белого доминиона» и резко протестовавшую против иммиграции индийцев. Настоящую ярость вызвала у ее организаторов идея создания в Кении нового государства Израиль, принадлежавшая Чемберлену и обсуждавшаяся в 1902—1903 гг. {619, с. 39]. Дэламер телеграфировал в министерство иностранных дел, что Ассоциация «использует все средства, имеющиеся в ее распоряжении», чтобы помешать планам поселения в Кении евреев. Когда министерство запросило Элиота о численности организации, оказалось, что в ней состоят 32 человека! [389, с. 273].
8*
115
Европейцев в Кении было тогда немного, и в социальном отношении община была относительно однородна. О глубоких противоречиях в ее среде не могло быть и речи. Но политические страсти бушевали. Достаточно сказать, что уже в первые годы века кроме названных поселенцы создали Ассоциацию скотоводов, Ассоциацию плантаторов побережья Малинди, Ассоциацию арендаторов и др. У. Черчилль, в то время заместитель министра колоний, в 1907 г. посетил Восточную Африку и заметил: «Каждый белый в Найроби — политический деятель и большинство из них — лидеры партий» [155, с. 21].
В 1910 г. по инициативе популярного поселенческого лидера полковника Э. Грогана и при энергичном содействии Дэла- мера был создан Конвент ассоциаций, объединивший все организации поселенцев [533, с. 388]. На долгие годы он стал единственным и потому влиятельным выразителем их взглядов. Губернаторы неизменно посещали открытие сессий Конвента и выступали с докладами. Обычно английские чиновники в колониях не обсуждали официальную политику с неофициальной публикой, но перед Конвентом им приходилось отстаивать буквально каждое мероприятие администрации и даже английского правительства. Постепенно за Конвентом закрепилось неофициальное название «поселенческий парламент» [214, с. 172—173].
Вскоре поселенцы добились и создания официально признанного парламента, вернее, его колониальной модификации — законодательного совета. В 1905 г. Ассоциация колонистов послала в министерство колоний петицию. В ней говорилось, что поселенцы хотят видеть Кению колонией с законодательным советом, где вместе с колониальными чиновниками будут заседать представители европейской общины. Министерство колоний признало эти предложения «резонными» [389, с. 275], и в следующем году было решено создать исполнительный (при губернаторе) и законодательный советы. Членами законодательного совета вместе с шестью представителями администрации назначались двое неофициальных членов — т. е. поселенцев. Черчилль отметил по этому поводу: «До сих пор ни в одной колонии с таким небольшим числом поселенцев не учреждали совета» [388, с. 22].
Одним из неофициальных членов законодательного совета губернатор назначил президента Ассоциации колонистов Э. Грогана. Прежде чем этот парламентарий успел занять представительское место в законодательном совете, он, словно для демонстрации своих взглядов, принял участие в порке африканцев, устроенной поселенцами перед зданием суда в Найроби. Этот инцидент смутил министерство колоний не настолько, чтобы отменить решение о представлении поселенцам мест в совете. Просто Гроган не получил назначения [407, с. 33].
Важным каналом влияния поселенцев на деятельность колониальной администрации стали различные комиссии, комитеты и т. д. Земельная комиссия 1905 г., Комиссия по туземному тру¬
116
ду 1912—1913 гг., Экономическая комиссия 1917 г., вырабатывавшие рекомендации по важнейшим вопросам колониальной политики, заседали неизменно под председательством Дэламера и имели в своем составе поселенцев, причем часто их было большинство.
Английские и некоторые кенийские историки часто акцентируют внимание на неофициальном контроле, который установили поселенцы в Кении уже в первое десятилетие нашего века. Колониальная администрация представляется при этом беспомощной жертвой грубого нажима всемогущих поселенцев, влияние которых объясняется исключительно их ролью в развитии экономики страны.
Известные английские историки Р. Оливер и Дж. Фейдж утверждали, что с точки зрения метрополии «идеальной колонией была колония самообеспечивающаяся. Много она производила или мало, развивались ее народы быстро или медленно, развивали ее сами народы под руководством колониальных правительств, или европейские поселенцы, или горнорудные компании,— все это значило очень мало по сравнению с тем, насколько сбалансированным был ее бюджет, чтобы можно было уменьшить размер субсидий» f584, с. 196]. «Колониальное правительство так сильно зависело от поселенцев потому, что они обеспечивали экспорт. Экспорт был необходим, чтобы получить прибыль и освободить колонию от имперской субсидии»,— писал исследователь экономической истории Кении [652, с. 207], выражая широко распространенное мнение. В действительности, однако, все было иначе.
Поселенцы не знали, конечно, какой тип хозяйства, какие культуры подходят для разных районов страны. Начали с производства и поставок в только что возникшие города молока, кукурузы, картофеля и других овощей. Картофель стал первой экспортной культурой страны. Но овощи на продажу выращивали и африканцы. Европейские фермеры, еще не защищенные в те годы дискриминационными законами, не могли конкурировать с ними: в африканских хозяйствах издержки производства были минимальны и цена продукции соответственно ниже [644, с. 193; 649, с. 219—220]. В 1904 г. около Лимуру были впервые высажены чайные кусты. Эксперимент удался, но выращивание чая — в будущем самой доходной экспортной культуры страны — требовало таких затрат, на которые поселенцы в то время пойти не могли.
Трудно далась поселенцам и пшеница. Прошли годы, прежде чем были подобраны подходящие для климата нагорий сорта, найдены способы борьбы с неизвестными дотоле болезнями этой культуры. Только в 1909 г. в Найроби была построена первая мукомольня. С еще большим трудом были выведены высокопродуктивные породы скота, выживавшие в местных условиях, найдены подходящие пастбища. Именно на эксперименты с пшеницей и скотом ушли капиталы Дэламера [644, с. 193—194].
117
Менее состоятельные фермеры, опасаясь разорения, сдавали свою землю в аренду африканцам f458, с. 96—97].
Даже удачные опыты приносили доход не сразу. В 1904 г. в Тике был высажен сизаль, давший большой урожай, но лишь к 1920 г. он стал второй по значению экспортной культурой Кении. Выращивать кофе начали еще в 1899 г., но только в 1910 г., когда его цена на мировом рынке начала подниматься, в Кении начался кофейный бум. Еще десять лет экспериментов— и к 1920 г. кофе стал важнейшей сельскохозяйственной культурой протектората и главной статьей экспорта [644, с. 193—194].
Так начиналось становление европейского сектора сельского хозяйства в Кении. Каковы бы ни были его успехи, трудности были гораздо большими, и до первой мировой войны еще не ясно было, что именно этот сектор станет спинным хребтом колониальной экономики Кении и будет давать почти всю ее экспортную и большую часть товарной продукции. Накануне кофейного бума стоимость экспорта составляла всего около 150 тыс. ф. ст., причем значительную часть этой суммы давал вывоз слоновой кости, шкур, кож, поставлявшихся африканцами, а также копры с плантаций прибрежной полосы [649, с. 221].
И все же, несмотря на незначительные экономические результаты, и английское правительство и колониальная администрация постоянно оказывали европейскому сектору экономическую и внеэкономическую поддержку. О том, чтобы поселенческое хозяйство сделало протекторат «самообеспечивающимся», не было и речи. Почти ежегодно Кения получала субсидии от английского налогоплательщика. С 1895 по 1913 г. они составили в общей сложности около 2,7 млн. ф. ст. {595, с. 186].
Правда, в начале колониальной эпохи в Кении, как и везде в Африке, поощрялось также африканское товарное производство. Но здесь оно мыслилось лишь как довесок к европейскому сектору. Дж. Эйнсворт, например, немало сделавший для развития африканского товарного производства в Ньянзе, полагал, что с ростом доходов увеличатся и потребности африканцев, и они пойдут зарабатывать деньги на европейские фермы ([458, с. 94—95].
Таким образом, вопреки утверждениям английских историков, метрополию нельзя было упрекнуть в беспристрастности к выбору типа экономического развития колонии: поселенческий был всегда предпочтительнее. Колониальная администрация отказывалась от поддержки поселенческого сектора только тогда, когда он доказывал свою полную неконкурентоспособность и просто разваливался, как это произошло в Уганде во время мирового экономического кризиса 1921 г. Пристрастие колониальных властей к европейскому сектору невозможно объяснить его эколомической эффективностью — в то время ее попросту не было. Поселенческая община казалась естественным союзником, надежной социальной опорой колониальной администра¬
118
ции, гарантом политической стабильности, «законности и порядка» в стране. Не экономическая, а социально-политическая заинтересованность колониальных властей в поселенческой общине позволила ей установить политический контроль в протекторате задолго до того, как европейский сектор стал основой кенийской колониальной экономики.
Этот контроль, собственно, и нужен был поселенцам для того, чтобы наилучшим для себя образом решить свои экономические проблемы. Гроган выразил эту мысль с характерной для него предельной откровенностью: «Вы ни за что не решите проблему рабочей силы, пока не будете управлять страной. Как только вы получите власть, проблема будет решена немедленно» [272, 20.11.1926]. Реальной экономической силой поселенцы в начале века не обладали и, следовательно, могли «контролировать» только с доброго согласия и благословения колониальной администрации.
Кофейный бум добавил новые черты социальному облику европейской общины. С 1910 г. в страну потянулись представители высших групп среднего класса, обладавшие деловыми навыками и достаточным капиталом. Рост ферм и городов, подъем экономики привлек сюда строителей, механиков, инженеров, управляющих, врачей, ветеринаров, представителей свободных профессий, служащих. В 1914 г. европейская община насчитывала 5,5 тыс. человек, из них около 1 тыс.— фермеров и плантаторов [619, с. 145].
В начале века резко увеличился приток в Кению других иммигрантов — индийцев. Они начали селиться здесь с XIX в. К 1860 г. их было в Восточной Африке уже около 6 тыс. Когда закончилось строительство железной дороги, еще около
6,5 тыс. индийцев осталось в Кении и Уганде. В Кении индийские рабочие набирались для различных работ и позже. Кроме того, индийцев привлекали на низшие административные должности в колониальном аппарате.
Индийцы составляли большую часть квалифицированной рабочей силы и ремесленников. В их руках сосредоточилась мелкая торговля, рассчитанная в основном на африканский рынок. В сельскохозяйственном производстве их роль была ничтожной. Индийцам и арабам было запрещено приобретать землю вне городов, и лишь примерно 50 индийцев владели плантациями сахарного тростника в Ньянзе — по 200 акров каждая {343, с. 17— 18, 28, 30, 32].
В 1923 г. в Кении было 23 тыс. индийцев. Индийская община, таким образом, значительно превосходила по численности европейскую. Но воздействие ее на африканские общества было менее глубоким. Не она налаживала и поддерживала режим колониальной эксплуатации, и от пирога колониальных доходов ей доставались лишь крохи. Не стали индийцы в те годы и политически активной антиколониальной силой. В первые десятилетия колониальной эпохи только торговцы в какой-то мере
119
участвовали в перестройке жизни африканской деревни. Но и они почти не эксплуатировали ее основные ресурсы: землю и людей. И то и другое стало основой хозяйства белых поселенцев — именно этим определялась их роль в трансформации африканских обществ.
Откуда взялась в Кении земля, которую заняли поселенцы? Ведь к концу XIX в. вся территория страны, годная к обработке, была занята. Первоначально администрация протектората не могла распоряжаться землей, на которой жили или которую обрабатывали африканцы,— во всяком случае, формально. По закону 1901 г. ее юрисдикции подлежали только земли короны— «общественные», т. е. не занятые африканцами территории с f617, с. 676].
Защитники европейского поселения в Кении утверждали, что поселенцы занимали «пустую» землю, о которой писали еще путешественники, первыми повидавшие эти края. Английская колониальная историография дает несколько объяснений происхождению этих таинственных «пустошей». Колониальные историки подчеркивали тот факт, что в конце прошлого века часть территории гикуйю освободилась из-за стихийных бедствий, обрушившихся на их страну и значительно уменьшивших их численность [70, т. 1, с. 167, 502, 596, 697]).
Упоминали и о системе землепользования гикуйю, предполагавшей содержание больших участков под паром, писали, что Рифт-Вэлли, плато Лайкипиа и Уазин-Гишу занимали пастбища масаев, и большую часть года эти территории пустовали, а то и вовсе забрасывались из-за междоусобных войн. На масаев возложили ответственность за возникновение еще одного типа «пустых» земель: их набеги вынуждали якобы соседей- земледельцев оставлять свободными пограничные с пастбищами масаев районы. Такие «нейтральные полосы» существовали, по мысли колониальных авторов, и между другими племенами.
Колониальная историография не очень заботилась об убедительности аргументов: ведь все они свидетельствовали как раз о том, что земля, отданная поселенцам, имела хозяев, хотя и «плохо лежала». И все же политическая острота проблемы заставляет разобратся в этой аргументации подробнее.
Масаям действительно принадлежала большая часть земель, занятых поселенцами на Нагорье. Около 4 млн. акров (7 тыс. кв. миль) из зарезервированных за ними 7 млн. (12 тыс. кв. миль) приходилось на бывшие масайские пастбища [594, с. 213, 215]. Территория, которую масаи контролировали в XVIII — начале XIX в., действительно сильно сократилась к концу XIX в. из-за эпидемий и междоусобиц. Но освобождавшуюся землю почти сразу начали использовать соседние народы, да и сами масаи время от времени продолжали пасти там скот. В 1904 г. колониальной администрации удалось убедить своего союзника лайбона Ленану подписать договор о разделении территории масаев на два резервата — к северу и к
120
Белое нагорье в 1930-е »оды
Примерные границы распро - странения масаев к 1890 г.
Северный и южный резерваты к 1904 г.
Территория, добавленная к северному резервату в 1906г.
36
72 км
Создание резерватов для масаев
югу от железной дороги. Это были первые резерваты, созданные на территории Кении. Даже официальные документы признают, что Ленана согласился на раздел только под нажимом
121
колониальных властей. К тому же он, вероятно, не совсем понимал, о чем идет речь. Северный резерват — Лайкипиа — был настолько тесен, что уже в 1906 г. администрация вынуждена была по собственному почину увеличить его территорию более: чем наполовину.
В тексте договора говорилось, что он заключен навсегда,, «до тех пор, пока масаи существуют как раса». Но уже в 1908 г. европейцы потребовали, чтобы администрация освободила Лайкипию от масаев и «открыла» этот район для поселения белых фермеров. В одном официальном документе прямо говорилось: «Европеец, покупающий скотоводческое ранчо, не ошибется, приобретя землю масаев — экспертов в выборе пастбищ» ([214, с. 135]. В 1909 г. южный резерват был расширен,, и Ленана дал согласие на переселение туда масаев из Лайки- пии. Но их представители осмотрели южный резерват и нашли* что земля там плохая и ее мало.
В 1911 г. Ленана неожиданно умер. Перед смертью он якобы высказал пожелание, чтобы северные и южные масаи объединились. Трудно поверить этому завещанию: никто, кроме колониальных чиновников, его не слышал, и очень уж на руку было оно администрации. Но все же в апреле 1911 г. масаи Лайкипии подписали договор о переселении. Провести его в жизнь оказалось не просто. Лишь только первые переселенцы достигли южного резервата, стало ясно, что земли там не хватит. Всем, кто еще был в пути, было приказано вернуться обратно. Масаи утверждают, что при этом они потеряли скота на 200 тыс. ф. ст. В феврале 1912 г. лайбон масаев Лайкипии — Легалишу осмотрел несколько увеличенный южный резерват и отказался переселяться. Колониальные власти решили провести переселение в принудительном порядке. Тогда масаи ... подали на администрацию в суд за нарушение договора 1904 г.
Оправившись от первого шока, верховный суд протектората объявил, что он не будет рассматривать дело: коль скоро Кения протекторат, а не колония, масаи — не британские подданные, а ни один суд не вправе вмешиваться в отношения своего
правительства с «иностранцами». В 1913 г. администрация выселила этих «иностранцев» с их собственных земель, а к 1915 г.
44; 214, с. 134™ . До переселения реселения он был
Лайкипию заняли 22 европейских фермера 138; 367, с. 450—451; 513, с. 2—3, 13—14, 36 масаи платили налог в три рупии. После пе увеличен до 15 рупий, поскольку шла первая мировая война и; считалось, что масаи пользуются защитой английских властей от германской агрессии [214, с. 139].
История «пустой» земли масаев поучительна. Она свиде* тельствует не только о том, что администрация считалась с пра^ вами скотоводов на землю меньше, чем с правами земледельцев. Эта история доказывает, что со своими союзниками колониальные власти обращались порой более бесцеремонно, чем с противниками. Не приносила плодов и политическая пассивность:
122
именно тот факт, что масаи, потерявшие больше земли, чем любой другой народ Кении, в 1920—1950 гг. не требовали ее возвращения, позволил колониальным историкам называть ее «пустой».
В прибрежной полосе у диго и дурума была отчуждена земля под сизалевые плантации. Но значительная часть ее не использовалась, и африканцы продолжали ее обрабатывать. Гейта потеряли пахотную землю в самом центре своей территории — на холмах Тейта и некоторые пастбища на равнине [70, т. 3, с. 2721—2722].
В 1913 г. администрация решила «освободить» для европейцев северный берег р. Сабаки, где жили гириама. Годом раньше там начался принудительный сбор налога и вербовка рабочей силы. Узнав о намерениях колониальных властей, старейшины гириама поклялись перебить англичан, назначенных ими вождей, христиан и даже тех, кто носил европейскую одежду. Прорицательница Me Катилили прошла по селениям гириама, призывая избавиться от ненавистных чужеземцев и раздавая снадобье, которое должно было убивать предателей. Me Катилили арестовали и выслали в страну гусии. Гириама обязали заплатить «возмещение». Полиция приказала им немедленно освободить северный берег Сабаки, а главное — перенести кайя Фунго. Перенести кайя — символ единства народа, место захоронения его реликвий, политический и культурный центр — для гириама это было, конечно, немыслимо. Они так и не двинулись с места. Тогда 4 августа 1914 г. англичане взорвали селение и объявили чрезвычайное положение в округе.
Едва ли гириама подробно знали о событиях мировой войны, но действовали, как показалось англичанам, словно по подсказке немцев. 16 августа, в тот же день, когда немецкие части начали наступление в районе Таветы, гириама подняли восстание. Они атаковали и сожгли административный пост, осадили лагерь помощника комиссара округа, перерезали телеграфную линию Малинди — Ламу, сожгли и разрушили миссии, магазины, дома назначенных англичанами вождей, деревни, жители которых сотрудничали с колонизаторами. У англичан, занятых военными действиями против немцев, не хватало сил, чтобы расправиться с ними.
Подавление восстания затянулось до конца 1914 г., и еще 11 месяцев англичане выселяли гириама из районов к северу от Сабаки, конфисковали скот (на сумму около 100 тыс. рупий), собирали рекрутов (около 1 тыс. человек), отправляли их на плантации и на войну. Землю к северу от Сабаки гириама сразу же после выселения начали занимать вновь. Комиссар провинции С. У. Хобли в 1917 г. решил снова начать выселение. Но губернатор, опасаясь нового восстания, не дал на это согласия [407, с. 66; 619, с. 136—137; 630, с. 217—233].
Территорию камба колониальные власти разделили на два округа — Мачакос с относительно плодородными почвами и Ки-
123
туи — засушливый район, в котором можно было заниматься в основном скотоводством. Европейцам досталось небольшое (по сравнению с оставшейся территорией) количество отчужденной земли в Мачакосе [533, с. 343]. Но для камба важен был каждый клочок плодородной земли не только в экономическом, но и в психологическом отношении. Тем более что созданные на отторгнутой земле ранчо процветали, а остальная территория быстро приходила в упадок.
Землю нанди и кипсигис европейцы требовали освободить еще в начале века. Но она была так плотно заселена, что отчуждение даже небольшого участка могло быстро привести к серьезным последствиям. Администрация решилась экспроприировать землю только после подавления восстания нанди. Их выселение с территории, прилегающей к железной дороге, преследовало две цели: обезопасить дорогу от набегов и освободить плодородный, удобно расположенный район под европейские фермы.
В 1919 г. в перенаселенном резервате нанди были «выделены» участки для поселения европейцев — ветеранов войны. Колониальная администрация признавала, что экспроприирует используемые земли, и платила по 5 рупий за хижину. Деревни сжигались сразу по выплате «компенсации». Операция встала администрации в 2485 ф. ст., что само по себе говорит о ее масштабах. Земли, на которой предложили поселиться жителям сожженных деревень, оказалось так мало, что в следующем году администрация вынуждена была вернуть им около половины экспроприированной территории [214, с. 81}.
Кипсигис потеряли больше земли, чем нанди, причем часть ее приходилась на Сотик, район, который колониальная историография считала типичным примером альтруистской деятельности поселенцев. Заселив Сотик, они создали якобы буферную зону между гусии и кипсигис и положили конец «кровопролитию». Но сами поселенцы признавали, что вся земля, на которой они жили, использовалась прежде кипсигис. Даже в официальном документе в 30-х годах говорилось, что кипсигис использовали «большой процент земли» в Сотике и Ньяндо [594, с. 220]. У луо и луйя земель до первой мировой войны не отчуждали.
Наконец, гикуйю. Отчуждение земли у этого народа повлекло за собой самые серьезные политические последствия. Их плодородные земли раньше других привлекли внимание поселенцев.
Ч. Элиот откровенно писал: «Нет никакого сомнения в том, что богатый и исключительно плодородный округ гикуйю судьбой предназначен стать одним из главных центров европейского поселения» |[ 163, с. 104]. В 1902—1906 гг. в районе Киамбу — Ли- муру было отчуждено около 60 тыс. акров, к 1912 г.— около 100 тыс. В 1912 г. администрация установила границы резервата гикуйю, но уже в 1913 г. район между реками Амбони и Чаниа был предложен поселенцам [619, с. 180, 183—184].
124
Де 1901 г. европейцы считали, что, платя гикуйю возмещение за землю, они покупают ее у всего племени [619, с. 176— 177]. По закону 1901 г. поселенец получил право не покупать, а арендовать любую необрабатывавшуюся землю — уже не у африканцев, а у короны. Такая земля в Киамбу была. Стихийные бедствия, обрушившиеся в 90-е годы на центральные районы страны, резко сократили численность гикуйю. Голод и эпидемии особенно сильно ударили по Киамбу. Многие семьи ушли оттуда, чтобы переждать тяжелые времена у родственников в Me туми и Гаки (Форт Холле и Ньери). Но это не значит, что зем ля в Киамбу была заброшена. У каждого клочка ее был хозяин.
В других районах земля тоже была собственностью определенной группы людей, принадлежащих к одной мбари. Но в Кабете (Киамбу) чувство принадлежности земли было особенно обострено тем, что участки здесь были расчищены от леса или приобретены у доробо сравнительно недавно и еще живы были основатели мбари, которые их занимали. Это не была, конечно, «частная» собственность на землю, как писал в 30-е годы Дж. Кениата [194, с. 23, 26, 32], она не была даже в полном смысле индивидуальной собственностью. Но люди считали эту землю своей и никакой другой не хотели.
Гикуйю не были в этом смысле исключением, как пыталась представить дело колониальная историография (см., например, [199, с. 291]). Аналогичная ситуация породила подобные чувства у нанди. Людям, изгнанным из района железной дороги, некуда было идти — земля, которую им предлагали, была занята другими —и они не двинулись с места, пока их не увезли силой [556, с. 123]. Такую же привязанность к земле обнаружили и гириама. Легенда об «особой» привязанности гикуйю к земле была создана колониальными этнографами, чтобы как-то объяснить упорство и настойчивость их длительной борьбы за эту землю.
Поселенцы заняли землю многих семей, ушедших на север. Когда эти семьи вернулись (в основном после первой мировой войны), то обнаружили, что могут жить на своей собственной земле, только выполняя определенные повинности в пользу новых хозяев. Европейцы считали их скваттерами, т. е. арендаторами с наделом, которых они в любой момент вольны изгнать с фермы.
У поселенцев были и другие юридически оправданные возможности получить чужую землю. «Незанятой» считалась земля под паром, пастбища, лесные угодья. Большая часть этой земли тоже была отчуждена. Если поселенцу доставался участок, на котором африканцы в то время жили, он не имел права выгнать их. Но если они куда-нибудь уходили, то вернуться обратно могли лишь с согласия фермера.
Казалось бы, гикуйю мог сохранить землю, постоянно обрабатывая ее. Но при существовавшем уровне агротехники это было совершенно невозможно, даже если бы люди вдруг согласились изменить традиционные экстенсивные методы земледелия. К тому же поселенцам хотелось получить именно обрабо-
125
тайную землю, и колониальная администрация «в виде исключения» разрешала им занимать и ее при условии выплаты гикуйю «компенсации». Покупка обрабатывавшейся земли была для поселенцев вдвойне выгодна. С одной стороны, они могли быть уверены, что эта земля плодородна. С другой — обработка акра целины обходилась примерно в 10 рупий, а за акр обработанной земли африканцам платили (в тех случаях, когда им вообще что-то платили) 2 рупии.
Поселенцы полагали при этом, что они «покупают» землю, а гикуйю считали, что они «продают» только право пользоваться ею. Пока их не сгоняли с земли, гикуйю не могли представить, что белый, поселившийся на их участке, считает его своим. По их понятиям, передача земли кому-то могла осуществиться лишь при соблюдении трех условий: все члены мбари должны были от нее отказаться; продавец и покупатель должны были взаимно усыновить друг друга — так «покупали» землю у до- робо; границы «продаваемого» участка должны были размечаться в присутствии многих свидетелей, и процедура эта должна была сопровождаться определенными сложными и длительными церемониями if201, с. 65].
Так как ни одно из этих условий выполнено не было, гикуйю некоторое время принимали белых фермеров за арендаторов. Об этом писала известная датская писательница Карен Блик- сен, долго жившая в Кении: «Мои скваттеры, я думаю, считали не себя, а меня чем-то вроде верховного скваттера на своих участках, потому что многие из них родились на ферме, а до них и их отцы» '[159, с. 9]. «На ферме» — значит, на своей земле до того, как на ней была создана ферма.
Колониальные чиновники на местах тоже знали это и считали, что если бы поселенцы покупали землю в собственность, то стоимость ее была бы выше. Когда в 1904—1905 гг. фермеры начали сгонять гикуйю с территории «приобретенных» таким образом ферм, отдельные представители колониальной администрации, в том числе Дж. Эйнсворт и С. У. Хобли, настаивали даже на выплате «полной компенсации» гикуйю из расчета
7,5 рупий за акр земли. Губернатор предлагал заменить выплату «компенсации» освобождением гикуйю от уплаты налогов на пять лет — они получили бы тогда около 5 тыс. ф. ст. От идеи «компенсации» отказались из опасения, что и другие народы потребуют выплатить им стоимость отнятой земли. Вскоре администрация росчерком пера решила и эту и другие подобные проблемы: законом 1915 г. земли короны были определены как «все земли, занятые туземными племенами, и все земли, зарезервированные за членами любого туземного племени» [617, с. 685; 619, с. 184—188]. Африканцы, таким образом, оказались в положении арендаторов резерватов, и разговор о «компенсации» потерял всякий смысл. Но даже если бы «компенсация» состоялась, она не могла бы возместить утрату земли людям, у которых не было других средств существования.
126
На первых порах, когда земельный голод еще не чувствовался в полной мере, гикуйю не протестовали против земельных экспроприаций. Только семьи, вернувшиеся в Киамбу после войны, требовали компенсации, но к этому времени они уже вполне осознавали силу и возможности колониальной машины и понимали, что оружием землю не вернуть. На помощь соотечественников, у которых земля не была отнята, рассчитывать не приходилось: понятие единства возникло позднее. Сыграло свою роль и непонимание сути происходящего. Борьба за землю гикуйю была впереди.
Каналы воздействия колониализма
на африканские общества
Сопротивлялся тот или иной народ страны земельным экспроприациям или не сопротивлялся, соответствовали эти экспроприации податливым нормам английской законности или противоречили им,— ясно, что земля, которую получили в результате европейские поселенцы, «пустой» не была. Экспроприации почти всегда были связаны с насилием и всегда — с несправедливостью по отношению к африканцам. Уже к концу 1915 г. площадь земли, отчужденной у африканцев, составила более 5 млн. акров (более 8 тыс. кв. миль) ,[619, с. 100—101, 145, 180]. Ее отторжение нарушило сложившиеся в доколониальную эпоху системы хозяйствования, торговые и политические связи и оказало большое воздействие на характер социальной трансформации африканских обществ в колониальные годы, обусловив многие особенности этого процесса в Кении.
И все же если бы колониальная администрация и поселенцы, экспроприировав землю, не вмешивались больше в жизнь африканских народов, формировавшиеся веками уклады разрушались бы медленно, десятилетиями пребывая в застое, на который обрекало их колониальное окружение. Примерно так и произошло с масаями и кочевниками-скотоводами севера, чей образ жизни мало изменился в колониальные годы. Наиболее глубокие социальные сдвиги в африканских обществах Кении были связаны с отходничеством.
В Восточной Африке первой формой наемного труда стал труд носильщиков. Уже в 1895 г. в районе Момбасы насчитывалось свыше 1 тыс. профессиональных носильщиков, в основном суахили. Периодически нанимались гикуйю, камба и тейта. Носильщиков не хватало, и им по тогдашним меркам неплохо платили: 10 рупий в месяц плюс пошо (каша или дневной рацион). Труд их был, конечно, тяжел: длинные переходы, опасность нападения, скудость рациона и плеть. Если носильщик покидал караван, его ждало суровое наказание и штраф независимо от причин.
И все же в конце прошлого — начале нынешнего века аф-
12Т
риканцы из внутренних районов зачастую шли на эту работу, и не только из-за денег, но и стремления увидеть и познать новое. Уже на рубеже веков они побывали в таких местах, куда в иных условиях вряд ли занесла бы их судьба. В 1897 г. кенийские носильщики сопровождали колониальные войска, подавлявшие сопротивление африканцев в Уганде. В 1900 г. около 1 тыс. носильщиков Момбасы обслуживали колониальные войска во время одной из англо-ашантийских войн на Золотом Береге. В том же году более 1,5 тыс. носильщиков участвовало в войне с нанди. В 1901 г. кенийские носильщики стали участниками экспедиции против сомалийцев Огадена.
С пуском железной дороги носильщиков стали нанимать в основном фирмы, занимавшиеся организацией охотничьих сафари. В сафари президента США Т. Рузвельта (1909 г.), например, участвовало 500 специально подобранных, обученных и одетых в формы африканцев. Но крупные экспедиции случались все реже, спрос на носильщиков начал падать [407, с. 5; 8—10; 478, с. 155—156].
На европейские фермы африканцы нанимались менее охотно. Первые фермеры могли привлечь их только чем-то необычным. Никто из работников не оставался на ферме дольше нескольких дней. Эйнсворт первым начал использовать тради цию общинного труда для сооружения дорог, мостов, общественных зданий. Платил он обычно тканями и бусами плюс по- шо, но постепенно вводил в обиход деньги. Уже в 1893 г. он запрашивал в Англии товары для продажи камба: ткани, бусы, хозяйственную утварь и... зонтики. В 1895 г., чтобы продемонстрировать камба пользу денег, он заставил двоих индийцев открыть в Мачакосе лавку [407, с. 15; 486, с. 415].
С ростом поселенческой колонии потребность в рабочих руках постоянно увеличивалась. Нежелание африканцев работать на фермах вызывало у поселенцев бесконечное раздражение. С гневом смотрели они, как сильные, здоровые парни «слоняются без дела», в то время как поля в резерватах обрабатывают женщины, а на европейской ферме некому убирать уро жай. Не имея понятия о системе половозрастного разделения труда в африканском обществе, да и не желая ее понять, они приписывали поведение молодых людей исключительно «лени». Африканец тоже многого не понимал на ферме. Труд, который ему предлагали, казался бессмысленным, а порой и опасным. Зачем, например, ставить столбы и тянуть между ними проволоку? Зачем собирать навоз и раскидывать его на поле? Кипятить молоко, убить корову, пахать землю на волах — все это казалось ему бессмысленной жестокостью и серьезным риском навсегда остаться без молока.
Нанявшись на работу, африканец в любой момент мог уйти. Для этого у него могли быть веские причины. Трещина, появившаяся на его горшке для пищи, например, означала угрозу благополучию или даже жизни его семьи, и ничто не могло удер¬
128
жать его на ферме. Африканец не понимал, почему нужно работать столько-то часов в день и столько-то дней в месяц. Ему чужда была идея выходных, надбавки за мастерство или усердие. Африканец считал, что европейцы бесконечно богаты, и для него было естественно взять себе маленький «подарок», попросив или не попросив об этом }[ 407, с. XV, 24—25].
Этих и многих других «недоразумений», способствовавших формированию взаимно неблагоприятных стереотипов и враждебности, не могло не быть, если учесть огромную разницу исторического и социального опыта европейского и африканского обществ, наложившуюся на антагонизм положения эксплуататора и эксплуатируемого. К тому же поселенцу было психологически невыгодно пытаться понять окружающий мир.
«Производственные» предрассудки могли только усилить предубежденность, с которой большинство поселенцев приезжало в Кению. Персонифицированность отношений эксплуататора и эксплуатируемого, непосредственная экономическая зависимость конкретного европейца от конкретных африканцев — все это резко обостряло расовые отношения во всех поселенческих колониях. «Африканский туземец... абсолютно ниже белого человека в своем умственном развитии и по своим этическим возможностям... В принципе он никогда не говорит правду и, следовательно, не ожидает ее услышать»,— писал Гроган [170, с. XXIV]. Уж он-то наверняка не поверил бы, что трещина на горшке действительно настоящая, а не выдуманная причина ухода его работника! «Африканец лицемерен, хитер, труслив, он абсолютно лишен чувства чести, всегда готов к обману», а главное, конечно, он «бесконечно ленив», утверждал другой поселенец [407, с. 22].
Поселенцы считали, что труд — воспитательная мера, и потому все средства хороши, чтобы заставить африканца работать. «... Хорошая здоровая система принудительного труда за пять лет лучше воспитает туземца, чем все миллионы, истраченные миссионерами за последние пятьдесят... Ее можно назвать „обучением**, и тогда самые совестливые в Британии будут спокойны»,— это снова откровения Грогана [407, с. 21—22].
Гроган не зря упомянул «совестливых в Британии». Это из- за них проблема рабочей силы стала единственным в то время вопросом колониальной политики, нарушавшим гармонию союза поселенцев и колониальной администрации. Поселенцы считали, что администрация сама должна поставлять рабочую силу на фермы.
Но в английских колониях было «не принято», чтобы колониальная администрация вербовала рабочих для частных предприятий. Принудительный труд использовался, но чаще всего на общественных работах. По указу «о господах и слугах» 1906 г. нарушение контракта африканцем каралось тюремным заключением [389, с. 279], но о принуждении в указе не упоминалось. Против прямого принуждения высказался во время свое¬
9 Зак. 654
129
го визита в Восточную Африку и Черчилль. В результате появилась инструкция о вербовке рабочей силы, в которой гово рилось, что вожди не должны принуждать африканцев идти на работу, а чиновникам вменялось в обязанность объяснять африканцам, что они по своему усмотрению могут работать, а могут и не работать на фермах. Фермерам же предписывалось обеспечивать рабочих жильем и даже, что вызвало у них особое негодование, одеялами ,[407, с. 34; 417, с. 217—218].
Поселенцы встретили инструкцию бурей негодования, устроили шумную демонстрацию перед главным административным зданием и потребовали отставки губернатора. Колониальная администрация, спасовав перед крикливой толпой своих соотечественников, быстро сдала позиции. Уже в 1910 г. вступил в силу новый указ «о господах и слугах». Список проступков рабочих, подлежавших суровым наказаниям, значительно удлинился, было разрешено заменять штрафы отработками, ненавистные для поселенцев одеяла были, конечно, исключены. В этом же году был издан указ, разрешавший принудительную вербовку африканцев на «общественные» работы на шесть дней в квартал ([407, с. 36, 43—44]. На принудительную вербовку рабочих для ферм колониальные власти в те годы не решились, но принимали активное участие в «поощрении» (колониальный эвфемизм давления) отходничества.
Главным рычагом «поощрения» стали налоги. Один из кенийских губернаторов говорил: «Мы считаем, что налогообложение — единственный способ заставить туземца покинуть свой резерват, чтобы искать работу... Только так можно увеличить для туземца стоимость жизни» [407, с. 41]. Первый закон о налогообложении африканского населения был издан в 1901 г. К 1905 г. налог на хижины собирали в центральных районах более или менее регулярно. В южных и северных районах страны сбор налога с кочевых и полукочевых народов напоминал набеги за скотом. Военный отряд, приходивший за данью, забирал столько коз, овец и коров, сколько мог увести. Угнав мычащий «налог», представители администрации не появлялись несколько месяцев ,[513, с. 39—40]. Туркана называли сбор «налога» и набеги за скотом одним и тем же словом, а колониальную администрацию считали самым сильным из соседних «ско- токрадов» |[386, с. 195].
Размер налога различался по районам, но в среднем составлял две рупии с хижины. В 1906—1907 гг. в провинциях Укамбани и Кения он был повышен до трех рупий. Африканцы попытались тесниться в меньшем числе хижин. Тогда с 1909 г. колониальные власти стали взимать налог и с тех, кто жил в хижине налогоплательщика, но не принадлежал к его семье, а в следующем году ввели подушный налог — три рупии с каждого взрослого африканца. Выплата подушного налога натурой не допускалась, зато поощрялись отработки сроком до месяца. В 1916 г. налог возрос до пяти рупий, к 1920 г.—до
130
восьми. В 1920 г. по предложению Дэламера был установлен максимальный размер налога —15 рупий (1 ф. ст.). Налоги собирали в сезоны важнейших сельскохозяйственных работ, чтобы африканцы шли на заработки тогда, когда европейцам были особенно нужны рабочие руки.
Единственным весомым вкладом неафриканского населения в казну Кении была десятипроцентная таможенная пошлина на импортные товары. Но африканцы выплачивали ее тоже, а из списка предметов, подлежавших обложению, исключались то вары, наиболее важные для развития поселенческого хозяйства: сельскохозяйственная техника, семена, растения, скот. Европейцы облагались, правда, косвенными налогами, но они давали ничтожные поступления. Первый прямой налог — подушный размером в 1 ф. ст. европейцы и индийцы начали платить с 1912 г. [214, с. 145—146, .149, 154].
Наиболее эффективным способом заставить африканцев Кении идти на заработки было их земельное ограбление. Именно нехватка земли уже в первом десятилетии нашего века приве ла к возникновению такой специфической для поселенческих колоний формы найма, как скваттерство. Сначала скваттерами становились африканцы, чья земля оказалась на территории европейских плантаций и ферм (иногда это были целые деревни). Но постепенно проявлявшееся аграрное перенаселение резерватов начало выталкивать из них молодежь. Семьями и поодиночке молодые люди — в основном гикуйю, реже — нанди и кипсигис — селились на территории европейских ферм. Они получали участки и обязывались продавать фермеру часть урожая и работать на него определенное число дней в году.
Эта квазифеодальная форма эксплуатации на первых порах была чрезвычайно выгодна поселенцам. Земли у них было более чем достаточно — лишь небольшую ее часть они использовали сами. Выделив участок скваттеру, фермер мог быть уверен, что этот дешевый работник не уйдет во время сева или сбора урожая. Жена и дети скваттера давали ферме дополнительные даровые рабочие руки. У некоторых фермеров заинтересованность в скваттерах в те ранние годы вызывала к ним даже патерналистское отношение. Произнося озлобленные, проникнутые расовой ненавистью тирады против африканцев вообще, иной поселенец исключал из их числа «своих туземцев».
Условия труда африканцев, особенно на «общественных работах» и в городах, были ужасающими. В 1908 г. комиссар по туземным делам А. К. Холлис послал в министерство колоний отчет о работе своего департамента за первые два года его существования. Раздел об условиях труда африканцев вызвал в Лондоне шок. Один из служащих министерства говорил тогда: «Его (отчет.— И. Ф.) ни в коем случае нельзя публиковать... Думаю, король Леопольд дал бы большие деньги за этот документ, чтобы ответить на наши обвинения» [407, с. 37—38]. Под «обвинениями» подразумевались разоблачения в английской
9*
131
прессе ужасов колониальной эксплуатации в «Свободном государстве Конго» и работа международной комиссии, созданной в результате этих разоблачений для расследования деятельности Леопольда.
При строительстве железнодорожной ветки на Магади в 1912 г. один врач обслуживал 3,5 тыс. рабочих. Больных размещали в хижинах на голой земле. На сооружении водопровода в Момбасе в год умирало около 170 человек из 1 тыс. Среди рабочих-гикуйю смертность к 1911 г. составляла около 33%. Африканские кварталы городов представляли собой грязные селения с хижинами из жести, глины и прутьев. Теснота, грязь и. сырость приводили к заболеваниям амебной дизентерией и лихорадкой. Случались вспышки чумы. Заработная плата чернорабочих в 1912—1914 гг. составляла всего 5—8 рупий в месяц,, домашней прислуги—12—15 рупий. И тем и другим часто недоплачивали [407, с. 45—46, 48—49].
Несмотря на тяжесть такого труда, число работавших по найму быстро росло. В 1908 г., например, когда поселенцы требовали отставки губернатора из-за его нежелания рекрутировать для них рабочих, только на гвоздичных плантациях Пембы работало около 3 тыс. африканцев. С ферм поступили заявки на 1346 рабочих, послано туда было около 700. Проблема рабочей силы для поселенцев сводилась, таким образом, к нехватке 600 человек. К 1914 г. колониальная администрация нанимала ежегодно 12—13 тыс. африканцев, частный сектор — около ПО тыс. 407, с. 35, 45—46, 48—49, 65].
Важным каналом социальной трансформации африканских обществ была «туземная» администрация. В советской исторической литературе было распространено мнение, что косвенное, или непрямое, управление, применявшееся во многих колониях, способствовало консервации, сохранению традиционных институтов власти африканских обществ. В последние годы как в нашей стране, так и в Африке появились работы, опровергающие это утверждение. Кенийский историк так подытожил их результаты: «Исследование ее (системы косвенного управления — И. Ф.) практического применения показывает, что ее создатели ни в коей мере не имели в виду защиту или сохранение традиционных политических структур. Это было невозможно, поскольку означало бы полное уничтожение колониального управления» )[558, с. 52].
Советский историк Ю. Н. Зотова показала, что даже в Северной Нигерии, где социально-политические условия в наибольшей мере подходили для косвенного управления, характер и функции «туземных» властей существенно отличались от своего доколониального прообраза [345, гл. 2, 3]. Что же говорить о Кении, на большей части территории которой в доколониальную эпоху не было государственных образований — наиболее благоприятной для системы косвенного управления почвы, а в колониальную все сферы жизни пронизывала расовая дискри¬
132
минация, с косвенным управлением практически не совместимая. Это признавали и некоторые английские историки. Один из них писал, например: «Доказано на опыте, что, чем больше числом и влиятельнее европейские поселенцы, тем труднее поддерживать систему косвенного управления» [635, с. 188].
Создание «туземной» администрации шло одновременно с колониальными захватами, во время которых англичане назначали союзников «вождями» или «верховными вождями», а противников уничтожали, высылали или другими способами лишали их возможности влиять на события и людей. В доколониальные годы ни у одного из народов внутренних районов Кении не существовало никаких «вождей», тем более верховных. Этот титул колониальная администрация присваивала наиболее деятельным из своих союзников. «Верховными вождями» стали, например, Ленана у масаев, Киньянджуи, Карури и Ван- гомбе у гикуйю, Мумиа — у луйя. Некоторые из них пользовались освященным традициями влиянием в своих обществах (Вангомбе, например, был влиятельным мутамаки, Ленана — могущественным лайбоном). У других этого влияния не было. Характерна, например, карьера Карури. Доробо, унаследовавший от родителей землю в Муранге, в юности он надолго ушел из своих мест, чтобы обучиться искусству магии. Вернувшись авторитетом в этой области, он занялся торговлей. Его караваны доставляли продукты в места стоянок караванов, а вырученные бусы, браслеты и одежду он сбывал соседям. Карури стал главным союзником Бойеса, и тот помог ему расширить зону влияния. После ареста Бойеса Карури начал сотрудничать с колониальной администрацией. В 1900 г. Ф. Холл назначил его вождем, в 1912 г. он получил титул одного из троих «верховных вождей» гикуйю Г558, с. 54—55].
В отличие от лояльности по отношению к колониальным властям принадлежность к традиционной доколониальной «элите» была, таким образом, совершенно необязательным условием для претендента на пост колониального вождя в Кении. Принимая этот пост, он так или иначе утрачивал функции традиционного лидера и обретал новые, ничего общего с традиционными не имевшие. Территория, подвластная Карури с 1912 г., простиралась от хребта Абердэр на севере до Муранги на юге. В этом районе он активно сотрудничал с Холлом и Мейнерцхагеном в «умиротворении» непокоренных групп гикуйю. Карури правил, судил, собирал налоги, рекрутировал рабочих. Колониальные власти были довольны своим служащим. В одном из колониальных отчетов по его району говорилось: «Трудностей в сборе подушного налога с моранов Карури не предвидится» {558, с. 56].
Как ни странно, подобное положение сложилось и на побережье, где для косвенного управления существовала лучшая база, чем во внутренних районах. «Туземная» администрация там включала ливали, мудиров и кади. Кенийский историк пи¬
133
сал о них: «Большинство ливали были коллаборационистами, помогавшими уничтожать более независимых вождей или соглашавшимися с их уничтожением». Они назначались комиссарами округов и подчинялись им. В каждой локации были учреждены суды кади. Кроме того, существовал верховный мусуль- манский суд побережья — главный суд кади. Функции старейшин «двенадцати племен» суахили Момбасы были урезаны, их положение принижено. Один из кенийских губернаторов откровенно писал: «В сущности, мы обращаемся с.., арабскими губернаторами, субгубернаторами (так в тексте.— И. Ф.) и судьями, как с клерками» |[610, с. 76-—77, 79].
Для укрепления влияния «туземных властей» колониальная администрация издала в 1902 г. указ «о деревенских старостах», предписывавший привлекать к управлению людей с реальной сферой влияния. О методах проверки степени «реальности» влияния претендентов в указе ничего не говорилось, и, конечно, он открыл лазейку к власти людям, уже заслужившим доверие англичан на других поприщах: проводникам караванов, носильщикам, наемникам-аскари и т. д. [513, с. 44—45].
Даже если вожди и старосты добросовестно выполняли распоряжения колониальной администрации, они не могли служить ее опорой, поскольку не только не пользовались авторитетом среди своих соплеменников, но и компрометировали администрацию в их глазах. В 1911 г. англичане попытались решить проблему постановлением о «туземных» судах. В нем предлагалось восстановить советы старейшин и передать им судебные функции вождей, а в некоторых местах — и административные {513, с. 48]. Началось увольнение вождей и старост. Одной из главных жертв стала «династия» шитсетсе. Родственников Мумиа настолько ненавидели в Северной Ньянзе, что к 1914 г. англичане вынуждены были отказаться от услуг всех «губернаторов» из их числа [533, с. 374—375].
Вскоре выяснилось, однако, что советы старейшин в том виде, в каком их пытались узаконить англичане, ничуть не ближе к традиционным нормам, чем институт вождей: прежде они никогда не были постоянно действующим органом и решали весьма ограниченные задачи на весьма ограниченной территории. К тому же старейшины выказали меньше лояльности по отношению к колониальным властям, чем вожди. Поэтому в указе о «туземных» властях 1912 г., хотя и упоминалось о том, что советы старейшин могут назначаться коллективным вождем, основной упор делался все же на укрепление власти вождей существующих: они впервые получили определенные юридически узаконенные прерогативы [513, с. 48—49].
Проблема эффективности «туземной» администрации постепенно решилась сама собой. С упрочением позиций колониализма и развитием колониальных обществ власть вождей укреплялась, они становились все более надежным инструментом колониальной политики. Но в отличие от некоторых других
134
стран в Кении вожди были полностью зависимы от английской администрации. Даже в тех редких случаях, когда англичане действительно пытались выяснить через них мнение «туземного» населения, вожди всегда говорили то же самое, что и их непосредственные начальники — европейцы. На комиссии по труду 1912—1913 гг., например, все они поддержали мнение комиссаров своих округов о необходимости «поощрения» отходничества, а многие, не поняв, что от них ждут чего-то иного, с гордостью рассказывали, что применяли силу, набирая «волонтеров» на работу |[407, с. 58]. «Косвенное управление» в Кении выступало, таким образом, в своей южнонигерийской модификации, которую Ю. Н. Зотова назвала «особой формой» прямого управления, «предусматривавшей использование новообразованного колониального института африканских властей» [345, с. 130].
В национальной историографии Кении вопрос о характере института колониальных вождей — наболевшая проблема. Колониальные историки, пытаясь возложить вину за перегибы колониальной политики на самих африканцев, не отказывали себе в удовольствии сочными красками расписать корыстолюбие и продажность вождей, их грубость и жестокость по отношению к своим соотечественникам. Не опровергая эти хорошо известные факты, национальная историография попыталась переосмыслить их или противопоставить им какую-то новую информацию. В. Р. Очиенг пишет, например, что Карури был справедлив — даже своих сыновей посадил в тюрьму (одного за незаконный сбор налога, другого за слишком пылкую привязанность к «матерям»— его, Карури, женам); что он строил школы, дороги и мосты (иногда — на свои средства); развивал торговлю; пригласил в страну миссионеров и посылал детей в школы (а один из его сыновей, тот, что нелегально собирал налог, поехал даже учиться в Англию). Однажды Карури, рассказывает Очиенг, разбил кулаком стол комиссара провинции, требуя выслать европейца, пытавшегося изнасиловать женщину-гикуйю, и ему пошли навстречу! Одним словом, историк считает, что, «хотя Карури и служил верно своим колониальным хозяевам, он не забывал о народе... Он очень рано осознал, что новая эра пришла в его страну... Он являет пример вождя, которого молва ославила эгоистом и негодяем, а исторические факты рисуют прогрессивным человеком, действовавшим на благо своего народа» [558, с. 56—57].
Нашлись защитники и у Мумиа. Историк-луйя Дж. Осого описывает его мудрым правителем, которого англичане наградили своей дружбой за исключительный ум и способности. Народ ненавидел Мумиа и его приближенных, и это невозможно скрыть. Но, объясняет Осого, причина крылась лишь в том, что «эти вожди зачастую были людьми гордыми и высокомерными» [590, с. 76—77]. Его соотечественник Г. С. Вере оправдывает действия Мумиа тем, что тот «считал себя не служащим
135
правительства, а, скорее, независимым правителем, действовавшим в интересах своего народа и своих собственных». Народу же представлялось, полагает исследователь, что не Мумиа служил колониальному правительству, а наоборот, колониальное правительство служило ему. «Циники могут сказать,— пишет он,— что коллаборационизм принес приближенным Мумиа лишь ненависть и, возможно, недолгую известность. Но, кроме того, они получили большие материальные выгоды от этого союза» [641, с. 181, 183—184].
Позиция некоторых историков-кенийцев в этом вопросе близка к современной английской историографии. Английские историки Р. Оливер и Дж. Фейдж тоже называют колониальных вождей «дальновидными», «хорошо информированными» и «удачливыми» [584, с. 203], а Г. Ходжес считает даже, «что некоторых из тех, кто служил англичанам в ранние дни, при других обстоятельствах можно было бы назвать революционерами» [458, с. 90].
Причины пристрастности национальных историков к коллаборационистам понять не трудно. В первые годы после провозглашения независимости перед ними стояла задача восполнить пробелы в истории своих народов, очистить историческую ретроспективу от колониальных искажений, создать галерею портретов национальных героев. Трудно было тогда обойтись без перегибов. Мумиа — единственная среди луйя широко известная историческая личность конца прошлого — начала нынешнего века. Мог ли историк-луйя осудить своего знаменитого соотечественника, а то и родственника, не попытавшись найти в его действиях что-то достойное уважения? К тому же национальная интеллигенция первых лет независимости идеологически в какой-то мере сама была продуктом колониальной «цивилизации», и такие ценности этой цивилизации, как миссионерское образование, торговля и «материальные выгоды», оставались для нее незыблемыми и после провозглашения независимости. У английских историков другие цели: теперь, когда в отличие от колониальных времен, слыть революционером не только не опасно, но очень выгодно, они стремятся дать исторические примеры такой «революционности», которая устроила бы неоколони- альные круги как на Западе, так и в Африке.
Вожди действительно были разные: сильные и слабые, деятельные и ленивые, пресмыкавшиеся перед колониальной администрацией или не утратившие чувства собственного достоинства. Но, каковы бы они ни были, характеристика «туземных» властей (не только вождей, но и всего их окружения), как социальной группы, базироваться на их личных качествах' не может. Она определяется их местом и ролью в колониальном обществе, порождением и неотъемлемой частью которого они были.
Прослойка «туземных» властей создавалась колониальной администрацией с целью наладить эксплуатацию завоеванных
136
народов и управление ими. Именно вожди с их отрядами аска- ри выступали во многих районах (прежде всего в резерватах) в качестве непосредственных эксплуататоров. Рекрутация рабочей силы и сбор налога входили в число их прямых служебных обязанностей. Одного этого (независимо от их личных качеств) было более чем достаточно, чтобы вызвать ненависть соплеменников. В силу же личных качеств, используя служебное положение, они уже «сверх программы» брали взятки, устраивали своих родственников, сажали в тюрьмы и обирали противников, скупали землю, заставляли соплеменников даром работать на своих полях.
Среди вождей действительно были люди, пытавшиеся помочь своему народу и считавшие свою службу чем-то вроде тактического маневра. Вождь из Китуи, современник Карури, советовал своим сыновьям вести себя, как речной тростник, который в непогоду пригибается, стелется по воде. Проходит буря, он поднимается и снова дышит и растет [558, с. 57]. Но личные качества и взгляды этих немногих вождей не меняли социального смысла их деятельности.
В то же время оценка социального характера прослойки «туземных» властей не может быть однозначной. Вожди в какой-то степени страдали вместе со своим народом от колониальных порядков, особенно в Кении, где они в какой-то мере подчинялись тому же дискриминационному законодательству, что и их соплеменники. Одним словом, «туземные» власти, как и местная элита других колоний, занимали в колониальном обществе промежуточное положение эксплуатируемых и эксплуататоров одновременно. Будучи сами новой социальной группой, вожди всемерно способствовали становлению новых социальных отношений во всех сферах жизни (вербовка рабочей силы, налоги, школы, дороги, миссии и т. д.) и, следовательно, разрушению старых норм. Неизбежность разрушительных последствий своей «прогрессивной» деятельности сами они не всегда предвидели и с собой не связывали. В 1912 г. собрание вождей Дагоретти жаловалось помощнику комиссара округа, что молодежь бежит на фермы и в города за заработком, не выполняет своих обязанностей в деревне, не слушается вождей и не приносит денег отцам [458, с. 99].
Иное дело миссионеры. Социальная трансформация африканских обществ была их непосредственной и осознанной целью. Деятельность миссионеров была многогранной. Они пытались научить детей своей паствы чтению, письму и счету, знакомили их с практическими профессиями (плотническое, слесарное, столярное, швейное дело), обучали правилам гигиены. Но главным для них всегда оставалась, конечно, духовная переориентация африканцев — не просто обращение в христианскую веру, но укоренение в их сознании ценностей и понятий колониального общества.
Первую на территории Кении миссию создали в 1844—
137
1847 гг. в Рабаи миссионеры Церковного миссионерского общества Крапф и Ребманн. В 1862 г. была открыта миссия Объединенной методистской церкви в Рибе, в 1875 — вторая миссия Церковного миссионерского общества во Фреретауне, неподалеку от Момбасы. В 1891 г. открылась Шотландская миссия в Кибвези, в 1892 — миссия Общества святых отцов в Буре, на холмах Тейта. Со строительством железной дороги начали открываться миссии во внутренних районах ,[588, с. 103—104].
Поначалу миссионеры много занимались изучением обычаев и традиций африканских народов (Крапф, например, изучил по меньшей мере шесть африканских языков, описал обычаи мид- жикенда, оромо, камба и тейта). Новообращенцев во времена Крапфа и Ребманна почти не было. Только после запрета работорговли у кенийских миссионеров впервые появилась паства — освобожденные рабы. Первые партии бывших рабов начали прибывать из Индии (в основном из Бомбея, откуда и пошло их прозвище «бомбейские африканцы», или «бомбейцы»). К 1880 г. в лагерях, построенных для освобожденных рабов рядом с миссиями во Фреретауне и Рабаи, было уже около 3 тыс. «бомбейцев». «Бомбейцы» стали первыми восточноафриканцами, получившими христианское образование. В 1888 г. для их подготовки была открыта богословская школа во Фреретауне. Многие «бомбейцы» знали несколько языков — английский, гудже- рати, суахили и местные. Обучали их и ремеслам и торговле, знакомили с европейскими методами земледелия и ведения хозяйства. Знание местных нравов и обычаев в сочетании с этими новыми навыками делало их прекрасными проводниками и переводчиками. Еще в 1865 г. девять «бомбейцев» сопровождали Д. Ливингстона в его путешествии по Восточной Африке. В 1873 г. несколько «бомбейцев» отправились в путешествие со Стэнли.
Именно «бомбейцы» стали первыми в Кении черными учителями, катехистами, пасторами. В 1874—1904 гг. ими был укомплектован штат всех миссий. Во Фреретауне и Рабаи работали всего один-два белых миссионера, и «бомбейским» ка- техистам подчинялись тысячи африканцев. Знание нужд и обычаев людей позволяло черным миссионерам справляться с ра ботой лучше своих европейских коллег. Европейцы признава ли, что миссия в Рабаи, к примеру, обязана была своими успехами «бомбейцу» Д. Дэвиду, наладившему там обучение ремеслам вместо проповедей «аскетического самоограничения и безразличия к мирским наслаждениям и занятиям», которые долго и безуспешно читал Ребманн [631, с. 54, 56—57].
«Бомбейские» африканцы стали пионерами распространения христианства и во внутренних районах Кении. В 1875 г. тот же Дэвид первым уговорил нескольких гириама послать своих детей в школу. В 1878 г. он добился того же результата у ду- рума. Тейта начал обращать в христианство «бомбеец» В. Джоне. Миссионеры писали: «Он хорошо знает многих из
138
них, и они его уважают. Кроме того, он человек большого такта и, как туземец, сможет объясниться с ними лучше, чем мы. Если этих заблудших вообще можно привести в чувство, то в состоянии это сделать только он» [631, с. 59—60].
Поначалу церковные власти ценили заслуги «бомбейцев». Д. Дэвид в 1876 г. стал первым в Восточной Африке черным дьяконом. Церковные власти прочили его в епископы по примеру западноафриканца С. Кроутера, но Дэвид рано умер. В 1885 г. дьяконом стал В. Джонс, а в 1896 г. его произвели в архидьяконы [631, с. 60, 65—67]. Но с установлением колониального господства миссионеры перестали нуждаться в «бомбейцах». Этот первый в Восточной Африке продукт «цивилизаторской» деятельности колониализма, которым, казалось бы, могли гордиться создатели, был слишком наглядным опровержением расистских доктрин, положенных в основу колониальной политики в Кении. С 90-х годов «бомбейцев» начали обвинять в лености и пьянстве. Потом начались увольнения, телесные наказания, заключения в тюрьму без суда и следствия. «Бомбейцы» слали петиции церковному руководству в Англии, собирали митинги протеста во Фреретауне — но тщетно. В начале века освобожденные рабы как самостоятельная социальная группа прекратили свое существование.
Однако дело, в которое они вложили столько энергии, уже было поставлено на колеса. К 1917 г. во внутренних районах Кении работало 53 христианские миссии со школами, в 1924 г.— 68 [588, с. 116—119]. Только в 1904 г. начальные школы при миссиях закончили около 3 тыс. африканцев i[48, с. 21]. Миссионеры и колониальная администрация полагали, что образованные африканцы смогут найти себе применение в разных сферах деятельности. Дж. Эйнсворт пытался, например, создать школы для детей вождей, как в Уганде. Поселенцы настаивали на сугубо производственном характере обучения в миссиях. Как это часто бывало в истории Кении, их точка зрения победила. В 1911 г. был издан указ, в котором провозглашался принцип раздельного обучения молодежи трех «рас» — европейской, азиатской и африканской — и узаконивался прикладной тип образования для африканцев. Миссионерским школам с ремесленным уклоном были назначены премии в 2 ф. ст. за ученика и в 5 ф. ст. за выпускника, сдавшего экзамены на квалификацию [588, с. 104—106].
Ученики миссий понимали, что их готовят на роль прислуги и работников для европейцев, и далеко не всем это нравилось. Желающих обучаться «практическим навыкам» в первое десятилетие нашего века почти не было. В 1913—1914 гг. экзамен на квалификацию держали только 100 выпускников миссионерских школ |[407, с. 48]. Нежелание африканцев учиться объяснялось в те годы, конечно, не одной, а многими причинами, но слишком уж «практический» характер образования был среди них не на последнем месте. Характерен такой эпизод.
139
Не кто иной, как Т. Рузвельт, пригласил сына носильщика М. Джаму в Америку — учиться в институте Букера Вашингтона в Таскиги. Это была дань благодарности его отцу, хорошо служившему Рузвельту во время его кенийского сафари. Джа- ма поехал и поступил в институт. Но вскоре бросил учебу, заявив, что в программе уделяется слишком большое внимание ручному труду, а для него это означает подготовку к службе на европейцев. Он понимал, что отказался от завидной карьеры [588, с. 106—107].
Выпускников миссионерских школ тех лет вряд ли можно назвать интеллигентами. Их подготовка была куда примитивнее, чем образование, полученное в свое время «бомбейцами». И все же зачатки знаний, дававшиеся миссионерами, открывали перед африканцами новый мир. Ученики читали не только библию, евангелие и популярные брошюры на религиозные сюжеты, переведенные миссионерами на местные языки, но и учебники, в том числе по географии и истории. В них не было ни слова о Кении и ее народах, но все же они давали какие-то конкретные сведения. Так, в учебнике «Введение в историю» на суахили, изданном в 1894 г. в Лондоне для миссионерских школ Восточной Африки, с легендами о сотворении мира, рождении и жизни Иисуса Христа соседствовали пояснения о том, что такое история и каковы источники исторического знания, давались сведения из истории Рима, Карфагена и т. д. [535].
Именно знания, а не христианская доктрина интересовали все более многочисленных учеников миссий. Не считаясь с верой, они переходили из одной миссии в другую в поисках лучших учителей и программ обучения [583, с. 224]. Со временем миссионеры начали издавать газеты на местных языках, в которых публиковались переводы Писания, сказки, несложные тексты по географии и естествознанию [583, с. 62]. На страницах этих газет появлялись первые пробы пера выпускников и учащихся, рассказывавших об обычаях и традициях своих народов.
Выпускники миссионерских школ были, таким образом, людьми с новым кругозором, новым видением мира, новым пониманием происходившего. Они стали почвой, взрастившей через десяток-другой лет новую образованную элиту африканских обществ, в среде которой формировались будущие лидеры антиколониальной борьбы. Вместе с тем активизация деятельности миссий, вызывавшая раскол в африканских обществах, усиливала антиевропейские и антимиссионерские настроения и в традиционной среде, еще не затронутой их прямым воздействием.
Наиболее ярким из антиколониальных движений Кении, возникших на этой основе, стал мумбоизм. Кенийские историки писали, что это движение проповедовало «полный отказ от всего европейского», и справедливо характеризовали его как «явно антиевропейское и антимиссионерское» |[580, с. 167]. Культ богини Мумбо был распространен среди луо с давних времен.
140
Они верили, что Мумбо — огромная змея, которая живет в озере и пасет под водой свои огромные стада скота. Мумбоизм стал политическим движением с 1913 г., когда через одного из своих адептов Мумбо начала вещать, что христианская религия отвратительна, что заставлять людей носить одежду — кощунство. Европейцы, говорила она, опасные враги, но скоро они исчезнут. Мумбо запретила якобы своим приверженцам стричься и мыться и приказала забить весь свой скот, а взамен обещала отдать им стада из озера. «Заповедь» Мумбо быстро распространилась среди луо и гусии (580, с. 163—165].
Мумбоисты забивали скот, забрасывали поля, открывали «школы», в которых проповедовали культ Мумбо и исцеляли больных травой, носившей имя богини. В сентябре 1914 г. германские колониальные войска начали наступление на территорию Кении в районе страны гусии. Колониальная администрация эвакуировала некоторые миссии, торговые точки, административные учреждения. Люди решили, что сбываются предсказания Мумбо и англичане уходят навсегда. Ликующие толпы мумбоистов разрушили и сожгли миссии, магазины, дома. Но уже на следующий день вместо чиновников появились войска, разбившие подходившую немецкую колонну.
В Южную Ньянзу была послана карательная экспедиция. Королевские африканские стрелки перебили около 150 безоружных гусии, конфисковали у луо и гусии около 3 тыс. голов скота, сожгли тысячи жилищ. Проповедники мумбоизма были высланы из страны. За два года (1914—1916) почти 22 тыс. человек, около половины взрослого мужского населения гусии, были рекрутированы для работы на плантациях и фермах или отправлены носильщиками к театру военных действий. И все же покончить с мумбоизмом удалось не сразу. Движение пошло на убыль только в 1918 г., когда в полной мере начали сказываться последствия усердного выполнения мумбоистами хозяйственной части заповеди Мумбо и в стране начался голод [367, с. 449; 580, с. 167—170, 172].
Мумбоизм возник на базе традиционного культа, и основной его целью был возврат к прошлому. Но уже в первые десятилетия колониального господства появились движения, выросшие на новой идейной основе. Усвоив христианскую догму, их основатели выступали за очищение христианства от колониально-расистских напластований, отвергали христианскую мораль, пытались примирить христианскую доктрину с языческими обрядами и т. д. Одно из первых таких движений, названных учеными «афро-христианскими», возглавил луо Джон Овало. Он объявил, что слышал глас божий, приказавший ему основать новую религию. В 1910 г. он основал «Номиа луо мишн» («Миссию луо, данную мне»), провозгласил себя пророком и построил первую «независимую» от администрации и миссионеров начальную школу. Уже через несколько лет у него было около 10 тыс. последователей [367, с. 449; 563, с. 87].
141
Сколь ни наивны были попытки создателей афро-христиан- ских учений противопоставить официальной свою, «истинную» христианскую веру, они явились способом осмысления быстро менявшейся действительности, потока новой информации и одновременно новой формой антиколониального протеста. В Кении антиколониальный характер большинства афро-христиан- ских движений был особенно очевиден, поскольку здесь был особенно очевиден колониальный характер миссионерской деятельности.
Новые формы труда вызывали к жизни и другие новые формы протеста. Первая в истории Кении забастовка произошла на строительстве железной дороги в 1900 г. Она началась выступлением европейских служащих, протестовавших против лишения их пособия на прислугу, надбавки за трудные условия, дополнительного отпуска. К ним присоединились толпы индийских кули. Собравшись на улицах Момбасы, они громили магазины, разрушали железнодорожные пути. Волнения были подавлены, организаторы арестованы, часть требований удовлетворена ff407, с. 12].
В 1902 г. в Момбасе бастовали полицейские-суахили, в 1908 г.— грузчики-африканцы на железной дороге, рабочие одной из плантаций около Момбасы, рикши в Найроби, индийские портовые рабочие Килиндини |[238, с. 7; 367, с. 452]. Первая крупная забастовка рабочих-африканцев произошла в 1910 г. Около 1 тыс. отходников из Ньянзы бросили работу в Султан Хамуде и пешком пришли в Найроби жаловаться комиссару округа на тяжелые условия труда. Толпа луо, одетых в грязные тоги из одеял, привлекла к себе слишком большое внимание на улицах столицы, и комиссар отправил забастовщиков в тюрьму за нарушение порядка в городе. На следующий день их обвинили в нарушении указа о господах и слугах, руководителя приговорили к порке и двухмесячному заключению, остальных отправили обратно на работу. Еще одна забастовка африканцев произошла на железной дороге в 1912 г., когда рабочие попытались отказаться работать лишний час за прежнюю плату. Все они были уволены [407, с. 44—45].
На рубеже веков африканцы Кении создали свою первую организацию. Ее можно было бы считать нетипичной — ведь создали ее «бомбейцы» Фреретауна,— если бы и по характеру и по реакции властей она не стала провозвестницей будущего. Совет африканских рабочих, объединивший в действительности не рабочих, а работников миссий, возник в конце 90-х годов, в разгар конфликта «бомбейских» африканцев с церковным начальством. Руководил организацией «бомбеец» Д. Даймлер. В 1901 г. руководство Церковного миссионерского общества потребовало от него разъяснений о деятельности совета. Тот отвечал, что единственная цель организации — улучшить работу миссий. Были посланы новые запросы, но Даймлер из опасения репрессий больше ничего не ответил и не представил спис¬
142
ка членов организации [631, с. 76—80]. Вскоре Совет распался, но за свой короткий век эта первая организация африканцев Кении немало способствовала развитию «независимого духа», который еще в 1899 г. с неудовольствием отмечало в них церковное начальство.
Кения в первой мировой войне
В конце лета 1914 г. колониальные войска Германской Восточной Африки (ГВА) под командованием прославившегося в этой кампании генерала О. Леттов-Форбека начали наступление на территорию Британского восточноафриканского протектората. Они дошли до нагорья гусии на западе и захватили страну тавета на востоке. Здесь кенийская колониальная армия и добровольческие отряды поселенцев остановили их и отбросили назад. Осенью 1914 л в начале 1915 г. английские войска безуспешно пытались высадиться на побережье ГВА. В 1916 г. английские и бельгийские колониальные войска под командованием южноафриканского генерала Смэтса начали наступление на территорию ГВА с севера, северо-запада и юго-запада. Германские войска медленно отходили к югу. К декабрю 1916 г. они контролировали лишь небольшую территорию между реками Руфиджи и Рувумой. Там они продержались еще год. В конце 1917 г. германская колониальная армия оккупировала северные районы Мозамбика, а в августе 1918 г. начала контрнаступление и смогла снова захватить южную часть Танганьики. В ноябре 1918 г. Леттов-Форбек увел свои отряды в Северную Родезию. Там они оставались до заключения перемирия [137, с. 28, 34—46, 53—59, 78, 84, 99—207, 221—302].
Войну в Восточной Африке вынесли на себе африканцы — не только в том смысле, что с обеих сторон воевали десятки тысяч африканских солдат. Без дорог, в пустынях, болотах и зарослях Восточной Африки эта война была бы просто невозможна, если бы сотни тысяч носильщиков в жару и ливень не тянули на себе амуницию, боеприпасы, технику, продовольствие — все, чем воевала и жила армия. Недаром среди европейцев была в те годы популярна песенка [189]:
...Она была длинной, дорога на Линди.
Больше всех досталось носилыцику-кавирондо...
Но Омера не жаловался, он делал свое дело.
Англичане стали формировать корпус носильщиков в августе 1914 г. В первое время, привлеченные относительно высоким заработком, люди шли в корпус добровольно. Но уже с начала 1915 г. приток рекрутов уменьшился, а кампания только еще разворачивалась. Тогда англичане приступили к принудительной вербовке «провинившихся» (восставших гириама, мум- боистов и т. д.), а потом и вовсе ни в чем не повинных лю¬
143
дей. Дошло до того, что в людных местах полиция устраивала облавы и всех пригодных к службе тут же отправляла на фронт .[317, с. 272—273].
В сентябре 1915 г. был издан указ, разрешавший принудительную вербовку носильщиков. С этого времени администрация рекрутировала не меньше 3 тыс. человек в месяц. По официальным данным, за все военные годы носильщиками служили около 200 тыс. африканцев if407, с. 83, 88]. На самом деле их, видимо, было намного больше.
Носильщики работали в тяжелейших условиях. Те, кто переносил на своих плечах технику или был личным носильщиком офицеров, считались счастливчиками: они получали форму, а иногда даже палатки. Чернорабочим выдавали нож, одеяло, шорты и бутылку для воды. Дневной рацион включал только пошо. Изредка разрешали добить измученного вола или лошадь. Правила санитарии и гигиены не соблюдались. Медицинской помощи практически не было. Малярия, дизентерия и другие кишечные заболевания, воспаления косили людей сотнями. Много было и психических заболеваний. Физические лишения, нечеловеческий труд усугубляли трудности психологической адаптации к непривычной среде, ужасам современной войны. О. Ф. Уаткинс, возглавлявший корпус носильщиков, имел мужество признать: «Через какие страдания мы прошли и какие потери понесли с сентября 1916 по март 1917 г., никогда не станет известно до конца» [407, с. 83—85].
По официальным данным, за годы войны погибло 40 тыс. африканцев. Эйнсворт, с 1917 г. военный комиссар по труду, считал, что погибших было больше 155 тыс. человек, причем больше всего — гикуйю. Демобилизованные возвращались домой больными. Многие, не дойдя до резервата, умирали, других та же участь ждала по возвращении [407, с. 87—89; 639, с. 121, 125].
Дорого обошлась африканцам война европейских держав. Но те, кто выжил, кое-что вынесли из этого ада, в котором им довелось побывать. Тот же О. Ф. Уаткинс писал: «... тех, для кого водопроводный кран или дверная ручка до сих пор оставались непостижимой тайной, научили носить на передовую полевые радиоустановки и новейшее скорострельное оружие. Люди, не продвинувшиеся в своем развитии даже до использования колеса и еще несколько лет назад с криками ужаса разбегавшиеся при виде поезда, теперь выталкивали из грязи огромные грузовики, брели рядом с ... чуть не задевавшими их автомашинами и лишь слегка поворачивали голову на звук пролетающего самолета» [407, с. 88].
Но «прогресс» африканца в военные годы выходил далеко за рамки его знакомства с наземным и воздушным транспортом. Он познавал методы ведения современного боя, знакомился с новейшим оружием. Впервые воевал рядом с европейцем и видел не только его силу, но и человеческие слабости. Он мно¬
144
го и тесно общался с представителями других народов и впервые осознавал свою принадлежность к большой африканской общности. Армейская дисциплина убеждала его в силе организации. В принудительном порядке война познакомила с «цивилизацией» десятки тысяч людей и тем самым резко ускорила процесс становления новых социальных сил в африканских обществах. Среди будущих лидеров антиколониальной борьбы было немало людей с военным опытом.
Метрополия ничем не отблагодарила африканцев, так много сделавших для ее победы на восточноафриканских фронтах. Зато поселенцы, спекулируя на трудностях военного времени, смогли добиться многого. Прежде всего, усилилось их влияние на колониальную администрацию. В 1913 г. поселенцы отправили в министерство колоний «Петицию о народном представительстве», содержавшую требование выборности их представителей в законодательный совет. Во время войны они получили заверения министерства колоний в том, что выборы представителей европейской общины состоятся в ближайшем будущем, как только будет найден «наилучший способ представительства интересов индийской, арабской и туземной общин» i[389„ с. 289; 417, с. 46—47].
В 1915 г. по инициативе Грогана в Кении был создан военный совет, куда кроме представителей администрации вошли лидеры поселенцев, включая самого инициатора. В годы войны военному совету фактически принадлежала исполнительная власть в протекторате. Первой же акцией этого органа было уменьшение чуть ли не вполовину жалованья и рациона носильщиков. В 1916 г. военный совет принял поправку к указу «о господах и слугах», в соответствии с которой работник, нарушивший контракт, подлежал немедленному аресту без предъявления ордера. В военном совете родилась идея поселения в Кении ветеранов войны. Здесь впервые был применен принцип выборного представительства европейцев: с 1917 г. неофициальные члены совета начали выбираться [389, с. 288, 289; 407, с. 92].
Именно в годы войны была поставлена точка над «i» в вопросе о том, кому принадлежит земля в Кении. Закон о землях короны 1915 г., лишивший африканцев юридических прав на землю, предусматривал новые важные льготы для поселенцев. Срок аренды для них был увеличен до 999 лет, рента-налог на неиспользуемые земли, против введения которой особенно возражали поселенцы, не взималась. Площадь каждой фермы не должна была превышать 5 тыс. акров, но количество ферм, которые мог приобрести поселенец, не ограничивалось [44, с. 80].
В этом же законе был впервые упомянут принцип закрепления определенных территорий исключительно за европейской общиной [619, с. 43, 49, 57]. Расовая дискриминация в землепользовании получила тем самым юридическое оформление —
ю Зак. 654
145
и кенийские нагорья превратились в печально знаменитое Белое нагорье.
Наивно было бы думать, что даже такое решение земельной проблемы могло удовлетворить поселенцев. Добившись создания того, что можно назвать резерватом для белых, они потребовали уничтожения резерватов африканских племен — последнего шаткого препятствия на пути земельного ограбления африканцев. Стремление получить землю в резерватах обосновывалось заботой об их развитии. Особую обеспокоенность «положением в резерватах» проявила Экономическая комиссия 1917 г., укомплектованная главным образом поселенческими лидерами. «Нужно немедленно прекратить политику закрытия резерватов для влияния европейской цивилизации, превращающую их в оплоты отсталого и дикого невежества»,— говорилось в ее отчете [214, с. 101].
Особенно многого добились поселенцы за годы войны в решении «проблемы» рабочей силы. В 1915 г. были увеличены налоги африканскому населению и принят указ «о регистрации туземцев». Регистрация (перепись трудоспособного мужского населения с выдачей удостоверений личности) должна была облегчить сбор налога, учет ресурсов рабочей силы и ее распределение. Правда, осуществить регистрацию во время военной неразберихи оказалось трудно, и проведение этой меры было отложено до конца войны.
В 1918 г. было юридически оформлено положение скваттеров. В законе «о туземных скваттерах» говорилось, что скваттер обязан работать на хозяина не менее 180 дней в году и что африканцы, не работающие по найму и не являющиеся скваттерами, не имеют права жить на территории ферм. Это касалось в первую очередь бывших собственников земли, захваченной европейцами. Закон 1918 г. приравнивал их к остальным арендаторам if214, с. 92—97; 407, с. 95].
Юридические меры сочетались с незаконным, но в годы войны процветавшим «поощрением» африканцев работать на плантациях. Поселенец сам договаривался с вождем о поставках рабочей силы. За каждого рекрута вождь получал небольшое «вознаграждение». На работу впервые начали выгонять женщин. Кроме того, администрация отправляла на фермы африканцев, рекрутированных в носильщики, но не пропущенных медкомиссией.
В результате всех этих мероприятий в некоторых резерватах в годы войны отсутствовало от 75 до 85% взрослых мужчин. Голод, лишения, болезни довершили дело. К середине 1918 г. резерваты были в полном упадке и с экономической и с социальной точек зрения. В них резко возросла смертность, перестали проводиться традиционные церемонии, не соблюдались обычаи. В деревне началось пьянство. Не лучше было и положение африканцев в городах. Сюда стремилась молодежь, здесь часто оставались демобилизованные. Кварталы трущоб
146
разрастались. Грязь, голод, болезни были обычным явлением. Нравственные устои африканских обществ рушились. В 1917— 1918 гг. по городам прокатилась волна грабежей |[407, с. 86—88].
Первые десятилетия колониального господства — период, когда военно-политическое подчинение африканских обществ, при всей его грубости довольно поверхностное, сменялось более глубоким экономическим проникновением колониализма в их среду. К. Маркс подчеркивал значение экономического фактора в социальной трансформации индийского общества в колониальные годы, в частности в разрушении индийской общины: «Эти маленькие стереотипные формы социального организма большей частью разрушены и исчезают навсегда не столько вследствие грубого вмешательства британского налогового чиновника и британского солдата, сколько в результате действия английской паровой машины и английской свободы торговли» |[1, с. 135]. Аналогичное воздействие оказывало становление колониальной экономики и на социальные структуры африканских обществ Кении. Из всех факторов, под влиянием которых рушились сложившиеся в доколониальную эпоху нормы, хозяйственные уклады и представления, исходным, главным было соприкосновение их с капиталистической экономикой. В Кении, где формировался европейский сектор сельскохозяйственного производства и куда активно привлекались частные капиталы, это соприкосновение было более глубоким, чем во многих других странах Тропической Африки.
Это не означает, что методы воздействия капиталистической экономики на африканские общества носили здесь более выраженный капиталистический характер. Основной целью внеэкономического принуждения, применявшегося во всех африканских колониях, было насильственное «дотягивание» раннеклассовых и особенно доклассовых обществ до состояния, в котором иностранный капитал мог их эксплуатировать. Чем более глубоким было проникновение капитала, тем более быстрым и масштабным должно было быть «дотягивание» и тем более широко и последовательно применялись меры внеэкономического принуждения.
Кения, привлекшая наибольшие в Восточной Африке капиталы, отличалась наименее капиталистическим (по масштабам внеэкономического принуждения) характером колониальной эксплуатации — в этом, собственно, и состоял парадокс создававшейся там «белой» колонии. Капиталы дали эффект бума колониального «развития». Фермы, плантации, ранчо, города, дороги, отели, магазины — все это появлялось быстрее, было богаче и многочисленнее, чем в соседних странах, и оставляло впечатление быстрого развития. Такое же впечатление производили новые, бросавшиеся в глаза даже поверхностному на¬
10*
147
блюдателю черты в жизни африканских обществ: рост потребностей, тяга к новым товарам, распространение европейских предметов быта и одежды, особенно в городах и на фермах. Всего за два десятилетия в африканских обществах довольно прочно укоренились такие понятия, как наемный труд, деньги, заработная плата. Быстро росло число отходников. В некоторых районах уже в те годы они составляли весомую часть трудоспособного мужского населения.
Многим современникам казалось, что все эти сдвиги должны были быстро изменить жизнь и мышление африканцев. В те годы даже поселенцы, в принципе считавшие африканца абсолютно неспособным к развитию, четко отделяли отходника и прислугу от «неотесанного туземца» [333, с. 242] в деревне. Воспитанники миссий и отходники мыслились людьми новой формации, несшими свет знаний своим не охваченным еще цивилизацией деревенским собратьям. Ценность информации, обретенной отходниками в городах и на фермах, была для европейцев настолько самоочевидной, что они не сомневались в ее революционизирующем воздействии на кенийскую деревню. Но на деле «прогресс» шел куда медленнее, чем казалось в те годы.
Прежде всего, социальные сдвиги в те годы, да и много позже охватывали географически лишь небольшую часть страны. Избирательность колониального воздействия определялась уровнем социального развития и характером хозяйственных укладов африканских обществ в доколониальную эпоху (ведь даже для «дотягивания» нужен был определенный уровень), пригодностью занимаемых ими земель для развития европейского хозяйства.
Лесные охотники-собиратели доробо, жившие родовым строем, в наименьшей степени подверглись воздействию новых социальных факторов. Они не платили налог, в их среде не создавалась «туземная» администрация, не работали миссионеры. В скотоводческих обществах (масаи, сомали, оромо) «туземная» администрация создавалась, но слабо контролировалась. Налоги они платили чаще всего скотом. Некоторые из них (масаи, календжин) потеряли значительную часть земли, но, поскольку они не обладали навыками, необходимыми для работы на европейских фермах и в городах, и с трудом привыкали к оседлому образу жизни, колониальная администрация не «поощряла» их покидать резерваты и идти работать на европейцев, а миссионеры не проявляли настойчивости в обращении их в «истинную веру».
Земледельческие и земледельческо-скотоводческие народы подверглись колониальному воздействию в наибольшей мере. У них были отобраны наиболее плодородные земли (гикуйю). Их «туземная» администрация находилась под постоянным контролем колониальных чиновников, они платили денежные налоги, их «поощряли» идти на работу любыми способами (осо¬
148
бенно гикуйю, луо, луйя, камба), они были предметом особой заботы миссионеров. Новые социальные группы вербовались в основном из среды этих народов.
Но даже в обществах, подвергшихся наиболее активному колониальному воздействию, изменения накапливались медленно. Последствия земельных экспроприаций до первой мировой войны еще не начали сказываться в полной мере. Отсутствие большого числа отходников до поры до времени мало сказывалось на хозяйственных укладах и образе жизни деревни: в города и на фермы отвлекалась в основном молодежь, составлявшая прежде возрастные группы воинов,—а они не участвовали непосредственно в хозяйственной деятельности своих обществ [407, с. 65].
Вряд ли стоит преувеличивать и глубину психологической трансформации новых социальных слоев, порожденных колониализмом и находившихся в постоянном контакте с европейцами, особенно в первые десятилетия колониальной эпохи. Даже научившись зарабатывать деньги и поняв их ценность, в годы, предшествовавшие первой мировой войне, отходник редко мог истратить их с «пользой» — с точки зрения европейца. Заработав деньги для какой-то определенной цели (выплаты налога, покупки одежды или велосипеда, выплаты выкупа за жену и т. д.), африканец обычно уходил в резерват. Идея работы по найму, как средства существования, еще была в те годы чужда ему.
Воспитанник миссионеров далеко не всегда становился яростным проповедником их учения и даже свою собственную судьбу зачастую не рисковал вверить одному только христианскому богу. Став в 1909 г. учеником миссионерской школы, Дж. Кениата уже освоил к этому времени основы ремесла мунду муго. В 1914 г. он крестился, но до этого, в 1913 г., прошел традиционную инициацию с церемонией обрезания j[383]. Духовный мир даже тех, кого с полным основанием можно было причислить к новым социальным слоям, эволюционировал очень медленно.
Полагали ли европейские авторы тех лет, что дни традиционных обществ сочтены, или, наоборот, считали эти общества имманентно неспособными к развитию, их работы объединяла одна ошибка, не изжитая до конца и современной историографией. Традиционное (в социальном строе, образе мышления и мировосприятии африканца) мыслилось ими как антипод нового. Эти сферы считались несовместимыми, антагонистическими. Но на деле они органично сосуществовали как в личности, так и в обществе. Единство традиционного и нового, принимавшее порой причудливые формы, претерпевало постоянную внутреннюю эволюцию, но оставалось неразрывным целым. Одна сфера дополняла другую, они не могли существовать друг без друга в быетро меняющемся колониальном мире. Это динамичное единство традиционного и нового стало одной из наи¬
149
более характерных черт формирующегося колониального общества.
Одной из сфер, в которых неразрывность традиционного и нового проявлялась наиболее ярко, был антиколониализм. Современная буржуазная историография делит антиколониальную борьбу африканских народов на две фазы: первичное сопротивление (борьба против установления колониального господства) и вторичное (освободительная борьба против существующих колониальных режимов). Начало второй фазы совпадает по этой классификации с установлением колониального господства. Но колониальный раздел на бумаге не был для африканских народов той эпохи сколько-нибудь значимым рубежом, а реальное подчинение растягивалось на десятилетия. Первые столкновения колониальных войск с нанди в начале строительства железной дороги можно, вероятно, назвать «первичным» сопротивлением, пассивное сопротивление выселению в 1906 г.— «вторичным». Но найти рубеж, отделявший одно от другого, невозможно — его попросту не существовало.
Плодотворнее попытка выделить старые и новые формы антиколониальной борьбы. «Старыми» считают формы борьбы, основывавшиеся на нормах и понятиях доколониальных обществ, «новыми» — те, в которых нашли отражение социальные сдвиги в этих обществах и которые поэтому были более пригодны в новых условиях. Можно, видимо, отнести первую организацию кенийских африканцев к новым формам борьбы, а «войны» нанди — к старым. Но большинство движений классифицировать подобным образом трудно. Восстание гириама во многом походит на набеги нанди. Та же традиционная социальная организация в качестве организационной базы, тот жеполу- сакральный-полусветский характер руководства, та же защитная магия вместо оружия. Но нанди защищали ценности доколониального общества от колониальных войск, а гириама, подвергшиеся уже социально-расчленяющему воздействию колониализма, вынуждены были бороться прежде всего против союзник ков колонизаторов в своей собственной среде.
Грань между старым и новым почти неуловима в мумбоиз- ме. Традиционный культ, обретя политическую направленность, вышел за пределы традиционного ареала распространения, перешагнул этническую границу (распространился среди гусии) и стал, таким образом, идейной базой первого полиэтничного крестьянского антиколониального движения в Кении.
Неоднозначен характер даже такого на первый взгляд однопланового явления, как забастовка. События, развернувшиеся в 1910 г. в Султан Хамуде, которые исследователи назвали первой забастовкой кенийских африканцев, вовсе не мыслились таковой самими участниками. Если бы, обиженные работодателем, они бросили работу и просто разошлись по домам, как чаще всего и случалось, квалифицировать это событие как забастовку было бы невозможно. Но то, что толпа отходников
150
дружно отправилась в столицу жаловаться на обидчика, было общей целенаправленной и даже в какой-то мере организованной акцией, осознанной попыткой самозащиты.
Одним словом, антиколониальное движение в те годы, да и много позже представляло собой неразрывное единство нового и традиционного, и потому любая попытка его формализации в рамках понятий современной европейской истории может носить лишь условный характер. Только исследование конкретной формы соотношения этих черт в каждом движении может способствовать его пониманию.
Значение ранних антиколониальных движений определялось не только тем, что с самого начала колониальной эпохи они подтачивали устои колониализма. Независимо от характера, целей, направленности все антиколониальные движения, будучи одним из проявлений социальных сдвигов в африканских обществах, в то же время сами являлись важным фактором социальной трансформации этих обществ. В антиколониальной борьбе выковывалась новая общность интересов, накапливался опыт совместных и совершенно новых действий. В какой-то мере появлялось сознание собственной силы. Ведь несмотря на все поражения, на кажущуюся безрезультатность, даже в те ранние годы антиколониальная борьба .оставляла след в общественной жизни. Достаточно сказать, что сопротивление ма- саев переселению и их наивная попытка судиться с колониальной администрацией привлекли внимание английской общественности и вызвали отставку двух кенийских губернаторов — Ч. Элиота в 1904 г. и П. Джироуарда в 1912 г.
Антиколониализм (не только борьба как таковая, но и религиозные движения и даже, например, мумбоистский отказ от борьбы и уход от активной жизни, как реакция на колониальное угнетение) был формой познания колониальной действительности, приспособления традиционной психологии к быстро менявшимся социальным условиям. В самом широком смысле этого слова он был важнейшей формой массового общественного сознания африканцев в колониальную эпоху.
В годы, предшествовавшие первой мировой войне, становление колониализма и антиколониализма в Кении только начиналось. Еще не оформились особенности колониальной эксплуатации, не сформировался характерный облик колониального общества. Долгий путь африканских обществ через колониальную эпоху только начинался. Первая мировая война стала на этом пути важнейшей вехой.
Она длилась всего четыре года, но за этот короткий промежуток времени в колониальную ойкумену страны был втянут новый широкий слой населения. Перемены становились необратимыми. Все отчетливее страна обретала облик «белой» колонии. Наступала эпоха, когда, как выразился однажды Коинан- ге, верховный вождь гикуйю, «Дэламер держит ухо администрации» (69, т. 2, с. 400—402}.
Глава V
СТАНОВЛЕНИЕ КОЛОНИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАНЫ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА». ТРАНСФОРМАЦИЯ И ХАРАКТЕР АНТИКОЛОНИАЛИЗМА
«Дэламер держит ухо администрации»
После окончания первой мировой войны социально-политическое развитие народов Кении, как и других африканских стран, шло в новом историческом контексте. Воздействие таких важнейших новых явлений всемирно-исторического процесса, как возникновение первого социалистического государства, рост демократического, рабочего движения и влияния социалистических идей во всем мире, подъем национально-освободительного движения в Азии, стало постоянным фактором в их жизни, хотя и носило по большей части опосредованный характер. В период между двумя мировыми войнами кенийское антиколониальное движение впервые установило связи с демократическими и социалистическими организациями Европы, идеи демократического движения, сведения о национально-освободительной борьбе на Востоке впервые начали проникать в страну. Вместе с тем правящие круги Великобритании под воздействием изменений в мире все больше стремились упрочить свои позиции в Африке. Особая роль при этом отводилась таким «белым» бастионам колониализма и расизма, как ЮАС и Родезия. Кения быстро превращалась в один из них.
Колониальная политика в «белой» колонии
Планы поселения в Кении ветеранов войны разрабатывались в Найроби и Лондоне еще до ее окончания. В английских газетах послевоенных лет часто мелькала броская реклама: «В отставку? — Почему бы не в Кении?» Обладающего достаточным доходом ветерана соблазняли всеми прелестями страны: «избытком дешевой рабочей силы», отсутствием подоходного налога, «интересными и дружелюбными туземцами», соседством с «представителями высшего класса Великобритании», верховой ездой, охотой, поло, теннисом, гольфом {111, с. 11].
152
К 1919 г. планы поселения ветеранов были готовы. Больше
1 тыс. ферм размером по 5 тыс. акров и стоимостью по
2 тыс. ф. ст. каждая предназначалась для отставных офицеров со средствами. Около 250 мелких ферм решено было предоставить ветеранам в дар. Большие фермы раскупались плохо, и с 1922 г. их стали тоже распределять безвозмездно [214, с. 81 — 82]. К 1923 г. в Кении насчитывалось 1183 фермера, к 1929 г.— 2 тыс. (без членов семей), и эта цифра долго оставалась вершиной численности поселенческой общины [497, с. 147; 649, с. 241]. Новые поселенцы придали европейской общине Кении еще и «военный» колорит. Списки членов различных комиссий теперь часто напоминали послужные списки командного состава воинских частей.
В первые послевоенные годы Кения мало напоминала страну из рекламных объявлений. Фермы, как и резерваты, оказались после войны в плачевном состоянии, правда по чисто экономическим, а не социальным причинам. Но цены на мировом рынке были в те годы высоки, и фермеры смогли быстро поправить свои дела. Кризис начала 20-х годов лишь ненадолго приостановил рост доходов. С 1922 по 1929 гг. годовой доход колонии увеличился вдвое, причем в основном за счет роста производства европейского сектора. В 1912—1913 гг. африканцы давали 70% экспортной продукции, а в 1928 г.— только 20%, причем это была главным образом не продукция сельскохозяйственного производства, а шкуры, кожи, кость и прочие «экзотические» товары ;f649, с. 239, 243].
Именно в эти годы фермы превратились в роскошные виллы, а поселенческие городки на Нагорье стали островками уюта и комфорта. Клубы, гольф, поло, скачки теперь действительно были к услугам «обитателей счастливой долины» — так называли поселенцев if506, с. 134—135]. Найроби, население которого достигло 100 тыс. человек, превратился в деловой и торговый центр всей Восточной Африки. Момбаса с населением около 50 тыс. человек стояла на втором месте. Промышленность развивалась медленно, но шахты по добыче золота и небольшие предприятия первичной обработки сельскохозяйственного сырья и леса все же выводили страну на первое в Восточной Африке место и по этому показателю {649, с. 260—261].
Полоса благополучия кончилась в 1928 г., когда урожай уничтожила саранча. В 1931 —1934 гг. на страну обрушилась засуха. Эти бедствия совпали с мировым кризисом, ударившим по экономике Кении больнее, чем прежние. Особенно сильно упали цены на кофе, сизаль, кукурузу. Фермеры забрасывали хозяйство, площадь обрабатываемых земель уменьшалась.
Остроту кризиса несколько смягчила только «золотая лихорадка». Как и многое другое в истории Кении, она была миниатюрной копией того, что происходило когда-то в Южной Африке. Месторождение золота, открытое неподалеку от Какамеги и Западной Кении, было таким маленьким, что в другое вре¬
153
мя это событие вряд ли привлекло бы к себе внимание. Но кризис сделал свое дело: толпы полных надежд золотоискателей бросились пытать счастье. Инициативу быстро перехватили крупные горнодобывающие компании. В середине 30-х годов золото давало около 10% дохода колонии. Месторождение истощилось уже через десять лет, но во время кризиса оно дало средства к существованию 600 европейцам и 15 тыс. африканцам.
За годы кризиса некоторые малорентабельные отрасли европейского сектора пришли в упадок. Площадь под кукурузой сократилась на Белом нагорье наполовину. Зато увеличилось поголовье крупного рогатого скота. Были открыты ценные свойства цветов пиретрума (их использовали для изготовления инсектицидов), и эта культура, не требовавшая больших затрат, заняла почетное место среди «европейских» культур. В 1925 г. английские компании создали первые крупные чайные плантации на юго-западе Нагорья, а к 1938 г. чай занял второе место после кофе в экспорте колонии [649, с. 247—250].
К концу 30-х годов, таким образом, завершился процесс формирования европейского сектора сельского хозяйства. Сложилась его отраслевая и районная структура. Он занял в кенийской экономике то место, которое в большой мере определило особенности колониального облика страны.
Успехи европейского сектора колониальная историография приписывала исключительно усердию самих поселенцев. В их среде (а значит, и в колониальной литературе) бытовал рассказ о том, как трудолюбивый бедняк шотландец, приехав в Кению, стал владельцем стада овец в 30 тыс. голов. В документах эта история не нашла отражения. Зато другая, менее сентиментальная, полностью подтверждена документально. В 1918 г. полковник Гроган за военные заслуги (не последней из них, вероятно, считалась его деятельность в военном совете) получил в дар от колониальной администрации участок в 50 акров на побережье гавани Килиндини и арендовал рядом еще один участок в 146 акров. В гавани он построил деревянную пристань и транспортер. В 1925 г. он продал оба участка той же колониальной администрации за 350 тыс. ф. ст. Пристань была оценена в 37 тыс. ф. ст. По завершении сделки она развалилась. Специалисты определили, что пристань была сколочена на живую нитку и не разрушилась раньше по чистой случайности [214, с. 162].
Но возможность разбогатеть была в Кении для европейца вполне реальной даже без чудес и темных махинаций. В начале века земля стоила чрезвычайно дешево, а позже цены на нее быстро росли. Относительно дешевой была и неквалифицированная рабочая сила. Но главное — колониальное правительство защищало европейских фермеров от конкуренции индийцев и африканцев всеми доступными ему средствами, как экономическими, так и административными.
154
В 1920 г. Кения стала колонией (официальное название в колониальные годы — «Колония и протекторат Кения»; протекторатом осталась десятимильная прибрежная полоса). К этому событию метрополия приурочила предоставление ей займа в 5 млн. ф. ст. Эти средства пошли на помощь фермерским хозяйствам fill, с. 112]. Уже в 1925 г. размер субсидий достиг около 8 млн. ф. ст. ([214, с. 152]. Тогда же страна вошла в стерлинговую зону. Стоимость рупии была при этом искусственно снижена, и во время обмена валюты разницу компенсировали только европейцам. В 20-е годы колония получила около
13,5 млн. ф. ст. на развитие инфраструктуры (углубление момбасского порта, модернизация и продление железнодорожной линии). Теперь лишь немногие районы Нагорья были удалены от дороги больше чем на 45 км [649, с. 234, 239—240, 247—248]. Во время кризиса начала 30-х годов поселенцы получили еще около 474 тыс. ф. ст. (подсчитано по |Т11, с. И 2]). В 1939 г. администрация объявила, что задолженность с поселенцев снимается [203', с. 34—35]. Сами поселенцы к середине 30-х годов вложили в свои хозяйства в общей сложности только около 2,8 млн. ф. ст. if265, 1937, с. 276, 284].
Кроме английского налогоплательщика за развитие европейского сектора экономики Кении платили и африканцы. В 1920— 1921 гг. казна получила от таможенных сборов со всех статей импорта 362 250 ф. ст. Таможенную пошлину платили все, но африканцы покупали меньше иностранных товаров. Африканский единый налог (на хижины и подушный) в те годы дал казне 656 тыс. ф. ст., неафриканский подушный налог — 21 тыс.
Закон о подоходном налоге на неафриканское население был впервые принят администрацией в ноябре 1920 г. Поселенцы во главе с Дэламером устроили в Найроби бурную кампанию протеста. Губернатор отсрочил проведение решения в жизнь на год. Лига защиты европейских налогоплательщиков призвала европейцев бороться «плечом к плечу» и даже идти в тюрьмы, но налога не платить. Но им не пришлось прибегнуть к этой крайней мере. Видные английские юристы доказали, что облагать прямым налогом британских подданных, не имеющих законодательной власти в стране, противозаконно. В 1922 г. закон о налоге был отменен([214, с. 145, 149—158].
В 1932 г. связи поселенческих лидеров в Лондоне снова помогли европейцам избежать введения ненавистного налога. Только в 1936 г. лидеры поселенцев решили пойти на «компромисс». Они согласились на небольшой подоходный налог в обмен на расширение своих полномочий в исполнительном совете (389, с. 321—322, 325—326]. В общей сложности в 30-е годы налоги с африканского населения давали казне около 790 тыс. ф. ст. в год, а с европейского — около 670 тыс. Расходы администрации на 3 млн. африканцев составляли примерно 34 тыс. ф. ст., а на 17 тыс. европейцев—171 тыс. ф. ст. [515, с. 394].
155
На что же тратились эти средства? Только с 1930 г. колониальная администрация начала предоставлять доход от прямого налогообложения африканцев в распоряжение департамента туземных дел. В 1921 г. 24% средств, полученных этим департаментом, было истрачено на регистрацию африканского населения [417, с. 243], т. е. на повышение эффективности его эксплуатации. Нет оснований полагать, что характер деятельности департамента изменился с 1930 г., когда увеличились средства, которыми он располагал.
Что касается средств на образование, социальное и медицинское обслуживание, строительство, то европейцы получали их из «общей» казны (где оставались и доходы от косвенного налогообложения африканцев). Африканцы же обеспечивали себя сами: в 1924—1925 гг. в Кении были созданы местные туземные советы, собиравшие свои собственные дополнительные налоги на социальные нужды. В 1926 г. доход местных туземных советов составил 37 тыс. ф. ст., к 1938 г. он поднялся до 103 тыс. ф. ст. tf533, с. 351].
Кроме финансовой поддержки колониальное правительство оказывало поселенцам помощь различными оградительно-дискриминационными мерами. Так, поселенцы смогли наладить производство кукурузы только после того, как для них снизили стоимость ее перевозок по железной дороге. Введение протекционистских тарифов на муку, молоко и мясо способствовало быстрому развитию скотоводства и росту производства пшеницы if649, с. 235—236]. Но главным, жизненно важным условием существования европейской общины оставалась дискриминация в землепользовании и трудовом законодательстве.
Основные принципы землепользования в колониальной Кении были установлены законом 1915 г. Но проведение их в жизнь потребовало еще четверти столетия. В законе говорилось о резерватах, как о чем-то реально существующем, но их границы не были определены. Это означало, что любой участок мог быть вырезан из резервата и передан для поселения европейцам. Так и произошло с резерватом нанди в 1919 г., когда из него выделили землю для поселения ветеранов войны. Границы резерватов были впервые определены законом в 1928 г. Но и после этого губернатор, считавшийся «опекуном резерватов», мог санкционировать отчуждение от них земли «в интересах африканцев», а европейцы получили право арендовать участки на территории резерватов, хотя и с разрешения министерства колоний и сроком «всего» на 33 года /[417, с. 253, 258—260; 617, с. 285—286].
В указе 1930 г. «об опеке над туземными землями» говорилось, что резерваты созданы «для использования и выгоды туземных племен... навсегда» и что земля может отчуждаться от них только с согласия министра колоний и при предоставлении равного количества земли в других районах. Уже через два года указу пришлось пройти проверку практикой. Когда в Кака-
156
меге было обнаружено золото, весь золотоносный участок был вырезан из густонаселенного резервата кавирондо. Африканцам заплатили денежную компенсацию «за беспокойство», но никакой другой земли не дали. Земельное законодательство пересмотрели с учетом возможности других ценных для английского правительства находок [617, с. 686—867].
В 1932—1934 гг. в Кении работала комиссия по землепользованию, по имени председателя прозванная комиссией М. Картера — одна из самых ответственных в истории колониальной Кении. Комиссия признала, что у африканцев было экспроприировано более 800 тыс. акров (1474 кв. мили) земли, и рекомендовала добавить более 500 тыс. акров (896 кв. миль) к резерватам, около 145 тыс. акров (259 кв. миль) отвести под «временные резерваты», а более 520 тыс. акров (939 кв. миль) — под «районы туземного землепользования», в которых могли бы арендовать участки «детрибализованные» африканцы [617, с. 688].
Комиссия советовала «окончательно» определить границы резерватов и «передать» (!) их в собственность «туземных племен». Европейские фермы, находившиеся на территории резерватов, решено было оставить владельцам до... 2014 г., когда истекал срок аренды, определенный указом 1915 г. Комиссия рекомендовала законодательно определить границу Белого нагорья, площадь которого должна была составить более 9,3 млн. акров (16 700 кв. миль), включая 2,2 млн. акров (3950 кв. миль) «лесных резерватов».
Эти рекомендации были приняты английским правительством и оформлены юридически несколькими законами и указами 1938 и 1939 гг. |444, с. 92; 617, с. 688—689]. Британские подданные — индийцы и африканцы — были лишены права пользоваться землями на Нагорье. Германские подданные (даже те, кто воевал против англичан) по праву расовой принадлежности могли покупать и покупали там землю.
С середины 30-х годов земельных экспроприаций в Кении не было. Площадь земли, отнятой у африканцев, составила 7% территории страны '[451, с. 687]. Но если учесть, что к обработке пригодна лишь пятая часть территории Кении, то эти 7% обернутся 35%. Из 5,2 млн. акров земли, зарезервированной за европейцами на Нагорье, в 1932 г. обрабатывалось только 613,6 тыс. .[75, 1932, с. 17].
После войны резко возросли потребности европейского сектора в рабочей силе. В 1919 г. первый военный губернатор Кении одобрил циркуляр о рабочей силе, в котором говорилось, что чиновники должны использовать «все законное влияние», чтобы «поощрять» мужчин, а там, где деревня находится неподалеку от фермы, то и женщин и детей идти на работу. Вождям вменялось в обязанность оказывать «всевозможную законную помощь» в рекрутации молодежи на плантации. Они должны были составлять списки «сотрудничающих с готов¬
ит
Нагорье и резерваты в колониальные годы
ностью» и тех, кто «не сотрудничает»; работодателям разрешалось самим набирать рабочих на территории резерватов. «Если этого окажется недостаточно,— говорилось в заключение в циркуляре,— правительство использует и другие специальные меры» ([214, с. 103, 104; 533, с. 355].
Циркуляр вызвал протесты миссионеров и некоторых колониальных чиновников. Чиновники полагали, что им не следует употреблять свое «законное влияние» на вербовку рабочей силы для поселенцев. Миссионеры считали, что узаконенная и
158
контролируемая система принудительного труда лучше неограниченного «поощрения». Сколь ни странной может казаться подобная позиция для сторонников «политики зоопарка», как пренебрежительно называли миссионеров и чиновников-либе- ралов поселенцы, им удалось привлечь к документу внимание английской общественности. Запросы оппозиции в парламенте заставили министра колоний — а им стал в это время У. Черчилль — применить свою власть, чтобы смягчить некоторые формулировки циркуляра. В частности, колониальным чиновникам было запрещено принимать участие в вербовке рабочей силы, от принудительного труда освобождались некоторые группы африканцев (служители миссий, вожди, служащие колониального аппарата) и т. д. [407, с. 114—115; 417, с. 232]. В таком виде, несмотря на яростные протесты поселенцев, циркуляр стал законом.
Миссионеры были в чем-то правы: отсутствие принудительного труда на бумаге не означало его отсутствия в жизни. Скорее наоборот, практиковать его было проще именно потому, что официально о нем не было и речи. Только однажды за межвоенный период администрация испросила у министерства колоний официальное разрешение использовать принудительный труд. Разрешение было дано, но выполнение условий так тщательно проконтролировали, что местные власти не повторяли больше этого опыта [407, с. 117].
Самой распространенной и широко практиковавшейся формой принудительного труда были так называемые общественные работы. По закону 1920 г. каждый африканец, не работающий по найму, был обязан 60 дней в год отработать за плату и еще 24 дня — бесплатно на «общественных работах» — строительстве дорог и других общественных сооружений ([407, с. 135, 138]. Это прямое принуждение не вызывало никаких протестов у общественности.
Некоторым «сторонникам зоопарка» (Дж. Эйнсворту, X. Р. Тейту, Н. Лейсу, У. Макгрегор Россу и др.) пришлось из- за несогласия с принципами «трудовой» политики колониальной администрации уйти в отставку. Их не продвигали по службе, подвергали обструкции, обвиняли даже в «большевистских тенденциях» {407, с. 122]. Современная кенийская историография отдает им дань уважения. Б. Огот писал, например, что эти чиновники «главным долгом администрации считали защиту африканских интересов» [572, с. 264].
Можно сочувствовать их благим порывам, но служебные неприятности этих администраторов не меняют существа их деятельности. Они были дальновидными колонизаторами, заботившимися о рациональной эксплуатации людских ресурсов страны. Их методы были бы хороши в Уганде или Нигерии (не случайно в числе их лондонских сторонников оказался Лугард), но не годились для поселенческой колонии 20-х годов.
С середины 20-х годов колониальная администрация начала
159
сокращать принудительную вербовку рабочей силы. Это не значит, конечно, что от нее отказались в принципе: только в 1925 г., например, на «общественные работы» было привлечено больше 15 тыс. человек if407, с. 139]. Снижению роли принудительного труда способствовал протест английских демократических и рабочих организаций и самих африканцев против его применения. Потребность в прямом принуждении уменьшилась и с перестройкой деревни, анклавным развитием товарно-денежных отношений. Но меры косвенного, административного принуждения и «поощрения» усовершенствовались и становились разнообразнее.
После первой мировой войны в Кении была в широких масштабах проведена регистрация рабочей силы. В законе 1920 г. говорилось, что вне резервата каждый африканец должен иметь при себе удостоверение с отпечатками пальцев, сведениями об уплате налога, данными о месте работы и подписями работодателей. Удостоверение (кипанде) вкладывалось в металлическую коробочку, которую африканец был обязан носить на шее. Нарушение этого предписания каралось штрафом в 15 рупий или трехмесячным тюремным заключением (f389, с. 286; 407, с. 13].
Закон вызвал бурный протест. Африканцы называли кипанде собачьим ошейником. И все же к концу 1920 г. через унизительную процедуру надевания этого ошейника пришлось пройти почти 200 тыс. африканцев, к концу 1924 г.— 500 тыс. В округе Накуру регистрировали даже детей с 12 лет. От регистрации освобождались только учителя, священнослужители, вожди и некоторые другие столь же малочисленные категории африканского населения {f407, с. 137; 533, с. 356].
По-прежнему эффективным средством «поощрения» африканцев идти на заработки оставались налоги. Размер налога в сумме составлял минимум 24 шилл. Кормилец даже небольшой семьи должен был платить не меньше 60 шилл. в год. Средняя заработная плата отходника составляла 10—12 шилл. в месяц; значит, для уплаты даже минимального налога африканец без каких-то других источников денежных доходов должен был работать два месяца в году. Если налог снижался, поселенцы тут же сокращали заработную плату своим рабочим {214, с. 145—146; 533, с. 356; 652, с. 212].
С ростом численности скваттеров все более суровыми становились законы, регулировавшие их жизнь на фермах. По указу 1925 г. «туземный работник, проживающий на ферме» — так названы были скваттеры — лишался права на свой участок, если не работал на хозяина, а работать он был обязан 180 дней в году. Участок скваттера не должен был превышать двух акров. Только фермер мог продать урожай скваттера. Рабочий не имел права держать на ферме крупный рогатый скот.
В 1937 г. появился новый указ, который урезал размер пастбищ скваттеров и разрешил увеличивать количество дней, ко-
J60
горые они отрабатывали на ферме, до 270 в год £349, с. 171; 407, с. 176; 533, с. 346—347; 649, с. 257]. Фермер имел право согнать скваттера с земли и выселить его в резерват, если тот терял трудоспособность или чем-то не импонировал хозяину [407, с. 129].
Одним из главных способов увеличения численности рабочей силы в межвоенные годы стала расовая дискриминация в производстве сельскохозяйственной, прежде всего экспортной, продукции. Еще в 1911 г., когда Эйнсворт попытался развивать производство хлопка в Ньянзе, Дэламер обвинил его в том, что он отвлекает потенциальных рабочих (407, с. 42]. В 20-е годы африканцам Кении было запрещено выращивать наиболее доходные экспортные культуры, в то время как в Уганде и Танганьике именно в этот период они становились основными производителями кофе-робуста и хлопка. Даже в 30-е годы, когда проблема рабочей силы утратила свою остроту, поселенцы мобилизовали все свое влияние в Лондоне, чтобы предотвратить снятие запрета на выращивание кофе в резерватах. Первые пробные шаги к внедрению культуры кофе в некоторых отдаленных от Нагорья резерватах администрация предприняла только в 1934 г. if649, с. 251, 245—246; 652, с. 216].
«Страна белого человека», «белая» колония — такой стала Кения в межвоенные годы. Это выражение вовсе не означает, что европейцев здесь было больше, чем местных жителей. В Кении белое население никогда не превышало 1 % численности африканцев и составляло примерно треть выходцев из Азии (индийцев и арабов). «Белая» колония — это страна с определенным типом политической и социально-экономической структуры. Ббльшая часть экспортной и значительная часть товарной продукции производилась в ней европейским сектором, который использовал местное население в основном в качестве неквалифицированной рабочей силы. Неотъемлемой чертой такой колонии была расовая дискриминация, пронизывавшая все сферы жизни, быта, производства. Кения начала превращаться в «страну белого человека» еще в период, предшествовавший первой мировой войне. В межвоенный период ее экономическая структура обрела все черты, характерные для «белой» колонии.
Как и в других поселенческих колониях, в Кении была в широких масштабах проведена экспроприация земли у африканцев. В Танганьике для неафриканского населения было отчуждено 0,9% территории, в Уганде — менее 0,5%, в Ньясаленде— 5%, в Северной Родезии — 3% (451, с. 687]. В Кении у африканцев было отнято 35% пригодной к обработке земли. По масштабам земельных экспроприаций она приближалась, таким образом, к Южной Африке, где было отчуждено 89% земли, и Южной Родезии (49%).
С расистскими колониями Юга Африки Кению сближало дискриминационное земельное законодательство и широкое использование принудительного труда. Меры «поощрения» вклю¬
11 Зак. 654
161
чали высокий денежный налог — самый высокий в Восточной Африке (см. [515, с. 394]), ограничение количества земли, кото- рой могли пользоваться африканские народы, запрет на выращивание экспортных культур. Другими словами, экономическая система колониальной Кении базировалась на эксплуатации ее людских ресурсов в основном в качестве рабочей силы — отходников, скваттеров, прислуги и т. д.; естественные ресурсы были предоставлены для эксплуатации белым жителям колонии.
Английские историки из числа противников европейского поселения в Кении часто подсчитывали, во что обходилась поселенческая община английской казне, т. е. английскому налогоплательщику. Но основное бремя развития европейского сектора вынесли на себе африканцы. Землю, рабочие руки, денежные средства — все это белые поселенцы получали главным образом от африканцев или за их счет. В этом и заключался главный смысл и результат проводившейся здесь «особой» экономической политики.
Экономическая система поселенческой колонии формировалась в полном согласии и при поддержке колониальной администрации. В политическом отношении поселенцы встретились в межвоенный период с большими трудностями. Их влияние в политической жизни постоянно росло, но надежда превратить Кению в самостоятельный «белый» доминион по типу Южной Африки или хотя бы в самоуправляющуюся колонию по типу Южной Родезии рухнула.
Сразу же после окончания первой мировой войны поселенцы возобновили требования выборного представительства в законодательный совет. Министр колоний дал согласие при условии, что в совет войдут и индийцы. По колониальной конституции 1919 г. представители европейской общины получили в законодательном совете И мест, индийцы — 2. Кения оказалась первой в Британской империи страной, где избирательное право получили и женщины, разумеется белые. Так случилось не в силу особого уважения кенийских европейцев к равенству, а лишь потому, что им необходимо было любой ценой увеличить число европейских избирателей в стране [389, с. 290].
Время правления губернатора Норти (1919—1922) стало для поселенцев золотым веком. Он провозгласил своей официальной политикой «управление по согласию», пообещав консультироваться с неофициальными членами законодательного совета (европейцами, конечно) по поводу всех законопроектов. Двоих из них губернатор ввел в исполнительный совет. Колониальным чиновникам он разрешил голосовать в законодательном совете по их усмотрению, т. е. зачастую против законопроектов администрации, которые они сами вырабатывали и должны были проводить в жизнь [389, с. 296].
Предоставление европейцам избирательного права вызвало первые серьезные столкновения на политической арене. Индийское население, до первой мировой войны не проявлявшее боль¬
162
шой политической активности, резко протестовало против конституции 1919 г. Индийская община Кении была самой влиятельной, многочисленной и богатой в Восточной Африке, и именно ей больше других приходилось сталкиваться с расовой дискриминацией во всех сферах жизни. Не случайно в Кении политические организации индийцев возникли раньше, чем в Уганде и Танганьике.
Первая организация, представлявшая интересы индийских торгово-промышленных кругов,— Индийская ассоциация Момбасы возникла в 1906 г. (по другим данным — в 1900 г. [533, с. 388]). Президентом ассоциации стал «великий старик», как его называли индийцы, крупный бизнесмен А. М. Дживанджи. Ассоциация провозгласила своей целью защиту индийской общины от дискриминации в землепользовании. В 1907 г. была создана Индийская ассоциация Британской Восточной Африки, объединившая индуистов, а зятем — Мусульманская лига Кении. Раскол на религиозной почве, конечно, не усилил организации, тем более что Мусульманская лига всегда выступала в дальнейшем сепаратно /[343, с. 61—62; 389, с. 267].
Сопротивление индийцев узаконению расовой сегрегации на Белом нагорье было не особенно серьезным, поскольку их деловые интересы лежали в основном вне сферы сельского хозяйства. Другое дело — борьба против расовой дискриминации в политике. Индийцы добились назначения Дживанджи в законодательный совет, но в 1911 г ^пок его полномочий истек, а другого представителя индийской общины администрация не назначила [389, с. 288].
В 1914 г. был создан Индийский национальный конгресс Восточной Африки, провозгласивший своей целью борьбу за «достижение индийцами полного равенства перед законом» [518, с. 108]. Сначала его деятельность сводилась к борьбе индийской буржуазии за свою долю в эксплуатации африканского населения. Но в 20-е годы наплыв индийских иммигрантов способствовал демократизации организации. Руководство в ней перешло к молодым лидерам, среди которых сильны были антиколониальные настроения. Наиболее видным из них стал новый глава Конгресса М. А. Десаи [343, с. 63—64].
Первым поводом взрыва политических страстей в послевоенные годы стала дискуссия о дальнейших судьбах Танганьики. Кто-то в английских колониальных кругах предложил отдать ее Индии в награду за участие индийцев в войне. Это предложение, конечно, никто не воспринял всерьез. Оно даже не обсуждалось официально. Но поселенцы всполошились не на шутку/[389, с. 291].
Антииндийскую кампанию открыла речь Грогана на обеде, устроенном Конвентом ассоциаций в честь прибытия губернатора Норти. Недопустимо, говорил Гроган, подчинять англичан управлению людей «низшей расы». Позже выяснилось, что речь Грогана была образцом сдержанности. Весной 1919 г. европей¬
11*
163
ская пресса вылила на индийцев потоки грязи. Да что пресса! В официальном документе — отчете поселенческой Экономической комиссии — говорилось: «У индийцев неизлечимое отвращение к санитарии и гигиене. В этом отношении африканцы более цивилизованны, чем индийцы, так как они естественно чисты в своих манерах. ...Моральная развращенность индийца... вредна африканцу, который в своем естественном состоянии по крайней мере лишен худших пороков Востока». Одним из самых тяжких обвинений была «пропаганда коммунизма», которую вели якобы азиаты-работодатели среди африканцев (”407, с. 118; 604, с. 39]. Губернатор Норти, отнюдь не смущенный подобными крайностями, полностью поддержал поселенцев. «Интересы европейцев должны быть определяющими во всем протекторате»,— писал он [389, с. 291, 292].
Почти четыре года шли политические баталии между европейцами и индийцами колонии. Борьба велась вокруг принципов избирательного права, представительства в законодательном совете, иммиграционных квот. Резолюции, петиции, обращения сыпались в министерство колоний и министерство Индии. В борьбу были втянуты колониальная администрация Индии и правительство Южной Африки. Индийцы требовали равенства, европейцы — превосходства.
Сначала все, казалось, складывалось так, как хотели поселенцы. В 1922 г., например, в Экономико-финансовую комиссию было назначено шесть неофициальных и всего два официальных члена законодательного совета. Комиссия добилась проведения важных мер, благоприятствовавших развитию поселенческого хозяйства. Дэламер не поленился съездить в Лондон, чтобы выслушать речь нового министра колоний Черчилля о восточноафриканских делах. Тот говорил о необходимости придерживаться в Восточной Африке так называемого принципа Родса — предоставлять равные права всем «цивилизованным людям». Но тут же заявил, что европейская демократия «ни в коем случае не годится для развития азиатских и африканских народов» и что Кения должна прийти к «полному ответственному самоуправлению». Дэламер уехал вполне успокоенным [389, с. 294—297].
Но вскоре ветер подул в другую сторону. Черчилль запретил колониальным чиновникам голосовать в законодательном совете против мероприятий английского правительства. Потом был отозван со своего поста Норти, которого поселенцы любовно называли «наш посланник», а вскоре появились рекомендации двух министерств — колоний и Индии — по «индийской проблеме». Принцип сегрегации в землепользовании на Нагорье в этом документе подтверждался, но были сняты ограничения на иммиграцию индийцев и предлагался общий для индийцев и европейцев список голосования с высоким имущественным и образовательным цензами [389, с. 297—298].
Реакцию поселенцев вряд ли можно назвать бурной. На этот
164
раз они не возмущались, но зато начали готовить ... восстание против колониальной администрации. Разделили страну на военные округа, разработали планы мобилизации, составили опись оружия, машин, горючего, лошадей, выбрали девиз «За короля и Кению!» (подразумевалось — против плохих министров), назначили даже главнокомандующего. Губернатора решили похитить и поселить на уединенной ферме с хорошей рыбалкой [470, т. 2, с. 135—136]. Детективный фарс разворачивался наяву. Вряд ли они собирались воевать всерьез. Но английское правительство, прекрасно осведомленное о планах поселенцев: (на что они, видимо, и рассчитывали), направило все-таки три крейсера к восточноафриканскому побережью [604, с. 67—68].
В июне 1923 г. «белая» книга, названная по имени министра колоний Девонширской, закрыла дискуссию. Индийской общине было предоставлено избирательное право (с голосованием по общинам) и пять мест в законодательном совете [389, с. 298]. На первый взгляд несколько неожиданно в этой декларации принципов колониальной политики утверждалось: «В первую очередь Кения — африканская страна... и там, где интересы африканских туземцев столкнутся с интересами других рас, они должны иметь первостепенное значение» [451, с. 190]. «Ответственное самоуправление» под руководством европейцев было снято с повестки дня, «опека» над африканцами провозглашалась делом исключительно английского правительства. Более того, из текста «белой» книги следовало, что по крайней мере на ближайшее время поселенцы должны похоронить надежду на неофициальное большинство в законодательном совете.
Причины, побудившие английское правительство подчеркнуть «первостепенное значение интересов африканцев», не имели, конечно, ничего общего с заботой об их нуждах, как пыталась представить дело колониальная историография. Это положение было направлено против индийцев, и именно так его восприняли участники дискуссии. Индийцы в знак протеста против «белой» книги начали кампанию гражданского неповиновения [389, с. 298], европейцы же настолько не всерьез восприняли намерение колониальных властей поставить интересы африканцев выше их собственных, что приняли «белую» книгу с восторгом.
Вскоре новый губернатор Кении разъяснил, что «интересы европейцев и туземцев параллельны, а не антагонистичны». Политика колониальной администрации, считал он, должна соответственно носить «двойной» характер. Уже с 1925 г. колониальная администрация Кении начала добиваться для поселенцев неофициального большинства в законодательном совете. «Двойную политику» Лондон официально санкционировал «белой» книгой 1927 г. В ней вновь утверждалось, что с ростом численности поселенческой общины Кения получит самоуправление и что правительство считает необходимым разделить с поселенцами «бремя опеки» над африканцами ([388, с. 54; 389, с. 302—303; 417, с. 187].
165
И все же в 1923 г. по поселенческим амбициям был нане* сен первый серьезный удар. Ведь именно в этом году другая «белая» колония — Южная Родезия стала самоуправляющейся. Почему же для Кении Англия закрыла этот путь?
Прежде всего, численность европейского населения Кения была смехотворно мала, и об этом недвусмысленно напоминала Девонширская «белая» книга. Она составляла меньше трети от численности европейской общины Родезии и индийской общины самой Кении. Индийская оппозиция превратила соотношение численности общин из демографического в политический вопрос.
Большое воздействие на политическую линию министерства колоний оказывал и экономический фактор. Зависимость колебаний этой линии от экономической ситуации прослеживается очень четко. За мировым экономическим кризисом начала 20-х годов (и соответственно ухудшением экономической конъюнктуры европейского сектора) последовала Девонширская «белая» книга. Стабилизация мировой экономики и быстрое раз- витие европейского сектора в 20-е годы вызвали к жизни «двойную политику». Кризис начала 30-х годов, как мы увидим, окончательно похоронил надежды поселенцев на самоуправление — такое, каким они его понимали.
Известную роль в решении не предоставлять Кении самоуправление сыграла индийская оппозиция. Причин для такого решения у английского правительства было, таким образом, много. Так много, что напрашивается вопрос: а собиралось ли оно вообще предоставлять самоуправление кенийским белым? Английское правительство неоднократно заявляло о своем намерении предоставить самоуправление своим зависимым территориям, в том числе и тем, в которых не было значительного белого населения [451, с. 146—147]. Но известен лишь один случай, когда оно действительно пошло на это добровольно — случай с Южной Родезией.
Самоуправление означало предоставление поселенцам права почти бесконтрольной эксплуатации местных ресурсов, а это вряд ли было в интересах английских правящих классов. Положение Родезии отличалось от положения Кении прежде всего близостью Южно-Африканского Союза. Реальная опасность присоединения к ЮАС и почти полного выхода из-под контроля метрополии заставили английское правительство предложить родезийским белым не менее заманчивую перспективу. Родезия была, таким образом, не правилом, как воспринималось в те годы, а единственным исключением.
После Девонширской «белой» книги индийцы еще несколько лет пытались отстоять свои права. Индийский национальный конгресс провел несколько кампаний гражданского неповиновения (закрытие лавок, неуплата налогов и т. д.). Смерть Десаи в 1926 г. ослабила левое крыло руководства организации, но кампания несотрудничества продолжалась: новый политический
166
лидер И. Дасс призвал индийцев бойкотировать выборы в законодательный совет [343, с. 64—66; 389, с. 306].
И все же к концу 20-х годов и особенно в 30-е годы в индийском движении наметился перелом. Политика несотрудни- чества с колониальной администрацией во многом утратила свою привлекательность для общины. Индийцы прочно заняли промежуточное место в социальной пирамиде и поняли, что в условиях расистской колонии рассчитывать на политическое равенство не приходится. И в политическом и в социально-экономическом отношении они пытались теперь отстаивать лишь уже завоеванные позиции от конкуренции как европейцев, так и африканцев. Но значение деятельности первых индийских организаций очень велико. Советская исследовательница Л. А. Дем- кина справедливо отмечает, что «впервые именно они (индийцы.— И. Ф.) облекли сопротивление всевластию европейских колонизаторов в Восточной Африке в современные организационные формы» [343, с. 63]. Индийцы не только преподали африканцам наглядный урок методики современной политической борьбы, но и способствовали втягиванию их в эту борьбу, когда в попытках заручиться их поддержкой против европейцев устанавливали первые непосредственные контакты с африканскими лидерами.
На рубеже 20—30-х годов самой острой политической проблемой в Кении стал вопрос о федерации Восточной Африки. Поселенцы решили использовать идею объединения восточноафриканских территорий для расширения своего влияния в законодательном совете. Федерация поможет «цивилизующему влиянию» Кении распространиться на юг, считал Дэламер, навстречу такому же влиянию, идущему из Родезии. Но дверь к федерации, говорил он, закрыта, и открыть ее может только выборное большинство (теперь уже выборное, а не неофициальное) в законодательном совете Кении [389, с. 304—305].
В январе 1929 г. был опубликован отчет комиссии английского парламента, рассматривавший вопрос о федерации (так называемая комиссия Хилтона Янга). В отчете подтверждался принцип «первостепенной важности» африканских интересов. «Единственное, на что могут претендовать иммигрантские общины,— говорилось в нем,— это партнерство, но не контроль». Неофициальное большинство в законодательном совете признавалось возможным, если «туземные расы» будут должным образом там представлены и если контроль Лондона сохранится до тех пор, пока «туземцы» не смогут сами принять участие в управлении. Вопрос об ответственном самоуправлении не поднимался [389, с. 309; 417, с. 89—90, 194—195].
Отчет комиссии Янга вызвал в поселенческих кругах ту реакцию, которую можно было ожидать от них после публикации Девонширской «белой» книги. Предложения комиссии были за- клеймлены как «оскорбительные для народа Кении и несправедливые по отношению к туземцам» [388, с. 66]. Телеграммы,
167
петиции, делегации в Лондон, обструкция администрации в законодательном совете — все это вызвано было не отступлением Лондона от прежде провозглашенной политики, а как раз тем, что отступлений в отчете не оказалось.
Индийцы тоже отвергли рекомендации комиссии, потребовав немедленного введения общего списка голосования, но колониальной администрации вскоре удалось убедить часть из них прекратить политику иесотрудничества. Места в законодательном совете были все-таки заняты, хотя руководство Конгресса во главе с И. Дассом бойкотировало совет |Г388, с. 62—63; 389, с. 310, 319].
Кенийская администрация и даже министерство колоний склонны были затягивать проведение рекомендаций комиссии в жизнь, но как раз в это время было сформировано лейбористское правительство, и отчет был опубликован вместе с меморандумом о «туземной политике» двумя «белыми» книгами. Поселенцы назвали их «черными» и подняли такой шум, что вопрос был передан на рассмотрение объединенной комиссии обеих палат английского парламента.
В 1931 г. в Лондоне перед членами комиссии прошли делегации от всех расовых групп населения трех стран Восточной Африки. Всего год миновал с появления «черных книг», но он стал рубежом в политической борьбе. Мировой экономический кризис, тяжело ударивший по поселенческому хозяйству, отразился и на политике. Выступления представителей поселенцев перед комиссией отличались удивительной скромностью. Комиссия определенно положила конец их надеждам превратить Кению в самоуправляющуюся колонию под своим главенством. И хотя «первостепеиность интересов» африканцев трактовалась в ее отчете довольно своеобразно («интересы подавляющего большинства туземного населения не будут подчинены интересам меньшинства, принадлежащего к другой расе, как бы ни были важны сами по себе эти последние»), никаких изменений в составе и численности законодательного совета предложено не было. Вопросы о налогообложении и землепользовании были отложены до рассмотрения специальными комиссиями, федерация временно снята с повестки дня '[388, с. 76; 389, с. 316, 318; 417, с. 206].
Индийская община, несмотря на разногласия в Индийском национальном конгрессе, продолжала политику несотрудниче- ства. Европейцы, поняв бесперспективность оппозиции, перешли к энергичной поддержке колониальной администрации. Их лидер, ставший символом «пионерской» эпохи, Дэламер, умер, а те, кто пришел ему на смену, вспоминали о самоуправлении лишь изредка, когда пытались выторговать в обмен на отказ от него что-то конкретное.
Главной целью поселенцев в начале 30-х годов стал контроль в области финансов. В 1934 г. министерство колоний решило создать в Кении постоянную финансовую комиссию, полу¬
168
чившую право распоряжаться всеми финансовыми делами коло-- нии. Формально в ее составе не было неофициального большинства, но, голосуя вместе с «представителем африканских интересов» (а это был, конечно, европеец), поселенцы могли добиться нужного им решения [389, с. 322—323].
По решению комиссии обеих палат парламента состав законодательного совета Кении не мог меняться в течение длительного времени. Но оказалось, что это только на руку поселенцам: постоянно подчеркивая «беспомощность» неофициальных членов в законодательном совете, они пытались усилить свой контроль над исполнительной властью.
Таким образом, колониальная политика Англии в «белой» колонии отличалась некоторыми особенностями не только в экономической, но и в политической сфере. Законодательный и исполнительный советы — колониальная пародия на буржуазнодемократические институты самой метрополии — были созданы здесь раньше, чем в соседних восточноафриканских странах. Значительно раньше были проведены здесь выборы, причем не только среди европейского, но и среди индийского населения.
Африканцы были отстранены от участия в центральной администрации всех трех колоний, но только в Кении поселенцы — их непосредственные эксплуататоры — осуществляли и официально признанное и негласное влияние на колониальную администрацию. Отчет комиссии Хилтона Янга констатировал: «В законодательном совете развита практика назначать для рассмотрения всех важнейших вопросов специальные комиссии. В них редко сохраняется официальное большинство... Эта практика распространилась на всю работу законодательного совета и привела к большому влиянию его на деятельность правительства (колониальной администрации.—Я. Ф.)» [111, с. 15]. Даже сами поселенцы были довольны. Один из их лидеров признавал в конце 30-х годов, что, по сути дела, они уже принимают участие в управлении страной [389, с. 327].
Существо постоянных в межвоенные годы политических столкновений между поселенцами, индийцами и колониальной администрацией составляла борьба за приоритет в эксплуатации людских и естественных ресурсов страны. Колониальная администрация выступала при этом, конечно, не самостоятельно, а как представитель определенных кругов правящего класса метрополии. Именно эти круги и оставили за собой право контроля и управления, объявив, что колониальная администрация берет «опеку туземцев» на себя. Поселенцам, принадлежавшим к другим кругам того же правящего класса, но имевшим и свои особые интересы, предоставили возможность непосредственной эксплуатации и соуправления без права окончательного решения. Индийцам была отведена роль соэксплуататоров без какого бы то ни было участия в управлении.
Борьбой между этими группами были заняты в межвоенные годы политические умы Лондона, Найроби и других восточно¬
африканских столиц. Оттенки взглядов европейских и индийских политических деятелей заполняли страницы газет, а за ни ми и колониальной исторической литературы. В пылу полемики часто апеллировали к «интересам туземцев». Это было удобно: все стороны были непоколебимо убеждены в том, что африканцы не могут и еще долгое время не смогут ни поддержать, ни опровергнуть своих «защитников». В отчете комиссии Хилтона Янга говорилось, что африканцы отстали в развитии от европейцев не меньше чем на 20 веков [388, с. 67]. Ни пресса, ни политики иммигрантских группировок нимало не интересовались тем, каковы «интересы» африканцев в действительности.
Заседая в комиссиях, комитетах и советах, европейцы были уверены, что они определяют будущее Кении на столетия вперед. Но на самом деле судьбы страны решались не здесь, а в резерватах, скваттерских деревушках, африканских бидонви- лях европейских городов. Жизнь миллионов африканцев, социальные и политические изменения в их среде — то, что составляло основу, существо исторического процесса тех лет, оставалось за пределами внимания европейских политиков. Между тем 20—30-е годы были временем, когда не замечать эти изменения можно было только в силу особой предубежденности. Именно в межвоенный период африканские общества, утрачивая свой «традиционный», т. е. доклассовый и раннеклассовый, характер, превращались в общество колониальное, обладавшее определенными характерными чертами и особенностями.
Трансформация африканских обществ
Одной из наиболее заметных отличительных черт формирующегося колониального общества Кении была развитая система отходничества. По официальным данным, в 1926 г. по найму работало более 152 тыс. кенийцев, в 1938 г.— 183 тыс. Большая часть из них была занята в сельском хозяйстве — 106 тыс. (скваттеры в это число не входят); различные колониальные службы нанимали около 28 тыс. рабочих; домашней прислугой работали 17 тыс. человек.
Средняя заработная плата отходника составляла 10— 12 шилл. в месяц, в годы кризисов в начале 20-х и 30-х годов падала до 6—8 шилл. В конце 20-х годов она была максимальной для межвоенного периода и составляла 14—16 шилл. © месяц. Рабочие жили впроголодь. Поселенцы кормили их только кукурузной кашей, несмотря на призывы медицинского департамента добавлять в рацион хоть немного мяса {407, с. 151; 653, с. 208, 212].
Отходники работали за такую нищенскую плату только потому, что налоги, «поощрение» и тяжелое положение в резерватах гнали их в города и на фермы. «Я пришел в Момбасу, потому что дома ничего нет. Мы обрабатываем там землю и ни¬
170
чего не получаем за это»,— рассказывал отходник в 1939 г. Когда его спросили, не мало ли ему платят, он ответил: «Вполне достаточно для голодных. Там, дома, люди мрут с голоду» [478, с. 166].
В 20—40-е годы жестокая эксплуатация африканцев на фермах сопровождалась порой патернализмом. Патерналистское высокомерно-снисходительное отношение распространялось больше всего на скваттеров и прислугу. Оно подразумевало признание за африканцами некоторых привлекательных черт, что было почти невозможно прежде. В Кении, писал один и» поселенческих авторов, «приятные народы, обладающие многими лучшими инстинктами человечества. Они жизнерадостны, у них сильно развито чувство естественного стыда, им чужда мстительность, им нравится, когда ими хорошо управляют» [208, с. 20, 43]. Это обычный набор достоинств, которыми наделяют представители господствующей группы группу угнетаемую.
Патерналистски настроенный фермер мог организовать для детей скваттеров школу, в которой обучали ремеслам, чтению, письму и иногда счету. Жена фермера лечила больных работ' ников, знакомила их жен с правилами гигиены. «Добрый» фер'- мер позволял устраивать на ферме «нгомы» — праздники с танцами и пивом и сам наслаждался красочной картиной плясок. Иногда на ферме создавалось что-то вроде совета старейшин — «киама», разрешавшая споры и мелкие ссоры между работниками [407, с. 128—129].
Но «добрые» фермеры были редки, и к тому же патернализм отнюдь не исключал грубости и жестокости по отношению к африканцам. Плеть была постоянно в ходу. «Я всегда отношусь к своим туземцам, как к детям,— говорил поселенец из высших военных чинов.— Стараюсь быть с ними добрым, давать им советы, наставлять их. Но когда доброта бессильна, приходится делать то же, что делают в публичных школах в Англии и во всей империи — прибегать к розгам» [407, с. 172].
Поселенцы избивали не только мужчин, но и женщин и детей. Известно много случаев, когда истязаемые умирали. Колониальный суд всегда оправдывал убийцу. Шурин Дэламера Г. Коул застрелил своего работника. Судья буквально уговаривал его сказать, что он сделал это, чтобы пресечь воровство. Однако Коул упорно повторял: «Стрелял, чтобы убить!» Его оштрафовали и ненадолго выслали из страны. Это был вполне обычный приговор |f228, с. 37; 407, с. 91, 99]. Однажды поселенец был-таки осужден на три года тюрьмы за убийство африканца. Верховный суд колонии уменьшил срок заключения до шести месяцев, но защита утверждала, что и это наказание было слишком суровым. Поселенческая пресса объясняла «жестокость» приговора предубежденностью суда: подсудимый был немец [26, № 43526]. Поистине удивительные превращения претерпевала английская законность в условиях колониального беззакония.
171
Как бы ни тяжела была жизнь отходников на фермах, в городах она все-таки была еще хуже. Население городов, вернее, африканских локаций в межвоенные годы разбухало катастрофически быстро. В 1921 г. в Найроби проживало около 12 тыс. африканцев, в 1938 г.— около 40 тыс., еще через десять лет — 70 тыс. Африканское население Момбасы в начале 20-х годов составляло 18 тыс. человек, в 1946 г.— 57 тыс. [478, с. 160; 533, с. 345—346].
В Найроби в локации Пумвани было около 250, в Пангани— около 300 домишек из веток и глины, крытых прутьями или ржавым железом. Люди спали в них на полу, устроив постели из мешков или одеял. Иногда их набивалось по семь-восемь человек в комнату без окон. В бараке, рассчитанном на 170 человек, в 1938 г. жило более 500. Общественные туалеты были настоящими рассадниками заразы. Положение в Момбасе было еще хуже. Те, кому предоставляли кров работодатели, спали обычно вместе со скотом. Амебная дизентерия, малярия, легочные заболевания, венерические болезни были обычным явлением и разносились из городов в резерваты [407, с. 148—149, 210, 215, 217—218].
Мужчин в африканских кварталах было значительно больше, чем женщин,— ведь в основном африканское население состояло из отходников. В Найроби, например, даже в 1948 г. насчитывалось свыше 70 тыс. мужчин и только 16 тыс. женщин. Неудивительно, что в городах процветала проституция, росло число внебрачных связей [407, с. 148—149; 533, с. 347—348].
В межвоенные годы из отходников начинала формироваться немногочисленная прослойка рабочих. Несмотря на тяжелые условия жизни, раньше всего отходники стали превращаться в неквалифицированных рабочих в Момбасе. Объяснялось это удаленностью города от резерватов (отходник не мог позволить себе каждые три месяца кататься отсюда в резерват и обратно) и несколько более высокой, чем на Нагорье и в Ньянзе, заработной платой |[478, с. 158, 168—169].
Квалифицированных рабочих (вернее, ремесленников) готовили в межвоенные годы миссионеры и администрация. В большинстве миссионерских школ ученика связывали контрактом на три года. С семи утра до четырех вечера он работал по избранной специальности (плотника, столяра, слесаря и т. д.) и только после этого еще два часа мог постигать основы наук. В 1925 г. администрация открыла в Кабете школу технического обучения африканцев. Школа выпускала плотников, столяров, каменщиков, портных и т. д. К середине 30-х годов пятилетний курс обучения в ней прошли около 1 тыс. человек. Многие ушли до окончания курса искать работу, чтобы помочь семьям [489, с. 148—152].
Колониальная администрация стремилась заменить квалифицированными африканцами индийцев — отчасти из политических соображений, чтобы уменьшить численность индийцев в
172
колонии, отчасти из-за того, что африканскому ремесленнику или квалифицированному рабочему можно было платить втрое меньше, чем за ту же работу индийцу. Эта цель была в какой- то мере достигнута: уже к концу 30-х годов профессии жестянщиков, авторемонтников и т. д. в сельских местностях были полностью монополизированы африканцами.
В то время возможности найма для квалифицированных рабочих в «белой» колонии были крайне ограниченны. В 1930 г. глава департамента образования писал, что рабочий ищет постоянное место, а поселенцу нужен работник для конкретного дела, на месяц-два. Многие индийские фирмы и предприятия принимали на работу только своих соотечественников. Поэтому со второй половины 30-х годов подготовка ремесленников и квалифицированных рабочих в миссиях прекратилась, ею занимались только немногочисленные специальные центры типа школы технического обучения [489, с. 153—155].
Многие департаменты колониальной администрации готовили для себя кадры сами. Именно так возникла элитарная з среде ремесленников прослойка санитаров, лаборантов, моряков, машинистов паровозов, телеграфистов, телефонистов, машинисток (в колониальной Кении это была мужская профессия), сантехников, слесарей [407, с. 146].
Положение и роль прослойки ремесленников и квалифицированных рабочих в Кении в межвоенный период можно оценить по достоинству только с учетом того факта, что никакой другой образованной африканской элиты в те годы там практически не существовало. В 1926 г. для африканцев была открыта Высшая школа Элайнс («Элайнс хай скул»), позже ставшая кузницей образованной элиты страны, в 1927 г.— школа для учителей сельских школ («Джинс скул»). Они давали среднее образование, но в межвоенные годы их выпускников можно было буквально пересчитать по пальцам. Миссионерское же образование до середины 30-х годов было прочно связано с ремеслом.
Не случайно многие первые видные националисты Кении были выходцами из высших кругов рабочей прослойки. Г. Туку, глава первой политической организации африканцев Кении, был телефонистом, активист этой организации Дж. Бьюта — телеграфистом, Кениата по миссионерской специальности — плотником. Кенийский исследователь пишет о будущем президенте: «Через пять лет он принес из Тогото (миссионерской школы в Тогото.— И. Ф.) умение читать и писать, хорошее знание плотницкого дела и поверхностное — английского языка. Кениата поразил город своей образованностью» [363]. Квалифицированные рабочие, ремесленники, выпускники миссионерских школ, даже просто начинающие оседать в городах отходники выполняли в Кении функции, сходные с функциями образованной элиты в Западной Африке. Они занимали примерно то же место в политической жизни, и европейцы относились к ним с тем же раздражением, какое в других странах вызывала у них афри¬
173
канская интеллигенция. Комиссар Момбасы докладывал своему начальству, что его округ дает пример «худших образцов детрибализованных и полудетрибализованных туземцев». Другой кенийский европеец с издевкой писал, что «детрибализован- ные» африканцы Момбасы, «воображая себя современными, разгуливают в костюмах якобы английского покроя, которые привели бы портного с Бонд-стрит в состояние меланхолии до конца его дней» {478, с. 169].
«Детрибализованные» и тем более образованные африканцы совершенно исключались из сферы патернализма. Дэламер не разрешал своим рабочим носить брюки и учиться. Он говорил, что это превратило бы «его» гикуйю и масаев в проституток [249, с. 198]. «Женщина (африканка.—Я. Ф.), поддерживающая чистоту у себя в доме, более цивилизованна, чем ее муж, который может предъявить диплом об окончании школы»,— утверждали европейцы [208, с. 44].
Одной из отличительных черт формирующегося колониального общества Кении был многочисленный и своеобразный слой скваттеров. В 20-е годы число скваттеров росло поразительно быстро. В начале 20-х годов на Нагорье, по оценочным данным, насчитывалось от 60 тыс. до 80 тыс. скваттеров [652, с. 208]. В середине 30-х годов комиссия Картера определила численность «резидентов» и скваттеров с семьями примерно в 150 тыс. человек. Большинство из них были гикуйю, около 13 тыс.— нанди, около 4 тыс.— кипсигис и т. д. «Резидентами» считались и доробо, поскольку они жили в «лесных резерватах», а законом это в принципе запрещалось [533, с. 346—347].
Число скваттеров увеличивалось прежде всего за счет мигрантов из резерватов. Среди причин миграций исследователи называли попытки африканцев избежать отправки в корпус носильщиков (в годы войны), ссоры с «туземной» администрацией, стремление старших уберечь детей от влияния миссионерских школ (в таких поместьях, как у Дэламера, это было сделать значительно проще, чем в резерватах), попытки уменьшить налоговое бремя (скваттеры платили меньше налогов, чем жители резерватов), но главной была, конечно, нехватка земли в резерватах {249, с. 196, 198; 436, с. 178—179].
Неверно было бы считать, что все скваттеры были одинаково обездолены. Даже в 20-е годы среди них встречались люди, имевшие много скота. Чаще всего это были ахои, по собственному почину или просьбе хозяев земли освобождавшие участки, которые они арендовали в резерватах. В знак того, что участок возвращается к мбари навсегда, она скотом выплачивала часть выкупа, внесенного когда-то арендатором за пользование землей [491, с. 294—295]. На ферме в Найваше жил, например, некто Камау Кигера, владелец стада коз в 6 тыс. голов. У него было 28 жен и больше 70 детей [436, с. 191]. Таких скваттеров было, конечно, мало. Поселенцы любили их и старались приблизить к себе, удержать на ферме..
174
До середины 20-х годов скваттерам жилось легче, чем их родственникам в резерватах. Но с этого времени картина стала меняться. 1925—1929 годы скваттеры называют временем, «когда поселенцы начали стрелять наш скот». Произошло это не от беспричинной переменчивости настроений европейцев, как думали скваттеры («Не понимаю я, что это находит на европейцев. Утром они могут быть очень любезны, а к вечеру готовы застрелить тебя»,— говорил один из них). Причиной была, конечно, растущая численность скваттеров. В Накуру в 1919 г. было около 8 тыс. скваттеров и членов их семей, столько же — в Найваше. Европейцев — администрации и поселенцев — в обоих округах насчитывалось всего 215 человек. К 1923 г. скваттерское население Найваши выросло вдвое. В 1921 г. в Лайкипии (которую только что начали заселять ветераны войны) жили 58 поселенческих и 18 скваттерских (гикуйю) семей. К 1923 г. там было 497 скваттеров с семьями — больше 1400 человек (европейцев — 166) [249, с. 199; 436, с. 180, 186].
Земли для скваттеров стало не хватать. Новые правила и ограничения, наложенные на них в 1925—1929 гг., по сути дела, означали попытку превратить их в рабочих с наделом. Многих это, естественно, не устраивало. В 1928—1929 гг. приток скваттеров на фермы прекратился, а многие бросились назад, в резерваты. Земли для них там, конечно, не оказалось. Даже для тех, у кого было много скота. С 30-х годов, когда впервые начали остро сказываться последствия земельных экспроприаций, скот падал в цене, а стоимость земли росла. Никто уже не соглашался менять землю на скот i[491, с. 294—295]. Скваттеры считали, что администрация и поселенцы специально заманили их на Нагорье, заранее зная, что резерваты за время их отсутствия будут перенаселены |[249, с. 204; 436, с. 188—189].
Уже в 1930 г. большинству скваттеров пришлось возвращаться на фермы и жить по новым правилам. Именно с этого времени они стали самостоятельной, отличной от населения резерватов в социальном и психологическом отношении общностью. Одной из ее отличительных черт стало настойчивое стремление к образованию. До начала 30-х годов скваттеры не слишком охотно посылали своих детей в школы. В резерватах зажиточная прослойка уже в середине 20-х годов вкладывала средства не только в землю, но и в образование. Земля и образование были как бы двумя сторонами медали: и купить и удержать землю можно было только при наличии в семье дополнительного относительно высокого несельскохозяйственного дохода (например, оклада чиновника), а его давало только образование [491, с. 291, 296—297].
В 30-е годы получить хорошее образование стало труднее; его экономическая значимость стала очевидна всем. На Нагорье школ было мало, и скваттеры чаще всего посылали детей в самостоятельные, «независимые» (от правительства) школы без специальных зданий, учебников, порой даже письмен¬
175
ных принадлежностей. Едва грамотный «учитель» обучал г них учеников всему, что знал и умел сам. Но зато грамотность на Нагорье, в отличие от резерватов, стала широко распространенным явлением. Выпускники школ превращались в активный элемент социальной и политической жизни. Выучившись, они становились мелкими клерками или занимались торговлей. Уже во второй половине 30-х годов они вытеснили индийцев из посреднической торговли между Нагорьем и резерватами. Предпринимательская деятельность скваттерских семей гикуйю распространилась даже на некоторые другие резерваты (например, гусии), где они покупали землю, открывали лавки и мастерские [249, с. 202, 204—205; 436, с. 191—192].
Появление и существование скваттерской и отходнической прослоек африканского общества было связано с положением в резерватах. В результате происходивших там перемен временно или навсегда в города и на европейские фермы вытеснялись оттуда сотни тысяч людей. Эти вытесненные прослойки сейчас уже довольно хорошо изучены. Но процессы, шедшие в самих резерватах, до сих пор во многом остаются закрытой книгой.
Важнейшей проблемой резерватов была нехватка земли. Превратившись в политический вопрос, земельная проблема обросла столькими различными толкованиями, что разобраться в ней стало не просто. Колониальная администрация видела в ней проблему эрозии почвы. Колониальная историография объясняла ее ростом африканского населения в результате внедрения «европейской цивилизации» (медицинского обслуживания, прекращения междоусобных войн и т. д.). В поселенческих кругах, а иногда и в исторической литературе существование этой проблемы зачастую просто отрицали, считая ее «удобным политическим лозунгом», «мифом», выдумкой африканских «агитаторов» [533, с. 340]. Африканские лидеры, английское демократическое движение, а порой и марксистская литература относили ее появление исключительно за счет земельных экспроприаций.
Что же представляла собой земельная проблема в действительности? Прежде всего, относительно самого факта ее существования. В 30—40-е годы плотность населения в некоторых резерватах превышала все допустимые для сельских районов нормы. В 1933 г. площадь резервата гикуйю составляла 843 тыс. акров. На этой территории жило около 400 тыс. человек. В среднем на семью из пяти-шести человек приходилось по 9,25 акра — минимум для поддержания хозяйства. К 1948 г. население выросло почти вдвое. Плотность населения сильно различалась по округам. По данным комиссии Картера, в некоторых округах резервата тейта она составляла 476 человек на примерно 560 акров (1 кв. милю) обрабатываемой земли, в округе Киамбу — 420 человек, в округе Форт Холл — 411, в округе Ньери — 272 [533, с. 340—341; 604, с. 174—175].
В Ньянзе с ее более бедными почвами и значительно мень¬
176
шим размахом земельных экспроприаций плотность населения была меньше. В округе Северная Ньянза, где жили в основном луйя, в 1948 г. плотность населения составляла 236 человек на 1 кв. милю, в округе Центральная Ньянза (луо) — 185 человек, Южная Ньянза (гусии, а также луо, куриа и др.) — 145 человек |f533, с. 341].
У скотоводческих народов перенаселенность резерватов проявлялась в нехватке пастбищ. В результате нанди и кипсигис начали уделять больше внимания земледелию; у масаев преобладал прежний тип хозяйства, и их пастбища уже в 30-е годы были перегружены. Эрозия почвы, быстро развивавшаяся в земледельческих районах, в скотоводческих уже в межвоенный период приобрела угрожающие масштабы. В наихудшем положении оказались скотоводческие районы Укамбани.
В 1912 г. численность африканского населения составляла около 2,5—3 млн. человек, в 1948 г.— 5,25 млн. По оценочным данным, в 30-е годы прирост населения в стране гикуйю и части Ньянзы составлял около 1,5% в год. Этот демографический взрыв лишь в какой-то мере можно отнести за счет погрешностей оценочных данных. О том, что он действительна произошел в межвоенный период, свидетельствует высокий процент детей среди сельских жителей в более поздние годы, когда начали проводиться переписи африканского населения: в 1948 г. их было около 40% [533, с. 337—333; 649, с. 253—255].
Причин увеличения численности африканского населения было несколько. После голода, эпидемий и «умиротворения» 90-х годов прошлого и первого десятилетия нашего века, после бедствий первой мировой войны прирост населения был совершенно естественным явлением. Какую-то роль сыграла, конечно, и медицина — ее роль сказалась в первую очередь в уменьшении детской смертности. Особенно заметно выросло население в плодородных районах — по-видимому, за счет не только естественного прироста, но и миграций из других районов.
Население росло, в результате прививок росло и поголовье скота, а земля, кормившая и людей и животных, не увеличивалась: площадь ее была теперь ограничена территорией резерватов, их границы зафиксированы в законе. Расширение территории за счет более слабых соседей было для новых поколений уже невозможно. Земельные экспроприации усугубили положение. Земельная комиссия Картера определила потери гикуйю к 1931 г. в 7040 акров [533, с. 340]. Уже в 1945 г. было официально признано, что они потеряли в общей сложности не менее 2625 тыс. акров. Сами гикуйю считали, что у них экспроприировали около 5 млн. акров [452, с. 117, 198].
У тейта было экспроприировано около 1300 акров земли. Гириама были согнаны с территории приблизительно в 100 тыс. акров, хотя часть ее африканцы продолжали обрабатывать [533, с. 342]. У нанди было отнято в общей сложности около 39 040 акров земли j[214, с. 81; 533, с. 344]; у кипсигис —
12 Зак. 664
177
Плотность населения
12®
130 тыс. |[533, с. 344]. Земельный голод был наибольшим именно в резерватах (гикуйю, камба, масаи, нанди, кипсигис), из которых отчуждали землю для поселенцев. Это свидетельствует в пользу прямой зависимости перенаселения от земельных экспроприаций и подтверждает справедливость позиций африканских политиков. Но были аргументы и против их мнения.
В трех округах провинции Ньянза, где было экспроприировано очень незначительное количество земли, перенаселение было не меньшим, а кое-где и большим, чем в некоторых районах страны гикуйю. Более того, перенаселение было и в Танганьике и даже в Уганде, да и во многих других странах Африки, где земельные экспроприации были незначительными или их не было вовсе и где не существовало резерватов. И еще одно обстоятельство: несмотря на то что плотность населения в резерватах была довольно велика, далеко не вся земля в них обрабатывалась. В 1933 г., например, под сельскохозяйственными культурами в резервате гикуйю было занято 274,25 тыс. акров, под залежью и паром — 45,5 тыс. акров, а пригодные для обработки, но необрабатывавшиеся районы занимали 309,25 тыс. акров. В Киамбу обрабатывалось 60% пригодной к обработке земли, в округе Ньери — 53, в Северном Кавирондо — 37%. В других районах этот процент был значительно ниже [70, т. 1, с. 984; 491, с. 36, 42].
Странное на первый взгляд сочетание перенаселения с большими необрабатывавшимися площадями ставило многих в тупик, и о нем зачастую умалчивали. Между тем явление это было совершенно естественным, вытекавшим из условий существования африканского общества при колониализме. Экономисты называют его «относительным аграрным перенаселением». Связано оно было не только с соотношением количества земли и численности населения, но и с характером производства.
Английский экономист писал: то количество земли, которое оставалось у африканцев, «вполне могло бы поддерживать и большую численность населения на более высоком уровне жизни, но только каждая семья не могла бы иметь свой собственный участок», потому что для «новой системы» требовались участки не меньшего, а большего размера [649, с. 256—257]. «Новая система» — эвфемизм бесконечно болезненных процессов социального расслоения — действительно могла бы решить проблему перенаселения, если под решением понимать создание горстки зажиточных фермеров и массы безземельных. Ученый и сам признает, что переход к «новой системе» не мог бы осуществиться без глубоких социальных потрясений. Но главное (с потрясениями или без них), в конкретной обстановке Кении межвоенного периода этот переход не мог осуществиться вообще.
При существовавшем уровне социального развития африканских обществ метрополия могла эксплуатировать их только колониально-капиталистическими методами. Естественным про-
180
дуктом такой эксплуатации были не сельскохозяйственный пролетариат и фермеры, а отходники и колониальное крестьянство. Сохранение натурального производства и прежних методов ведения хозяйства было главным условием функционирования системы.
Семья отходника обрабатывала один и тот же участок, поскольку расчищать новые у женщин не хватало ни сил, ни времени. Другой важной причиной сохранения необрабатываемой земли в резерватах был процесс накопления земельных угодий зажиточными семьями, шедший в 20—30-е годы — прежде всего за счет бывших арендаторов — ахои, а потом и отходников и беднеющих семей [491, с. 294]. Немногочисленная зажиточная прослойка в Кении была особенно заинтересована в земле, так как других возможностей для накопления у нее было в те годы немного. Если для доколониальных времен утверждение Кениаты о том, что «каждый клочок земли в стране гикуйю имел хозяина» if 194, с. 22], и было преувеличением, то в 30-е годы оно уже полностью отражало действительность.
В поселенческой колонии с ее повышенными потребностями в рабочей силе существовало, как пишет советский экономист Ю. М. Иванов, «непримиримое противоречие между капиталистическим производством европейских предпринимателей и африканским торговым земледелием. Условием и предпосылкой первого являлось полное отсутствие или стагнация второго» [346, с. 40]. Поселенцы и сами понимали это. Один из них писал: «Чем более зажиточно и удовлетворено население резервата, тем меньше необходимости и желания у молодежи идти работать» (152, с. 10].
«Поощрением» отходничества, прямыми запретами и ограничениями африканское товарное (тем более экспортное, о котором речь уже шла) производство к началу 20-х годов было преднамеренно задушено в интересах европейских фермеров. Факт этот настолько очевиден, что остается лишь поражаться наивности, с которой некоторые буржуазные, а иногда и кенийские исследователи гадают: отчего же это в Кении африканцы «предпочитали» зарабатывать свой доход трудом по найму, а не обработкой собственных полей (см., например, [649, с. 244— 245]). Стоимость товарной продукции, произведенной африканцами Кении в 20-е годы, составляла 516 тыс. ф. ст., Уганды — около 5 млн. ф. ст. [400, т. 1, с. 394].
Но в 30-е годы положение стало меняться. Мировой экономический кризис начала 30-х годов показал колониальной администрации Лондона и Найроби, что, несмотря на всю помощь и поддержку, поселенческий сектор может не оправдать их надежд. Необходимость развития африканского производства стала очевидной даже для поселенцев, тем более что о нехватке рабочих рук больше не было и речи.
Результаты не замедлили сказаться. Производство хлопка в провинции Ньянза подскочило с 1 млн. ф. в 1930—1931 гг.
Ш
почти до 24 млн. ф. в 1937—19Э6 гг. Продажа кукурузы, производившейся в резерватах, постепенно заполнила вакуум, который образовался в результате уменьшения производства кукурузы европейцами. К концу десятилетия было продано более 700 тыс. мешков — значительно больше, чем с европейских ферм '[649, с. 231].
Сочетание европейского крупнокапиталистического производства с ростом африканского товарного в конце 30-х годов стало возможно отчасти благодаря увеличению численности африканского населения, но главным образом потому, что основным каналом эксплуатации африканского населения оставалось отходничество, а не мелкотоварное производство. О том, что это было именно так, свидетельствуют данные середины 50-х годов. Даже в это время доля денежных доходов африканских хозяйств в валовом внутреннем доходе Кении равнялась 4,6%, Уганды — 26,7%, стоимость этих доходов в Кении составляла 4,7 млн. ф. ст., в Уганде — 51 млн. ф. ст. {346, с. 32—33].
И все же во второй половине 30-х годов сочетание отходничества с товарным производством, какую бы подчиненную роль ни играло это последнее, обостряло проблему нехватки земли и поставило почвы в некоторых земледельческих районах под угрозу полного истощения. В скотоводческих резерватах Кении основной причиной эрозии почв было увеличение численности стад из-за прививок (администрация не жалела на них средств,, чтобы защитить от эпизоотий скот поселенцев) при прежних методах ведения хозяйства и ограничении площадей пастбищ. Общеафриканская проблема приобрела, таким образом, в Кении особенно угрожающий характер. Основные причины перенаселения и эрозии почвы заключались здесь в характере колониальной эксплуатации, особенностях процесса социального- расслоения, в сочетании мелкотоварного производства и отходничества.
Формирование колониального общества было болезненным* мучительным для африканцев процессом. Трудно даже представить, как справлялась человеческая психика с такими глубокими социальными сдвигами, происходившими в столь короткий исторический период. Европейцы часто писали о «нечувствительности» и безразличии африканцев. «Им действительно все равно, что вы делаете с ними. Вы можете сделать мало, но что- то все-таки можете. Но что бы вы ни сделали — это исчезнет* и вы никогда об этом не услышите. Они не поблагодарят вас и не рассердятся. С этим ничего нельзя поделать. Это ошеломляющее качество. Оно, похоже, уничтожает ваше существование как живого существа и навязывает вам роль, которую вы не выбирали, как будто вы — явление природы, как будто вы — погода»,— сетовала Карен Бликсен [159, с. 127].
Быть может, восприятие европейцев, как «погоды» (точнее было бы сравнение со стихийным бедствием), и помогло психологической адаптации африканцев к переменам — если бы оно
182
действительно существовало. Но писательница обманулась внешней беспристрастностью крестьянского облика. Африканцам было далеко не «все равно, что вы с ними делаете». И личная и социальная реакция их была в те годы если не бурной, то очень напряженной.
Зарождение организованных форм
антиколониальной борьбы
Острая политическая полемика между иммигрантскими общинами многому научила африканцев. В 1920 г. в Найроби возникла Ассоциация гикуйю, созданная колониальными вождями. В следующем году группа молодых людей, недовольных их бездеятельностью, создала свою ассоциацию — Ассоциацию молодых гикуйю. Ее руководитель Г. Туку, в то время телефонист казначейства, рассказал, как это было. В июне 1921 г. состоялся большой митинг Ассоциации гикуйю. Разговоров там было много. Говорили и об условиях труда, и о принудительном труде, особенно женском, протестовали против предполагавшегося уменьшения заработной платы. Но результатом была всего лишь резолюция, которую предполагалось послать местной администрации. Туку понял, что таким путем ничего не добьешься, и вместе со своими друзьями решил организовать новую ассоциацию [245, с. 20—22; 604, с. 37].
Ассоциация молодых гикуйю сразу заняла более радикальную позицию. Она протестовала против тяжелых условий труда, выступила за отмену кипанде, уменьшение подушного налога и за возвращение земель, отнятых у гикуйю {239, с. 126; 245, с. 22; 533, с. 357]. В первые же месяцы организованной политической борьбы молодое африканское движение сразу выступило с идеями национального единства и расового равенства. Уже в июле 1921 г. Ассоциация молодых гикуйю была переименована в Восточноафриканскую ассоциацию, чтобы показать, как объяснял Туку, что она объединяет все народы Восточной Африки.
Индийские лидеры постоянно оказывали поддержку организации. Они советовали, помогали во всем, вплоть до перевода текстов резолюций на английский язык [245, с. 22—23]. 10 июля 1921 г. в один день в Найроби состоялись два массовых митинга — индийский и африканский. Индийский митинг требовал равенства всех расовых групп колонии во всех сферах жизни: экономической, политической, административной |[239, с. 127].
Митинг Восточноафриканской ассоциации, на котором, по утверждению Туку, присутствовало около 2 тыс. человек, принял резолюцию, начинавшуюся утверждением: «Индийцы не мешают развитию туземцев, как часто утверждают Конвент ассоциаций и пресса; вслед за миссионерами индийцы — наши
183
лучшие друзья». Затем следовал перечень основных требований Ассоциации: «Этот митинг выражает протест против закона о регистрации туземцев; против аморальной практики принудительного труда девушек и замужних женщин на плантациях; против увеличения налога на хижины и подушного налога. Митинг с величайшим уважением просит министра колоний отменить их» {245, с. 22, 82].
Эта во многом политически наивная программа стала знаменитой. Не только потому, что была первым кредо африканского движения страны, но и потому, что возвела в ранг друзей ненавистных поселенцам индийцев. Программа получила широкую огласку, так как Туку, проигнорировав всю цепочку местной колониальной администрации, послал резолюцию английскому премьер-министру по телеграфу. Он рассказывал: «Я просто собрал немного денег с комитета, добавил своих, а потом послал ее с почты ... Очень скоро все — правительство, миссионеры и поселенцы — узнали, что мы послали телеграмму премьер-министру Англии. Они очень сердились» [245, с. 23]. Позже делегация индийцев, отправившаяся в Лондон, довела резолюцию до сведения английского правительства и ознакомила с ней участников Второго панафриканского конгресса, проходившего там в это время {239, с. 130].
В Кении движение начало распространяться вширь. Лидеры Восточноафриканской асооциации организовывали митинги в Найроби, Форт Холле, Ньери и Мачакосе, посылали своих представителей даже в Ньянзу [239, с. 131]. В конце декабря 1921 г. на массовом митинге в Геме (Ньянза) была создана Ассоциация молодых кавирондо. Она объединяла представителей луо и луйя. Возглавил ее Дж. Оквирри — один из первых африканских учителей Ньянзы \[239, с. 131, 133]. Между Восточноафриканской ассоциацией и Ассоциацией молодых кавирондо существовали постоянные связи.
Колоритная резолюция первого митинга Ассоциации молодых кавирондо отчасти была навеяна требованиями Ассоциации молодых гикуйю, отчасти явилась продуктом собственного творчества. «Мы хотим, чтобы у нас была организация и президент в нашей стране. Мы хотим уменьшения подушного налога. Когда комиссар округа приезжает собирать подушный налог, пусть он не заставляет нас нести деньги в Кисуму. Пусть это делают его люди. Когда комиссар округа приезжает по своим делам, он не должен просить нас кормить его и его людей мясом и яйцами. Мы не хотим принудительного труда, не хотим работать на строительстве дорог бесплатно. Мы хотим, чтобы у наших вождей была власть. Мы хотим, чтобы были увеличены оклады вождей. Мы хотим лучшего образования. Мы против того, чтобы нашу молодежь посылали работать на фермы. Нам не нравится, что нас наказывают, избивая за малейшую провинность» [229, с. 27].
Восточноафриканская ассоциация продолжала свою актив¬
184
ную деятельность до середины марта 1922 г., вызывая все большее раздражение у колониальных властей и поселенцев. 14 марта Г. Туку был арестован. Почти сразу у полицейского участка, где содержали Туку, собралась огромная толпа. Демонстранты отправили делегацию к администрации. В ее составе был и Дж. Кениата. Туку, конечно, не освободили, но люди не расходились. В руках у них были белые флаги, и они распевали молитву за освобождение Туку. 16 марта администрация вызвала войска. Безоружных людей расстреливали из пулеметов. По официальным (конечно, заниженным) данным, было убито 27 и ранено 24 человека. Туку тайно вывезли из Найроби и отправили в ссылку [239, с. 133—134; 245, с. 35—37].
Зарождение организованного политического движения африканцев в стране чрезвычайно взволновало колониальную администрацию и поселенцев. Особенно беспокоил их радикальный характер требований и тенденция к сближению организаций разных народов. Еженедельник «Лидер» комментировал после ареста Туку: «Да, у них (африканцев.— И. Ф.) есть право создавать организации, но только не такие, как Восточноафриканская ассоциация» [239, с. 135]. Вскоре появился наглядный пример того, какие именно организации администрация считает дозволенными для африканцев.
В 1923 г. Ассоциация молодых кавирондо была реорганизована в Ассоциацию благосостояния налогоплателыциков-кави- рондо. Президентом ее стал архидьякон Оуэн, либеральный миссионер Церковного миссионерского общества {239, с. 138]. Общество пользовалось всевозможной поддержкой администрации. В 1926 г. в отчете департамента по туземным делам говорилось: «Ассоциация благосостояния налогоплателыциков-кави- рондо, основателем и президентом которой является архидьякон Оуэн, это туземное общество, у которого есть весьма похвальный список признанных целей, а именно: лучшая пища, лучшая одежда, лучшее жилище, лучшее образование, лучшая гигиена. Она несомненно может принести много пользы, если ее тщательно направлять по такому пути». Как того и желали колониальные власти, в 1925 г. из-за противоречий между луйя и луо в Ассоциации произошел раскол, и она превратилась в этническую организацию луо [533, с. 378—3'79].
Современный кенийский исследователь оценил деятельность Оуэна в Ассоциации так: «Диверсия архидьякона Оуэна полностью удалась. С радикализмом было покончено, и джолуо (самоназвание луо.— И. Ф.) стали привычными мирными петиционерами...» [381, с. 225]. За соглашательство и петиционную тактику Ассоциацию прозвали джо-меморандум {229, с. 67].
Другой попыткой администрации расколоть и должным образом «направить» политическую активность африканцев стало создание в 20-е годы местных туземных советов. Закон о создании этих совещательных органов местной администрации был
185
принят в 1924 г. В 1925 г. они были созданы практически во всех резерватах. Советы имели право принимать резолюции, в их компетенцию входило обсуждение методов ведения сельского хозяйства, улучшения почвы, образования, средств связи и т. д.
Местные туземные советы не имели никакой реальной власти, но это были выборные органы, обладавшие определенной финансовой автономией. Они взимали налоги на образование и другие коммунальные цели и, следовательно, действительна могли принести людям какую-то пользу. В 1926 г. общий доход всех местных туземных советов составлял около 37 тыс. ф. ст.„ а к 1938 г. достиг 120 тыс. К 1949 г. доход советов одной только Ньянзы составлял больше 460 тыс. ф. ст., а Центральной провинции — 210 тыс. Большая часть этих средств тратилась на образование {533, с. 350—351; 557, с. 5—6, 9].
Создание местных, туземных советов было со стороны английской администрации тактически довольно ловким ходом. Советы способствовали канализированию политической активности африканцев в рамках, во-первых, социальных требований, а во- вторых, этнических границ. Но в их деятельности был еще один важный момент. Колониальные чиновники верно подметили, что создание Ассоциации молодых гикуйю в Ассоциации молодых кавирондо было вызовом колониальным вождям. В отчете департамента по туземным делам говорилось: «Образование Ассоциации гикуйю (подразумевалась Ассоциация молодых гикуйю.— Я. Ф.), которая состоит главным образом из боев офисов и домашней прислуги Найроби — знамение времени. Старый механизм представительства через туземных вождей и советы (старейшин.— Я. Ф.) не подходит для современных прогрессивных условий» [533, с. 357].
Местные туземные советы не только дали новый выход политической активности молодежи, но и поставили назревающий конфликт между колониальными вождями и новой образованной элитой на официальную почву респектабельных и вполне контролируемых дискуссий на заседаниях .
Не нужно думать, что администрация тут же решила отказаться от политики поддержки вождей: это случилось лишь несколько десятилетий спустя. В межвоенный период она только усовершенствовала и диверсифицировала каналы связи с африканскими обществами, пытаясь даже порой приблизить институт вождей к традиционным нормам [511, с. 230—231]. Создание местных туземных советов было одним из направлений поисков.
Местные туземные советы вначале пользовались успехом. Но первые же серьезные конфликты показали, что подменить собой политические организации, на что рассчитывала колониальная администрация, они не могли. Прежде всего это относилось к стране гикуйю.
После ареста Туку руководство Восточноафриканской ассоциацией перешло к более молодым и радикально настроенным
186
деятелям: Джозефу Кангете, Джобу Мучучу, Джессе Кариуки. Дж. Бьюта и Дж. Кениата тоже входили в число «лидеров», но официальных постов не занимали, потому что были служащими колониальной администрации [239, с. 129, 138].
В 1923 г. Восточноафриканская ассоциация протестовала против назначения европейца (миссионера) представителем африканцев в законодательном совете. В меморандуме, посланном министру колоний, содержались требования освобождения Туку, отмены кипанде и принудительного труда, отмены налогообложения женщин, увеличения заработной платы, расширения африканского представительства в законодательном совете и общего списка голосования для всех расовых общин.
Ответа на меморандум не последовало, но гласность, приданная делу Ассоциацией, несомненно сыграла свою роль в том, что налоги были уменьшены, а предполагавшееся снижение заработной платы не состоялось.
В 1924 г., не убоявшись угроз и запугивания, Ассоциация объявила Туку своим президентом. В том же году колониальной администации был брошен новый вызов: через ее голову Ассоциация вручила свой меморандум английской парламентской комиссии. В меморандуме содержались следующие требования: «1) Освобождение Гарри Туку, 2) отказ от создания федерации восточноафриканских территорий, так как это означало бы господство европейских поселенцев, 3) возвращение земли ее законным владельцам — африканцам, 4) назначение африканцев членами законодательного совета, 5) отмена кипанде, 6) отмена налогообложения женщин, 7) увеличение окладов племенной полиции и вождей, 8) отмена принудительного труда, 9) создание независимых школ вместо миссионерских, 10) введение начального и среднего образования для африканцев, 11) обеспечение возможностей для участия африканцев в торговле, 12) разрешение африканцам выезжать за границу, 13) разрешение выращивать кофе и чай, 14) судебное разбирательство судами старейшин, а не вождями» [239, с. 138—139]. Эта программа — самая полная и радикальная из всех, выдвигавшихся в межвоенные годы.
В 1925 г. Кангете был арестован и приговорен к двухгодичному заключению и штрафу в 150 шилл. за организацию «незаконного» митинга. Дело было, конечно, не в том, что организаторы не заручились формальным согласием вождя. Администрации не понравилось присутствие на митинге представителей из других резерватов и Найроби. Департамент по туземным делам добился отмены приговора, и Кангете отпустили за «отсутствием состава преступления». Но благодетели из департамента предупредили, что администрация не допустит больше существования «межплеменной» организации. Через несколько дней Восточноафриканская ассоциация приняла название Центральной ассоциации гикуйю без изменения программы |[239, с. 139—140; 389, с. 313].
187
В отчете департамента по туземным делам за 1925 г. говорилось, что новая Ассоциация представляет собой «неопределенное сборище недовольных без программы, без представительного руководства и конструктивного плана реформ», что она «получила известность и славу, которые не соответствуют ее истинным заслугам и влиянию» [533, с. 358]. В этой характеристике — не одно только озлобление против радикальной организации. Ассоциация действительно была слабо организована (как и ее предшественница), но, несмотря на отсутствие программы и «конструктивного плана реформ», очень популярна. Секрет ее успеха заключался в умении подхватить и выразить настроения масс, найти и использовать традиционные нормы, обряды и символы, больше всего отвечавшие их мировосприятию и уровню социального развития.
В Центральной ассоциации дисциплина поддерживалась клятвой верности. Произнося клятву, член организации держал Библию в левой руке, а правой прижимал к пупку горсть земли [604, с. 97]. Очевидец вспоминал, что в деревнях или на фермах активисты появлялись всегда в белых накидках провидцев. Все они были членами одной возрастной группы — риика, обращались прежде всего к своим сверстникам и всегда находили привет и приют .[249, с. 203].
В 1926 г. Дж. Кениата покинул службу и стал редактором газеты Центральной ассоциации «Муигвитания» (существует два варианта перевода названия: «Работа и молитва» [229, с. 29] и «Примиритель», или «Объединитель» |[604, с. 99—100]). Газета издавалась на гикуйю и публиковала написанные эзоповским языком статьи, поговорки, песни, смысл которых был понятен только гикуйю. В 1928 г. Кениата был избран генеральным секретарем Центральной ассоциации [389, с. 313; 604, с. 99—101].
Первую крупную политическую кампанию организация провела в 1929 г. В это время миссионеры развернули борьбу против одного из важнейших обрядов гикуйю — клитородекто- мии — ключевого момента инициации девочек. Гикуйю восприняли нападки миссионеров на этот обычай как попытку уничтожить святая святых их культуры.
В 1929 г. местные туземные советы почти по всей стране гикуйю под нажимом миссионеров приняли резолюцию об ограничении и упрощении операции. Старейшин и вождей заставляли подписывать документ под угрозой отлучения. Тогда люди стали немедленно покидать церковь. В конце 1929 — начале 1930 г. миссии потеряли до 80% паствы и учащихся. В марте 1930 г. была убита миссионерка, активно выступавшая против обычая. После этого миссионеры отступили, и волнения начали спадать [533, с. 364—365; 639, с. 130—142]. Центральная ассоциация возглавила и выиграла эту битву. Позже она повела борьбу против полезных, но непопулярных мер по консервации почвы в резерватах.
188
Одним из результатов тактической ошибки миссионеров в кампании против клитородектомии стало движение гикуйю за независимые школы. Его возглавили Ассоциация независимых школ гикуйю и Ассоциация образования гикуйю-каринга. Первая стремилась основать школы, независимые от миссионеров, но длительное время пыталась наладить контакты с колониальной администрацией. Вторая больше полагалась на традиционные ценности культуры гикуйю и настаивала на независимости от контроля как миссий, так и администрации. Эта Ассоциация была тесно связана с Центральной ассоциацией гикуйю, и многие ее руководители принадлежали к руководству Центральной ассоциации [533, с. 366].
И Ассоциация независимых школ гикуйю и Ассоциация образования гикуйю-каринга постоянно страдали от недостатка средств. Уровень преподавания был очень низок. Квалифицированных учителей практически не было. Но зато в независимых школах обучали не Библии, а афро-христианским верованиям, которые были ближе и понятнее пастве и не связывались в ее умах с европейцами. Тяга к образованию была огромной. К 1940 г. Ассоциация образования гикуйю-каринга контролировала 23 школы в резерватах и на Нагорье. Ассоциации независимых школ гикуйю к 1952 г. подчинялось более 150 школ [639, с. 150—155].
В 1933 г. независимые школы в Форт Холле попытались договориться с миссионерами, чтобы те крестили их учеников. Миссионеры остались тверды. Тогда независимые школы пригласили в Кению примата Африканской православной церкви Южной Африки Д. У. Аликзандера (Африканская православная церковь выделилась из гарвистского движения; она признается официальной православной церковью).
Архиепископ пробыл в Кении до 1937 г., определил догмы, которые могли использоваться независимыми школами, крестил много народу в Форт Холле, Ньери и Рифт-Вэлли, посвятил в духовный сан четверых гикуйю. Потом произошел раскол, и от Африканской православной церкви, связанной с Центральной ассоциацией, отделилась Африканская независимая церковь пятидесятницы, ставшая религиозной базой Ассоциации независимых школ гикуйю [533, с. 371—372].
В 1938 г. на родину вернулся первый кениец, получивший высшее образование за пределами Восточной Африки. Это был сын верховного вождя Коинанге, Питер Мбийю Коинанге, получивший степень магистра искусств Колумбийского университета. Ему предложили пост в колониальной администрации, но с окладом гораздо ниже того, который получали европейцы его квалификации. Семья Коинанге гордо отвергла предложение и занялась организацией независимого учительского колледжа.
Если бы не влияние отца, сыну вряд ли удалось бы задуманное. Добившись разрешения администрации на создание колледжа, вождь Коинанге обратился к возрастным группам и
189
попросил каждую собрать по 1 тыс. шилл. для его строительства. До окончания строительства решено было открыть колледж в одной из независимых школ в Гитунгури Г604, с. 179— 181].
7 января 1939 г. учительский колледж африканцев Кении был открыт. Оклад его директора Мбийю Коинанге был значительно ниже предложенного ему колониальной администрацией. Учительский колледж поддерживал самые тесные отношения с Центральной ассоциацией и стал кузницей кадров не только учителей независимых школ, но и руководства национально-освободительным движением.
Исследователи справедливо отмечают, что антимиссионер- ская кампания по поводу клитородектомии и борьба за независимые школы были не причиной, а лишь проявлением углубляющегося конфликта [533, с. 365; 639, с. 142], в основе которого лежал вопрос о земле. Уже в 1925 г. в отчете департамента по туземным делам отмечалось, что среди гикуйю очень распространены опасения за свою землю и что эти опасения проявились «во всех их советах, стали предметом многочисленных петиций и меморандумов и затемнили истинные усилия, направленные на политическое развитие и социальный прогресс». В 1928 г. в отчете того же департамента упоминается, что гикуйю все больше обращаются к вопросу о гарантиях сохранности личных участков в резерватах [533, с. 358—359, 361].
С начала 30-х годов требование возвращения экспроприированной земли стало главным в политике не только Центральной ассоциации, но и других организаций гикуйю, а постепенно и других народов Кении. Единодушным было и требование прямого представительства африканцев в законодательном совете и осуждение планов создания восточноафриканской федерации под эгидой поселенцев. Перед комиссией Хилтона Янга выступили в этом духе представители Ассоциации благосостояния налогоплателыциков-кавирондо, Центральной ассоциации гикуйю, Ассоциации гикуйю [389, с. 317; 604, с. 91—96].
Делегатов для выступления перед объединенной комиссией обеих палат парламента отбирала колониальная администрация. Это были представители «туземных» властей: вождь Коинанге от Ассоциации гикуйю, Е. Апинди от Ассоциации благосостояния налогоплателыциков-кавирондо и Дж Мутуа, вождь камба из Мачакоса. Тем не менее они тоже потребовали допуска африканцев в законодательные советы трех стран Восточной Африки, избрания этих представителей самим африканским населением, возвращения африканцам не только отнятых у них ныне пустующих земель, но и некоторых европейских ферм, запрещения поселенцам сгонять с земли ее бывших хозяев — ныне «резидентов», выплаты африканцам компенсации в размере 50 500 рупий или возвращения всей земли, улучшения системы образования, обучения девочек, строительства новых школ и т. д. [69, т. 2, с. 400—402].
190
Центральная ассоциация гикуйю в устных выступлениях перед комиссиями Хилтона Янга и Картера и в меморандуме, представленном объединенной комиссии, требовала, кроме того, отмены земельного закона 1915 г. и предоставления африканцам права частной собственности на землю [604, с. 93—94, 155].
Единственной сколько-либо влиятельной в стране гикуйю силой, выступавшей с проколониальных позиций был... вернувшийся из ссылки Туку. Туку был освобожден в 1930 г. Вовремя ссылки он многому научился под руководством «очень ценного друга» — английского майора-надзирателя. Стремился теперь только к богатству, называя его «экономической независимостью». Постепенно Туку добился своей цели: большой участок стоимостью 2 тыс. шилл., прекрасный каменный дом, разрешение выращивать кофе и, наконец,— торжественная церемония освобождения из-под юрисдикции «туземного» законодательства [245].
В 1932 г. благодаря своей былой славе Туку был избран президентом Центральной ассоциации гикуйю. Кениата в это время был в Лондоне, но Дж. Кариуки и Дж. Кангете повели борьбу за сохранение прежней радикальной линии. В 1935 г. Туку вышел из Центральной ассоциации и основал Провинциальную ассоциацию гикуйю, вставшую на путь сотрудничества с администрацией. Его Ассоциация одобрила решения комиссии Картера и законы, принятые на их основе. Этого было вполне достаточно, чтобы потерять популярность в среде гикуйю ,[533, с. 367; 604, с. 215].
Ассоциация благосостояния налогоплателыциков-кавирондо изменила свои позиции к концу 30-х годов после ухода Оуэна. В последние предвоенные годы она часто выступала совместно с Центральной ассоциацией гикуйю. В 1939 г. она присоединилась, например, к петиции протеста Центральной ассоциации против закона о Нагорье, зачитанной в законодальном совете индийским лидером И. Дассом [389, с. 327—328; 604, с. 160— 161].
Центральная ассоциация северных кавирондо возникла еще в 1925 г. в результате раскола Ассоциации благосостояния налогоплателыциков-кавирондо, но долгие годы была пассивна. «Золотая лихорадка» в Какамеге стала важным стимулом ее деятельности. Основными требованиями Ассоциации были компенсация за экспроприированные земли и гарантия земельных прав африканцев, а также назначение верховного вождя страны луйя — вероятно, для ее объединения и лучшего представительства в колониальной администрации. Ее кандидата на этот пост — Дж. Муламу — одного из родственников Мумиа — администрация долгие годы считала вполне благонадежным и способным чиновником. Но как только Ассоциация оказала ему поддержку, он был немедленно уволен.
Именно Центральная ассоциация северных кавирондо изобрела самоназвание «луйя» («родственники») для безымянных
191
до той поры «банту кавирондо». Вопрос о самоназвании долго обсуждался, пока наконец не было найдено подходящее слово и опубликована брошюра для его популяризации.
Связи с Центральной ассоциацией гикуйю Центральная ассоциация северных кавирондо начала развивать с 1934 г., когда они совместно выступили против решений земельной комиссии Картера. В 1938 г. Дж. Кариуки и И. Дасс встретились с Му- ламой. В том же году обе организации вместе с Ассоциацией благосостояния налогоплателыциков-кавирондо заявили протест министру колоний против принудительных закупок скота у кам- ба. Весной 1940 г. в Найроби состоялся совместный митинг трех ассоциаций. По примеру Центральной ассоциации гикуйю Центральная ассоциация северных кавирондо начала кампанию против консервации почвы (604, с. 161 —164].
Камба до середины 30-х годов считались чуть ли не самым лояльным по отношению к британским властям народом. Именно из их числа набиралось больше всего рекрутов в полицию и подразделения королевских африканских стрелков. Но в середине 30-х годов именно их страна стала центром массового сопротивления политике колониальных властей. Для приостановления эрозии почвы в резервате камба комиссия Картера рекомендовала в принудительном порядке провести закупки скота. В 1938 г. в Ати Ривер на границе резервата была построена консервная фабрика, рассчитанная на переработку 100 тыс. туш ежегодно. В начале 1938 г. местная администрация начала скупать скот по заниженным по сравнению с рыночными ценами. Встретив сопротивление, она прибегла к помощи войск.
Почти сразу лидеры камба (в этой кампании наиболее известным из них стал полицейский С. Муинди) связались с Центральной ассоциацией гикуйю. В марте они послали телеграмму губернатору, в апреле — петицию министру колоний, а копию петиции — Кениате, который был в это время в Лондоне. Тот послал в «Манчестер гардиан» пять писем, которые были опубликованы в следующие четыре месяца. Муинди написал о событиях в Укамбе в «Муигвитанию» и «Ист африкен стэндард». Летом была создана Ассоциация членов Укамбы, поддерживавшая постоянные связи с Центральной ассоциацией. Большую поддержку оказал новой организации и И. Дасс. В Найроби среди камба — солдат и полицейских — был организован сбор средств. В некоторых городах состоялись митинги солидарности.
28 июля около 2 тыс. камба — мужчин, женщин и детей — отправились в Найроби, чтобы поговорить с губернатором. Тот отказался принять их, но они не ушли, а разместились палаточным лагерем неподалеку от его резиденции и жили там три недели, не обращая внимания на угрозы санинспекции и призывы высших чинов администрации. Губернатор проезжал мимо лагеря на бега, и камба стоя приветствовали его машину.
192
Такую прическу сооружали мужчины карамджопг Старик кипсигис Молодые воины сам буру
Кипанде — «удостоверение личности» и одновременно «трудовая книж ка» африканца в колониальные годы. Вкладывалась в металлическую коробочку, которую африканцам полагалось но- :ить на шнурке на шее
Дорожная проверка во время восстания May May
' СОШМ AM sk<m> 5-0к Щ Жй: У
S-к А Q*
«f-il.Q О . СU,. Я#"-' 1
Ай- /^Г, - /-L'wt.-V
, V”-. СИ О Ни N? О |
Î#§A H^iNÛ CO^ltü 7Т/ b .^,-TT Ь*
&1SA Ш№ % 1^, Ч\r&. Lüu. <1 j*U
fJ£L.. fiCSïZliÆ
1 ГТН
pbrzH-:
(сдан Кимати перед казнью
Огинга Одинга, Джомо Кениата, Джеймс Гичуру и Том Мбойя празднике провозглашения независимости (12 декабря 1963 г.)
Обыск во время операции «Энвил» по разгрому повстанцев Найроби (1954 г.)
25Е*Ё1^Ш ®
нвйяия
■MSS*#
Центр Найроби
Арест студентов (1982 г.) Представление театра Камирпту
В лаборатории
Мелкая мастерская по ремонту велосипедов
Крестьяне отправляют овощи на рынок
В конце концов было объявлено, что губернатор встретится с камба на баразе (собрании). Около 10 тыс. человек собрались послушать его. Речь губернатора была выдержана в патерналистских тонах. Камба — дети администрации, говорил он, а их лидеры — нарушители порядка. Но тут же объявил о том, что принудительных закупок скота больше не будет. Камба, таким образом, одержали победу, хотя Муинди был в октябре выслан в Ламу [487, с. 91—92; 604, с. 165, 168—172].
В 1939 г. возникла Ассоциация холмов Тейта, боровшаяся за возвращение экспроприированных земель. Она наладила связи с Центральной ассоциацией гикуйю и, по словам окружного комиссара, «стала совершенно антиправительственной». В мае 1940 г. ее руководители были арестованы вместе с лидерами Центральной ассоциации гикуйю и Ассоциации членов Укамбы. К 1943 г. земельный голод в резервате тейта стал настолько острой проблемой, что администрации пришлось назначить специальную комиссию для ее решения. Она рекомендовала добавить к резервату 10 тыс. акров, причем половина этой территории была той самой землей, за которую боролась Ассоциация холмов тейта [604, с. 174—177].
Во второй половине 30-х годов Центральная ассоциация гикуйю выдвинулась, таким образом, на роль лидера антиколониальной борьбы. Особый вес и большие практические возможности придавало ей то, что у нее был как бы постоянный представитель в Лондоне — Дж. Кениата. Впервые Кениата побывал в Лондоне в 1929—1930 гг. вместе с И. Дассом. С помощью некоторых влиятельных антипоселенчески настроенных миссионеров и деятелей колониальной администрации он добился встречи с заместителем министра колоний и передал ему петиции об освобождении «нашего популярного и уважаемого лидера Гарри Туку» и обо всех остальных требованиях гикуйю.
И. Дасс связал Кениату с Антиимпериалистической лигой, и она предоставила ему возможность выступать на митингах и оказала материальную помощь. В конце лета 1929 г. Кениата участвовал в работе конгресса Антиимпериалистической лиги в Берлине. Есть сведения, что осенью он побывал в Москве. Вскоре после этого Кениата присутствовал на Международной конференции негритянских рабочих, потом встретился в Берлине с некоторыми лидерами коммунистического движения. Вернувшись в Лондон, продолжал изыскивать каналы воздействия на английское общественное мнение и колониальную администрацию. В октябре 1930 г. Кениата вернулся в Кению опытным лидером [129, с. 627; 604, с. 102—104].
В следующем году вместе со студентом Макерере П. Г. Мо- кери он снова отправился в Лондон, чтобы от имени Центральной ассоциации выступить перед объединенной комиссией обеих палат парламента. Эту миссию им выполнить не удалось. Но меморандум Центральной ассоциации комиссия все же от них получила.
13 Зак. 654
193
На этот раз Кениата остался в Европе надолго. Он знакомился с коммунистическим, демократическим и антиколониальным движением, писал статьи о событиях в Кении и Африке в крупнейшие периодические издания (129, с. 615—616; 28'2, 1933, № 11; то же, 1935, № 9; 283, 1933, т. 3, № 1], выступал с лекциями и речами в разных районах Великобритании![129, с. 628], участвовал в деятельности различных общественных организаций, в том числе был секретарем общества Международные друзья Абиссинии [282, 1978, № 10, с. 422], одним из организаторов Пятого панафриканского конгресса и т. д.
В секретном досье кенийской полиции, посланном по запросу министру колоний, говорилось, что в 1933 г. он снова побывал в Москве, изучал марксизм-ленинизм. В Лондоне Кениата наладил связи с несколькими коммунистическими организациями. В 1937 г. в Лондонской школе экономики начал изучать социальную антропологию под руководством Б. Малиновского [129, с. 627—628].
В 1938 г. в Лондоне вышла книга Кениаты, посвященная обычаям и традициям гикуйю [194]. Современный историк легко опровергнет его идеализированную и европеизированную картину доколониального прошлого своего народа, хотя описаниями различных сторон жизни гикуйю, церемоний, обрядов до сих пор пользуются этнографы. Но значение книги выходило далеко за рамки ее научной значимости. Она тоже была средством борьбы. Ее цель — отстоять достоинство своего народа, показать, что африканское общество не ниже, а возможно, и выше европейского, что землю у гикуйю отняли незаконно, причем показать так, чтобы это было понятно европейскому читателю. Отсюда — перенесение понятий истории других континентов («парламент», «демократия», «революция», «частная собственность» и т. д.) на доколониальное общество гикуйю.
В Лондоне Кениата не терял связи со своей страной. Он переписывался с руководством Центральной ассоциации и другими кенийцами, постоянно получал свежие материалы о последних событиях. Центральная ассоциация собирала для него средства, отчеты о его деятельности публиковались на страницах «Муигвитании» [129, с. 628].
«Статьи, написанные им и опубликованные в английской периодической печати, его речи на публичных митингах в Соединенном королевстве отличаются неточностью, преувеличениями, неверным изображением условий в колонии. Он определенно не может претендовать на то, чтобы авторитетно выступать от имени народа Кении, который, по его утверждению, он представляет» if 129, с. 628—629]—так говорилось о деятельности Кениаты в полицейском досье. Колониальные власти были уверены, что влияние той или иной организации в Африке можно измерить ее численностью — как в Англии. Прошло немного времени, и им пришлось убедиться, насколько далеки от истины были их представления.
194
Кроме политических организаций, антиколониальное общественное сознание отливалось и в другие организационные формы. Одной из наиболее распространенных были афро-христиан- ские движения. Самое известное движение гикуйю в те годы — Вату ва мунгу (Люди бога). Его руководители считали себя провидцами и верили, что их действиями руководит святой дух, утверждали, что обладают сверхъестественными силами. Они отказывались от собственности, не носили европейской одежды, всегда имели при себе лук и стрелы — символ борьбы против сил зла. Их преследовали за неуважение к «туземной» администрации и антимиссионерскую деятельность. Секта пользовалась поддержкой Центральной ассоциации (533, с. 372—373]. Колониальная историография подчеркивала — и по ее понятиям это было тяжким обвинением,—что книга Кениаты называется «Лицом к горе Кения» — а именно так молились члены секты; что Кениата сфотографирован в ней в одеянии из шкур — а это одежда провидца секты f235, с. 30—32].
Много независимых церквей и сект было в Ньянзе, но они были менее влиятельны и не так воинственны, как в стране гикуйю. Самая известная из них — Дини я рохо. Адепты не употребляли табак и алкоголь, не носили европейскую одежду. Им разрешалось иметь по две жены (235, с. 27]. В Ньянзе было довольно много последователей Движения возрождения англиканской церкви, которое возникло в 1929 г. в Руанде, а затем перекинулось в Уганду и Кению (533, с. 380].
У народов, не создавших в межвоенные годы новых форм антиколониализма, особенно у скотоводческих, традиционные формы организации наполнялись новым, антиколониальным содержанием. Таковы, например, некоторые тайные общества меру и эмбу, деятельность оркойотов нанди и кипсигис, которых администрация вынуждена была в 30-е годы выселить из их резерватов |(235, с. 30; 533, с. 381—383].
И Центральная ассоциация и другие организации 20-х годов совмещали функции партии и профсоюза, но с ростом численности городского населения и усложнением специфики трудовых отношений возникла необходимость разделения функций.
Первый жизнеспособный профсоюз, просуществовавший более или менее длительное время,— Рабочий профсоюз Кении создал в середине 30-х годов Макхан Сингх. Назывался он сначала Индийским профсоюзом и действительно до 1939 г. оставался в основном индийской организацией. М. Сингх был ее секретарем. Первая крупная забастовка профсоюза состоялась в 1937 г. Забастовщики добились увеличения заработной платы и гарантии безопасности руководителей. В сентябре 1937 г. Рабочий профсоюз был зарегистрирован [407, с. 211 — 212].
Какой политики ждала от него администрация, ясно из оценки его деятельности одним из членов законодательного совета
13*
195
два года спустя: «Под прикрытием профсоюзов в Кении пытались организовать рабочих на классовых началах... Это отвратительно всем верно мыслящим людям, будь то работодатели или рабочие» [407, с. 193—194]. Подразумевалось, видимо, что профсоюзы должны быть организованы не на классовых, а на расовых началах.
Но Сингх не выполнил этого основного условия легальной общественной деятельности в колонии. В 1938 г. Рабочий профсоюз пригласил руководство Центральной ассоциации гикуйю на свою конференцию. Оно не откликнулось, но потом дело, казалось, сдвинулось с места. В 1939 г. первомайский митинг Рабочего профсоюза впервые привлек африканцев. Вскоре Дж. Кариуки и Дж. К. Ндегва присоединились к Исполнительному комитету Союза. На ежегодной конференции 1939 г. листовки были отпечатаны на гуджерати и суахили, пришло много африканцев {407, с. 213]. Но сохранить единство организации там, где не существовало единства интересов, было, конечно, невозможно. Среди индийцев усилия Сингха находили поддержку лишь у немногочисленных последователей. Африканцы тоже держались настороженно. Забастовки их, ставшие привычной чертой повседневной жизни страны, проходили без участия профсоюза.
Особенно усилилось забастовочное движение к концу 30-х годов. В 1938—1939 гг. несколько раз бастовали рабочие-африканцы Найроби. Особой напряженностью отличалась забастовочная борьба африканцев в Момбасе. В 1934 г. в момбасском порту состоялась хорошо организованная забастовка грузчиков, В 1939 г. волнения разгорелись с новой силой. 19 июля заба* стовало большинство рабочих департамента общественных работ Момбасы, 1 августа — сезонные рабочие порта Килиндини, 4 августа началась забастовка в Танге. Там администрация призвала на помощь войска, расстрелявшие толпу рабочих [407, с. 215, 221—223].
Администрация немедленно объявила, что забастовки были результатом «агитации» М. Сингха и Центральной ассоциации гикуйю, но причины ее были настолько очевидны, что меры колониальным властям пришлось принимать сразу же, и не только против «агитаторов». Еще в ходе забастовки рабочим Момбасы была увеличена заработная плата. Был принят план реконструкции африканских жилых кварталов, портовая администрация согласилась на введение восьмичасового рабочего дня. Комиссия расследования рекомендовала новое повышение заработной платы и улучшение жилищных условий. Что же касается профсоюзов, то все европейцы, дававшие показания комиссии, единодушно утверждали, что африканцы не доросли до их создания, поскольку у них отсутствует «дух сотрудничества» с работодателями {407, с. 223—224].
Те немногочисленные завоевания, которых добились рабочие Момбасы, были вскоре сведены на нет военной инфляцией,
196
Но забастовка была для них хорошей школой классовой соли дарности и борьбы.
Кенийцы во второй мировой войне
Вторая мировая война началась для Кении наступлением итальянских войск с территории Эфиопии.
Итальянцы шли по пустынным и полупустынным северным1 районам страны, где у англичан были лишь разрозненные укрепленных пункты. Но вскоре сопротивление этих фортов, враждебность местных кочевых народов и сложные климатические условия заставили итальянцев отказаться от первоначального плана и перейти к наступлению на Британское Сомали.
Получив отсрочку, колониальная администрация приступила к мобилизации. Принуждения не требовалось. Даже во вспомогательных войсках платили по тем временам так много, что люди шли добровольно. Африканцев спешно обучали различным военным специальностям. Из них комплектовались теперь даже артиллерия, войска связи и транспортные части. Техническая школа в Кабете была отдана в распоряжение армии и с 1942 г. каждые три месяца выпускала около 300 слесарей-механиков. Кадровых солдат-африканцев после окончания специальных школ назначали сержантами. Нескольким африканцам Кении за годы войны были присвоены офицерские звания [370, с. 106, 108— ПО; 407, с. 231—232, 234].
Восточноафриканские войска участвовали в освобождении от итальянцев Эфиопии и Сомали. Им пришлось воевать в трудных условиях чужого климата, в болотах, пустынных сухих районах, городах. С тяжелыми боями восточноафриканцы прошли сотни километров и вместе с другими английскими колониальными войсками вступили в Аддис-Абебу. Восточноафриканские войска участвовали в военных действиях против ви- шистских войск на Мадагаскаре, а затем против японцев в Бирме.
Перед отправкой в Бирму африканцы прошли специальную подготовку на Цейлоне. Ими были укомплектованы не только пехотные, но и артиллерийские, противотанковые, инженерные и другие части. Африканские войска использовались в Бирме и на строительстве дорог, мостов, аэродромов. Здесь африканцам пришлось воевать в особенно трудных и непривычных условиях. Бои шли буквально за каждую пядь земли, в любую погоду, днем и ночью [370, с. 115—116].
Африканские вспомогательные войска участвовали в восточноафриканской кампании и на Ближнем Востоке. Служба в этих войсках сильно отличалась от того, что испытали в них африканцы в годы первой мировой войны. Они жили в хорошо оборудованных палаточных лагерях, были вооружены огнестрельным оружием и проходили полный курс боевой подго¬
197
товки. Платили им 32 шилл. в месяц — меньше, чем другим солдатам вспомогательных войск, но куда больше того, что получал отходник. Существовало медицинское и санитарное обслуживание. В лагеря приезжали священники и миссионеры. На Ближнем Востоке африканцев допускали в некоторые английские армейские клубы, разрешали устраивать и свои [370, с. 110; 407, с. 232^233].
По сравнению с первой мировой войной потери были невелики. Всего за годы войны были убиты, умерли от ран и болезней, погибли в результате несчастных случаев 9640 африканцев, 50 индийцев и 232 европейца (подсчитано по [407, с. 258]) из служивших 97 тыс. кенийцев (почти 20% взрослого мужского населения) [407, с. 232; 533, с. 386].
Но социальное, политическое и психологическое воздействие этой войны на африканцев было, конечно, неизмеримо более глубоким. За годы войны англичане подготовили десятки тысяч квалифицированных работников самых разных специальностей. Африканцы были не просто прислугой, как в годы первой мировой войны, а воевали наравне с европейцами, могли проявить мужество и способности. Офицеров-европейцев обязали выучить суахили, солдат поощряли обучаться грамоте и английскому языку. Перемены эти были отчасти вызваны нехваткой людей, но больше всего объяснялись сдвигами в общественном сознании, умонастроениях и политическом климате в большинстве стран мира в годы войны.
Служба в других странах несомненно расширила политический кругозор африканских солдат. Они сражались вместе с эфиопскими солдатами и партизанами, в лагерях в Египте жили вместе с западноафриканцами, на Цейлоне смотрели, как бедняки индийцы подметают полы их бараков, в Бирме стали свидетелями восстания против японцев. Из газет и по радио узнавали о борьбе и победах Советской Армии, обсуждали события с индийскими, английскими, американскими солдатами J370, с. 117; 407, с. 234—235; 533, с. 386—387].
В тылу, особенно в самой Кении, расовая дискриминация -оставалась повсеместным явлением. Лавки, госпитали, столовые, жилье — все это было раздельным для африканцев и европейцев [370, с. 111]. Но во время боев было не до соблюдения расовой субординации. Особенно чувствовалось это в суровых условиях Бирмы. В. Итоте, служивший там капралом, а позже ставший одним из руководителей восстания May May, писал: «Среди взрывов и выстрелов было не до высокомерия. Там мы не видели духа превосходства со стороны наших европейских товарищей по оружию. Мы пили один и тот же чай, пользовались одними умывальниками и туалетами, делились :шуткой. Не было расовых оскорблений, нас не называли „ниггерами", „обезьянами" и так далее. Жар сражений уничтожил все это и оставил только нашу общую человеческую сущность и нашу общую судьбу — смерть или жизнь» [188, с. 27].
198
Военный опыт заставлял африканцев по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать ответственность за ее судьбы, стремление отстоять свое человеческое достоинство. Тот, кто побывал в Бирме, не мог, вернувшись, безропотно повесить себе на шею кипанде. Итоте писал: «Впервые я почувствовал, себя кенийцем в 1943 г. в окопах Калевы на бирманском фронте» [188, с. 9].
Важные сдвиги в африканском обществе Кении в военные годы были следствием не только массовых наборов в армию, но и роста потребностей в рабочей силе во всех отраслях производства. За годы войны в колонии появились новые предприятия легкой и пищевой промышленности, хорошая оплата военных поставок заставляла фермеров расширять производство. В 1944 г. по найму работало больше 255 тыс. африканцев и еще около 45 тыс.— по скваттерским контрактам. Численность скваттерской прослойки увеличилась до 200 тыс. человек, но рабочих все равно не хватало. В годы войны на работу в Кению привозили африканцев из других колоний |[407, с. 245—246; 533, с. 347].
Самой дешевой и выгодной для поселенцев рабочей силой были африканцы, принудительно завербованные на фермы. Им платили всего 8—14 шилл. плюс пропитание. Этот подневольный труд был настолько непопулярен, что африканцы предпочитали ему арест за дезертирство. Те, кто работал по найму добровольно, получали до 16 шилл. и талон на питание и жилье. Самыми высокооплачиваемыми категориями работников в годы войны были немногочисленные квалифицированные рабочие и домашняя прислуга, получавшая от 35 до 90 шилл. (около 30 тыс. человек). Повышение заработной платы, вызванное нехваткой рабочей силы, стало одним из первых проявлений тенденции к ее стабилизации.
Положение скваттеров в годы войны ухудшилось. Повышение спроса на продовольствие увеличивало их доход, в некото^ рых районах — до 52 шилл. в месяц. Но собственно заработная плата многих из них составляла всего 6—12 шилл., число дней работы на фермера постоянно увеличивалось — кое-где до» 270 в год, а количество земли и скота уменьшалось [407, с. 240, 245—246].
Война легла тяжелым бременем и на резерваты. Расчищать новые участки было некому, и женщины обрабатывали одну и ту же землю до истощения. В 1943 г. разразилась засуха, особенно тяжело ударившая по Ньянзе и Центральной провинции. Начался голод. Но одновременно шли и другие процессы. Отходники и солдаты впервые с начала колониальной эпохи присылали в резерваты столько денег, что это начало отражаться на хозяйстве. Окружной комиссар Мачакоса писал, например, что только в 1943 г. в округ было прислано более 2 млн. шилл., и эти средства помогли камба справиться с голодом 1943— 1944 гг.
199
Рост цен на продовольственные культуры начался в 1942 г. и продолжался, вопреки предсказаниям экономистов, почти десятилетие. Это не могло не увеличить притягательность их производства для африканцев. Деньги отходников и солдат вкладывались в производство товарной продукции, мероприятия по борьбе с эрозией. Рост спроса и цен на скот сделал продажу •его выгодной, и принуждения для увеличения закупок в скотоводческих районах больше не требовалось [389, с. 264; 407, е. 230]. Перемены в африканском обществе Кении шли, таким •образом, по нескольким направлениям и затрагивали хозяйство, социальный строй, национальное самосознание.
Колониальную администрацию и тем более поселенцев эти перемены тревожили и раздражали. Газетные страницы были заполнены поселенческими письмами, в которых утверждалось, что африканцы «стали ленивы, грязны, бесчестны и шумны», что в прежние годы они были лучше и дружелюбнее, но их «испортила слишком быстрая цивилизация и образование». Один из корреспондентов газеты «Момбаса тайме» писал: «Сейчас часто можно увидеть европейского солдата или моряка, который держит туземца за руку и обращается с ним, как с кровным братом; я даже видел, как они курят одну сигарету и пьют вино из одной бутылки. Я лично очень люблю туземцев и восхищаюсь теми, кто ответил на военный призыв. Но нужно уметь обращаться с ними, и, как давнему жителю этой страны, мне больно и отвратительно видеть, что происходит. Это нужно прекратить хотя бы для пользы самих же туземцев» [407, с. 237—239].
Администрация сочла вторую мировую войну (как когда-то первую) удобным временем для закручивания гаек, поселенцы — для того, чтобы упрочить свое политическое положение. Исполнительный совет, куда вошли лидеры поселенцев, получил в стране большую власть. Практика комиссий и комитетов, а с нею и европейский контроль распространились еще шире, чем раньше, пронизав все сферы жизни страны. Организацией, прямо продолжившей традиции военного совета времен первой мировой войны, был совет сельскохозяйственного производства и поселения, возглавлявшийся поселенческим лидером Ф. Кавендиш-Бентинком. Совет принимал меры по увеличению сельскохозяйственного производства и готовил планы нового поселения fill, с. 19].
«Увеличение производства» для администрации и поселенцев означало, конечно, увеличение производительности европейских хозяйств. Европейским фермерам гарантировали высокие закупочные цены на некоторые виды продукции (кукурузу, кофе, скот, сахар, масло, пшеницу, картофель, рожь, лен и др.). У африканцев же удерживали часть производимой ими продукции (той же кукурузы, например) фактически безвозмездно: деньги за нее передавались туземной администрации в фонды по консервации почвы. Разве что в насмешку можно было на¬
200
писать, как это делает английский исследователь, что «до некоторой степени» выгоды от этой сделки получал и африканский производитель [649, с. 252—253].
Только в 1942—1943 гг. Совет сельскохозяйственного производства и поселения распределил среди поселенцев субсидий на сумму около 153 тыс. ф. ст. Африканцам эти субсидии не выдавались. Как объяснял в парламенте министр колоний, «те трудности, которые они (субсидии.— И. Ф.) призваны облегчить, не возникают при традиционных методах ведения сельского хозяйства, применяемых в резерватах» |[111, с. 19—20].
В первые годы войны приток рабочей силы на фермы уменьшился из-за набора африканцев в армию. С 1941 г. по требованию поселенцев рекрутация была приостановлена. В восточноафриканских вспомогательных войсках кенийцев было меньше всего. Кроме того, в постановлении по обороне 1942 г. администрация объявила работу на плантациях и фермах одним из «основных мероприятий военного времени» и обязалась не только набирать, но и распределять рабочих по фермам. За три последних года войны на фермы были принудительно завербованы около 160 тыс. рабочих [111, с. 22; 407, с. 238—240]. Неудивительно, что военные и послевоенные годы стали временем настоящего бума для поселенческого хозяйства.
Но поселенцы не оценили усилий администрации и своих лидеров. Они считали, что, наладив слишком тесный контакт с администрацией, руководители Конвента ассоциаций стали «марионетками правительства» и предали интересы европейской общины. Конвент распался. В поселенческих центрах начали возникать новые политические организации, объединившиеся в 1944 г. в Союз избирателей [388, с. 94—97].
Африканские политические организации были в 1940 г. запрещены. Центральная ассоциация гикуйю, Ассоциация холмов Тейта и Ассоциация членов Укамбы послали в начале войны меморандум лояльности правительству, но их политика в земельном вопросе не изменилась. 23 руководителя этих ассоциаций были арестованы, им предъявили обвинения в измене. Одним из поводов к аресту стал экземпляр «Майн кампф», обнаруженный при обыске в штабе Центральной ассоциации, хотя книга эта не только не была запрещена, но и продавалась тогда в книжных магазинах Найроби. Арестованных сослали, администрация вздохнула с облегчением. Комиссар округа Форт Холл процитировал тогда слова одного из вождей гикуйю о члене Центральной ассоциации: «Он был как вошь в одеяле правительства и заставлял нас всех чесаться» [604, с. 186—187].
Но радость чиновников была преждевременной. Аресты и запреты не уменьшили накал борьбы. В 1941—1942 гг. бастовали таксисты, кочегары и железнодорожники Найроби и Момбасы. Постоянным явлением стали забастовки солидарности. Рабочим не раз удавалось добцться повышения заработной пла¬
201
ты. Самым большим их достижением было установление в 1944 г. не существовавшего прежде минимума заработной платы для африканцев. Он составлял 18 шилл. плюс 10 шилл. на питание и жилье. Забастовки были в конце концов запрещены, но стало ясно, что прежние времена, когда африканские рабочие не умели защитить свои права, после войны не вернутся. Это начинали понимать даже поселенцы. В 1945 г. поселенческая «Ист африкен стэндард» писала: «Запретительное законодательство может лишь оттянуть беспорядки, но оно не решит существующие проблемы [407, с. 247, 249—250, 256].
Руководители Центральной ассоциации были освобождены в 1943—1944 гг., но местные отделения не прекращали функционировать и во время их ссылки. Европейская пресса с негодованием сообщала, что действует и центральное руководство Ассоциации под именем Ассоциации фермеров и торговцев ги- куйю. Остался на свободе и даже читал лекции об Африке для военнослужащих британской армии Кениата )[533, с. 368; 604, с. 190]. Но в то время главным был не организационный центр и даже не лидер, а тот общественный климат, в котором выросла и действовала Центральная ассоциация, дух протеста, насту- пательности, которым она питалась,—а этот дух за годы войны укрепился и упрочился.
К. Маркс писал о результатах британской колонизации Индии: «Английское вмешательство... разрушило эти маленькие полуварварские, полуцивилизованные общины, уничтожив их экономический базис, и таким образом произвело величайшую и, надо сказать правду, единственную социальную революцию, пережитую когда-либо Азией» [1, с. 135].
Под воздействием колониальной эксплуатации социальная революция шла и в Африке. Но здесь в силу большей социальной отсталости африканских обществ этот процесс был особенно мучительным и длительным. Возникавшее на месте множества разрозненных и разобщенных этнических групп единое общество переходного типа Д. А. Ольдерогге назвал «колониальным» ([365, с. 181]. В межвоенный период становление колониального общества только начиналось, но свои основные характерные черты и особенности оно уже обрело.
Колониальное общество Кении ( как, впрочем, и большинст- гва других африканских стран) было крайне неоднородно. Это закономерно: различные этнические группы втягивались в процесс колониальной трансформации неодновременно, исходные уровни их социального развития были различны. Колониализм лишь отчасти способствовал унификации: хотя активное колониальное воздействие и охватывало в Кении более обширные районы, чем во многих непоселенческих странах, все же н здесь оно носило очаговый характер. Колониальное общество объединяло множество тесно переплетенных этносоциальных
202
подразделений, находившихся на разных стадиях трансформации: охотников-собирателей, почти не затронутых изменениями; кочевннков-скотоводов; скотоводов, начинавших оседать на землю; земледельцев, которые вели в основном натуральное хозяйство; мелких товаропроизводителей; отходников; скваттеров; ремесленников, квалифицированных рабочих; интеллигенцию; «туземную» администрацию; феодальную арабо-суахилий- скую знать побережья и т. д. Религиозная неоднородность дополняла пестроту картины.
Можно ли считать колониальное общество единым социальным организмом? Ведь многие прослойки, названные здесь «социальными», имели отчетливо выраженный этнический состав: охотники-собиратели — доробо; кочевники-скотоводы — сомали,, оромо, масаи; кочевники, оседавшие на землю,— нанди, кипси- гис; скваттеры — в основном гикуйю. Но колониальное общество как раз и знаменовало собой начало не завершившегося и- по сей день процесса перестройки разрозненных этнических групп, объединенных искусственными рамками колониальных границ, в единый социальный организм. Чем глубже втягивался тот или иной народ в процесс колониальной трансформации» тем более социально расчлененным он становился.
Самой разнородной в этническом отношении прослойкой колониального общества были отходники. В 20-е годы в Найроби, жили: гикуйю — около 45%, луо—16, луйя — 9, камба — 5, эмбу — 5% и др. [533, с. 345—246]. Уже в межвоенный период формировался единый рынок рабочей силы. Луо и луйя с побережья оз. Виктория через всю страну добирались в Момбасу (в середине 20-х годов европейцы даже называли ее «городом ка- вирондо» [478, с. 163]), хорошо зная, что там отходникам платят больше, чем в Кисуму и Найроби. Гикуйю прекрасно разбирались в личных и деловых качествах европейских фермеров, знали условия труда и характер производства разных сельскохозяйственных культур и по всему Нагорью искали «лучшего» работодателя |[249, с. 199; 436, с. 185]. Единая, хотя и уродливая по структуре колониальная экономика, таким образом, воспроизводила единство социальной структуры, и процесс этот постепенно сводил на нет результаты трибалистской политики колониальных властей.
Процесс становления социальной структуры подразумевает не просто появление новых социальных прослоек, но и рост имущественной дифференциации в среде старых. Если первое было в африканских обществах межвоенной Кении явлением общепризнанным, то само существование второго до последнего' времени ставилось исследователями под сомнение. Советский экономист пришел к выводу, что в Кении «рост нищеты на одном полюсе деревни не сопровождался соответствующим ему становлением богатства на другом» [346, с. 43]. Данные новых исследований в какой-то мере опровергают эту точку зрения.. Действительно, политика колониальных властей в «белой» ко-.
лонии не способствовала становлению зажиточной прослойки, но прослойка эта тем не менее подспудно развивалась. У вождя Коинанге кроме земли уже в 1918 г. была воловья упряжка, плуг и мельница (всего мельниц было тогда в Киамбу две). В 1928 г. у африканцев Киамбу было уже 117 упряжек. В 1929 г. в собственности африканцев в резервате камба находилось 89 магазинов, в 1932 г.—169; у кипсигис в 1930 г. было 73 водяные мельницы, в Форт Холле их было 40. Первые собственники этой недвижимости происходили обычно из небольшого ядра христианской общины, усердно посещавшего миссии. Предприятия быстро исчезали, но их становилось все больше. В 1940 г. их уже никто не считал, они стали обычными |[491, с. 96—97, 162—164, 169]. Важнейшим показателем «зажиточности» было приобретение земельных участков.
Откуда брались для всего этого деньги? Главным источником средств для африканцев в поселенческой Кении была работа по найму. Уже одни только масштабы отходничества свидетельствуют о том, сколь многие из них его использовали. В январе 1927 г. вне резерватов находилось: 72% взрослых мужчин-кипсигис; 72,28%—гикуйю из Киамбу; 64,45%—нан- ди; 50,30% — гикуйю из Форт Холла; 48,22% — луо и луйя из Северной Ньянзы; 44,91 % — гикуйю из Северного и Южного Ньери; 42,53%—тейта; 25,28%—масаев; 20%—камба из Ма- чакоса [407, с. 150]. Но только те, кому удавалось получить оклад выше 150 шилл. в месяц, могли рассчитывать на то, что попадут в зажиточную прослойку [491, с. 262, 277]. Получали такой оклад клерки, квалифицированные рабочие, квалифицированная прислуга, представители «туземной» администрации. Остальным приходилось довольствоваться заработком, едва достаточным для уплаты налога.
Исследователи до сих пор пытаются иногда разделить социальные группы колониального общества на «новые» и «старые». Отходник например, считался «новой» социальной фигурой, проявлением «реакции» африканских обществ на воздействие колониализма. «Крестьянин» представал социальным ретроградом. Но ведь крестьянин и отходник это чаще всего одно лицо или по крайней мере одна семья. «Колониальный крестьянин» (термин подчеркивает отличие этой категории сельских жителей от общинника доколониальных времен и мелкого фермера — независимых) — социальная абстракция, представленная в реальном колониальном обществе отходником, скваттером, мелким товаропроизводителем, крестьянином, ведущим натуральное производство. Кенийский историк не напрасно считает крестьянина, этот стереотип косности, порождением колониализма и, следовательно, представителем «новой» прослойки [380, с. 94].
В зависимости от размеров (и характера) дополнительного дохода или оклада английский исследователь Г. Китчинг выделяет в кенийской деревне районов развитого отходничества
204
несколько наиболее распространенных типов крестьянских хозяйств. 1—2. Муж — отходник, имеющий хороший оклад и долгое время живущий вне резервата, жена — в резервате, нанимает дополнительную рабочую силу, использует плуг; в 30— 40-е годы докупают землю (две первые группы объединены так как различие их состоит лишь в том, кто «управляет фермой» — муж или жена). 3. Муж и жена все время работают на участке, не нанимают рабочую силу, не используют плуг, не расширяют земельные угодья, но используют хорошие мотыги и выращивают излишки кукурузы, которые жена, возможно, продает на рынке. 4. Муж и жена — скваттеры; семьи 1-й и 2-й групп скупают их землю. 5. Муж — отходник на неквалифицированной работе и не вкладывает в участок никаких средств; жена на участке, ведет только натуральное производство, нет никаких усовершенствований. 6. Муж — отходник на краткосрочной неквалифицированной работе, кое-какие нововведения в хозяйстве, расширенное производство кукурузы; жена — в резервате и вовлечена в торговлю [491, с. 90—91]. Можно оспаривать правомерность выделения в этой классификации той или иной группы хозяйств, добавлять новые категории, но сам подход сомнения не вызывает.
Для колониального общества «страны белого человека» были характерны некоторые особенности: большая численность отходников, относительно большая — ремесленников и квалифицированных рабочих, относительно небольшая — колониальных чиновников и представителей «туземной» администрации, отсутствие интеллигенции (при довольно широком распространении грамотности и особенно стремления к образованию в районах, связанных с отходничеством), подспудное становление крайне немногочисленной зажиточной прослойки (при обнищании основной массы населения), главным источником доходов которой был высокий оклад и использование служебного положения, а главной сферой их приложения — земля и образование для детей.
Экономика колониальной Кении с ее европейским сектором сельского хозяйства была единым организмом; социальная структура страны тоже должна была органически включать иммигрантские общины. Видимо, можно признать в какой-то степени правомерным утверждение английского историка: «Каковы бы ни были культурные различия между племенами, а также между африканцами, европейцами, азиатами и арабами в начале этого (межвоенного.— //. Ф.) периода, к концу его Кения превратилась в единое общество, хотя и глубоко внутренне расчлененное» [533, с. 333]. Исключение иммигрантских общин из структуры колониального общества означало бы, что при определении этого понятия во главу угла ставятся не социальные, а расовые критерии. Место, роль и характер этих общин в колониальном обществе требуют, конечно, специальных исследований. Однако уже одни только докапиталистические
305
методы эксплуатации, использовавшиеся ими, убедительно показывают их квазибуржуазный характер, а следовательно, га правомерность отнесения их не только к английскому буржуазному, но и к кенийскому колониальному обществу.
Д. А. Ольдорогге выделяет два типа колониальных обществ. Первый — «в отсталых районах, не представляющих интереса для колонизаторов», где «в общем сохранились прежние основы родовых организаций» и «классы докапиталистических формаций». Второй — в «экономически развивающихся районах», где «возникали классы капиталистического общества, т. е. буржуазия и пролетариат» [365, с. 186]. Примерно так же определяет «области застоя» и «зоны развития» в африканской деревне советский исследователь В. Б. Иорданский i[347, с. 109— 119].
Очевидно, что в Кении к первому типу принадлежат засушливые северные и южные районы, населенные кочевниками-ско- товодами, и отдельные участки лесов, населенные охотниками- собирателями; ко второму типу — города, европейские фермы и плантации, хотя буржуазия там в межвоенный период не выделялась, а существовала — это была буржуазия европейского и индийского происхождения. Но большая часть кенийских резерватов останется за пределами этих двух типов. Это районы выхода рабочей силы, настолько значительного по масштабам, что уже одно это не могло не повести к важным социальным последствиям.
Старые социальные структуры в этих районах быстро разрушались, основы замкнутых родовых организаций были уничтожены, традиционные авторитеты подорваны, интенсивно шло проникновение товарно-денежных отношений и становление новых форм землепользования. Процесс становления классов современного буржуазного общества в таких районах замедлялся мерами колониальной администрации, но шел, сопровождаясь обезземеливанием, эрозией почв, перенаселением. Если добавить к этому отдельные попытки выращивания в районах выхода рабочей силы товарных и экспортных культур, станет ясно, насколько сложна была картина их социально-экономической трансформации.
Резкие социальные сдвиги в сочетании с застойностью, новые знания, навыки и понятия, принесенные отходниками, и отсутствие возможности их реализации создали в обществах этих районов напряженную психологическую атмосферу, служившую прекрасной почвой для мессианства, религиозных движений, вооруженных взрывов. Эти особенности убеждают в существовании по меньшей мере еще одного, третьего типа колониальных обществ, который можно определить (за неимением лучшей формулировки) как общества районов выхода рабочей силы.
Особенности социальной структуры кенийского общества оказали большое воздействие на характер антиколониализма.
206
Неоднородность и многослойность колониального общества порождали дробность антиколониального движения, распадавшегося в межвоенные годы на множество разнообразных, разномасштабных и в большой степени разрозненных потоков. В то время как в одних районах создавались действенные политические организации, в других становление новых организационных форм антиколониализма едва намечалось. Забастовки, бойкотирование «плохих» фермеров, афро-христианские и другие религиозные движения, массовые кампании — вот лишь некоторые из форм и уровней антиколониализма того времени.
Буржуазная историография часто противопоставляет высокую антиколониальную активность земледельческих обществ пассивности скотоводческих. Тип хозяйственной деятельности вряд ли мог прямо сказываться на степени «антиколониально- сти», просто земледельцы быстрее втягивались в процесс колониальной трансформации. В то же время однозначно связать активность антиколониальной борьбы с интенсивностью коло ниального воздействия тоже невозможно. Нанди и кипсигис, потерявшие много земли и давшие большое число отходников, не создали в межвоенные годы антиколониальных движений и организаций, продолжая лишь поддерживать своих оркойотов. Вероятно, кроме социально-экономических факторов какое-то воздействие на степень антиколониальной активности оказывали психологические причины.
Неоднородность форм и уровней антиколониальной борьбы была в Африке явлением повсеместным как в межвоенный период, так и в более поздние годы. Разобщенность потоков антиколониализма являлась характерной чертой межвоенного периода. Неоднородность форм была в Кении большей, чем в непоселенческих колониях, уже из-за одного только участия в антиколониальной борьбе индийского населения. Разобщенность потоков, наоборот, сказывалась здесь меньше, чем в других районах. Центральная ассоциация гикуйю, например, поддерживала связи с самыми различными движениями в стране гикуйю и с организациями других народов.
Объяснялось это тем, что национально-освободительное движение в Кении в межвоенный период носило прежде всего ан- типоселенческий характер в том смысле, что земельные экспроприации, массовый принудительный труд, расовая дискриминация во всех сферах жизни и прочие неотъемлемые черты поселенческого колониализма определяли содержание и характер антиколониальной борьбы. Социальный враг был конкретен, осязаем — и это, конечно, объединяло в борьбе против него самые разные слои не только африканской, но и индийской общины и делало эту борьбу более напряженной.
Открыто антиколониальные лозунги везде в Африке, в том числе и в Кении, выдвигались тогда только некоторыми афро- христианскими движениями, пытавшимися с помощью различных магических средств добиться ухода ненавистного белого
207
человека. Более искушенные политики отчасти понимали, видимо, обреченность этих лозунгов в то время, отчасти не видели иной исторической перспективы, отчасти опасались репрессий. Центральная ассоциация гикуйю — наиболее зрелая из политических организаций страны в межвоенный период — была все же создана представителями африканской элиты колониального общества, обязанной колониализму самим своим существованием и выступавшей только против перегибов поселенческого колониализма, таких, как принудительный труд и особенно земельные экспроприации.
В Кении была еще одна причина умеренности политических организаций в межвоенные годы. Разногласия колониальной администрации с поселенцами по частностям колониальной политики придавали ей в глазах образованных африканцев ореол чуть ли не борца за демократию и равенство, во всяком случае беспристрастного арбитра в политической борьбе. Вождь Кои- нанге жаловался членам английской комиссии, что африканцы в Кении живут хуже, чем их собратья в Танганьике и Уганде, из-за поселенцев if69, т. 2, с. 400—402]. П. Г. Мокери в своей книге (первой, опубликованной кенийцем в Европе) писал еще более наивно: «Белый человек там (во французских колониях.— Я. Ф.) считает африканцев людьми и братьями. Там, где общественная жизнь двух рас разделена, чувства противоположны» [223, с. 60]. Вот почему в межвоенный период тактика африканских политических организаций (как и индийских) была в большой мере ориентирована на колониальную администрацию. Петиции, меморандумы, прошения мыслились как основной способ достижения цели, обращение к массам — как дополнительное средство давления.
В то же время откровенный расизм поселенческого колониализма, а также более низкий уровень образованности и жизни африканской элиты Кении, чем непоселенческих колоний, сближали ее с низами общества. Африканские политические организации страны с самого начала своей деятельности не были замкнутыми, оторванными от масс. Многотысячные митинги в резерватах, поездки по другим районам страны, тесные контакты с массовыми (в том числе антихристианскими и антимиссио- нерскими) движениями, использование традиционной символики, местных языков (чего в те годы часто стеснялась европеизированная интеллигенция западноафриканских колоний) позволяли им завоевать популярность.
Традиционная символика служила отчасти и конспиративным целям. Многие чиновники, даже зная местные языки, не понимали идиом, глубинного смысла пословиц, поговорок, песен. Некоторые особенно «вредные» песни были запрещены [249, с. 204], но уследить за всем сразу было трудно, а доброхоты из «туземной» администрации не всегда успевали, а иногда и просто боялись «сигнализировать».
Знали ли колониальные чиновники, почему для учительско¬
208
го колледжа была избрана школа в Гитунгури и почему именно там было начато строительство нового здания? Возможно» нет, иначе не допустили бы этого. Гитунгури было для гикуйю особым местом. Прорицатель Чеге ва Кибиру, предсказавший когда-то появление «краснокожих чужестранцев», говорил якобы, что они «начнут покидать страну, когда каменный дом с восемью дверями будет построен в Гитунгури ва Ирира, и они совсем уйдут, когда фиговое дерево в Тике наклонится и упадет» [604, с. 180—181].
Поторопить фиговое дерево было трудно, но, надо думать» руководители Центральной ассоциации позаботились о том, чтобы в будущем здании колледжа было восемь дверей — ни больше ни меньше.
Глава VI
КРИЗИС
КОЛОНИАЛЬНЫХ ФОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ. БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
«Они уйдут, когда наклонится и упадет фиговое дерево в Тике»
Вторая мировая война повлекла за собой важнейшие изменения в мире. Возникновение социалистического содружества, подъем рабочего и демократического движения в капиталистических странах, рост национально-освободительного движения и освобождение колоний в Азии изменили соотношение сил на мировой арене, создали новый политический климат и в метрополиях и в африканских колониях. Логика борьбы против фашизма вовлекла в водоворот демократизации даже правящие круги крупнейших буржуазных держав. У. Черчилль и Ф. Рузвельт подписали Атлантическую хартию, в которой декларировалось право народов самим выбирать формы правления в своих странах. Конечно, это были только слова. Но для народов колоний они звучали как недвусмысленное обещание независимости.
Социальные сдвиги и колониальная политика в первые послевоенные годы
Важные сдвиги вызвала война на Африканском континенте, прежде всего экономические и социальные. В Кении быстро развивалось промышленное производство — война затруднила импорт многих товаров. Расширялись старые предприятия, строились новые. Объем продукции, выпускаемой строительной промышленностью, например, с 1948 по 1952 г. утроился. Изменился не только объем производства, но и его характер. Новые предприятия и фирмы были крупнее прежних. К 1957 г. около 75% городских рабочих Кении работало в мастерских и на фабриках с числом рабочих более 50 i[377, с. 50—52]. По кенийским масштабам это было крупное производство. Большинство новых фирм, зарегистрированных в стране после 1945 г., были иностранными, в основном английскими. Это означало,
210
что предприниматели, долгое время жившие в Кении и считавшие колониальные формы эксплуатации единственно возможными, уже не контролировали местное производство.
До 1940 г. местная обрабатывающая промышленность была ориентирована почти исключительно на европейскую общину. После войны она начала выпускать товары и для африканского потребления: пиво (крепкие спиртные напитки африканцам покупать не разрешалось), дешевые консервы, сигареты, ткани, одежду, обувь, мебель, посуду [569, с. 155—174]. Со стороны европейских и индийских предпринимателей «африканизация» ассортимента товаров вовсе не была благотворительностью: удовлетворение растущего спроса африканцев на товары, прежде покупавшиеся только европейцами, расширяло» рынок.
Спрос на промышленные товары в резерватах после войны быстро рос: у африканцев впервые появились деньги на что-то кроме уплаты налогов. Деньги везли с собой бывшие военнослужащие. В годы войны процветал черный рынок. На одной только торговле сахаром, вывозившимся контрабандой из Ньян- зы, можно было сделать состояние. Больше всего наживались те, кто поодиночке или в складчину покупал подержанные автобусы и грузовики и на этом транспорте развозил дефицитное продовольствие по стране {249, с. 206]. В 40-е годы в Кении; впервые появились африканские лавки, закусочные, мастерские. Самую большую деловую активность проявили в те годы гикуйю. В 1943 г. только в округе Форт Холл африканцам принадлежало 384 больших выстроенных из камня магазина [491, с. 179].
Важнейшим источником средств для африканцев стало развитие товарного сельскохозяйственного производства. В 1947 г. его стоимость составляла 2,5 млн. ф. ст., в 1953 г.— 4,5 млн.,, в 1956 г.— 6 млн. Больше всего товарной продукции производилось в Центральной провинции. Только в 1948 г. ее стоимость там составила более 1 млн. ф. ст., стоимость товарной продукции Ньянзы в том же году — 500 тыс. ф. ст. [340, с. 35; 533, с. 387]. В 1951 г. были окончательно отменены ограничения на выращивание африканцами кофе.
Рост африканского товарного производства не означал, конечно, что колониальная администрация отказалась от поддержки европейского сектора. Даже английские экономисты тех лет, рекламировавшие в своих работах такие мероприятия администрации, как создание в резерватах центров по лечению болезней кофе, чая и пиретрума, вакцинация и осеменение породистого скота, признавали, что европейским хозяйствам по- прежнему уделялось наибольшее внимание, туда направлялись специалисты и шли самые значительные средства |[608, с. 6].
Для европейского сектора послевоенные годы стали временем настоящего бума. В 1947 г. хозяйства поселенцев давали 100% чая, производившегося в стране, 95% пиретрума, 90% ко¬
14*
2 П
фе — всю основную экспортную продукцию. С 1947 по 1956 г. стоимость продукции европейского сектора выросла с 7,2 до 24,7 млн. ф. ст. На африканское товарное производство (при довольно значительном абсолютном росте стоимости) с 1947 по 1956 г. неизменно приходилось всего 10% национального сельскохозяйственного продукта [340, с. 35].
«Поселенческая» система эксплуатации получила дальнейшее распространение и развитие. В 1951 г. 32,5% своих доходов африканское население получало вне резерватов — втрое больше, чем в том же году в Уганде. Работа по найму давала африканцам Кении около 70% заработков, Уганды — только 15% [604, с. 203—104].
Товаризация африканского сельскохозяйственного производства, таким образом, мыслилась колониальной администрацией только как довесок к европейскому производству, не справлявшемуся в послевоенные годы с потребностями рынка. Без достаточного поощрения со стороны властей товарное производство в резерватах развивалось медленно и неравномерно. И все же его рост повлек за собой важные социальные последствия, прежде всего ускорение процессов социальной дифференциации.
Возможность выращивать доходные экспортные культуры резко увеличила стоимость земли и стремление африканцев закрепить за собой как можно большее ее количество. Перекупка земельных участков приняла такие масштабы, что юридическое оформление сделок стало настоятельной необходимостью. Обычно право покупателя на приобретенный участок подтверждалось «туземными» судами. В 1942 г. комиссар округа Ньери начал регистрацию земельных сделок. Регистрация была добровольной, поэтому наверняка фиксировался лишь небольшой процент сделок, и все же их число доходило до 40 в год.
Участились и случаи земельных тяжб между хозяевами участков и арендаторами-ахои, отходниками и их родственниками, оставшимися в резерватах. Безземельные гикуйю из Киамбу пытались через суд получить участки в Форт Холле, на которых жили когда-то их предки. Судебное разбирательство касалось иногда событий полувековой давности [618, с. 78].
Значительные (по масштабам резерватов) земельные угодья в 100 акров и более сосредоточивались чаще всего в руках представителей «туземной» администрации. Английский исследователь отмечал в 1945 г.: «Прискорбно, но факт, что вожди и другие влиятельные люди, в том числе и члены судов, извлекают пользу из неопределенности теперешней ситуации (подразумевается отсутствие законов об африканском индивидуальном землепользовании или частном землевладении.— Я. Ф.), приобретают большие участки земли и становятся землевладельцами феодального типа» [618, с. 78]. Губернатор Ф. Митчел, убежденный сторонник идеи «племенного» землепользования, в том же, 1945 г. в официальном документе отмечал усиление процессов социальной дифференциации и их необрати¬
212
мый характер l[618, с. 78]. «Это было время быстрых обогащений,— вспоминал бывший скваттер из Накуру,— в барах впервые можно было услышать: „О, г-н Камау выручил 3 тыс. шилл.“» i[249, с. 206].
Страна гикуйю являла собой яркий пример сочетания всех факторов колониального «развития». Кроме прежних, к ним добавился быстрый рост численности населения. С 1931 по 1948 г. оно выросло в Киамбу на 8,7% [491, с. 120]. Обезземеливание приняло здесь угрожающие размеры. В середине 40-х годов в Южном Ньери, например, на семью приходилось всего по 3,5 акра земли. В 1944 г. комиссар Киамбу писал, что к территории округа нужно добавить по меньшей мере 100 тыс. акров, чтобы обеспечить землей его население |[618, с. 74—75]. Важнейший показатель обезземеливания — число скваттеров. В 1948 г. из 182 тыс. скваттеров около 114,5 тыс. были гикуйю [451, с. 721].
Развитие товарного производства, начавшееся в резерватах гикуйю раньше, чем в других африканских районах страны, не только усугубило земельный голод, но и обострило восприятие этой проблемы общественным сознанием.
И обезземеливание, и рост товарного производства, и социальное расслоение — все эти новые или ускорившиеся после войны процессы объективно способствовали ломке системы отходничества, размыванию основы всех форм колониальной эксплуатации — натурального производства (подробнее об этом см. [346, с. 84]), а в перспективе — становлению в африканской среде элементов капиталистических отношений. Такое развитие событий было выгодно новым английским фирмам в Кении (рабочий, тем более хорошо оплачиваемый, покупал больше отходника), но совершенно не устраивало поселенцев, а вместе с ними и колониальную администрацию.
Нельзя сказать, что колониальная политика Англии в Кении после войны не изменилась. Официальная Европа не могла не учитывать изменение обстановки во всем мире, в том числе и в Африке. Английское правительство декларировало, что с миссией «опеки» колониальных народов оно собирается совмещать теперь «партнерство» [451, с. 193]. В Восточной Африке с ее сложным расовым составом населения синонимом политики «партнерства» стала «многорасовость».
Ярлык «многорасовости» администрация и поселенцы приклеивали к любым своим действиям, которые нельзя было прямо назвать расистскими. Поселенцы считали проявлением духа «многорасовости» организацию неофициальных членов законодательного совета, включавшую и африканцев, клуб, куда допускались представители всех рас и т. д. [388, с. 97]. Администрация называла «многорасовыми» такие меры, как назначение в законодательный совет африканцев. Первый из них, преподаватель Элайнс хай скул Э. Мату, занял место в совете в 1944 г.
213
Важнейшими «многорасовыми» мероприятиями колониальной администрации были конституционные реформы послевоенных лет. В 1948 г. в законодательном совете было введено неофициальное большинство («конституция Митчела»). Места неофициальных членов делились между 11 европейцами, 7 индо-паки- станцами и 4 африканцами. Это было, конечно, не то неофициальное большинство, за которое боролись когда-то поселенцы, но и оно давало им возможность контролировать положение в совете i[451, с. 279]. Как именно, ярко продемонстрировала дискуссия о кипанде.
Длительная борьба африканцев против унизительного расистского закона о кипанде заставила администрацию пообещать распространить этот закон на все расовые группы. Однако провести это решение в жизнь оказалось непросто. Поселенцы начали против него яростную кампанию. Их газеты печатали письма, в которых возмущенные читатели называли Кению «тоталитарным государством» |[388, с. 122—123]. По всей стране европейцы проводили митинги протеста. М. Бланделл, лидер поселенческой общины в послевоенные годы, вспоминал о встрече со своими избирателями в Накуру: поселенцы явились на митинг вооруженными и угрожали ему расправой, если он не добьется изменения решения правительства [147, с. 79]. Поселенцы были уверены, что африканцы, кроме горстки злоумышленников, сами понимают «преимущества» кипанде и вовсе не хотят с ними расставаться [407, с. 296].
В конце концов администрация изменила законопроект. Кипанде предлагалось ввести для тех кенийцев, которые не могли сами заполнить бланк на английском языке и представить две фотографии,— фактически для африканцев. Представители африканцев в законодательном совете, поддержанные индийцами, отказались принять закон в такой редакции. Но в 1950 г. он все равно был принят — за него голосовали все европейцы — официальные и неофициальные члены совета [388, с. 123—124].
Новым шагом на пути «многорасового» развития считалась конституция, разработанная в 1951 г. министром колоний Дж. Гриффитсом. Она увеличила число представителей африканцев в законодательном совете до шести человек, но значение этой «уступки» было полностью сведено на нет сохранением прежнего соотношения числа представителей расовых групп |[57, 1955, с. 134; 451, с. 299].
«Многорасовость» на деле оборачивалась господством поселенцев и в других сферах колониальной политики. После войны различные департаменты колониальной администрации были сгруппированы под руководством членов исполнительного совета, «наиболее подходивших для этой работы, независимо от того, являются ли они официальными или нет» [388, с. 101]. Поселенцы, таким образом, получили возможность контролировать деятельность колониальной администрации, а в будущем перед ними открывался путь к постам министров. Это подтвердили
214
первые же назначения: ответственным за сельское хозяйство стал известный своими расистскими взглядами Ф. Кавендиш- Бентинк |f604, с. 201].
Контроль кенийских белых английское правительство пыталось распространить и на другие страны Восточной Африки. Об этом свидетельствуют попытки создания восточноафриканской федерации под их эгидой. По первому плану межтерриториальной организации в состав центральной законодательной ас самблеи предполагаемой федерации кроме официальных членов должно было войти равное число представителей от всех расовых групп Восточной Африки. Кенийские поселенцы с негодованием отвергли этот план, и, конечно, он не был принят законодательным советом Кении. Второй вариант плана предусматривал значительное увеличение числа европейских представителей. Поселенцы приняли его — в обмен на «неофициальное большинство» if388, с. 105—106].
Большое значение имели и неформальные связи поселенцев с колониальной администрацией. Как выразился колониальный чиновник, «система „хэлло, старик..." действовала безотказно» [377, с. 49].
Даже официально признанный английскими властями авторитет в области колониальной политики М. Хейли писал: «Партнерство» не подразумевало введения всеобщего избирательного права или хотя бы общего списка голосования. Что же касается Восточной Африки, то здесь содержание „партнерства" определялось отчасти возможностью адекватного представительства африканцев и азиатов в законодательных органах, а отчасти желанием Соединенного королевства уступить значительную степень политического влияния европейским неофициальным резидентам» if451, с. 193—194]. Меняясь по форме, колониальная политика по сути своей оставалась, таким образом, прежней.
То же происходило и в экономической политике. Еще в годы войны английское правительство заявило, что цель его колониальной политики — «развитие» колоний. Однако средства, выделенные Кении по законам «о развитии и благосостоянии колоний», пошли в основном на развитие европейского сектора сельского хозяйства, в том числе на поселение новых фермеров (после войны разрешалась сдача участков в аренду фермерам с капиталом более 6 тыс. ф. ст. и продажа — претендентам с капиталом не менее 8 тыс. ф. ст. (57, 1960, с. 46}). К тому же стерлинговые авуары африканских колоний в несколько раз превышали средства, выплаченные Англией по законам о «развитии и благосостоянии».
В 1946 г. лейбористское правительство выступило с десятилетним планом «развития» африканских районов Кении. Предусматривались меры против эрозии — консервация почвы и переселение африканцев из районов с сильно эрозированной почвой, насаждение экспортных культур, поощрение производства продовольственных культур на рынок. Для проведения
215
этих мероприятий были выделены дополнительные средства |[78, 1946—62, с. 261—262].
Участки, на которые выселяли «лишних» африканцев, нужно было расчистить от кустарника, оросить, уничтожить там муху цеце. На переселение возлагались большие надежды. Достаточно сказать, что только по одному из планов (переселение камба в Макуэни) правительство бесплатно выдавало продовольствие с 1948 по 1957 г. Первые пять акров для переселенцев тоже распахивали бесплатно. Но даже по этому плану, самому большому и дорогостоящему, к 1961 г. было переселено только 2250 семей (около 12 тыс. человек) {645, т. 2, с. 109]. По всем планам на новые земли к 1960 г. было переселено около 17 тыс. семей (60—85 тыс. человек) [359, с. 81]. «Лишних» африканцев к тому времени были сотни тысяч.
Одновременно началось обратное движение: в резерваты возвращались скваттеры, изгонявшиеся или уходившие с Нагорья. В 1946 г. совет округа Найроби постановил уменьшить количество овец, которых дозволялось держать скваттерам, и урезать их участки до двух акров. Число дней, которые скваттер должен был работать на фермера, увеличивалось с 240 до 270. Те, кто отказывался подписать новые правила, изгонялись. Только в 1946 г. в резерваты гикуйю вернулось около 2200 семей скваттеров <[407, с. 307—308]. В конце 40-х годов администрация начала выселять гикуйю и с территорий других племен, где они раньше вынуждены были искать пристанище из-за нехватки земли в своем резервате. В этих условиях переселение нескольких тысяч семей в новые районы никак не могло способствовать решению проблемы нехватки земли.
Другим широко разрекламированным в те годы мероприятием колониальной администрации было террасирование почвы, главным образом в резерватах гикуйю. Работы по террасированию проводились в принудительном порядке и отнимали много времени и сил. Люди не получали вознаграждения, женщины должны были работать наравне с мужчинами. В 1947 г. по призыву возникшего в 1944 г. Союза африканцев Кении женщины Форт Холла бросили работу, и правительство вынуждено было отказаться от террасирования [388, с. 11].
В штыки встретили африканцы и первые попытки консервации почвы в округе Мачакос. Люди были уверены, что, как только земля снова станет плодородной, ее отдадут европейцам. Чтобы остановить работы, они бросались под колеса тракторов. Консервацию пришлось прекратить )[645, т. 2, с. 931—94].
«Развитие» подразумевало и некоторые мероприятия в городах. С 1943 по 1947 г., например, около 30 тыс. человек переселились в новые дома, выстроенные в африканских районах Найроби. «Лишнее» население время от времени выселяли. Только в 1943 г. из Момбасы было выселено около 2,5 тыс. безработных. И все же в отчете департамента труда за 1951 г. говорилось, что в Момбасе и Найроби жилищные условия не
216
улучшаются, а ухудшаются, поскольку африканское население этих городов увеличивается примерно на 40% каждые полтора года J407, с. 269, 297]. С 1939 по 1947 г. африканское население Момбасы выросло с 30,2 до 56 тыс. человек, Найроби — с 40 до 77 тыс. К 1952 г. численность африканского населения Найроби достигла примерно 95 тыс. Около 45% его составляли гикуйю [407, с. 273; 604, с. 208; 618, с. 82—83].
С 1947 по 1951 г. не иссякал поток указов и законов, долженствовавших облегчить положение африканских рабочих в городах. В 1949 г. был принят закон, несколько расширявший их права при переговорах с предпринимателями. Появились новые законы об условиях найма женщин, детей, молодежи. В 1947 г. в крупнейших городах были созданы биржи труда [377, с. 7; 407, с. 316]. Предпринимались кое-какие шаги и в области технического образования. Так, в 1948 г. открылось новое ремесленное училище в Тике, в 1949 г. армия передала департаменту образования техническую школу в Кабете [407, с. 320].
Но основной показатель положения городского населения фактически не претерпел изменений. С 1948 по 1952 г. минимум заработной платы в Момбасе поднялся с 35 до 52, в Найроби — с 35 до 50 шилл. Это повышение отражало только рост стоимости жизни и не увеличивало реальные доходы рабочих. По подсчетам английского исследователя М. Сорренсона, реальная заработная плата африканцев оставалась постоянной с 1948 по 1952 г. [[618, с. 82, 85].
Все экономические начинания колониальной администрации в 40-х — начале 50-х годов оказывались безрезультатными. Сопротивление африканцев преобразованиям, даже вполне прогрессивным с агротехнической точки зрения, английские историки до сих пор объясняют чаще всего неприятием любых новшеств или неверием в «добрые намерения» колониальной администрации. Но это лишь часть правды. Важнейшая причина неудач колониальной экономической политики крылась в ней самой. То, что выдавалось в те годы чуть ли не за революционные преобразования, не было в действительности и полумерами. Даже в случае успеха мероприятия колониальной администрации не могли не только ликвидировать, но и смягчить социально-экономический кризис в стране, прежде всего в резервате гикуйю.
Еще земельная комиссия Картера рекомендовала в отдельных случаях разрешить гикуйю регистрацию земли в частную собственность. Было ясно, что отсутствие права собственности на землю сдерживает рост товарного производства. Но колониальная администрация и в 40-е годы отказывалась внести соответствующие изменения в закон. В 1945 г. губернатор Митчел предлагал, наоборот, усилить контроль общины над землей в резерватах. Каждый резерват должен был считаться «усадьбой общины», каждый африканец — «арендатором племени». Только в 1952 г. было признано возможным наделять правом
217
собственности некоторых «прогрессивных фермеров» и «корпоративные группы». Но дело было обставлено такими ограничениями, что воспользоваться этим преимуществом смогли единицы {618, с. 69—70].
Упорное нежелание администрации расстаться с идеей «племенного» землепользования в 50-е годы уже нельзя было объяснить непониманием традиционных норм. Прослойка зажиточных земельных собственников вызывала теперь определенные опасения. Комиссар Центральной провинции писал: «Многие из этих „землевладельцев" принадлежат к более образованному слою. Они враждебно настроены к племенному влиянию, но еще не осознали своей гражданской ответственности. Именно они могут пытаться, а возможно уже пытаются, подогреть недоверие и неудовлетворенность среди своих более отсталых и невежественных соотечественников» [618, с. 56—57]. Администрация не хотела предоставлять африканцам никаких гарантий на землю, кроме границ резерватов, и в этих условиях сопротивление переселению и реформам было вполне естественным. Принуждение же неизбежно вело к провалу всех начинаний администрации.
Аналогичная ситуация складывалась и в городе. В 1945 г. комиссия по расследованию условий труда момбасских рабочих признала, что их требования о повышении заработной платы вполне обоснованны. В Момбасе создается постоянный пролетариат, говорилось в отчете, и при установлении размеров заработной платы необходимо учитывать нужды не только рабочих, но и их семей. Колониальные власти не только с негодованием отвергли рекомендации комиссии, но и запретили публиковать отчет. В отчете другой комиссии, работавшей в 1947 г., приводились данные, свидетельствовавшие, что почти половина африканского населения Момбасы живет там постоянно, но получает заработную плату, на которую может прожить только отходник {407, с. 271—273].
Регистрация земли в частную собственность или предоставление других гарантий на землю и установление «семейной» заработной платы ускорило бы уже шедший процесс «стабилизации» рабочей силы, т. е. крушения системы отходничества. Колониальная администрация не стала ни изучать новые тенденции социального развития, ни пытаться обратить их на пользу правящему классу метрополии. Она была слишком связана со сложившимися в колонии методами эксплуатации, лично заинтересована в них и потому стремилась просто запретить то, что не укладывалось в их рамки. Потребовался социальный взрыв, чтобы ее позиции изменились.
Не только неумелая колониальная политика накаляла в те годы обстановку в стране. Европейцы — и представители колониальной администрации и поселенцы — были настолько заражены расовыми предрассудками, что не могли изменить не только букву, но и дух своих политических деклараций. «Общеиз¬
218
вестно, что огромная масса людей в этом районе все еще находится в состоянии невежества и отсталости, нецивилизованна, полна предрассудков, экономически слаба»,— писал в 1954 г. кенийский губернатор [222, с. 219—220].
В 1948 г. в отчете комиссии по заработной плате колониальных служащих говорилось: «...африканцы в настоящее время явно ниже азиатов, получивших равноценное образование, в таких вопросах, как чувство ответственности, суждение, прилежание, эффективность труда». Авторы выражали искреннее восхищение тем, что хотя бы некоторым африканцам удалось подняться выше уровня «каменного века» |[407, с. 294].
Взгляды большинства поселенцев выражал Союз избирателей — организация, возникшая в 1944 г. на месте Конвента ассоциаций. В документах Союза говорилось о необходимости «руководящего положения англичан», о готовности поселенцев разделить с администрацией «бремя опеки» над африканцами, утверждался принцип расовой дискриминации в землепользовании, отрицалась возможность предоставления африканцам избирательного права [136, с. 92; 604, с. 197]. Эти идеи легли и в основу «Кенийского плана», опубликованного Союзом в 1949 г. под заголовком «Мы здесь, чтобы остаться» [388, с. 124].
В самих документах по сравнению с довоенным периодом было мало нового. Но отношение африканцев к ним изменилось. Один из руководителей восстания, охватившего вскоре центральные районы страны, вспоминал: «Воинственный дух нашей молодежи подогревался тогдашним отношением и действиями европейских поселенцев. Они создали „Кенийский план“ — план захвата власти в стране и управления ею по образцу апартеида в Южной Африке... Мы достаточно повидали этих буров в Кении, чтобы понять, что это значит... Этот памфлет широко циркулировал в нашей группе, его читали даже неграмотным. Он оказал большое влияние на наши взгляды и планы» |[ 188, с. 39—40].
Подъем антиколониальной борьбы
Новое поколение лидеров, пришедшее к руководству национально-освободительным движением в Африке после войны, впервые провозгласило независимость своей главной целью, а борьбу — основным средством ее достижения на Пятом панафриканском конгрессе, состоявшемся в 1945 г. в Манчестере. «Мы заставим мир выслушать истину о нашем положении. Мы будем бороться всеми возможными способами за свободу, демократию и социальную справедливость»,— говорилось в документах конгресса [90, с. 251]. В подготовке Пятого панафриканского конгресса принимал участие и Кениата. Он был главным автором специальной резолюции конгресса по Восточной
219
Африке. Меморандум, посланный конгрессом в ООН, он подписал от имени Центральной ассоциации гикуйю. От руководства новой организации африканцев, только что созданной в Кении,— Союза африканцев Кении меморандум подписал У. Аво- ри ([604, с. 251, 255, 257—258].
Накал антиколониальной борьбы в Кении в первые же послевоенные годы показал, что программа Пятого панафриканского конгресса не была набором лозунгов, выдуманных оторвавшимися от родной почвы интеллигентами африканских колоний, но отражала настроения масс. В 1945 и 1946 гг. города охватила волна забастовок. Особенно напряженными были столкновения в Момбасе, где условия жизни рабочих были хуже, чем в Найроби. В конце 1946 г. сюда дошли вести об успешном выступлении докеров Дурбана. 13 января 1947 г. начали бастовать докеры и железнодорожники Момбасы. К ним быстро присоединились почти все африканцы города, включая домашнюю прислугу и рабочих сахарных плантаций на побережье. Департамент труда оценивал число забастовщиков примерно в 15 тыс. человек.
Руководил забастовщиками комитет, названный позже Федерацией африканских рабочих. Комитет возглавлял молодой профсоюзный деятель Ч. Кибачиа. Забастовка проходила на редкость организованно. Присоединившиеся к ней водители такси возили членов комитета по городу, те собирали митинги, разъясняли цели забастовки. Уже 17 января в город были введены войска и дополнительные контингенты полиции. Было арестовано около 500 человек, закрыты школы. С самолетов разбрасывали листовки с призывами прекратить забастовку, по городу разъезжали машины с громкоговорителями.
Забастовка прекратилась только через 12 дней, после вмешательства африканского представителя в законодательном совете Э. Мату. Рабочим удалось кое-чего добиться: комиссия, расследовавшая причины волнений, рекомендовала немедленно увеличить заработную плату всем рабочим, в том числе и отходникам; некоторые работодатели (конечно, индийцы и арабы) были оштрафованы и даже подверглись тюремному заключению за нарушение трудового законодательства [407, с. 276— 278, 281].
После окончания забастовки Федерация африканских рабочих распространила свою деятельность на другие города побережья. Весной под влиянием событий в Момбасе произошли волнения в Ньянзе. Летом было открыто отделение Федерации в Найроби. К осени 1947 г. Федерация располагала средствами около 4,5 тыс. шилл., у нее были постоянный штат и собственное помещение. Действовали профсоюзные лидеры так умело, что администрация долго не могла найти повод для запрета организации. Наконец он появился: Федерация пригласила лидеров Союза африканцев на свой митинг в Момбасе, т. е. «занялась политикой». Руководство Федерации было немедленно
220
арестовано. Кибачиа судили и сослали. Федерация распалась [407, с. 280, 282—283; 604, с. 209—210].
Но запретить профсоюзное движение было уже невозможно. Поэтому администрация сосредоточила усилия на «обучении» и отборе африканских профсоюзных лидеров. «Учителя» — шотландского профсоюзного деятеля — пригласили из метрополии. Он читал лекции, разъяснял руководству рабочих организаций, что они не должны выдвигать политические лозунги, рекомендовал колониальным властям, какие из профсоюзов следует регистрировать if407, с. 323—324].
Какое-то время казалось, что тактика эта полностью удалась. Существовавшие и вновь образуемые профсоюзы носили только отраслевой характер, не выдвигали радикальных требований, не пытались наладить сотрудничество. Но, как справедливо замечают английские историки К. Розберг и Дж. Ноттингем, «эти организации, каковы бы ни были их цель и название, неизбежно вливались в послевоенное националистическое движение. Политика становилась средством достижения социальных и экономических целей, которые оказались недостижимыми никаким другим путем» [604, с. 210].
Уже в начале 1949 г. события вышли из под контроля администрации. По инициативе Ф. Кубаи, председателя Союза транспортников и рабочих смежных профессий, профсоюзное руководство решило создать Восточноафриканский конгресс профсоюзов. Президентом его стал сам Кубаи, секретарем — вернувшийся из Индии М. Сингх (колониальная администрация пыталась не допустить возвращения Сингха через суд, объявив его «незаконным иммигрантом», но проиграла дело) [407, с. 328]. Конгресс ставил перед собой цель добиться улучшения экономического, социального и политического положения рабочего класса Восточной Африки, свободы слова, печати, организаций, собраний и передвижения, а также права на забастовки, на труд или вспомоществование для рабочих, ликвидации экономической, социальной и политической дискриминации, выполнения принципа «равная плата за равный труд» без различия по принципу расовой или половой принадлежности [240, с. 237—238]. М. Сингх справедливо заметил позже, что борьба за выполнение этих требований была равнозначна борьбе против колониального режима и стала «важной частью борьбы за ухуру в Кении» [240, с. 240].
Уже в первые месяцы 1949 г. Восточноафриканский конгресс профсоюзов организовал несколько забастовок. В начале следующего года активисты Конгресса устроили своеобразную демонстрацию на праздновании по случаю присвоения Найроби официального статуса города. Пытаясь привлечь внимание высоких английских гостей к положению бедноты Найроби, они явились на праздник в траурных черных повязках. Кроме того, Конгресс опубликовал резкую прокламацию.
Конгресс не был зарегистрирован, и угроза запрета висела
221
над ним постоянно. Но неожиданно произошло событие, ускорившее развязку. На одном из совместных заседаний руководства Восточноафриканского конгресса профсоюзов и Союза африканцев М. Сингх предложил внести в резолюцию требование независимости Кении, и она была принята. Мало того, в ходе дебатов Сингх заявил: «Да, я коммунист. Я борюсь за свободу всех стран мира». Он повторил это потом и на суде. Сингх не был коммунистом ни по принадлежности к какой-либо компартии, ни по своим взглядам. Он боролся за идеи прогресса, ассоциировавшиеся в умах передовых кенийцев с коммунистическим движением. Но среди поселенцев и администрации его зш явление произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Сингх и Кубаи были арестованы, им было предъявлено обвинение в руководстве незаконной организацией. Кубаи, кроме того, обвинили в покушении на убийство. Но «покушение» было состряпано так грубо, что даже колониальный суд оправдал подсудимого. В знак протеста против действий администрации бастовало более 6 тыс. рабочих. Вскоре Конгресс распался. Причиной тому была не только его слабая организация, но и отношение Союза африканцев к профсоюзному движению. Руководители партии считали, что профсоюзы не должны заниматься политикой, и проповедовали умеренность в рабочем движении. Кениата настойчиво советовал Ф. Кубаи и другому активисту Конгресса, Б. Каггиа, активно сотрудничавшим в найробийском отделении Союза африканцев, выбрать между политикой и профсоюзами |407, с. 329—333].
В «белой» колонии антиколониальный характер приобретала почти любая деятельность африканцев, если она не была прямо организована или санкционирована колниальными властями. Это относилось и к предпринимательству. Едва зарождавшийся в Кении «средний» класс встречал со стороны администрации чуть ли не такое же противодействие, как и рабочее движение. Печальную известность приобрела в послевоенные годы история фабрики по изготовлению сушеных овощей в Ка- ратине.
Это крупное предприятие (более 5,5 тыс. рабочих) было построено в годы войны на территории резервата гикуйю и приносило колониальной администрации большую прибыль. В 1946 г. истекал срок субаренды земли, сданной «туземными» властями под фабрику. Местные жители, в основном бывшие военнослужащие-гикуйю, решили выкупить фабрику и предложили администрации 30 тыс. ф. ст. Но сама мысль о возможности покупки целой фабрики африканцами привела в ужас европейскую общину. Администрация нашла «компромиссное решение» — передать по 49% акций европейской и африканской компаниям, а 2% оставить за собой. Гикуйю отказались. Аренда не была продлена, и администрации пришлось закрыть фабрику (Г604. с. 235—2371
Нет ничего удивительного, что в таких условиях предпринимательская деятельность часто окрашивалась в антиколониальные тона. Наиболее яркий пример — Корпорация торговли и бережливости луо, созданная в 1945 г. учителем Огингой Один-
222
гой. Корпорация объявила, что собирается пропагандировать идею накопления и кооперации среди луо, а также приумножать общий капитал при помощи самой разнообразной деятельности, вплоть до... «строительства аэродромов, ангаров, гаражей... в Африке и других местах» [381, с. 227—232]. Но были и другие цели. Одинга вспоминал потом: «Я был убежден, что, начиная борьбу против господства белых, нам нужно утвердить свою экономическую независимость. Нам нужно было показать, чего мы сможем достичь своими силами» |[229, с. 76]. «Показать» нужно было не только европейцам, но и своим согражданам, чтобы укрепить в них чувство собственного достоинства, придать уверенность в своих силах.
Начинали с «капитала» 180 шилл. Первый оклад Одинги на посту директора — 40 шилл. в месяц (учительствуя, он получал 120) i[229, с. 81—82; 381, с. 227—229]. Корпорация торговли и бережливости вела разнообразную деятельность: занималась строительством, торговлей, печатью; в 1950 г. открыла отель — первое здание, принадлежавшее африканцам в Кисуму; в середине 50-х годов выстроила три мукомольни [229, с. 84—85; 381, с. 233—234, 236—2Э7, 239]. Не все начинания приносили прибыль. Корпорация не платила дивиденды до 1972 г. {381, с. 247]. В колониальные годы она в большой мере держалась на энтузиазме организаторов и доверии вкладчиков.
Корпорация отказывалась от участия в каких бы то ни было политических акциях, на все важнейшие мероприятия приглашала представителей колониальной администрации. Но именно она печатала многие из газет, издававшихся в те годы африканцами, хотя это приносило одни убытки {381, с. 234—235]. «По уровню политической сознательности эти газеты были различны,— писал Одинга,— но некоторые совершенно недвусмысленно критиковали правительство. Я иногда задавался вопросом, знало ли оно их содержание» [229, с. 82].
Корпорация не была ни «народной», ни массовой, как пытался убедить своего читателя Одинга. Число ее акционеров было невелико — немногим больше 1 тыс., и в основном, как показал кенийский историк, это были представители зажиточной прослойки, стоявшей «над крестьянством» |[381, с. 242, 251]. И все же Корпорация воспитывала общественное мнение, сплачивала будущих руководителей политической борьбы, демонстрировала среднему слою бесперспективность идеи «независимости через бизнес». Одинга писал, что именно трудности Корпорации подтолкнули его к политике {229, с. 94]. Европейцам везде мерещилась крамола, но, может быть, миссионер из Ньян- зы был не так уж далек от истины, заметив: «Национализм может начинаться с чего угодно... Она (корпорация.— И. Ф.) — не просто деловое, но и национальное движение, за которым правительству нужно хорошенько следить» {229, с. 85].
Самой массовой крестьянской формой антиколониализма и после войны оставались «дини» — афро-христианские движения.
223
Считается, что к концу колониальной эпохи число последователей независимых церквей в Кении составляло около 120 тыс. человек (в Танганьике—около 25 тыс.,в Уганде — около5тыс.) {539, с. 124—125, 171]. В действительности подсчитать «паству» независимых церквей или хотя бы число этих движений было невозможно. Многие из тех, кто причислял себя к ортодоксальным христианам, не были таковыми; некоторые афро- христианские движения считались не столько религиозными, сколько политическими, и их попросту не принимали во внимание; некоторые афро-христианские секты действовали нелегально; даты возникновения и прекращения деятельности многих неизвестны. Во всяком случае, ясно, что афро-христианские движения были распространены чрезвычайно широко, и под их влияние в тот или иной период подпадала значительная часть населения центральных районов страны.
Наиболее известны в 40—50-е годы были Африканская православная церковь, Африканская независимая церковь пятидесятницы, Номиа луо мишн, Церковь Христа в Африке, Африканская израилитская церковь, Церковь африканского общества, Дини я рохо, Дини ап мбоджет [62, с. 212; 229, с. 68—74; 539, с. 145—148, 157, 161—162, 165—166, 169, 171]. Как и в межвоенный период синкретические церкви различались по характеру: некоторые выделялись из ортодоксального христианства из-за незначительных расхождений в трактовке догмы, другие наполняли религиозную форму антиколониальным содержанием.
После войны впервые появились движения, осознанно и целенаправленно использовавшие религиозные лозунги для воспитания людей в антихристианском духе. Такова была Дини я Каггиа. «В насаждении иностранной религии через миссии я увидел ступеньку к колониализму,— говорил ее основатель Б. Каггиа,— и понял, что первым шагом борьбы за независимость должно быть освобождение народа от иностранных религиозных верований» {604, с. 192]. Программа Дини включала создание африканской церкви, независимой от европейского господства, очищение церкви «от европейских мерзостей, которые преподносятся африканцам в качестве учения», создание нового катехизиса, который подходил бы африканцам и включал полезные африканские привычки и культурные традиции [229, с. 73; 604, с. 193].
После войны антиколониализм афро-христианских движений стал более взрывчатым, наступательным. Одной из характерных в этом отношении была Дини я мсамбва. Она возникла в начале 40-х годов в Северной Ньянзе под руководством Э. Ма- синдэ.
С христианством он порвал, взяв в дом вторую жену. Последователи считали Масиндэ мессией и полагали, что он обладает даром предвидения, может исцелять от болезней, становиться невидимым и превращаться в белого человека, появляться в нескольких местах одновременно, выходить из запер¬
224
того помещения. Масиндэ внушал своим последователям, что если в них будут стрелять, то пули обратятся в воду, едва коснувшись их тел [642, с. 86; 646, с. 168—170Q.
В проповедях Масиндэ, писал Одинга, «каждый „аминь“ был национальным гимном» [2129, с. 70]. «Пришло время этим белым уйти. Мне сказал это бог... Если они останутся, они согрешат против бога... И все богатства, которые вы у них видите, останутся здесь, для людей этой страны»,—говорил Масиндэ, призывая своих последователей готовить ружья (642, с. 94; 646, с. 177—179].
Важнее проповедей была атмосфера непокорности, вызова, которую создавал вокруг себя Масиндэ.
...Процессия с машиной Масиндэ во главе движется по дороге под бой барабанов и звуки песен. Навстречу — европеец, тоже в машине. Он дает гудок, чтобы толпа расступилась, но разгневанный Масиндэ останавливает людей, подходит к машине европейца и начинает стучать кулаком по стеклу. «Кто ты? Что тебе здесь надо? Кто дал тебе разрешение ездить по этой дороге? Это твоя страна? Ты что, не знаешь, что мы можем пустить тебе кровь?» Испуганный европеец убирает машину с дороги и ждет, пока люди Масиндэ пройдут (646, с. 177—179].
Мзунгу послушался Масиндэ! Можно представить, какое это вызвало воодушевление. Через полгода такой наглядной агитации любимой песней приверженцев Мсамбвы стала такая: «Европейцы мешали нам. Теперь у нас есть свой бог. Пойдемте вперед. Эти люди нас не остановят. Они — ничто... Давайте убьем их» [646, с. 159—169].
Мсамбва быстро распространилась среди луйя, соседних народов календжин (себеи, покот и др.), а потом перекинулась на африканцев, живших или работавших в поселенческих районах Транс-Нзойя и Уазин-Гишу. Последователи Масиндэ отказывались принимать участие в работах по консервации почвы, носить кипанде, сдавать скот «на нужды военного времени». Они сожгли дом англичанина, ведавшего сельхозработами в округе Букусу, здание «туземного» суда, три магазина :[229, с. 71; 646, с. 94—96].
В 1948 г. Масиндэ повел своих последователей — около 5 тыс. человек — на место памятного сражения букусу с англичанами в 1895 г. Там они поклялись изгнать иностранцев [646, с. 166]. Вскоре произошло столкновение с полицией, Масиндэ был арестован и сослан, Дини я мсамбва запрещена [642, с. 96; 646, с. 161]. Но движение не прекратилось. Приверженцы Мсамбвы поджигали ^церкви, школы, полицейские участки. В 1950 г. произошло настоящее сражение нескольких сот покот, приверженцев Мсамбвы, с полицией. Каждый год вплоть до 1962-го колониальные суды выносили десятки приговоров по обвинению в принадлежности к запрещенной дини [646, с. 162].
Наиболее опытные в политическом отношении антиколониальные силы страны объединились в рядах массовой политической организации. Союз африканцев Кении возник 1 октября 1944 г. в Найроби. На первых порах администрация поддерживала Союз, надеясь помочь «серьезно настроенным» афри¬
15 Зак. 654
225
канцам «разобраться в общественных делах». Председателем назначили сначала проверенного Г, Туку, но вскоре он отказался от почетного места: организация начала быстро превращаться в антиколониальную политическую партию |[604, с. 214— 215]. В сентябре 1946 г. признанным и бесспорным лидером вернулся на родину Кениата. 1 июня 1947 г. он стал президентом Союза африканцев.
Один из будущих руководителей антиколониального восстания, X. К. Вачанга, вспоминал, как впервые увидел Кениату на массовом митинге. «Уже тогда о нем говорили, как о мессии и спасителе народа Кении... Когда он приблизился к стадиону, люди подняли его машину и пронесли ее несколько тысяч ярдов до зала на руках... Те, кто остался снаружи, пытались протиснуться в зал, другие кричали: „Пусть мессия выйдет и поговорит с нами. Он принадлежит всем...“. Он говорил о многом. ...Призывал людей объединиться, чтобы потребовать у англичан землю и свободу... Слова „Старика" (чаще Кениату называли „Стариком*4 не по английски, а на суахили — „Мзее“.— Я. Ф.) очень впечатляли. Я слушал и чувствовал, что должен сделать что-то для защиты своей страны» [248, с. XXIII—XXIV].
То, что Кениата возглавил Союз африканцев, не только придало партии большой вес, но и превратило ее в глазах большинства в законного преемника Центральной ассоциации. В уставе партии выдвигались общедемократические требования (см. [62, с. 55; 143, с. 39—40; 368, с. 29]). Наиболее развернуто они были перечислены в меморандуме, представленном министру колоний Дж. Гриффитсу: прямое представительство африканцев в исполнительном совете; увеличение числа африканцев в законодательном совете с 4 до 12; чисто африканское представительство в восточноафриканской законодательной ассамблее;, всеобщее избирательное право (по общему списку голосования для всех рас); уничтожение расовой дискриминации и т. д. {62, с. 292—294]. Отдельно Союз представил Гриффитсу петицию по земельному вопросу, названную «Молитвой о возвращении нашей земли». Авторы «Молитвы» отрицали правомочность законов о землях короны и об опеке над туземными землями {604, с. 223—224].
Требование предоставления Кении независимости ни в уставе, ни в петициях не выдвигалось. Но и в таком виде колониальная администрация восприняла программу Союза не как отражение реально существовавших проблем, а только как вызов «агитаторов» законному правительству колонии. Даже десять лет спустя в документе «Происхождение и развитие May May», вышедшем в 1960 г. (доклад Корфилда), говорилось: «...в результате длительного самовнушения, самообмана и распространения патентованной лжи в справедливость этих (земельных.— Я. Ф.) претензий поверило настолько большое число гикуйю, что агитаторы смогли извлечь полную выгоду из этого в высшей степени взрывчатого источника недовольства» [62,
226
с. 264]. В таких условиях главным смыслом легальной деятельности Союза могло быть и стало только сплочение самых широких слоев африканского общества.
Руководство партии было полиэтничным по составу. Стремясь расширить ее этническую базу, руководители исколесили многие районы страны. А. Онеко, П. Нгей и Дж. Отиенде распространяли влияние Союза среди своих народов, создавали новые отделения. В сплочении африканского общества Кении особенно велика была роль Кениаты. Одинга говорил, что с его прибытием луо впервые начали мыслить в масштабах всей страны. К. Розберг и Дж. Ноттингем поставили в заслугу Кениате саму формулировку понятия «кенийский народ» [604, с. 117— 118].
Руководители Союза африканцев Кении пытались установить связи с лидерами национальных движений других стран. В 1946—1951 гг. они побывали в Дар-эс-Саламе, Кампале, Мощи. В 1948 г. велись переговоры о создании Африканского национального конгресса Восточной Африки, целью которого должно было стать создание единой независимой Республики Восточная Африка ,[62, с. 57—58; 604, с. 219].
Тактика Союза отличалась большим разнообразием. Одним из легальных способов сплочения, воспитания масс и одновременно демонстрации силы были бойкоты. Наиболее эффективным оказался уже упоминавшийся бойкот работ по террасированию почвы [62, с. 67]. В 1952 г. Союз африканцев провел кампанию бойкота головных уборов и пива, продававшегося не- африканцами, потом — бойкот европейских товаров и транспорта ,[368, с. 88, 254].
Важнейшим каналом воздействия партии на массы стали независимые школы гикуйю. Под влиянием руководства Союза Ассоциация образования гикуйю-каринга и Ассоциация независимых школ гикуйю окончательно разорвали отношения с колониальной администрацией, отказавшись обучать детей по ее программам. Конечно, они немедленно лишились материальной помощи, но зато воспитание детей в школах было полностью подчинено целям духовной деколонизации. По подсчетам колониальной администрации, к 1952 г. в независимых школах обучалось около 28 тыс. детей — целая армия борцов за независимость tf62, с. 176—177, 179—180, 190].
Самую большую роль в борьбе за духовную деколонизацию общества играл учительский колледж в Гитунгури. В 1952 г. в нем обучалось около 800 студентов [62, с. 188]. Лекции по общественным наукам здесь читали лидеры национально-освободительного движения, в том числе Кениата, руководили колледжем Кениата и П. М. Коинанге.
В воспитании политического сознания масс большую роль играли газеты на африканских языках. Официальным органом Союза считалась только одна — «Саути я Мвафрика», но некоторые руководители партии, П. Нгей и А. Онеко, например,
1S*
227
издавали свои газеты, другие часто печатались в «нейтральных» изданиях. Самым популярным был еженедельник «Муменьере- ри» тиражом около 10 тыс. экземпляров, публиковавший резкие антиколониальные статьи [62, с. 195, 198; 604, с. 212J.
В 1946 г. вопрос об африканской прессе обсуждался на. специальном совещании комиссаров провинций. Резолюция начиналась словами: «Нынешняя направленность прессы на туземных языках представляет серьезную угрозу будущему колонии» [62, с. 191]. Но принять суровые меры мешали традиции буржуазной свободы печати. Даже поселенческая «Ист афри- кен стэндард» присоединилась к кампании против вмешательства администрации в дела африканской прессы.
Летом 1952 г. одна из газет поместила такие строчки; «Европейцы — ножи, а африканцы — мясо. Наступает время, когда африканцы будут ножами, а европейцы — мясом, и их разрежут на куски» >[62, с. 198]. И... ничего не случилось. Тем летом колониальной администрации было уже, видимо, не до таких мелочей, как газетные угрозы: движение May May, вылившееся в восстание, набирало силу.
Движение и восстание May May
Колониальная историография видела в восстании варварский бунт против «цивилизации». В демократической и прогрессивной печати колониальных времен утвердилось мнение, что оно было спровоцировано английскими колонизаторами. На эту точку зрения встали в то время и советские авторы. Вряд ли тогда могло быть иначе: сказывалось отсутствие информации,, да и официальная позиция Союза африканцев была примерно такой же.
«Ни Кениата, ни его партия никогда не имели ничего общего с движением May May»,— говорилось в брошюре Союза, опубликованной уже после запрета партии [112, с. 18, 21Д. «Мы не знаем, что такое May May... Я думаю, что May May — это новое слово. Старейшины не знают его. САК — не боевой союз, он не действует кулаками и оружием»,— говорил Кениата на митингах [62, с. 302, 304—305]. Он не кривил душой: ведь участники движения никогда не пользовались названием «May May». Происхождение его до сих пор неясно (см. [368, с. 31—32]), но ввели его в оборот европейцы.
С тех пор были опубликованы многочисленные документы, мемуары, тексты песен, молитв и клятв восставших, появились научные труды. Ниспровергнув «колониальный миф» о May May, неоколониальная буржуазная литература не вскрывает все же глубинные корни и социальное содержание движения и восстания. Наиболее развернутый анализ социальной базы, организационной структуры и методов восстания, а также научная оценка его специфики и характера содержатся в монографии А. М. Пегушева ([368].
Хотя уже стало возможным появление обобщающих иссле¬
228
дований, не все точки над «i* в истории May May расставлены. Правительство независимой Кении замалчивает восстание. Кенийские историки упоминают о нем порой с явным чувством неловкости (см., например, [572, с. 281—284]), а то и пытаются оправдать тех, кого повстанцы недвусмысленно называли предателями i[575, с. 142- 144]. В последние годы история May May обрела столь острую политическую окраску, что заниматься ее изучением в Кении стало небезопасно. Историк Майна ва Киньятти, собиравший устную традицию о восстании и попытавшийся охарактеризовать его с более радикальных позиций, заплатил за свои научные изыскания в этой области свободой [275, 19.Х.1982]. Национальной историографии еще предстоит сказать свое слово об этой яркой странице истории страны, да и всего континента.
Движение было сложным, неоднородным явлением, оно формировалось из нескольких потоков антиколониализма послевоенных лет. Один из важнейших его истоков — Центральная ассоциация гикуйю. После окончания войны руководители партии попытались вновь зарегистрировать ее, но тщетно [62,с. 54]. Нелегальное положение чрезвычайно сузило сферу ее деятельности. Она могла только вербовать новых членов и укреплять единство своих рядов. И то и другое достигалось с помощью клятвы.
Клятва была важным аспектом церемонии вступления в Центральную ассоциацию еще в довоенные годы, но теперь ее значение возрастало с каждым годом. После войны клятвенные церемонии возродились раньше всего в Киамбу. Клятвоприно- шения были только добровольными, организаторы стремились «обращать» прежде всего элиту, и потому расширение круга посвященных шло медленно ,[604, с. 247].
Клятвы Центральной ассоциации, возможно, и стали первыми клятвами May May [193, с. 26].
Я говорю правду и клянусь перед богом И перед этим движением,
Движением единства...
Что не отступлю в борьбе за землю,
За землю Кириньяги, что мы возделали,
Землю, что была отнята европейцами.
И если я не сделаю этого,
Пусть эта клятва убьет меня,
Пусть это «семь» убьет меня,
Пусть это мясо убьет меня.
Я говорю правду, что буду действовать вместе С силами движения единства.
И буду помогать ему всем, что от меня потребуется...
Ритуал клятвенных церемоний служил для европейцев доказательством «варварства» движения и отталкивал от него многих образованных гикуйю. Он включал переработанные эле¬
229
менты церемоний инициации и традиционных клятвоприноше- ний: посвящаемые проползали под арочной из банановых стеблей, откусывали мясо только что освежеванного козла и т. д. Клятву, как молитву, произносили лицом к горе Кения, церемония проводилась тайно, ночью (см. [193, с. 25—27]). Весь арсенал традиционной культуры гикуйю был взят на вооружение. В то же время клятва была не просто набором традиционных символов. Известная советская исследовательница Б. И. Шарев- ская сравнила ее даже с присягой, которую дают члены любой светской конспиративной организации [254, 1974, № 4, с. 23].
Эмоциональная апелляция к национальным и антиколониальным чувствам одновременно производила ошеломляющее впечатление на посвящаемых. Дж. М. Кариуки, в годы восстания уже хорошо образованный человек, вспоминал: «Мои чувства во время церемонии являли собой смесь страха и радости. Потом... я почувствовал восторг от нового духа власти и силы. Вся моя предыдущая жизнь казалась пустой и незначительной» [193, с. 27].
Между Центральной ассоциацией и Союзом африканцев существовали тесные связи, но, по-видимому, они носили не формальный, а личный характер. Некоторые руководители Центральной ассоциации входили в руководство Союза и наоборот. На массовых митингах Союза, собиравших порой до 25 тыс. человек, лидеры движения умели создать напряженную, одушевленную атмосферу, которая могла объединять только посвященных. За призывами людям слышались слова клятвы, о ней напоминал банановый стебель, прикрепленный рядом с флагом Союза (см., например, [62, с. 137—138, 301—308]).
Но воинствующий национализм распространялся так быстро, что лидеры старшего поколения, возглавлявшие и Союз африканцев Кении и Центральную ассоциацию гикуйю, вскоре оказались не во главе, а чуть ли не во втором эшелоне движения. Одной из самых радикальных сил антиколониализма была городская молодежь. Ее настроения и помыслы ярче всего выразила Группа 40-го года, т. е. тех, кто прошел инициацию в 1940 г. Европейцы считали ее «сильной рукой» May May, а комиссар дистрикта Ньери назвал «сборищем хулиганов и головорезов» [62, с. 69].
Группой руководили будущие герои партизанской войны, среди них — X. К. Вачанга, В. Вокаби, С. Матенге и др. [248, с. XXVII; 604, с. 240]. Многие ее члены прошли через горнило второй мировой войны. Кредо Группы заметно отличалось от программ как Центральной ассоциации, так и Союза африканцев. Вот ее цели: остановить принудительное террасирование; не допускать, чтобы детям, рождающимся в больницах, делали инъекции (члены Группы подхватили и распространяли поверье, что дети-гикуйю болеют и умирают от этих инъекций); пресечь «продажу» девушек белым поселенцам в качестве рабочей силы; бойкотировать налогообложение, включая подуш¬
230
ный налог; пресечь принудительную дезинфекцию скота, красть оружие и другую собственность правительства; не допускать полицейских в резерваты; продолжать клитородектомию; пресечь посещение воскресных церковных служб в иностранных церквах; сжечь все кипанде в знак вызова [248, с. XXV]. Это была бескомпромиссная программа открытого неповиновения и борьбы.
Деятельность Группы была еще более вызывающей, чем ее лозунги. Собрать «налог» для Группы с европейца, да еще и пригрозить ему при этом; выкинуть пассажира из повозки рикши — обычные, ежедневные «подвиги» Группы. Но были и серьезные дела. Члены Группы не допускали женщин и девушек на работы по террасированию, организовывали пикеты у ям для дезинфекции скота. Случались кровавые столкновения с полицией ,[248, с. XXVI—XXX].
Много лет спустя Вачанга подытожил деятельность Группы: «Мы показали людям, что они могут быть храбрыми и сопротивляться правительству. Это знание сделало нашу борьбу еще более воинственной в последующие годы» |[248, с. XXXIX]. Поскольку Группа была на виду у полиции, в конце 1948 г. ее штаб прекратил существование. Но уже с 1950 г. молодежь играла все большую роль в деятельности Союза африканцев. Осенью 1951 г. сменился состав центрального руководства Союза. Умеренные потеряли свои посты, в национальный комитет вошли бывший член Группы 40-го года Ф. Кубаи, Б. Каггиа и другие лидеры из числа «городских радикалов». Новые настроения, привнесенные молодежью, подталкивали старшее поколение к более решительным действиям [191, с. 78—79; 368, с. 51, 66—67; 604, с. 259—269].
Новым стимулом и важной ступенью в развитии движения стало Оленгуруонское дело. Оленгуруоне — район в резервате масаев, выделенный в 1939 г. для скваттеров-гикуйю, изгонявшихся с Нагорья. Земля там предоставлялась переселенцам в аренду, но многие из них считали, что получают ее в собственность в качестве компенсации за экспроприированную [604, с. 252—254]. Первое время переселенцы вели свое хозяйство, как хотели. После войны администрация потребовала соблюдения норм агротехники. Для переселенцев это означало только одно: их не считают хозяевами участков. Они отказались выполнять новые правила и решили поклясться, что не уступят администрации. Клятву дали все — около 12 тыс. человек.
В конце 1949 г. переселенцев начали сгонять с земли. Скот и урожай были конфискованы, дома сожжены. Некоторые из оленгуруонцев вернулись в резерват, остальных вывезли на плато Ятта — засушливый район, выделенный для них между Мачакосом и Китуи. Клятву не нарушил никто [62, с. 296—297; 604, с. 254—257; 618, с. 82—84].
Оленгуруоне превратилось в символ страданий гикуйю, но важнее было другое. Именно здесь стал очевиден огромный
231
политический потенциал клятвы. Здесь она впервые превратилась из средства индивидуального воздействия в «эффективный аргумент в деле объединения и сплочения масс» J368, с. 79]. Руководство Союза африканцев не замедлило взять этот опыт на вооружение. В феврале 1950 г. руководители Союза решили расширить кампанию клятвоприношений. Это касалось прежде всего Ньери и Форт Холла, где до 1950 г. клятву приняли лишь немногие |[604, с. 247—248, 259].
Особая роль клятвы в сплочении и мобилизации масс на борьбу объяснялась не только тем, что в полицейских условиях «страны белого человека» легальные методы для этого не годились. Значение ее особенно возрастало из-за отсутствия единого центра движения. Первым руководящим органом движения был «Парламент», прямой наследник «Генерального совета», руководившего Центральной ассоциацией. Собирался «Парламент» в доме бывшего вождя Коинанге неподалеку от Найроби [604, с. 264]. В конце 1951 г. был создан новый центр — «Мухиму», позже переименованный в Центральный комитет. В ЦК вошли многие руководители Союза, в том числе, возможно, и Кениата. Преобладала в нем радикально настроенная молодежь l[ 191, с. 113—114; 368, с. 69—71, 119—120; 604,
с. 271—272].
Политика ЦК и «Парламента» не была единой, у каждого были свои «сферы влияния». ЦК подчинялась «Группа 30-ти» (или Комитет Центральной провинции), осуществлявшая контакты с комитетами округов. В январе 1952 г. был образован Военный совет. Комитеты Союза африканцев в одних районах были идентичны комитетам Центральной ассоциации и May May, в других —не были [188, с. 43; 368, с. 70; 604, с. 273— 274]. Видимо, именно сложность структуры руководящих органов движения заставила X. К. Вачангу написать: «У нас не было никакого лидера или командира, кроме клятвы. Нашим лидером была клятва» ,f248, с. 32].
С 1952 г. кампания клятвоприношений стала массовой. Б. Каггиа писал: «Был отдан приказ о привлечении к клятвам как можно большего числа людей. Для этого должны были использоваться все средства: убеждение, подкуп, а в случае необходимости даже сила» i[ 191, с. 108]. В середине 1952 г. [62, с. 167; 250, с. 34] появилась новая клятва, утверждавшая необходимость применения насилия,—клятва батуни [193, с. 29—30].
Я говорю правду и клянусь перед нашим богом, Клянусь этой клятвой батуни нашего движения, Которое называется движением борьбы,
Что если меня призовут убивать за нашу землю. Если меня призовут пролить за нее кровь,
Я подчинюсь и не отступлю.
И если я не сделаю этого,
Пусть эта клятва убьет меня.
Пусть этот козел убьет меня,
232
Пусть это «семь» убьет меня,
Пусть это мясо убьет меня...
Я говорю правду и клянусь перед нашим богом,
Что если меня призовут сражаться с врагом Или убить врага,—я пойду,
Даже если врагом окажется мой отец или мать,
мой брат или сестра.
И если я откажусь,
Пусть эта клятва убьет меня...
Посвящаемых называли «юношами, не прошедшими инициацию». Они произносили клятву обнаженными, просунув пенис в отверстие грудины только что освежеванного козла (172, с. 19— 21; 193, с. 28—30; 368, с. 321—322]. Этот акт мог символизировать и бракосочетание с кровью, и кровное братство всех посвящаемых. Третью клятву давали только командиры партизанских отрядов в лесах. Она была проста по содержанию и не сопровождалась сложными церемониями }[188, с. 280].
Обстановка в стране гикуйю становилась все более напряженной. Начались поджоги домов и покушения на жизнь предателей движения. Весной 1952 г. появились первые человеческие жертвы [62, с. 126, 137, 156—157]. Повстанческий «террор» казался европейцам бессмысленной жестокостью. Таким изображает его и колониальная историография. Участники движения восппинимали его совершенно иначе. В. Итоте писал: «...моей работой было уничтожение предателей... Приговоры выносились лишь тем, кто становился настоящей угрозой нашей безопасности...» (188, с. 41—42]. Слово «приговор» Итоте употребил вполне правомерно. С середины 1952 г. начали действовать суды движения. Справедливость их приговоров косвенно признал даже Корфилд, отметивший, что жертвами оказывались не случайные люди, а «твердые сторонники политики правительства» [62, с. 124].
И все же элемент случайности был неизбежен. Сколь бы графически четкой ни выглядела организационная структура движения на бумаге (см., например, (368, с. 67—69, 337]), представлять его строго централизованным и дисциплинированным в реальной жизни было бы равнозначно завышению уровня социального и политического развития африканского общества Кении тех лет. Сложная структура руководства затрудняла эффективный контроль, с ростом движения в него стали проникать уголовники. В этих условиях вряд ли можно было избежать эксцессов [604, с. 272].
Летом 1952 г. ЦК вынес решение о необходимости собирать оружие и боеприпасы [188, с. 43—44, 97—102; 604, с. 274], но планомерной подготовки к военным действиям не велось. Лишь за день до введения чрезвычайного положения, 19 октября 1952 г., ЦК призвал членов движения «взять в руки оружие и мужественно бороться за свои права» [191, с. 116; 368, с. 102, 310].
В октябре 1952 г. начались покушения на жизнь европей¬
233
ских фермеров. 7 октября было убит один из трех верховных вождей гикуйю — Варухиу. Через два дня администрация вынесла решение арестовать больше 180 африканских лидеров, ввести в Кению дополнительный контингент английских войск и с 21 октября объявить в стране чрезвычайное положение 162, с. 157—159].
Дж. Кениата, Ф. Кубаи, А. Онеко, Б. Каггиа, П. Нгей и К. Карумба были арестованы в день объявления чрезвычайного положения и обвинены в «руководстве незаконным обществом». Суд над ними продолжался с ноября 1952 по март 1953 г. и стал самым громким политическим процессом того времени, вызвав многочисленные отклики по всему миру. Позже, в 1958 г., главный свидетель обвинения по делу Кениаты Р. Мачариа заявил под присягой, что в 1952 г. он был подкуплен колониальной администрацией, но Кениату не выпустили (подробнее см. [140; 616]).
Чрезвычайные законы свели на нет и без того минимальные гражданские свободы африканцев. Была запрещена деятельность африканских политических партий, гикуйю всегда должны были иметь при себе удостоверения личности и пропуска, им запрещалось пересекать границы округов и т. д. |[95, с. 3—6]. Полицейские облавы в городах стали обычным явлением. «Подозрительных» высылали в резерваты, но большинство высланных уходили в леса. Чрезвычайное законодательство предусматривало «репатриацию» в резерваты и скваттеров-ги- куйю. К концу 1953 г. «репатриантов» было уже около 100 тыс. Оставшись без земли и крова, многие из них тоже шли к партизанам [604, с. 285—286].
Аресты нанесли тяжелый удар руководству движения. Почти все члены ЦК были арестованы. Координирующим центром движения стал Военный совет, но он не обладал большим авторитетом и не мог поддерживать постоянные контакты с лесными отрядами.
Тот ли это Военный совет, создание которого В. Итоте относит к началу 1952 г., неясно. Сведения о нем довольно противоречивы (см., например, [188, с. 43; 250, с. 24—25]). Корфилд называет руководящим центром восстания «Совет свободы», но возможно это тот же орган [62, с. 261].
По одним сведениям, Военный совет был уничтожен весной 1953 г. [02, с. 261; 229, с. 115—116], по другим—он существовал еще и год спустя [172, с. 35]. Сама противоречивость этих свидетельств доказывает ограниченность сферы его влияния. В Киамбу по-прежнему пользовался влиянием «Парламент» [604, с. 273]. Но реальное руководство движением после объявления чрезвычайного положения могла осуществлять только партизанская армия.
Партизанские отряды формировались вокруг лидеров, которым удалось уйти от ареста, или людей, имевших боевой опыт. Всего в разгар восстания в лесах находилось 30—50 тыс. человек. Партизаны гордо называли себя «Армией земли и свободы». Но армии в полном смысле этого слова не было. Отряд объединял чаще всего выходцев из одной местности. Оттуда
234
он получал продовольствие, боеприпасы, пополнение. Руководители отрядов действовали несогласованно. [143, с. 246; 248,
с. 29, 182—186; 368, с. 170]. Отрядами командовали люди, не обладавшие достаточным политическим и военным опытом, а порой и элементарной грамотностью (среди партизан было очень мало образованных людей).
И все-таки «Армия земли и свободы» несколько лет противостояла регулярным английским войскам, оснащенным новейшей техникой. Это означало, что не только ее командиры, но и большинство рядовых бойцов были людьми находчивыми, смелыми и преданными делу борьбы за свободу.
Партизанские отряды базировались в лесных массивах гор Абердэр и Кения. Абердэрской группировкой командовал Дедан Кимати, силами горы Кения — В. Итоте («генерал Китай»). «Фельдмаршал» Кимати был одним из самых любимых и уважаемых лидеров. Он обладал довольно широким политическим кругозором, мужеством, был наделен ораторским и военным даром. «У него был негромкий голос,— пишет Вачанга,— но он знал, как вести людей и в споре и в сражении. Его глаза были словно глаза льва, и он был гигант ростом и сложением. Когда он лежал на земле, можно было подумать, что это носорог. Он был храбр, как симба (лев.— Я. Ф.), и умен, как сунгура (заяц.—Я. Ф.). Колониальные власти оценили голову Кимати в 10 тыс. шилл. (,[248, с. 25—26, 33]; подробнее о нем см. [368, с. 178—188]).
Боевые действия мало напоминали тактику современной партизанской войны. Повстанцы совершали набеги на резерваты (в «чужие» локации и округа), на европейские фермы, полицейские участки. Основными трофеями были скот, продовольствие, оружие, боеприпасы. Самые активные действия велись между апрелем и августом 1953 г. в Форт Холле и Ньери [229, с. 117; 248, с. 57—59; 517, с. 144—145; 604, с. 298].
Нападения на европейские фермы не отличались избирательностью. «Добрый» фермер мог пострадать так же, как и его сосед-изувер (см., например, [517, с. 123—124]). Но жестокость была не «варварством», а тактикой. «Одним из главных наших преимуществ был страх, который мы могли внушить им... Мы хотели сделать жизнь в Кении невыносимой для белых в надежде, что они уйдут сами»,— писал Вачанга [248, с. 44, 67].
В резерватах, наоборот, партизаны отчетливо знали, кому и за что мстят. Наиболее известный случай — события в Лари. В одну мартовскую ночь 1953 г. повстанцы перебили там почти всех жителей — около 90 человек. [517, с. 140—141]. Колониальная историография превратила убийство в Лари в символ «кровожадности» повстанцев, умалчивая о том, что оно было лишь заключительным актом давно разворачивавшейся драмы.
В 1934 г. администрация экспроприировала земли гикуйю в районе Ти- гони—Лимуру в Киамбу. Для жителей были выделены участки в Лари и Ке-
235
рите, но почти все переселяться отказались. Лука Вакахангара не только согласился перевезти свою мбари, но и выдал администрации «подстрекателей». Луку и его родню со всем скотом и имуществом перевезли в Лари, наградив его еще и титулом вождя. Оставшиеся — около 10 тыс. человек —были согнаны с земли, их дома сожжены, поля уничтожены [248, с. 3, 4; 604, с. 254]. В операции мести приняли участие соседи Луки по Тигони и скваттеры, чью землю занял он в Лари.
Сколь бы удачными ни казались отдельные налеты, в целом тактика разрозненных ударов была, конечно, малоэффективна. Разрушение мостов, дорог, телефонных и телеграфных линий нанесло бы противнику большой урон. Но повстанцы действовали более близкими и понятными им методами, отражавшими уровень массового сознания крестьянства колониального общества. Некоторые лидеры (прежде всего Кимати) понимали жизненную необходимость изменения тактики и превращения отрядов в настоящую армию.
Первым координирующим органом восстания был Объединенный комитет горы Кения и Ньяндаруа, возникший, по-види- мому, весной 1953 г. [188, с. 127—129]. Летом в Абердэрах был создан Совет обороны гикуйю {143, с. 225, 241; 248, с. 40]. В конце 1953 г. там же возник «Парламент Кении» [143, с. 329, 248, с. 40—41; 604, с. 300—301], которому на некоторое время удалось поставить под свой контроль многие отряды и группы повстанцев [368, с. 160]. Конец 1953 — первая половина 1954 г.— время наивысшего подъема восстания. Тогда была введена военная иерархия, началось производство самодельного оружия, созданы штабы, налажены связи с резерватами, приняты «Правила поведения в лесу», призванные укрепить дисциплину [188, с. 100—108, 285—291; 368, с. 326—329].
Военные успехи партизан заставили англичан вступить с ними в переговоры .[368, с. 218]. Попытка переговоров была предпринята после пленения раненого Итоте. Итоте писал, что установление контактов с администрацией было поручено ему еще раньше {188, с. 158—160]. Именно поэтому, попав в плен, он и счел себя вправе начать переговоры. Некоторые кенийцы убеждены, однако, что Итоте стал предателем (см., например, *,[ 143, с. 330; 229, с. 118]. Как бы то ни было, при его посредничестве в марте 1954 г. лидеры партизан встретились с англичанами. Но заключенное перемирие вскоре было сорвано, а новая встреча не состоялась {143, с. 350—352; 368, с. 229—230, 335—337].
Уже тогда, в период подъема, выявилась основная линия внутренних противоречий в повстанческих отрядах. К. Нджама, один из немногих образованных партизан, писал, что Кимати, пытавшийся реорганизовать повстанческие отряды, отстаивал «революцию». Противостояли ему приверженцы «племенных традиций» [143, с. 413], выступавшие от имени неграмотного большинства. Самым известным из них был популярный командир, второй после Кимати лидер в Абердэрах С. Матенге. Попытки Кимати централизовать руководство повстанческими от¬
236
рядами «традиционалисты» воспринимали прежде всего в контексте борьбы за власть. Окончательный раскол произошел веской 1955 г., когда в противовес «Парламенту» Матенге и его сторонники создали свой орган власти — «Кения рииджи» [143, с. 471; 248, с. 27; 368, с. 161—162].
Далеко не все отряды подчинялись какой бы то ни было власти, кроме власти своего командира. «Комерера,— говорил о них Кимати,— это преступники или дезертиры, трусы, которые бегут от голода, чтобы добыть деньги силой...» |[604, с. 301].
Важной составной частью партизанского движения была война в городах. Найроби был наводнен полицией, войсками, шпионами, и тем не менее городские повстанцы добывали оружие и боеприпасы, устраивали побеги заключенных, набирали рекрутов для леса. У городских партизан была своя сеть оповещения, разведка, курьерская служба. Полицейские облавы, перестрелки, налеты стали обычной чертой жизни африканских районов Найроби {188, с. 97—102, 109—119; 247, с. 20—22; 248, с. 46—55, 177—178, 180—181; 368, с. 239—261].
Весной 1954 г. английские войска начали наступление на партизанские отряды горы Кения. К концу года повстанцы этого района были совершенно обескровлены и отрезаны от Абер- дэр, большинство командиров погибли или попали в плен (подробнее см. {355]). В это время силы безопасности начали наносить тяжелые удары и по городским партизанам. Самой болезненной для повстанцев оказалась операция «Энвил», проведенная весной 1954 г. Были арестованы многие лидеры, обнаружены склады оружия, целые лаборатории по изготовлению фальшивых документов, около 27 тыс. человек попали в концентрационные лагеря. После этого разгрома движение в городах пошло на спад {368, с. 256—260; 604, с. 303].
Новые наступления правительственных войск зимой и весной 1955 г. сократили численность партизанских войск на две трети. Противостояла им 35-тысячная армия, артиллерия и авиация (355, с. 166—167; 604, с. 293—294]. В годы восстания погибло более 11 тыс. повстанцев. В концентрационных лагерях и тюрьмах в начале 1955 г. находилось около 400 тыс. человек, 800 было казнено [62, с. 316].
Резерваты были постепенно превращены в укрепленные лагеря. Почти на каждом холме возводился форт, окруженный глубоким рвом с острыми кольями, земляными валами и изгородями из колючей проволоки. У подножия укрепленных холмов были выстроены новые деревни, находившиеся под контролем войск и полиции. В них сгоняли жителей со всей округи. К осени 1955 г. более миллиона гикуйю, меру и эмбу были переселены в 854 такие деревни. Вокруг леса шла полоса (в милю шириной), считавшаяся запретной зоной. Охрана могла стрелять здесь без предупреждения [604, с. 294; 618, с. 111]. Эти меры привели к изоляции лесных бойцов.
237
Но не только рвы и запретные зоны разделяли резерваты и леса. Полицейский террор усиливался, и поддержка повстанцев требовала от крестьян все больших жертв. В то же время администрация поняла, что одними репрессиями восстание подавить не удастся. С 1954 г. в резерватах гикуйю, меру и эмбу началось проведение реформ, направленных на укрепление социальной базы колониального режима. После этого число «ло- ялистов»— тех, кто активно сотрудничал с колониальными властями,— начало постоянно расти.
Утрата поддержки резерватов стала одной из важнейших причин поражения восстания. В октябре 1956 г. были окружены и уничтожены остатки отряда Кимати. Сам «фельдмаршал» попал в плен и в феврале 1957 г. был казнен. В начале 1957 г. сопротивление фактически прекратилось. Последние группы партизан покинули свои убежища лишь в конце 1963 г. в канун празднования независимости.
Борьба повстанцев с предателями движения и активное участие «лоялистов» в подавлении восстания позволили многим авторам называть May May «гражданской войной» в стране гикуйю. В пользу этого определения на первый взгляд свидетельствует и то, что во время восстания погибло всего 95 европейцев, а «лояльных» африканцев — 1920 [62, с. 316]. Социальная грань между повстанцами и лоялистами была весьма нечеткой, но исследователи все же прослеживают общую тенденцию. Лоя- листы были обычно старше по возрасту и зажиточнее повстанцев /[618, с. 104, 107—108], среди них было больше христиан и образованных. И все же социальное содержание восстания определялось, как справедливо замечает А. М. Пегушев, противоречиями не внутри африканского общества, а «между угнетаемым африканским большинством, с одной стороны, и всем колониальным режимом — с другой, в первую очередь европейским меньшинством, выступавшим как единая эксплуататорская группа по отношению к подавляющему большинству населения страны» [368, с. 276].
Значение восстания трудно переоценить. Оно послужило важным фактором пересмотра английской колониальной политики в Африке и ускорило провозглашение независимости. «Без лесных бойцов в так называемый период May May,— писал Одинга,— независимость Кении все еще оставалась бы мечтой немногих, оторвавшихся от реальной почвы политиков» [229, с. 254—255].
Восстание повлияло буквально на все сферы жизни кенийского общества, но влияние это не было однозначным. Борьба повстанцев May May способствовала росту национального самосознания всех африканцев Кении, независимо от их этнической принадлежности и взглядов. В политическую борьбу втянулись новые этнические группы, и в то же время восстание обострило национальные и социальные противоречия. Упрочились позиции умеренного крыла национально-освободительного движения;
238
имеете с тем все африканские лидеры опирались отныне на авторитет устрашающей разрушительной силы восстания, даже если сами осуждали его «антигуманные» методы. May May наглядно продемонстрировало администрации пагубность прежней политики. Земля и свобода не были завоеваны, но Кения начала быстро утрачивать облик «страны белого человека».
Подготовка к независимости
Еще в ходе восстания администрация начала предпринимать решительные меры по «стабилизации» рабочей силы. В 1954— 1956 гг. минимум заработной платы взрослых рабочих-африкан- цев был увеличен на 68%. Реальная заработная плата с 1958по 1965 г. выросла на 75% [377, с. 145]. Признаком ломки системы отходничества был и рост числа женщин и детей в городах. В 1948 г. взрослые мужчины составляли 75% африканского населения Найроби, в 1962 г.— 47% ([346, с. 137, 143].
Наиболее важным мероприятием администрации в социально-экономической сфере стала земельная реформа: консолидация участков одного хозяина в единый надел и регистрация этого надела в собственность. Реформа должна была способствовать разрушению системы отходничества и созданию в деревне «среднего класса», который, по словам комиссара Центральной провинции, будет «слишком занят на своей земле, чтобы обращать внимание на политическую агитацию» [618, с. 117, 238].
Массовая кампания по консолидации была закончена в 1958 г. в Киамбу, а в 1959 г.—в Ньери. В Форт Холле ее проведение не было завершено и к 1965 г. [618, с. 113—114]. Вслед за Центральной провинцией реформу начали проводить во всех земледельческих районах страны. Отношение к ней было различным. Кипсигис еще в 30—40-е годы начали выделять семейные участки из общих, и к началу 50-х годов почти вся земля их резервата была распределена. Тот же процесс захватил гусии и большую часть элгейо и мараквет. Проведение консолидации по собственной инициативе начали жители некоторых округов камба и луйя [618, с. 194; 645, т. 2, с. 7—8, 15, 165—166]. Всего к 1962 г. консолидация была проведена на площади свыше 2 млн. акров; число семей, чьи участки были консолидированы, достигло 265 тыс. [78, 1946—62, с. 240].
Наибольшее сопротивление проведению земельной реформы оказали луо. Как и в резервате гикуйю, в Ньянзе была высокая плотность населения — 370 человек на 1 кв. милю [645, т. 2, с. 124]. Данные о распределении земли указывают, казалось бы, на то, что социальное расслоение зашло здесь даже дальше, чем в Центральной провинции [81, с. 20—21]. В годы восстания возросла численность отходников, к 1963 г. составлявших 30—36% населения. И все же при всем внешнем сходстве со-
239
диальные процессы в обществах луо и гикуйю во многом различались.
В Ньянзе отходничество начало принимать особенно значительные масштабы в те годы, когда за счет роста населения из общины отвлекались не необходимые, а избыточные рабочие руки, причем отвлекались надолго, поскольку уже шел процесс «стабилизации» рабочей силы. Здесь почти не было земельных экспроприаций, общинные традиции разрушались медленнее, сильнее было влияние традиционных властей, купли-продажи земли почти не было, пастбища оставались в общем пользовании (645, т. 2. с. 127, 151]. До 1962 г. в Центральной Ньянзе не было зарегистрировано ни одного участка. Только в 1964 г., опасаясь оставить своих сограждан без гарантий на землю, которые получали теперь другие народы, местный туземный совет Центральной Ньянзы принял решение о проведении консолидации |[645, т. 2, с. 117, 150—152, 167, 170].
Важнейшим социальным следствием реформы было углубление расслоения крестьянства. В 1960—1961 гг. в Центральной провинции на долю 64,8% хозяйств приходилось 35,3% земли. Без учета безземельных приблизительно треть семей здесь владела 2/з всей земли {81, с. 20—21; 346, с. 126]. Консолидированные участки не разрешалось дробить между наследниками во избежание распыления нового «среднего класса» |[78, 1946— 1962, с. 240]. Для зажиточных крестьян администрация составляла планы ведения хозяйства. В Центральной провинции к 1963 г. было составлено 5400 «дорогих» планов, предназначавшихся для богатых «прогрессивных фермеров», и 40 тыс.— «дешевых» [618, с. 147; 645, т. 2, с. 18]. Эти цифры косвенно указывают на численность зажиточной прослойки в те годы.
По официальной статистике, к концу колониального периода в Киамбу было 40,9% безземельных (по подсчетам Ю. М. Иванова — около 39,5 тыс. семей), в Ньери— 19,4, Форт Холле—18% [346, с. 127—128]. Значительная часть безземельных осталась также и безработными, поскольку «стабилизация» рабочей силы в городах привела к сокращению ее численности. После амнистии 1955—1956 гг. безработица в Кении стала постоянным явлением.
В 50-е годы английская политика в Кении по-прежнему называлась «многорасовой», но восстание изменило ее содержание. От африканских лидеров, прежде поставленных в положение псевдопартнера эксплуататорских групп, теперь зависела сама возможность функционирования «многорасовости». По новой «многорасовой» конституции, принятой в 1954 г. (по имени министра колоний ее назвали «конституцией Литтлтона»), исполнительный совет в колонии заменялся советом министров, в котором лишь один пост отводился африканцу. Важным нововведением считались выборы африканских представителей в законодательный совет [59].
Поселенцы приняли эту конституцию, хотя и не без борьбы.
240
Из-за разногласий распался Союз избирателей. На выборах европейских представителей в законодательный совет в 1956 г. откровенно расистская Федеральная партия независимости под руководством Ф. Кавендиш-Бентинка потерпела поражение. Представители несколько более либеральной Партии единой страны, возглавлявшейся М. Бланделлом, и «независимых» вошли в законодательный совет [388, с. 136—137, 140]. Принял конституцию Литтлтона и Индийский национальный конгресс, не выступавший после войны против конституционных маневров английского правительства, несмотря на то что некоторые его руководители поддерживали связи с африканскими лидерами и оказывали им материальную и практическую помощь \[343, с. 72—75].
В условиях чрезвычайного положения от африканских политиков трудно было ждать радикальных программ. Действительно, первые африканские политические организации, возникшие после снятия в середине 1955 г. запрета на их создание (создание африканских политических организаций разрешалось по всей стране, кроме Центральной провинции, но только в границах округов), отличались умеренным, едва ли не проколониаль- ным характером. Но уже в 1956 г. Африканский конгресс округа Найроби потребовал «открытия» Нагорья, ликвидации цветного барьера, предоставления африканцам половины мест в законодательном совете. Создатель Африканского конгресса, адвокат К. Арвингс-Кодек, выступил с лозунгом «Африка — для африканцев» [366, с. 26—27, 32—33]. Времена изменились — маленькая и слабая партия выдвигала требования, на которые не решался в свое время Союз африканцев. Появление этих требований после долгих лет репрессий показало, что национализм жив и развивается.
Весной 1957 г. на первых выборах африканских представителей в законодательный совет избиратели голосовали за кандидатов шести «окружных» партий. Из-за высоких цензов и дополнительных препон (удостоверения о лояльности для гикуйю, меру и эмбу и пр.) в голосовании приняло участие всего около 125 тыс. человек [366, с. 33—34; 450, с. 140—141]. Казалось бы, в таких условиях колониальная администрация могла рассчитывать на благоприятный исход выборов. Но из шести избранных лишь один декларировал лояльность британской короне. Это был представитель календжин учитель Даниэль арап Мои ([366, с. 37]. Остальные оказались, по выражению английского автора, «откровенными националистами» [252, с. 38]. Африканские депутаты выступили против конституции Литтлтона и бойкотировали министерский пост.
Единодушная оппозиция африканской фракции заставила нового министра колоний А. Леннокс-Бойда пойти в 1957 г. на изменение конституции. В законодательном совете африканцам впервые было предоставлено столько же мест, сколько и европейцам. В его состав были введены так называемые особо из-
16 Зак. 654
24!
бираемые члены — равное число представителей от расовых групп. Считалось, что они должны способствовать налаживанию «расового сотрудничества» [57, 1958, с. 22; 61, с. 4; 252, с. 39]. Но первые же выборы особо избираемых членов продемонстрировали расистский характер конституционной «многора- совости». Министр финансов Э. Вэйзи, один из наиболее либерально настроенных представителей поселенческой общины, которому африканская фракция вынесла вотум доверия, не собрал нужного числа голосов среди европейцев [252, с. 37, 41, 49].
После открытия новой сессии законодательного совета африканские выборные члены покинули его в знак протеста против конституции. Бойкот продолжался до апреля 1959 г., когда министр колоний объявил решение о проведении конституционной конференции с участием представителей всех общин.
Наиболее активно антиколониальную борьбу в конце 50-х годов вела Партия народного конвента Найроби. Ее президентом в середине 1958 г. стал Том Мбойя, секретарь Ассоциации африканских выборных членов законодательного совета и генеральный секретарь Федерации труда Кении — профсоюзной организации, созданной в начале 50-х годов с разрешения колониальных властей.
Партия народного конвента часто поддерживала африканскую фракцию, но выступала и самостоятельно. Она провела несколько бойкотов, в том числе самый массовый — бойкот автобусов, сигарет и пива в апреле 1958 г. в поддержку африканских депутатов, против которых было возбуждено судебное дело. В июле О. Одинга, к этому времени разочаровавшийся в «независимости через бизнес» и ставший активным членом африканской фракции, выдвинул требование освобождения из заключения Дж. Кениаты. Мбойя подхватил этот лозунг и начал его популяризировать. День ареста Кениаты — 20 ноября был объявлен «национальным днем поста и размышлений». В короткое время лозунг освобождения Кениаты приобрел широкую популярность. В марте 1959 г. администрация расправилась с активной организацией: ее газета «Ухуру» была запрещена, активисты арестованы [366, с. 39—40, 42, 66, 70—72].
Во второй половине 50-х годов начало оформляться и умеренное крыло африканского политического руководства. Вопреки решению африканских выборных членов законодательного совета о бойкоте выборов особо избираемых членов кандидаты на эти места — сторонники «многорасовости» — нашлись и были избраны ([252, с. 42]. Умеренность в те годы обычно сочеталась с трибализмом. Летом и осенью 1958 г. на политической арене появились трибалистские организации, созданные представителями «малых» народов в противовес формировавшемуся в руководстве радикального крыла союзу луо, гикуйю и кам- ба (366, с. 74]. Летом 1959 г. лидеры «малых» народов вошли в «многорасовую» Национальную партию. Ее председатель М. Мулиро призывал к «здравой оппозиции без запугивания и
242
угроз» (252, с. 51; 450, с. 142—143]. Подобная позиция молодых националистов «малых» народов понятна: в борьбе за долю колониального наследства союзниками им могли быть только представители других расовых общин.
В августе 1959 г. Одинга, Мбойя и другие лидеры радикального крыла создали Движение за независимость Кении, потребовавшее всеобщего избирательного права, «открытия» Нагорья, африканизации и точной даты провозглашения независимости. Наименее приемлемым для администрации было требование освобождения Кениаты <[252, с. 53; 285, янв. 1960, с. 7— 12; 366, с. 77—78; 450, с. 143].
Движению было отказано в регистрации, колониальные власти явно делали ставку на Национальную партию. Лидеры партий резко полемизировали друг с другом. И все же разногласия не носили принципиального идеологического характера. Руководители Движения за независимость Кении, выступавшие с самыми решительными политическими лозунгами, по другим вопросам занимали далеко не столь радикальную позицию. Решение земельной проблемы они видели в перераспределении земли между расовыми, а не социальными группами (см., например, [217, с. 40—47]); земельная реформа в резерватах не вызывала у них принципиальных возражений.
Наиболее показательна была позиция главы радикального крыла — Мбойи. Именно через него в 50-е годы начали проводить свое влияние в профсоюзном движении страны Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП) и Британский конгресс тред-юнионов, обучавшие руководящие кадры, предоставлявшие средства, студенческие стипендии и т. д. [187, с. 22—23; 218, с. 143—146, 196—197]. В 1957—1958 гг. Федерация труда Кении под его руководством приняла и узаконила все предложения о принципах своей деятельности, выдвинутые Ассоциацией кенийских работодателей. В 1958 г. Мбойя стал председателем регионального комитета МКСП по Восточной, Центральной и Южной Африке [366, с. 43—46, 63— 68]. Методы руководства и политики А4бойи вызывали критику его подчиненных по Федерации труда (подробнее см. |[377> с. 107—109]) и союзников по законодательному совету (прежде всего О. Одинги, пытавшегося противопоставить влиянию Мбойи авторитет Кениаты). Но обычно ему удавалось «переиграть» оппозицию и навязать радикальному крылу свою линию. Близость позиций двух группировок в руководстве национально- освободительным движением позволила им выработать общую программу к предстоящей конституционной конференции.
1960 год стал важным рубежом в истории Кении. 12 января 1960 г. было отменено чрезвычайное положение (чему немало способствовал скандал, разразившийся летом 1959 г. в английских политических кругах из-за смерти 11 заключенных в концлагере в Хола [269, 8.V.1959]). 18 января в Лондоне началась конституционная конференция по Кении.
16*
243
Европейская община была представлена на конференции Партией новой Кении во главе с М. Бланделлом и Объединенной партией во главе с Л. Бриггсом. Поселенцы считали программу Партии новой Кении пределом либеральности: она выступила за «открытие» Нагорья и признала неизбежность самоуправления под руководством правительства африканского большинства. Объединенная партия отрицала необходимость каких бы то ни было перемен {252, с. 45—47, 388, с. 145]. Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига Кении поддержали требования африканцев о независимости и передаче им всей полноты власти ^390, с. 20]. Программа африканской делегации включала требования всеобщих выборов в 1960 г. и формирования правительства победившей партией, освобождения Кениаты и других заключенных, «открытия» Нагорья и т. д. [285, янв. 1960, с. 19—21; 292, 25.1.1960].
С самого начала конференции представители английской колониальной администрации, выступавшие в привычной роли «посредников» между политическими силами страны, продемонстрировали стремление к компромиссу с африканцами. Несмотря на яростные протесты группы Бриггса, они разрешили африканской делегации привлечь к участию в конференции П. М. Ко- инанге — человека, который не попал на скамью подсудимых во время восстания только потому, что был за границей. Представители Объединенной партии, поняв, что не могут влиять на ход событий, заявили, что остаются на конференции только как наблюдатели {252, с. 61—62; 388, с. 147—148].
Конституция, предложенная министром колоний Я. Маклео- дом и принятая с поправками всеми участниками, впервые ввела африканское большинство в законодательном совете и совете министров и общие для всех расовых групп выборы. Институт особо избираемых членов, называвшихся теперь «национальными», сохранялся, по настоянию европейцев был принят «билль о правах», утверждавший необходимость защиты прав личности и охраны частной собственности. Предусматривались первичные выборы, которые должны были показать, что кандидат пользуется поддержкой не менее 25% избирателей своей расовой общины [63; 252, с. 69—71].
После конференции слово «многорасовость» исчезло из лексикона колониальных властей, но, по существу, конституция Маклеода явилась лишь новым вариантом этой непопулярной политики. Главная роль в ее осуществлении отводилась теперь не европейцам, а «умеренным» африканцам. Уже во время конференции Бланделл и Р. Нгала (представитель Прибрежной провинции, председатель африканской делегации) смогли найти точки соприкосновения и сыграли решающую роль в выработке общего решения {388, с. 149]. И все же конференция не оставила ни у кого сомнений, что в ближайшие годы страна станет независимым государством, возглавляемым правительством африканского большинства. Именно она определи¬
244
ла тот рубеж, после которого Кения в политическом смысле перестала быть «страной белого человека».
Поселенцы считали поворот в английской колониальной политике предательством. Бриггс называл конституцию Маклео- да «победой May May» [388, с. 150]. Кто-то из фермеров бросил Бланделлу под ноги 30 шилл., символизировавших 30 сребреников Иуды [147, с. 283; 252, с. 73]. Сразу после конференции поселенцы начали переводить капиталы за границу, а самые непримиримые — покидать страну.
Чем же было вызвано это «предательство»? Опыт других «белых» колоний в Африке, еще долгие годы сохранявших свой прежний политический статус, доказывает, что одни только политические соображения вряд ли заставили бы правительство метрополии пойти на него.
К началу 60-х годов в социально-экономической структуре Кении наметились важные сдвиги. Европейский сектор по-прежнему давал основную часть экспортной продукции, основной формой эксплуатации африканского населения оставалась работа по найму. Но тенденции, наметившиеся прежде и отражавшие объективные закономерности социально-экономического развития, углублялись. Начали сказываться и результаты реформ, проведенных колониальной администрацией во второй половине 50-х годов. Рост заработной платы в процессе «стабилизации» рабочей силы (с 1957 по 1965 г. зарплата рабочих в европейском секторе сельского хозяйства увеличилась с 33 до 50 ф. ст. |[346, с. 97]), падение цен на экспортную продукцию Кении на мировом рынке и другие неблагоприятные факторы сказывались прежде всего на небольших неспециализированных фермах европейского сектора. В африканских хозяйствах издержки производства были ниже, так как там меньше использовался наемный труд, работали члены семьи, применялись докапиталистические методы эксплуатации, тратилось меньше средств на инвентарь, ниже были потребности, сохранялось натуральное производство.
Земельная реформа стала новым стимулом развития африканского товарного производства, стоимость которого с 1956 по 1961 г. увеличилась более чем на 80% [99, с. 63]. Не только на местном рынке, но и в экспорте африканские хозяйства быстро превращались в серьезного конкурента европейских. В 1961 г. европейский сектор дал 19424 т кофе, африканский— 6974 т (подсчитано по [99, с. 117]). Без оградительных мер «поселенческого» колониализма европейскому фермеру средней руки трудно было конкурировать с африканскими хозяйствами с их низкими издержками производства. Но постоянно поддерживать нерентабельные хозяйства администрация не могла — а ведь численно именно они преобладали на Нагорье. Вот почему Нагорье как закрытый «белый резерват» было обречено. Отказ от расовой дискриминации в землепользовании объяснялся и необходимостью интенсификации сельскохозяйственного
245
производства (на Нагорье обрабатывалось лишь 16% земельных угодий |[79, с. 4, 7]) и стремлением колониальной администрации упрочить положение зажиточной африканской верхушки, не говоря уже о политическом резонансе этого мероприятия.
Африканцев начали селить на Нагорье в 1960 г. По первоначальному плану к 1964 г. там предполагалось создать около 1 тыс. зажиточных хозяйств (с доходом 250 ф. ст.), около 6 тыс. средних (с доходом 100 ф. ст.) и 12 тыс. мелких (с доходом 25—40 ф. ст.). В середине 1962 г. английское правительство объявило об увеличении числа мелких хозяйств до 50—70 тыс. [99, с. 83—84].
«Открытие» Нагорья резко ускорило становление зажиточной африканской прослойки. Даже «мелкие» хозяйства — хотя целью их создания почти открыто признавалась лишь «деполитизация потенциально взрывчатой ситуации» |[ 187, с. 25] — по масштабам африканского общества Кении были далеко не бедными. Какова бы ни была техническая и материальная помощь, которую получали новоиспеченные фермеры, на покупку участков нужны были немалые средства. Бывшее Белое нагорье стало средоточием африканской элиты. «В Киамбу можно считаться богатым, имея тысячу кофейных деревьев или двух породистых коров,— писал Р. Вамбаа.— В Рифт-Вэлли есть люди, имеющие по 5 тыс. акров земли или по 500 породистых коров» [249, с. 215].
В переходный период, отличавшийся политической и экономической нестабильностью, будущая судьба страны в большой мере определялась тем, какие силы придут к руководству антиколониальной борьбой в критический момент. После лондонской конференции африканские лидеры сразу принялись за создание общенациональных организаций. 27 марта 1960 г. в Киамбу был основан Национальный союз африканцев Кении (КАНУ). Президентом был избран Дж. Гичуру, вице-президентом — О. Одинга, генеральным секретарем — Т. Мбойя. Отсутствовавшим Р. Нгале и Д. арап Мои были предложены посты казначея и помощника казначея, но оба отказались и начали создавать племенные организации. В 1960 г. были образованы Африканская народная партия Кении, Объединенный фронт масаев и Союз африканского населения побережья. 25 июня руководители этих организаций Р. Нгала, Д. арап Мои, Т. Товетт и М. Мулиро создали Демократический союз африканцев Кении (КАДУ) 1366, с. 88—89; 450, с. 152—153].
В программах обеих партий говорилось о необходимости проведения земельной реформы, африканизации государственного аппарата, освобождения политических заключенных ит. д. Отличались программы, как справедливо отмечает А. М. Пегу- шев, скорее по тону (наступательному у Национального союза и более сдержанному у Демократического), чем по существу [366, с. 112]. Обе партии были организациями типа национальный фронт и объединяли самые широкие слои населения стра¬
246
ны. Руководили ими представители новой элиты — интеллигенции и нарождающейся буржуазии, причем чаще всего интеллигент и предприниматель выступали в одном лице. (Одинга, например, заполнял анкеты как учитель, хотя был совладельцем нескольких предприятий и магазинов.) Существенно различались партии лишь по национальному составу. Этническую базу Национального союза составляли гикуйю, луо, камба, эмбу, меру и гусии. Демократический союз объединял масаев, календ- жин, луйя, гириама и некоторые другие народы прибрежных и северных районов.
Анализируя социальную базу и национальный состав партий, советский исследователь ставит важный вопрос: каким образом Национальному союзу удалось преодолеть пропасть, разделявшую гикуйю на повстанцев и лоялистов, и объединить их. Руководство Национального союза, считает он, всеми средствами пыталось предотвратить столкновения, а кроме того, «политическая линия руководства КАНУ не только не противоречила интересам „среднего класса", но в перспективе была ориентирована именно на него» [366, с. 103—104]. Это не объясняет, однако, почему поддержали КАНУ бывшие повстанцы, беднота, безземельные и безработные. Причин тому несколько.
Национальный союз выдвигал лозунги независимости и «открытия» Нагорья — по форме те же, за которые боролась Армия земли и свободы. Партия возглавила борьбу за освобождение Кениаты и других заключенных, которых повстанцы считали своими лидерами. В начале 60-х годов еще не всем было ясно, что в изменившейся обстановке содержание этих лозунгов стало иным, что они стали вполне приемлемыми даже для бывших лоялистов. Повстанцы не сразу заметили подмену. В резерватах говорили, что не поселенцы, а повстанцы остались в выигрыше, что поселенцы скоро уедут, и земля останется африканцам |[249, с. 213]. Важную роль сыграло и расселение на Нагорье небольшой части безземельных. «Для администрации,— пишут нынешние кенийские оппозиционеры,— поселение безземельных за их собственные деньги было политическим триумфом» [187, с. 25].
В общем можно сказать, что социальные низы поддержалг политику Национального союза прежде всего в силу неразвитости социального сознания. Обострение межэтнических противоречий перед провозглашением независимости тоже сыграло свою роль: оно упрочивало внутриэтническое единство.
Все это не означает, что социальные противоречия в тот период не проявлялись. Продолжали существовать или возникали вновь организации бывших заключенных и бедноты. Члены Армии свободы, например, давали клятву не подчиняться правительству, не сотрудничать с европейцами, добывать оружие. Киама киа муинги, организация бывших бойцов Армии земли и свободы, решила любыми способами, вплоть до захвата, добиться предоставления безземельным участков на Наюрье бес-
247
платно. В мае 1961 г. Одинга выступал в окрестностях Найроби на 20-тысячном митинге, принявшем резолюцию «Никогда не покупать землю на Нагорье» [187, с. 20, 24; 366, с. 15Э]. Отражением социального протеста были и нападения на хозяйства тех, кто покупал землю [249, с. 213], и стихийная распашка прилегающих к резерватам районов Нагорья.
Большая часть руководства Национального союза прямо участвовала в подавлении этих выступлений. В 1961 г., только выйдя из заключения, Кениата расправился с руководством Киама киа муинги [187, с. 20]; в 1962 г. было осуждено больше 2 тыс. человек за принадлежность к Армии свободы |[366, с. 153]. Уже в этот период, таким образом, политика Национального союза имела если и недостаточно последовательный, то все же довольно четко социально очерченный характер.
Выборы в законодательный совет 1961 г. были первыми по-настоящему массовыми в Кении. Европейцев представляли Партия новой Кении Бланделла, выступавшая от имени тех, кто готов был поступиться расовой дискриминацией во имя защиты социальных интересов, и Коалиция Кении, отстаивавшая особые права общины. Среди европейского населения Партия новой Кении едва собрала необходимые для продолжения борьбы 25% голосов. На всеобщих выборах она победила благодаря поддержке Национального союза [114; 117; 147, с. 284, 290]. Из Индийского национального конгресса, придерживавшегося тактики выжидания, выделилась Партия свободы Кении, выступавшая в поддержку всех требований Национального союза. Мусульмане баллотировались на выборах в качестве независимых [252, с. 102—103; 450, с. 154—155]. Выборы показали, что обе иммигрантские общины отныне могут воздействовать на политическую обстановку в стране лишь косвенно, поддерживая тех или иных африканских политиков. Национальный союз набрал большее число голосов, чем Демократический, но его победа могла бы быть более внушительной, если бы не конфликт между Мбойей и Одингой, за которым стояли все более четко обозначавшиеся противоречия между левой и правой группировками в партии.
После выборов начался новый виток кампании за освобождение Кениаты. Администрация отказывалась вести переговоры на эту тему, но разрешила африканским лидерам посетить Ке- ниату в Лодваре. Встреча произошла в марте 1961 г. «Я поддерживаю и отстаиваю интересы не какой-то одной расы или одного племени, но всего народа»,— говорил тогда Кениата, призывая руководство африканских партий к единству {229, с. 207—209]. Но его авторитета оказалось недостаточно для преодоления раскола. До встречи руководство обеих партий ставило условием своего участия в правительстве освобождение Кениаты. Вернувшись из Лодвара, Мои сразу же заявил: «Освобождение Джомо Кениаты и формирование правительства — разные вопросы. Мы не можем рассматривать их вместе». Не¬
248
которые лидеры КАДУ вели переговоры с губернатором о формировании однопартийного правительства даже до этого. Нгала обсуждал этот вопрос в Лондоне (229, с. 209].
В апреле 1961 г. руководители Демократического союза дали согласие войти в правительство (366, с. 130—131; 450,
с. 157—158]. Администрация тут же продемонстрировала, что сговорчивость окупается: Кениату перевели поближе к Найроби — в Маралал и разрешили начать строительство дома для него в Киамбу. Руководство Демократического союза было разочаровано незначительностью этой уступки. Последовал совместный протест обеих партий, встречи с Кениатой, переговоры в Лондоне и Найроби, и, наконец, администрация объявила, что в середине августа Кениата будет освобожден [229, с. 215—218]. Обозреватель поселенческой «Кенья уикли ньюс» объяснял своим читателям: «Каковы бы ни были последствия освобождения Кениаты... мудрее испытать их сейчас, чем позволить ему оставаться в роли Дельфийского оракула, будь то в Маралале или Киамбу» [229, с. 217].
Кениата вступил в политическую борьбу как поборник национального единства. Под его руководством африканские партии выдвинули совместную программу конституционного развития. Однако в ходе обсуждения ее с администрацией руководство Демократического союза неожиданно выдвинуло другой план, получивший название «регионального». В нем предусматривалось разделение Кении на несколько больших регионов, административные органы которых должны были наделяться всей полнотой власти. Границы регионов были проведены так, что Демократический союз контролировал бы большую часть территории страны (366, с. 138]. Одинга писал, что настоящими авторами регионального плана были европейцы: Гичуру видел якобы черновик плана, написанный рукой У. Хейвлока [229, с. 220]. Существовал этот черновик или нет, не так уж важно. Достаточно того, что региональный план появился именно тогда, когда это было нужно колониальной администрации, чтобы уничтожить возможность создания единого антиколониального фронта.
Срыв переговоров заставил Кениату сделать выбор: в октябре 1961 г. вместе с другими бывшими лидерами Союза африканцев он присоединился к Национальному союзу. Гичуру освободил для Кениаты пост президента партии, несколько депутатов, в том числе Одинга, предложили ему свои места в законодательном совете (229, с. 221—222].
Откровенная поддержка Демократического союза поселенцами и администрацией в то время, когда крупнейшая партия страны — Национальный союз была отстранена от управления, завела политическое развитие страны в тупик. В феврале 1962 г. колониальные власти вынуждены были пойти на созыв новой конституционной конференции. В «Меморандуме», предложенном Демократическим союзом на конференции, уточнялись пра¬
249
ва и функции регионов. Каждый из них должен был иметь полицию, силы безопасности, президента и администрацию. Национальный союз выступил за унитарное государственное устройство, сильное центральное правительство и однопалатный парламент, за обеспечение землей всех, в том числе тех, кто не может за нее платить (компенсацию европейским фермерам предлагалось выплатить английскому правительству). Эта программа решения земельной проблемы, самая прогрессивная из всех, выдвинутых партией, была, по-видимому, тактической уловкой: уже во время конференции несколько членов руководства КАНУ во главе с Кениатой отправили в Найроби «Циркуляр № 4 о земле», содержавший прямо противоположные указания [292, 12—16.11.1962 г.; 366, с. 142—145].
Министр колоний предложил оставить центральному правительству полномочия в вопросах обороны, внешних сношений, торговли и экономического развития и передать в ведение региональных властей законодательство, финансы, вопросы землепользования в бывших резерватах и социальное обеспечение [64]. Демократический союз принял эти предложения сразу, Национальный — под давлением Кениаты, считавшего, что участие в правительстве важнее конституции, которую можно будет потом изменить {229, с. 229]. В апреле 1962 г. было сформировано коалиционное правительство, в которое вошли по семь представителей от каждого из Союзов, два европейца — Б. Маккензи и У. Хейвлок и индиец — А. Джамидар.
Больше года трудились комитеты коалиционного правительства над уточнением деталей громоздкой конституции. В апреле 1963 г. она была опубликована. Откладывать самоуправление больше не было смысла: за этот год английское правительство получило немало доказательств того, что, какой бы партии — Национальному или Демократическому союзу — ни досталась власть, преемственность в руководстве страной будет обеспечена.
Уже при сформировании коалиционного правительства Ке- ниата пожертвовал не только конституцией, но и Одингой, не получившим министерского поста по настоянию колониальной администрации, которой не нравились его визиты в социалистические страны [229, с. 230—231]. Опубликованные в июле 1962 г. экономические программы обеих партий «О землепользовании и развитии земледелия и скотоводства» (КАДУ) /[105] и «Экономический план КАНУ» [107] отличались только степенью откровенности. В обеих говорилось о необходимости развития африканского частного предпринимательства. Безвозмездная передача земли на Нагорье безземельным в программе КАДУ отвергалась, в программе КАНУ — замалчивалась.
Одинаковыми были и идеологические установки большей части руководства обоих Союзов. Во время второй лондонской конференции двое делегатов Национального союза заявили: «Мы ведем бой против коммунистического влияния г-на Одинги
250
и угрозы революции» 1229, с. 225]. Подобные высказывания были не редкостью.
Обе партии заняли резко отрицательную позицию по отношению к волне забастовок, охвативших страну в 1962 г. Мбойя, министр труда в коалиционном правительстве, сделал все возможное, чтобы уменьшить активность профсоюзов и сохранить их проправительственную ориентацию. Ему удалось отстранить от руководства вернувшегося из заключения осенью 1962 г. Ф. Кубаи, при его посредничестве Федерация труда подписала «Хартию отношений в промышленности», обязавшую профсоюзы решать трудовые конфликты только путем переговоров. Таким образом, по словам английской исследовательницы, в Кении «укоренились либеральные доктрины промышленных отношений, выдвинутые корпорациями» f377, с. 79—80]. Все это, как и многие другие политические коллизии времен коалиционного правительства, подтверждает вывод А. М. Пегушева о том, что «тенденция к сближению правого крыла КАНУ с лидерами Демократического союза... в конечном итоге отражала общность их классовых интересов» [366, с. 163].
Но тенденции этой только предстояло проявиться в полной мере. Последний год перед провозглашением независимости прошел в напряженной борьбе. К выборам 1963 г. Национальный союз пришел, насколько это было возможно, единым. Лоскутная же «империя» КАДУ начала разваливаться: рост трибализма, на гребне которого была создана эта партия, начал работать против тех, кто его разжигал. Объединенный фронт мвамбао, например, требовал полной автономии, на которую не могло согласиться даже руководство Демократического союза. В результате позиции КАДУ в Прибрежной провинции были значительно поколеблены .[611, с. 224—225].
В конце апреля обе партии опубликовали предвыборные программы. В манифесте Национального союза «Что предлагает вам правительство КАНУ» [120] впервые была выдвинута цель построения в Кении «африканского демократического социализма». Содержание документа свидетельствовало, однако, что к социализму «африканский демократический социализм» не имеет никакого отношения. В манифесте говорилось о необходимости привлечения иностранных капиталов и развития частного предпринимательства. Национализация признавалась излишней мерой. Акцент в решении проблемы земельного голода переносился на развитие сельскохозяйственного производства «во всех частях страны», т. е. в бывших резерватах. Именно так десятилетиями решала эту проблему и колониальная администрация. «Мы не можем позволить себе дробить рентабельные фермы, которые создают основу нашего национального благосостояния, на мелкие натуральные хозяйства»,— говорилось в документе if 120, с. 722].
В программе Демократического союза «Свобода и регионализм немедленно!» [102] основные проблемы страны трактова-
251
лисъ так же. «КАДУ не верит, что замена крупных земельных собственников, вносящих вклад в экономику через налогообложение, крестьянами с натуральным хозяйством принесет нам пользу»,— утверждалось в программе |[102, с. 745]. Но откровенный антикоммунизм и трибализм придавали программе КАДУ более одиозный характер.
Выборы принесли Национальному союзу убедительную победу. В палате представителей он занял 72 места, Демократический союз — 32 [366, с. 189—190]. 1 июня 1963 г. Кения получила внутреннее самоуправление. Национальный союз сформировал правительство. Демократический попытался спасти регионализм грубым давлением. В июле, например, Мои потребовал автономии для региона Рифт-Вэлли, во время последней лондонской конференции (октябрь 1963 г.) парламентская группа Союза во главе с Мои призвала к отделению нескольких регионов и созданию на их базе «Республики Кения» со столицей в Накуру i[366, с. 193—195]. Руководство партии утратило чувство реальности, и летом 1963 г. она начала терять влияние даже в своих округах.
Неудивительно, что на конференции англичане пошли на уступки Национальному союзу и изменили некоторые пункты региональной конституции [67]. За новой переориентацией колониальных властей стояли, видимо, не только ошибки руководства Демократического союза, но и закулисные переговоры представителей английского правительства с правым крылом Национального союза. Такие переговоры велись, например, по вопросу о военном сотрудничестве и военной помощи |[254, 1978, № 4, с. 134].
12 декабря 1963 г. на стадионе в Найроби при огромном стечении народа состоялась церемония провозглашения независимости. По полю прошли последние остававшиеся в лесах отряды повстанцев May May. Ровно в полночь стадион на минуту погрузился в темноту, а когда прожекторы и лампы вспыхнули вновь, все увидели, как по флагштоку, где только что развевался Юнион Джек, поднимается черно-красно-зелено-белый флаг независимой Кении [229, с. 253]. Старое фиговое дерево в Тике рухнуло в эту ночь на землю.
Восемнадцатилетие, прошедшее с окончания второй мировой войны до провозглашения Кенией независимости, стало периодом столь резких экономических, социальных и политических перемен, что многим современникам они казались аномалией. В действительности они были проявлением закономерностей процесса освобождения от колониальной зависимости «белой» колонии, закономерностей, которые действуют и, видимо, будут действовать в других подобных странах.
Политическая обстановка в таких странах в колониальные годы отличалась особой напряженностью, социальные и расо¬
252
вые противоречия были обострены, экономическая эксплуатация и политический гнет носили ярко выраженным неприкрытый характер. Национально-освободительное движение н этих условиях принимало самые радикальные формы и часто ныливалось в вооруженную борьбу, как случалось и в Кении.
Подавление легальной политической оппозиции политизировало здесь все формы общественной активности, от дини до деятельности начинающих африканских предпринимателей. В этой «всеохватности», а также во взаимодействии различных форм и уровней антиколониальной борьбы — важнейшая особенность национально-освободительного движения в Кении 40— 50-х годов. При всей неоднородности и разрозненности антиколониальных сил тенденция к единству распространялась порой даже на межэтнические отношения. Этнические и социальные противоречия и различия в африканском обществе зачастую отходили на второй план перед необходимостью противостоять тоталитарному режиму, расовой дискриминации и прочим проявлениям поселенческого колониализма.
Единство было не только результатом стихийного стремления к сплочению в борьбе с сильным противником, но и вполне сознательной тактикой африканских политических лидеров. Вот только один из примеров. Дини ап мбоджет, широко распространившаяся среди кипсигис после войны, ввела в свой ритуал клятвы, сходные с клятвами May May. Она была тесно связана с политической организацией кипсигис — Центральной ассоциацией, а та поддерживала постоянные и тесные контакты с политическими лидерами гусии и руководством Союза африканцев и даже послала нескольких своих представителей учиться в Ги- тунгури. В 1948 г., когда и Дини ап мбоджет и Центральная ассоциация кипсигис были запрещены, руководству обеих организаций помогли бежать члены местного профсоюза транспортников, в основном гикуйю [62, с. 213—214].
В восстании May May отразились наиболее характерные черты национально-освободительного движения Кении послевоенных лет: радикальность его методов и единство потоков. В то же время его поражение стало рубежом, с которого начался новый этап антиколониальной борьбы — этап, основными чертами которого стали национальная и социальная расчлененность и умеренность, проявлявшаяся не в политических лозунгах, а в их социально-экономическом содержании и в методах борьбы. Значение восстания в истории Кении с течением времени становится все очевиднее. Мало кто из исследователей, независимо от взглядов, отрицает или недооценивает его роль. Однако многие концентрируют внимание лишь на прогрессивном воздействии восстания, указывая, например, на изменение курса английской колониальной политики и ускорение процесса конституционного развития. О последствиях поражения восстания для освободительного движения пишут меньше, хотя для судеб страны оно имело едва ли не большее значение.
253
После поражения восстания от участия в национально-освободительном движении в решающий период были отстранены наиболее политически активные и радикально настроенные слои. Они не могли воздействовать на характер вновь создававшихся партий, на ход выборов и парламентской борьбы не только из-за того, что были в лагерях, ссылках и тюрьмах. Восстание истощило их силы. «Я не был способен больше ни на какую борьбу,—писал Р. Вамбаа, вышедший на свободу с характеристикой „непримиримого",— и думаю, что это настроение было всеобщим» [249, с. 214].
Поражение восстания привело к руководству национально- освободительным движением умеренных националистов, готовых бороться за независимость только конституционными методами. «Те, кто начал управлять нами в 1963 г., по большей части были предателями наших борцов за свободу»,— пишут сегодняшние кенийские оппозиционеры ([187, с. 11]. Но приверженность к конституционализму в конце 50-х — начале 60-х годов не обязательно являлась идеологической позицией; нужно учитывать, что в условиях чрезвычайного положения она была единственно возможной, а авторитет восстания и изменившаяся политика английских властей делали ее в какой-то мере и эффективной.
Точно так же беспочвенно причислять все руководство May May к «радикалам». В его среде было достаточно людей, обратившихся к вооруженной борьбе только потому, что в 40-х— первой половине 50-х годов другие методы были бесполезны. Выйдя на свободу, многие из них присоединились к умеренному, а не к радикальному крылу антиколониального движения — Кениата в первую очередь. Вот почему вряд ли справедливо уже в те годы говорить о «социал-реформизме» в идеологии национально-освободительного движения (это понятие вообще более применимо к классовой, чем к национально-освободительной борьбе), а тем более обосновывать это определение переходом движения к тактике «ненасильственных действий» [366, с. 61—63].
«Конституционные» националисты были не совсем свободны в выборе своей позиции не только по политическим причинам. Умеренный антиколониализм обретал под собой все более прочную социальную базу. Реформа в землепользовании имела далеко идущие социальные и социально-психологические последствия. Она способствовала упрочению положения зажиточной африканской элиты. Получив от колониального режима землю на Нагорье и «консолидированные» участки в резерватах, зажиточная прослойка не успела в полной мере испытать на себе колониальный гнет в своем новом «фермерском» качестве. Она-то и дала социальную базу умеренному национализму. В то же время реформа способствовала широкому распространению стремления получить землю в собственность среди малоземельных и безземельных. Это стремление стало тем массо¬
254
вым общественно-психологическим фоном, на котором оперировали умеренные политики.
Ни в одной из восточноафриканских стран реформа системы землепользования в таких, как в Кении, масштабах не проводилась. В 1951 г. консолидация была проведена в Родезии, ио она сопровождалась там уравнительным переделом, и властям пришлось применять силу. В Ньясаленде консолидация полностью провалилась [618, с. 194; 645, т. 1, с. 138—140]. В Кении же чрезвычайное положение и поражение восстания создали наиболее подходящую для проведения реформы обстановку. Восстание сыграло важную роль и в ускорении темпов «стабилизации» рабочей силы и африканизации. В условиях чрезвычайного положения английской администрации проще было направить их в нужное русло.
Важнейшим фактором формирования и расцвета умеренного национализма в Кении было существование европейского сектора и европейской общины. Экспорт сельскохозяйственного сырья в начале 60-х годов давал стране 85—90% валютных поступлений и составлял около 42% валового продукта. Несмотря на рост африканского товарного производства, европейский сектор производил основную часть экспортной продукции и большую часть — товарной. В 1961 г. доход 950 тыс. африканских хозяйств составлял 10,4 млн. ф. ст., а 3600 европейских и индийских — 35,9 млн. ф. ст. [99, с. 63]. В европейском секторе было занято около 43% всех работающих по найму. Кардинальная перестройка этой формировавшейся десятилетиями экономической структуры потребовала бы кадров, капиталов, знаний, навыков управления. Перед африканским руководством Кении, если бы оно решилось на такую перестройку, встали бы трудности значительно большие, чем перед правительством страны с менее развитым капиталистическим сектором. Это налагало определенные ограничения на сзободу выбора пути развития.
Европейский сектор, вернее, важнейшее из следствий его существования — острота земельной проблемы, объективно способствовал разжиганию национальной розни перед провозглашением независимости. Опасения упустить свою долю земли на Нагорье сыграли большую роль в формировании идеологии Демократического союза африканцев Кении.
Поселенческая община, утратившая после 1960 г. самостоятельную роль на политической арене, оказала большое воздействие на формирование характера и взглядов африканского руководства. Закулисная обработка африканских политиков велась постоянно. Реакционные поселенческие лидеры пытались разжечь национальную рознь в стране. Так, по приезде с лондонской конференции Бриггс вел переговоры с лидерами «малых» народов о необходимости защиты прав меньшинств (в том числе европейского) от политического господства гикуйю и луо [450, с. 152—153]. Как КАДУ, так и КАНУ получали от европейцев материальную помощь (подробнее см. /[366, с. 113, 177]).
255
Важнейшие программы обеих партий составлялись с помощью консультантов из поселенческих лидеров. На второй лондонской конференции бывшие члены Партии новой Кении вошли в состав обеих делегаций. В правительстве внутреннего самоуправления поселенец Б. Маккензи занял пост министра сельского хозяйства. Он считался советником Кениаты по вопросам землепользования и сельскохозяйственного производства.
Отказываясь от расовой дискриминации в политике, в том ■числе и экономической, налаживая контакты и связи с африканскими лидерами, поселенцы подталкивали африканское руководство к проведению неоколониального курса. Делалось это чаще всего сознательно. Бланделл откровенно высказывался на этот счет: «Основной вопрос, который стоит перед европейской общиной,— не единство как самоцель, а объединение людей всех рас со сходными интересами для проведения общей политики» [450, с. 152].
Решающую роль в «подготовке» Кении к независимости сыграла заинтересованность английских правящих кругов тем, как повернутся события в бывшей «стране белого человека». Ради сохранения экономического ядра европейского сектора (крупных плантаций, ферм и ранчо) в рамках капиталистического хозяйства, а страны — в русле неоколониальной политики английское правительство поступилось интересами части своих соотечественников в Кении.
Усилия администрации и поселенцев, наложившись на действие объективных факторов, принесли свои плоды. «Предоставление независимости,— пишут нынешние противники кенийского режима,— имело для империалистов большой политический и экономическй смысл, поскольку они создали послушный класс коллаборационистов, заинтересованных в „гладком переходе”» [187, с. 12]. Бланделл не польстил африканскому руководству, еще до провозглашения независимости назвав большую его часть «честными людьми с умеренными взглядами, работающими во имя достижения тех же целей, что и мы» |[450, с. 152].
На первый взгляд этот результат противоречил всей логике исторического пути «белой» колонии. Ведь сдерживание социального расслоения, развития зажиточной прослойки и становления элементов капиталистических отношений в африканской среде было одной из характерных черт поселенческого колониализма. Противоречие это было, однако, кажущимся.
«Англии предстоит выполнить в Индии двоякую миссию: разрушительную и созидательную,— с одной стороны, уничтожить старое азиатское общество, а с другой стороны, заложить материальную основу западного общества в Азии»,— писал К. Маркс об исторической роли колониализма [2, с. 225]. Но развитие капиталистического уклада и новых социальных прослоек во всех колониях было не осознанной целью колониальной политики, а побочным продуктом (на первых порах считавшимся крайне нежелательным) основной функции колониа¬
256
лизма — создания условий для эксплуатации докапиталистических обществ капиталистическими. В Кении социальное расслоение шло, и квазикапиталистическая элита зарождалась вопреки политике колониальных властей — но подспудно процесс этот шел. Самые давние истоки формирования зажиточной элиты — социальное расслоение африканских обществ в доколониальную эпоху. Оно не переносилось, конечно, автоматически в колониализм, но давало определенные возможности. У вождя Коинанге, например, чья гитака была занята европейской фермой, хватило скота, чтобы купить «много земли» в резервате: он отдал больше 300 коз и 30 баранов за 4 участка, а ведь на каждые 10 коз полагалось платить еще и «барабан денег» '[151, с. 40].
В колониальные годы, как показал Г. Китчинг, «абсолютно решающую роль» в процессе социальной дифференциации в Кении играла «возможность получения высоких несельскохозяйственных доходов, основной формой которых была работа по найму или зарплата» [491, 277]. Некоторые посты в колониальной администрации давали большие дополнительные возможности. Так, в начале века вождь Киньянджуи забрал себе деньги, которые его соотечественники отказались принять от европейцев в качестве «компенсации» за землю [151, с. 38—39]. Позже, использовав свое положение, он отнял землю у родственной мбари и этим положил начало своим обширным земельным владениям [491, с. 296].
Фактор «высокого оклада» был особенно важен в формировании зажиточной элиты в 30-е годы: именно тогда семьи, имевшие денежный доход, скупали земли своих менее удачливых соседей и родственников. В 1922 г. оклады, достаточные для абсолютного роста доходов, получали примерно 17 900 африканцев Кении, в 1952 г.— 42 650. В середине 50-х годов их обладатели составляли около одного процента работавших по найму [491, с. 261, 268].
Чрезвычайное положение стало новым важным этапом формирования зажиточной прослойки. Оно создало благоприятные условия для укрепления позиций уже существовавшей элиты и кооптации новых «лояльных» членов. В годы чрезвычайного положения лоялисты освобождались от некоторых налогов, могли свободно передвигаться по стране, только им разрешалось выращивать товарные культуры и иметь торговые точки, они были «своими людьми» в комитетах по земельной консолидации, на выборах 1957 г. им предоставлялись дополнительные голоса [187, с. 11].
Формирование зажиточной элиты, таким образом, шло в Африке повсеместно, но конкретные истоки ее появления, формы существования и деятельности отличались большим разнообра зием и во многом зависели от характера колониальной политики. В поселенческой Кении, где до 50-х годов отходничество было основной формой эксплуатации африканцев, именно оно
17 Зак. 654
257
и стало главным каналом социального расслоения. В процесс социальной дифференциации здесь оказались втянутыми более широкие, чем в соседних странах, слои населения.
Но насколько широкие? Социальная дифференциация, как и отходничество, носила ярко выраженный анклавный характер. «Социальная» Кения охватывала лишь три округа гикуйю, Ма- чакос, два округа календжин (кипсигис и нанди), округа луйя в Западной провинции, Центральную и Южную Ньянзу и в меньшей (кроме городов) степени — Прибрежную провинцию. 80% семимиллионного населения страны в начале 60-х годов вели натуральное хозяйство [99, с. 63]. Но социальное расслоение, даже там, где оно было ярко выражено, не было равнозначно становлению капиталистических отношений (даже в их колониальной форме), происходившему значительно медленнее.
Еще медленнее шла трансформация общественного сознания. Представить себе этот процесс трудно из-за малочисленности источников. Но есть события, которые, словно луч прожектора, высвечивают в глубине десятилетий ту или иную сторону закрытого для нас мира. Восстание May May — одно из них. Организация армий, быт в лесу, молитвы, песни, клятвы — все эти откровения массового сознания в какой-то мере могут дать представление о характере мировосприятия «среднего» африканца тех лет. Это было мировосприятие, в котором «традиционность» нерасторжимо переплеталась с «современностью» и часто преобладала.
«Наши аго или арати (прорицатели.— И. Ф.),— рассказывал X. Вачанга,— объяснили нам, что если мы хотим победить врагов и изгнать их из своей страны, мы должны сделать с ними то же, что они сделали с нами в 1892 г.», а именно закопали якобы «нашего великого человека» Вайяки живым в землю вниз головой. Повстанцы проделали то же самое с престарелым поселенцем Г. Лики. Вачанга считает этот случай одним из главных подвигов повстанцев [248, с. 43]. Пророчества мунду муго заставили почти три десятка вооруженных воинов под руководством известного своей храбростью командира К. Итины добровольно сдаться в плен двум предателям. Повстанцы сами помогали им связывать друг Друга .[173, с. 78— 82]. Восстание стало катализатором важных сдвигов в массовом сознании — после May May оно во многом стало иным. И все же всего десятилетие отделяет описанные события от независимости. И происходили они в среде одного из наиболее развитых в социальном отношении и имеющего наиболее длительный опыт политической борьбы народа — гикуйю.
В этом контексте иначе видятся и особенности партийной борьбы в стране. Национальный союз насчитывал, по оценке А. М. Пегушева, 100—150 тыс. платящих взносы членов, Демократический— около 50 тыс. {366, с. 99]. Но это вовсе не означает, что эти 200 тыс. человек (менее 0,02% африканского
258
населения) разбирались в тонкостях партийных программ. За редким исключением, они просто шли за «своими» лидерами. Л разногласия между лидерами определялись зачастую этнической рознью или личными причинами, за которыми далеко не всегда еще были различимы зачатки социальных противоречий. Осенью 1962 г. П. Нгей вышел из Национального союза и основал Африканскую народную партию — партию камба. Причины — нежелание допустить хотя бы минимальный контроль руководства КАНУ в отделениях этой партии в Укамбани и личные столкновения с Мбойей. На выборах 1962 г. партия Нгея сотрудничала с Демократическим союзом, а осенью 1963 г. Нгей распустил ее и вернулся в Национальный союз ([366, с. 173— 176, 194]. Обвинявшийся в коммунистических симпатиях Одинга и «отвергавший», по его собственным словам, коммунизм Нгей были личными друзьями и соратниками по борьбе с окружением Мбойи.
Такие коллизии соответствовали уровню развития политического сознания общества и были естественны на тогдашнем этапе национально-освободительной борьбы. Политически активная, тем более политически сознательная прослойка численно была очень невелика; сознательность ее носила не классовый, а этнонациональный характер. «Политическая» Кения составляла в этом смысле лишь ничтожную часть «социальной».
Только к этой узкой прослойке и можно отнести характеристику комиссии Международной организации труда, работавшей в 60-е годы в Кении: «Видимо, ценности и чаяния кенийцев были куда больше, чем до сих пор считалось, сформированы стилем и характером расчлененной (т. е. социально расчлененной, капиталистической.— И. Ф.) экономики... Вот почему после достижения национальной независимости политическая цель контроля над экономикой почти неосознанно переплелась с личными амбициями получения рабочих мест, постов, стиля жизни, которые эта экономика делала доступными» [100, с. 87]. Но именно эти кенийцы определяли в то время политическое будущее страны.
Выйдя из заключения, Р. Вамбаа прежде всего попытался разузнать, что же будет с землей на Нагорье, где он скваттер- ствовал всю жизнь. Поговорил с Гичуру. Тот ответил: «Одно могу сказать — вы ничего не получите даром». Вамбаа подождал, что скажет Кениата, когда вернется. Кениата сказал: «Она (земля.— И. Ф.)—для всех. Кто хочет купить... пусть покупает. Даже я, Кениата, если у меня есть деньги, пойду и куплю» [249, с. 213, 215]. Бывшие партизны, еще недавно «постановлявшие» в лесах, что, завоевав «ухуру», поставят у власти правительство во главе с Кениатой, а оно наградит их деньгами и бесплатной землей [248, с. 42], поняли, что ждать больше нечего. Они стали основывать компании и кооперативы для покупки земли — как и все остальные. «Они поняли, что ничего не получат даром»,— писал Вамбаа [249, с. 215].
17*
Глава VII
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В НЕЗАВИСИМОЙ КЕНИИ
«КАНУ строит странуI»
Завоевание политической независимости не решило основных проблем страны. Шли стихийные захваты и распашка земель на Нагорье. В городах нарастала волна забастовок. Участились межнациональные столкновения, вызванные остротой земельного вопроса и отчасти спровоцированные политикой Демократического союза. Руководство страны еще до провозглашения независимости продемонстрировало неготовность решать эти проблемы путем прогрессивных преобразований. Однако борьба за выбор пути развития еще только начиналась. Об этом свидетельствовали столкновения между группировками внутри Национального союза и правительства, яростные дебаты в парламенте, борьба в профсоюзах. Страна жила напряженной, интенсивной политической жизнью, которая вряд ли устраивала руководство, не чувствовавшее себя хозяином положения.
Борьба за выбор пути развития
В январе 1964 г., сразу после армейских волнений в Уганде и Танганьике, начался мятеж в кенийской армии. Группа африканских стрелков захватила склад оружия в военном лагере неподалеку от Накуру и потребовала повышения окладов и замены английских офицеров африканскими. Выступление было быстро подавлено бронетанковой частью с английской военной базы, но правительство все же обратилось к Англии за дополнительной военной помощью. В тот же день в Кению было переброшено подразделение королевской морской пехоты, а на следующий в Момбасу прибыли английские военные корабли [366, с 213—214].
Эти крутые меры и суровые приговоры, вынесенные восставшим, показали, что руководство страны считало стабилизацию политической обстановки задачей первостепенной важности. Однако цели и смысл стабилизации понимались в правительственных кругах по-разному. Размежевание сил в африканских
260
политических кругах Кении, отчетливо проявлявшееся уже в ПО-е — начале 60-х годов, постепенно обретало все более четкую социальную направленность. Парламентские дебаты уже в пер- иые месяцы независимости выявили, что в социальных и идеологических вопросах основной рубеж размежевания проходил не между двумя партиями страны, а внутри Национального союза.
Наибольшей критике заднескамеечников (не вошедших в правительство парламентариев КАНУ) подвергалась земельная политика правительства. Некоторые из них предлагали не продавать землю, а раздавать ее бесплатно наиболее нуждающимся или национализировать. Другие — снизить стоимость ферм, превратить их в государственные хозяйства или создать комитет, который установил бы максимальные размеры частной земельной собственности для каждого из районов [440, с. 44—45, 49].
Ни одно из этих предложений не было одобрено парламентом. Установление максимума земли на человека сначала откладывалось в долгий ящик («правительство отвергает эта предложение не в принципе,— говорил Т. Мбойя,— a потому, что для него неудачно выбрано время»), а потом забылось. Национализация вызвала резкий протест у большинства членов парламента снизу доверху. Один из них говорил: «Это очень нехорошо, что такие предложения появились в парламенте, потому что уже сейчас африканцы Кении владеют собственностью и гордятся этим». Ему вторил министр финансов Дж. Гичуру: «У меня есть маленький участок земли, и никто у меня его не отнимет» [440, с. 48—49].
Большое место в парламентских дискуссиях занимал и вопрос о «неприсоединении». Заднескамеечники Национального союза требовали проведения подлинной политики неприсоединения и предлагали для этого укрепить связи с социалистическими странами — «для равновесия». Но и это предложение не прошло.
Первой пробой сил группировок в правительстве и парламенте стало «дело» Каггиа. Б. Каггиа получил в первом правительстве независимой Кении пост заместителя министра просвещения, но не отступил от прежних идеалов и продолжал защищать интересы бедноты, особенно в своем избирательном округе Муранга (бывший Форт Холл), где особенно сильны были злоупотребления во время консолидации земельных участков. Защиты у него искали и скваттеры и сельскохозяйственные рабочие бывших неспециализированных ферм Рифт-Вэлли, оставшиеся без земли и работы в результате дробления ферм и передачи их новым владельцам — африканцам ([508, с. 215].
Каггиа постоянно высказывал в парламенте свое несогласие с характером земельной реформы. В сентябре 1963 г. он обратился к министру сельского хозяйства и министру земель и поселения с запросами о положении бывших повстанцев May May, земли которых были конфискованы в ходе консолидации.
261
В апреле 1964 г. Каггиа опубликовал меморандум, в котором приводил примеры подобных случаев и писал о том, что наиболее логичным решением проблемы земельного голода считает «национализацию всех крупных поместий, находящихся в собственности европейцев, и превращение их в государственные фермы... или передачу их кооперативам, созданным безземельными африканцами». Через несколько дней Каггиа направил всем министрам кабинета письмо с разъяснением своей позиции, а 6 мая отпечатал на мимеографе программу решения земельного вопроса путем создания кооперативов [229, с. 262— 265, 267].
Вскоре Каггиа получил письмо от Кениаты, начинавшееся обращением «Дорогой Каггиа», но содержавшее предложение изменить позицию или уйти в отставку. Каггиа подал в отставку, заявив: «Как представитель народа, я не смог забыть людей, избравших меня на основе определенной программы. Не смог я забыть и бойцов за свободу, которые отдали все, что у них было, в том числе и землю. Поэтому я решил не давать заверений, которые от меня требовали... ([иначе] я предал бы свои самые глубокие убеждения ради сохранения поста и зарплаты» {229, с. 265—267].
Ни один из тех, кого причисляли в правительственных кругах и руководстве Национального союза к «левым», не поддержал открыто программу Каггиа, не выступил резко и определенно в защиту его позиции, не вышел вместе с ним из правительства. Одинга писал по этому поводу: «Я остался в кабинете (где... мои отношения с Кениатой стали натянутыми, поскольку он знал, что я поддерживаю Каггиа по земельному вопросу...), но я был убежден, что, несмотря на все трудности, наше правительство при поддержке КАНУ сможет выработать курс на полную независимость, политическую и экономическую...» [229, с. 268—269]. Это объяснение только подтверждает, что левая оппозиция правительственному курсу представляла собой в то время аморфную группу людей, не объединенных организационными рамками и общностью позиции и не помышлявших о каких бы то ни было согласованных действиях. Возможно, они рассчитывали повлиять на позицию правительства и партии и, обманутые недавней близостью с Кениатой, перетянуть его на свою сторону. Эпизод с Каггиа должен был •бы показать им, что время подобной тактики прошло, но этого не случилось — они не были готовы к открытой борьбе.
Иным было положение в правом крыле правительства. Принципы социальной политики правых были выработаны давно. Главный акцент в ней делался на развитие; оно представлялось панацеей от всех социальных зол. «Нет сомнения, что радикальное решение — в развитии экономики,— говорил в 1964 г. Мбойя.— Нам предстоит создать атмосферу для экономического роста... Если мы будем ждать, пока экономика сама обеспечит занятость массы безработных, их существование
Ж
будет подрывать стабильность» [508, с. 217]. Характер «развития» четко обрисовал Кениата: «Мы считаем, что национализация не будет служить продвижению курсом африканского социализма... Мы уверены, что развитие африканского бизнеса и промышленности должно проводиться без нарушения существующей структуры экономики» [440, с. 50]. Это была та самая программа, проведение в жизнь которой начала еще колониальная администрация. Ее осуществление полным ходом шло и после провозглашения независимости.
Парламентская оппозиция Демократического союза одобряла принципы этой политики, выступая только против неравномерного распределения финансов по районам. Правительству Национального союза мешала, видимо, не столько эта оппозиция, сколько «региональная» конституция, но ее можно было отменить, только убрав с политической сцены Демократический союз. Весной 1964 г. Кениата начал кампанию против КАДУ. Руководство и парламентарии Демократического союза были поставлены перед альтернативой: либо присоединение к Национальному союзу и сохранение своего личного положения и постов, либо формальный запрет оппозиции и, следовательно, лишение всех чинов, привилегий и преимуществ. Кениата открыто' угрожал Демократическому союзу запретом и называл оппозицию «подыхающей лошадью». В то же время руководство Национального союза вело переговоры с лидерами Демократического союза о предоставлении им министерских постов в случае их перехода в правящую партию ([450, с. 182].
Одинга приложил немало усилий к «обработке» лидеров Демократического союза. Позже он признал, что это была ошибочная тактика: присоединение КАДУ усилило правое крыло Национального союза и, как он считал, изменило политику партии в целом [229, с. 283—284].
С середины 1964 г. члены руководства Демократического союза один за другим переходили в правящую партию. Уже в; июне Национальный союз имел в нижней палате парламента 75% голосов — необходимый для изменения конституции минимум. В верхней палате этого минимума (90%) не было, но он и не потребовался. В ноябре 1964 г. руководство Демократического союза во главе с Р. Нгалой объявило о добровольном роспуске своей партии и присоединилось к Национальному союзу [229, с. 283; 366, с. 197]. 12 декабря уже однопартийным государством Кения была провозглашена республикой.
После ликвидации официальной оппозиции борьба правого крыла руководства Национального союза с левыми и заднескамеечниками вступила в новую фазу. Развитие конкретных событий в этой борьбе определялось как разными идейными позициями, так в какой-то мере и столкновениями личных амбиций Одинги и Мбойи, а также позицией, занятой в этом конфликте Кениатой. У Одинги по-прежнему не было четкой программы, но на протяжении 1964—1965 гг. он не раз говорил на митингах
263
о необходимости установления максимума частной земельной собственности, о важности национализации и создания кооперативов для покупки собственности европейцев (в том числе и земельной). Кооперативы должны были служить основой бесклассового общества [440, с. 56].
Одинга не пытался навязать свою линию правительству, как это делал Каггиа, но и подобных высказываний было достаточно, чтобы в правительственных кругах вокруг него образовался вакуум. Кениата не советовался с Одингой — формально вторым человеком в стране — даже в таких важнейших вопросах, как вызов английских войск для подавления военного мятежа, и лишь сообщал ему о принятых мерах [229, с. 281]. В середине 1964 г., отправившись на конференцию Содружества, Кениата оставил вместо себя не Одингу, а министра иностранных дел Дж. Мурумби. По столице немедленно поползли слухи, что в отсутствие Кениаты Одинга захватит власть. В ноябре, как раз в то время, когда руководство Демократического союза вливалось в ряды КАНУ, из здания министерства внутренних дел в присутствии корреспондентов было извлечено большое количество оружия. Заказывал его сам Кениата; часть оружия хранилась в его резиденции. Но когда газеты заполнились сообщениями о том, что Одинга стоит во главе антиправительственного заговора, Кениата ни словом не обмолвился в защиту |[229, с. 276, 278]. Смысл этих действий заключался в том, чтобы скомпрометировать Одингу, уменьшить его популярность в центральных районах страны, завоеванную им здесь прежде всего борьбой за освобождение Кениаты.
В декабре 1964 г. произошло событие, которое могло бы стать началом укрепления позиций левых в стране. Был открыт Институт по подготовке партийных кадров КАНУ им. П. Лу- мумбы. Основателями института считались Одинга и Кениата. Кениата присутствовал на открытии и произнес речь, но в общем создание Института было результатом усилий левых. В его строительстве и финансировании принимали участие социалистические страны, в том числе СССР, председателем правления был Каггиа, в состав правления входили А. Онеко, Ф. Кубаи, П. Пинто и другие левые, среди преподавателей было несколько человек из Советского Союза [338, с. 158—159; 440, с. 63].
Открытие Института правые восприняли как признак активизации левых. Ответом стало убийство в 1965 г. П. Пинто.
П. Пинто был активным членом левого крыла Индийского национального конгресса и одним из основателей Партии свободы Кении. Он оказывал действенную поддержку еще Союзу африканцев, поддерживал связи с повстанцами и поставлял им деньги и оружие. Его выследили, и он отсидел свой срок. После создания Национального союза основал независимый пресс-центр этой партии, а потом вступил в ее ряды. Пинто был создателем официального органа КАНУ — «Саути я КАНУ», а также прогрессивного издательства «Пан- африкен пресс лтд». Был членом центральной законодательной ассамблеи Восточной Африки, в июле 1964 г. был избран в кенийский парламент от КАНУ (303, с. 179—il80].
264
Пинто считался «мозговым центром» левых [ 139, с. 245J, нозможно, поэтому он пал первой жертвой в цепи политических убийств, со временем ставших неотъемлемой чертой политической борьбы в Кении. Обстоятельства убийства Пинто расследовались поверхностно, не были опрошены даже те свидетели, которые настаивали на даче показаний. Анонимная листовка (Одинга с полным основанием назвал ее «демонстративно грубой фальшивкой»), распространенная после убийства в парламенте, не оставила сомнений в том, что оно было организована правыми [229, с. 287—288].
Обвинения левых в «коммунистических» симпатиях или связях были излюбленной тактикой правых, в полной мере использовавших методы, да и результаты антикоммунистической пропаганды колониальных времен. Каггиа напоминал: «Они (европейцы.— Я. Ф.) привыкли называть нас всех коммунистами, тех, кто боролся за нужды людей. Меня обычно называли; коммунистом, президента — тоже. Нам хотелось бы знать* говорил он,— кто эти коммунисты в нашей стране. Если это те, кто борется за нужды народа, тогда пусть меня так называют^ [440, с. 66].
Но правое руководство партии делало все, чтобы скомпрометировать это понятие. Его трактовка отличалась необычной для. буржуазной пропаганды 60-х годов примитивностью. Распространялось мнение, будто в СССР экспроприирована личная собственность, «обобществлены» жены, царят террор, разруха, голод. В этой кампании активно участвовала европейская пресса Кении, твердившая о «коммунистической угрозе» и о новых, «коммунистических заговорах». Под «коммунистической угрозой» подразумевалось развитие дружественных отношений СССР со странами Африки, под «коммунистическими заговорами» — любые выступления с требованиями преобразований.
Первая половина 1965 г. прошла под знаком обострявшейся борьбы правой и левой группировок в правительстве и партии. Правые пытались изолировать Одингу, вокруг которого? сплачивалась левая оппозиция. Его постоянно обвиняли в незаконных или нелегальных связях с социалистическими странами, приписывали ему участие в подрывных действиях. Пост- пенно Одингу лишили возможности исполнять свои функции в: правительстве.
На местах шла борьба за влияние в отделениях КАНУ. В районах, где пользовались большим влиянием видные представители левых, правые создавали новые отделения партии. 13 Муранге такое отделение было создано в противовес влиянию Каггиа, в Китуи и Мачакосе — против П. Нгея [440, с. 61]. Раскол в партии стал свершившимся фактом.
Обвинения в «коммунизме», выдвигавшиеся против левых, указывали на то, что борьба носила идеологический характер. Правые осознали это и определили свою позицию раньше ле-
26S
вых. В мае 1965 г. на рассмотрение парламента была представлена программа экономической политики правительства — «Африканский социализм и его применение к планированию в Кении». Авторство приписывали Мбойе, но исследователи полагают, что программа была подготовлена американским экономистом, работавшим в его министерстве.
Впрочем, не так уж важно, кто составлял программу. Главное заключалось в том, что эта «экономическая библия» Кении, как назвал ее Кениата J508, с. 221], представляла собой декларацию развития страны по капиталистическому пути и что она была выдвинута правыми от имени всего руководства партии и страны. И у левых не нашлось ни одного слова возражения. Программа была единогласно принята парламентом. На следующий день Одинга даже сказал в своей речи, что этот документ об «африканском социализме... обеспечит, чтобы африканцы как можно скорее стали хозяевами национальных богатств» {338, с. 152]. Прошло более года, прежде чем левые выработали собственную экономическую программу.
Большую роль в дальнейших событиях сыграл Институт им. П. Лумумбы. С марта по июнь в нем обучалось около 30 слушателей — радикальный резерв левого крыла Национального союза. Студенты вели активную политическую деятельность: публиковали заявления, в которых высказывали неудовлетворенность бездеятельностью партии; в отличие от представителей левой оппозиции в парламенте, выступили с критикой программы строительства «африканского демократического социализма», которая, по их мнению, не соответствовала принципам научного социализма {440, с. 63—64].
В июле 1965 г. в здании института собрались представители 17 отделений КАНУ и потребовали созыва партийной конференции и перевыборов руководства партии. Когда, пишет Одинга, они отнесли резолюцию своего митинга в штаб КАНУ, их арестовали и приговорили к годичному тюремному заключению f229, с. 298]. Но в данном случае Одинга неверно передает события. Советский ученый, работавший во время этих событий в Кении, пишет, что митинг представлял собой плохо организованную попытку созыва руководящего совета КАНУ. Участники избрали новый состав руководства партии и пришли в штаб-квартиру, чтобы изгнать «бывших» функционеров и занять их места [338, с. 164—165]. Такое развитие событий подтверждается и другими источниками.
В проигрыше остались, конечно, левые. Институт был закрыт. 27 человек из непосредственных участников попали за решетку, многие левые потеряли важные посты в партии: Одинга — заместителя парламентской группы КАНУ, Каггиа — руководителя районного отделения в Муранге, Онеко — казначея районного отделения в Накуру |[338, с. 167]. Выступление вызвало разногласия в группе заднескамеечников, и она была расформирована по требованию президента. Заднескамеечники то¬
266
же потеряли многие посты в комитетах и комиссиях парламента. Кениата занял место председателя парламентской группы КАНУ, и критика политики партии в парламенте стала фактически невозможной |440, с. 41—42, 54]. Не менее серьезным был и тактический урон, понесенный левыми: их выступление дало повод для новых запугиваний общественности «коммунистическим заговором» [338, с. 166; 366, с. 222].
Советский исследователь возлагает ответственность за непродуманную акцию части левых на «маоистские элементы»'
1338, с. 167]. Их влияние, конечно, не стоит сбрасывать со счетов. Однако, оценивая действия этой группы, не нужно забывать и другое. Немаловажной тактической слабостью левых, как и прочей политической оппозиции первой половины 60-х годов (КАДУ и заднескамеечники КАНУ, не всегда входившие в число левых), была неспособность выступить против авторитета правительства и лично президента. Почти все речи и выступления оппозиции начинались уверениями в лояльности. «...Группа заднескамеечников не имеет никаких претензий к нашему премьер-министру (отрывок из речи 1964 г., когда Кениата был еще премьер-министром, а не президентом.— И. Ф.) и его правительству... Мы только напоминаем нашему правительству О; необходимости выполнять обещания, которые оно давало изби^ рателям» [440, с. 40]—такова характерная интонация.
В то время такая позиция объяснялась не столько боязнью репрессий (хотя было и это), сколько высоким авторитетом Ке- ниаты. Публичная критика его действий граничила бы с политическим самоубийством. Но левые и не пытались критиковать его, а наоборот, способствовали упрочению его авторитета, как бы по инерции продолжая придерживаться тактики Одинги, выдвинувшего когда-то Кениату, как козырь в борьбе против Мбойи.
Уже эпизод с Каггиа показал, что установки левых несовместимы с деятельностью в правительстве Кениаты. К лету 1965 г. стало ясно, что левая оппозиция остается в изоляции; и в парламенте. Но она бездействовала. Выступление слушателей Института им. П. Лумумбы было, по существу, единственной попыткой левых перехватить инициативу в партии, где они еще пользовались влиянием. Другое дело, что попытка эта была не только плохо продумана и организована, но и вообще в условиях уже отлаженного государственного механизма почти наверняка обречена на провал.
Осенью 1965 г. правое крыло укрепило свои позиции и в руководстве профсоюзов, где до этого, несмотря на усилия Мбойи, влияние левых было все еще велико. Летом 1963 г„ Мбойя провел на пост генерального секретаря Федерации труда Кении своего союзника К. Лубембе, оттеснив близких к Одинге Д. Акуму и О. Маканьенго. Акуму создал новую профсоюзную организацию, критиковавшую Федерацию труда за характер внешних связей (исключительно с Международной конфедера¬
267
цией свободных профсоюзов) и стремившуюся заострить социальные вопросы. Организация эта не была зарегистрирована из-за недостаточного числа членов. Но постепенно популярность группы Акуму росла. В 1965 г. основанный им Конгресс африканских рабочих Кении был уже крупной организацией )[377, с. 109; 613, с. 133—134].
Нельзя сказать, что рабочие четко понимали причину раскола — Конгресс не выдвинул новой программы, и обе организации ратовали за единство и неизменно подчеркивали лояльность по отношению к Кениате и правительству [377, с. ПО— 111; 613, с. 134]. Однако Конгресс открыто выступал против Мбойи, поддерживал тесные связи с Одингой, вступил во Все- африканскую организацию профсоюзов, некоторые из заднескамеечников стали его функционерами. Летом 1965 г. в Федерацию труда входили 13 профсоюзных организаций, в Конгресс— всего 5 [613, с. 134, 136], однако среди этих пяти были самые сильные организации, прежде всего возглавлявшийся самим Акуму профсоюз докеров. За этот-то профсоюз и разгорелась летом 1965 г. борьба. Т. Мбойя, Р. Нгала и К. Лубембе, объединив усилия, смогли провести перевыборы руководства в нем по своему сценарию. Но положение они все же не контролировали, и в августе на митинге в Момбасе произошли столкновения сторонников Федерации и Конгресса {377, с. 111].
Кениата счел момент удобным для вмешательства и назначил комиссию расследования. Ее рекомендации были утверждены правительством. Профсоюзным лидерам ничего другого не оставалось, как выполнять их. И Федерация и Конгресс были распущены, вместо них создана единая Центральная организация профсоюзов. Из нее были исключены активные профсоюзы гражданских служащих и учителей. Президент получил право назначать и смещать профсоюзных лидеров. Руководство Центральной организации было лишено значительной части финансовых полномочий [272, 2.IX.1965; 377, с. 111; 450, с. 186]. Генеральным секретарем Центральной организации стал Лубембе, Акуму получил пост его заместителя.
Наступление правых по всем линиям не могло не завершиться столкновением в партии. Мбойя в качестве генерального секретаря Национального союза был удобной мишенью для критики: после провозглашения независимости партийная машина фактически перестала функционировать. Как руководящий, так и исполнительный советы КАНУ не созывались с 1963 по 1966 г. В отделениях не собирали взносы. Штаб партии пустовал, телефон был отключен из-за неуплаты по счетам |[440, с. 58]. Не выступая против правительства и Кениаты, левые сосредоточили свои нападки на партийном руководстве, и в частности на генеральном секретаре.
Западные наблюдатели и исследователи часто писали о политических талантах Мбойи. Сражение, которое он дал левым в руководстве КАНУ, считается одним из самых ярких прояв-
268
лсний его способностей. Возможно, Мбойя действительно сыграл какую-то роль в том, как конкретно развивались события, но исход их был предрешен.
В конце февраля 1966 г. неожиданно для левых, в том числе и для вице-президента партии — Одинги, Мбойя объявил о том, что на 11 — 13 марта назначена партийная конференция. Сторонники Одинги попытались заставить руководство страны перенести конференцию, поскольку были совершенно не подготовлены к ней. 52 члена парламента подписались под петицией, содержавшей требование отложить конференцию, но это была слабая позиция, поскольку все эти годы левые настаивали на ее созыве. 99 членов парламента во главе с Нгалой тут же обратились к Кениате с призывом провести конференцию в намеченные сроки. Кениата отклонил первую петицию и отказался принять Акуму и Маканьенго, собиравшихся просить его отложить конференцию от имени профсоюзов [338, с. 174; 366,
с. 221—222; 440, с. 71].
Недели, оставшиеся до конференции, и дни ее проведения прошли в обстановке антикоммунистической истерии. Одингу и его сторонников публично называли «агентами международного коммунизма». «Чтобы придать вес слухам и предположениям о том, что я — марионетка „коммунистов",—писал Одинга,— правительство приказало выслать из Кении нескольких дипломатов и журналистов из социалистических стран» (229, с. 300; 366, с. 222].
Конференция состоялась в Лимуру в намеченные сроки. Она была прекрасно организована. Делегатов разместили в роскошных отелях, на заседания, проходившие в 18 милях от гостиниц, их возили на автобусах и машинах. Программа включала воздушное путешествение над Найроби, осмотр заповедника, банкет в Доме правительства — и все это бесплатно, хотя на счете КАНУ в банке были одни долги Г229, с. 299]).
Конституция партии, принятая 359 голосами против 15 [338, с. 18] (еще одно свидетельство неподготовленности левых к конференции), пространно и расплывчато формулировала цели построения «демократической Кении на базе концепции африканского социализма» и выступала против «всех форм иностранного проникновения — как идеологических, так и экономических— со стороны капитализма, коммунизма или неоколониализма» [97, с. 4, 7]. Наиболее существенные изменения касались положения О. Одинги. Пост вице-президента партии, который Одинга занимал с самого основания партии, был упразднен, а вместо него учреждены восемь вице-президентских постов — по одному от каждой провинции и Найроби (97, с. 9]. Левые, по существу, не выступили и против этого предложения.
Настоящая борьба разгорелась только вокруг выборов нового руководства. Во время выборов вице-президентов в действии налаженного правыми механизма конференции произошел сбой. Неожиданно для организаторов от Центральной провинции на
269
этот пост был избран Б. Каггиа. Тогда выборы были объявлены недействительными и на следующий день проведены новые; причем число делегатов от Центральной провинции заметно увеличилось. При новом голосовании этот пост, как и было задумано, достался Дж. Гичуру [229, с. 299]. Одинга свою кандидатуру не выдвигал. На все остальные посты были избраны представители правых.
Кениата, кандидатуру которого выдвигал Даниэль арап Мои, был переизбран единогласно, под аплодисменты присутствующих. Одинга воздержался от голосования. Мбойю, выдвинутого Нгалой, переизбрали значительным большинством голосов. После этого Одинга покинул конференцию [272, 14.III.1966; 338, с. 182; 366, с. 225]. Честь выдвижения кандидатуры Кениаты была оказана Мои не случайно. Он и его «гвардия календжин» были главными помощниками Мбойи во время подготовки и проведения конференции [508, с. 224].
В речи после своего избрания Кениата сказал: «Страна не позволит нескольким платным агентам смущать народ... Ходят слухи, что кое-кто пытается организовать новую партию. Если они думают, что достаточно сильны, пусть действуют открыто» [298, с. 497]. По-видимому, он был уверен, что никто не осмелится бросить ему открытый вызов. Но в тот же день, 13 марта, группа левых во главе с Каггиа, Т. Окелло-Одонго и Д. Акуму, собравшаяся в здании парламента, объявила о создании новой партии — Африканского союза Кении [272, 14.III.1966]. Однако настоящее организационное оформление оппозиции произошло позже.
Месяц спустя Одинга покинул пост вице-президента страны. Он объяснил этот шаг тем, что «путеводной звездой правительства стала личная выгода» [298, с. 497], и заявил о своем выходе из Национального союза. За ним последовала группа парламентариев, среди которых было несколько заместителей министров, в том числе А. Онеко и Т. Окелло-Одонго. Образовалась влиятельная парламентская оппозиция, главой которой стал Одинга, а его заместителем — Каггиа |[270, 28.IV.1966].
26 апреля Одинга объявил о создании новой партии — Союза народа Кении (СНК). Председателем ее стал он сам, заместителем председателя — Каггиа, генеральным секретарем — С. Макока, секретарем по пропаганде — Онеко. Среди лидеров партии были и Д. Акуму и Т. Окелло-Одонго.
Уже на следующий день Кениата обнародовал законопроект, согласно которому члены парламента, избранные от Национального союза и перешедшие в другую партию, теряли свои мандаты. Узнав об этом, некоторые оппозиционеры тут же подали заявления о возвращении в КАНУ. Кениата принял только двоих, остальные, выждав несколько дней, вернулись в Союз народа Кении (270, 5.V.1966; 272, 28.IV. 1966; 338, с. 187—188].
В СНК были, конечно, и убежденные противники Национального союза, но колебания части парламентариев и даже руко-
270
иодства компрометировали оппозицию и те идеалы, которые собиралась проводить в жизнь новая партия. Некоторые из «перебежчиков» рассчитывали, видимо, что Союз народа Кении займет столь же удобное положение уважаемой официальной оппозиции, как за три года до этого Демократический союз, что борьба между партиями будет вестись в соответствии с нормами буржуазной демократии, что с помощью оппозиции удастся добиться большей известности, получить более высокие государственные посты. Но Союз народа Кении был совсем другой оппозицией — социальной. У него еще не было программы, но социальное чутье лидеров правящей партии сразу подсказало им жесткий курс на подавление этой оппозиции.
За годы своего существования Союз народа Кении опубликовал два программных документа. Первый — «Манифест СНК» [113] появился в мае 1966 г., второй —«Декларация вананчи. Программа Союза народа Кении» [119] —в декабре 1968 г.
Самой сильной стороной этих документов была критика Национального союза. «Всего лишь после двух лет пребывания у власти,— говорилось в „Декларации**,— КАНУ стал партией, представляющей и обогащающей маленький привилегированный правящий класс... КАНУ предал те идеалы, которые вдохновляли борьбу вананчи... за независимость. Под прикрытием лозунга „африканский социализм** Кения движется к одной из наиболее ортодоксальных форм капитализма» |[ 119, с. 3, 5]. Настоящей «социалистической политикой», которая отвечала бы «интересам» вананчи — граждан, «Манифест» называл «равномерное распределение национальных богатств среди народа, увеличение контроля над средствами производства и ликвидацию власти иностранцев над экономикой» [128, с. 150].
«Единственное, что могло бы решить проблему безработицы немедленно,— говорилось в „Манифесте**,— это выделение большего количества земли для безработных, которые чаще всего являются одновременно и безземельными» [128, с. 154]. В то же время Союз намеревался оказывать поддержку и «мелким тор- говцам-бизнесменам» при условии, что они не превратятся в «изолированный средний класс» [119, с. 8]. В «Декларации» подчеркивались важность «передачи экономической власти в руки народа как главного условия справедливого распределения в бедном обществе», необходимость государственного контроля над деятельностью частного капитала. В то же время в документе говорилось о необходимости привлечения иностранных капиталов и создания благоприятных условий для их функционирования [119, с. 5, 10].
Разрабатывая программу земельной политики Союза народа Кении, его руководство максимально учитывало недовольство широких слоев кенийского общества разными аспектами земельной политики правительства. «Правительство КАНУ не способно предпринять решительные шаги для решения земельного вопроса по многим причинам,— говорилось в „Манифесте".— Его
271
идеологическая близость с капитализмом усиливается за счет того, что многие члены правительства владеют сотнями и даже тысячами акров земли. Большинство министров и заместителей министров имеют большие поместья, многие — даже не по одному. Покуда дело обстоит так, они не могут проводить политику, выгодную для вананчи... Не только многие из европейских поселенцев все еще занимают большие фермы, но мы получаем и новый преднамеренно создаваемый класс Бланделлов, Дэ- ламеров и Бриггсов» [229, с. 303—304].
Земельная программа СНК включала следующие меры: предоставление земель бесплатно тем, кто более всего нуждался, включая скваттеров и потерявших землю в борьбе за независимость или в результате земельной консолидации. Сохранение права собственности на землю за теми, кто уже владеет консолидированными участками;
лишение неграждан Кении права владеть обширными районами плодородных земель на Нагорье. Установление максимума земель для одного владельца;
создание кооперативного хозяйства на землях, изъятых у европейцев;
борьба за уменьшение размеров частных ферм. Недопущение возникновения «нового класса крупных лендлордов»;
после уменьшения ферм «до размеров, совместимых с демократией и социализмом», оказание индивидуальным владельцам максимальной помощи в развитии ферм;
продолжение земельной консолидации, но демократическими методами и в соответствии с желаниями людей [119, с. 6—8; 128, с. 151; 229, с. 303—304].
Политические цели Союза народа Кении, как разъяснялось в «Декларации», включали управление страной «демократически избираемым правительством», которое «разделяет интересы мелких фермеров и рабочих» [119, с. 5]. Во внешней политике предлагалось придерживаться подлинного неприсоединения, развивать отношения со всеми странами, в том числе и социалистическими, а также укреплять политику африканского единства ([119, с. 151. Подробный анализ документов СНК см. [338, с. 188—191; Збб, с. 226—228; 508, с. 226—227]).
Оценки социального характера программ Союза народа Ке- нии крайне различны как в буржуазной, так и в марксистской исторической литературе. Английская буржуазная исследовательница Ч. Гертцель писала: «Тщательный анализ заявлений обеих партий о политике показывает, что между ними не было существенных различий». Правда, руководство СНК она относила к «более экстремистскому крылу национализма» |[440, с. 87]. Зарубежные исследователи чаще всего называют Союз народа Кении мелкобуржуазной партией. «Их (Одинги и Каггиа.— И. Ф.) социализм был мелкобуржуазного типа... трудно поверить, что их представления могли бы эволюционировать во что-либо, значительно отличающееся от идеологии перераспределительного
272
популизма»,— писал английский социолог К. Лейс [508, с. 221].
Советский исследователь назвал идеологию Союза народа Кении «идеологией революционной демократии» и высказал мнение, что СНК во многом явился «прообразом авангардных партий — партий социалистической ориентации, которые в 70-х годах были учреждены в некоторых развивающихся странах Азии и Африки» [338, с. 198]. Но определение «авангардная партия» дается обычно тем партиям, которые проводят четкий социальный курс на сдерживание развития эксплуататорских отношений и классов, так что к Союзу народа Кении оно вряд ли применимо.
Что касается идеологии революционной демократии, то она, как известно, прошла в своем становлении несколько этапов. Программа СНК в общем и целом укладывается в рамки идеологии революционной демократии середины 60-х годов, т. е. самого раннего этапа ее развития: общедемократические лозунги, искреннее стремление помочь народным массам, тяготение к наиболее популярным идеалам социализма, желание развивать сотрудничество с социалистическими странами и в то же время непонимание характера социальной структуры общества своей страны и закономерностей его трансформации. Так или иначе, идеология революционной демократии формировалась в ходе активной деятельности, а действовать Союзу так и не пришлось.
Наиболее верную оценку Союза народа Кении дал А. М. Пе- гушев, который отмечал, что главная причина его появления заключалась «во все более определяющихся „фундаментальных различиях'' между идейно-политическими программами правящей партии и оппозиции». «Программа (СНК.— И. Ф.) была в равной степени ориентирована как на беднейшие, так и на мелкобуржуазные слои кенийского общества — мелких земельных собственников, торговцев, предпринимателей»,— писал исследователь [366, с. 228, 230].
Дополнительные выборы в округах, депутаты от которых вступили в Союз народа Кении, были назначены на июнь 1966 г. Подготовка к ним велась в очень трудных для оппозиции условиях. СНК почти не мог пользоваться такими мощными средствами пропаганды и агитации, как телевидение и радиовещание; буржуазная пресса страны освещала его митинги и выступления лидеров в гораздо меньшей степени, чем избирательную кампанию КАНУ. Используя административные каналы, правящая партия оказывала давление на местную администрацию, заставляя ее чинить препятствия оппозиции [440, с. 79—81].
Видные профсоюзные деятели, присоединившиеся к Союзу народа Кении, потеряли свои посты в руководстве Центральной организации профсоюзов. В официальном разъяснении говорилось, что, поскольку Центральная организация поддерживает правительство, а у власти находится КАНУ, то присоединение к оппозиции равнозначно выступлению против профсоюзов [377, с. 112—113].
18 Зак. 654
273
Центральные районы современной Кении
Весь свой мощный авторитет бросил на борьбу против оппозиции Кениата. Легко нащупав слабые места и противоречия в программных заявлениях Союза, Кениата использовал их для социальной демагогии. В своей речи в «День мадарака» (1 ию ия — день самоуправления, национальный праздник) он говорил* «Кое-кто требует, чтобы я раздавал все людям бесплатно. Это лишь легкий способ завоевать популярность. В Киамбу или Ка камеге, в Килифи или Кисуму, в Капсабете или Кириньяге все кому-то принадлежит... Те, кто говорит о получении всего даром, подразумевают, должно быть, что я должен позвать армию и полицию и силой захватить землю, скот и дома, которые принадлежат некоторым из вас... Мы верим, что должны защитить права личности и право собственности всех людей, как жизненно важный элемент нашей с трудом завоеванной свободы» [272, 2.VI. 1966].
Кениата лично выступил против двух видных деятелей оппозиции и своих бывших товарищей по суду и заключению — А. Онеко и Б. Каггиа — в их избирательных округах. Против них он использовал оружие трибализма. Онеко — луо — баллотировался по округу Накуру, среди избирателей которого луо практически не было; Каггиа — гикуйю — был той же национальности, что и его избиратели, но Кениата представил дело так, будто Каггиа объединился с луо, чтобы бросить вызов лично ему, Кениате. После этого Каггиа смог набрать лишь 10% голосов, хотя раньше был очень популярен в своем округе [338, с. 193; 440, с. 91; 508, с. 225]. Кениата и руководство Национального союза обвиняли СНК в предательстве единства, «подрывных намерениях» и трибализме и представляли его эт • нической партией луо. Одинге приписывали намерение «узурпировать власть Мзее» [440, с. 145].
В результате выборов только девять представителей Союза народа Кении были переизбраны в парламент. Даже Онеко, Каггиа, Акуму и многие популярные представители руководства партии потеряли мандаты или не получили их. Одинга объяснял это фальсификацией результатов голосования, а также несправедливо проведенными границами избирательных округов. Но низкий процент избирателей, принимавших участие в выборах в центральных районах страны (около 33%), свидетельствовал о том, что массовой поддержки Союз народа Кении не нашел нигде, кроме Ньянзы [298, с. 497; 338, с. 194; 366, с. 230—231; 440, с. 82—83].
После выборов положение СНК стало еще более тяжелым, В парламенте он утратил статус официальной оппозиции и лишился некоторых, пусть небольших привилегий. В мае 1966 г. была принята поправка к закону об охране государственной безопасности, предоставлявшая президенту право заключать любого человека в тюрьму без суда, налагать различные ограничения (в передвижении и т.д.). Поэтому закону неоднократно арестовывались многие видные члены СНК, в том числе Акуму,
18*
275
Каггиа, Маканьенго. За проведение «незаконного» митинга Каггиа продержали в тюрьме полгода [377, с. 113; 440, с. 146. 152].
В Найроби было организовано несколько нападений на штаб СНК, причем в двух из них были замешаны министры кабинета. Случались нападения и на отдельных руководителей и членов партии. На того же Каггиа в декабре 1967 г. было совершено покушение. Отделения партии не регистрировались, им попросту не давали функционировать. Сразу же после выборов Одинга организовал большой митинг, но он стал последним. На протяжении двух следующих лет все митинги Союза народа Кении под разными предлогами запрещались. Одинга выступал, правда, с речами перед студентами Дар-эс-Салама и Кампалы, но в Кении возможности были так ничтожны, что даже в Ньян- зе его партия вынуждена была использовать для пропаганды традиционные похоронные церемонии [187, с. 29; 440, с. 146— 149].
Правительство прибегало и к тактике социального подкупа. Именно в 1967—1968 гг. (не без поддержки оппозиции, вряд ли понимавшей, к чему это приведет) была развернута антииндийская кампания, отвлекшая внимание наиболее политически активного городского и части сельского населения от борьбы за свои социальные нужды. Эта кампания создала у людей иллюзию возможности улучшения своего социального статуса без борьбы, при существующем режиме, ограничила социальное недовольство рамками расового конфликта, а в конечном итоге способствовала упрочению положения «среднего класса», т. е. зажиточной прослойки.
«Обработка» парламентариев СНК привела к тому, что в середине 1968 г. двое из них вернулись в Национальный союз. Это поставило Союз народа Кении на грань ликвидации, поскольку депутаты от партии, имеющей в парламенте менее семи мест, по закону становились просто независимыми, а независимым кандидатам запрещалось участие во всех выборах, кроме низовых [440, с. 148, 162—163; 450, с. 223]. Этот и другие законы, ограничивавшие деятельность оппозиции, были приняты парламентом после образования СНК.
Выборы в местные органы власти в августе 1968 г. проходили в крайне сложной для Союза народа Кении обстановке. Буквально накануне выборов все его кандидаты были дисквалифицированы под разными предлогами. Одинга в парламенте обвинил правительство в дискриминации его партии, но Мбойя, Мои, М. Кибаки и Б. Маккензи опровергли все его доказательства. В результате СНК потерпел новое поражение [440, с. 166]. Ослабление позиций Союза народа Кении сопровождалось объявлениями о выходе из него все новых членов. В начале 1969 г. у партии все еще было 22 отделения в разных районах страны, а число членов, по словам Одинги, составляло около 50 тыс. человек [366, с. 234], и все же ясно было, что дни СНК сочтены.
276
Авторы книги «Независимая Кения» — нынешние кенийские оппозиционнеры — в целом верно подытожили деятельность Союза народа Кении, определив как слабые, так и сильные ее стороны: «СНК представлял собой запоздалую и безнадежную попытку воинствующих националистов возродить борьбу за нашу неуловимую независимость. Его обличение ненасытной правящей клики выходило за рамки „племенных" противоречий. Он стремился... сформулировать для всех кенийцев альтернативу предательству истинных интересов нашего народа, которое составляло существо ухуру при КАНУ и Кениате» .f 187, с. 29]. Оценивая значение Союза народа Кении, нельзя забывать о том, что эта партия была и до сих пор остается единственной в истории страны организованной социальной оппозицией, открыто и определенно выступившей за изменение социально-политической ориентации Кении.
Характер столкновений внутри правящей верхушки
Изгнание левой оппозиции из рядов Национального союза и правительства и ослабление ее позиций в стране не привело к упрочению единства внутри правящей верхушки. Наоборот, конец 60-х годов стал временем резкого обострения столкновений в правительстве и КАНУ. Началась борьба различных группировок в руководстве страны за место преемника стареющего Кениаты, т. е. за власть и все то, что она могла дать. Выход Одинги из правительства упрочил позиции его главного противника Т. Мбойи. Но это совершенно не устраивало ближайшее окружение президента — небольшую группу его друзей и родственников, в основном гикуйю из Киамбу, которых часто называли «семьей». Мбойя — энергичный, умелый политик и «верный слуга режима Кениаты» [187, с. 30], но слишком влиятельный и к тому же — луо, а потому для «семьи» — чужак.
Первым ударом, который был нанесен Мбойе, стало изменение в июне 1968 г. порядка выборов нового президента. Прежде большая роль в этих выборах отводилась парламенту, теперь президент должен был избираться на общенациональных выборах прямым голосованием. Но этого было, конечно, недостаточно. В партии снова началась борьба за каждую низовую организацию. Группировку Мбойи называли «КАНУ-А», его противников — «КАНУ-Б». Борьба часто выливалась в открытые столкновения между сторонниками каждой из группировок [440, с. 154, 165].
О том, насколько непримиримый характер она носила, можно судить хотя бы по тому факту, что именно благодаря ей Д. Акуму — один из руководителей Союза народа Кении, покинувший, правда, ряды этой партии,— смог не только вернуться в Центральную организацию профсоюзов, но и возглавить ее. Занять пост главы Центральной организации ему помогла
277
группа министров-гикуйю, стремившихся противопоставить Аку- му ставленнику Мбойи — К. Лубембе. Даже в 1969 г., когда еще действовал Союз народа Кении, близость Акуму к Одинге значила для этих министров куда меньше, чем его соперничество со сторонниками Мбойи в профсоюзах [613, с. 41—42, 136].
Недовольство распрями в руководстве Национального союза привело к активизации заднескамеечников. В апреле 1969 г. они подписали «Декларацию Ол-Калоу», содержавшую требование провести первичные выборы до назначения кандидатов КАНУ на всеобщие парламентские выборы. Документ был популярен, и Кениата вынужден был согласиться. Но руководству Национального союза это вряд ли было по душе: в первичных выборах могли принимать участие не только представители соперничавших группировок, но и оппозиция, и независимые, поэтому повлиять на их исход было трудно ([508, с. 235].
Такова была обстановка в стране, когда 5 июля 1969 г. был убит Мбойя. Это произошло среди бела дня в центре Найроби, но убийце удалось скрыться. Через некоторое время некто Ндженга, гикуйю, был арестован, признан виновным и казнен. Следствие не выявило не только соучастников, но и мотивы убийцы, если он был таковым [338, с. 196; 508, с. 235]. В заявлении, сделанном от имени правительства вице-президентом Д. арап Мои, вина за убийство возлагалась на некую «коммунистическую державу» [272, 14.VII.1969]. Вряд ли кто-нибудь воспринял эти слова всерьез: слишком очевидно было, кому выгодна смерть Мбойи. «Он угрожал монополии власти, к которой стремилась „семья" и ее закадычные дружки,— писали авторы „Независимой Кении"—и потому подлежал ликвидации» [187, с. 30].
Убийство Мбойи повлекло за собой взрыв трибализма. Национальные чувства заставили луо забыть вражду «своих лучших сыновей», Одинги и Мбойи, и увидеть в отстранении от власти одного и уничтожении другого наступление на свой народ. В Ньянзе шли демонстрации в поддержку Одинги, толпа луо устроила демонстрацию против Кениаты во время похорон Мбойи в Найроби [192, с. 11; 508, с. 236].
В ответ лидеры гикуйю начали кампанию клятвоприношемий на верность Кениате. Смысл клятв сводился к обязательству «удержать флаг в доме Мумби» (т. е. власть в руках гикуйю). Кампания замалчивалась правительством, но всем было хорошо известно, для чего к Гатунду со всех сторон потянулись длинные колонны грузовиков с надписью «Собственность КАНУ». Менее чем за три месяца почти все взрослые гикуйю, меру и эмбу были приведены к клятве, далеко не всегда — добровольно. В печать просочились сведения о том, что священник-ги- куйю, не пожелавший давать клятву (она по-прежнему включала элементы языческих обрядов), умер от побоев, что к клятве были насильственно приведены некоторые камба, а в пригородах Найроби было совершено насильственное обрезание
278
большой группы луо, и в результате несколько человек погибло [187, с. 32; 192, с. 12—13; 508, с. 236, 241].
За годы, прошедшие со времени May May, характер клятвы единства гикуйю изменился. Теперь она была направлена не против колониальной администрации, а на подчинение других народов и в то же время призвана была скрыть углублявшиеся социальные противоречия в среде самих гикуйю. Организаторы кампании стремились нажить не только политический капитал: за приведение к клятве организатор церемонии взимал по 10 шилл. с каждого участника. Миллионы шиллингов, собранные таким образом, должны были пойти на создание молодежной бригады для «защиты отчизны» (т. е. страны гикуйю). Бригада не была создана, и большая часть денег осела в карманах организаторов [192, с. 37].
Кампания клятвоприношений способствовала разжиганию националистических страстей, созданию атмосферы национальной нетерпимости. По всей стране начались выступления против гикуйю. На двух крупных фермах в Рифт-Вэлли произошли столкновения между гикуйю и календжин. Увидев, что дело принимает дурной оборот, руководство страны решило наконец принять меры. 20 сентября Мои выступил от имени правительства и Кениаты с осуждением клятвоприношений, и кампания была прекращена [187, с. 32; 192, с. 12—14].
Рост трибализма ударил прежде всего по оппозиции. 1 августа Каггиа объявил о своем выходе из Союза народа Кении, объяснив этот шаг тем, что партия не выполнила те цели, ради достижения которых он вступил в нее. Вместе с ним из СНК ушли все оставшиеся в нем лидеры гикуйю [266, 2.VIII.1969]. Одинга отнес отступничество Каггиа за счет оказанного на него давления. Тот, не ответив прямо на это предположение, предостерег Одингу против трибализма и отметил рост трибалистских тенденций в СНК [266, 14.IX.1969; 272,
4.VIII.1969]. Каковы бы ни были непосредственные причины, побудившие Каггиа покинуть Союз народа Кении, ясно, что всплеск трибализма в любом случае сделал бы его дальнейшее пребывание в этой партии чрезвычайно трудным.
В октябре Кениата посетил Кисуму, чтобы выступить на открытии больницы, которая была построена на средства, предоставленные Советским Союзом. Толпа встретила его недружелюбно, в сторону его машины полетели камни. Охрана открыла огонь, около 20 человек было убито, около 100—ранено (точных данных о числе пострадавших нет). Через пять дней Союз народа Кении был запрещен, все его руководство, включая О. Одингу, А. Онеко и Т. Окелло-Одонго, арестовано {192, с. 14—15; 338, с. 197; 508, с. 237].
После подавления оппозиции и ликвидации Мбойи главенствующее положение на политической арене заняла «семья» и ее приближенные из числа крупных политических деятелей и пред- принимателей-гикуйю. В эту группу входили ближайшие родст-
279
венники Кениаты: занимавший последовательно посты министров иностранных дел и обороны Нджороге Мунгаи, государственный министр П. М. Коинанге, член парламента П. Кениата, мэр Найроби М. Кениата, миллионеры Н. Муигаи и У. Геса- га, а также министр обороны Дж. Гичуру, начальник полиции Б. Хинга, министр кооперативного развития П. Нгей и ряд других высших военных и гражданских служащих государственного аппарата, армии и полиции [192, с. 8; 297, 1977—1978,
с. В-263].
Этих людей объединяли не абстрактные родственные и дружеские чувства, а стремление отстоять монополию на власть. Препятствие своим целям они видели теперь в вице-президенте Д. арап Мои. По конституции в случае смерти президента вице-президент автоматически занимал его пост на довольно длительный срок — 90 дней. «Семье» нужно было поставить на пост вице-президента своего кандидата или изменить конституцию. Уже в 1970 г. по стране поползли слухи о том, что видные политики-гикуйю собираются в обход конституции ввести новую ответственную должность — «исполнительного премьер- министра». Называли и кандидатуру на этот пост — племянника и личного врача Кениаты министра иностранных дел Н. Мунгаи. Генеральный прокурор страны Ч. Нджонджо, пользовавшийся расположением Кениаты, но не входивший в «семью», официально заявил, что такой пост создан не будет. Слухи тем не менее продолжались [192, с. 15—16].
Парламентские выборы 1969 г. показали прочность позиций «семьи». Состав парламента обновился примерно на 60%, были забаллотированы пять министров и 14 заместителей министров, но все министры-гикуйю и их союзники остались в кабинете [338, с. 259; 508, с. 238]. С середины 1970 г. эта группа настолько усилилась, что начала подменять собой кабинет, парламент, а зачастую и суд в стране.
В 1971 г. она оформилась и организационно. «Семья» и верхушка гикуйю из Киамбу создали Ассоциацию гикуйю, меру и эмбу (ГЕМА) и зарегистрировали ее как ассоциацию благосостояния. ГЕМА должна была объединить три родственных народа якобы для умножения их материального достатка. На деле ее создатели превратили ее в организацию политического давления, носившую как этнополитический, так и социальный характер. Имя и авторитет стареющего и постепенно отходившего от дел президента служили для ГЕМА прикрытием, хотя Кениата публично осуждал ее попытки подменять правительство. В 1973 г. были созданы экономический агент ГЕМА — инвестиционная компания «ГЕМА холдингз корпорэйшн» и банк для поощрения развития предпринимательской прослойки гикуйю. Акционерами компании стали около 1 млн. человек, капитал к концу 70-х годов составлял около 3 млн. к. шилл. У мелких пайщиков принадлежность к «ГЕМА холдингз» создавала иллюзию участия в «развитии», а «семья» и денежные
280
тузы, руководившие всем предприятием, использовали их средства в своих экономических и политических целях [192, с. 55— 60; 450, с. 206; 629, с. 205—206].
Усиление влияния и роли гикуйю в политической жизни, стремление «семьи» закрепить за собой власть не могли не вызвать опасений у лидеров других народов. Летом 1971 г. в стране был раскрыт заговор. Заговор начинался в небольшой группе низшего армейского офицерства (всего по делу проходило 13 человек)—луо, календжин и камба. Среди заговорщиков был руководитель воинствующей религиозной секты «Мариа легио».
Из заметных политических фигур к заговору был привлечен член парламента, бывший заместитель министра Г. Мутисо, по национальности камба. Выбор пал на него не случайно: в сентябре 1969 г. он первым из политических деятелей страны выступил против кампании клятвоприношений, вернее, против ее насильственного распространения на камба. После выборов 1969 г. он остался в парламенте, но потерял министерский портфель. Мутисо привлек к заговору своего соотечественника главнокомандующего армией генерал-майора Дж. Ндоло, тоже выступавшего осенью 1969 г. против распространения клятвоприношений, а также главного судью верховного суда К. Мвен- дву.
Программы у заговорщиков не было. Главнокомандующий просил Мутисо составить «заявление» с перечислением всего, что «можно считать причиной переворота». Лидер младших офицеров на суде говорил о том, что они рассчитывали создать правительство из «молодых энергичных людей».
Заговор не пошел дальше разговоров о перевороте, может быть поэтому с заговорщиками поступили довольно гуманно. Мутисо был приговорен к десяти годам тюрьмы, остальные — к меньшим срокам заключения. Мвендва был отстранен от должности. Ндоло, несмотря на роль, отводившуюся ему заговорщиками, тоже всего лишь уволили в отставку, вероятно из- за неоднократно выражавшегося им нежелания действовать, «пока Мзее у власти» [508, с. 240—243].
Заговор оказался удобным поводом для репрессий. Недаром, получив сведения о нем еще в январе 1971 г., служба безопасности приняла меры только полгода спустя, дав ему созреть и выбрав наиболее подходящий момент. Угроза переворота — скорее видимая, чем реальная,— оправдывала с этого времени любые антидемократические меры, направленные на удушение общественной активности.
В 1972 г. такими мерами «семья» установила контроль над профсоюзами. Д. Акуму, избранный в конце 1969 г. в парламент, попытался воспользоваться своим влиянием в Центральной организации профсоюзов и проводить самостоятельную политику. Но после убийства Мбойи он был уже не нужен своим бывшим союзникам в правящих кругах гикуйю, и весной 1970 г.
281
в руководстве Центральной организации против него была образована такая же оппозиционная группа, какую он сам сформировал когда-то против К. Лубембе. На выборах руководства в декабре 1972 г. двухлетняя борьба завершилась победой сторонников Акуму, но его группа так и не была ни зарегистрирована, ни признана [613, с. 136—137].
Социальная направленность политики правительства не зависела от принадлежности отдельных его членов к той или иной группировке. Наиболее отчетливо это проявлялось именно в отношении к деятельности профсоюзов. Правительство в целом и каждый его член в отдельности постоянно подчеркивали, что профсоюзы не должны участвовать в политической борьбе. «У профсоюзов есть весьма позитивная роль, в сущности — долг,— говорил в 1971 г. М. Кибаки, министр финансов и экономического планирования — развивать производительность труда в каждой отрасли, чтобы национальный доход быстро рос» [613, с. 144]. Характерно, однако, что к «деполитизации» профсоюзов призывала обычно та сторона, чьи позиции в их руководстве были в данный момент слабее.
В действительности Центральная организация профсоюзов давно уже не участвовала в той борьбе, которую правое крыло руководства Национального союза называло «политической» раньше: борьбе за насущные нужды трудящихся. Теперь она была лишь рупором правительственной политики, а также буфером, смягчавшим недовольство рабочих. Митинги и собрания ее комитетов на всех уровнях заканчивались прославлением президента и КАНУ; хор с воодушевлением распевал партий* ный гимн «КАНУ ядженга нчи!» — «КАНУ строит страну!» [613, с. 123]. Но профсоюзные функционеры принимали деятельное участие в противоборстве группировок в верхах партии и в правительстве. В борьбе за власть их, как «представителей народа», использовала в своих демагогических целях то одна, то другая сторона. За поддержку профсоюзная верхушка получала чины и посты, профсоюзы стали ступенькой к высшим эшелонам власти.
В 1971—1972 гг. вышли из заключения бывшие руководители Союза народа Кении. Многие, в том числе Одинга, освобожденный в сентябре 1971 г., присоединились к правящей партии. К октябрю 1974 г.— времени проведения парламентских выборов — некоторые из них пробыли в партии уже три года и получили право выдвинуть свои кандидатуры. Одинга объявил о< намерении сделать это, но незадолго до выборов Кениата, ставший пожизненным президентом Национального союза, наложил на выдвижение некоторых бывших членов СНК, в том числе и Одинги, специальный запрет. Съезд КАНУ утвердил это решение [272, 8.V.1974; 298, с. 498—499].
Несмотря на такие меры предосторожности, 88 из 158 парламентариев, в том числе 4 министра и 13 заместителей министров, были забаллотированы. В их числе оказался Н. Мун-
282
гаи. Для «семьи» и ГЕМА это было большим ударом — ведь Мунгаи был главной кандидатурой этой группировки на пост президента после смерти Кениаты. Дж. М. Кариуки, Ж. М. Се- роней и М. Шикуку, пытавшиеся в начале 70-х годов возродить в парламенте традицию заднескамеечной критики, были переизбраны с большим перевесом, а в день открытия парламента Серонея выдвинули на пост заместителя спикера |[275, 16.Х. 1974; 298, с. 499]. Кениата был так недоволен развитием событий, что тут же перенес начало сессии на февраль 1975 г.
Парламент открылся 4 февраля, и Сероней все-таки был избран. А в ночь на 2 марта был убит Дж. М. Кариуки. Казалось, кенийская общественность должна была бы уже привыкнуть к подобным методам политической борьбы. Но Кариуки любили. В прошлом участник May May, автор книги «Заключенный May May» и секретарь Кениаты, Кариуки стал к середине 70-х годов богатым предпринимателем, щедро раздававшим личные средства на проекты самопомощи («Харамбее») во всех концах страны [192, с. 97]. Это был умеренный, но остроумный критик правительства, прославившийся такими, например, высказываниями: «Мы не хотим создавать Кению десяти миллионеров и десяти миллионов нищих» [227, с. 95; 228, с. V].
Тело Кариуки было найдено в окрестностях Найроби настолько изуродованным, что его опознали только случайно через восемь дней. 11 марта, когда стало известно об убийстве, студенты бойкотировали занятия, школы закрылись, не работали многие магазины. Парламент был распущен, а когда 13 марта собрался вновь, правительству пришлось выслушать от обычно пассивных парламентариев немало неприятного. Один из них сказал даже: «Нами правят гангстеры... Люди это или дьяволы? У колониального правительства было хоть какое-то уважение к человеческой жизни, оно не могло убить человека только за то, что он говорил правду» [298, с. 500].
Возмущенные парламентарии создали комиссию расследования, несмотря на явное недовольство правительства. Полиция, и прежде всего главный комиссар Б. Хинга, препятствовала ведению следствия. Некоторые члены правительства, в их числе М. Коинанге, отказались дать показания. В результате комиссия не смогла сделать окончательных выводов, но в числе подозреваемых назвала одного из членов охраны М. Коинанге и начальника национальной молодежной организации, бывшего «генерала Китай» В. Итоте [192, с. 67; 485, с. 15—17].
Нежелание помочь следствию бросало тень подозрения на «семью» и ГЕМА. Многие нити расследования вели к видным представителям этой группировки. О ее причастности к убийству Кариуки свидетельствовал и тот факт, что после этого события ее лидеры начали выступать с осуждением тех гикуйю, эмбу и меру, которые «выдают секреты племени» и пытаются «разделить» его, требуя наказания виновных j[ 192, с. 61].
283
Но прямые доказательства так и не были найдены. Было ли это убийство ответом ГЕМА на ослабление ее позиций в результате выборов? Ответить на этот вопрос трудно, но если так, то ее руководство добилось прямо противоположных результатов. В первой половине 1975 г. в Найроби впервые появились антиправительственные листовки. Было совершено несколько взрывов и налет на туристский информационный центр. Телефонные звонки в редакции газет объявили, что все это — дело рук Организации освобождения маскини (бедняков) )[298, с. 500—501].
Правительство ответило репрессиями. Шикуку, Сероней и еще несколько членов парламента, входивших в комиссию, были арестованы по различным сфабрикованным обвинениям. Когда один из членов парламента потребовал проведения суда над арестованными, генеральный прокурор Нджонджо ответил, что суда не будет, так как все они — подрывные элементы [187, с. 33; 297, 1977—78, с. В-265; 450, с. 195]. В стране воцарился режим произвола. Университет был закрыт, неугодные зарубежные корреспонденты высылались из страны, журналисты лишались работы, деятели культуры заключались в тюрьму без суда и следствия. Буржуазная демократия стала для правящих кругов вопросом формы. «Семья», опиравшаяся на авторитет и влияние Кениаты, чувствовала себя особенно безнаказанно.
Попав в дорожную аварию, П. Нгей угрожал убить человека, чью машину он сбил, и отказался предъявить полицейским документы. Министр был приговорен к годичному тюремному заключению, но президент освободил его от наказания [297, 1977—1978, с. В-266]. В ноябре 1975 г. суд дисквалифицировал Нгея как члена парламента за насилие по отношению к оппоненту в ходе предвыборной кампании. Уже 10 декабря парламент одобрил законопроект, внесенный Ч. Нджонджо, согласно которому президент мог освободить члена парламента от обвинений в нарушении избирательной процедуры. В январе Нгея «простили» ([298, с. 501]. Столь же малопочтенным образом был возвращен в парламент и Н. Мунгаи. После того как он потерпел поражение на выборах, его сестра — назначаемый член парламента — подала в отставку, и Кениата немедленно подписал назначение Мунгаи [192, с. 18]. Борьба за пути к президентскому креслу тут же развернулась вновь, на этот раз в форме движения за изменение конституции.
В конце сентября—начале октября 1976 г. группа парламентариев, наиболее активных в руководстве ГЕМА (Мунгаи, Дж. Гичуру, П. Нгей, К. Кимани, Н. Каруме и др.), начала кампанию за изменение статьи конституции о передаче власти вице-президенту. В поддержку этого требования ГЕМА провела несколько митингов и начала вербовать сторонников. В числе других она вела переговоры и с О. Одингой, А. Онеко и близкими им Дж. Аньоной и Г. Оньянго, которые считали своим главным врагом не руководство ГЕМА, а Нджонджо, и полага¬
284
ли, что, добившись изменения одного пункта конституции, можно будет изменить и другие — в сторону демократизации.
Члены движения выступали с откровенно шовинистскими речами и угрозами в адрес противников. На митинге, состоявшемся 10 октября в Меру, Кихика Кимани, наиболее беззастенчивый из лидеров движения, говорил: «Кениата будет править этой страной еще 100 лет. Вы умрете, а он будет управлять этой страной — и очень эффективно (подразумевалась, конечно, «семья», а не лично Кениата.— И. Ф.)... Пусть он (враг движения.— И. Ф.) знает, что им и ему подобными будут управлять мои дети... Мы очень опасны. Мы можем организовать что угодно. Мы чрезвычайно опасны для любого, кто выступит против нас... Мы можем избавиться от кого угодно через заднюю дверь. И потому — нечего бояться... Выше голову!.. И Кениата впереди...» if 192, с. 27—33].
Грубый нажим ГЕМА вызвал обратную реакцию: 98 членов парламента (среди них — 10 министров во главе с С. Олои- типтипом) выступили с протестом против изменения конституции. Нджонджо заявил, что упоминания о смерти президента будут расцениваться как уголовное преступление. Да и самого Кениату не могли не шокировать откровения ГЕМА. На следующий день после митинга он созвал кабинет и осудил движение. Прессе было объявлено, что Нджонджо говорил от имени правительства и пользуется его полной поддержкой [192, с. 18—22, 25—26, 35—36; 259, 25.V1II.1978]. ГЕМА пришлось отступить, но борьба за президентское кресло не утихала. «Семья» и ГЕМА попытались подобраться к нему через последний легальный канал — партию.
Поводом к аресту и заключению М. Шикуку и Ж. М. Се- ронея после убийста Кариуки были их высказывания о том, что «КАНУ мертва» [192, с. 88], хотя примерно то же не раз говорили ее непосредственные руководители. В 1971 г. один из членов национального комитета заявил: «Партия функционирует лишь во время выборов. Потом от нее остается только гимн „КАНУ ядженга нчи!“» [508, с. 245]. В 1980 г. генеральный секретарь КАНУ говорил, что партия выказывала признаки жизни только во время выборов [187, с. 94].
Однако и с выборами дело обстояло непросто. По конституции перевыборы партийного руководства должны были проводиться раз в два года. После конференции 1966 г. в Лимуру они были впервые назначены на март 1972 г., потом под разными предлогами откладывались до начала 1973 г. Этот год прошел в яростной борьбе группировок за сторонников. Предвыборная кампания сопровождалась скандалами с украденными или фальшивыми партийными документами. Наконец Р. Матано, исполнявший обязанности генерального секретаря КАНУ после Мбойи, объявил, что на 1974 г. назначены парламентские выборы; о перевыборах партийного руководства снова было забыто [ 187, с. 94—95; 192, с. 90—95].
286
Вспомнили о них лишь после убийства Дж. М. Кариуки. Почти всеобщее требование «Оживить КАНУ» заставило штаб партии назначить выборы партийного руководства на конец 1976 — начало 1977 г. Потерпев поражение в движении за изменение конституции, лидеры ГЕМА неожиданно превратились в поборников партийной демократии и активно включились в подготовку выборов. Вскоре их цели прояснились: на конференции ГЕМА, проходившей в Ньяхуруру Фолс весной 1977 г., был распространен документ, в котором среди прочих целей организации были названы и такие: «готовиться к будущему руководству страной»; «вооружаться для борьбы с теми, кого враги используют против нас»; «назначить комитет избранных для наказания тех, кто выдает секреты ГЕМА»; «сконцентрироваться на кампании по завоеванию высших постов в КАНУ» [192, с. 63].
На выборах руководства провинциальных отделений ГЕМА сумела укрепить свои позиции: в Накуру, несмотря на многочисленные жалобы избирателей на нарушения процедуры, победил К. Кимани; пост председателя столичного отделения благодаря давлению и огромным деньгам ГЕМА занял Н. Мунгаи [192, с. 99—103]. Но выборы центрального руководства вновь были отложены, сначала на месяц, потом — на неопределенное время «по независящим от нас причинам», как сказал Матано [187, с. 95]. Лидеры ГЕМА рассчитывали, что на этих выборах Дж. Гичуру, пройдя на пост председателя партии, «уступит» его Мунгаи. На пост вице-президента они выдвигали М. Киба- ки, пытаясь столкнуть его с Мои, но тот отказался. Во время предвыборной кампании ГЕМА снова пыталась заручиться поддержкой левых. Она блокировалась со сторонниками Одинги — Дж. Аньоной и Г. Оньянго. Одинга тоже собирался выставить свою кандидатуру на пост вице-президента, но Матано объявил, что бывшие члены Союза народа Кении к выборам не допускаются [192, с. 62—63, 103—105; 297, 1977—1978, с. В-265].
Скорее всего, выборы были отменены из-за неуверенности ГЕМА в успехе. Вероятно, ее руководство опасалось, что болезнь Кениаты помешает ему повлиять на благоприятный исход выборов. А может быть, президент и сам колебался в выборе преемника или ему не нравилось заигрывание ГЕМА с левыми. Так или иначе, план захвата власти через партию не удался, и ГЕМА пришлось искать другие пути.
Последний год президентства Кениаты был отмечен усилением репрессий. В мае 1977 г. был арестован Дж. Аньона, как писали газеты, наиболее «прямолинейный» из членов парламента. В конце 1977 г. без суда и следствия был заключен в тюрьму крупнейший писатель страны, литератор с мировым именем Нгуги ва Тхионго. Правительство объявило, что он задержан по закону о государственной безопасности за хранение запрещенной литературы. В феврале 1978 г. права на въезд в Кению был лишен каноник Б. Карр, генеральный секретарь Всеафри¬
286
канского христианского совета, штаб которого находился в Найроби. Гонениям он подвергся лишь за предупреждение: «Если Кения не приведет в порядок свой дом, после смерти Ке- ниаты там может случиться то, что произошло в Эфиопии после смерти Хайле Селассие» <[297, 1977—1978, с. В-265—266].
22 августа 1978 г. Кениата скончался. Многие предрекали, что с уходом этого незаурядного политика страна погрузится в хаос. Но власть гладко и, казалось, без помех была передана вице-президенту и министру внутренних дел Даниэлю Тойрити- чу арап Мои, как и положено было по конституции. В начале октября были проведены перевыборы национального руководства КАНУ, Мои был единогласно избран президентом партии и выдвинут на пост президента страны. Других кандидатур не было, и 10 октября состоялась церемония введения в должность. Вице-президентом был назначен М. Кибаки. Ч. Нджонд- жо в первое время сохранял пост генерального прокурора, но пользовался большим влиянием.
Через неделю после введения нового президента в должность Нджонджо объявил о том, что в стране существовал заговор с целью не допустить Мои к власти. Имена заговорщиков названы не были, но позже генеральный прокурор сказал, что заговор организовали те же люди, которые в 1976 г. вели борьбу за изменение конституции [297, 1978—1979, с. В-266—267].
Кенийские журналисты Дж. Карими и Ф. Очиенг, подробно исследовавшие подоплеку заговора, писали, что специально под* готовленная группа полицейских (ее называли полком, хотя численность ее не превышала 200 человек), расквартированная в Накуру, должна была уничтожить Мои, Кибаки, Нджонджо и их ближайших сторонников сразу после смерти президента.. По названию этого полка — «Нгороко» был назван и заговор. Организаторы «Нгороко» рассчитывали, что Кениата скончается на своей ферме в Накуру, где он проводил большую часть времени, что они узнают об этом раньше сторонников Мои, вызовут их в дом президента и там расправятся с каждым в отдельности. План мог и измениться в зависимости от обстоятельств: фермы Мои и Кениаты находились рядом, и вице-президент мог быть просто задержан или убит по дороге [192, с. 158—160].
Вооруженные по последнему слову техники, обученные иностранными специалистами, заговорщики могли рассчитывать на успех. За месяц до смерти Кениата посетил полк «Нгороко», присутствовал на учениях, наградил особо отличившихся парашютистов и открыл «столовую» — специально выстроенное для «Нгороко» здание с бункерами, люками и подвалами, больше похожее на крепость. Президент был в это время очень болен и вряд ли хорошо понимал, что именно и для чего ему показывают, но для «Нгороко» его визит был как бы благословением [192, с. 127—140, 150—152].
Принято считать, что планы заговорщиков не осуществились лишь потому, что Кениата умер в Момбасе, а не в Накуру,
287
и первыми узнали об этом сторонники Мои. Случай действительно сыграл тут какую-то роль, и все же важнее оказалось то, что раскол в верхах распространился на весь государственный аппарат. «Нгороко» входил в состав полиции, а полиция, находившаяся прежде в ведении Мои, с 1977 г. перешла под контроль государственного министра в канцелярии президента — М. Коинанге. Главный комиссар полиции, личный друг Кениа- ты Б. Хинга, был известным сторонником «семьи» и членом руководства ГЕМА. Армия, спецслужбы (прежде всего полк особого назначения во главе с союзником Нджонджо и Кибаки Б. Гети, использовавшийся для защиты государственной безопасности) и государственный аппарат остались «верны конституции», что в тот момент означало лояльность по отношению к Мои <[192, с. 120—126, 147]. Это и сыграло решающую роль в том, что Мои удалось стать президентом.
С осени 1978 г. «триумвират» — Мои, Кибаки и Нджонджо— начал борьбу за упрочение позиций. Он быстро и резко «перетряс» полицию, армию, дипломатическую службу. Во время перевыборов руководства КАНУ в октябре 1978 г. сторонники Мои заняли все высшие посты в партии [287, 20.XII.1978].
На первых порах «триумвирату» удалось провести меры, которые отвечали не только его интересам, но и ожиданиям общественности. Непопулярный Б. Хинга был уволен, главным комиссаром полиции стал Б. Гети [273, 20.1.1979]. Мои освободил политических заключенных, начал проверку деятельности и состояния полугосударственных корпораций, пообещал ввести всеобщее шестилетнее бесплатное образование, увеличить на 10% занятость в частном секторе, к 1983 г. покончить с неграмотностью. Девять руководителей «ГЕМА холдингз» были привлечены к суду, признаны виновными и оштрафованы на 200 тыс. к. шилл.— сумма для этих людей символическая, но прежде это было немыслимо. Мои выступил против «ночных бдений» — клятвенных церемоний, возобновлявшихся в стране гикуйю каждый раз с осложнением политической обстановки |[273, 20.1.1979; 287, 20.XI.1978; 297, 1978—1979, с. В-266, В-270].
Президент объявил войну коррупции и начал расследование по делу о присвоении 80 млн. к. шилл. государственными служащими Накуру. Позже он обвинил нескольких членов парламента в незаконных сделках и начал проверку работы министерств. Его действия даже принесли кое-какие результаты. Например, ему удалось покончить с браконьерством в заповедниках и приостановить контрабанду слоновой кости и кофе [284, 1.1979; 291, 19.XI.1979].
Все эти акции заметно повысили популярность Мои. Студенты устраивали демонстрации в его поддержку, скандировали лозунг «Мои — джуу!» — «Мои — вверх!» ,[297, 1978—1979,
с. В-271]. 8 ноября 1979 г. состоялись очередные парламентские выборы, проходившие необыкновенно активно — голосовало около 80% избирателей. Больше половины прежнего состава пар-
28 6
л а мента было забаллотировано, в том числе семь министров. Среди них оказались М. Коинанге и некоторые другие столпы ГЕМА. Позиции сторонников Мои укрепились, сам он, как и Кибаки, был переизбран без оппозиции [273, 17.XI.1979; 291, 19.XI.1979].
Однако, если у кого-то и возникли в тот период иллюзии относительно характера нового режима, возможности демократизации политической жизни и восстановления буржуазной законности в стране, развеялись они довольно быстро. Придя к власти, Мои избрал своим лозунгом «ньяйо» («следы»): он, Мои, будет идти по следам Кениаты, а вся нация — по его собственным следам [297, 1978—1979, с. В-268]. Новый президент демонстрировал почтение не только к памяти Кениаты (что было довольно естественно), но и к членам его семьи — своим недавним противникам. Первое время он не появлялся публично без старшего сына умершего президента, П. Кениаты, все близкие Кениаты остались в правительстве, только Коинанге получил менее значительный пост \[287, 20.XII.1978].
Приняв некоторые меры против ГЕМА, как организации (запрещение «племенных организаций» [187, с. 74], фарс с судом над ее руководством), правительство не только не ущемило интересы членов «семьи» и отдельных руководителей ГЕМА, но даже им протежировало. Н. Муигаи, избранный в парламент от округа Кениаты, Дж. Гичуру, П. Нгей и президент «ГЕМА холдингз» Н. Каруме были назначены заместителями министров. Н. Мунгаи сохранил пост председателя найробийского отделения КАНУ, а в 1979 г. был избран в парламент. Вдова Кениаты, как ее называют «мама» Нгина, по-прежнему участвовала в официальных церемониях и имела с президентом общую собственность {450, с. 212].
Когда Нджонджо объявил о существовании заговора «Нгоро- ко», многие ожидали сенсационных разоблачений и сурового наказания виновных. Ведь речь шла об угрозе жизни тем, кто пришел к власти. Но расследование разворачивалось медленно. Оно началось осенью 1978 г. разоблачением участия полиции Накуру в контрабандном экспорте кофе. Многие полицейские чины города были отправлены в бессрочные отпуска. Полк «Нгороко» был расформирован, а его начальник бежал за границу.
Но больше ничего не случилось. Уже осенью 1979 г. некоторые высшие чиновники аппарата призывали забыть «Нгороко», а в начале января 1980 г. и сам президент выступил с призывом забыть «Нгороко» и исповедовать «ньяйо» — «философию единства, любви и мира» {192, с. 174]. В декабре 1979 г. бывший начальник полка «Нгороко» неожиданно вернулся в Кению, а 24 января был еще более неожиданно прощен и выпущен на свободу. Нджонджо объяснил этот шаг тем, что тот «настаивал на своих алиби» и что его наказание «противоречило бы общественным интересам» [192, с. 175]. Дж. Карими и
19 Зак. 654
289
Ф. Очиенг дали убедительное объяснение странной на первый взгляд либеральности правительства. В деле «Нгороко» были замешаны весьма близкие к правящим кругам люди |[ 192, с. 110—112, 174—175, 189]. Нетрудно догадаться, что столь весомые «алиби» начальника «Нгороко» заключались в угрозе публичных разоблачений приверженцев нового режима и что эти разоблачения действительно были бы чреваты общественными взрывами.
По той же самой причине не было доведено до конца ни одно дело о коррупции: в каждом из них оказывались замешанными друзья и родственники «триумвирата» или сами его члены. В 1979 и 1980 гг., например, были проведены расследования состояния финансов городского совета Найроби. Четверо служащих были объявлены виновными в «пропаже» нескольких миллионов шиллингов. В действительности они были причастны к воровству не больше других, но принадлежали к группировке бывших противников нового руководства. Каждый раз, когда следствие заходило «слишком далеко», дело немедленно прекращалось fl87, с. 99]. Меры против коррупции и воровства превратились, таким образом, в метод борьбы «людей ньяйо» с противниками.
«Триумвират» не мог сохранять долго и ореол борцов за конституционность и законность: его члены соблюдали положения конституции и законы только тогда, когда это было в их интересах. Даже в годы борьбы за власть, когда им приходилось соблюдать осторожность, противникам не раз удавалось воспользоваться незаконными действиями «триумвирата» и его сторонников. Так, во время выборов руководителей провинциальных отделений КАНУ в 1977 г. Ч. Рубиа, глава найробийского отделения и известный сторонник Нджонджо, объявил, что в голосовании смогут принять участие только те члены партии, в чьих билетах будет проставлена особая печать. На этом беспрецедентном нарушении устава КАНУ основной соперник Рубиа — Н. Мунгаи построил свою избирательную кампанию и выиграл выборы ([192, с. 100—103].
За три года существования нового режима стало совершенно ясно, что никакая легальная оппозиция и даже просто критика руководства в стране по-прежнему невозможны. Уже в октябре 1978 г. Мои запретил О. Одинге и нескольким его последователям выставить свои кандидатуры на выборах руководства КАНУ. Затем Одинга был отстранен от участия в парламентских выборах 1979 г. Р. Матано объявил, что кандидаты на всех выборах должны быть пожизненными членами КАНУ (пожизненное членство покупалось за 1 тыс. шилл.— штрих, ярко характеризующий социальное лицо партии и ее руководства). Одинга и некоторые другие бывшие оппозиционеры внесли необходимые суммы, но все же были вычеркнуты из списков кандидатов на дополнительных выборах 1981 г. |[ 187, с. 95—96; 274, 20.XI.1979; 297, 1978—1979, с. В-269].
290
По-видимому, правительство опасалось появления Одинги на политической арене не потому, что он мог представлять какую-то реальную угрозу режиму. Он был символом сопротивления избранному социально-политическому курсу, и этого было достаточно. В апреле 1981 г. Одинга вновь был отстранен от участия в выборах — на этот раз за «оскорбление памяти умерших» (он сказал, что Кениата захватил много земли) [187, с. 96].
В сентябре 1981 г. полиция выдвинула различные обвинения против нескольких известных своей критикой в адрес правительства парламентариев — Ч. Мутаи, А. Абуйи, В. Ндомби, Л. Сифуны, Дж. Оренги, О. Мидики, Коиги ва Вамвере и др. Только Ч. Мутаи явилась для разбирательства, но вскоре ей пришлось искать политического убежища в Танзании. Нджонджо организовал митинг, в котором приняли участие многие члены парламента и министры, осудившие «антиправительственные и антиньяйоистские элементы». В начале 1982 г. Ч. Нджонджо и G. Олоитиптип предупредили «бородатых парламентариев, склонных к иностранной идеологии, чтобы они не занимались пустой болтовней». Кибаки тоже выступил против «самозваных защитников бедноты». В марте был разогнан и запрещен народный театр Камириту, созданный Нгуги ва Тхионго. В апреле Олоитиптип предложил расследовать источники доходов «радикальных» парламентариев, а президент угрожал заключить их в тюрьму ([228, с. 1; 294, 28.V.1982].
В мае 1982 г., выступая на митинге в Лондоне, Одинга заявил, что собирается создать у себя на родине оппозиционную социалистическую партию. Вскоре его и его приверженца Дж. Аньону исключили из КАНУ, а 9 июня парламент принял законопроект о превращении Кении в однопартийное государство де-юре {276, 15.1 II. 1983; 289, 28.V.1982; 294, 28.V.1982J. Парламент был единодушен в своем решении, но оно встретило резкую оппозицию со стороны некоторых студенческих организаций (Организации студентов Найроби, Общества студентов- юристов Кении) и преподавателей [294, 28.V.1982]. Об отношении кенийской общественности к установлению однопартийной системы свидетельствует широкое распространение в июне и июле антиправительственных листовок и памфлетов под названием «Памбана» (борьба), подписанных «Движением 12 декабря».
Правительство ответило ужесточением репрессий. Было арестовано несколько преподавателей университета, политических и общественных деятелей, в том числе Дж. Аньона, историк Майна ва Киньятти, бывший главный редактор «Дейли нейшн» Дж. Гитии, видный найробийский адвокат Дж. Кхамин- ва ([228, с. 16, 28; 266, 13.VIII. 1982; 275, 19.Х.1982; 276, 15, 24.III.1983]. Эти акции были крайне непопулярны. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что в дополнительных выборах в округе Аньоны, проведенных после его ареста, участ-
19*
291
вовало 6 тыс. избирателей из 44 тыс. [297, 1977—1978,
с. В-265].
Отсутствие легальных каналов для выражения недовольства привело к единственно возможному результату: в августе 1982 г. в стране была совершена попытка государственного переворота. Рано утром 1 августа мятежники объявили по радио, что Народный совет спасения сверг правительство. Они сообщили, что собираются приостановить действие конституции, освободить политических заключенных и проводить политику неприсоединения. Однако к полудню мятеж был подавлен, а к концу дня проведены массовые обыски, облавы, аресты. По официальным данным, во время мятежа погибли 145 человек, по неофициальным — 300—500, было разграблено около 400 магазинов.
Мятеж подняли служащие военно-воздушных сил. Председателем Народного совета спасения и его членом назвались рядовой X. Очука и сержант П. О. Окуму, бежавшие в Танзанию на угнанном самолете. В показаниях на полевых судах обвиняемые называли Дж. Аньону, Б. Каггиа и М. Мулиро в числе лиц, которые заняли бы высшие посты в случае успеха.
Военно-воздушные силы были распущены, бывший командующий ВВС П. М. Кариуки приговорен к четырем годам заключения, 11 человек (на 10 марта 1983 г.)—к смертной казни, многие были заключены в тюрьму на разные сроки или уволены с работы. Была проведена чистка в полиции и снят верховный комиссар Б. Гети, уволен министр информации, арестованы многие общественные и политические деятели, в том числе сын О. Одинги — Р. Одинга. Самого Одингу посадили под домашний арест. Трудно сказать, сколько всего людей пострадало в связи с попыткой переворота, однако сообщалось, что к июню 1983 г. Мои освободил свыше 8 тыс. человек, заключенных по делу о попытке переворота |[274, 2, 13.VIII.1982; 276, 11.XI.1982, 15, 24.Ill, 2.IV.1983].
Кто в действительности стоял за попыткой переворота, так и не было выяснено. С уверенностью можно судить только об одном: выступление военных отразило недовольство режимом Мои в широких кругах общественности, но оно носило верхушечный характер и в случае успеха вряд ли привело бы к кардинальным переменам во внутренней политике. Свидетельством тому — высокий социальный статус участников (даже рядовые члены ВВС — наиболее высокооплачиваемая категория военнослужащих), их оторванность от простого народа.
По-видимому, не будет ошибкой оценить попытку переворота словами нынешних кенийских оппозиционеров — авторов книги «Независимая Кения», написанными еще до событий 1 августа. «Перевороты... стали образом жизни в Африке. Некоторые из них происходили в результате интриг империалистов. В большинстве случаев они приводят к замене одной группы правящего класса другой. Обычно народ остается пассивным и
292
не участвует в перемене власти. Перевороты редко приводят к конструктивным изменениям, а чаще всего — к обогащению ноной клики и сохранению старой системы. Обычно перевороты происходят тогда, когда старая система в опасности. Они служат ее увековечению в новой форме. Таким образом, переворот (н Кении.— И. Ф.) стал бы средством сохранения системы и углубил бы фракционализм внутри правящего класса. Такое „ре- шение“ может быть только временным и никогда — конструктивным» f 187, с. 86].
Через семь недель после попытки переворота Мои собрал в парке Ухуру массовый митинг. Люди ждали многого, но Мои только призвал лучше работать и разоблачать «подрывные элементы» [[276, 15.III.1983]. Правительство так и не поняло истинных причин кризиса.
Больше года продолжались процессы по делам о «государственной измене». Парламентарии занимались взаимными обвинениями и сведением старых счетов. Основные противники режима оказались за решеткой или в эмиграции. Мои счел момент подходящим для упрочения своих позиций. В мае 1983 г. он назначил на сентябрь внеочередные парламентские выборы для «чистки системы» (276, 18.V.1983], За несколько дней до этого, во время поездки по Ньянзе, он сделал другое важное заявление, сообщив прессе, что в его кабинете есть «предатель», которым «иностранные державы» собираются заменить его, Мои, на посту президента. Тут же он отвел подозрения от вице-президента М. Кибаки, сказав, что полностью ему доверяет [276, 30.V.1983; 294, 13.V1983, с. 4—5].
Намек был довольно прозрачен: уже более двух лет «триумвират» раздирали закулисные распри между Кибаки и Нджонджо. Поставив Нджонджо под удар, но не назвав его, Мои преследовал, видимо, несколько целей: избавиться от влиятельного соперника, выявить своих твердых сторонников и колеблющихся в парламенте, на время предвыборной кампании отвлечь внимание общественности и критически настроенных парламентариев от насущных нужд народа сенсационными разоблачениями, а на случай, если недовольство все же начнет проявляться, иметь в запасе «козла отпущения». Могущественный, но непопулярный Нджонджо с его демонстративной англоманией (во всем — от манеры одеваться до политических пристрастий) был удобной мишенью для критики, на его отдалении можно было нажить немалый политический капитал.
С мая по июль парламентарии клеймили «предателя». Нджонджо обвиняли в забвении идеалов «Кениаты, Кимати и всех борцов за свободу» [294, 13.V.1983], называли «змеей» и «гиеной». Наконец, в начале июля правящий совет КАНУ под председательством Мои исключил Нджонджо из партии, он был выведен из парламента и отстранен от должности. Мои назначил расследование (274, 16.V.1984; 294, 8.VII.1983],
В ходе двухмесячной дискуссии выяснилось, однако, что
293
конкретных доказательств вины Нджонджо парламентарии представить не могут, а потому осуждение «предателя» все больше сводилось к критике системы: взяточничества, коррупции, зажима оппонентов, неэффективности правительства, его связей с Великобританией и США. Такой поворот дела не устраивал руководство страны, и, как только Нджонджо был снят со всех постов, Мои призвал прекратить разговоры о «предателях» [294, 8.VI 1.1983’].
Судебное разбирательство по делу Нджонджо длилось несколько месяцев. В нарушении конституции уже были обвинены некоторые из его бывших приверженцев, успевшие осудить его во время парламентской дискуссии (С. Олоитиптип), но следствие все еще не может доказать вину самого Нджонджо (292, 22.11.1984]. По-видимому, у него есть не менее веские «алиби», чем те, что спасли в 1979 г. командира полка «Нгороко».
Парламентские выборы, состоявшиеся в конце сентября 1983 г., отличались необычной для Кении пассивностью избирателей: только 45—50% из них участвовали в голосовании [261, 28.V.1983]. Эту пассивность нельзя расценить иначе как своеобразный протест против репрессий, произвола властей и бесконечных распрей в верхах. Вряд ли можно сомневаться, что недовольство режимом найдет проявление и в других формах.
Внешняя политика Кении. Завоевав независимость в трудной борьбе, Кения в 60-е годы активно выступала за ликвидацию остатков колониализма и расизма в Африке и во всем мире. В отдельных вопросах международной политики она стояла на антиимпериалистических позициях, в частности осудила агрессию империалистических держав в Конго (Заире) и во Вьетнаме, выступала с осуждением поддержки США и Великобританией расистских режимов на Юге Африки [338, с. 222]. Сразу после провозглашения независимости Кения вступила в ÔOH и Организацию африканского единства.
В документах Национального союза африканцев Кении основным принципом внешней политики страны провозглашалось неприсоединение. Этот принцип соблюдался лишь в том смысле, что Кения не присоединилась ни к одному из военных блоков. Но ее внешнеполитические связи исторически были ориентированы в основном на Запад. Руководство левого крыла КАНУ, находясь в правительстве, стремилось уничтожить этот дисбаланс и способствовало развитию отношений Кении с социалистическими странами.
Уже в декабре 1963 г. были установлены дипломатические отношения Кении и СССР. В апреле 1964 г. между двумя странами было подписано первое торговое соглашение, в ноябре — соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве. В рамках этого соглашения позже была выстроена больница в Кисуму на 200 коек. Налаживались отношения Кении с другими социалистическими странами: Болгарией, Венгрией, Польшей, Чехословакией, Югославией. Развивались отношения и
294
с КНР (подробнее см. [295, с. 340—341; 303, с. 195—196;3 38, с. 212—224]).
С укреплением позиций правого крыла в руководстве КАНУ но внешней политике страны начали доминировать противоположные тенденции. Правительство Кении пошло на свертывание культурных и экономических связей с СССР. В январе 1966 г. кенийская правительственная делегация во главе с Т. Мбойей фактически сорвала переговоры в СССР об экономическом сотрудничестве. В результате соглашение 1964 г. оказалось не- пыполненным, за исключением больницы в Кисуму. Начиная с 1967 г. в Советский Союз приезжало не более 20 кенийских студентов в год, хотя имелась договоренность о предоставлении 200 стипендий ежегодно [338, с. 228—230]. Тот факт, что помощь СССР предоставлялась на очень выгодных условиях и что именно Кения явилась инициатором уменьшения ее объема, признают даже кенийские исследователи ([303, с. 195—196]).
В то же время связи с империалистическими государствами продолжали укрепляться. Все эти годы Кения являлась одним из главных в Африке получателей помощи США, Великобритании, ФРГ и контролируемых США международных финансовых и экономических организаций, а также одним из их главных торговых партнеров этих стран на континенте. Кения — присоединенный член ЕЭС (подробнее см. [295, с. 314—338]). На протяжении 70-х годов Кения неоднократно выступала в фарватере империалистической политики как на Африканском континенте, так и в мире. Она была, например, среди тех африканских стран, которые выступили против помощи Кубы патриотическим силам Анголы.
С конца 70-х годов Кения начала устанавливать наиболее тесные экономические и военные связи с США. В 1980 г. ее правительство запросило помощи США в модернизации технического оснащения кенийской армии. Помощь была предоставлена в обмен на разрешение использовать морские и воздушные базы Кении вооруженными силами США, а также провести в стране военные учения с участием около 2 тыс. американских военнослужащих /[297а, 1980—1981, с. 522; 1983—1984, с. 461].
Отношения Кении с соседними африканскими странами складывались неровно. С 1967 по 1977 г. она была членом Восточноафриканского экономического сообщества. Сотрудничество с Танзанией и Угандой в рамках Сообщества приносило стране немалые экономические выгоды. Однако в результате трудностей, возникших в силу как исторически сложившейся неравномерности экономического развития, так и политических и идеологических противоречий между членами, Сообщество распалось. Была закрыта граница с Танзанией. Отношения с Угандой особенно осложнились с 1976 г. из-за высказанных ее президентом претензий на большую часть территории Кении, а также из-за участия Кении в налете израильских ВВС на главный аэропорт Уганды — Энтеббе [297а, 1980—1981, с. 522].
295
Но потребности экономического развития требовали нормализации отношений с соседями. В 1979 г. Кения и Танзания возобновили прямое воздушное сообщение, в 1980 г. произошла встреча глав трех государств. В 1981 г., после возвращения к власти в Уганде М. Оботе, были урегулированы отношения между Кенией и Угандой /[297а, 1980—1981, с. 522; 1983—1984, с. 460]. Трудно складывались отношения Кении с Сомали. Правительство Сомали, претендовавшее на часть северных районов Кении, населенных сомалийцами, с 1964 по 1967 г. поддерживало на этой территории партизан — шифта. Кенийская армия вела против них боевые действия. Положение осложнялось деятельностью сепаратистской Прогрессивной партии народа Северной провинции, возникшей в 1960 г. и ратовавшей за присоединение Северной провинции к Сомали. Особенно ухудшились отношения между двумя странами в первой половине 1966 г., когда Кения и Сомали фактически находились в состоянии войны {303, с. 193—194]. Однако в конце 1967 г. между ними был заключен договор, в результате которого открытая поддержка шифта Республикой Сомали прекратилась. Мир не был, однако, прочным. Так, в 1977 г. во время вооруженного конфликта между Сомали и Эфиопией сомалийские войска совершили нападение и на кенийский пограничный пост. В 1981 г. на XVIII сессии глав государств ОАЕ, состоявшейся в Найроби, президент Сомали выразил готовность пойти на нормализацию отношений с Кенией {297а, 1980—1981, с. 522; 1983— 1984, с. 459, 461].
Сходные позиции по проблемам Африканского Рога сближают Кению с Эфиопией, несмотря на различия в их социально-политической ориентации. В 1981 г. страны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и оборонительный пакт [297а, 1983—1984, с. 461].
Сложные отношения с соседями заставляют Кению искать союзников южнее, в Центральной Африке. Их сближает общая непримиримая позиция по отношению к расистскому режиму ЮАР. В последнее время наметился сдвиг в отношениях Кении и СССР. В 1984 г. между двумя странами было заключено новое торговое соглашение.
«Культура сопротивления»
Авторы книги «Независимая Кения» с горечью писали: «За 20 лет псевдонезависимости... нас лишили того, что было у нас при колониализме — культуры сопротивления» {187, с. 69]. Из контекста можно понять, что в слова «культура сопротивления» они вкладывали такой смысл: сопротивление иностранному проникновению в страну в целом и конкретно сопротивление господству иностранных (прежде всего колониальных и неоколониальных) ценностей и понятий в культуре,
296
ущемлению национальной культуры в угоду культуре неоколо- миалъной.
Что подразумевали под этим авторы? Ведь достижения Кенни в развитии национальной культуры хорошо известны. За годы независимости более чем в четыре раза выросло число учащихся начальной и средней школ; введено бесплатное начальное образование. Кенийскую литературу С. Ф. Кулик справедливо назвал «серьезным конкурентом самой развитой литературы континента — нигерийской» [356а, с. 244]. Некоторые писатели страны (Нгуги ва Тхионго, Меджа Мванги и др.) пользуются мировой известностью. Национальная историческая школа Кении — одна из самых сильных в Африке. Имена видных историков Б. А. Огота, Г. С. Вере, В. Р. Очиенга, Г. Му- рнуки и других встречаются на страницах крупнейших исторических изданий мира. Эти ученые многое сделали для восстановления полной и непредвзятой картины исторического прошлого Восточной Африки.
Кенийская пресса занимает одно из первых мест в Африке по тиражам и числу изданий. Выпускается большое число научных периодических изданий (только исторических журналов три — «Джорнэл оф африкен хистори»,
«Кенья хисторикл ревью», «Трансафрикен джорнэл оф хистори»). Объем радиовещания за годы независимости возрос более чем в три раза, радиостанция «Голос Кении» ведет передачи на 16 языках; число радиослушателей приближается к 10 млн. человек. Есть телестудия, в конце 70-х годов было зарегистрировано более 60 тыс. телеприемников. В Кении есть два театра: Национальный и «Донован Моул». Существует ки- покорпорация, действует более 30 кинотеатров. Развивается живопись, скульптура, прикладное искусство. Работают всемирно известные своими традициями и коллекциями музеи, исторические заповедники. Ежегодно проводится кенийский музыкальный фестиваль. Широкое распространение получила самодеятельность, особенно музыкальные коллективы и драматические кружки при учебных заведениях (подробнее см. {295, с. 379—433; 356а, с. 233—260; 554]).
Авторы «Независимой Кении» не отрицают достижений культуры своей страны. Однако для них почти все это — «культура зависимости», выросшая в условиях неоколониализма и под его непосредственным воздействием, а потому чуждая народу. «У нас есть министр культуры, который аплодирует танцорам ... подготовленным американским хореографом,— пишут они. Есть группы усталых „традиционных танцоров", вымучивающих свои представления в Стэйт-хаузе (резиденция президента.— И. Ф.)... Есть так называемый Культурный центр Кении... полностью приспособленный к иностранным вкусам». Нет, по их мнению, в этой культуре только одного — «даже зачатков народного самовыражения, которое было безжалостно подавлено правителями» [187, с. 68—69].
297
Исследователи неоднократно подчеркивали влияние неоколониализма на кенийскую культуру. Так, система образования в Кении имеет четко выраженную классовую направленность: среднее образование доступно лишь примерно 10% выпускников начальных школ [356а, с. 241], а те, кому удается получить образование, зачастую не могут применить свои знания, а то и совсем остаются без работы (подробнее см. {399]). Обучение, особенно школьное, до сих пор во многом ведется в рамках колониальной идеологии. Достаточно сказать, что учебник по истории Восточной Африки для средних школ, выпущенный в 1976 г., написан в духе колониальной «Краткой истории восточноафриканского побережья» Л. У. Холлингсворта [460] и вполне устроил бы авторов уже упоминавшегося исторического пособия для учеников миссий «Мланго ва хисториа», изданного в 1894 г. [535]. Автор нового учебника восхищается мужеством европейских путешественников, экономическими достижениями европейцев в колониальные годы. Он воспринимает как должное колониальный раздел, лишь мельком упоминает о национально-освободительной борьбе африканцев, оправдывает лоя- листов, открыто осуждает May May ;[581а].
На экранах кенийских кинотеатров идут в основном английские, американские и индийские коммерческие фильмы, 90% тиражей газет и журналов выпускается двумя компаниями, одна из которых принадлежит крупнейшей английской монополии «Лонро», другая — главе исмаилитов Ага-Хану. На телевидении около 60% времени закуплено иностранными телекомпаниями. Теле- и радиопередачи, кинопрокат, пресса и в большой степени театр подчинены неоколониальной идеологии [365а, с. 250—253].
Но все же приговор, вынесенный авторами «Независимой Кении» культуре своей страны, слишком суров. «Культура сопротивления» не умерла. Наоборот, если раньше она существовала в среде широких народных масс стихийно, то в 60— 70-е годы началось ее становление на более высоком, созна тельном уровне. Без этих новых ростков «культуры сопротивления» невозможно представить общественную жизнь страны, а значит, и контекст, в котором велась политическая борьба.
Становление «культуры сопротивления» началось со второй половины 60-х годов, когда интеллигенция стала задаваться вопросом: «Каково значение ухуру?» [315, с. 339; 380, с. 7] За ним последовал другой: «Зачем воспевать фальшивую независимость?» [380, с. 57]. Постепенно наиболее радикально настроенная часть интеллигенции пришла к ответу: «Капитализм этически несовместим с основами той ухуру, к которой стремился и за которую боролся наш народ» [380, с. 15]. Потом она определила и свою роль в условиях этой «ухуру»: «Интеллигент должен помочь массам подняться... до ощущения, что они могут перебить хребет африканскому капитализму...» |[380, с. 17]. Пока рано судить, выполнила ли прогрессивная интеллигенция
298
■•ту миссию. Идеологическое размежевание — долгий и трудный процесс, он не закончился в Кении по сей день. И все же при относительно небольшой численности интеллигенции ее вклад к сопротивление неоколониальному курсу руководства страны, и пробуждение социального сознания в обществе в 70—80-е годы оказался очень велик. Значение этого вклада определяется тем, что именно в эти годы шел спад других форм сопротивления неоколониализму в стране.
Каковы основные проблемы, волновавшие интеллигенцию в эти годы и приведшие ее к столкновению с правящими кругами? Первой из них был вопрос о соотношении национального и иностранного (европейского) в культуре. За развитие национального начала в культуре с разных позиций выступали многие общественные деятели, писатели, поэты (см. [356а, с. 238— 241]), которым независимо от взглядов было не по душе засилье в стране иностранной неоколониальной псевдокультуры. Наиболее последовательно, с наиболее четких классовых позиций «африканизацию» искусства и культуры отстаивал и отстаивает Нгуги ва Тхионго. Он неоднократно критиковал европеизированные программы Культурного центра и Национального театра. Его критический анализ колониальной литературы (произведений К. Бликсен, Р. Руарка, Э. Хаксли и других известных писателей колониальной эпохи) *[227, с. XXI, 30—38; 228, с. 63; 315, с. 316} был обращен против неоколониальной элиты страны, поощряющей сохранение традиций колониальной культуры после провозглашения независимости. Резко выступил он против показа по кенийскому телевидению многосерийной экранизации мемуаров Э. Хаксли {228, с. 19], писательницы, прославившейся своей апологией поселенческой общины.
Нгуги выступал не против европейской культуры как таковой, а только против тех ее форм, которые отвечали целям и задачам колониализма и неоколониализма. Он видел проблему не в том, что на сцене Элайнс хай скул в колониальные годы постоянно ставили произведения Шекспира, а в том, что это был Шекспир, адаптированный для нужд колониальной администрации {227, с. 67]. Нгуги не нравилась не «Алиса в стране чудес» сама по себе, а то, что почти весь кенийский истэблишмент смотрел балетную постановку этой сказки в Национальном театре как раз в то время, когда одна за другой запрещались пьесы местных драматургов и самодеятельных коллективов, когда был запрещен основанный Нгуги народный театр Камириту |[228, с. 18—19].
Подход Нгуги к культуре не расовый, а социальный. Он определяется понятиями не «европейская» и «африканская», а «прогрессивная» и «реакционная». Для него неприемлемы не только Бликсен и Хаксли, но и африканские сторонники их идеологии. С негодованием цитировал он рассказ Дж. М. Ка- риуки о пьесках некоего Бенджамина, написанных для заключенных May May и восхвалявших лоялистов. Заключенные про¬
299
звали их «пьесками маребе» — пустых консервных банок [193, с. 128—129; 227, с. 89; 228, с. 63]. Такое же негодование вызывала у Нгуги роспись церкви в Муранге, выполненная африканским художником по заданию колониальной администрации для увековечения памяти лоялистов, погибших во время восстания May May i[228, с. 63].
Важнейшей темой идеологической борьбы в независимой Кении стало восстание May May. Несмотря на призывы Кениа- ты «забыть» противоречия и «простить» недавних врагов, для национальной литературы восстание стало одной из главных тем. Первый роман Нгуги «Не плачь, дитя» [312], опубликованный в 1964 г., а также его роман «Пшеничное зерно» [315], принесший ему мировую известность, были посвящены проблемам сложных человеческих отношений, складывавшихся в годы восстания. Героем Нгуги всегда был тот, кто отдал свою жизнь борьбе или пострадал за нее, предатель оказывался так или иначе наказанным.
Лозунг «забыть и простить» начал обретать настоящую силу в 70-е годы, когда ближайшее окружение Кениаты пополнилось лоялистами (среди них — Мои и Нджонджо). С этого времени само обращение к теме восстания стало вызовом истэблишменту. Но кенийских писателей продолжало волновать это важнейшее событие недавнего прошлого страны. К нему обращались, пытаясь понять его роль в судьбах страны, все новые поколения писателей. Ему посвятили свои произведения М. Мванги, К. Ватене и др. [308; 322; ЗЭ4; 335]. В 70-е годы, однако, герой восстания — герой этих произведений стал иным. Генерал Харака в повести М. Мванги «Жертва для гончих псов» /[308], вышедшей в 1974 г., не рыцарь без страха и упрека, но сложный, неоднозначный человек с присущими ему слабостями. Повесть пессимистична: погибает герой, его соратники и весь его отряд; неизвестно, жив или убит его главный враг и виновник его гибели. Остаются в живых европейцы и африканцы-полицейские. Новые черты в трактовке восстания были вызваны изменением обстановки в стране в 70-е годы и отражали новое понимание судеб восстания интеллигенцией. Но и в новых условиях позиции прогрессивной интеллигенции не были поколеблены: повстанческий лидер — единственная привлекательная личность в повести.
Жаркие идеологические бои разгорелись вокруг May May в национальной историографии. В 60-е — начале 70-х годов она почти не уделяла восстанию внимания. Немногочисленные оценки стыдливо замалчивали его роль в национально-освободительной борьбе. Б. Огот назвал его «отчаянной попыткой отчаявшихся людей изменить систему экономической и социальной несправедливости» [572, с. 283]. У него получалось, что независимость была завоевана не восставшими, а «конституционалистами», работавшими вместе с колониальной администра цией.
300
В 70-е годы среди историков появились молодые радикально настроенные ученые, готовые к переоценке восстания и начавшие его углубленное изучение по материалам собиравшейся ими устной традиции. Первой открытой пробой сил стал специальный выпуск журнала «Кенья хисторикл ревью», посвященный восстанию. В предисловии Б. Огот, развивая прежнюю точку зрения, писал: «Идеология May May... была отвергнута националистическими силами. Как же мы можем считать его сердцевиной кенийского национализма?» {280, т. 5, 1977, № 2, с. 172].
В противоположность своему старшему коллеге лектор Ке- ниата-колледжа, специалист по истории восстания Майна ва Киньятти в своей статье назвал May May «вершиной африканского национализма в Кении» и выступил против буржуазной историографии, «до сих пор отрицающей национальный характер движения» |{280, т. 5, 1977, № 2, с. 309]. В 1980 г. Киньятти выпустил сборник патриотических песен May May под названием «Гром с гор» [131], книгу, которая, как пишет Нгуги ва Тхионго, была «ударом грома среди университетской академической общины» {228, с. 15]. В конце 1981 г. он сдал в издательство рукопись книги «Образ патриотизма и мужества: письма и документы Дедана Кимати», в мае 1982 г. завершил работу над «Историей Кении», написанной, как сообщает Нгуги, с позиций крестьян и рабочего класса. Все это не могло не вызвать раздражения у руководства страны. Через месяц Майна ва Киньятти был арестован и осужден за хранение подрывной литературы, в которую была включена и последняя глава его «Истории», посвященная современности [228, с. 15—16].
Главная тема, которая волнует прогрессивных кенийских писателей, журналистов, ученых и публицистов сегодня,— уродливый характер неоколониального «развития». Социальное зло многолико: маленький, голодный, беспомощный человек в бездушном и жестоком обществе (рассказы «Безмолвие» Д. К. Ге- кау, «Гатонду» Д. М. Гикомойи, «Случай в парке» и «Шкажи- ка, Шэм» М. Мванги, «Погребение в „мерседесе"» Нгуги ва Тхионго и др. [[307]); затравленная, униженная женщина в городе («Лицом к лицу» С. Кахиги, «Миг торжества» Нгуги ва Тхионго и др. [307]); вечно пьяные, изможденные непосильным трудом, измученные ужасающими условиями жизни и унижениями мужчины (повести «Неприкаянные» {309] и «Улица Ривер Роуд» [311] М. Мванги и др.); беззастенчивые жиреющие богачи, неразборчивая в средствах элита («Дьявол на кресте» |[326] и «Погребение „в мерседесе"» [307] Нгуги ва Тхионго). Немногим лучше и мир современной деревни, описанный Нгуги в романе «Кровавые лепестки» {314]. Заброшенный, голодающий Илморог, не задетый волнами неоколониального «развития»; пьянство, голод, беспросветно тяжелый труд — умирающая деревня без будущего.
Столь же мрачную картину неоколониального «развития»
301
дает и поэзия тех, кто не хочет приукрашивать действительность [310, с. 165].
Мы были Строители нации,
Производители,
Успехи наши были разительны.
Большие быстроходные автомобили,
Цветные телевизоры в новейшем стиле
И прочие товары
Производили.
Безработных мы производили,
А еще мы производили детей,
Бродяг, калек и сирот.
Был такой год,
Когда просто не знали куда их девать Этих сирот.
Кое-как удалось их оптом продать На мишени.
Беспросветно существование бедноты, бездуховна, бедна жизнь богачей, бесперспективен путь, избранный страной,— вот итог, который можно подвести под произведениями прогрессивных литераторов. Пессимизм, мрачность этих произведений не удивительны. Их авторы реалисты, а современная кенийская действительность не дает им повода для радужных надежд. В Кении есть писатели, слагающие славословия президентам, развлекающие публику рассказами о «красивой» жизни. Однако их меньшинство. С. Ф. Кулик справедливо отметил, что «социальная заостренность, откровенная оппозиция нынешней кенийской действительности» — отличительная черта всей кенийской литературы (356а, с. 244]. Именно о «пессимистичных» литераторах писал Нгуги ва Тхионго: «Писатель подобен чувствительному нерву: он реагирует на непрестанные изменения, происходящие в обществе, отмечает его социальные противоречия и конфликты» (315, с. 320].
Но пассивный пессимизм — низшая, стихийная форма социального протеста. Ему на смену приходит более трезвая и классово очерченная оценка происходящего. Об этом свидетельствует, например, поэзия одного из самых «пессимистичных» представителей «культуры сопротивления» — М. Мванги [310, с. 166]:
Мы покупали американские пушки Мы покупали британские бомбы...
А в это время у нас в деревнях От голода умирали.
Глубокий анализ современной кенийской действительности содержится в публицистических произведениях Нгуги ва Тхионго— его тюремном дневнике {227] и брошюре «Дуло пера:
302
сопротивление репрессиям в неоколониальной Кении» )[228J. В них писатель выступает как исследователь, литературный критик, пропагандист, политический деятель. Главная мысль, которой проникнуты обе работы,— возможность и необходимость борьбы с существующим в Кении режимом, их пафос — разоблачение лжи и фальсификаций, сотканных правительством и прессой вокруг имен борцов, популяризация их деятельности.
Проявлением представлений интеллигенции о характере и генезисе современного кенийского общества явилась работа политолога Г. Мутисо «Кения. Политика и общество». Ученый видит в этом обществе две неравные части — «асоми» и «нона- соми». В переводе с суахили эти слова можно понять как «грамотные» и «неграмотные», «образованные» и «необразованные». Мутисо считает, что «асоми», получившие образование в колониальные годы и стоящие теперь у власти, были и остаются союзниками европейцев в Кении. Господство же европейцев в экономике заставляет его назвать период независимого развития страны «неоколониальным», а саму независимость — «номинальной» [550, с. 79].
Сенсацией в Кении стало появление в 1980 г. книги журналистов Дж. Карими и Ф. Очиенга, в которой были раскрыты закулисные махинации борьбы за власть в 70-е годы. |[ 192]. Развенчание всех участников битвы за президентское кресло, к какой бы группировке правящих кругов они ни принадлежали, придали этому исследованию социальную заостренность, а антитрибалистская и антишовинистическая позиция авторов — прогрессивное политическое звучание. К этим трудам по умонастроению и идеалам примыкает работа «Независимая Кения» анонимных кенийских авторов J187], На конкретном материале в ней рассмотрены последствия неоколониальной зависимости страны. Кроме того, она содержит эмоционально окрашенный, но точный анализ генезиса и характера неоколониальной элиты и размышления о будущей судьбе Кении.
Понимание сущности социально-экономических и политических процессов неизбежно должно было повести к поиску путей борьбы против неоколониального «развития». Призывом к борьбе стали последние романы Нгуги — «Кровавые лепестки» и особенно «Дьявол на кресте». Его публицистические произведения, так же как и «Независимая Кения», и книга Дж. Карими и Ф. Очиенга,— не только свидетельство роста идеологической оппозиции неоколониальному режиму. Появление этих работ — это уже сама борьба. Они сыграли и продолжают играть важную роль в среде образованной прослойки, привлекая все большее число ее представителей к идеалам демократической, свободной от неоколониальной эксплуатации Кении.
Разный вклад вносили представители «культуры сопротивления» в общее дело. Глубокий след, оставленный в истории общественной мысли Кении Нгуги ва Тхионго, или совсем не¬
большой — молодым автором одного-двух рассказов,— все шло в фонд «культуры сопротивления» и воспитывало общество в антинеоколониальном духе. Все эти годы интеллигенция создавала общественную среду, из которой вырастала политическая оппозиция.
Одним из главных центров сопротивления существующему режиму стал университет. Власти всегда считали его идеологическим штабом оппозиции и неоднократно обрушивали на него репрессии. Студенческие ассоциации запрещались, студентам отказывали в возможности печатать свои газеты, проводить дискуссии, но молодежь находила все новые формы протеста. С 1976 г., например, она стала отмечать 2 марта — день смерти Дж. М. Кариуки, как назвали его, «День Дж. М.». Чтобы не допустить этого, правительство часто закрывало университет то на «позднее» * рождество, то на «ранние» пасхальные каникулы [187, с. 36, 75]. Студенты были единственной прослойкой, поддержавшей мятежников во время попытки переворота 1982 г. После этого университет был надолго закрыт, многие студенты и несколько лекторов арестовано. Некоторые преподаватели вынуждены были эмигрировать [275, 19.Х.1982; 276, 15, 24.111.1983].
Несмотря на открытую оппозицию большой части интеллигенции господствующему режиму, она оставалась оторванной от неграмотной бедноты, ее борьба была борьбой внутри привилегированной прослойки, борьбой для себя. Лишь единицы смогли перешагнуть рамки своего класса и разными путями «пойти в народ». Одни давали бесплатные юридические консультации беднякам, другие жили и работали в деревнях, собирая устную традицию и фольклор и одновременно занимаясь просветительством, третьи оказывали материальную и практическую помощь культурным и социальным центрам. Майна ва Киньятти, например, собирая устную традицию о May May, подолгу жил в домах бывших участников восстания, пешком исходил районы его наибольшего распространения, беседовал с крестьянами '[275, 19.Х.1982]. Он стал так популярен в тех местах, что во время суда над ним у здания суда собралась большая толпа крестьян и молодежи. Люди пытались прорваться в здание и пели песню о своем новом герое |[228, с. 3—4].
Киньятти, патриот, держись твердо,
Ты не один.
Мы все — дети революции.
Только единство, наше единство
Рабочих и крестьян
Освободит Кению от рабства.
Страх провоцирует угнетение.
Лучше умереть в борьбе,
Чем жить в страхе и угнетении.
304
Наиболее деятельно искал подход к народным массам Нгуги на Тхионго. Его первые произведения были написаны для читающей, образованной публики, но с середины 70-х годов писатель начал обращаться непосредственно к народу. Пьеса «Суд над Деданом Кимати», написанная им в соавторстве с М. Муго и опубликованная в 1976 г., была уже предназначена для бедноты |[316]. «Суд над Деданом Кимати» — первая пьеса Нгуги, написанная на гикуйю и лишь позже переведенная на английский язык. Это пьеса-лозунг, пьеса-плакат, почти без обычного для писателя психологизма, простая и доступная.
В том же году Нгуги начал работать в культурном центре своей родной деревни Камириту в Лимуру. Сначала центр занимался только ликвидацией неграмотности, но потом его активисты решили поставить театральную постановку и попросили Нгуги написать пьесу специально для Камириту. Весной 1977 г. пьеса на гикуйю «Нгаахика ндээнда» («Женюсь, когда захочу»), написанная в соавторстве с Нгуги ва Миири, была готова (227, с. 75—76]. Ее содержание — современность,
эксплуатация, тяжелый труд женщин, их участие в борьбе [228, с. 42]. Судя по переведенным на английский отрывкам, она в еще большей степени, чем «Суд над Деданом Кимати», носила агитационный, пропагандистский характер. Это был прямой вызов режиму и призыв к действию (228, с. 50] :
Мы устали оттого, что нас грабят.
Мы устали оттого, что нас эксплуатируют.
Мы устали оттого, что у нас отбирают землю.
Мы устали от рабства.
Мы устали от благотворительности и оскорблений.
Рог бедняков прогудел,
Объединимся и организуемся!
Организация — наш клуб.
Организация — наш меч.
Организация — наше ружье.
Организация — наш щит.
Организация — наш путь,
Организация — наша сила.
Организация — наш свет,
Организация — наше богатство.
Актерами, декораторами, строителями открытого зала на 2 тыс. мест, даже соавторами сценария были крестьяне. Спектакль вызвал необыкновенный энтузиазм. Участники и зрители по собственной инициативе решили исключить из обихода Камириту алкогольные напитки. Репетиции были публичными, на них собиралось множество зрителей. Приезжали жители из городов и соседних деревень >[227, с. 76—79; 228, с. 42]. Несколько деревень прислали делегации с просьбами создать театральные труппы. «Начиналось рабоче-крестьянское театральное движение»,— писал Нгуги. Но 16 января представления были запрещены [228, с. 44]], а в декабре Нгуги был арестован.
20 Зал. 654
305
Театр не работал три года. В ноябре 1981 г., когда писатель был уже на свободе, коллектив начал репетировать его новую пьесу на гикуйю «Маиту нджугира» — «Мама, спой мне», посвященную принудительному труду и жизни рабочих в 20— 30-е годы. В феврале 1982 г. труппа должна была показать пьесу в Национальном театре, однако снова последовал запрет. Пока руководители пытались добиться разрешения, актеры начали публичные репетиции в университете. Спектакль успели посетить около 10 тыс. человек. 11 марта 1982 г. была запрещена вся театральная деятельность в Лимуру, на следующий день солдаты сровняли театр Камириту с землей [228, с. 44— 45]. Нгуги вынужден был эмигрировать в Англию.
В том, что театр Камириту был запрещен, не было ничего удивительного. Неоколониальный режим и не мог приветствовать какую бы то ни было самостоятельную творческую инициативу народа. Тем более что результатом этой инициативы было рабоче-крестьянское (пусть даже театральное) движение. Однако гораздо важнее было то, что эта инициатива поддерживалась и развивалась интеллигенцией. Правящие круги прекрасно понимали, что в этом союзе заключается главная опасность для режима. Именно он превратил самодеятельный театр Камириту из простого способа самовыражения масс в школу их революционного воспитания. Недаром стихи и песни из ставившихся в нем спектаклей так напоминали по форме выступления ораторов на массовых митингах.
Запрет Камириту в условиях неоколониальной Кении был неизбежен. Но опыт «театрального движения» Нгуги ва Тхион- го — самого яркого эпизода «культуры сопротивления» — показал, что только в творческом слиянии интеллигенции и народа может эта культура черпать свою силу.
Политическую историю независимой Кении можно условно разделить на два периода: 60-е годы — время борьбы за выбор пути социально-экономического развития и 70—80-е годы — период господства неоколониального режима. Борьба за выбор пути развития закончилась временным поражением сторонников курса на социальную справедливость, поскольку в бывшей «стране белого человека» перед ними стояли гораздо большие трудности, чем перед прогрессивными силами многих других африканских стран. Среди этих трудностей — всесторонняя поддержка неоколониальных кругов империалистическими державами; социальная и политическая «подготовка» африканского общества к независимости, тщательно проведенная неоколонизаторами; лишение сторонников прогрессивного курса массовой социальной базы в ходе верхушечной африканизации и реформы землепользования; организационная и тактическая слабость Союза народа Кении по сравнению с правящей партией. Нужно учитывать, однако, и другие факторы, осложняв-
306
nine и осложняющие борьбу прогрессивных сил в африканских c i ранах и являющиеся результатом специфики их современных социальных структур. Наиболее важные из этих факторов — трибализм и клиентизм. Кения не стала в этом смысле исключением и в полной мере испытала на себе их воздействие.
В наследство от колониальных времен стране досталась налаженная буржуазно-демократическая машина: многопартий- иая система, парламент, выборы. Нельзя сказать, что она была полностью «навязана» извне — с 20-х годов национально-освободительная борьба велась за контроль над ней, но не за ее разрушение. Уже 60-е годы показали, однако, непригодность буржуазно-демократических институтов в их первозданном виде даже для Кении, подвергшейся более глубокому воздействию капитализма, чем ее соседи. Обнаружилось, что состояние «горизонтальной» (политической) структуры ее общества во многом определялось системой отношений в «вертикальной» (этнической) структуре, что за фасадом институтов буржуазного общества продолжали действовать нормы и каноны общества доколониального и что эти «пережитки», как их тогда называли, чрезвычайно живучи.
Самым заметным из «пережитков» был трибализм. В начале 60-х годов, когда почти у всех народов страны было по одному политическому лидеру (П. Нгей — у камба, Д. арап Мои —у календжин и т. д.), казалось, что в этот термин укладывается вся специфика политической борьбы в стране. По признаку трибализма шло размежевание между Национальным и Демократическим союзами. Идеологическая, отчетливо социальная оппозиция (Союз народа Кении) тоже не избежала налета трибализма. Однородность этнической базы СНК (луо), с одной стороны, позволила руководству Национального союза использовать против оппозиции козырь обвинений в трибализме, с другой — дала ей массовую базу, которую она вряд ли смогла бы получить в Кении середины 60-х годов, если бы этнический момент был полностью исключен.
В 60-е — начале 70-х годов трибализмом объясняли едва ли не все политические коллизии в стране. Тот факт, например, что главным соперником луо О. Одинги был луо Т. Мбойя легко сводился к клановым различиям или соперничеству в борьбе за этническую базу в Ньянзе. Когда началась борьба за наследование поста и власти Кениаты, трибализм усилиями ГЕМА обрел новый стимул и снова оказался на первом плане борьбы. Достаточно вспомнить кампанию клятвоприношений на верность гикуйю и Кениате после убийства Мбойи, митинги и резолюции ГЕМА, а также реакцию политических лидеров — не- гикуйю на эти события.
В начале 70-х годов, когда линии размежевания внутри правящей верхушки еще не были четко проведены, от внимания исследователей как бы ускользал тот факт, что ближайшим другом «семьи» являлся П. Нгей — камба и что в то же время не
20*
307
только туген Мои, но и гикуйю Нджонджо подвергались ее постоянным нападкам. В конце 70-х годов, когда Нджонджо п Кибаки оказались вместе с Мои по одну сторону баррикад, а ГЕМА и «семья» — по другую, объяснение нашлось быстро: оба гикуйю в «триумвирате» — выходцы из Ньери и их противоборство с «семьей» объясняли «клановой» враждой между Киам- бу и Ньери, имеющей давние исторические корни.
Противоречия между Киамбу и Ньери — не миф. Они действительно существовали в 50-х годах — во время движения May May и были вполне реальны в 70-х, когда развернула свою деятельность ГЕМА. После убийства Кариуки в Киамбу возникла новая клятва — «Мума ва май Чаниа на май Махиу» (клятва рек Чаниа и Махиу). Смысл ее заключался в том, что гикуйю из Киамбу не должны допустить, чтобы президентский кортеж пересек реки Чаниа и Махиу, ограничивающие Киамбу с севера и запада, т. е. чтобы пост президента не достался не только Мои, но и гикуйю из Ньери. Эту клятву приняли почти все члены полка «Нгороко» [192, с. 132—133].
У выходцев из Ньери не мог не вызывать протест тот факт, что все деньги, собранные за клятвоприношения, оседали в Киамбу, поскольку организаторами церемоний обычно были выходцы из этого округа. Да и выглядели церемонии из-за этого так, словно клятвы приносились на верность не всем гикуйю, а только гикуйю из Киамбу [192, с. 37]. И все же можно ли считать эти «клановые» противоречия единственной или даже главной причиной вражды?
Трибализм не объясняет, почему был убит гикуйю из Киамбу Дж. М. Кариуки. Не дает он ответа и на вопрос о причинах расхождения между Кибаки и Нджонджо. Он бесполезен в поисках ответа на вопрос, почему ГЕМА, пытаясь свалить Нджонджо, шла на союз с «традиционными» противниками гикуйю — луо и почему, наконец, даже «семья» не раз оказывалась расколотой отнюдь не по клановому признаку.
Яркий пример противоречий внутри «семьи» — борьба за пост мэра Найроби, развернувшаяся в 1976 г. между М. Кениа- та и ее заместителем Э. Нгумбой. Пробыв на посту мэра два срока, М. Кениата по закону не имела права занимать его дольше. Нгумба выдвинул на этот пост свою кандидатуру. Но Маргарет решила правдами и неправдами оставить мэрию за собой. Последовала длившаяся год схватка. Привлекался авторитет руководства КАНУ, устраивались демонстрации и контрдемонстрации, сторонники обращались с петициями к президенту, переносились сроки выборов, пока, наконец, в начале 1977 г. Кениата не назначил свою дочь постоянным представителем Кении в один из комитетов ООН j[192, с. 70—81].
Оба соперника были членами и ГЕМА и «семьи» (сестра Нгумбы была женой племянника Кениаты), но Нгумба имел тесные деловые связи с известным миллионером и политическим деятелем Ч. Рубиа, а тот был союзником Нджонджо и
308
Мои. Полугосударственная корпорация развития промышленности и торговли, у руководства которой стояли представители ГЕМА, вела против Рубиа настоящую экономическую войну. Эти-то деловые, экономические интересы и определили позицию ГЕМА в конфликте между двумя своими видными членами. Вся ее финансовая мощь была брошена на поддержку М. Кениата, Нгумба снят с поста заместителя председателя найробийского отделения ГЕМА [192, с. 72, 77J.
Этот случай — наглядное свидетельство того, что за борьбой этнических, клановых или семейных группировок стояли конкретные экономические или связанные с ними политические интересы. Описывая борьбу ГЕМА за власть, Дж. Карими и Ф. Очиенг неоднократно подчеркивали это [192, с. 21, 24, 72 и др.]. Подобные группы «по интересу» охватывали все общество и действовали на всех его уровнях снизу доверху. Понятие «группа» включало совершенно разные величины: «племя», клан, профсоюз и т. д. Каждая из враждовавших группировок вербовала сторонников на всех уровнях партийно-правительственной иерархии и общественных организаций. Борьба в правительственных кругах неизменно вызывала раскол в партии, профсоюзах и т. д.
Верность группе и «своему» лидеру базировалась не на абстрактном чувстве племенной лояльности, но на стремлении получить определенные выгоды самого разнообразного свойства или хотя бы просто сохранить свое положение с помощью «патрона», которому оказана поддержка или определенные услуги. Любой представитель партийного или государственного руководства любого масштаба и уровня был «клиентом» вышестоящего «патрона», и за ним, в свою очередь, тянулась цепочка «клиентов», готовых оказать услуги и жаждущих получить его благодарность.
Трибализм и клиентизм пронизали всю общественную жизнь и оказали самое пагубное воздействие на становление классового сознания и развитие борьбы трудящихся за свои насущные нужды и интересы. Система отношений «патрон — клиент» давала каждому члену общества надежду улучшить свое положение без борьбы, за счет нодачек лидера, а следовательно, делала любое выступление против этого лидера проблематичным. Дж. Карими и Ф. Очиенг писали: «Не следует распространять это обвинение (в шовинизме.— И. Ф.) на массы гикуйю, эмбу и меру, которые присоединились к движению из-за иллюзии, что они получат от него большйе социальные и экономические выгоды...» [192, с. 64].
Самый наглядный пример подмены социальных и идеологических позиций клиентными — руководство профсоюзов, которое в конфликте между Одингой и Мбойей следовало за Мбой- ей, хотя его курс не отвечал интересам трудящихся. Причина этого кажущегося парадокса ясна. В одной из резолюций Федерации труда середины 60-х годов прямо говорилось: «Если
309
наши противники победят, то очевидно, что наш дорогой бывший генеральный секретарь (Мбойя.— И. Ф.) потеряет большую часть общественного веса, так же как и его преемник, нынешний генеральный секретарь» [613, с. 134]. Подразумевалось, что для всей профсоюзной организации эти потери обернутся едва ли не катастрофой. Такая позиция профсоюзных лидеров лишила массы сколько-нибудь эффективного руководства в борьбе, поскольку с колониальных времен, когда профсоюзы являлись подлинными выразителями и защитниками интересов трудящихся, у народа еще оставалась вера в возможности этого института.
Широкое распространение клиентизма и трибализма проще всего объяснить пережитками психологии доколониального общества в массовом сознании современных африканских обществ. Действительно, система «патрон — клиент» чем-то напоминает отношения, существовавшие у мунду мунене или мута- маки с приближенными в период зарождения классовых отношений. Та же защита лишь собственных интересов, та же взаимная социальная выгода, те же ценности. Даже в механизме действия этой системы взимоотношений заметно определенное сходство: какие бы экономические выгоды ни сулила «клиенту» поддержка «патрона», отношения в целом покоились на силе.
Однако живучесть трибализма и особенно клиентизма в наши дни объясняется все же не только и даже не столько их традиционностью, сколько теми благоприятными социальными условиями, которые создавал и поддерживал в африканских странах, в том числе и в Кении, сначала колониальный, затем— зависимый капитализм: размытостью, нечеткостью социальных границ в обществе, незавершенностью процесса превращения эксплуатируемых социальных слоев из классов «в себе» в классы «для себя», нестабильностью политической системы. Клиентизм и трибализм создавали возможность, в этих условиях — единственную, вертикальной социальной мобильности.
С углублением антагонизма между богатой неоколониаль- ной элитой и огромным большинством населения Кении как трибализм, так и клиентизм размываются становлением новых социальных отношений. Дж. Карими и Ф. Очиенг отмечали, что в 70-е годы «борьба велась в основном между гикуйю как раз потому, что экономические различия в их среде были наиболее глубоки» [192, с. 8]. Борьба эта велась в основном по линии клиентизма. Клиентизм, таким образом, был формой размывания трибализма, но дальнейшее углубление тех же процессов социальной дифференциации размывает и сам клиентизм. Диверсификация политической жизни, появление новых, прогрессивных течений в общественной мысли, представленных интеллигенцией,— лучшее тому доказательство.
Трибализм и клиентизм способствовали сдерживанию нака¬
310
ла классовой борьоы в 70-е годы. Рост социальных противоречий ведет к ее новой активизации. Все более широкий размах обретают такие стихийные формы социального протеста, как нападения скваттеров и рабочих на фермы и ранчо [228, с. V], стихийные забастовки, уничтожение урожая в знак протеста против низких закупочных цен, бойкотирование сбытовых управлений и кооперативов, столкновения с полицией [187, с. 91]. Усилия интеллигенции по привнесению классового сознания в массы имеют поэтому особенно важное значение. От того, насколько эффективными они будут, зависит исход антиимпериалистической и антинеоколониальной борьбы в стране.
Глава VIII
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦИИ КЕНИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПОСЛЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
<гХарамбее!»
На конференции Национального союза, проходившей в 1961 г. в Найроби, неофициально распространялась статья, в которой говорилось, что колонизаторы позволяют Кении выиграть борьбу за независимость на двух фронтах — политическом и расовом, но не на экономическом. Раскрывались и методы, с помощью которых Великобритания намеревалась «уйти, чтобы остаться»: «расовая гармония», африканизация и национализм. Под «расовой гармонией» авторы подразумевали «маскировку вербовки африканских марионеток»; под африканизацией — назначение «на исполнительные или бюрократические посты» африканцев, которые таким образом «получали свою долю акций в деле политической стабильности»; под национализмом — «колониальный заменитель идеологии», который популяризировали сами англичане для предотвращения появления «революционной идеологии» [172, с. 5—7].
Социальная направленность внутренней политики, методы ее осуществления
Эти методы действительно определили основные направления социально-экономической политики неоколониализма в Кении после провозглашения независимости. Для того чтобы предугадать их, не надо было быть провидцем. Основы этой политики закладывались в последние колониальные годы с ведома, при одобрении и помощи колониальной администрации. Кениата подтвердил ее незыблемость в своем выступлении в Торговой палате Кении. «Правительство независимой Кении не будет правительством гангстеров,— сказал он (гангстерами называли в Кении не только грабителей, но и повстанцев May May.— Я. Ф.).— Те, кто опасался за свою собственность — землю, дома, строения,— могут теперь успокоиться в уверенности,
312
что будущее африканское правительство Кении, не лишит их собственности или права на собственность. Мы будем поощрять инвесторов различных проектов приезжать в Кению и мирно продолжать свое дело, чтобы принести процветание в нашу страну» fl97, с. 147].
Еще до провозглашения независимости было найдено название идеологии, которой собирались руководствоваться нео- колониальные круги в руководстве КАНУ,— «африканский социализм». Но наиболее последовательно и развернуто принципы экономической политики правительства независимой Кении были выражены в «Парламентском документе № 10» — «Африканский социализм и его применение к планированию в Кении», одобренном и опубликованном в 1965 г. (([87], подробный анализ см. [356, с. 31—41; 366, с. 198—200]).
Тон документа задают слова из предисловия президента: «...наша страна будет развиваться на основе концепций и философии демократического африканского социализма. Мы отвергли как западный империализм, так и восточный коммунизм и избрали для себя политику позитивного неприсоединения. Наша тактика подчинена стремлению провести африканизацию экономики и государственной службы. Нашей задачей по- прежнему является достижение этих двух целей без нанесения ущерба экономике...» [87].
Базой «африканского демократического социализма», по мнению его авторов, являются «политическая демократия и взаимная социальная ответственность» [87, с. 3]. Политическая демократия «присуща» якобы африканскому обществу изначально, а взаимная социальная ответственность — это продолжение духа африканской семьи на всю нацию. Марксизм, говорилось в документе, не подходит для Кении. Он не имеет ничего общего с кенийской действительностью, поскольку «резким классовым различиям, которые когда-то существовали в Европе, нет места при африканском социализме; у них нет параллелей в африканском обществе. В традиционном африканском обществе классовая проблема не существовала, ее нет сре- я,и африканцев и сегодня. Проблема классов в Африке, таким образом, это в основном проблема предотвращения их возникновения» (87, с. 7, 12—13].
Основными чертами африканского социализма кроме «политической демократии и взаимной социальной ответственности» авторы документа считают «различные формы собственности; разнообразные формы контроля за использованием собственности в интересах как общества, так и его членов; рассредоточение собственности во избежание концентрации экономической власти; прогрессивные налоги с целью гарантировать справедливое распределение богатства и дохода» [87, с. 16].
«Парламентский документ № 10» предусматривал сосуществование самых разных форм собственности в стране: «Наши
313
планы в сфере сельского хозяйства дают, возможно, лучший пример африканского социализма в действии. Почти все формы организации будут использованы в этом секторе, включая государственные фермы, кооперативы, компании, совместные и личные фермы... Правительство ожидает, что частный сектор будет играть большую роль в развитии, однако, при твердом руководстве и контроле там, где это необходимо» ,[87, с. 36— 37, 42—43].
Под национализацией понимается только выкуп иностранной собственности, поскольку и Манифест КАНУ и конституция предполагали компенсацию в случае национализации. Но и такая форма «национализации» осуждалась, так как она не по карману правительству молодой развивающейся страны [87, с. 26—27).
Основой практической политики правительства оказывалась африканизация. Содержание этого понятия раскрыто в документе довольно подробно. «Африканизация в сельском хозяйстве приняла в основном форму земельного поселения, основанного по преимуществу на передаче, реорганизации и развитии части земель, принадлежавших европейцам. Этот подход был необходим по политическим причинам..». Но «если наши ресурсы должны использоваться для достижения максимального роста, то впредь мы должны развивать преимущественно бывшие африканские районы» [87, с. 28—29].
Среди мер по африканизации в других сферах экономики — обеспечение образования для африканцев, «чтобы вооружить их для эффективного исполнения функций предпринимателей и управляющих фермами»; меры по увеличению доступности капитала для африканцев; стимулирование крупных капиталовложений (подразумевается иностранных); участие частного капитала в различных государственных и полугосударственных компаниях; быстрая африканизация государственной службы и т. д. [87, с. 29—30].
Если добавить к этому утверждение о необходимости «увязать темпы африканизации... со стремлением к быстрому экономическому росту» ;[87, с. 27], а также заявление о том, что «иностранные инвестиции будут скорее растущим, чем сокращающимся, сектором» [87, с. 14], характер документа становится совершенно ясным. Журнал «Африканский коммунист» нь звал его «социалистическим ярлыком буржуазного мышления* [264, 1965, № 22, с. 24].
Практическая деятельность кенийского правительства по воплощению идеологии «африканского демократического социализма» в жизнь имела еще более определенную социальную направленность.
Важнейшим вопросом экономической политики (как и политической борьбы) была судьба бывшего Белого нагорья. «Африканизация» Нагорья началась после первой лондонской конференции продажей африканцам отдельных неспе-
314
диализированных ферм. Потом небольшие участки Нагорья были прирезаны к территориям бывших резерватов. На каждом могли селиться только жители определенного резервата [585, с. 28; 594, с. 275—276].
Широкое расселение африканцев на Нагорье началось с 1961 г. Проводилось оно по пяти большим планам, каждый из которых подразделялся на несколько конкретных программ. План «миллиона акров», многократно исправлявшийся и уточнявшийся, был выполнен к 1971 г. По нему на Нагорье было создано около 35 тыс. хозяйств средним размером в 13,4 га (33,5 акра). «Скваттерский» план, позже переименованный в план «Харака», предназначался для небогатых переселенцев. По нему было создано около 14 тыс. хозяйств средним размером в 7,5 га (18,7 акра). План «Харамбее» называли «йомен- ским»; участки, предоставлявшиеся по этому плану, составляли в среднем по 16,25 га, или 40,6 акра (всего их было около 400). В Ол-Калоу на фермах, заброшенных европейцами (общей площадью около 56 тыс. га, или 140 тыс. акров), поселилось около 2 тыс. семей. Наконец, по плану «Ширика», начатому в 1971 г., около 109 тыс. га (272,5 тыс. акров) было передано кооперативам, объединявшим примерно 12 тыс. семей. Примерно 600 тыс. га (1,5 млн. акров) на Нагорье было продано частным лицам {86, 1977, с. 105; 88, 1970—1974, с. 202— 208; 88, 1974—1978, с. 225—230; 454, с. 33; 508, с. 73—75]. Нужно учитывать, однако, что данные источников о переселении африканцев сильно расходятся, отчасти, видимо, из-за того, что численность переселенцев постоянно менялась. Не все данные доступны. Так, площадь ферм, проданных частным лицам, известна лишь за 1973—1974 гг. [88, 1974—1978, с. 57].
Каков бы ни был размер участков, которые покупали африканцы на Нагорье, эти участки все же значительно превышали большую часть хозяйств в бывших резерватах: средний размер переселенческих наделов — около 12 га, а у большинства жителей африканских районов участки не превышают 1 га, треть владеет участками менее 0,5 га [454, с. 32]. Для того чтобы купить и обработать участки на Нагорье, нужны были значительные средства, хотя переселенцам и оказывали помощь кредитами, семенами, практическими советами, транспортом. Только до 1968 г. 32 тыс. переселенцев получили займов примерно на 3,8 млн. ф. ст. По сравнению с тем, что получали оставшиеся в бывших резерватах, это очень много. В 1966 г., например, планировалось за пять лет предоставить 4,3 млн. ф.ст. тридцати тысячам крестьян вне переселенческих планов (т. е. трем процентам земельных собственников в бывших резерватах) [508, с. 82].
Целиком, нераздробленными, фермы покупали обычно представители элиты, причем чаще всего на льготных условиях. У Кениаты к середине 70-х годов было шесть ферм. Самая большая из них (площадью 3,5 тыс. акров) находилась непода¬
315
леку от Накуру; другая (около 2,5 тыс. акров) — поблизости от Найроби. Одним из крупнейших землевладельцев страны стала жена Кениаты «мама» Нгина. Только в Киамбу ее земельная собственность исчислялась 26 тыс. акров. Ее ферма площадью около 2,3 тыс. акров под Накуру примыкала к ферме супруга. Компания, одним из совладельцев которой она была, приобрела три сизалевые плантации общей площадью около* 70 кв. миль (39,4 тыс. акров).
В отношении земельных сделок Нгина Кениата могла бы научить кое-чему и самого Грогана, столь прославившегося своими достижениями в этой сфере в первые десятилетия века (см. с. 154). Один из участков очень ценной земли на момбасском побережье, принадлежавший компании «Ньяли лтд», был сдан в бессрочную аренду небольшой текстильной компании за 1250 ф. ст. и годовую ренту. В 1973 г. «Ньяли лтд» ликвидировала договор об аренде и продала этот участок супруге президента за 500 ф. ст., причем сделка была оформлена даже без обычного гербового сбора. В тот же день Нгина купила два соседних участка. Затем она сдала их в аренду на пять лет за 93 250 ф. ст. и ежемесячную ренту в 5750 ф. ст. К 1975 г. ее чистая прибыль от этой операции составила 438 250 ф. ст. [292, 10, 17.VIII.1975].
Кениата и мощный клан его многочисленных родственников не были исключением. Они лишь подавали пример. Не было ни одного министра, партийного функционера, крупного чиновника, который не приобрел бы обширных земельных угодий. Эти новые земельные захваты осуществлялись особенно бурно в 60-е — начале 70-х годов, но не прекратились до сих пор. Большинство покупателей, заключая земельные сделки, так или иначе использовали свое служебное положение или родственные связи. Вот лишь один из примеров. Бывший министр С. Олои- типтип (естественных ресурсов в правительстве Кениаты и внутренних дел в правительстве Мои) «договорился» с администрацией своего избирательного округа Нарок о предоставлении ему под пастбище 1 тыс. акров земли заповедника (263, июнь 1983].
Правительство постоянно оказывало крупным землевладельцам материальную поддержку. С 1963 по 1969 г. крупным фермам (их было всего 2200) были выданы долгосрочные кредиты на 2,7 млн. ф. ст., и с 1963 по 1966 г.— краткосрочные кредиты на 3,5 млн. ф. ст. (508, с. 82]. Только в 1980/81 г. им было предоставлено кредитов на 3,1 млн. к. ф. ст., в то время как мелким— на 1,8 млн. к. ф. [86, 1982, с. 172].
«Африканизация» Нагорья затронула немало людей. К 1970 г. только по переселенческим планам участки там получили более 500 тыс. человек. Примерно четырем процентам населения было обеспечено если не безбедное, то все же не нищенское существование [508, с. 75]. Но в целом кенийская деревня не получила от реформы землепользования на Нагорье ничего.
316
Проблема земельного голода не была решена, число безземельных не уменьшилось.
Впрочем, это и не входило в планы авторов реформы. Она проводилась с двуединой социально-политической целью: выпустить пары политического недовольства (в числе новых землевладельцев Нагорья были и бывшие бойцы May May, например кооператив «Ндеффо» — Организация бывших борцов за свободу округа Накуру) и создать относительно зажиточную прослойку фермеров, заинтересованных в сохранении политического и экономического статус-кво. В то же время наделение землей этой прослойки послужило ширмой, за которой элита сумела беспрепятственно приобрести огромные земельные угодья, а европейские компании и фермеры (кроме бывших владельцев неспециализированных ферм) — сохранить свои позиции в экономике страны.
Земельная реформа на Нагорье охватила к концу 70-х годов 1,25 млн. га (3,1 млн. акров). Но значительную территорию по-прежнему занимают белые фермеры, часть которых приняла кенийское гражданство (по переписи 1979 г. кенийскими гражданами стали 4445 европейцев [86, с. 1982, с. 14]). Среди них семьи Дэламера — 40 тыс. га, Грогана — 32 тыс. га, Бланделла — 26 тыс. Остались нетронутыми земельные владения крупнейших европейских компаний — «Брук Бонд Трупе», «Джеймс Финдлей энд компани лтд», «Вильямсон ти лтд», «Лонро», «Юнилевер» и др. [121, с. 15—16]. Именно такая «африканизация» больше всего устраивала деловые круги Великобритании. Не случайно английское правительство предоставило в общей сложности около 10 млн. ф. ст. на выкуп и перепродажу ферм [508, с. 81]. Эти средства выдавались новым обитателям Нагорья в качестве кредитов на покупку земли. Если бы не это, правительству Кениаты вряд ли удалось бы провести реформу, имевшую столь глубокий социальный и политический смысл.
Политика кенийского правительства в африканских районах была прямым продолжением мероприятий конца 50-х — начала 60-х годов. Консолидация земельных участков и регистрация их в частную собственность проводилась даже более энергично, чем в колониальные годы. При проведении регистрации использовались самые разные средства — от убеждения и льгот до прямого давления. К 1980 г. было зарегистрировано около 24 тыс. кв. км (3,9 млн. акров) пригодной к регистрации (т. е. не занятой озерами, реками, лесами и т. д.) земли. Незарегистрированной оставалась территория примерно в 398 тыс. кв. км. (99,5 млн. акров) ,[86, 1982, с. 5]. Правительство не раз выражало недовольство низкими темпами регистрации. В предпоследнем плане экономического развития говорилось, что если их не удастся повысить, то регистрация будет завершена не раньше чем через 45 лет [88, 1978—1983, с. 53].
Регистрация проходйт очень неравномерно по провинциям
317
и даже по округам. В Центральной провинции она была закончена уже в середине 60-х годов, в Северо-Восточной не начиналась даже в 1980 г. В целом по провинции Ньянза к 1980 г. было зарегистрировано около половины земли, но в округе Ки- сии этой провинции регистрация была почти закончена, в округе Кисуму — зарегистрировано меньше половины земельной площади [86, 1982, с. 5].
Один из советских экономистов связал стремление (или согласие) того или иного народа регистрировать землю в собственность с существованием у него института вождей и его знакомством с частной собственностью на землю в доколониальные времена. В пример он привел нанди, кипсигис и масаев Кад- жиадо .[356, с. 93]. С этим вряд ли можно согласиться. У самого «зарегистрированного» народа — гикуйю института вождей в доколониальную эпоху не было, их знакомство с частной собственностью на землю в то время опровергнуто последними исследованиями (см., например, >[544]). Что же до масаев, нанди и кипсигис, то ни лайбонов, ни оркойотов вождями назвать нельзя, а какие бы то ни было признаки существования частной собственности на землю у этих народов в доколониальную эпоху не зафиксированы.
Однако совершенно справедливо мнение исследователя о 'том. что стремление зарегистрировать землю в частную собственность нельзя связывать только с земледельческим типом хозяйства, как это чаще всего делают зарубежные историки и экономисты. Скотоводческие народы обычно действительно менее охотно идут на регистрацию. В 1968 г. кенийское правительство вынуждено было даже издать закон «О групповом представительстве», в соответствии с которым скотоводам предоставлялась возможность регистрировать землю в качестве собственности родов и больших семей {356, с. 92], но и это постановление мало что изменило. И все же пример нанди, кипсигис и масаев Каджиадо, почти полностью зарегистрировавших свою землю, доказывает, что хозяйственный уклад не вполне объясняет это явление. Здесь действует совокупность политических и социально-психологических причин: степень трансформации традиционных институтов; количество земли, экспроприированной в колониальные годы; характер социально-экономической реакции на земельные экспроприации и прочие формы колониального воздействия; демографический фактор; взаимоотношения политических лидеров с центральным правительством и т. д.
Настойчивость правительства в доведении регистрации до конца свидетельствует о его стремлении внедрить представление о частной собственности на землю в те районы кенийской деревни, в которых оно не успело сложиться в колониальные годы, а также юридически закрепить фактически существующее имущественное неравенство. Однако тот факт, что пока эта цель остается невыполненной, не означает провала реформы
и целом. Ведь кроме социальных, она имеет легко просматриваемые политические цели. В наиболее политически активных районах страны социальный курс нынешнего режима встретил определенную поддержку, а в ходе проведения реформы его социальная база должна была еще более укрепиться.
Важнейшим аспектом социальной политики кенийского правительства стала африканизация высших постов государственною аппарата, промышленности и торговли. Характер афри- канизации в этих сферах, как и в сфере сельскохозяйственного производства, определился еще до провозглашения независимости. В 60-е годы колониальная администрация начала привлекать африканцев на службу в государственном аппарате, а крупнейшие иностранные компании и фирмы — назначать представителей африканской элиты в свои советы директоров. Быстрее всего, естественно, шла африканизация госаппарата. Уже к 1964 г. было африканизировано 678 высших государственных постов. К 1966 г. работу в госаппарате потеряли почти 90% Ра_ ботавших там индийцев, которые занимали его среднее звено 1356, с. 56, 57].
Государственные посты оказались для африканской элиты золотой жилой. Оклад министра в 1970 г. составлял 3200 ф. ст. Гму полагалось также пособие на жилье в 350 ф. ст. Заместитель министра получал 2200 ф. ст. и пособие на жилье [444, с. 333]. Президенту в 1963 г. был назначен оклад в 15 тыс. ф. ст.— сумма, пишет О. Одинга, достаточная для обеспечения жильем 500 семей [229, с. 302]. В 1967 г. комиссар провинции получал 2850 ф. ст., комиссар округа — 2175 ф. ст. В 1971 г. оклады служащих госаппарата, в том числе и все вышеперечисленные, были увеличены почти на треть /[356, с. 79]..
Не менее выгодной была политическая и общественная деятельность. Оклад освобожденного генерального секретаря профсоюза в 70-е годы составлял от 720 до 2400 к. ф. ст. в год, его заместителя — от 600 до 900 к. ф. ст. ([613, с. 53]. Жалованье члена парламента в конце 60-х годов составляло 1200 ф. ст. в год. Кроме того, он получал пособие от своего избирательного округа, а также особое пособие на время сессий [444, с. 333]. Члены правительства и парламентарии пользовались и пользуются и другими материальными преимуществами: имеют право на долгосрочный кредит‘при покупке автомашин, получают субсидии на покупку земли и домов [356, с. 79].
По меркам буржуазного мира тот уровень жизни, который может позволить себе семья, имеющая доход в 1 тыс. к. ф. ст. в год, не так уж высок. Но представить себе значение этих цифр в кенийских условиях можно, лишь учитывая тот факт, что в начале 70-х годов только 13% семей имело доход более 200 к. ф. ст. и только 3% — более 600 к. ф. ст. [545, с. 193—194].
Уже в 1964 г. на 41 тыс. работников управленческого аппарата (7% работающих по найму) приходилось 44% фонда за¬
•319
работной платы {377, с. 333]. В конце 60-х годов на заработную плату и пособия государственным служащим шло около 40% всех государственных ассигнований {356, с. 63]. С 1971 по 1980 г. численность служащих администрации удвоилась. Толь ко в министерствах и ведомствах в 1980 г. работало около 170 тыс. человек, из них высокооплачиваемые административные посты занимало около 50 тыс. человек {187, с. 61J. С 1976/77 по 1980/81 г. государственный аппарат увеличивался на 8,4% в год при общем росте валового продукта на 4,6% в год (274, 14.Х11.1982].
Социальную направленность африканизации госаппарата в какой-то мере характеризует и тот факт, что она не была доведена до конца. В 1975 г., уже после того как африканизация была официально объявлена законченной, из 3450 представителей «высшей администрации и управляющих» 1347 не были гражданами Кении [86, 1977, с. 278]. Тогда же среди 29 высших офицеров полиции и сил безопасности было восемь европейцев. Не расовая, а социальная принадлежность определяла характер их деятельности, но в Кении как до, так и после провозглашения независимости эти понятия зачастую совпадали.
«Африканизация» Нагорья проводилась под непосредственным руководством белого кенийца, крупного фермера южноафриканского происхождения Б. Маккензи. До 1969 г. он занимал пост министра сельского хозяйства в правительстве Ке ниаты. Не столь заметную, но не менее важную роль играли оставшиеся с колониальных времен белые служащие государственных и полугосударственных советов и управлений, таких, как Совет по пиретруму или Совет по кофе. У европейского костяка этих учреждений был опыт, навыки, связи. Африканизация советов, особенно в первое десятилетие после провозглашения независимости, сводилась к предоставлению крупных постов министрам и парламентариям, не знавшим дела и в дальнейшем в него не вмешивавшимся {444, с. 281—282].
По этой же схеме строилась поначалу и африканизация промышленности и торговли. Разница заключалась лишь в том, что при рассмотрении очередной кандидатуры на тот или иной директорский пост руководство иностранных компаний в первую очередь учитывало ее политический вес и возможности. Особенно «ценились» друзья и родственники Кениаты. Н. Муигаи, его племянник, стал председателем кенийского отделения «Маккензи лтд», зять — У. Гесага — председателем восточноафриканского и членом международного совета директоров «Лонро». К началу 80-х годов Гесага занимал директорские посты в 38 фирмах; семью из этих фирм он владел [187, с. 44—45; 297, 1977—1978, с. В-263].
Первыми африканизировали свою местную администрацию самые крупные и известные иностранные фирмы и международные корпорации. С 1968 по 1974 г. африканцы заняли посты
320
управляющих восточноафриканскими отделениями «Лонро», Джеймс Финдлей», «Маккензи Далгети». Но позволить себе содержать неработающих директоров могли не все. В 1968 г. 82% директоров компаний и фирм в Кении были британскими подданными; в 1974 г. из 50 высших директорских постов 36 занимали кенийские граждане, но половина из них — белые [629, с. 202]. Политический характер такой африканизации очевиден. Впрочем, руководство иностранных фирм и транснациональных корпораций и не стремилось его скрывать. Так, после смерти Кениаты У. Гесага потерял директорское кресло в «Лонро» 1187, с. 44; 450, с. 220].
Одной из важнейших целей, провозглашенных «Парламентским документом № 10», было поощрение развития африканского предпринимательства. Правительство сделало и продолжает делать на этом пути многое. Принимаемые им меры неоднократно анализировались в советской литературе (см., например, [356]). Для развития местной предпринимательской прослойки использовалось несколько рычагов: кредиты, поощрительная экспортно-импортная политика, поощрительное законодательство.
Полугосударственная Корпорация развития промышленности и торговли, созданная с целью поощрения африканского предпринимательства, с 1965 по 1971 г. выдала кенийцам кредитов на сумму 2,5 млн. к. ф. ст., в 1974—1975 гг.— на 2,7 млн. ф. ст. До 1971 г. 80% этих займов использовалось на приобретение предприятий, лавок и т. д., в 70-е годы такой же процент — на расширение существующих. В 1974 г. Центральный банк Кении издал директиву, ограничивавшую размеры и количество займов компаниям, более 50% капитала которых помещено вне страны |Г629, с. 189—190].
Проявлением и одновременно результатом поощрения частного предпринимательства стала кредитная политика по отношению к государственному сектору. В 1980 г. он получил лишь 9,7% общей суммы государственных ссуд, в 1981 г.— 12,7% ,[85, 1980, с. 60].
С 1980 г. были введены ограничения или высокие тарифы на импорт товаров, производящихся местной промышленностью. В данном случае, однако, в «местную» промышленность включались и филиалы транснациональных корпораций, получивших, таким образом, почти монопольные права на производство того или иного товара. Предусматривалась также «компенсация за экспорт» — 10—25-процентная налоговая скидка предприятиям, экспортирующим свою продукцию [276, 15.111.1983].
Одним из наиболее ярких примеров законодательного поощрения местного предпринимательства явился закон о лицензировании торговли 1968 г., согласно которому неграждане Кении должны были получить от правительства лицензии на продолжение своего дела и регулярно возобновлять их [454, в. 91]. В 1968 г. лица, не являвшиеся кенийскими гражданами, были
21 Зак. 654
321
отстранены от торговли 25 видами наиболее ходовых товаров, продававшихся обычно в индийских лавках ,[343, с. 100].
Меры эти носили столько же социальный, сколько и расовый характер. На практике оказалось, что они были направлены в первую очередь против наименее зажиточных слоев индийской общины, чьи лотки и лавки могли и хотели купить африканцы. Иногда в лицензиях отказывали кенийским гражда- нам-индийцам, во многих случаях правительство отказывалось рассматривать заявления о предоставлении гражданства /[343, с. 97—98, 100] Наряду с так называемым иммиграционным законом 1967 г., обязывавшим неграждан обращаться за лицензиями на любую занимаемую должность, эти меры вызвали настоящее бегство индийцев из страны. В 1968—1969 гг. уезжало по нескольку тысяч человек в месяц. К концу 1969 г. отток индийцев из страны стал уменьшаться: начали сказываться неблагоприятные экономические последствия принятых мер {356, с. 68], на позицию кенийского правительства, стремившегося «сохранить лицо» в буржуазно-демократическом мире, не могла не повлиять и политическая ситуация [343, с. 102—103].
«Антииндийская кампания» — как шум, поднятый вокруг нее администрацией, так и практические результаты (предоставление рабочих мест и торговых точек тысячам африканцев) — имела глубокий социальный и политический смысл. Ее разгар пришелся на годы наиболее активной деятельности политической оппозиции и вовремя отвлек внимание недовольных. В социальном отношении непосредственным результатом кампании было изменение состава индийской общины: она стала, как пишет -С. Ф. Кулик, значительно более однородной и зажиточной, а ее средний доход возрос с 630 до 1820 шилл. в месяц [356, с 69]. Африканцы, покупавшие лавки и магазины, на первых порах зачастую разорялись. Но в дальнейшем «африканизация» торговых предприятий, принадлежавших негражданам-индий- цам, в немалой мере способствовала становлению африканской зажиточной прослойки.
В 70-е годы африканизация торговли проводилась медленно и постепенно. Был значительно расширен список товаров, которыми не имели права торговать неграждане. К 1975 г. он включал, например, инструменты, цемент, инсектициды, кукурузу и рис. Не продлевалось всего по нескольку сот лицензий в год (в 1975 г., например, 463). Африканцам давали пять месяцев на переговоры и изыскание средств, а если претендента на дело не находилось, то продавали его индийцу — подданному Кении или предлагали кому-нибудь из африканских служащих вступить с бывшим хозяином в долю. Для покупки крупных предприятий создавались компании, совладельцами становились иногда полугосударственные корпорации. В 1976 г., например, коллективной собственностью нескольких частных африканских компаний, Корпорации развития промышленности и торговли и созданной в 1965 г. также полугосударственной На¬
322
циональной торговой корпорации Кении стала крупная фирма оптовой торговли. Управление фирмой обеспечивает итальянская корпорация «Станда» [629, с. 187, 193}.
Политическое давление в отношении продолжения африканизации торговли было столь велико, что в этой сфере правительство не раз оказывалось вынужденным в какой-то мере поступаться интересами даже крупных европейских компаний. Национальная торговая корпорация Кении к 1974 г. вынудила иностранные цементные фирмы африканизировать всю розничную продажу своей продукции. Подрядчиками стали две крупные фирмы, принадлежавшие У. Гесаге, «важному» члену парламента и, наконец, брату председателя Национальной торговой корпорации. С тех пор подобным же образом была африканизирована розничная продажа таких крупных иностранных фирм, как БАТ, «Кэдбери», «Швеппез», «Бата».
В 1969 г. была создана Торговая палата, представляющая интересы африканской торговой прослойки. Она настолько активно добивалась африканизации всей оптовой и розничной торговли крупных фирм, что, несмотря на сопротивление Ассоциации промышленников Кении, Кениата решил дело в ее пользу. В 1975 г. была принята поправка к закону о лицензировании в торговле, обязавшая все иностранные фирмы продавать свою продукцию только через агентов, назначенных Национальной торговой корпорацией (за исключением продукции гехноемких производств, а также деталей и полуфабрикатов для других производств) {629, с. 187—189].
Столь усиленные меры поощрения африканского предпринимательства не могли не дать быстрые результаты. Из 360 компаний и фирм, образованных в 1963 г., только 5% приходилось на африканские, 8% — на смешанные и 45% — на европейские. В 1973 г. из 885 новых компаний 46% были африканские, 15% — смешанные и 15% —европейские. Выросли и капиталы, которыми могли оперировать местные предприниматели. В 1965 г. было всего две африканские фирмы с капиталом от 500 до 10 тыс. к. ф. ст. и ни одной — с капиталом более 10 тыс. В 1973 г. в первой группе насчитывалось уже 70 африканских фирм, во второй — 17 |б29, с. 195, 197].
Казалось бы, формированию зажиточной элиты могло в какой-то мере препятствовать рабочее движение — особенно если вспомнить многочисленные и серьезные выступления кенийских рабочих в прошлом. Однако этого не произошло. Кенийское правительство умело регулировало отношения профсоюзов и предпринимателей, всегда в пользу последних. Английская исследовательница А. X. Эмсден писала: «Удивительно, до какой степени Ассоциация работодателей промышленности и торговли (позже переименована в Федерацию кенийских работодателей.— И. Ф.) формировала историю профсоюзов и до какой степени после провозглашения независимости события продолжали развиваться в прежнем русле» {377, с. 63].
21*
323
С 1965 г., как уже отмечалось, высшее профсоюзное руководство назначалось и смещалось президентом страны; оно было лишено права бесконтрольно распоряжаться средствами своей организации [377, с. 111]. В том же году по инициативе Федерации кенийских работодателей министерство труда разработало закон о трудовых конфликтах, явившийся прямым продолжением и развитием колониального трудового законодательства. По этому закону запрещались забастовки в «основных отраслях» и забастовки солидарности; любую другую забастовку мог объявить незаконной министр труда [377, с. 123; 613, с. 44]. В 1969 г. правительство заключило с предпринимателями и профсоюзами «трехстороннее соглашение», полностью запрещавшее забастовки на год (с середины 1970 до середины 1971 г.) [[356, с. 72; 508, с. 232]. В 1971 г. был принят новый закон о трудовых конфликтах, еще более ограничивший право рабочих на забастовки [613, с. 45].
Во всех этих законах и соглашениях был не только «кнут», но и «пряник» — иначе их трудно было бы провести в жизнь. Так, закон 1965 г. обязал работодателей, нанимающих более четырех членов профсоюза, платить за них профсоюзные взносы прямо в кассу организации; по закону 1971 г. работодатель должен был по решению промышленного суда принять на работу любого несправедливо уволенного рабочего [613, с. 47]. «Трехстороннее соглашение» 1969 г. предусматривало повышение числа занятых на 10% (45 тыс. человек). То, что реально было нанято не 45 тыс., а 35 тыс. человек и что через год 4 тыс. из них снова оказались за воротами, не играло большой роли: приманка сработала {356, с. 72—73]. Подобные договоры с предпринимателями об увеличении занятости время от времени возобновлялись. В 1979 г. было заключено новое «трехстороннее соглашение» [262, т. 82, № 329 (1983), с. 559— 568].
Сокращался разрыв между высшим и низшим уровнями окладов. В 1963 г. он составлял 46:1, в 1971 —38:1 /[613,
с. 189]. В 1969 г. беднейшие 25% населения получали 4,1% национального дохода, в 1976 г.— 6,2% {88, 1978—1983, с. 5]. В результате тактика правительства до поры до времени приносила свои плоды; в 70-е годы число забастовок и число их участников постоянно падало. В начале 60-х годов в 909 забастовках приняли участие 286 тыс. человек [346, с. 86]. В 1972 г. забастовок было 466, бастовавших — 28 046; в 1976 г. произошло всего 44 забастовки, а число их участников уменьшилось до 12 964 человек [86, 1977, с. 315]. Только в самые последние годы в связи с ухудшением экономической конъюнктуры и положения трудящихся число забастовок и бастующих начало снова расти. По официальным данным, в 1979 г. бастовало 33 тыс. человек (54 забастовки), в 1980 г.—32,5 тыс. человек (81 забастовка), в 1981 г.— более 40 тыс. человек (74 забастовки) [86, 1982, с. 273].
324
Характер экономического роста
Хотя в своей социально-экономической политике кенийское правительство предприняло немало усилий, для развития африканского предпринимательства, интересы зарубежных фирм и транснациональных корпораций не были ущемлены. Отдельные иностранные фирмы, компании или предприятия могли пострадать в ходе африканизации, но лишь в той мере, в какой это было политически необходимо, чтобы создать благоприятный климат в стране иностранному капиталу в целом. Юридической основой его привилегированного положения стал закон о защите иностранных капиталовложений 1964 г. (с поправками 1976 г.) if454, с. 76—77]. Кроме положений, перечисленных в законе, правительство не раз прибегало к другим формам стимулирования иностранных капиталовложений: обеспечению условий для вывоза прибылей, снижению налогов, рыночному протекционизму в форме тарифов и квот на импорт одних товаров и специальных разрешений на ввоз других |[454, с. 77; 613, с. 6]. Американский исследователь А. Хейзлвуд признает: «Протекционизм и разрешение на вывоз прибылей в совокупности дают большие преимущества иностранным инвесторам» [454, с. 77]. В 1980 г. президент Мои заверил иностранных инвесторов, что, каковы бы ни были экономические перспективы страны, иностранный капитал будет пользоваться прежними преимуществами [187, с. 66].
На практике правительство делало даже больше, чем дозволяло либеральное по отношению к иностранному капиталу законодательство, обеспечивая некоторым иностранным компаниям и фирмам фактически монопольное положение на кенийском рынке. Созданное в 1969 г. кенийское отделение шинной корпорации «Файрстон», например, включив в состав своего совета директоров родственников некоторых министров, добилось не только монополии на продажу своей продукции в Кении, но и перестройки некоторых дорог в соответствии со своими требованиями. Текстильная компания «Риватекс», созданная в 1975 г. н-а базе капиталов транснациональной «Седитекс» (контрольный пакет) и полугосударственной Корпорации развития промышленности и торговли (тоже в большой мере финансируемой иностранным, в основном западногерманским, капиталом), с помощью хорошо подобранного совета директоров добилась решения правительства о запрещении импорта поношенной одежды, раскупавшейся беднотой [187, с. 54, 101 — 103; 454, с. 80].
Неудивительно, что в 70-х годах, несмотря на развитие местного предпринимательства, иностранный капитал укреплял свои позиции. В некоторых важнейших отраслях доля иностранного капитала составляла 60—70%: в 1972 г. в текстильной, обувной и швейной промышленности — 66%, в книгопечатании и бумажной промышленности — 76, в металлургии — 79% >[454,
325
с. 59]. Самые крупные иностранные инвестиции (около 80%) шли в Кению из Великобритании. К 1972 г. из бывшей метрополии поступило около 87 млн. к. ф. ст. <[67% капиталовложений) , из ОША—26 млн. к. ф. ст. (20% ) ; из ФРГ—6 млн. к. ф. ст. (5%) {629, с. 215].
Постепенно главную роль в подчинении кенийской экономики иностранному капиталу начали играть транснациональные корпорации. С 1966 по 1973 г. они создали около 50 своих отделений в Кении. В 70-е годы ТНК стали выступать в роли партнеров местного капитала: создавать совместные предприятия, брать на себя управленческие функции, налаживать технологическую сторону производства, готовить кадры. В это же десятилетие возникла новая форма иностранных капиталовложений: международный финансовый капитал через местные кредитно-финансовые организации принял непосредственное участие в кредитовании кенийских фирм и предприятий [629, с. 214, 223—224]. Возрастает роль американского капитала. В 1983 г. капиталовложения 125 американских компаний в Кении составили около 300 млн. долл. {261, т. 28, № 6, (1983), с. 13].
«Дружеская рука» империалистической помощи особенно явно поддерживала кенийский режим в трудные для него (в экономическом и политическом плане) времена. Для поддержки нового правительства в декабре 1978 г. Великобритания перевела кенийские займы на общую сумму 69 млн. ф. ст. на безвозмездную основу {274, 9.VI. 1979]. В начале 1979 г. Кения получила от консорциума во главе с Вестминстерским банком заем в размере 200 млн. евродолларов {274, 20.XI.1979]. Осенью 1982 г. после попытки военного переворота президент Мои запросил у западных стран заем на 309 млн. долл. Пресса была настроена скептически: даже Международный валютный фонд вынужден был приостановить программу финансовой помощи Кении объемом 151,5 млн. долл., начатую в 1982 г., так как правительство не могло выполнить все условия ее предоставления [274, 13.Х.1982]. Но помощь все же пришла. В 1983 г. Кения получила 103,1 млн. долл, от США и 74,5 млн. долл, от ФРГ [276, 15.III.1983]. В 1983 г. Международный валютный фонд начал выплату 175 млн. долл, по 18-месячной программе помощи. Обсуждаются условия предоставления 50 млн. долл. Международным банком реконструкции и развития, не так давно ссудившим Кении 130,9 млн. долл. [261, т. 28, № 6(1983), с. 13].
Тот тип социально-экономического развития, который избрали правящие круги Кении, на первых порах давал неплохие экономические результаты. Кения недаром стала рекламой экономических возможностей капиталистической ориентации в Африке. Разрыв в темпах роста годового валового продукта Кении и Танзании, например, постоянно увеличивался. В 1964—1967 гг. темпы роста промышленного производства Ке-
326
пни составляли 7,6%, Танзании — 6,8; сельскохозяйственного производства — соответственно 5,2 и 4,1%. В 1977 г. темпы роста промышленного производства равнялись в Кении 15%, в Танзании — 5,4; сельскохозяйственного — соответственно 10 и 5,6% (в постоянных ценах) {[596, с. 17]. Даже при весьма значительном росте населения Кении на 3,6—4,1% в год (один из самых высоких показателей в мире) рост внутреннего валового продукта на душу населения составлял от Э,5 до 5% в год (данные расходятся) {263, 1983, XII; 276, 1.XII.1982; 454, с. 24].
Исследователи и журналисты часто обращают внимание и па довольно развитую для африканской страны (без больших чалежей полезных ископаемых) промышленность Кении. В середине 60-х годов она давала 12—13% национального продукта современного сектора, в 1977 — 16% {454, с. 55]. В 1981 г. экспорт одних только нефтепродуктов дал стране 58 млн. к. ф., примерно столько, сколько кофе и чай — две важнейшие экспортные культуры страны, вместе взятые. Это составило 30,7% экспорта (кофе —21,3%, чай —11,9%) [86, 1982,
с. 55, 57].
Другим проявлением экономического бума в Кении считают бурный рост сельскохозяйственного производства, особенно мелкотоварного. В 1955 г. мелкотоварное производство давало 13,5% стоимости товарной продукции, в 1978 — 56% {404,
с. 37]. В 1957 г. только 9% общей площади, занятой под кофе, приходилось на мелкие фермы, а в 1968 г.— 75% ([491, с. 317— 318]. С 1960 по 1978 г. ежегодный прирост всего сельскохозяйственного производства составлял в среднем 4,8%. Датский • экономист Дж. Карлсен, проводивший социологическое обследование сельского населения нескольких районов страны, писал: «Лишь немногие развивающиеся страны испытали подобный рост сельскохозяйственного производства... Среди развивающихся стран Африки только у Камеруна, Ливии и Берега Слоновой Кости были сравнимые показатели роста за этот период» {404, с. 37]. Исследователи обращают внимание и на то, что кенийская экономика немонокультурна. Не говоря уже о промышленной продукции, страна экспортирует кофе, чай, сизаль, пиретрум, продукцию животноводства.
Все это так. Экономический рост налицо. Займы, иностранные капиталовложения, помощь и в какой-то мере стимулирование местного частного предпринимательства — все эти факторы сыграли свою роль в том, что на протяжении двух десятилетий казалось почти экономическим чудом. Нужно учитывать, однако, и необычайно благоприятную для Кении конъюнктуру мирового рынка. Цены на ее экспортную продукцию в 60—70-е годы почти постоянно росли. Достаточно сказать, что в 1977 г. цена на кофе поднялась на 317%, а чай — на 134% по сравнению с 1975 г. [454, с. 25]—правда, это были самые благоприятные годы.
Без благоприятной рыночной конъюнктуры многие показате¬
327
ли кенийской экономики были бы совершенно иными. Но и при нынешнем положении далеко не все в ней благополучно. Займы и кредиты обходятся стране довольно дорого. Норма обслуживания долга (процент выплат по задолженности к поступлениям от использования полученных средств) постоянно растет. В 1975 г. она составляла 11,5%, в 1982 г.—19% [263, февраль 1983]. Внешний долг Кении в 1975 г. составлял 157 млн. ф.ст. (1152,4 млн. долл.), в 1981 г.— 644 млн. ф. ст. ([86, 1982, с. 228; 263, март 1980].
Кредиты и займы предоставляются порой совсем не на то, что было бы наиболее важно для экономического развития страны. Из американского займа 1983 г. только 53 млн. долл, предназначалось на развитие экономики, а 33' млн. отводилось на военную помощь ,[276, 15.III.1983]. Значительная часть
средств, предоставлявшихся английским правительством, предназначалась для выкупа ферм у белых поселенцев [454, с. 122— 123]. Займы сопровождаются и такими далекими от развития условиями, как, например, предоставление военно-морским силам США базы в Момбасе, использование ОША и Великобританией территории Кении для военных учений и т. д. {276, 15.III.1983].
Одним из главных результатов протекционизма по отношению к иностранным инвесторам явилась утечка прибылей и валюты. Обследование, проведенное Международной организацией труда, показало, что даже при тех благоприятных условиях, которые создаются в Кении для вывоза прибылей, транснациональные корпорации на 20—30% завышают показатели по импорту сырья, деталей и оборудования и занижают показатели экспорта. Это только один из многих способов скрыть истинные размеры полученной прибыли [629, с. 221—222]. Вот другой. Дочернее предприятие, как, например, «Хилтон отель», закупает все оборудование и обстановку, вплоть до кухонной посуды, которую вполне можно было заказать в стране, у предприятий родительской цепи. Прибыли вывозятся в виде выплат по этим закупкам :[ 187, с. 49]. Английский исследователь отмечает: «Дочерние предприятия стали... мощным инструментом выкачивания прибылей, большая часть которых уходит из Кении, а небольшая доля достается африканским партнерам и союзникам внутри страны» |[501, с. 187]. Сложное финансовое положение страны отчасти объясняется и неупорядоченной экспортно-импортной политикой. Так, импорт дефицитных болтов и гаек запрещен — правительство объясняет, что это приведет к оттоку валюты,— зато ограничений на ввоз дорогостоящих импортных автомашин нет [187, с. 64].
Результат этой политики налицо: импорт страны почти вдвое превышает экспорт; запасы иностранной валюты уменьшились в 1982 г. настолько, что их не хватило бы даже для оплаты месячного импорта [274, 13.Х.1982]; дефицит платежного баланса составлял в 1982 г. 364 млн. долл. [261, т. 28, № 6 (1983), с. 13].
328
Но даже если отвлечься от количественной стороны дела, характер экономического роста тоже далеко не всегда отвечает потребностям страны и особенно интересам «вананчи». Так, производство экспортных культур растет, а продовольствие ( 'грана вынуждена закупать за границей. Кения закупает даже кукурузу — одну из своих основных продовольственных культур. В 1980 г. был заключен договор с США о закупках продовольствия на 30 млн. долл. Кроме Америки эти закупки производятся в Южной Африке, Австралии и других странах ,[187, с. 65].
Промышленные предприятия транснациональных корпораций и зарубежных фирм обычно производят лишь сборку готовых узлов — так называемая промышленность «последнего штриха», пли местный эквивалент фирменной продукции, обычно значительно более низкого качества. И то и другое позволяет иностранной фирме избежать уплаты налога на ввоз готовой продукции у[454, с. 68—70, 71—76]. Текстильная фирма «Риватекс», о которой уже шла речь, пользуется разнообразными привилегиями, но правительство, предоставившее их, вынуждено производить многие свои закупки за рубежом. Так, в 1977 г. министерство здравоохранения импортировало униформы для медсестер на скромную сумму 3 млн. шилл., так как продукция «Риватекс» рвалась и теряла вид почти мгновенно. Файрстонов- ские шины лопались на дорогах и стали причиной многочисленных аварий {187, с. 50].
Мало дает такая «индустриализация» и рабочим. Несмотря па то что иностранные фирмы чаще всего налаживают в стране трудоемкое производство, высокий технический уровень их предприятий не позволяет все же сколько-либо существенно увеличить занятость. К концу 1980 г. вся промышленность давала только 14% рабочих мест современного сектора, или 3% их общего числа [187, с. 52]. Английский экономист, сравнивший но результатам полевых исследований деятельность транснациональных корпораций и некоторых отраслей местной промышленности (мыловаренной, обувной и др.), писал: «Не романтизируя мелкую промышленность Кении, по этим примерам можно судить, что в стране существует широкая база для развития местной промышленности, способной обеспечить рост производства более простых, но основных товаров». Местная промышленность, считает исследователь, могла бы дать «экономический рост», «более справедливое распределение» его результатов и даже увеличение занятости [501, с. 188—189].
Особенности социальной структуры независимой Кении
Сколь бы ни очевидна была неадекватность экономического курса, избранного правительством страны, его социальные по¬
329
следствия все же наиболее ярко характеризуют его сущность. Официальная кенийская, как и вся зарубежная, статистика делит население страны на «работающих по найму», «фермеров» и предпринимателей — о последних, как таковых, в статистических отчетах не упоминается, но есть данные о числе и размере предприятий и фирм, а также о гражданстве, а иногда и о расовой принадлежности их владельцев. Эти расплывчатые категории объединяют людей, находящихся на совершенно разных ступеньках социальной лестницы.
В начале 70-х годов число работающих по найму составляло около 720 тыс. человек, в 1981 г.—больше 1 млн. {85, 1982, с. 39; 86, 1982, с. 237]. Работающих по найму (рабочих и особенно служащих) часто называют одной из наиболее привилегированных категорий кенийского общества. В отчете комиссии Международной организации труда (1969—1970) говорилось: «...оклад машинистки-стенографистки... в 8—12 раз превышает средний доход 80% сельских жителей» \[ 100, с. 254]. «В Кении работающие по найму... являются привилегированным меньшинством самодеятельного населения»,— утверждала комиссия Международного банка реконструкции и развития {109, с. 100].
Статистика действительно создает подобное впечатление. В 1963 г. меньше 200 шилл. в месяц зарабатывали 63% работающих по найму, в 1969 г.— 25%. Оклад от 600 до 1 тыс. шилл. в месяц (т. е. от 360 до 600 ф. ст. в год) в 1963 г. получали только около 5,5 тыс. работающих, в 1969 г.— 23 тыс. человек [491, с. 394]. Оклад в 200 ф. ст. в год в середине 70-х годов считался «рубежом» бедности. «Лица, имеющие доход от 200 до 600 ф. ст.,— утверждалось в отчете Международной организации труда,— могут быть названы группой со средним доходом. Эта группа включает значительную часть работающих по найму в официальном несельскохозяйственном секторе» [100, с. 75]. Если учесть, что к началу 70-х годов только 13% се- мей Кении имели доход выше 200 ф. ст. [454, с. 194], может показаться, что действительно с этого оклада, т. е. с тех, кто имеет постоянную работу, рабочих и служащих, начиналась зажиточная страта кенийского общества.
Положение мало изменилось и к началу 80-х годов. Официальный минимум заработной платы в 1982 г. составлял для взрослого рабочего от 315 к. шилл. в месяц (189 к. ф. в год) в сельской местности до 418 к. шилл. в месяц (250 к. ф. в год) в большинстве городских районов [86, 1982, с. 272]. Даже но официальной статистике, средняя месячная заработная плата сельскохозяйственного рабочего в частном секторе составляла в 1981 г. 237 к. ф. в год [85, 1982, с. 46]. На эту категорию приходилось около трети всех работающих по найму в част ном секторе (подсчитано по [85, 1982, с. 39]). Этот минимум получала лишь незначительная часть работающих по найму.
В действительности, однако, определить рубеж между бед ностью и зажиточностью не так просто. Прежде всего, социо
330
логические обследования конца 60-х годов «открыли» так напиваемый неофициальный сектор работы по найму. Они выявили, что до этого времени статистика не учитывала некоторые категории работающих и что число тех, кто остался за пределами ее внимания, очень велико. Эти категории включают: работу по найму и занятия в городах, не включенные в официальные статистические списки; работу по найму и занятия, не связанные с сельским хозяйством в сельской местности и не включенные в официальные списки; наемный труд на мелких фермах и в районах расселения африканцев на Нагорье [491, с. 397].
В 1969 г. число официально зарегистрированных работающих по найму составляло около 627 тыс. человек, неофициальный сектор насчитывал примерно 731 тыс. [491, с. 399]. В 1981 г. в официальном секторе работало по найму 1024,3 млн. человек, в неофициальном городском —157 тыс. Кроме того, 02 тыс. человек обеспечивали себе существование различными формами самонайма или бесплатного наемного труда |[85, 1982, с. 39]. По сельскому неофициальному сектору данных нет, так как он с трудом поддается учету. Однако можно предполагать, что численность его с 1969 г. возросла.
Неофициальный сектор — это рабочие мелких лавчонок, ремонтных мастерских, почти нищенствующих ферм — самые низкооплачиваемые работники страны. В 1969 г. рабочий на мелкой ферме получал в среднем 63 к. шилл. в месяц (32 к. ф. и год), рабочий неофициального сектора в городах — 66 шилл. в месяц (39 ф. в год), в сельской местности на несельскохозяйственной работе — 75 шилл. в месяц. (45 ф. в год) ([491, с. 403]. Едва ли 100 тыс. из 731 тыс. работников неофициального сектора в 1969 г. получали 200 шилл. и более в месяц (120 ф. в год) [491, с. 405]. Уже одно только это свидетельствует, что всех работающих по найму или даже только тех, кто работает постоянно, причислить к зажиточной прослойке нельзя.
Более того, многие исследователи подвергают сомнению сам «рубеж бедности» — 200 ф. в год, если у семьи нет других доходов. Обследование двух районов Найроби — зажиточного и бедного, проведенное в 1966—1970 гг., подтверждает их точку зрения. Средняя заработная плата жителей зажиточного Ка- риокора составляла 800—1200 шилл. в месяц (480—720 ф. в год), бедного Шаури-Мойо — 200—300 шилл. (120—150 ф. в год) [605, с. 36]. У жителей Кариокора — четырехкомнатные квартиры с кухней и ванной, водопроводом и электричеством. У трети из них — автомашины [605, с. 10, 33, 154]. Эти условия очень хороши по сравнению с однокомнатными и почти без удобств клетушками Шаури-Мойо. Но их невозможно, конечно, и сравнивать с роскошными виллами и особняками в районе Вудли, где живет новая африканская элита i[605, с. 10, 28].
Социологическое обследование 1970 г. показало, что только
331
заработная плата не ниже 900 шилл. в месяц (540 ф. в год) на среднюю семью позволяет вкладывать небольшую часть средств во что бы то ни было, кроме жилья, и только заработная плата выше 1300 шилл. (780 ф. в год) дает возможность откладывать что-то на черный день {491, с. 424]. Видимо, не так уж далек от истины американский исследователь А. Хейзлвуд, утверждавший, что семья, чей доход составляет даже 1 тыс. ф.— если это единственный доход,— вовсе не ведет роскошный образ жизни, не говоря уже о машинистках и рабочих, получающих 200—600 ф., хотя сумма эта и превышает в десятки раз доходы крестьян и низших категорий работающих по найму [454, с. 193—194]. * ‘
Не так просто обстоит дело и с крестьянством. Считается, что около 85% кенийцев до сих пор живут в основном за счет сельского хозяйства. С 1963 г. число сельских жителей возросло вдвое [263, декабрь 1983]. Статистика, как и зарубежные исследователи, после провозглашения независимости начавшие величать всех производителей сельскохозяйственной продукции «фермерами», делит их хозяйства на «крупные» и «мелкие». Вопрос о том, какие хозяйства относятся к каждой из этих категорий, чрезвычайно запутан. Исходя из разных критериев, экономисты считают рубежом между ними совершенно различные цифры — от 12 до 20 га (см., например, ,[356, с. 95—96; 454, с. 32]). Официальная же статистика до сих пор распределяет фермы по географическому признаку: на территории бывших резерватов — мелкие, в бывших европейских районах — крупные, хотя на деле около 40 тыс. ферм в африканских районах можно отнести к крупным по любой классификации, и, наоборот, на Нагорье многие фермы, купленные африканцами, далеко не все классификации позволяют считать «крупными». Но как бы то ни было, все исследователи вынуждены в конечном итоге опираться в основном на данные именно этой официальной статистики при всем ее несовершенстве.
В 1981 г. в стране была 3771 крупная ферма. Их размеры— от 19 га до 20 тыс. га и более |[86, 1982, с. ЮЗ]. Данные о том, кому они принадлежат и сколькими фермами владеет одна семья, официальная статистика не публикует, хотя они безусловно есть. Часть из них является собственностью международных компаний и транснациональных корпораций, часть занимают кооперативы, но большинство является собственностью местной европейской и африканской элиты.
«Основной сферой расслоения крестьянства», как справедливо утверждает С. Ф. Кулик, являются мелкие фермы |[356, с. 97]. Основываясь на данных середины — конца 60-х годов, советские экономисты провели подробный анализ параметров и особенностей этого процесса в Кении [346, с. 356]. Исходя из ленинского положения о том, что «земля есть, несомненно, главное средство производства в сельском хозяйстве; по количеству земли всего вернее можно судить поэтому о размерах
332
хозяйства, а следовательно, и о типе его, т. е. например, о том, идет ли речь о мелком, среднем, крупном, капиталистическом пли не употребляющем наемного труда хозяйстве» [14, с. 327], О. Ф. Кулик разделил мелкие фермы на следующие категории: карликовые бедняцкие — менее 0,5 га; бедняцкие — 0,5—0,99 га; молубедняцкие—1 —1,99; середняцкие — 2—4,9; крепкие середняцкие— 5—9,9; кулацкие—10—20; капиталистические — 20— 100; крупные капиталистические — более 100 га. «Карликовых» хозяйств в целом по стране насчитывалось 27,2%; «бедняцких»— 51,8; «кулацких» — 7% ,[356, с. 97, 99].
Ю. М. Иванов, характеризуя процесс социального расслоения мелких ферм, исходил из двух критериев: размера участков и доходов их владельцев. Для Центральной провинции, по которой имелось больше всего сведений, он вывел следующую классификацию: «деревенская беднота» (размер доходов до 1500 шилл. в год)—62,4% хозяйств, 37,9% земли; «средние слои» (доходы от 1500 до 2500 шилл. в год) — 22,4% хозяйств, 22,2% земли; «зажиточное крестьянство» (доходы — более 2500 шилл.) —15,2% хозяйств, 38,1% земли ,[346, с. 130—131].
Со времени этих исследований появились новые данные и сведения. Прежде всего, изучение земельных ресурсов страны показало их крайнюю качественную неоднородность. Выяснилось, например, что в округе Кисии (провинция Ньянза) для ведения натурального хозяйства средней семьей достаточно 1 га земли, в округе Тейта (Прибрежная провинция) на эти же цели нужно 8 га, в округе Квале той же провинции — 7,5 га, а в одной из локаций этого округа — 21,4 га {404, с. 35]. Подобная неравномерность почвенно-климатических условий встречается в Кении повсюду и затрудняет классификацию хозяйств исключительно по признаку количества земельных угодий. Механическое применение ленинского положения (вплоть до размеров участков, определяющих социальное положение семьи) в кенийских условиях вряд ли целесообразно и потому, что там во многих случаях еще сохранились большие семьи, и размеры участков зачастую отражали это положение [385, с. 51].
Наконец, общую картину изменили новые показатели, не учитывавшиеся, да и не игравшие важной роли или не существовавшие раньше. Это прежде всего доходы от работы по найму в неофициальном секторе. К середине 70-х годов они составляли в среднем 43% доходов мелких ферм /[404, с. 99]. Значительное влияние на характер и ход процесса социальной дифференциации оказал и резкий рост доходов мелких ферм, связанный как с увеличением площадей под товарными и экпортными культурами, так и с благоприятной конъюнктурой мирового рынка. Их доля в продаже товарной продукции постоянно увеличивается за счет крупных ферм. В 1981 г. она составляла 54,8% |[85, 1982, с. 103]. С 1954 по 1981 г. стоимость товарной продукции мелких ферм выросла с 5,2 млн. к. ф. до 216 млн. к. ф., а их прибыли за первое десятилетие независи¬
мости — примерно на 600% {86, 1982, с. 99; 404, с. 11; 491, с. 324]. С 1975 по 1978 г. доходы мелких ферм от товарных культур выросли на 112% [385, с. 54].
Перепись сельского населения 1974/1975 г., а также социальное обследование, проведенное группой скандинавских и кенийских экономистов в конце 70-х годов, показали, что распределение земельных угодий не совпадает с уровнем доходов и особенно потребления [385, с. 50—52]. В целом доходы распределялись наиболее равномерно в районах с бедными почвами и низким экономическим потенциалом. Но неожиданно, в противовес прежним выводам, выявилась также относительная социальная однородность наиболее плодородных районов. В Центральной провинции, например, довольно высокий среднегодовой доход (4241 к. шилл.) распределялся более равномерно, чем в Западной, со среднегодовым доходом 2494 к. шилл. [404, с. 88]. Эти явления были связаны с ростом доходов от экспортных культур и впервые учтенным доходом от работы по найму в неофициальном секторе. Некоторые из них носили временный характер, другие постоянный. Они несколько изменили картину социальной дифференциации, но, конечно, не опровергли ее существа.
Наоборот, перепись и полевые исследования показали, что в процесс социального расслоения к середине 70-х годов были втянуты все провинции страны, и более отчетливо выявили тенденцию к размыванию группы средних хозяйств [404, с. 87]. По данным переписи, беднейшие хозяйства страны — около 274 тыс. хозяйств с доходом до 1 тыс. к. шилл. (из них примерно у 99 тыс. хозяйств расходы превышают доход) и около 332 тыс. хозяйств с доходом 1—2 тыс. к. шилл. в год — почти не имели даже простейших технических приспособлений и не нанимали рабочих. Уровень потребления в них был значительно ниже среднего, хотя размеры семей — не меньше, чем в других группах. Немногим лучше было положение и 205 тыс. хозяйств с доходом 2—3 тыс. к. шилл. Эти три группы беднейших хозяйств, в которых расходы превышали доход, составляли 55% общего числа мелких ферм (1483 тыс.) ([404, с. 77—78, 88—90].
3 тыс. шилл. (150 ф.) в год были, таким образом, гранью нищеты в сельской местности. Провести грань между бедностью и зажиточностью гораздо труднее. Семьи с более высоким уровнем доходов (3—4 тыс. и 4—6 тыс. шилл.) тоже вели далеко не безбедное существование. В первой из этих групп (174 тыс. хозяйств) доход превышал расходы всего на 93 шилл., во второй—на 923' шилл. (46 ф.). Только в высшей группе хозяйств с неопределенным и недифференцированным уровнем доходов (свыше 8 тыс. шилл.), составлявших Г2% общего числа хозяйств, доход превышал расход на ощутимую сумму — 5812 шилл. (около 290 ф.), а накопления составляли 47% общего дохода [404, с. 77—78].
Американский экономист подсчитал, что если верить дан¬
334
ным отчета Международной организации труда за 1969— 1970 гг., то получилось бы, что большинство трудоспособных кенийцев умудрялись существовать на 3 цента в день, обеспечивая при этом один из самых высоких уровней рождаемости в мире [454, с. 195]. Перепись сельского населения середины 70-х годов и полевые исследования конца 70-х годов отражают положение низших слоев кенийского общества несколько более точно. Они выявили новые количественные параметры социальных характеристик, уточнили существовавшие раньше. Однако вся зарубежная статистика страдает существенным недостатком: она концентрирует внимание на вполне реальных социальных различиях между беднейшими и благополучными семьями, зачастую даже преувеличивая их глубину, но затушевывает пропасть, отделяющую не только бедноту, но и благополучные и даже зажиточные семьи от верхушки кенийской элиты, скрывая размеры ее доходов широкими рамками высших социальных групп: «свыше 8 тыс. шилл.», «больше 1 тыс. ф.» и т. д. Такие формулировки дают возможность подвести базу под следующие выводы, имеющие уже не только социологическое, но и политическое звучание: «Новая элита... включает... клерков, квалифицированных рабочих и мелких фермеров... все они выиграли в результате политики, проводившейся после провозглашения независимости» [454, с. 195—197].
В действительности новая элита, выигравшая от этой политики, включает совсем других людей. Что же она собой представляет? Ответить на этот вопрос нелегко, поскольку элита — статистически наименее исследованный элемент кенийского общества. Прежде всего, в кенийских условиях понятие «элита» не равнозначно понятиям «предприниматель» или «торговец». Учителя, вложившего часть заработной платы в покупку на паях «матату» (такси-пикап), или владельца трехакрового участка, открывшего лавочку в своей деревне, невозможно поставить рядом с владельцем десятка предприятий и фирм. Неоднородность торгово-предпринимательской прослойки проявляется не только в разномасштабности уровней доходов. Создание в 1969 г. Торговой палаты отразило другую линию размежевания: судя по ее действиям, она объединяла представителей не «мелких торговцев», как принято считать j[629, с. 188], а торговые круги, не имеющие прямого доступа к рычагам управления экономикой, и представляла собой нечто вроде группы давления на правительство.
Многие исследователи подчеркивают эту неоднородность, некоторые предлагают различать в предпринимательской прослойке «мелкую буржуазию» и «развивающуюся национальную буржуазию с компрадорскими тенденциями» (см., например, [187, с. 43—45]). Отвлекаясь пока от термина «буржуазия», можно подтвердить необходимость подобных разграничений, однако количественные критерии для них еще не выработаны. При нынешнем состоянии статистики и исследований можно пы¬
335
таться характеризовать лишь основные тенденции и направления развития новой элиты страны.
За два десятилетия независимости в результате всемерной поддержки государства и в большой степени иностранного капитала прослойка богатой элиты разрослась и окрепла. Важнейшим условием и характерной чертой формирования и существования этой элиты стали ее связи с государством, точнее, генетическое единство и структурная нерасчленимость высших слоев торгово-предпринимательской прослойки и государственного аппарата страны. Если нынешний кенийский миллионер начинал свою карьеру с мелкого бизнеса, он должен был прийти в политику и занять важный государственный пост или связать себя родственными или дружескими узами с человеком, занимающим такой пост, иначе он так и остался бы на уровне мелкого лавочника. Если он начинал с политики и получал доступ к рычагам управления, он должен был обратить свои возможности в деньги — иначе он не смог бы удержаться на своем посту.
Кенийская элита и сама понимает неразрывность этой связи. Один из ее наиболее ярких представителей, Н. Каруме, говорил: «Я — прежде всего бизнесмен, и я верю, что политику в развивающейся стране следует считать делом призвания. В сущности, наши наиболее удачливые политики — это те, у кого есть корни в фермерстве, бизнесе или профессиональных занятиях» [192, с. 60]. Правительство почти официально санкционировало практику использования государственных постов для личного обогащения и защиты частных деловых интересов, приняв в 1971 г. рекомендации комиссии по гражданской службе [450, с. 208].
Одним из примеров «сращивания» бизнеса и государственного аппарата была деятельность Ассоциации гикуйю, меру и эмбу. Созданное ею в конце 1973 г. акционеров общество — «ГЕМА холдингз корпорейшн» уже весной 1975 г. скупило 75% акций крупной американской строительной корпорации. К осени 1977 г. его капиталы оценивались в 30 млн. к. шилл., собственность включала 75 тыс. акров земли, около 10 тыс. голов скота, несколько предприятий и фирм, 15-этажное здание в Найроби стоимостью 30—40 млн. к. шилл. Пайщики получили около 2 тыс. земельных участков, руководство (кроме процентов) — директорские посты в десятках фирм и компаний постране [192, с. 56—57], а также новые средства и возможности для политического нажима. Столь блестящие результаты были бы невозможны без использования официальных и неофициальных правительственных каналов.
Даже ближайшие родственники крупнейших политических фигур стремились закрепить собственное положение не только в бизнесе, но и в государственном аппарате. Старшая дочь Ке- ниаты, Маргарет, начала свой бизнес в 1962 г., вложив в Восточноафриканскую пивоваренную компанию деньги, собран*
336
мые для ее отца индийской общиной. В 70-е годы Маргарет занимала пост мэра Найроби и к началу 80-х годов стала акционером нескольких крупных компаний и владелицей двух ферм [450, с. 204].
Связь бизнеса с государственным аппаратом и наоборот получила в Кении столь широкое распространение, что начала даже подвергаться открытой критике. «Многие кенийские служащие,— писала кенийская „Нэйшн“,—являются тем, что обычно называют телефонными бизнесменами, и управляют различными деловыми предприятиями, начиная от ферм, магазинов и боен и кончая матату, продовольственными киосками и ресторанами, из правительственных офисов в рабочее время» [286, 27.1.1978].
В 1975 г. Торговая палата выступила с законопроектом, в котором осуждалась «существующая практика глубокой вовлеченности всех чиновников страны в частную деловую активность» |[629, с. 191]. В начале 1978 г. эта проблема (вместе с проблемой коррупции) обсуждалась специальной конференцией высших чиновников страны. Участники постановили: «Чтобы избежать использования своего положения в личных целях», представители высшей администрации должны... «зарегистрировать свои частные предприятия» {286, 27.1.1978].
60-е — начало 70-х годов были для элиты периодом своеобразного накопления капитала, главными факторами которого стали административные посты или связи с властями предержащими, а также в немалой степени коррупция и прямое воровство. В середине 70-х годов, например, дважды создавались комиссии по расследованию случаев передачи общественной земли в частные руки, но оба раза их деятельность прекращалась. В 1978 г., после смерти Кениаты, постоянный секретарь в канцелярии президента заявил о начале расследования использования государственных средств (около 100 млн. шилл.) высшей администрацией страны для покупки частных ферм. Дело было прекращено после обвинения нескольких незначительных фигур [187, с. 108].
В парламенте постоянно разбираются обвинения в коррупции. Так, весной 1982 г. один из парламентариев обвинил в получении крупных взяток генерального прокурора Кении Дж. Камере (3 млн. шилл.) и министра труда Т. Мбати (1 млн. шилл.) Эти суммы были получены ими якобы от банка, в котором они проводили расследование незаконных операций с иностранной валютой [294, 28.V.1982],
До сих пор не утихают страсти вокруг незаконных земельных сделок, совершавшихся руководством муниципалитета Найроби, особенно при мэре Н. Кахаре. Землю, предназначавшуюся под стадионы, пришкольные участки и для прочих общественных нужд, незаконно приобрели сам Кахара и его ближайшие родственники, другие члены руководства муниципалитета, видные бизнесмены, служащие, члены парламента и ка¬
22 Зак. 654
337
бинета. Участки, полученные ими почти даром, обычно тут же перепродавались по очень высокой цене. Уплатив деньги, новые владельцы участков обнаруживали, что не могут зарегистрировать их в собственность, так как при покупке у муниципалитета формальности не соблюдались {294, 13.V.1983].
Особое возмущение кенийской общественности вызвали разоблачения воровства и злоупотреблений в высших кругах министерства здравоохранения. Среди злоупотреблений — повторная оплата одних и тех же зарубежных поставок (деньги шли на счета некоторых высших чиновников министерства в стра- нах-поставщиках) и закупка медикаментов по заведомо завышенным ценам за взятки. На двойной оплате казна потеряла в 1979—1981 гг. 107 070 долл, и 1 037 300 к. шилл.; на поставках по завышенным ценам одного только пенициллина — 1 305 000 к. шилл. {294, 22.VII.1983].
В 1978 г. двое парламентариев были заключены в тюрьму за контрабанду кофе; некоторые члены «семьи» участвовали в еще более доходной контрабанде слоновой кости. Более мелкие нарушения законности встречались постоянно и повсеместно. Офицер полиции, отправляющий наряды полицейских на свою ферму для выполнения сельскохозяйственных работ, налеты полицейских на приглянувшиеся им бары, их участие в контрабанде считались почти обыденным делом Г192, с. 140, 155].
С середины 70-х годов новые «буржуа» двинулись в производство. В некоторых отраслях промышленности, таких, например, как мыловаренная и обувная, местные кенийские предприниматели проявляют большую активность [501, с. 187—188]. Уже в начале 70-х годов африканские предприниматели начали участвовать в производстве чая, в их руки перешло производство керамики. В 1975 г. они перекупили американский концерн стройматериалов |[629, с. 209]. В том же году африканская фирма «Маваму холдингз», один из совладельцев которой был У. Гесага, перекупила 60% акций одной из крупнейших иностранных фирм — «Маккензи Далгети». Ее капитал в 1975 г. составлял более 2700 тыс. ф. ст. {629, с. 203]. П. Кениата, У. Гесага и Н. Муигаи скупили 60% акций одного из крупнейших торговых концернов Восточной Африки — «Инчкейп» {450, с. 204]. В 1972 г. была зарегистрирована первая полностью африканская компания, получившая лицензию на торговлю и экспорт кофе. Один из создателей компании — М. Кениата [356, с. 113].
Из сказанного могло бы показаться, что местные предприниматели могут даже в какой-то мере потеснить транснациональные и иностранные корпорации. Это, конечно, не так. Иностранный капитал уступает то, что выгодно уступить. Ни о какой конкуренции с ним местного предпринимательства не может быть и речи. Лучший пример тому — созданная в 1972 г. крупнейшими кенийскими бизнесменами обувная компания
338
«Тайгер шуз». Пятеро из ее совладельцев были прежде управляющими транснациональной обувной корпорации «Бата», рабочих тоже набрали оттуда. «Тайгер» выпускает 260 тыс. пар дорогой кожаной обуви в год, «Бата» же поставляет более 8 млн. пар на все вкусы. Ни по сети продажи, ни по рекламе они не сопоставимы. «Тайгер» пыталась добиться запрета на ввоз импортной обуви, но правительство на это не пошло [[187, с. 46—47].
Серьезные столкновения между кенийской элитой и иностранными компаниями были невозможны — ведь поддержка и помощь иностранным капиталом нынешнего режима является главным условием существования этой элиты. Но она учится получать все большую долю пирога, и иногда это приводит к недоразумениям.
Наиболее экономически сильная часть новой элиты, сумевшая максимально использовать поддержку государства для личного обогащения, считает теперь опеку государства мелочной и пытается от нее освободиться. Ее позицию отразил опубликованный в конце 1982 г. отчет комиссии, назначенной правительством для изучения состояния экономики страны. В нем говорилось: «Почти любое деловое решение требует разрешения и одобрения... В некоторых случаях правительство сдерживает деятельность кенийцев во имя интересов своих полугосударст- венных предприятий... Высокие цены на их продукцию поднимают стоимость товаров тех фирм, которые работают непосредственно на потребителя и при иной политике были бы конкурентоспособны на мировом рынке» [274, 14.XII.1982].
Комиссия критиковала правительство за убыточность полу- государственных компаний, раздутые штаты, дефицит платежного баланса — одним словом, за все то, без чего кенийская элита никогда не стала бы тем, что она есть. Рекомендации свелись к советам «кенийцам» проявлять больше инициативы и самостоятельности и меньше надеяться на правительство, а правительству— «создавать новые возможности и эффективные стимулы... для мобилизации частных ресурсов», повысить стоимость социального обслуживания, не создавать новые рабочие места «вопреки соображениям производительности», не вкладывать больше средства в промышленность и торговлю, одним словом, сделать экономику Кении более частнокапиталистической. Явился ли этот документ плодом трезвого расчета или самонадеянности молодой элиты — покажет будущее.
Если попытаться представить типичную карьеру крупного кенийского предпринимателя, то, кажется, нет лучшей фигуры, чем Ндженга Каруме. «Некто» Каруме в начале 50-х годов занимался доставкой леса. Во время восстания May May отсидел год. В конце 50-х годов добился права на продажу трети продукции Восточноафриканских пивоварен в Киамбу, к началу 60-х стал ее единственным продавцом в этом округе. Торговля дала возможность заняться транспортом. После провозглаше-
22*
339
кия независимое™ начал скупать землю. Дальнейший взлет карьеры «некоего» Каруме трудно не связать с тем фактом, что он был личным другом семьи Кениаты. В 1968—1972 гг. он скупил контрольные пакеты акций нескольких крупных предприятий мукомольной, чайной, фармацевтической и строительной промышленности, сам выстроил обувную фабрику — уже упоминавшуюся «Тайгер шуз», в которой ему принадлежит 70% капитала. К 1974 г. он был директором 36 фирм.
В 1971 г. Каруме стал одним из создателей Ассоциации ги- куйю, эмбу и меру, в 1973 г.— председателем и одним из крупнейших акционеров «ГЕМА холдингз корпорэйшн» [450, с. 206; 629, с. 205—206]. После выборов 1974 г. Каруме был назначен в парламент. Он являлся одним из самых активных членов «Семьи» и использовал ГЕМА в поддержку Н. Мунгаи и других лидеров движения за изменение конституции. После смерти Кениаты Каруме пережил несколько тревожных месяцев, особенно в связи с расследованием дел «ГЕМА холдингз корпо- рейшн». Но на выборах 1979 г. выдвинул свою кандидатуру от избирательного округа Киамбаа в Киамбу и, победив своего недавнего соратника и одного из главных противников нового президента, П. М. Коинанге, вошел в парламент уже в качестве избираемого члена. Вскоре он был назначен заместителем министра [192, с. 18; 450, с. 212]. В этой же должности, но в другом министерстве он остался и после выборов 1983 г.
Миллионеров уровня Каруме в стране немного, но за ними тянутся десятки тысяч представителей административно-предпринимательской прослойки. Именно эта прослойка, а вовсе не машинистки и квалифицированные рабочие получает наибольшие выгоды от социально-экономического курса, избранного руководством независимой Кении.
«Харамбее!» — «Потянем вместе!», «Эй, ухнем!» Этот лозунг означал сначала «Потянем вместе и вытянем Кениату из заключения!» Потом, уже в устах самого Кениаты, он стал звучать, как призыв к единству в борьбе за независимость. После провозглашения независимости трактовался как призыв к национальному и классовому единству во имя политической стабильности и того, что руководство страны подразумевало под ее экономическим процветанием. «Харамбее, ньяйоизм, африканский социализм — все толкуют об одном — в Кении не должно быть классовой борьбы, так как кенийцы, верные своему мифическому африканскому наследию, составляют большую единую семью» — так раскрыли смысл официальных доктрин нынешние кенийские оппозиционеры [187, с. 38}.
Несостоятельность этих доктрин очевидна. Классовый характер социально-экономической политики кенийского руководства, направленной, с одной стороны, на всемерную поддержку позиций иностранного капитала, с другой — на создание и упро¬
340
чение местной административно-предпринимательской прослойки, частью которой является и само это руководство, бросается в глаза. Очевидна и социальная неоднородность кенийского общества. Важно, однако, определить характер и особенности его социальной структуры.
Особенности общественной структуры Кении неоднократно привлекали внимание исследователей. Экономисты, как зарубежные, так и советские, писали о сохранении докапиталистических отношений даже в наиболее развитых районах страны, не говоря уже об остальных. «Своеобразие современной африканской деревни, эксплуатируемой капиталом, заключается как раз в том,—писал Ю. М. Иванов,— что, несмотря на глубокую имущественную дифференциацию крестьянства и большую концентрацию доходов у зажиточных крестьян, соединение непосредственных производителей со средствами производства, как правило, осуществляется не в капиталистической, а в феодальной и полуфеодальной форме. В условиях империалистической эксплуатации товаризация африканского сельского хозяйства не могла привести к ликвидации докапиталистических социальных и технических основ аграрного строя. Это способствовало консервации феодальных методов эксплуатации» [346, с. 142—143].
Отношения найма исследователь назвал «неразвитыми» и утверждал, что «применение наемного труда нельзя считать капиталистическим в строгом смысле этого слова, поскольку он не создавал или почти не создавал прибавочной стоимости, а обеспечивал прежде всего создание прибавочного продукта с помощью докапиталистических методов» [346, с. 76]. С. Ф. Кулик также неоднократно упоминал о докапиталистических методах эксплуатации и внеэкономическом принуждении [356, с. 148—163], подчеркивал усиление «различных видов феодальной эксплуатации крестьянства» вопреки политике кенийских властей 1[356, с. 104].
Многие экономисты писали о низкой степени товаризации сельскохозяйственного производства страны. Г. Китчинг подсчитал, что не больше 12% земли, обрабатываемой кенийскими крестьянами, занято под ценными товарными культурами; площадь же обрабатываемой земли составляет только 37% используемой i[491, с. 328—329]. Крупное африканское землевладение, зачастую считающееся синонимом капиталистического хозяйствования, С. Ф. Кулик справедливо назвал «тормозом на пути развития капитализма» [356, с. 101]. Даже в 1981 г. площадь, занятая на крупных фермах под важнейшими товарными культурами, составляла всего около 382 тыс. га, в то время как леса—135 тыс., «временные луга» — 78 тыс., необрабатываемые угодья и пастбища — около 903 тыс., «остальная земля» — 1106 тыс. га [86, 1982, с. 103]. Но даже и рост товарного производства в кенийской деревне, писал С. Ф. Кулик, нельзя однозначно отождествлять с развитием капитализма, поскольку оно носит лишь вспомогательный характер [356, с. 119].
341
Зарубежные исследователи часто подчеркивают глубокую неравномерность уровней социального развития районов, а следовательно, и народов страны. Данные переписи сельского населения 1974/75 г. отчетливо продемонстрировали неравномерность распределения как естественных ресурсов, так и развития инфраструктуры |454, с. 178]. Географически неравномерно распределяется и «товаризованность» сельскохозяйственного производства. Районы, в которых раньше началась консолидация и регистрация земельных участков, раньше начали получать преимущества от выращивания товарных культур. В то же время практически не осталось районов, хотя бы в какой-то мере не затронутых воздействием денежной экономики.
Кенийскому обществу, таким образом, присущи многие черты, характерные для обществ «зависимого капитализма». Советские исследователи отмечали, что «преимущественно доинду- стриальное состояние производительных сил и широкое распространение традиционных форм производственных отношений» в таких обществах «выступает не только как пока еще не успевший исчезнуть остаток доколониального прошлого, не только как проявление докапиталистических экономических структур, но и как продукт законов развития самого мирового капитализма, консервировавшего уже существовавшие либо воссоздавшего заново отсталые общественно-экономические формы в качестве своего аномального проявления» [344, т. 2, с. 35]. Базирующееся на многоукладной экономике, крайне неоднородное по самой своей сути, современное кенийское общество все же является, таким образом, генетически и функционально единым, целостным социальным организмом. Исследования последних лет дали новые тому доказательства.
Прежде всего, они выявили высокую степень и подчеркнули значимость слабой горизонтальной расчлененности кенийского общества по сферам деятельности. Казалось бы, результатом «стабилизации» рабочей силы за прошедшие годы должно было стать появление кадрового пролетариата, разорвавшего свои связи с деревней. Однако процесс его формирования оказался куда более медленным и трудным, чем предрекали исследователи в начале 60-х годов. «Открытие» неофициального сектора показало, что мигранты и сезонники по-прежнему составляют большинство работающих по найму. Но даже и работающие постоянно— «пролетариат только в зародыше» [613, с. 15] — прежде всего из-за сохраняющихся связей с деревней. Опрос рабочих в Найроби в 1963 г. показал, что у 46% из них была земля в деревне. Даже если ее не было, подавляющее большинство (77% опрошенных) собирались в старости вернуться в деревню if613, с. 15, 17].
Положение не изменилось и к концу 60-х годов. Обследование, проведенное английским исследователем в 1966—1970 гг. показало, что у 67% жителей бедного района Найроби — Шау- ри-Мойо дети и жены оставались в деревне; в зажиточном Ка-
342
риокоре — у 21% 1605, с. 35]. Связи с деревней были очень интенсивными в обоих районах. И в Шаури-Мойо и в Кариокоре около 75% опрошенных навещали родственников в деревне и жили с ними, 81% посылали в деревню деньги, 50% получали продукты, у 59% в деревне была земля. «В городе,— пишет исследователь,— предпочитают не жениться и не умирать». В обоих районах было только 3% жителей старше 50 лет и только 16% —старше 40 лет [605, с. 45, 52].
Другая сторона той же медали — несельскохозяйственные доходы крестьян, без которых большая часть крестьянских хозяйств не могла бы существовать. В четырех подлокациях, обследованных скандинавскими и кенийскими учеными в конце 70-х годов, несельскохозяйственные доходы давали от 43,7 до 51,5% всех доходов крестьянских хозяйств [404, с. 174], в целом же по стране этот процент составлял, как уже было сказано, 43% /[404, с. 99]. Даже те, кто, как пишет А. Хейзлвуд, «кажутся „чистыми" фермерами, скорее всего просто достигли последнего звена цепи своих занятий, ушли на пенсию и вернулись к сельскому хозяйству или, возможно, просто поджидают удобного случая снова заняться торговлей, бизнесом или работой по найму» [454, с. 186].
Отношение к земле, связь с деревней во многом определяют и характер деятельности и особенности кенийской элиты. Известный английский исследователь К. Лейс справедливо отмечает, что в Кении даже в 70-х годах «богатые и могущественные горожане не считались в деревне чужой плотью; они по большей части совсем недавно вышли из деревни, и хоти связь между ними и беднейшими крестьянами становилась все более искусственной и мистифицируемой, она была все же очень активной и личной» [508, с. 190].
Земля, земельная собственность — не единственная, но наиболее ценимая элитой форма собственности. Покупка все новых участков, ферм, ранчо, акций компаний, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, сопровождала каждую ступеньку карьеры. Сейчас в Кении вряд ли найдется хоть один представитель административно-предпринимательской верхушки управленческого аппарата любого уровня, не являющийся одновременно и «фермером», по большей части «телефонным» приезжающим на свою ферму лишь на уик-энд, и тем не менее получающим с нее доходы.
Сходную тенденцию можно проследить и в других африканских странах, однако в Кении она проявилась наиболее ярко, ло-видимому, из-за земельного голода в колониальные годы, а также благодаря наличию резервного земельного фонда и политике руководства страны.
Незамкнутость, или нерасчлененность, социальных групп горизонтальной структуры и единство ее внутренних связей буквально на семейном уровне неизбежно сказываются и на характере вертикальной структуры кенийского общества. Еще не так
343
давно вертикальная структура казалась хорошо изученной не только по качественным, но и по количественным параметрам. В 1975 г. К. Лейс, основываясь на данных отчета Международной организации труда, разделил кенийское общество на не сколько групп. Рабочие, например, были разделены на восемь групп в зависимости от размеров заработной платы. Высшая категория — заработная плата более 300 ф. ст. в год (15 тыс. человек); низшая — меньше 60 ф. ст. в год (475 тыс. человек). Дворы сельских жителей подразделены на четыре категории: «безземельные», что примерно соответствует низшей категории рабочих (меньше 60 ф. ст. в год),— 300 тыс.; «бедные» (620 тыс.); «средние» (250 тыс.) и «богатые», что примерно соответствует высшей категории рабочих (больше 300 ф. ст. в год),— 225 тыс. дворов [508, с. 172].
С. Ф. Кулик в 1978 г. провел еще более точную градацию. Так, «сельскую буржуазию» он разделил на «крупные капиталистические хозяйства», «капиталистические хозяйства» «кулачество», «середняков», «крепких середняков» и «мелких середняков»; наемных рабочих — на «сельскохозяйственный полупро- летариат и пролетариат», «городской пролетариат» и «пролетариат крупного производства» >[356, с. 150—154] и т. д. Для каждой группы установлены доходы и численность, а для групп сельского населения — размеры земельных участков.
Однако данные о неоднородности экономического потенциала районов, а также источников доходов каждой семьи значительно усложняют эту казавшуюся предельно четкой картину. Связи города и деревни на всех уровнях доходов оказались настолько тесными, что во многих случаях практически невозможно определить, городским или сельским является то или иное хозяйство. Тем более — затруднительно подсчитать число, размеры и доходы хозяйств в каждой категории. Кем был, например, до своей отставки главнокомандующий кенийской армией Дж. Ндо- ло, один из участников заговора 1971 г.? Служащим? Но у него была ферма площадью в 9416 акров в Мачакосе, на которой он поселился, выйдя в отставку. Кроме того, он являлся еще и собственником крупного магазина, а следовательно, предпринимателем у[508, с. 243].
В кенийском обществе зависимого капитализма не всегда легко отличить даже эксплуататора от эксплуатируемого. Вряд ли можно однозначно классифицировать, например, «пролетария крупного производства», жестоко эксплуатируемого иностранным капиталом, но имеющего ферму, для работы на которой его жена нанимает 5—6 батраков [491, с. 449]. К этому добавляется крайняя неустойчивость, высокая социальная мобильность средних слоев общества, благополучие которых зачастую покоится на шатком основании благоприятной конъюнктуры рыночных цен или удачном устройстве на работу одного из сыновей.
Сказанное вовсе не означает, что социальная дифференциа¬
344
ция в кенийском обществе менее глубока, чем это считалось прежде. Наоборот, можно с уверенностью сказать, что те, например, кого С. Ф. Кулик отнес к категории «крупных капиталистов» или «латифундистов» в сельском хозяйстве — люди, имеющие сельскохозяйственный доход свыше 1 тыс. шилл. в месяц (т. е. свыше 600 ф. в год), получают далеко не один этот доход, а чаще всего даже и не два и что их доходы могут в несколько раз превышать эту скромную цифру. Уровень же жизни низших категорий населения, нищету которых просто невозможно измерить в долларах, фунтах или акрах на душу населения, не повысит жалкая добавка от заработка сезонника.
Кенийское общество, таким образом,—глубоко имущественно дифференцированное и социально расчлененное, но его социальная структура мало напоминает структуру капиталистического общества даже в стадии становления. Количественные критерии для характеристики этой дифференциации пока не выработаны. Существующие относятся скорее к развитым капиталистическим обществам и могут лишь затруднить анализ общества зависимого капитализма. Качественные характеристики, конечно, не точны, но отражают существо процессов социальной дифференциации полнее. Вот черты, характерные для маленькой группы зажиточных хозяйств: «они получают высокие доходы от сельского хозяйства, от несельскохозяйственного бизнеса и работы на гражданской службе, прикупают землю, выращивают более доходные культуры, используют наемную рабочию силу и вкладывают свои доходы в посадки более урожайных культур, покупку более продуктивного молочного скота, а также и в несельскохозяйственную деятельность (мелкие магазины, отели и рестораны на сельских рынках, транспорт, например матату и грузовики, перевозящие людей и сельскохозяйственную продукцию, мелкие сельские предприятия)» [404, с. 191].
Для бедных хозяйств характерны совсем иные черты. Они «вынуждены продавать землю... не могут позволить себе купить семена или рассаду более доходных товарных культур... не могут позволить себе дополнить труд семьи наемной рабочей силой... Напротив, они вынуждены сами работать на других... чтобы добыть денег для покупки продовольствия... и оплаты обучения детей. Поэтому их сельскохозяйственная продукция невелика, а урожаи недостаточны для того, чтобы обеспечить продовольствием семью дольше чем на несколько месяцев. Поэтому они снова должны добывать деньги, чтобы покупать продукты, и вынуждены, таким образом, искать работу, но, поскольку заработная плата низка, им, возможно, придется, кроме того, снова продавать скот и землю, чтобы выжить» |[404, с. 191—192].
Социальная структура обществ зависимого капитализма неодинакова в разных странах, но для всех этих обществ без исключения характерно «формирование классов или страт... тес¬
345
но связанных с иностранным капиталом и зависимых от него. Эти классы или страты являются настоящей базой режима — наследника колониальной администрации» /[508, с. 26]. Эта черта, как справедливо отметил К. Лейс, является «абсолютно центральной для неоколониализма». В Кении, одной из опорных точек неоколониализма на Африканском континенте, стратой, наиболее тесно связанной с неоколониализмом, является высшая элита — административно-предпринимательская верхушка, сформировавшаяся и существующая благодаря пронеоколони- альной политике режима и в большой мере паразитирующая за счет прибылей, извлекаемых из страны империалистическими государствами. Однако не только эта верхушка — все социальные слои и группы общества, вся социальная структура формируется под многогранным неоколониальным воздействием и, развиваясь, в свою очередь, заставляет неоколониализм трансформироваться, изменять свои методы.
Одна из наименее изученных и, возможно, в исторической перспективе, наиболее эффективных форм воздействия неоколониализма — формирование в обществах зависимого капитализма неоколониальной ментальности, способствующей увековечению существующих порядков. Некоторые из ее аспектов отметили в своей книге нынешние кенийские оппозиционеры. Об элите своей страны они писали: «Безразличные к тем буржуазным ценностям, которые делали европейское общество таким динамичным в XIX в.— уважению к бережливости, упорному труду, пунктуальности,— наши лидеры оперируют с докапиталистической ментальностью. Они представляют тип потребления напоказ, характерного для феодальной правящей касты, в которой патрон должен производить впечатление на зависимых клиентов пустой помпой и признаками роскоши, богатства и влияния... Вечные паразиты, они просто недостойны называться истинными буржуа» [187, с. 79—80].
На другие аспекты обратил внимание тринидадский писатель Ш. Найпол, посетивший Кению в 70-е годы и описавший свои впечатления. Одно из самых ярких — викторианский дом на ферме близ Накуру, принадлежащей богатой африканке. Одежда хозяев и прислуги, обстановка, яства, напитки, порядки, заведенные в доме, вплоть до предобеденной молитвы, бьющая в глаза роскошь и презрение к «ним» — беднякам-сосе- дям — все словно вывезено из английских салонов викторианской эпохи [224, с. 109—118]. Эти манеры, ценности и вкусы закрепляются в новых поколениях кенийской элиты. Недаром таким успехом и популярностью пользуются в стране частные школы, в которых преподают только европейцы и образование построено все по тому же чисто английскому образцу ([224, с. 60, 115].
Уклад жизни и общественный строй, созданный в Кении неоколониальной элитой, чрезвычайно хрупки. Их основание — благоприятная экономическая конъюнктура — весьма неустой¬
346
чиво. С конца 70-х годов цены на чай упали на 30%, кофе — на 37% /[276, 1.ХП.1982]. Высоки цены на нефть. В 1973 г. на ее импорт приходился 1% доходов от экспорта, в 1981 г.— 36% [274, 13.VIII.1982]. Привлекательность Кении для иностранных капиталов уменьшается по мере утраты с трудом созданного ею облика островка стабильности в Африке. Результаты не замедлили сказаться. По плану развития 1979—1983 гг. уровень экономического роста должен был составлять 6,3% в год, потом этот показатель понизили до 5,4% в год. Реальный уровень в 1980 г. составил 2,4%, а в 1981 г.— 3,5% [267, 17.IV.1982].
Но это еще не пик кризиса. За последние десять лет население Кении растет в среднем на 4,1% в год |[276, 1.XII.1982]. По переписи 1979 г. оно составляло более 15 млн. человек, половина его — дети моложе 15 лет [86, 1982, с. 15]. С середины 80-х годов эта молодежь начнет пополнять ряды безработных и безземельных — тогда кризис может разразиться в полном объеме.
Правящие круги в предчувствии предстоящих потрясений переводят капиталы в швейцарские банки. В манифесте оппозиции правильно сказано, что причина кризиса — в созданной империализмом системе выкачивании прибылей, а не только в конкретных лицах, но снять ответственность с «так называемых лидеров» невозможно; они уедут к своим деньгам, а вся тяжесть грядущих проблем ляжет на плечи простых кенийцев— «вананчи» [187, с. 64, 85—86].
«С нашим прошлым и в нашем нынешнем положении,— реалистично оценивают ситуацию авторы „Независимой Кении",— чрезвычайно затруднены поиски истинной социалистической альтернативы нынешнему режиму. Социализм не упадет на нас, как манна небесная. Вместо пустых мечтаний мы можем — и должны... решить, что нужно сделать, чтобы создать условия, в которых социализм можно было бы считать реалистической альтернативой для Кении» [187, с. 89—90].
БИБЛИОГРАФИЯ
1. ТРУДЫ КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА* ДОКУМЕНТЫ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИИ
1. Маркс К. Британское владычество в Индии.—Т. 9.
2. М а р к с К. Будущие результаты британского владычества в Индии.— Т. 9.
3. Маркс К. Вопрос об отмене крепостного права в России.—Т. 12.
4. М а р к с К. Об освобождении крестьян в России.—Т. 12.
5. Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич.—Т. '19.
6. Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству.— Т. 46, ч. 1.
7. Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии.—Т. 7.
8. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.—Т. 21.
9. Энгельс Ф. О разложении феодализма и возникновении национальных государств.—Т. 21.
10. Ленин В. И. Развитие капитализма в России.—Т. 3.
11. Ленин В. И Аграрная программа русской социал-демократии.—Т. 6.
12. Ленин В. И. Национальный вопрос в нашей программе.—Т. 7.
13. Ленин В. И. О манифесте «Союза армянских социал-демократов».— Т. 7.
14. Ленин В. И. Капиталистический строй современного земледелия.—Т. 19.
15. Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу.— Т. 24.
16. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма.—Т. 27.
17. Ленин В. И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение—Т. 27.
18. Ленин В. И. Доклад на II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока 22 ноября 1919 г.—Т. 39.
19. Ленин В. И. Тезисы ко II конгрессу Коммунистического Интернационала. Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам.—Т. 41.
20. Ленин В. И. II конгресс Коммунистического Интернационала 19 июля— 7 августа 1920 г. Доклад комиссии по национальному и колониальному вопросам.—Т. 41.
21. Ленин В. И. III конгресс Коммунистического Интернационала 22 июня—12 июля 1921 г. Доклад о тактике РКП.—Т. 44.
22. Постановления IV Всемирного конгресса Коммунистического Интернационала. Пг., 1923.
23. Стенографический отчет. VI конгресс Коминтерна. Тезисы, резолюции, постановления, воззвания. Вып. 6. М.— Л., 1929.
24. Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981.
* Труды К. Маркса и Ф. Энгельса даны по 2-му изданию Сочинений; произведения В. И. Ленина — по Полному собранию сочинений.
348
II. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Центральный государственный военно-исторический архив
25. Переписка Главного штаба с военными агентами за границей—Ф. 401, оп. 5/929.
Zentrales Staatsarchiv der DDR
26. Auswârtiges Amt—AA, Ks 323—ЗЭ1; 23405; 43526.
27. Deutsches Arbeiterfront, Aussenwissenschaftliches Institût—62DAF3 AWI, № 34815, 34819.
28. Reichskolonialamt—RKolA, № 7438—7439.
111. ДОКУМЕНТЫ И ПУБЛИКАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, МИНИСТЕРСТВА КОЛОНИИ, ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КОЛОНИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В КЕНИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕЗАВИСИМОЙ КЕНИИ
/. Great Britain. Foreign office. Africa
29. East African Slave Trade: Report Addressed to the Earl of Clarendon by the Committee on the East African Slave Trade. L., 1870.
«50. Recent Correspondence Respecting the Slave Trade (East Coast of Africa). L., 1871.
31. Reports on the Present State of the East African Slave Trade. L., 1874.
32. Further Reports. L., 1874.
33. Correspondence with British Representatives and Agents, and Reports from Naval Officers, Relative to the Slave Trade. L., 1874.
34. Correspondence Respecting the Retirement of the Imperial British East Africa Company. L„ 1895.
35. Report oi the Committee Appointed to Consider the Question of Railway Communication with Uganda. L., 1895.
36. Correspondence Respecting to the Recent Rebellion in British East Africa. L., 1896.
37. Report on the Progress of the Mombasa—Victoria (Uganda) Railway, 1896—1897. L., 1897.
38. Report by Sir A. Hardinge on the Condition and Progress of the East Africa Protectorate from its Establishment to the 20th July, 1897. L., 1897.
39. Report by Sir A. Hardinge on the British East Africa Protectorate for the Year 1897—98. L., 1899.
40. Correspondence Respecting the Status of Slavery in East Africa and the Islands of Zanzibar and Pemba. L., 4899.
41. Correspondence Respecting Slavery and the Slave Trade in East Africa and the Islands of Zanzibar and Pemba. L., 1900.
42. Report by His Majety’s Commissioner on the East Africa Protectorate. L., 1901.
43. Correspondence Respecting Slavery and the Slavetrade in East Africa and the Islands of Zanzibar and Pemba. L., 1902.
44. Correspondence Relating to the Resignation of Sir Charles Eliot, and the Concession to the East Africa Syndicate. L., 1904.
45. Memorandum on the State of the African Protectorates, Administered under Foreign Office. L., 1904.
46. Return of Concessions in the East Africa and Uganda Protectorates. L., 1904.
47. Report by Mr. A. E. Butter on the Survey of the Proposed Frontier between British East Africa and Abyssinia. L., 1904.
349*
2. Great Britain. Colonial Office
48. British East Africa Protectorate. Report for 1904—1905. L., 1905.
49. East Africa Protectorate. Report for 1906—7; with Returns of Concessions, Granted for the Period 1st July, 1906, to 31 December, 1907. L., 1908.
50. East Africa Protectorate. Report for d907—8; with Returns from Concessions, Granted for the Period of 1st January, 1908, to 30th June, 1908. L., 1908.
51. East Africa Protectorate. Report for 1908—9; with a Return of Land, Industrial and Mining Concessions for the Year, ended 30th June, 1909. L.,
1910.
52. East Africa Protectorate. Report for 1909—10; with a Return of Land, Industrial and Mining Concessions for the Year, ended 30th June, 1910. L.,
1911.
53. East Africa Protectorate. Report for 1910—11; with a Return of Land, Industrial and Mining Concessions for the Year, ended 30 th June, 1911. L.,
1912.
54. East Africa Protectorate. Report for 1911—1912; with a Return of Land, Industrial and Mining Concessions for the Year, ended 30th June, 1912. L., 1913.
55. East Africa Protectorate. Report for 1912—13. L., 1914.
56. East Africa Protectorate. Report for 1913—1914. L., 1915.
57. Report on the Colony and Protectorate of Kenya for the Year 1922—1932, 1934—1938, 1946—1962. L.
58. Parliament Delegation to Kenya, 1954, Report... L., (1954).
59. Kenya. Proposals for a Reconstruction of Government. L., 1954.
60. Kenya. Proposals for the New Constitutional Arrangements. L., 1957.
61. Kenya. Dispatch of the New Constitutional Arrangements. L., 1958.
62. Historical Survey of the Origins and Growth of Mau Mau. Presented to Parliament by Secretary of State for the Colonies by Command of Her Majesty. L., 1960.
63. Kenya Constitutional Conference, 1960. L., I960.
64. Kenya Constitutional Conference, 1962. L., 1962.
65. Kenya Regional Boundaries Commission. Report... L., 1962.
66. Kenya. Preparations for Independence. L., 1963.
67. Kenya Independence Conference, 1963. L., 1963.
3. Great Britain. Parliament
68. Reports, Relating to the Administration of East Africa Protectorate. L., 1905.
69. Joint Committee on Closer Union in East Africa. L., 1931.
70. Kenya Land Commission. Evidence and Memoranda. L., 1934, v. 1—3.
71. East African Royal Commission, 1953—1955. Report... L., 1955.
72. Mission on Land Consolidation and Registration in Kenya, 1965—1966. Report... L., 1966.
4. Great Britain. Laws
73. Colonial Development and Welfare Acts, 1929—1970. A Brief Review. L., 197,1.
74. Kenya Republic Act, 1964. L., 1965.
5. Kenya (Colony and Protectorate)
75. Department of Agriculture. Statistical Branch. Agricultural Census. Annual Report, 1922—1934, 1936, 1938, 1939. Nairobi.
76. Department of Agriculture. Annual Report, 1924, 1925, 1927, 1929, 1931,
350
1932, 1933, 1934 (v. 1, 2), 1935 (v. 1, 2), 1936 (v. 1, 2), 1937 (v. 1, 2),. 1953 (v. 1), 1954—1961. Nairobi.
77. Committee on African Wages. Nairobi, 1954.
78. Land Development Board. African Land Development in Kenya. Report... ,1946—1955. Nairobi, 1956; 1946-1962. Nairobi, 1962.
79. Kenya European and Asian Agricultural Census, 1958. Nairobi, 1960.
80. Kenya European and Asian Agricultural Census, 1960. Nairobi, 1961.
81. Kenya African Agricultural Sample Census, il969/01. Nairobi, 1962.
82. Constitution (Summary of the Proposed Constitution lor Internal Self- Goverment). L., 1963.
6. Kenya. Laws
83 Kenya Independence Act. L., 1963.
84. The Kenya Immigration Act. Nairobi, 1967.
7. Republic of Kenya
85. Ministry of Economic Planning and Development. Statistical Division. Economic Survey, 1964—1966, 1968, 1970, 1978, 1982. Nairobi,
86. Statistical Abstract, .1964, 1965, 1969, 1977, 1980, Ü982. Nairobi.
87. African Socialism and its Application to Planning in Kenya. Nairobi, 1965.
88. Development Plan, 1966—70. Nairobi, 1966; 1970—74. Nairobi, 1969;
1974-78. Nairobi, 1974; 1978—83. Nairobi, 1979.
89. Kenyanization of Personnel in the Private Sector. A Statement on Government Policy Relating to the Employment of Non-Cit'izens in Kenya (Nairobi), 1967.
IV ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕНИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, БАНКОВ И Т. Д.
90. Документы панафриканского движения.— «Расы и народы». М., 1977, Ns 7.
91. Bol so ver P. Н. Kenya: What Are the Facts? L., 1953.
92. Bolsover P. The Truth about Kenya, Communist Party Pamphlets,
No 8. L, 1953.
93. British Imperialism in East Africa. Prepared by the Labour Research Department. L., 1926.
94. Br ockway F. Why Mau Mau? An Analysis and a Remedy. Congress of Peoples against Imperialism. L., 1953.
95. Civil Liberties in Kenya. Memorandum Issued by the National Council for Civil Liberties. L., 1953.
96. Committee for Racial Co-operation in Kenya. Kenya, 1960—1961.
97. The Constitution of Kenya African National Union, (б. м., б. r.] (Nairobi, 1966).
98. East African Future. A Report to the Fabian Colonial Bureau. L., 1952.
99. The Economic Development of Kenya, Report of a Mission, Organized by the International Bank for Reconstruction and Development. Baltimore, 1963.
100. Employment, Incomes and Equality. A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya. Report of an Inter-Agency Team, Financed by the U. N. Development Programme and Organized by the International Labour Office. Geneva, 1972.
101. Fletcher E. Kenya Curtails Civil Liberties. The National Council for Civil Liberties. L., 1957.
351
102. Freedom and Regionalism Now. The KADU General Election Manifesto.— «East Africa and Rhodesia», 2 May 1963.
103. From Lodwar and Maralal. Jomo Kenyatta Speaks. Cairo, 1961.
104. Jomo Kenyatta Speaks. Immediate Release Demanded. Inhuman Actions by British Imperialists Exposed. Cairo, 1960.
105. KADU. Paper on Land Tenure and Agricultural and Pastoral Development.—«East African Standard», 6 July 1962.
106. The KANU Manifesto. Cairo, 1960.
107. The KANU Economic Plan.— «East African Standard», 20—21 July 1962.
108. Kenya. An Economic Survey, Barclay’s Bank DCO, 1961.
109. Kenya: Into the Second Decade. Report of a Mission Sent to Kenya by the World Bank. Baltimore — London, 1975.
il 10. Kenya: No Solution Possible without J. Kenyatta’s Leadership. Cairo, 1961.
111. Kenya: White Man’s Country? Report to the Fabian Colonial Bureau. L.p 1944.
112. Kenya: Who Started Mau Mau, 1st Issue, Kenya, Office. Cairo, 1959.
113. KPU Manifesto. Nairobi, 1966.
114. Now and the Future. Policy Statement by Kenya Coalition.— «East Africa and Rhodesia», 8 December 1960.
115. On the Occasion of Release of Jomo Kenyatta. Cairo, 1961.
116. Opportunity in Kenya. A Report to the Fabian Colonial Bureau. L., 1953.
117. Plan for Success. New Kenya Party’s Election Manifesto.— «East Africa and Rhodesia», 15 December 1960.
118. Terror in Kenya. The Facts behind the Crisis. World Federation of Trade Union Publications, Ltd.. [Б. m.], 1952.
119. Wananchi Declaration. The Programme of the Kenya People’s Union, [6. m., б. r.] (Nairobi, 1969).
120. What a KANU Government Offers You.—«East Africa and Rhodesia», 25 April 1963.
121. Who Controls Industry in Kenya? Report of a Working Party. Nairobi, 1968.,
V. СБОРНИКИ И ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ УСТНОЙ ТРАДИЦИИ И ФОЛЬКЛОРА, ХРОНИК ПОБЕРЕЖЬЯ
122. Арабские источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары. T. I (VIII—X вв.). М.—Л., 1963; т. II (X—XII вв.). М.—Л., 1965.
123. История Африки. Хрестоматия. М., 1979.
124. BeacheyR. W. A Collection of Documents on the Slave Trade of Eastern Africa. N. Y., 1976.
125. East Africa through Contemporary Records, Selected and Introduced by Z. Marsh. London, New York, 1961.
126. The East African Coast: Select Documents from the First to the Earlier Nineteenth Century, ed. by G.S.P. Freeman-Grenville. Ox., 1962.
127. East African Explores. Selected and Introduced by Ch. Richards and J. Place. L., 1967.
128. Government and Politics in Kenya. A Nation Building Text, ed. by Ch. Gertzel, M. Goldsmith, D. Rothchild. Nairobi, 1972.
129. Jomo Kenyatta, Malcolm MacDonald and the Colonial Office, 1938—39, Some Documents from the P.R.O., ed. by D. C. Savage.— «Canadian Journal of African Studies». 1969, v. 3, № 3.
130. Kenya: Select Historical Documents, 1884—1923, ed. by. G. H. Mungeam. Nairobi, 1979.
131. Kinyatti M. wa. Thunder from the Mountains: Mau Mau Patriotic Songs. L., 1980.
132. Mwaniki H. S. K. Embu Historical Texts. Nairobi, 1974.
Swahili Prose Texts. A Selection from the Material, Collected by Carl Velten from 1893 to 1896, ed. by L. Harries, London, Nairobi, 1965.
134. Were G. S. Western Kenya Historical Texts. Nairobi, 1967.
VI. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ И СОВРЕМЕННИКОВ, МЕМУАРЫ, ДНЕВНИКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, РАБОТЫ ЛИДЕРОВ И УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
135. Г и к а р у М. Страна солнца. М., 1961.
136. Коинанге М. Говорит народ Кении. М., 1956.
137. Леттов-ФорбекО. Мои воспоминания о Восточной Африке. М., 1927.
138. Arkell-Har a wick A. An Ivory Trader in North Kenya (Kikuyu and Galla). L., 1908.
139. Attwood W. The Reds and the Blacks. A Personal Adventure. L„ 1967.
140. The Authobiography of D. N. Pritt. Part Three. The Defence Accuses. L., 1966.
141. В ache E. The Youngest Lion: Early Farming Days in Kenya. L., 1934.
142. Baldwin W. W. Mau Mau Manhunt. The Adventures of the Only American Who Has Fought the Terrorists in Kenya. N. Y., 1957.
143. Barnett D. L., Njama K. Mau Mau from Within. Authobiography and Analysis of Kenya’s Peasant Revolt. L., 1966.
144. Beauttah J. Freedom Fighter. Nairobi, 1983.
145. В ewes T. F. C. Kikuyu Conflict. Mau Mau and the Christian Witness. L., [б. r.].
146. В 1 a к es 1 ее H. V. Beyond the Kikuyu Curtain. Chicago, 1956.
147. Blundell M. So Rough a Wind. The Kenya Memoirs of Sir M. Blundell. L., 1964.
148. Boy es J. King of Wa-Kikuyu. L., 1968.
149. В rock way F. African Journeys. L., 1956.
150. Bunch R. J. The Irua Ceremony among the Kikuyu of Kiambu District, Kenya.— «The Journal of Negro History». V. XXVI, № 1 (Jan. 1941).
151. Bunch R. J. The Land Equation of Kenya Colony.— «The Journal ot Negro History». V. XXIV, № 1 (Jan. 1939).
152. Buxton M. A. Kenya Days. L., 1927.
153. Carey W. Missionary in Kenay. Christian Common Sence on Mau Mau and the Colour Bar. L., 1953.
154. Champion A. M. The Agiriama of Kenya. L., 1967.
155. Churchill W. My African Journey. L., 1908.
156. Cran worth B. F. G. A Colony in the Making or Sport and Profit in British East Africa. L., 1919.
157. Cranworth B. F. G. Kenya Chronicles. L., 1939.
158. Davis A. Robertson H. G. Chronicles of Kenya. L., 1928.
159. Dinesen I. Out of Africa, N. Y., 1972.
160. Dundas Ch. African Crossroads. L., N. Y., 1955.
161. Dundas Ch. History of Kitui.—«Journal of Royal Anthropological Institute». V. XLIII (1913).
162. Dundas Ch. Kilimandjaro and Its People. L., 1924.
163. Eliot Ch. The East Africa Protectorate. L., 1966.
164. Evans P. Law and Disorder or Scenes of Life in Kenya. L., 1956.
165. Fischer G. A. Das Massailand. Hamburg, 1885.
166. F i t z ger a 1 d W. W. A. Travels in the Coastlands of British East Africa and the Islands of Zanzibar and Pemba. L., 1898.
167. Gardner B. The Story of the First World War in East Africa. L., 1963.
168. Gregory J. W. The Foundation of British East Africa. L., 1901.
169. [G r i g g E. W. M.]. Kenya’s Opportunity. Memoirs, Hopes and Ideas
23 3aK. 654 353
by Lord Altrincham, Governor of Kenya, 1925—31. L., 1955.
170. Grogan E. S. From Cape to Cairo. L., 1900.
171. Hall В. E. E. How Peace Came to Kikuyu. Extracts of Letters from Francis George Hall.—- «Journal of Royal African Society». V. XXXV11, № 149 (1938).
172. The Hard Core. The Story of Kagiro Muchai. Richmond, 1973.
173. Henderson I. The Hunt for Kimathi. L., 1957.
174. Henderson L, Goodheart Ph., Man Hunt in Kenya. L., 1958.
175. Hind lip Ch. A. British East Africa: Past, Present and Future. L.,
1905.
176. Hob ley C. W. Bantu Beliefs and Magic with Particular Reference
to the Kikuyu and Kamba Tribes of Kenya Colony. L., 1938.
177. Hob ley C. Kenya from Chartered Company to Crown Colony. Thirty Years of Exploration and Administration in British East Africa. L., 1970.
178. Hôhnel L. The Discovery of Lakes Rudolf and Stefanie. L., 1894.
179. Holman D. Bwana Drum. The Unknown Story of the Secret War
against Mau Mau, L., 1964.
180. H о t c h к i s s W. R. Then and Now in Kenya Colony. 40 Adventurous Years in East Africa. L., 1937.
181. Huxley E. The Flame Trees of Thika: Memoirs of an African Childhood. L., 1959.
182. Huxley E. Kenya To-day. L., 1954.
183. Huxley E. A New Earth: an Experiment in Colonialism. L., 1960.
184. Huxley E. On the Edge of the Rift. Memoirs of Kenya. N. Y.,
1962.
185. Huxley E. Settlers of Kenya. L., 1948.
186. Huxley E., Per ham M. Race and Politics in Kenya, L., 1945.
187. Independent Kenya, L., 1982.
188. I tote W. (General China). «Mau Mau» General, Nairobi, 1967.
189. John Ainsworth, Pioneer Kenya Administrator, 1864—1946, ed. by F. H. Goldsmith. L., 1955.
190. J о h n s t о n H. The Uganda Protectorate. L., 1902, v. 2.
191. Kaggia В. M. Roots of Freedom, 1921—1963: The Authobiography of B. Kaggia. Nairobi, 1975.
192. Karimi J., Ochieng Ph. The Kenyatta Succession. Nairobi, 1980.
193. Kariuki J. M. Mau Mau Detainee. The Account by a Kenya African of his Experience in Detention Camps, 1953—1960. L., il963.
194. Kenyatta J. Facing Mount Kenya. The Tribal Life of the Gikuyu. L., 1938.
195 Kenyatta J. My People of Kikuyu and the Life of Chief Wangombe. L., 1967.
196. Kenyatta J. Harambeel The Prime Minister of Kenya’s Speeches, 1963—1964. Ox., 1964.
197. Kenyatta J. Suffering without Bitterness. Nairobi, 1967.
198. Krapf I. L. Travels, Researches and Missionary Labours in Eastern Africa. L., 1860.
199. Leakey L. S. B. Defeating Mau Mau. L., 1954.
200. Leakey L. S. B. Kenya Contrasts and Problems. L., 1966.
201. Leakey L. S. B. Mau Mau and the Kikuyu. L., 1955.
202. Leakey L. S. B. The Southern Kikuyu before 1903. L., 1977, v. 1—3.
203. Leys N. The Colour Bar in East Africa. L., 1941.
204. Leys N. Kenya, L., 1924.
205. Leys N. Last Chance in Kenya. L., 1931.
206. Leys N., Oldham J. H. By Kenya Possesed. The Correspondence of Norman Leys and J. H. Oldham, 1918—1926, ed. by J. W. Cell. Chicago, London, 1976.
207. Lipscomb J. E. We Built the Country. L., 1956.
208. Lipscomb J. White Africans. L., 1954.
209. Lubembe С. K. The Inside of the Labour Movement in Kenya. Nairobi, 1968.
354
210. Lugard F. D. The Diaries of Lord Lugard, ed. by M. Pcrlwmi. L. 1959
211. Lugard F. D. The Dual Mandate in Tropical Africa. LM НШ.
212. Lugard F. D. The Rise of Our East African Empire (Early Li loris in Nyasaland and Uganda). L., 1893, v. 1, 2.
213. MacDonald J. R. L. Soldiering and Surveying in British East Africa, 1891—1894. L., 1897.
214. MacGregor Ross W. Kenya from Within. A Short Political History. L., 1927.
215. Man in the Middle. Ngugi Kabiro, Taped and Edited by D. Barnett. Richmond, 1973.
216. Mb о tel a J. Uhuru wa Watumwa. L., 1934.
217. Mboya T. The Challenge of Nationhood. A Collection of Speeches and Writings. L., 1970.
218. Mboya T. Freedom and After. L., 1963.
219. Mboya T. Is African Culture Blocking progress,— «East African Journal». V. I, № 10 (March 1965).
220. Mboya T. J. The Kenya Question: An African Answer. L., 1956.
221. M ei ner t z h a g en R. Kenya Diary, 1902—1906. Edinburgh, 1957.
222. Mitchell Ph. African Afterhoughts. L., 1954.
223. Mockerie P. G. An African Speaks for His People. L., 1934.
224. N a i p о 1 Sh. North of South. An African Journey. L., 1978.
225. Nellie: Letters from Africa (with a Memoir by Elspeth Huxley), ed. by N. Grant. L., 1980.
226. New Ch. Life, Wonderings and Labours in Eastern Africa. L., 1874.
227. Ngugi wa Thiong’o. Detained: A Writer’s Prison Diary. L., 1981.
228. Ngugi wa Thiong’o. Barrel of a Pen. Resistance to Repression in Neo-Colonial Kenya. L., 1983.
229. Odinga O. Not Yet Uhuru. L., 1967.
230. Orchrdson I. Q. The Kipsigis. Abridged, Edited and Partly Rewritten by A. T. Matson. Nairobi, 1961.
231. Padmore G. Labour Imperialism in East Africa. Moscow, 1931.
232. P e r h a m M. East African Journey: Kenya and Tanganyika, 1929— 1930. L., 1976.
233. Pickering E. When the Windows were Opened. Life on a Kenya Farm. L., 1957.
234. Portal G. British Mission to Uganda in 1893. L., 1894.
235. Rawcliff D. N. The Struggle for Kenya. L., 1954.
236. Routledge W. S., Routledge К- With a Prehistoric People: the Akikuyu of British East Africa. L., 1910.
237. Schwarzenberg A. A Kenya Farmer Looks at His Colony. N. Y., 1946.
238. Singh M. History of Kenya’s Trade Union Movement to 1952. Nairobi, 1969.
239. Singh M. The East African Association, 1921—1925.—«Hadith 3». Proceedings of the 1969/70 Conferences of the Historical Association of Kenya. Nairobi, 1971 (далее — «Hadith 3»).
240. Singh M. The East African Trade Union Congress, 1949—1950: The First Central Organization of Trade Unions in Kenya,— «Hadith 4». Politics and Nationalism in Colonial Kenya, Proceedings of the 1971 Conference of the Historical Association of Kenya. Nairobi, 1972 (далее —«Hadith 4»).
241. Stonehouse J. Prohibited Immigrant. L., 1960.
242. S t i g a n d С. H. To Abyssinia through Unknown Land. An Account of a Journey through Unexplored Regions of British East Africa. L., 1910.
243. S t i g a n d С. H. The Land of Zinj. Being an Account of British East Africa, Its Ancient History and Present Inhabitants. L., 1966.
244. Thomson J. Through Masai Land. L., 1885.
245. Thuku H. An Autobiography. L., 1970.
23*
355
246. Tucker A. R. Eighteen Years in Uganda and East Africa. L., 1908, v. 1, 2.
247. The Urban Guerilla. Mohammed Mathu. Story Recorded and Edited by Don Barnett. Richmond, 1974.
248. Wachanga H. K. The Swords of Kirinyaga. The Fight for Land and Freedom. Nairobi, 1975.
249. Wambaa R. M., King K. The Political Economy of the Rift Valley: A Squatter Perspective.— «Hadith 5». Economic and Social History of East Africa., Proceedings of the 1972 Conference of the Historical Association of Kenya, ed. by B. A. Ogot. Hairobi, 1975 (далее—«Hadith 5»).
250. Wamweya J. Freedom Fighter. Nairobi, 1971.
251. Wills C. Who Killed Kenya? L., [б. r.].
252. Wood S. Kenya. The Tentions of Progress. Ox. 1962.
VII. ПЕРИОДИКА
253. «Иностранная литература». M.
254. «Народы Азии и Африки» М.
255. «Новое время». М.
256. «Правда». М.
257. «Советская этнография» М.
258. «Africa», Ox., L.
259. «Africa Confidential», L.
260. «Africa Dijest». L.
261. «Africa Report». Wash.
262. «African Affairs». L.
263. «African Business». L.
264. «The African Communist». L.
265. «Colonial Problems». L.
266. «Daily Nation» («Sunday Nation»). Nairobi.
267. «Daily News». L.
268. «Daily Telegraph». L.
269. «Daily Worker» («Morning Star»). L.
270. «East Africa and Rhodesia». L.
271. «East African Journal». Nairobi.
272. «East African Standard» («Standard») Nairobi.
273. «The Economist». L.
274. «Financial Times». L.
275. «The Guardian». L.
276. «International Herald Tribune». P.
277. «The Journal of African History». L.
278. «Journal of Eastern African Research and Development». Nairobi.
279. «The Kenya Gazette». Nairobi.
280. «Kenya Historical Rewiew». Nairobi.
281. «Kenya Weekly News». Nakuru.
282. «Labour Monthly». L.
283. «The Negro Worker». Hamburg et al.
284. «New African». L.
285. «The New Kenya». Cairo.
286. «New Statesman and Nation». L.
287. «New York Times».
288. «News Week». N. Y.
289. «The Observer». L.
290. «Round Table». L.
291. «Time». N. Y.
292. «The Times» («Sunday Times»). L.
293. «Transafrican Journal of History». Nairobi.
294. «The Weekly Review». Nairobi.
356
VIII. СПРАВОЧНИКИ, БИБЛИОГРАФИИ, АТЛАСЫ
295. Кулик С. Ф. Современная Кения. М., 1973.
296. Писатели Кении, 1960—1980. Библиографический справочник. М., 1982.
297. Africa Contemporary Record. Annual Survey and Documents, ed. by C. Le- gum. N. Y.
297a. Africa South of the Sahara, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976-77, 1978-79. 1980—81, 1983—84. L.
298. Africa Yearbook and Who’s Who. L., 1977.
299. Du Pré С. E. The Luo of Kenya. An Annotated Bibliography. Wash., 1968.
300. Howell J. B. Kenya: Subject Guide to Official Publications. Wash.,
1978.
301. Martin L. A. Education in Kenya before Independence (Annotated Bibliography). Syracuse. The Programme of East African Studies. Occasional Bibliography № 15., Syracuse, 1969.
302. National Atlas for Kenya. Nairobi, 1970.
303. О got B. Historical Dictionary of Kenya. Nairobi, 1981.
304. Ole Norgaard. Kenya in the Social Sciences. An Annotated Bibliography, 1967—1979. Nairobi, 1980.
305. Webster J. B. et al. A Bibliography on Kenya. Syracuse University, Eastern African Bibliographic Series, № 2. Kenya. Programme of Eastern African Studies. Syracuse, 1967.
306. Wilding R. Swahili Culture: A Bibliography of the History and Peoples of the Swahili Speaking World (from Earliest Times to the Beginning of the 20th Century). Nairobi 1976.
IX. ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЕНИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ О КЕНИИ
307. И пошел дождь... Современная зарубежная новелла. Кения, М., 1980.
308. Мванги М. Жертва для гончих псов. М., 1983.
309. Мванги М. Неприкаянные. М., 1979.
310. Мванги М. Стихи.—Африка. Литературный альманах. Вып. 4. М., 1983.
311. Мванги М. Тараканий танец и Улица Ривер-Роуд. М., 1983.
312. Нгуги Дж. Не плачь, дитя. М., 1967.
313. Нгуги в а Тхионг’о. Завтра в это время (радиопьеса). — Свой дом. М., 1977.
314. Нгуги ва Тхион г’о. Кровавые лепестки. М., 1981.
315. Нгуги ва Тхионго. Пшеничное зерно (роман). Рассказы. Из книги «Возвращение домой». М., 1977.
316. Нгуги ва Тхионго, Мичере Гите Муго. Суд над Деданом Кимати.— Избранные произведения драматургов Африки. М., 1983.
317. H и х 1 е у Е. Red Strangers: the Story of Kenya. L., 1955.
318. H u x 1 ey E. A. Thing to Love (Novel of Kenya). L., 1954.
319. Kibera L. Voices in the Dark. Nairobi, 1070.
320. M a n g u a Ch. A Tail in the Mouth. Nairobi, 1973.
321. Mangua Ch. Son of a Woman. Nairobi, 1970.
322. Mwangi M. Taste of Death. Nairobi, 1975.
323. N g u g i J. The Black Hermit. Nairobi, 1968.
324. Ngugi J. The River Between. L., 1965.
325. Ngugi J. Secret Lives and Other Stories. L., 1975.
326. Ngugi wa Thion g’o. Devil on the Cross. L., ;I982.
327. Ngugi wa Thion g’o. Writers in Politics. L., 1981.
328. Ruark R. Something of Value. N. Y., 1955.
329. Ruark R. Uhuru. N. Y., 1962.
330. R u h e n i M. The Future Leaders. L., 1973.
331. Ruheni M. What a Husbandl Nairobi, 1974.
357
332. Ruheni M. What a Life! Nairobi, 1972.
333. Strange N. K. Kenya’s Calling. L., [б. r.].,
334. W a t e n e K. Dedan Kimathi. Nairobi, [б. r.].
335. W a t e n e K. My Son for my Freedom and other Plays. Nairobi,
[6. rj.
X. ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛИТЕРАТУРА
336. Валигурский А. Проблема «белой» колонизации в Кении.— «История, социология, культура народов Африки». М., 1974.
337. Владимиров Л. С. Рожденная в огне. Путь Кении к независимости. М., 1972.
338. Владимиров Л. Кения: Выбор пути. Основные этапы и проблемы освободительного движения. М., 1979.
339. Гиренко H. М. Динамика культурных изменений и Восточная Африка в XIX—XX вв.— «Африканский сборник. История. Этнография». М., 1983.
340. Глухов А. М. Британский империализм в Восточной Африке. М., 1962.
341. Глухов А. М. Кения — ультиматум колониализму. М., 1964.
342. Горнунг М. Б., Липец Ю. Г., Олейников И. Н. История открытия и исследования Африки. М., 1973.
342а. Жуков А. А. Культура, язык и литература суахили. Л., 1983.
343. Демкина Л. А. Национальные меньшинства в странах Восточной Африки. М., 1972.
344. Зарубежный Восток и современность М., 1980—1981, т. 1—3.
345. Зотова Ю. Н. Традиционные политические институты Нигерии. М.,
1979.
346. Иванов Ю. М. Аграрный вопрос и формирование армии наемного труда в Тропической Африке. М., 1974.
347. Иорданский В. Б. Тупики и перспективы Тропической Африки. М., 1970.
348. Исмагилова P. Н. Народы Кении в условиях колониального режима.— Африканский этнографический сборник. М., 1956.
349. Исмагилова P. Н. Расовая дискриминация в Кении.— Расовая дискриминация в странах Африки. М., 1960.
350. Калиновская К. П. Возрастные группы народов Восточной Африки. Структура и функции. М., 1976.
351. Кирьянов В. И. Некоторые черты социально-экономической структуры кикуйю в Кении.— Основные проблемы африканистики. М., 1973.
352. Кон И. Психология предрассудка.— «Новый мир». 1966, № 9.
353. Косухин Н. Д. Восточная Африка: борьба против колониализма и его последствий (1960—1966). М., 1970.
354. [К о ч а к о в а Н. Б., П е г у ш е в А. М. ] Народы Восточной Африки в борьбе против британского колониализма. Танзания, Уганда, Кения.— История национально-освободительной борьбы народов Африки в новейшее время. М.. 1978.
355. [Круглов Л. Л.] Вооруженная борьба народов Кении против английских колонизаторов (1952—1956).— Вооруженная борьба народов Африки за свободу и независимость. М., 1974.
356. Кулик С. Ф. Африканизация в Кении, 1963—1973. М., 1978.
356а. [Кулик С. Ф.] Республика Кения.—Африка. Культура и общественное развитие. М., 1984.
357. Малышева Д. Б. Религия и политика в странах Восточной Африки. М., 1974.
358. Матвеев В. В. О северных пределах распространения восточных банту (зинджей) в X веке по арабским источникам.— 25-й Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 1960.
359. Маценко И. Б. Сельское хозяйство Кении накануне провозглашения независимости. М., 1968.
358
360. Маценко И. Б., Сванидзе И. А. Сельское хозяйство и позе* мельные отношения у народа кикуйю.— Африканский сборник. Экономика. М., 1964.
361. Мисюгин В. М. Основные черты этнической истории суахили. Диссертация на соискание ученой степени канд. истор. наук. Л., 1967.
362. Мисюгин В. М. Происхождение городов восточноафриканского побережья.— Вестник ЛГУ № 20. Серия истории, языка и литературы. Вып. 4. Л., 1958.
363. Мисюгин В. М. Социальное содержание легенды о Лионго Фумо.— «Africana». V. IX (1972).
364. Мисюгин В. М. Суахилийская хроника средневекового государства Пате.— «Africana». V. VI (1966).
365. Ольдерогге Д. А. Эпигамия. Избранные статьи. М., 1983.
366. Пегушев А. М. Кения. Очерк политической истории, 1956—1969. М.,
1972.
367. [Пегушев А. М.]. Борьба народов Восточной Африки против английского колониального вторжения.— История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. М., 1976.
368. Пегушев А. М. Повстанцы May May. История антиколониального вооруженного восстания 1952—1956 гг. в Кении. М., 1978.
369. Потехин И. И. Британская Восточная Африка под гнетом английского империализма.—Империалистическая борьба за Африку и освободительное движение народов. М., 1953.
370. [С а м о ф а л Р. Б.] Африканцы в боях против фашистских агрессоров в годы второй мировой войны.—Вооруженная борьба пародов Африки за свободу и независимость. М., 1974.
371. Следзевский И. В. Колониальное общество. Некоторые проблемы развития и воспроизводства миогоукладности (иа примере Западной Африки).—Африка, возникновение отсталости и пути развития. М.„ 1974.
372. Хазанов А. М. Исторические корни португальского колониализма — Борьба за освобождение португальских колоний в Африке. 1961—1973. М., 1975.
373. Юг Ю. Британские колонии в Восточной Африке. М.—Л., 1931.
374. Aaronovitch S., Aaronovitch К. Crisis in Kenya. L., 1947.
375. Agricultural Development in Kenya. An Economic Assessment, ed. by J. Heyer, J. K. Maitha, W. M. Senga. Nairobi, 1976.
376. Alpers E. A. The Nineteenth Century: Prelude to Colonialism.— Za- mani. A Survey of East African History, ed. by B. Ogot and J. A. Kieran. Nairobi, 1969 (далее — Zamani).
377. Ams den A. H. International Firms and Labour in Kenya, 1945— 1970. L, 1971.
378. Andersen K. African Traditional Architecture: a Study of the Housing and Settlement Patterns in Rural Kenya. L., 1978.
379. Archer J. African Firebrand: Kenyatta of Kenya. N. Y., 1969.
380. Atieno Odhiambo E. S. The Paradox of Collaboration and Other Essays. Nairobi, 1974.
381. Atieno Odhiambo E. S. Seek Ye First the Economic Kingdom: A History of the Luo Thrift and Trading Corporatin (LUTATCO), 1945— 1956.— «Hadith 5».
382. Atieno Odhiambo E. S. The Movement of Ideas: a Case Study of Intellectual Responses to Colonialism among the Liganua Peasants.— «Hadith 6». History and Social Change in East Africa, Proceeding of the 1974 Confernce of the Historical Association of Kenya, ed. by B. Ogot (далее — «Hadith 6»).
383. Atieno Odhiambo E. S. Mzee: A Full Biography.— «Viva», The Special Issue: A Tribute to Our President. (1978).
384. Atieno Odhiambo E. S. Siasa Politics and Nationalism in East Africa, 1905—1939. Nairobi, 1983.
385. B a g e г T. Marketing Cooperatives and Peasants in Kenya. Uppsala,
1980.
359
386. Barber J. Imperial Frontier. British and the Pastoral Tribes of North East Uganda. Nairobi, 1968.
387. Beachey R. W. The Slave Trade of Eastern Africa. N. Y., 1976.
388. B en net G. Kenya. A Political History. The Colonial Period. L., 1963.
389. Bennet G. Settlers and Politics in Kenya up to 1945.— History of East Africa, ed. by V. Harlow and E. M. Chilver. Ox., 1965, v. 2 (далее—History of East Africa. V. 2).
390. Bennet G., Rosberg C. G. The Kenyatta Election. Kenya in 1960— 1961. L., 1961.
391. Berg F. J. The Coast from the Portuguese Invasion to the Rise of the Zanzibar Sultanate.— Zamani.
392. Berg F. J., Walter B. J. Mosques, Population and Urban Development in Mombasa.— «Hadith 1». Proceedings of the Annual Conference of the Historical Association of Kenya, 1967. Nairobi, 1968 (далее — «Habith 1»).
393. Bien en H. Kenya. The Politics of Participation and Control. N. Y., 1974.
394. Blackburn R. H. Okiek History —Kenya before 1900, ed. by B. Ugot. Nairobi, 1976 (далее — Kenya before 1900).
395. В о s t о с к P. G. The Taita, L., 1950.
396. Boxer C. R., Azevedo C. Fort Jesus and the Portuguese. L., 1960.
397. Brantley C. The Giriama and Colonial Resistance in Kenya, 1800— 1920. Berkeley, 1981.
398. Brett E. A. Colonialism and Underdevelopment in East Africa: The Politics of Economic Change, 1919—1939. L., 1973.
399. Brownstain L. Education and Development in Rural Kenya. A Study of Primary School Graduates. N. Y., 1972.
400. Buell R. L. Native Problem in Africa. N. Y., 1928, v. 1, 2.
401. Buijtenhuijs R. Mau Mau: Twenty Years After. The Myth and the Survivors. P., 1973.
402. The Cambridge History of Africa. Cambridge, 1975—1978, v. 2—5.
403. Cameron J. The Development of Education in East Africa. N. Y., 1970.
404. Carl sen J. Economic and Social Transformation in Rural Kenya. Uppsala, 1980.
405. Carter F. The Kenya Government and the Press, 1906—1960.— «Hadith 2», Proceedings of the 1968 Conference of the Historical Association of Kenya. Nairobi, 1975 (далее — «Hadith 2»).
406. C h i 11 i с к N. The Coast before the Arrival of the Portuguese.—Zamani.
407. Clayton A., Savage D. C. Government and Labour in Kenya, 1895—1963. L., 1974.
408. Cohen D. W. The River-Lake Nilotes from the Fifteenth to the Nineteenth Century.— Zamani.
409. Cole S. The Stone Age of East Africa.— History of East Africa, ed. by R. Oliver and G. Mathew. Ox., 1963, v. ,1 (далее—History of East Africa. V. 1).
410. A Comparative Study of Political Involvement in Three African States: Botswana, Ghana, Kenya. Syracuse, New York, 1978.
411. Cooper F. From Slaves to Squatters. Plantation Labour and Agriculture in Zanzibar and Coastal Kenya, 1890—=1925. Nairobi, 1983.
412. Cooper F. Plantation Slavery on the East Coast of Africa. New Haven, London, 1977.
413. Coupland R. East Africa and its Invaders: From Earliest Times to the Death of Seyyid Said in 1856. L., 1938.
414. Coupland R. The Exploitation of East Africa, 1856—1890. The Sla- vetrade and the Scramble. L., 1939.
415. Delf G. Asians in East Africa. L., 1963.
4t6. Delf G. Jomo Kenyatta. Towards Truth about «the Light of Kenya». L., 1961.
417. Dilley M. R. British Policy in Kenya Colony. N. Y., 1966.
418. D u 11 о C. A. Nyeri Townsmen — Kenya. Nairobi, 1975.
360
419. East Africa and the Orient. Cultural Synthesis in Precolonial Times, ed. by H. N. Chittick and R. T. Rotberg. N. Y.— L., 1975.
420. East Africa: Its Peoples and Resourses, ed. by W. T. W. Morgan, Nairobi, 1969.
421. East African Culture History, ed. by J. Gallagher. Syracuse, New York* 1976.
422. Education, Society and Development, New Perspectives from Kenya, ed. by D. Court and D. P. Ghai. Nairobi, London, 1974.
423. Eh ret C. Aspects of Social and Economic Change in Western Kenya. A. D. 500—1800.—Kenya before 1900.
424. E h г e t C. Cushites and the Highland and Plains Nilotes.— Zamani.
425. E1 к a n W. Is a Proletariat Emerging in Nairobi? — Economic Development and Cultural Change. Chicago, 1976.
426. Engelhem G. F. African Election in Kenya.— Five Elections in Africa, L., 1960.
427. Fa diman J. The Meru Peoples —Kenya before 1900.
428. F a d i m a n J. Mountain Warriors: the Precolonial Meru of Mount Kenya. Columbus, 1976.
429. F a d i m a n J. An Oral History of Tribal War. The Meru of Mount Kenya. Athens, 1982.
430. F e a г n H. An African Economy. A Study of the Economic Development of the Nyanza Province of Kenya, 190Э—4953. L., 1961.
431. Flint J. The Wider Background to Partition and Colonial Occupation.— History of East Africa. V. 1.
432. Fora n W. R. The Kenya Police, 1887—1960. L., 1962.
433. Freeman-Gren ville G. S. P. The Coast, 1498—1840.—History of East Africa. V. 1.
434. Freidman J. Jomo Kenyatta. L., 1975.
435. Frost R. Race against Time. Human Relations and Politics in Kenya before Independence. L., 1978.
436. Furedi F. The Kikuyu Squatters in the Rift Valley. 1918—1929 — «Hadith 5».
437. F u г 1 e y O. W. The Historiography of Mau Mau.— «Hadith 4».
438. Galbraith J. S. Mackinnon and East Africa, 1878—1895. A Study in the New Imperialism. Cambr., 1972.
439. G a n n L. H., D u i g n a n P. White Settlres in Tropical Africa. L.„ 1962.
440. Gertzel Ch. The Politics of Independent Kenya, 1963—1968. L., 1970.
441. Getugi H. Enyamumbo: an Attempt at a Critical Study of the Relationship between Religion and Politics in Gusii in the Period 1914—1954. Nairobi, 1982.
442. Ghai D. P. Contemporary Economic and Social Developments.— Zamani.
443. Ghai D. Portrait of a Minority. Asians in Kenya. Nairobi, 1971.
444. Ghai D. P., McAuslan J. P. W. B. Public Law and Political Change
in Kenya. A Study of Legal Framework of Government from Colonial Times to the Present. L., 1970.
445. Goldsworthy D. Tom Mboya: The Man, Kenya Wanted to Forget., Nairobi, London, 1982.
446. Gray J. The British in Mombasa, 1824—1826. L., 1957.
447. Gray J. Zanzibar and the Coastal Belt, 1840—1884.—History of East
Africa. V. 1.
448. G г i 11 о R. D. African Railwaymen. Solidarity and Opposition in an East African Labour Force. Cambr., 1973.
449. Gulliver P., Gulliver P. H. The Central Nilo-Hamites. L., 1958.
450. Gupta V. Kenya. Politics of (In) dependence. New Delhi, 1981.
451. Hailey M. An African Survey. L., 1957.
452. Hailey M. Native Administration in the British African Territories. Pt. I. East Africa. L., 1950.
453. Hay M. J. Economic Change in Late Nineteenth Century. Kowe, Western Kenya.— «Hadith 5».
361
454. Hazlewood A. The Economy of Kenya. The Kenyatta Era. N. Y., 1979.
455. H e у e г J. The Origins of Inequalities in Smallholder Agriculture in Kenya, 1920—1973.—«Eastern African Journal of Rural Development». V. VIII, №1, 2 (1975).
456. Hill M. The Permanent Way. V. 1. The Story of the Kenya and Uganda Railway. Nairobi, 1976.
457. History of East Africa, ed. by D. A. Low and A. Smith. Ox., 1976, v. 3.
458. Hodges G. W. T. African Responces to European Rule in Kenya (to 1914).—«Hadith 3».
459. Hollingsworth L. The Asians in East Africa. L., 1963.
460. H о 11 i n g s w о r t h L. W. A Short History of East Coast of Alrica. L., 1961.
461. Holtham G., Hazlewood A. Aid and Inequality in Kenya. British Development Assistance to Kenya. L., 1976.
462. Hoskyns C. The Ethiopia — Somali — Kenya Dispute, 1960—1967. Ox.,
1969.
463. Howell J. Analysis of Kenya Foreign Policy.— «The Journal of Modern African Studies». V. VI, JMb 1 (1968).
464. Hunt D. Growth versus Equity? An Examination of the Distribution of Economic Status and Opportunity in Mbere, Eastern Kenya. Nairobi, 1975.
465. H u n t i n g f о r d G. W. B. The Nandi of Kenya: Tribal Control in a Pastoral Society. L., 1953.
466. Huntingford G. W. B. Nandi Work and Culture. L., 1950.
467. Huntingford G. W. B. The Northern Nilo-Hamites. L., 1953.
468. Huntingford G. W. B. The Peopling of the Interior of East Africa by its Modern Inhabitants.—History of East Africa. V. 1.
469. Huntingford G. W. B. The Southern Nilo-Hamites. L., 1953.
470. Huxley E. White Man’s Country. Lord Delamere and the Making of Kenya. N. Y., 1935, v. 1, 2.
471. Huxley E. No Easv Way. A History of the Kenya Farmers’ Association and Unga Ltd. Nairobi, f6. r.].
472. Hyden G. Efficiency Versus Distribution in East African Cooperatives. Nairobi, 1973.
473. Ingham K. A History of East Africa. L., 1962.
474. Jackson K. The Dimentions of Kamba Pre-Colonial History —Kenya before 1900.
475. Jackson K. A. An Ethnohistorical Study of the Oral Traditions of Akamba of Kenya. Los-Angeles, 1972.
476. Jacobs A. H. A Chronology of Pastoral Maasai.— «Hadith I».
477. Jacobs A. H. Masai Pastoralism in Historic Perspective.— Pastoralism in Tropical Africa. L., 1975.
478. J a n m о h a m e d К- K- African Labourers in Mombasa, 1895—1940.- «Hadith 5».
479. Janmohamed К.. K. Ethnicity in an Urban Setting: a Case Study of Mombasa.— «Hadith 6».
480. Kamoche J. G. Imperial Trusteeship and Political Evolution in Kenya, 1923—1963: A Study of the Official Views and the Road to Decolonization. Wash., 1981.
481. Кар 1 insky R. Readings on the Multinational Corporations in Kenya. L., 1978.
482. Kenya Historical Biographies, ed. by K. King and A. Salim. Nairobi, 1971.
483. Kenya: the Politics of Repression.— «Race and Class». V. XXIV, № 3 (Special issue. Winter 1983).
484. Kesby J. B. The Cultural Regions of East Africa. L., 1977.
485. Kenya: le Rapport Kariuki —«Revue française d’études Politique Africaines». № 115 (Juillet 1975).
486. Kiewiet Hemphill M. The British Sphere, 1884—1894.— History of East Africa. V. 1.
362
487. К ini a mb о J. N. The Economic History of the Kamba, 1850—1950.— «Hadith 2».
488. King J. P. Stabilisation Policy in an African Setting: Kenya, 1963—
1973. L. 1979.
489. King K. Education and Social Change: The Impact of Technical Training in Colonial Kenya.—«Hadith 6».
490. Kipkorir В. E. The Education, Elite and Local Society. The Basis for Mass Representation.— «Hadith 4».
491. Kitching G. Class and Economic Change in Kenya: the Making of an African Petit Bourgeoisie, 1905—1970. L., 1980,
492. Kiekshuts H. Ecology Control and Economic Development in East African History. L., 1977.
493. Kongstad P., Monsted M. Family Labour and Trade in Western Kenya. Uppsala, 1980.
494. Korir K., Mosonik arap. The Capital-Labour Contradiction on the Railway in Kenya during the Decline of Classical Colonialism. An Experiment in Dialectical Method. Nairobi, 1977 (mimeo).
495. Korir K. Mosonik arap. The Kipsigis, Land and the Protest Phenomenon in Colonial Kenya. Manuscr., 1978.
496. Korir K. Mosonik arap. The Tea Plantation Economy in Kericho District and Related Phenomena to circa 1960, B. A. Dissertation, Department of History, University of Nairobi, 1976.
497. Kuczynski R. R. Demographic Survey of British Empire. V. 2. L.„ 1949.
498. Lamb G. Peasant Politics. Conflict and Development in Muranga.. N. Y., 1974.
499. Lambert H. E. Kikuyu Social and Political Institutions. L., 4956.
500. Lamphear J. The Kamba and the Nothern Mriina Coast — Precolonial! African Trade. Essays on Trade in Central and Eastern Africa before 1900, ed. by R. Gray and D. Birmingham. L., 1970.
501. Langdon S. W. Multinational Corporations in the Political Economy of Kenya. L., 1981.
502. Leadership in Eastern Africa. Six Political Biographies, ed. by N. R. Ben- net. Boston, 1968.
503. L e i t n e r K. Workers* Trade Unions and Peripheral Capital in Kenya after Independence. Berne, 1977.
504. Le Vine R., Le Vine B. Nyansongo: Gusii Community in Kenya. N. Y., 1966.
505. Lewis R. W. E. The Maasai Traditional Way of Life.— Nairobi: City and Region, ed. by W. T. W. Morgan. Nairobi, 1967.
506. Lewis R., Foy Y. The British in Africa. L., 1971.
507. Leys C. Development Strategy in Kenya since 1974—«Canadian Journal of African Studies». V. XIII, № 1—2 (1979).
508. Leys C. Underdevelopment in Kenya. The Political Economy of Neocolonialism, 1964-1971. L., 1975.
509. Lindblom K. G. The Akamba in British East Africa. Uppsala, 1920:.
510. Linge L., John G. Urbanization in Kenya. N. Y., 1976.
511. Lonsdale J. M. European Attidudes and African Pressures: Missions and Government in Kenya between the Wars.— «Hadith 2».
512. Lonsdale J. M. Political Associations in Western Kenya.—Protest and Power in Black Africa, ed by R. S. Rotberg and A. A. Mazrui. N. Y.„ Ox., 1970.
513. Low D. A. British East Africa: The Establishment of British Rule, 1895—1912.— History of East Africa. V. 2.
514. Low D. A. The Nothern Interior, 1840—1884.— History of East Africa. V. 1.
515. Macphee A. M. Kenya. L., 1968.
516. Ma gut P. K. arap. The Rise and Fall of the Nandi Orkoiyot (1850— 1957). Nairobi, 1969.
517. Majdalany F. State of Emergency, The Full Story of Mau Mau. L., 1962.
363
518. Man gat J. S. A History of the Asians in East Africa, 1886—1945. Ox., 1969.
519. Marris P., Somerset A. African Businessmen: A Study of Entrepreneurship and Development in Kenya. L., 1967.
520. Marsh Z., Kingsnorth G. W. An Introduction to the History of East Africa. Cambr., 1972.
521. Mathew G. The East African Coast until the Coming of the Portuguese—History of East Africa. V. I.
522. Matson A. T. Nandi Resistance to British Rule. Nairobi, 1972.
523. Matson A. T. Nandi Traditions on Raiding.—«Hadith 2».
524. Matson A. T. Reflections on the Growth of Political Consciousness in Nandi.—«Hadith 4».
525. M a z r u i A. A. Cultural Engineering and Nation-Building in East Africa. Evanston, 1972.
526. M a z г u i A. A. On Heroes and Uhuru Worship.— On Heroes and Uhu- ru Worship. Essay on Independent Africa, L., 1967.
527. M a z r u i A. A. Prelude: Toward a Theory of Protest.—Protest and Power in Black Africa, ed. by R. Y. Rotberg and A. A. Mazrui. N. Y.,
1970.
5(28. Mazrui A. A. Social Clevage and Nation-Building in East Africa. Münick, 1970.
529. Mbithi P. Rural Sociology and Rural Development. Nairobi, 1975.
530. Mbithi P., Barnes C. Spontaneous Settlement Problem in Kenya. Nairobi, 1975.
531. McIntosh B. G. The Eastern Bantu Peoples.— Zamani.
532. Middleton J. The Central Tribes of the North-Eastern Bantu. L., 1953.
533. M i d d I e t о n J. Kenya: Changes in African Life, 1912—1945 —History of East Africa 2
534. Middleton J. The Kikuyu and Kamba of Kenya. L., 1953.
535. Mlango wa Historia (Swahili Historical Reader). L., 1894.
536. M о n s t e d M., W a 1 j i P. A Demographic Analysis of East Africa. A Sociological Interpretation. Uppsala, 1978.
537. Morgan W., Shaffer N. The Population of Kenya. Distribution and Density. Nairobi, 1966.
538. Mosley L. Duel for Kilimanjaro. An Account of the East African Campaign, 1914—1918. L., 1963.
539. M u g a E. African Responce to Western Christian Religion. A Sociological Analysis of African Separatist Religions and Political Movements in East Africa. Nairobi, 1975.
540. Mungeam G. H.. British Rule in Kenya, 1895—1912. The Establishment of Administration in the East African Protectorate. L., 1966.
541. Munro J. F. Colonial Rule and the Kamba. Social Change in the Kenya Highlands (1889—1939). Ox., 1975.
542. M u r i u к i G. Background to Politics and Nationalism in Central Kenya. —«Hadith 4».
543. M u r i u к i G. Chronology of the Kikuyu. —«Hadith 3».
544. Muriuki G. A History of the Kikuyu. 1500—1900. Nairobi, 1974.
545. Muriuki G. The Kikuyu in the Pre-Colonial Period.— Kenya before 1900.
546. Muriuki G. Kikuyu Reaction to Traders and British Administration, 1850—1904.—«Hadith b.
547. Muriuki J. Sozioôkonomische und Politische Entwicklungstendenzen in Kenya Wâhrend der Britischen Kolonialherrschaft. Unter besonderer Berüchsichtigung d. Gesellschaftsverhâltnisse d. Kikuyu. Bonn, 1974.
548. Murray-Brown J. Kenyatta. L., 1972.
549. M u t h i a n i J. Akamba from Within. Egalitarism in Social Relations. N. Y., 1973.
550. Mutiso G. S. Kenya Politics, Policy and Society. Nairobi, 1975.
551. Mwanzi H. A. A History of the Kipsigis. N., 1977.
552. Mwanzi H. A. Social Change among the Kipsigis — «Hadith 6».
364
553. NabudereD. Imperialism in East Africa. V. 1. L., 1982.
554. Ndeti K. Cultural Policy in Kenya. P., 1975.
555. Nellis J. R. The Ethnic Composition of Leading Kenyan Government Positions. Uppsala, 1974.
556. N g’e n y S. K. a r a p. Nandi Resistance to the Establishment of British Administration, 1893—1906.—«Hadith 2».
557. Nottingham J. The Development of Local Government in Kenya, Mimeo. [Б. м.], [б. r.].
558. О c h i e n g W. R. Colonial Chiefs — Were They Primarily Self-Seeking Scoundrels? —«Hadith 4».
559. О chi en g W. R. Eastern Kenya and Its Invaders. Nairobi, 1975.
560. O c h i e n g W. R. The First Word. Essays on Kenya History. Nairobi, 1975.
561. Ochieng W. R. The Gusii before 1900.—Kenya before 1900.
562. Ochieng W. R. A History of the Kadimo Chiefdom of Yimbo in Western Kenya. Nairobi, 1975.
563. Ochieng W. R. An Outline History of Nyanza up to 1914. Nairobi,
1974.
564. Ochieng W. R. An Outline History of the Rift Valley of Kenya up to A. D. 1900. Nairobi, 1975.
565. Ochieng W. R. A Pre-Colonial History of the Gusii of Western Kenya, from A. D., 1500 to 1914. Nairobi, 1974.
566. Ochieng W. R. The Second Word. More Essays on Kenya History. Nairobi. 1977.
567. Ochieng W. R. The Transformation of a Bantu Settlement into a Luo Ruothdom: a Case Study of the Evolution of the Yimbo Community in Nyanza up to A. D. 1900.— «Hadith 6».
568. Ochol I a - Ay а у о A. В. C. Traditional Ideology and Ethics among the Southern Luo. Uppsala, 1976.
569. O'Connor A. M. An Economic Survey of East Africa. L., 1966.
570. O g о t В. A. History, Anthropology and Social change. The Kenya Case.—«Hadith 6».
571. О got B. History of the Southern Luo. V. 1, Migration and Settlement, 1500—1900. Nairobi, 1967.
571a. О got B. A. Introduction. Kenya before 1900.
572. О got B. A. Kenya under the British, 1895—1963.—Zamani.
573. O g о t B. A. Kingship and Statelesness among the Nilots.— Historian in Tropical Africa. L., 1964.
574. О got B. A. The Remembered Past. Reflections on the Nature and Value of Traditional Evidence. Presidential Address to the Second Annual Conference of the Historical Association of Kenya.— «Hadith 2».
575. О got B. Revolt of the Elders: an Anatomy of the Loyalist Crowd in the Mau Mau Uprising, 1952—1956. Presidential Address to the Historical Association of Kenya Annual Conference, 1971.— «Hadith 4».
576. О got B. A. The Role of the Pastoralist and the Agriculturalist in African History.— Emerging Themes in African History, ed. by Ranger T. O. L., 1968.
577. О got B. A. Some Approaches to African History, Presidential Address to the Annual Conference of the Historial Association of Kenya.—«Hadith b.
578. О got B. A. Three Decades of Historical Studies in East Africa: 1949— 1977.— «The Pan-Africanist» (Evanston University). № 8 (July 1979).
579. О got B. A. Towards a History of the Relations between African Systems.— «Hadith 3».
580. О got B. A., Ochieng W. Mumboism —an Anticolonial Movement.— War and Society in Africa. Ten Studies, ed. by B. A. Ogot. L., 1972.
581. Ogot B., Welbourn F. B. A Place to Feel at Home. A Study of Two Independent Churches in Western Kenya. L., 1966.
581a. Okello Ayot H. Topics in East African History, 1000—1970, Nairobi, 1976.
365
582. Oliver R. Discernible Developments in the Interior, c. 1500—1840.— History of East Africa. V. 1.
583. Oliver R. The Missionary Factor in East Africa. L., 1952.
584. Oliver R., F a g e J. D. A Short History of Africa. Harmondsworth, 1962.
585. O m i n d e S. H. Land and Population Movements in Kenya. Evanston, 1968.
586. O m i n d e S. H. Populations Growth and Economic Development in Africa. L., 1972.
587. Ominde S. H. The Population of Kenya, Tanzania and Uganda. Nairobi, 1975.
588. О so go J. N. B. Educational Developments in Kenya, J911—1924.— «Ha- dith 3».
589. Osogo J. The Historical Traditions of the Wanga Kingdom.—«Ha- dith b.
590. Osogo J. A History of the Baluiya. Nairobi, 1966.
591. Osogo J. The Significance of Clans in the History of East Africa.— «Hadith 2».
592. Pankhurst R. К- P. Kenya. The History of Two Nations. L.,
[6. r.].
593. Parkin D. The Cultural Definition of Political Responce: Lineal Destiny among the Luo. L., N. Y., 1978.
594. People and Land in Africa South of the Sahara. Readings in Social Geography, ed. by R. M. Prothero. L., 1972.
595. Pirn A. The Financial and Economic History of the African Tropical Territories. Ox., 1940.
596. Politics and Public Policy in Kenya and Tanzania. N. Y., L., 1979.
597. Prelude to East African History, ed. by M. Posnansky. Ox., 1966.
598. P r i n s A. H. J. The Swahili-Speaking Peoples of Zanzibar and East African Coast. L., 1961.
599. Prins A. H. J. The Shungwaya Problem.—«Anthropos». V. LXV11 (1972).
600. R a к e A. Tom Mboya. Young Man of New Africa. L., 1962.
601. Ranger T. O. Dance and Society in Eastern Africa. L., 1975.
602. Reusch R. History of East Africa. Stuttgart, 1954.
603. Roelker J. P. Mathu of Kenya: A Political Study. Stanford, 1976.
604. Rosberg C. G., Nottingham J. The Myth of «Mau Mau». Nationalism in Kenya. L., 1966.
605. Ross M. H. Grass Roots in African City. Political Behaviour in Nairobi, Cambr., 1975.
606. Rotberg R. J. Joseph Thomson and the Exploration of Africa. L.,
1971.
607. R о t h c h i 1 d D. Racial Bargaining in Independent Kenya. A Study of Minorities and Decolonization. Ox., 1973.
608. Ruthenberg H. African Agricultural Production Development Policy in Kenya, 1952—65. Heidelberg, 1966.
609. Saberwal S. C. The Traditional Political System of the Embu of Central Kenya. Nairobi, 1970.
610. S a 1 i m A. J. Early Arab Swahili Political Protest in Colonial Kenya.— «Hadith 4».
611. Salim A. J. The Movement for «Mwambao» or Coast Autonomy in Kenya, 1956—1963.— «Hadith 2».
612. Salim A. The Swahili Speaking Peoples of Kenya’s Coast, 1890—1965. Nairobi, 1971.
613. Sandbrook R. Proletarians and African Capitalism. The Kenya Case, 1960—1972. Cambr., 1975.
614. Sheriff A. M. N. Trade and Underdevelopment: The Role of International Trade in the Economic History of the East African Coast before the 16th Century.—«Hadith 5».
615. Singh Ch. Later Asian Protest Movements.—«Hadith 4».
616. S 1 a t e r M. The Trial of Jomo Kenyatta. L., 1956.
366
617. Sorrenson M. P. K. Kenya Land Policy.— History of East Africa. V. 2.
618. Sorrenson M. P. K. Land Reform in the Kikuyu Country. A Study of Government Policy. Nairobi, 1967.
619. S о r r e n s о n M. P. K. Origins of European Settlement in Kenya. L., 1968.
620. Spear T. T. The Mijikenda, 1550—1900.—Kenya before 1900.
621. Spear T. Kenya’s Past. L., 1982.
622. Sticher S h. Migrant Labour in Kenya: Capitalism and African Res- ponce, 1895—1975. L., 1982.
623. Stranders J. The Portuguese Period in East Africa — Kenya History Society Transactions. V. 2. Nairobi, 1961.
624. Strayer R. W. The Making of Mission Communities in East Africa:
Anglicans and Africans in Colonial Kenya, 1875—1935. L., 1978.
625. Strobel M. Muslim Women in Mombasa, 1890—1975. New Haven,
1979.
626. Sutton J. E. G. The Kalenjin —Kenya before 1900.
627. Sutton J. E. G. The Settlement of East Africa.—Zamani.
628. Sutton J. E. G. Some Reflections on the Early History of Western Kenya.— «Hadith 2».
629. Swainson N. The Development of Corporate Capitalism in Kenya, 1918—1977. Berkeley, 1980.
630. Temu A. J. The Giriama War, 1914—1915.— War and Society in Africa. Ten Studies, ed. by B. Ogot. L., 1972.
631. Temu A. J. The Role of the Bombay Africans (Liberated Slaves) on the Mombasa Coast, 1874—1904.—«Hadith 3».
632. Temu A., S w a i B. Historians and African History: a Critique. L., 1981.
633. Tignor R. The Colonial Transformation of Kenya: the Kamba, Kikuyu and Masai from 1900 to 1930. Princeton, New York, 1976.
634. Wa-Githumo M. Land and Nationalism: the Impact of Land Expropriation and Land Grievances on the Rise of Nationalist Movements in Kenya, 1885—1939. Lanham, 1981.
635. Walker E. British Empire, Its Structure and Spirit, 1497—1953. L., 1956.
636. Ward W. E. F. White L. East Africa. A Century of Change, 1870— 1970. Nairobi, 1971—1973.
637. Wasserman C. Politics of Decolonizations: Kenya Europeans and the Land Issue, 1960—1965. Cambr., 1976.
638. W e a t h e r b y J. M. Nineteenth Century Wars in Western Kenya.— «Azania», V. II, 1967.
639. Wei bourn F. B. East African Rebels. L., 1961.
640. WelbournF. B. East African Christian. L., 1965.
641. Were G. S. A History of the Abaluyia of Western Kenya, c. 1500— 1930. Nairobi, 1967.
642. Were G. S. Politics, Religion and Nationalism in Western Kenya, 1942—1962. Dini ya Msambwa Revisited.— «Hadith 4».
643. Were G. S. The Western Bantu Peoples from A. D. 1300 to 1800.— Zamani.
644. Were G. S., Wilson D. East Africa throung a Thousand Years, N. Y., 1970.
645. de Wilde Y. C. et al. The Experience in Central Nyanza District.— Experiances with Agricultural Development in Tropical Africa. Baltimore, 1967, v. 2.
646. Wipper A. Elijah Masinde — A Folk Hero.—«Hadith 3».
647. Wipper A. The Gusii Rebels, (1905—1908).—Protest and Power in Black Africa, ed. by R. H. Rotberg and A. A. Mazrui. N. Y„ 1970.
648. Wolf R. D. The Economics of Colonialism. Britain and Kenya, 1870— 1930. New Haven, London, 1974.
649. Wrigly C. C. Kenya. The Patterns of Economic Live, 1902—1945- History of East Africa. V. 2.
367
650. Zwanenberg R. M. A. Anti-Slavery—The Ideology of 19th Century Imperialism in East Africa.— «Hadith 5».
651. Z wanenber g R. M A. Colonial Capitalism and Labour in Kenya, 1919—1939. Kampala, 1975.
652. Zwanenberg R. M. A. The Economic Responce of Kenya Africans to European Settlement, 1903—1939.—«Hadith 4».
653. Zwanenberg R. M. A., King A., An Economic History of Kenya and Uganda, 1800—1970. Nairobi, London, 1975.
УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ
Абердэр (Ньяндаруа) хребет 5, 32, 33, 63, 133, 235—237 Австралия 329 Аддис-Абеба, г. 197 Азания, ист. 38 Амбони, р. 124
англичане, эти. 13, 14, 50, 70, 75, 87— 89, 95, 96, 99—101, 103—110, 114, 123, 133—136, 141, 143, 157, 163, 197, 198, 219, 225, 226, 236, 252, 312 Англия см. Великобритания Ангола 295
арабы, этн. 12, 36, 39, 40, 42, 73, 76, 119, 161 Аравия 70, 75 аруша, этн. 59 ати, этн. 30, 32, 33, 60 Ати Ривер, г. 1912
Африка 6, 11, 15—19, 77, 78, 90, 115, 118, 132, 136, 15(2, 161, 180, 194,
202, 207, 213, 219, 223, 224, 238,
241, 245, 257, 292, 294, 295, 297,
313, 326, 327
Восточная 13—15, 20—22, 33, 38, 70, 72, 78, 83, 87—90, 95—97, 105, 108, 112, 113, 115, 116, 119, 127,
130, 138—140, 143, 147, 153, 162— 164, 167, 168, 183, 189, 190, 213,
215, 219—221, 227, 243, 264, 297, 298, 338 Западная 174 Тропическая 6, il 3, 147 Центральная 115, 243, 296 Южная 114, 153, 161, 162, 164, 189, 219, 243, 329
африканцы 8—13, 15, 16, 40, 43, 55, 77, 90, 93, 94, 99, 108—110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 123, 125— 132, 135, 137—140, 142—146, 148— 150, 153—157, 159—162, 164, 165, 167, 169—174, 177, 180—183, 185— 187, '190, 191, 196—202, 204, 205, 208, 211—220, 222—228, 230—232, 234, 238—241, 244, 246, 247, 257, 261, 262, 266, 294, 298, 300, 312— 315, 319, 320, 322, 331, 332, 346
баджун, этн. 42 Баджунские о-ва 87 Бассо-Нарок, оз. см. Рудольф
Бахр-эль-Газаль, р. 23 Баринго, оз. 59, 70, 93, 107 Бахрейн 40
Белое нагорье, ист. см. Нагорье
Бенадирское побережье 43
Берег Слоновой Кости 327
Берлин 193
Бирма 197—199
Ближний Восток 40, 197, 198
Болгария 294
бок, этн. 28, 49
Бомбей 88
бонгомек, этн. 28, 49 боран, эти. 33, 107, 108 Брава, г. 88, 96 Британия см. Великобритания Британский восточноафриканский протекторат, ист. 97, 143 Британское Сомали, ист. 197 Буганда, ист. 71, 96 Букусу, округ 225 Буре, селен. 138 Бургея, местность легенд. 28 буры, этн. 114, 219 Бусога, ист. 66, 71
Ваджир, г. 108 Ванга, г. 97, 100
ваньика, ньика, этн. ист. см. миджи- кенда
Васо-Ньиро, р. 92
Великие африканские озера, Великие озера 90, 91
Великобритания (Англия, Британия, Соединенное королевство) 7, 8, 14, 87—89, 95, 96, 112, 114, 128, 129, 135, 139, 152, 166, 169, 171, 184, 194, 213, 215, 256, 294, 295, 306, 312, 317, 326, 328 Венгрия 294
Виктория, оз. 5, 23, 27, 66, 71, 82, 92, 93, 95, 96, 113, 203 Винам, залив см. Кавирондо Виту, г. 96, 97, 99, 100 Вокера, селен. 36 Вумба, г. 68, 86 Вьетнам 294
Гази, г. 99, 100
Гаки, местность ист. см. Ньери
24 Зак. 654
369
галла, этн. см. оромо ганда, этн. 27, 71, 107 Гатунду, г. 278 Геди, г. 72, 73 Гельголанд, о-в 97 Гем, локация 184 Германия 89, 95—97 Германская Восточная Африка, ГВА, ист. 99, 100, 143
гикуйю, этн. 5, 14, :17, 27, 29—33, 46, 50, 52, 57, 59—63, 65—67, 69, 70, 82, 91, 93—95, 101—104, 112, 120, 124—127, 131—133, 135, 144, 148, 149, 151, 174—177, 180, 183, 184, 186—196, 201—204, 207—209, 211— 213, 216, 217, 1220, 222, 226, 227, 229—231, 233—242, 247, 253, 255, 258, 275, 277—281, 283, 288, 307— 310, 318, 336, 340
гириама, этн. 35, 63, 64, 68, 100, 101, 123, 125, 138, 143, 150, 177, 247 Гириама, селен. 36, 63 Гитунгури, г. 209, 227, 253 Гитунгури, локация 190 Гоа 84, 85
гумба (агумба), этн. ист. 30—33, 60 гусии, этн. 5, 15, 25, 27—29, 31, 51, 57, 65, 67, 82, 106, 123, 124, 141, 143, 176, 177, 239, 247, 253
Дарогетти, селен. 99, 102, 137 Дар-эс-Салам, г. 96, 227, 276 джибана, этн. 35, 36, 63 джие, этн. 29 Джуба, р. 39, 42 Дзомбо, селен. 68, 69 диго, этн. 35, 36, 42, 63, 68, 86, 100, 101, 123
доробо (окиек), этн. 5, 15, 21, 28, 30, 32:, 34, 46—48, 57, 60, 61, 65, 69, 91, 125, 126, 133, 148, 174, 203 Дурбан, г. 220 дурума, этн. 35, 36, 63, 123
европейцы 9, 12, 32, 49, 57, 74, 76, 85, 90—92, 94, 102, 103, 107—109, 113, 114, 116, 122—125, 129, 131, 135, 138—141, 144—146, 148, 149, 154— 156, 161, 162, 165, 167—170, 173— 175, 182, 187, 189, 196, 198, 203, 205, 211, 214, 216, 218, 223, 225, 228— 231, 233, 238, 241, 242, 244, 247— 250, 255—257, 262, 265, 272, 300, 303, 314, 315, 317, 320, 346 Европа 17, 86, 94, 113, 152, 194, 208, 213 313
Египет 25, 27, 28, 38, 198
Заир (Конго) 294 Замбези, р. 84
Занзибар, о-в 38, 41, 43, 70, 72, 74,
75, 87, 88, 90, 95, 96, 97, 99, 100, 108
Занзибарский султанат, ист. 83, 87, 88, 97
Западная провинция 97, 258, 334 зимба, этн. ист. 84 зинджи, этн. ист. 13, 39—43 Золотой Берег, ист. 128
Игембе, местность 31 Израиль 115
Иисус, форт 84, 85, 87, 88 Индийский океан 5, 22, 23, 36, 44, 45, 66, 82, 85, 97
индийцы 42, 99, 112, 113, 115, 119, 128, 131, 154, 157, 162—169, 172, Л 73, 183, 184, 198, 214, 220, 250,
322'
Индия 78, 83, 85, 100, 112, 138, 163, 164, 202, 256 Индостан, п-ов 78 Итанга, местность ист. 31
Иимбо, местность 66, 71
Кабете, местность ист. см. Киамбу Кабете, селен. 197, 217 кавирондо, этн. ист. 93, 143, 157, 184—186, 190—192
Кавирондо (Винам), залив 5, 14, 23, 25, 27, 52, 70, 92 Каджиадо, округ 318 Какамега, г. 153, 275 Какамега, округ 156, 157, 191 кален джин, этн. 5, 15, 25, 27—29, 46, 48—53, 56, 59, 65, 70, 80, 148, 225, 241, 247, 258, 270, 279, 281, 307 Камасия, возв. 14, 93 камба, этн. 5, 15, 27, 30, 31, 35, 36, 50, 57, 66—70, 72, 80—82, 91, 101,
102, 104, 108, 123, ;124, 127, 128,
138, 149, 180, 190, 192, 193, 199,
203, 204, 216, 239, 242, 247, 259,
278, 281, 307 камбе, этн. 35, 36, 63 Камбе, селен. 63 Камерун 22, 327
Камириту, селен. 291, 299, 305, 306
Кампала, г. 227, 276
Канбалу, о-в ист. 41
Кано, равн. 27
Капити, плато 92
Капсабет, г. 275
карамджонг (карамоджо), этн. 25, 28, 29, 52
Каратина, г. 222 Карфаген, ист. 140 Касигао, гора 90 каума, этн. 35, 63 Каума, селен. 63
370
Квале, округ 333 кейо, эти. ист. см. элгейо Кения (Кириньяга), гора 5, 9, 23, 30, 32—35, 63, 69, 70, 90, 92, 93, 103, 195, 229, 230, 235—237 Керио, р. 29, 107 Керита, локация 235, 236 Киамбу, г. 124
Киамбу (Кабете), округ 31, 32, 60, 61,
102, 125, 127, 176, 180, 204, 212,
213, 229, 234, 235, 239, 240, 246,
249, 275, 277, 280, 308, 316, 339,
340
Кибвези, г. 138
Килиманджаро, гора 35, 59, 90—93, 95, 96
килио, эти. см. сегеджу Килифи, г. 275
Кильва (Кильва-Кивиндже), г. 74 Кильва (Кильва-Кисивани), г. ист.
43, 44, 72, 76, 83 Кипини, бухта 96
кипсигис, зтн. 14, 15, 27, 28, 48—52, 59, 81, 124, 131, il 74, 177, 180, 195, 203, 204, 207, 239, 253, 258, 318 Кириньяга, округ 275 Кириньяга, гора ист. см. Кения Кисии, округ 318, 333 Кисмайо, г. 96, 97
Кисуму, г. 113, 184, 203, 223, 275, 279, 294, 295
Кисуму, округ 318
Китуи, округ 67, 101, 112, 123, 124, 137
Китуи, г. 231, 265 Киш, о-в ист. 43 КНР 295
Коморские о-ва 43 Конго, ист. см. Заир Конго (Заир), р. 22 кони, этн. 28, 49 Куба 295 кумаси, этн. 29 куриа, этн. 27, 31, 177
лаа, этн. легенд. 35, 36 Лайкипиа, плато 59, 93, 120 Лайкипиа, округ 122, 175 Ламу, архипелаг 33, 40 Ламу, г. 72, 73, 75, 84, 87, 89, 96, 97, 123, 193
Ламу, о-в 38, 42, 96 Лари, локация 235, 236 Ливия 327
Лимуру, г. 117, 124. 235, 269, 285 Лимуру, локация, 305, 306 Линди, г. 143 логоли, этн. 27 Лодвар, г. 248
Лондон, г. 95, 115, 131, 152, 155, 161, 24*
164, 165, 167—169, 181, 184, 191— 1Q4 243 249 291
луйя, эти. 5, 15, 23, 25—27, 52, 53, 59, 65, 71, 72, 80, 107, 124, 133, 135, 136, 149, 177, 184, 185, 191, 203г 204, 225, 239, 247, 258 Лунные горы, ист. 38 луо, этн. 5, 14, 15, 23, 25, 48, 52—54,. 65—67, 82, .106, 107, 124, 140—142, 149, 177, 184, 185, 203, 204, 222— 224, 227, 239, 240, 242, 247, 255, 275, 277—279, 281, 307, 308
мавры, этн. ист. 73 Магади, г. 132 Магета, о-в 66, 71, 92 Мадагаскар, о-в 41, 197 Макуэни, локация 216 Малинди, г. 35, 38, 42, 43, 74, 76, 83 84, 86, 97, 116, 123 Манда, г. 43, 84, 96 Манда, о-в 33, 38 Манчестер, г. 192, 219 Маралал, г. 249 мараквет, этн. 49, 107, 239 масаи, этн. 5, 14, 15, 25, 27—30, 33— 35, 46, 48, 50—60, 63, 65, 67—70г 72, 80, 82, 9.1—94, 100, 102— 104г 107, 112, 120, 122, 123, 133, 148, 151, 174, 177, 180, 203, 204, 231г 246, 247, 318 Маскат, г. 87 May, плато 46, 59 Мафия, о-в 43, 74, 96 Махиу, р. 308
Мачакос, г. 99, 101, 102, 128, 184, 231, 258, 265
Мачакос, округ 101, 123, 124, 190г 199, 204, 216, 344 Мбва, о-в легенд. 33 мбере, этн. 31, 66, 69 Мбоони, холмы 35 мвеси, этн. ист. 33 Межозерье 22, 23, 69, 71 Менутесия (Менутий, Менутиас), о-в ист. 38
Мерка, г. 43, 96 Мероэ, ист. 22
меру, этн. 5, 31, 33, 34, 35, 50, 60, 195, 237, 238, 241, 247, 278, 280, 283, 309, 336, 340 Меру, гора 92, 93 Меру, г. 99
Метуми, местность ист. см. Муранга миджикенда, этн. 5, 15, 35, 36, 42, 63, 64, 67—70, 72, 85, 86, 90, 91, 100, 101
Мисри, местность легенд. 25, 27, 28 Могадишо, г. 75, 96 Мозамбик 69, 86, 143 мозунгуллос, этн. ист. 36
371
Момбаса, г. 36, 42, 43, 67—70, 72— 76, 81, 83—87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 112, 127, 128, 132, 134, 138, 142, 153, 163, 170, 172, 174, 196, 200, 201, 203, 216—218, 220, 260, 268, '287, 328 Москва, г. 193, 194 Моши, г. 227 Мояле, г. 108
Мукуруе ва Гатанга, местность легенд. 30, 31
Мумиас (Элуреко), г. 99, 107 Муранга (Форт Холл), г. 99, 184, 265, 266, 300
Муранга (Метуми, Форт Холл), округ 30, 31, 61, 103, 125, 133, 176, 189, 201, 204, 211, 212, 216, 232, 235,
239, 1240, 261 Мусома, г. 66
Нагорье (Белое нагорье) 120, 146, 153—155, 157, 161, 163, 164, 172, 174—176, 189, 191, 203, 216, 231, 241, 243—248, 250, 254, 255, 259, 260, 272, 314—317, 320, 331, 332
Найваша, округ 174, 175 Найваша, оз. 92, 97 Найроби, г. 11, 115—117, 142, 152, 153, 155, 169, 172, 181, 183—187,
192, 196, 201, 203, 216, 217, 220,
221, 225, 232, 237, 239, 242, 248— 250, 252, 269, 276, 278, 280, 283, 284, 287, 290, 291, 296, 308, 312, 316, 331, 336, 337, 342 Найроби, округ 241 Накуру, г. 99, 115, 214, 252, 260, 266, 286—289, 316, 346
Накуру, округ 160, 175, 213, 275, 317 Накуру, оз. 59, 92
нанди, этн. 14—16, 25, 28, 49, 51, 52, 59, 69, 82, 104—106, 112, 124, 125, 128, 131, 150, 156, 174, 177, 180, 195, 203, 204, 207, 258, 318 Нарок, округ 316 Натрон, оз. 59 Нгонг, холм 63 нгуо нтуни, этн. легенд. 33 нджемпс, этн. 59 немцы, этн. 13, 92, 99, 123, 171 Нигерия 159 Северная 132
Нил, р. 23, 38, 39, 90, 91 Ньери, г. 99, 184
Ньери (Гаки), округ 31, 60, 61, 103, 125, 176, 180, 189, 204, 212, 213, 230, 232, 235, 239, 240, 308 ньямвези, этн. 69 ньянгори, этн. 49 Ньяндаруа, хребет см. Абердэр Ньяндо, долина 14, 59, 124 Ньянза, пров. 14, 23, 25, 27, 97, 118,
119, 142, 161, 172, 176, 177, 180,
181, 184, .186, 195, 199, 211, 220,
223, 239, 240, 275, 276, 278, 293,
307, 318, 333
Северная, округ, ист. 53, 107, 134, 177, 204, 224
Центральная, округ ист. 53, 177, 240, 258
Южная, округ 25, 53, 66, 71, 106, 141, 177, 258 Ньяса, оз. 95 Ньясаленд, ист. 161, 255 Ньяхуруру-Фолс, г. 286
Огаден, пров. 128 окиек, этн. см. доробо Олдувайское ущелье 20 Ол Доньо Сабук, холм 63 Оленгуруоне, локация 631 Ол-Калоу, г. 278, 315 Оман 40, 43, 68, 84—88 Омо, р. 93
оромо (галла), этн. 5, 28—30, 33—36, 42, 60, 64, 67, 69, 72, 86, 90—93, 138, 148, 203
Пангани, р. 38, 86
Пате, г. 43, 76, 84—87, 96
Пате, о-в 38, 41
Пемба, г. 68, 76, 84, 86
Пемба, о-в 41, 43, 74, 87, 96, 97, 132
Персидский залив 84
Персия, ист. 43», 84
персы, этн. 39, 42
покомо, этн. 29, 35, 36, 42, 70
покот, этн. 28, 29, 49, 52, 107, 225
Польша 294
португальцы, этн. 13, 68, 77, 83—86, 110
Прибрежная провинция 244, 251, 258, 333
рабаи, этн. 35, 36, 63, 67, 68 Рабаи, г. 90, 100, Г38 Рапты, г. ист. 38 рендилле, этн. 31, 107, 108 Реюньон, о-в 88 рибе, этн. 35, 36, 63 Рибе, селен. 63, 91, 138 Рим, ист. 140
Рифт-Вэлли, долина 5, 21, 28, 29, 44, 59, 92, 120
Рифт-Вэлли, пров. 97, 189, 246, 252, 261, 279
Родезия, ист. 11, 152, 166, 167, 255 Северная 161 Южная 161, 162,166 Руанда 195 Рувума, р. 143
Рудольф (Бассо-Нарок, Туркана), оз.
20, 25, 27, 29, 93 Руфиджи, р. 38, 143
372
Сабаки, р. 91, 123 сабаот, этн. 49 самбуру, этн. 29, 107, 108 Сахара, пустыня 77 себеи, этн. 49, i225 Северное море 97 Северо-Восточная провинция 318 сегеджу (килио), этн. 35, 36, 42, 84 Серенли, селен. 108 сириква, этн. легенд. 45—47, 49, 55, 69
Сиу, г. 84 сога, этн. 27, 71
Соединенное королевство см. Великобритания
сомали, сомалийцы, этн. 5, 28—30, 42, 60, 107, 108, 128, 148, 203 Сомали 197, 296 Сотик Г24
Софала, ист. 39, 74, 83 СССР, Советский Союз 264, 279, 295, 296
суахили, суахилийцы, этн. 5, 36, 37, 42, 44, 70—72, 91, 104, 107, 127,
134, 142 Судан 96
Султан-Хамуд, г. 1412, 150 США 17, 86, 128, 140, 294, 295, 328, 329
тавета, этн. 59, 91, 109, 143 Тавета, г. 123 Тагана, р. 31
тагику, этн. легенд. 31, 32 Такаунгу, г. 97, 99, 100 Тана, р. 29, 30, 31, 33, 35, 91, 92, 100 Танга, г. 43, 86, 196 Танганьика 39, 69, 91, 95, 143, 161, 163, 180, 208, 224, 260 Танганьика, оз. 97
Танзания 20, 21, 28, 29, 35, 66,
291, 292, 295, 296, 326, 327 тарака, этн. 66, 104 Тару, пустыня 85
тейта, этн. 35, 42, 70, 91, 101, 123, 127,1138, 176, 204 Тейта, округ 333 Тейта, холмы 123, 138, 193, 201 тесо, этн. 25, 29, 53 Тигания, местность 31 Тигони, селен. 235, 236 Тика, г. 118, 209, 217, 252 Тика, р. 31
тикирри, этн. легенд. 60
Тогото, селен. 173
Транс-Нзойя, округ 225
Транс-Нзойя, плато <29
туген, этн. 14, 49, 107, 308
туркана, этн. 5, 29, 31, 107, 108, 130
УязинТишу, округ 225 УазннТишу, плит 29, -Mi, 49, !>9, 114, 120
Уганда 27, 29, 53, <И>, 96 9/, 102, 118, 128, 139, 159, 101, 103, 1 НО, 195, 208, 212, 224, 200, 295 Восточная 25, 26
Укамба, Укамбаии, местность 177, 192, 193, 201, 259 умпуа, этн. леген. 33, 34
Форт Холл, г. ист. см. Муранга Форт Холл, округ ист. см. Муранга Франция 89 ФРГ 295
Фрерентаун, селен. 138, 139, 142 Фунго, селен. 123
Хола, г. 243
Цейлон, о-в ист. 197, 198 Центральная провинция 31, 32, 186, 211, 218, 232, 239—241, 269, 270, 318, 333, 334
чагга, этн. 36, 59, 90 Чаииа, р. 124, 308 Чехословакия 294 чоньи, этн. 35, 36, 63
Шанга, г. легенд. 40 Швейцария 113 шотландцы, этн. 104, 154 Шунгвайя, легенд. 20, 31, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 63
элгейо (кейо), этн. 14, 28, 49, 52, 107, 239
Элгон, гора 5, 27—29, 45, 46, 70, 71,
93
Элурско, селен, ист. см. Мумиас Эльмеитейта, оз. 92 эмбу, эти. 5, 27, 31, 50, 60, 66, 69, 195, 203, 237, 238, 241, 247, 278, 280, 283, 309, 336, 340 Эмбу, г. 99
Эритрейское море, ист. 38 Эфиопия 107, 194, 197, 287, 296 эфиопы, этн. 31, 38
ЮАР (ЮАС) 152, 166, 296 Югославия 294
яо, этн. 69
японцы, этн. 197, 198 Ятта, плато 231
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абуйя А. 291 Авори У. 220
Акуму3 Д.2 267—270, 275, 277, 278, 281
Аликзандер Д. У. 189
Альмейда Ф. 83
Аньона Дж. 284, 286, 291, 292
Апинди Е. 190
Арвингс-Кодек. К. 241
Ахмад Хасан бин 84
Бакари Фумо 99, 100 Барбоза Д. 73, 74 Баргаш 88, 89, 95—97, 100 Барнетт Д. И
Батута, Абу Абдаллах Мухаммед Ибн 72
Бейтенхейс Р. 15 Бенджамин 299 Беннет Дж. 13
Бланделл М. 9, 214, !241, 244, 245, 248, 256, 272, 317
Бликсен К. (Динсен И.) 9, 126, 182, 299
Блэкберн P. X. 15
Бойес Д. 9, 102, 103, 133
Бриггс Л. 244, 245, 255, 272
Бусайди, династия 68
Бушири 99
Бьюта Дж. 173, 187
Вайяки 102, 103, 109, 110, 258 Вакахангара Л. 236 Вамбаа Р. 246, 254, 259 Вамвейя Дж. 11 Вамвере Коиги ва 291 Вангомбе 103, 133 Варухиу 234 Варфа О. 19
Вачанга X. К. 11, 226, 230, 231, 235, 258
Вашингтон Б. 140
Вере Г. С. 15, 16, 135, 297
Видал, капитан 87
Вильсон Дж. 102
Владимиров Л. С. 18
Вокаби В. 230
Вуд С. 9
Вэйзи Э. 242
Гаи Д. П. 15
374
Гама Васко да 44, 83
Гекау Д. К. 301
Гертцель Ч. 272
Гесага У. 280, 320—323, 338
Гети Б. 288, 292
Гикару М. 9
Гикомойя Д. М. 301
Гиренко H. М. 18
Гитии Дж. 11, 291
Гичуру Дж. 246, 249, 259, 261, 270, 280, 284, 286, 289 Глухов А. М. 18 Грей Дж. 14 Григ Е. 9
Гриффитс Дж. 214, 226 Гроган Э. С. 9, 116, 119, 129, 145, 154, 163, 316, 317
Даймлер Д. 142
Дасс И. 167, 168, 191—193
Деккен К. фон 91
Демкина Л. А. 18, 167
Дернхардт Г. 92, 96
Дернхардт К. 92, 96
Десаи М. А. 163, 166
Джама М. 140
Джамидар А. 250
Джекобе А. 15
Джексон К. 15
Дживанджи А. М. 163
Джироуард П. 151
Джонс В. 138, 139
Джонстон Г. 9, 95, 96, 109, 113
Дилли М. 13
Динсен И. см. Бликсен К.
Дундас Ч. 9 Дэвид Д. 138, 139
Дэламер X. Ч. 13, 113, 115—117, 131, 151, 155, 161, 164, 167, 168, 171, 174, 272
Зотова Ю. Н. 132, 135
Иванов Ю. М. 18, 181, 240, 333, 341
ал-Идриси 41—43
Ингем К. 13
Иорданский В. Б. 206
Исмагилова P. Н. 18
Итина К- 258
Итоте В. 11, 198, 199, 233—236, 283
Кабиро H. 11
Кавендиш-Бентинк Ф. 200, 215, 241 Каггиа Б. 10, 222, 224, 231, 232, 234, 261, 262, 264—267, 270, 272, 275, 276, 279, 292
Калиновская К. П. 18, 55, 56 Камере Дж. 337 Кангете Дж. 187, 191 Карими Дж. 10, 17, 287, 289, 303, 309, 310
Кариуки Джессе 187, 191, 192, 196 Кариуки Дж. М. 10, 230, 283, 285, 286, 299, 304, 308 Кариуки П. М. 292 Карлсен Дж. 327 Карр Б. 286
Картер М. 8, 157, 174, 176, il 77, 191, 192, 217
Карумба К. 234
Каруме Н. 284, 289, 336, 339, 340 Карури 103, 133, 135, 137 Кахара Н. 337 Кахига С. 301
Кеииата Дж. 9—11, 60, 125, 149, 173, 181, 185, 187, 188, 191—195, 202, 219, 222, 226—228, 232, 234, 242— 244, 247—250, 256, 259, 262—270, 275, 277—280, 282, 283, 285—289, 291, 293, 300, 307—309, 312, 315— 317, 320, 321, 323, 337, 340 Кениата М. 280, 336—338 Кениата Н., «мама» Нгина 289, 316 Кениата П. 280, 338 Кибаки М. 276, 282', 286—289, 291, 293, 308
Кибачиа Ч. 220, 2121 Кибера Л. 12 Кибиру Чете ва 82, 209 Кивои 68, 69, 80, 90, 91, 94 Ким а ни К. 284—286 Кимати Д. 235—238, 293, 301, 305 Кимньоле 51, 82 Кингснорт Г. 13 Киньянджуи 103, il 33, 257 Киньятти Майна ва 17, 229, 291, 301, 304
Кипкорир Б. Е. 17 Кирк Дж. 88, 95 Китини 76
Китчинг Г. 17, 18, 204, 257, 341 Клейтон А. 17
Коинанге, вождь 151, 189, 190, 204, 208 232 257
Коинанге П. М. 9, 189, 190, 227, 244, 280, 283, 288, 289, 340 Койкойти 58
Корир Мосоиик арап 19 Корфилд Ф. 8, 226, 233, 234 Косухин Н. Д. 18 Коул Г. 171
Крапф И. Л. 9, 67—70, 90, 91, 94, 138
Крепнорт Б. 9
Кроутер С. 139
Круглов Л. Л. 1Н
Кубаи Ф. 221, 222, 231, 2Г>1. 2(И
Куббель Л. И. 19
Кулик С. Ф. 19, 297, 302, 322, 332, 333, 341, 344, 345 Купленд Р. 13 Кхаминва Дж. 291 Кьевьет-Хемфил М. 14
Ламберт X. 12 Легалишу 122
Лейс К. 17, 273, 343, 344, 346 Лейс Н. 159
Лемана 59, 104, 120—122, 133 Ленгдон С. 17 Леннокс-Бойд А. 241 Леопольд II 131, 132 Леттов-Форбек О. 143 Ливингстон Д. 138 Лики Г. 258 Лики Л. 20 Лики Р. 20 Линдблом К. Г. 12 Лионго Фумо 40, 75 Липскомб Дж. 9 Литтлтон О. 240, 241 Лубембе К. 267, 268, 2812 Лугард Ф. 9, 94—97, 102, 159 Лумумба П. 264, 266, 267
Маджид Ахмад Ибн 83 Мазруи, династия 68, 86—88, 100 аль-Мазруи Али бин Атман 86 Маканьенго О. 267, 269, 276 Макгрегор Росс У. 9, 159 Маккензи Б. 250, 256, 276, 320 Маккинон В. 95, 96 Маклеод Я. 244, 245 Макока С. 270 Макослан Дж. 15 Малиновский Б. 9, 12, 194 Малышева Д. Б. 18 Мангуа Ч. 12
Маркс К. 17, 18, 78, 110, 147, 202,
256
Марш 3. 13 Масиндэ Э. 224, 225 ал-Масуди 39, 41, 42 Матано Р. 285, 286, 290 Матенге С. 230, 236, 237 Матсон А. Т. 15 Мату М. 11 Мату Э. 213, 220 Маценко И. Б. 18 Мачариа Р. 234 Мбати Т. 337 Мбатиан 58, 59, 82
Мбойя Т. 10, 242, 1243, 246, 248, 251. 259, 261, 263, 266—270, 276—279, 281, 285, 295, 307, 309, 310
375
Мвакиконго 68 Мванга 96 Мвангеку 101
Мванги М. 12, 297, 300—302 Мванзи X. А. 15, 28, 50, Э1 Мвендва К. 281 Меджид Сеид 87, 88 Мейнерцхаген Р. 9, 105, 106, 133 Me Катилили 123 Метью Г. 13 Мидлтон Дж. 14 Ми дика О. 291 Миири Нгуги ва 305 Мисюгин В. М. 18, 19, 40, 42, 75—77 Митчел Ф. 9, 212, 214, 217 Мои Д. арап 241, 246, 248, 252, 270, 276, 278—280, 286—290, 292, 293, 300, 307—309, 316, 325, 326 Мокери П. Г. 9, 193, 208 Мубарак, Мбарук 7, 100, 101,110 Муго М. 305
Муигаи Н. 280, 289, 320, 338 Муинди С. 192, 193 Мулама Дж. 191, 192 Мулиро М. 242, 246, 292 Мумиа 71, 107, 133—136, 191 Муигаи Н. 280, 282—284, 286, 289, 290, 340
Муриуки Г. 15, 31, 60, 61, 103, 297
Мурумби Дж. 264
Мутаи Ч. 291
Мутисо Г. 281
Мутисо Гидеон 303
Мутуа Дж. 190
Мучучу Дж. 187
Набаханская династия 76, 85, 86 Найпол Ш. 346 Насир Масуд бин 86 Нгала Р. 244, 246, 249, 263, 268—270 Нгей П. 227, 234, 259, 265, 280, 284, 289, 307
Нгени С. К. арап 16 Нгумба Э. 308, 309 Ндегва Дж. К. 196 Нджама К- 11, 236 Нджонджо Ч. 280, 284, 285, 287— 291, 293, 294, 300, 308 Ндоло Дж. 281, 344 Ндомби В. 291 Нерсесов Г. А. 19 Норти Э. 162—164 Ноттингем Дж. 15, 16, 221, 227 Нью Ч. 9, 91, 92
Оботе М. 296 Овало Дж. 141
Огот Б. А. 13—15, 17, 159, 297, 300, 301
Одинга О. 10, 222, 223, 225, 227, 238, 242, 243, 246—250, 259, 262—270,
272, 276—279, 282, 284, 286, 290- 292., 307, 309, 319 Одинга Р. 292 Оквирри Дж. 184 Окелло-Одонго Т. 270, 279 Окуму П. О. *292 Оливер Р. 13, 117, 136 Олоитиптип С. 285, 291, 294, 316 Ольдерогге Д. А. 19, 20, 75, 202, 206 Омари Фумо 100 Омера 143
Онеко А. 227, 234, 264, 266, 270, 275, 279, 284
Оньянго Г. 284, 286 Оренга Дж. 291 Осого Дж. 15, 16, /135 Отиенде Дж. 227 Оуэн, капитан 73, 88 Оуэн, архидьякон 185, 191 Очиенг В. Р. 15, 17, 19, 108, 135, 297 Очиенг Ф. 10, 17, 287, 290, 303, 309, 310
Очолла-Айайо А. 54 Очука X. 292
Пегушев А. М. 19, 110, 228, 238, 246, 251, 258, 273 Петерс К. 95, 96 Пинто Гама Пио 264, 265 Портал Дж. 9, 1108 Потехин И. И. 18 Потехина Г. И. 19 Птолемей 38
Райли К. 14 Рамзее В. Б. il9 ар-Рашид Харуи 40 Рембанн И. 90, 91, 138 Рёйш Р. 13 Родс С. 164
Розберг К. 15, 16, 221, 227 Рольфе Дж. 95 Руарк Р. 12, 299 Рубиа Ч. 290, 308 Рузвельт Т. Г28, 140 Рузвельт Ф. Д. 210
Сакава 82
Самоей Койталель арап 105
Саттон Дж. 15
Сваи Б. 14—il7
Свейнсон Н. 17
Севидж Д. 17
Сендбрук Р. 17
Сендейо 59
Сероней Ж. М. 283—285 Сингх М. 195, 196, 221, 222 Сифуна Л. 291 Смэтс Я. X. 143 Солсбери Г.-С. 95, 96 Сорренсон М. П. К. 15, 217
376
Спиар T. 15, 63 Стэнли Г. М. 71, 92, 138 Стрендж Н. К. 12 Султан Сеид Саид бин 87, 88 Сундьята 75
Татаринова К. Л. 55 Тейт X. Р. 159 Телеки С. 70, 93, 94, 102 Тему А. 14—47 Товетт Т. 246
Томсон Дж. 9, 58, 71, 92—94, 107 Туку Г. 173, 183—187, 101, 193, 226 Тхионго Нгуги ва 10, 12, 103, 286, 291, 297, 299—303, 305, 306
Уаткинс О. Ф. 144 Уэйкфилд Т. 91
Фадиман Дж. 15 Фейдж Дж. 117, 136 Фишер Г. А. 92—94 Флинт Дж. 14
Фримен-Гренвилл Г. С. П. 14 Фумолути Ахмед 99
Хайле Селассие 287 Хаксли Э. 9, 12, 13, 415,299 Хантингфорд Г. 12, 14 Харлоу В. 13
Хасан Юсуф бин 84, 85, НО Хейвлок У. 249, 250 Хейзлвуд А. 325, 332, 343 Хейли М. 215
Хери 69
Хёнель Л. 9, 70, 93, 94, 102 Хинга Б. 280, 283, 288 Хобли С. У. 12, 107, 123, 126 Ходжес Г. 16, 136 Холл Ф. 103, 104, 133 Холлингсворт Л. У. 298 Холлис А. К. 431 Хэмертон А. 88
Чемберлен Дж. 115 Черчилль У. 116, 130, 159, 210 Чилвер Е. М. 13 Читик Н. 76
Шаревская Б. И. 230 Шикуку М. 283—285*
Шиунду 107 Штёккер Г. 19 Штиганд С. X. 13 Штрандес Дж. 13
Эйнсворт Дж. 101, 104, 118, 126, 128, 139, 144, 159, 161 Элиот Ч. 9, 114, 115, 124, 151 Эмсден А. X. 323 Энгельс Ф. 45 Эрет К. 22 Эрхардт Я. 90
Юг Ю. 48
Янг X. 167, 169, 170, 190, 191 Яруби, династия 86
SUMMARY
Irina Filatova's Modern and Recent History of Kenya covers a rather wide time span from the 17th century up to now.
Chapters I and II deal with the arrival and settlement in the country of remote ancestors of present-day Kenyans. Much attention is given to the evolution of the Kenya peoples’ social and political institutions in the 17th- 19th centuries and to the formation of regional economic complexes. Special emphasis is laid on the analysis of social structure of urban communities on the East African coast.
Chapter III assesses the nature of the Portuguese colonization of the coast, the penetration of Europeans in inland Kenya and their first contacts with African communities, the establishment of British colonial rule and the beginning of African resistance.
Chapters IV, V and VI deal with the colonial period of Kenya history, centering on the British colonial policy in Kenya, the channels through which colonialism exerted its influence on African communities, the nature of colonial society in the course of formation. Discussing the national liberation movement in Kenya the author emphasizes the Mau Mau uprising as one of the biggest anticolonial actions in Tropical Africa.
Chapters VII and VIII analyse the political struggle and social structure patterns in independent Kenya. The key points of home and foreign policy are considered. The reasons for the temporary defeat in the 60s of the left forces in their struggle for development course, power-struggle in the 70s, and new forms of opposition to the ruling regime in the 80s are discussed in detail. Much attention is given to cultural aspects, including the spiritual quests of Kenyan intelligentsia and the profile of ideological struggle in the country.
The book contains a bibliography. Both in the main section of the book and in its roundup of sources and Kenyan historiography, very prominent are the results of national historiography which has done much to restore the historical past of the country. Also considered are the main trends in Western writings on Kenya as well as Soviet Studies. The book is thereby an attempt to summarize the achievements of African studies centering on Kenya history.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава L Заселение территории Кении 20
Заселение внутренних районов 21
Истоки цивилизации восточноафриканского побережья 36
Глава II. Этногенез, социальное развитие и культура народов доколониальной Кении 47
Эволюция социальных институтов и культура народов внутренних районов 47
Формирование региональных хозяйственных комплексов 65
Города кенийского побережья 72
Глава III. Колониальный раздел и сопротивление африканских народов 83
Португальская колонизация городов побережья. Европейские державы и Занзибарский султанат .... 83
Проникновение европейцев во внутренние районы . 90
Установление английского колониального господства 95
Глава IV. Начало колониальной эксплуатации и колониальной трансформации африканских обществ Кении 112
Становление поселенческого хозяйства. Земельные экспроприации 112
Каналы воздействия колониализма на африканские общества 127 Кения в первой мировой войне 143
Глава V. Становление колониального общества «страны белого человека». Трансформация и характер антиколониализма 152
Колониальная политика в «белой» колонии 152
Трансформация африканских обществ 170
Зарождение организованных форм антиколониальной борьбы 183 Кенийцы во второй мировой войне 197
Глава VI. Кризис колониальных форм эксплуатации. Борьба за независимость 210
Социальные сдвиги и колониальная политика в первые послевоенные годы 210
Подъем антиколониальной борьбы 219
Движение и восстание May May 228
Подготовка к независимости 239
Глава VII. Политическая борьба в независимой Кении 260
Борьба за выбор пути развития 260
Характер столкновений внутри правящей верхушки 277
«Культура сопротивления» . 296
379
Глава VIIL Социальная политика правительства и характер трансформации кенийского общества после провозглашения независимости 312
Социальная направленность внутренней политики, методы ее
осуществления 312
Характер экономического роста 323
Особенности социальной структуры независимой Кении 329
Библиография . 348
Указатель этнических и географических названий 369
Указатель имен 374
Summary 378
Ирина Ивановна Филатова
ИСТОРИЯ КЕНИИ в новое и новейшее время
Утверждено к печати Институтом Африки Академии наук СССР и Институтом стран Азии и Африки при МГУ
Редактор Г. М. Козловская Младший редактор Г. С. Горюнова Художник Э. Л. Эрман Художественный редактор Б. Л. Резников Технический редактор Г. А. Никитина Корректоры Л. И. Фарберова и А. В. Шандер
ИБ № 15137
Сдано в набор 26.09.84. Подписано к печати 05.04.85. А-04334. Формат 60Х901/м
Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Уел. п. л. 24,0+0,5 п. л. вкладка на мелованной бумаге. Уел. кр.-отт. 24,5. Уч.-иэд. л. 27,81. Тираж 1850 экз. Иэд. № 5704. Зак. № 654. Цена 3 р. 20 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука*
Главная редакция восточной литературы 103031, Москва К-31. ул. Жданова, 12/1
3-я типография издательства «Наука* 107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
•xtx;â хн-;-; з::л
1—
1 piinmii.i 11К'уди|н'1 lu'iuiidtt
—
Г|нтииы 11|тш1ициП
9
1 •П1ЛНМ1.1 ПК'УД|||Ц | H
0
Цеп 11|н11П1МИиП
о
11|щ‘Мк* nm'pjiiMliibU? иункил
■■—■■ ■ —
Wr/нмш.и и i| и и н Ikl 1|tfcVllifUHHir Д|»|1Н| II
Ml ЦК Hill1 ИЩИ М и 11|»иг 1 пни
i
w
Л 4|111||11|Л М
1 [**}
Мп111М111й,п.тл* парки и шитн?лMHKII
1 и им « 1 а
) 1 ilIH1 Ш.||' III),HI
1 II |'| 1 MIHIHIIUIÜ реки
1Ш) .
til И* I Ml IIMi il l
11 iii|»|'AMii ни и nine fiftiMiiu'iuiiirf
1 IhHiMIHIIH 111 и I nil II || III!, Il 1 l|H 1ПИИЦИН III,И1ИП,
III 1 lue 1 |И ММНН 11)п HUI H КИН, IV 1 l|Millllll|||lil М«А|»»4й
(III
L
II 111) IV,II it u
. . . , 1 ! i