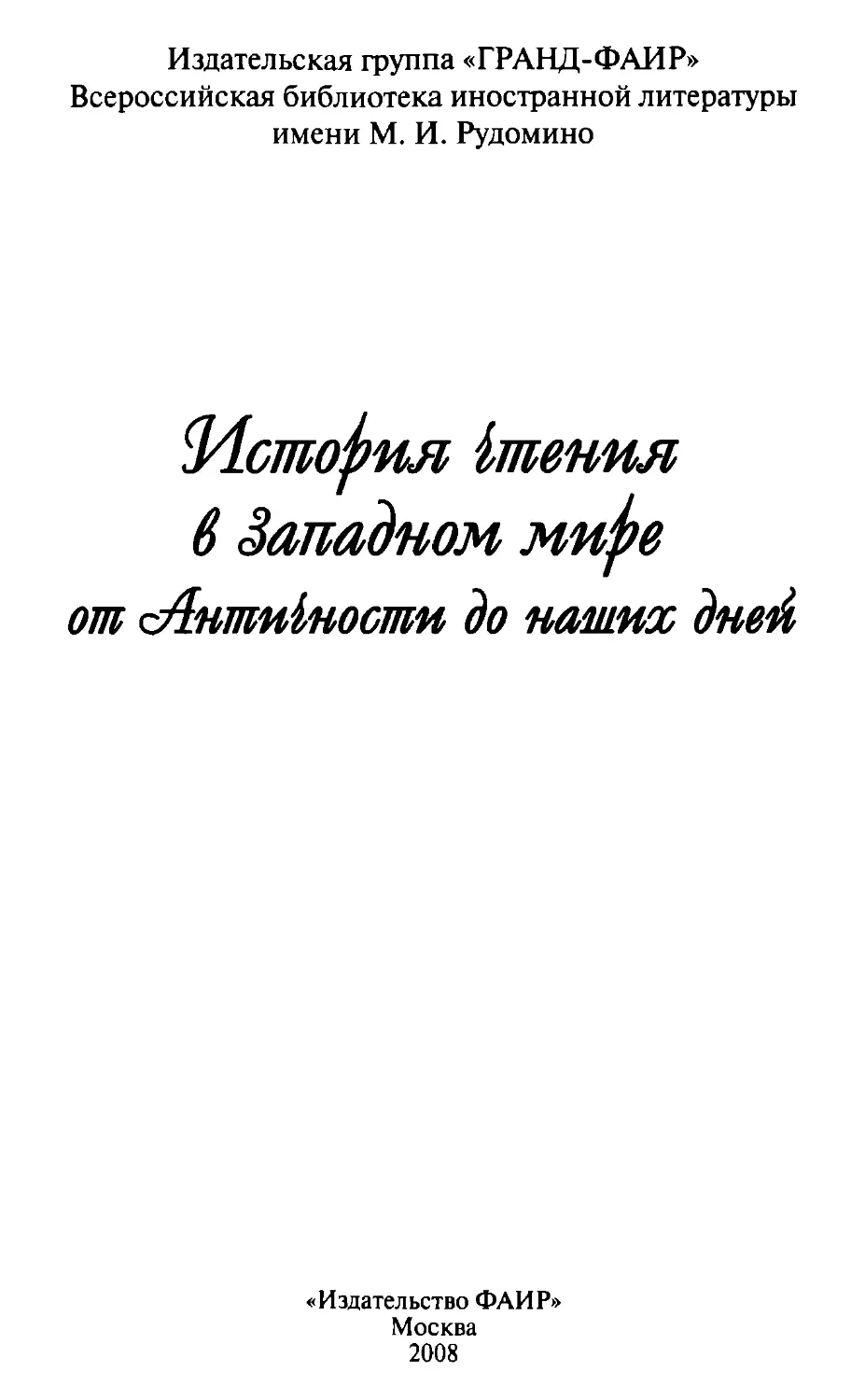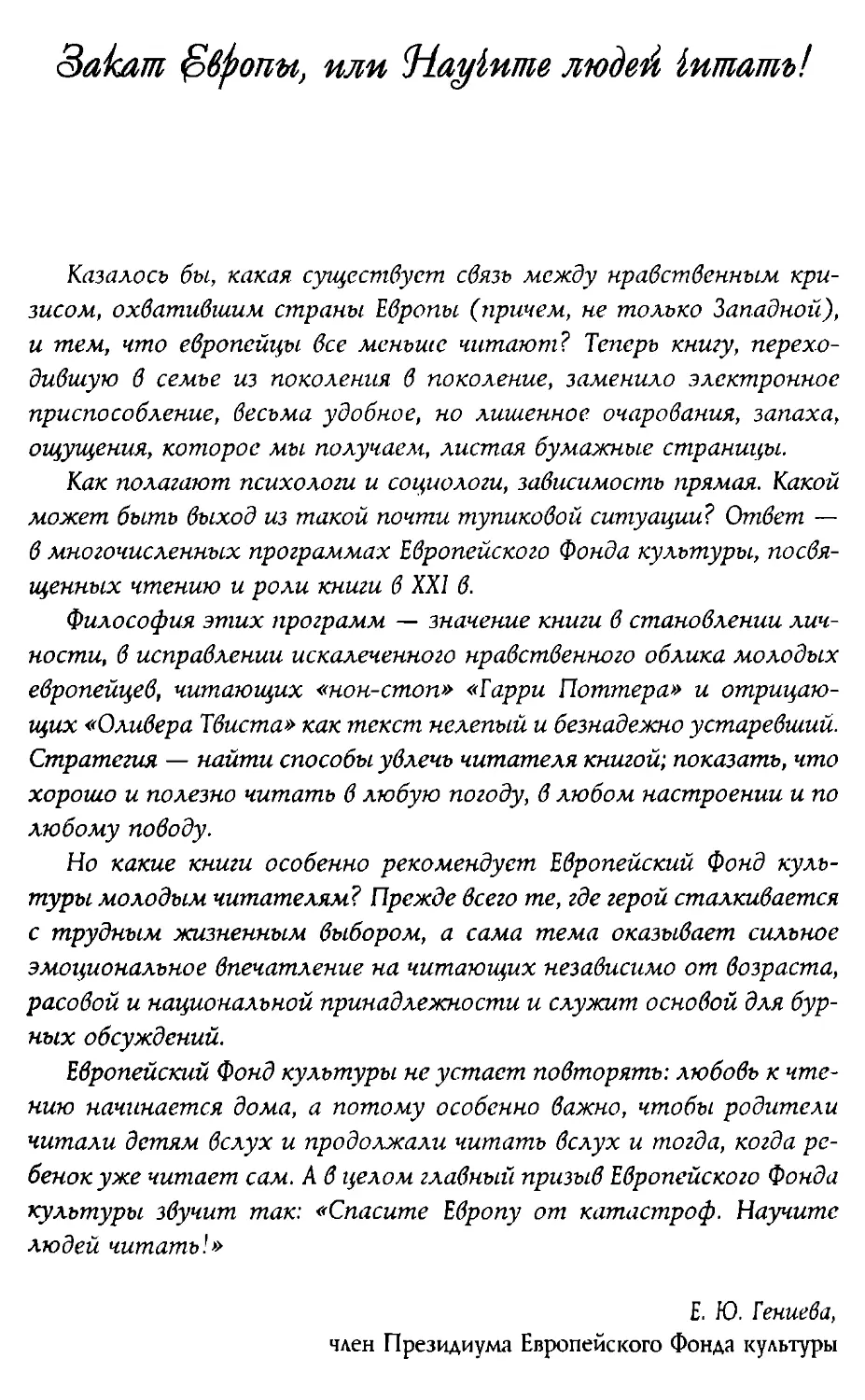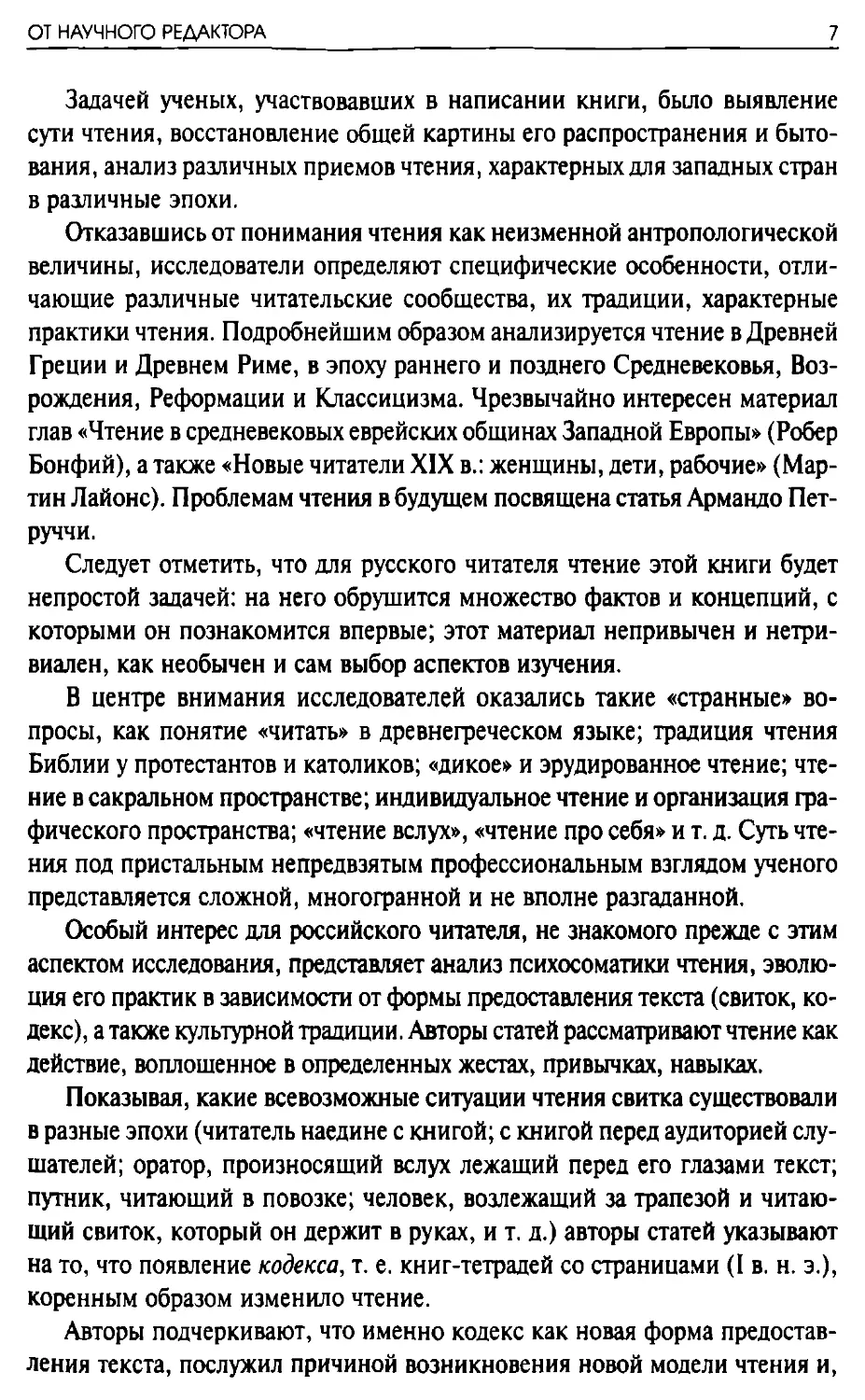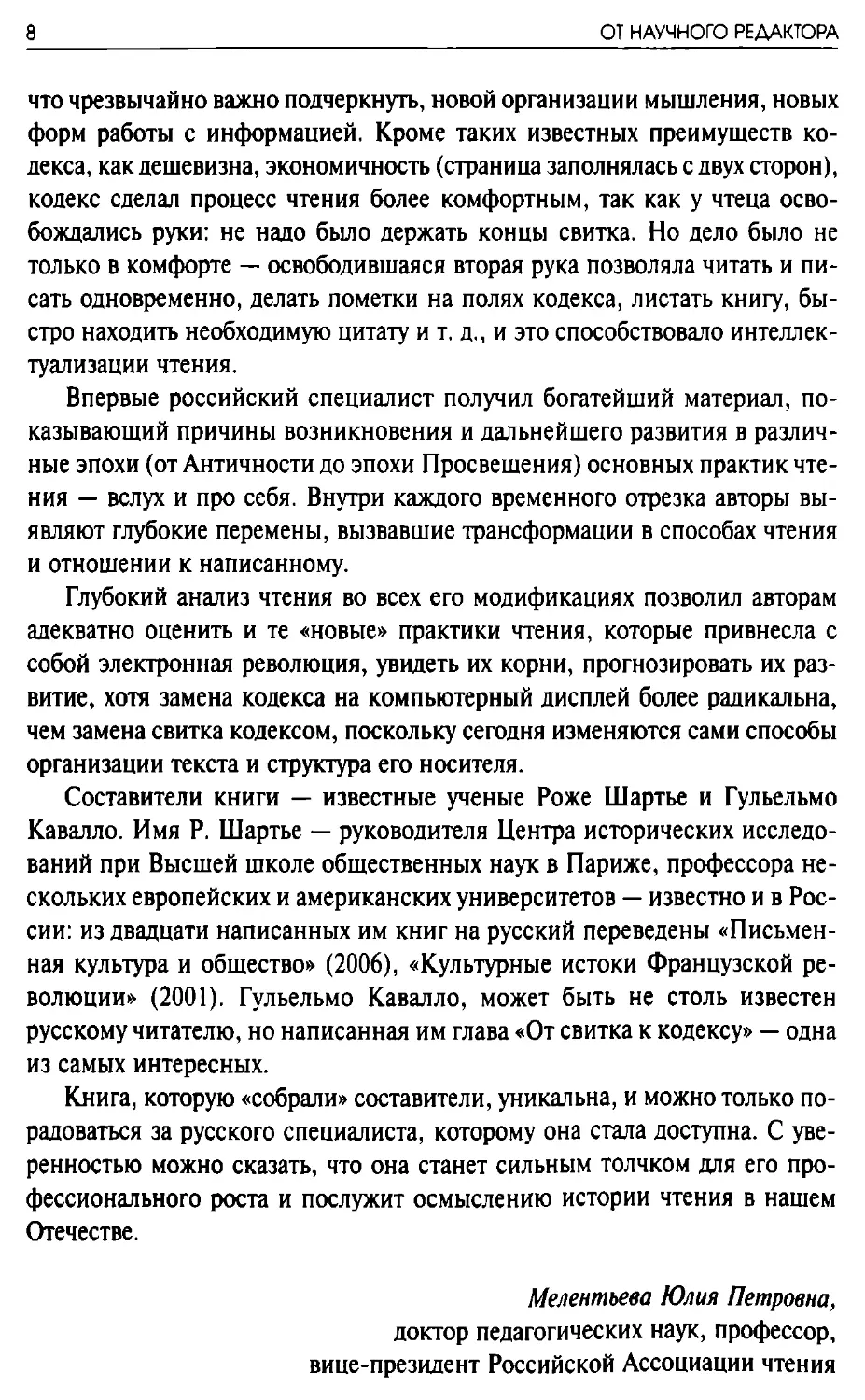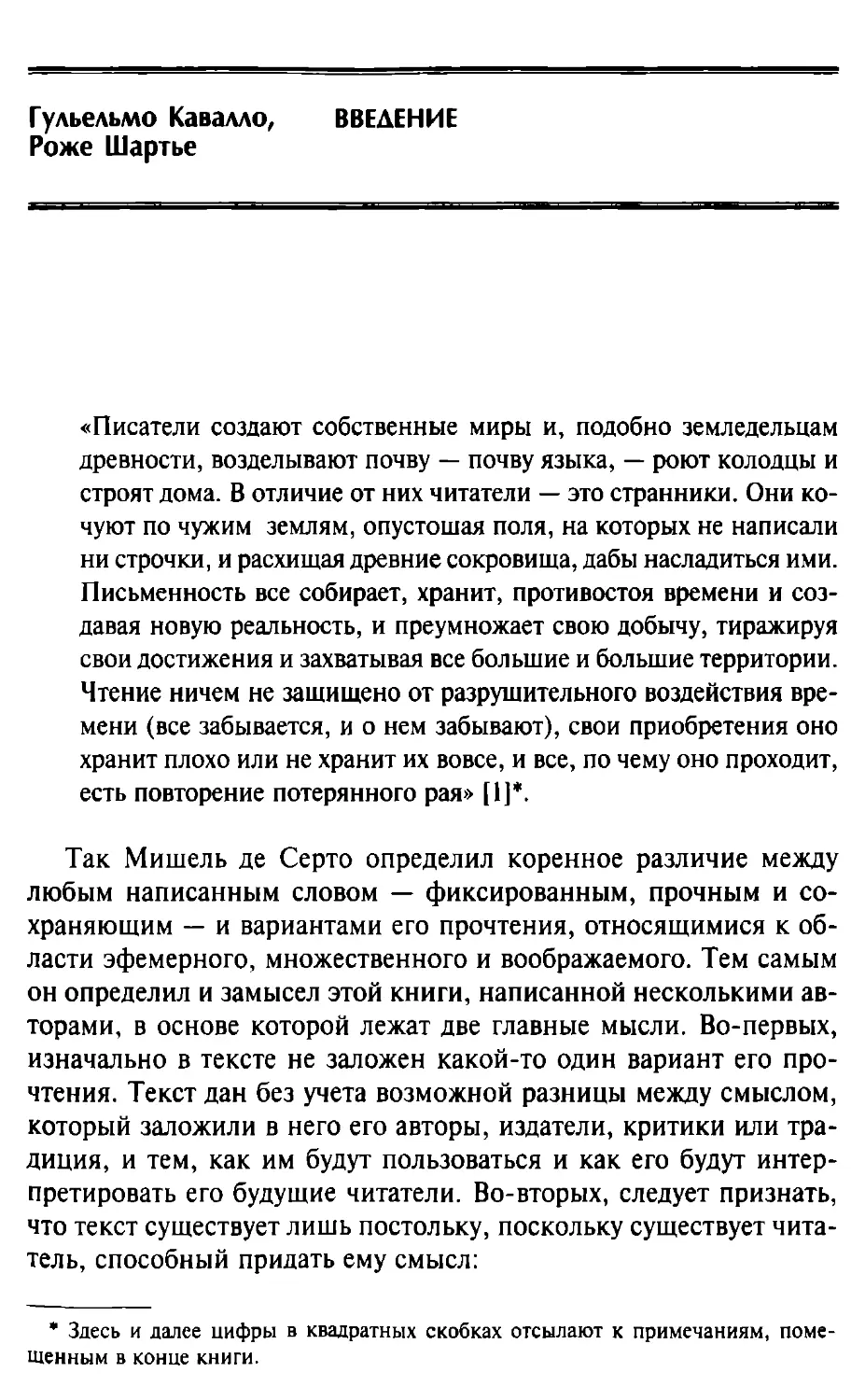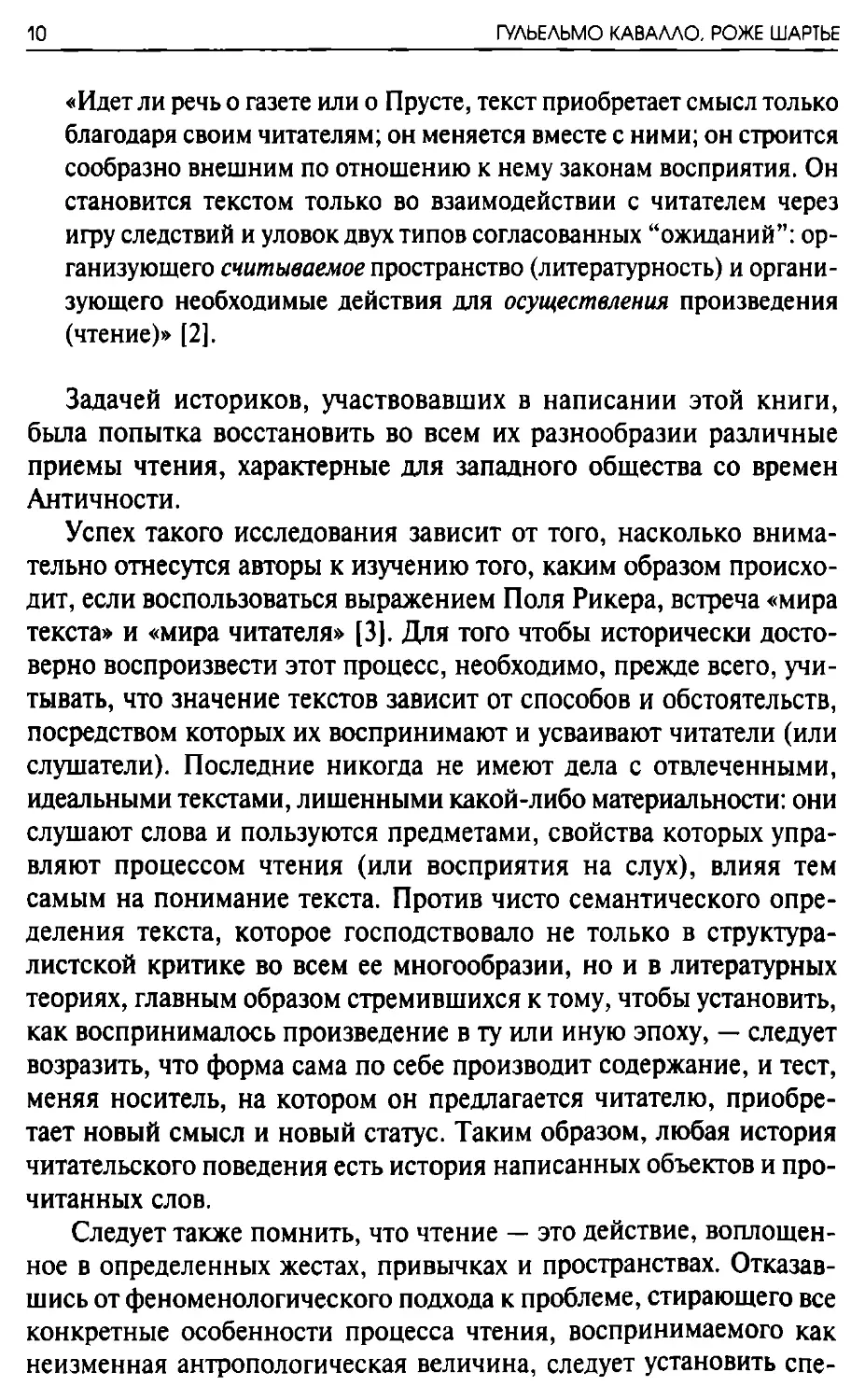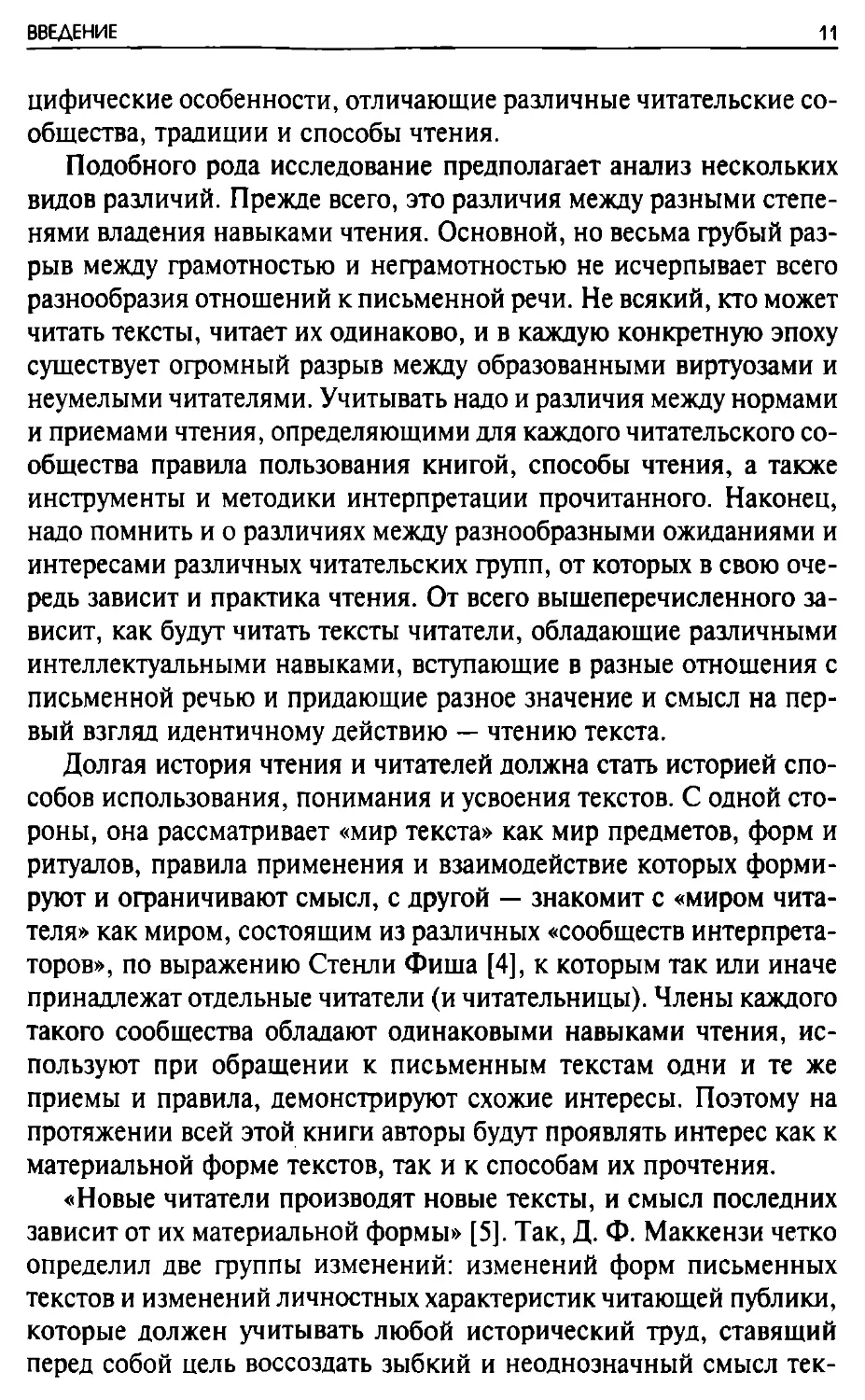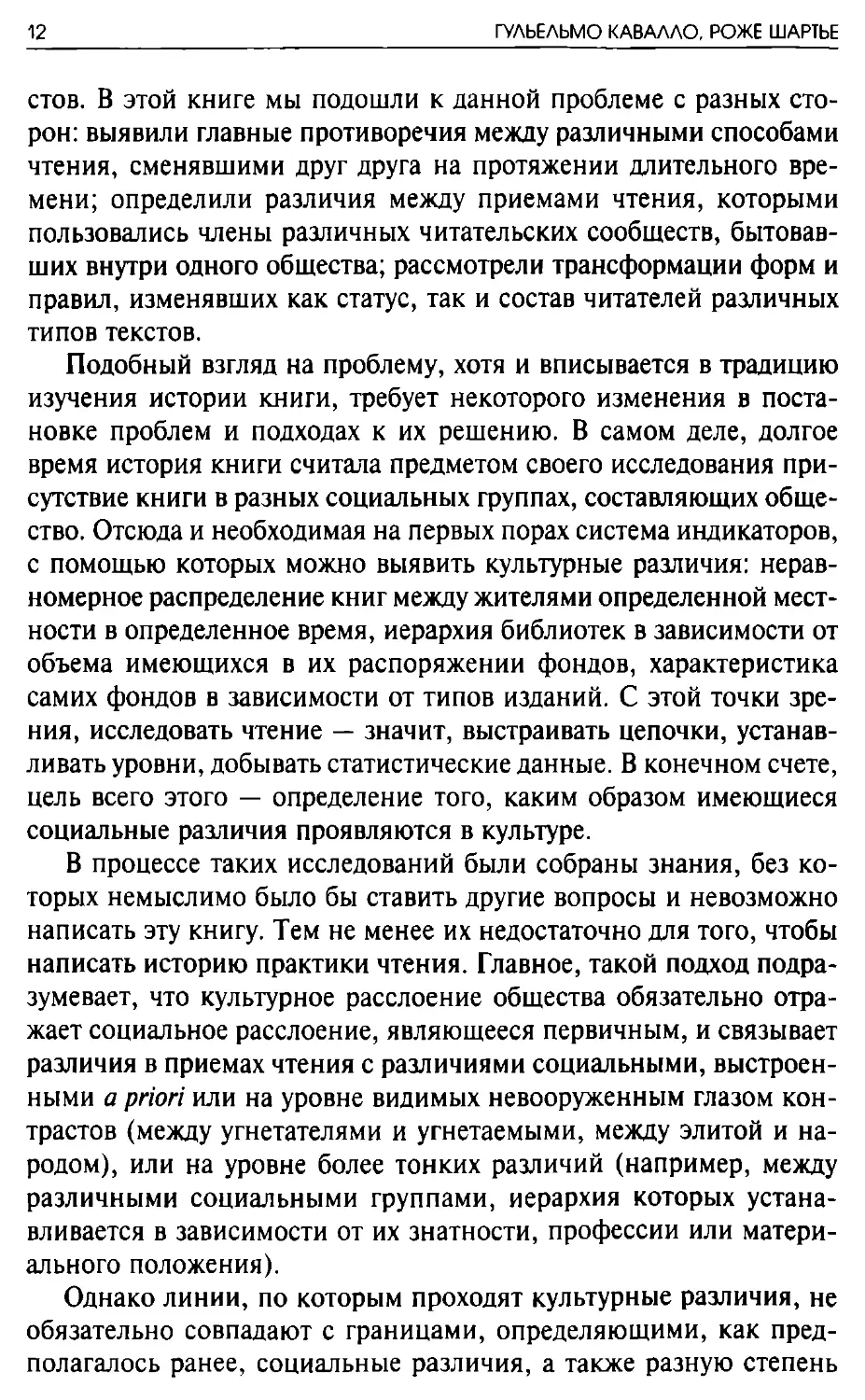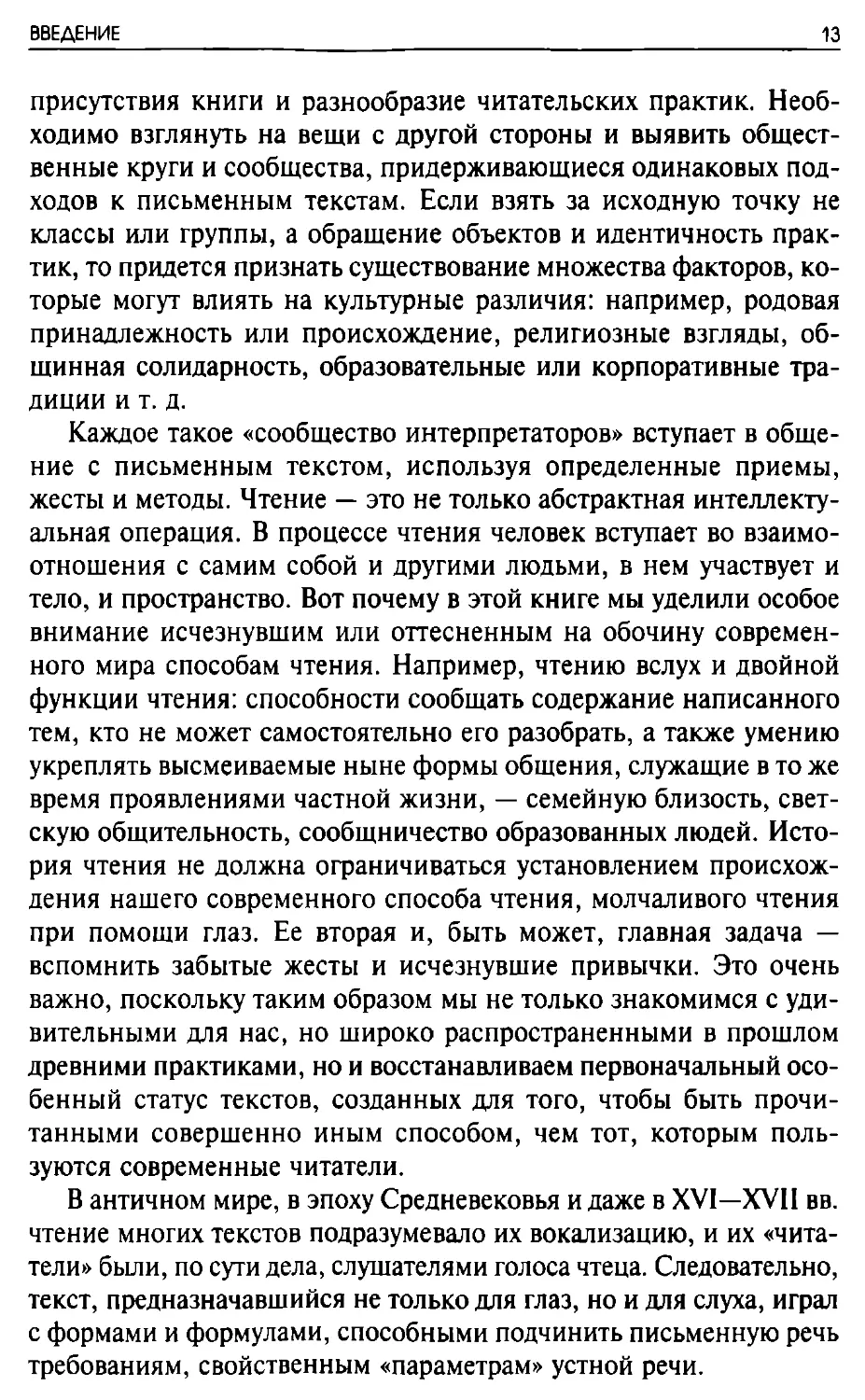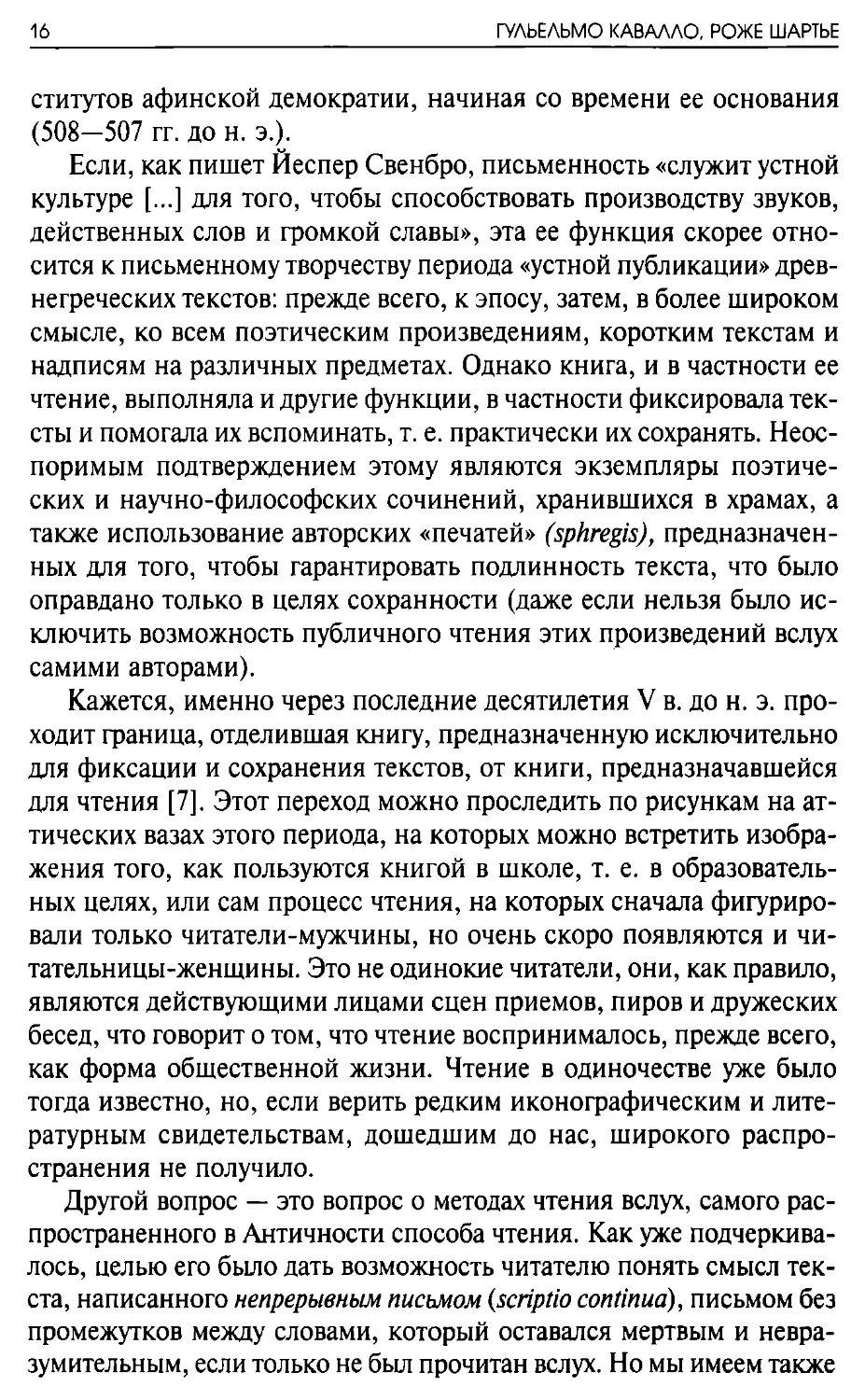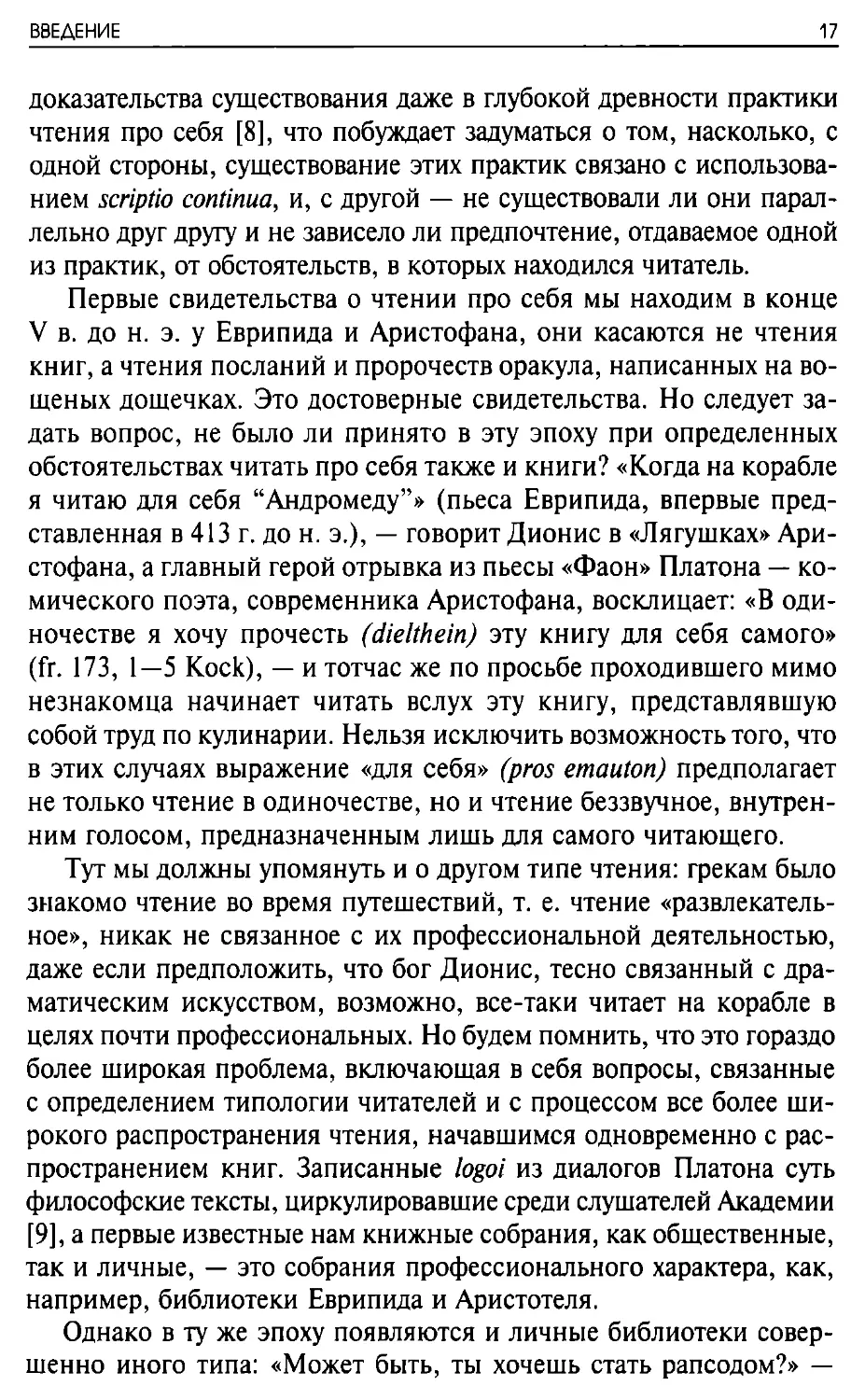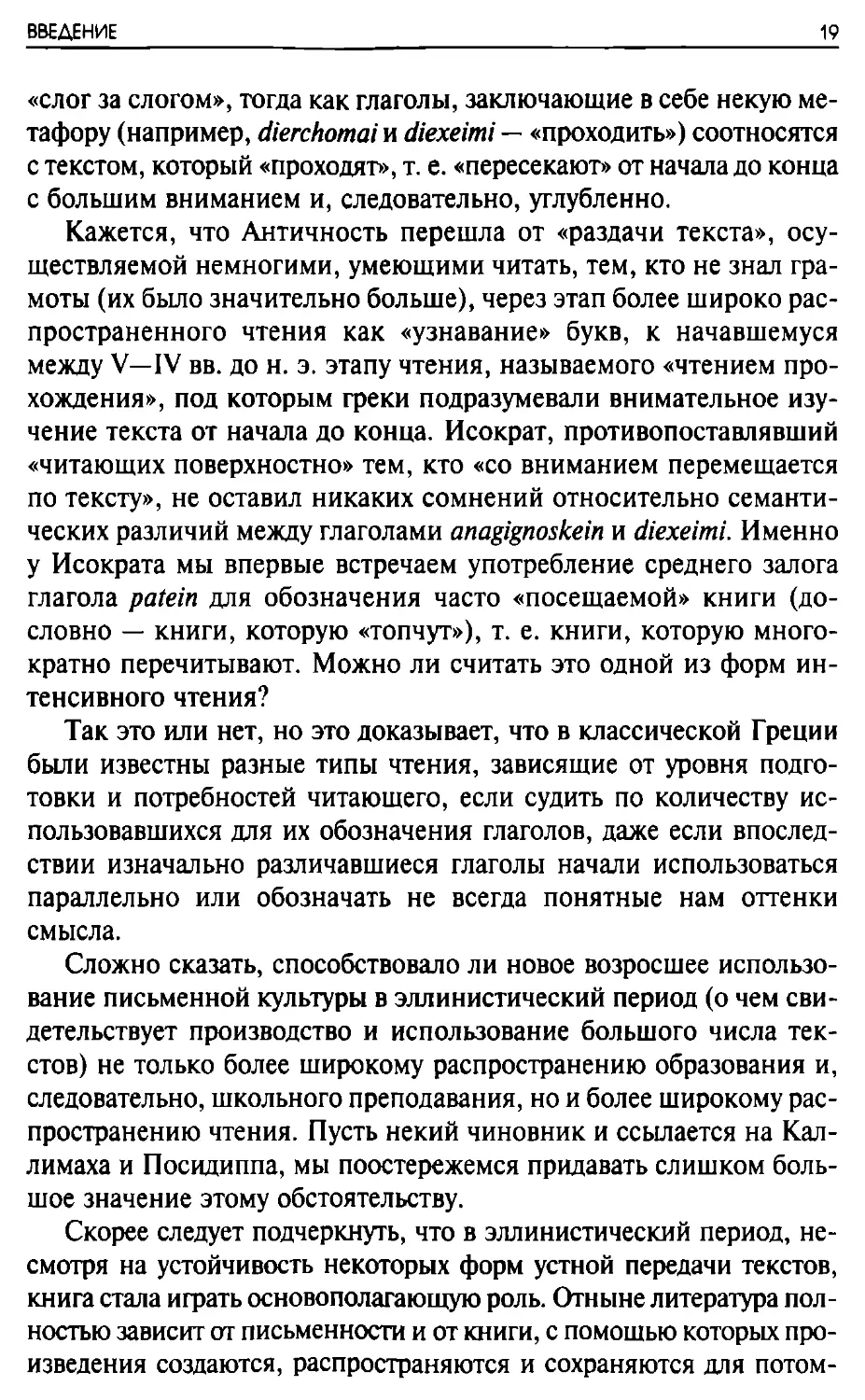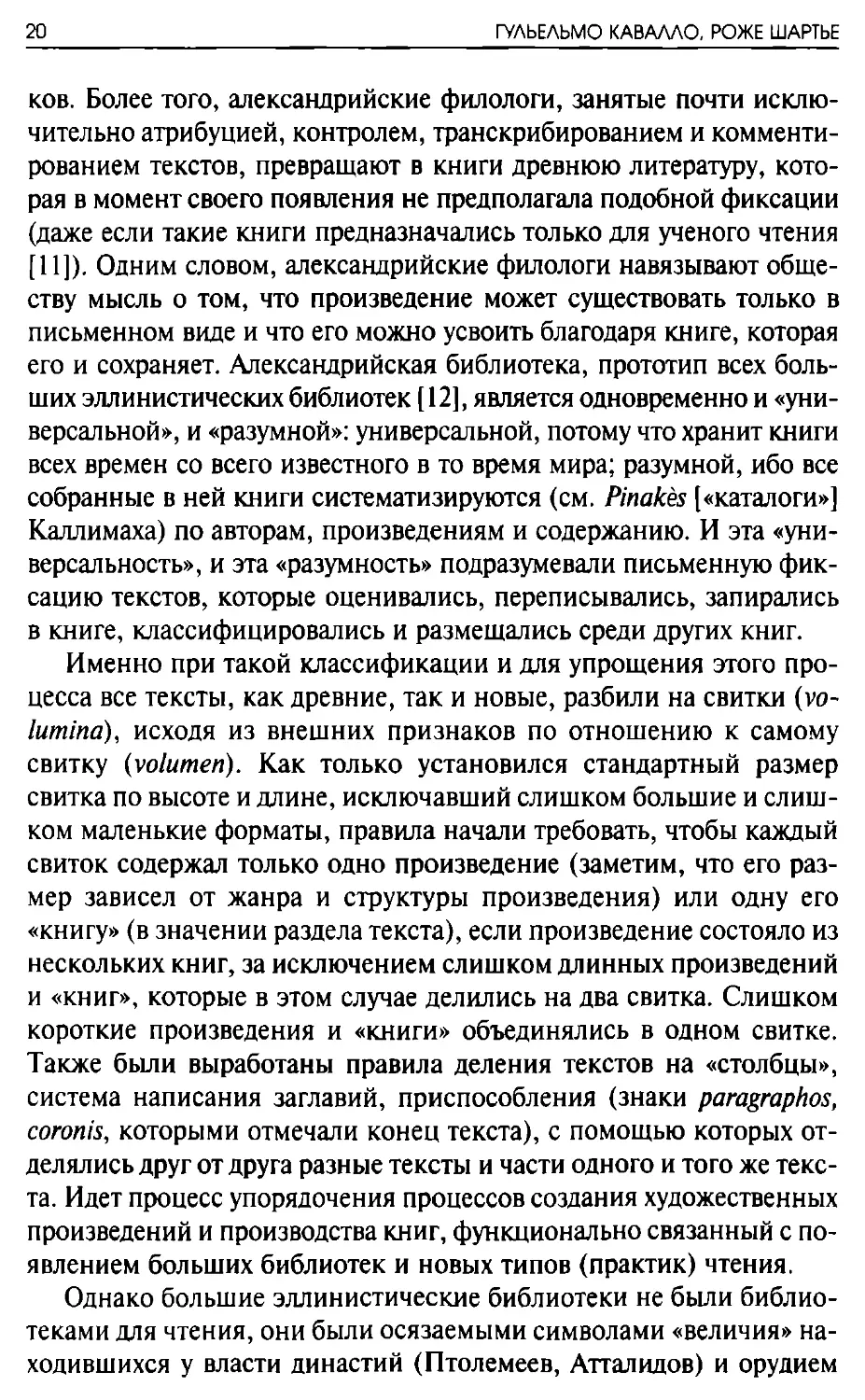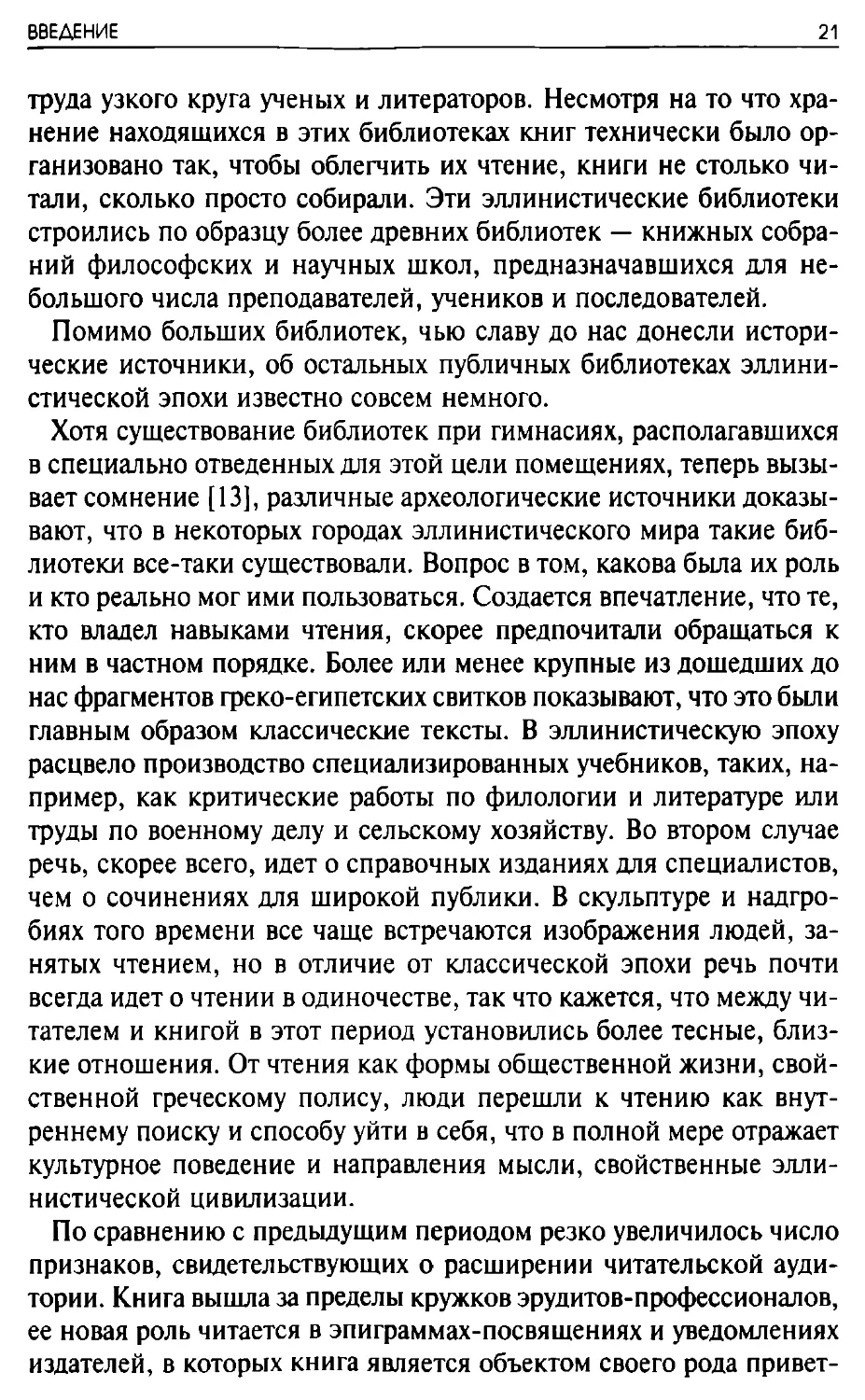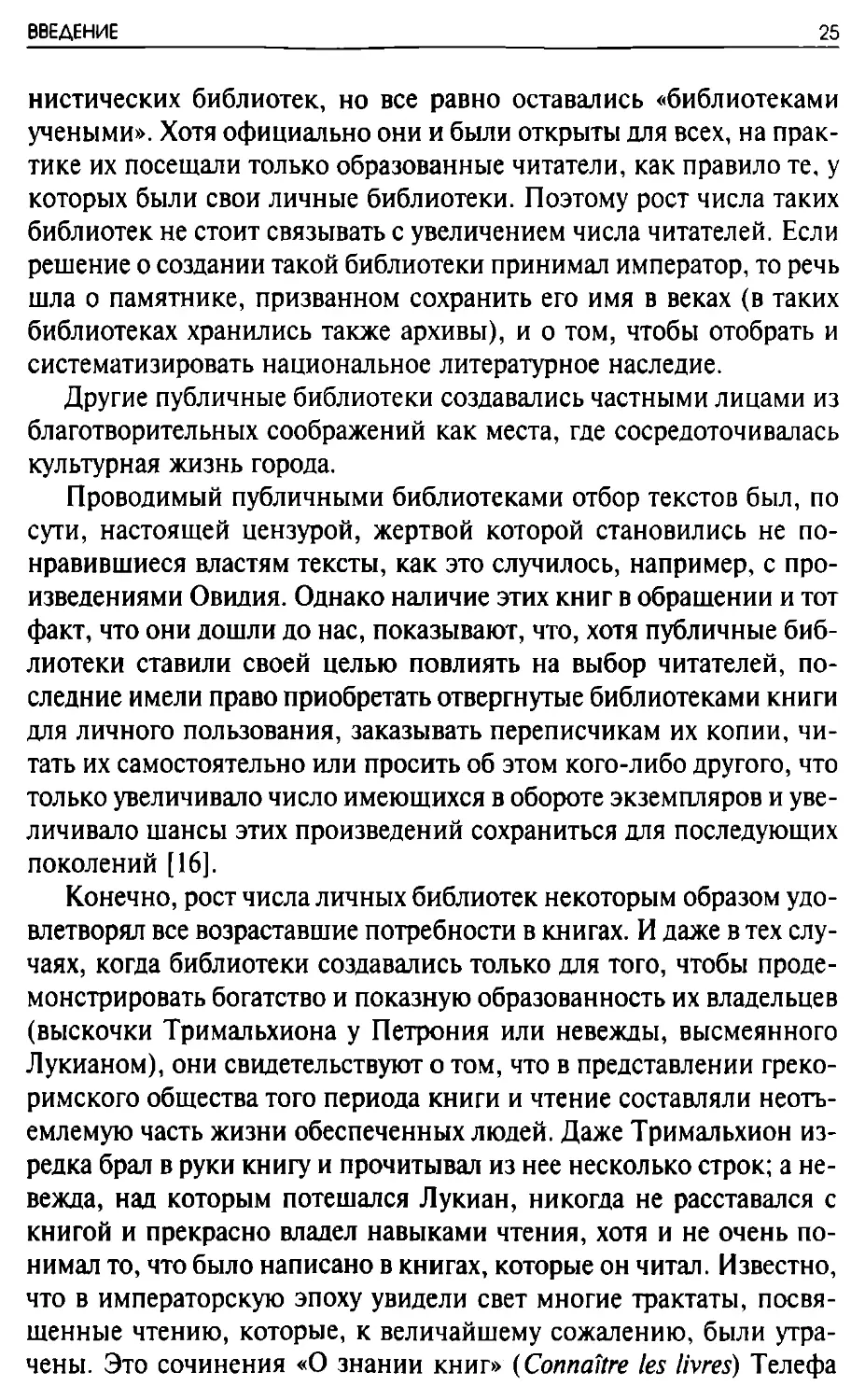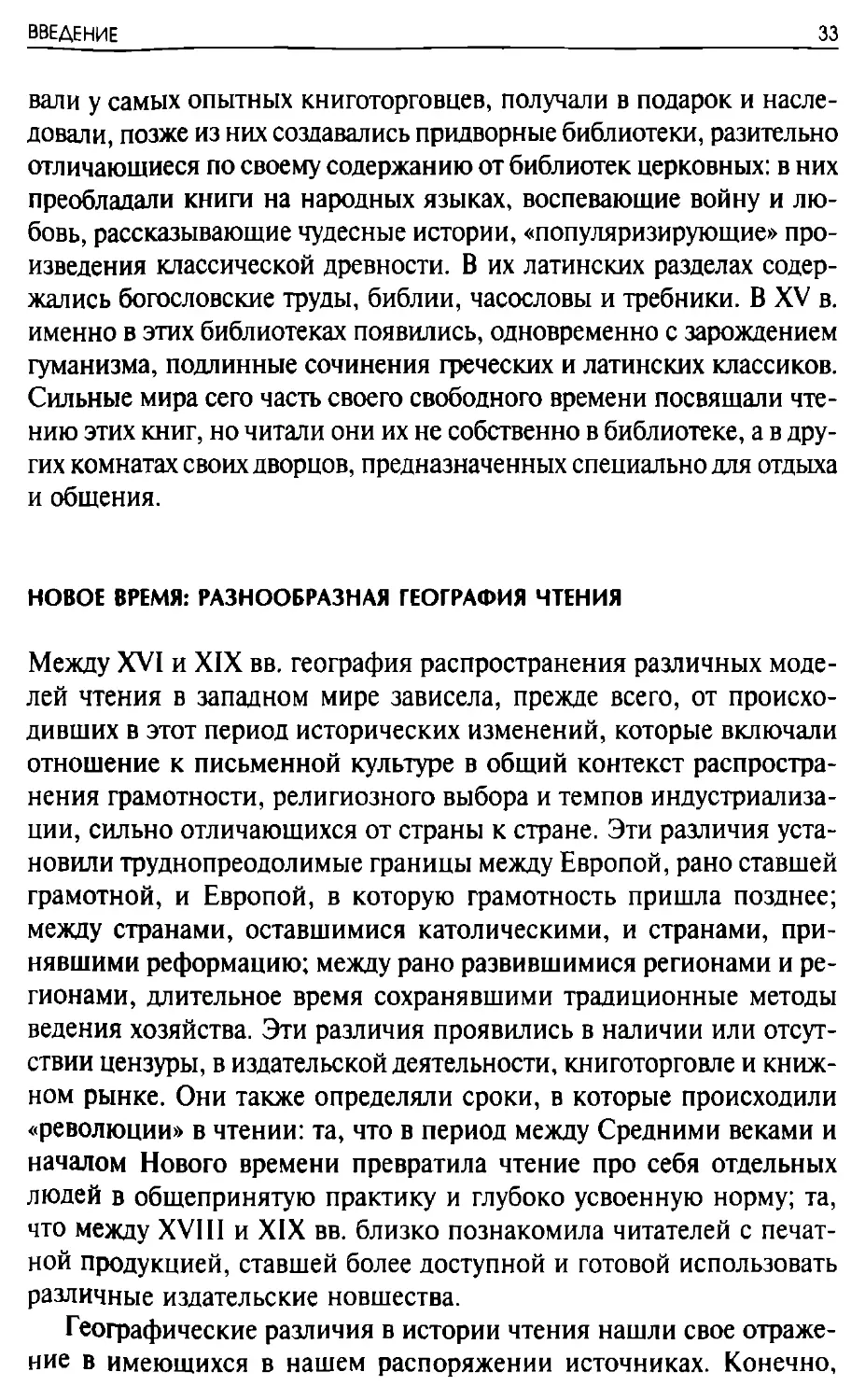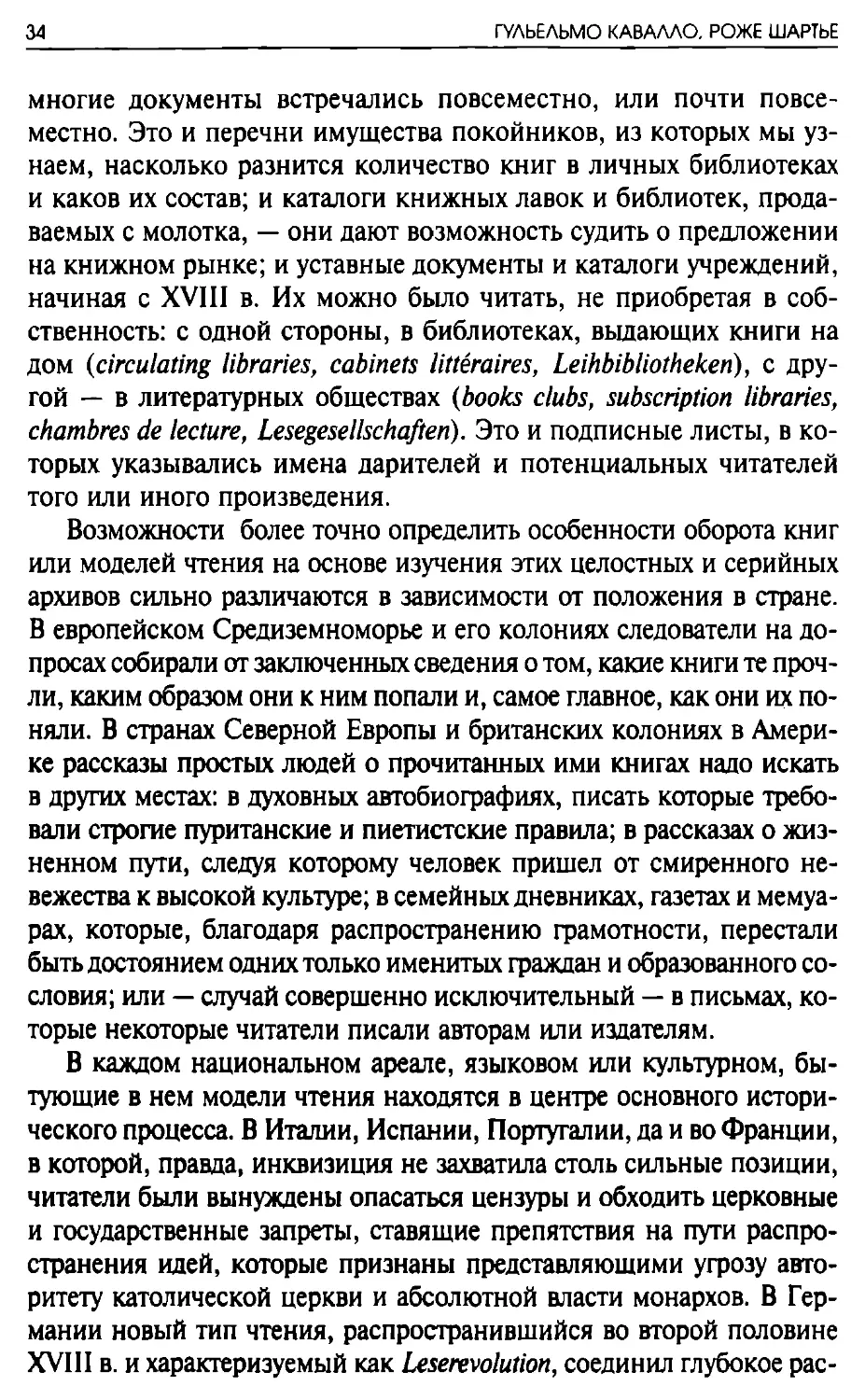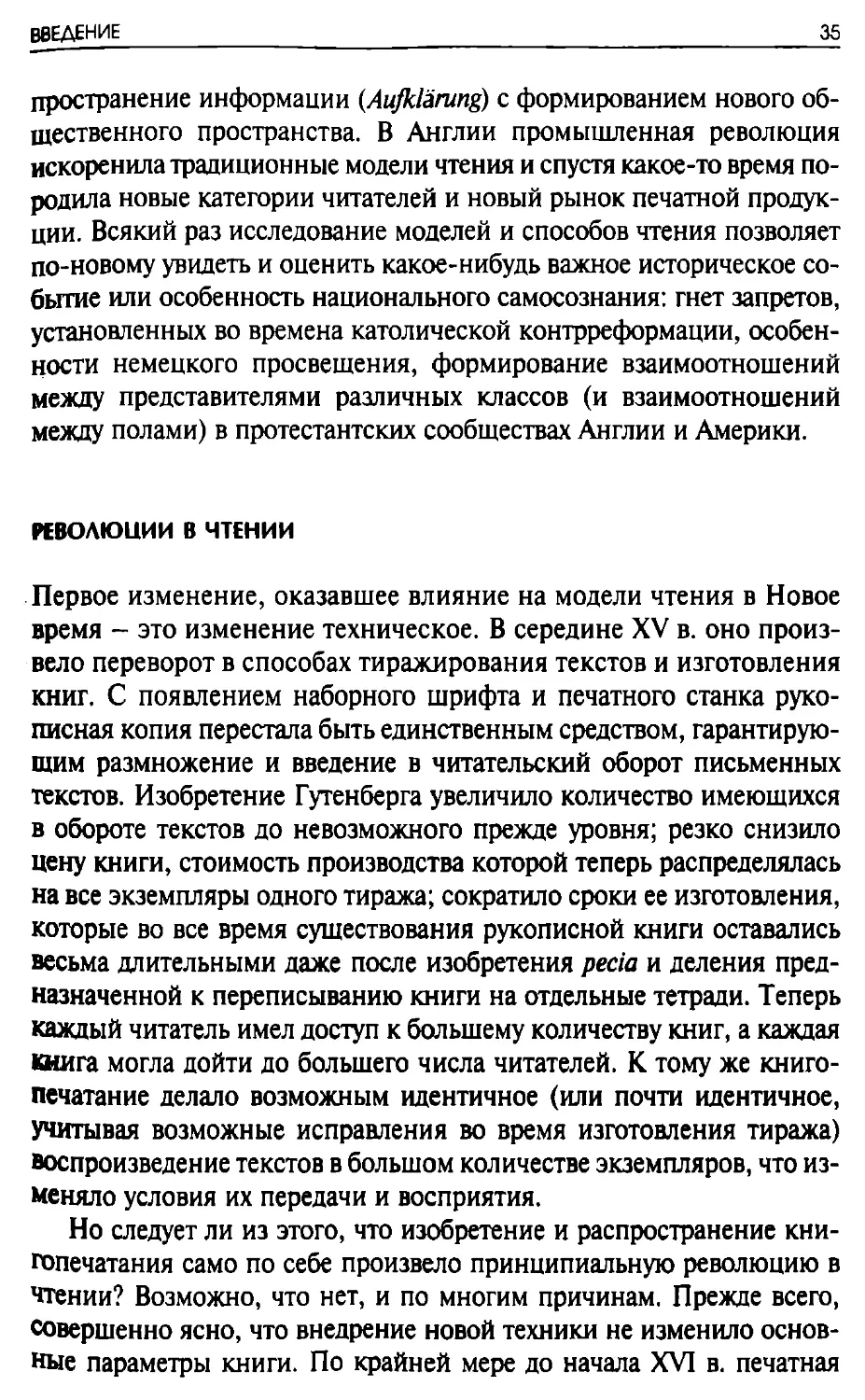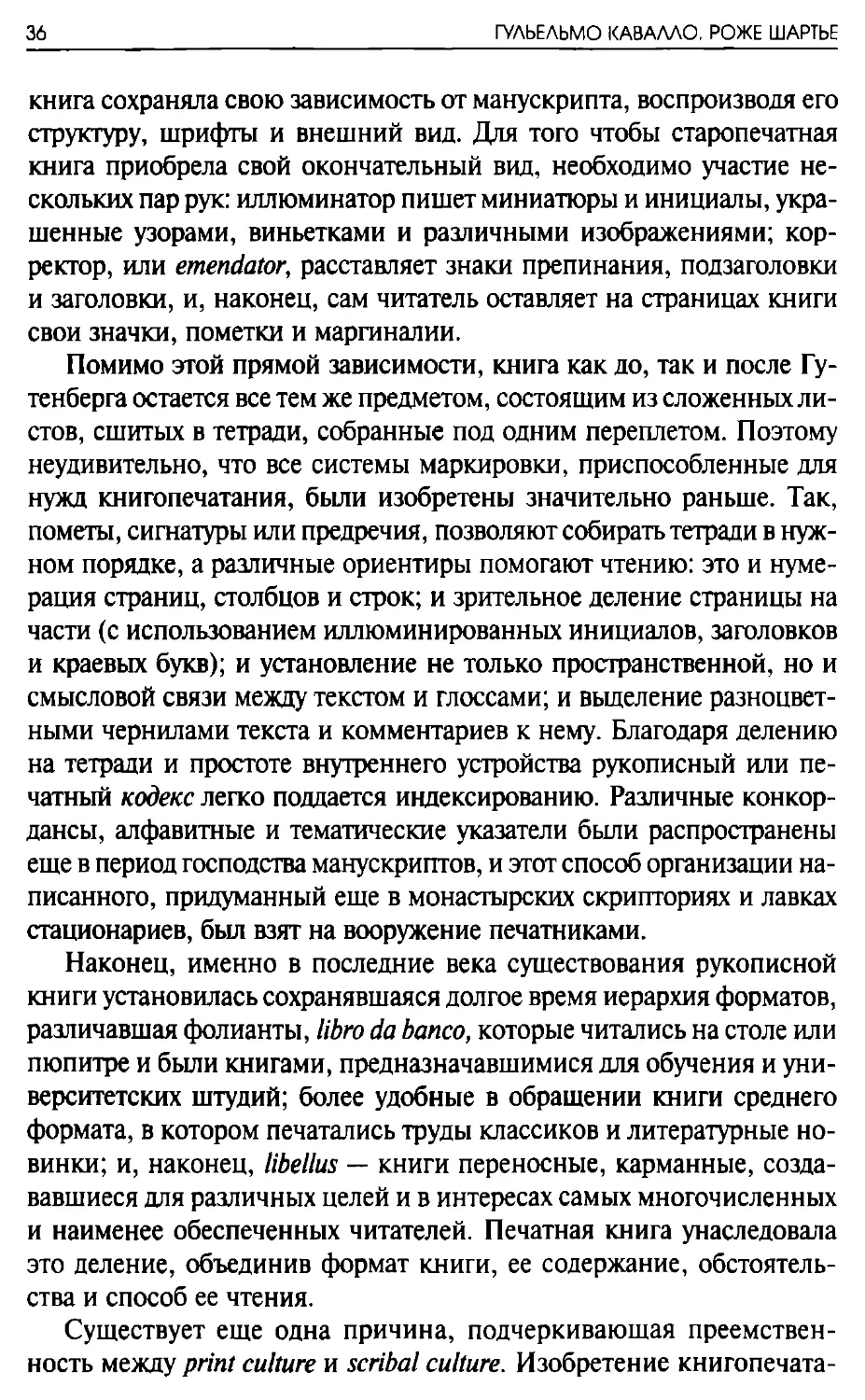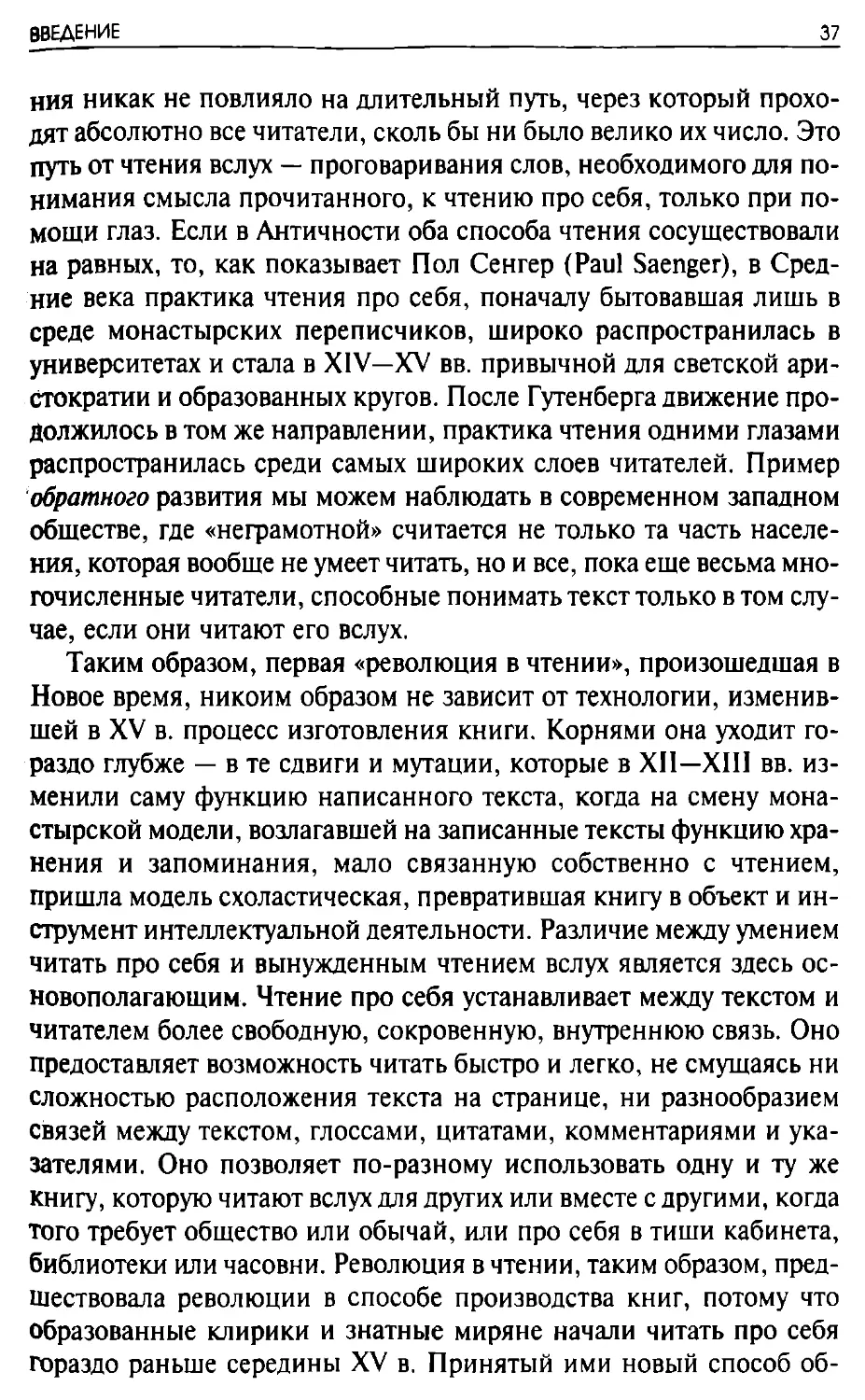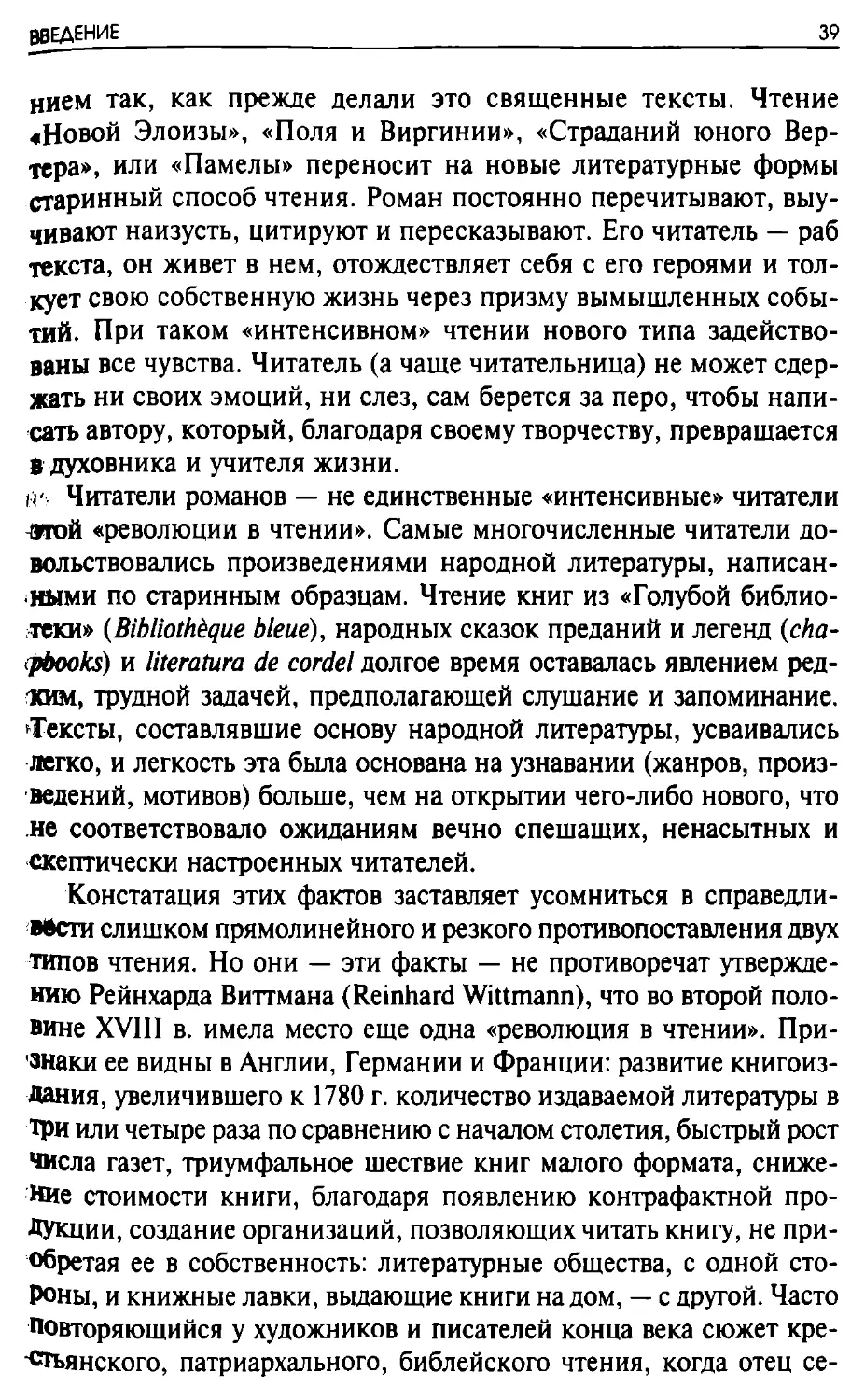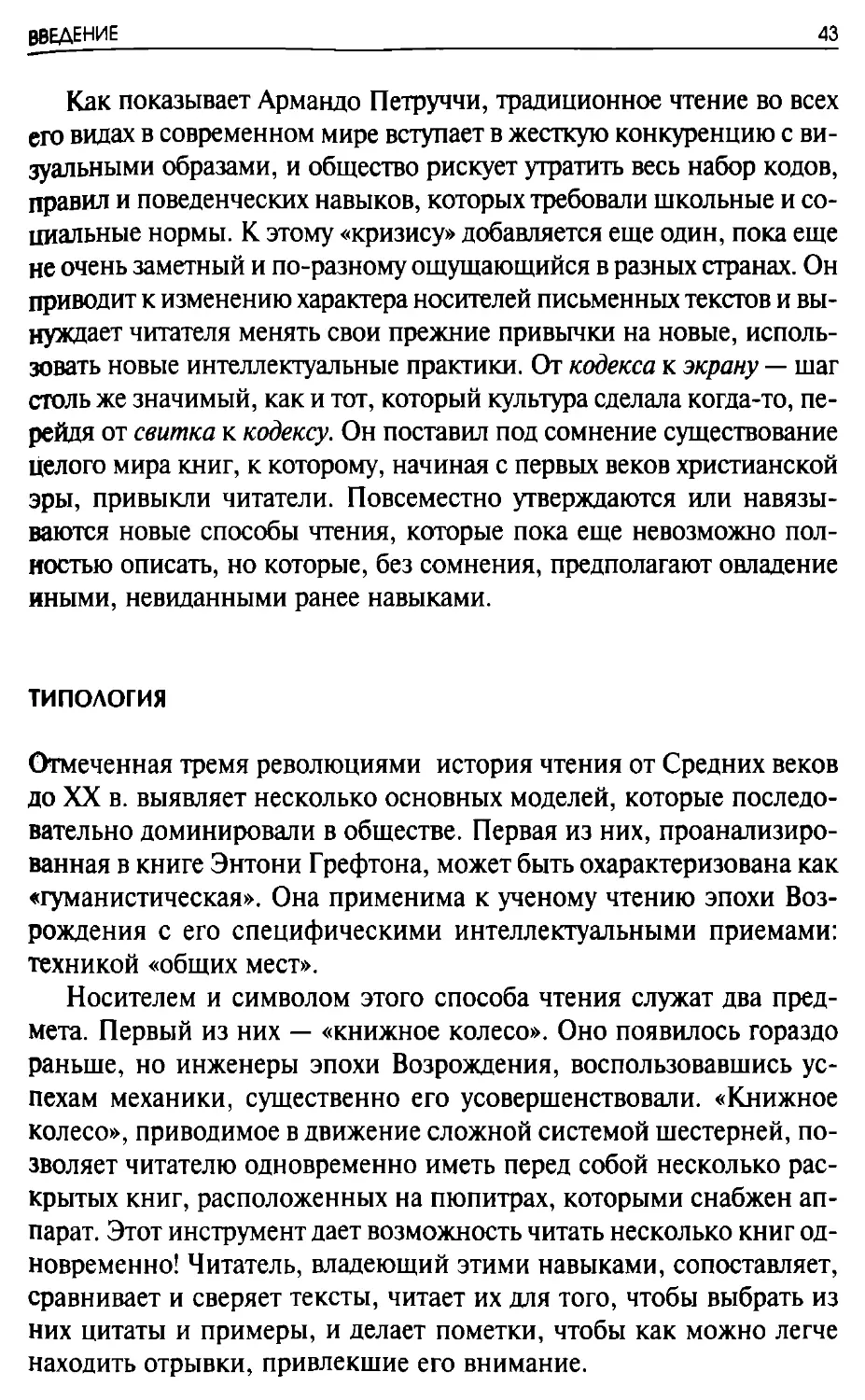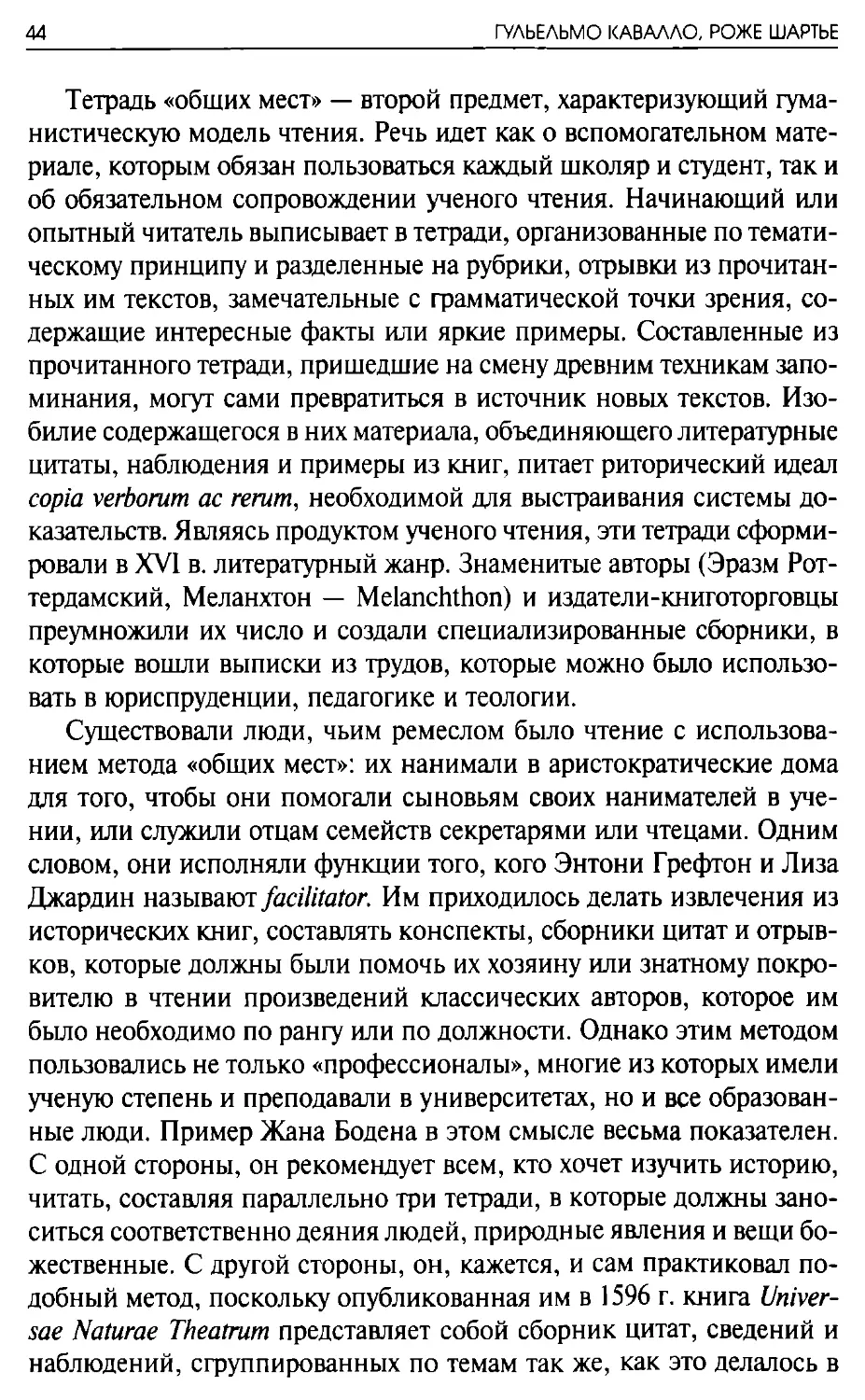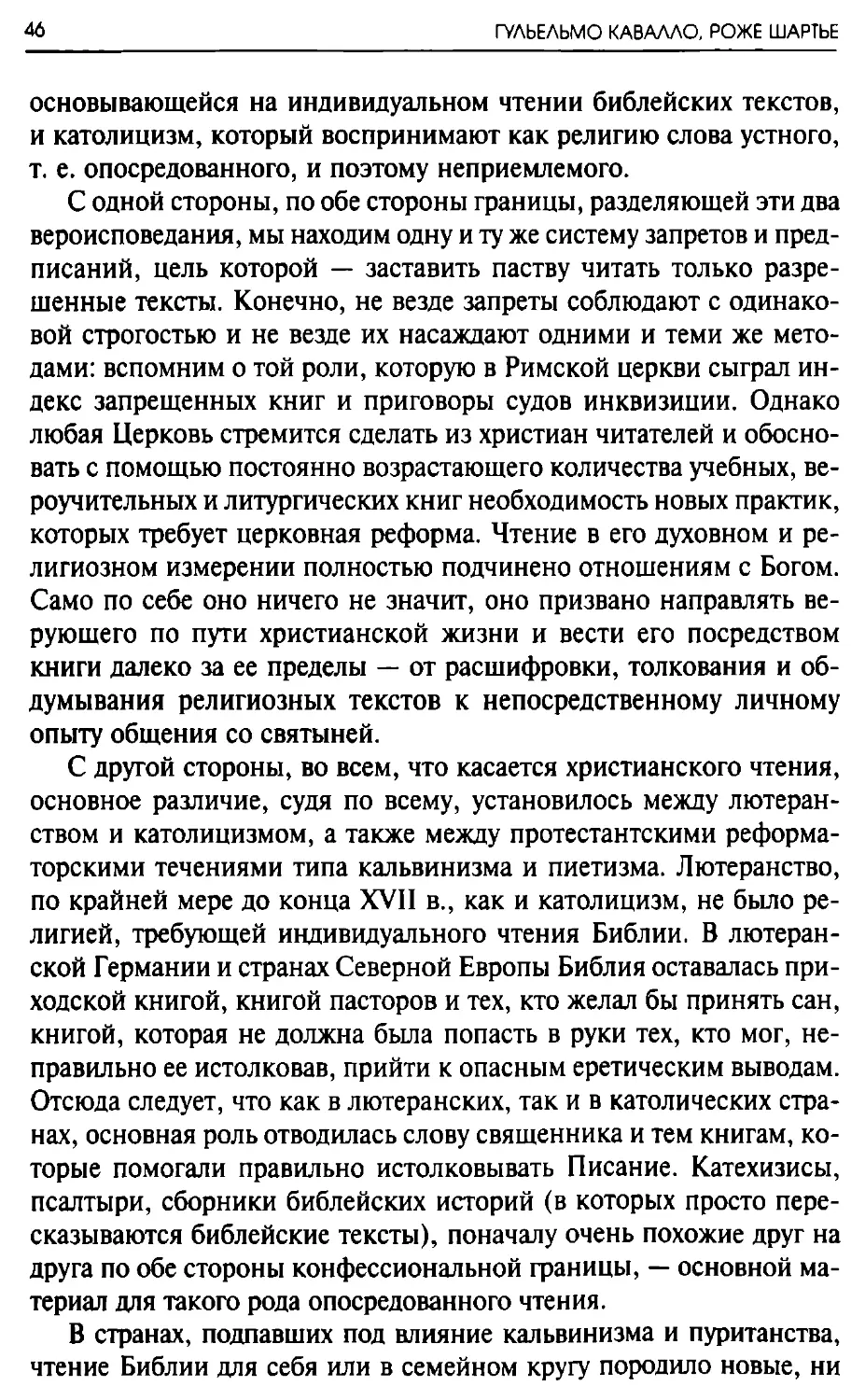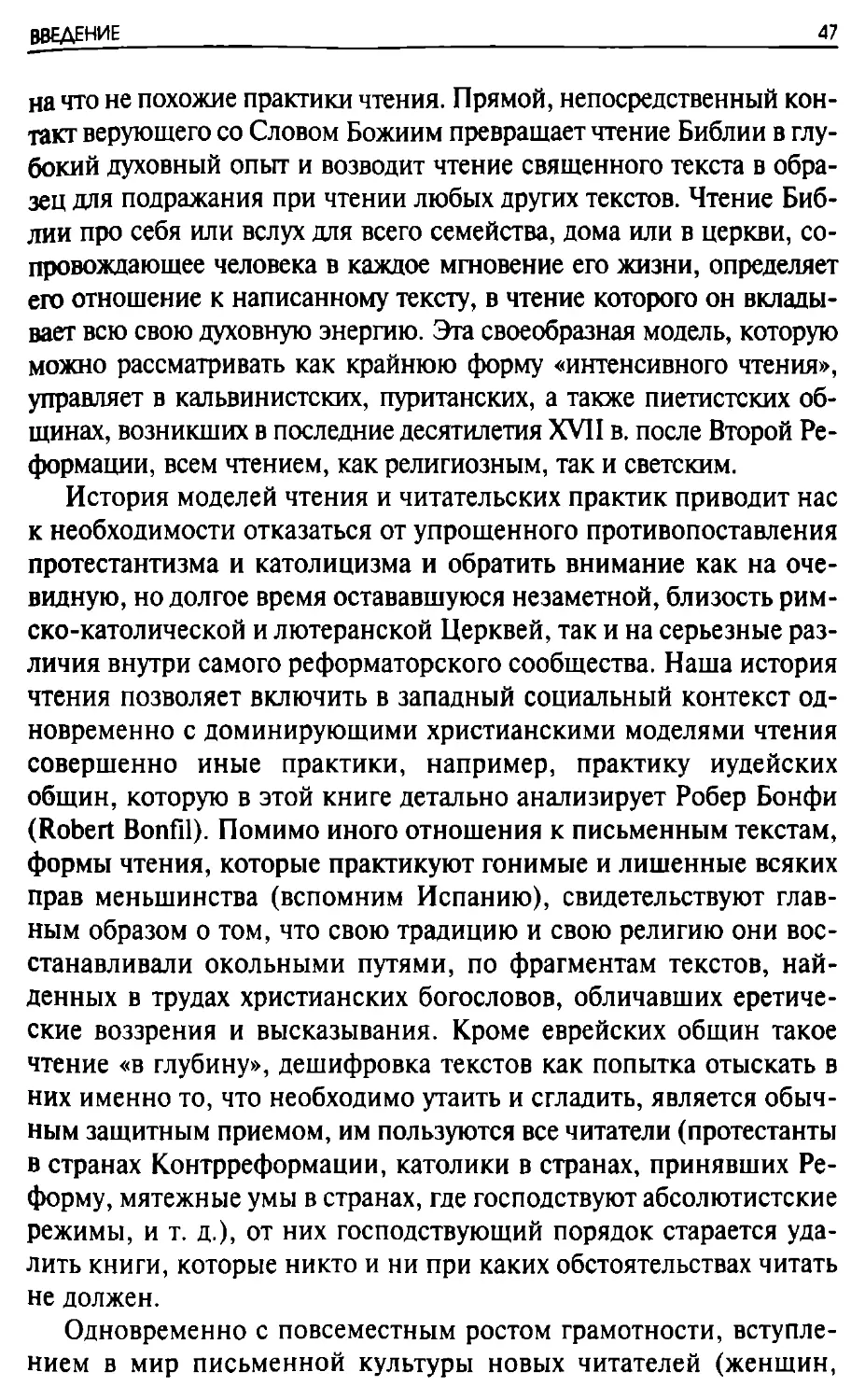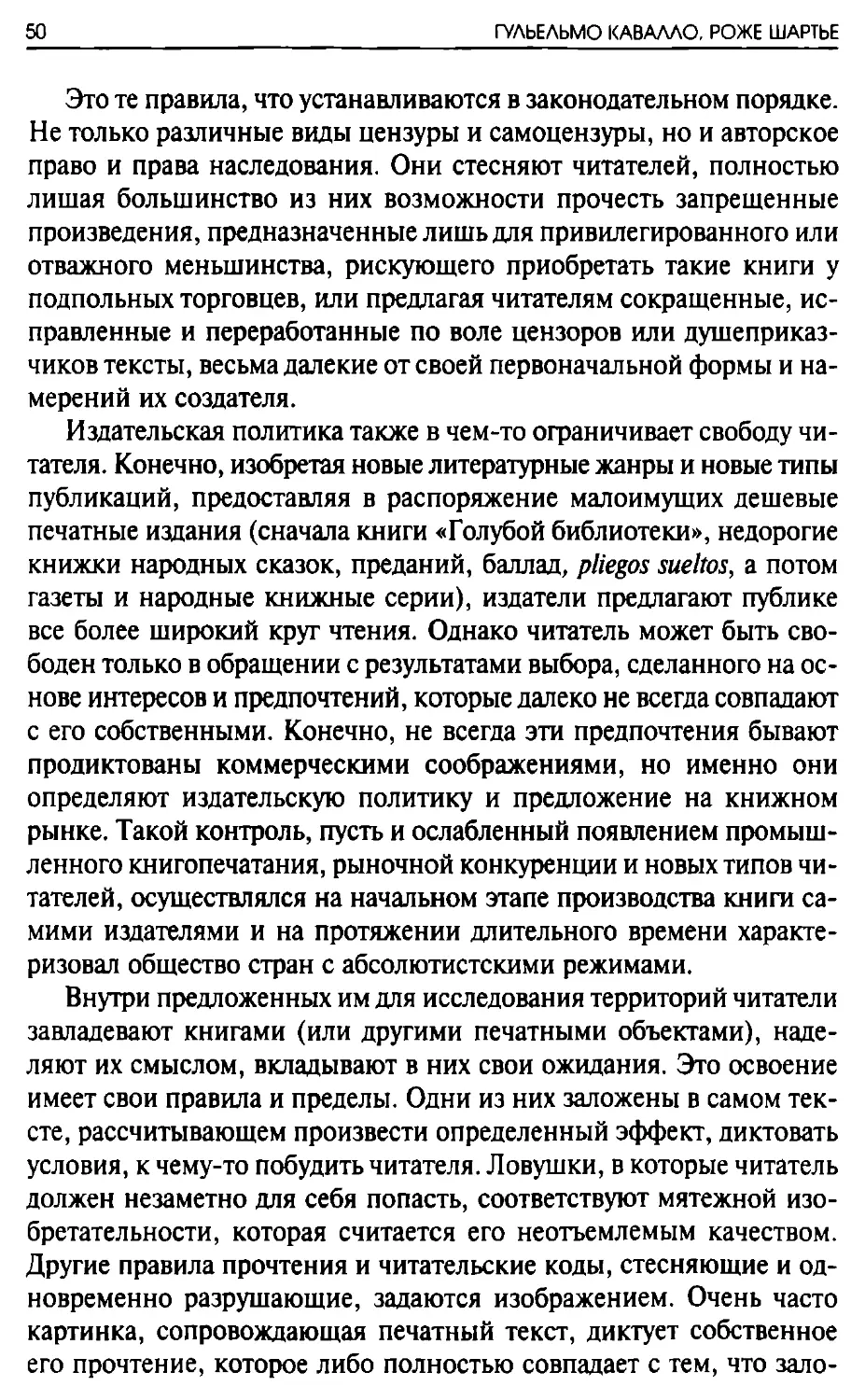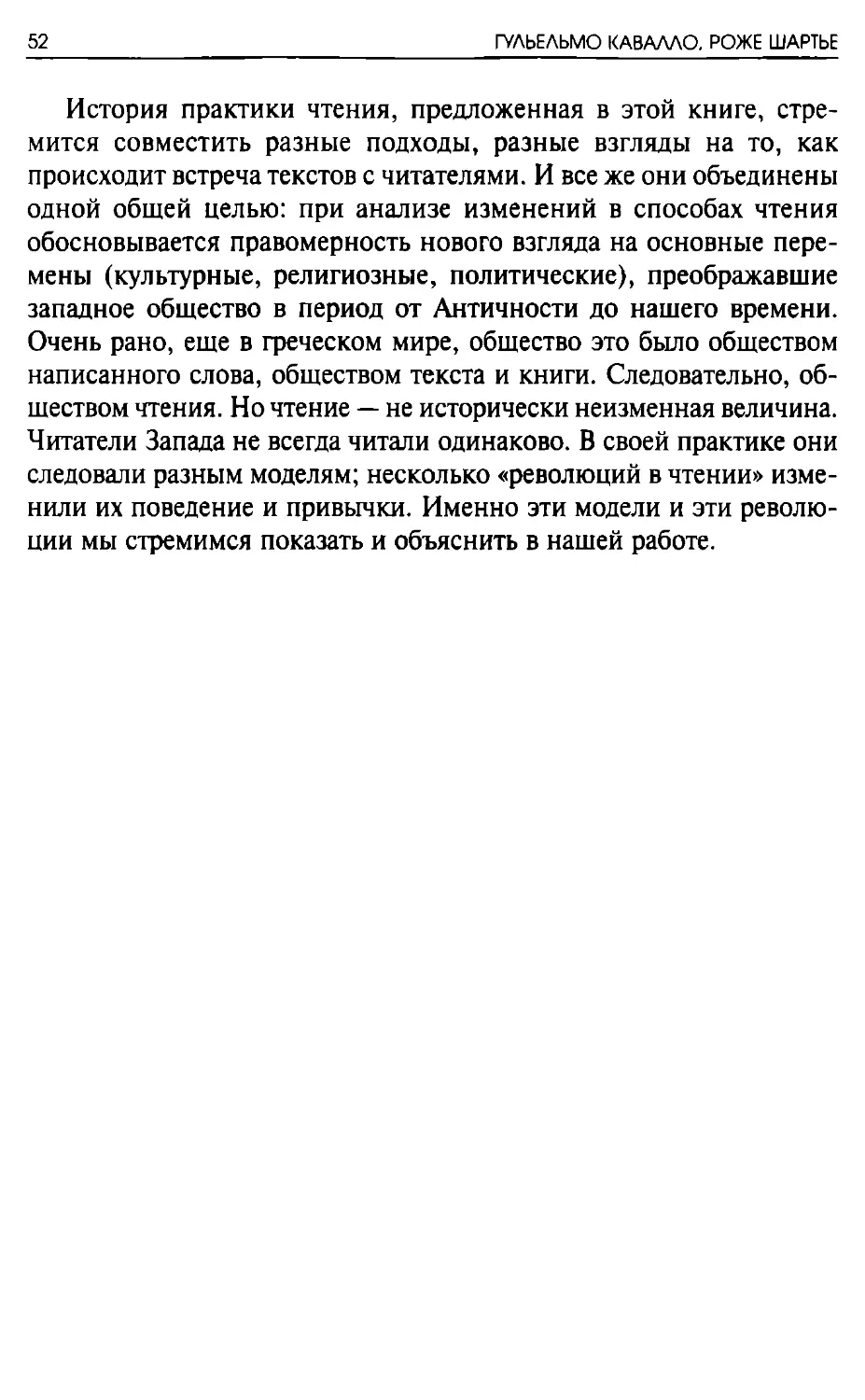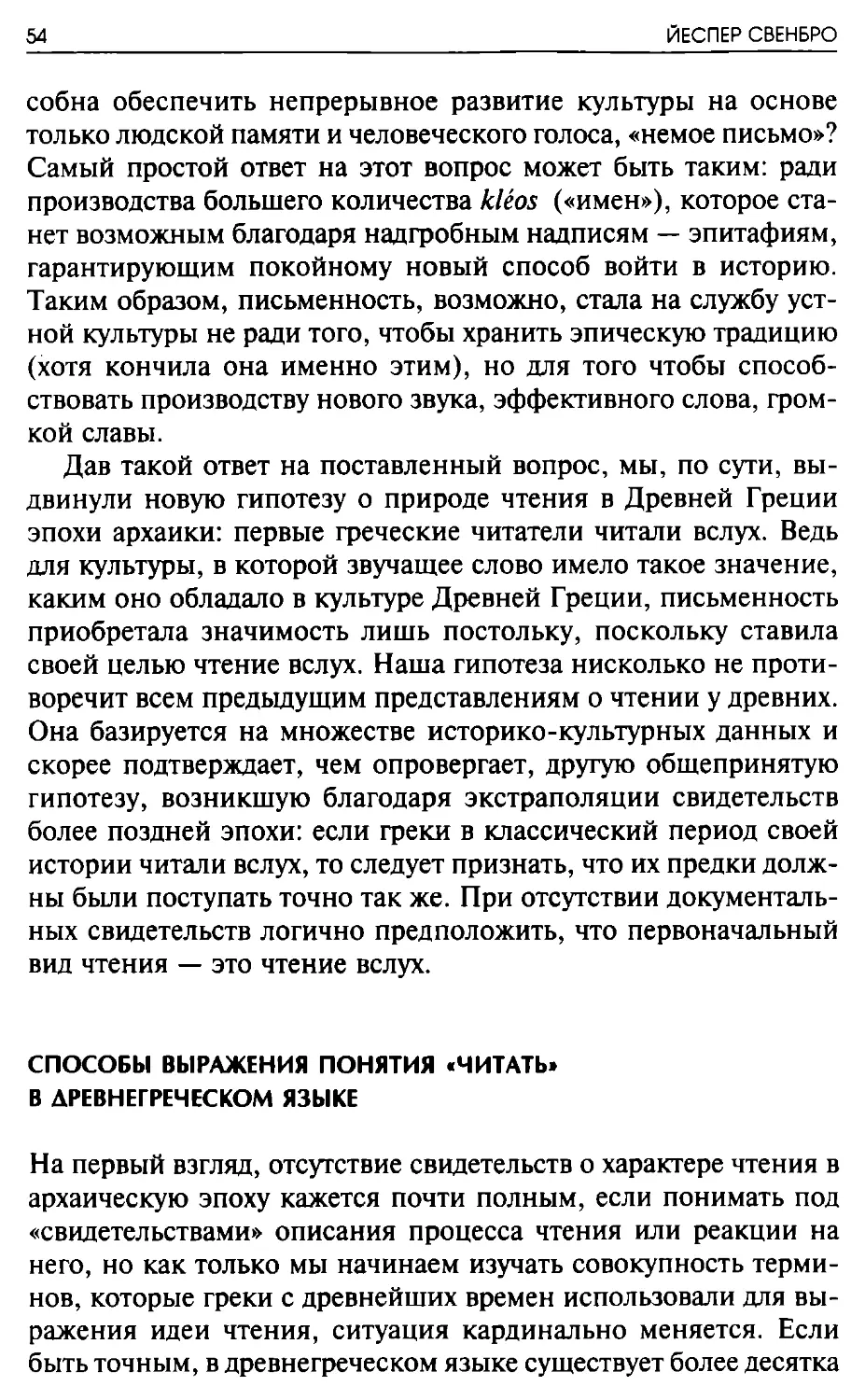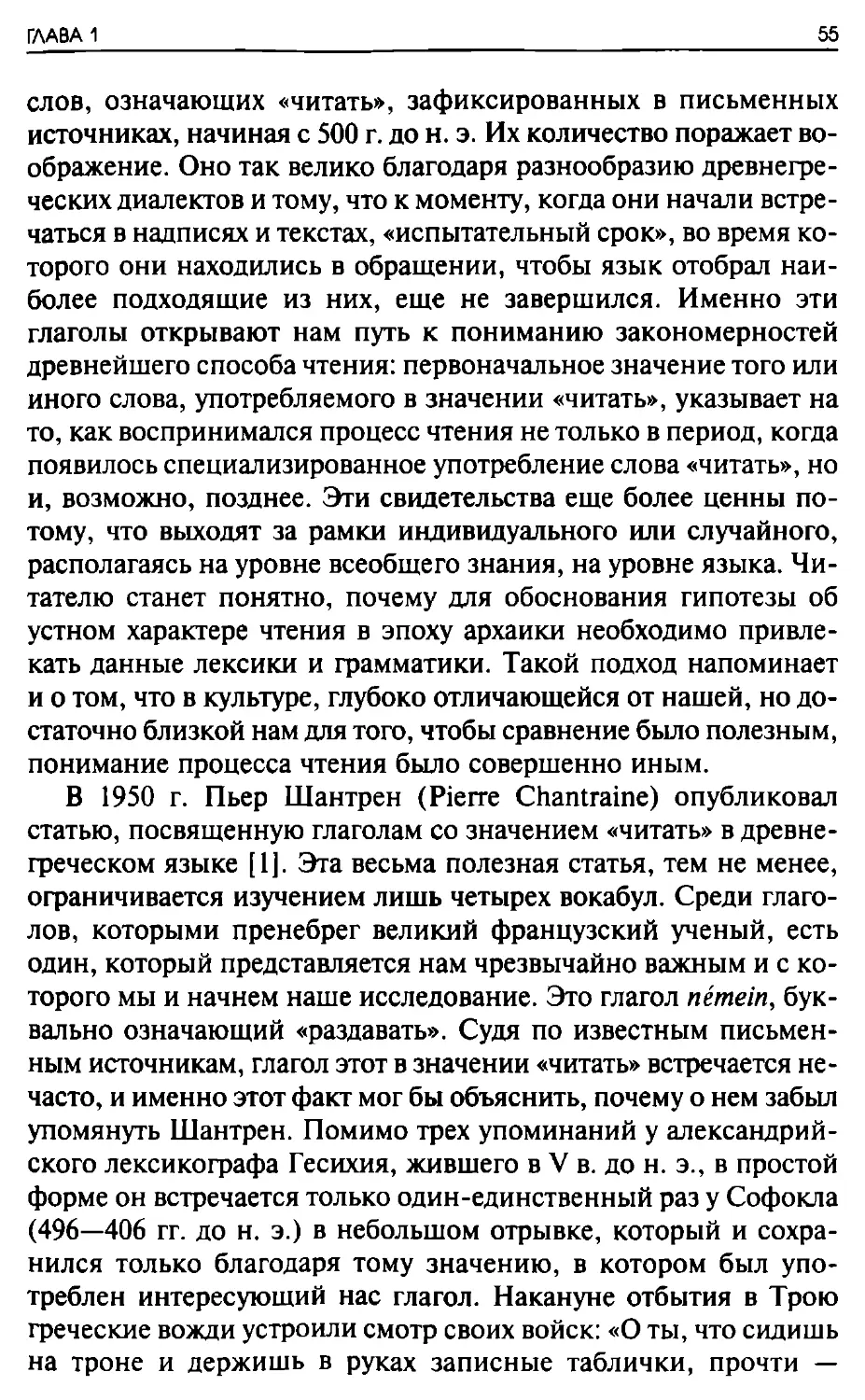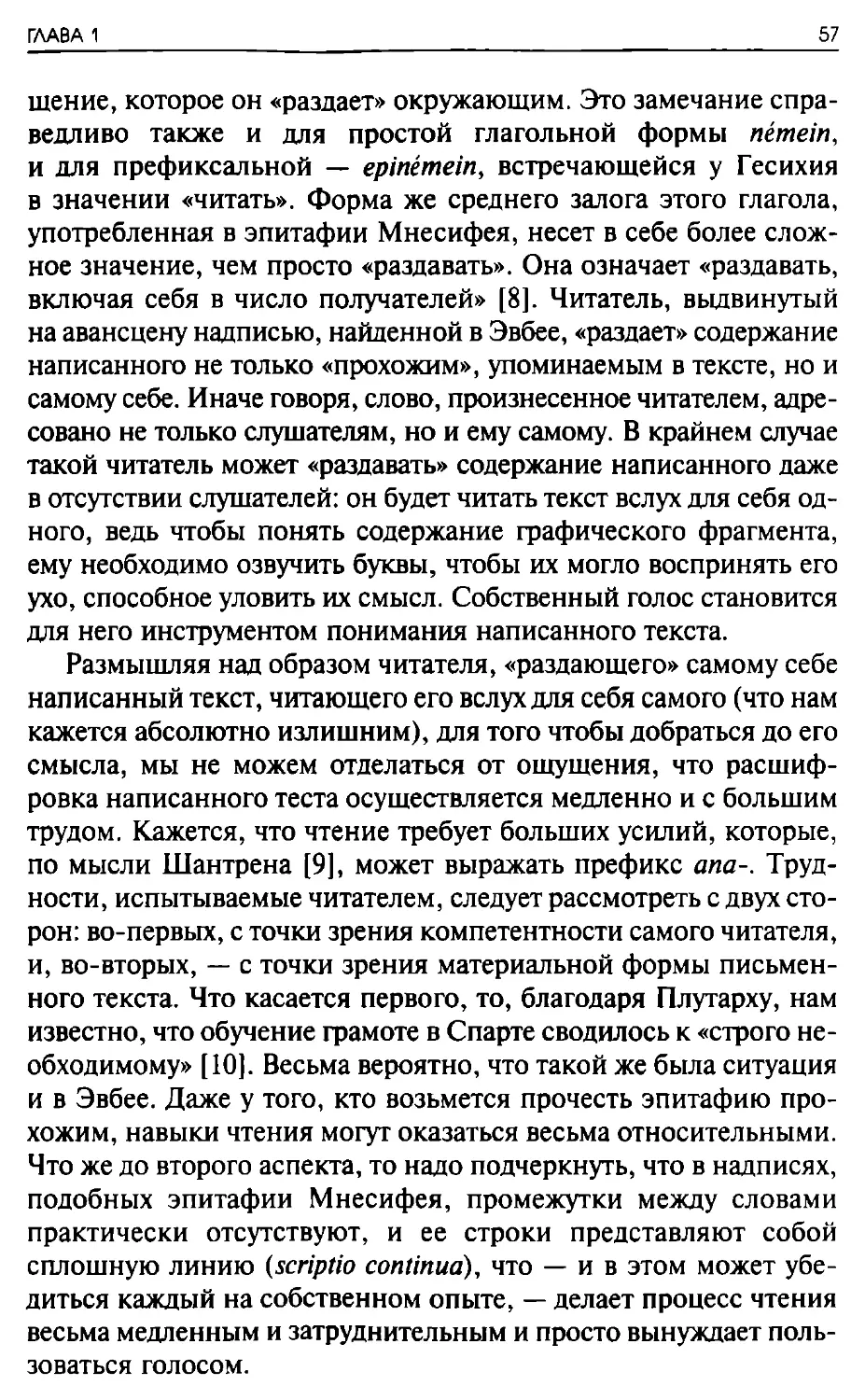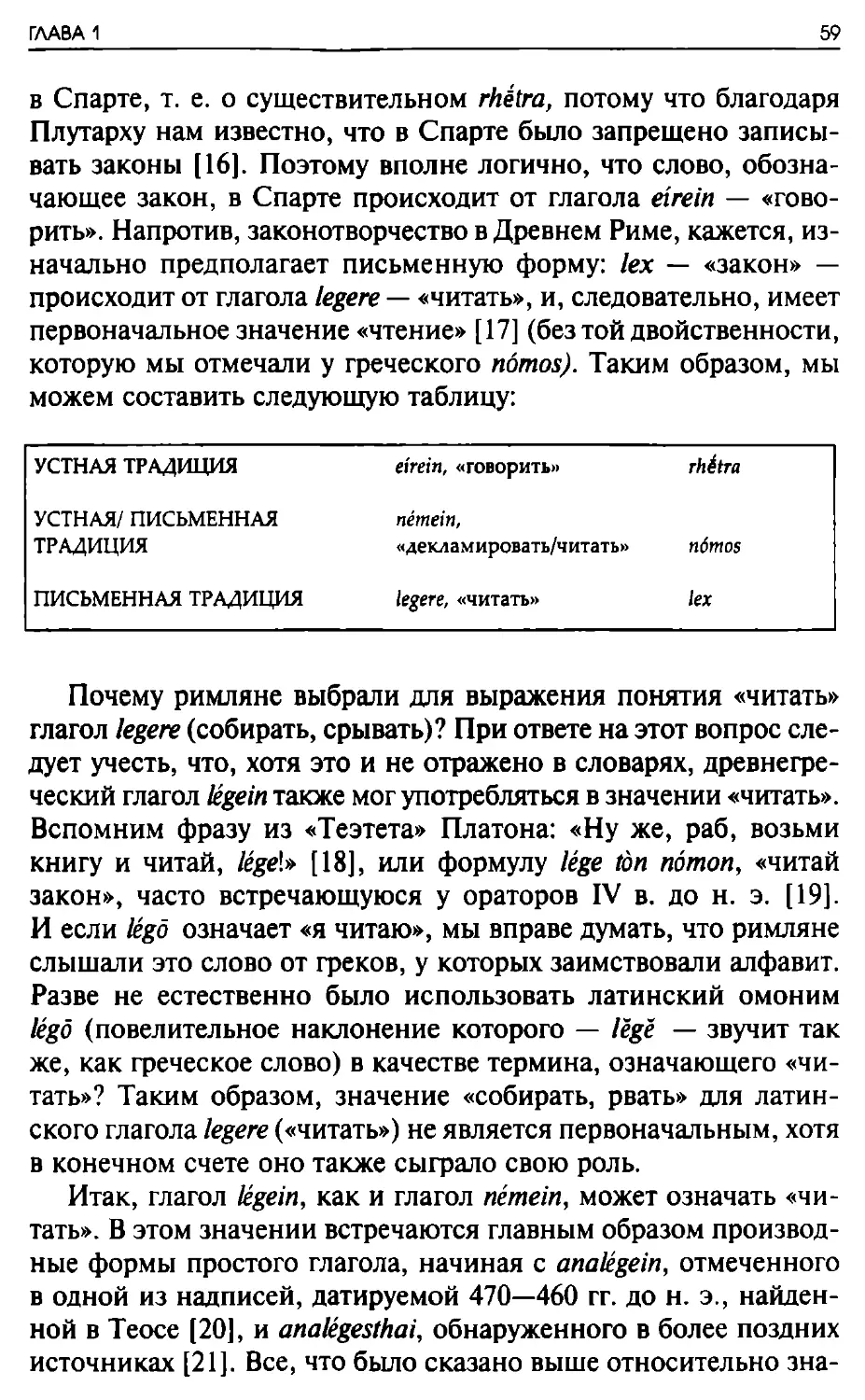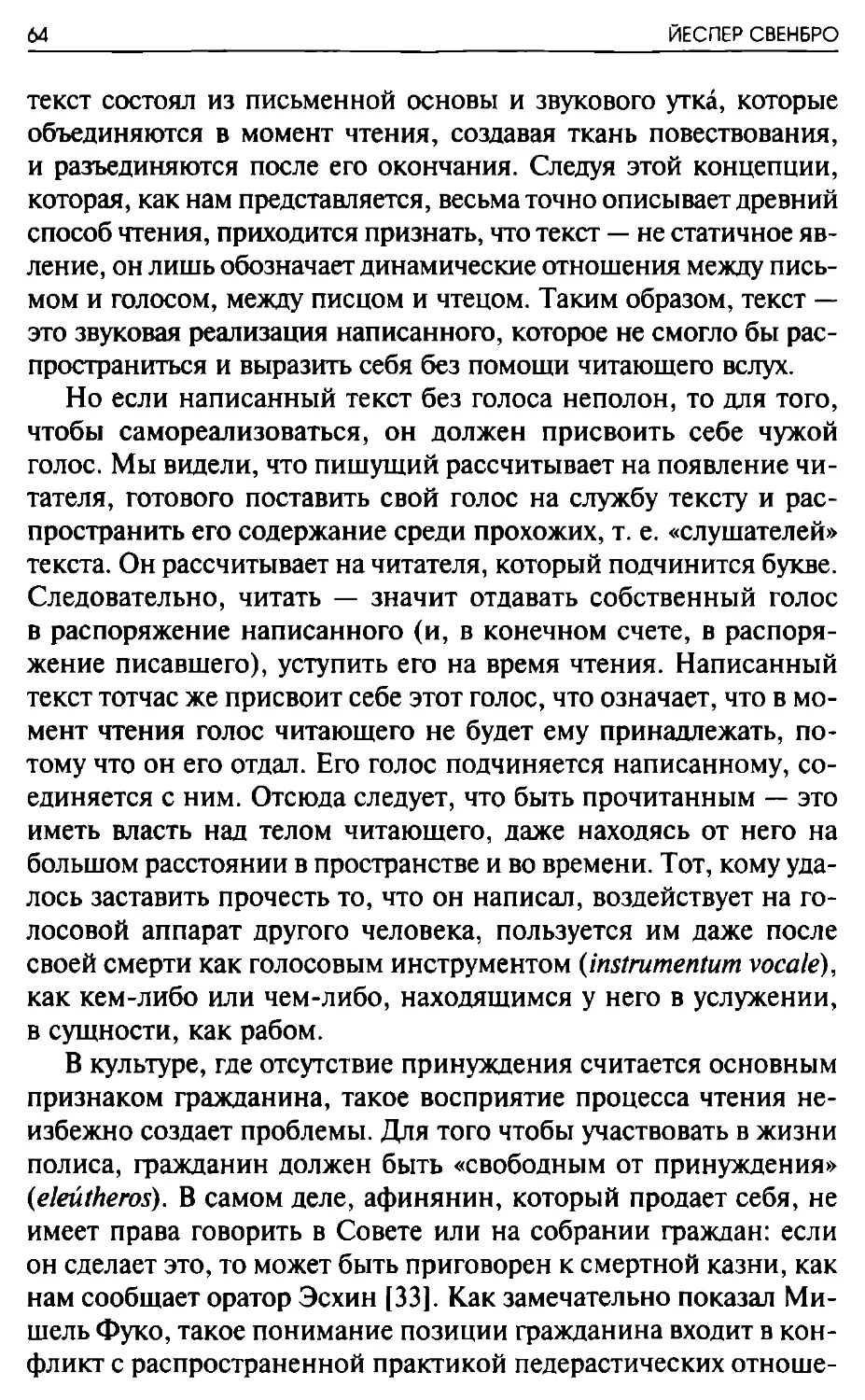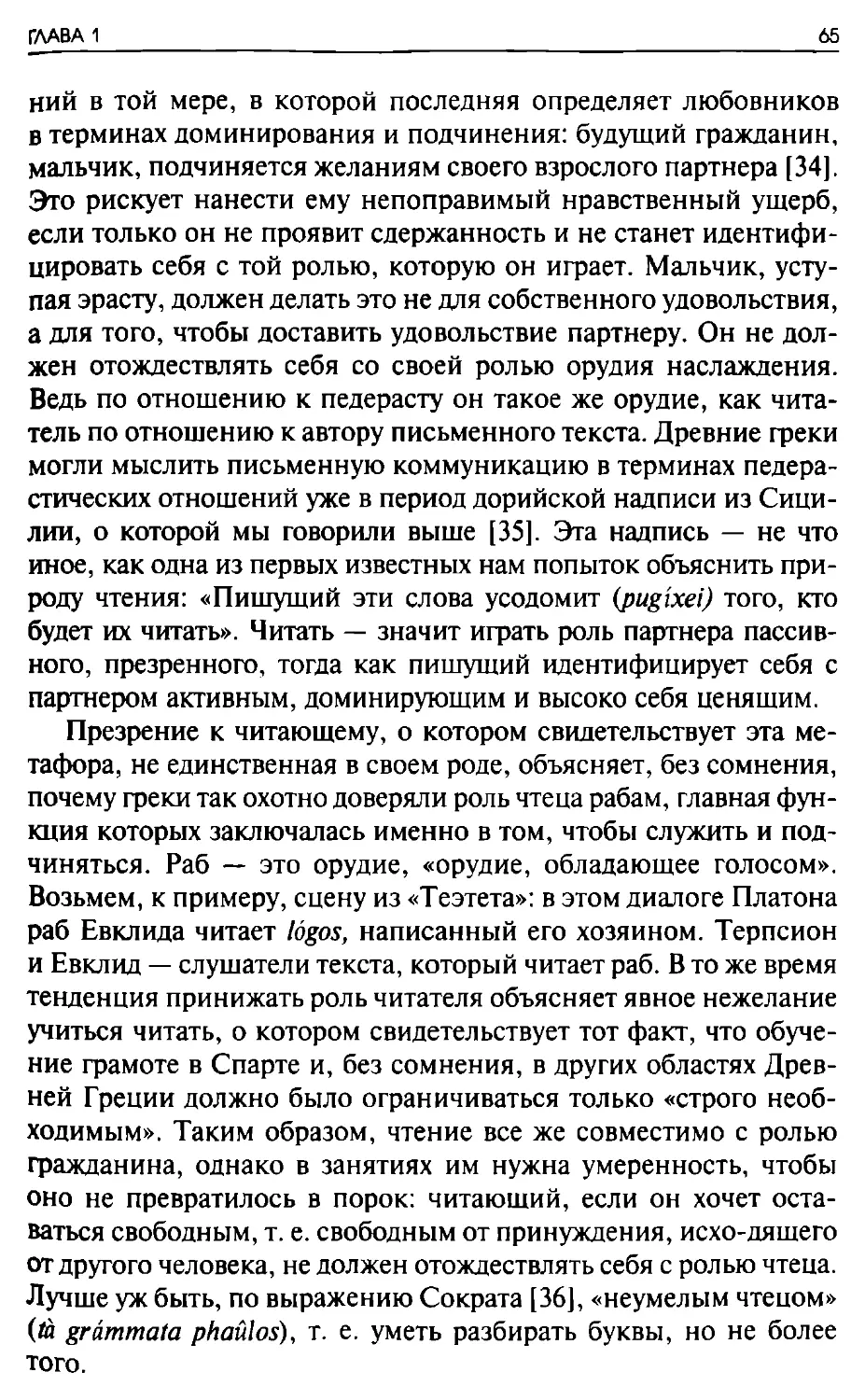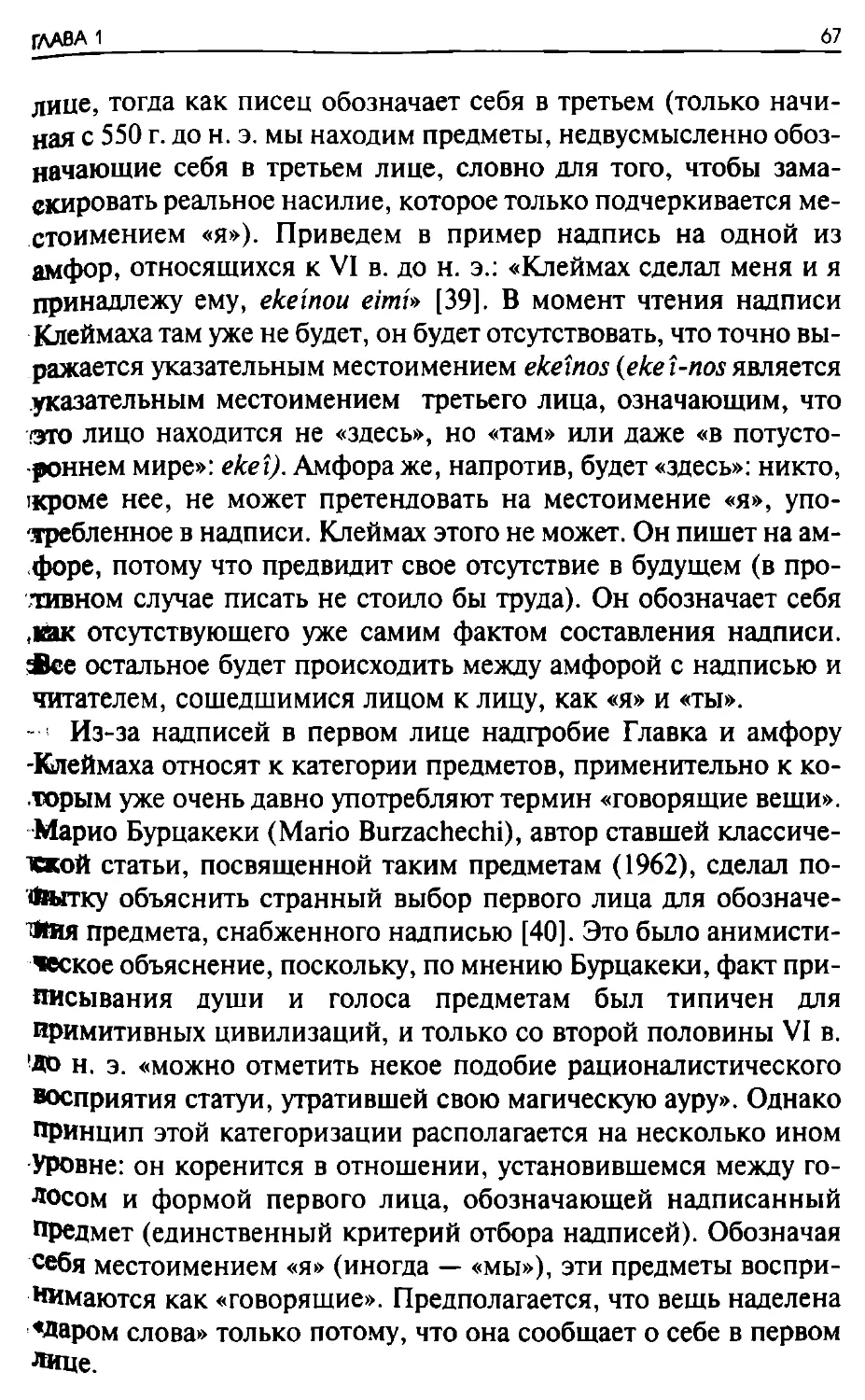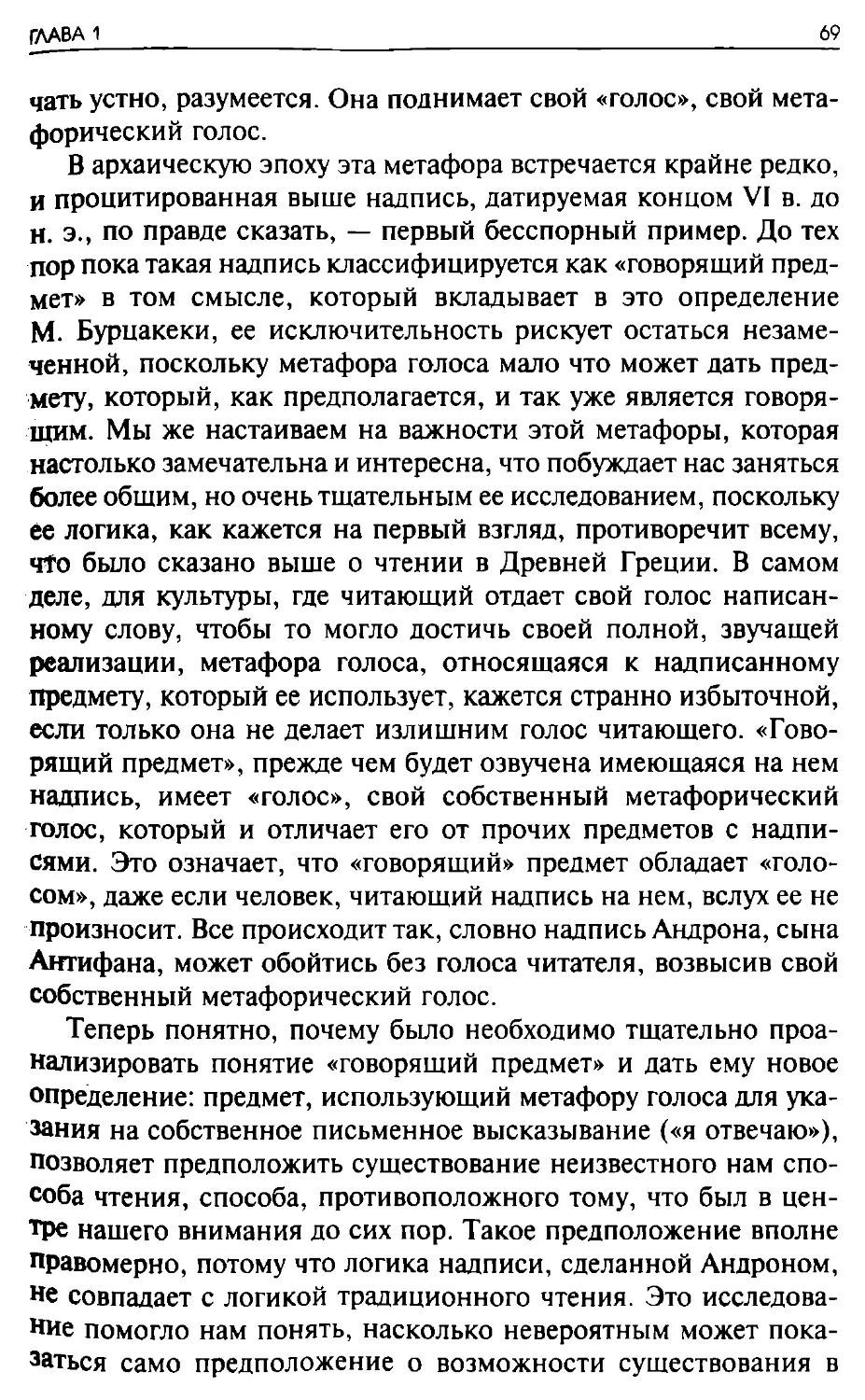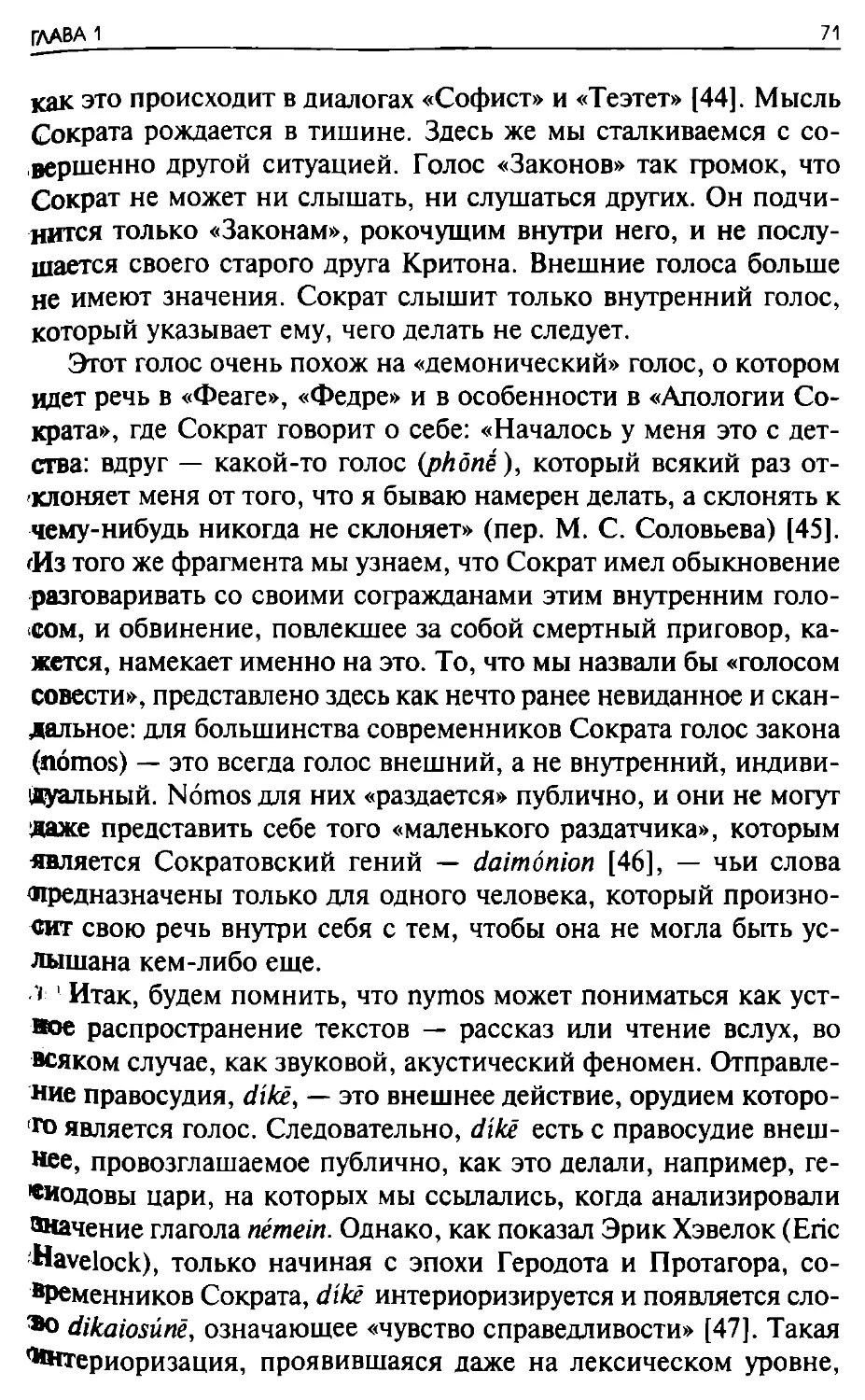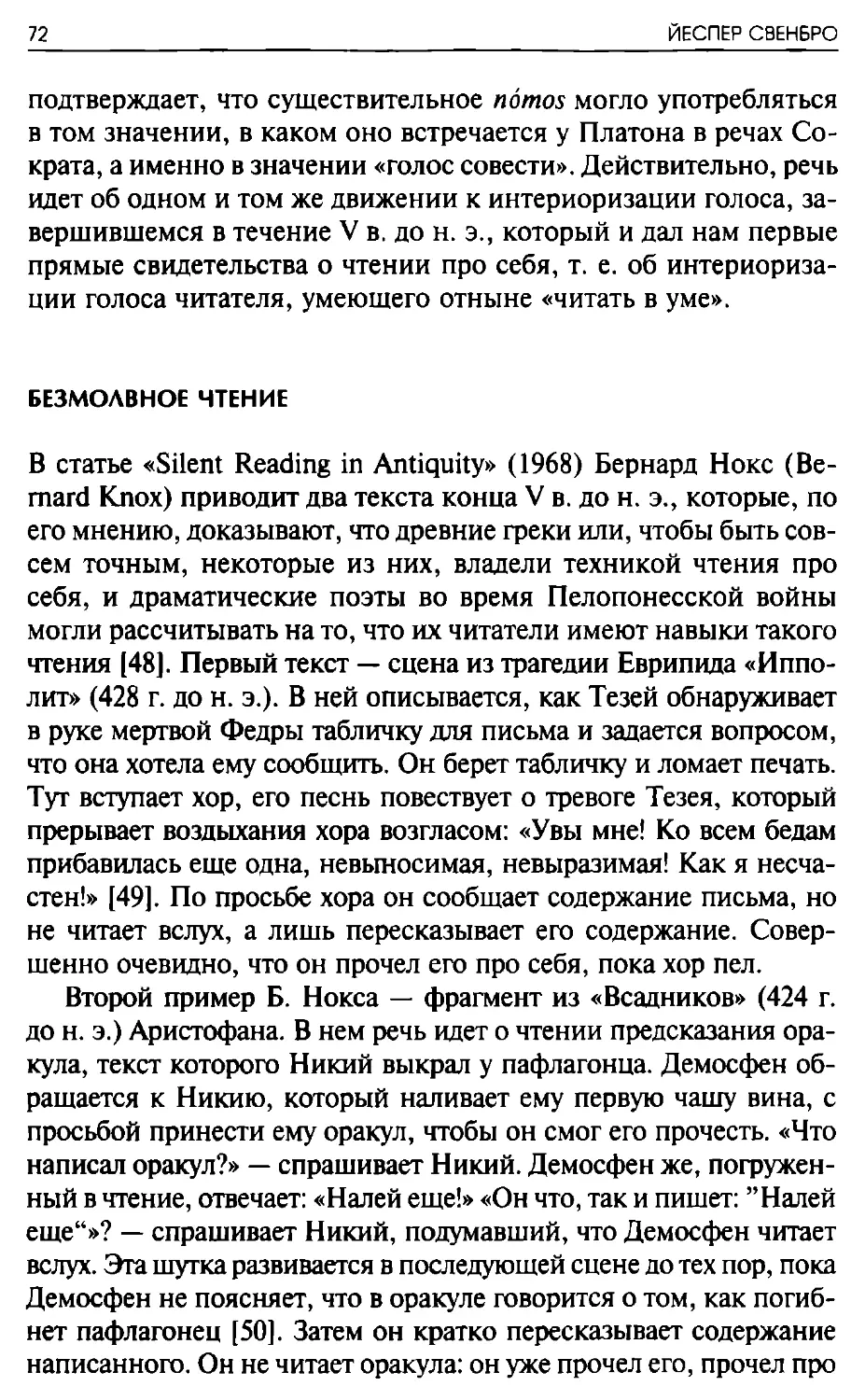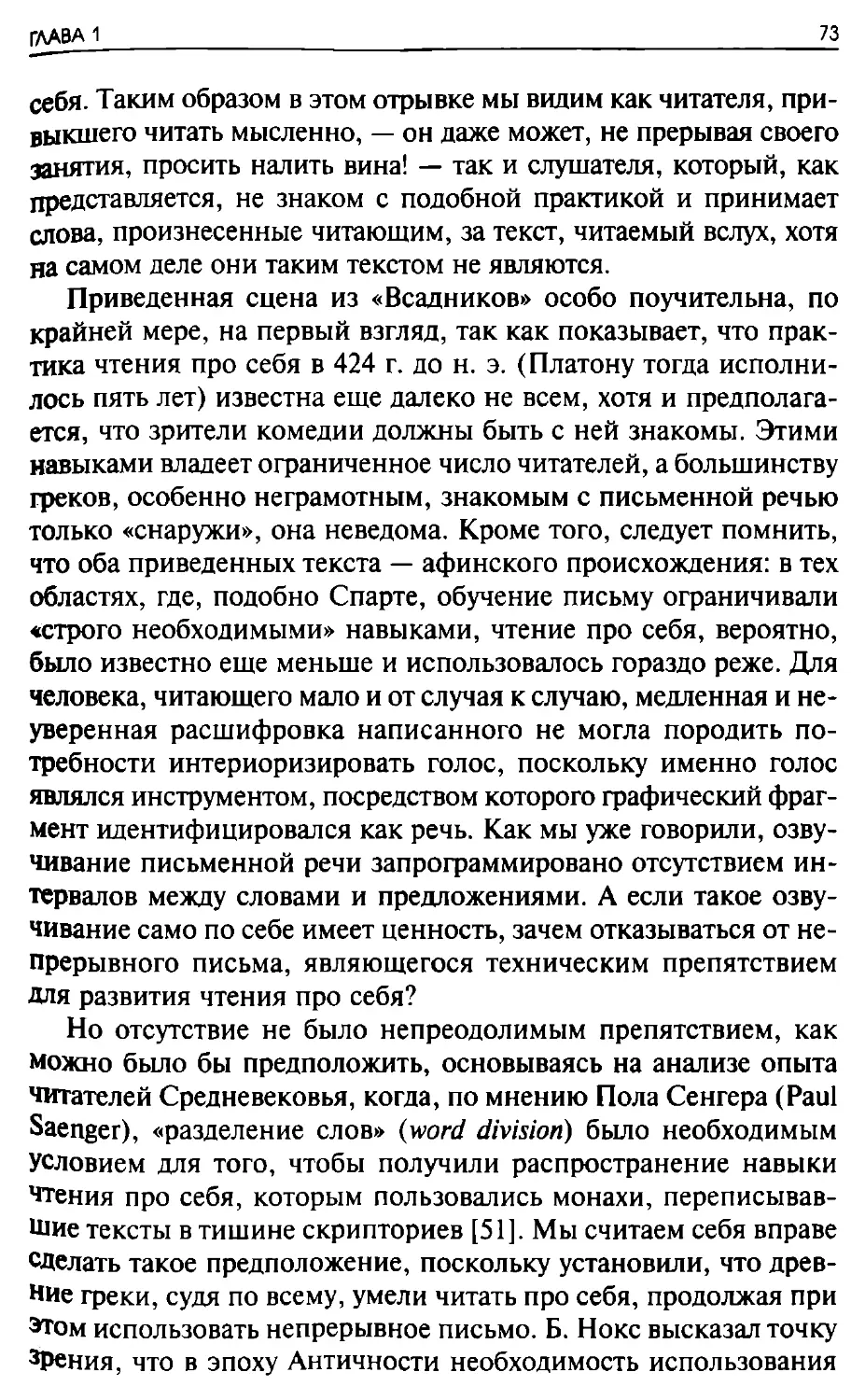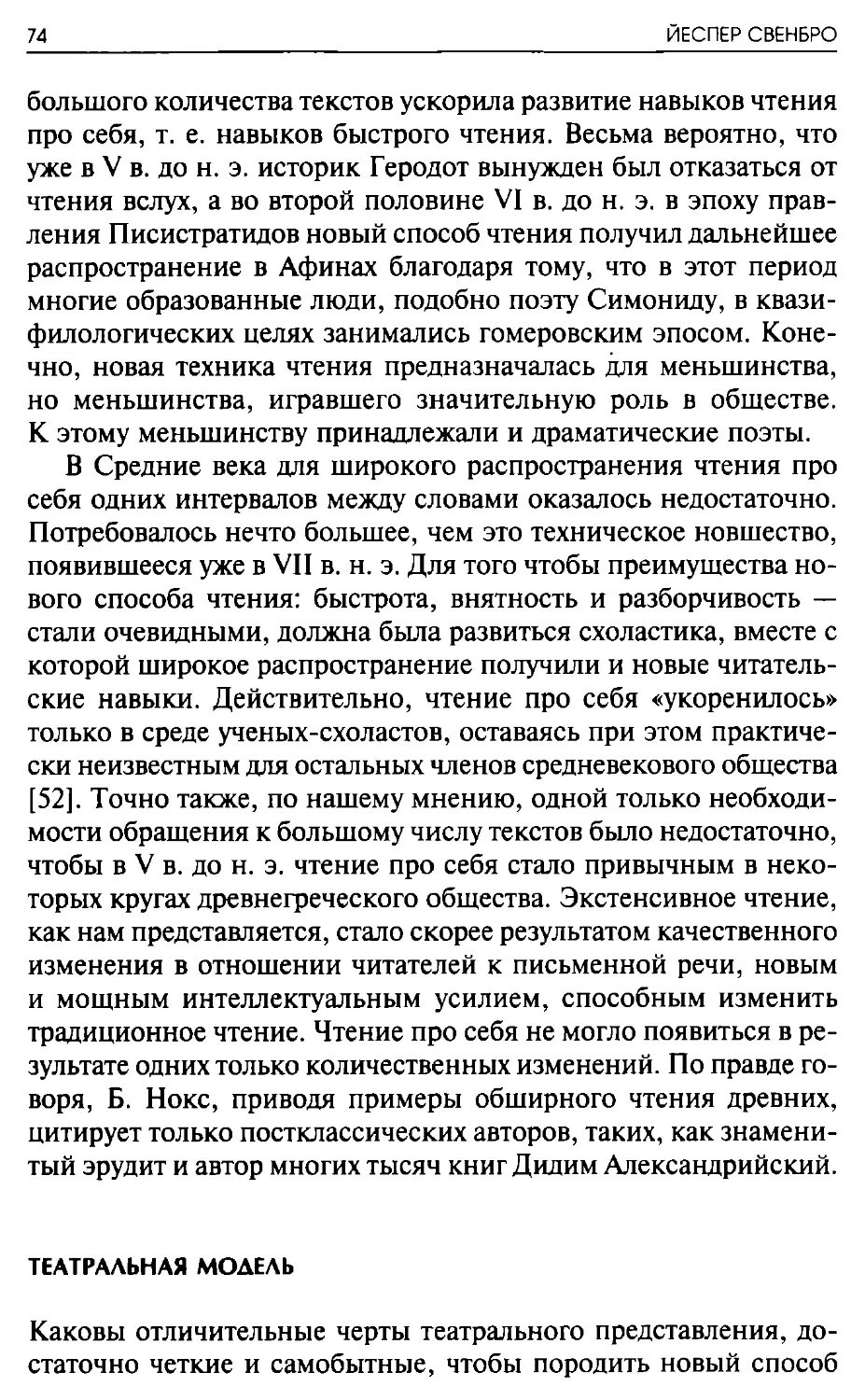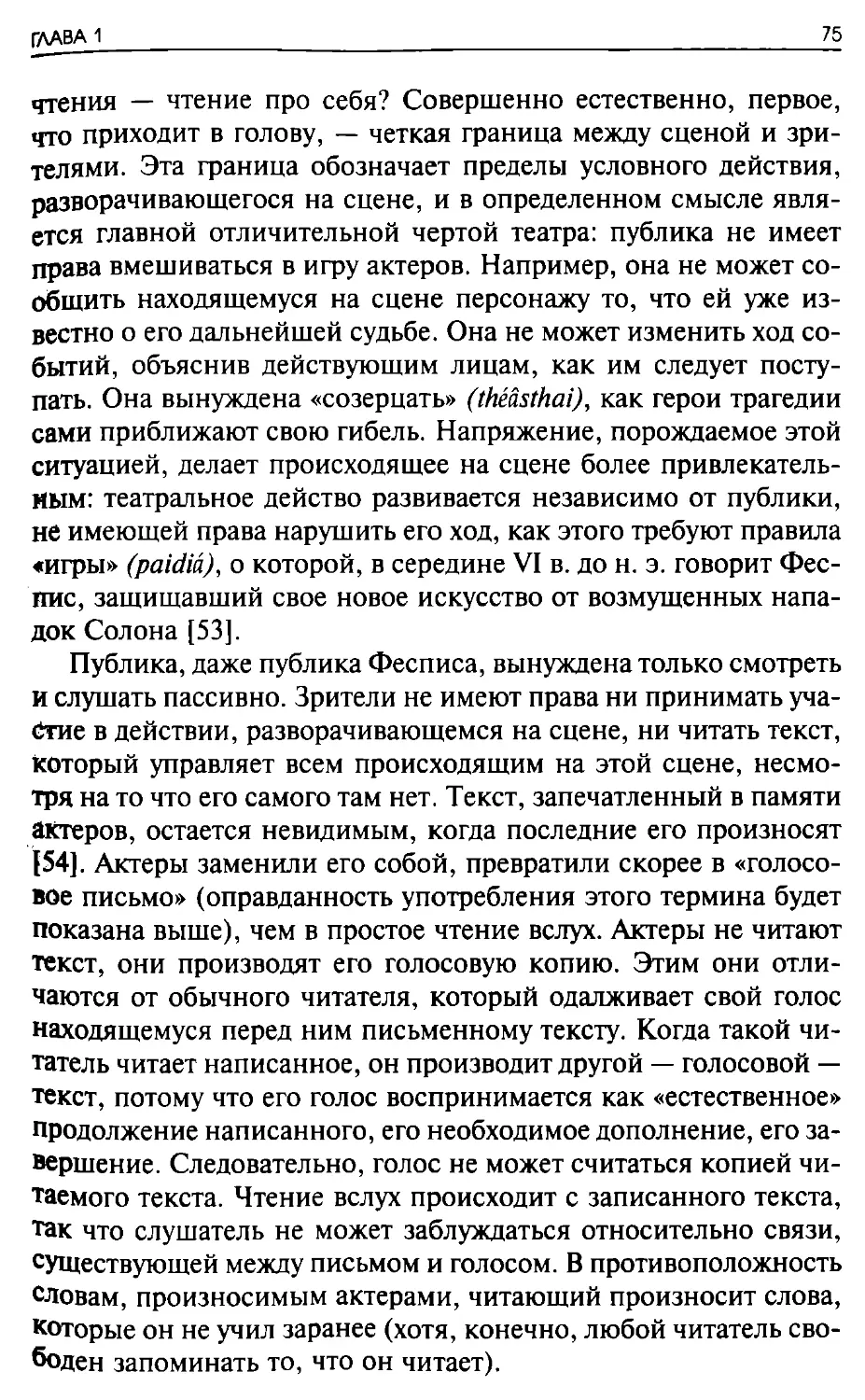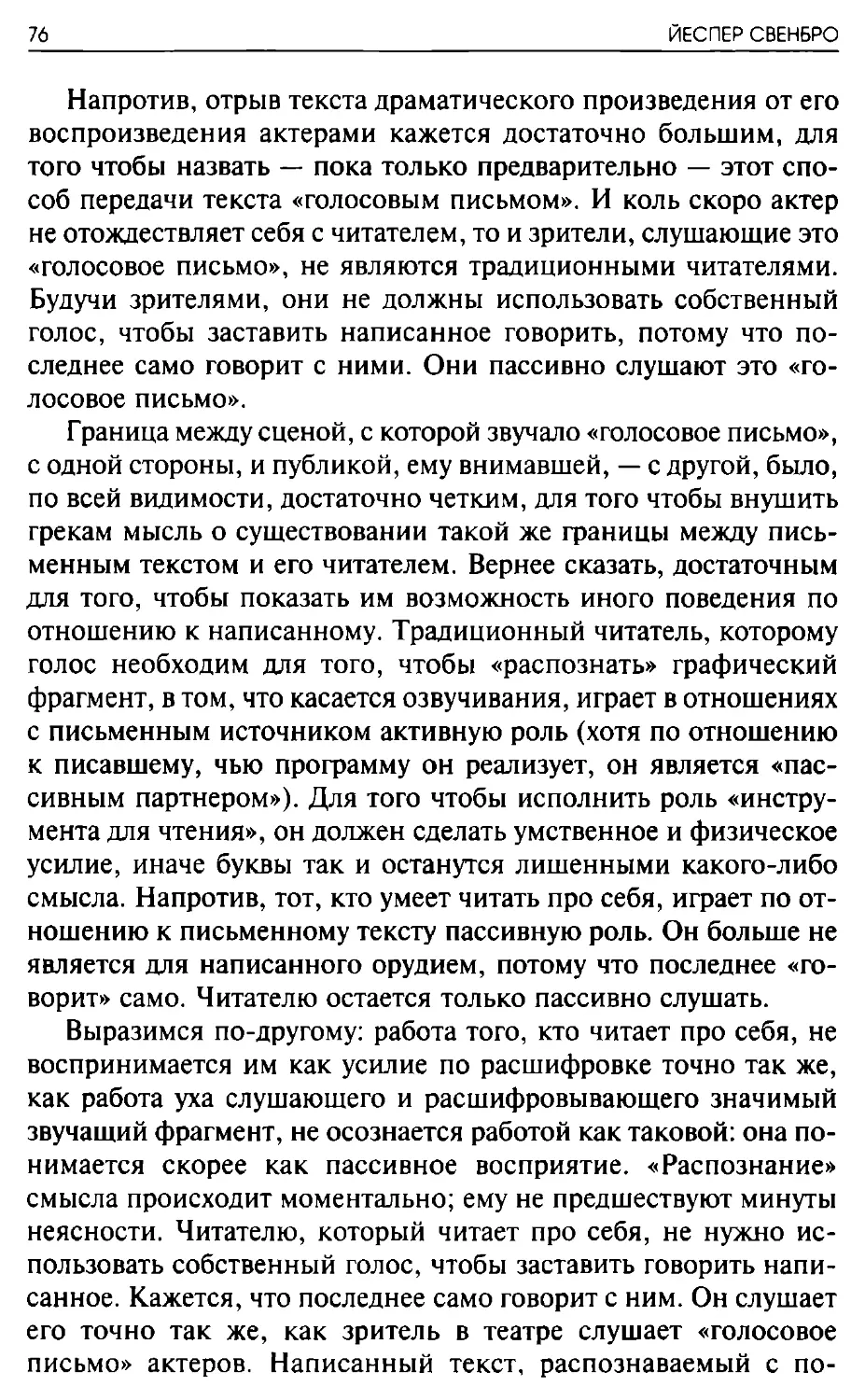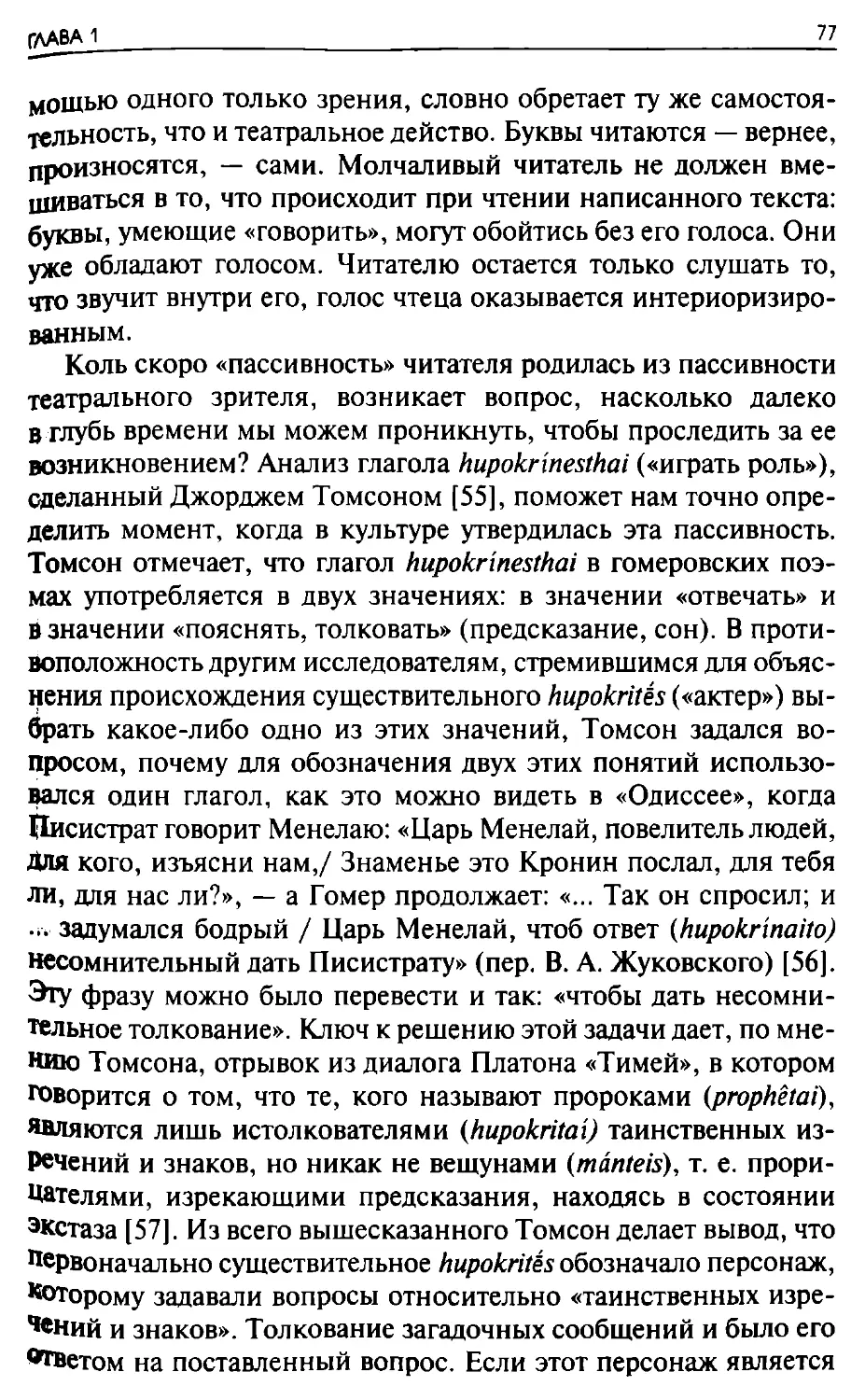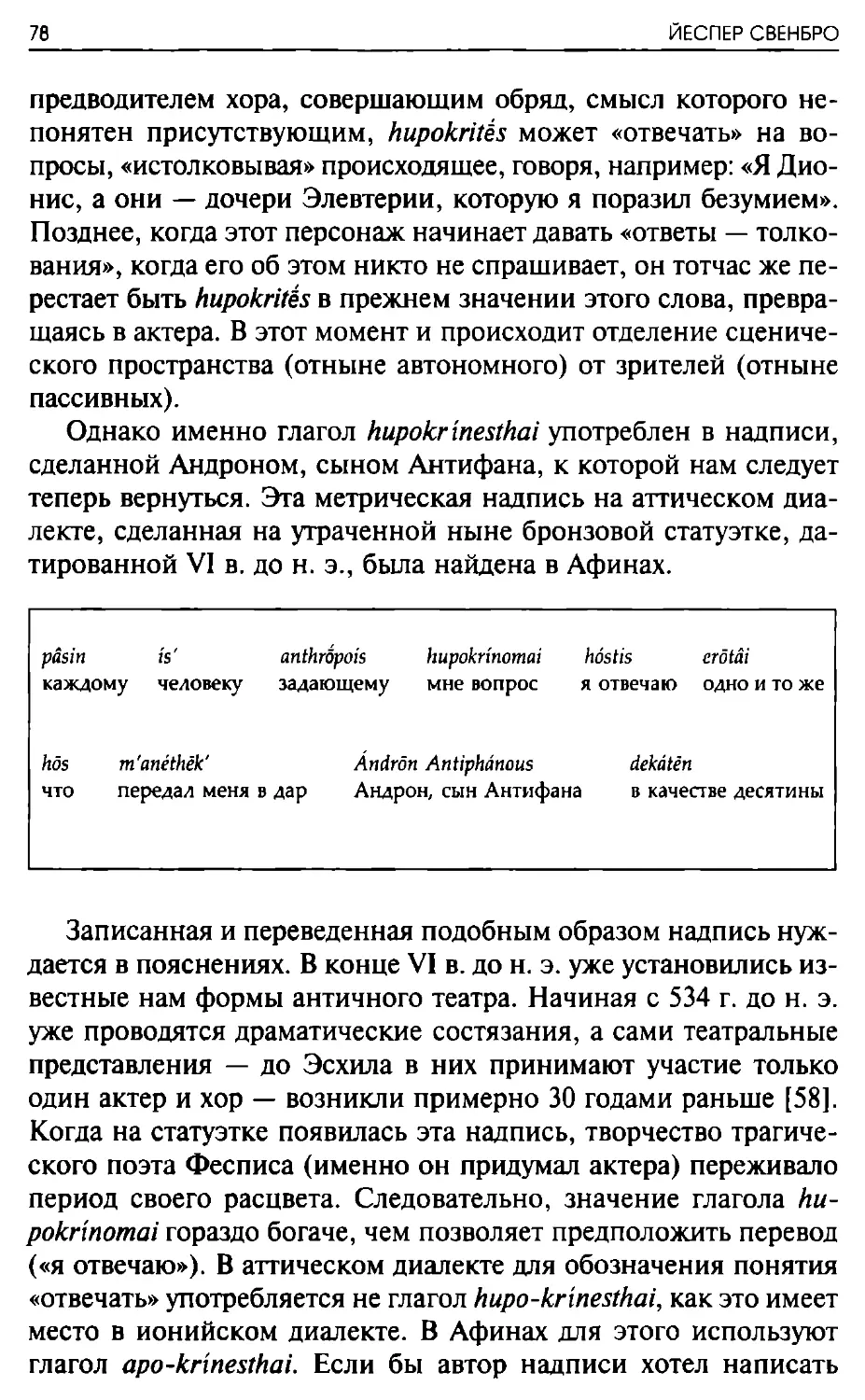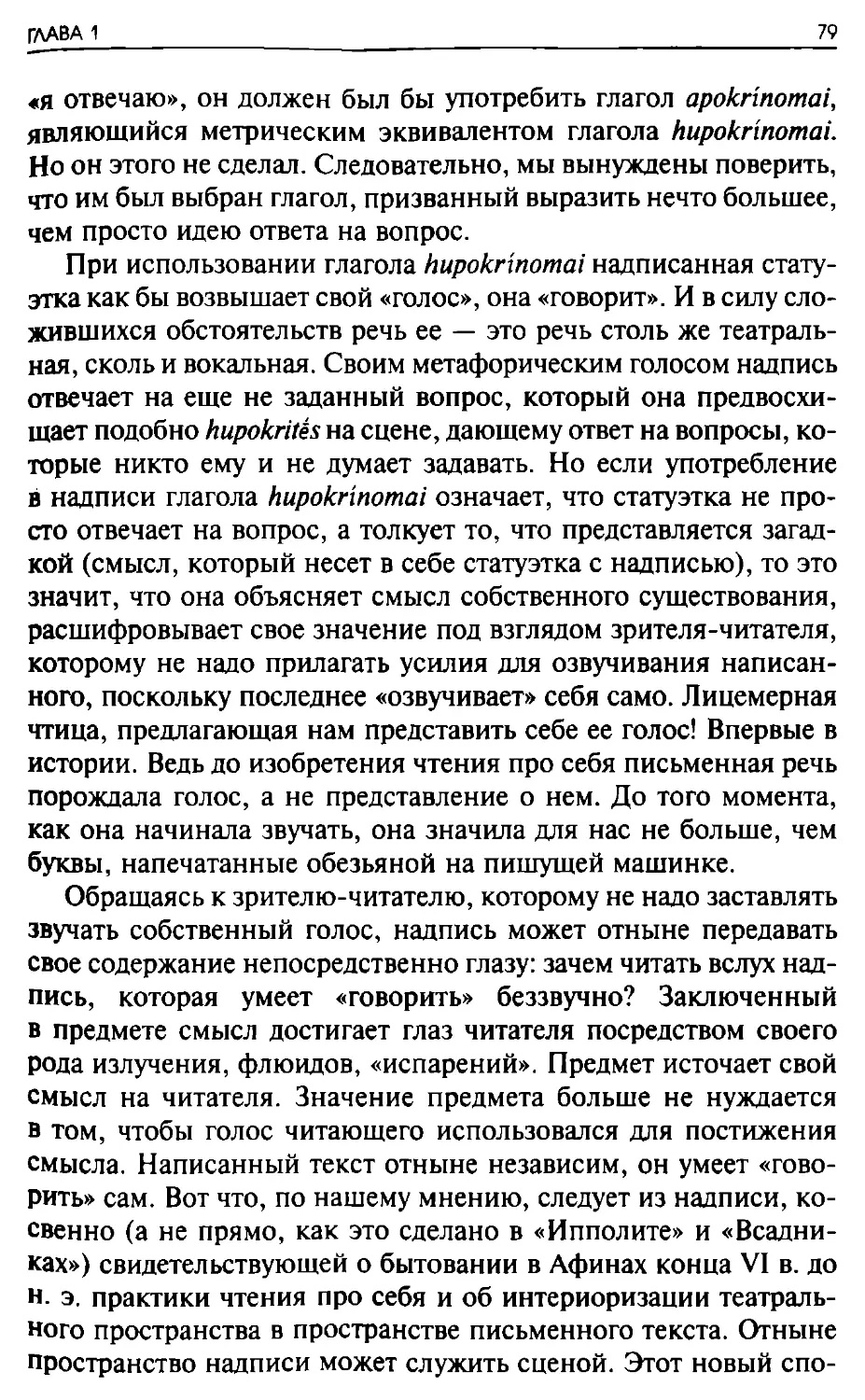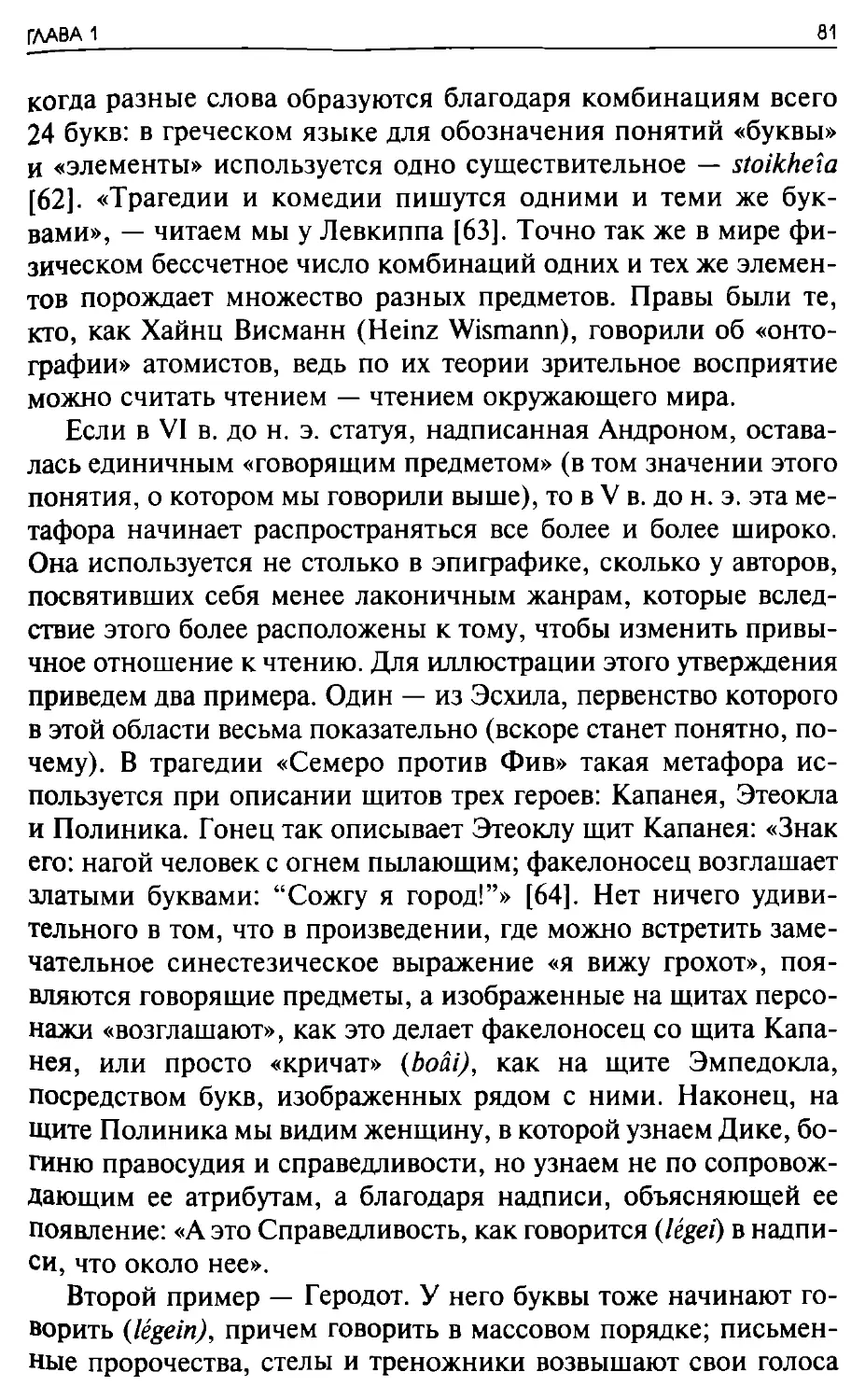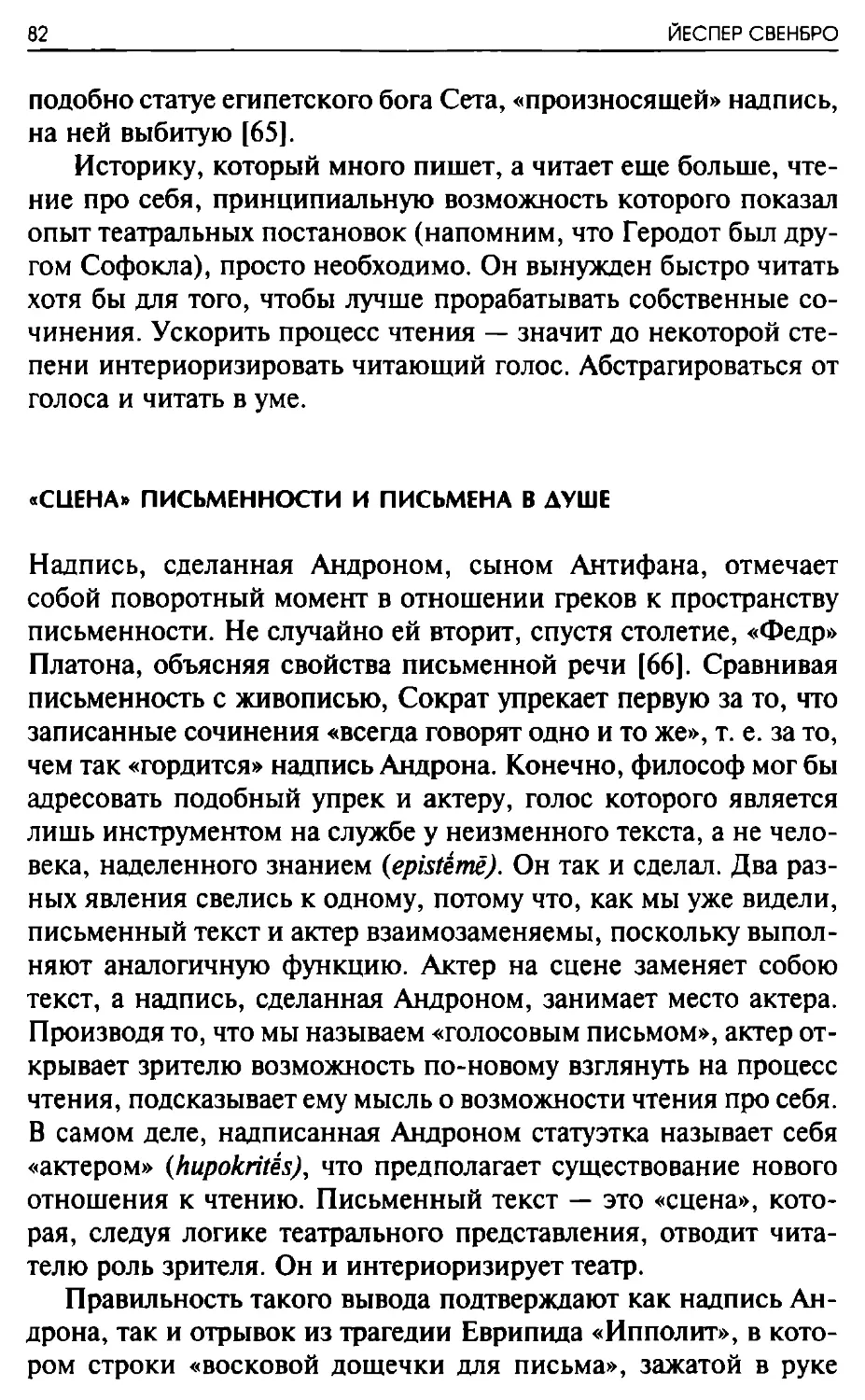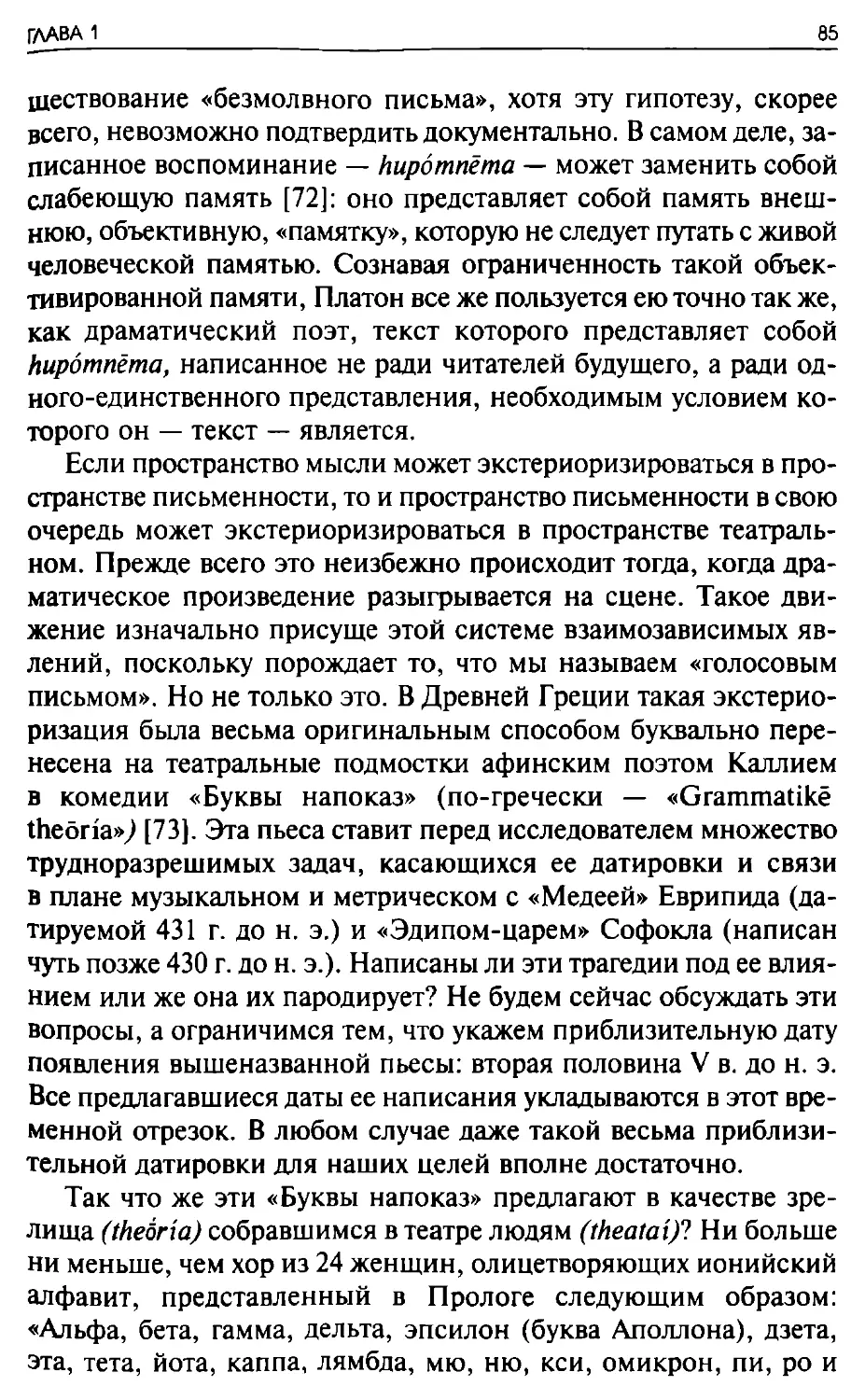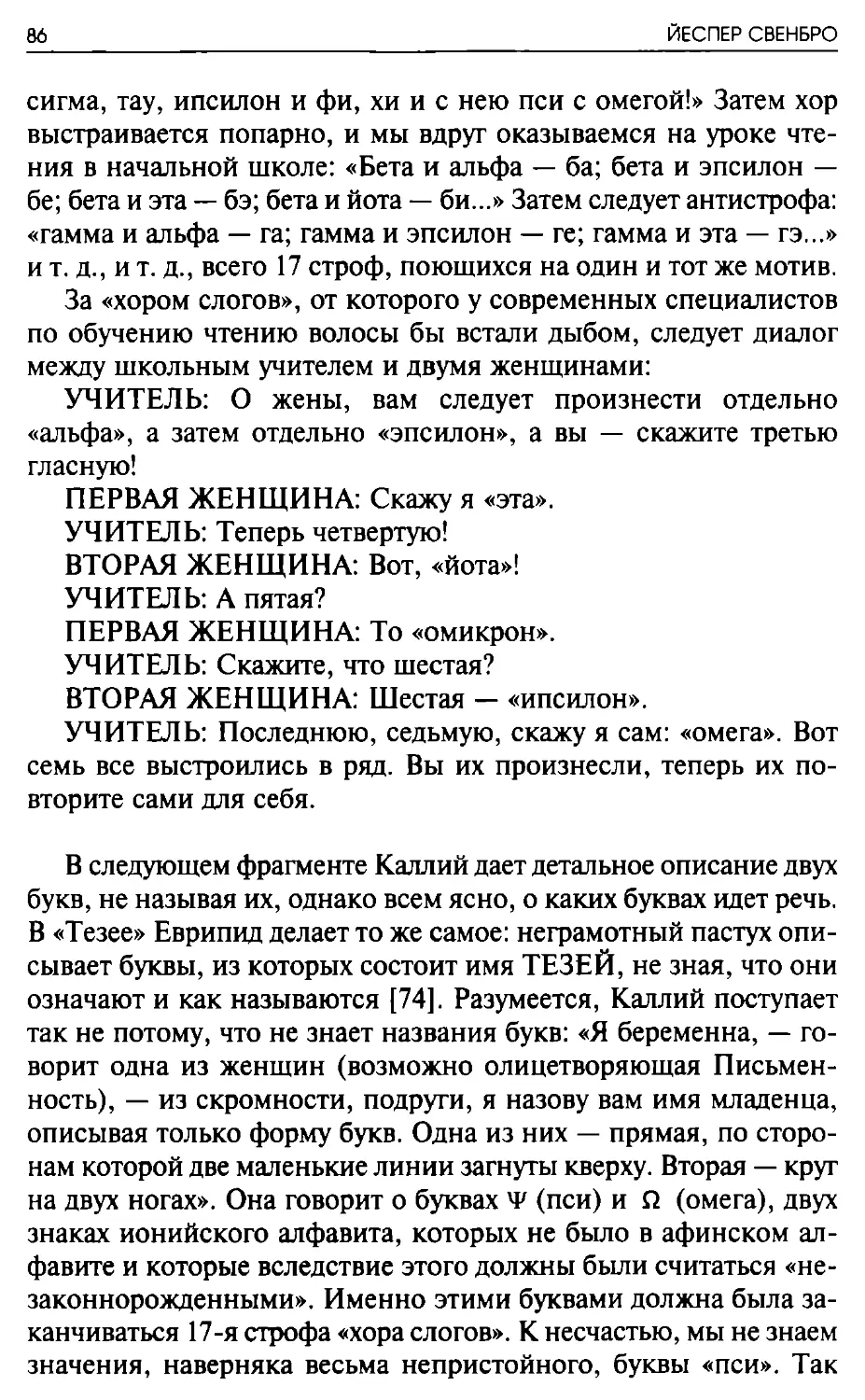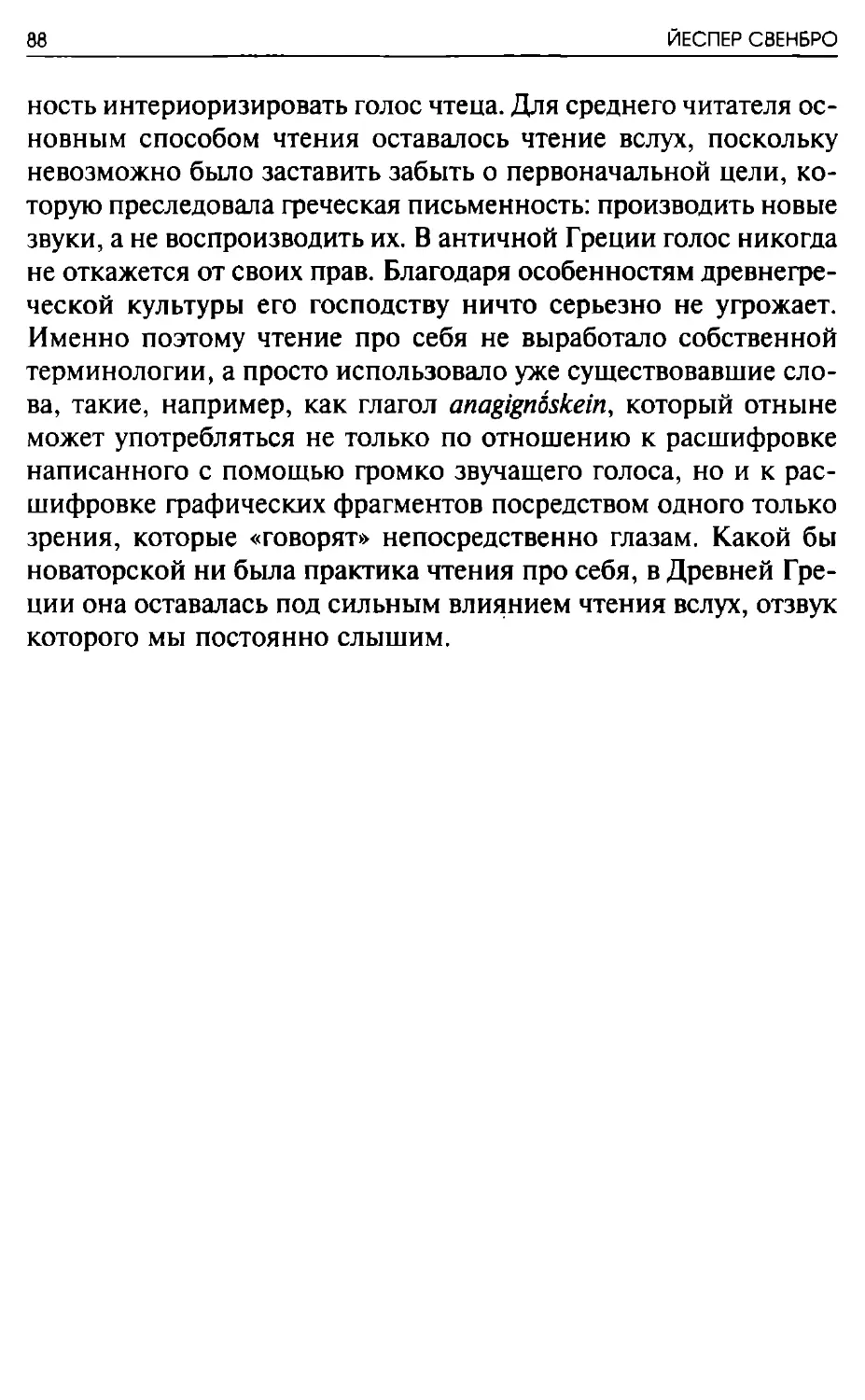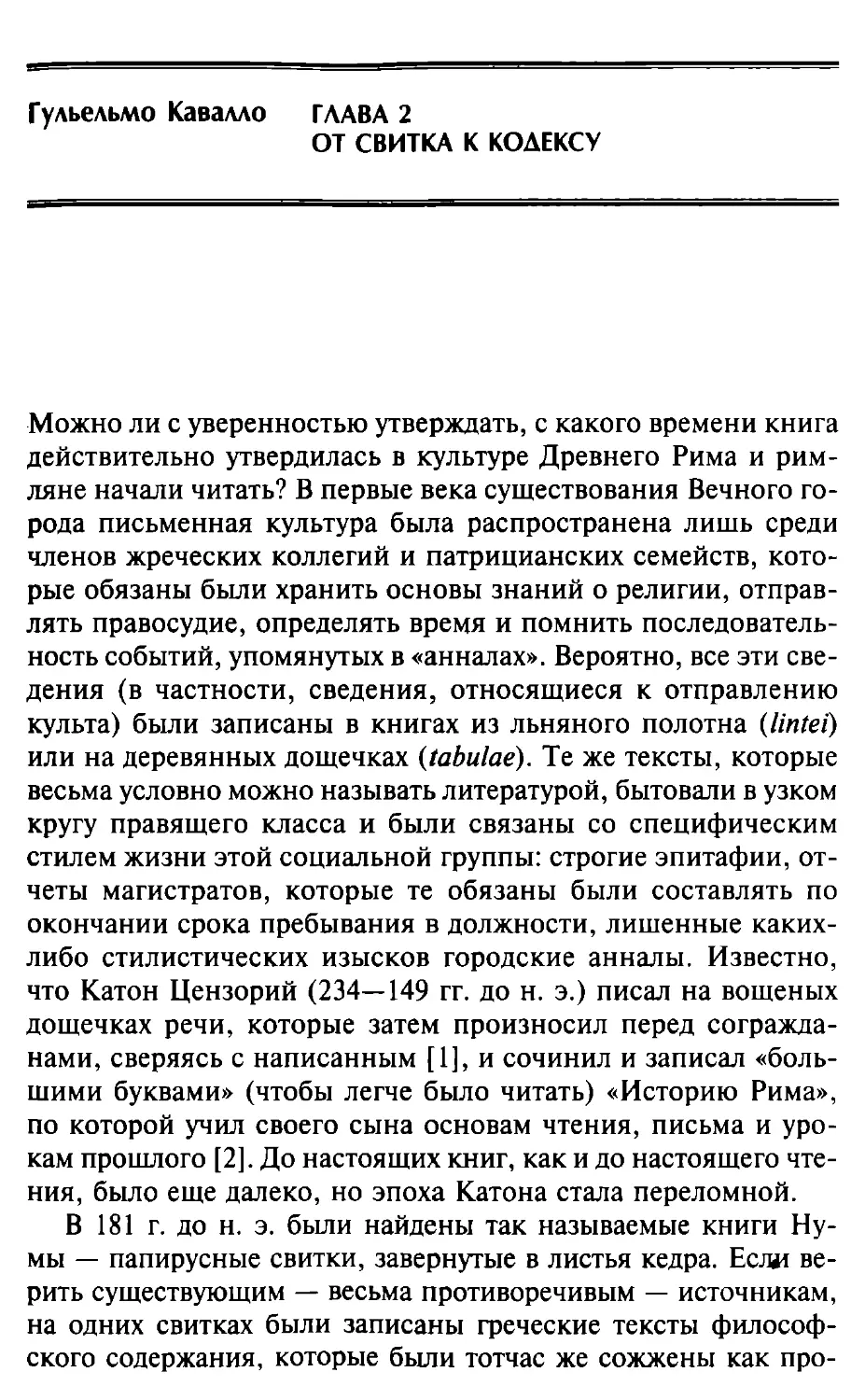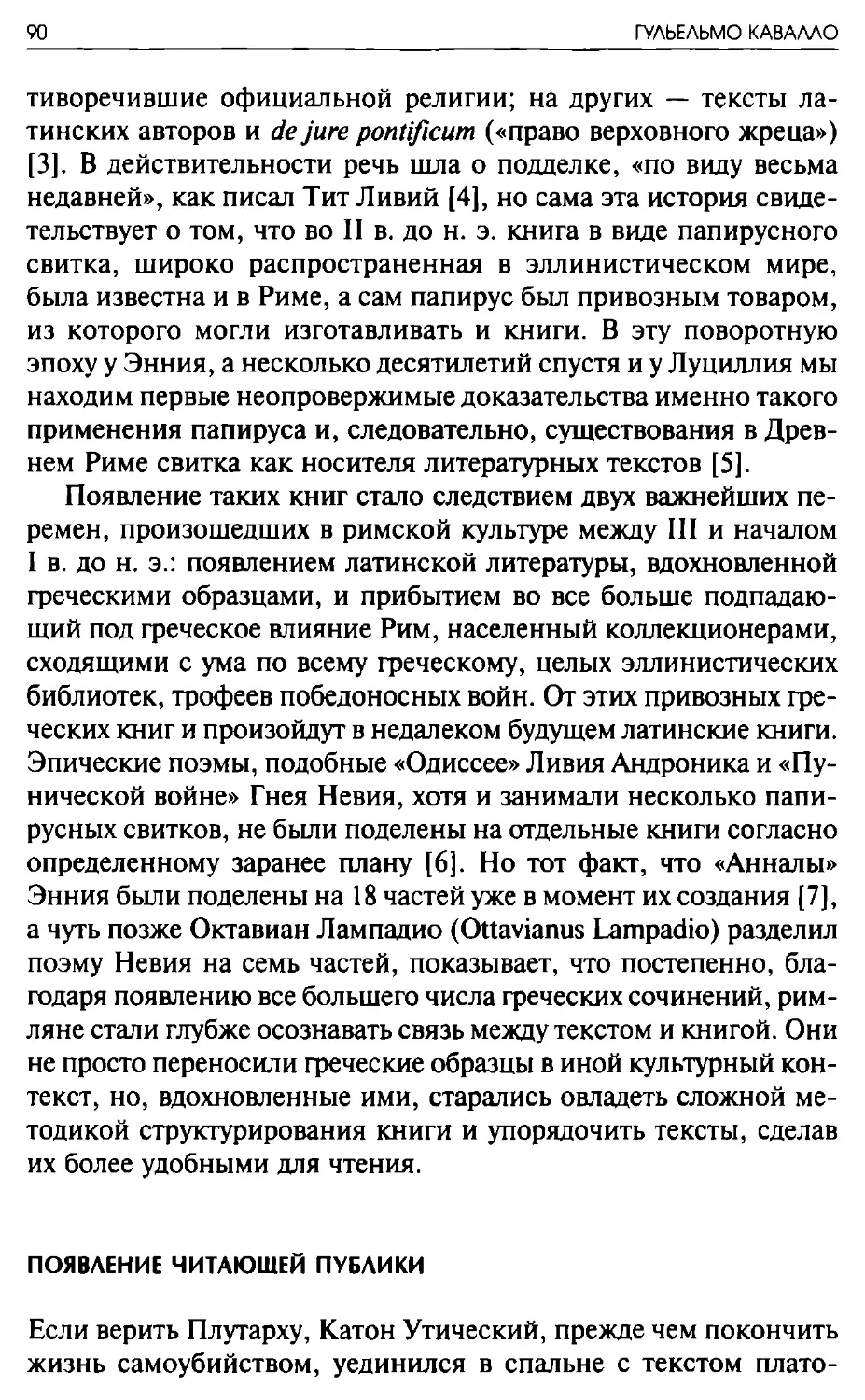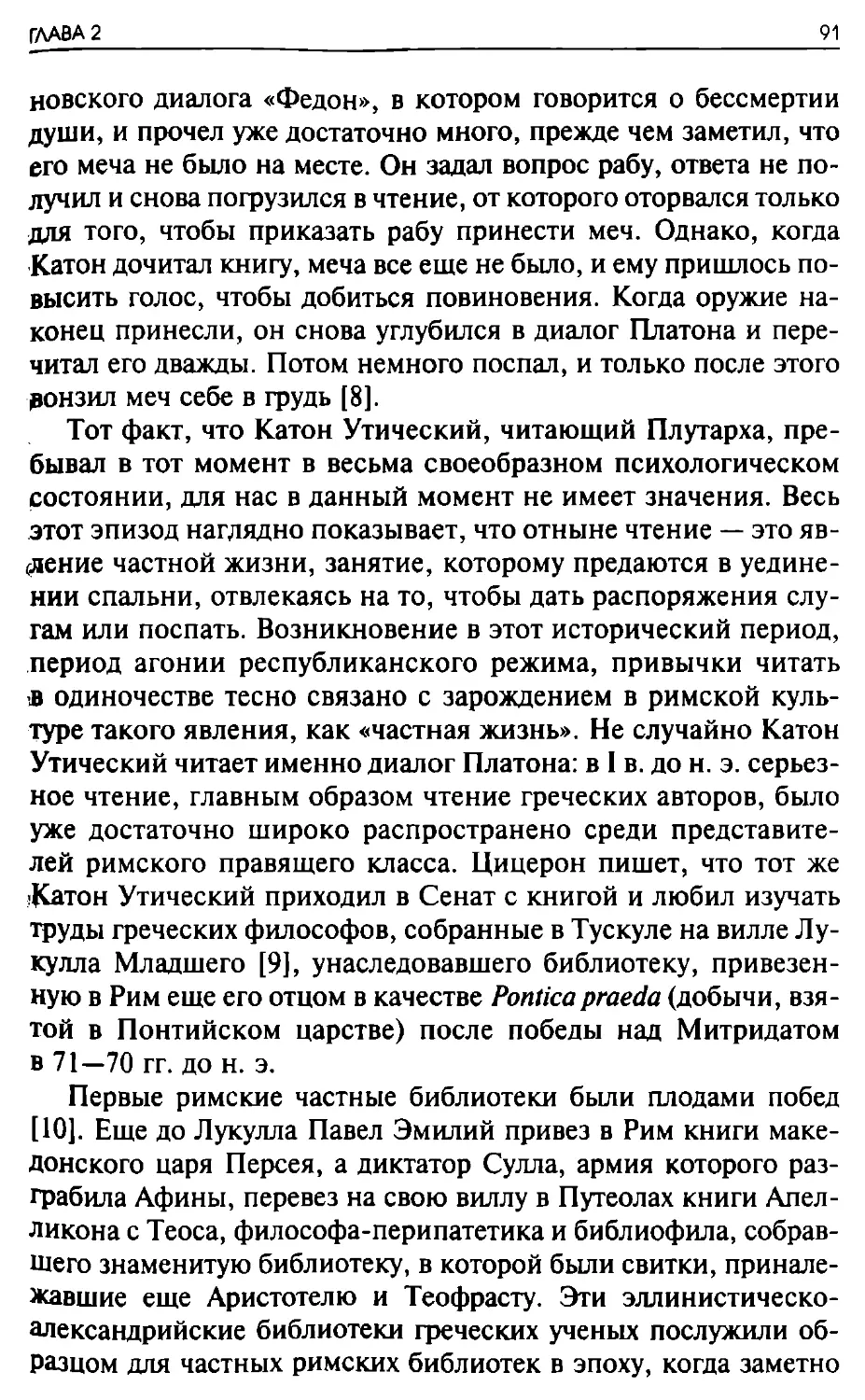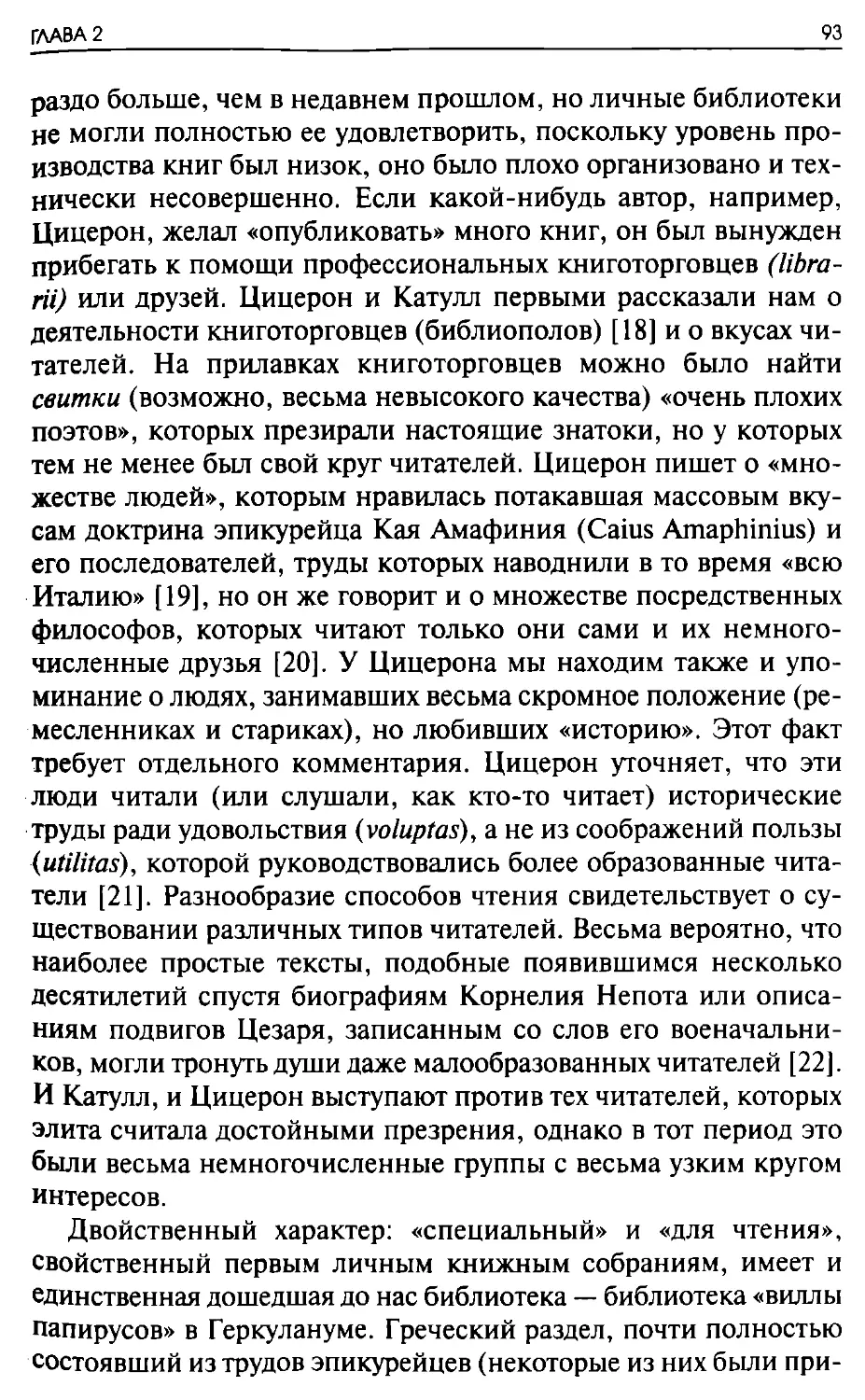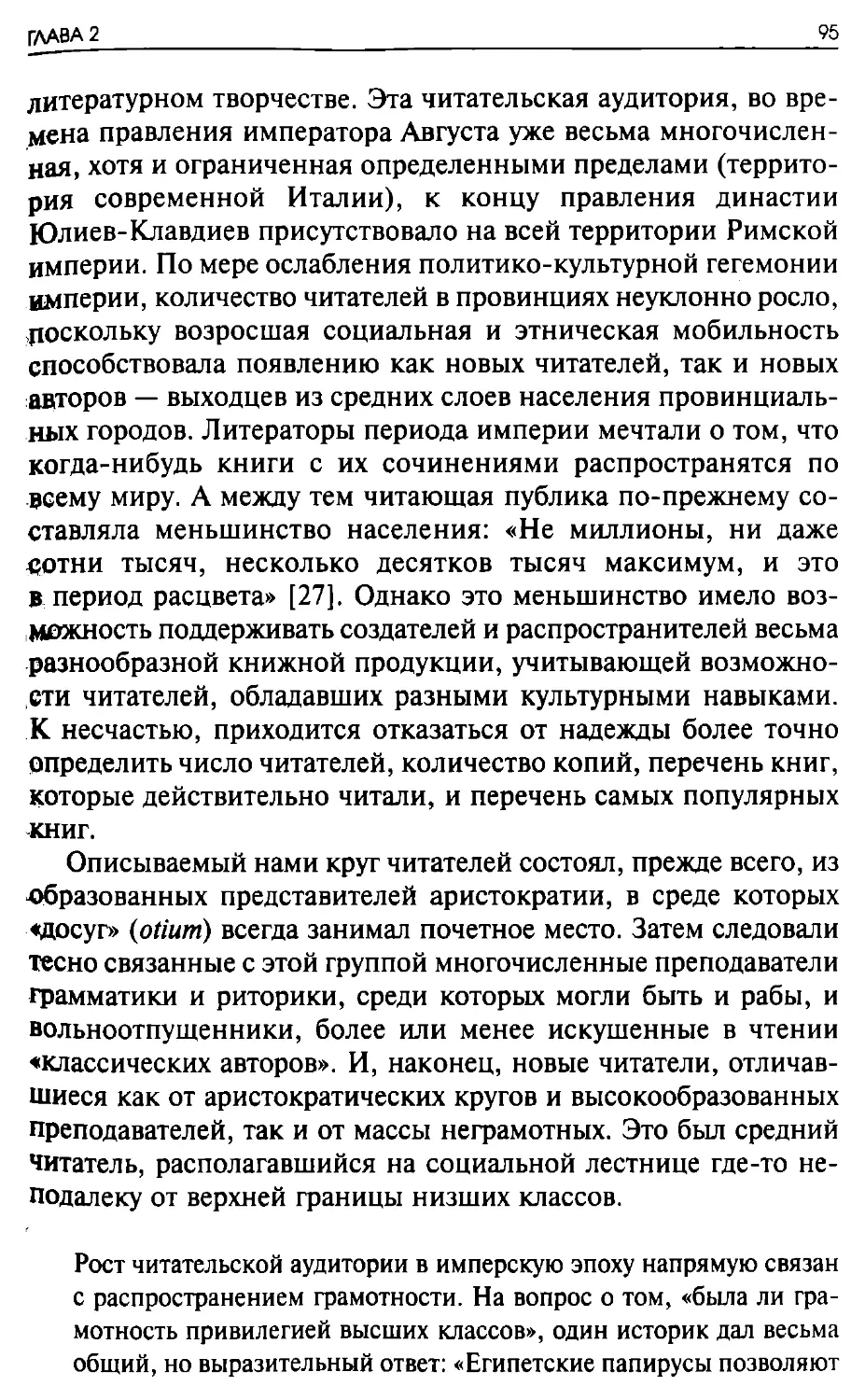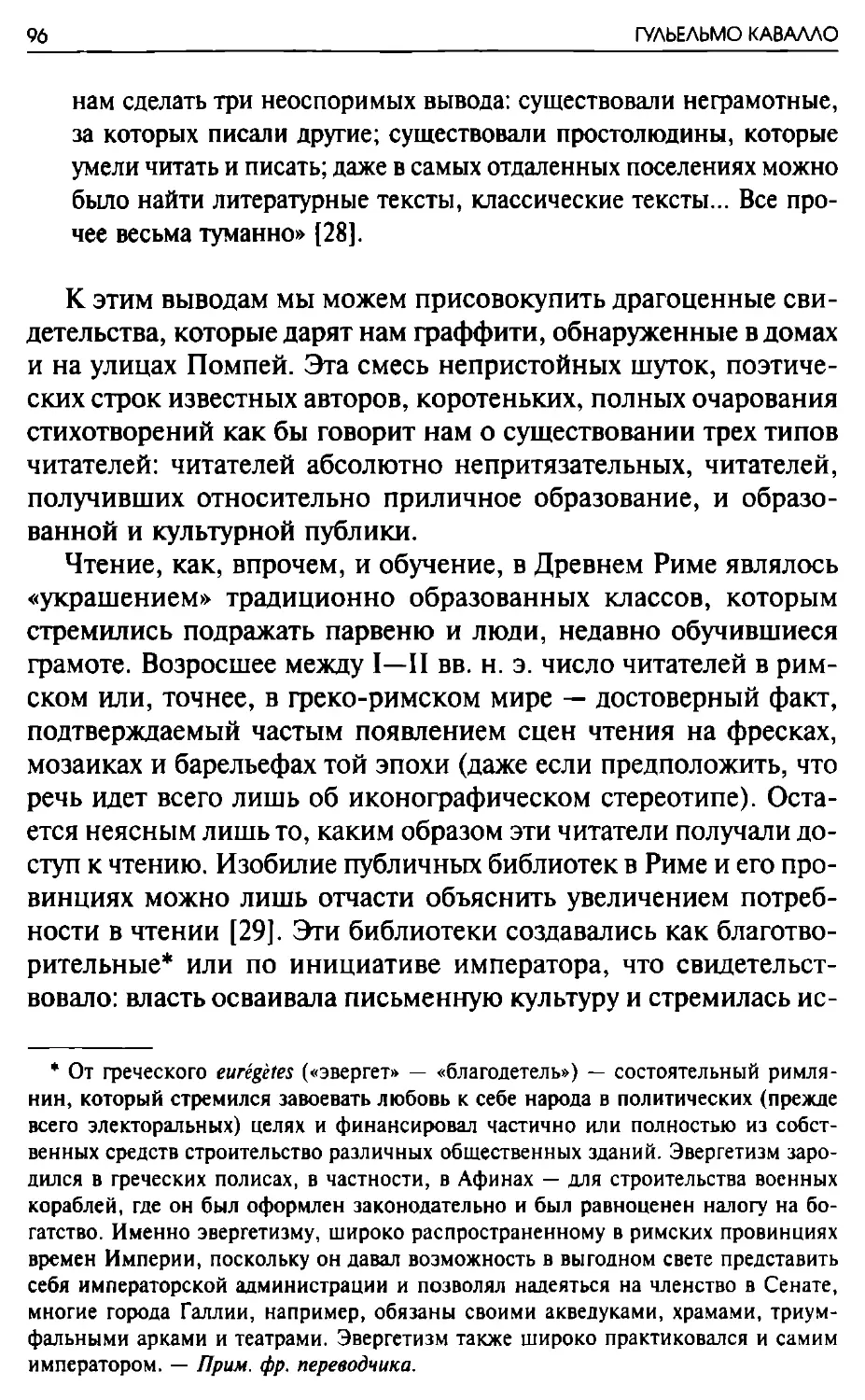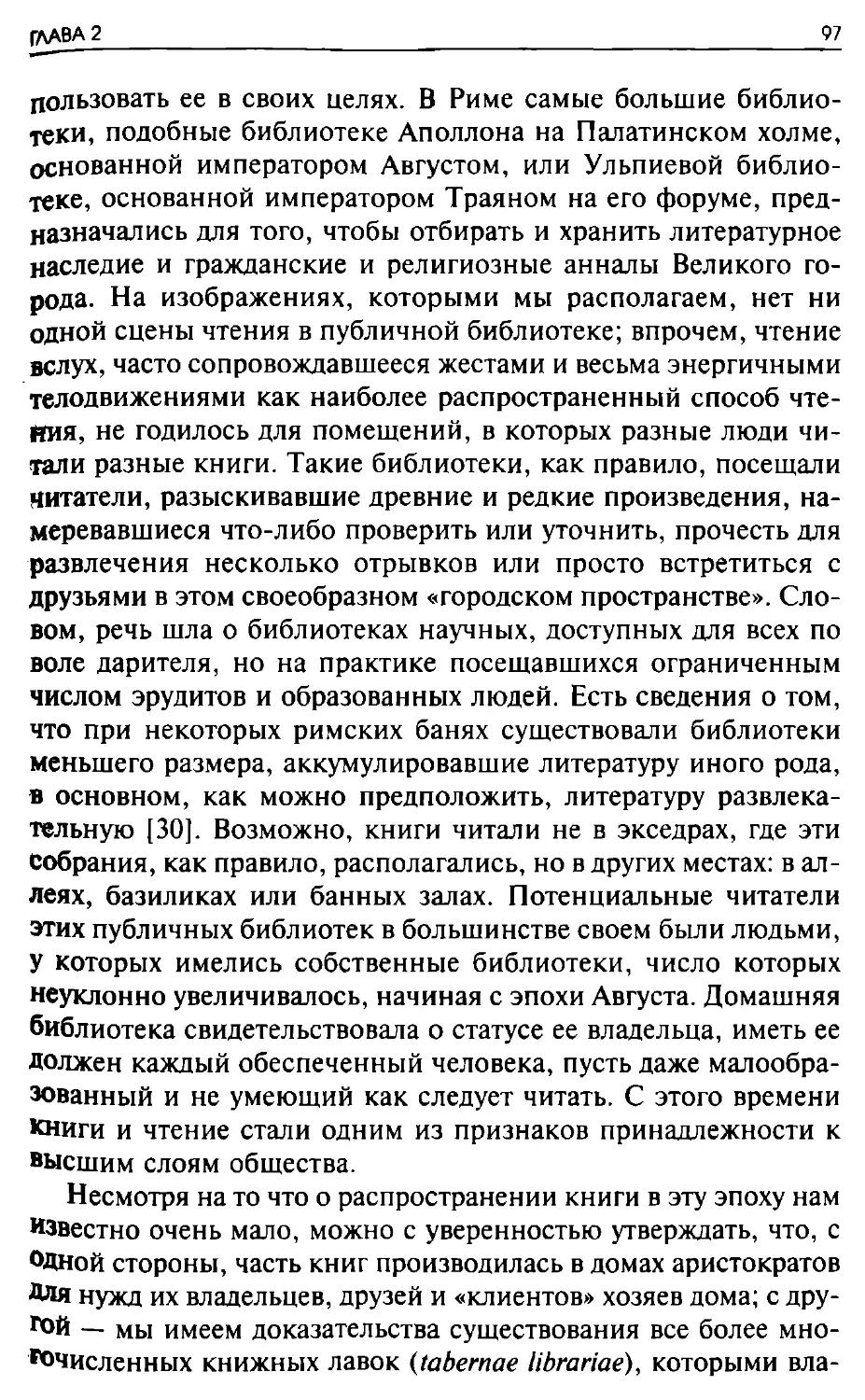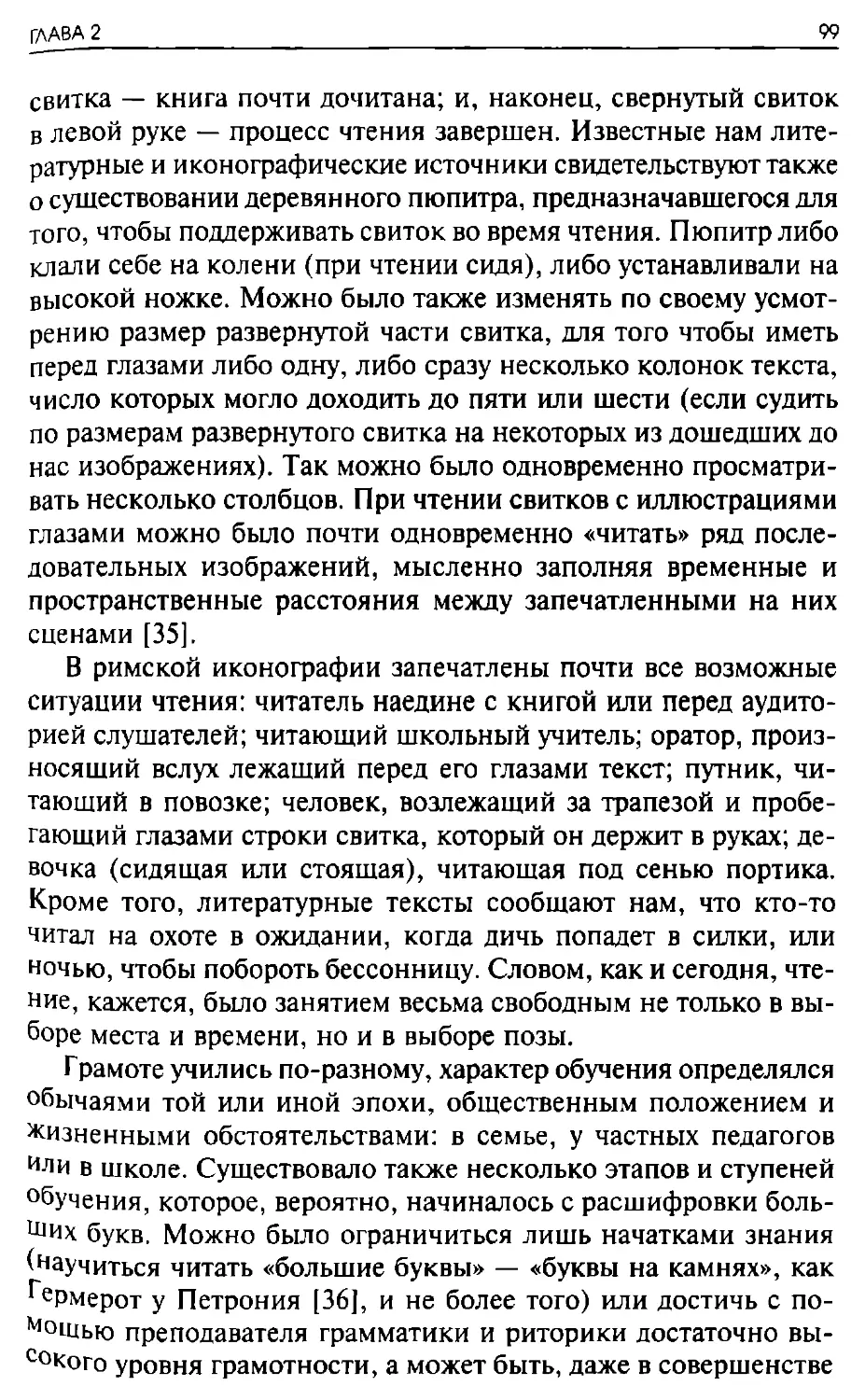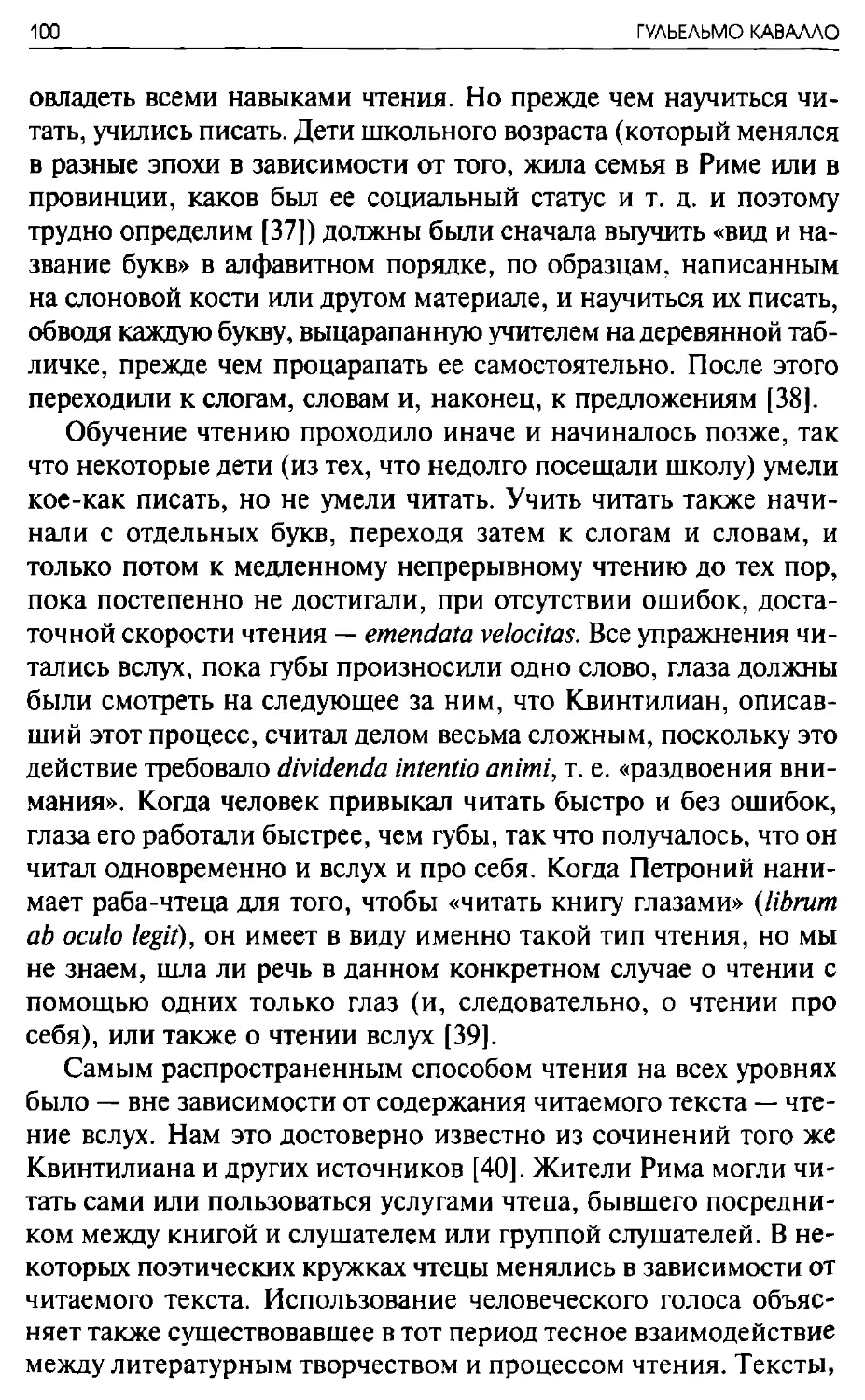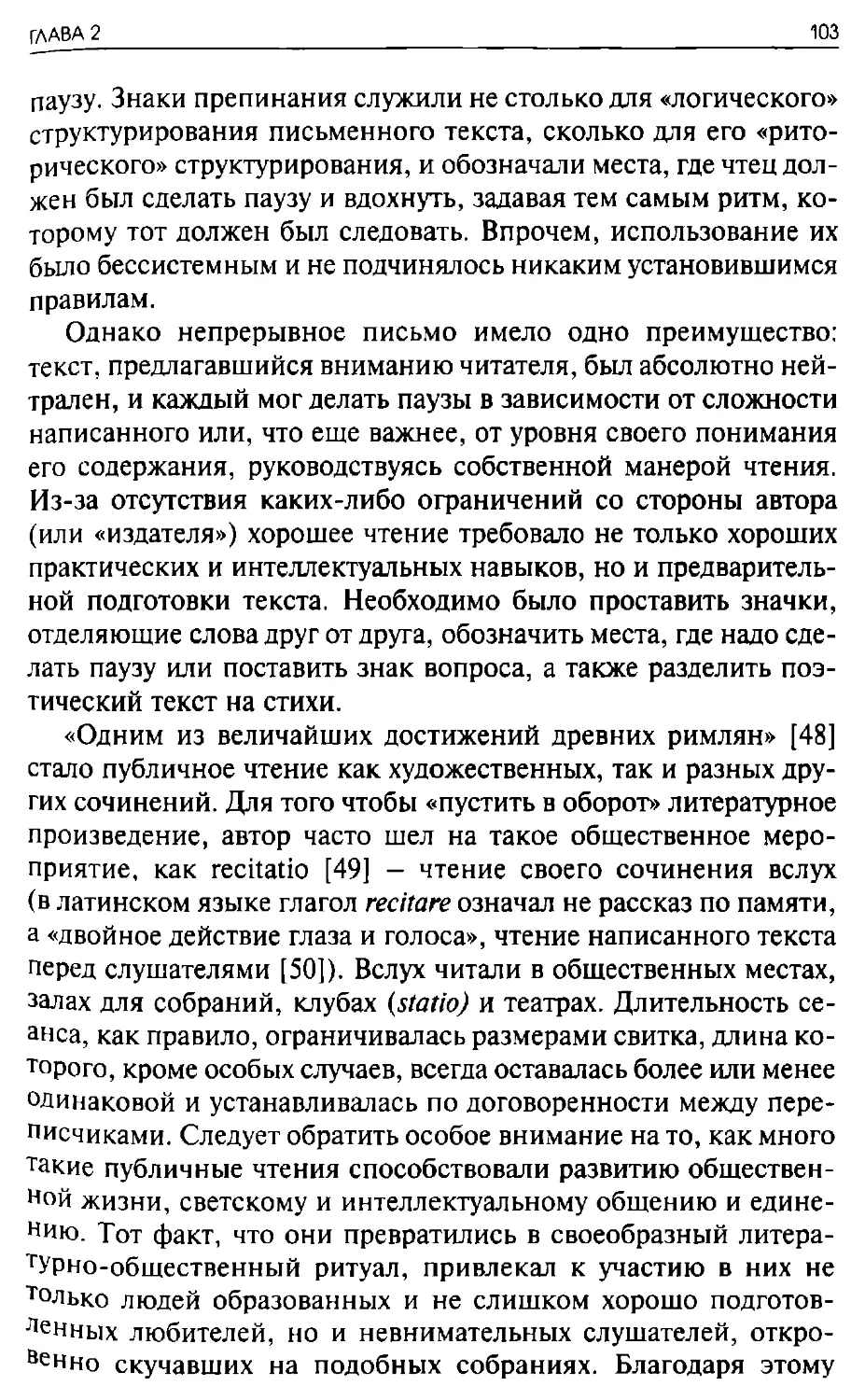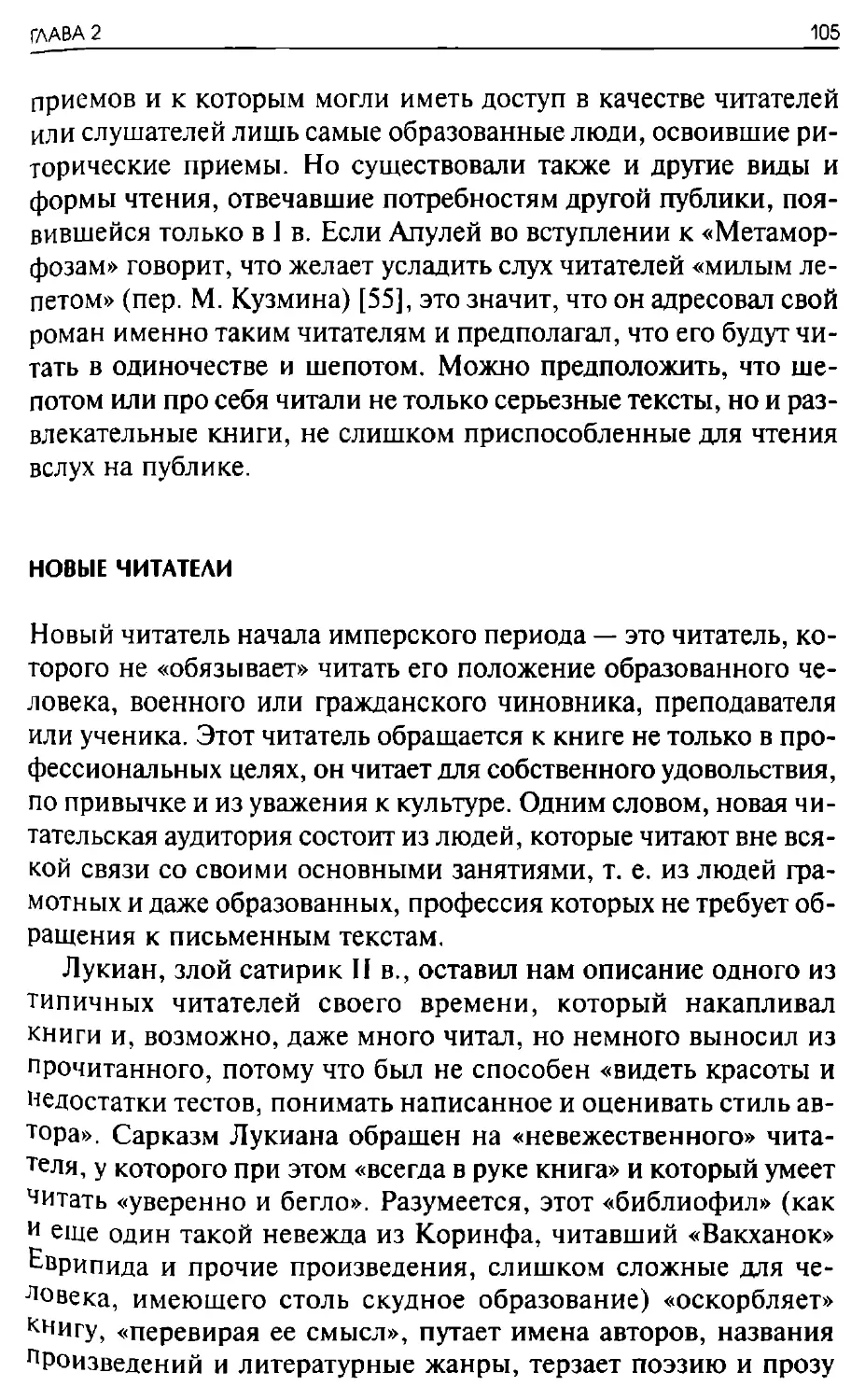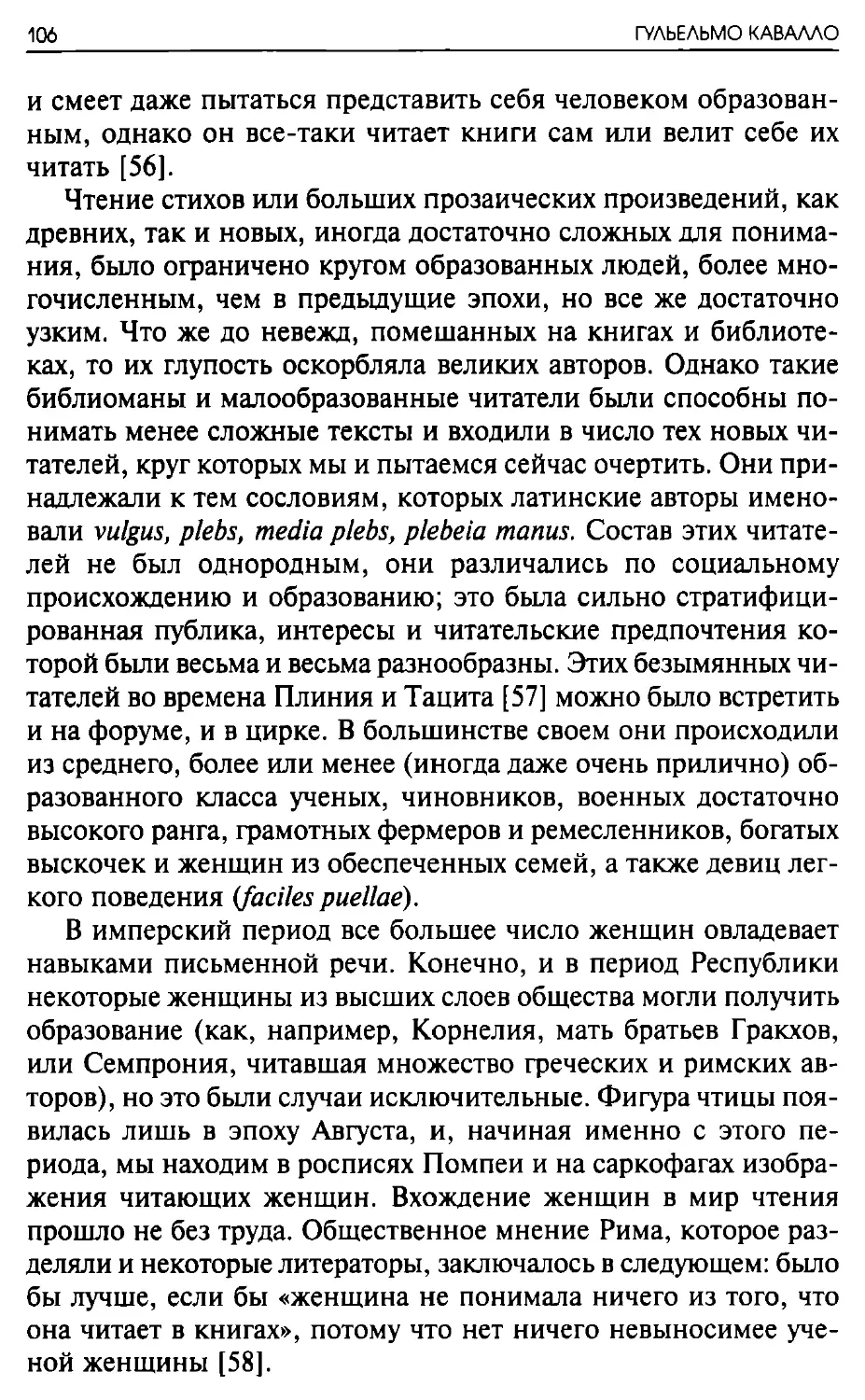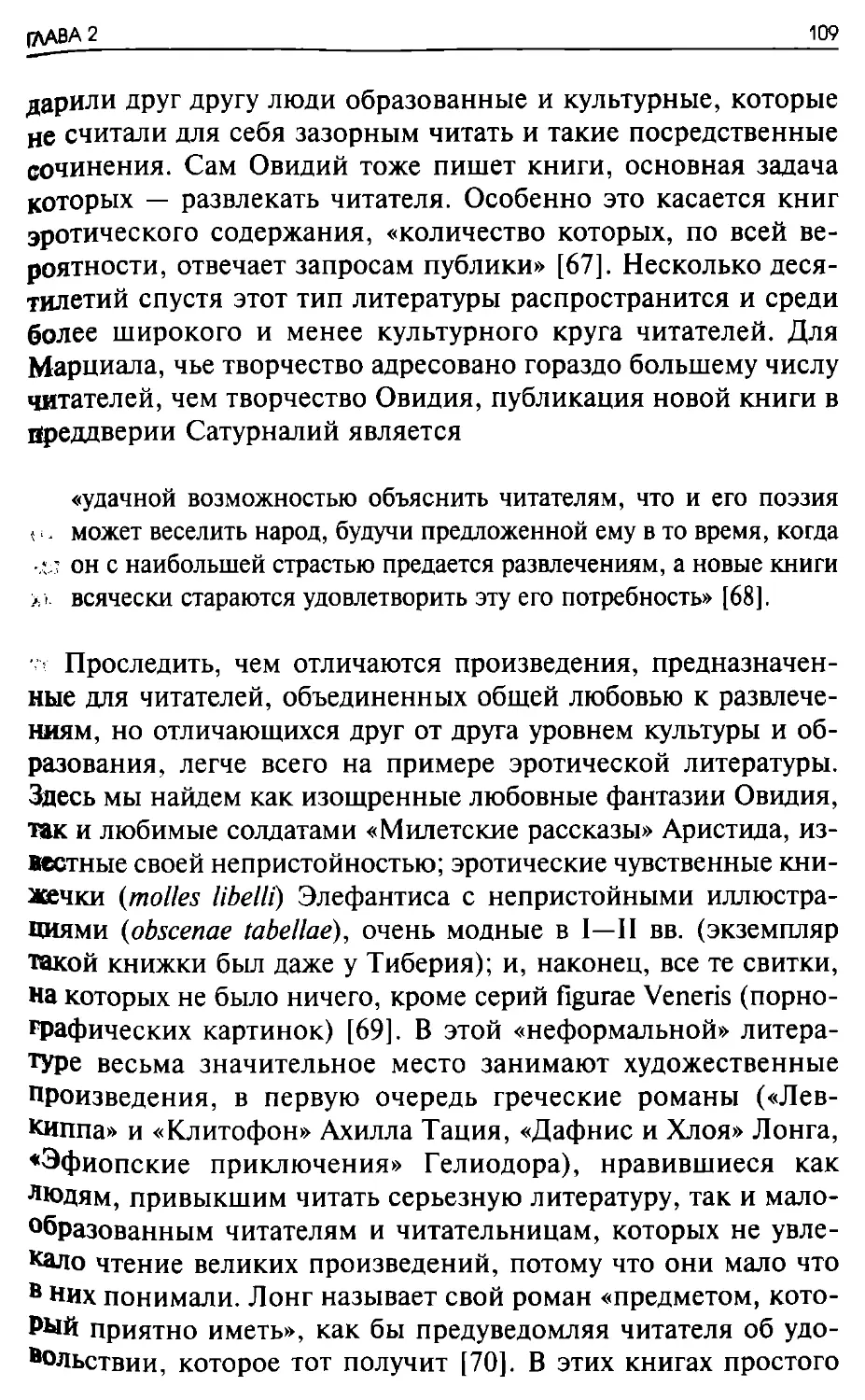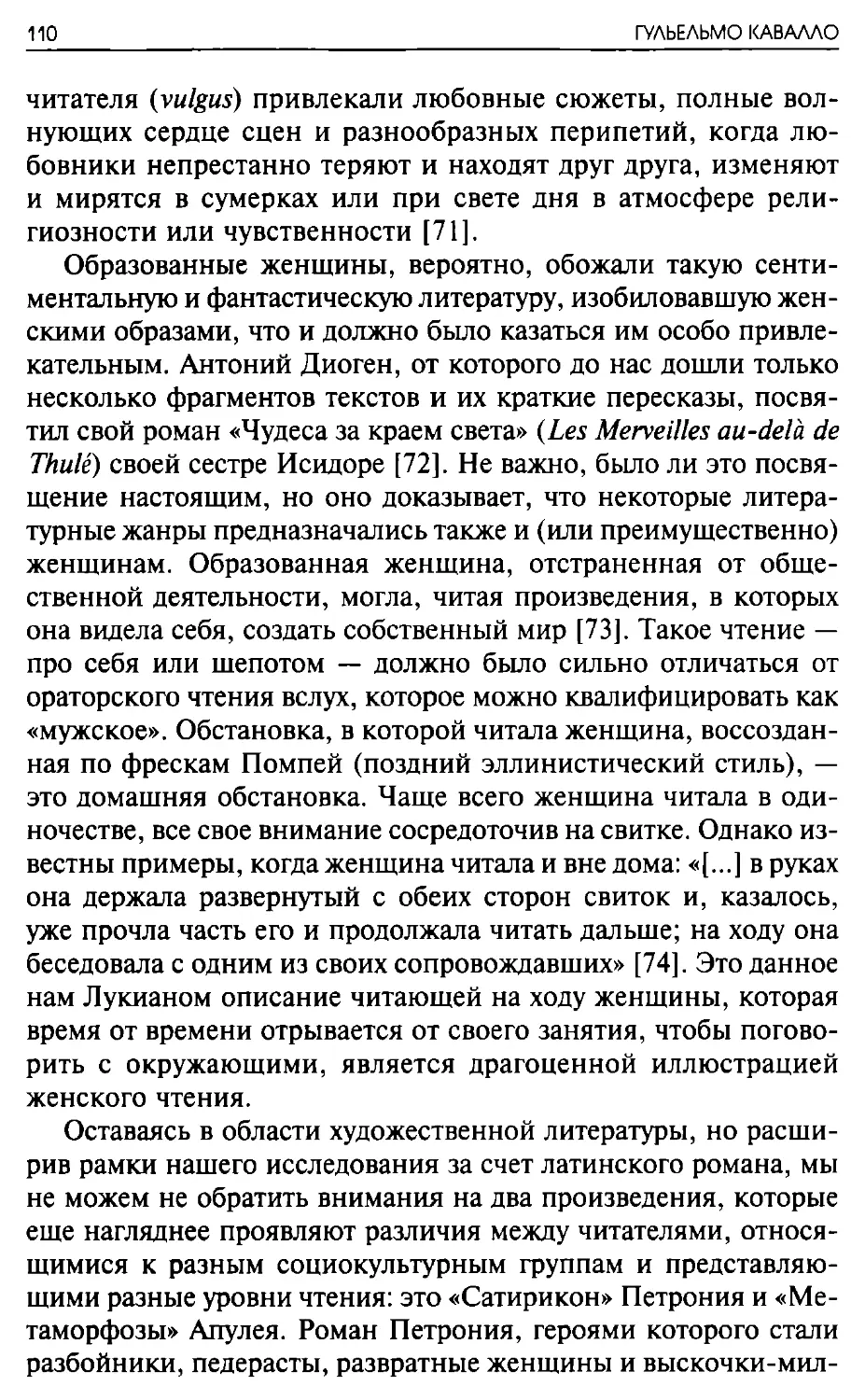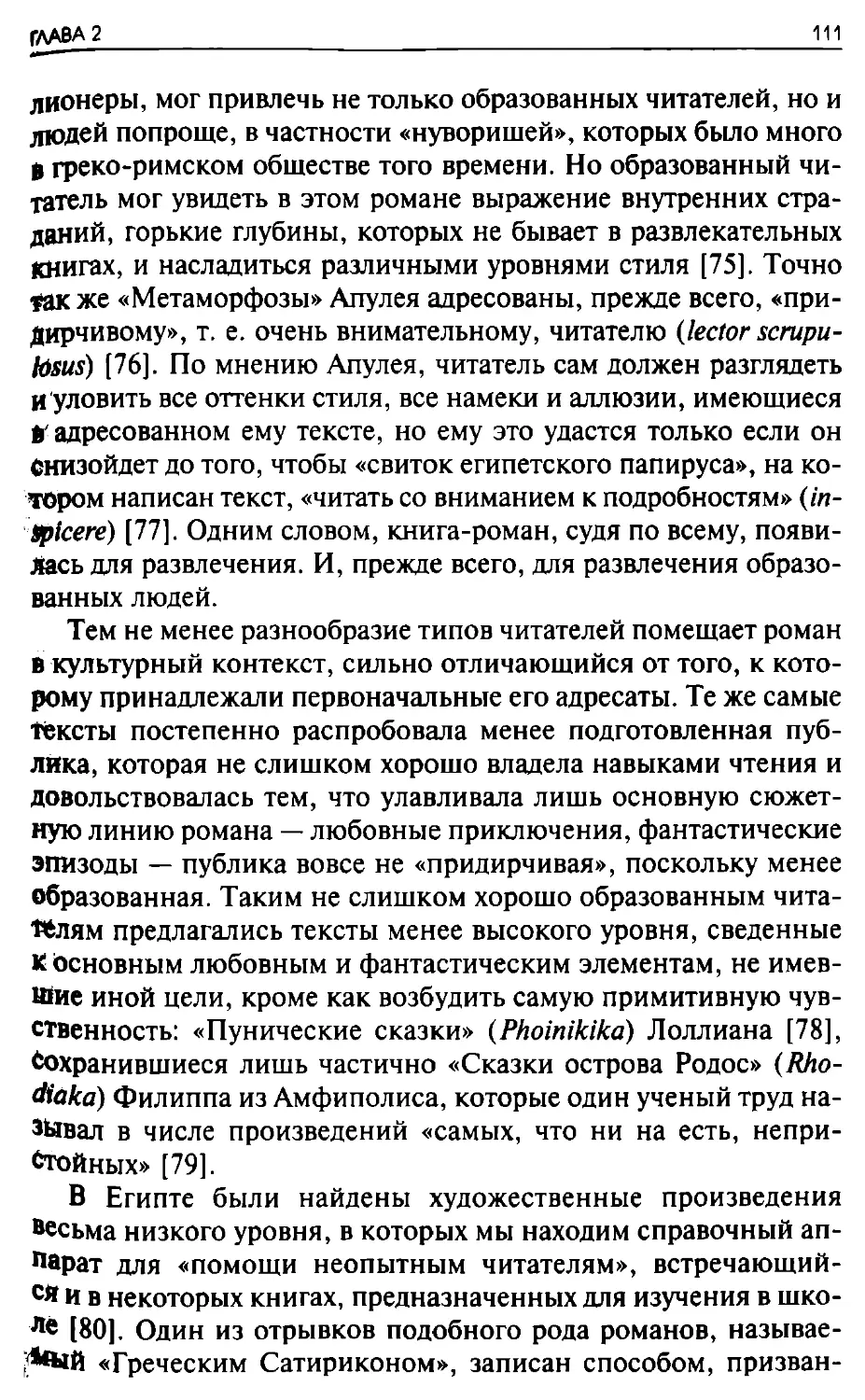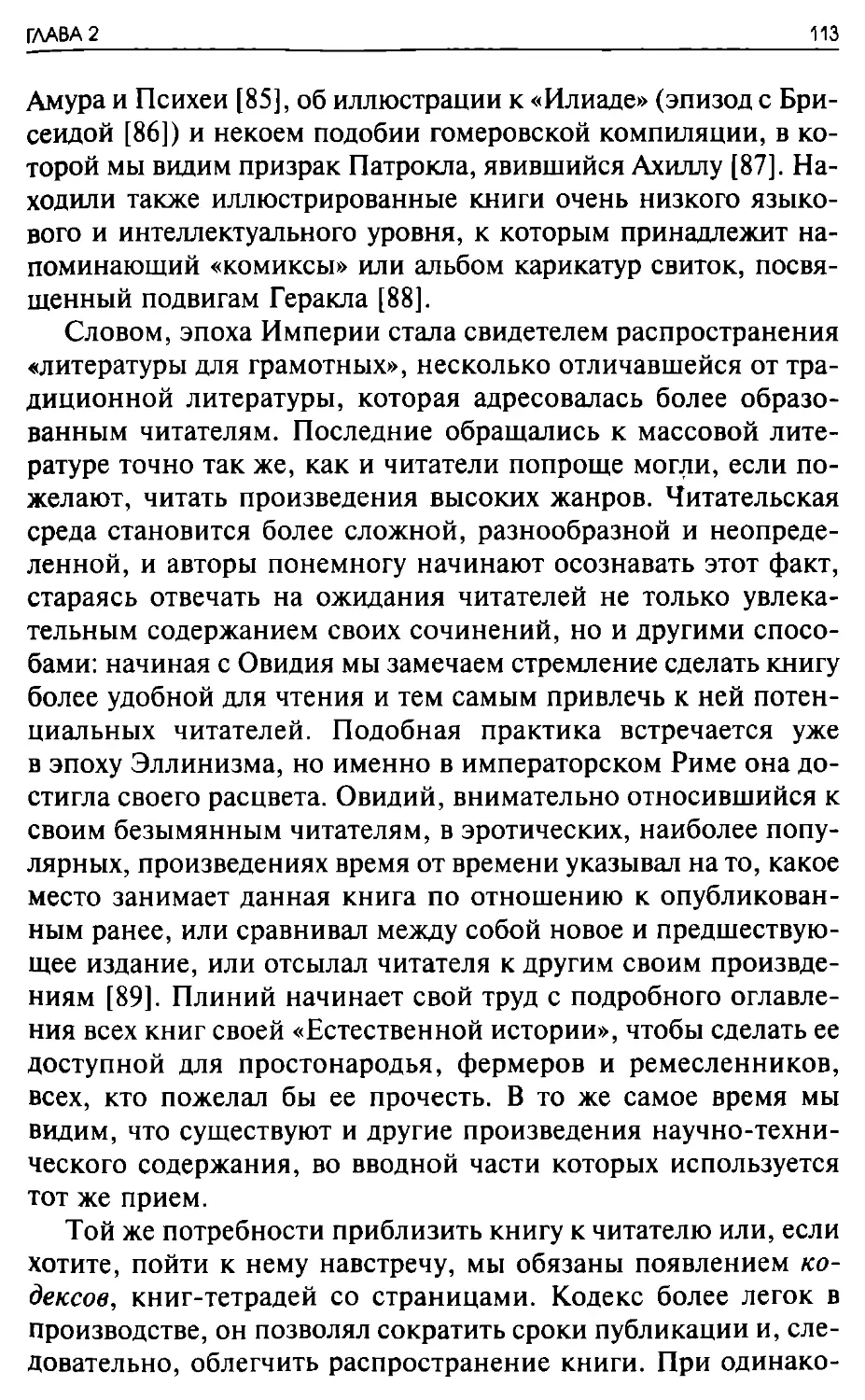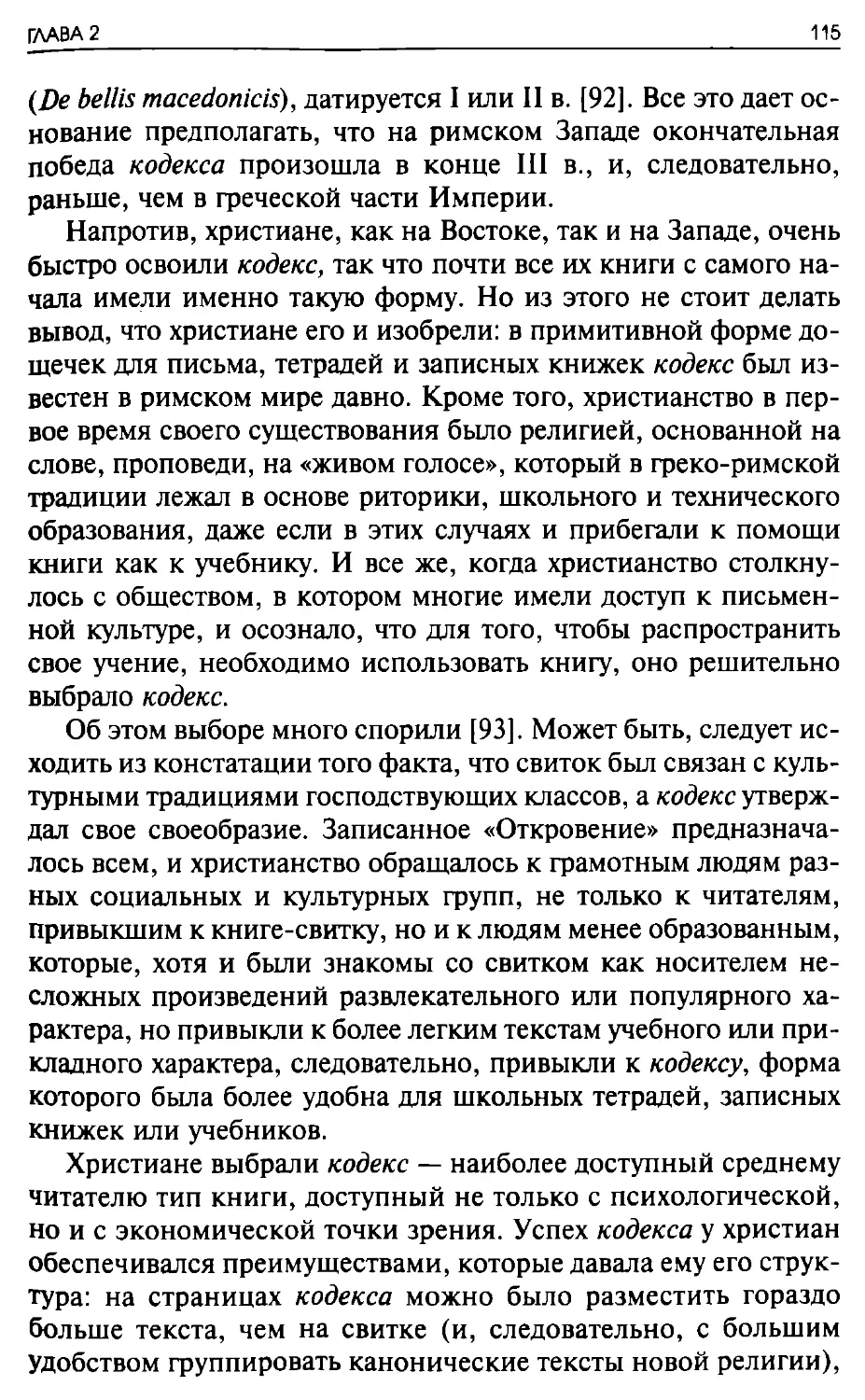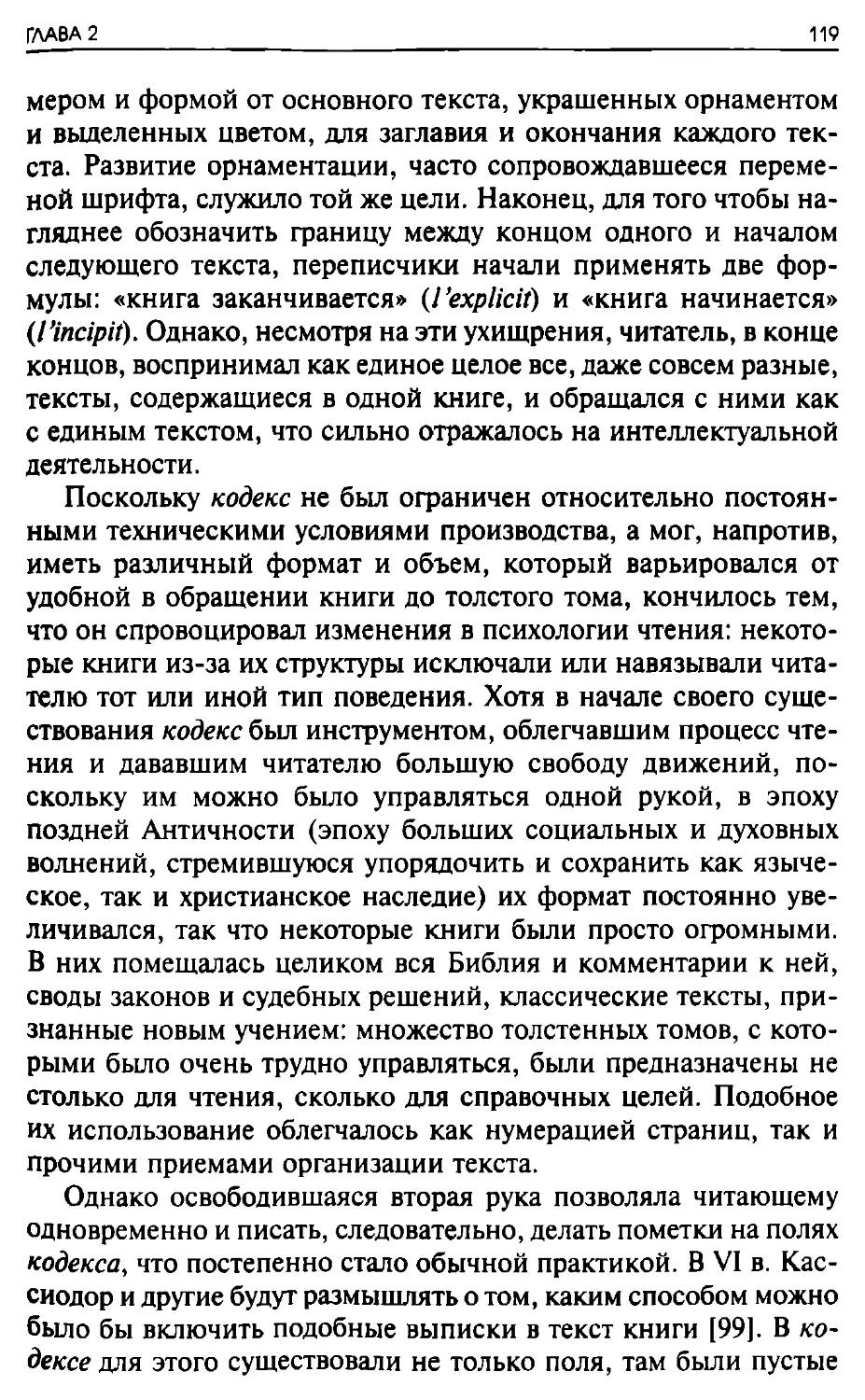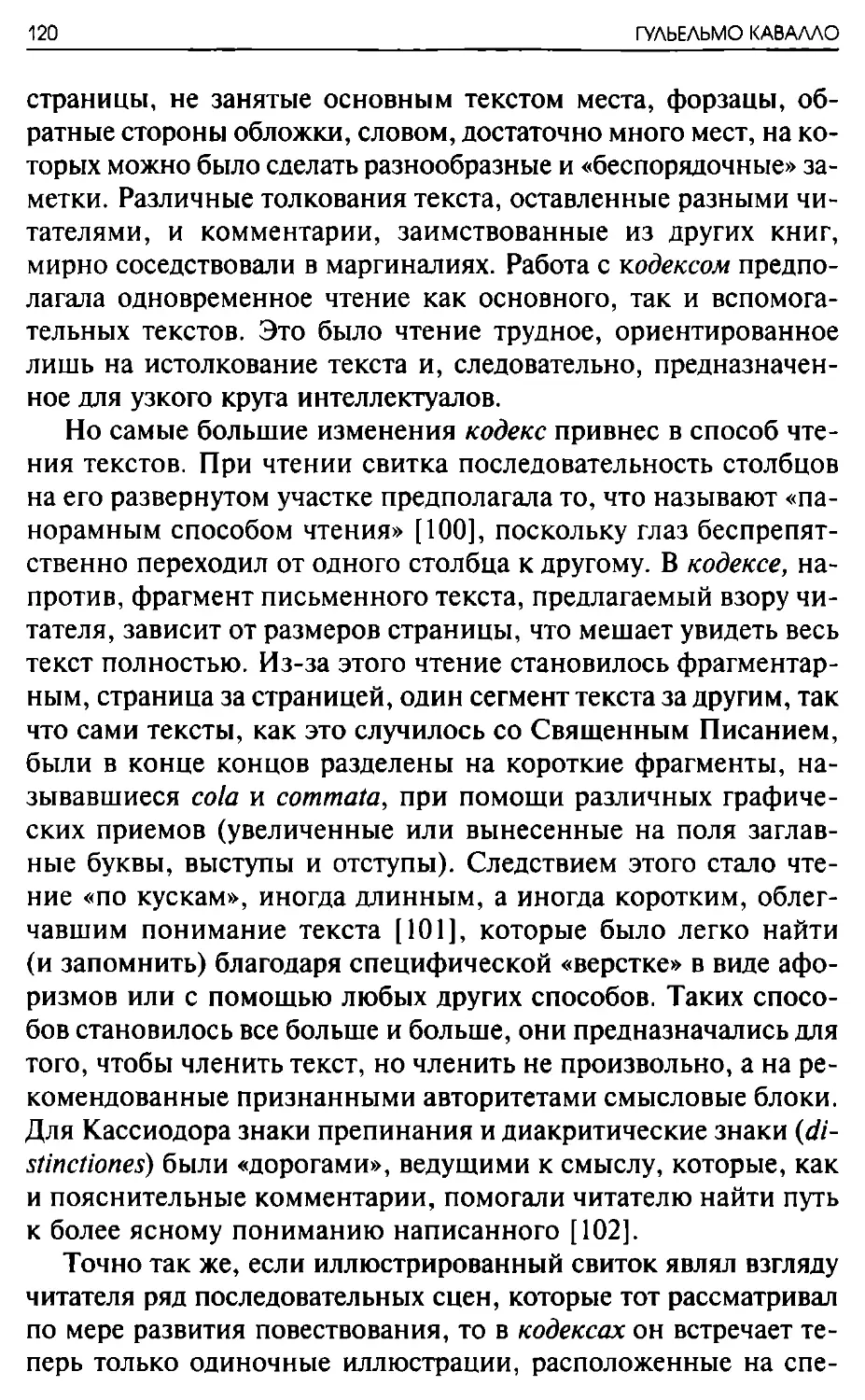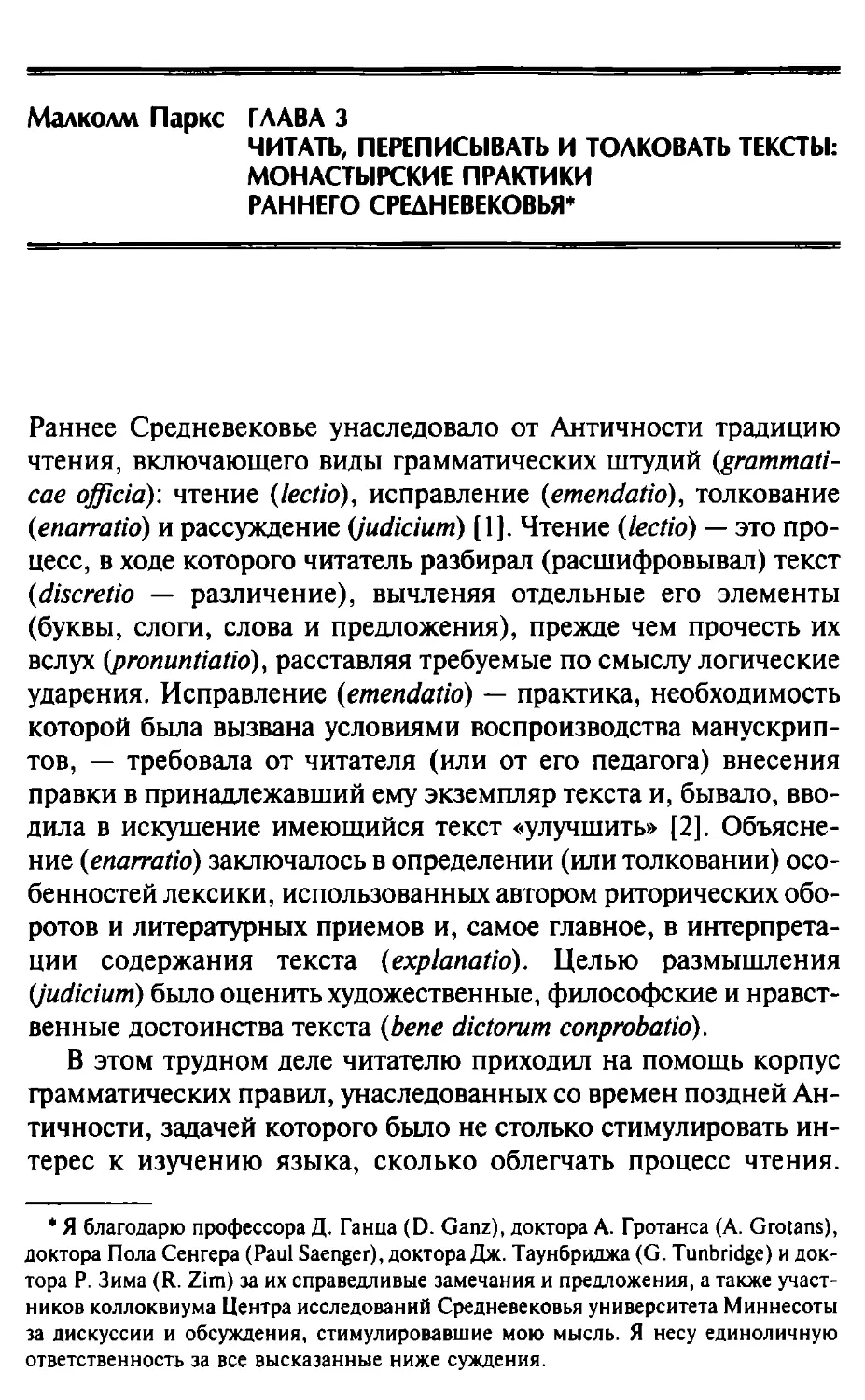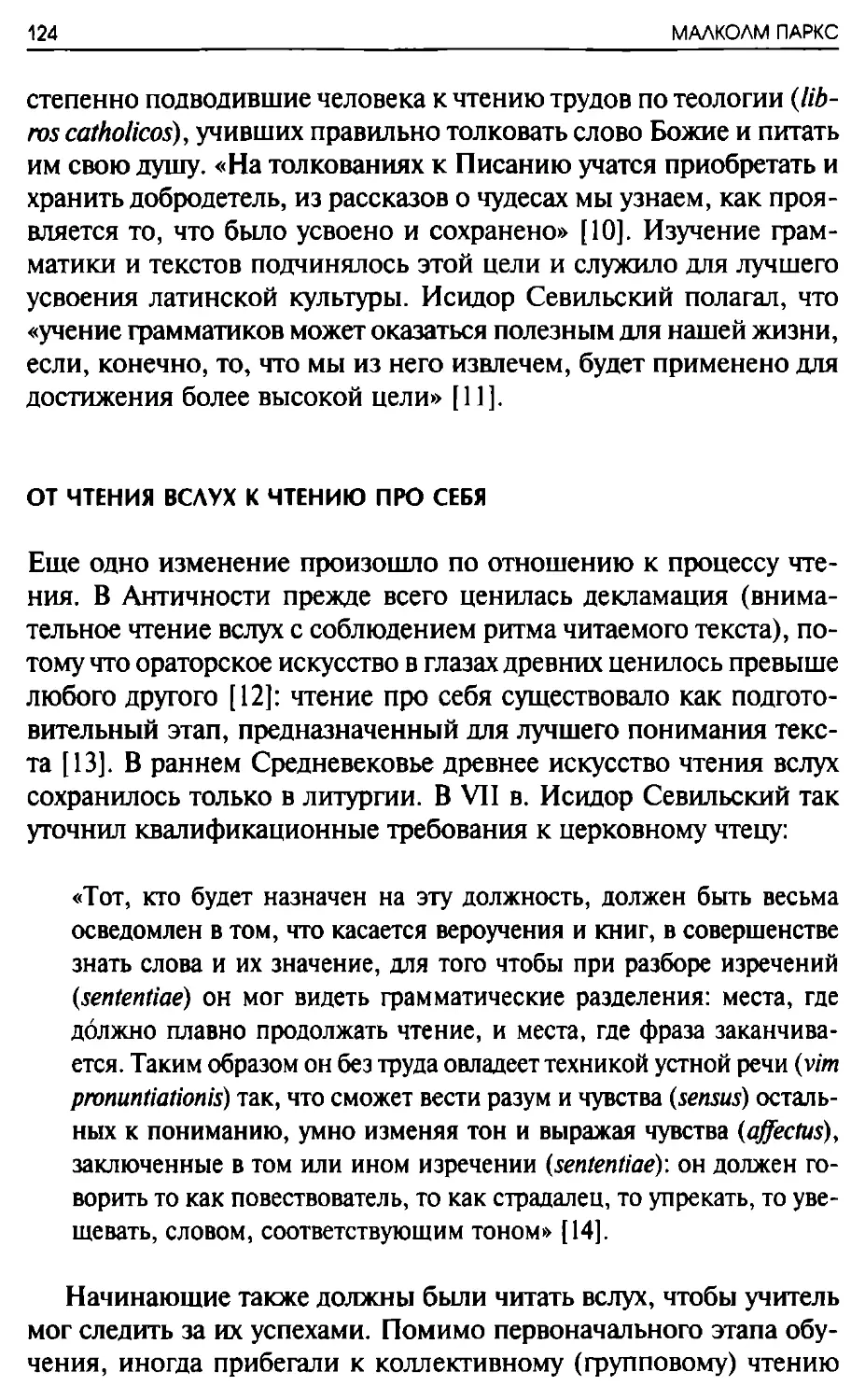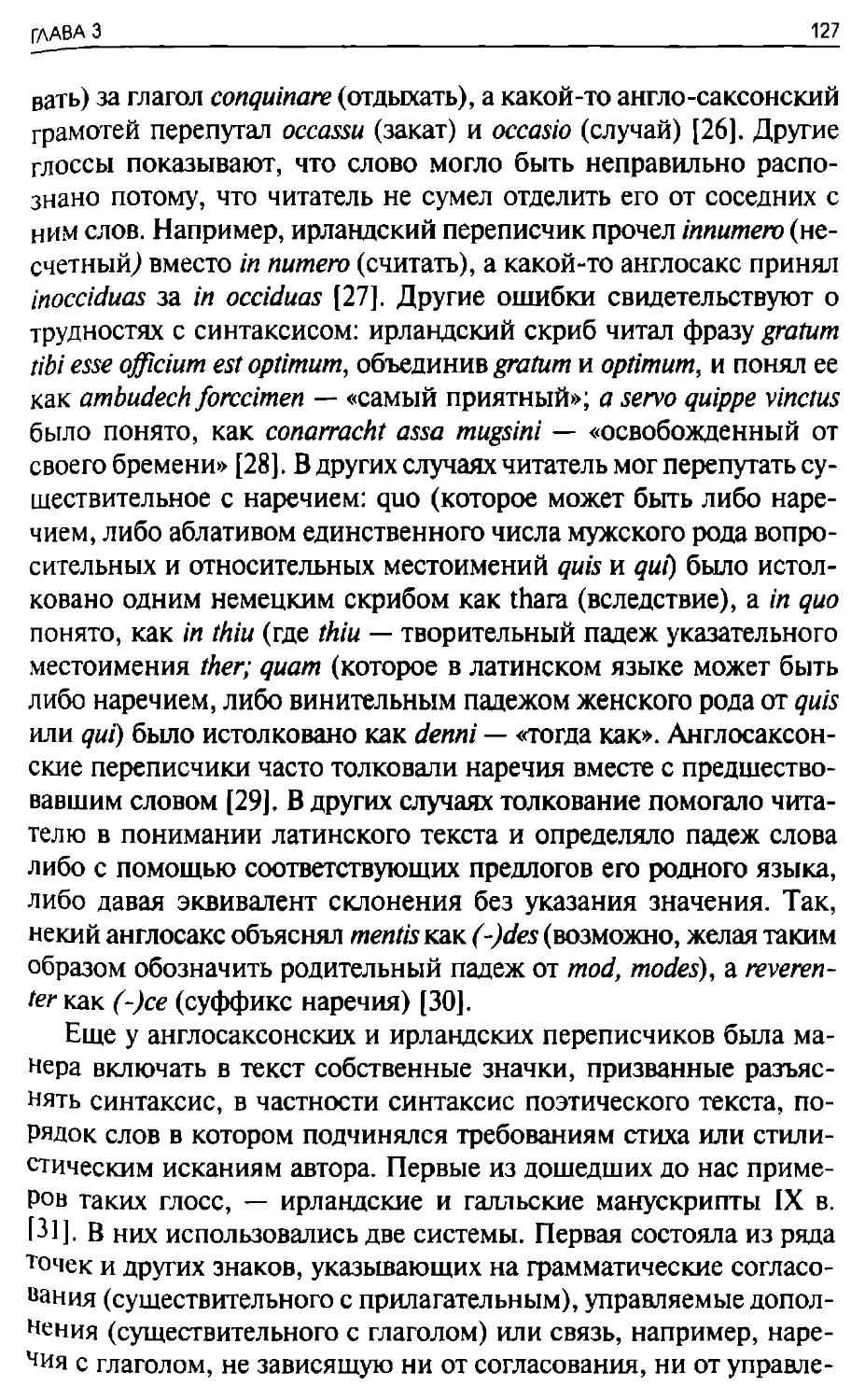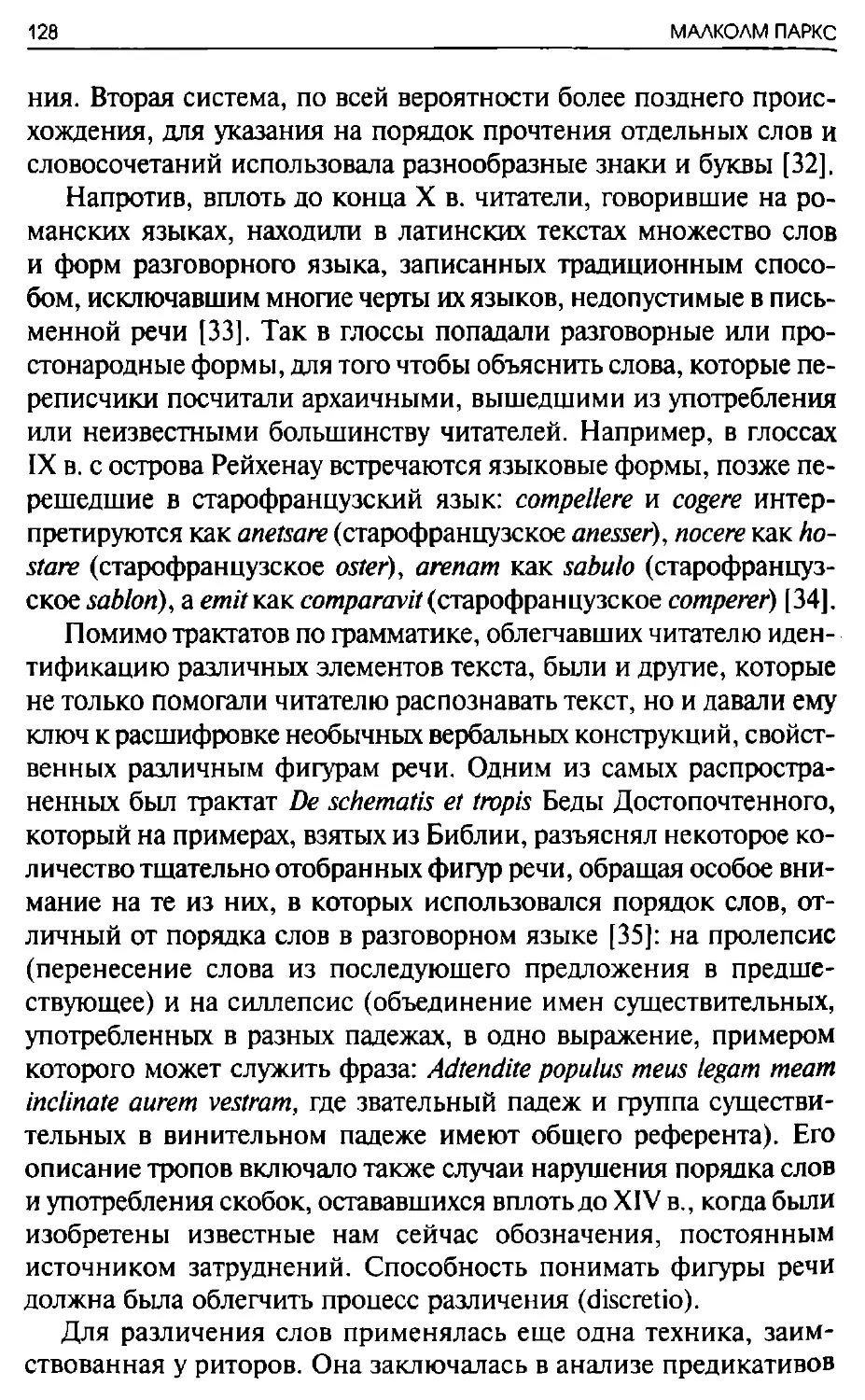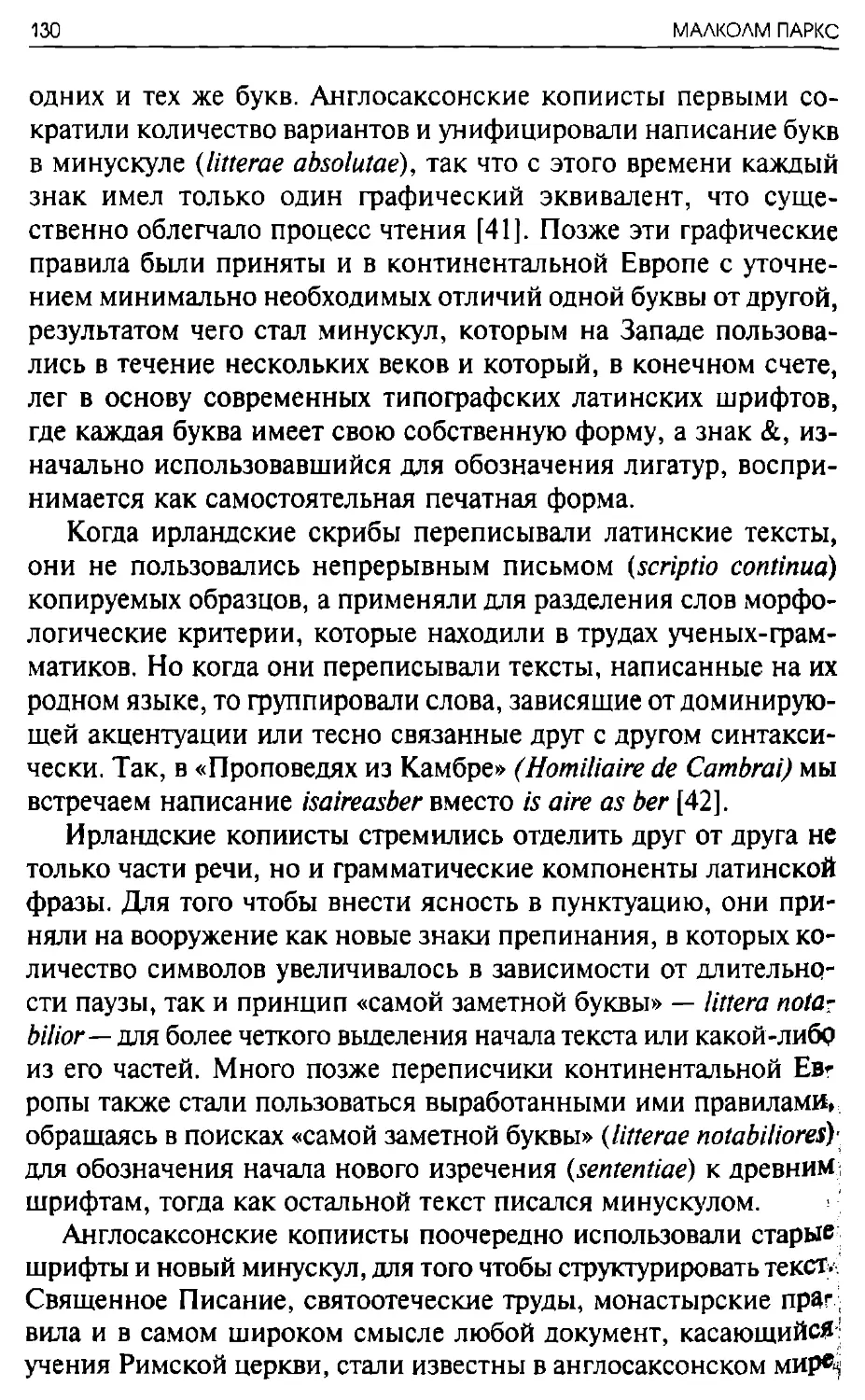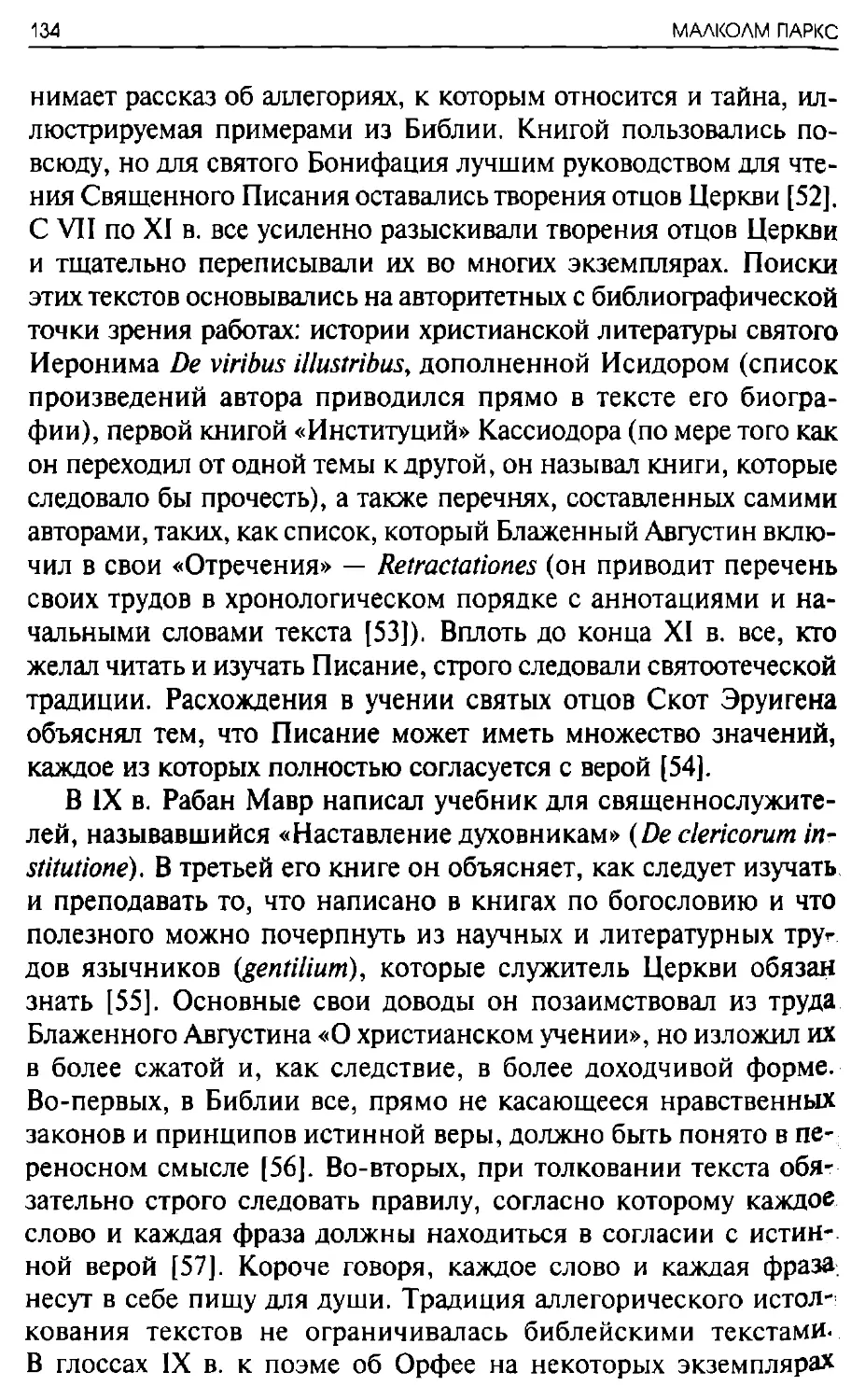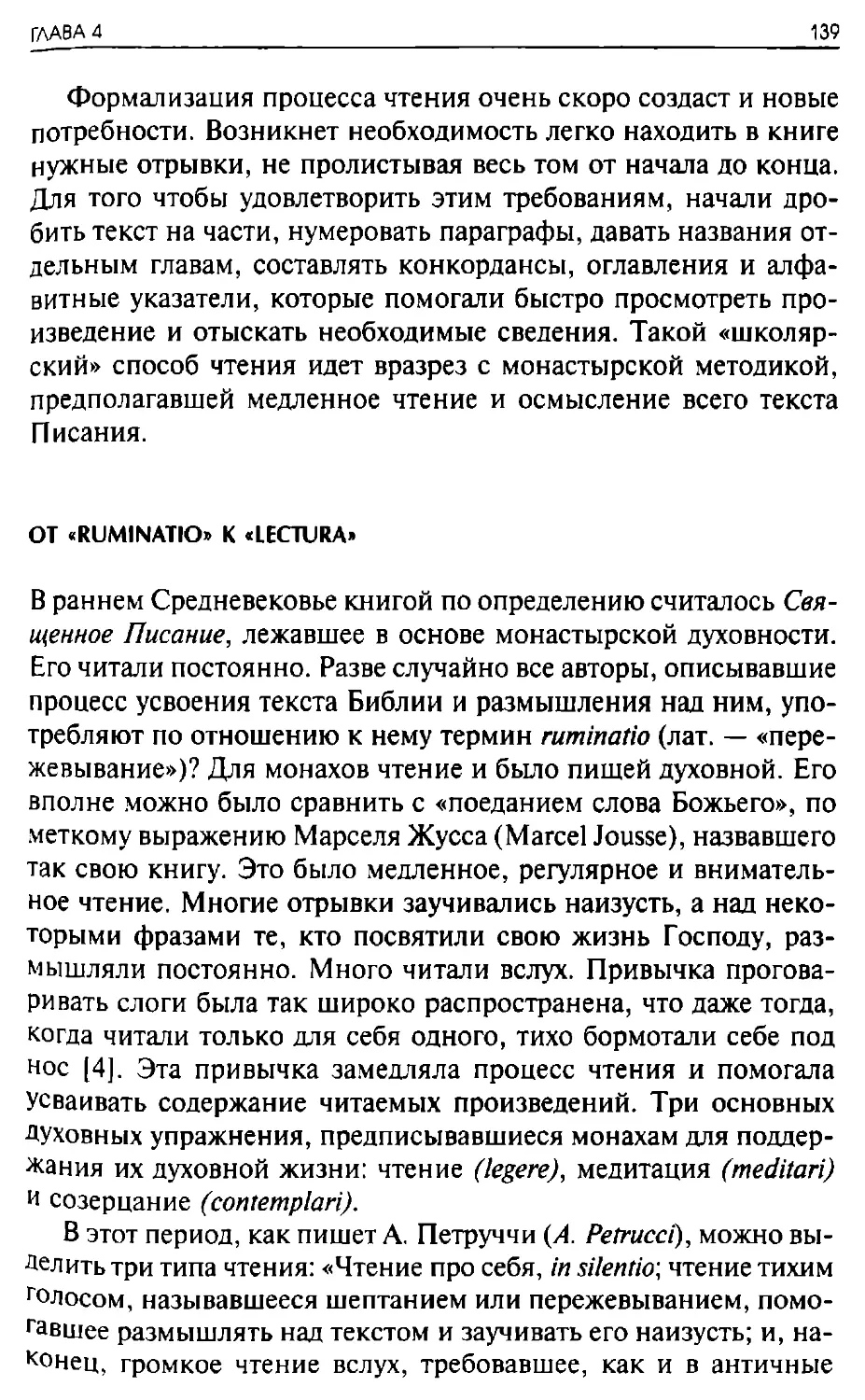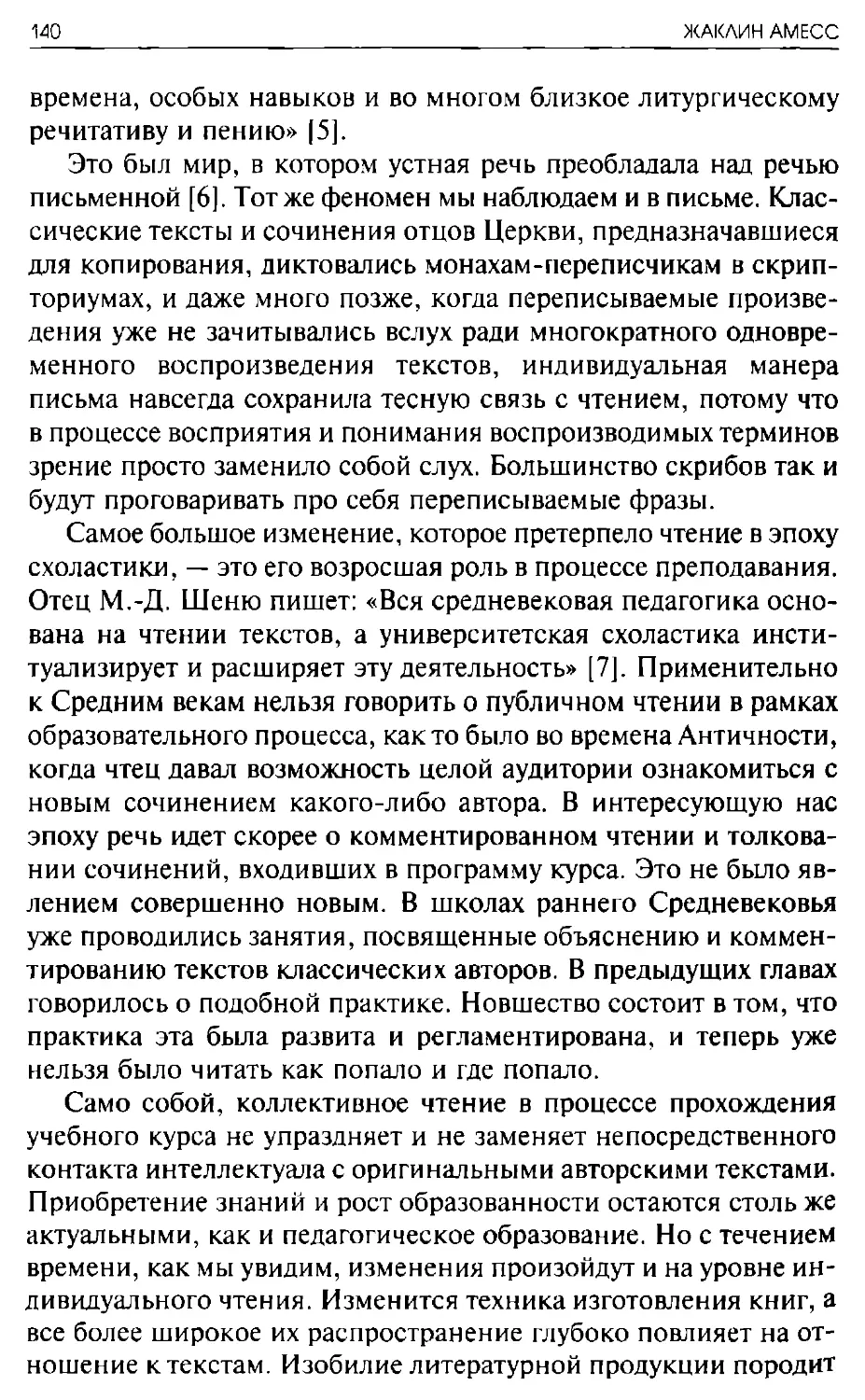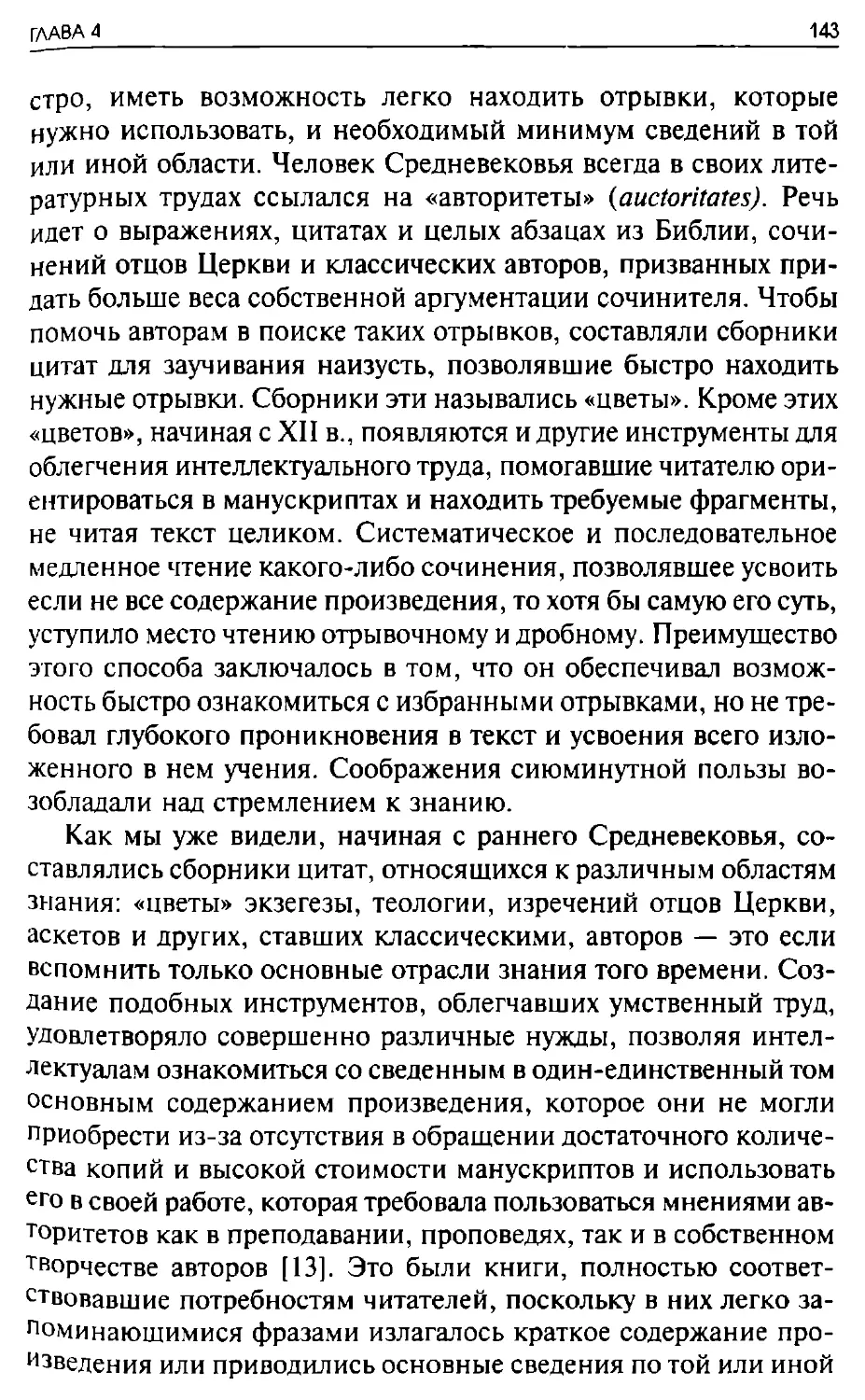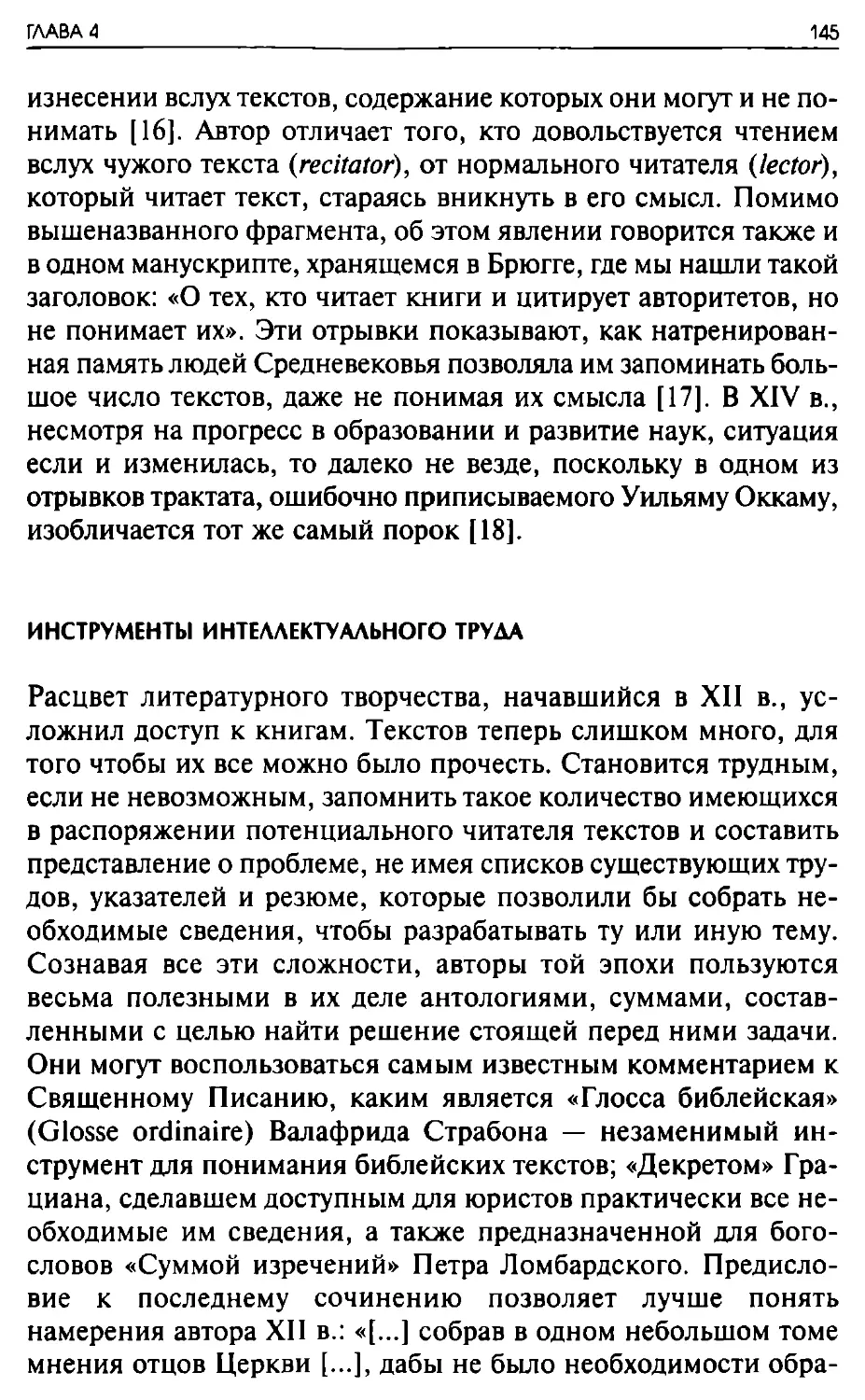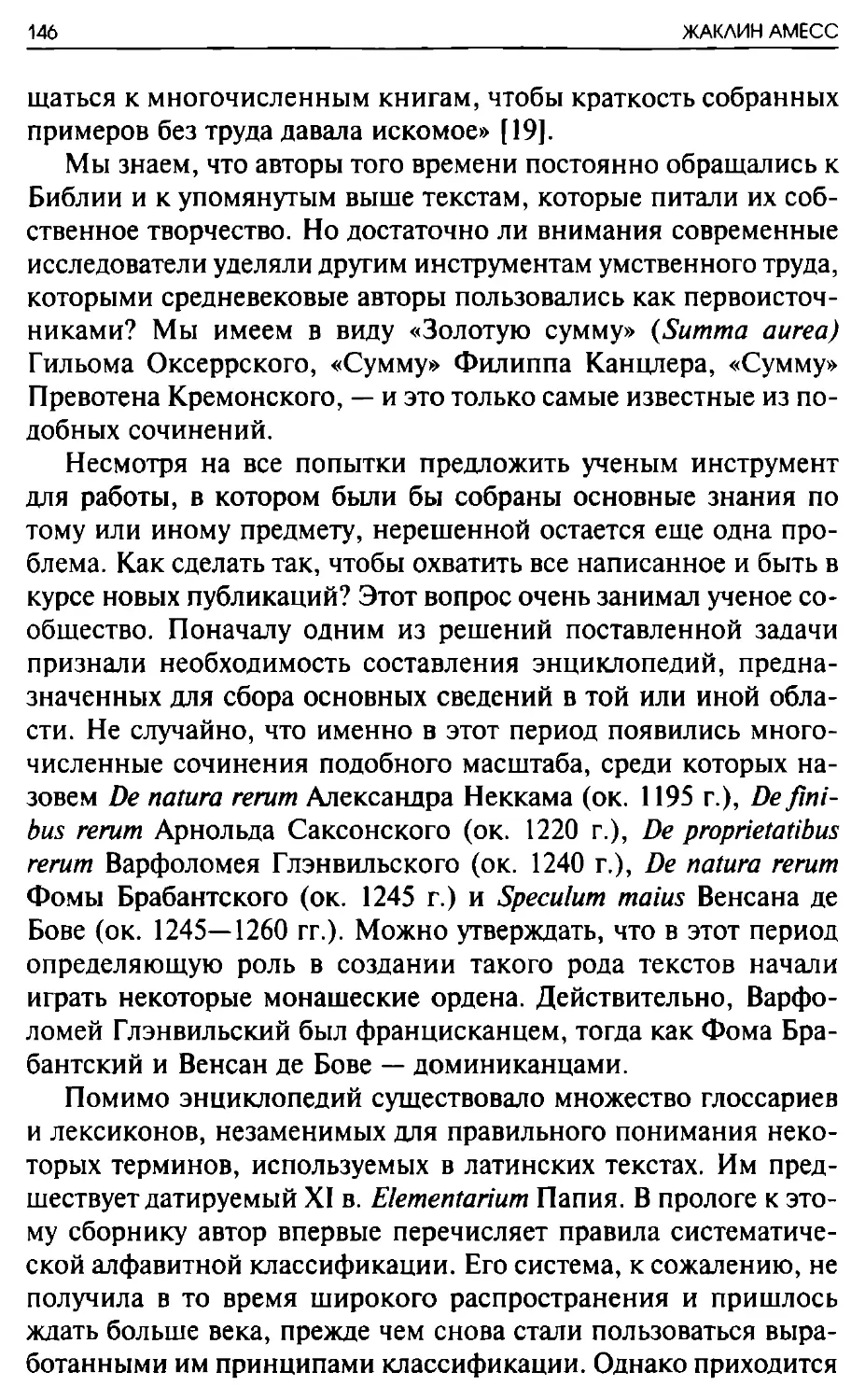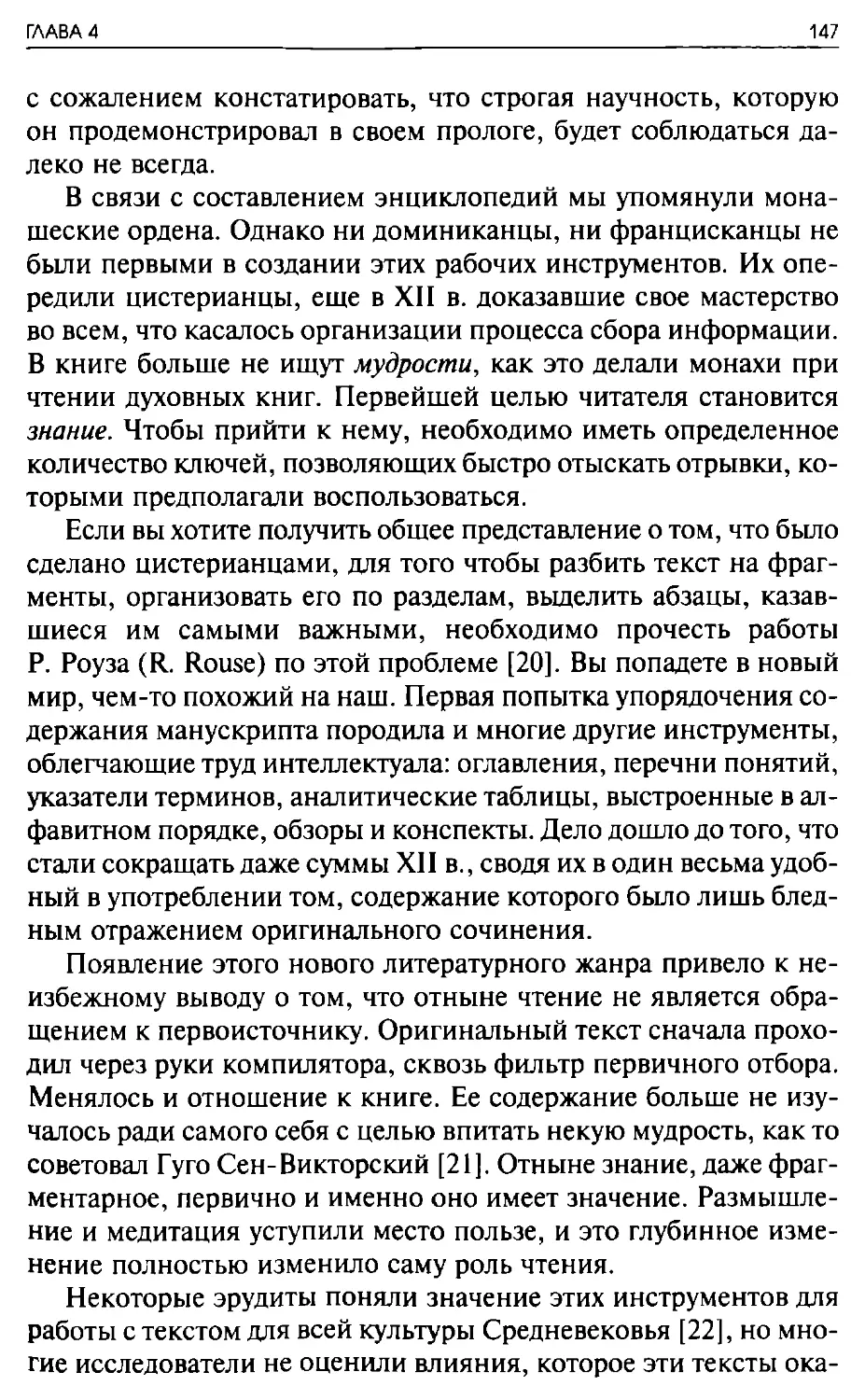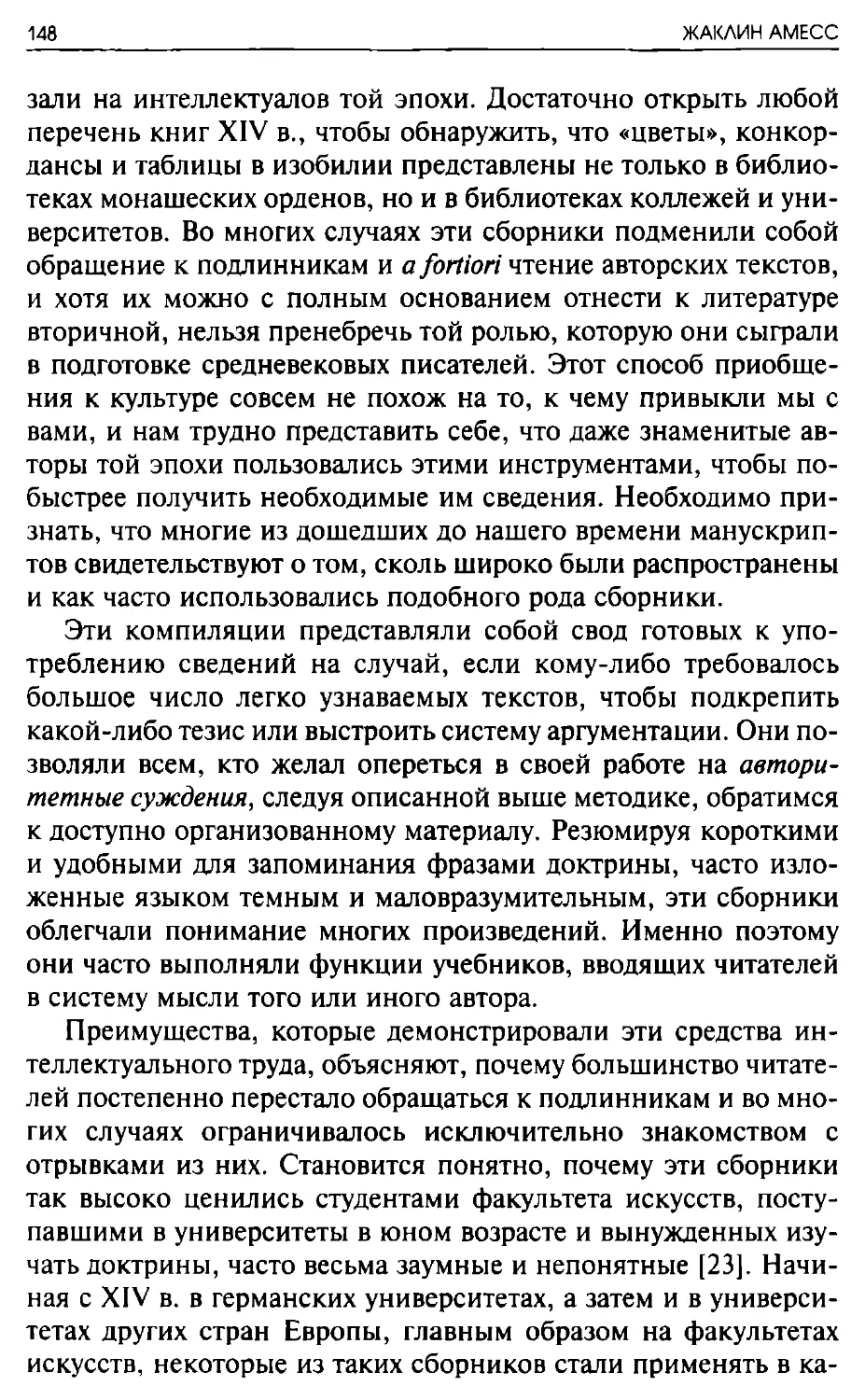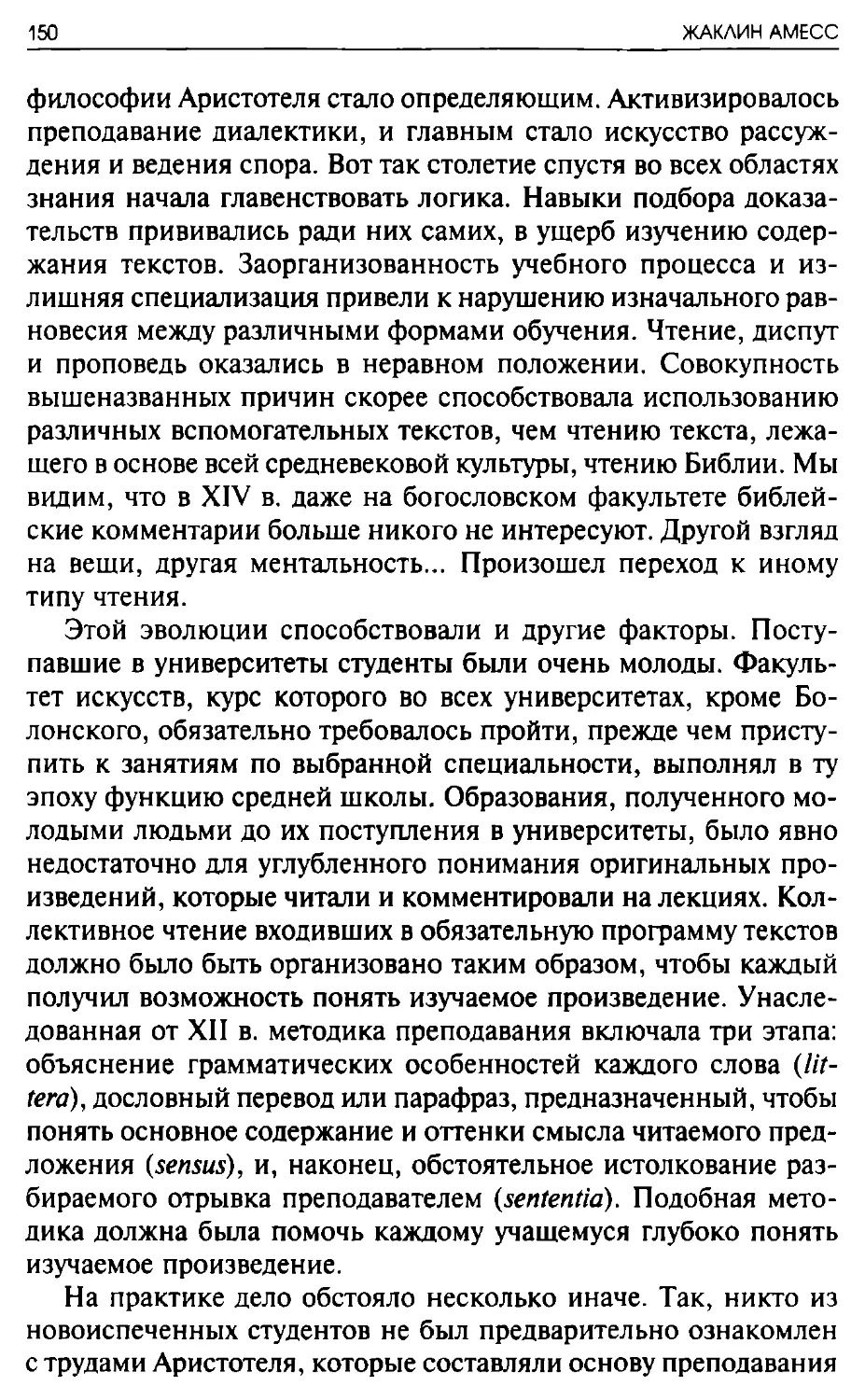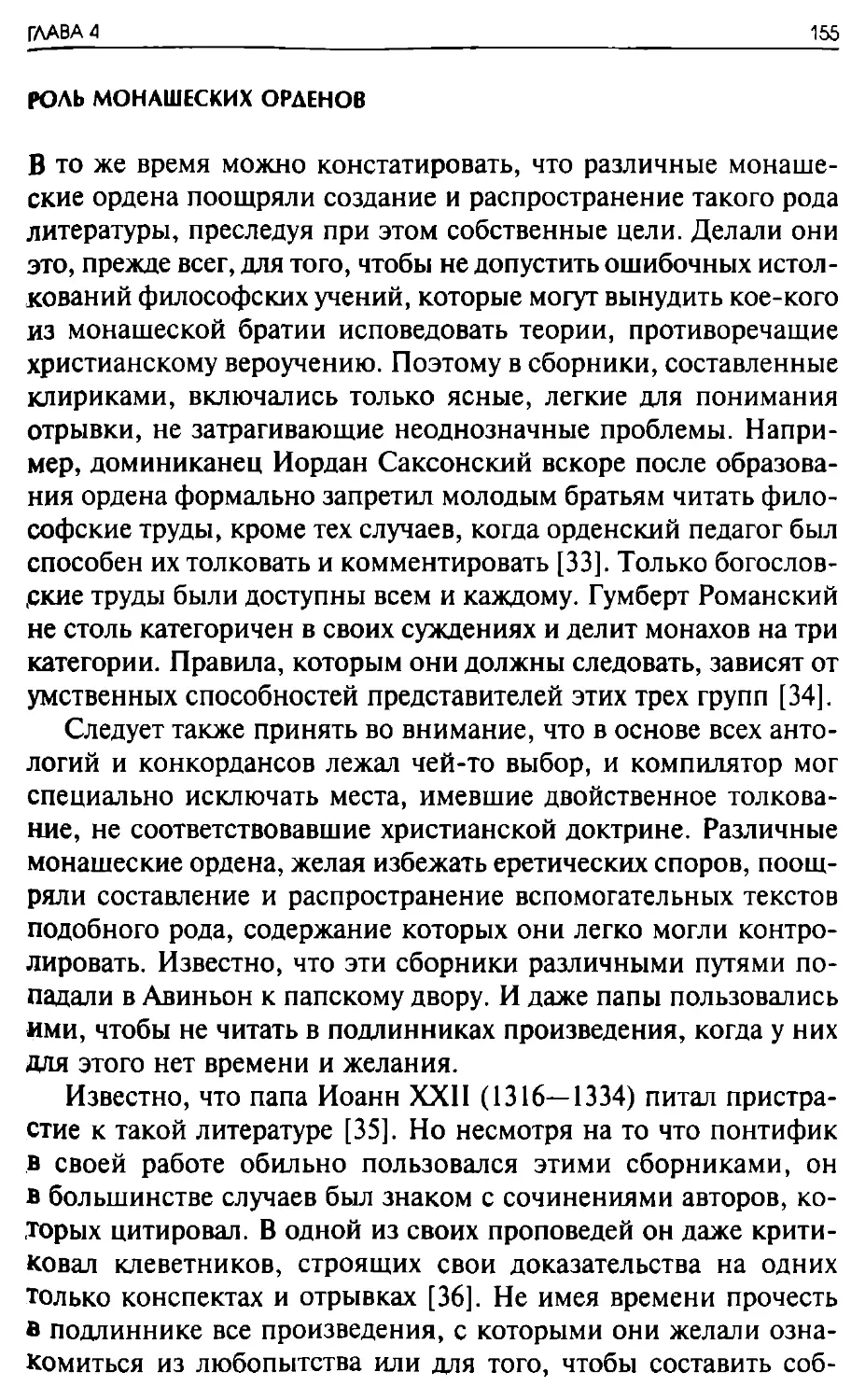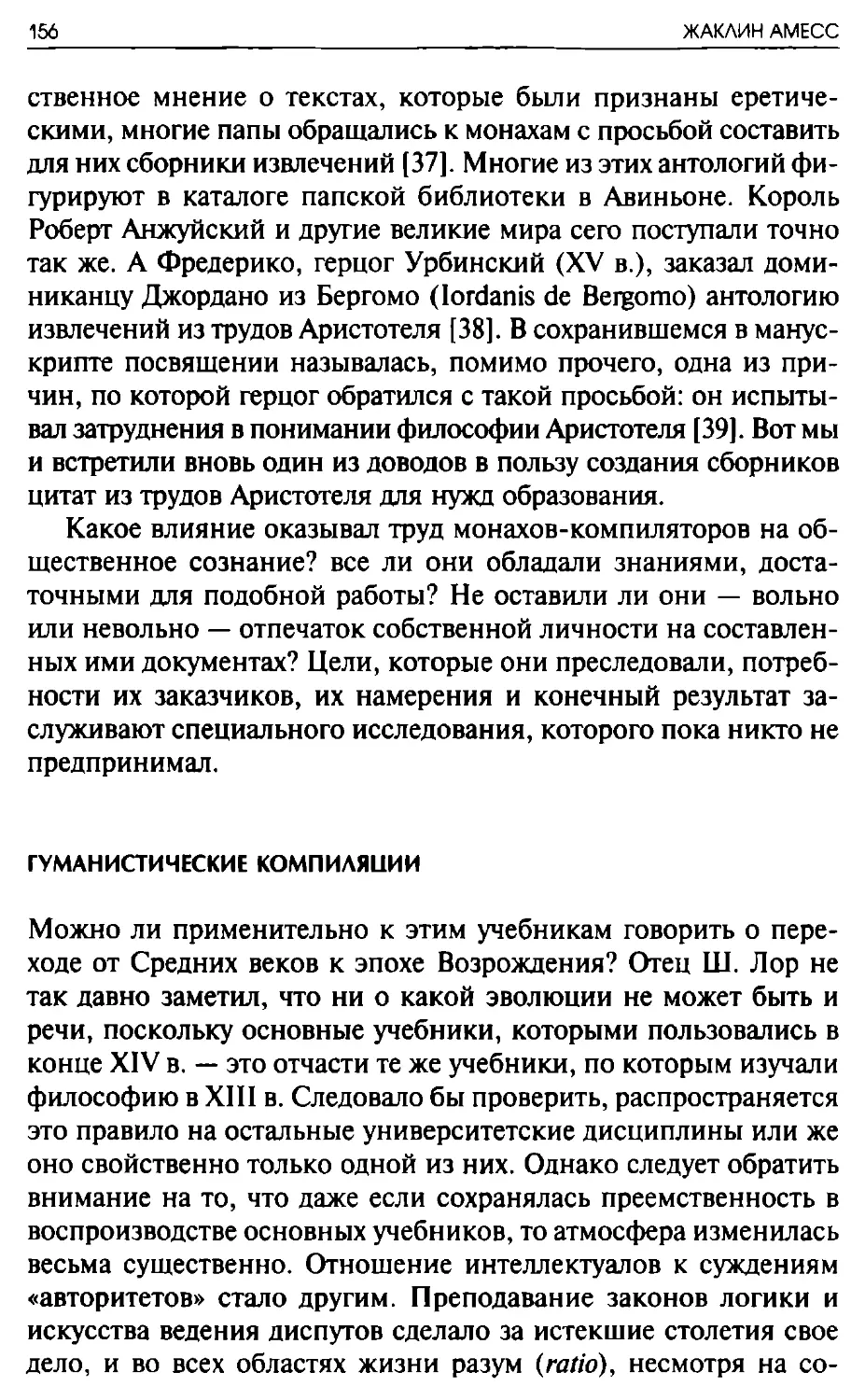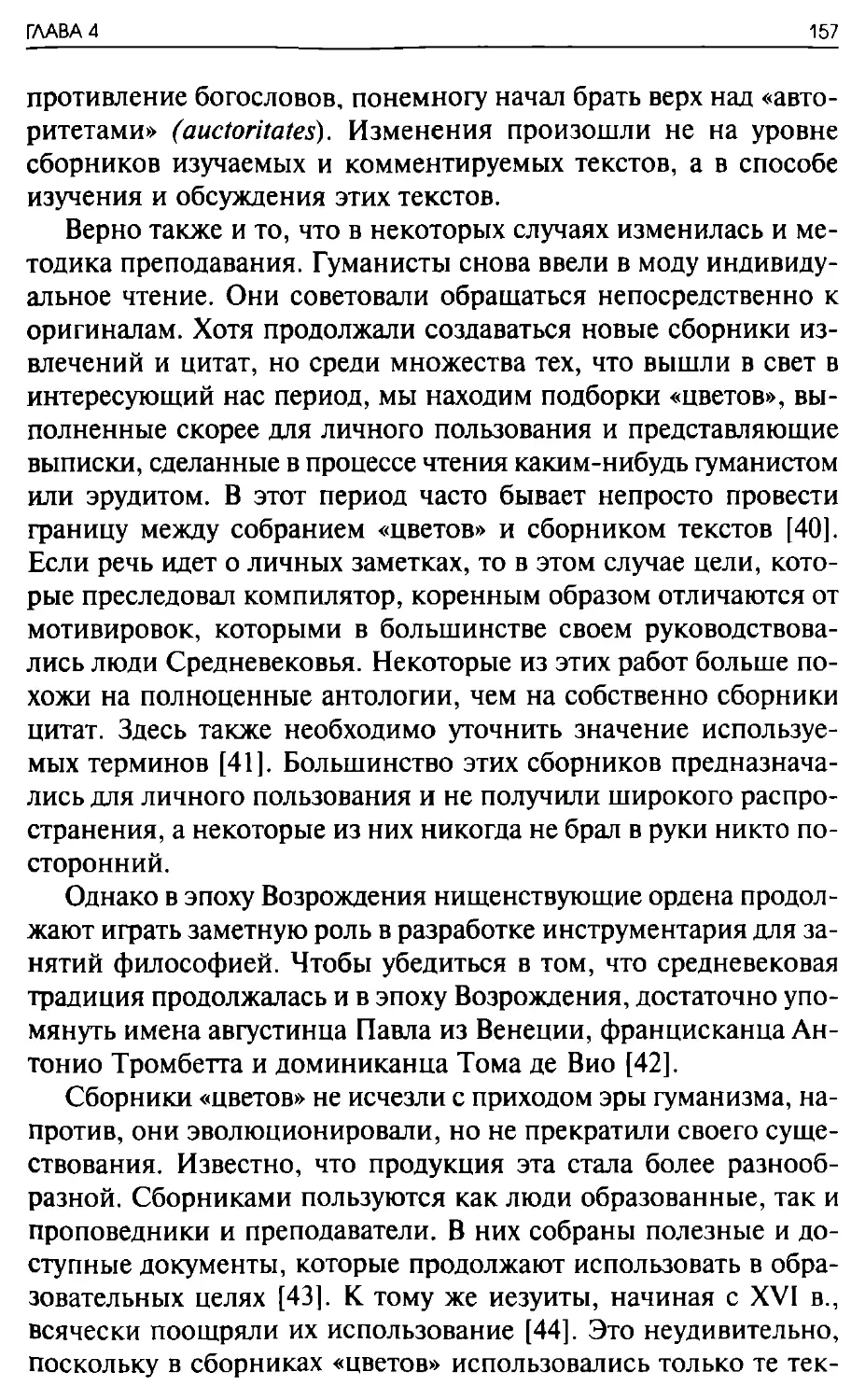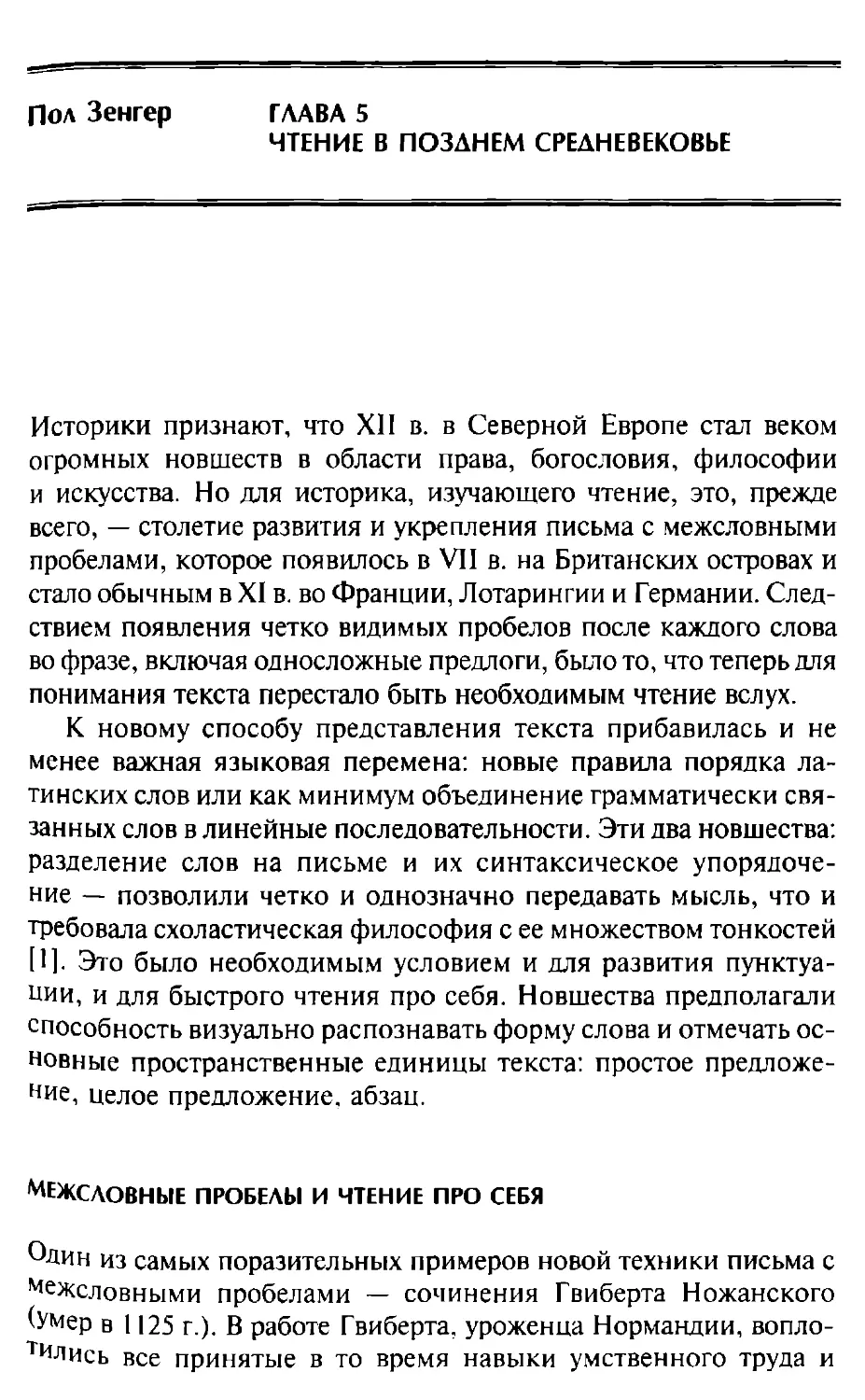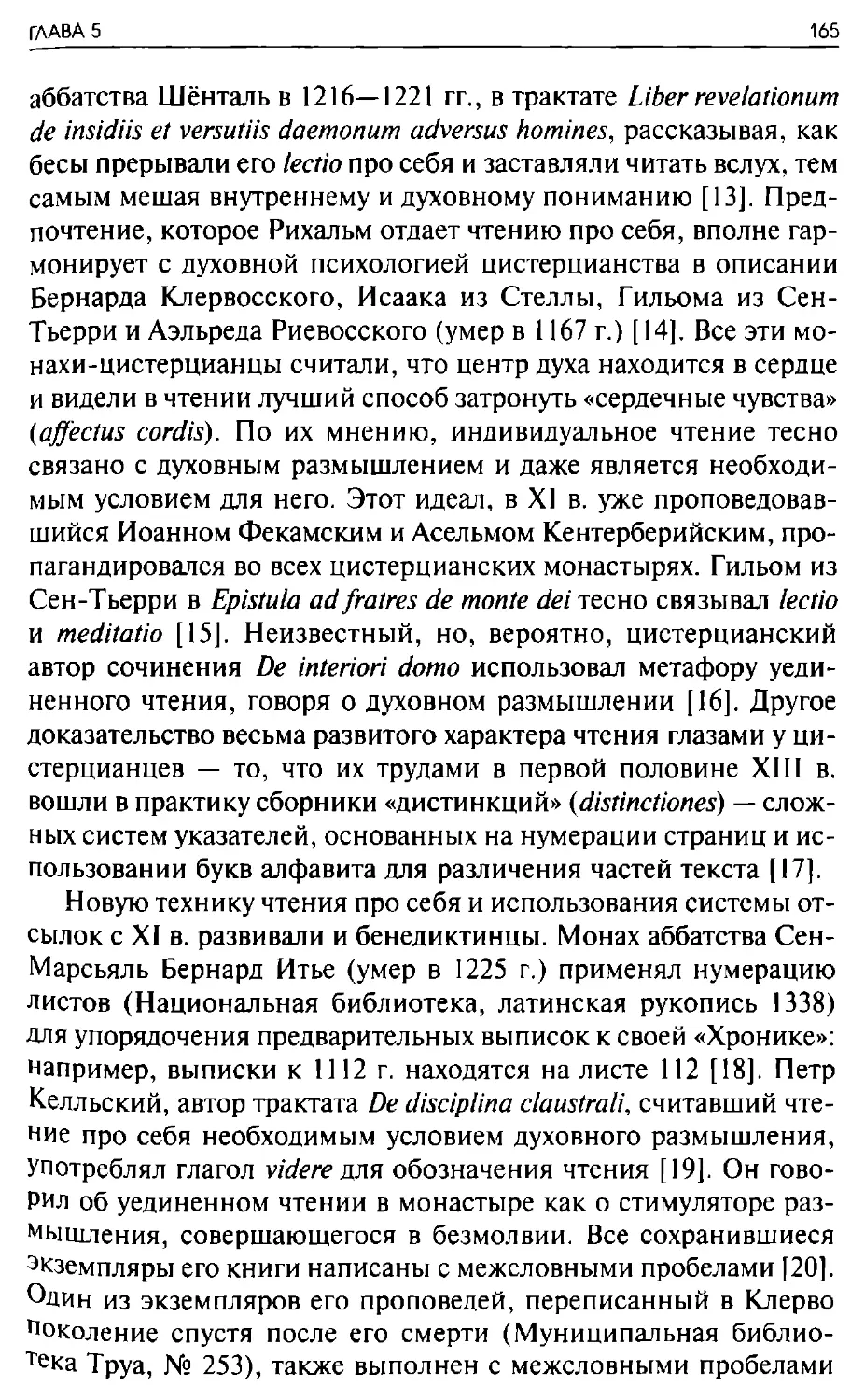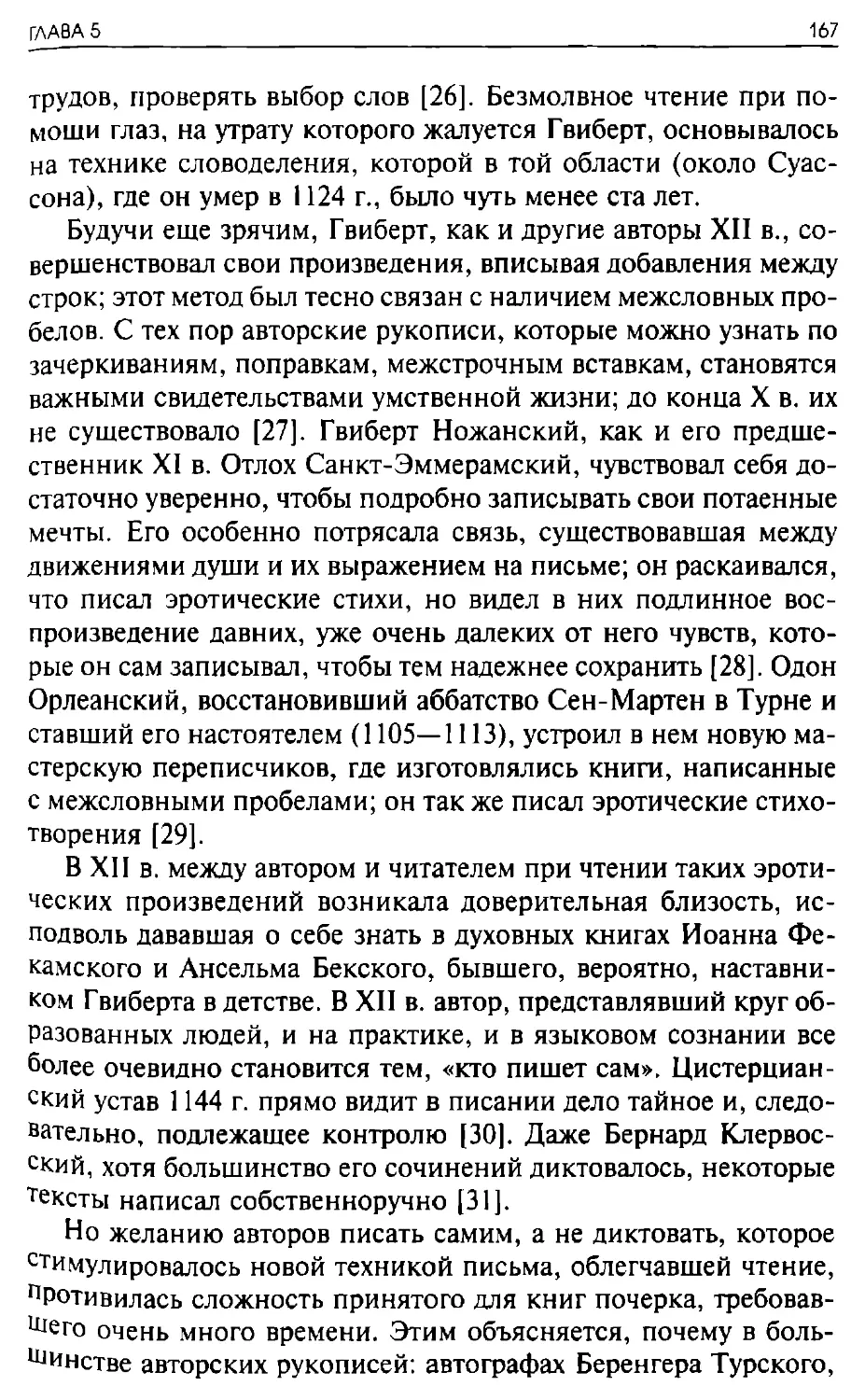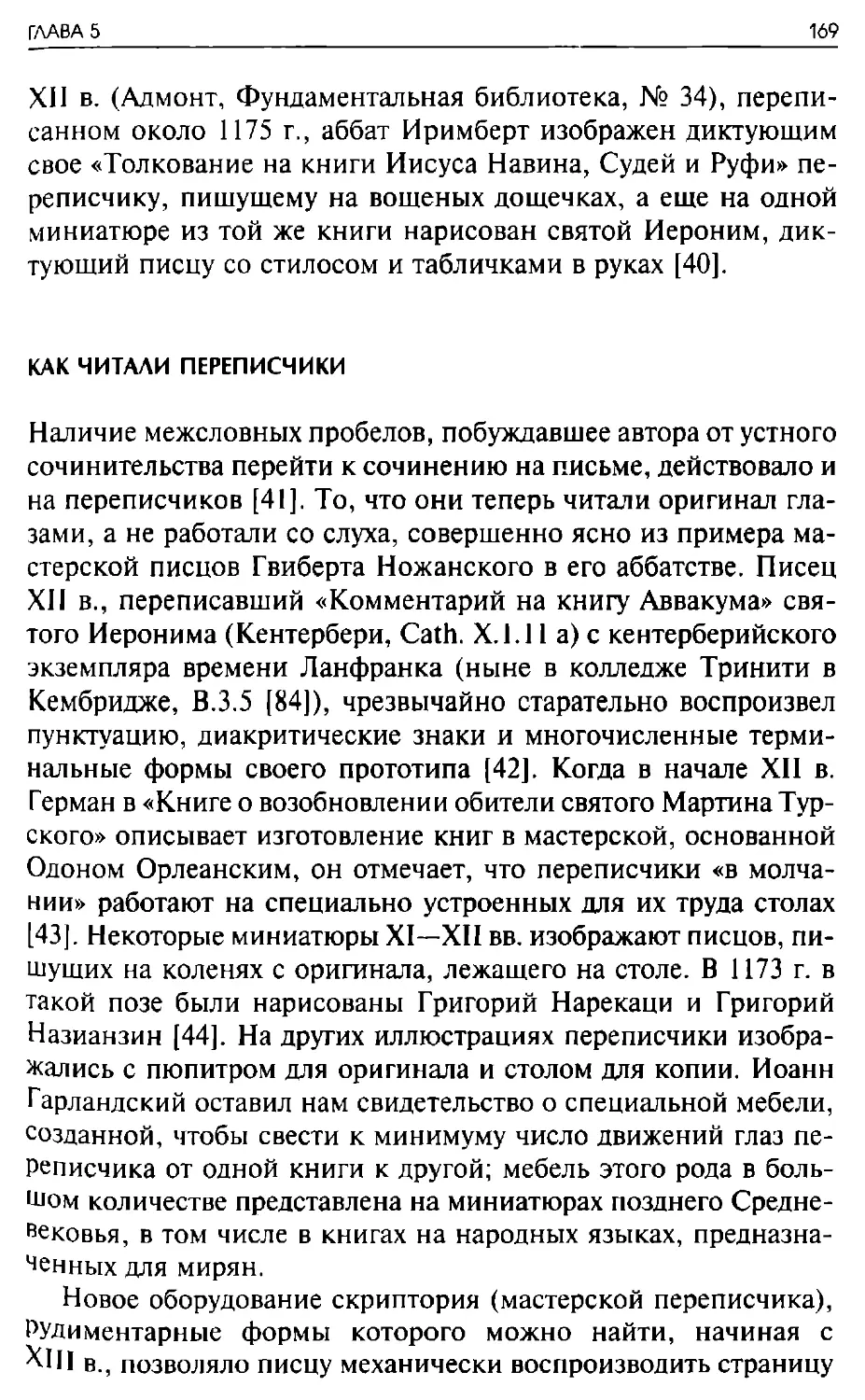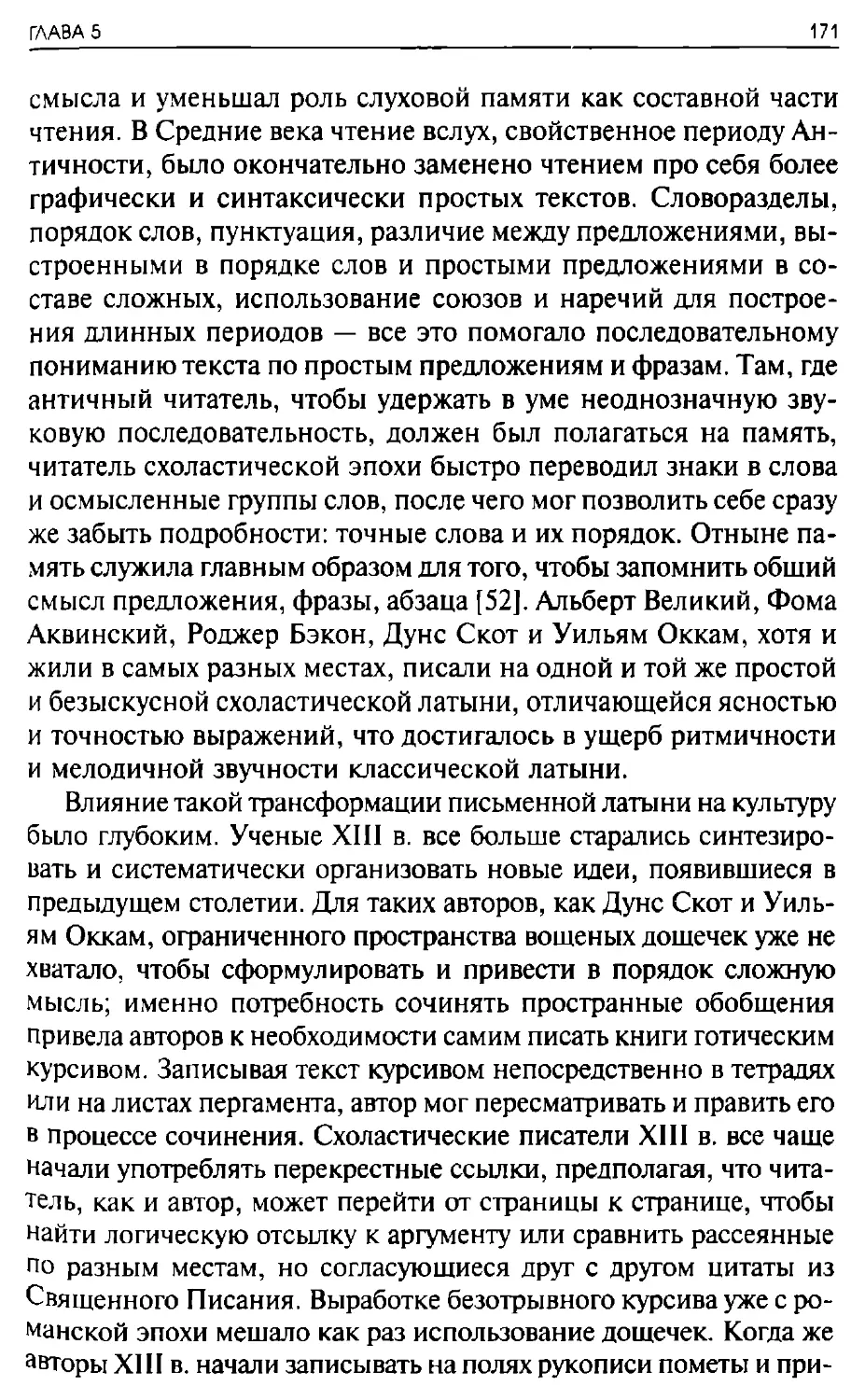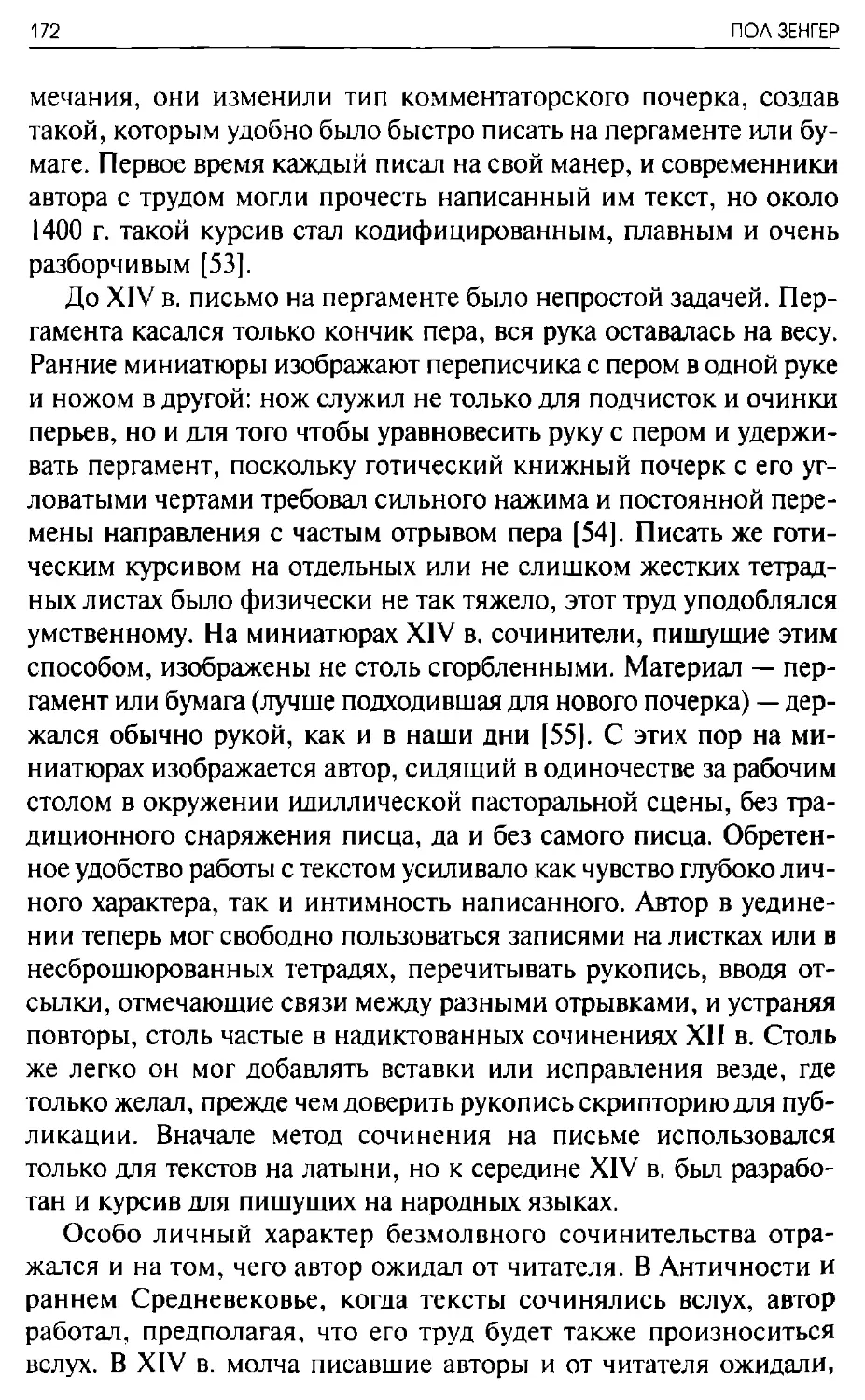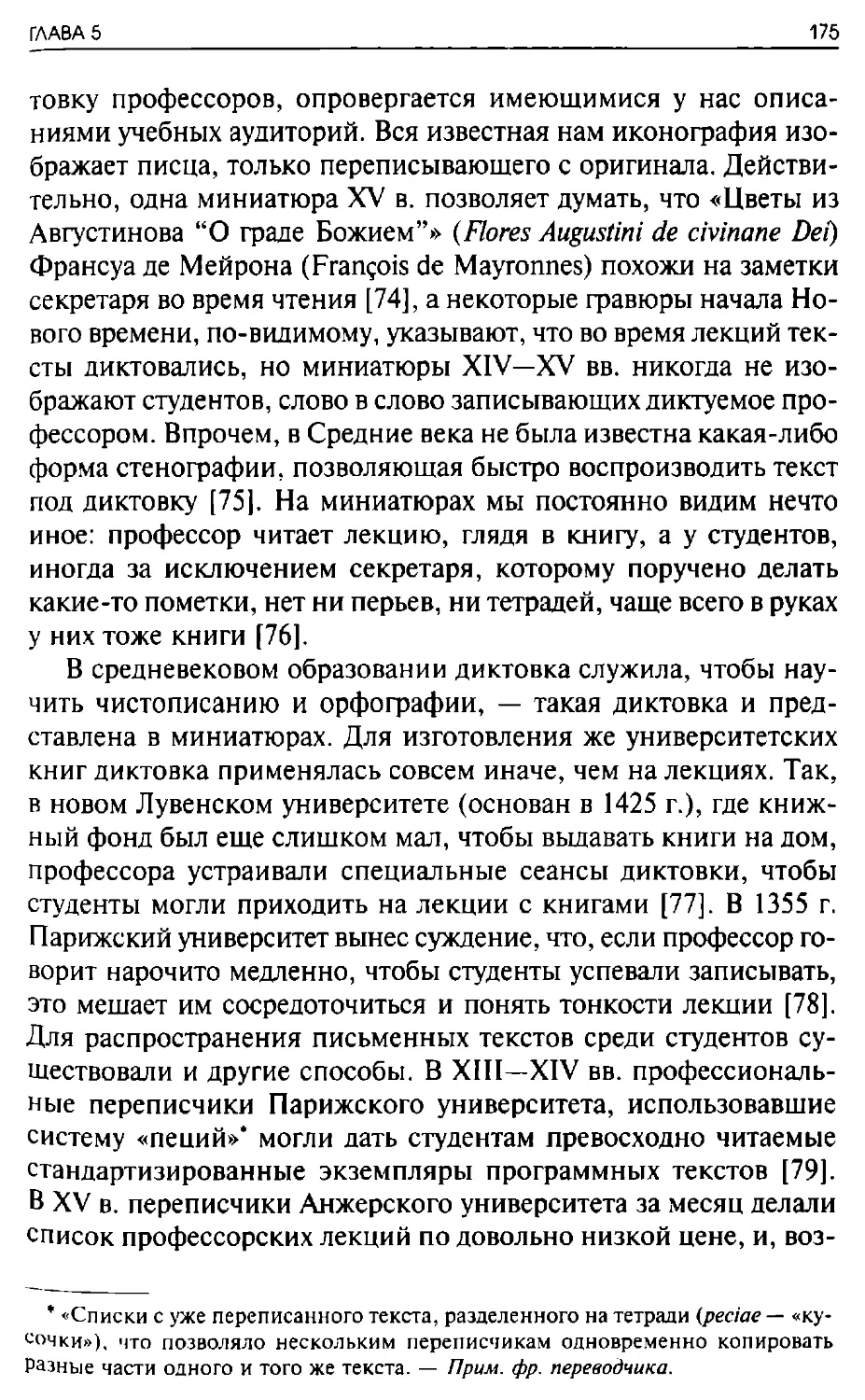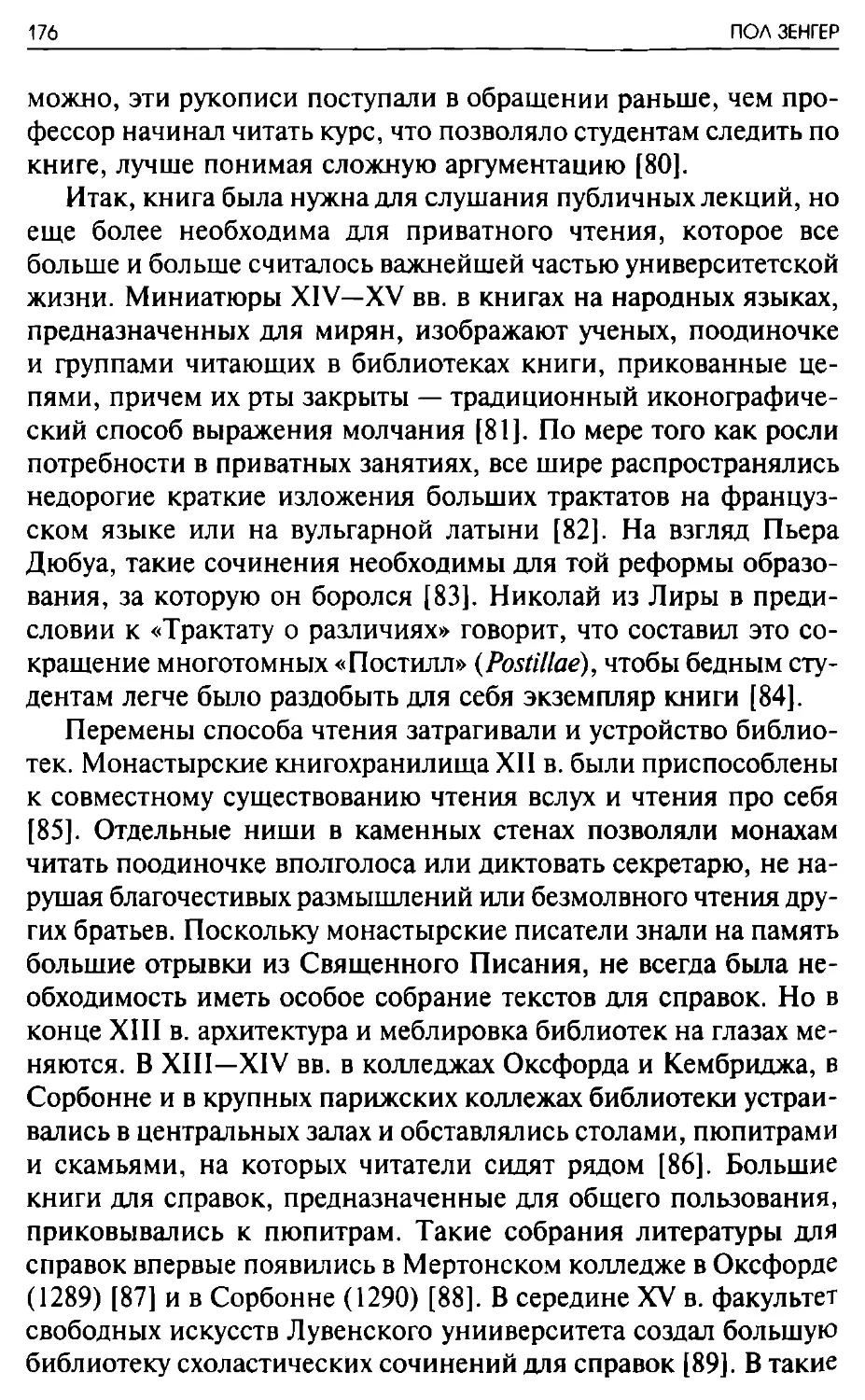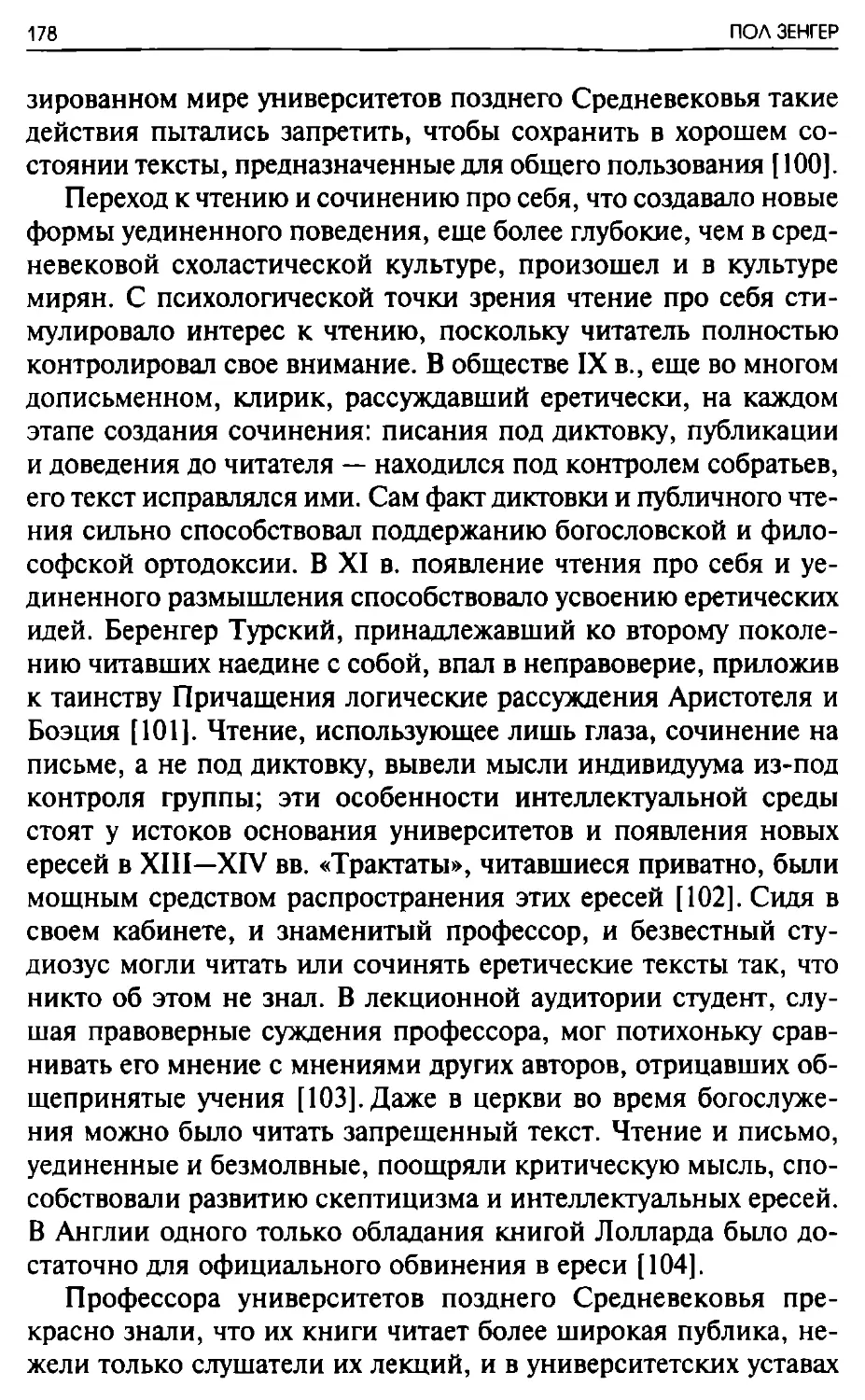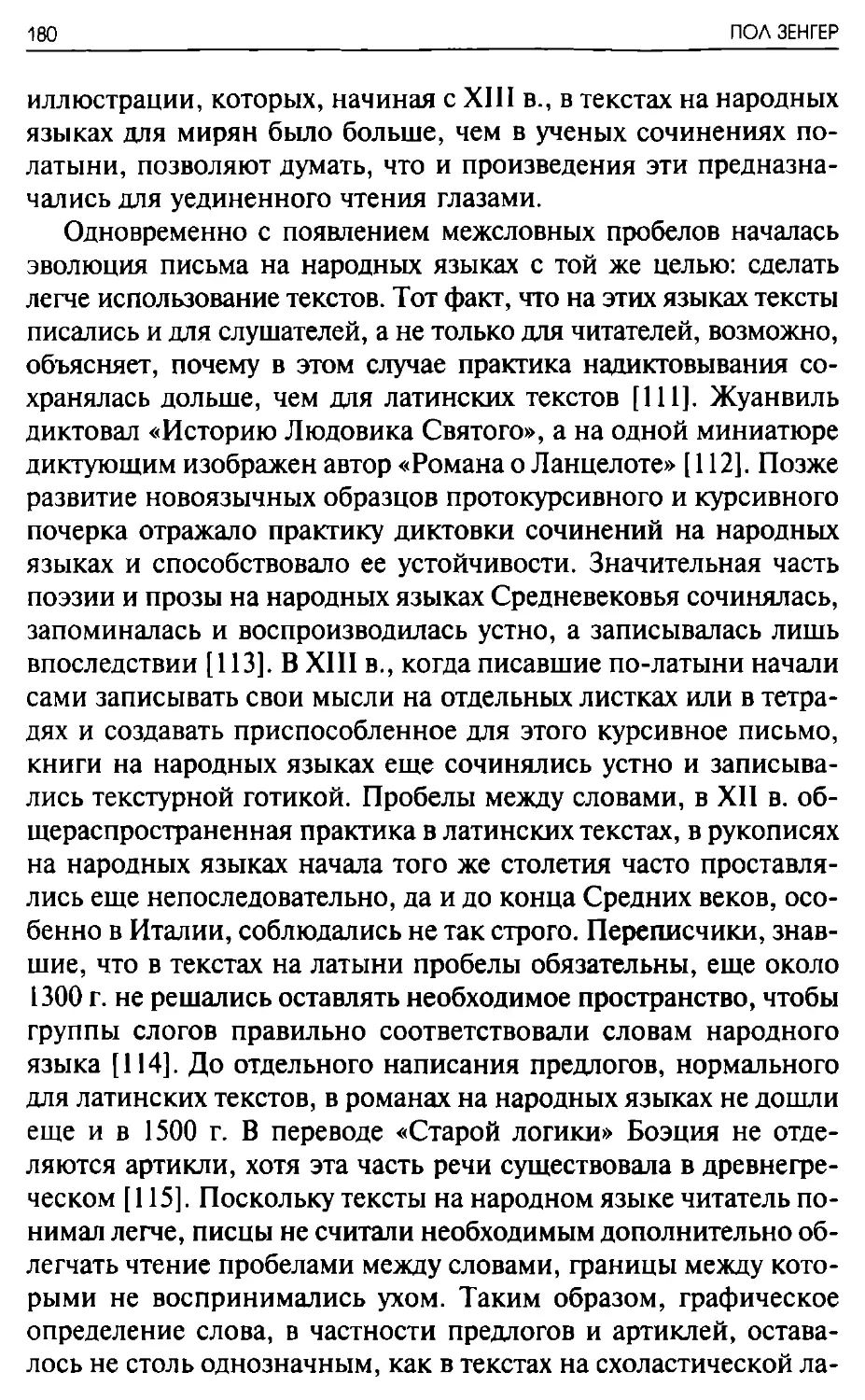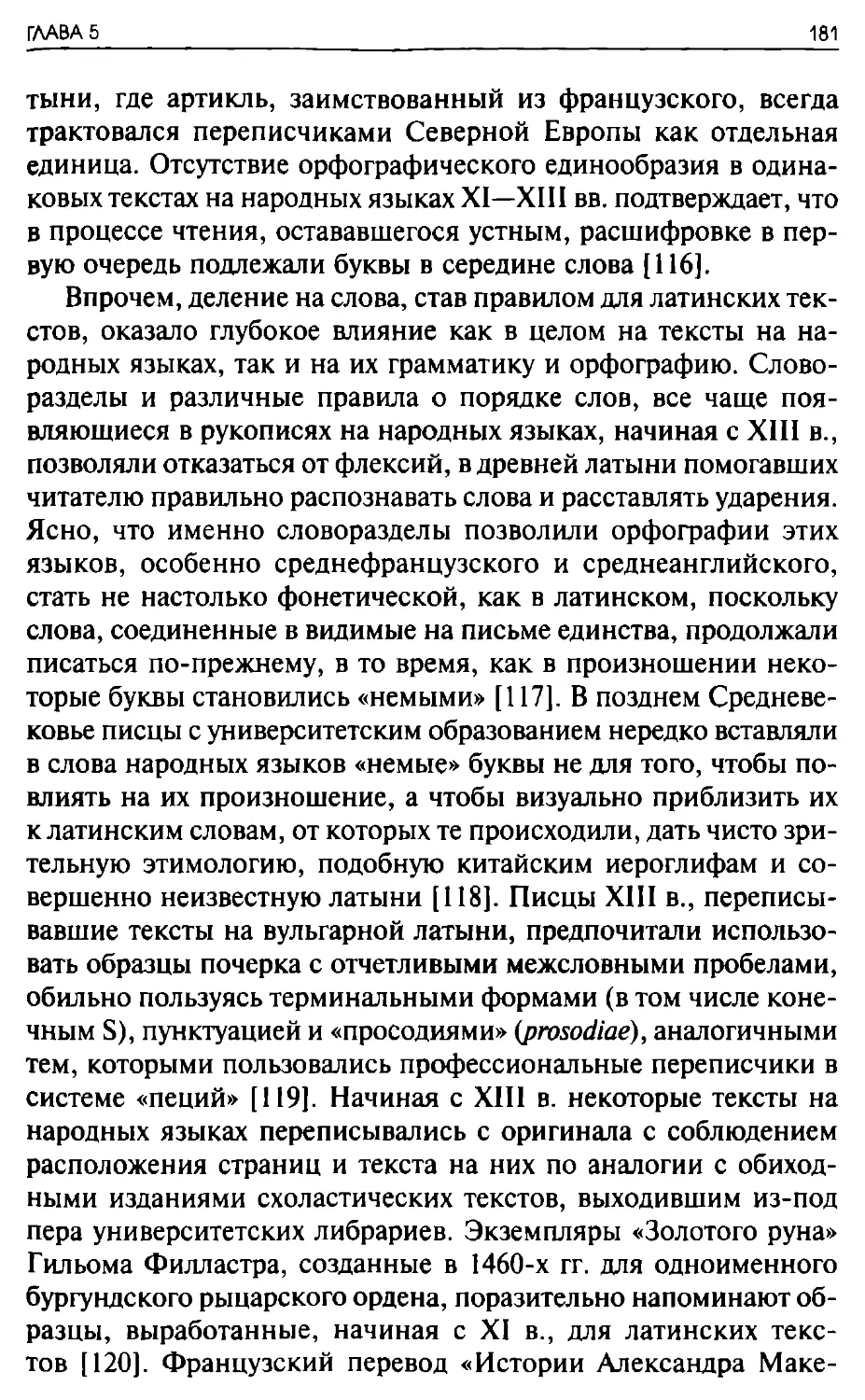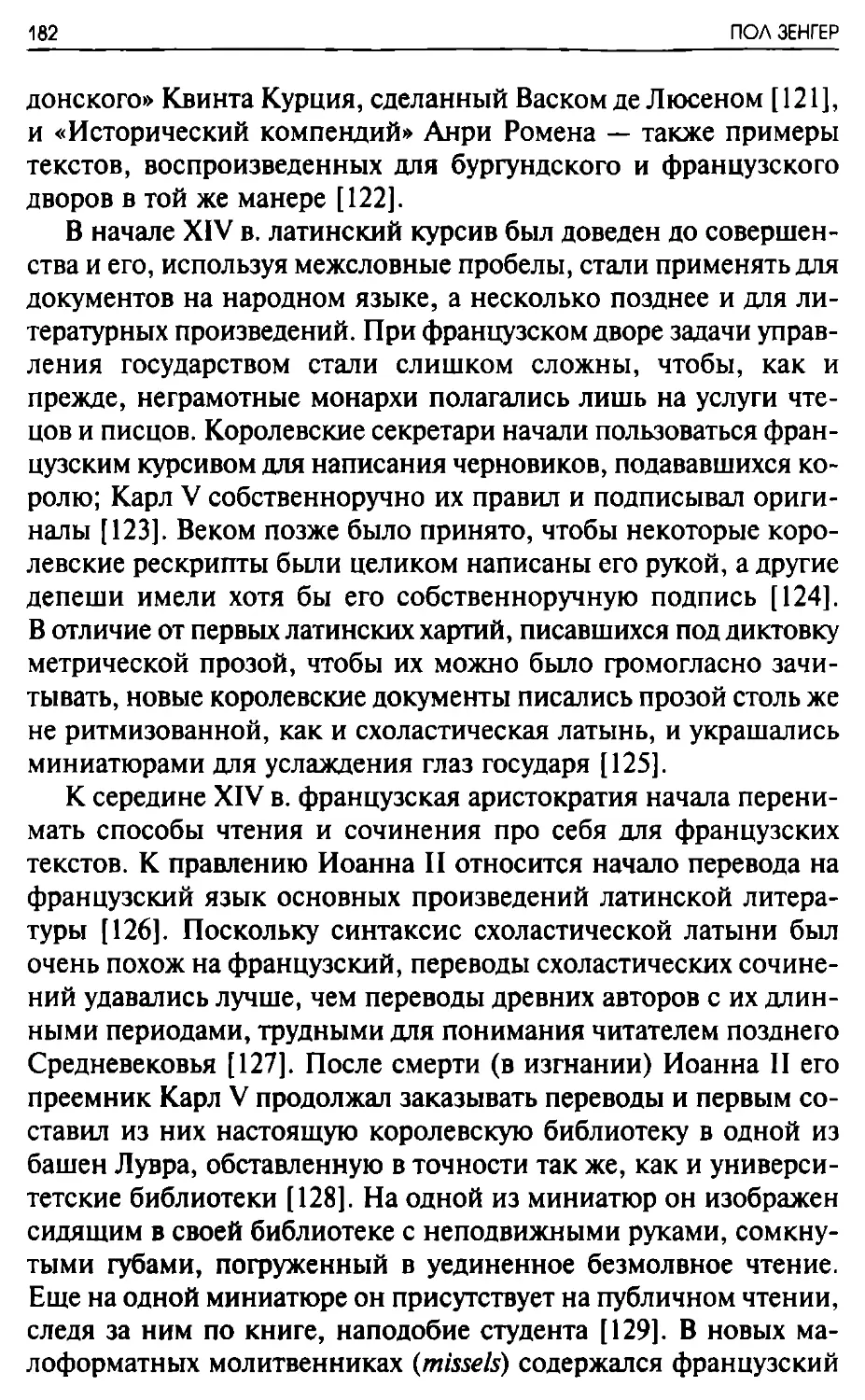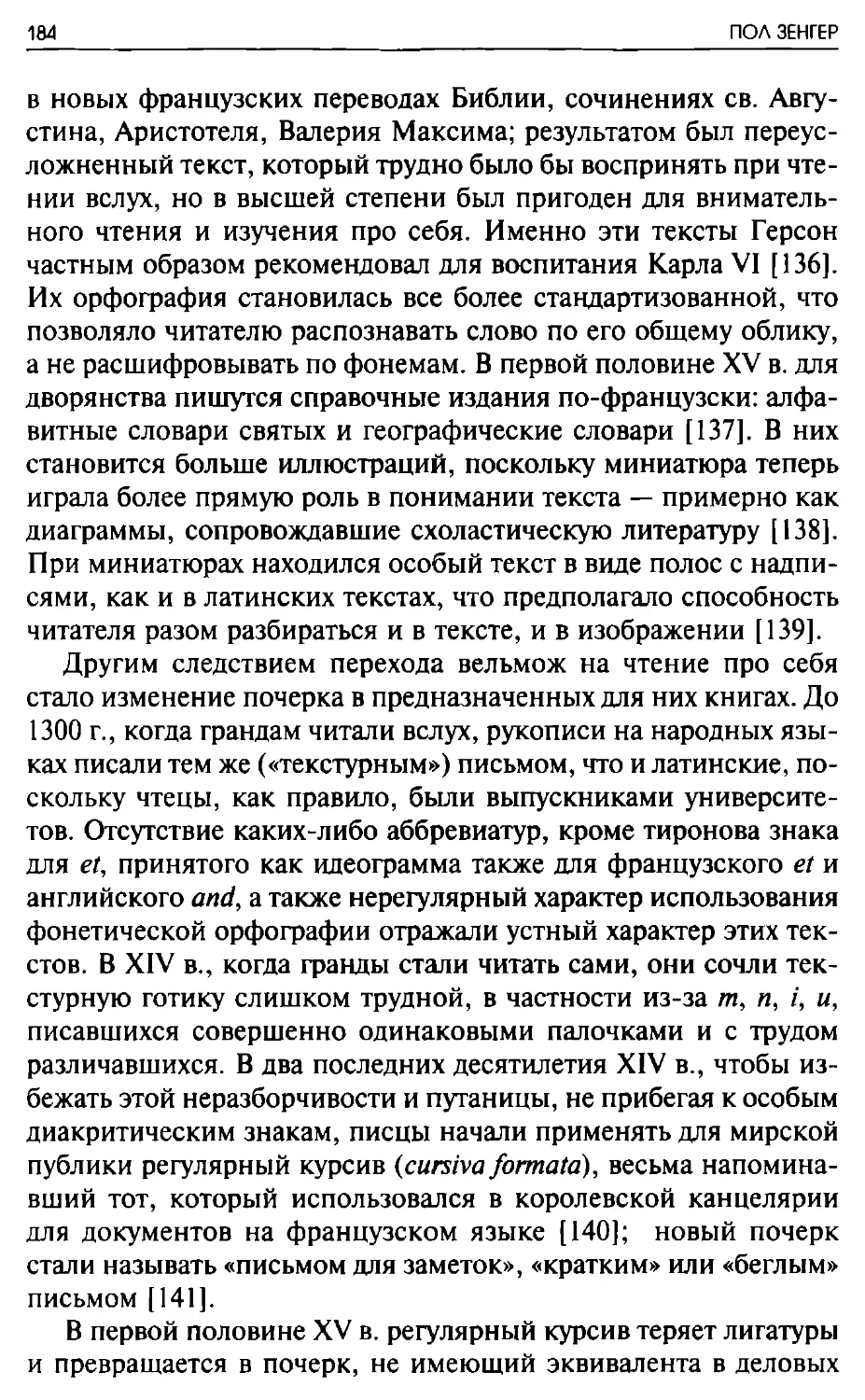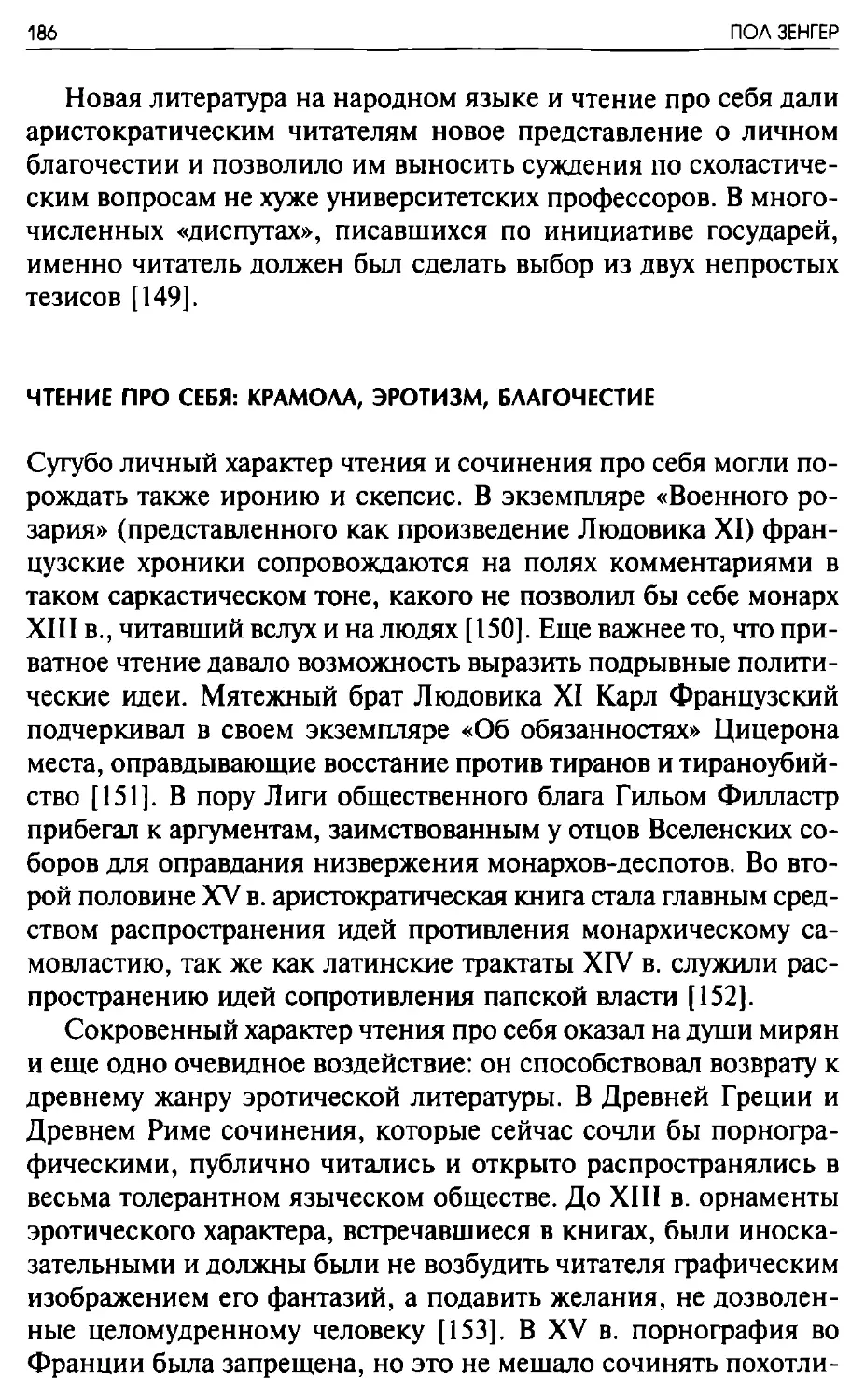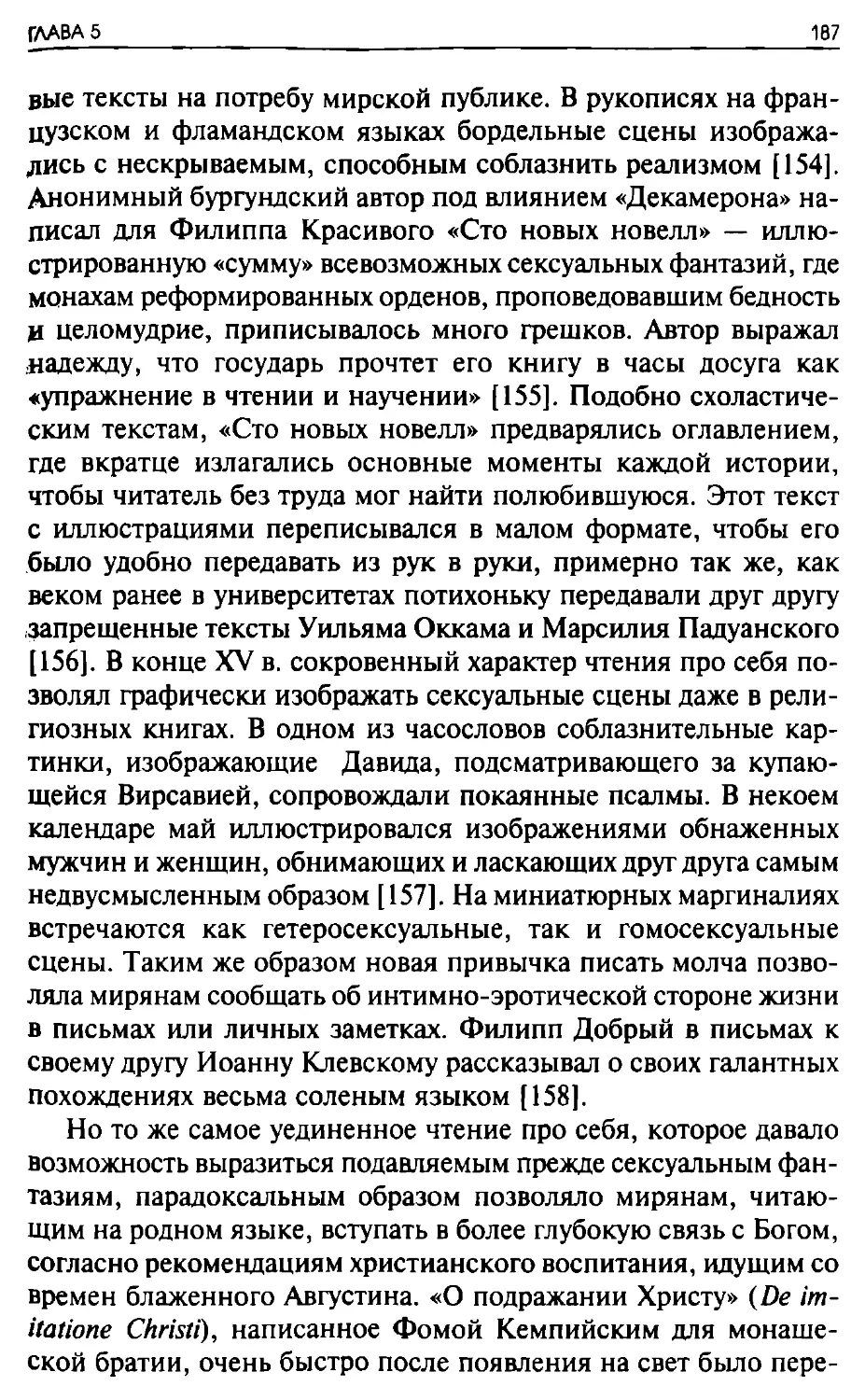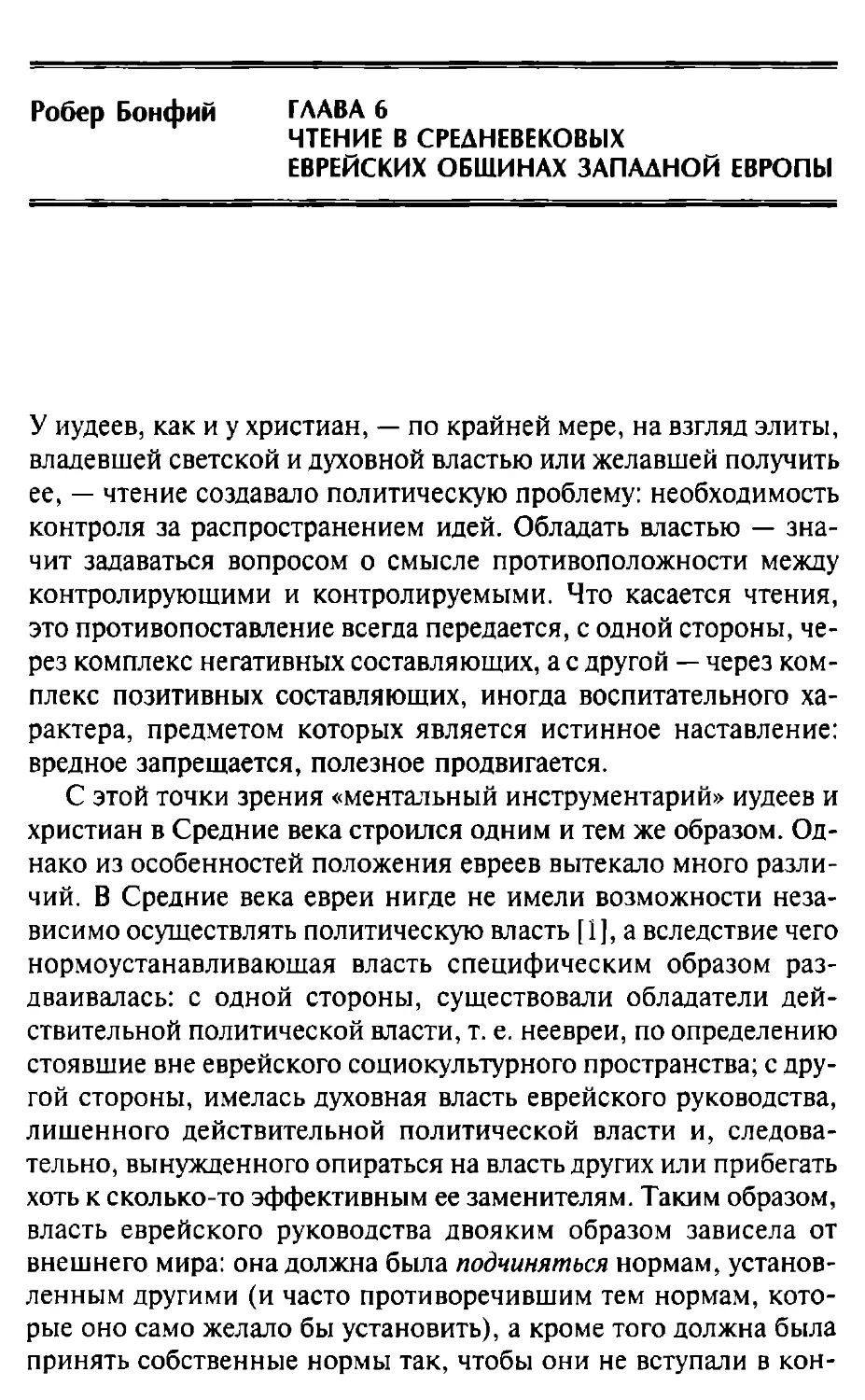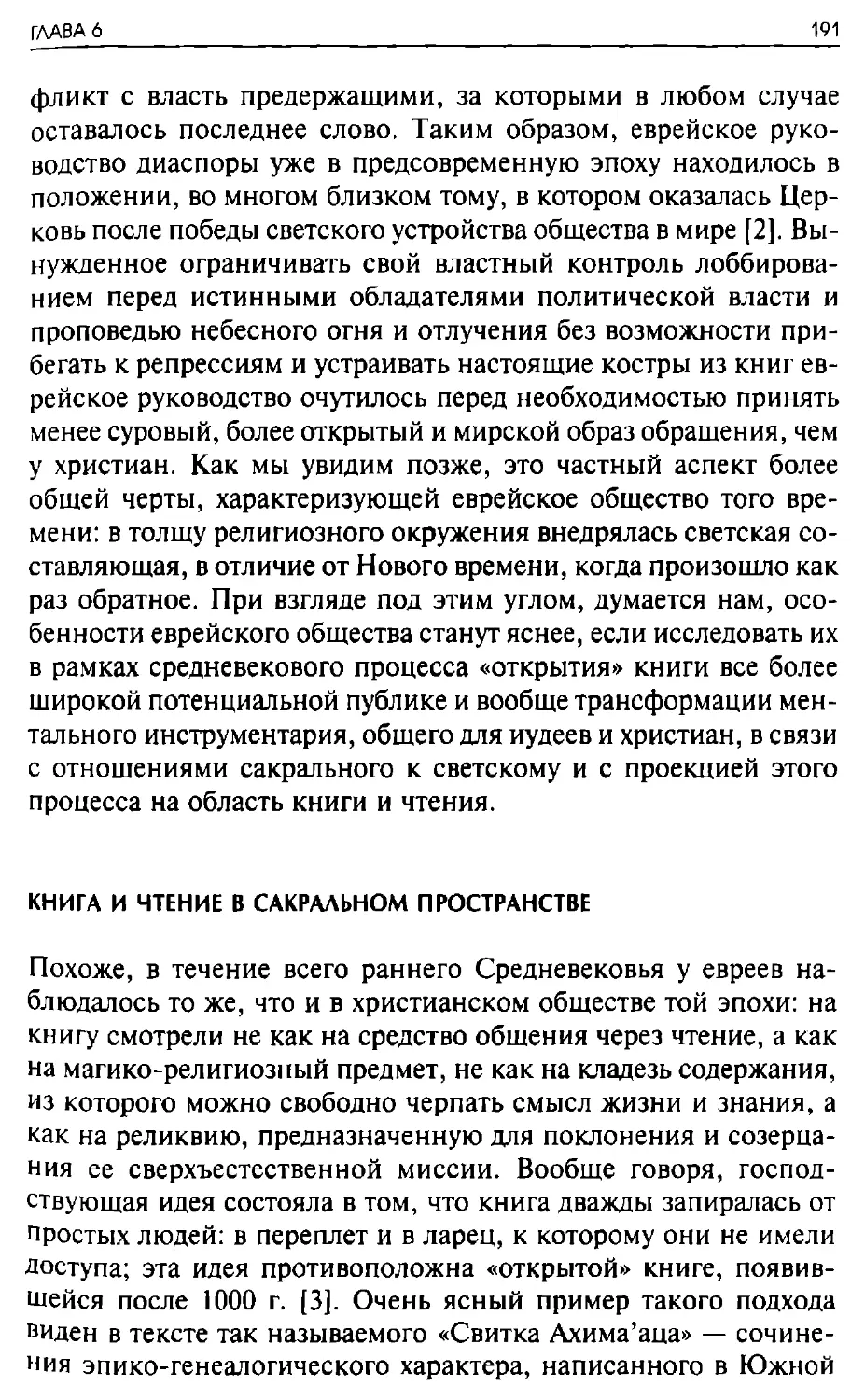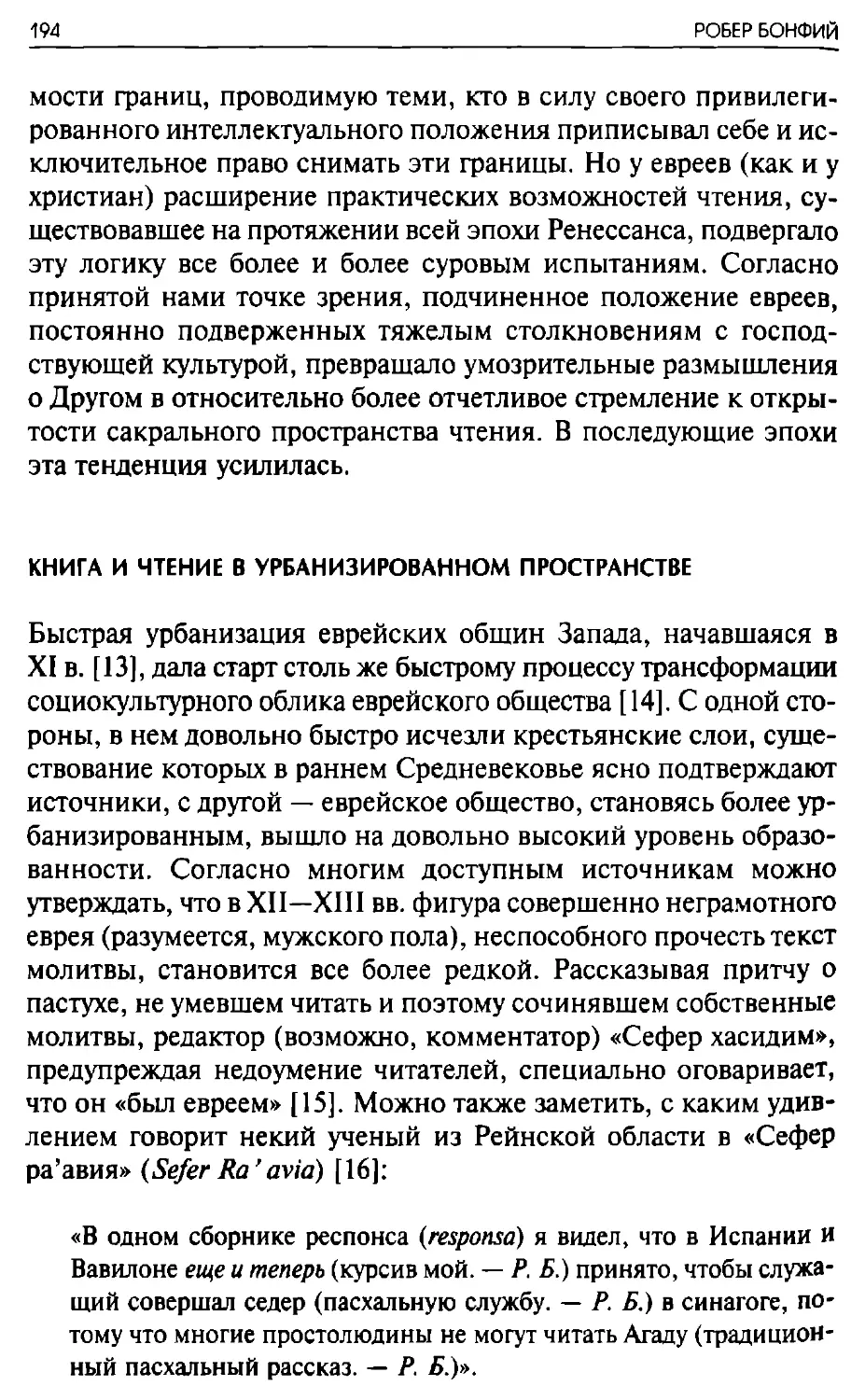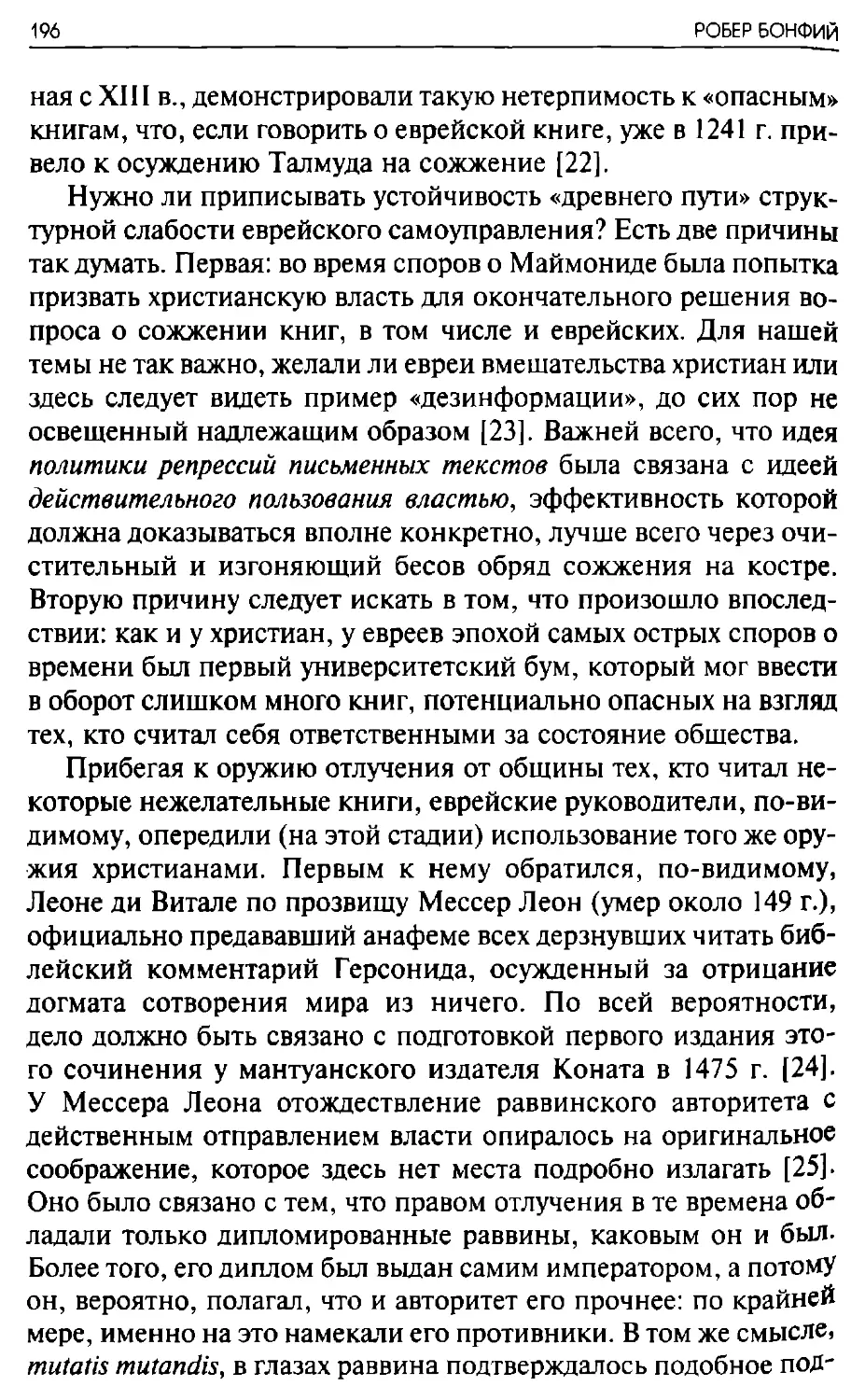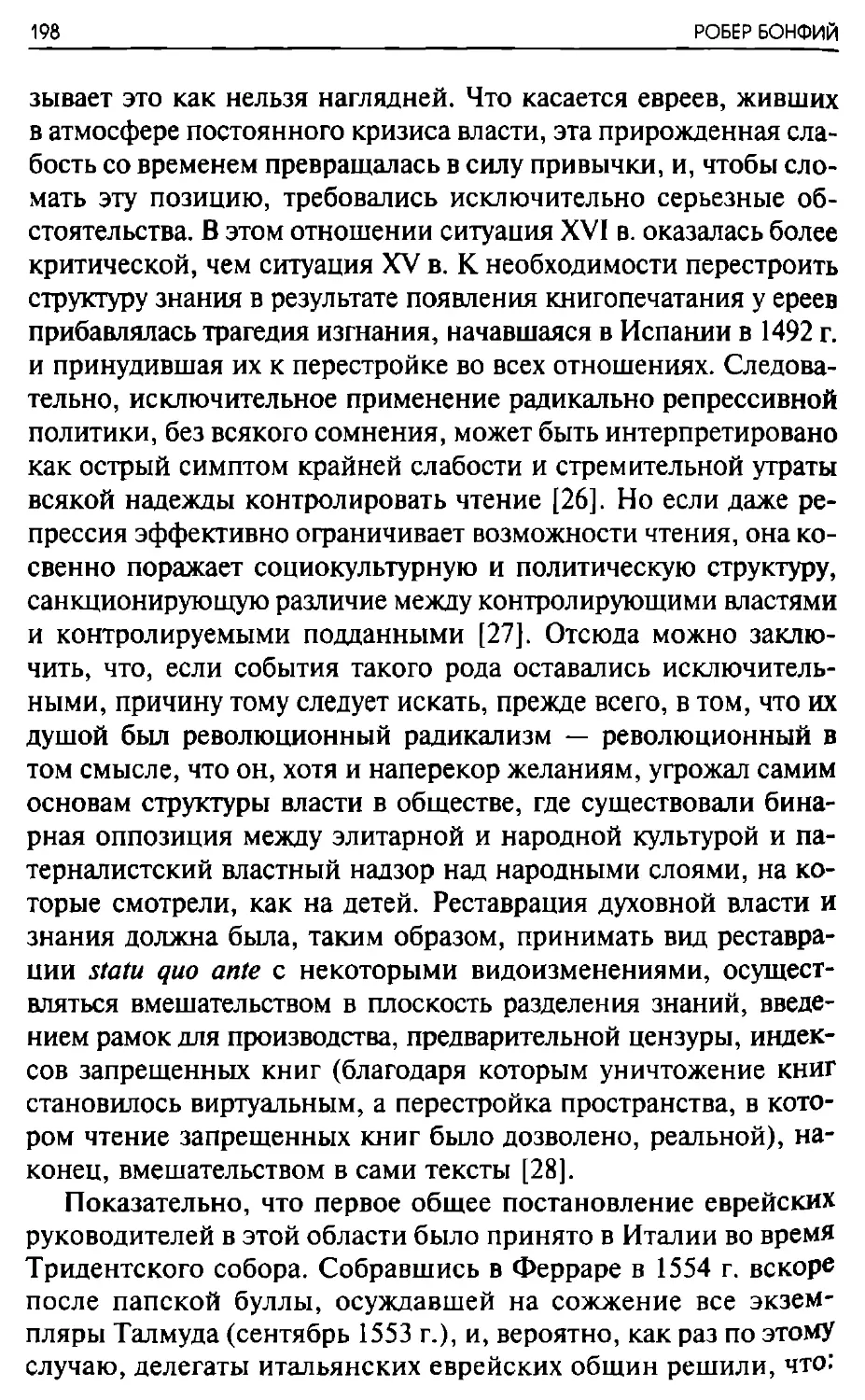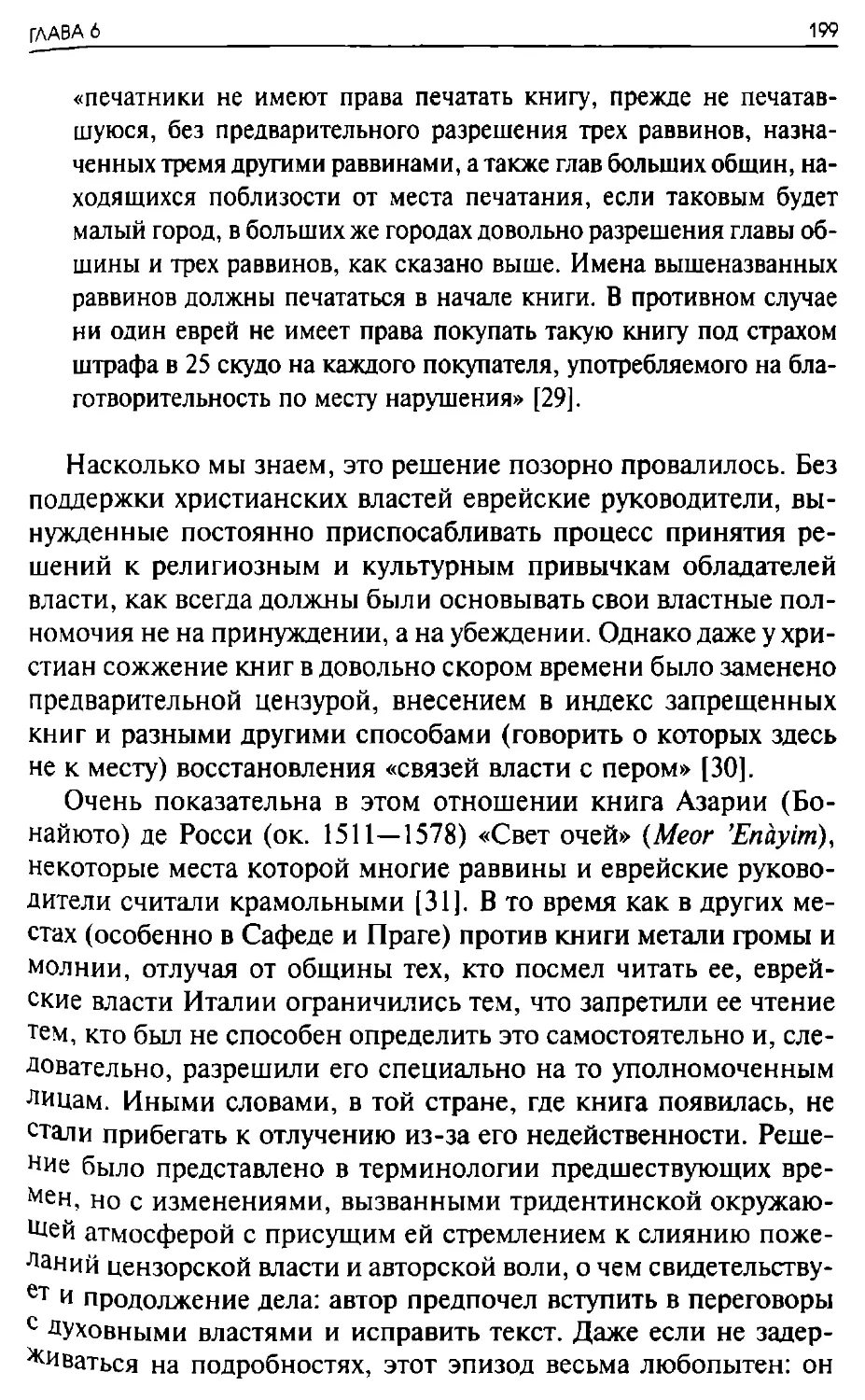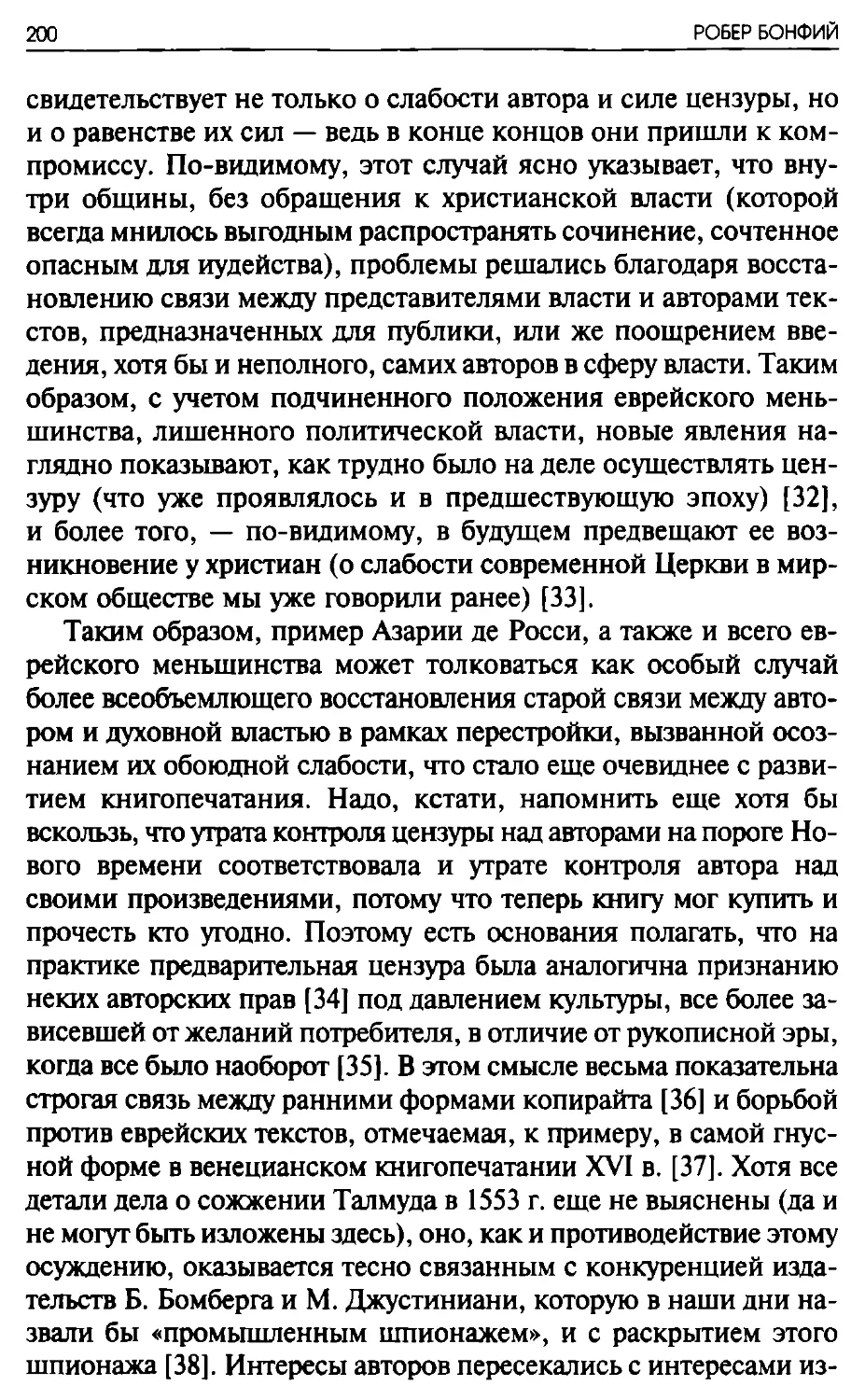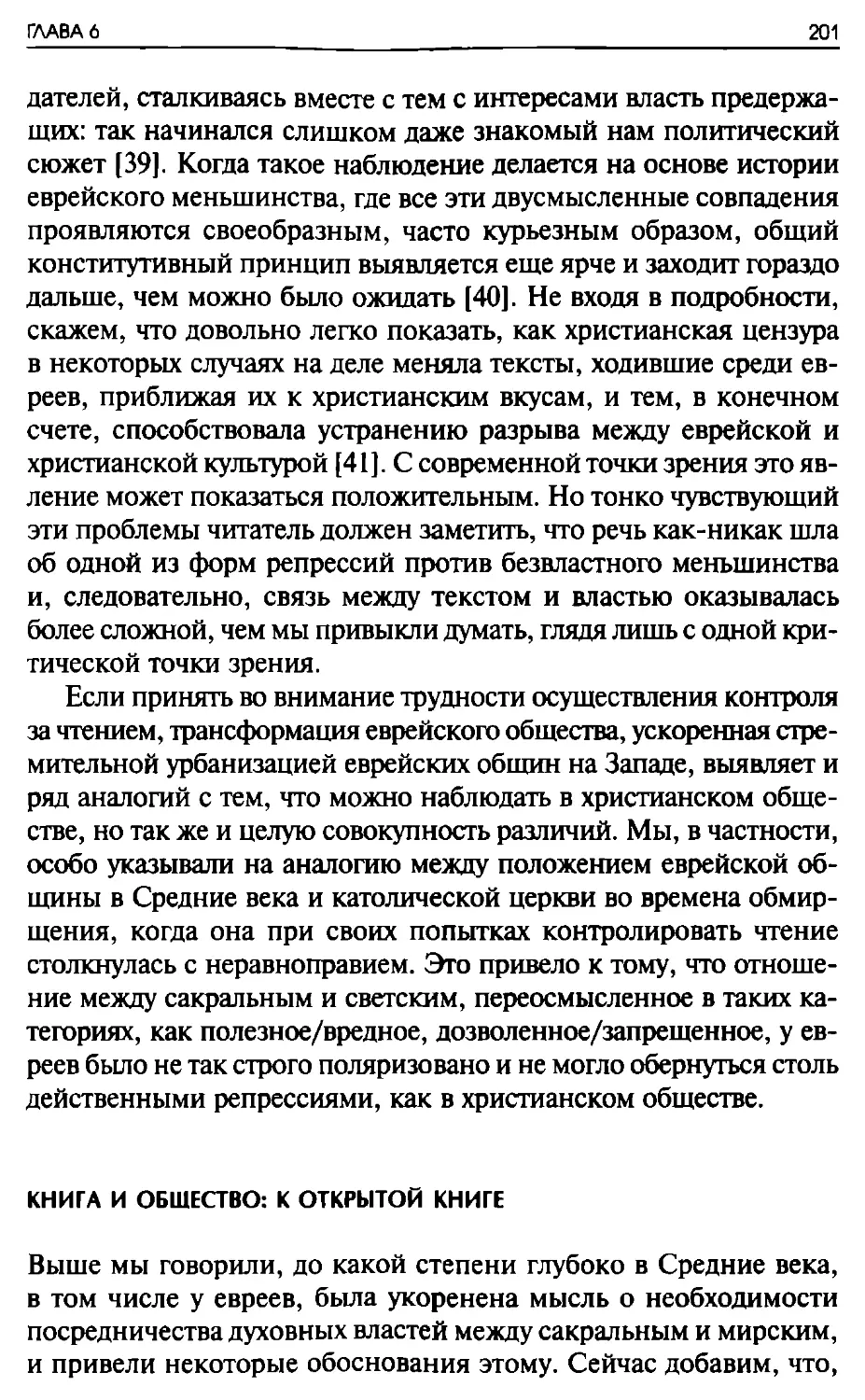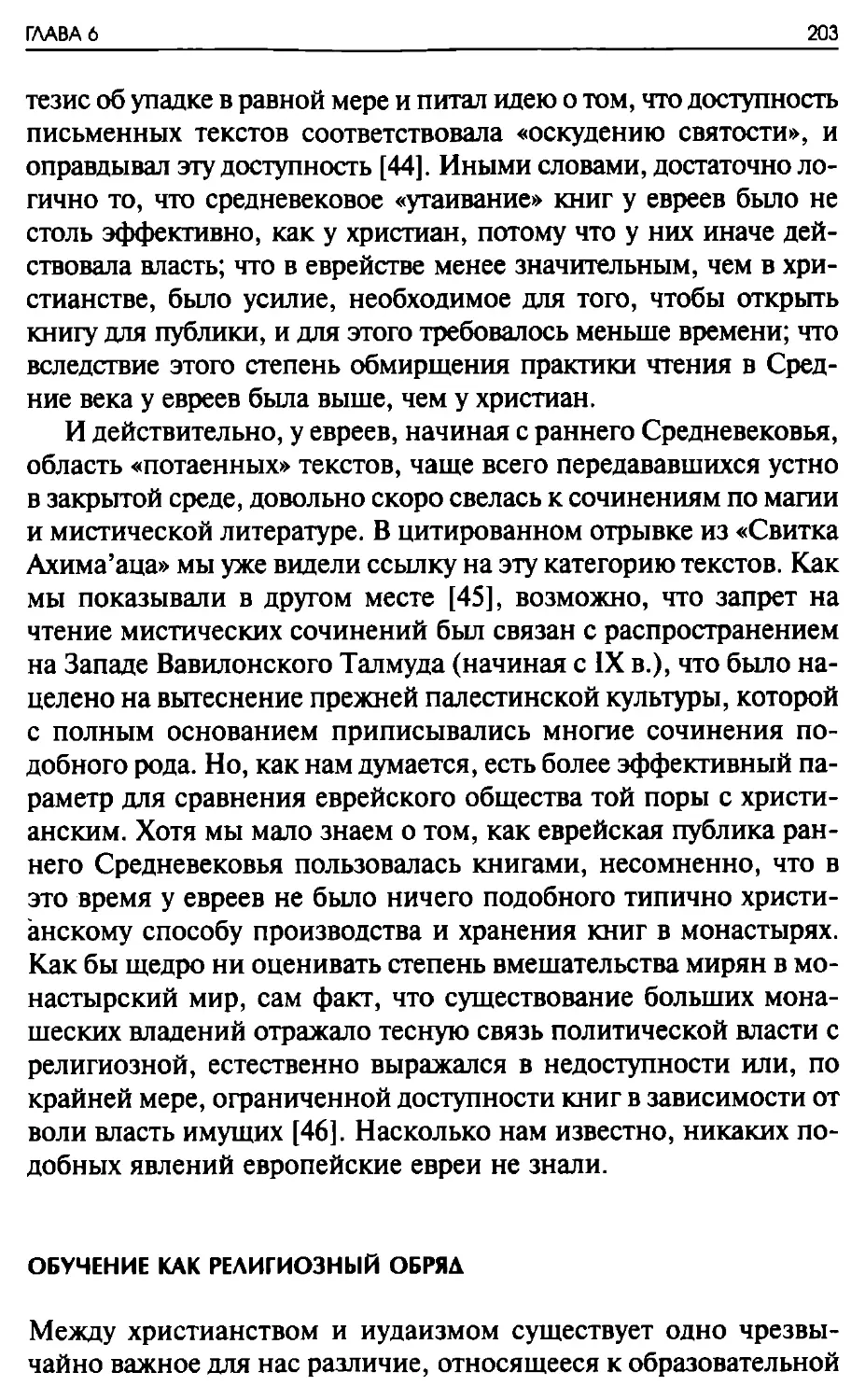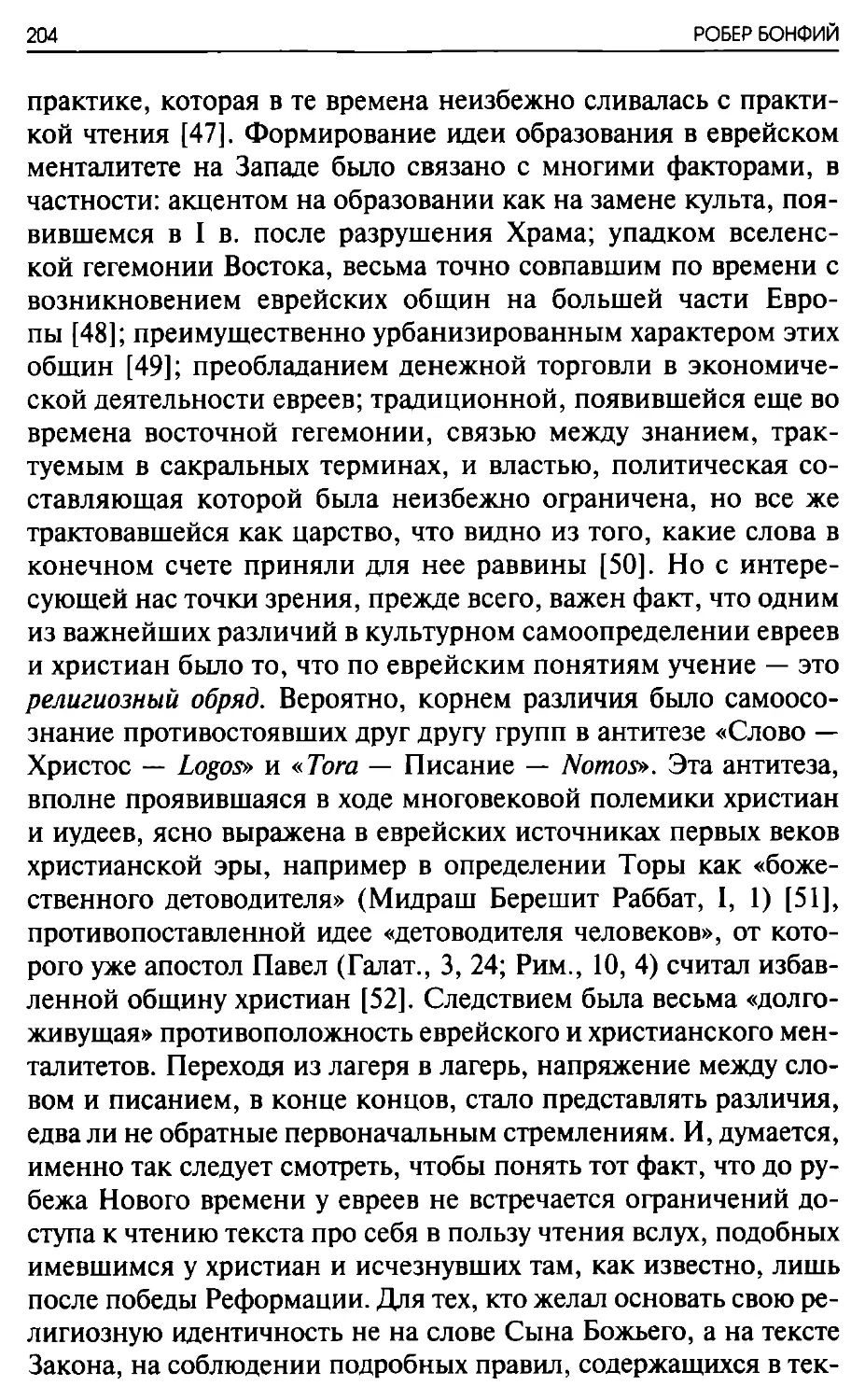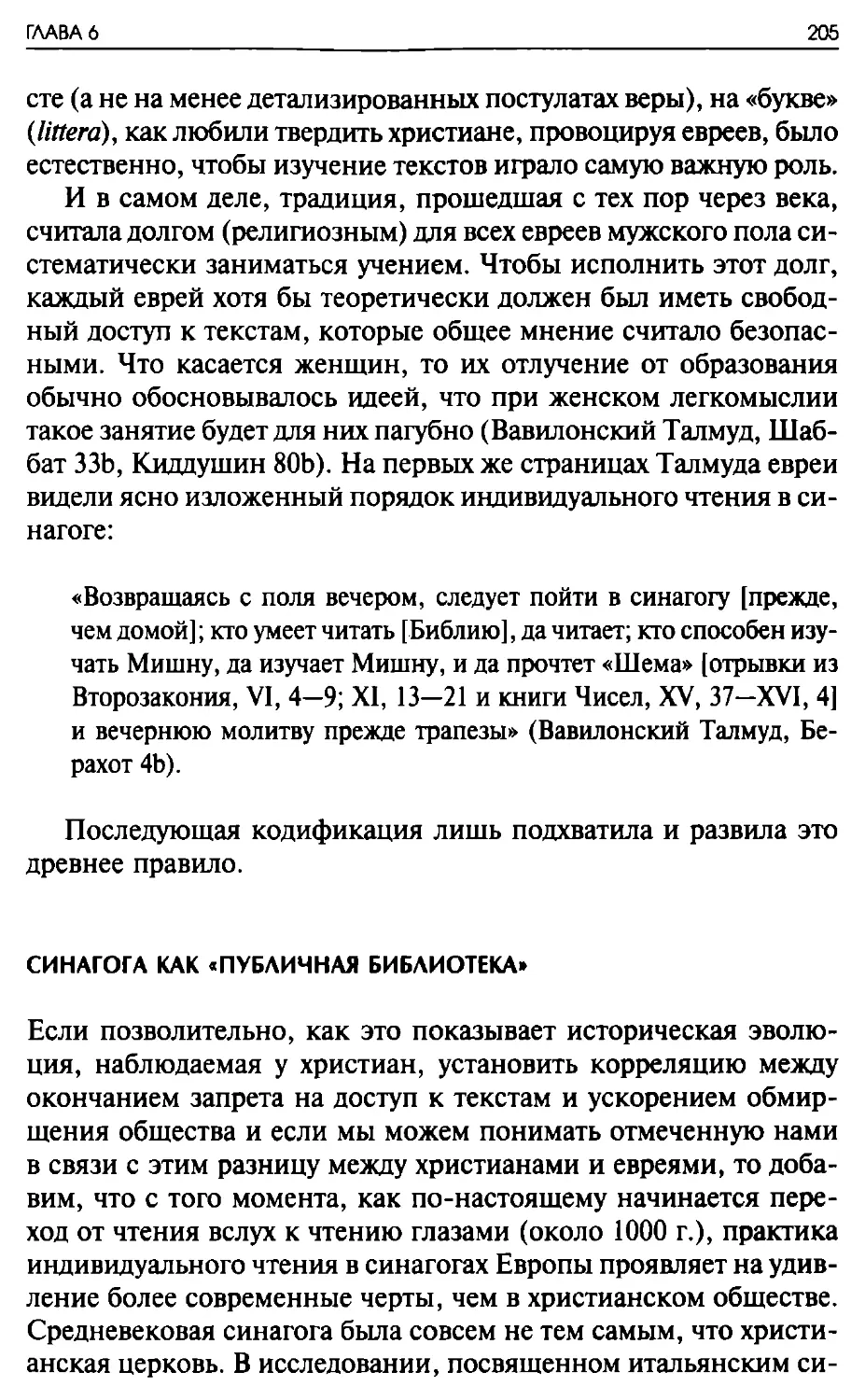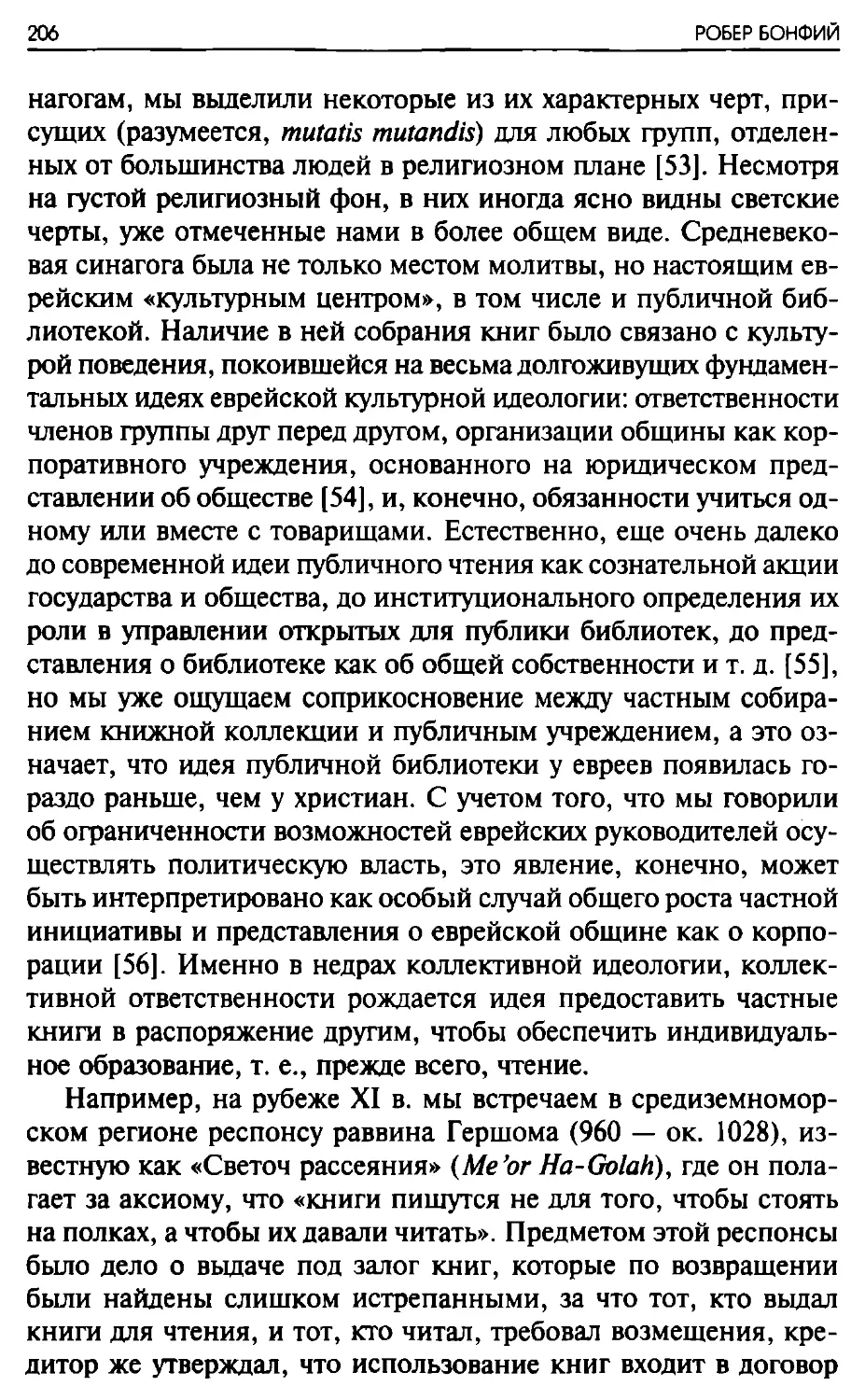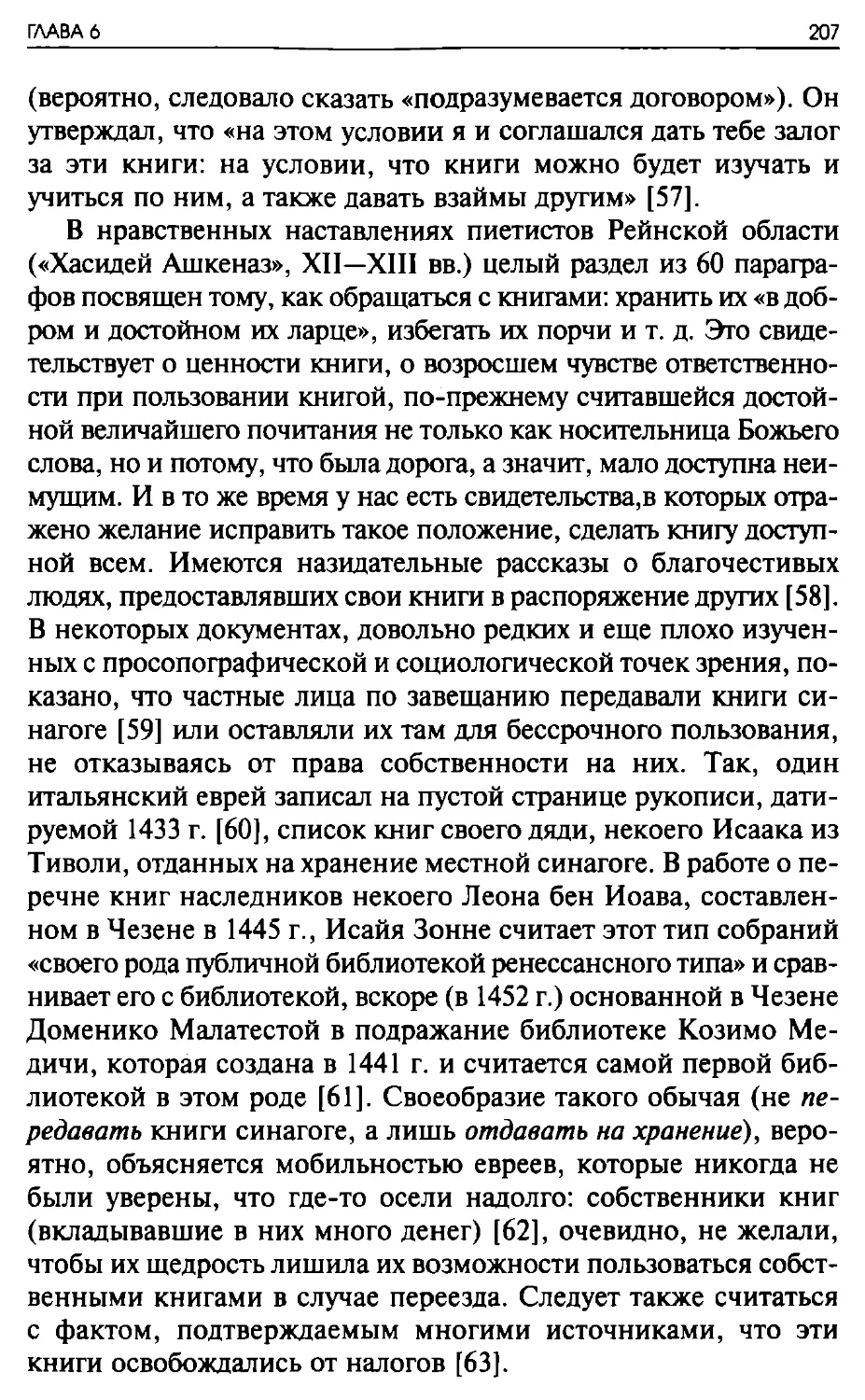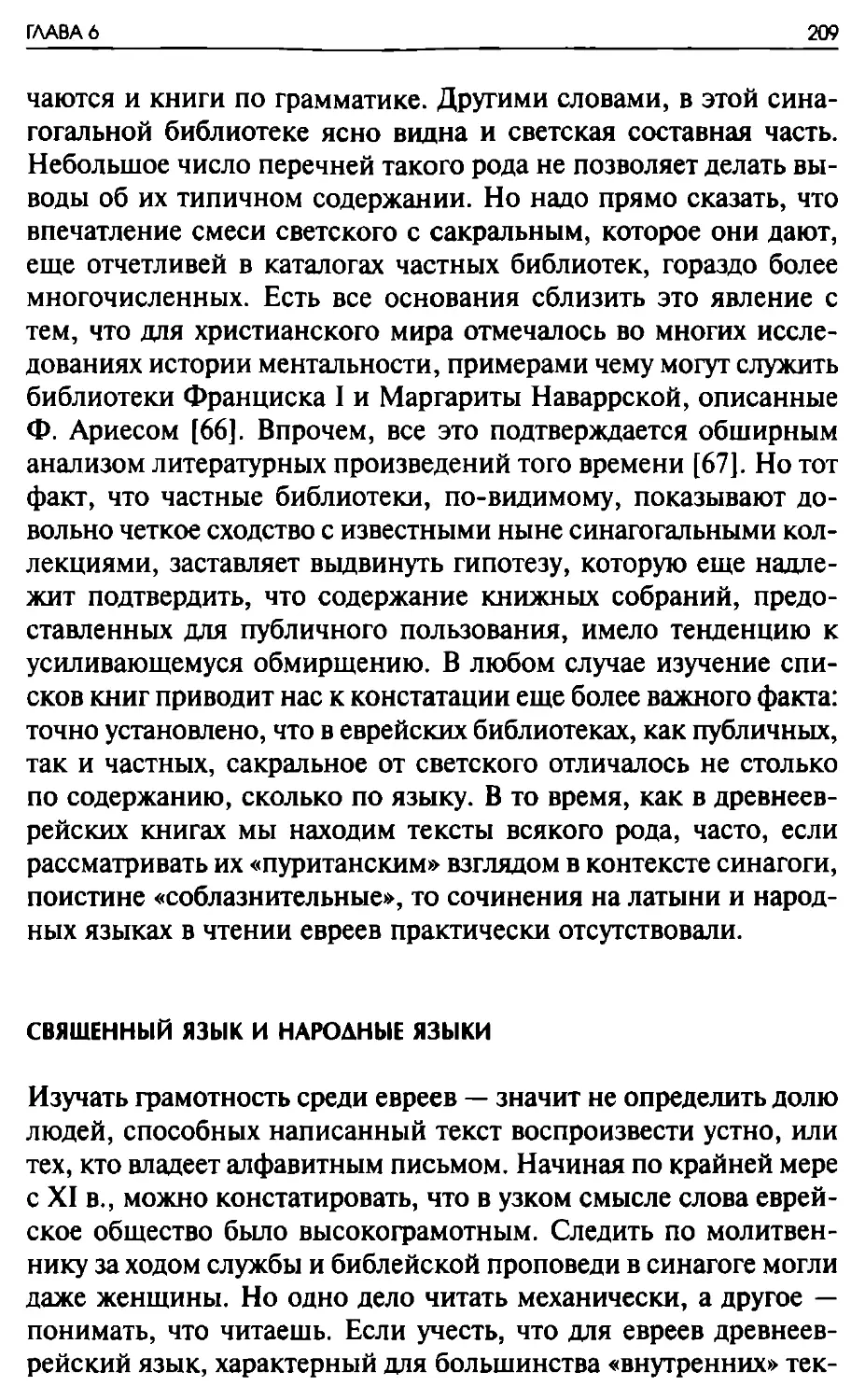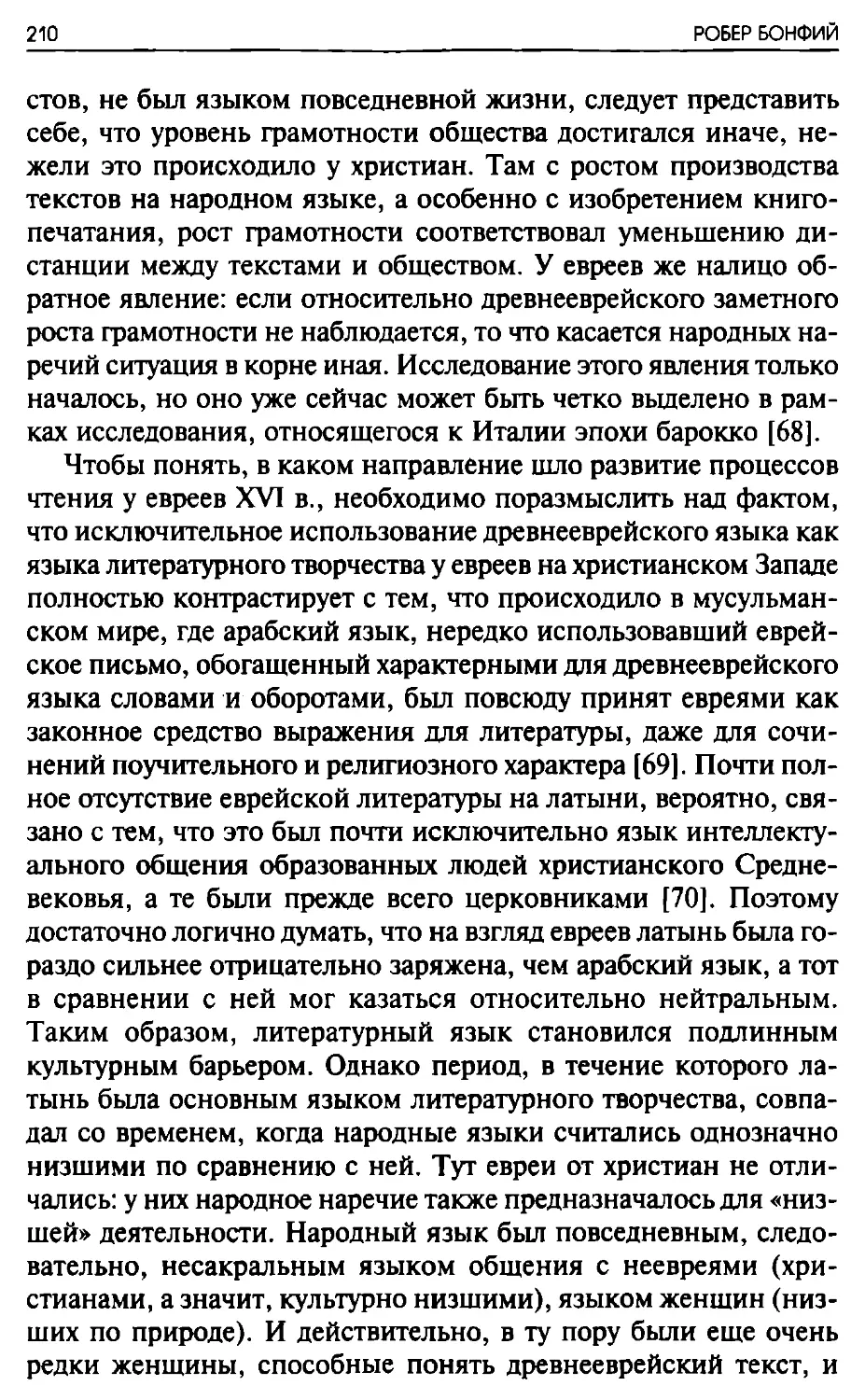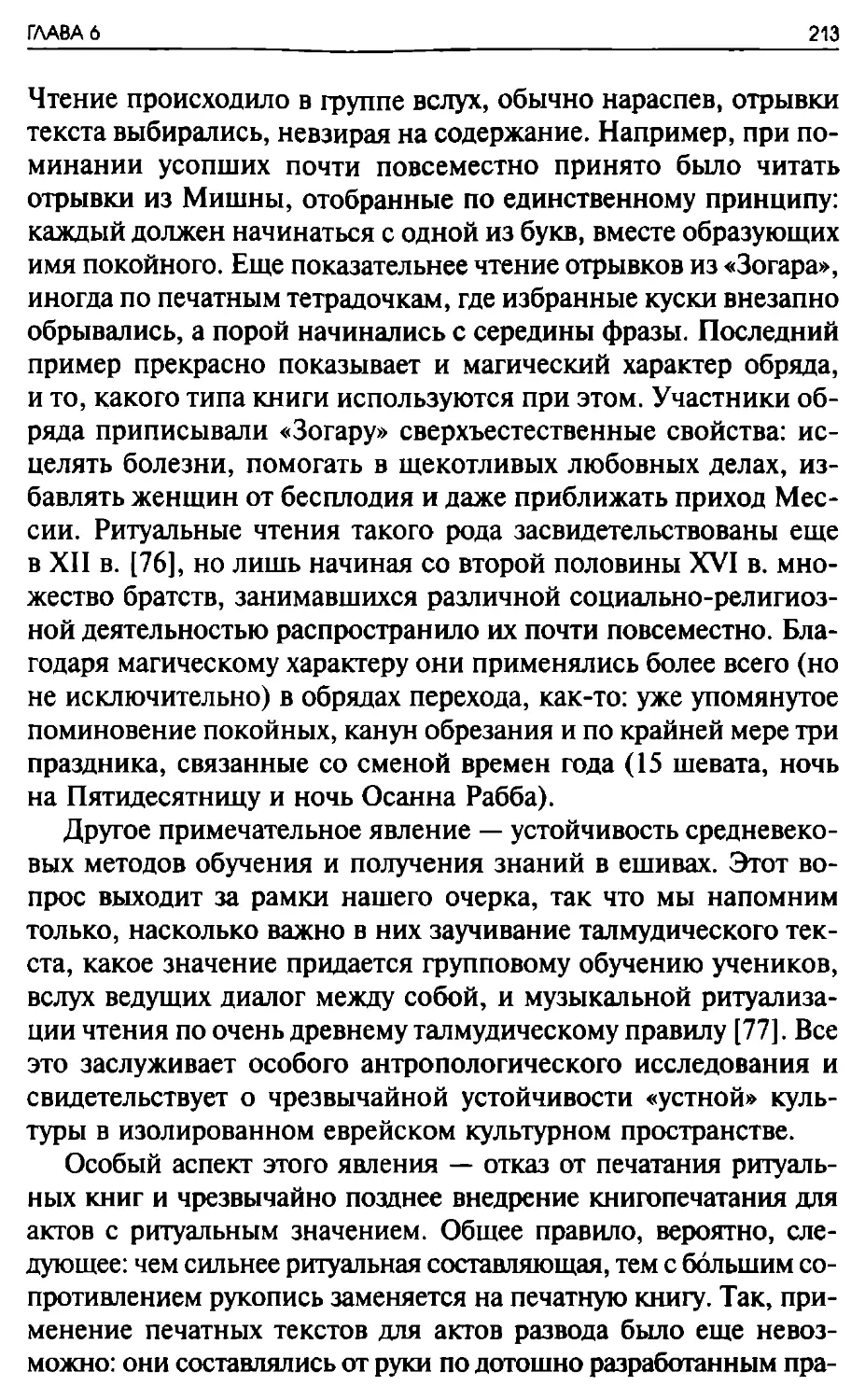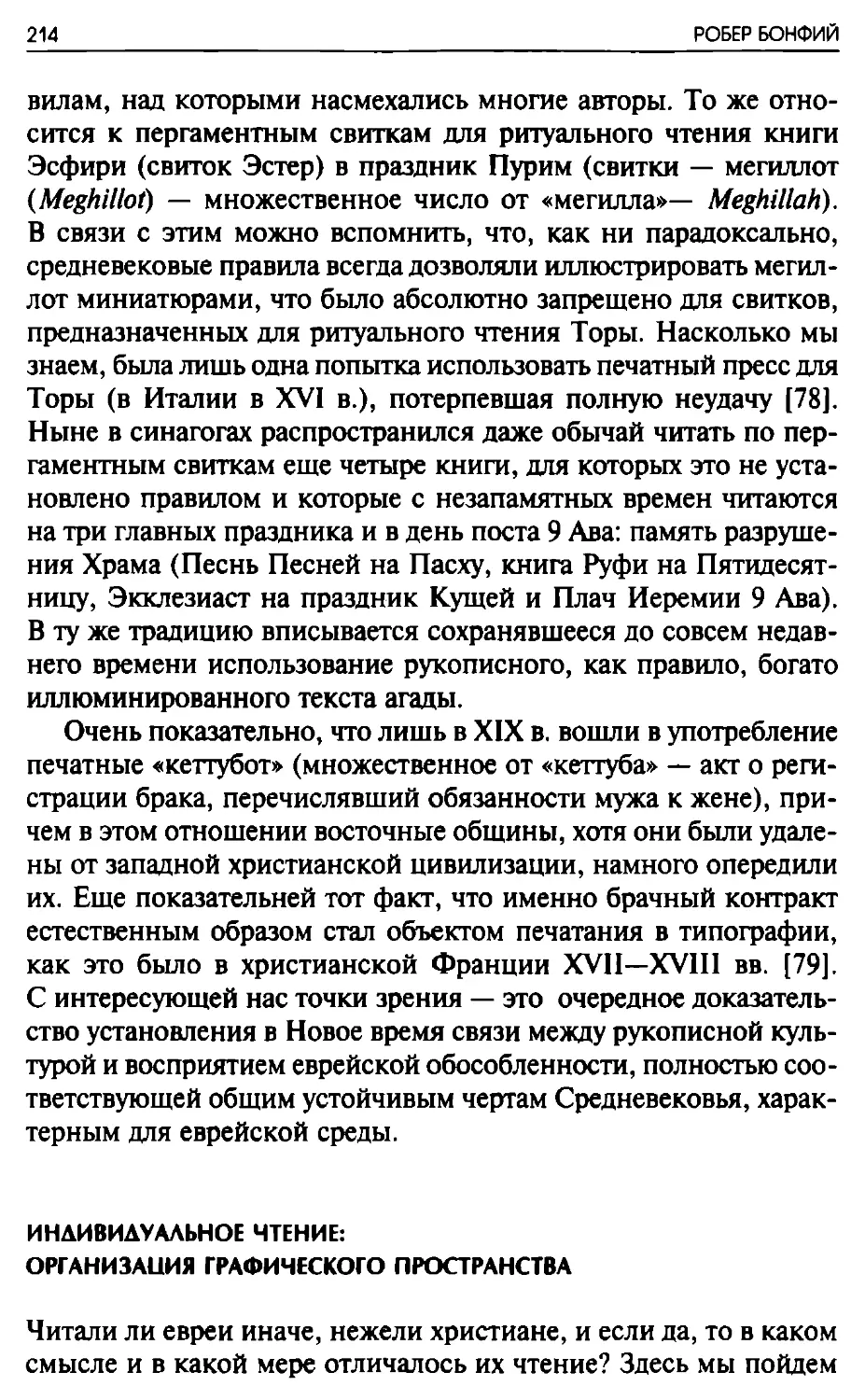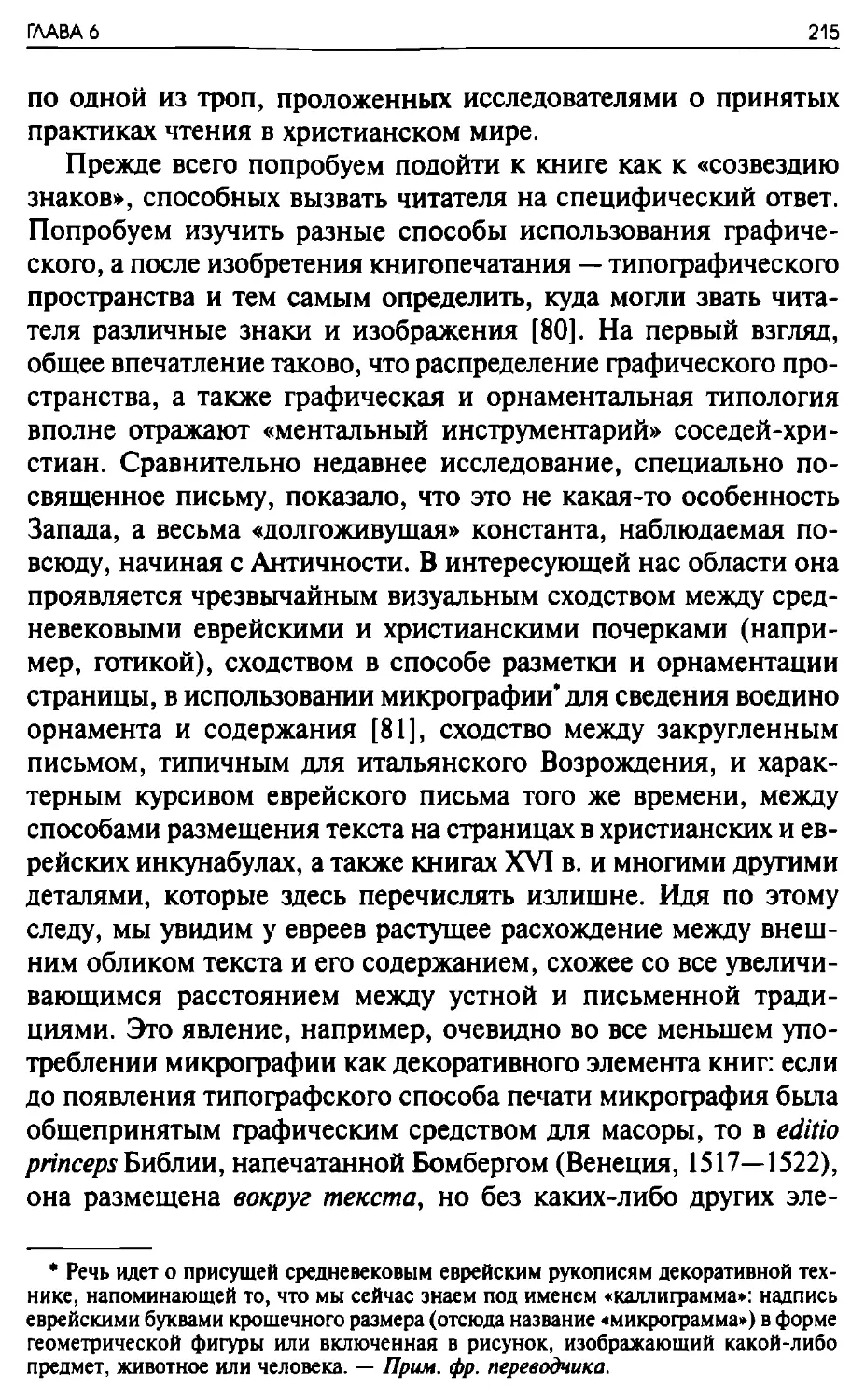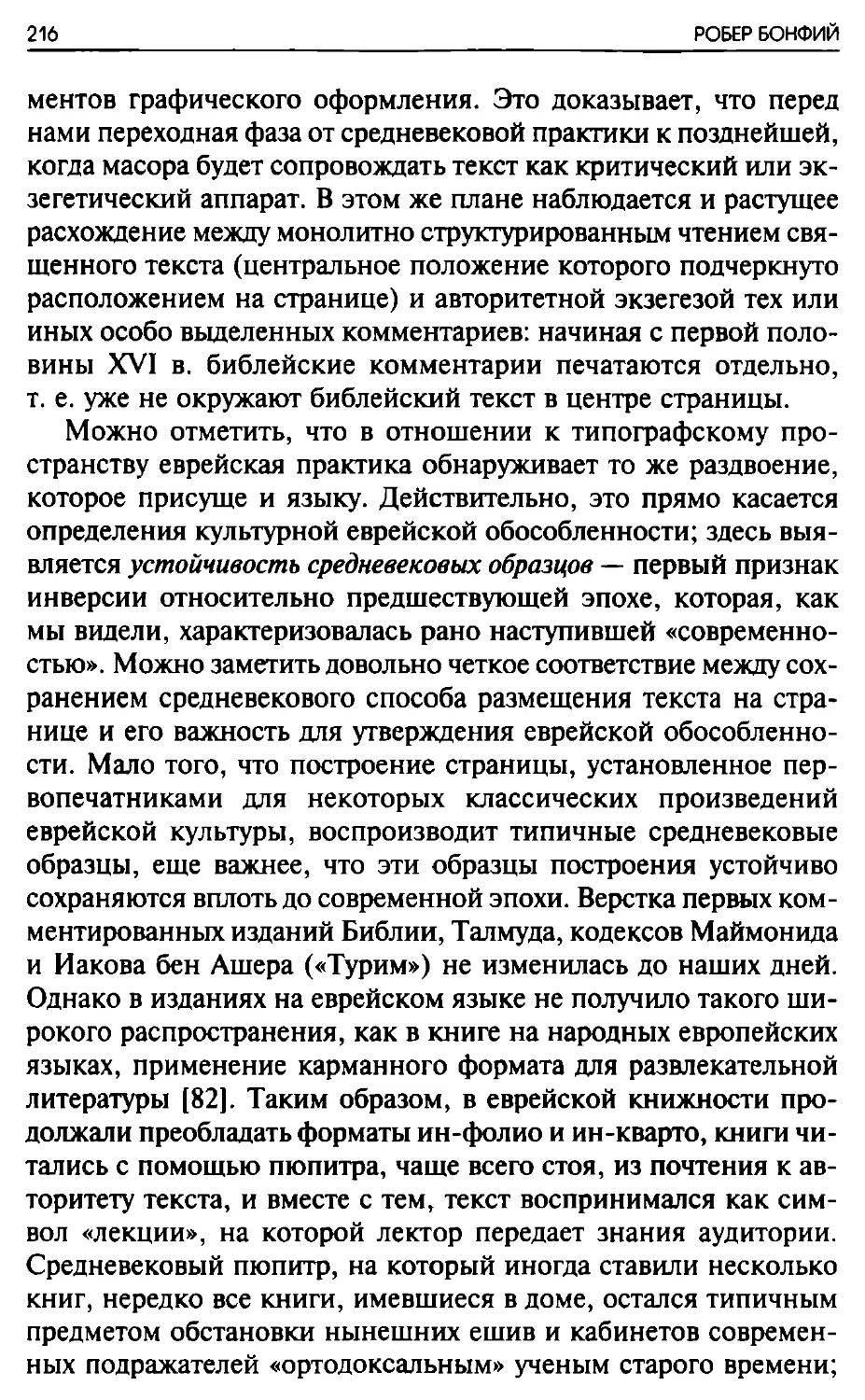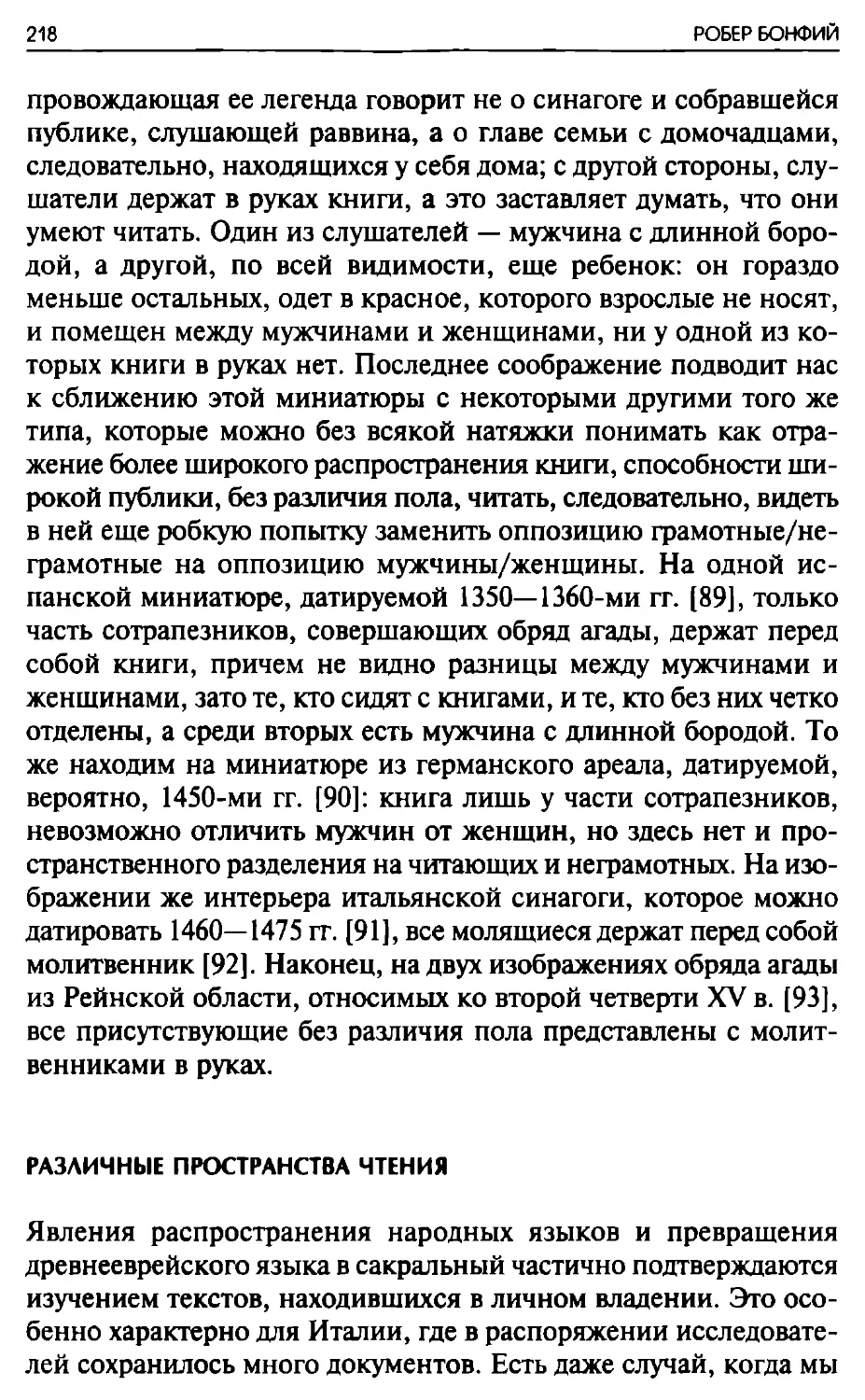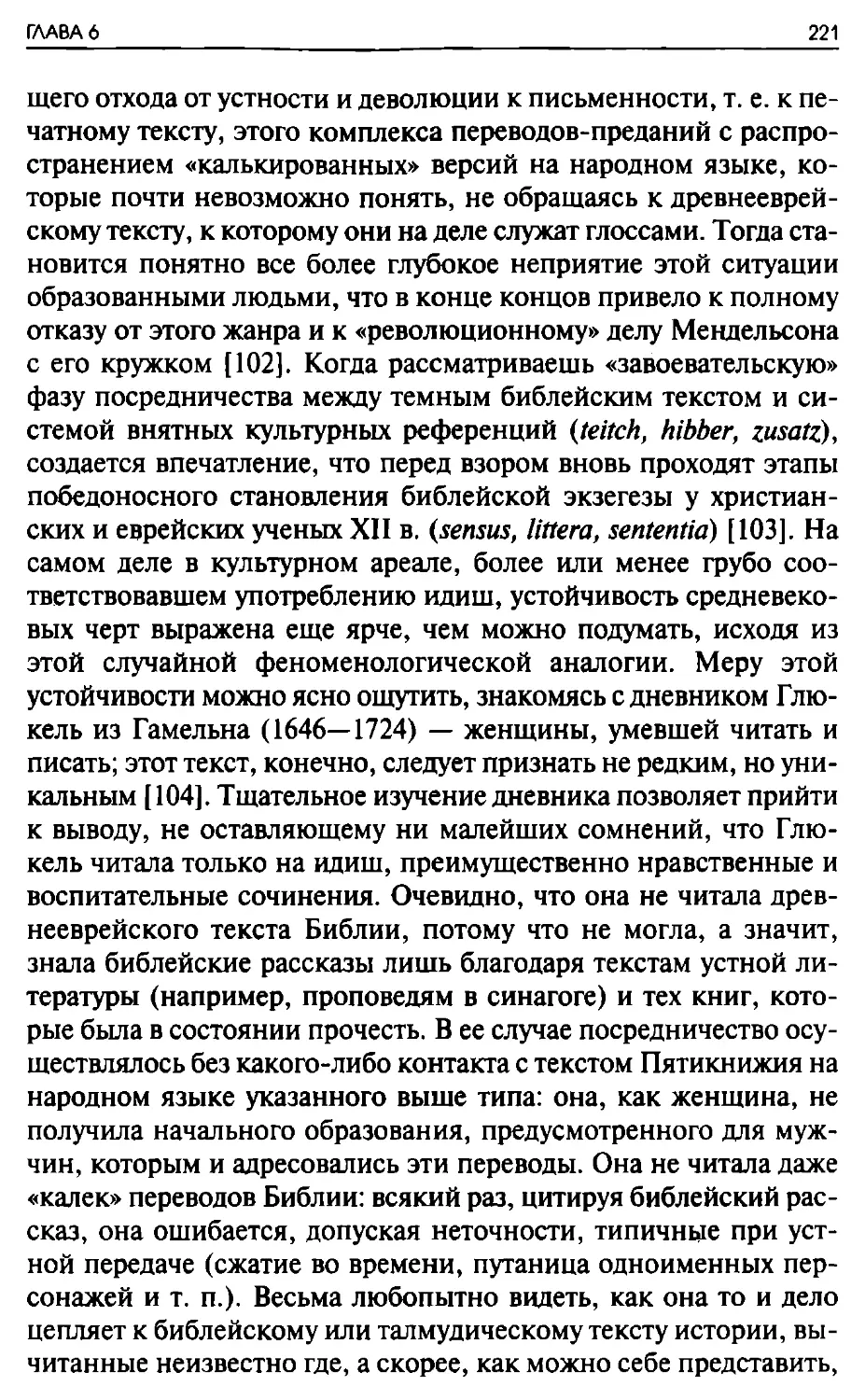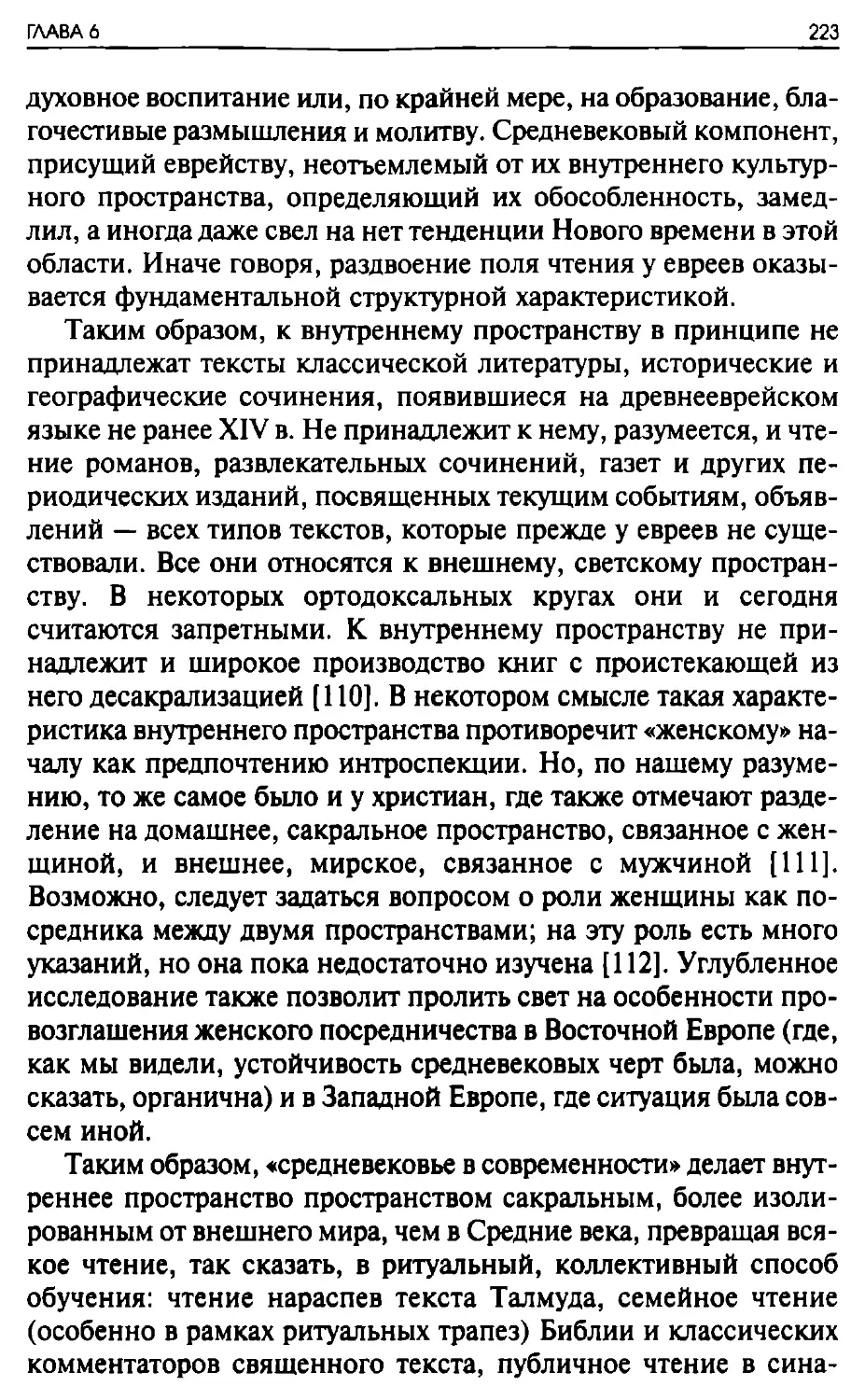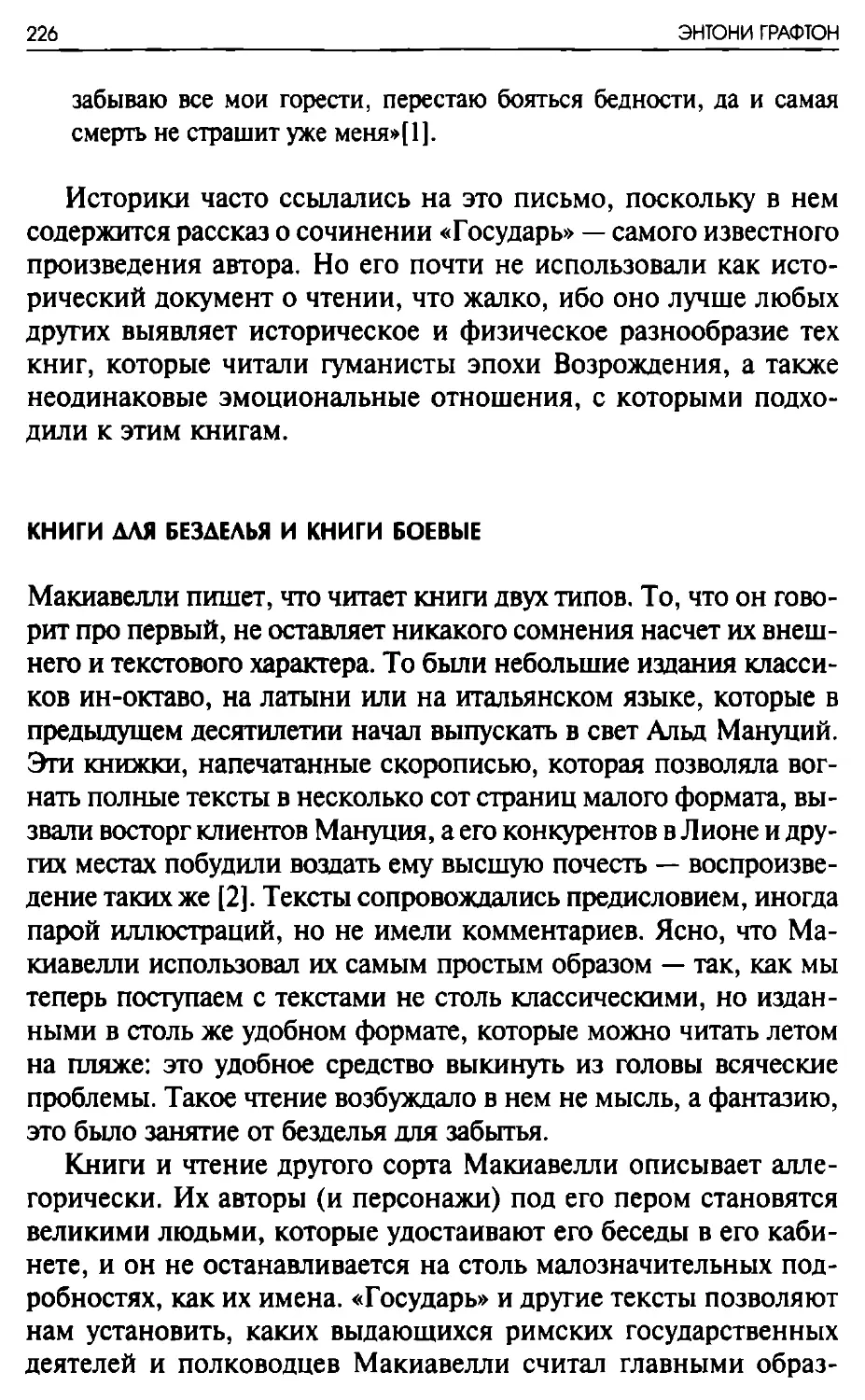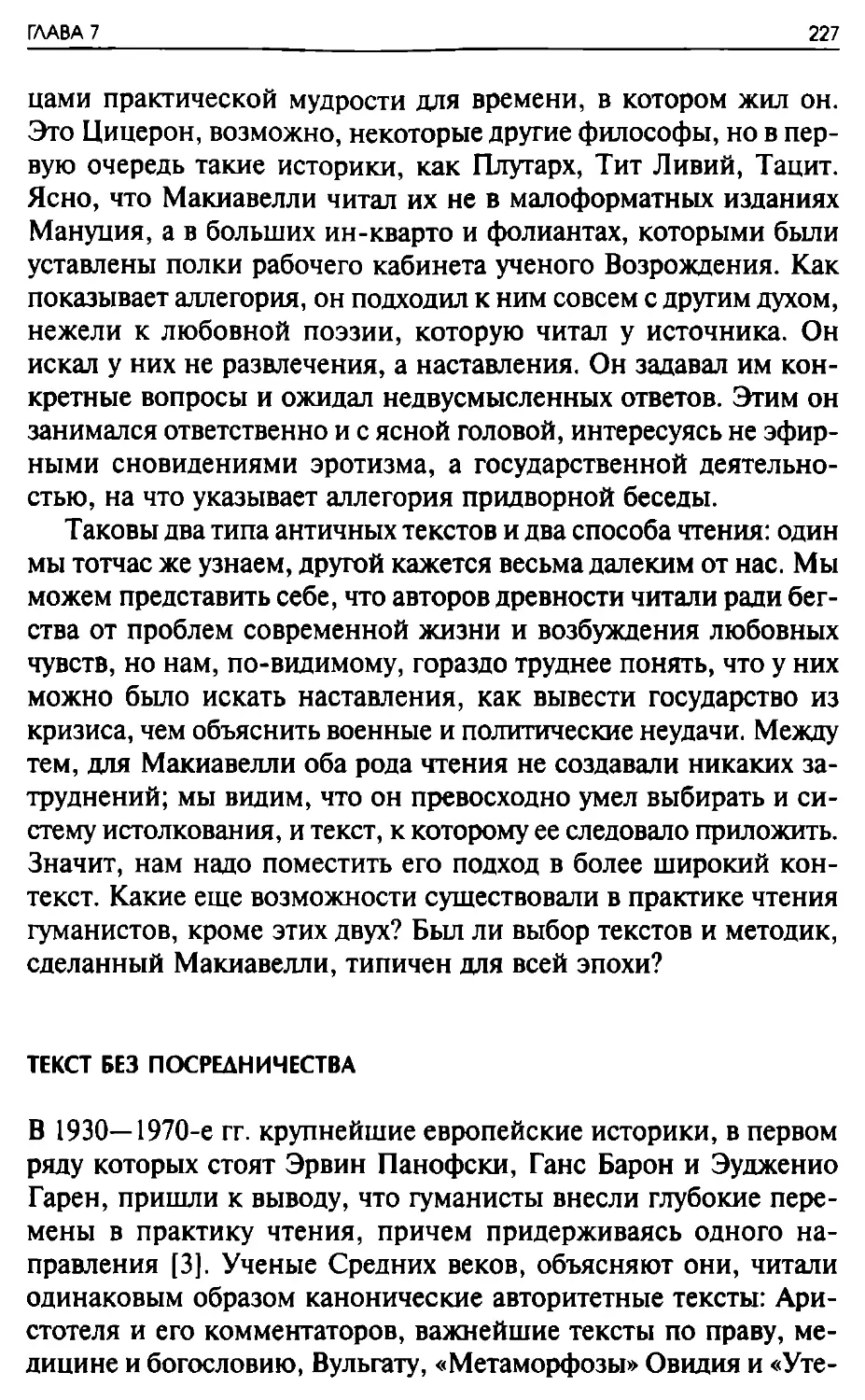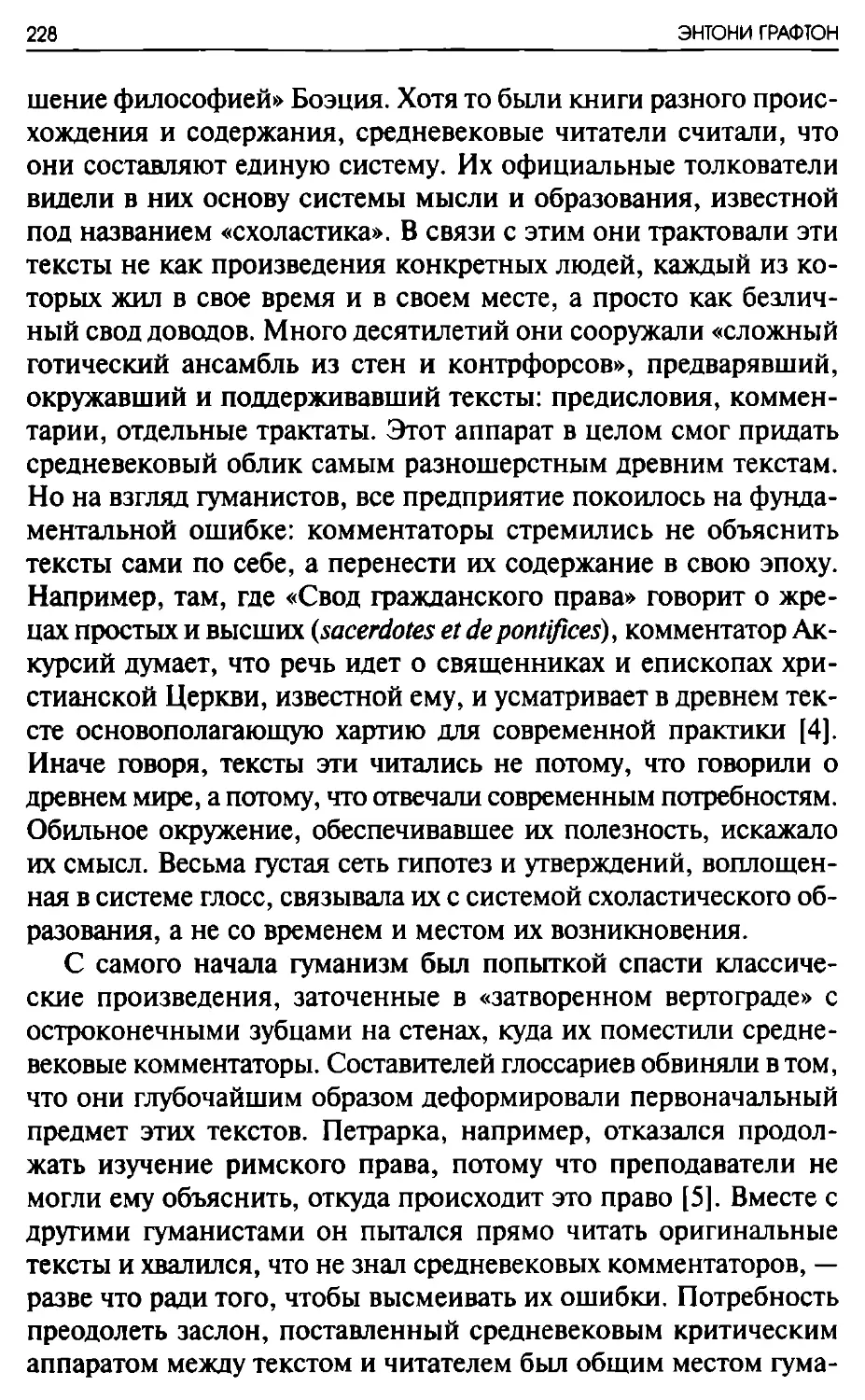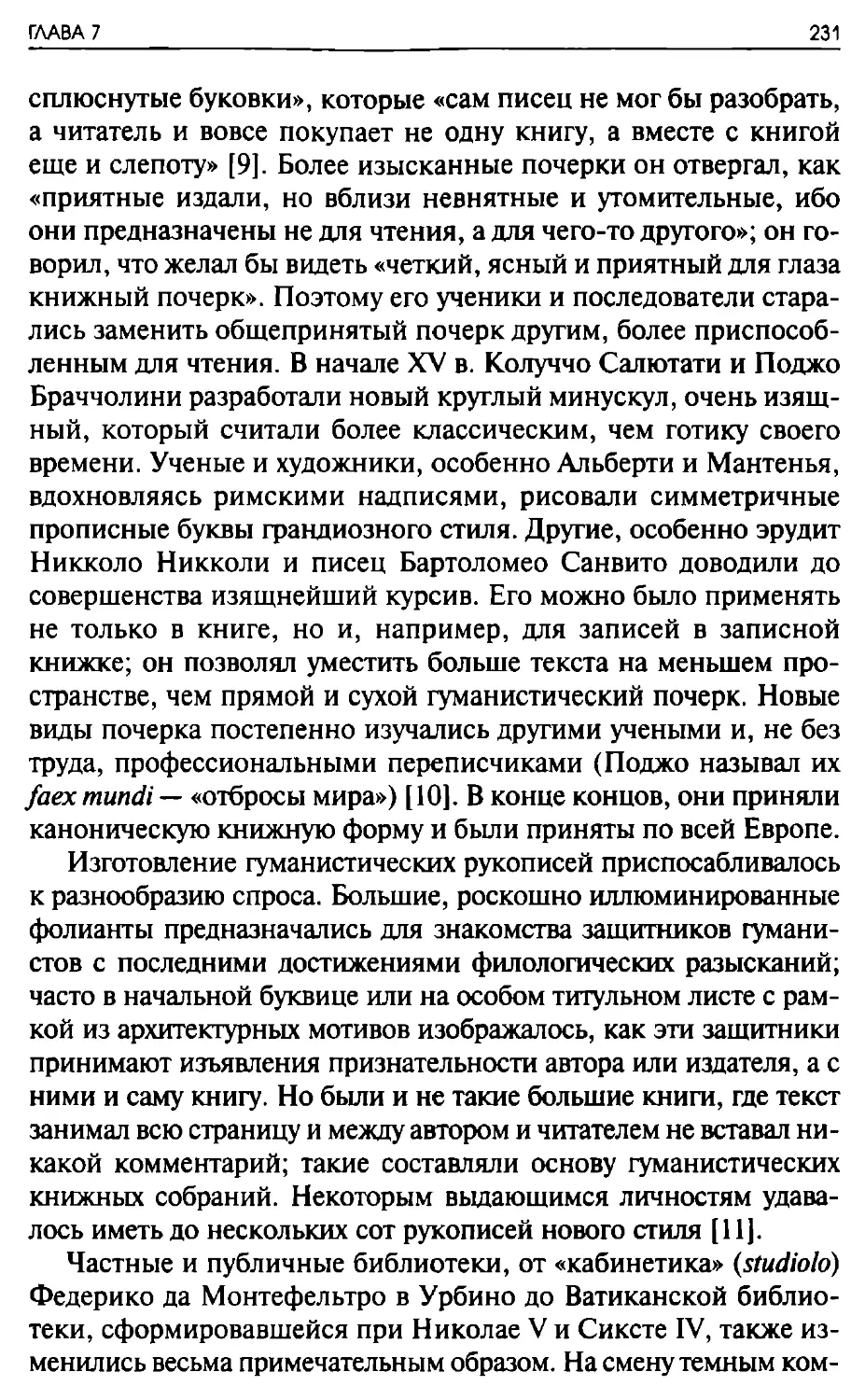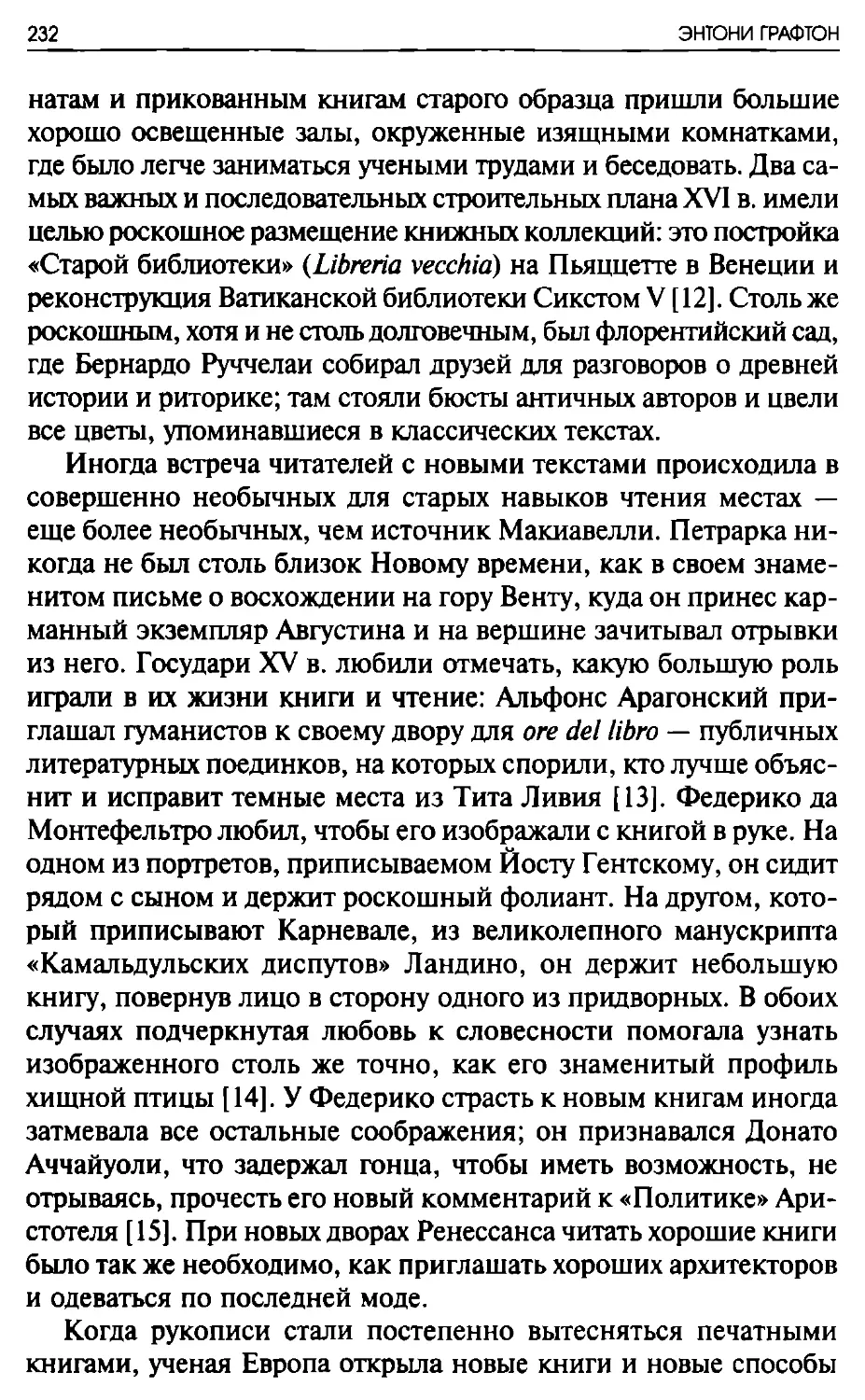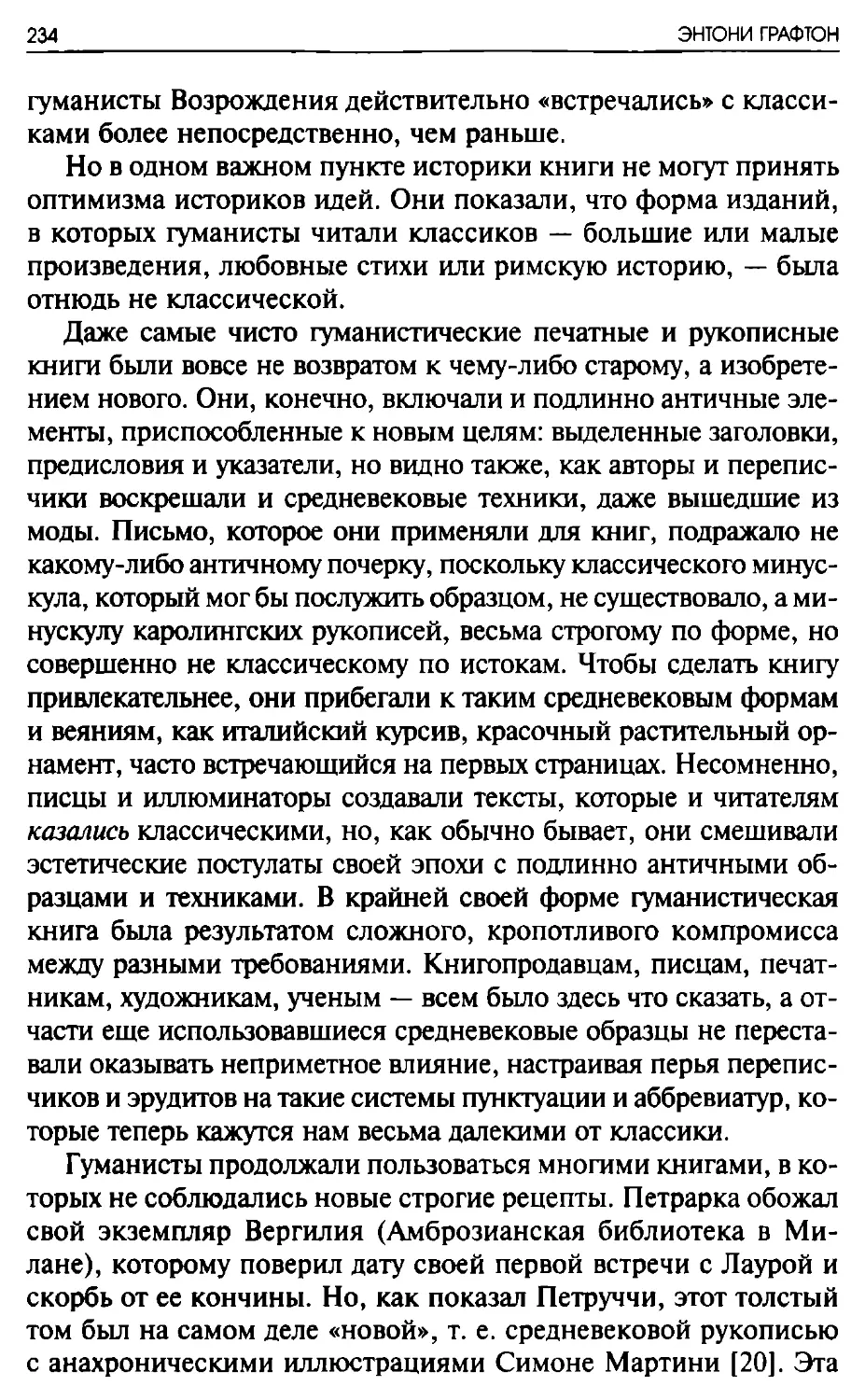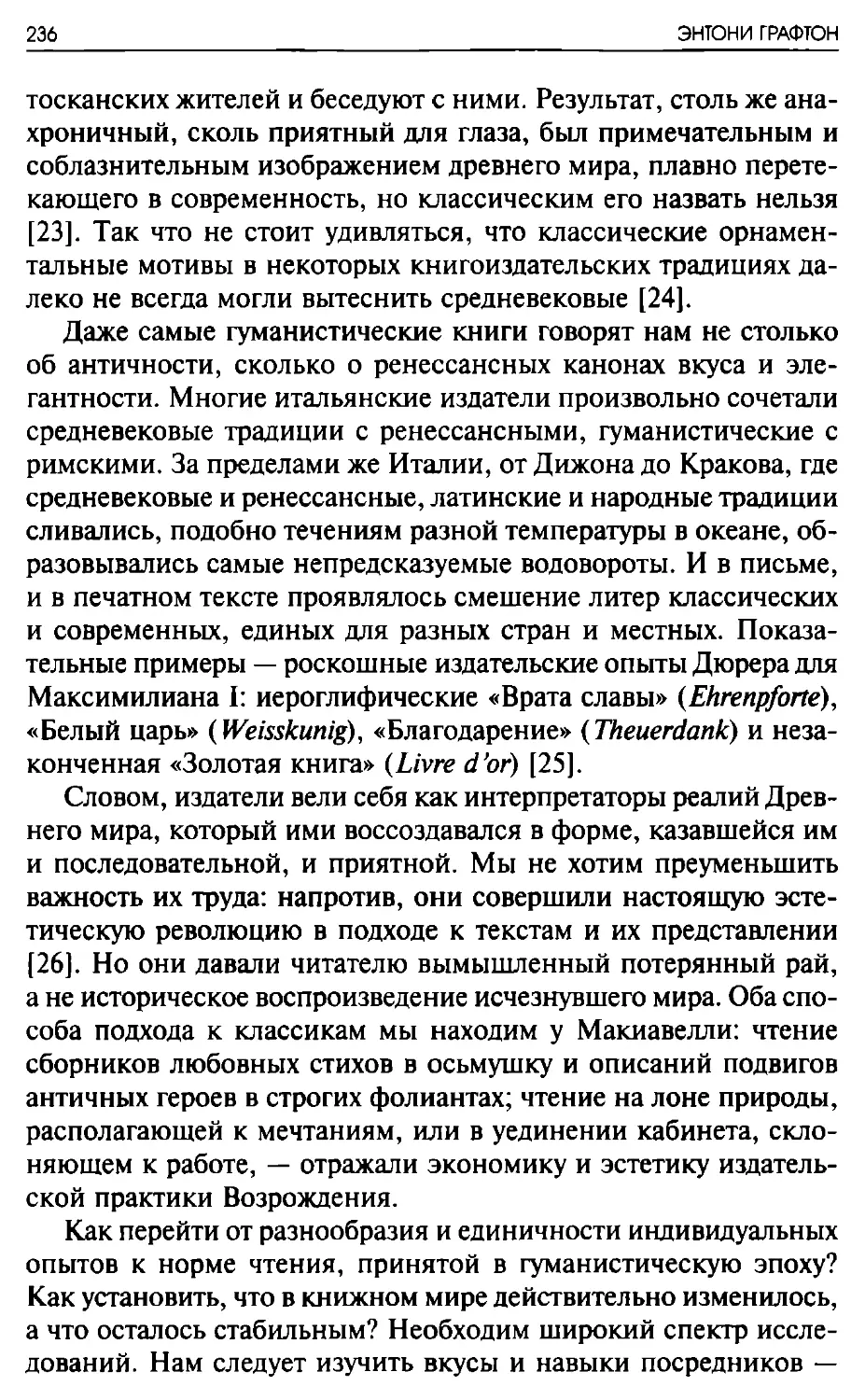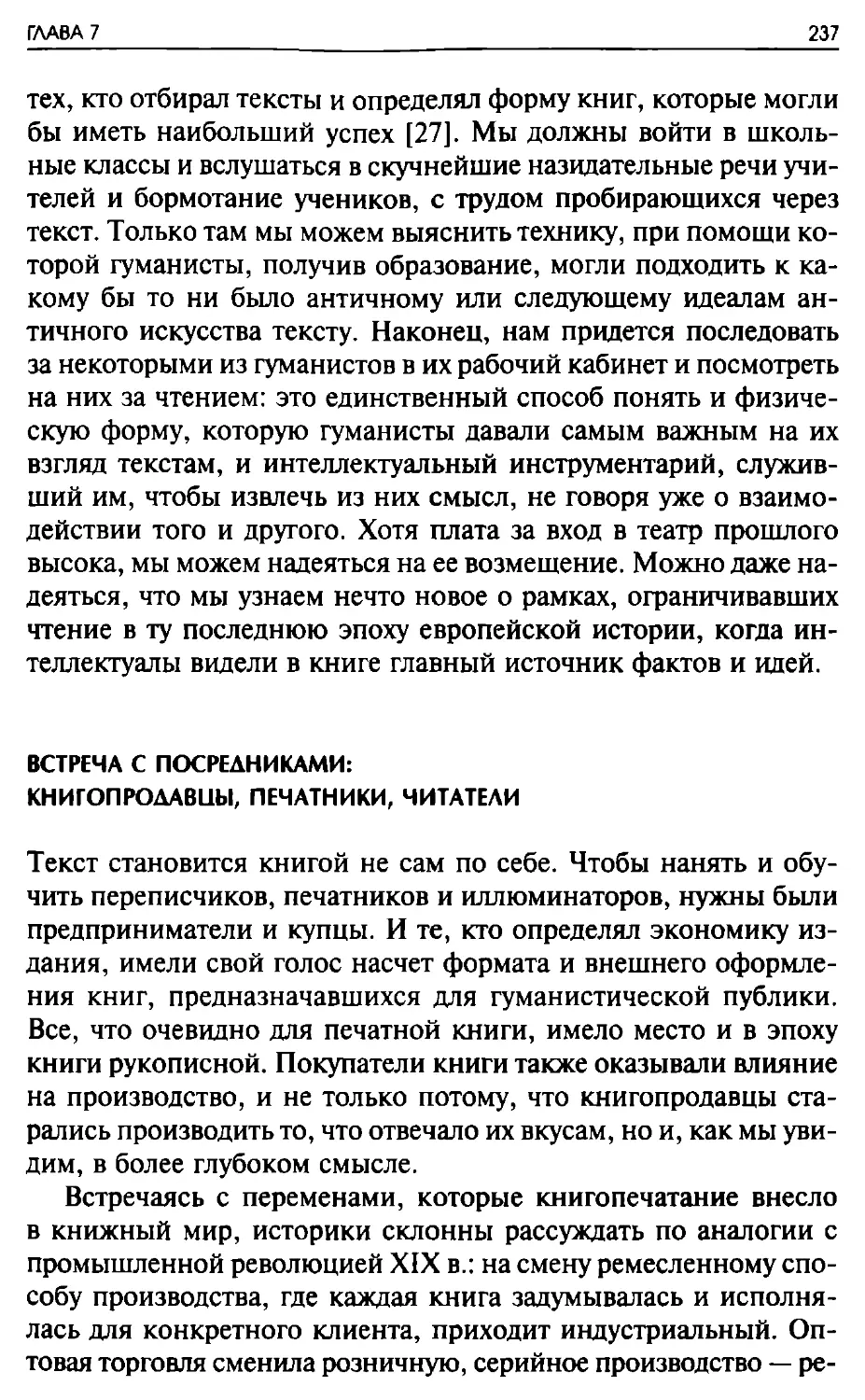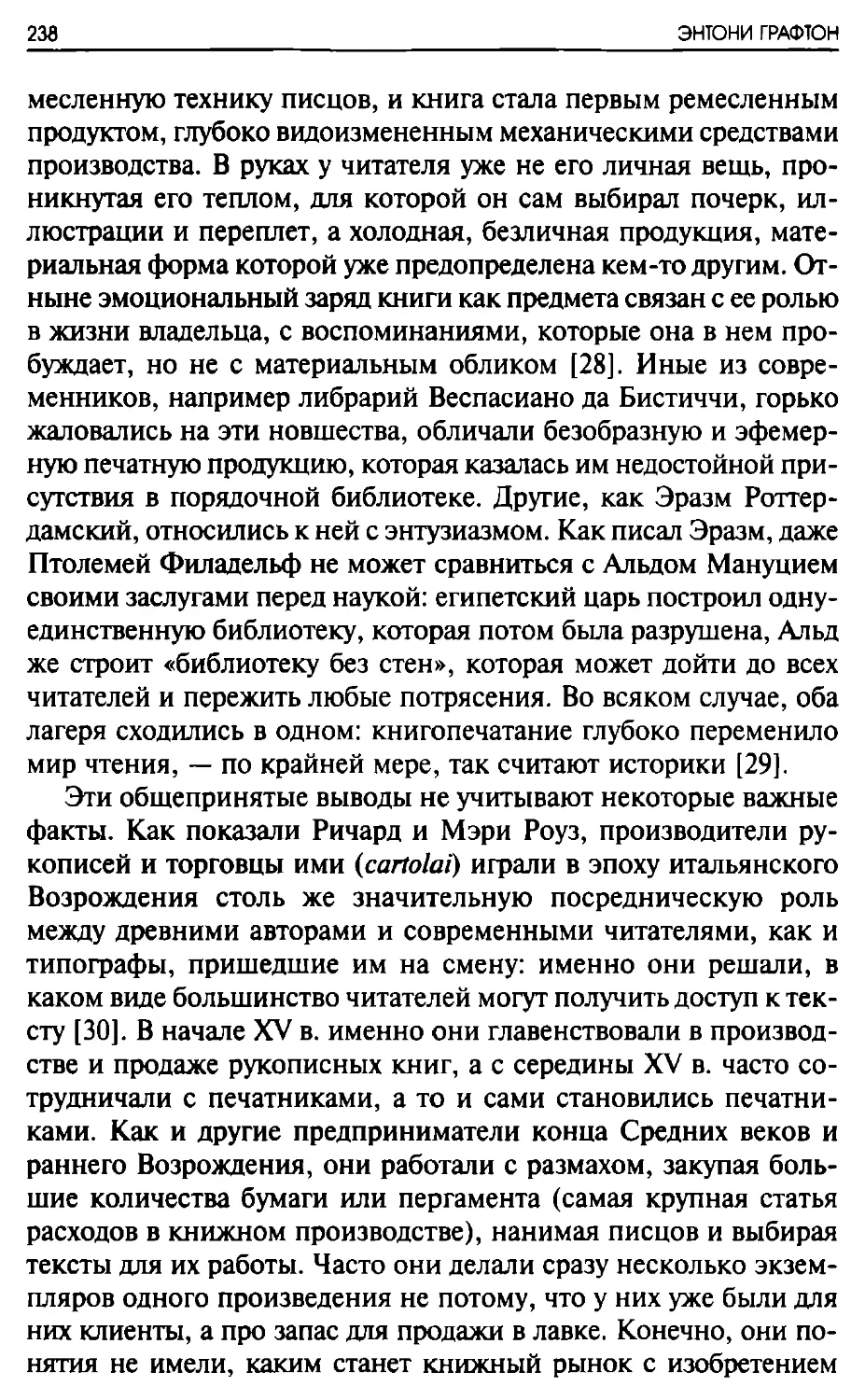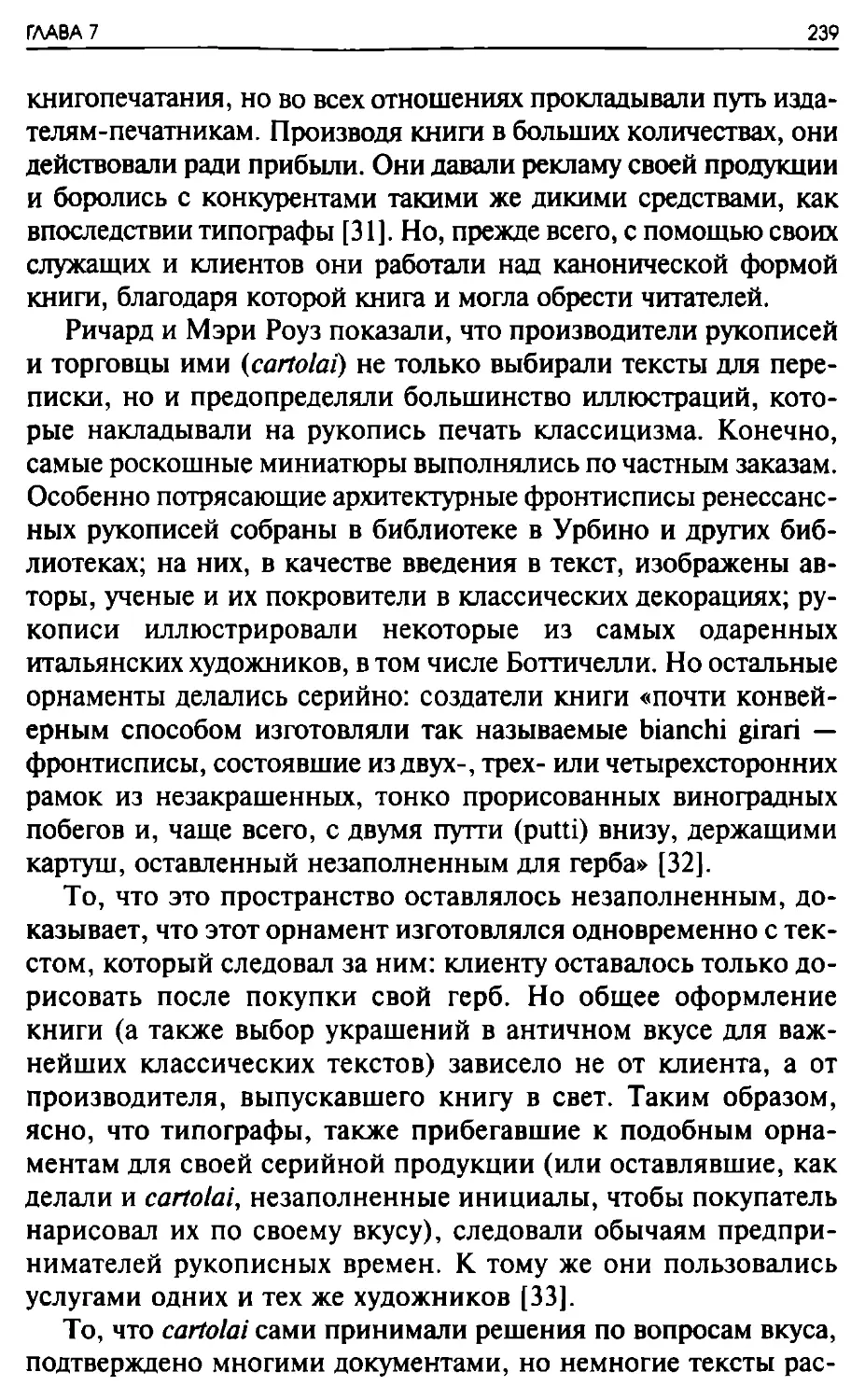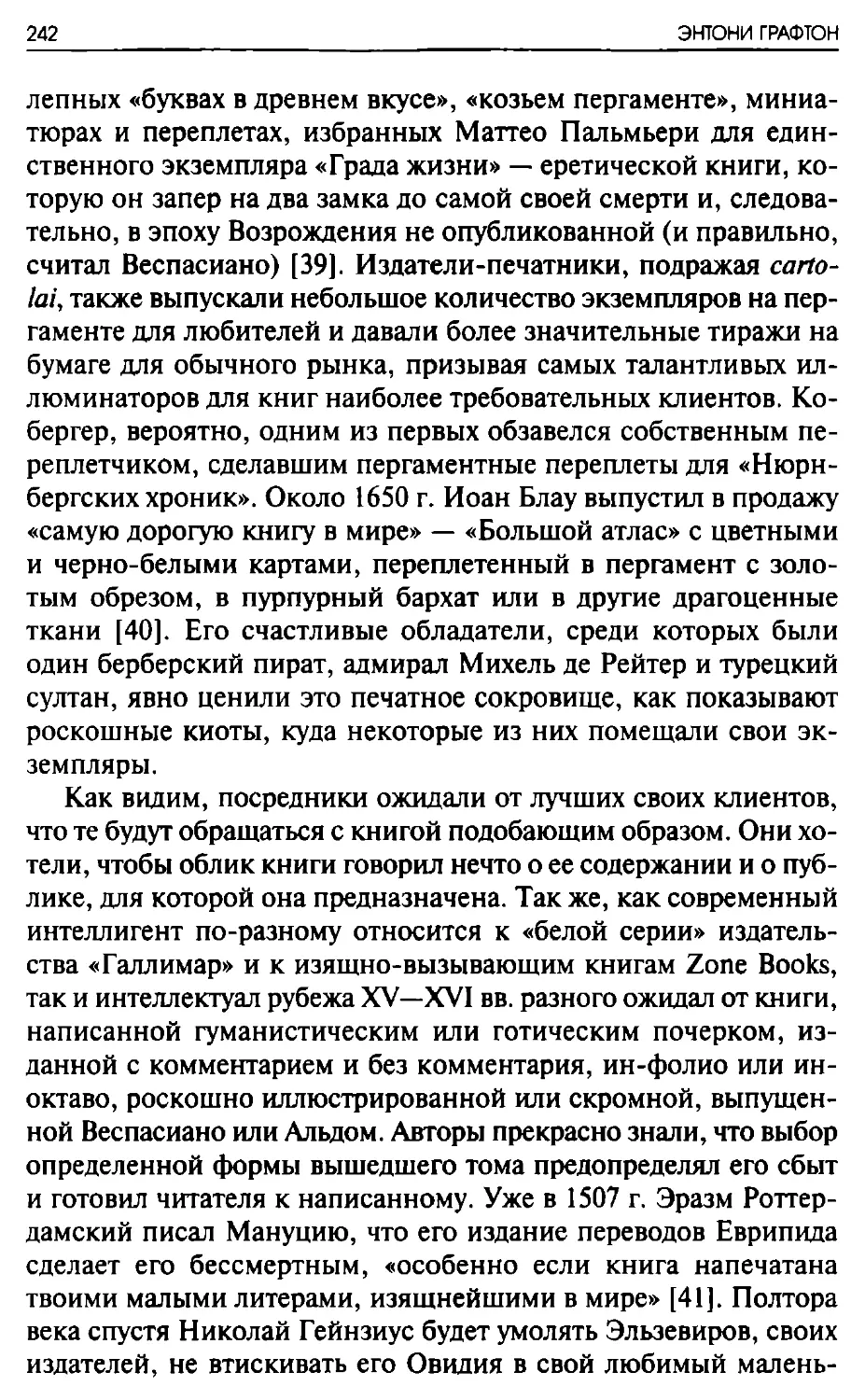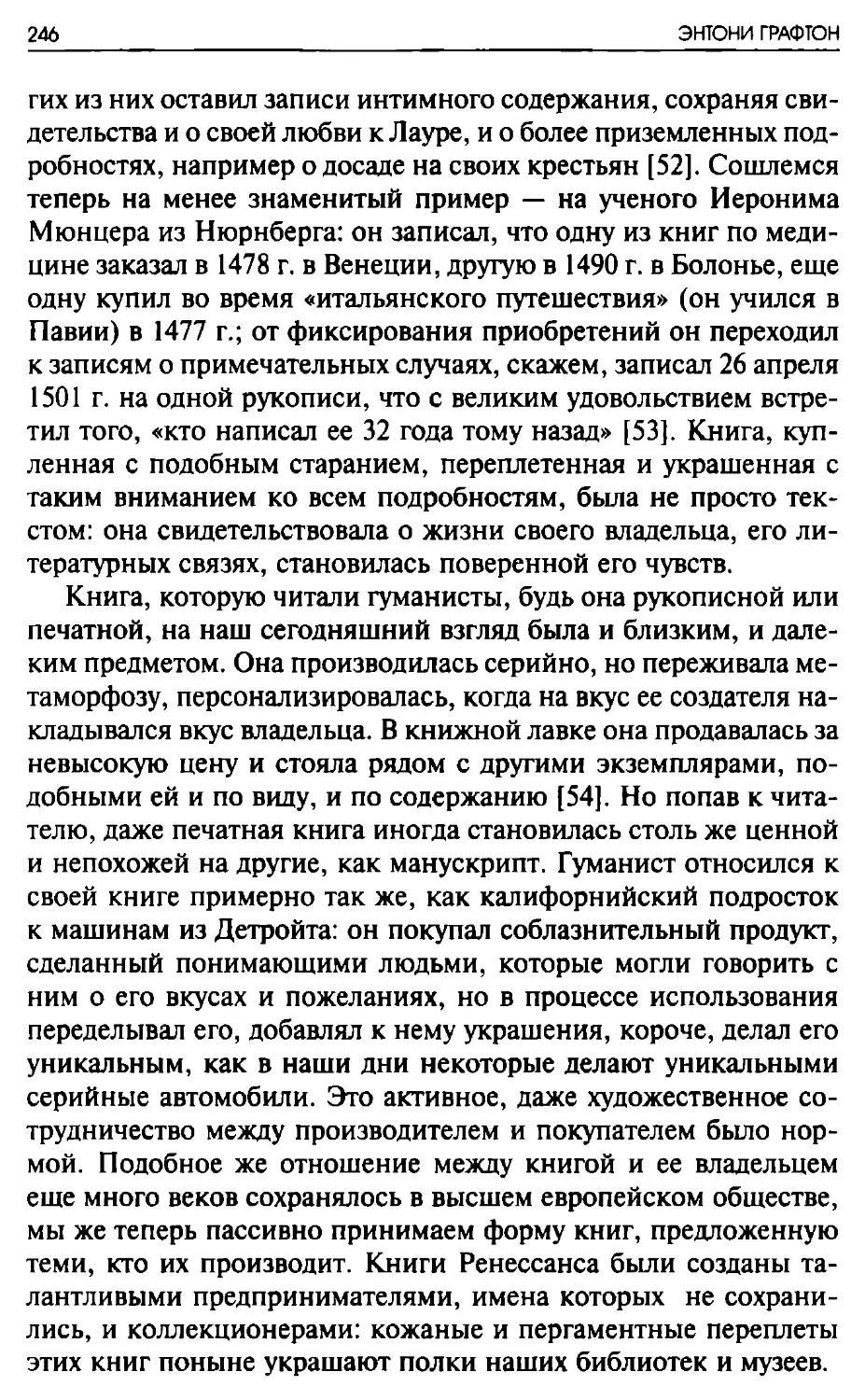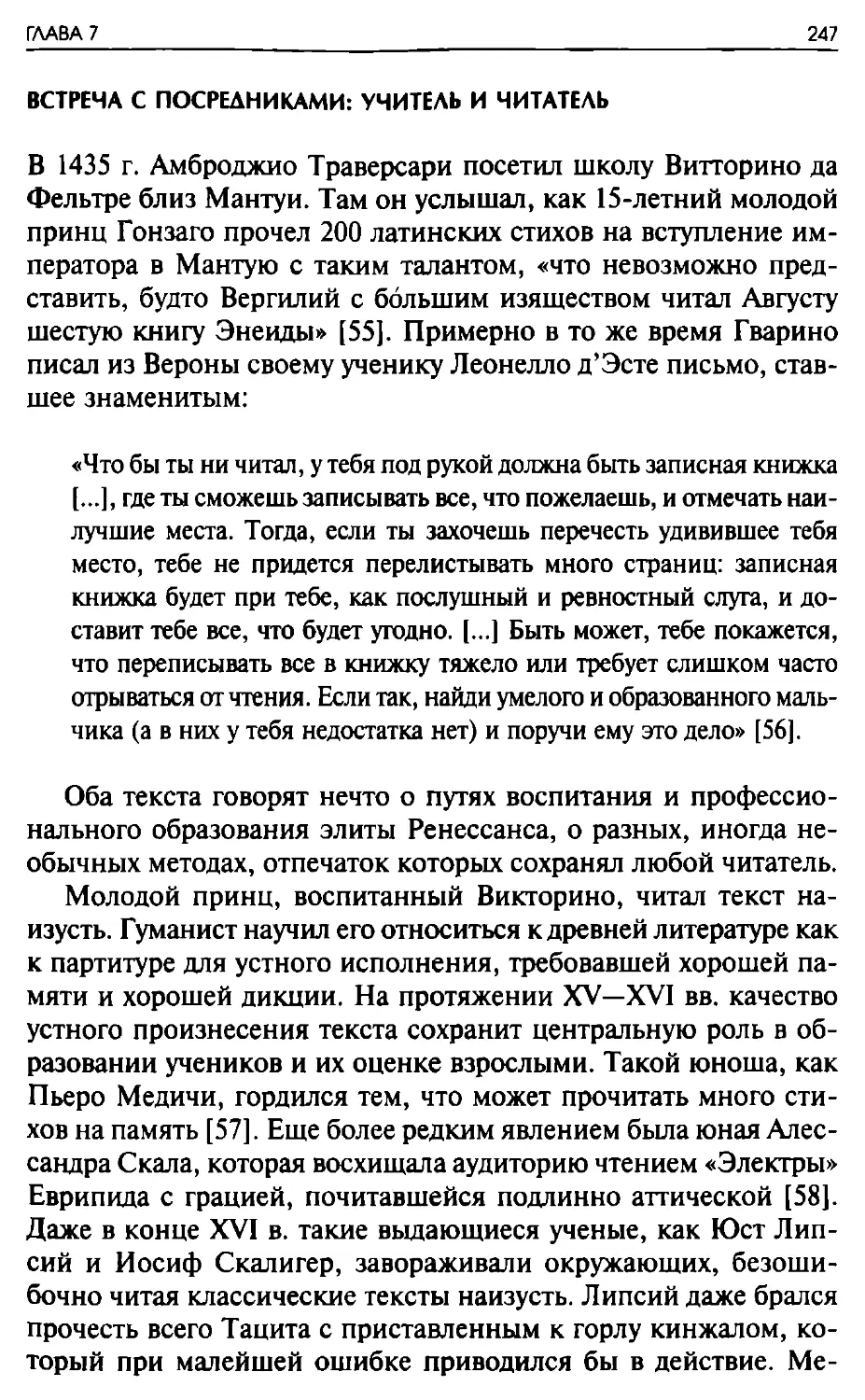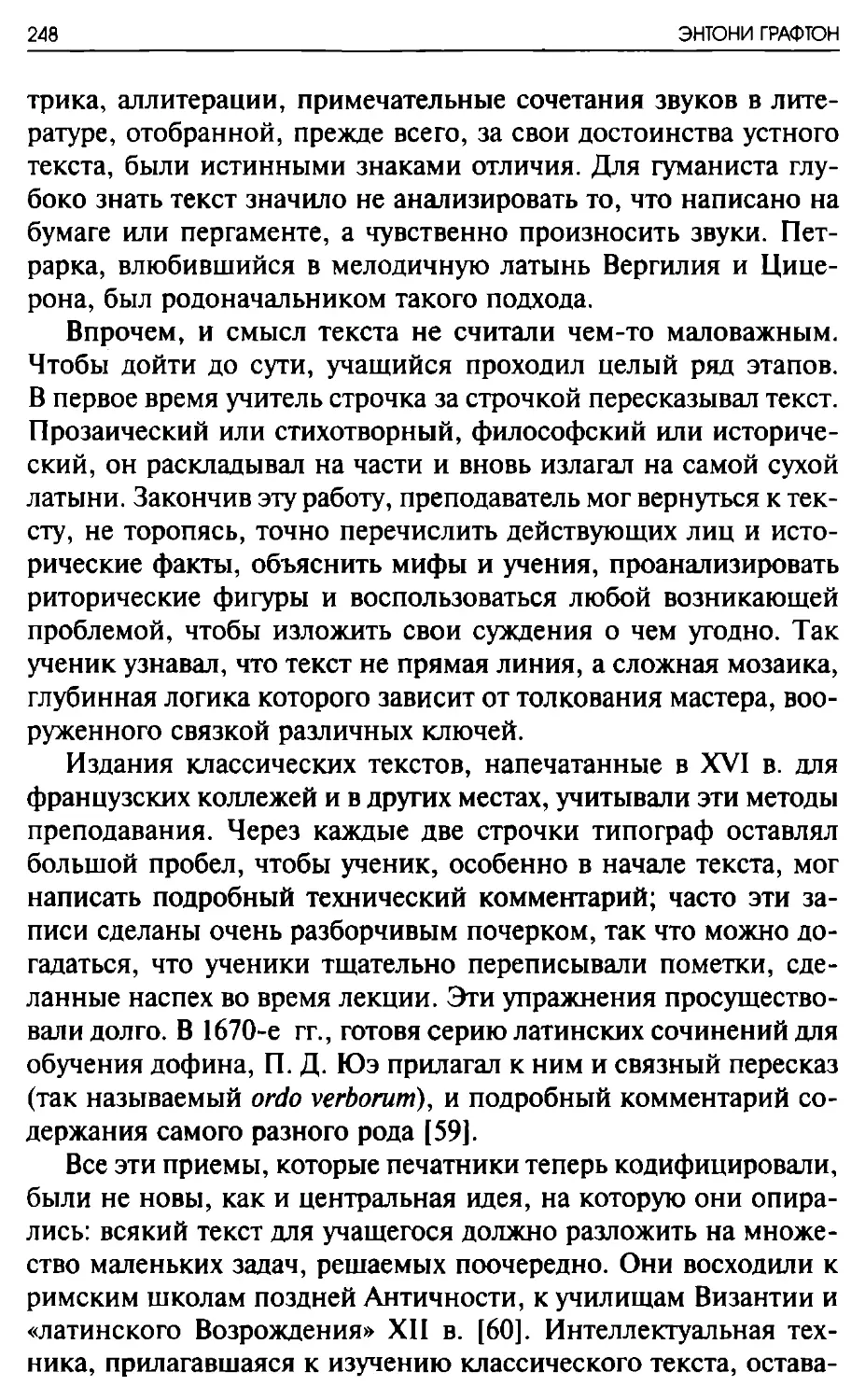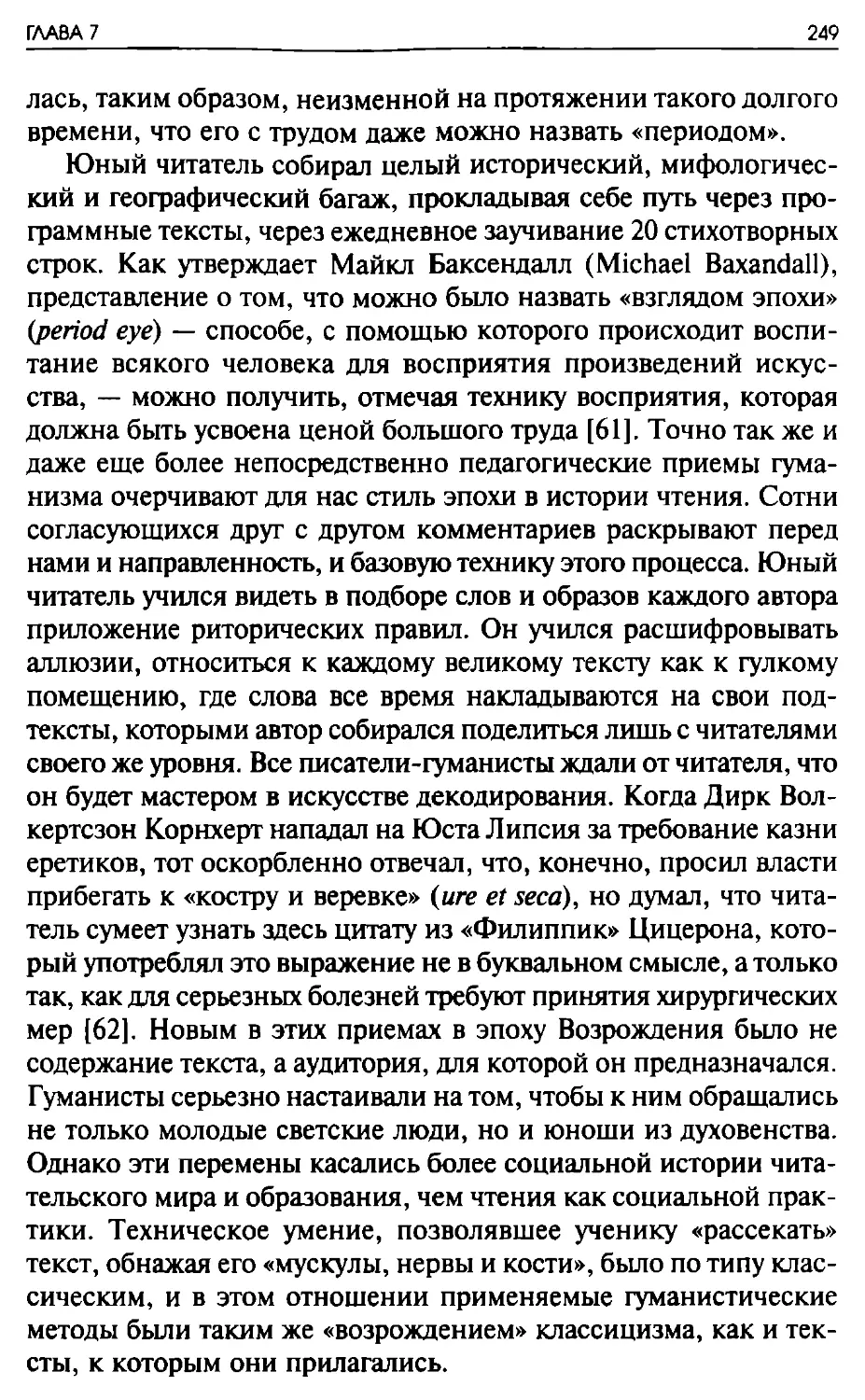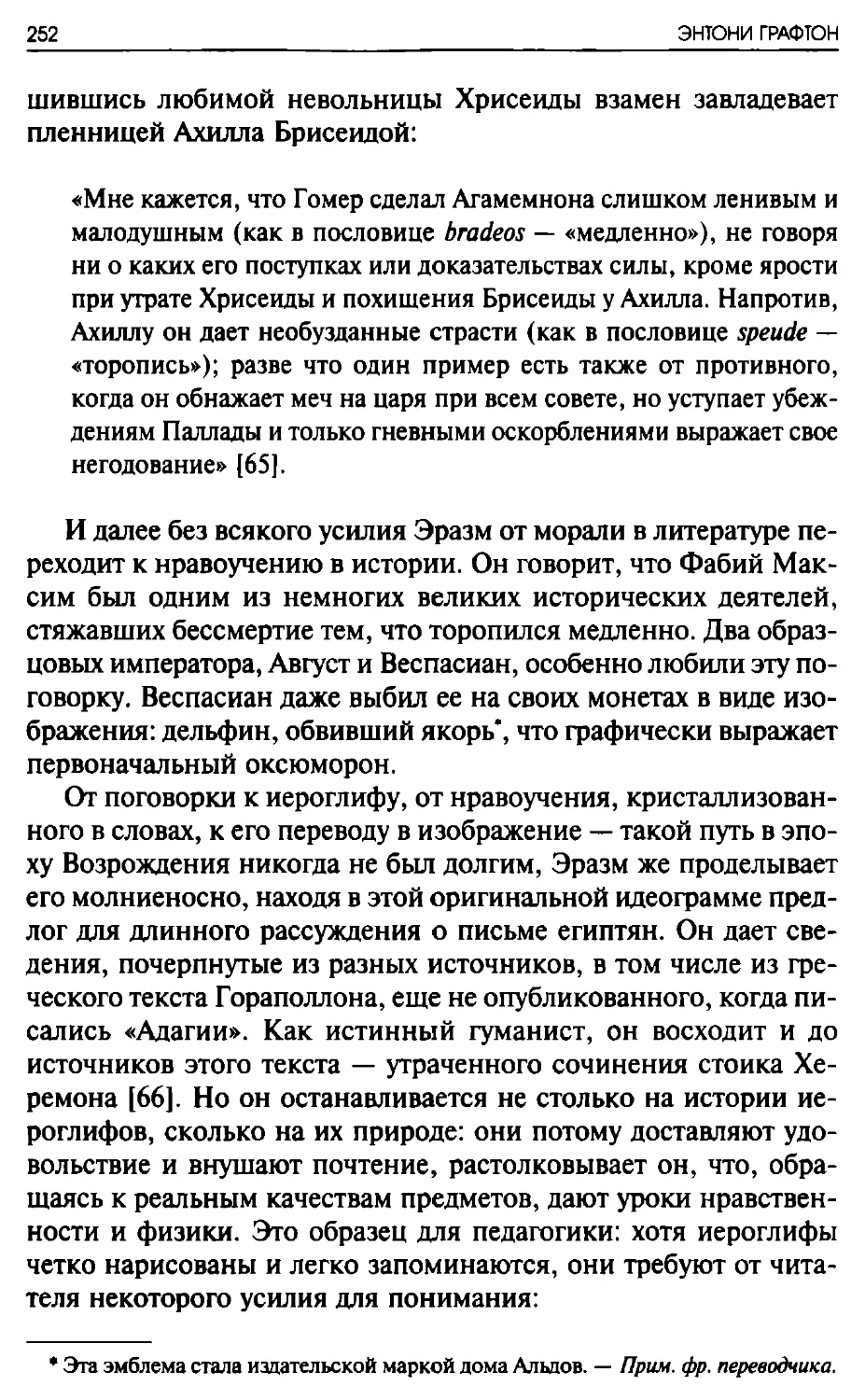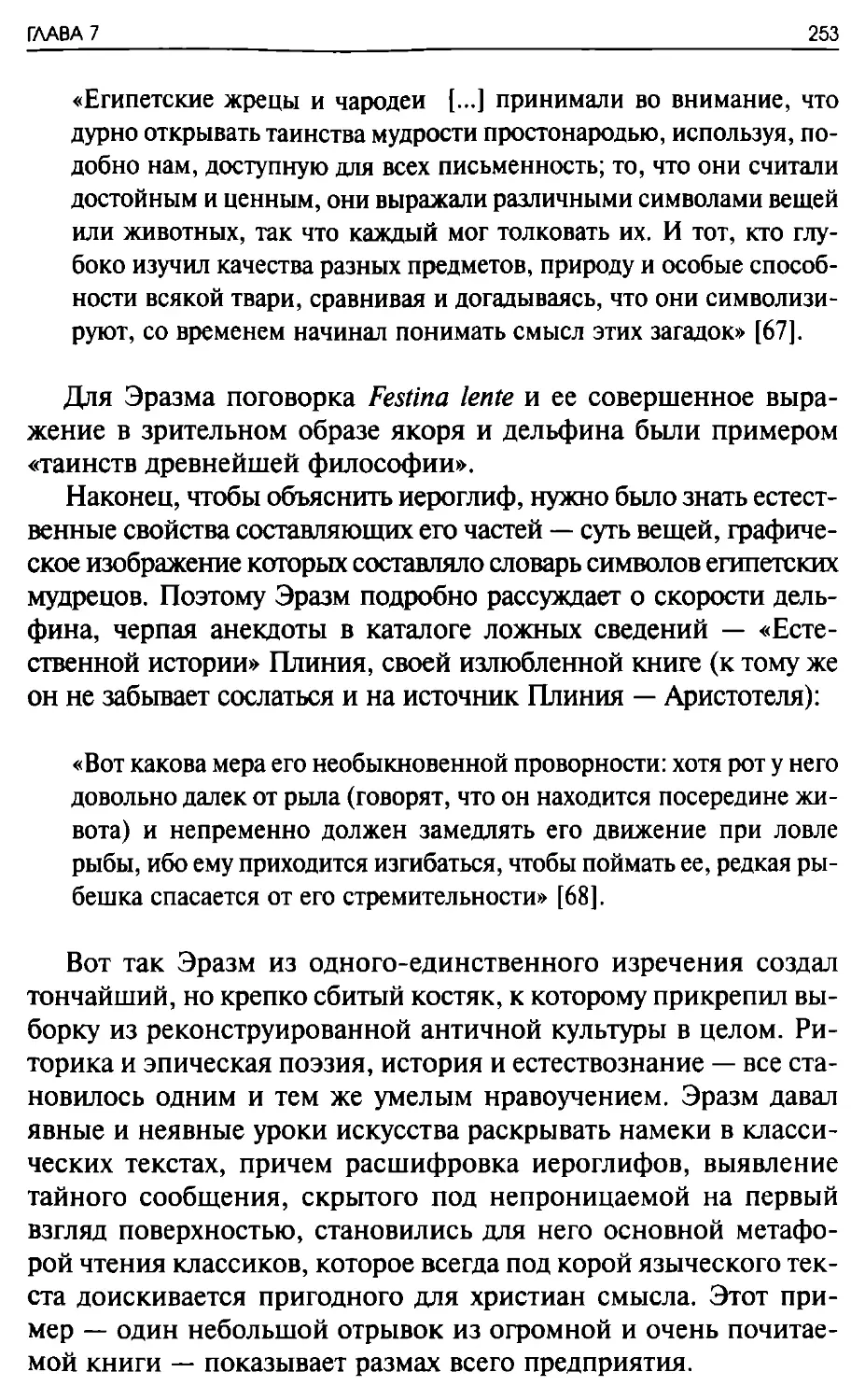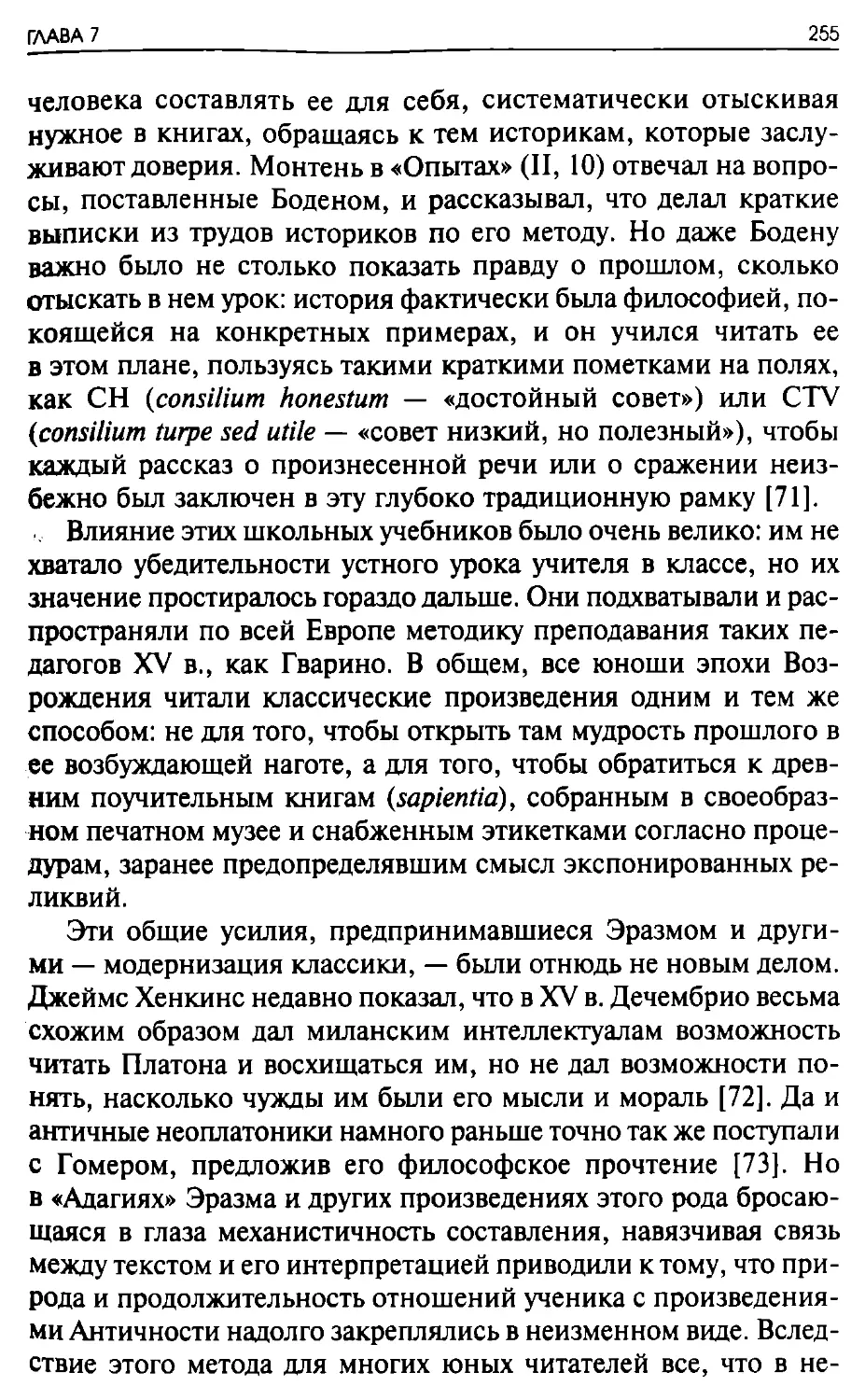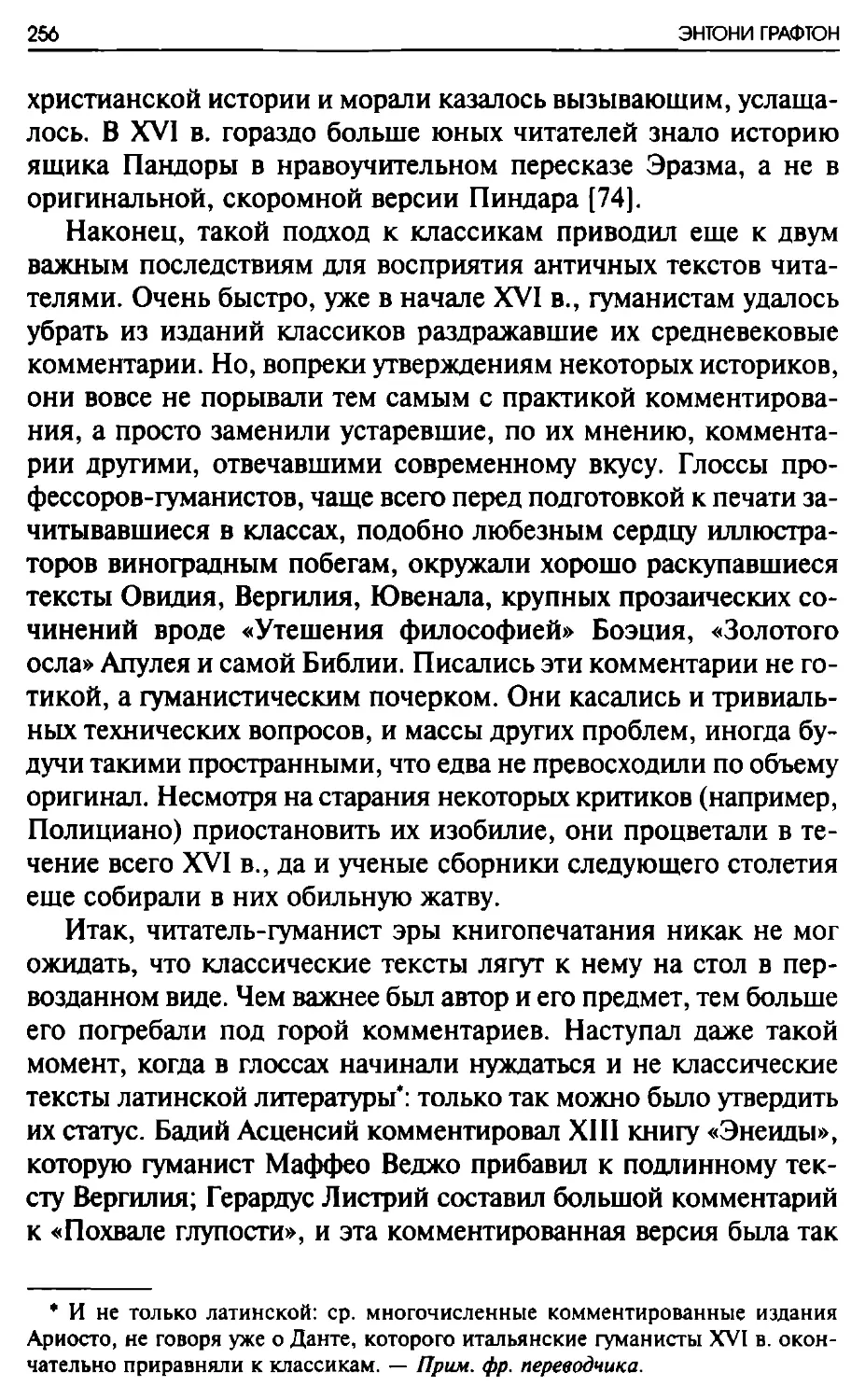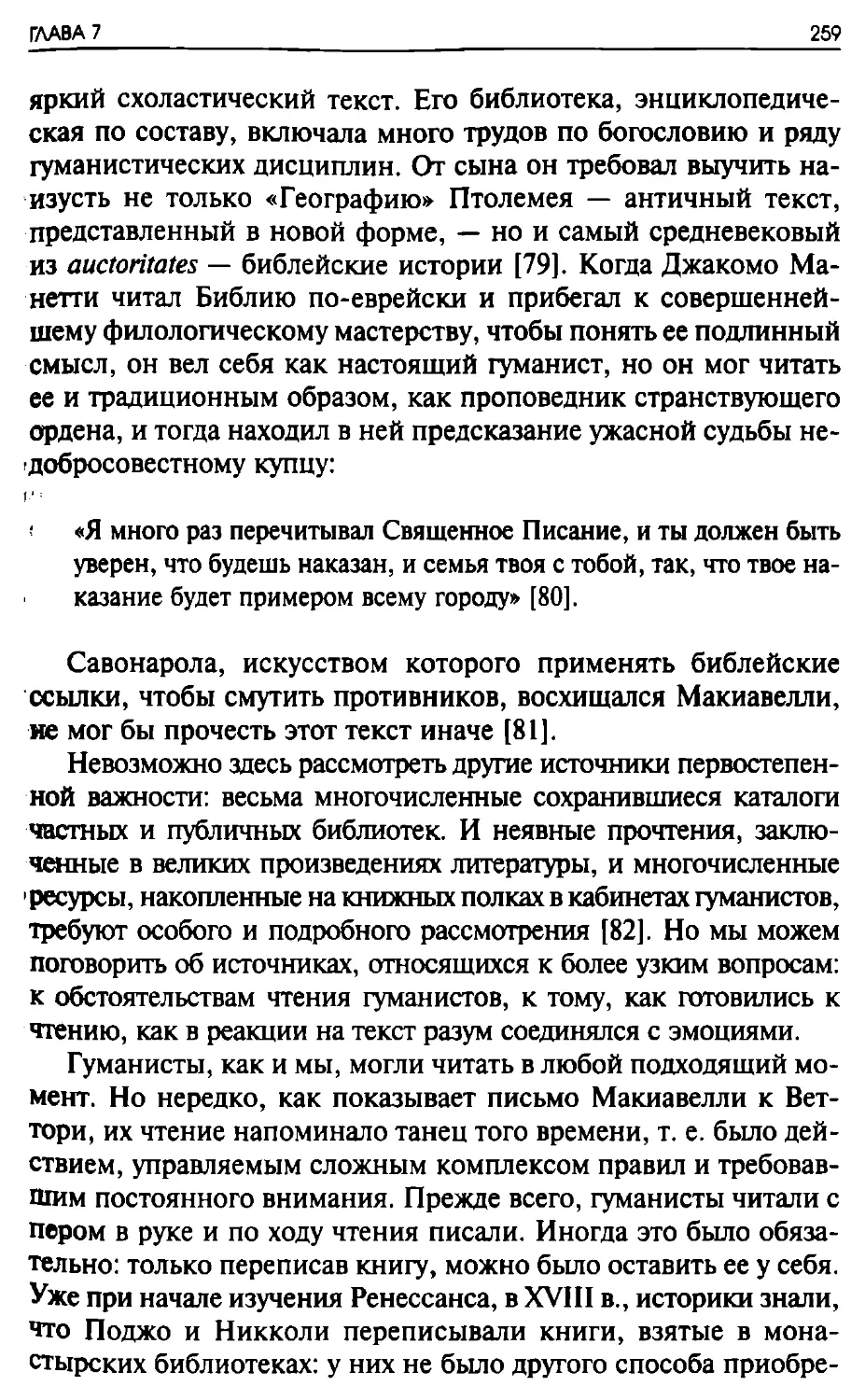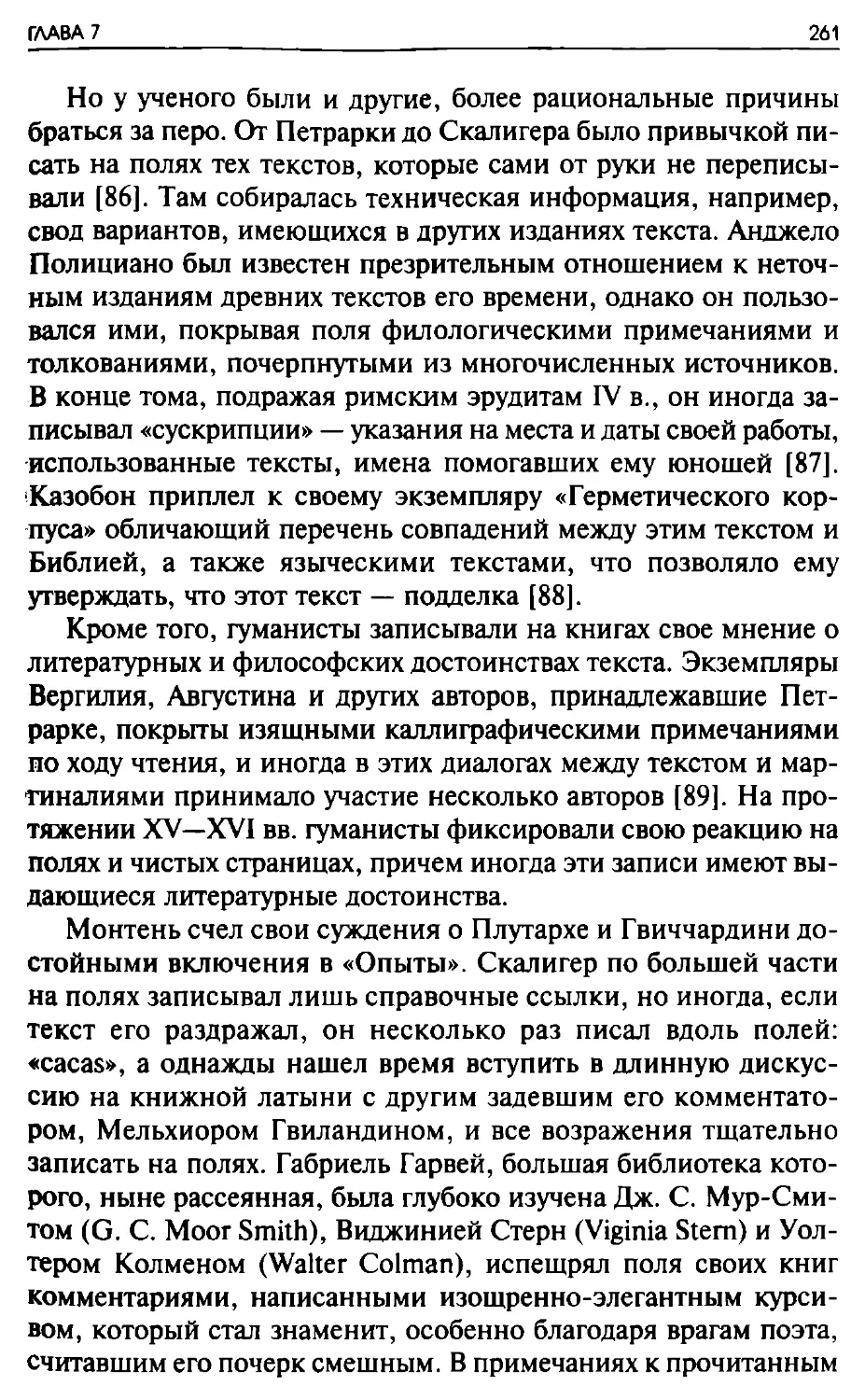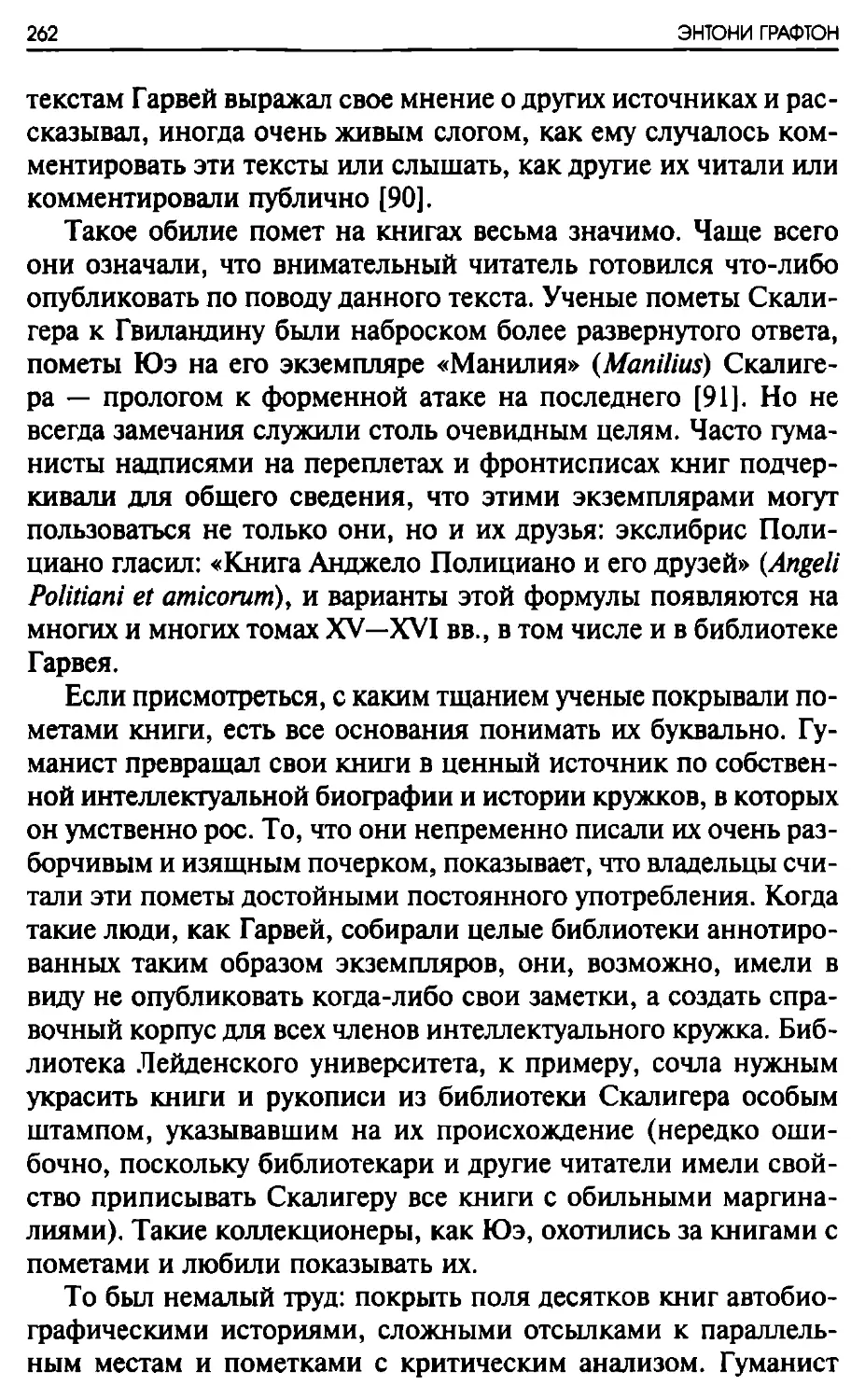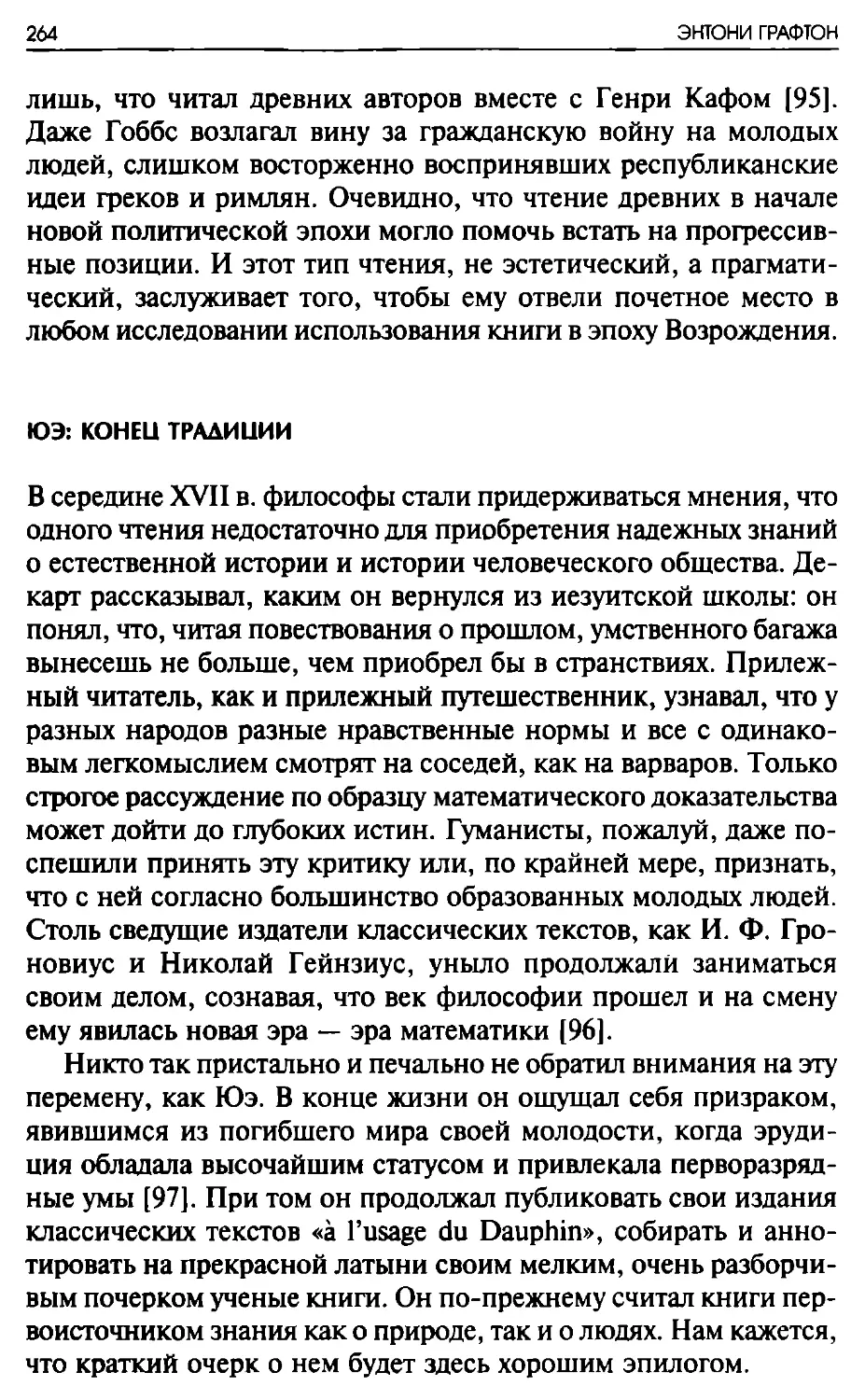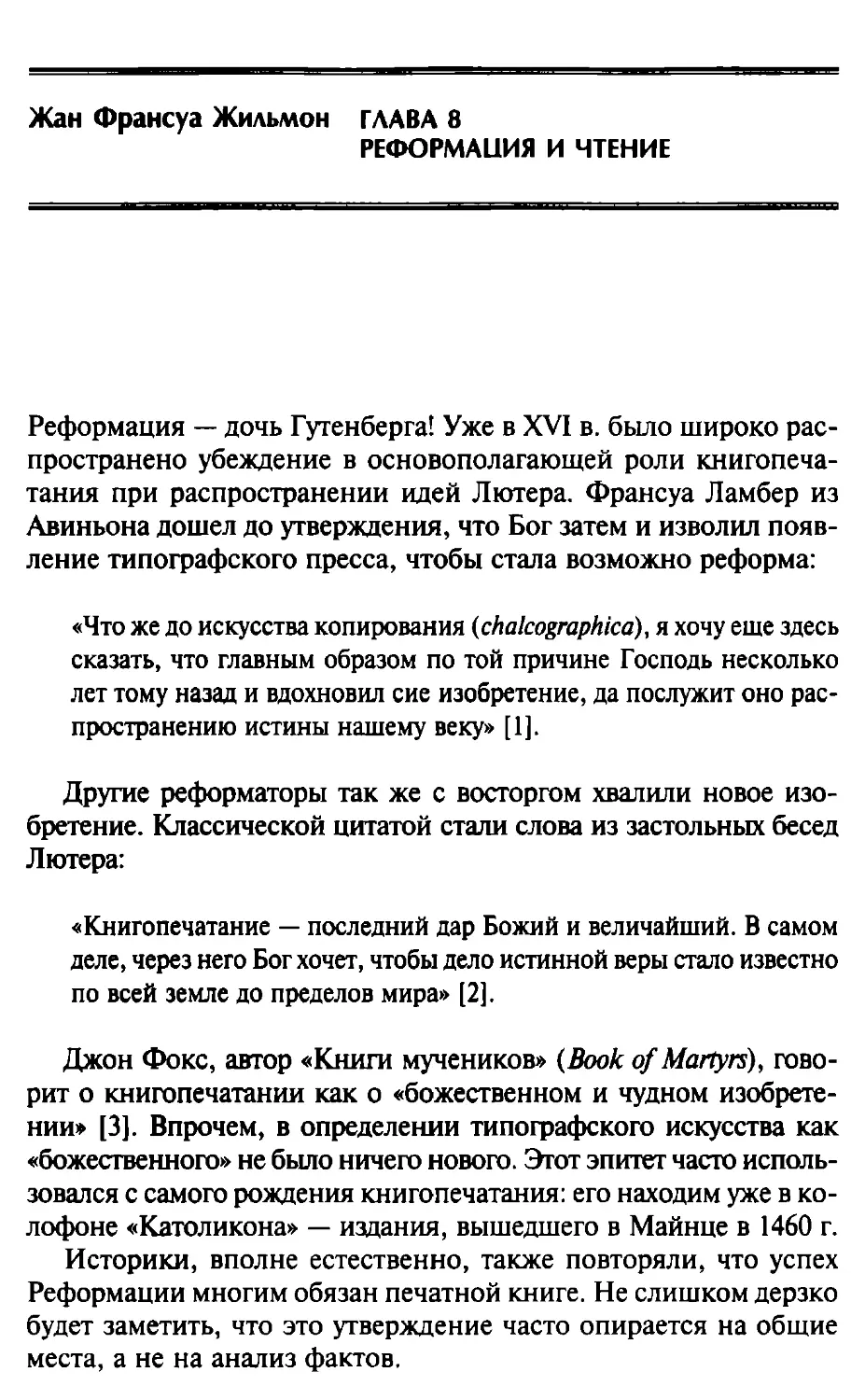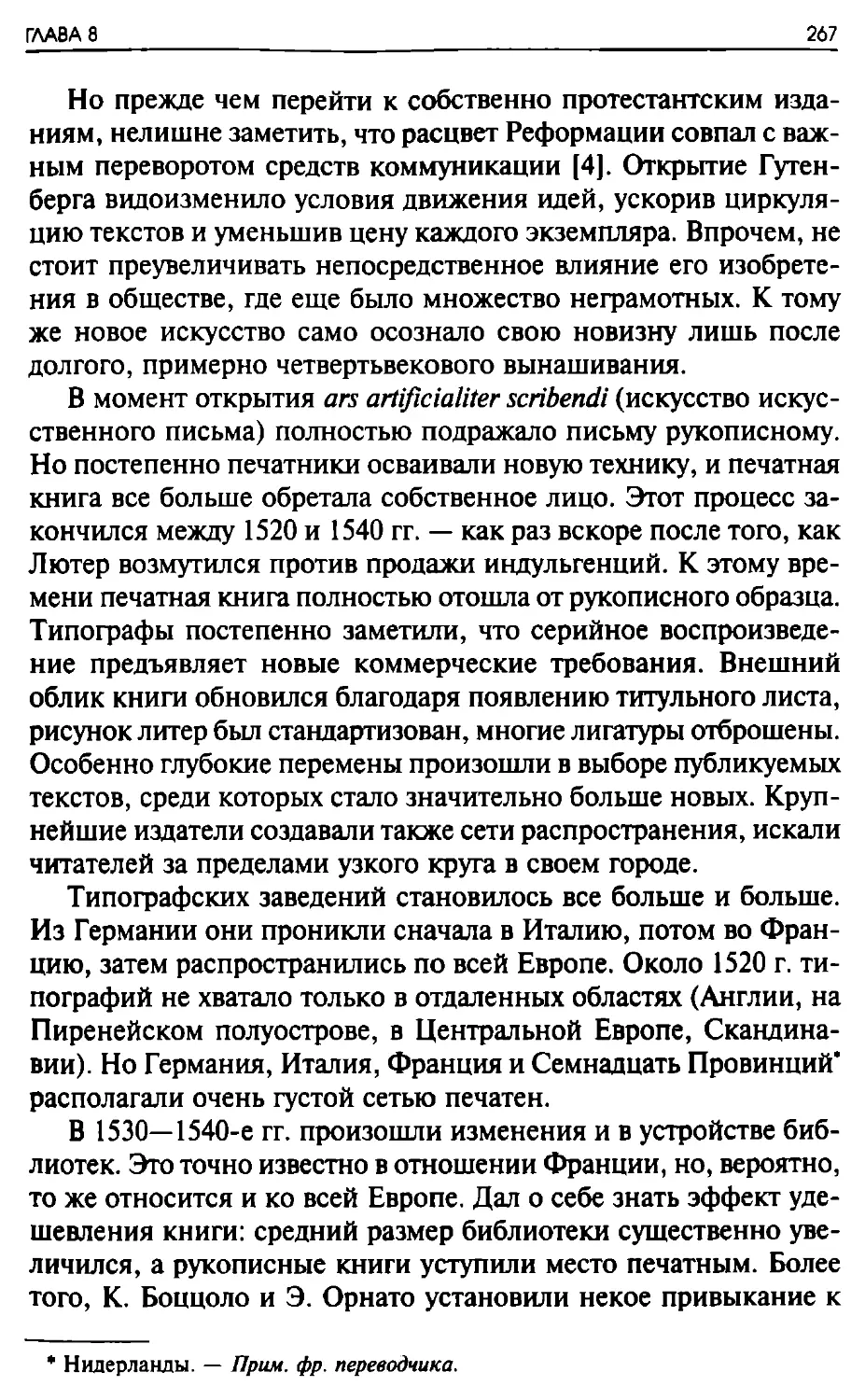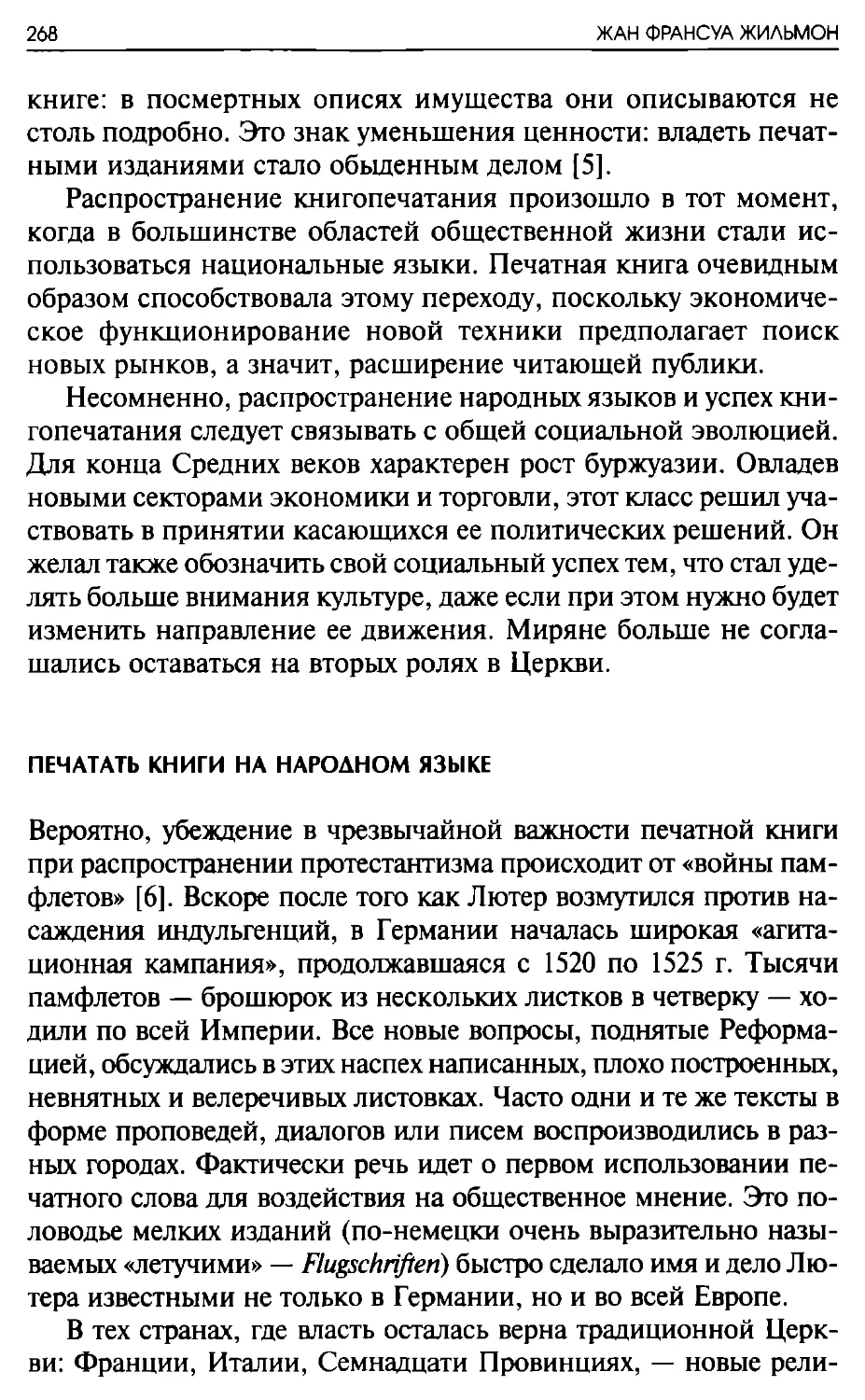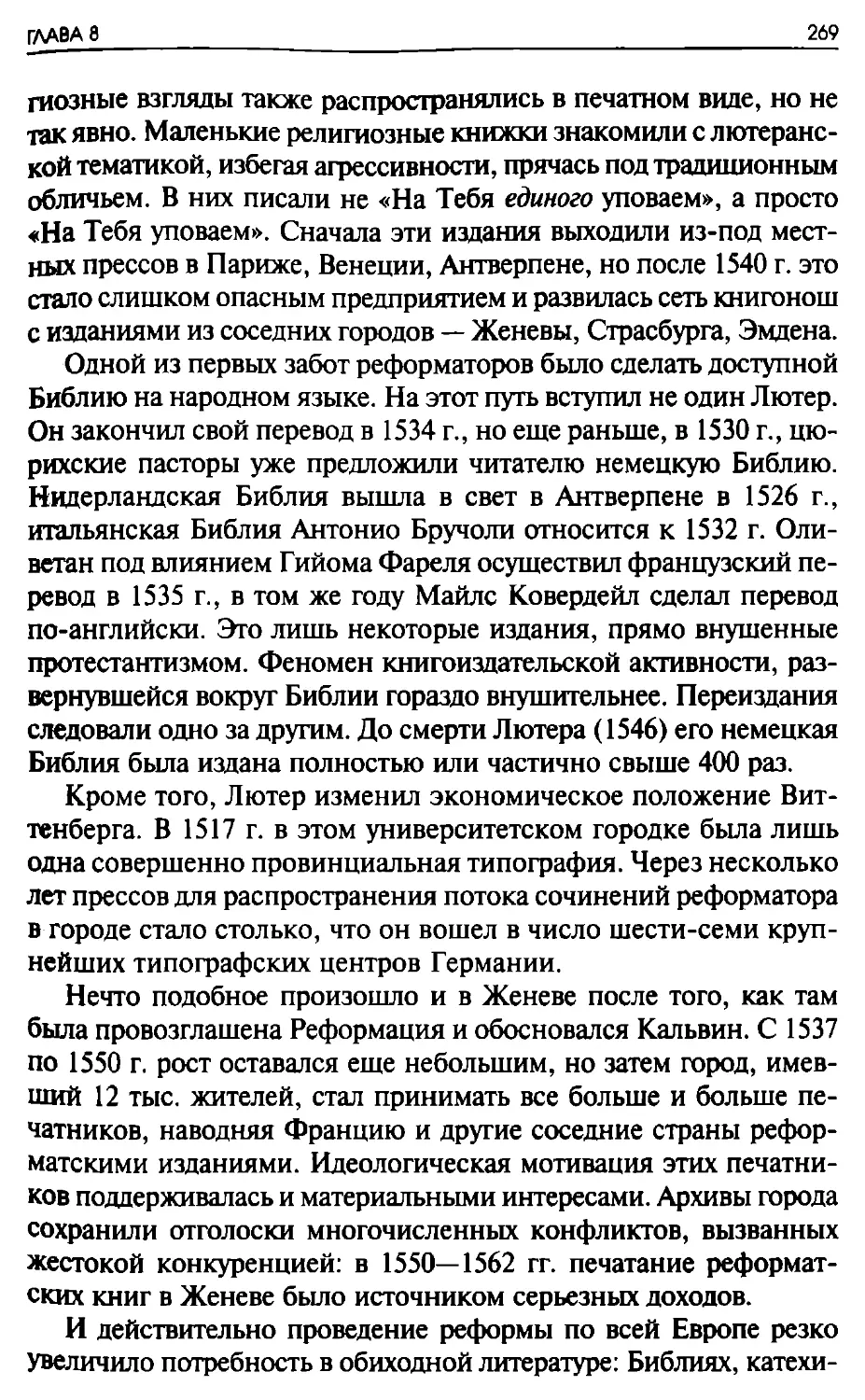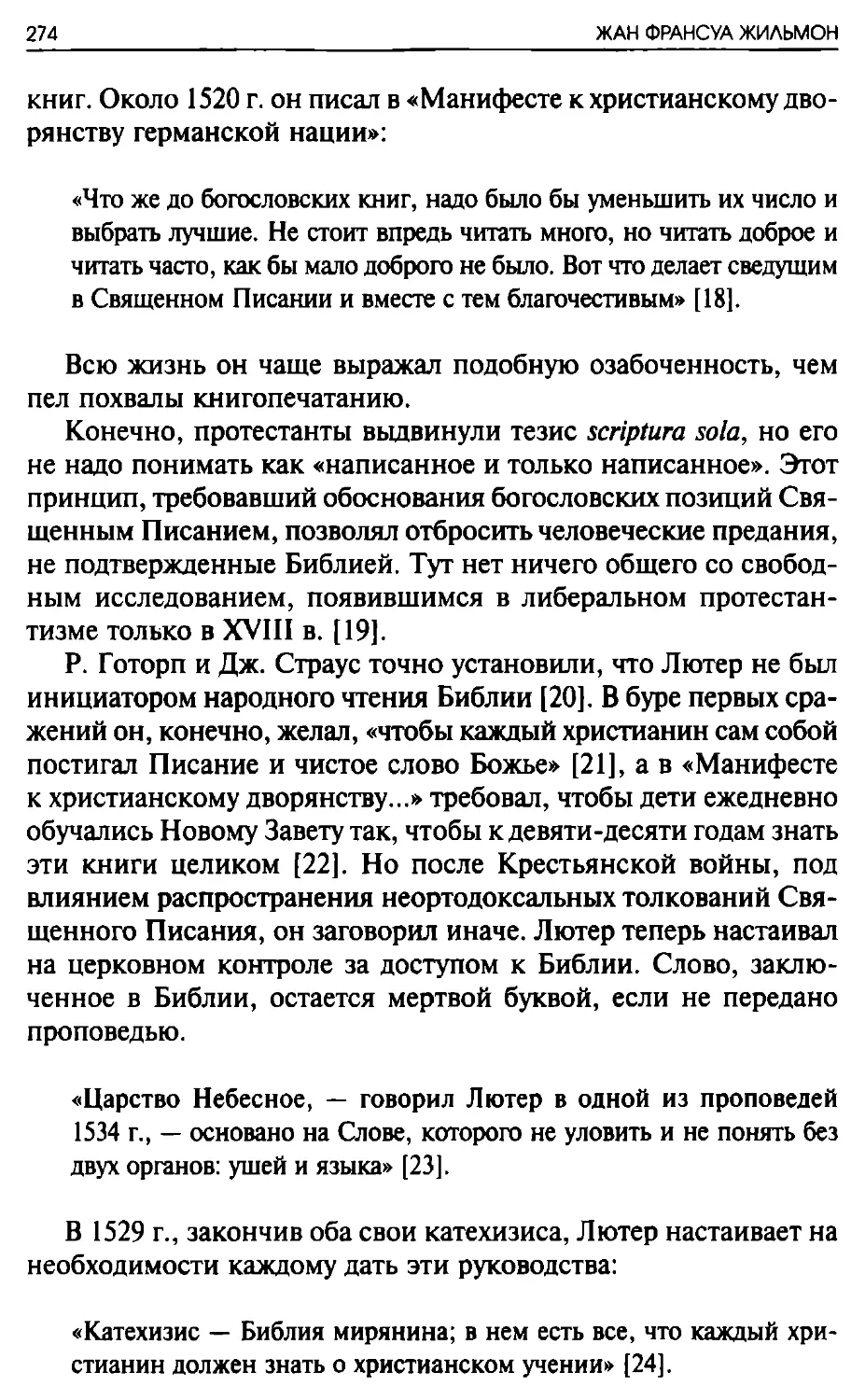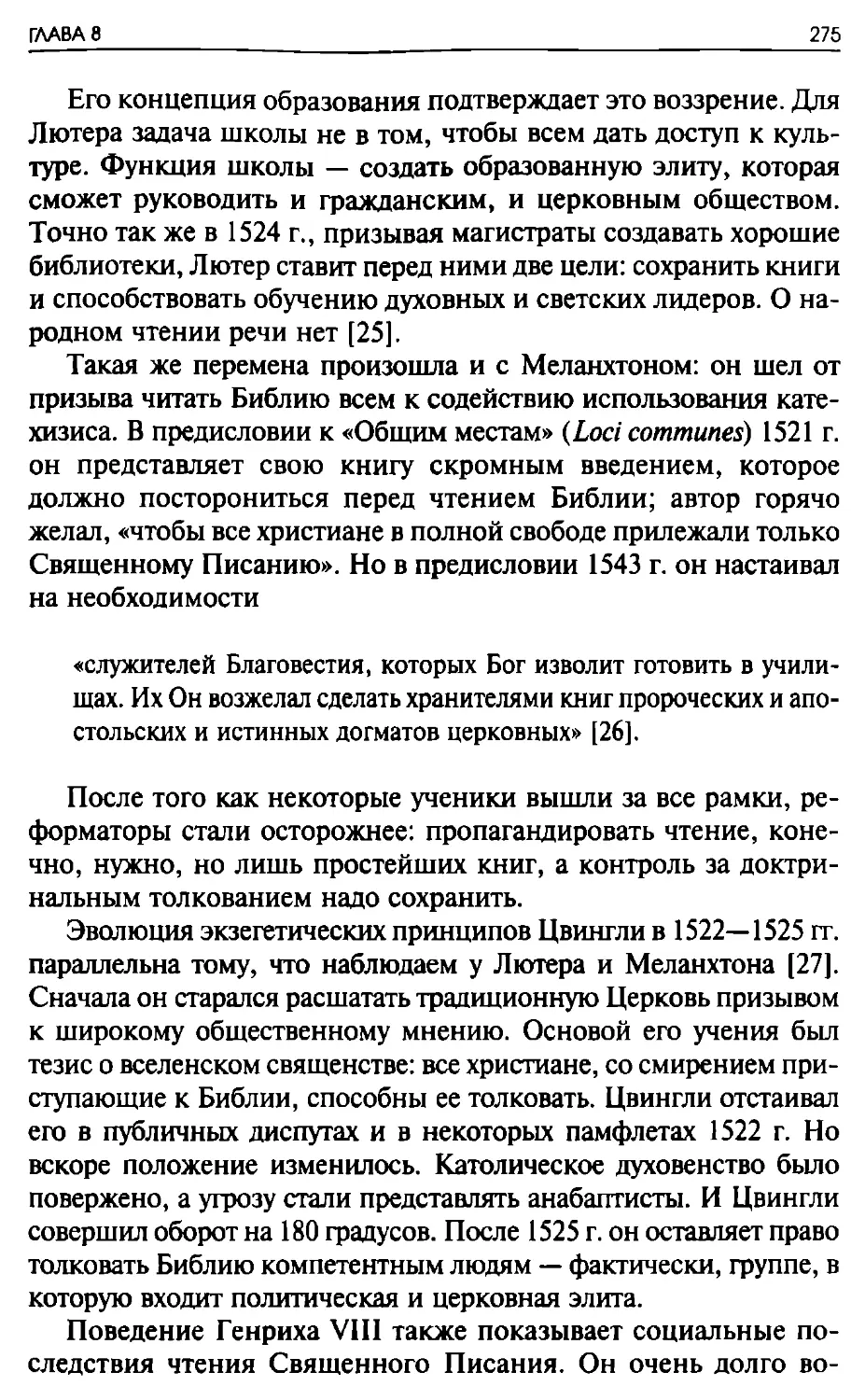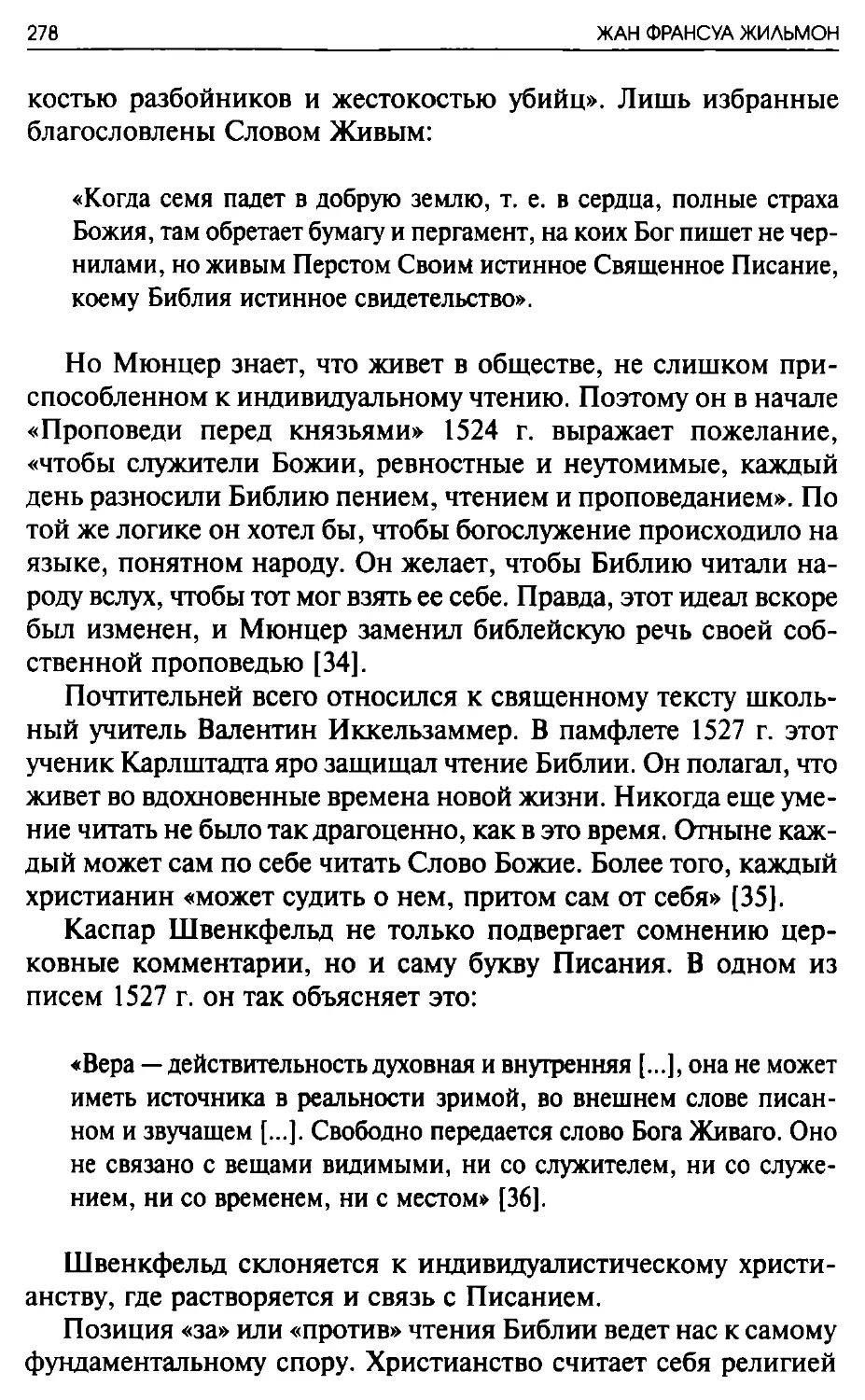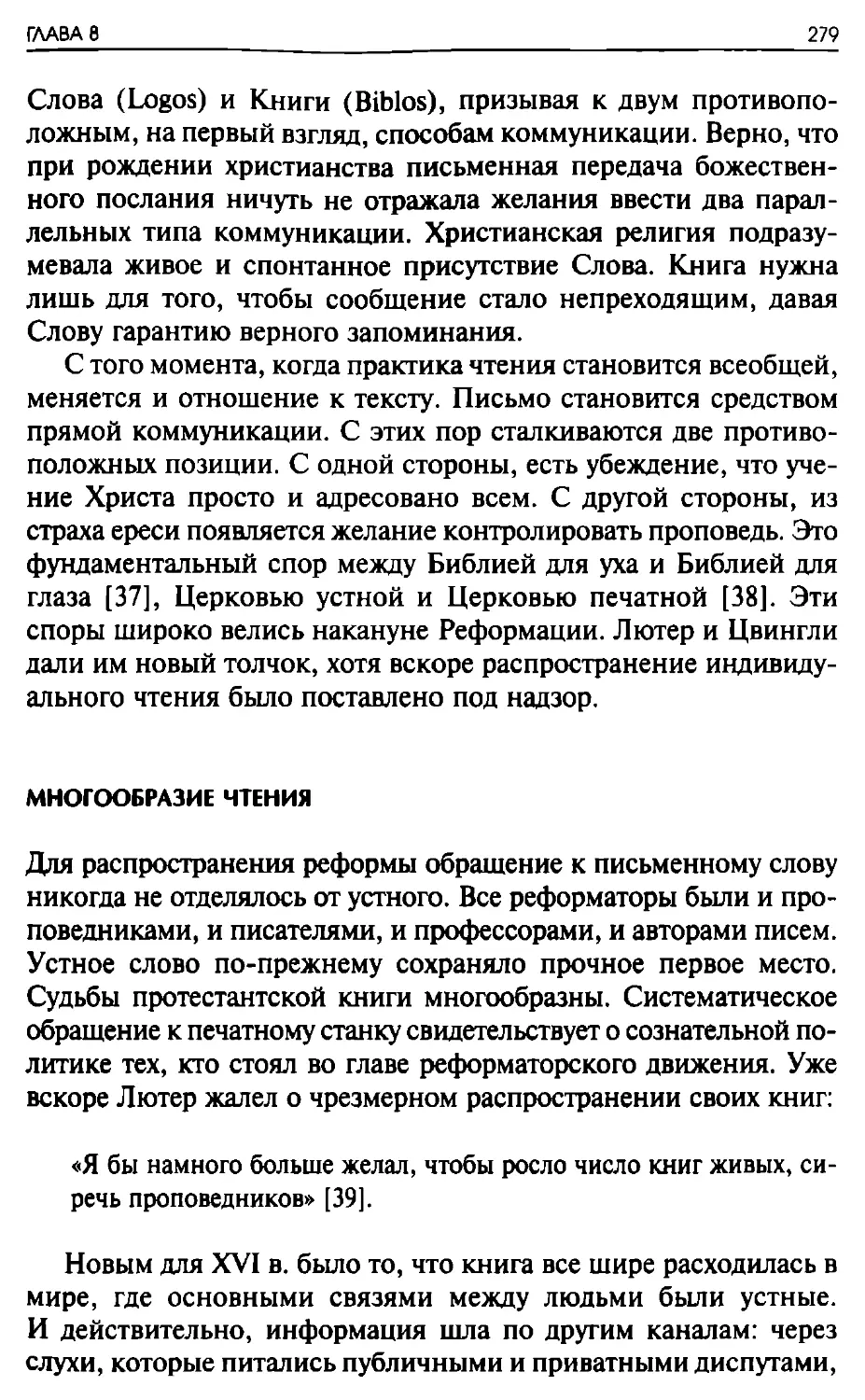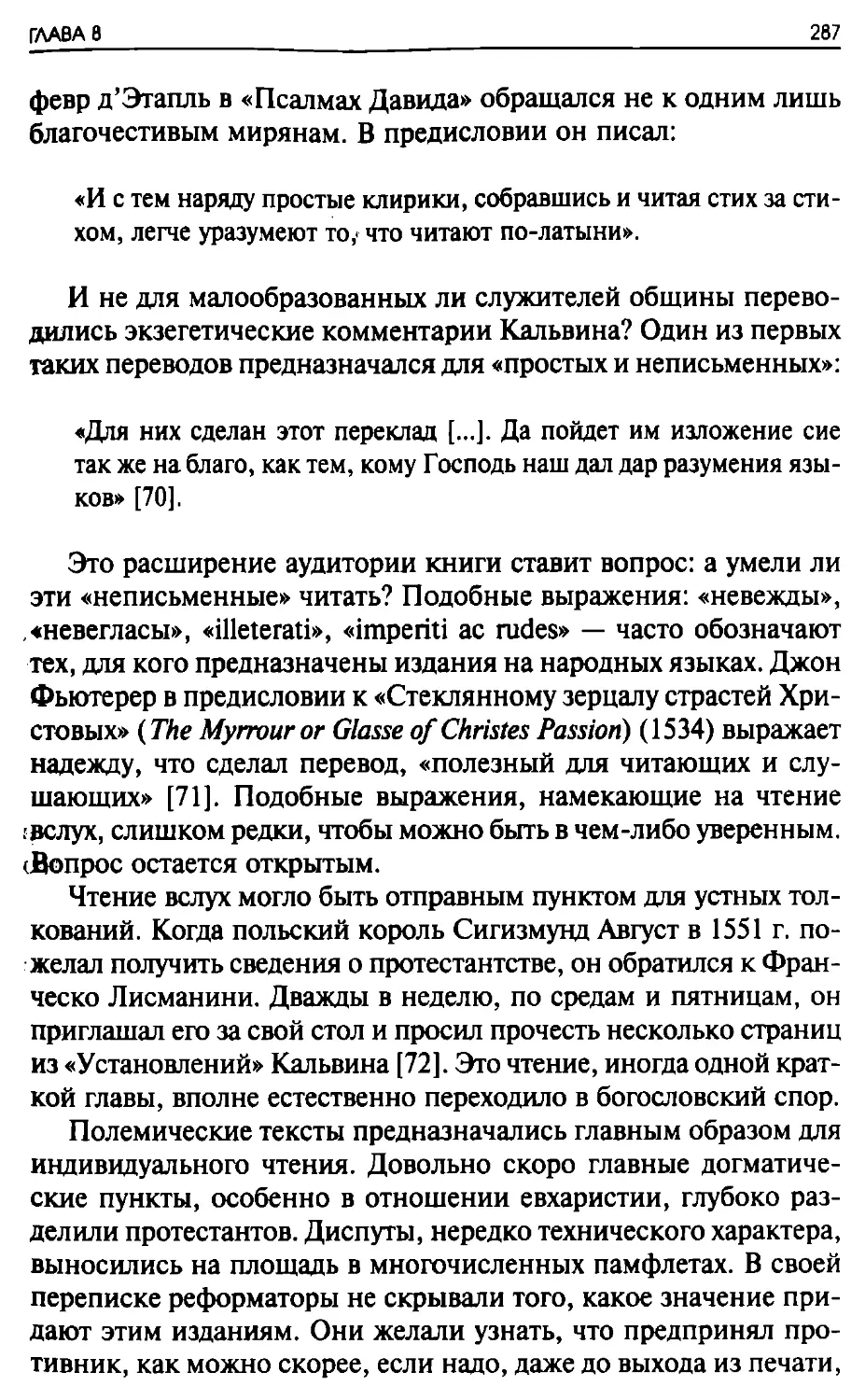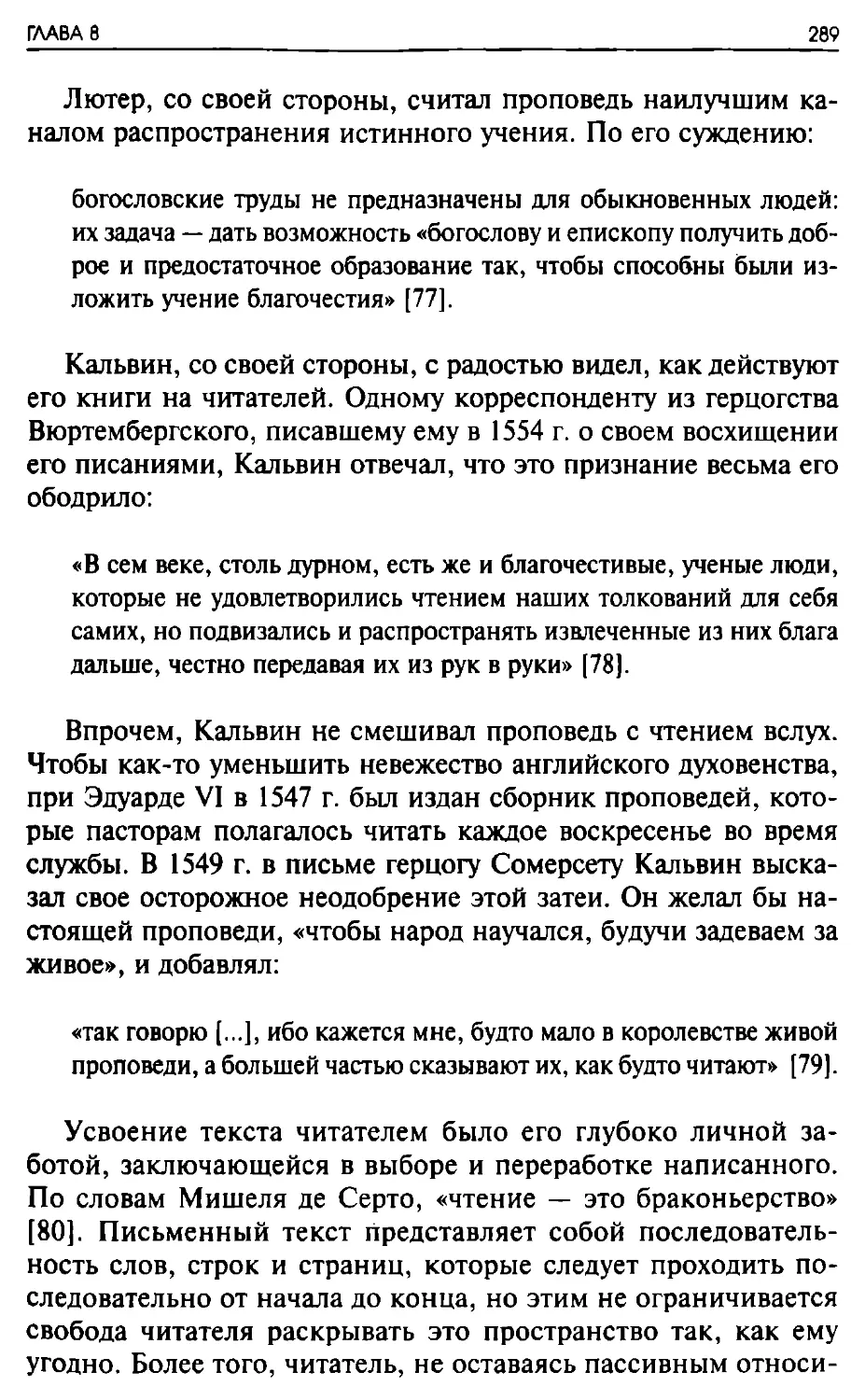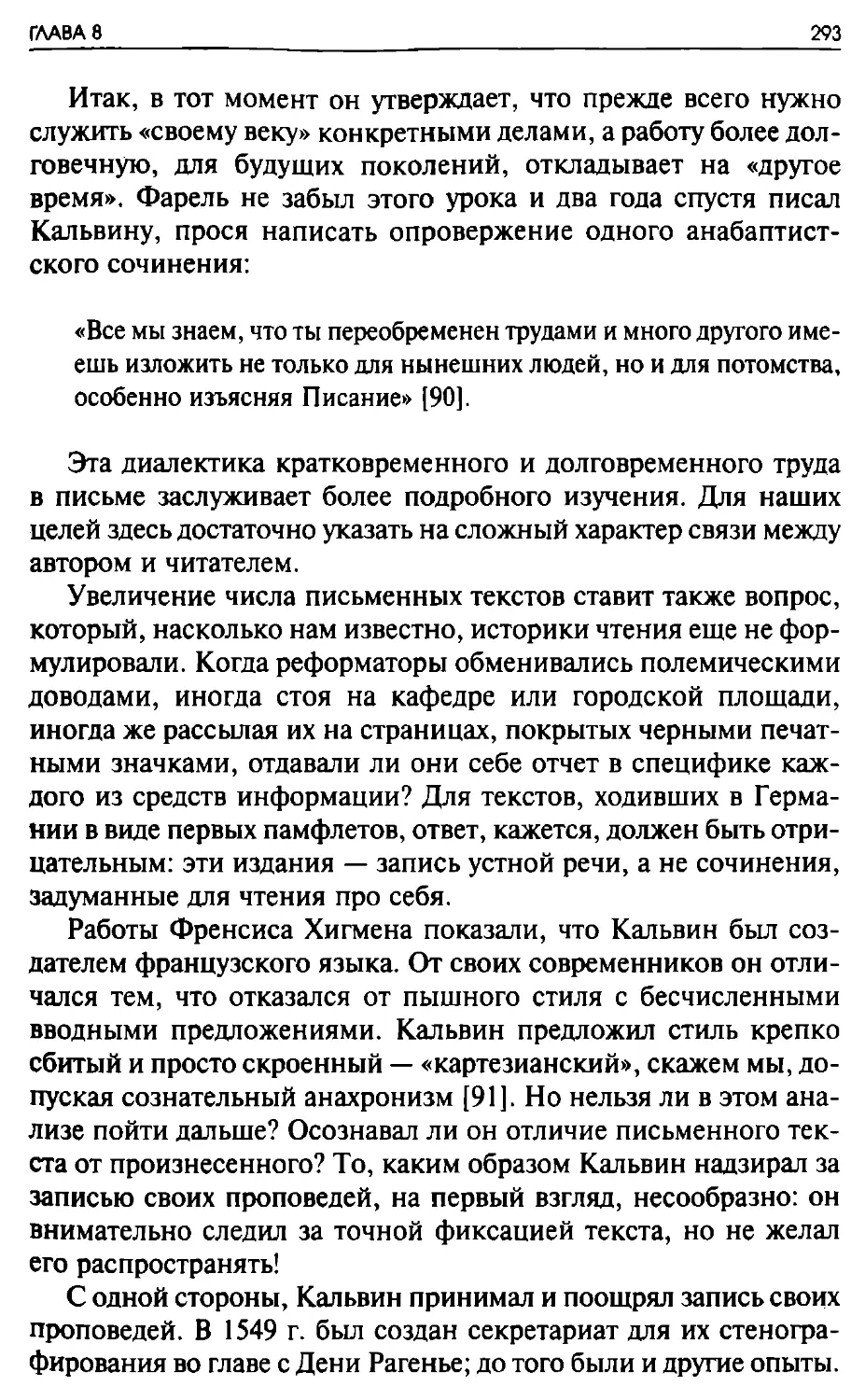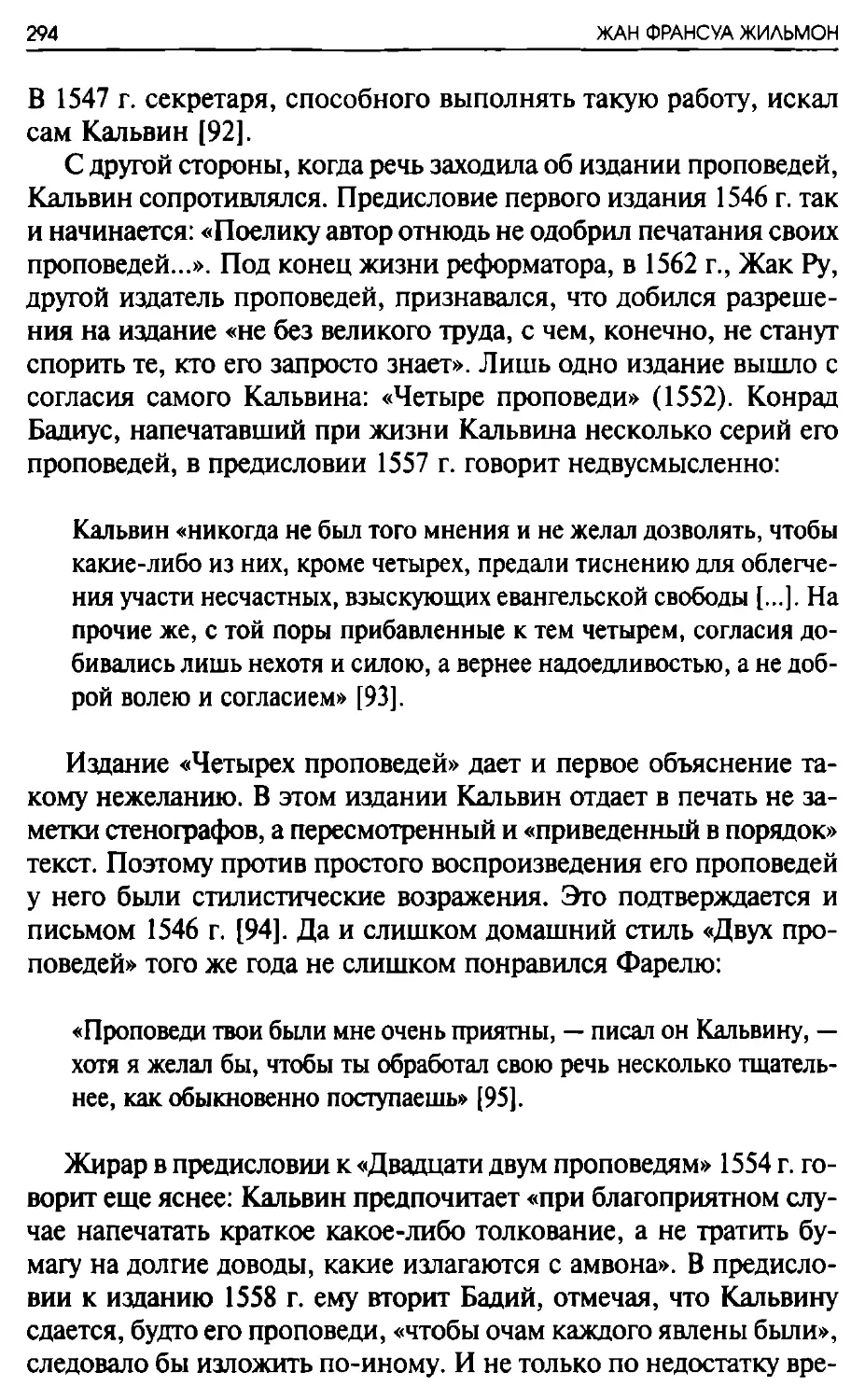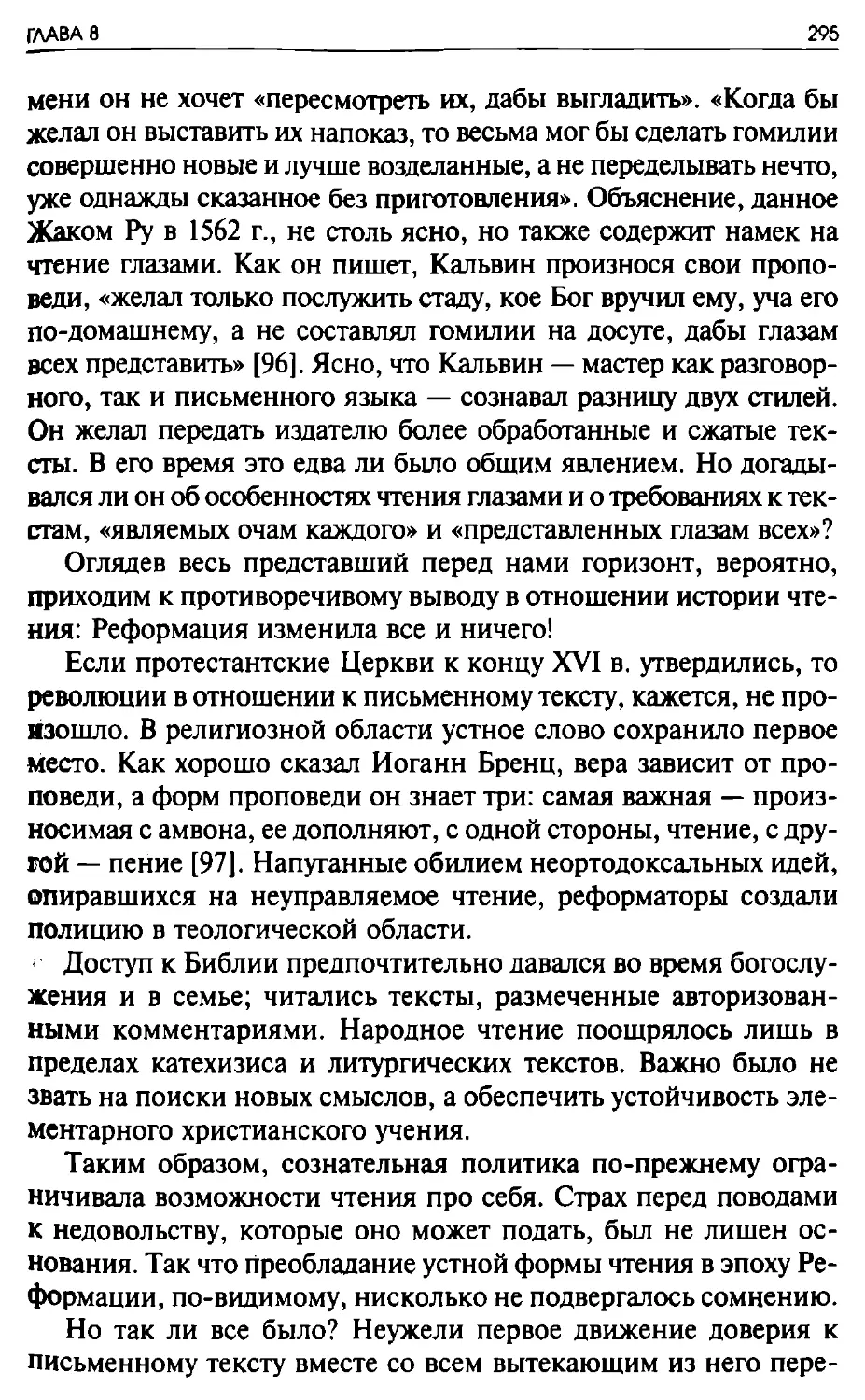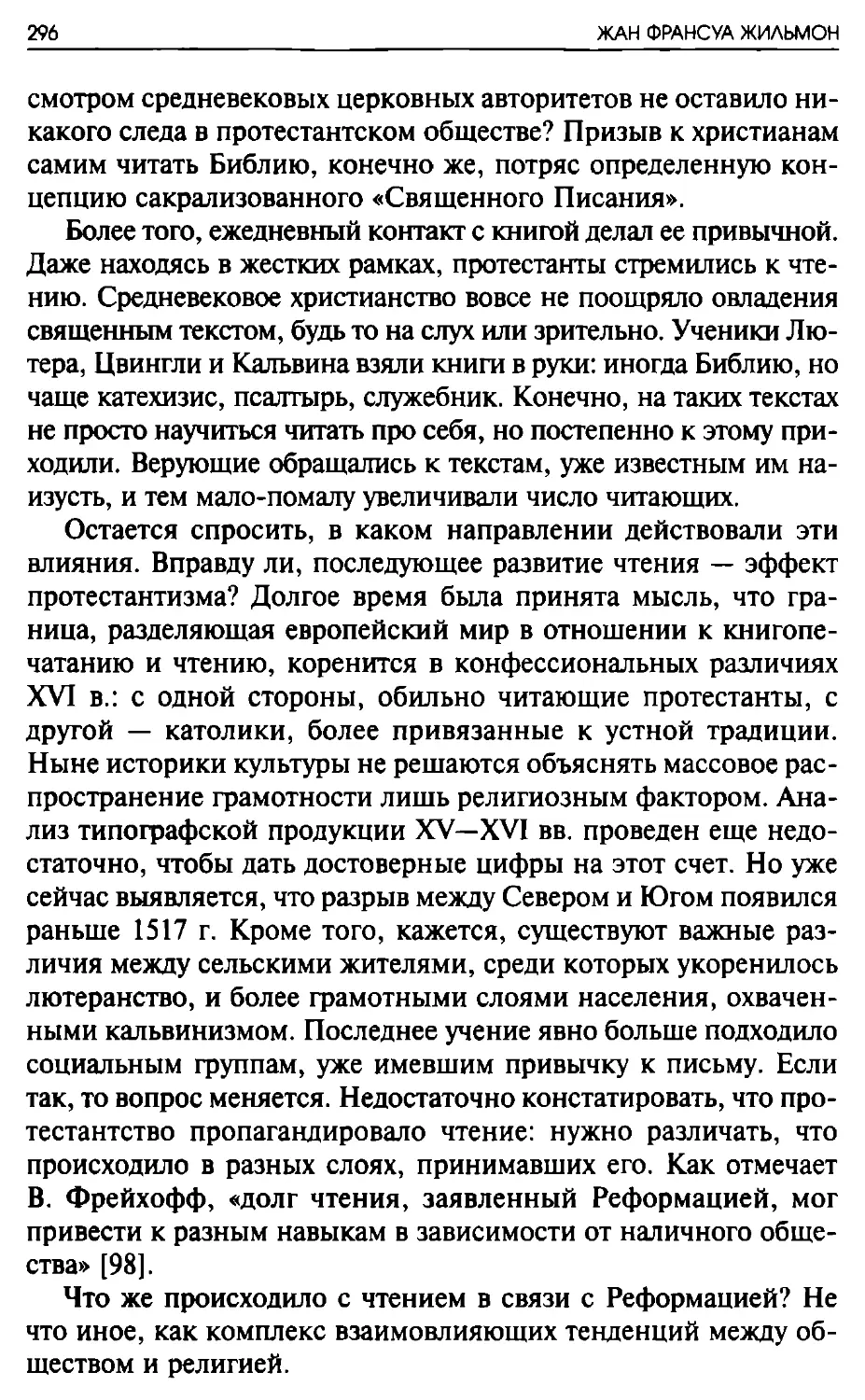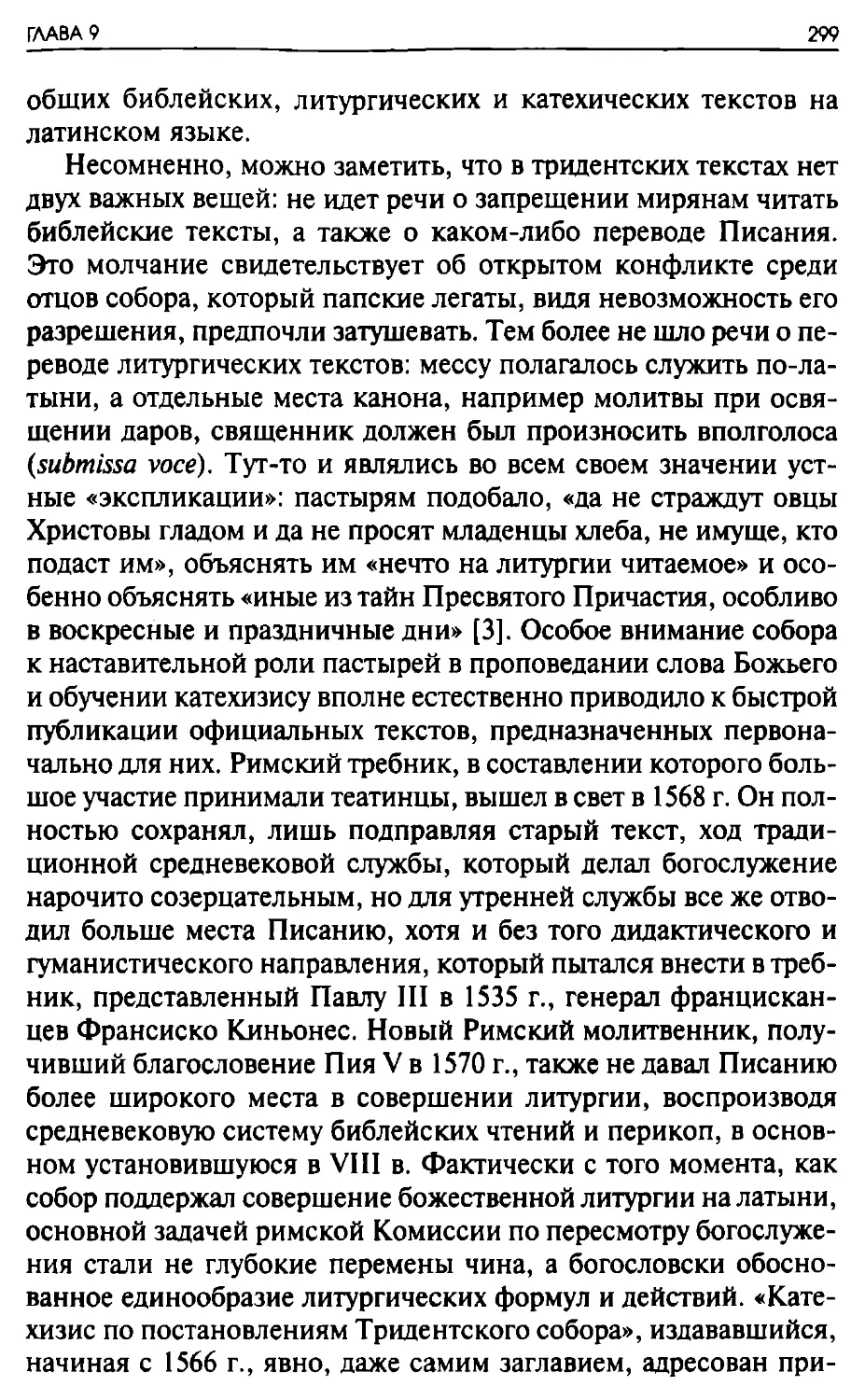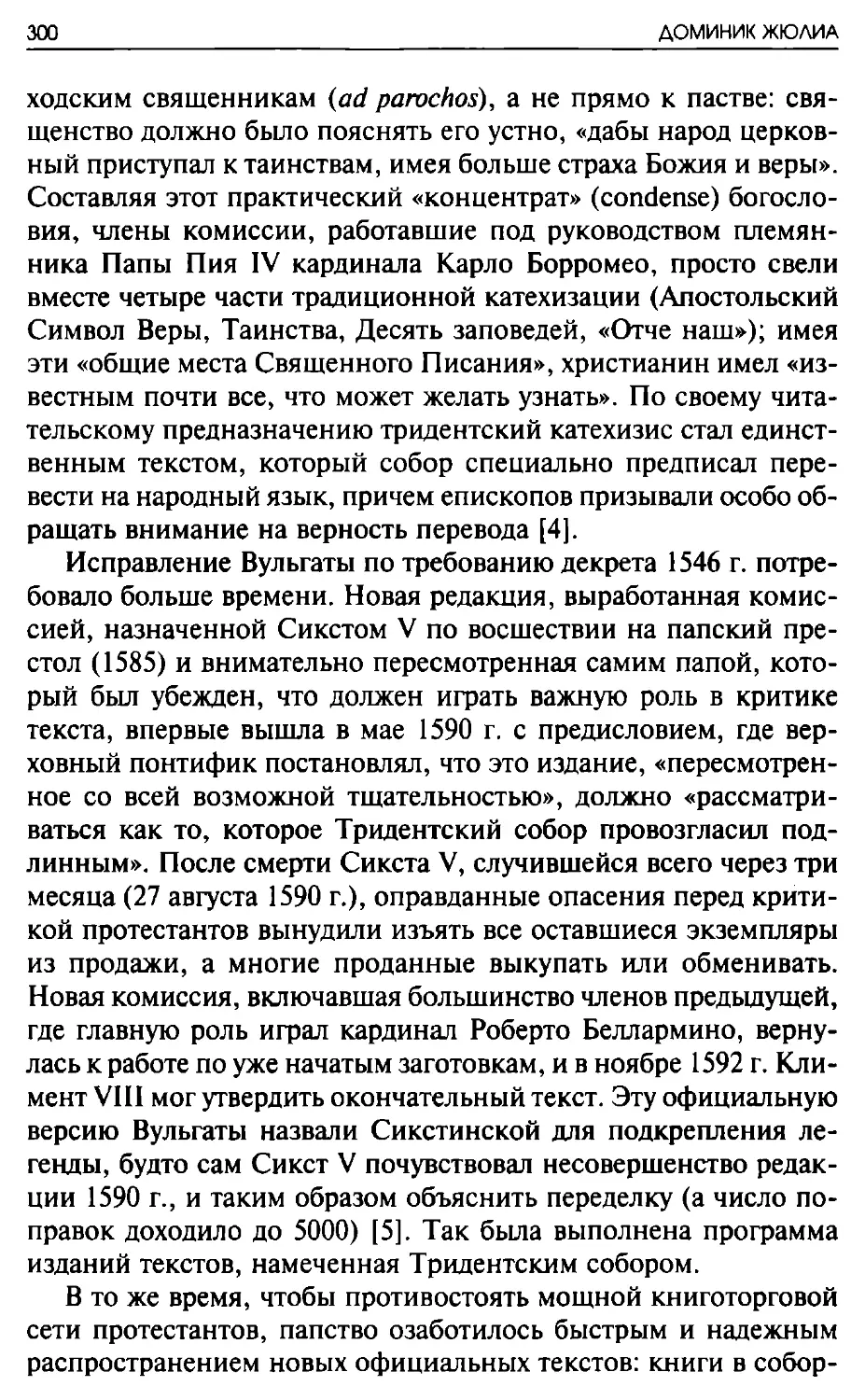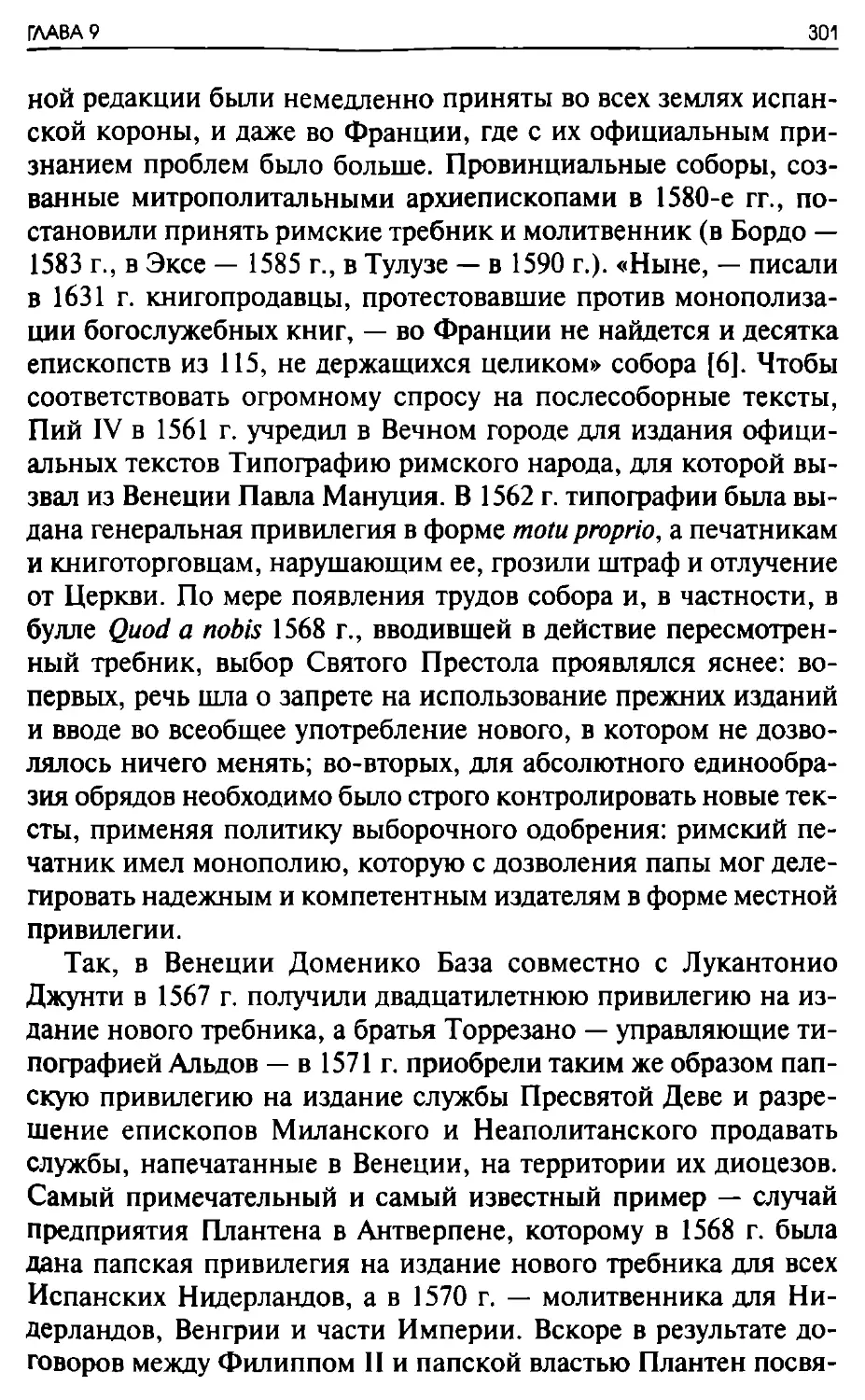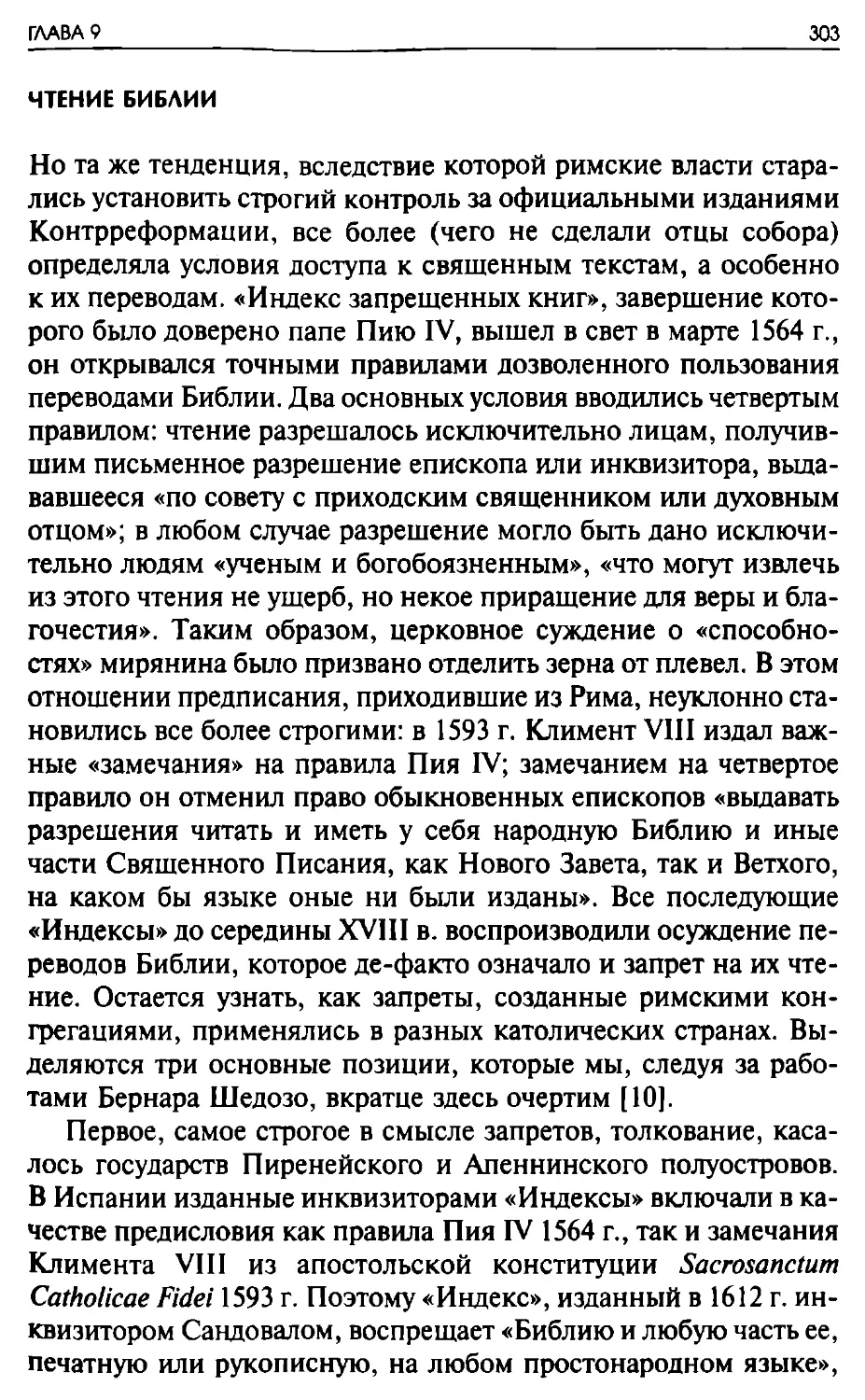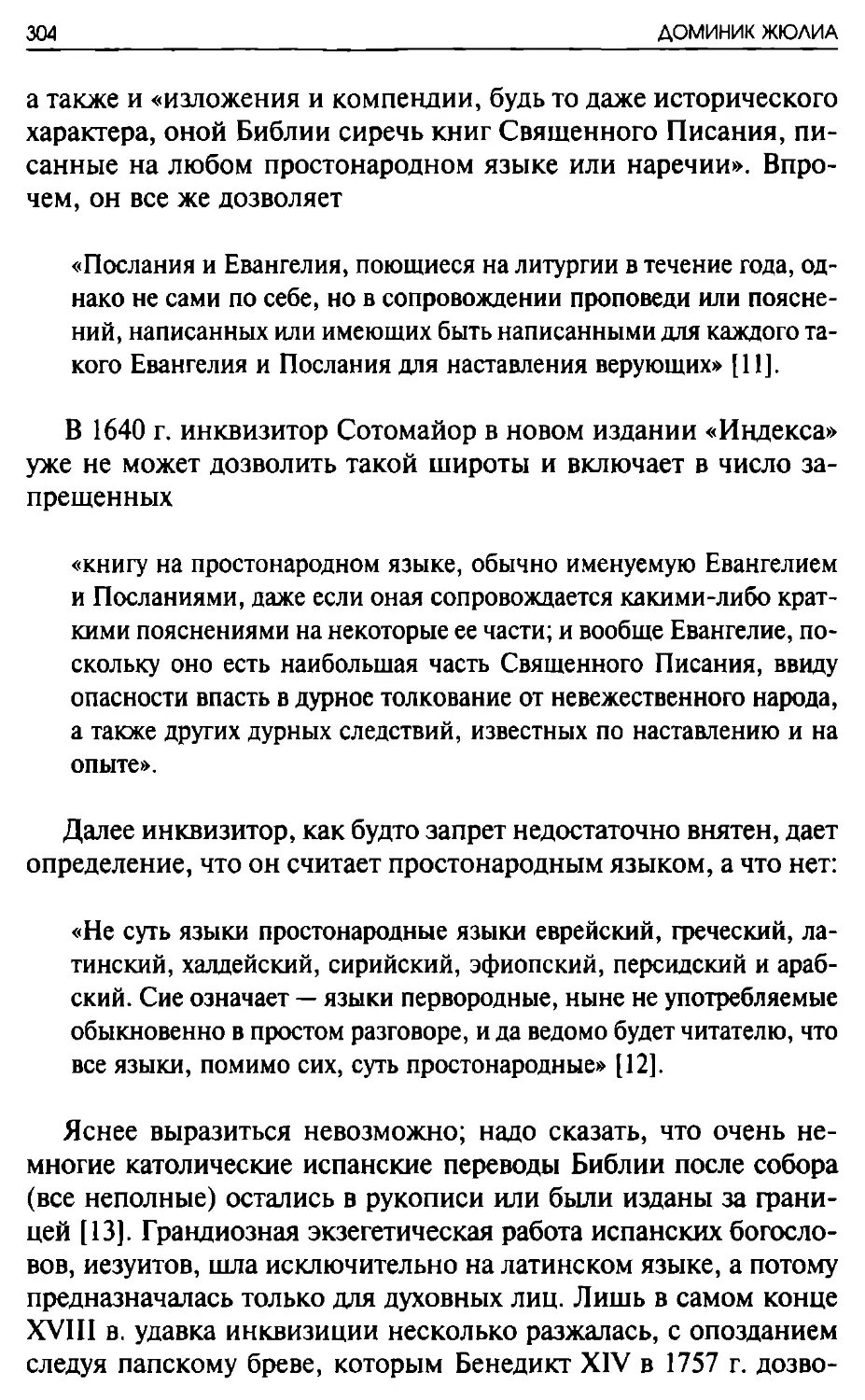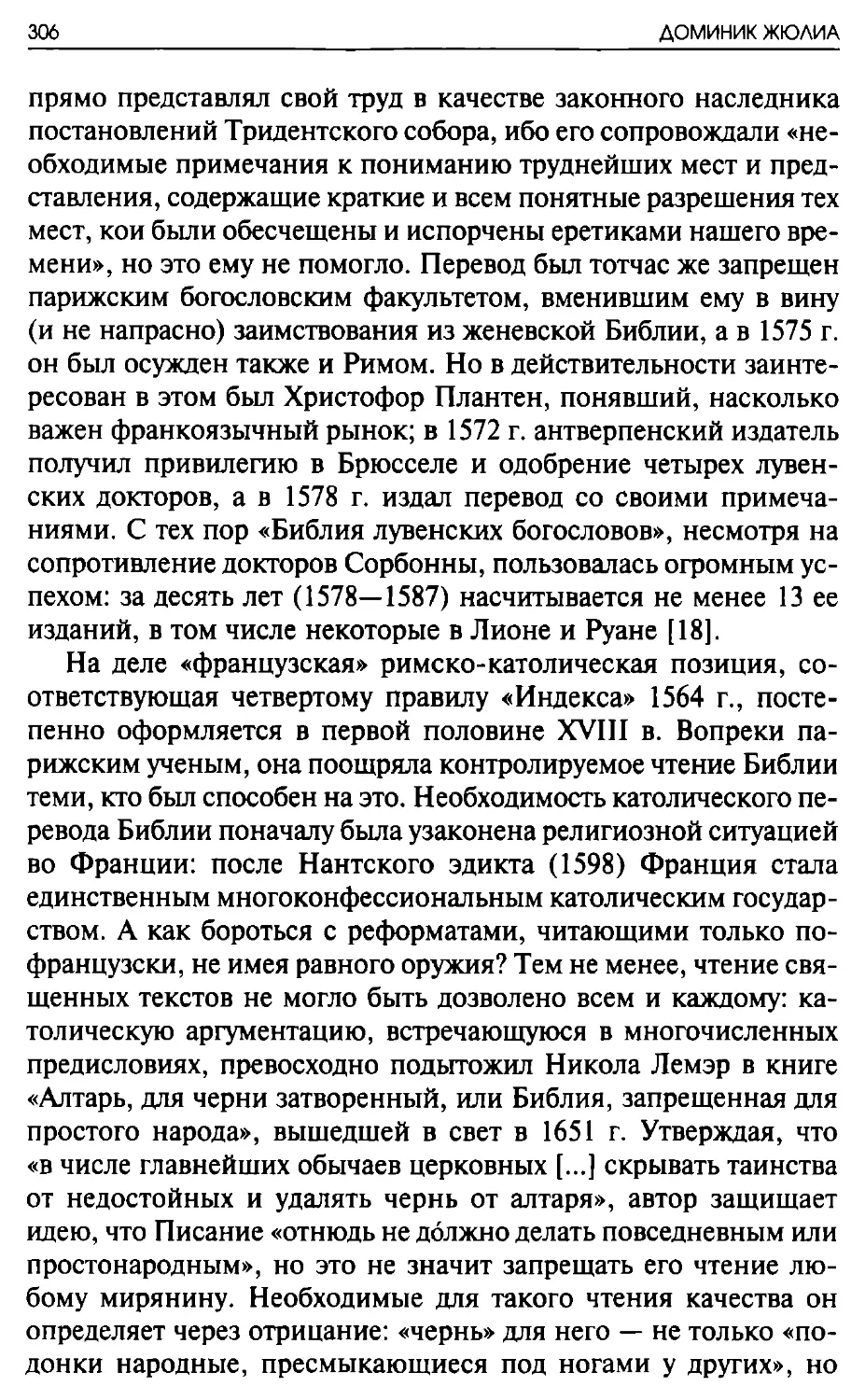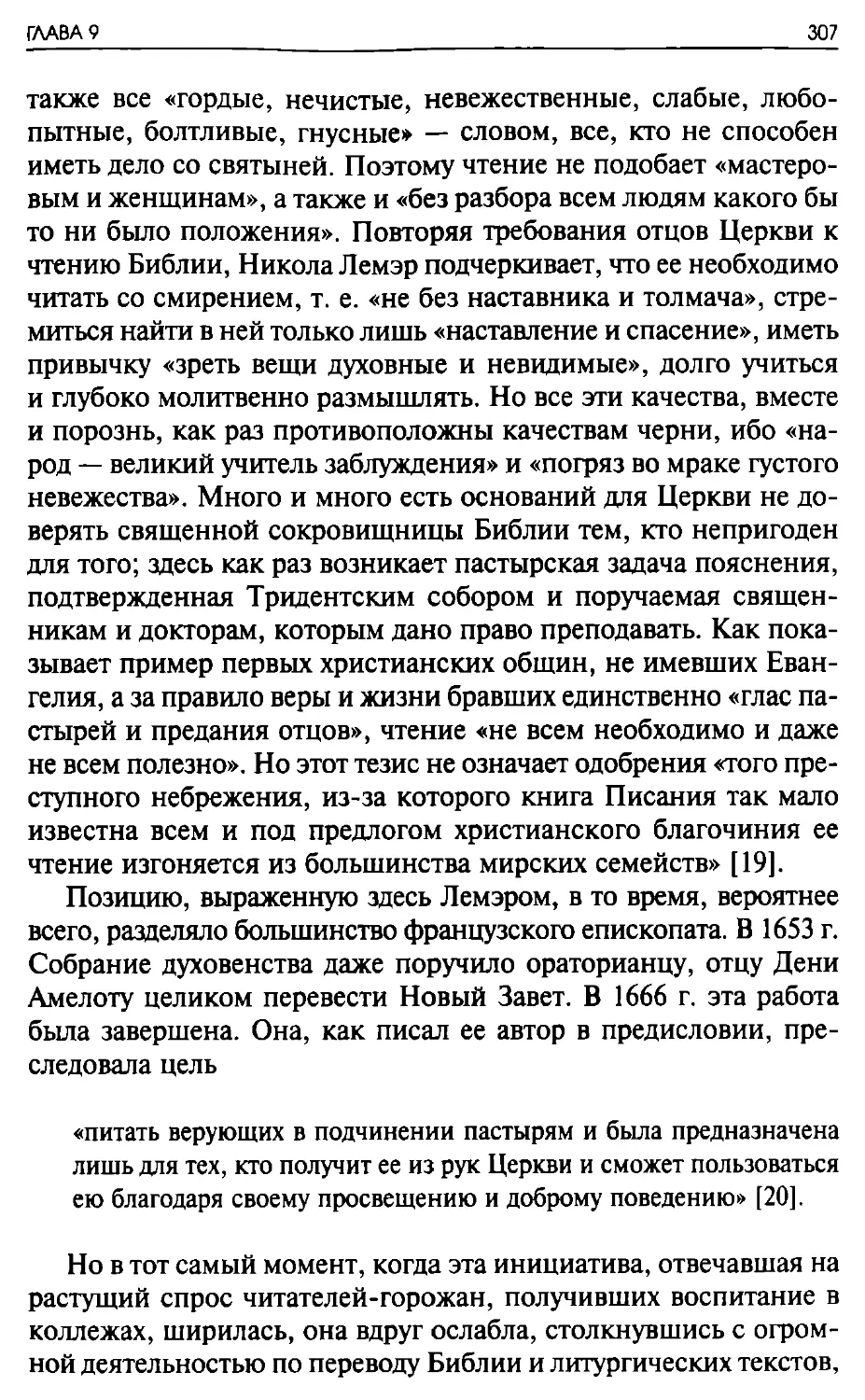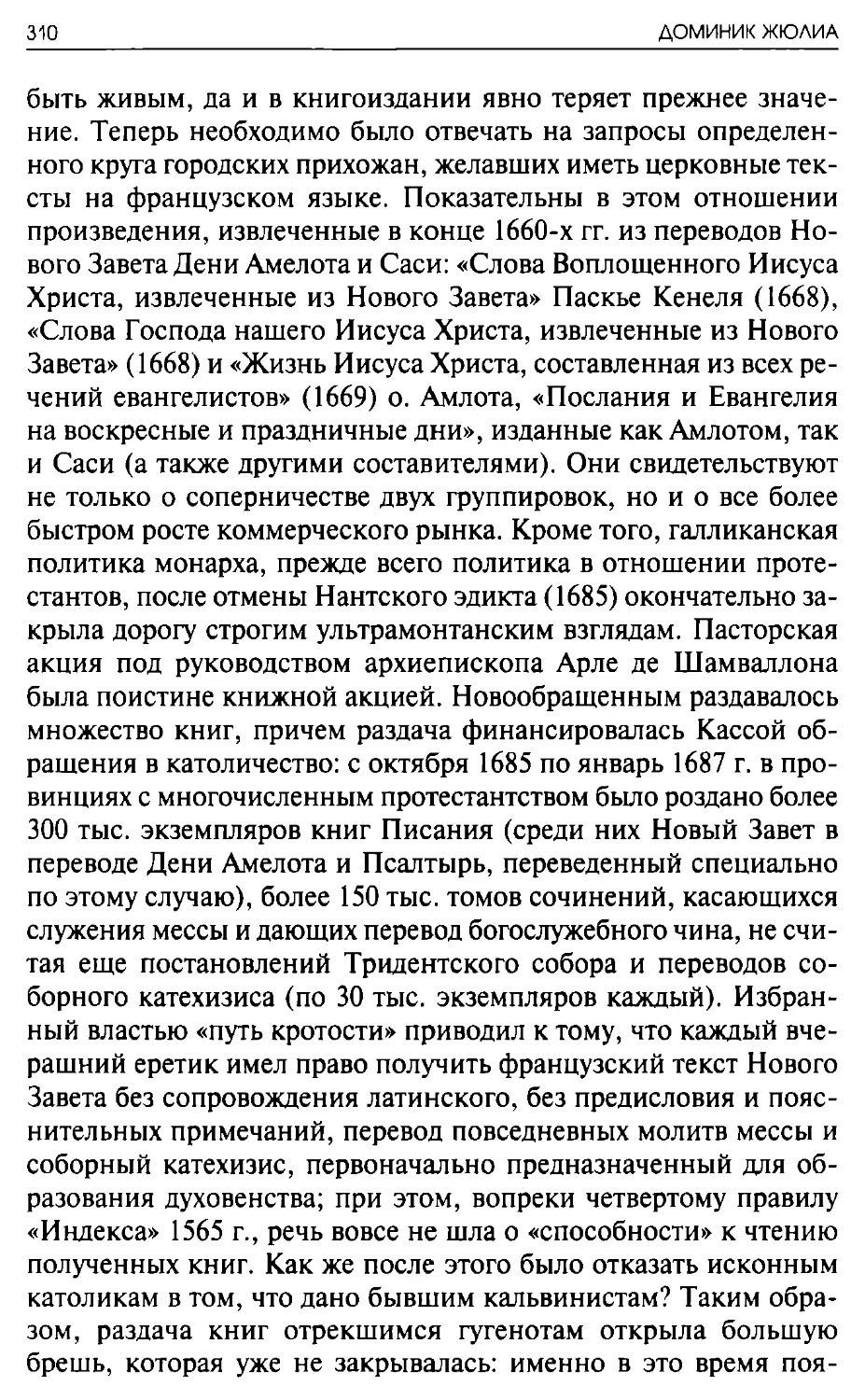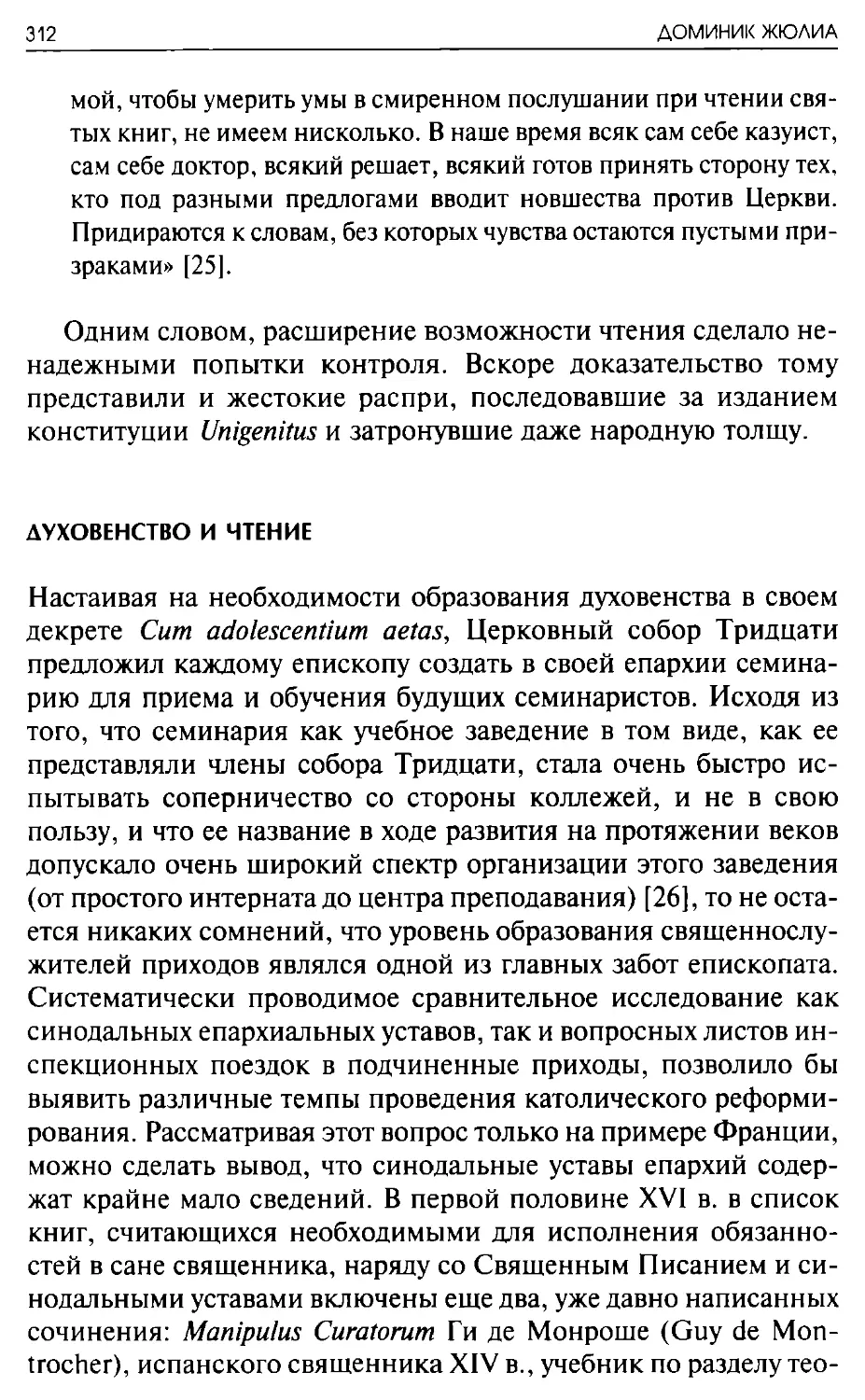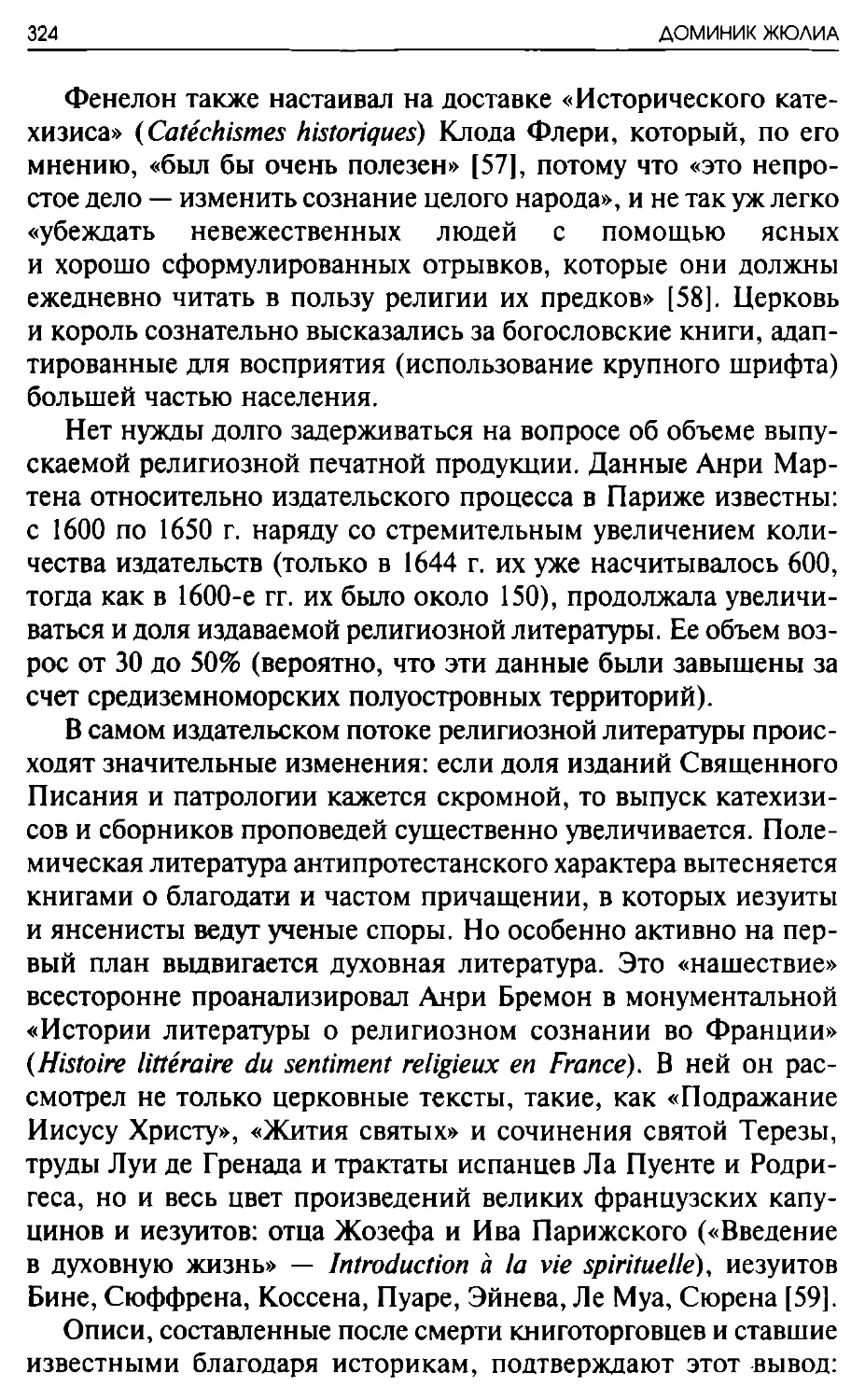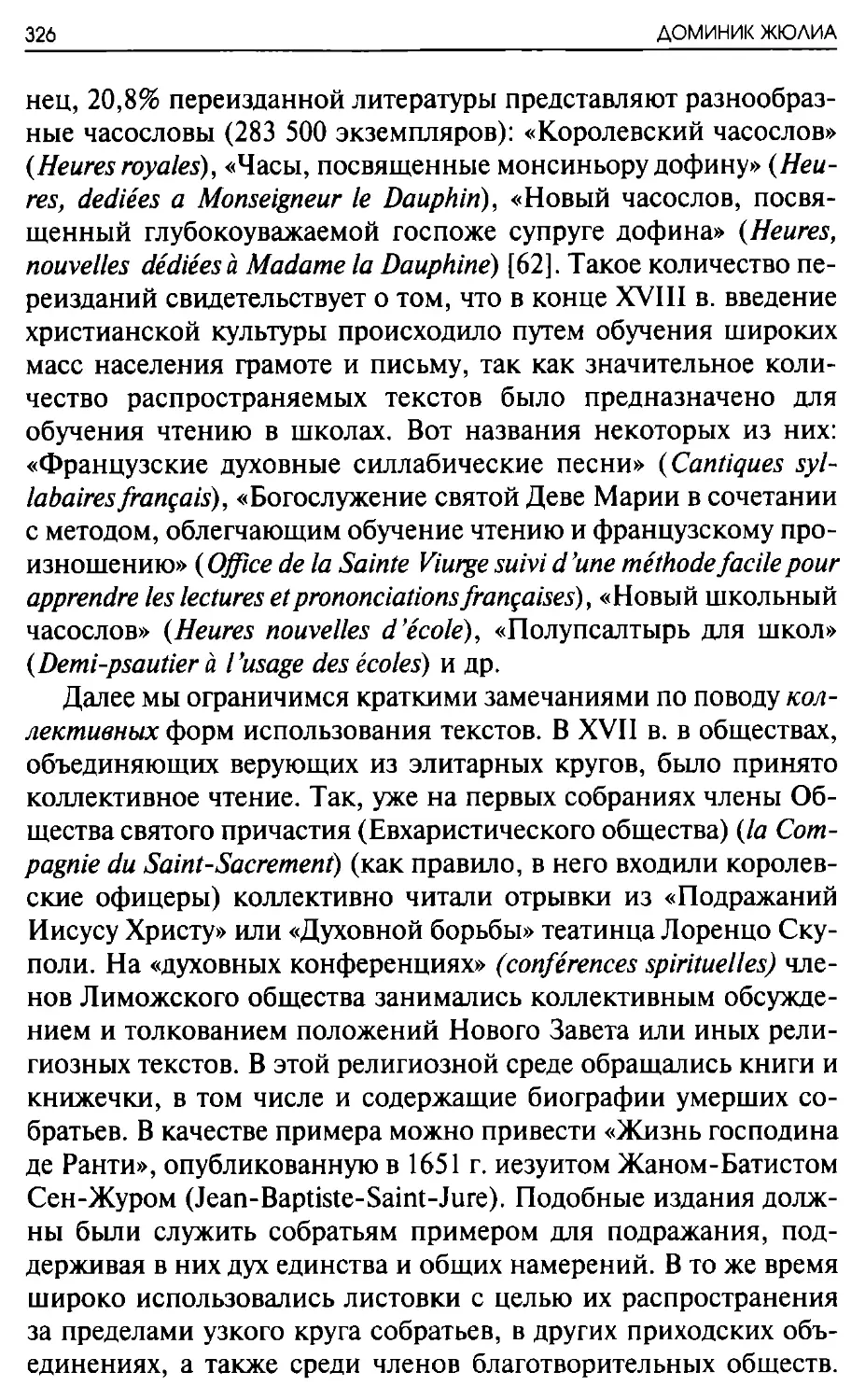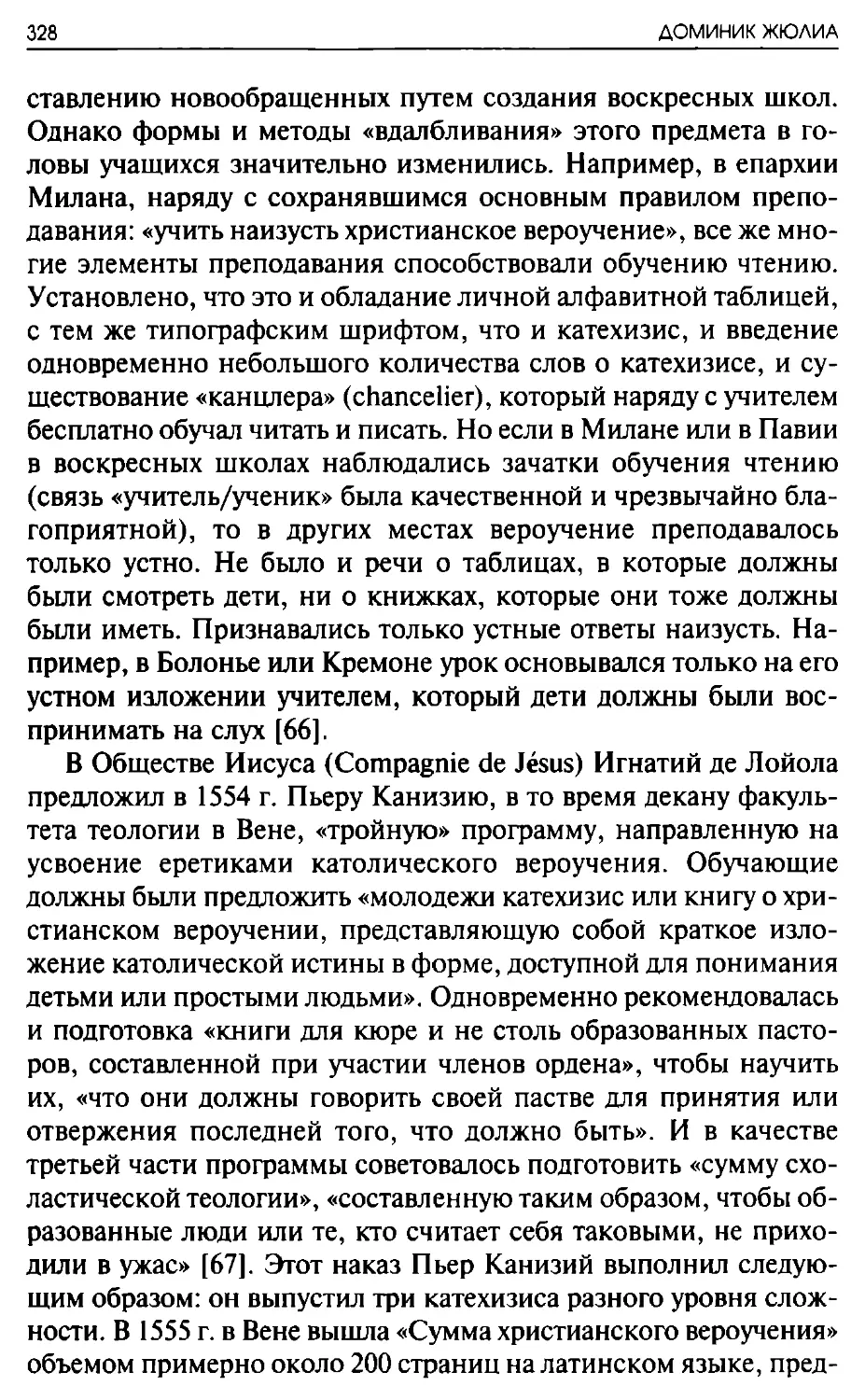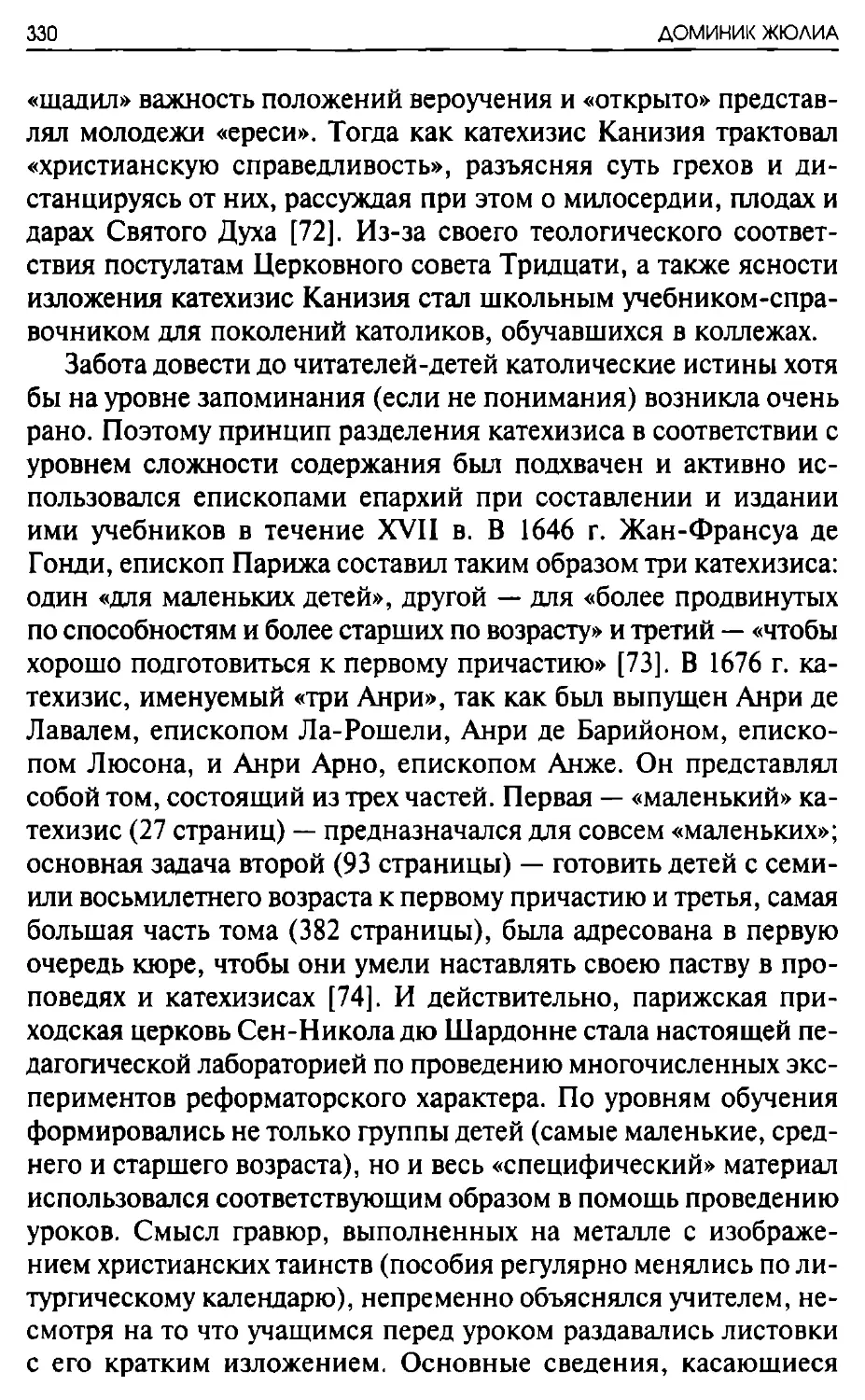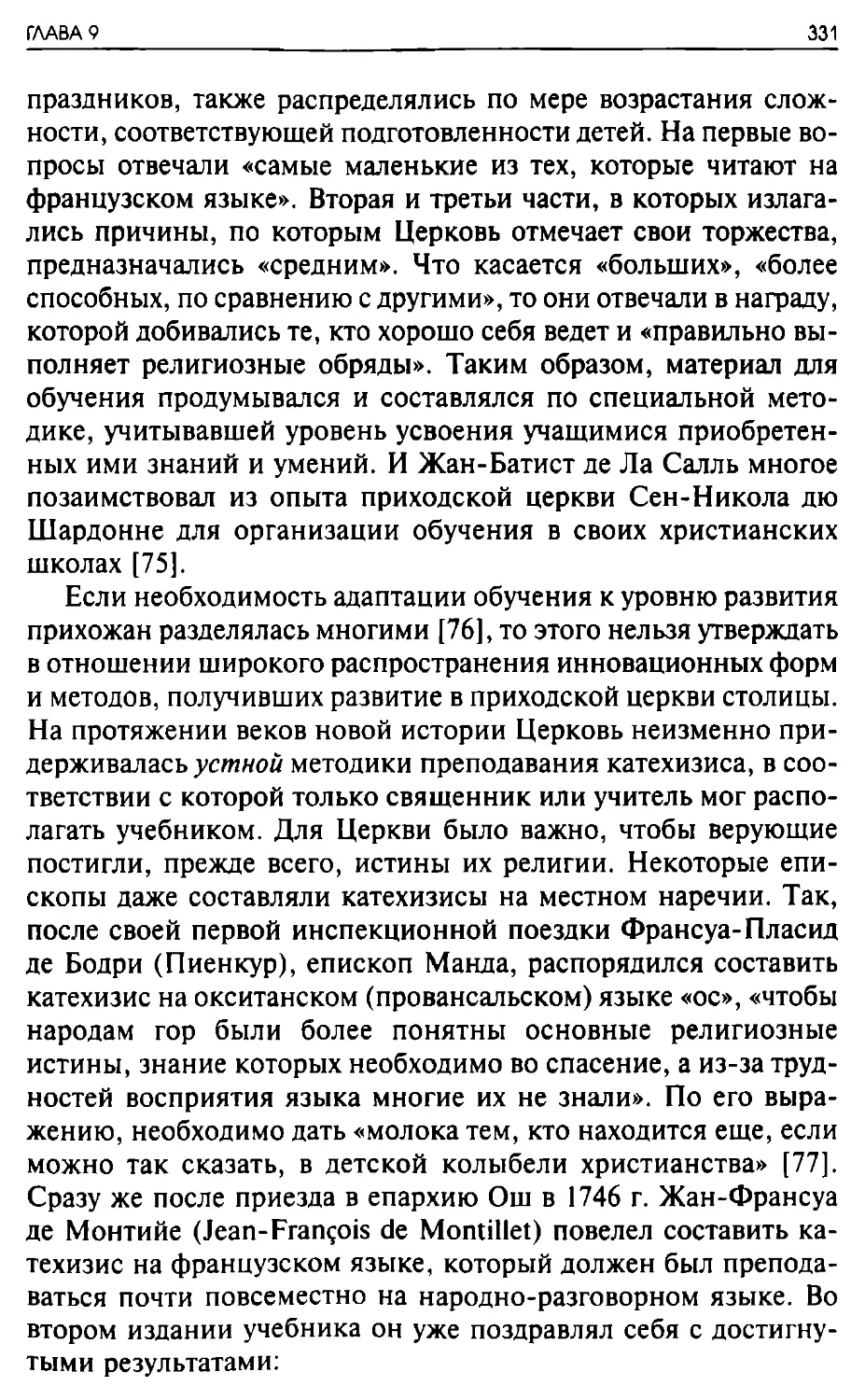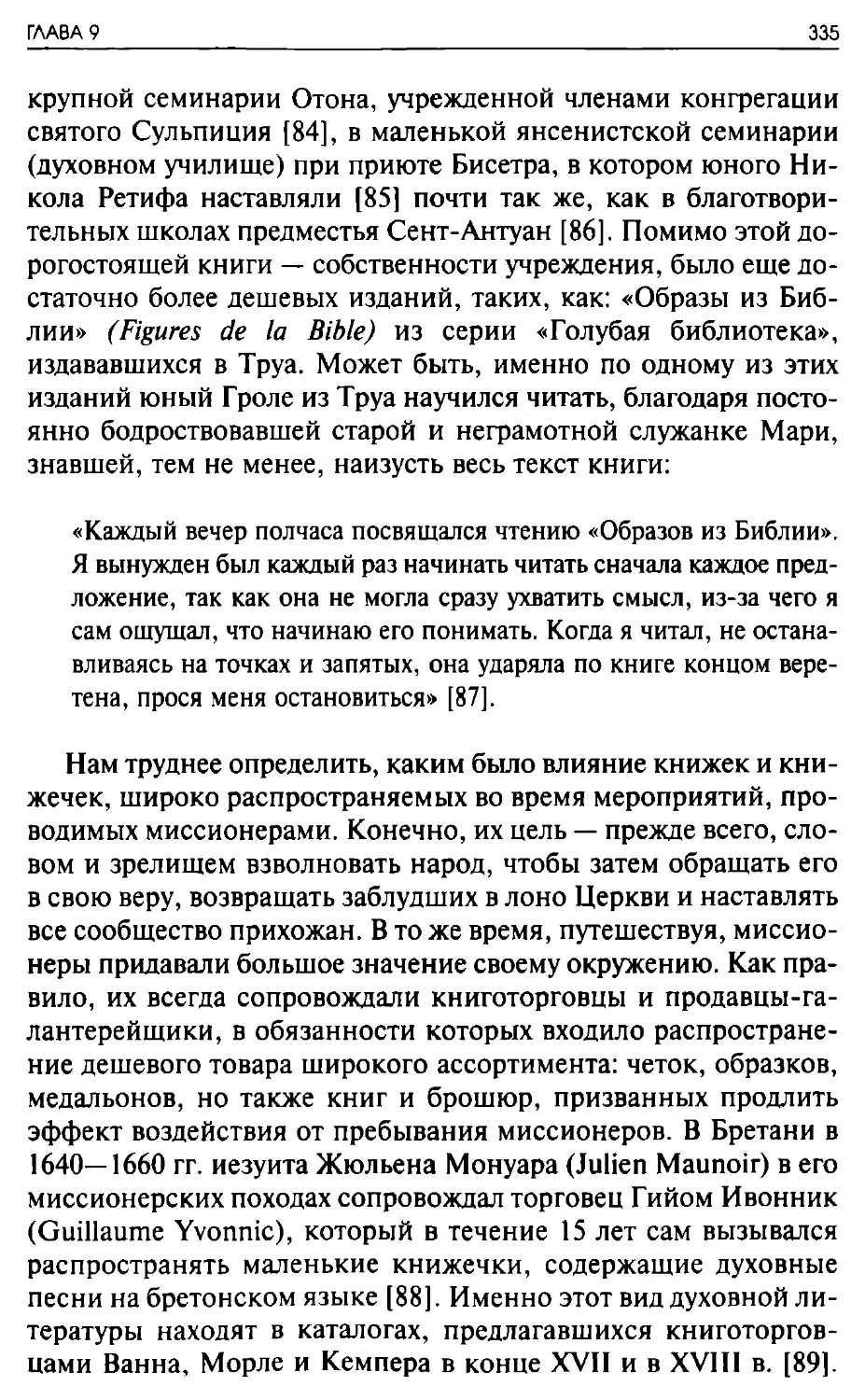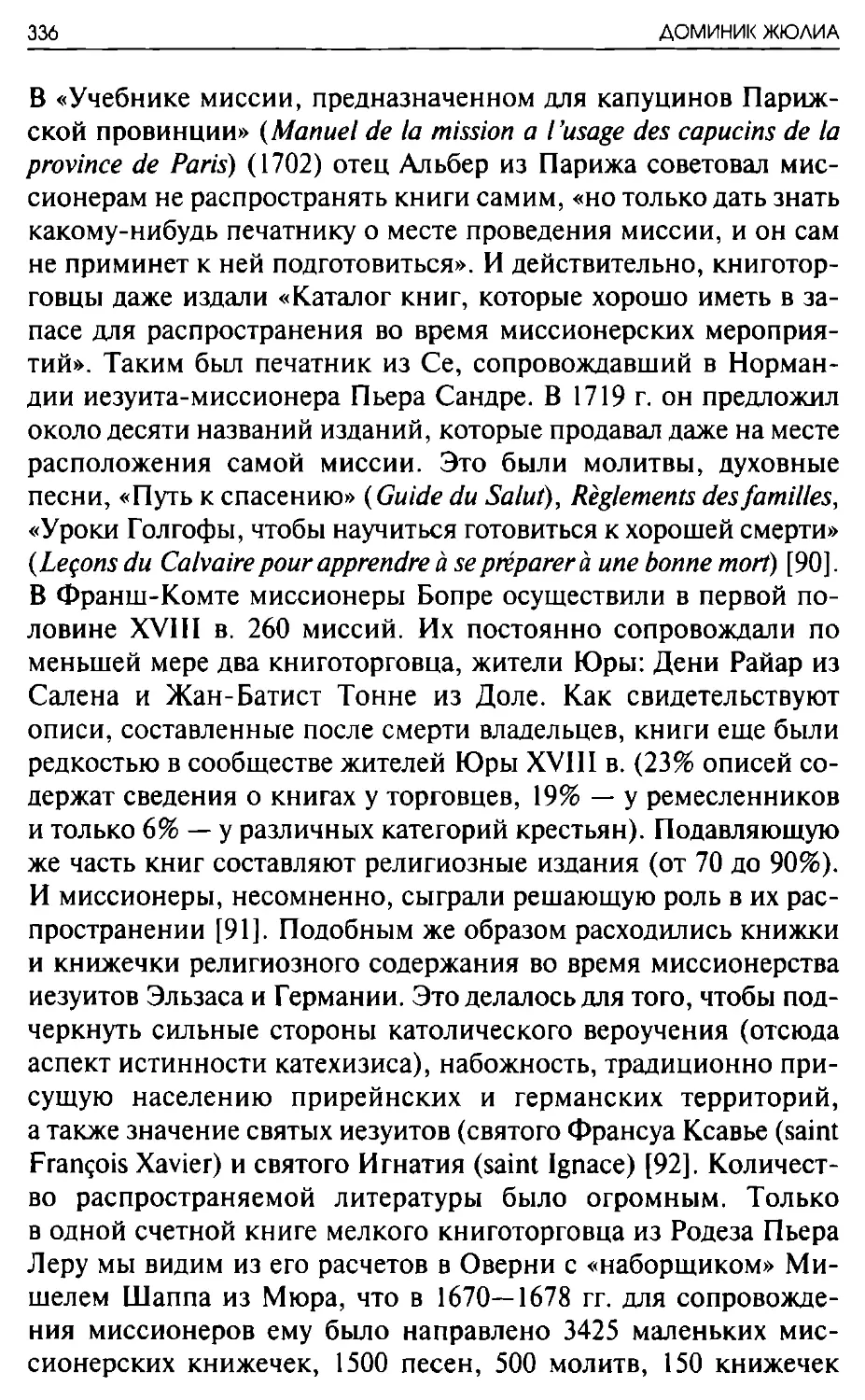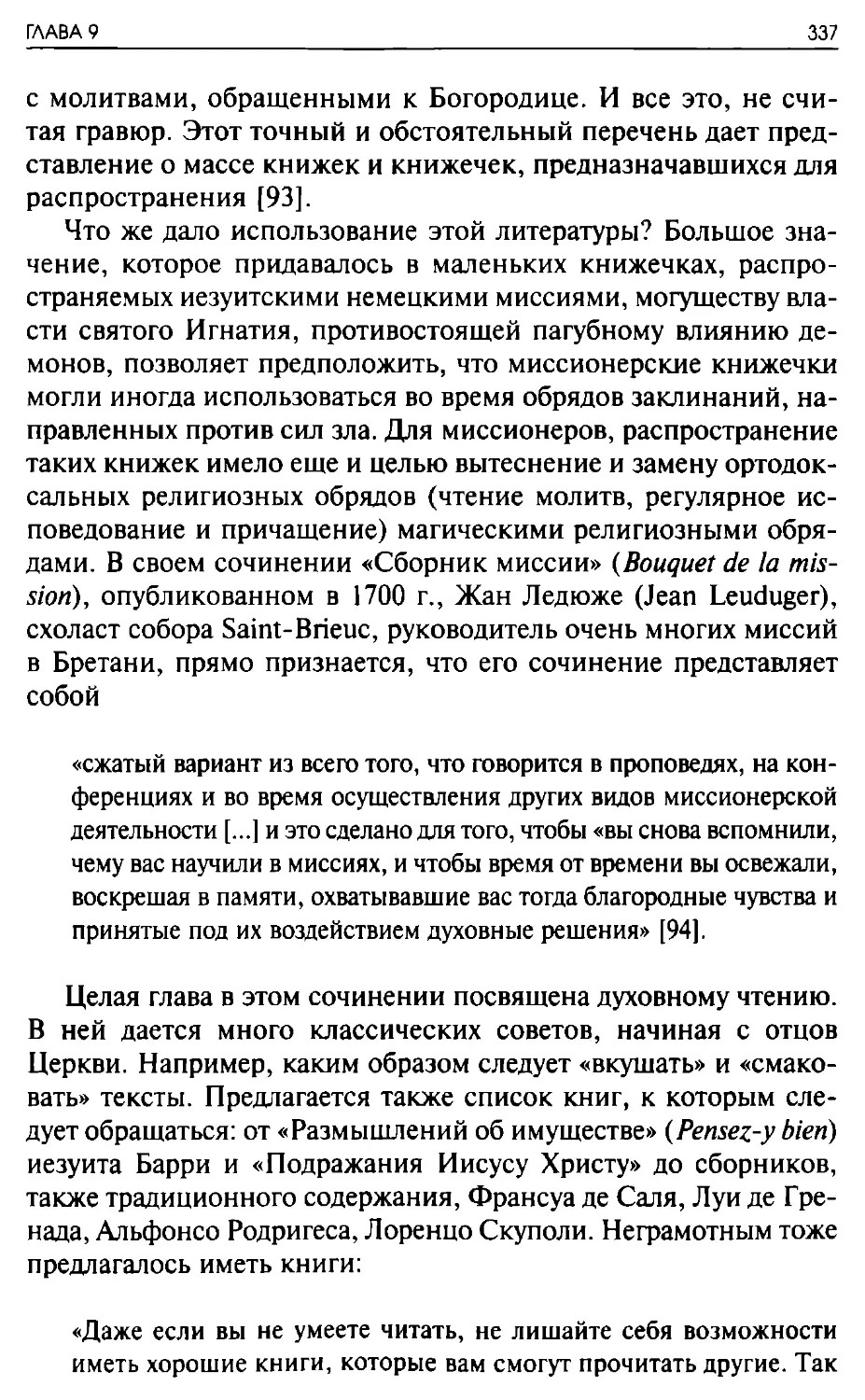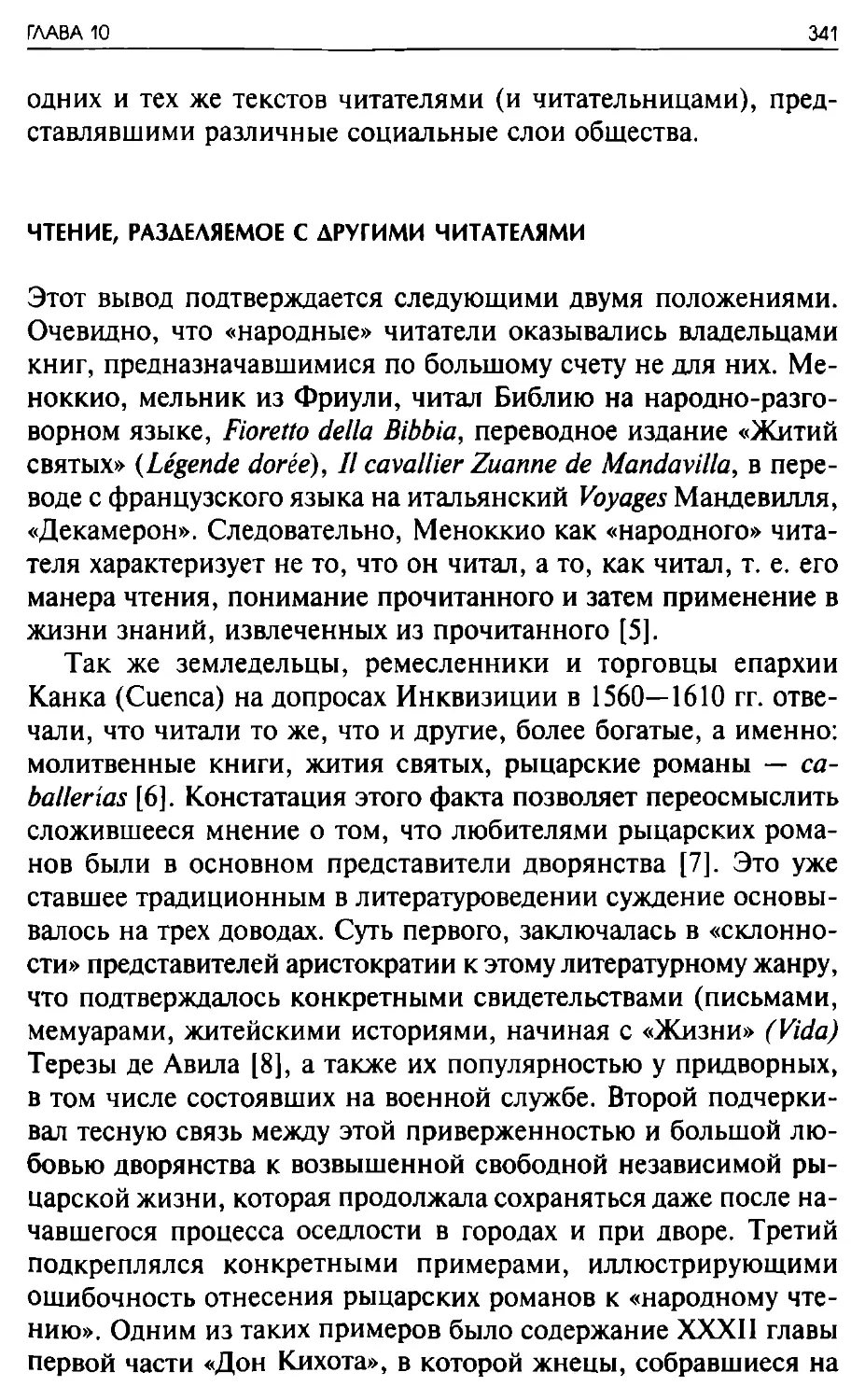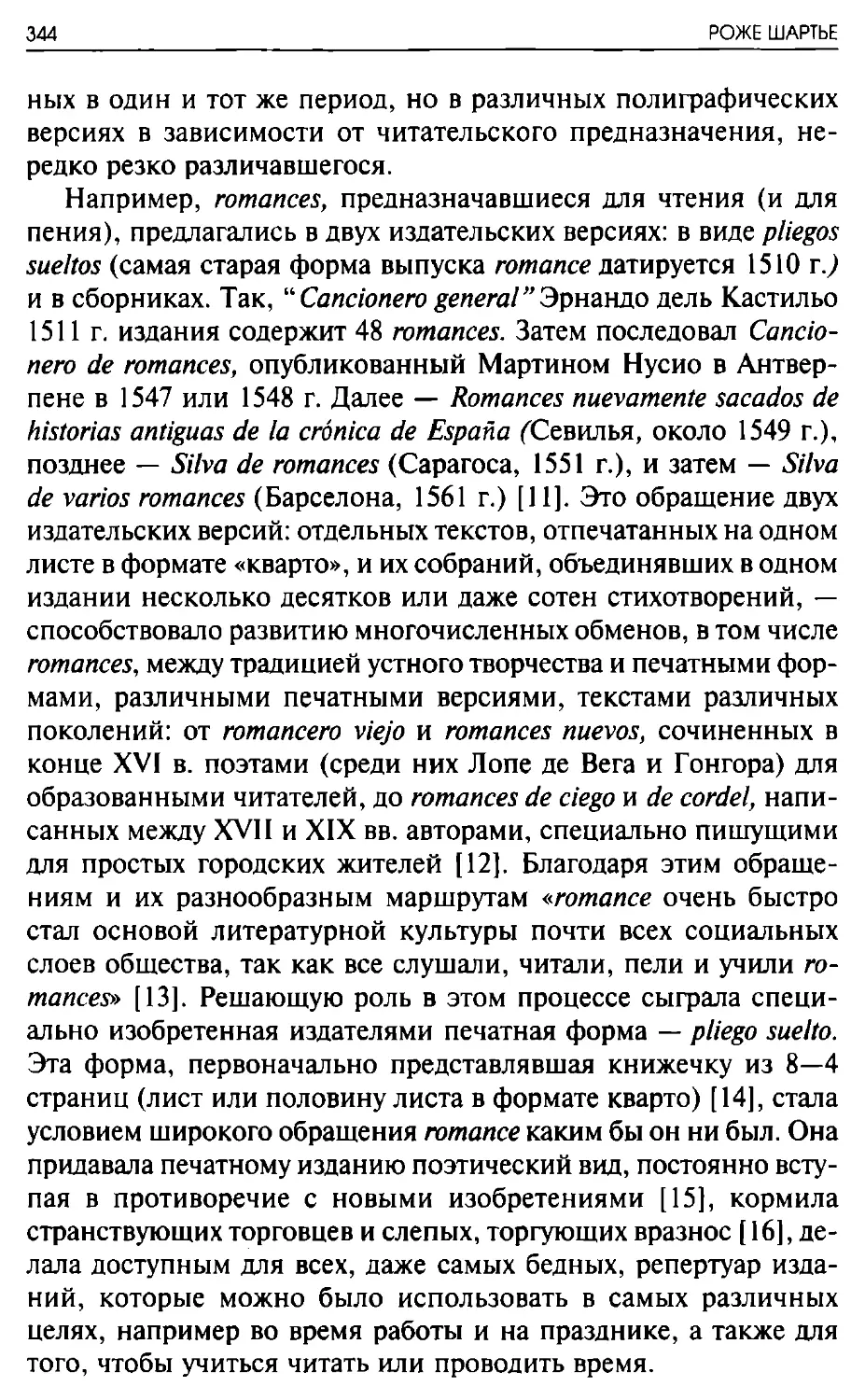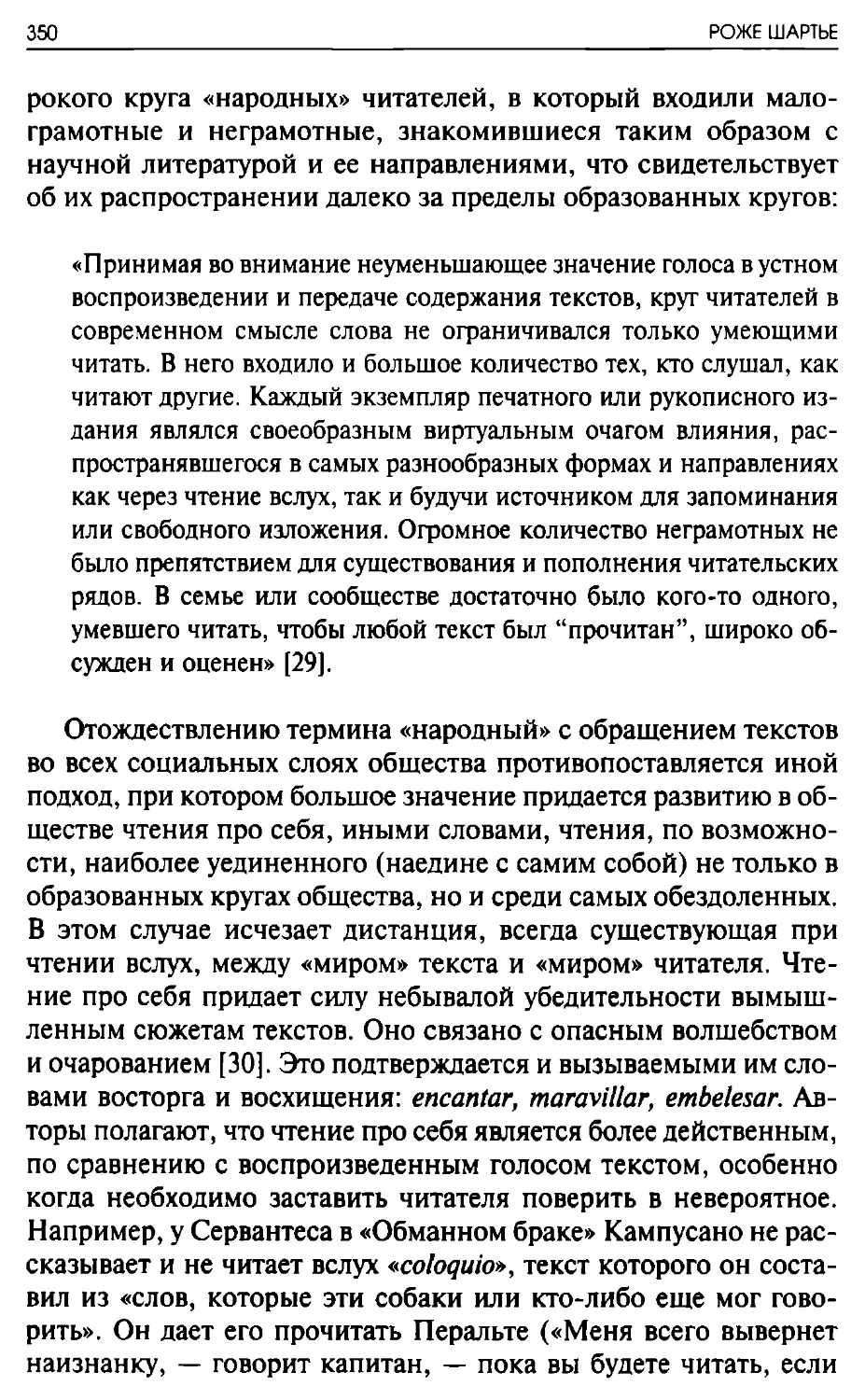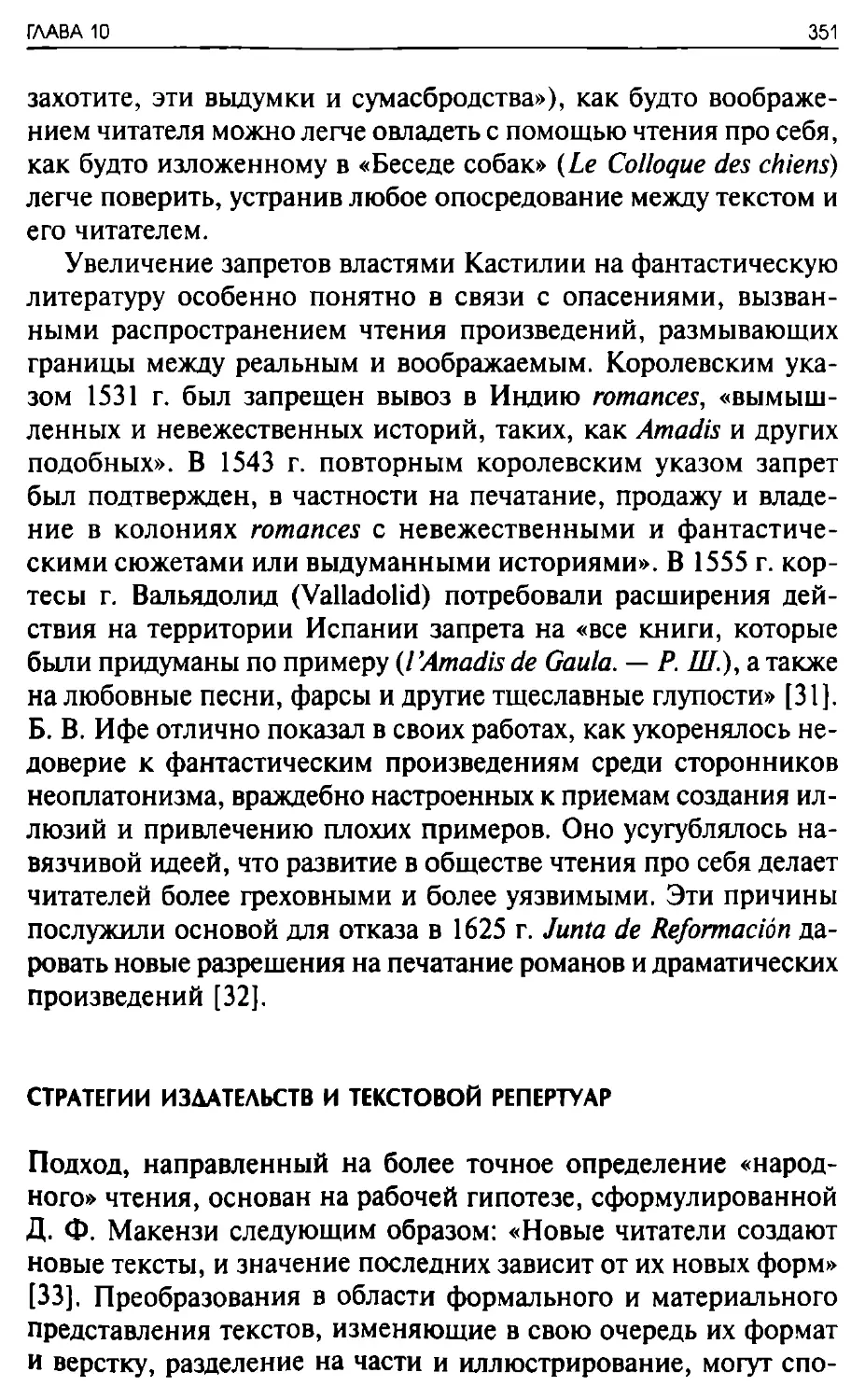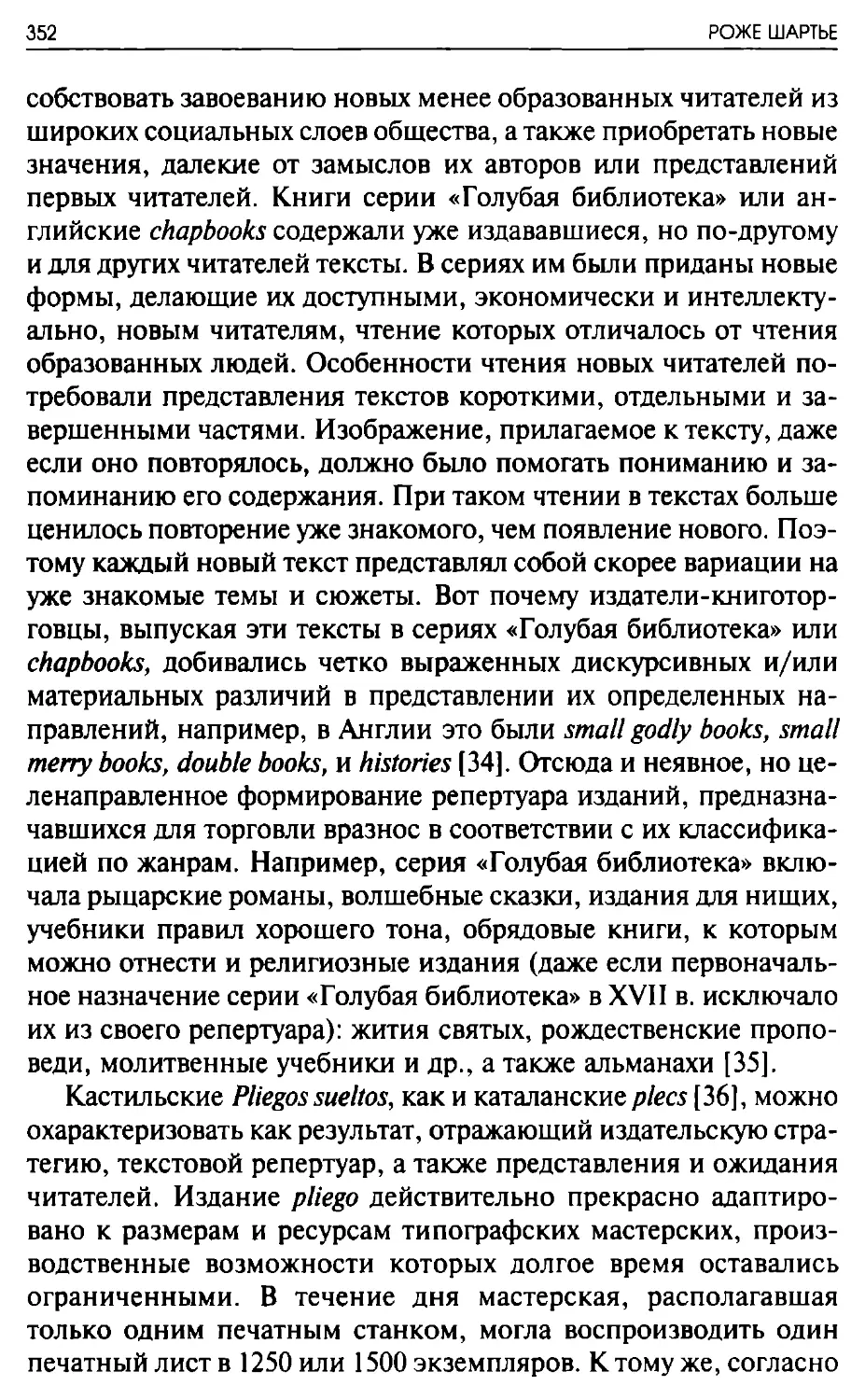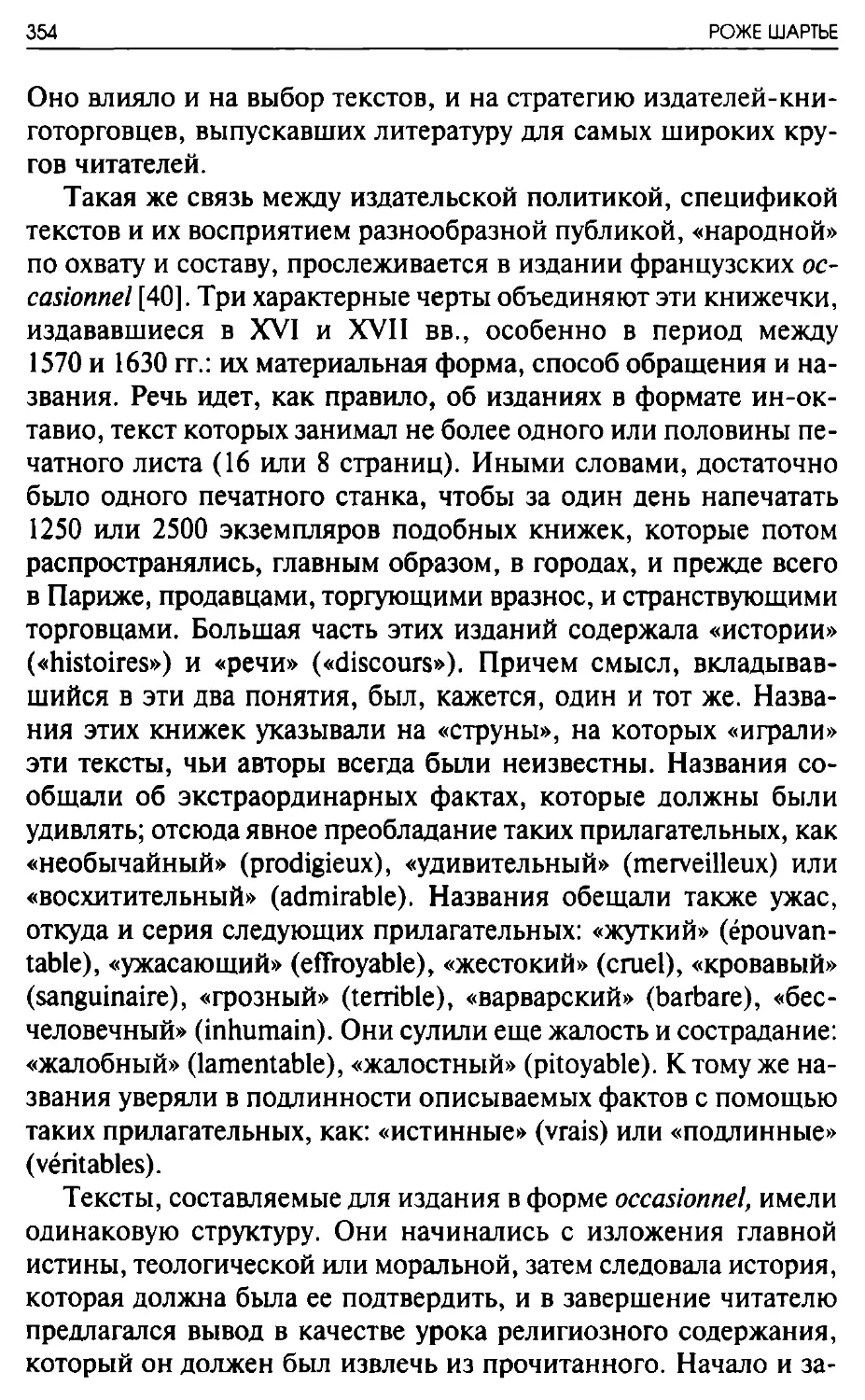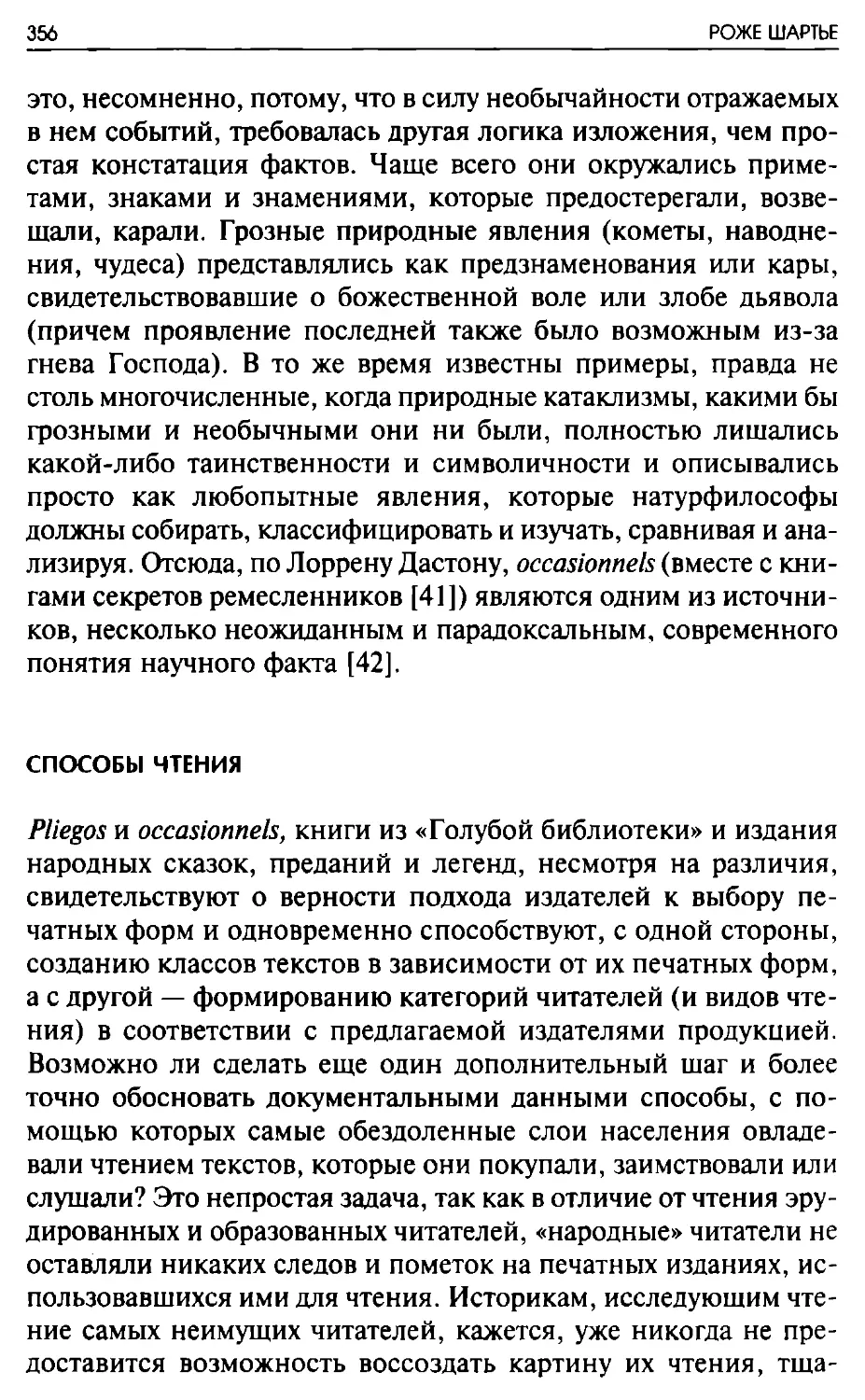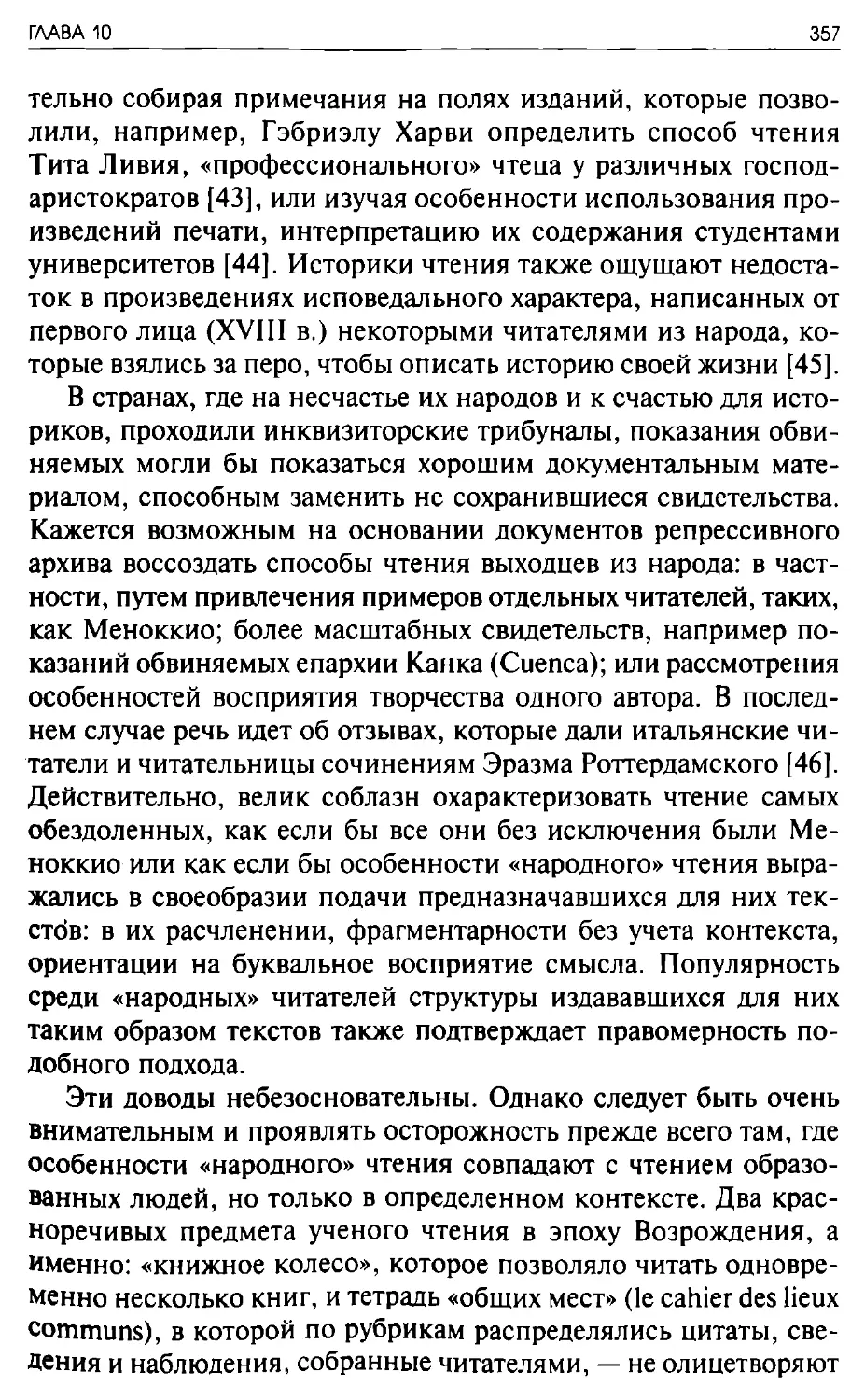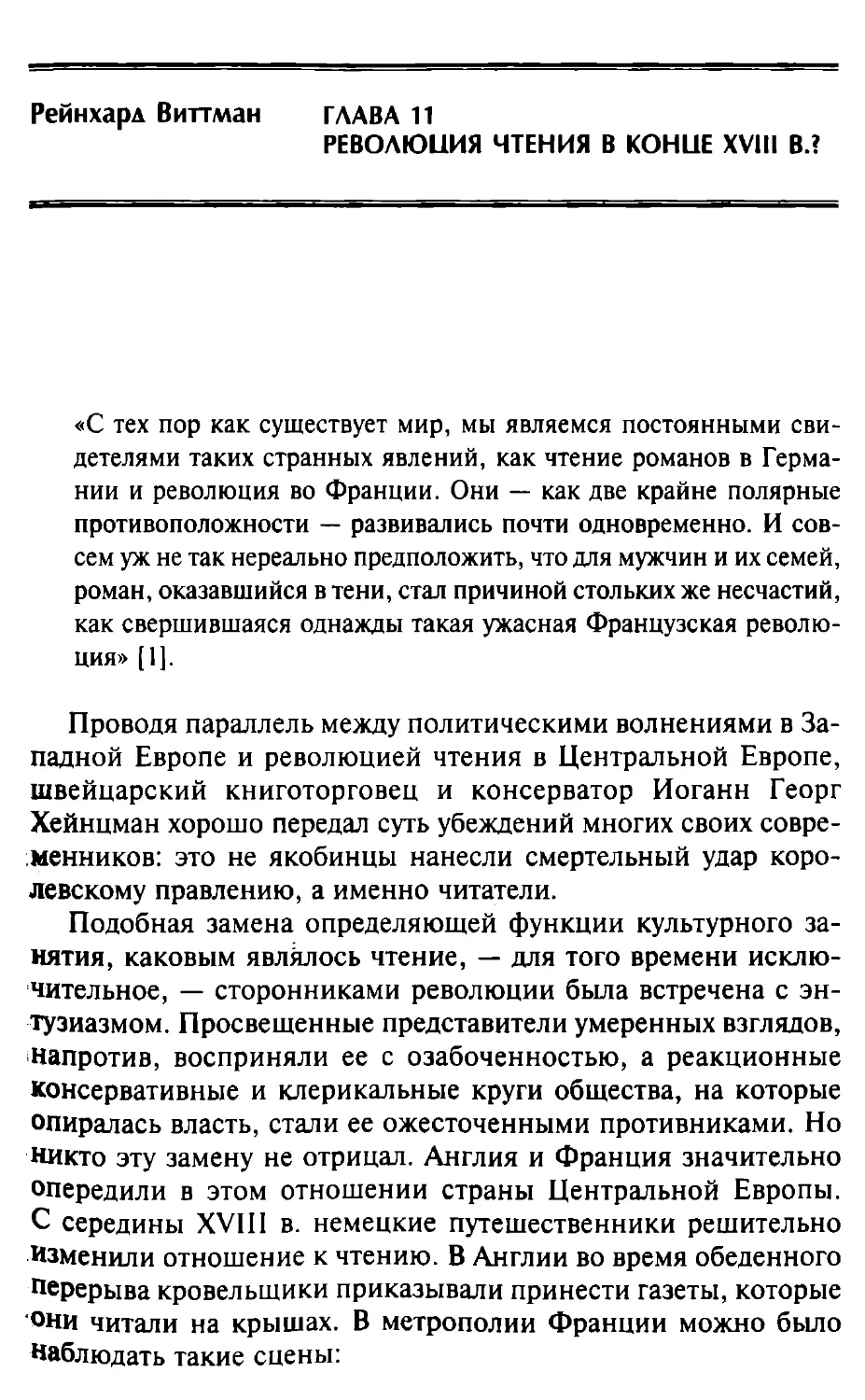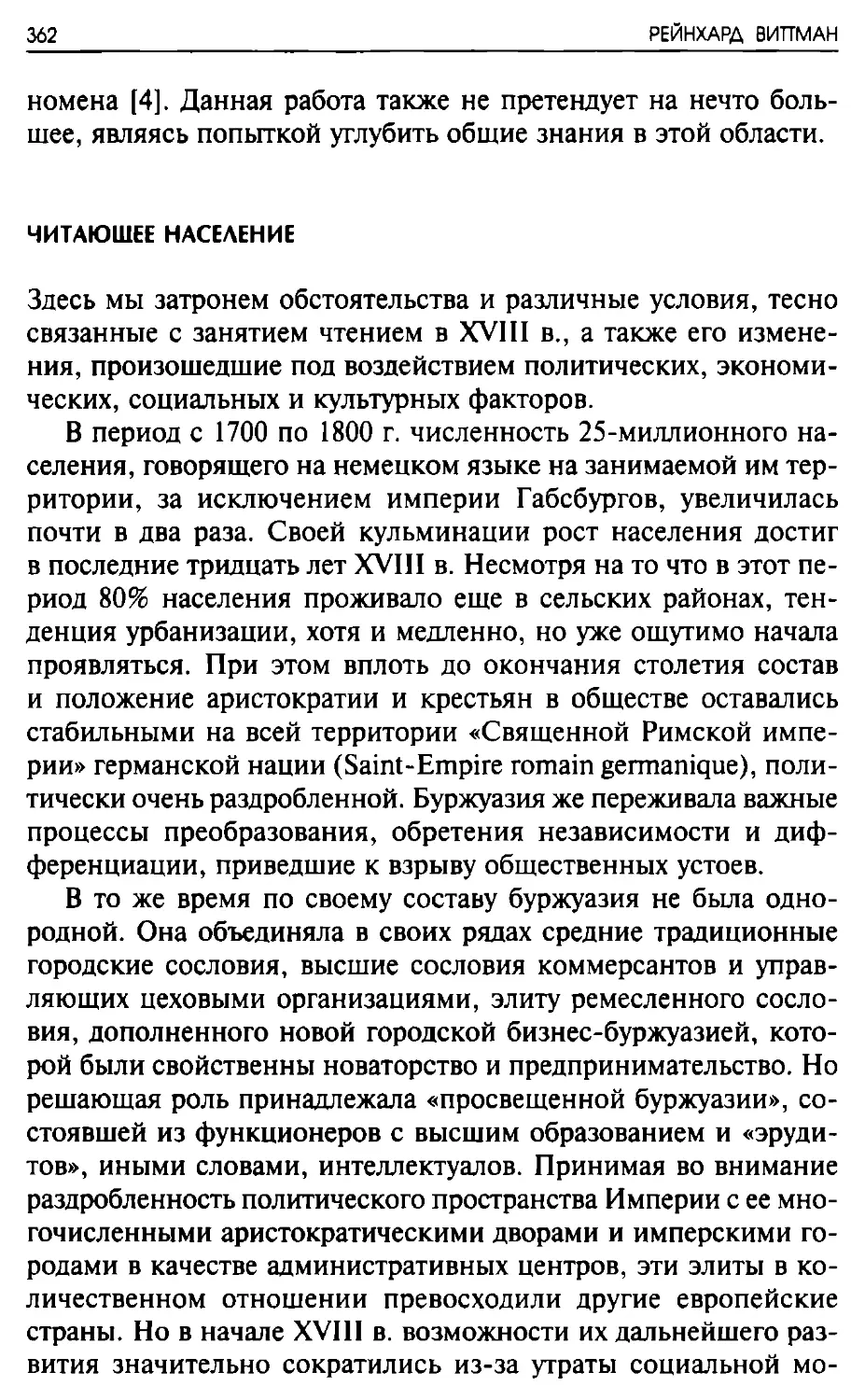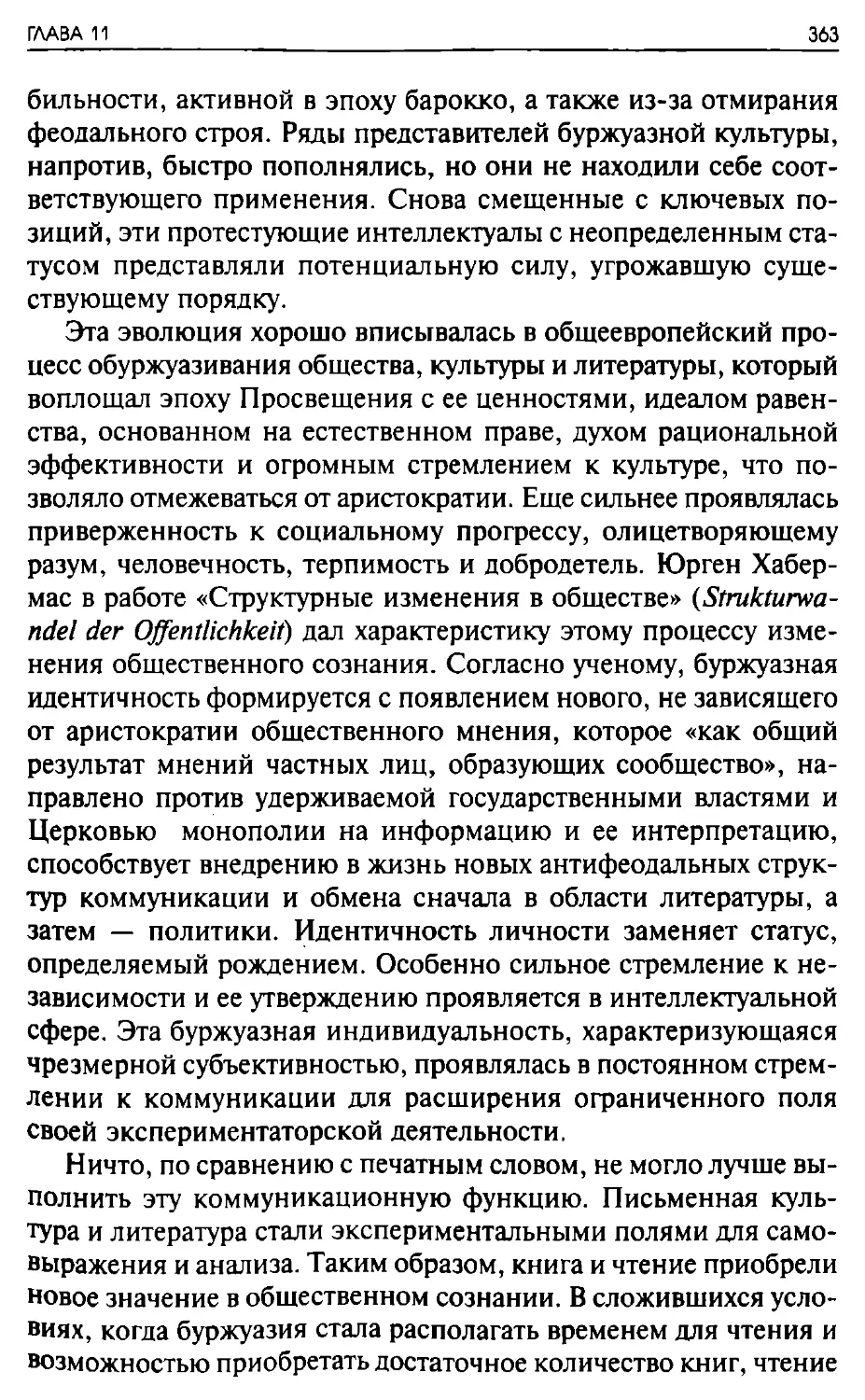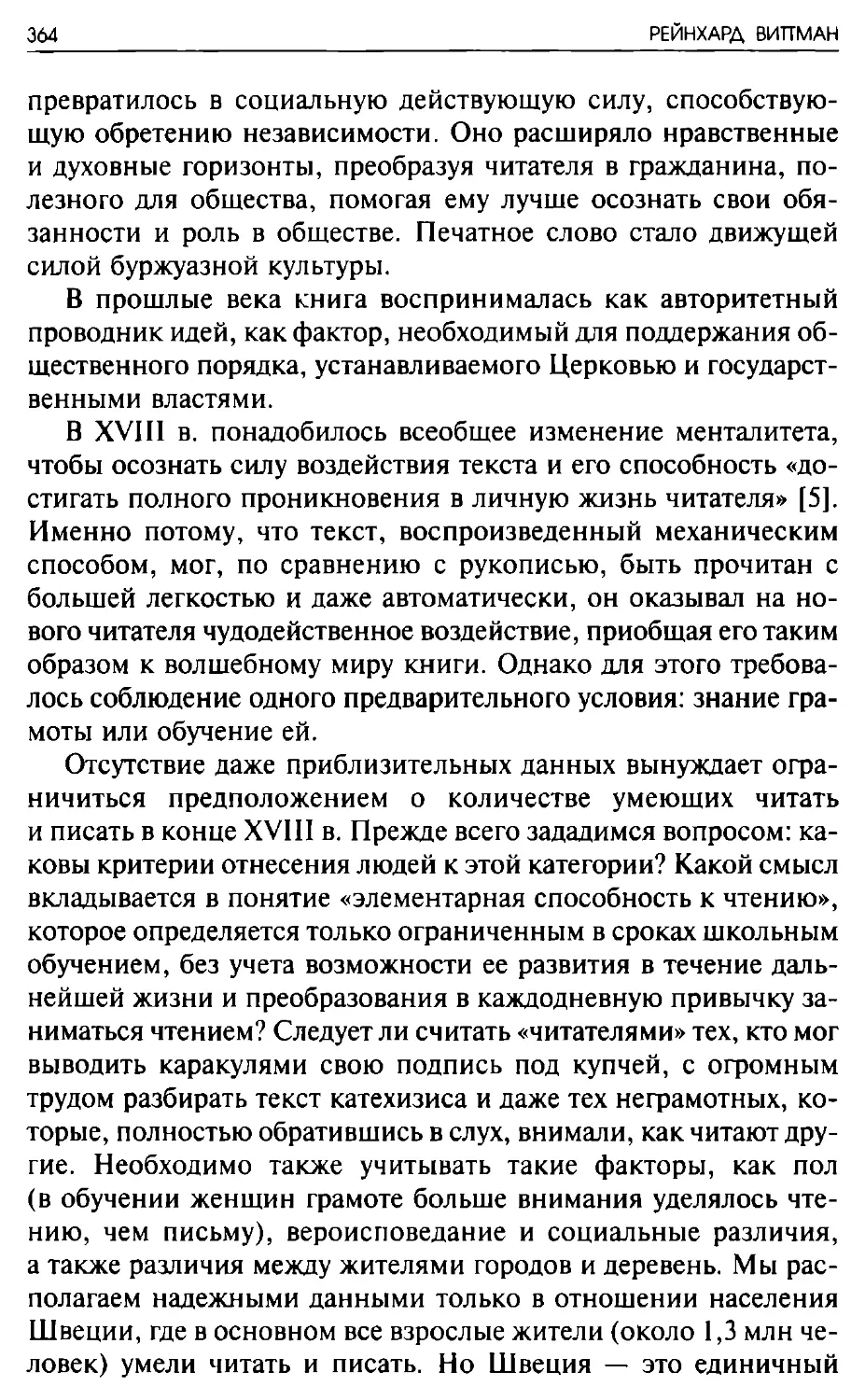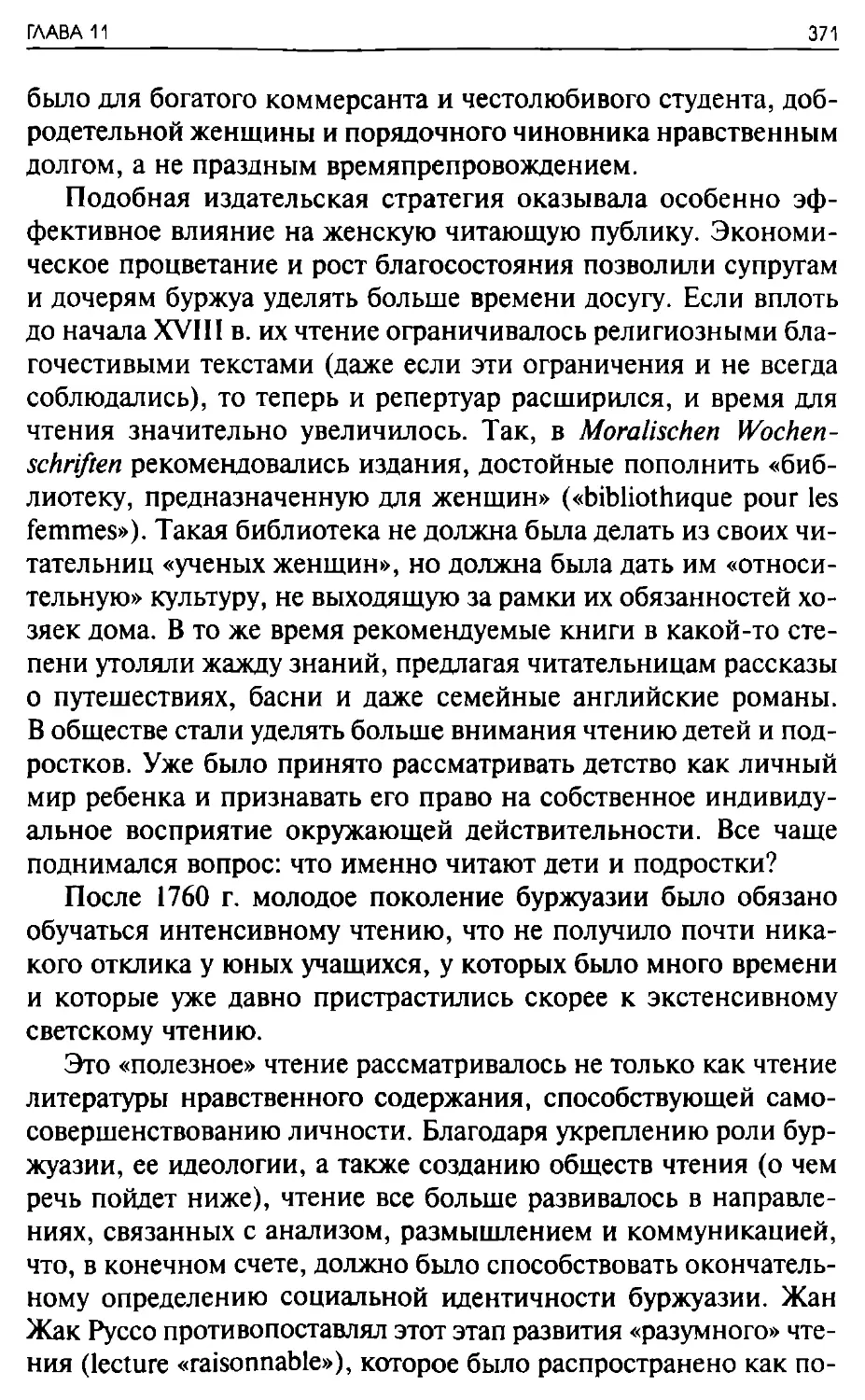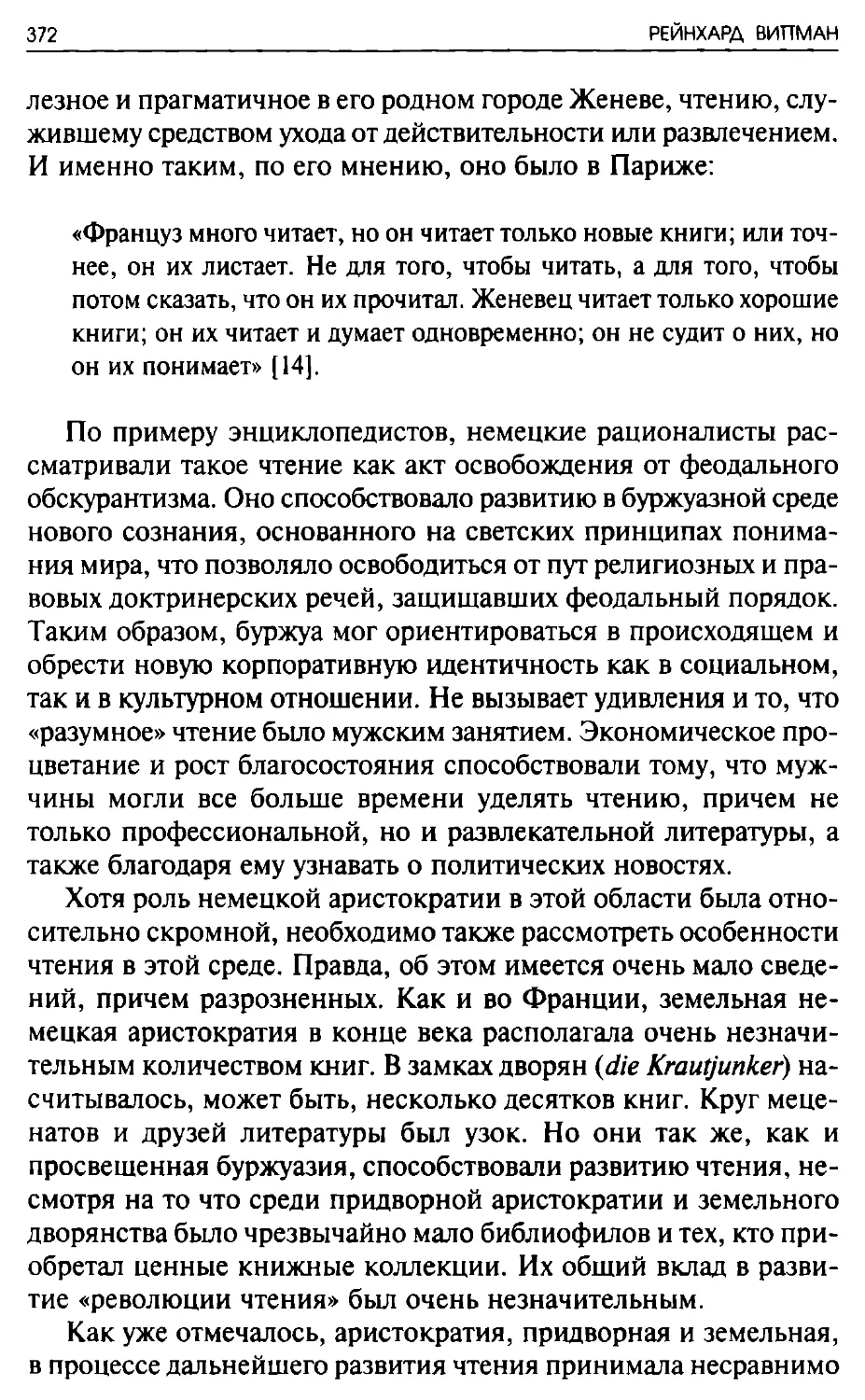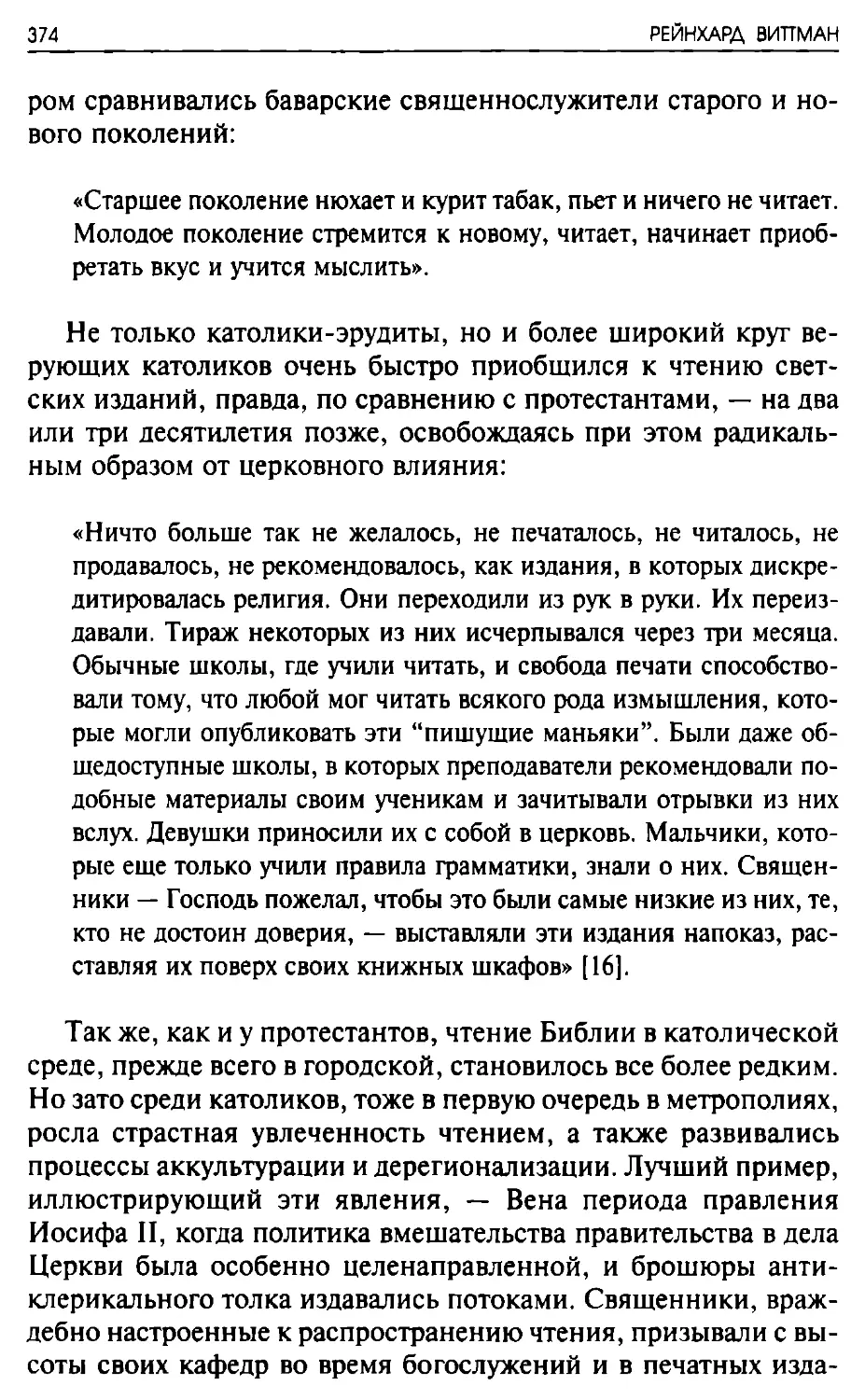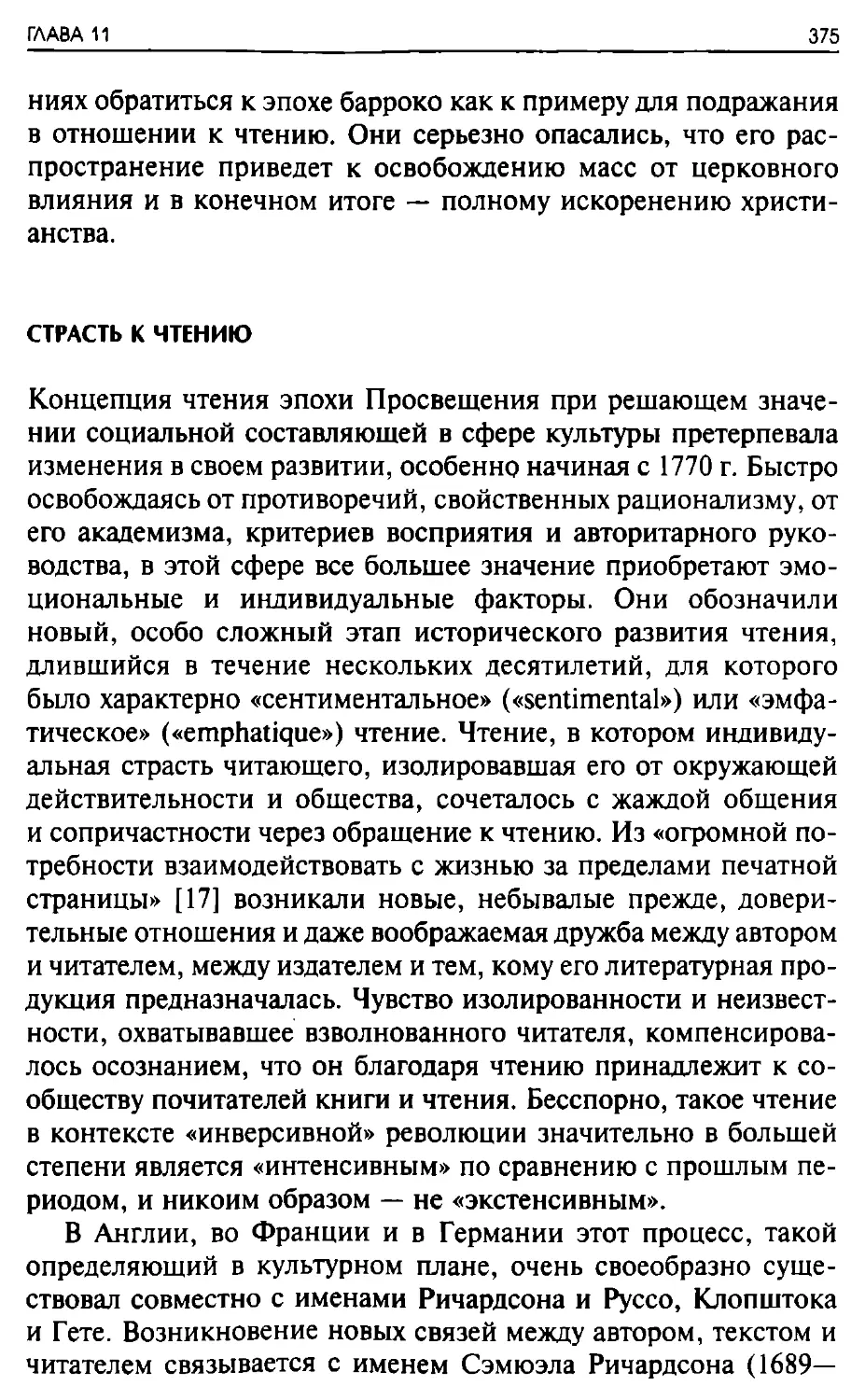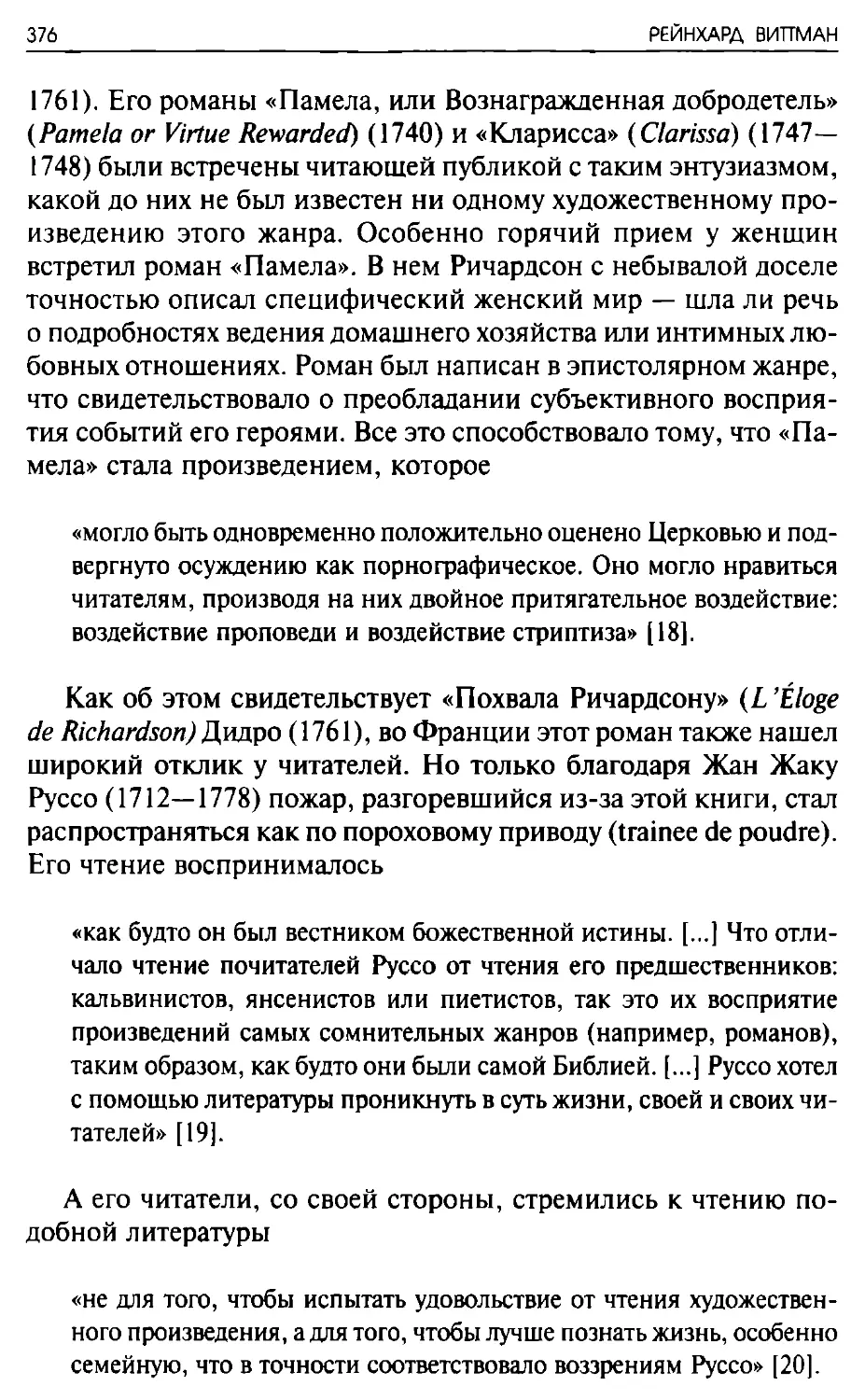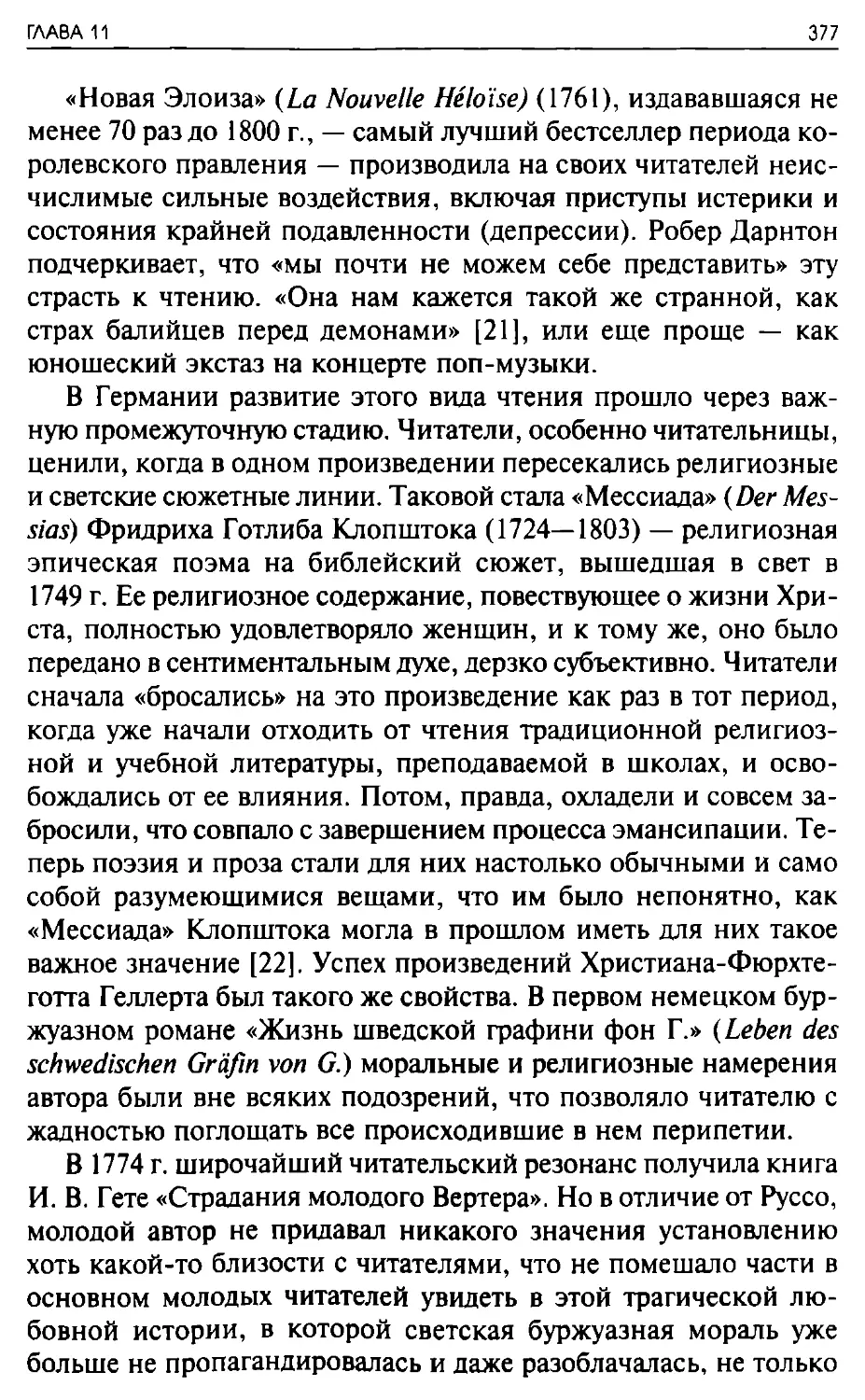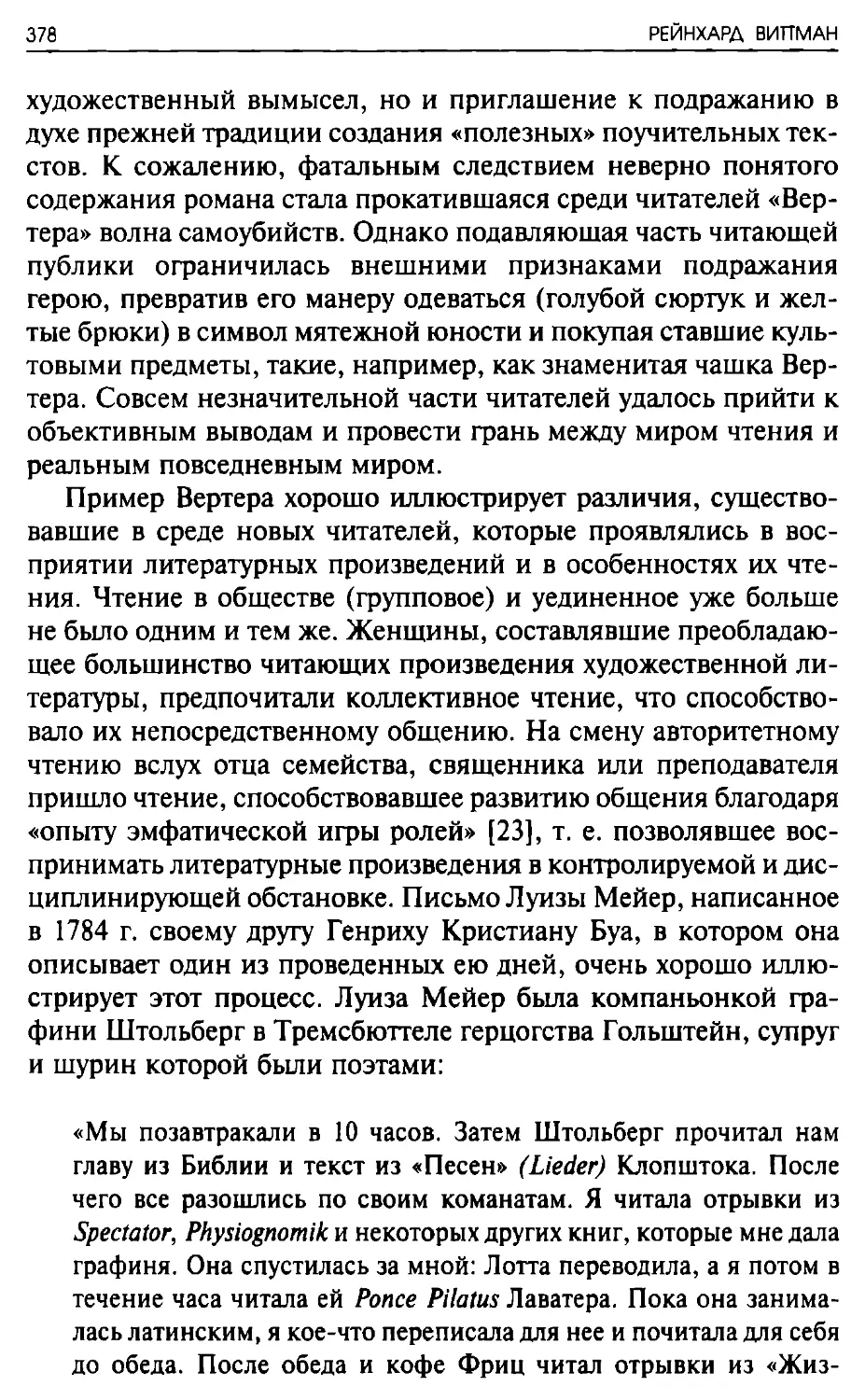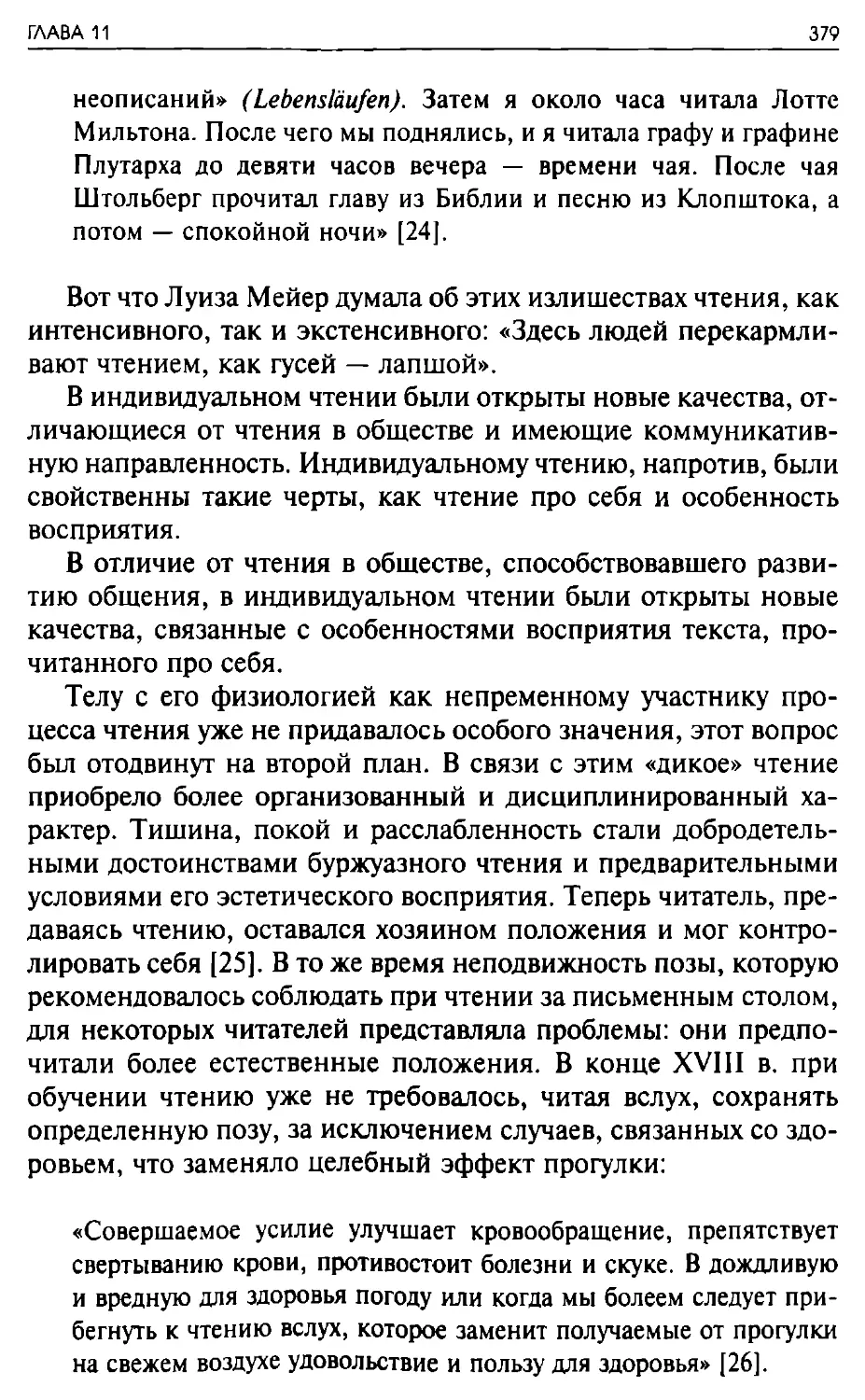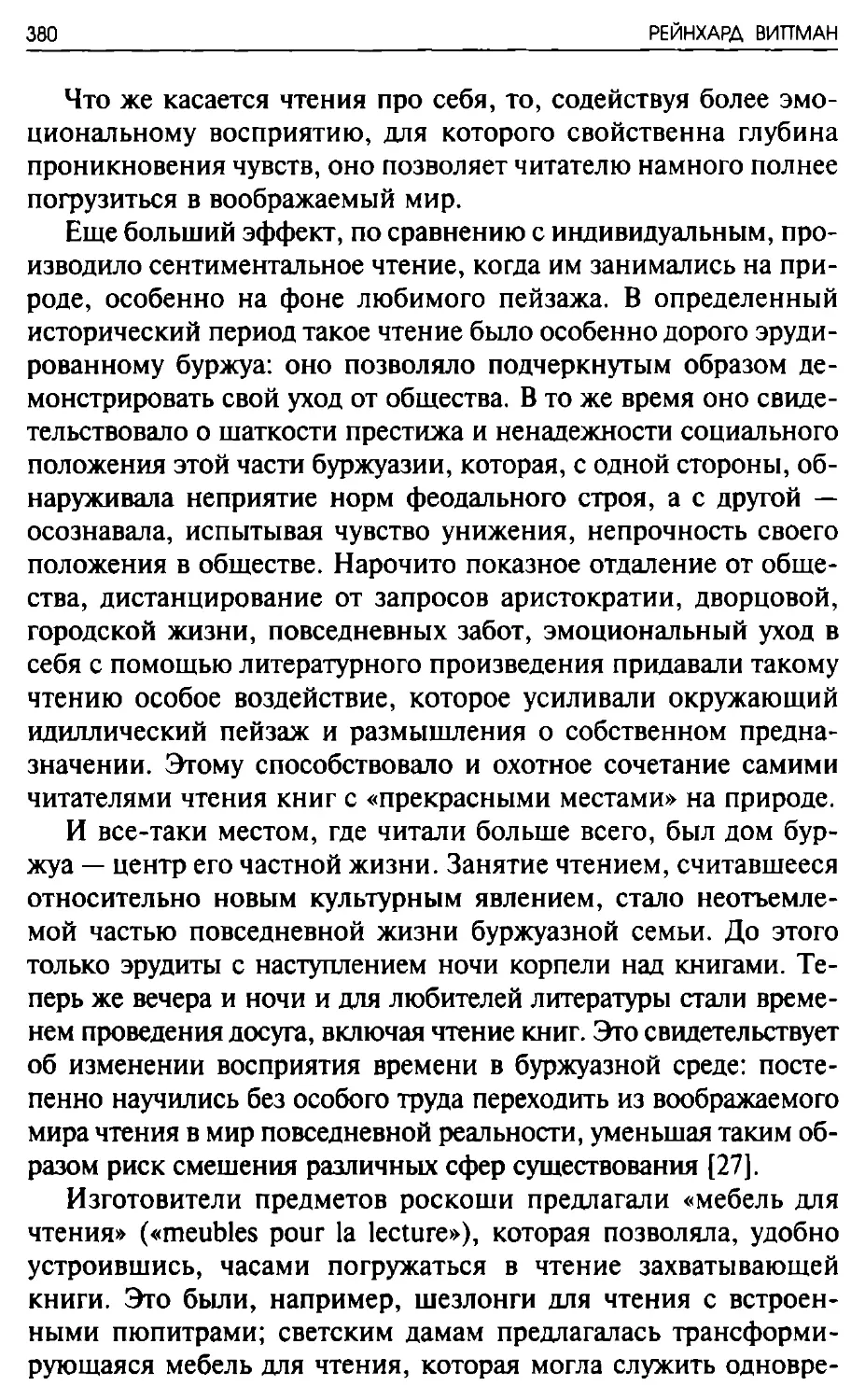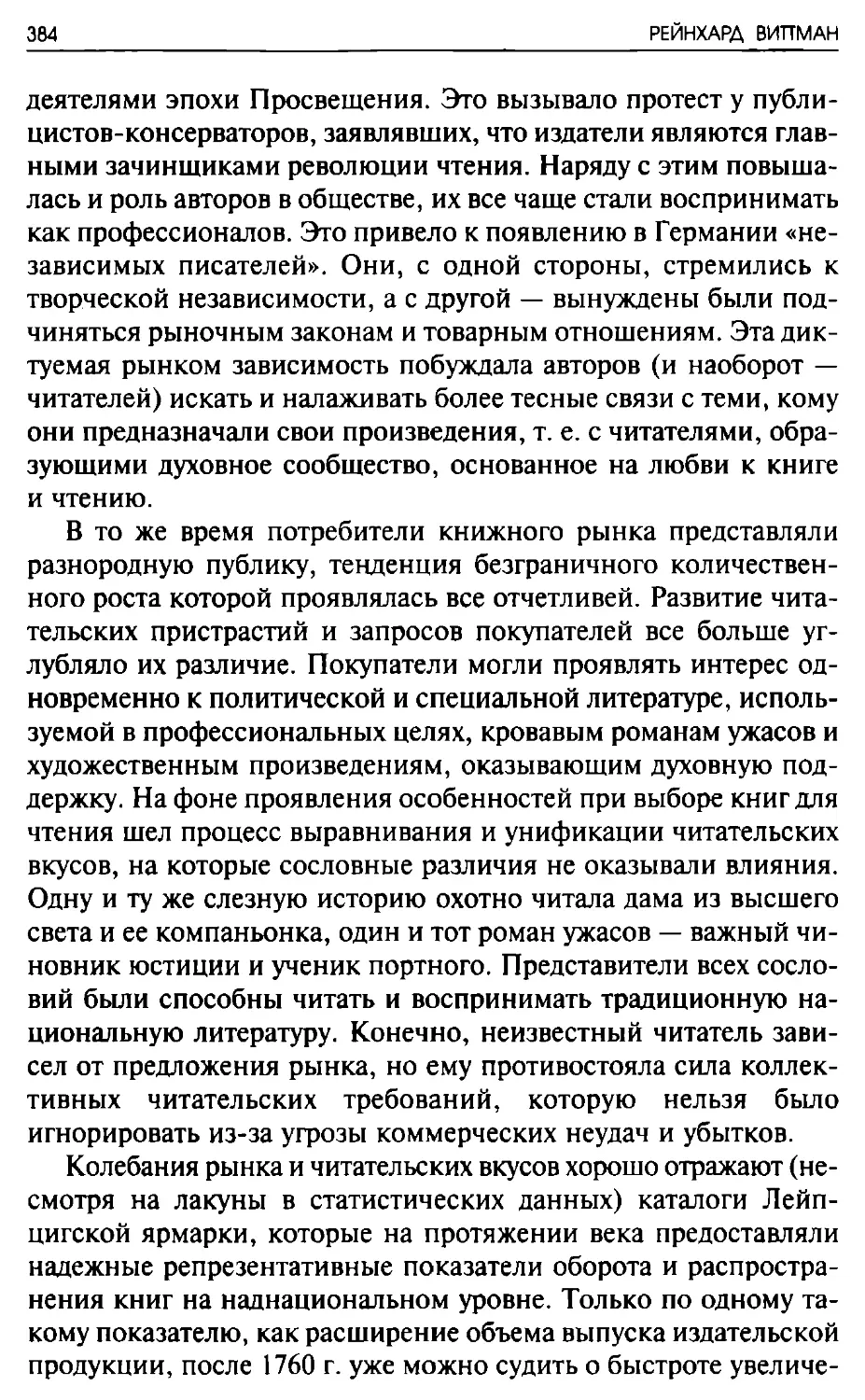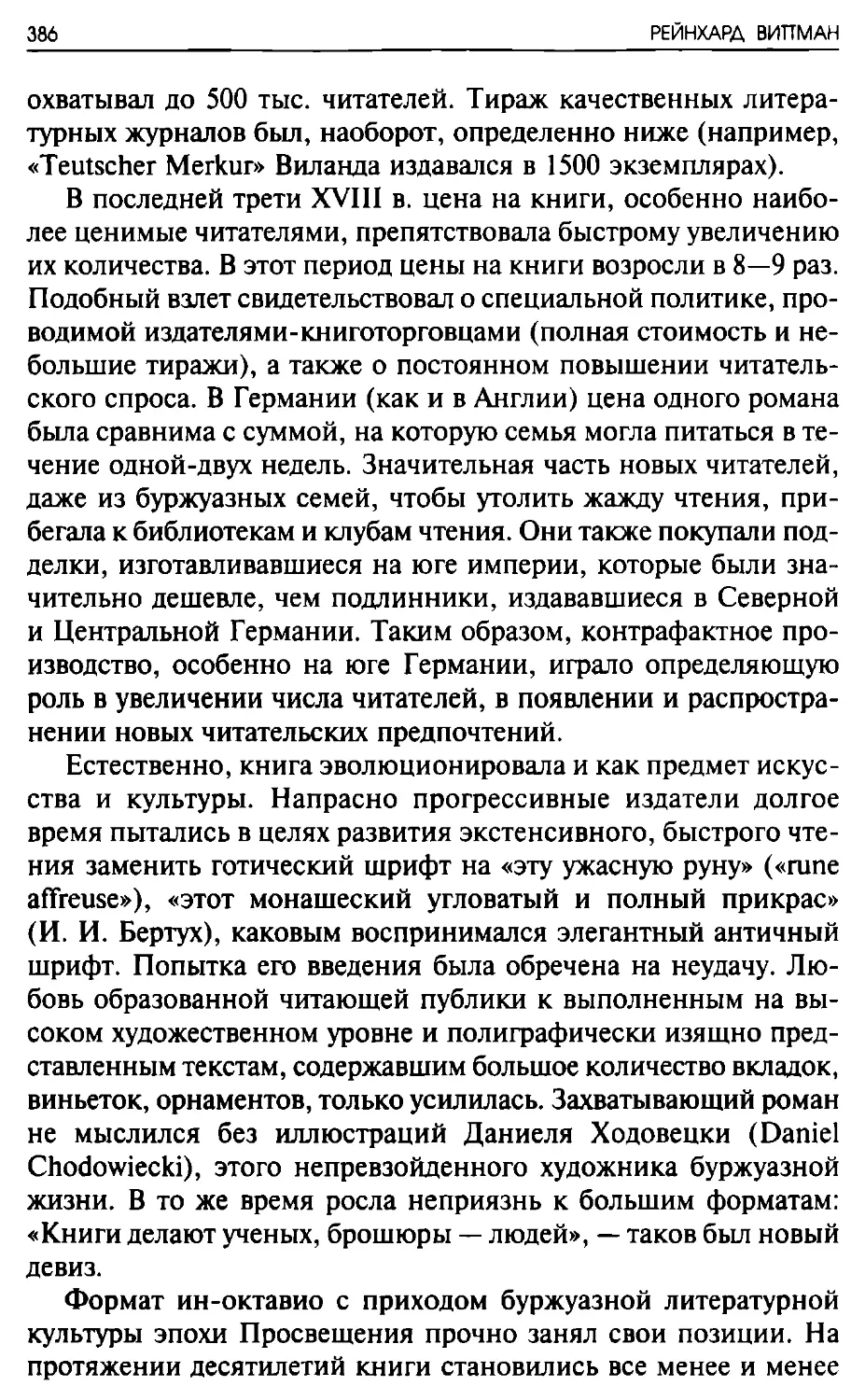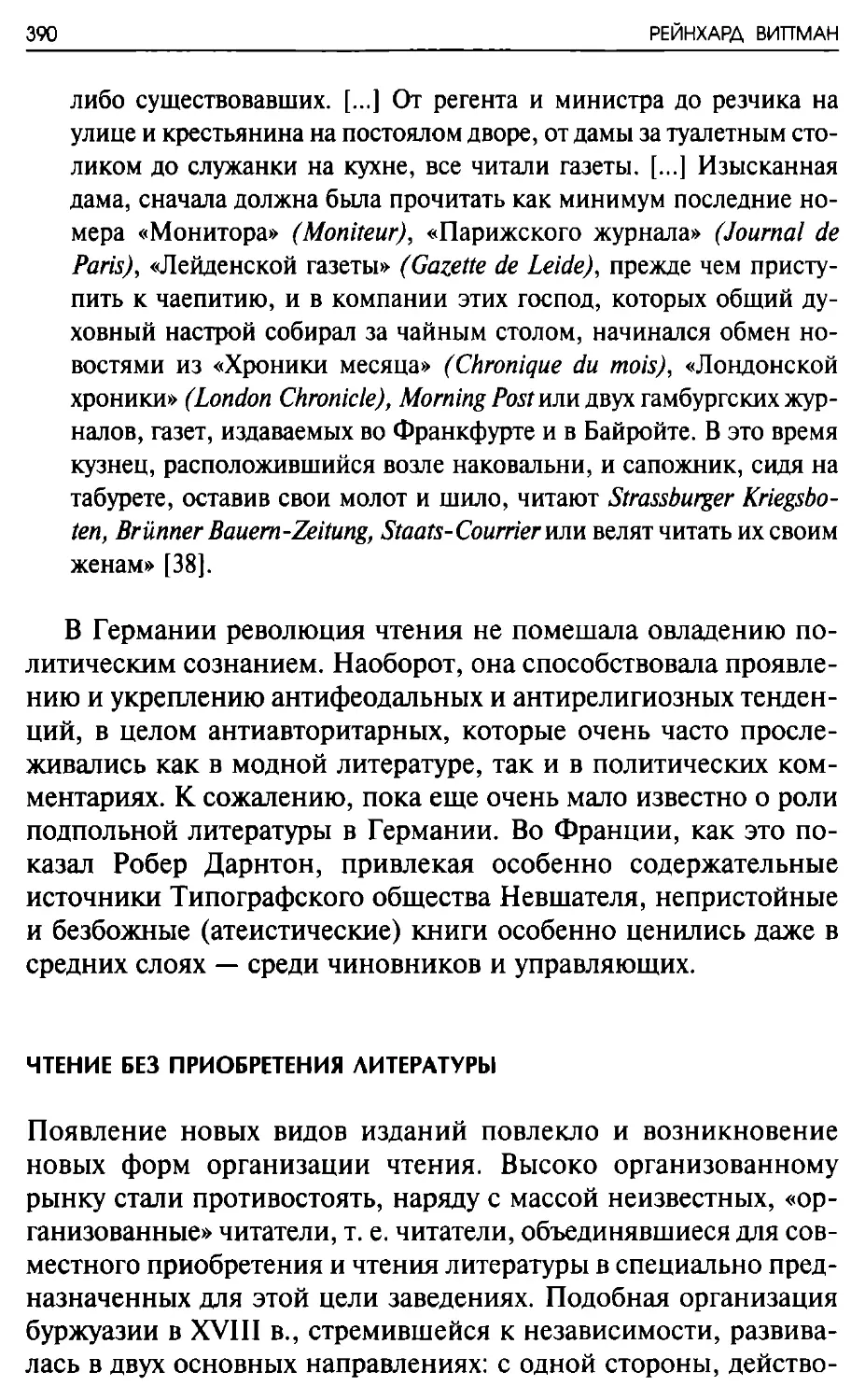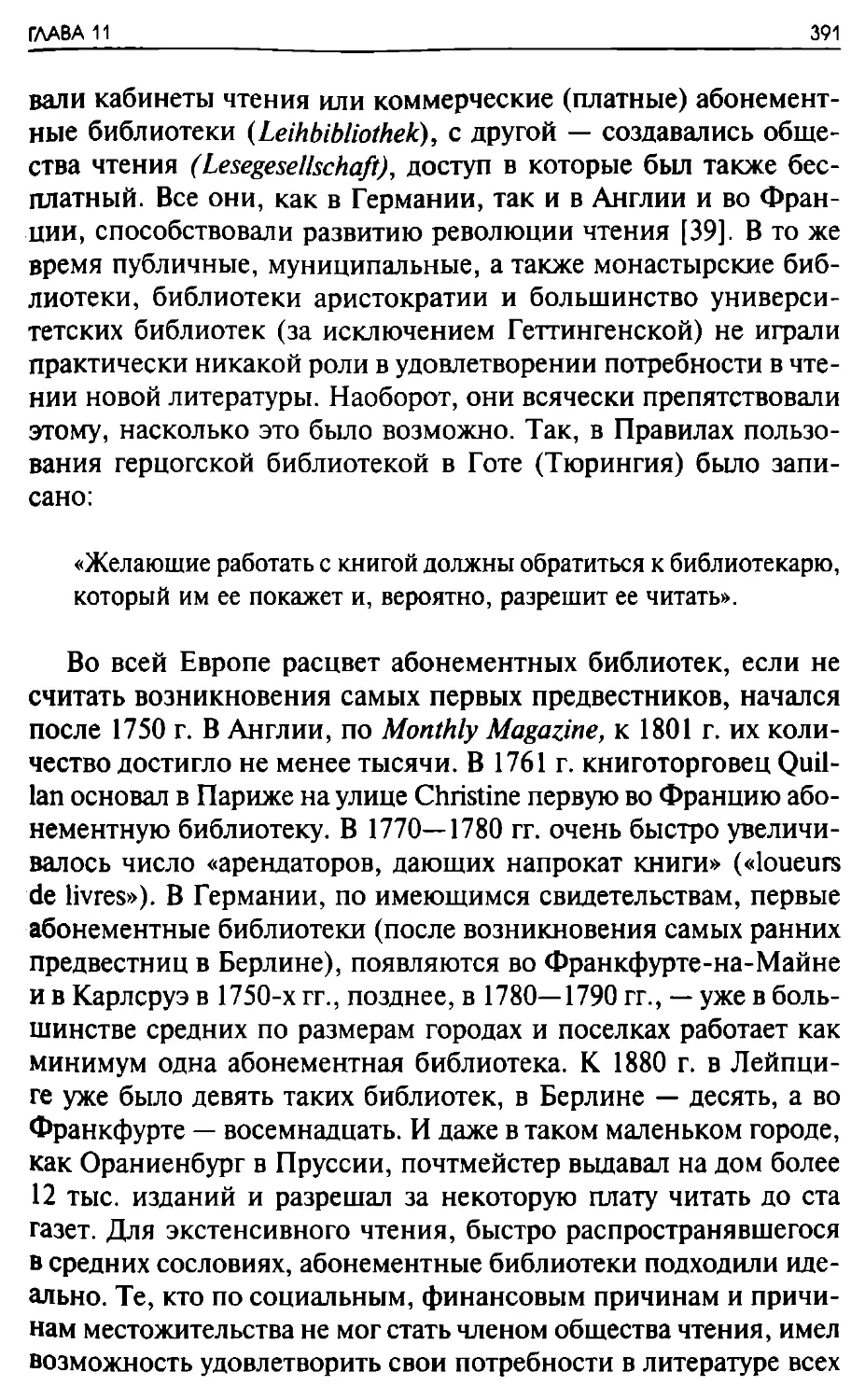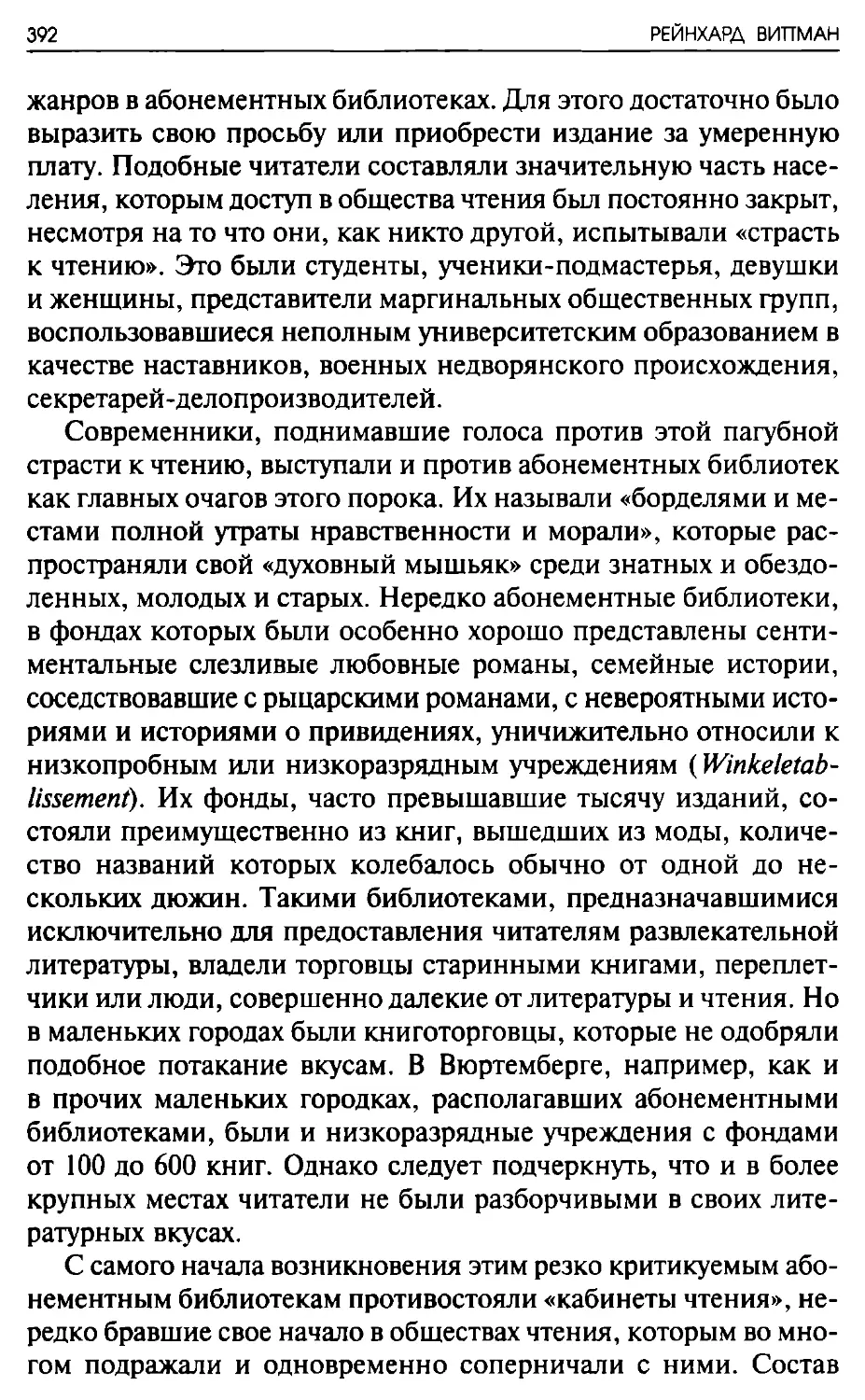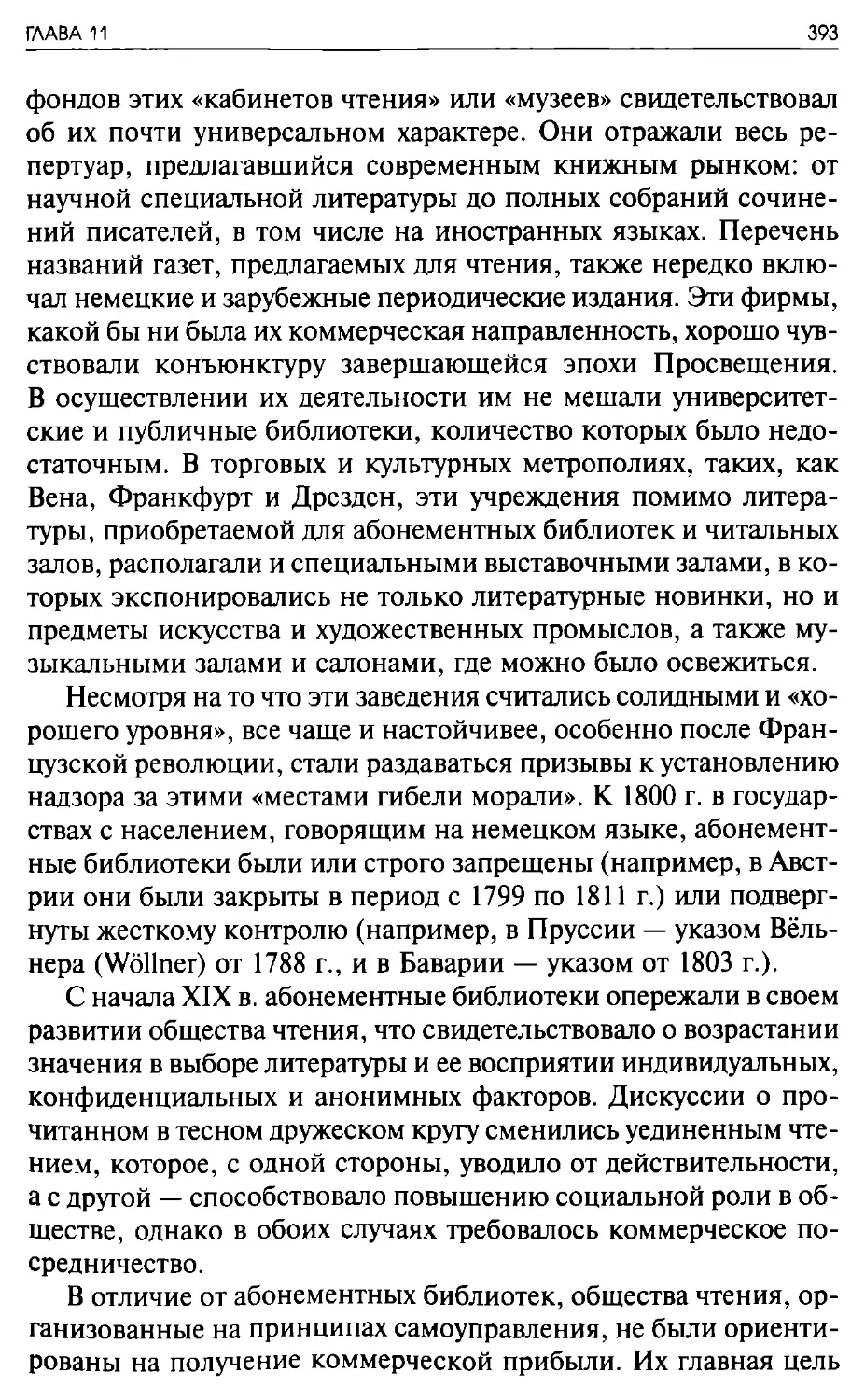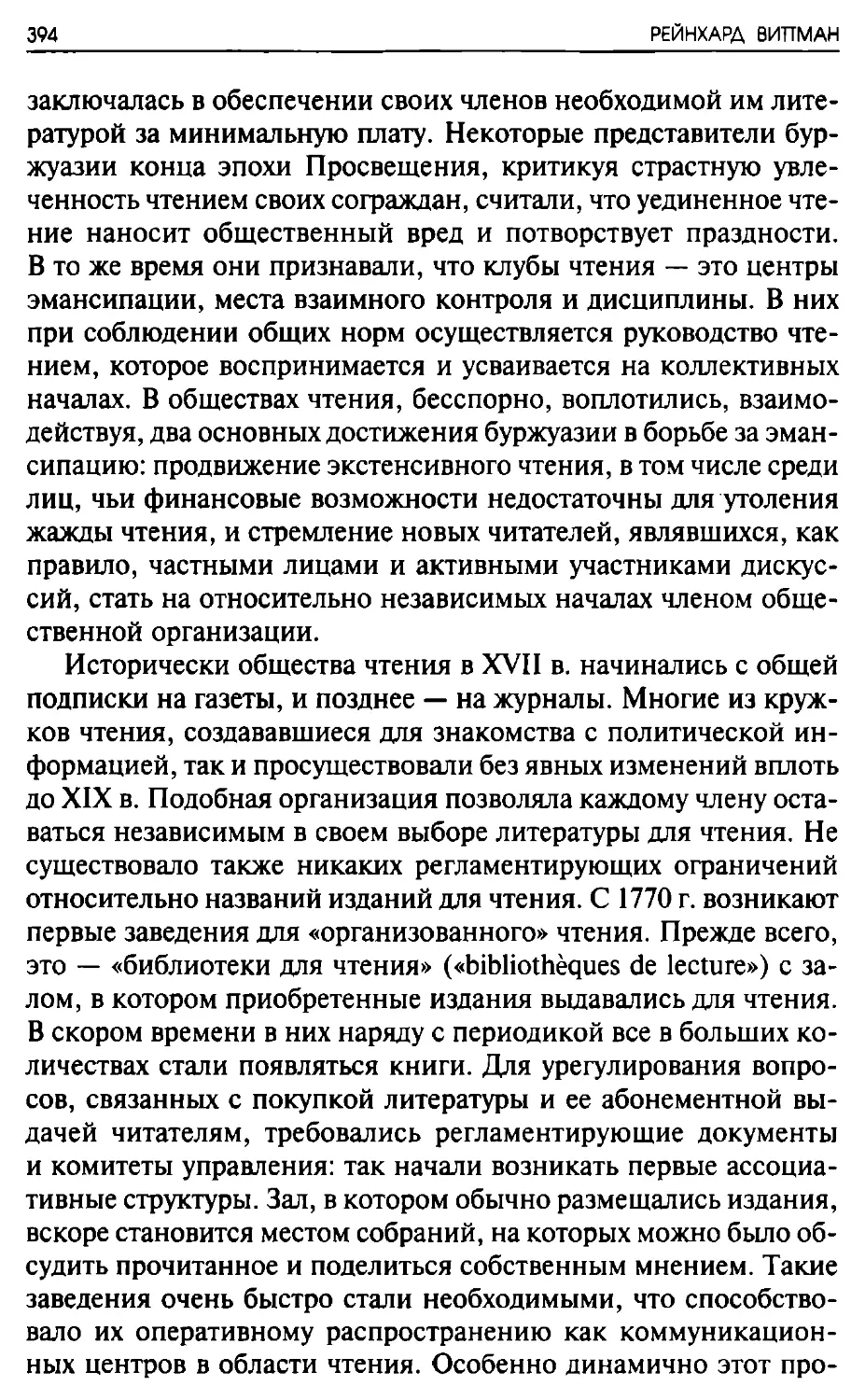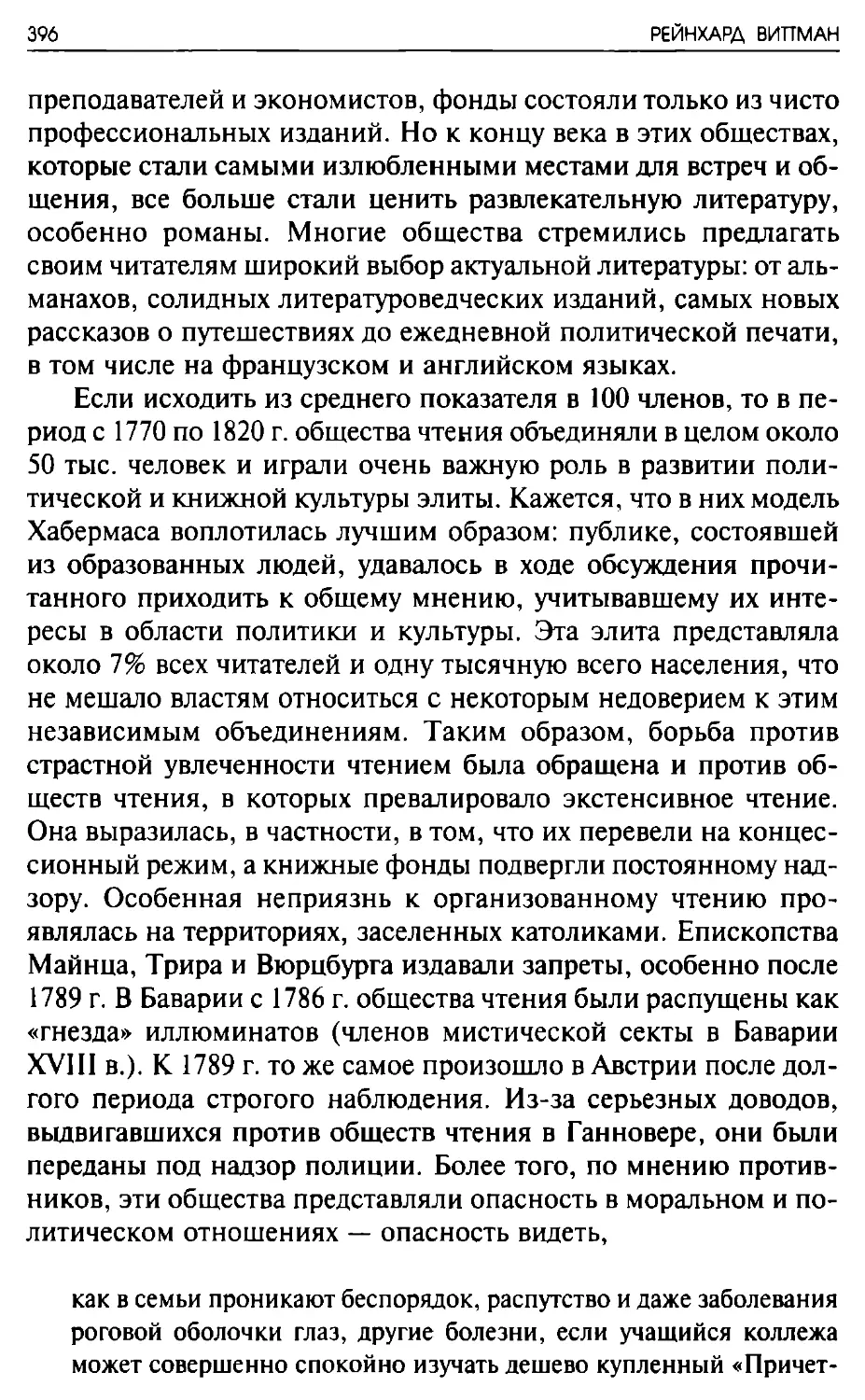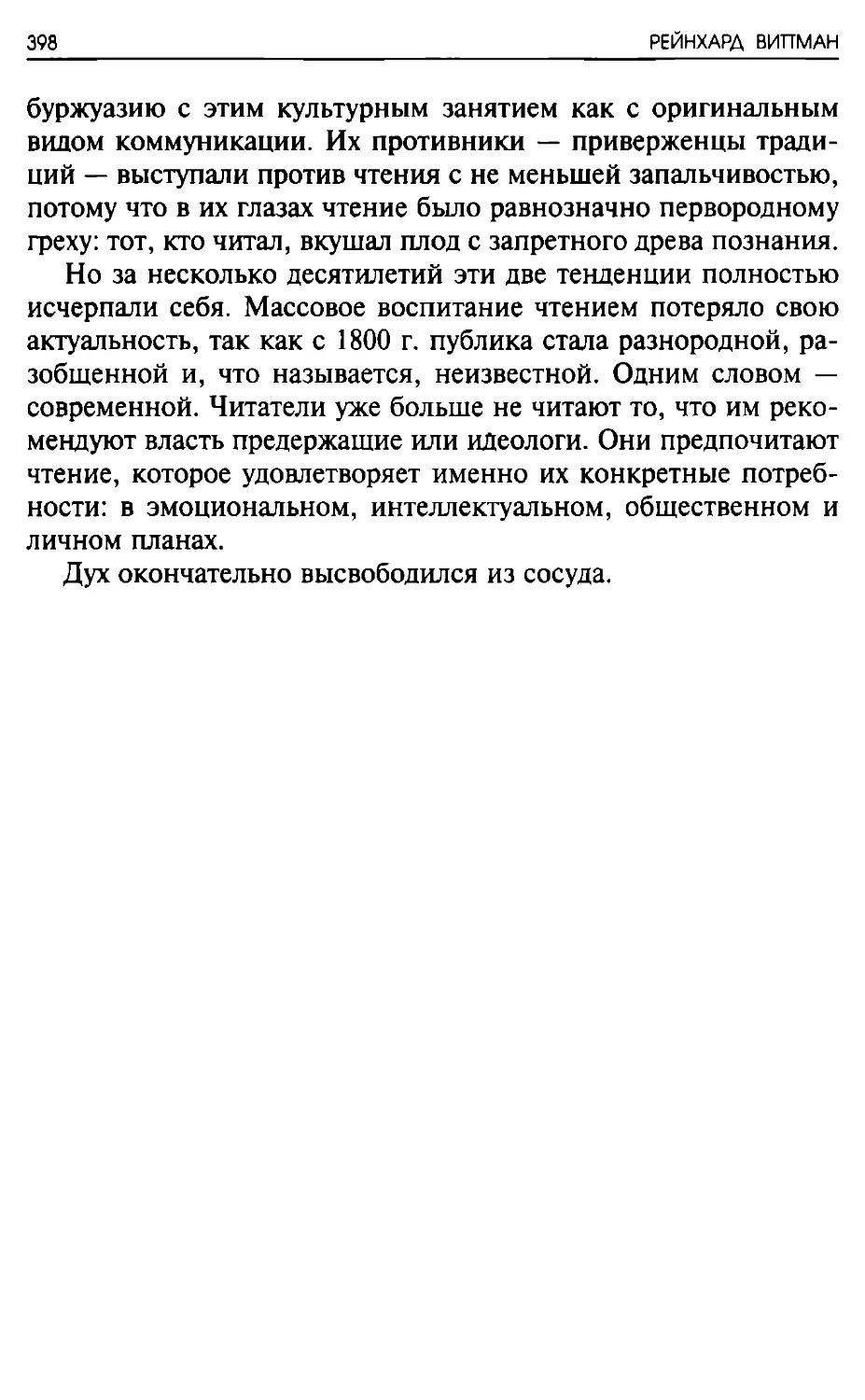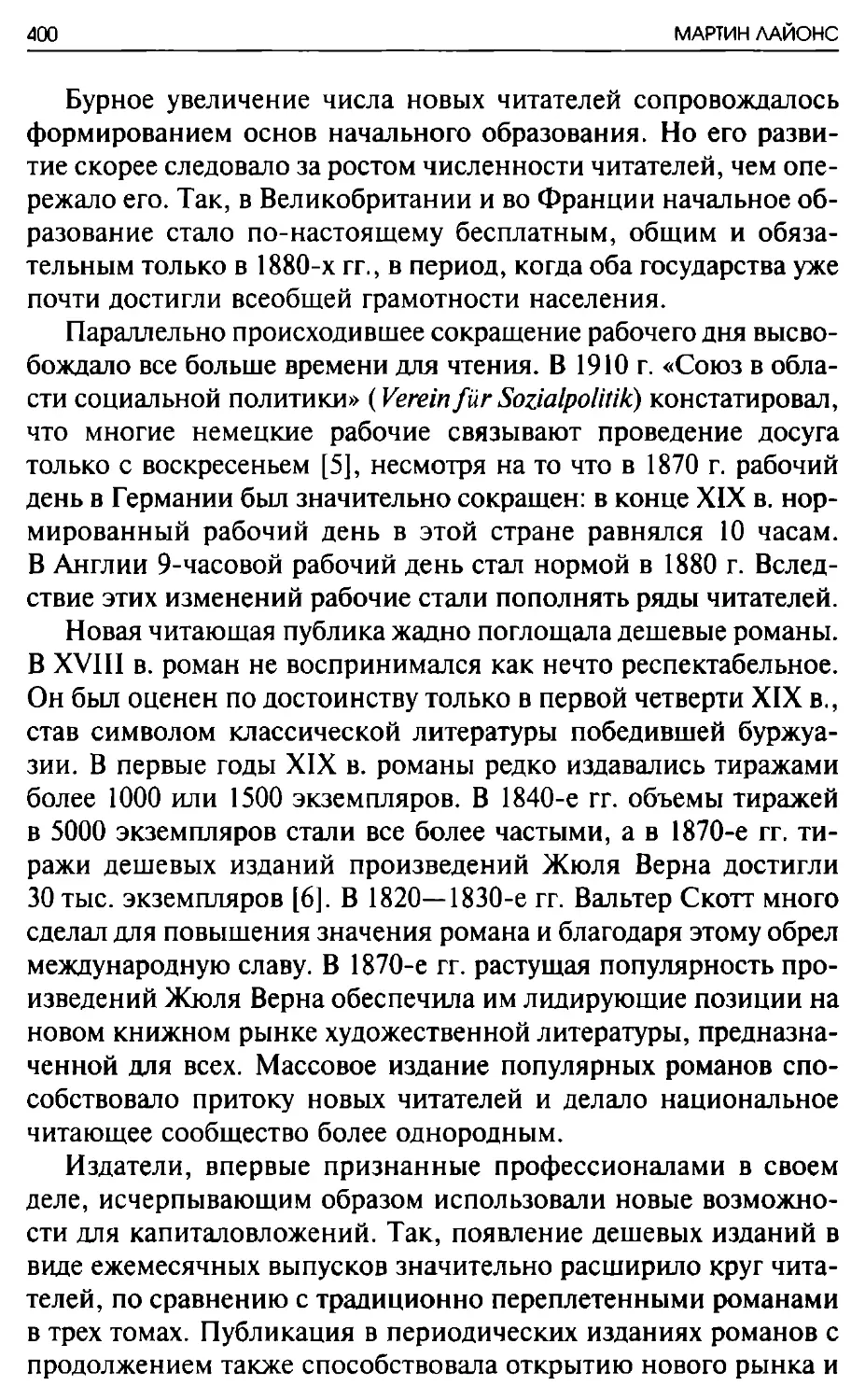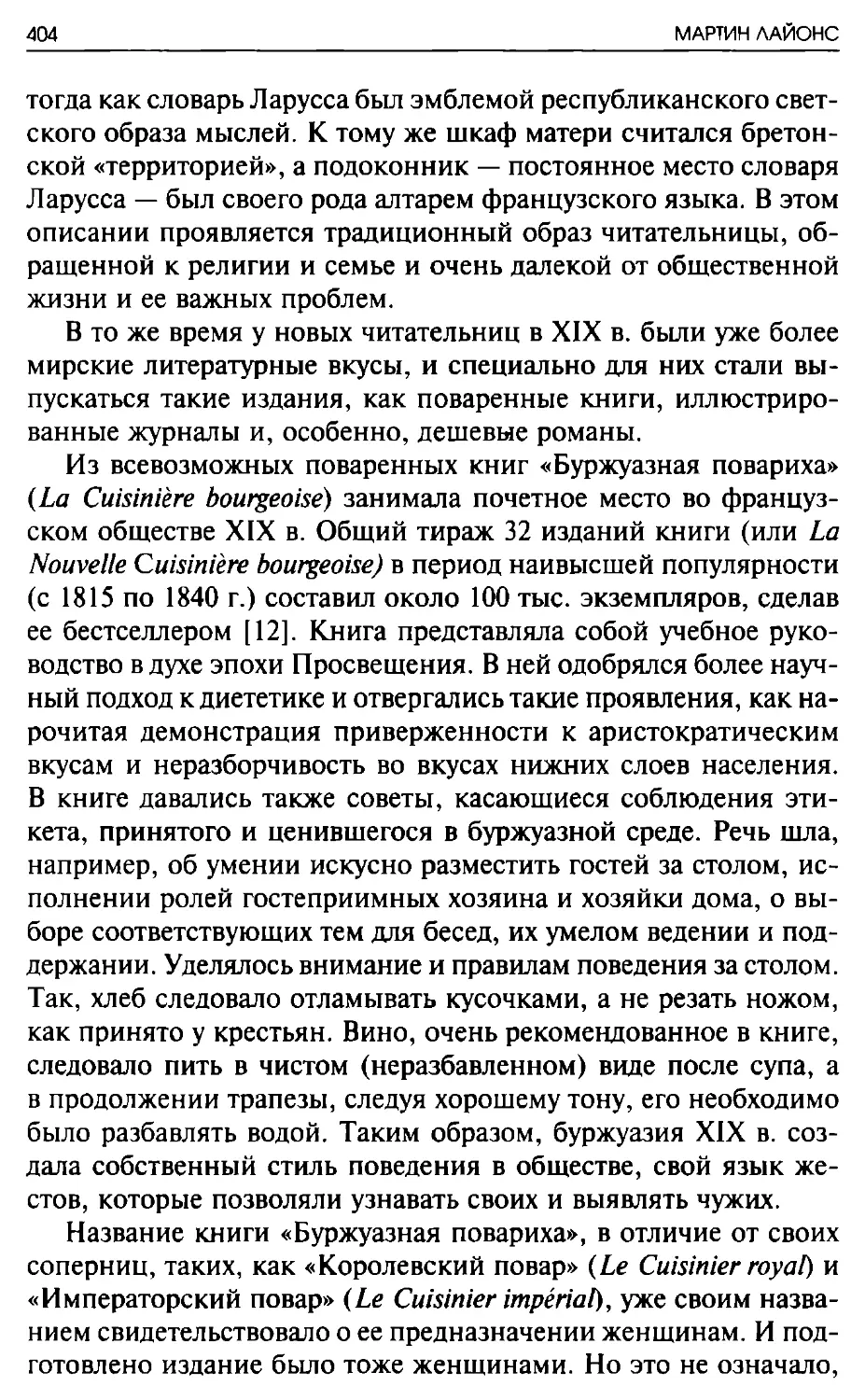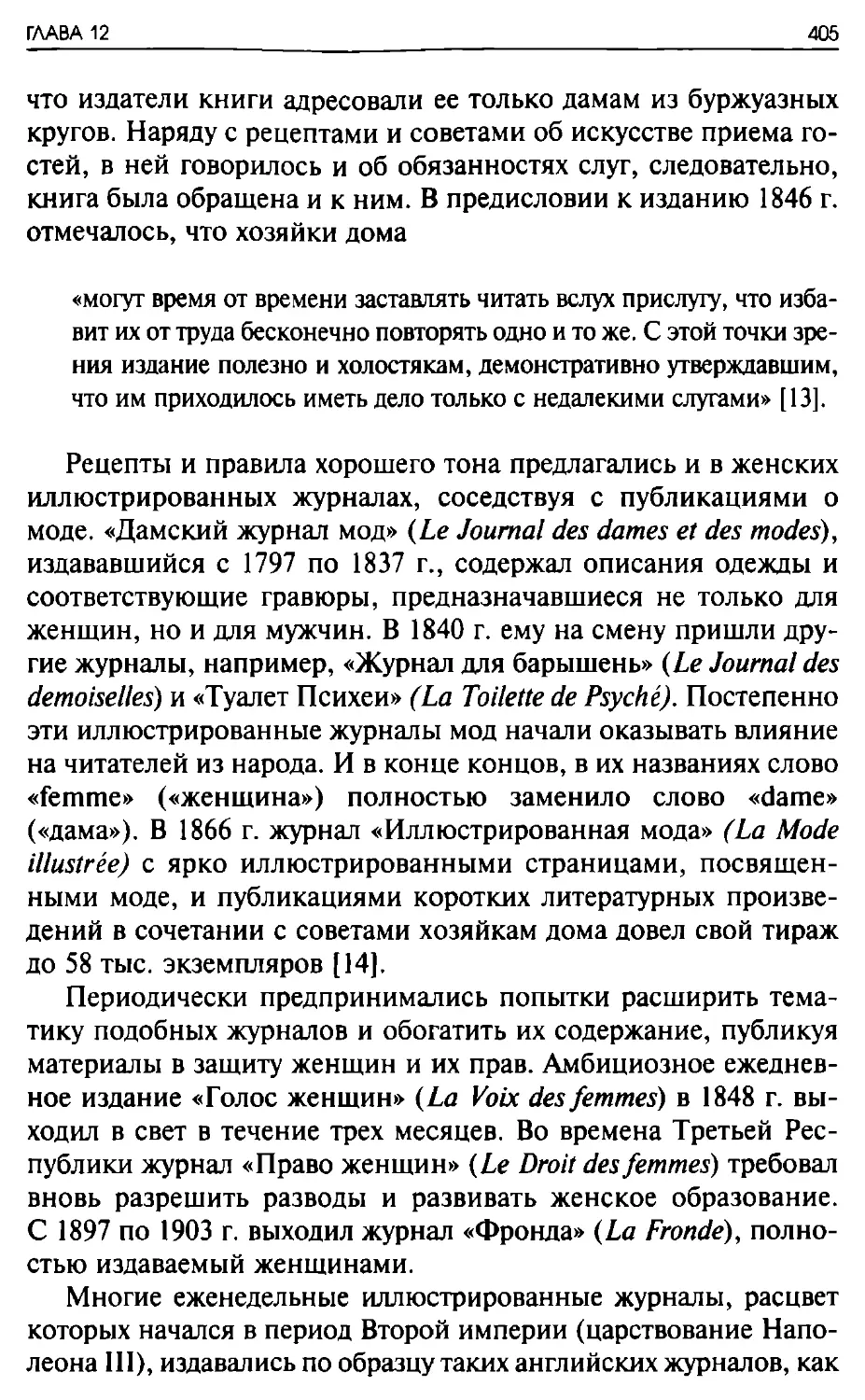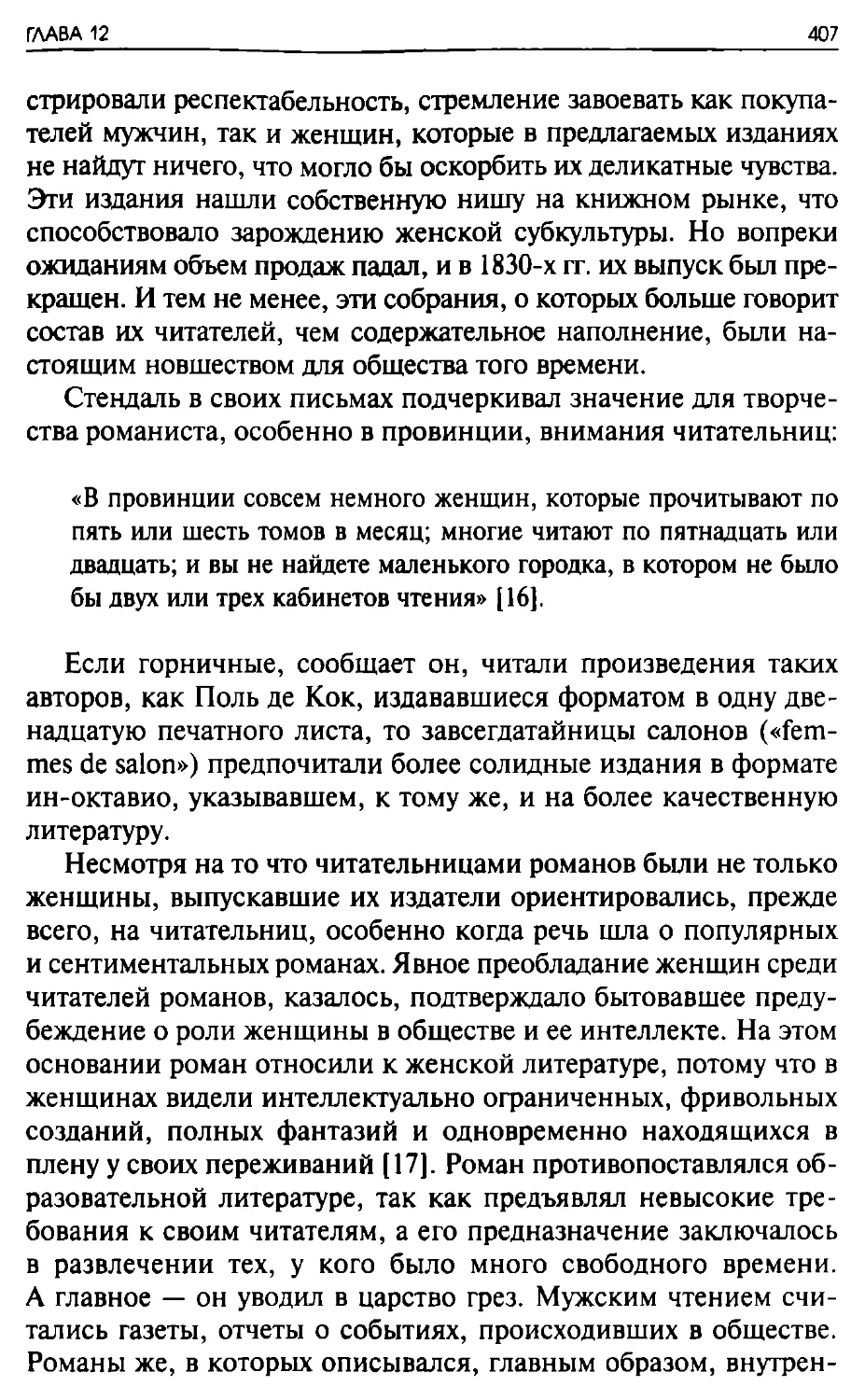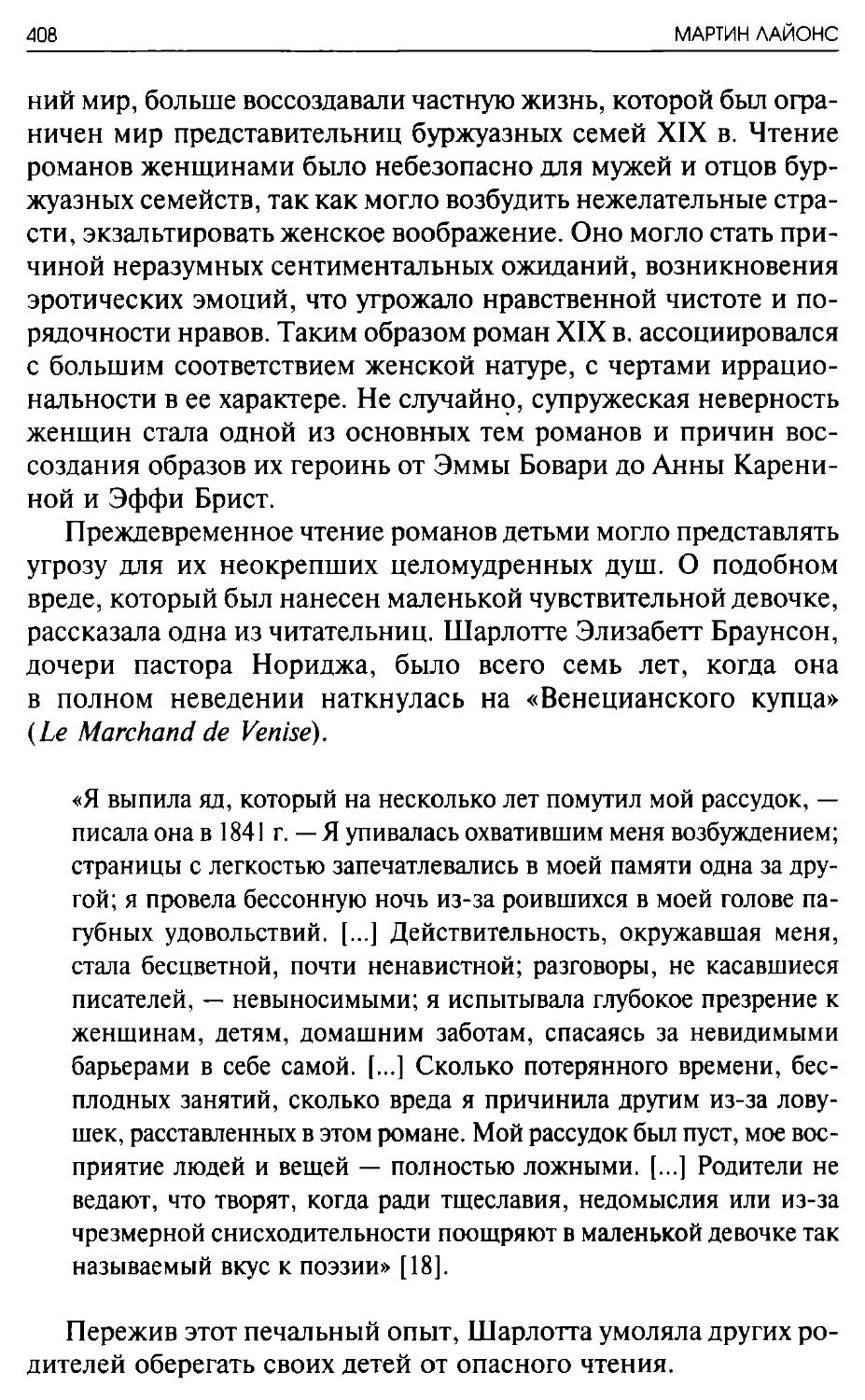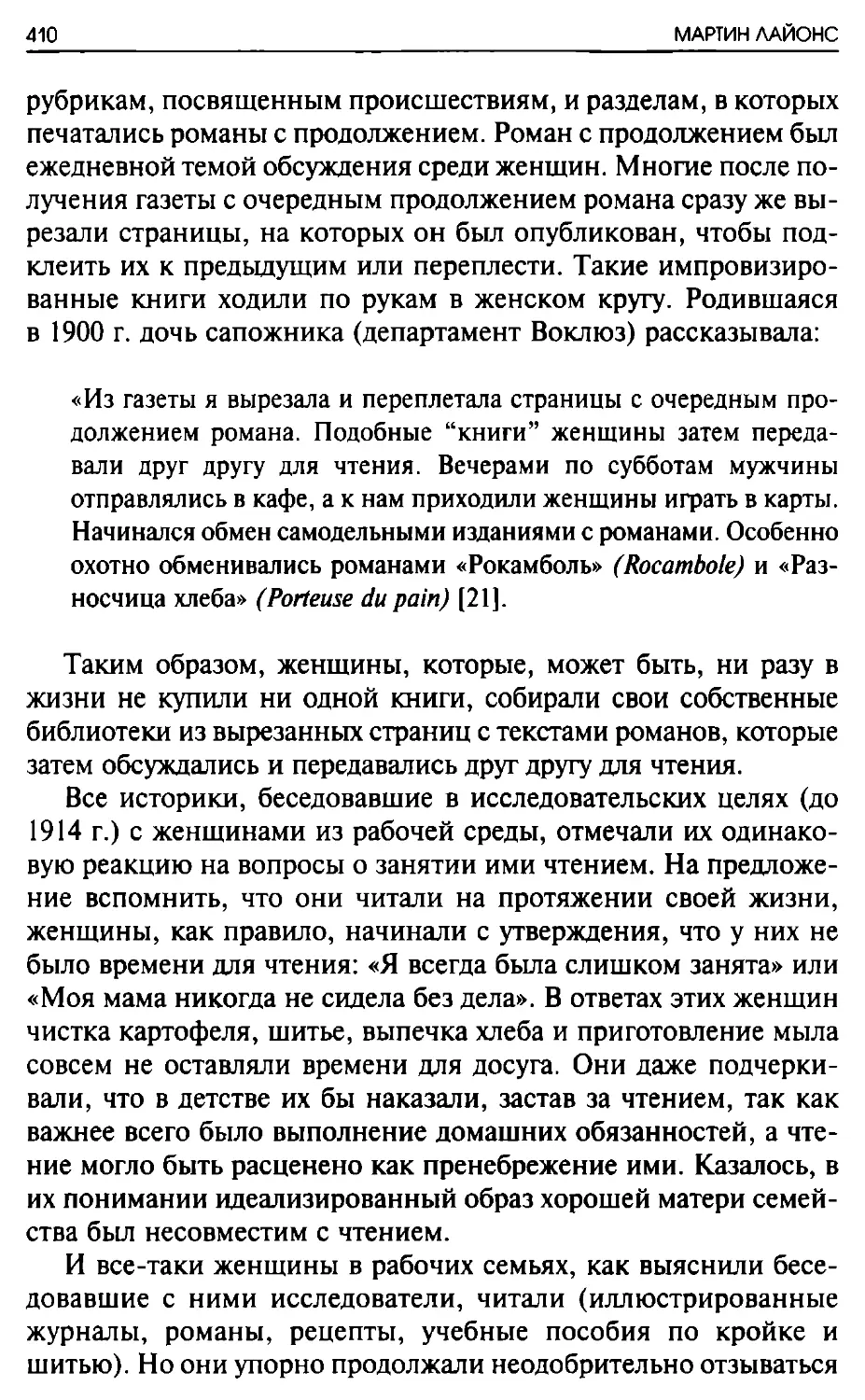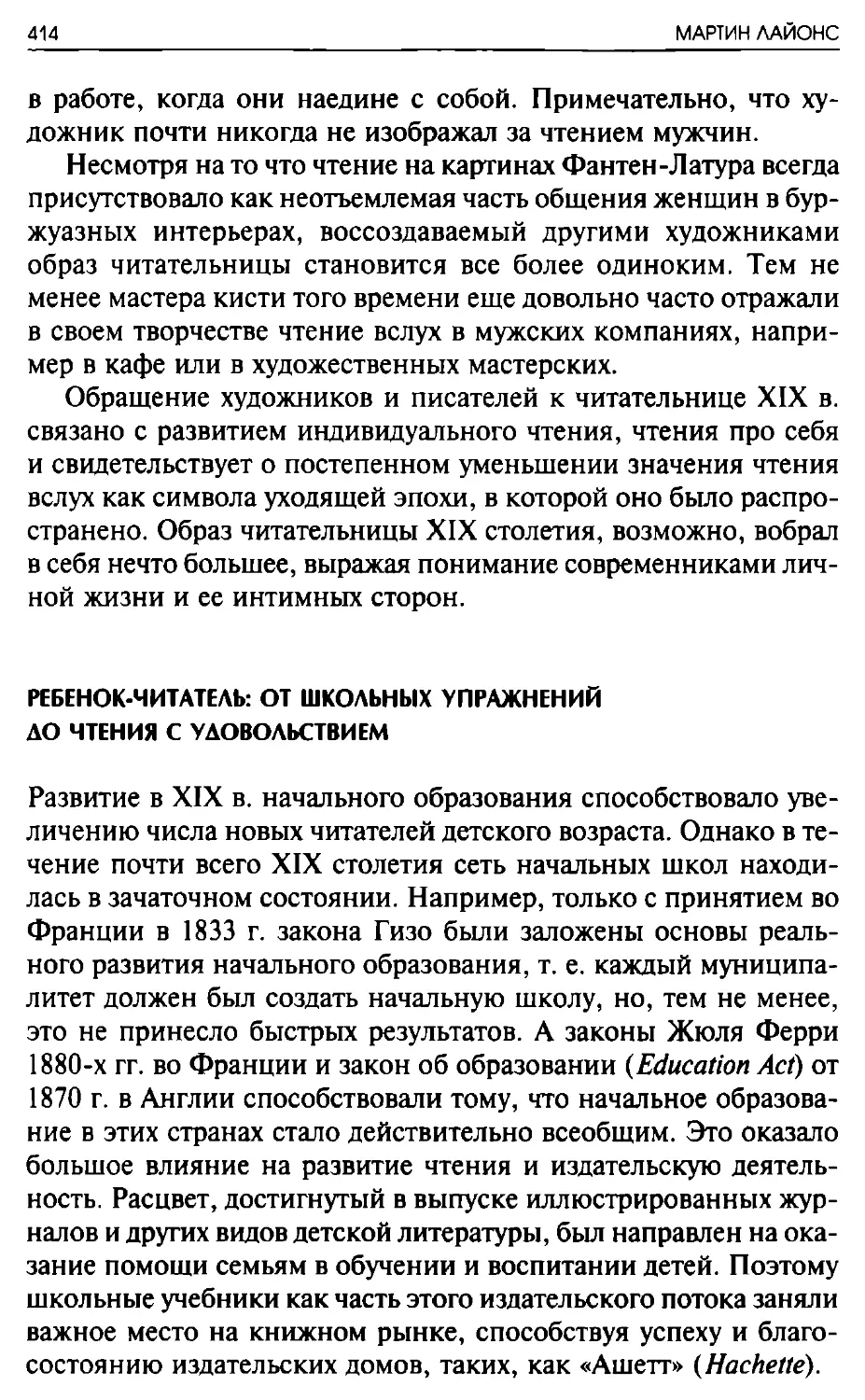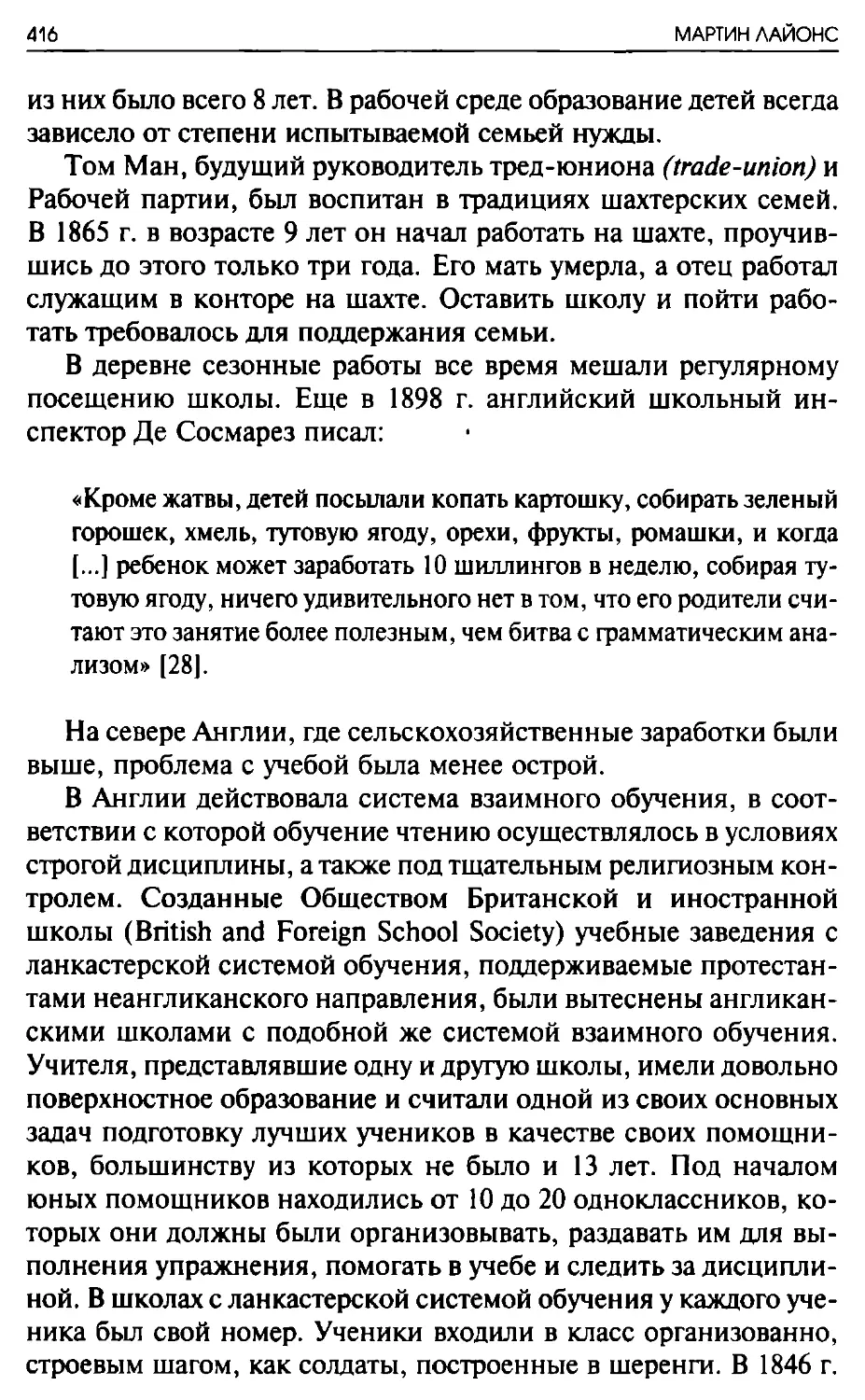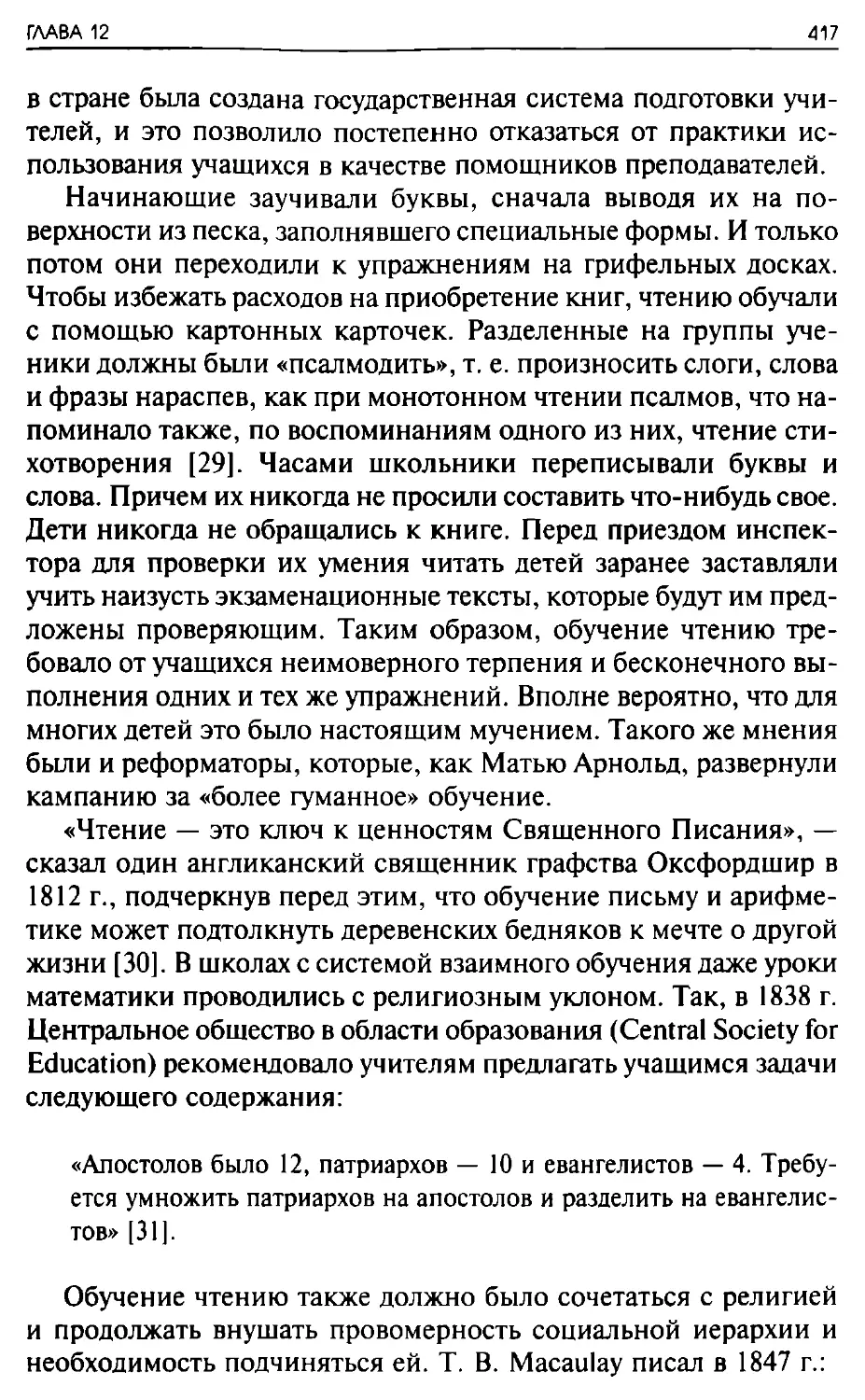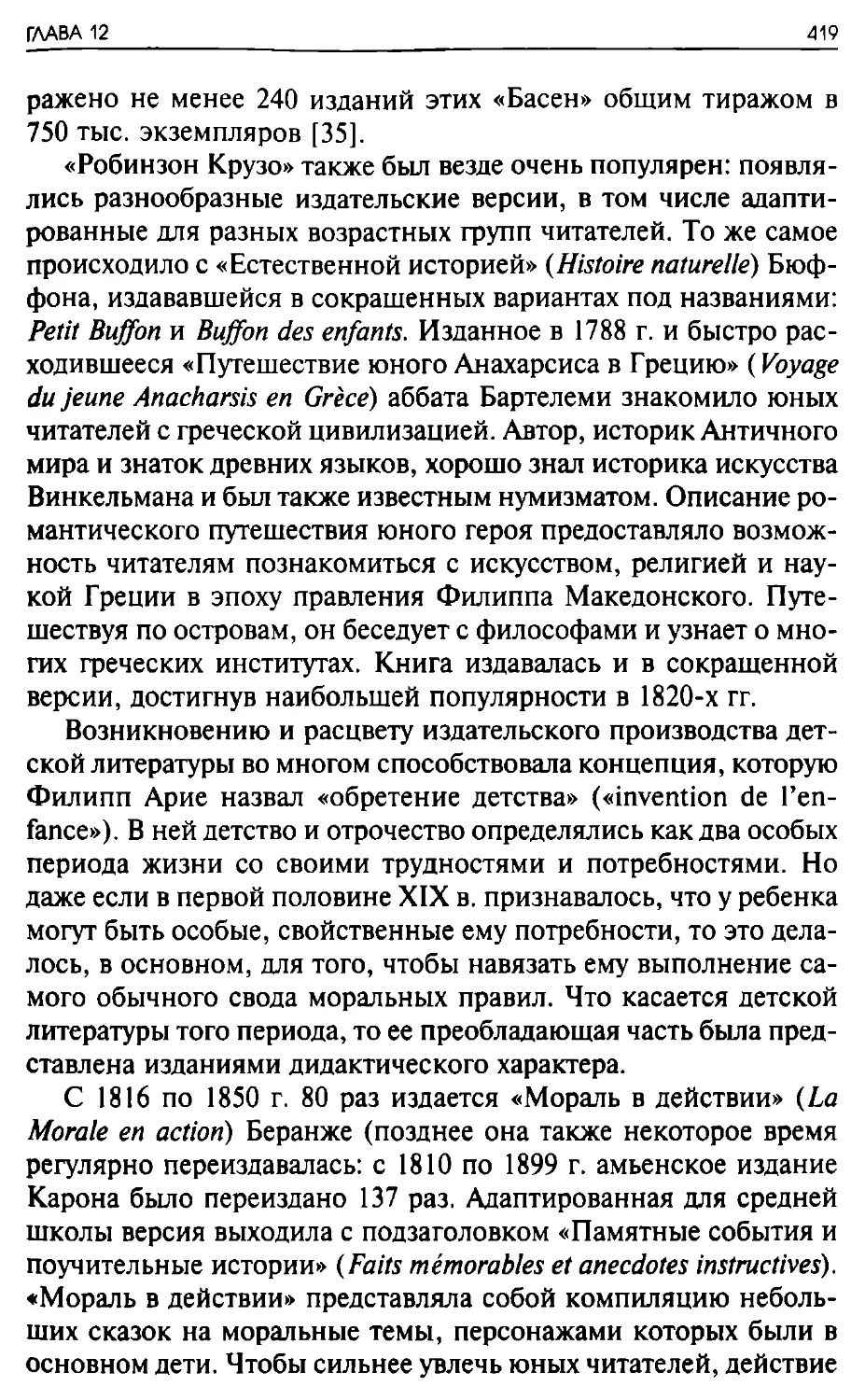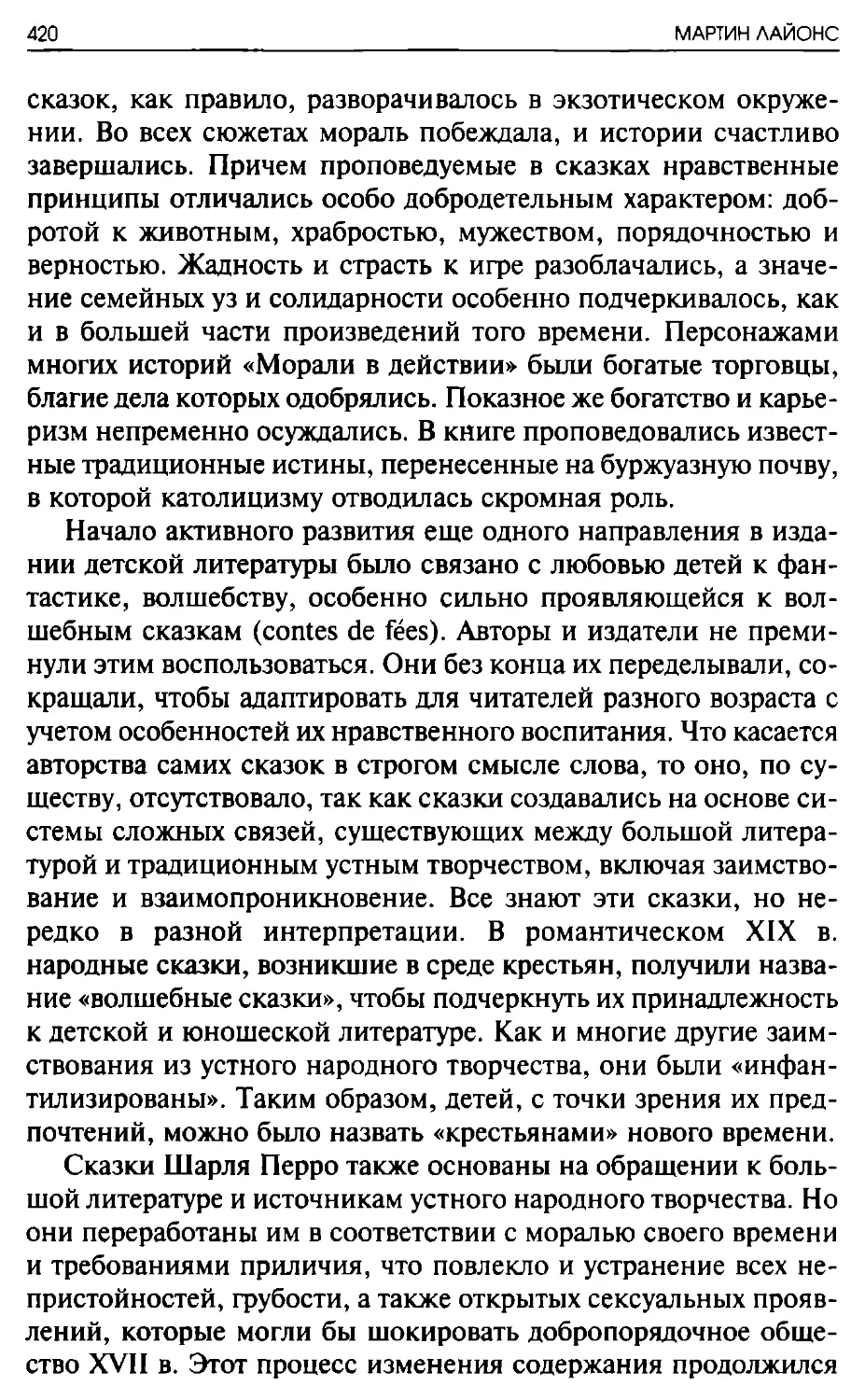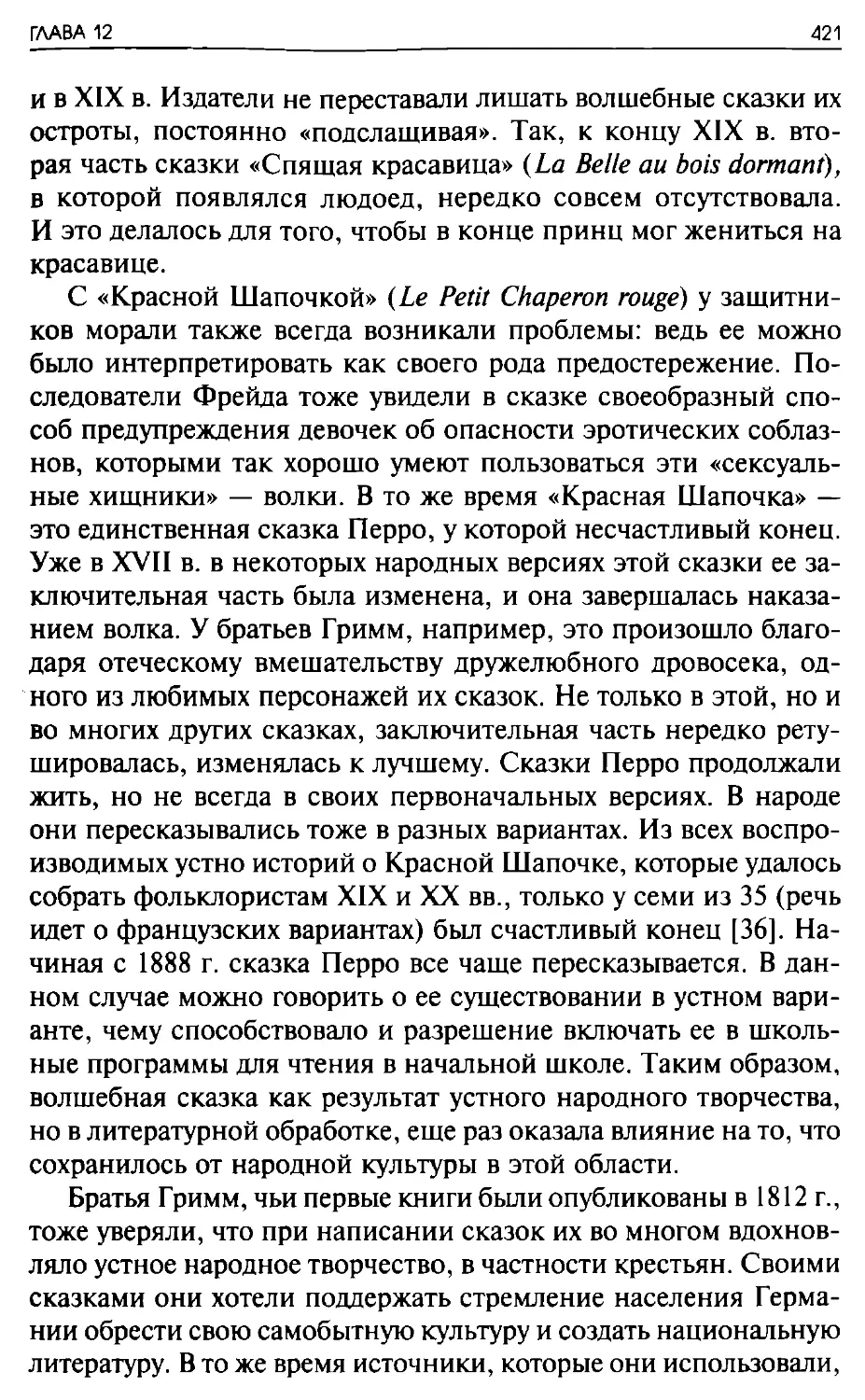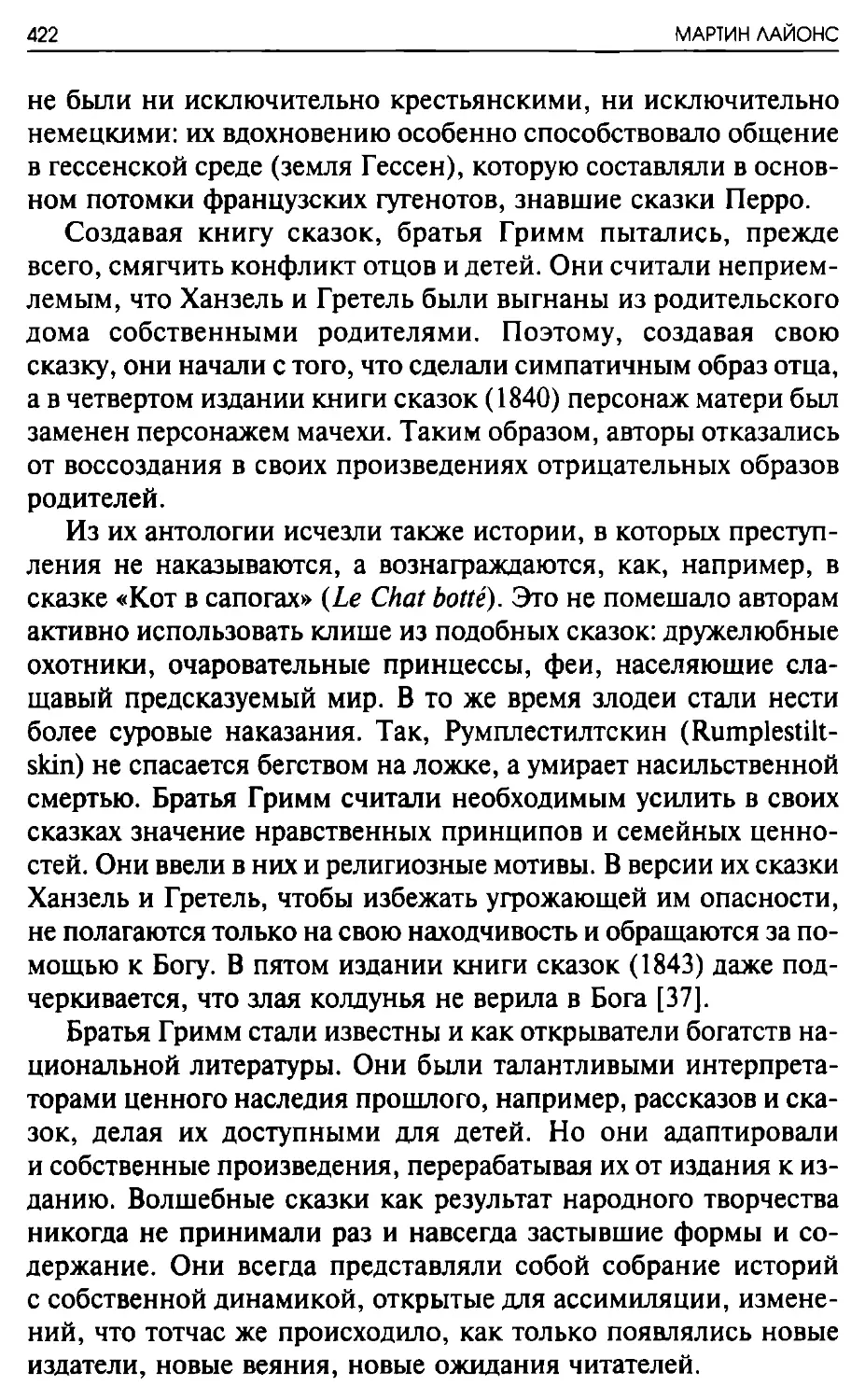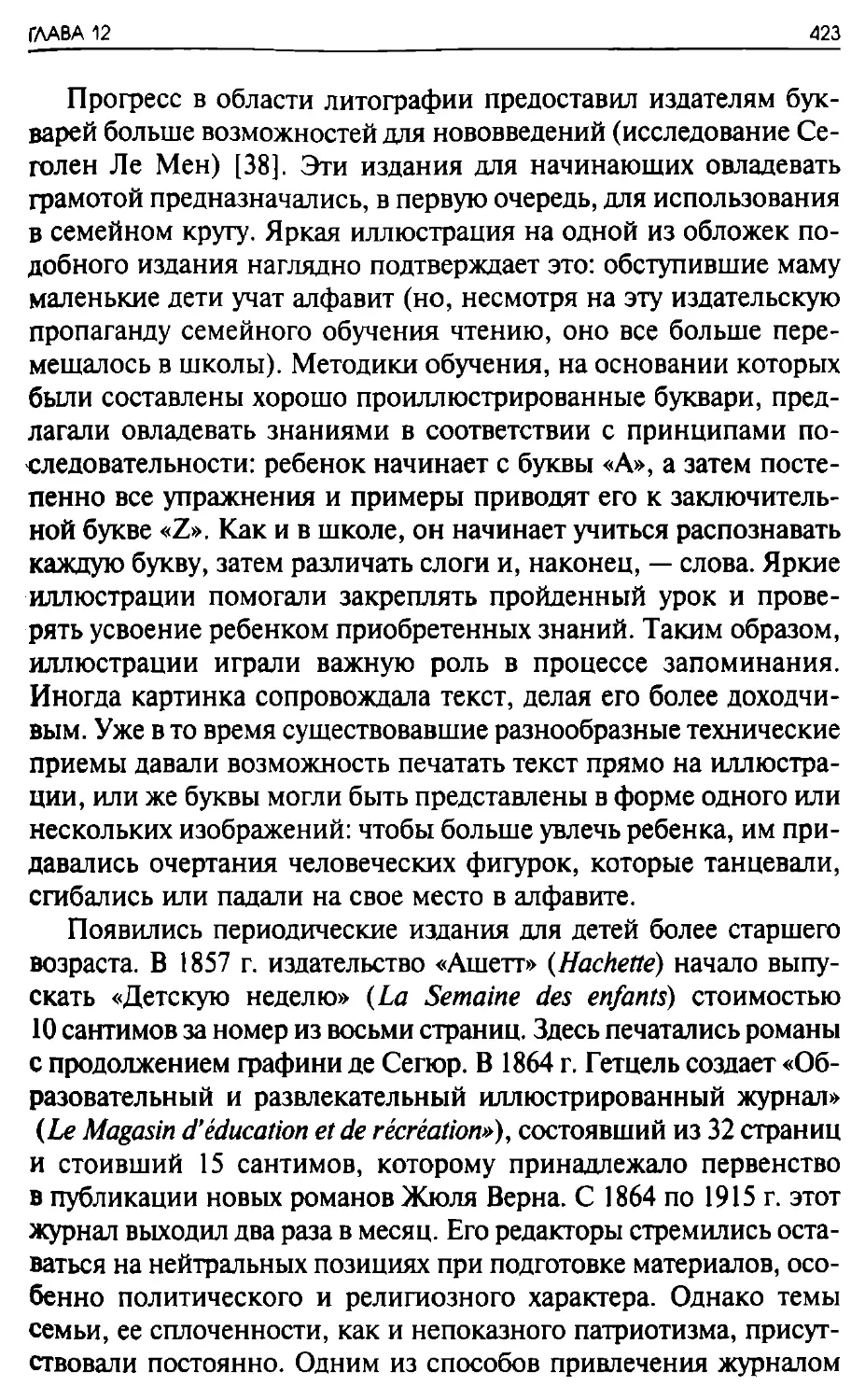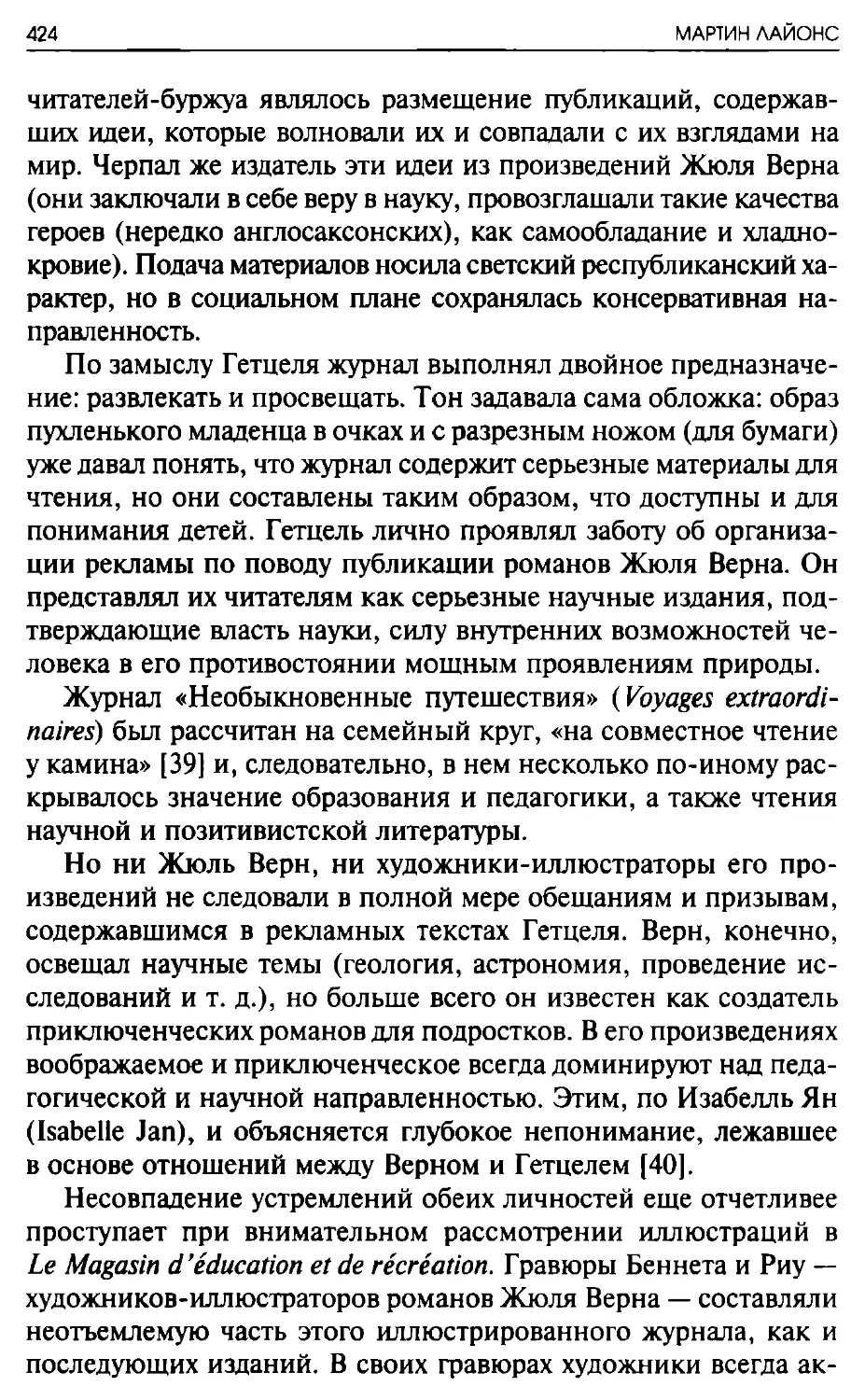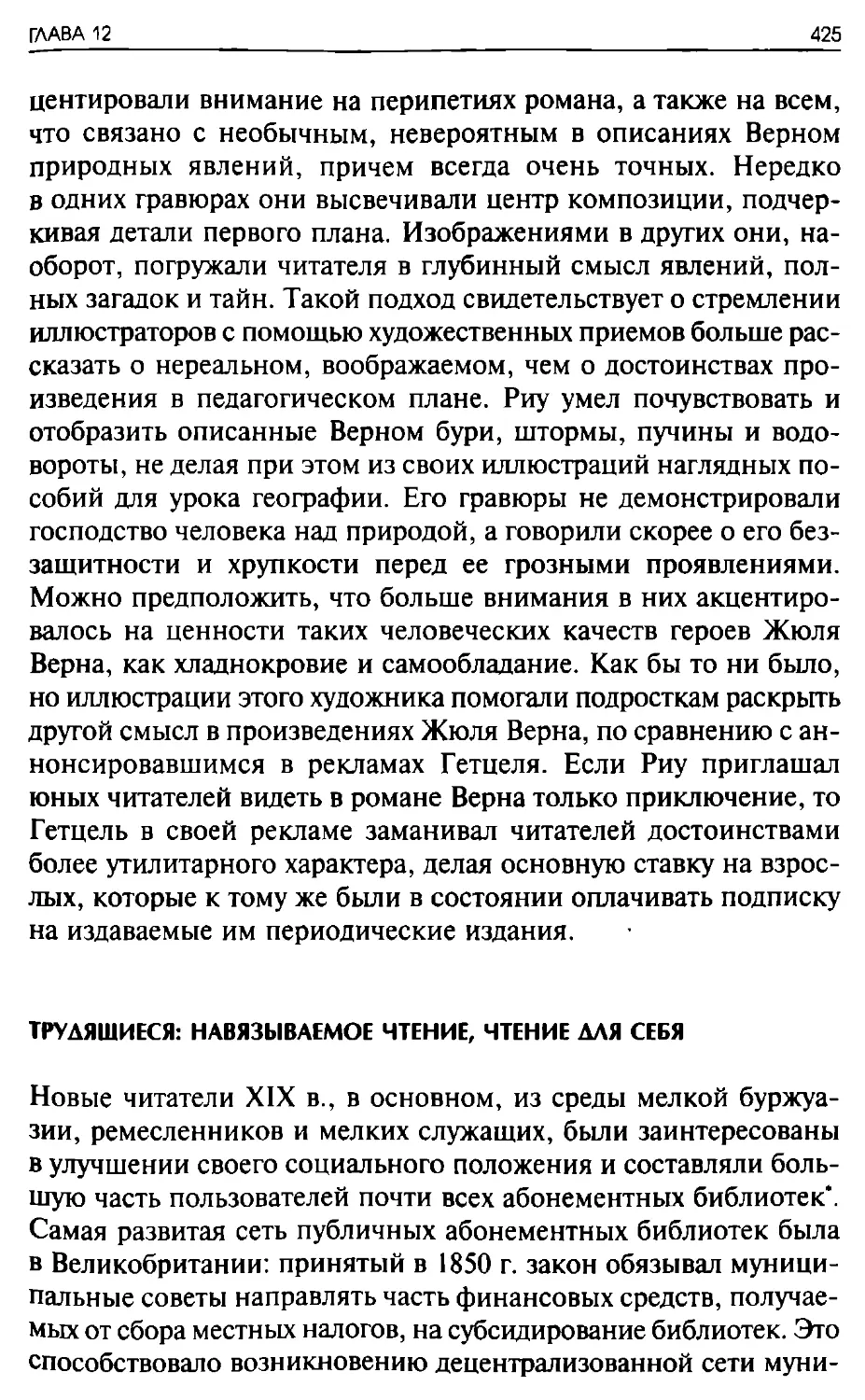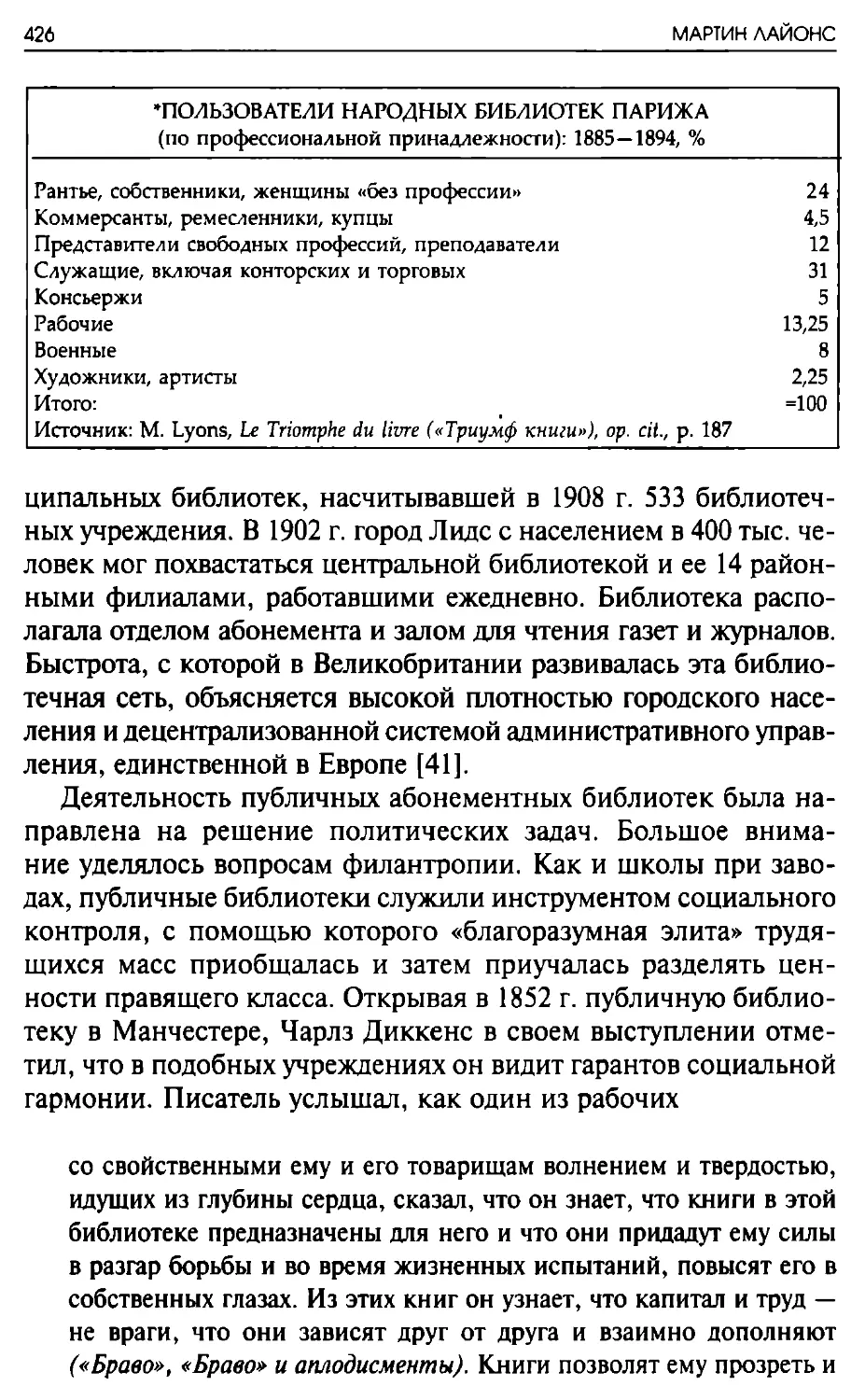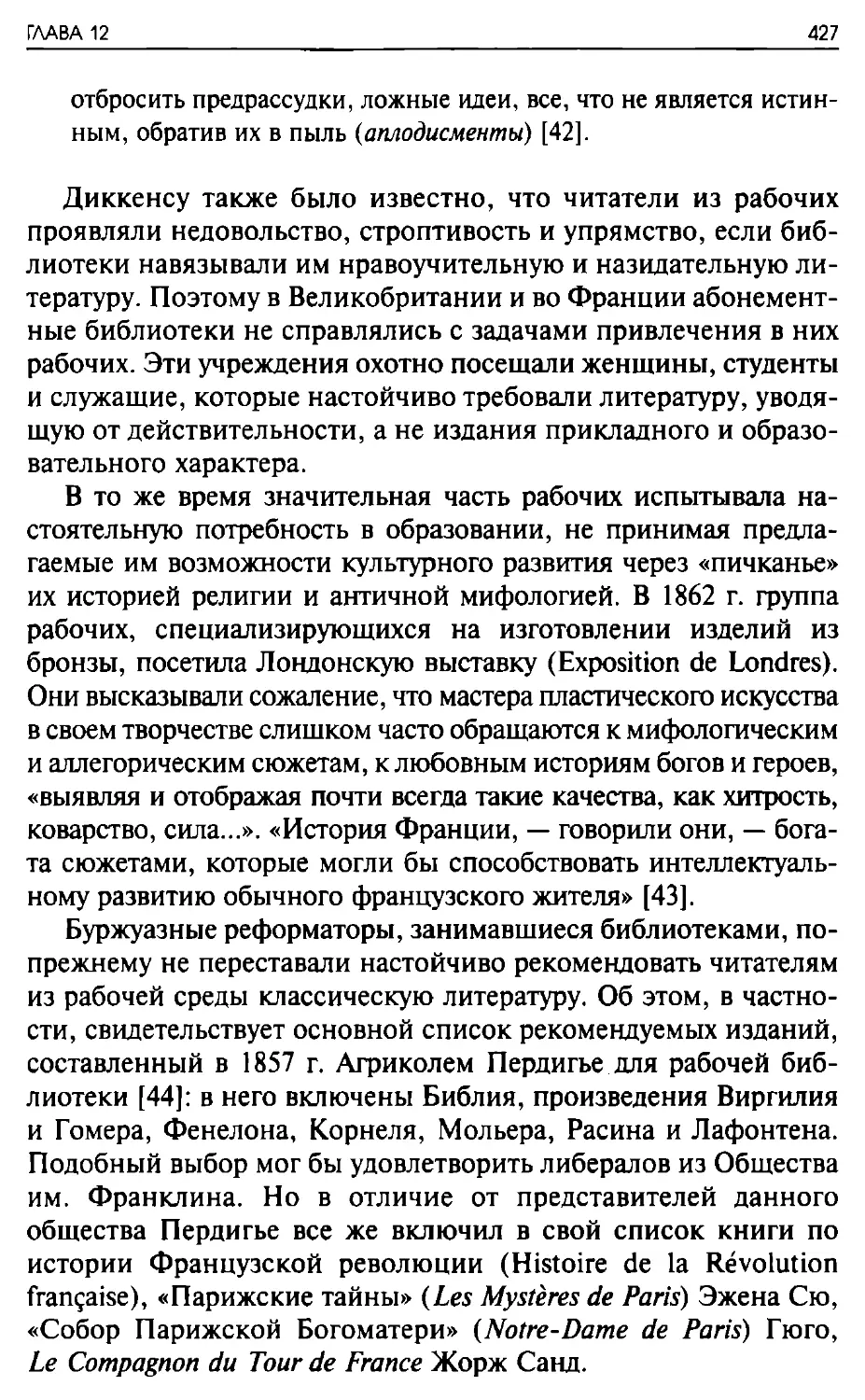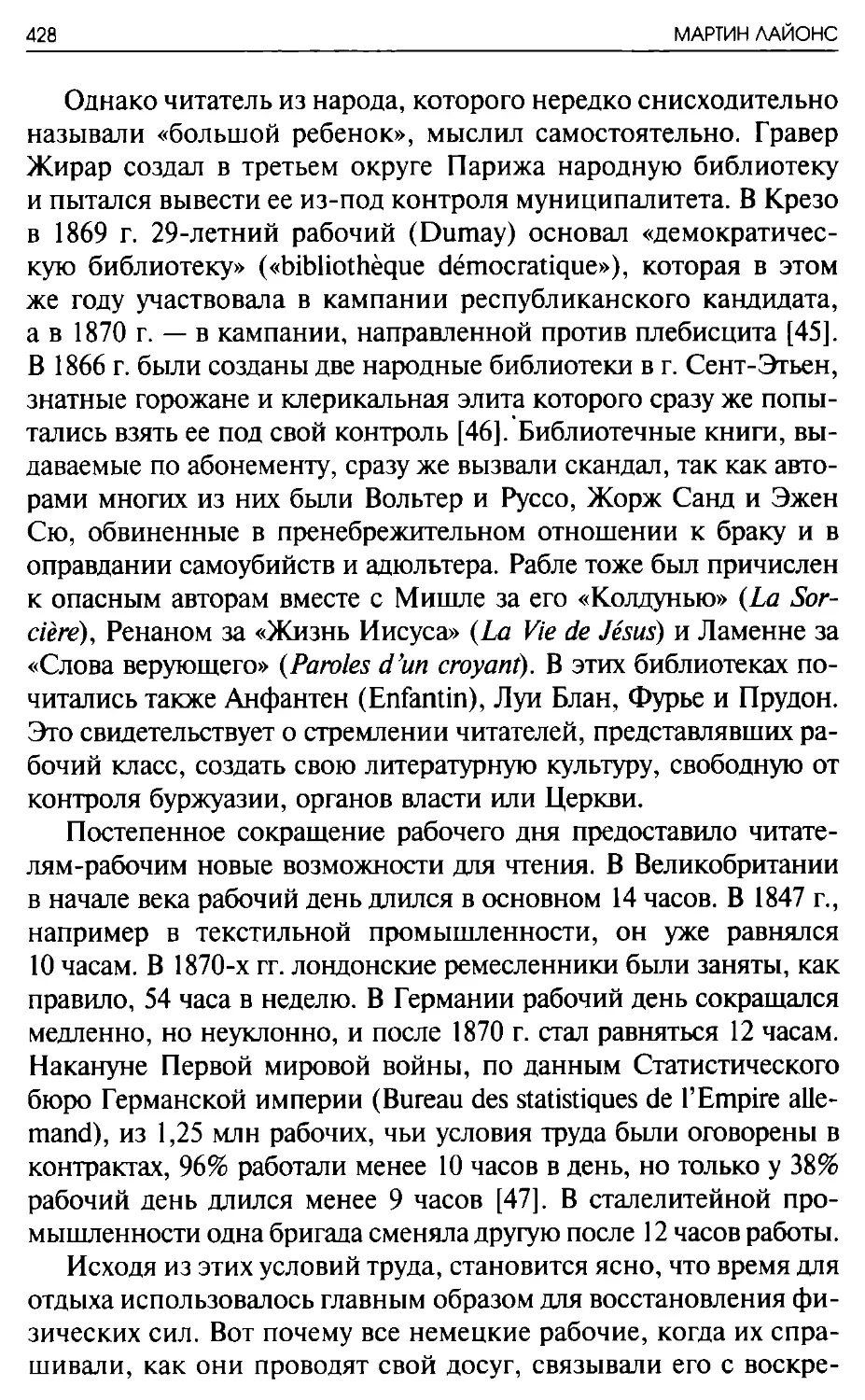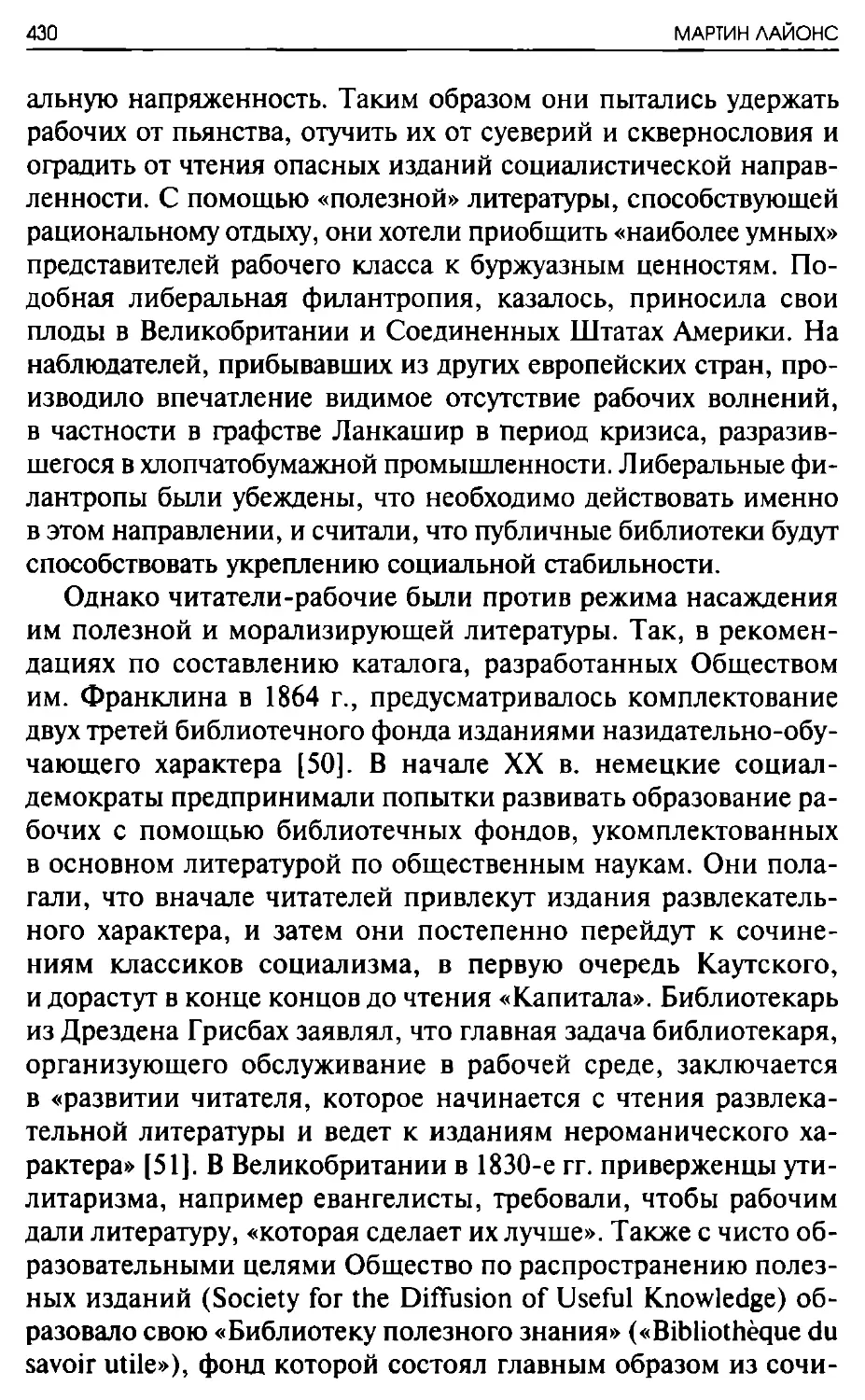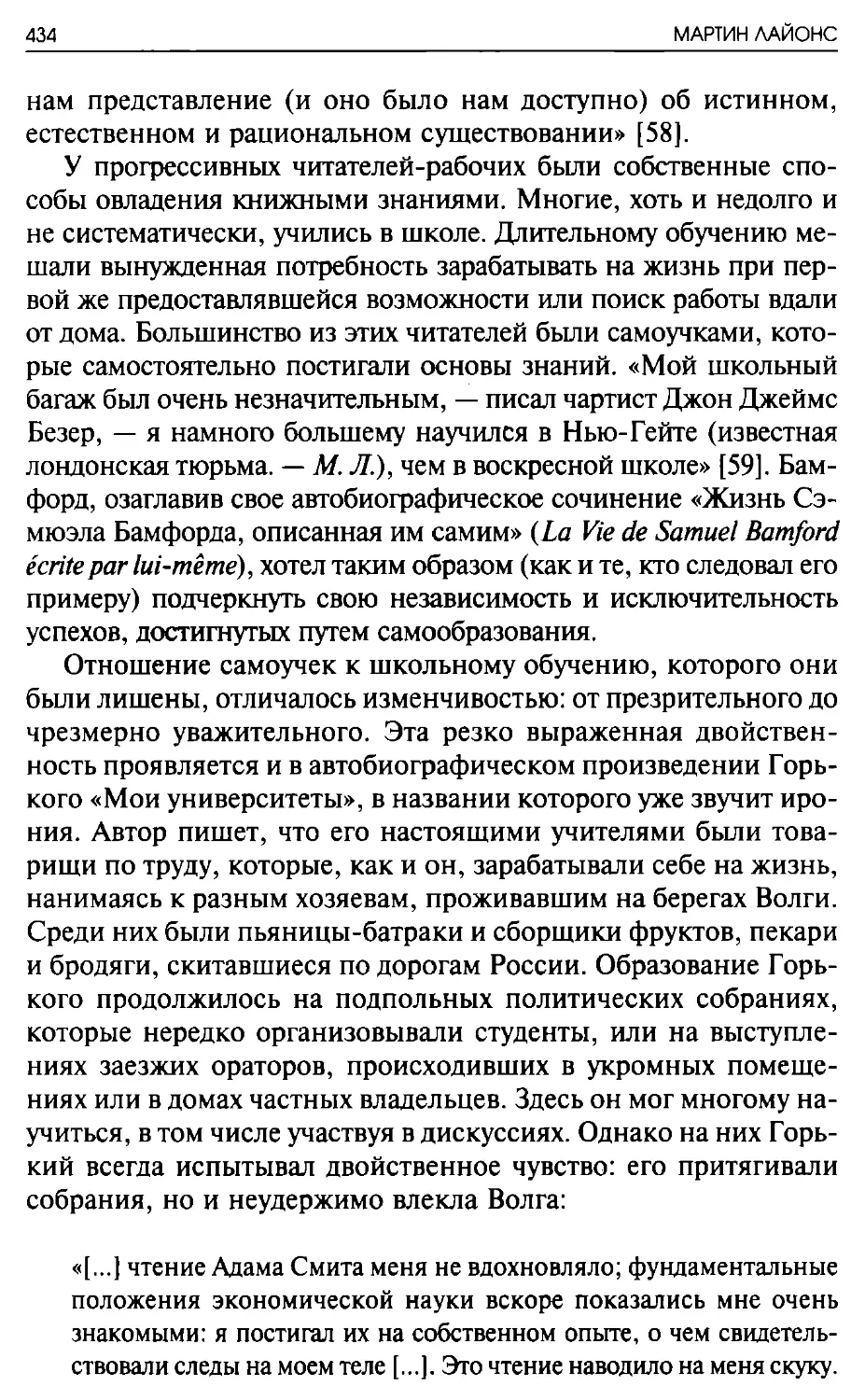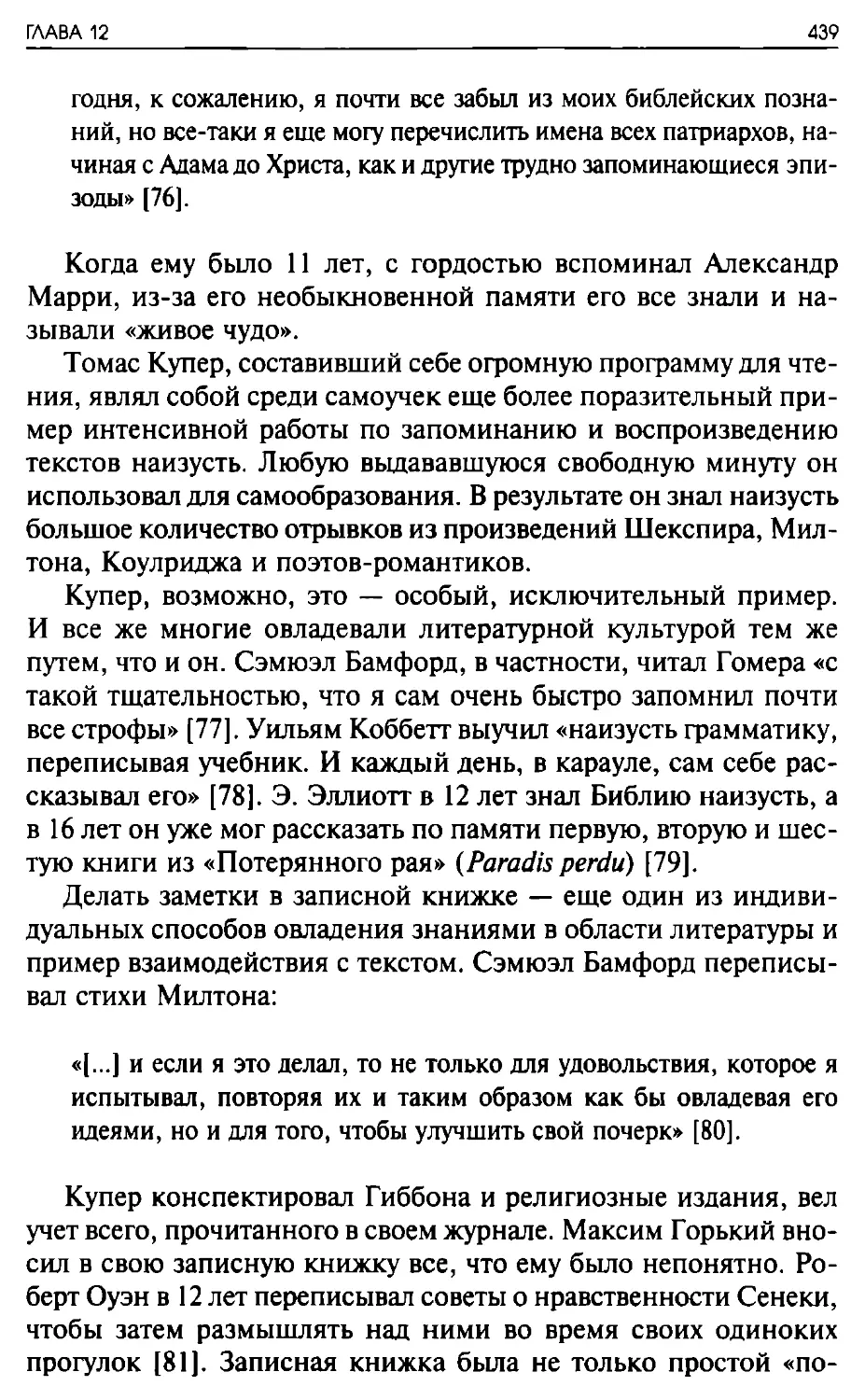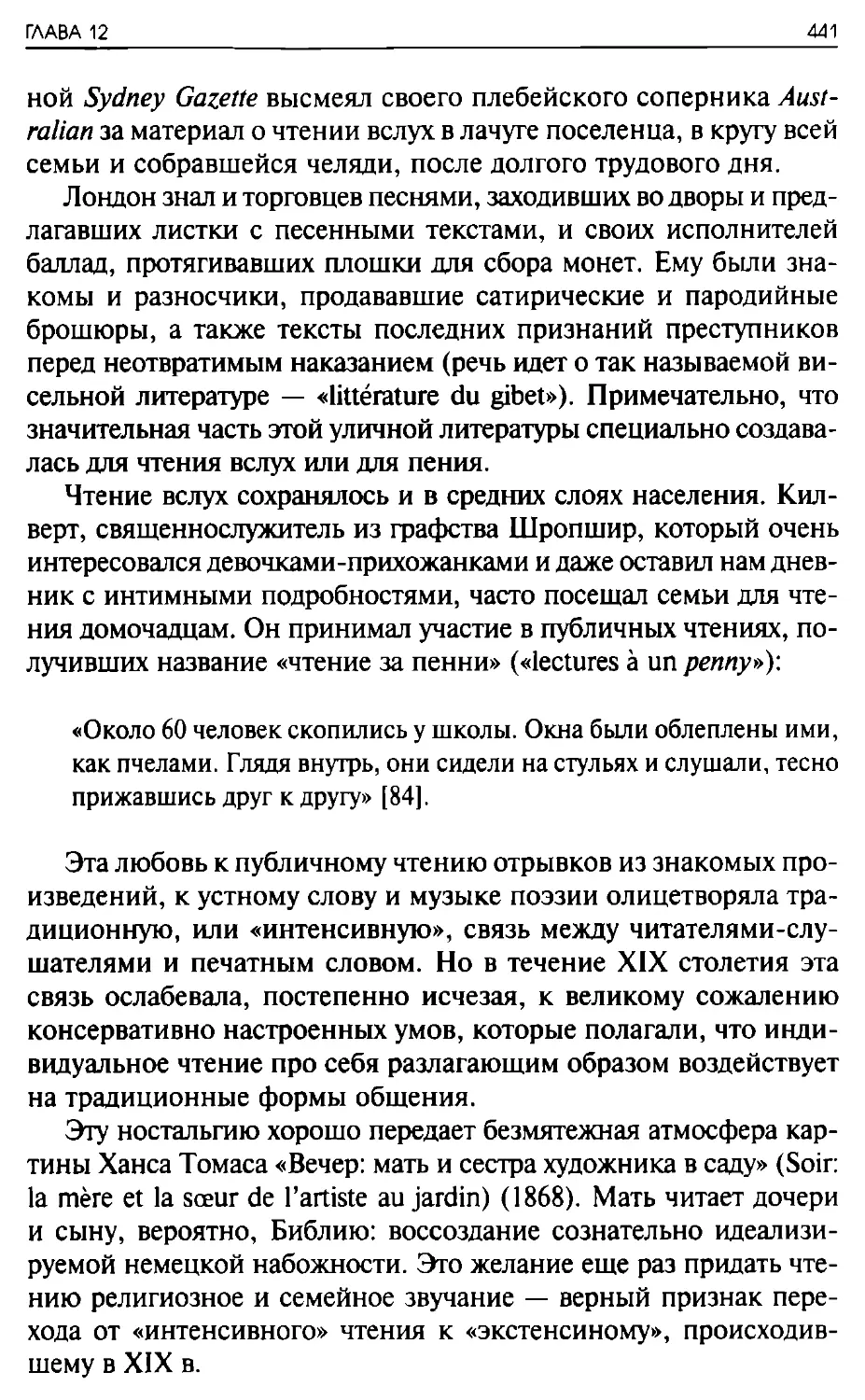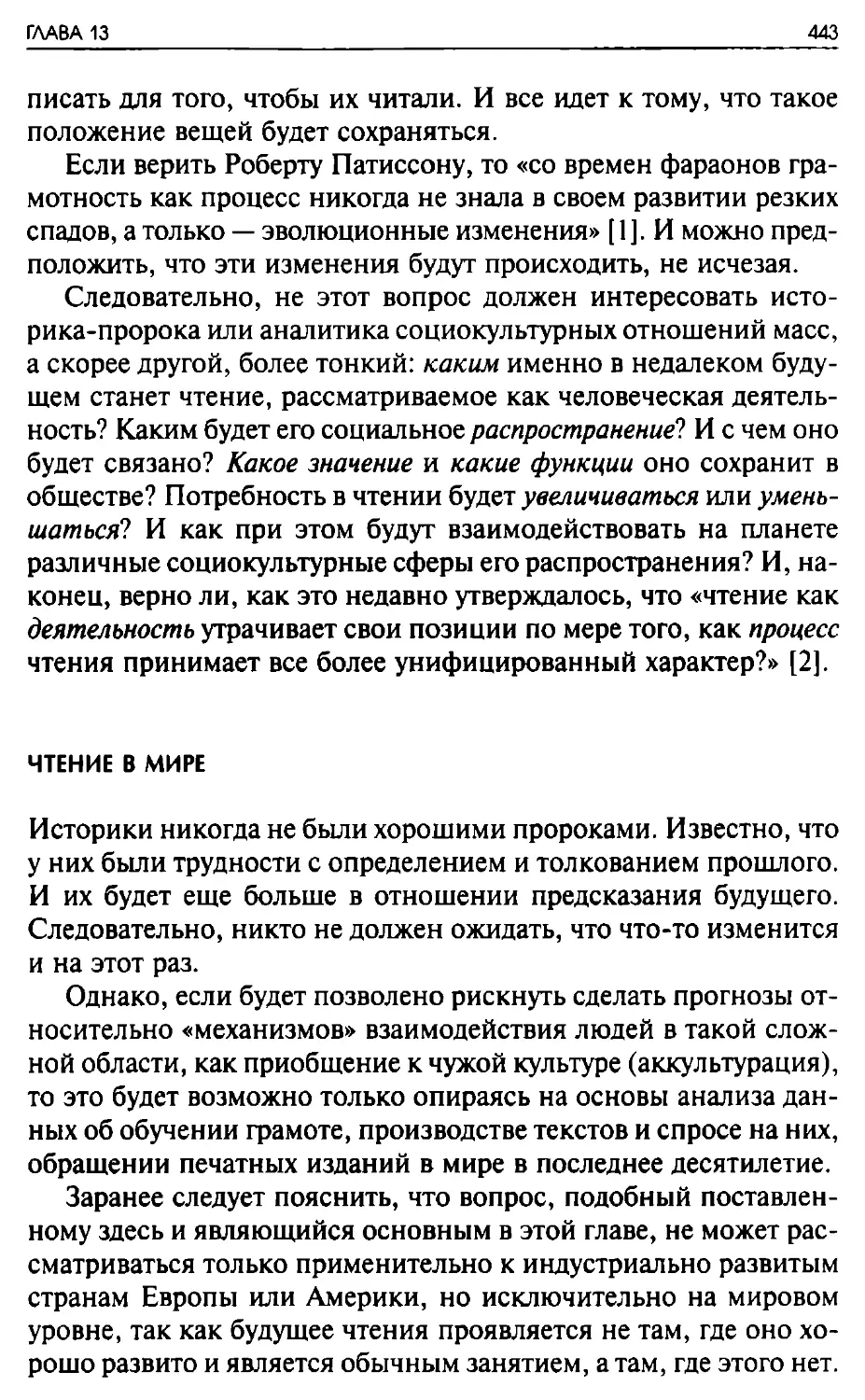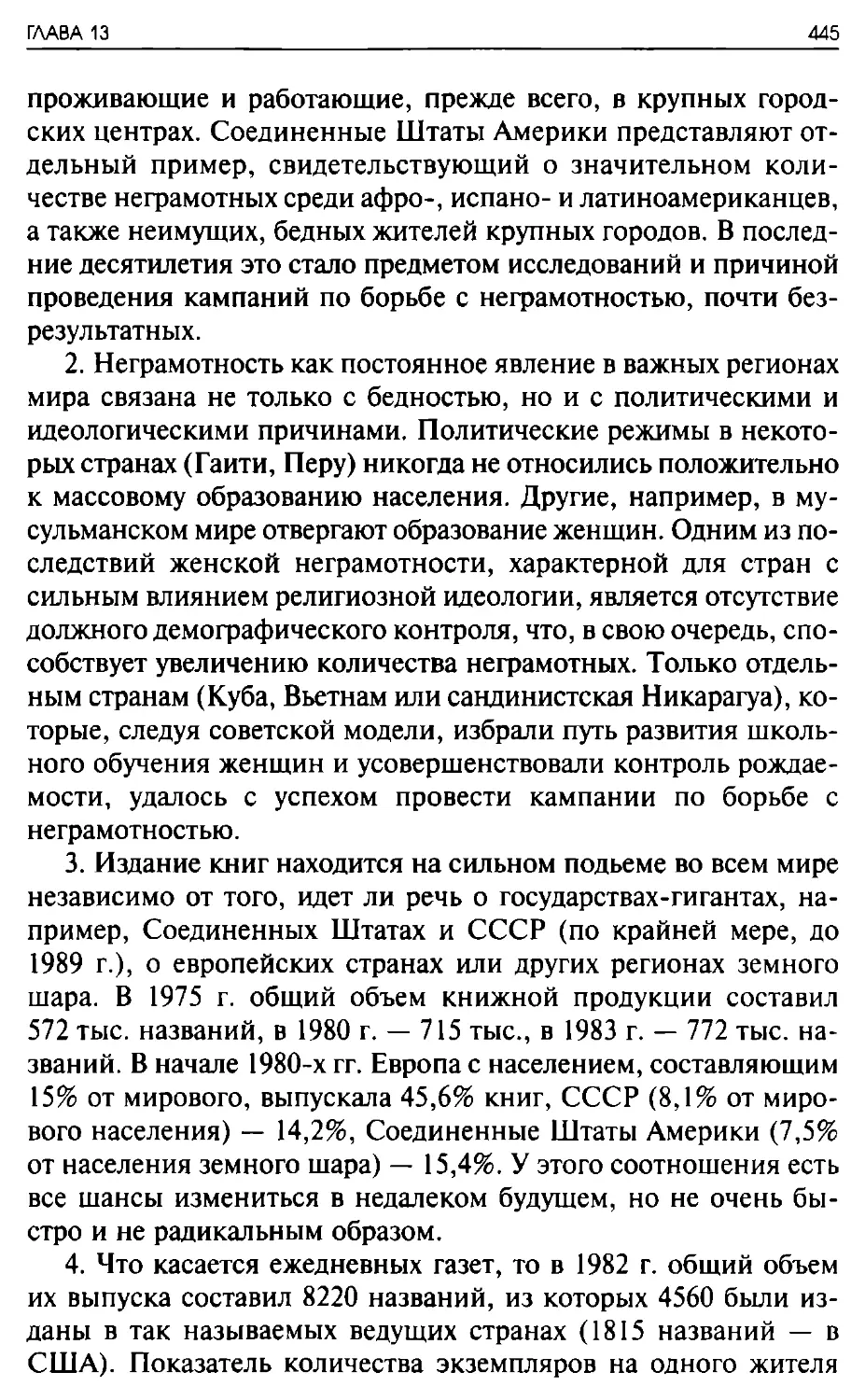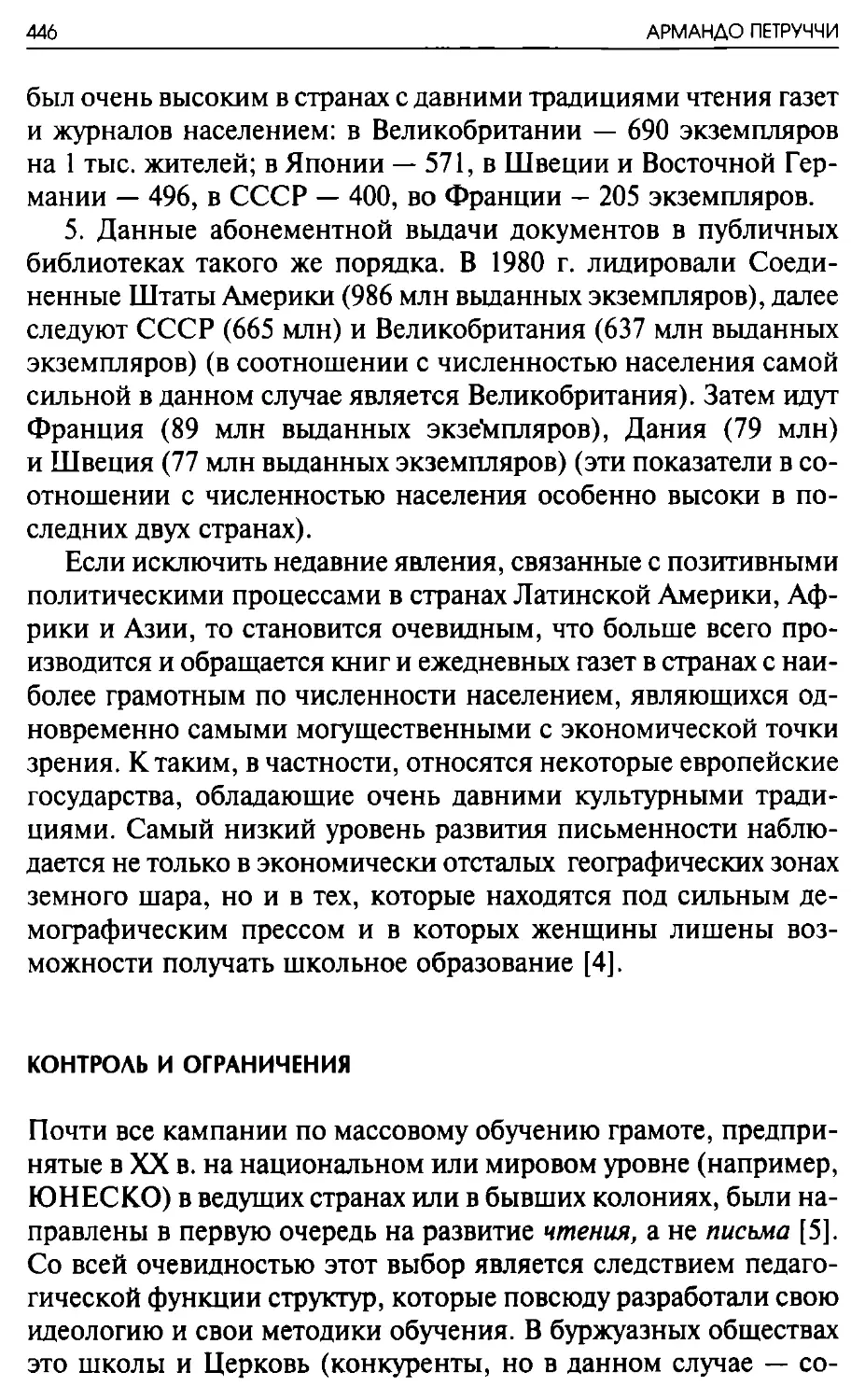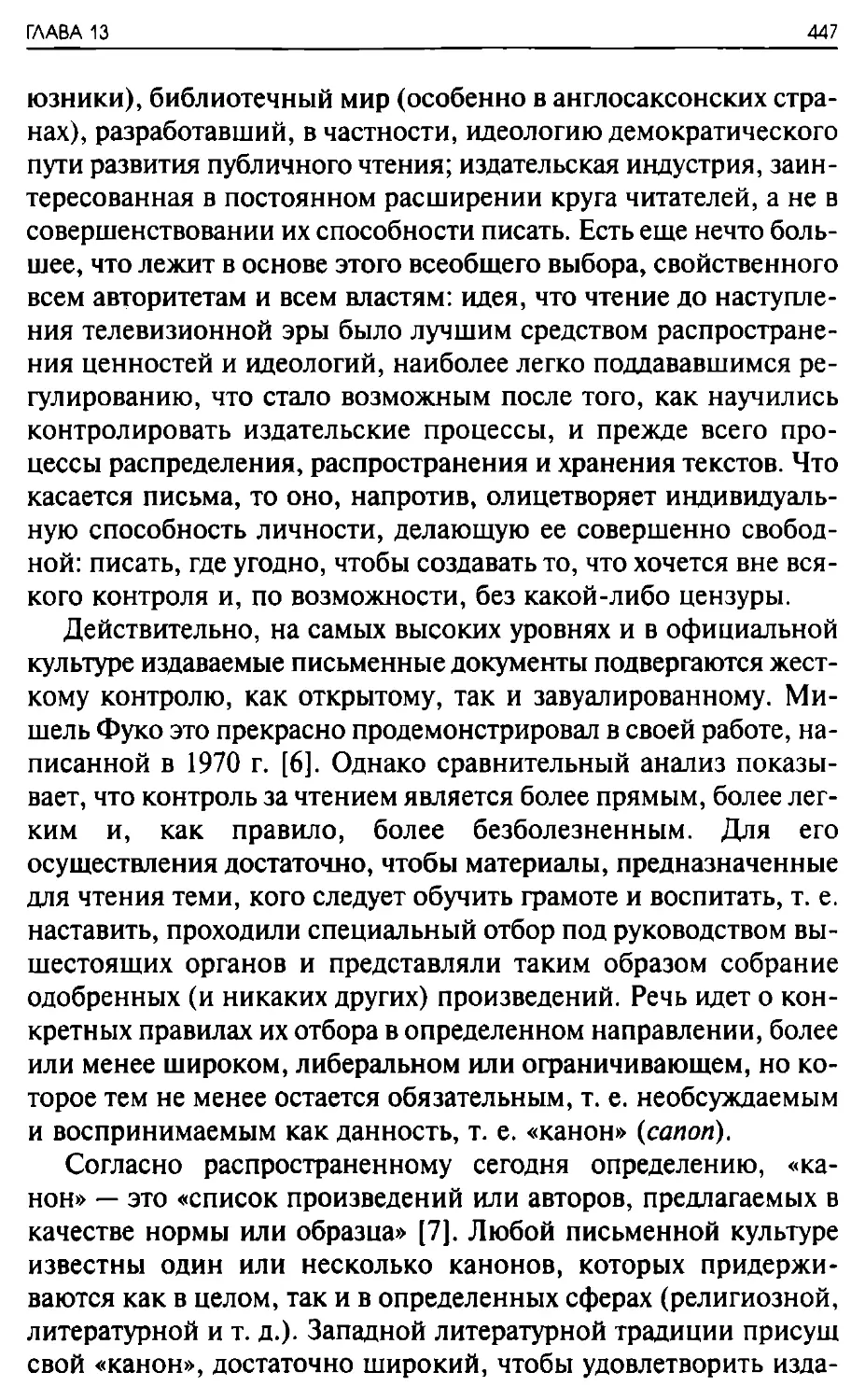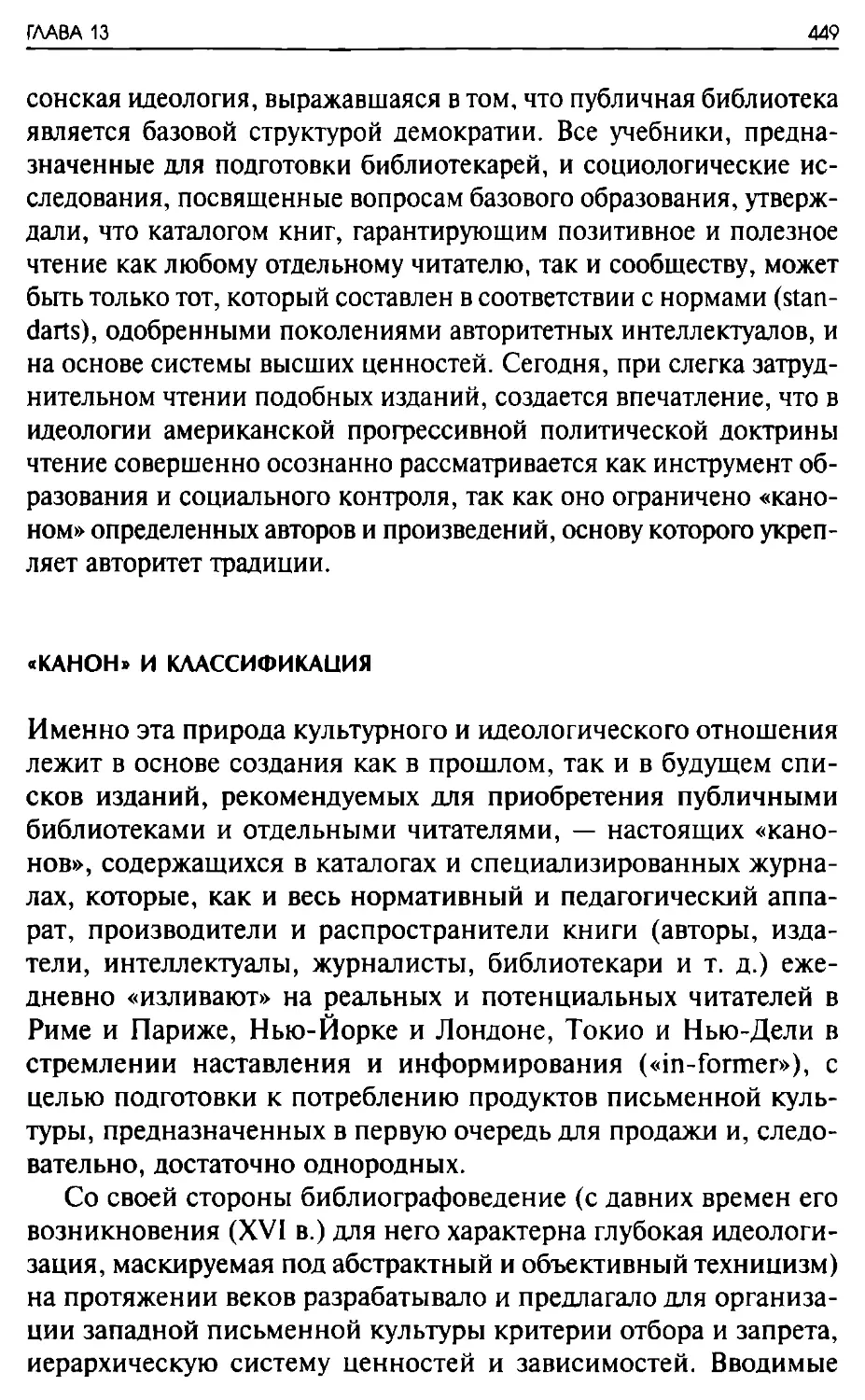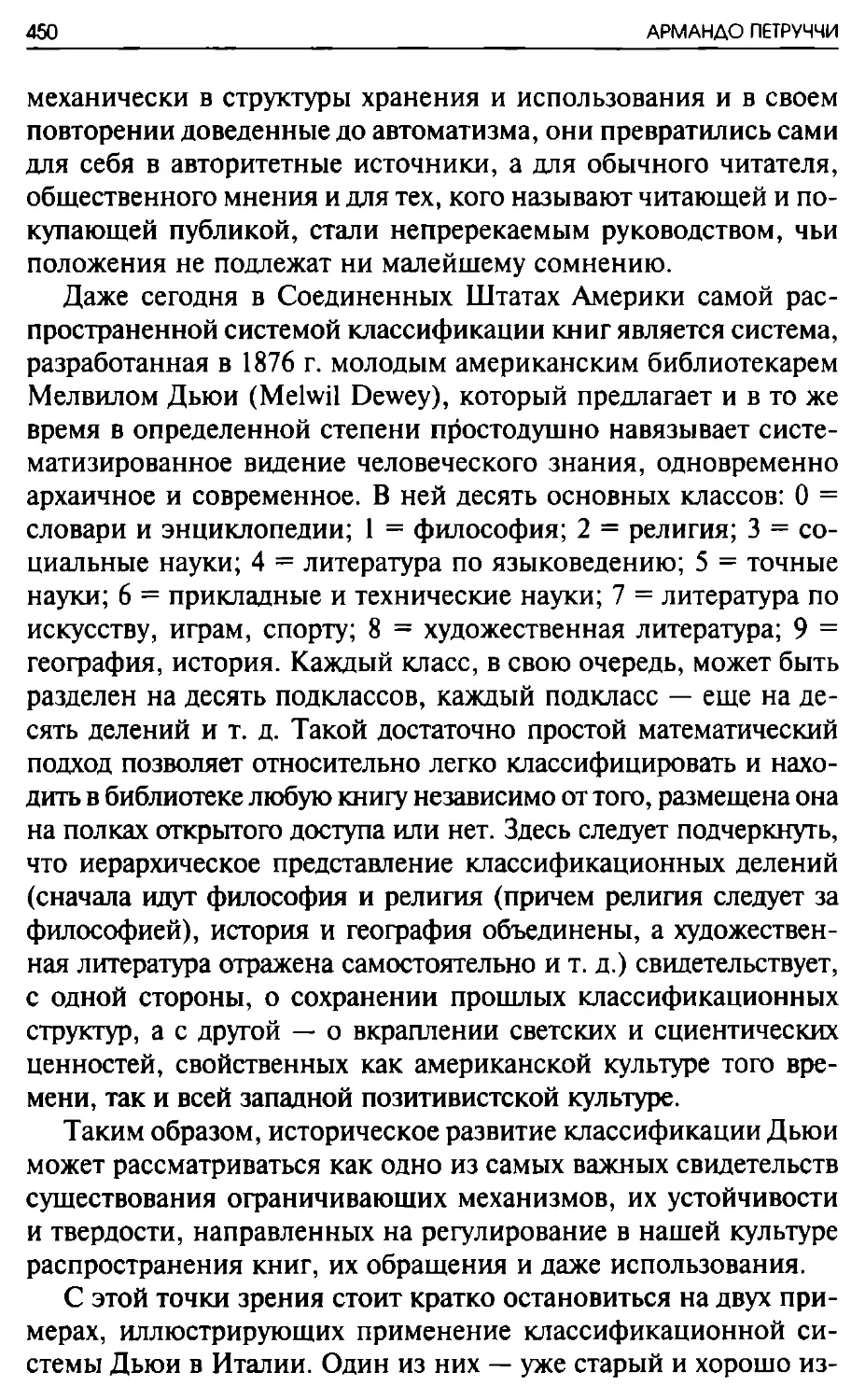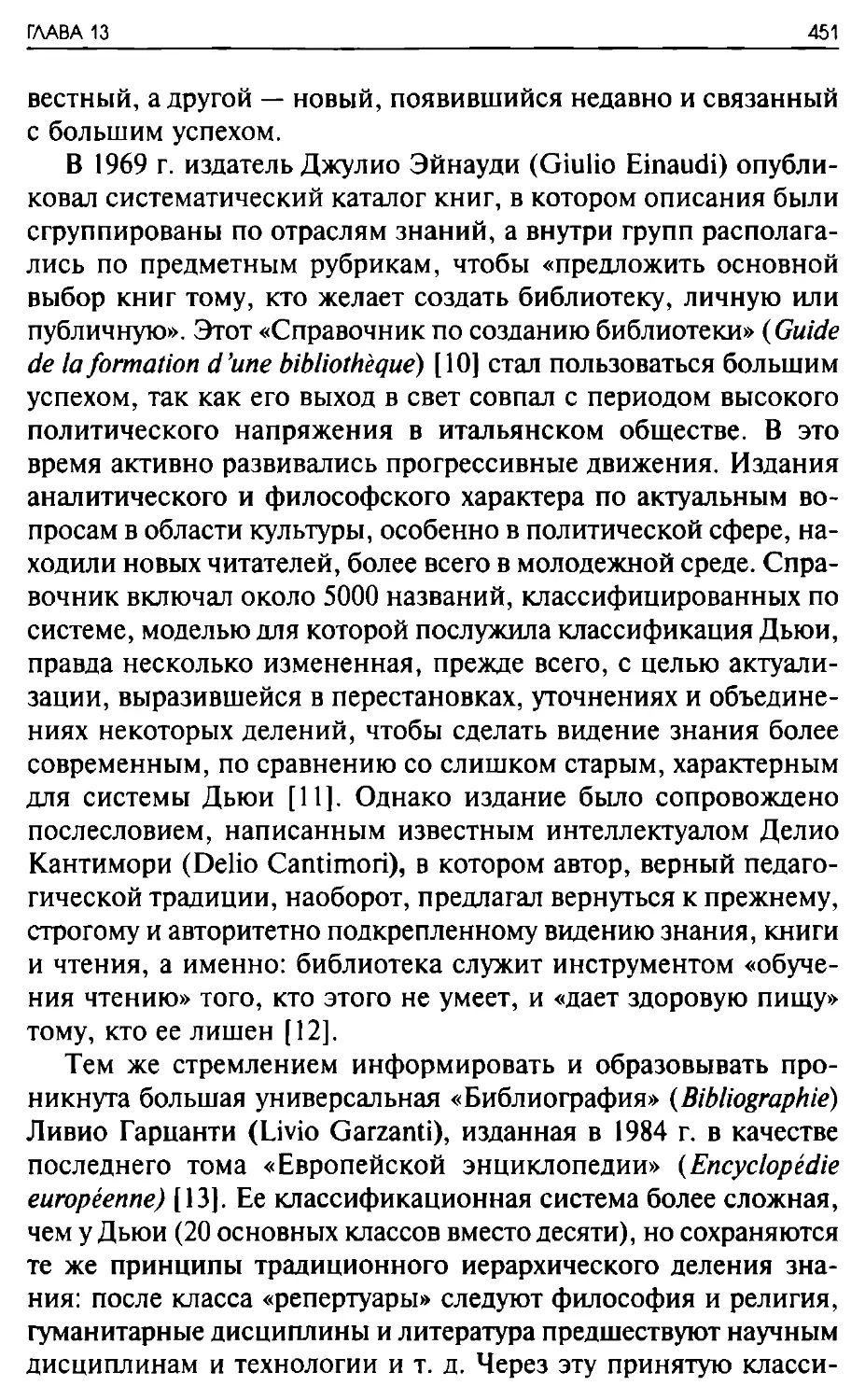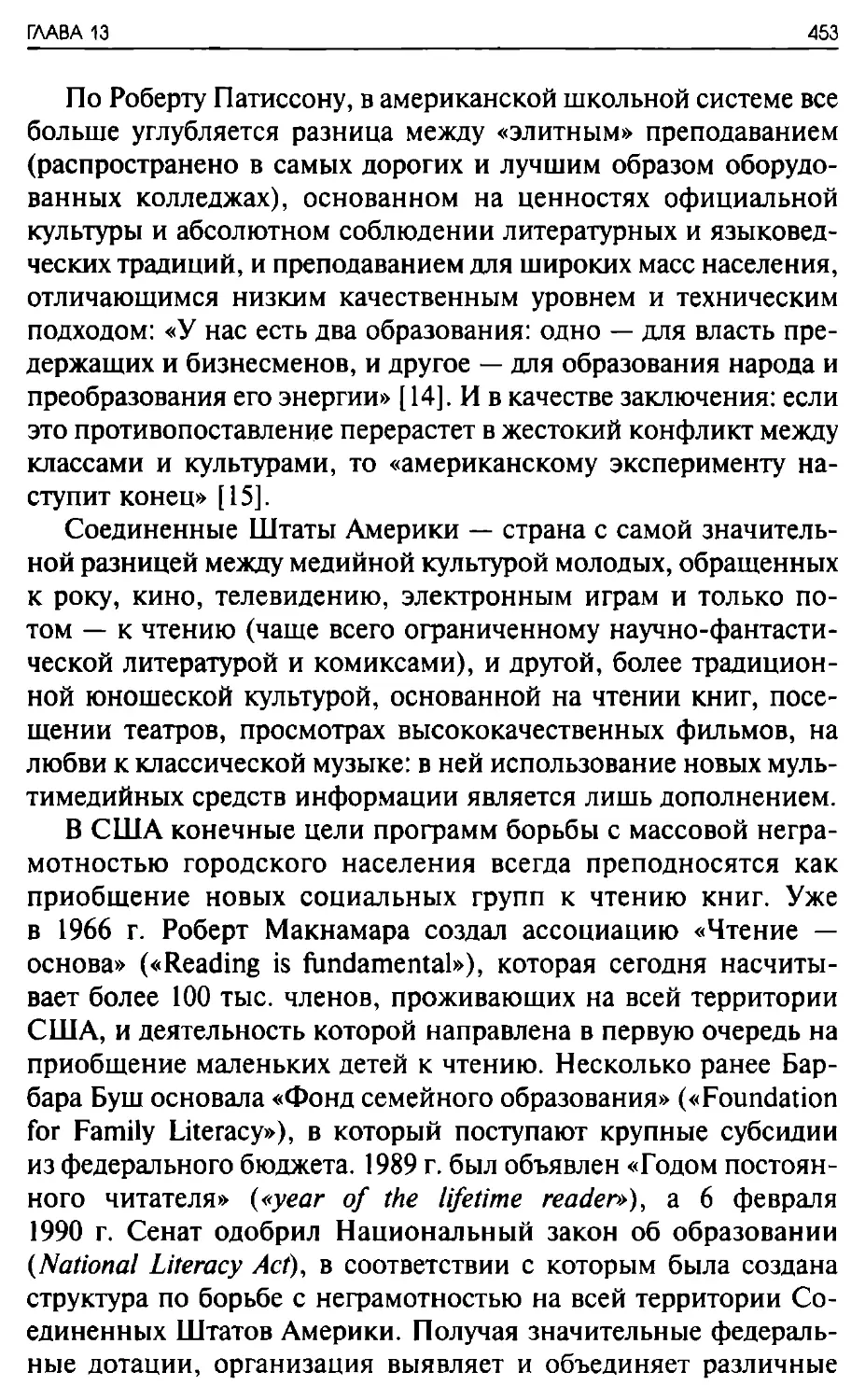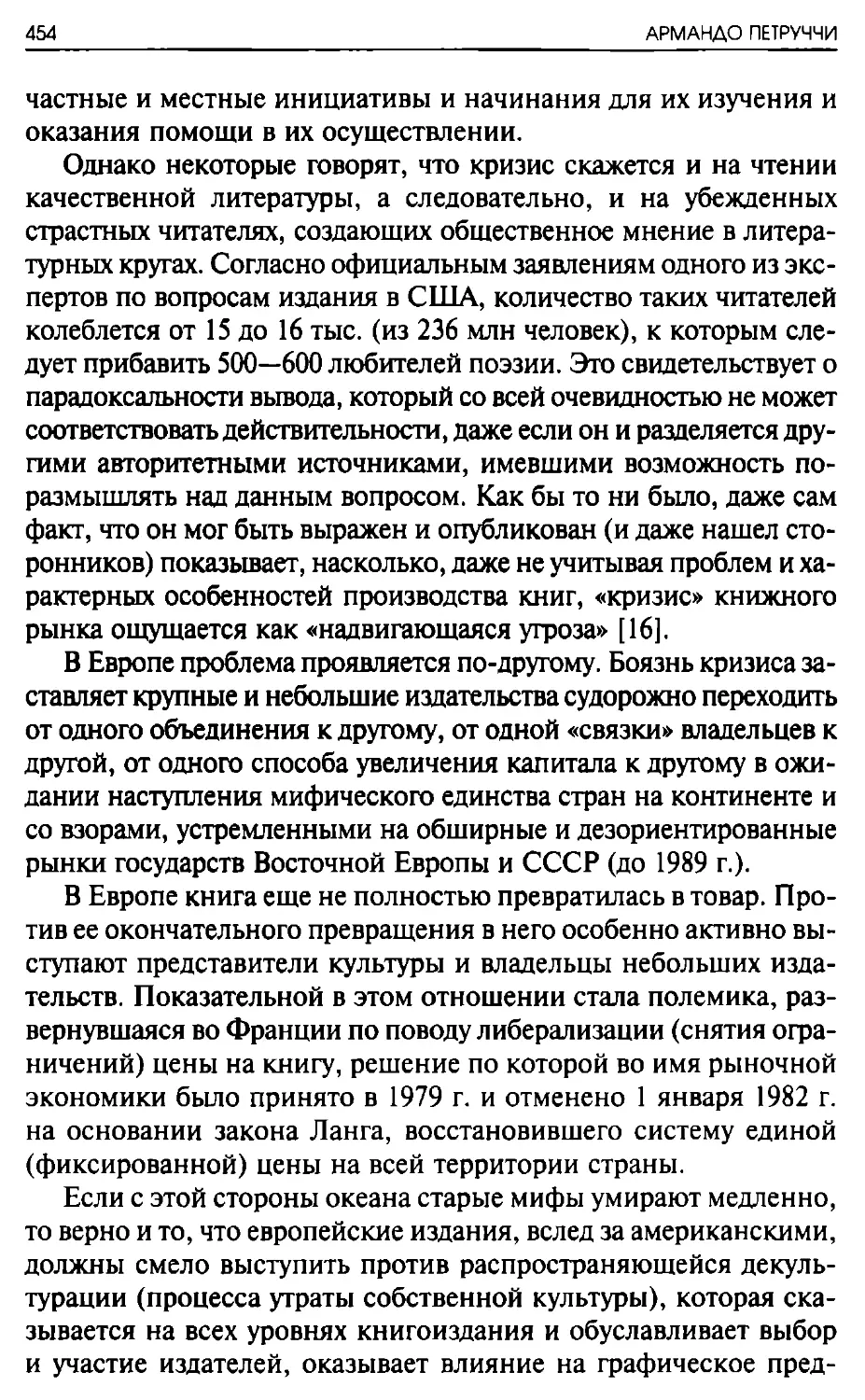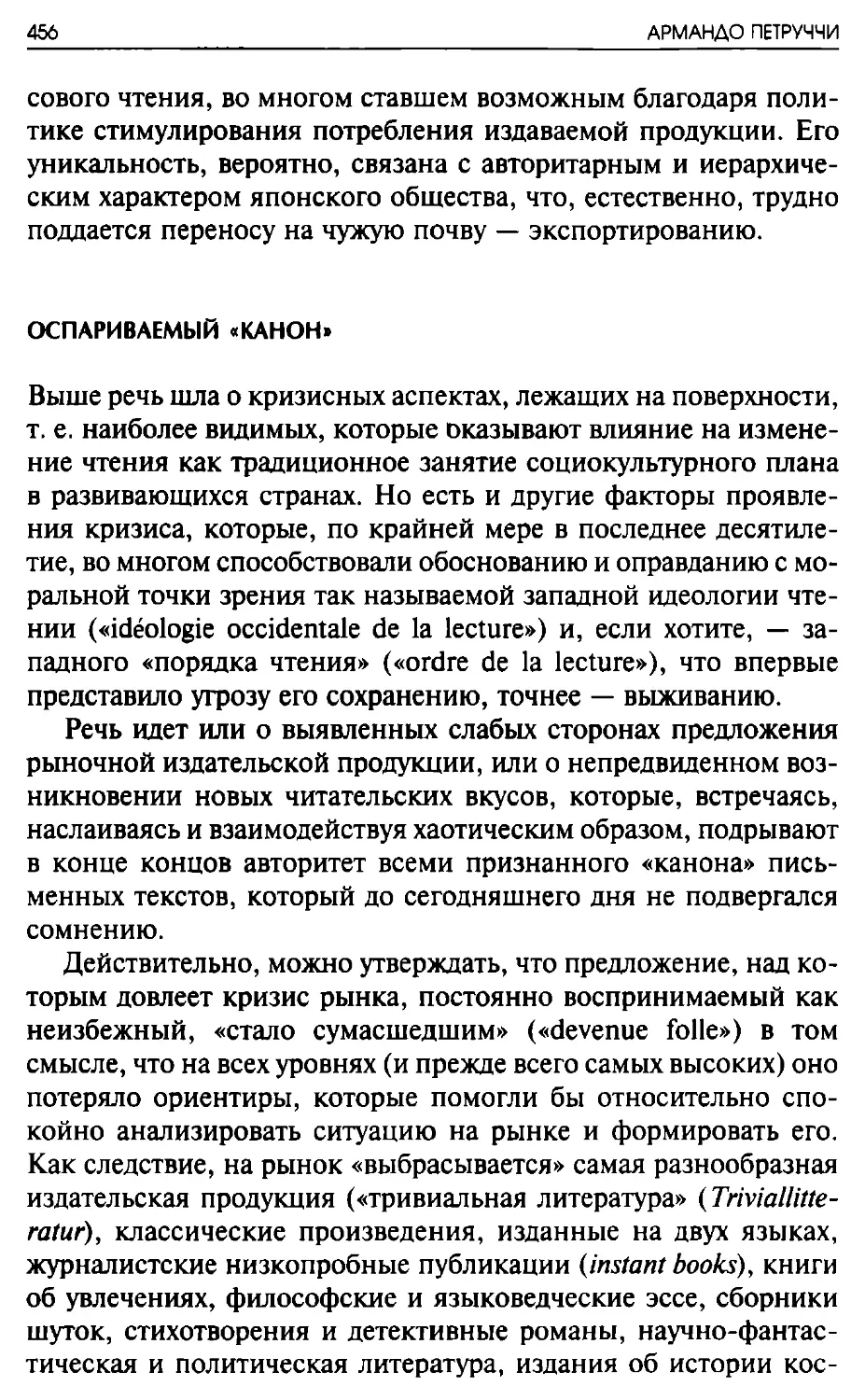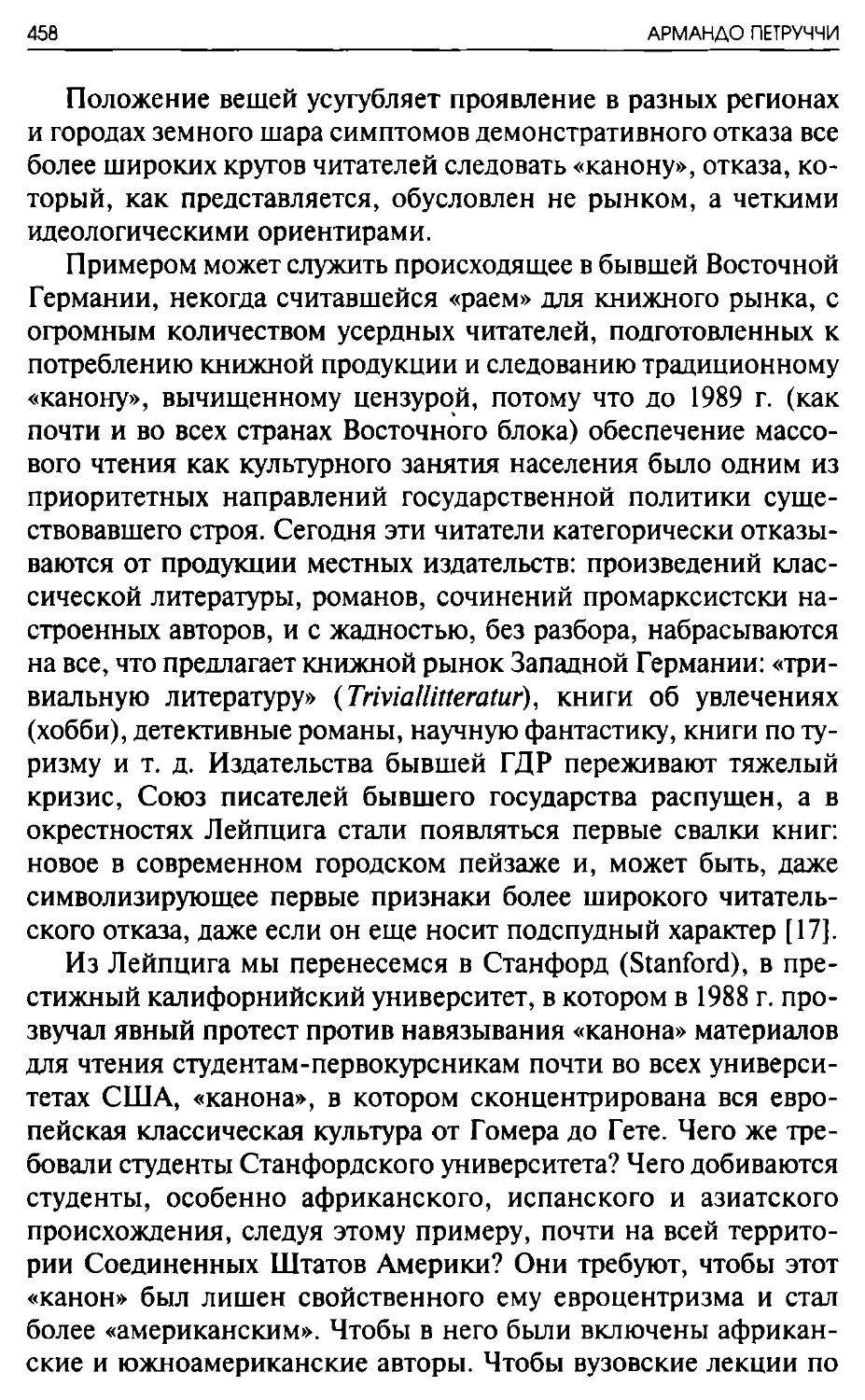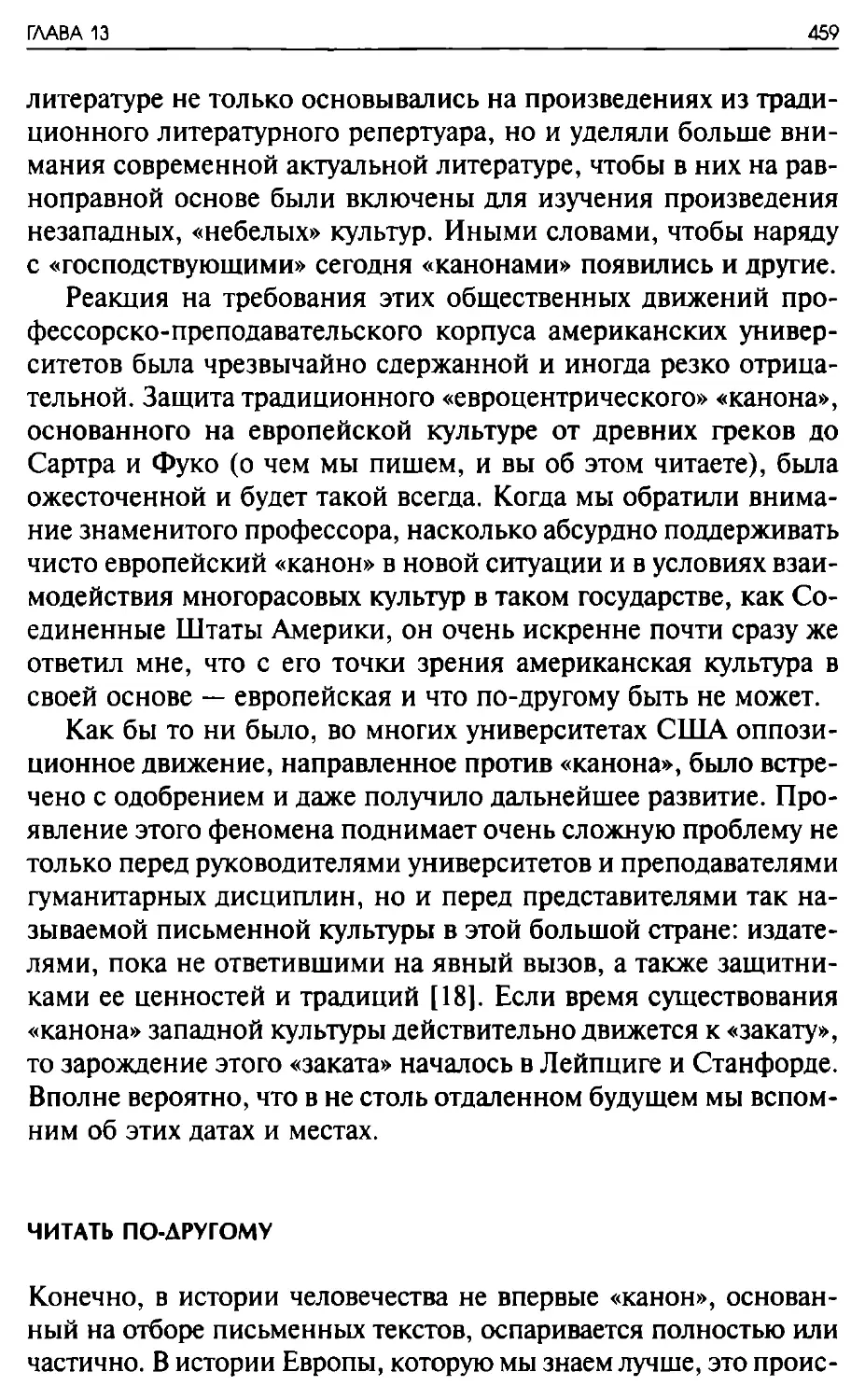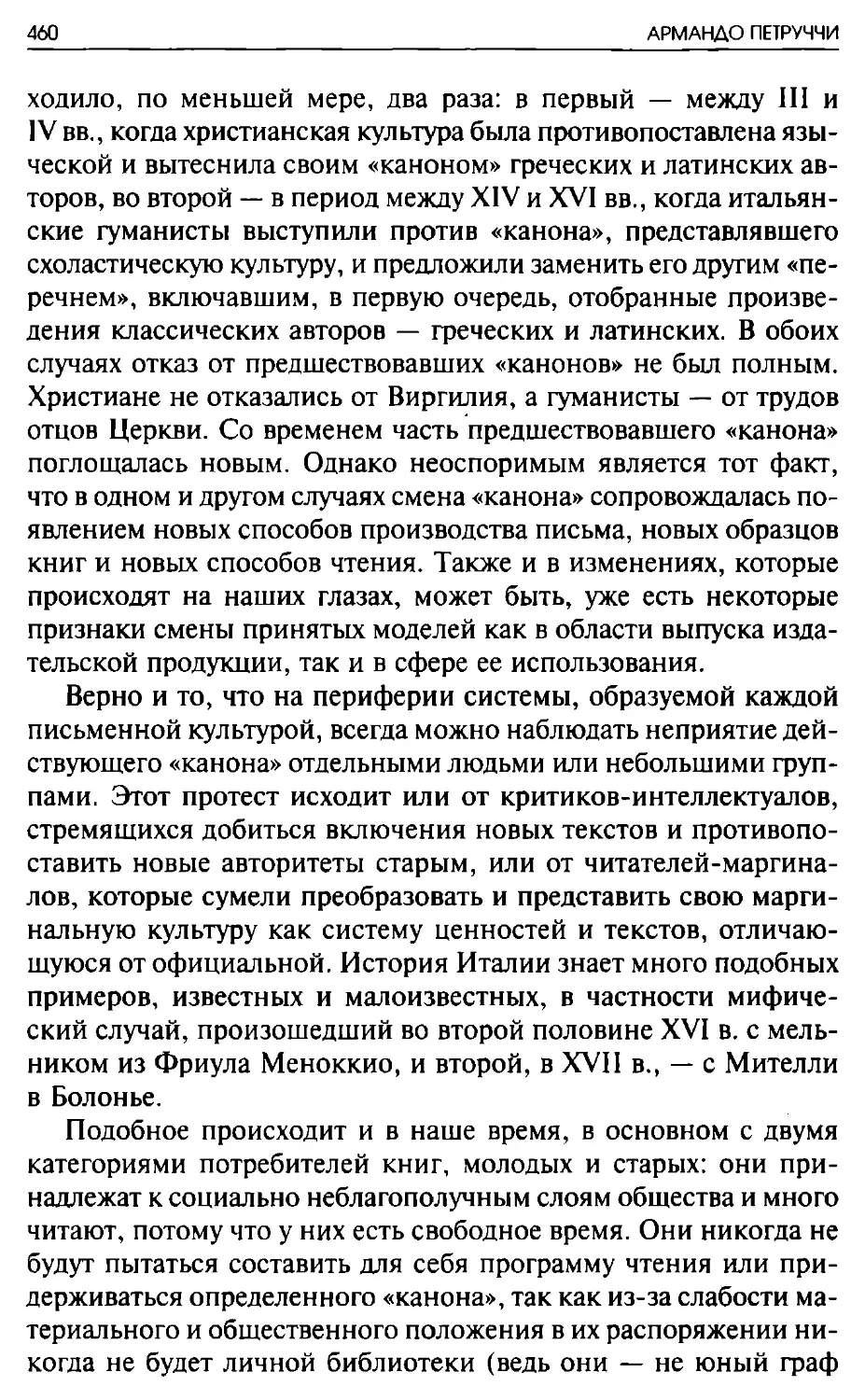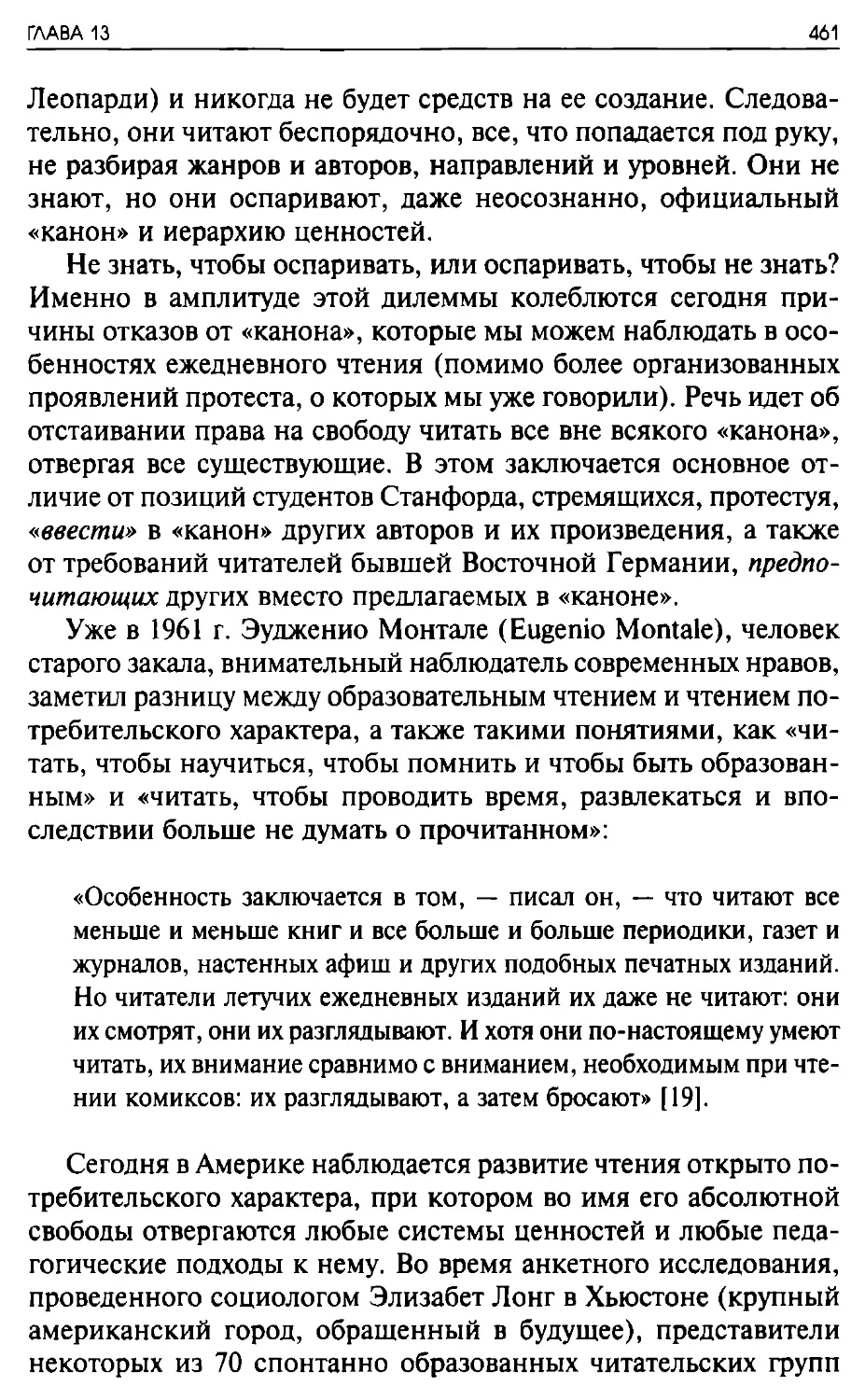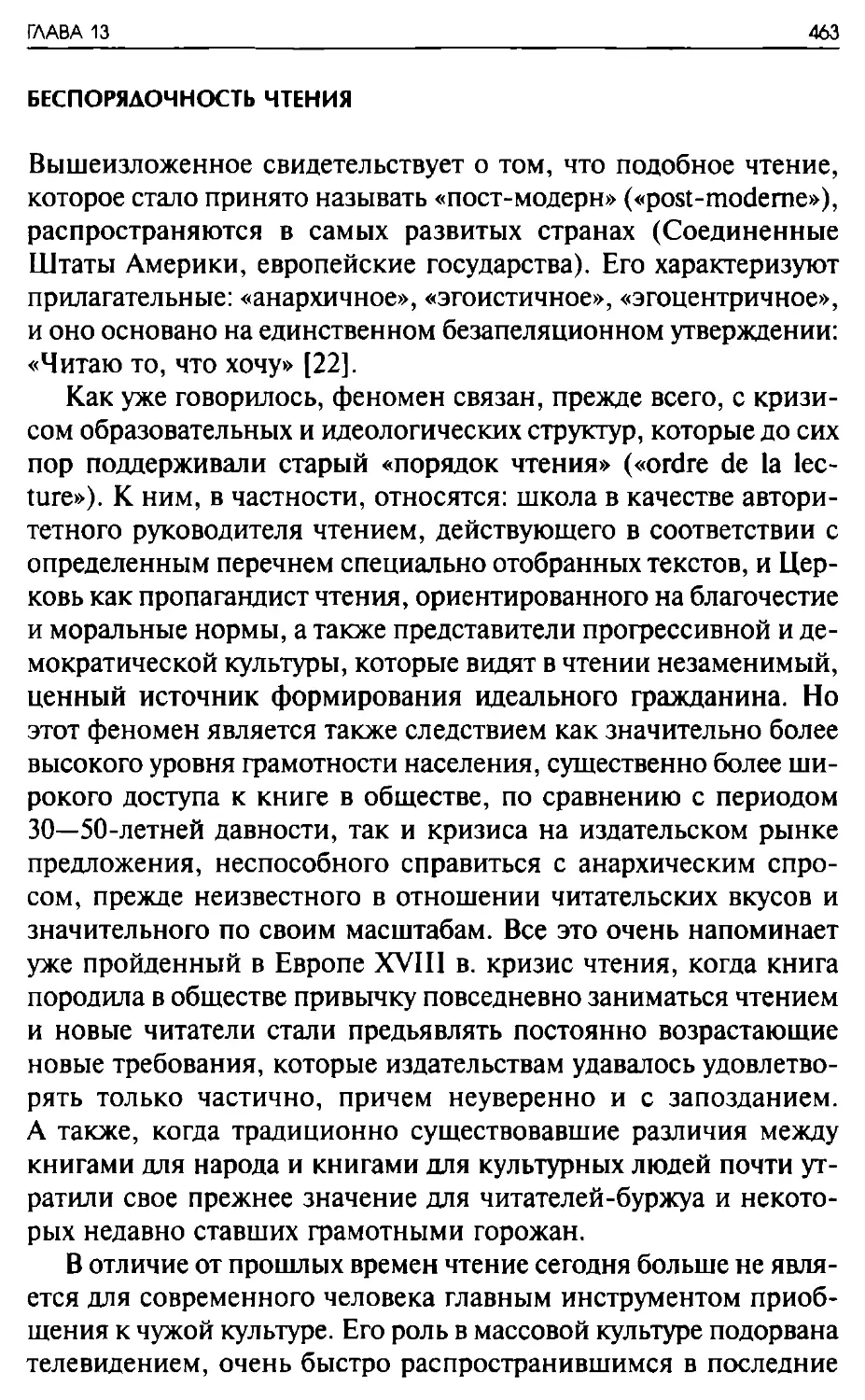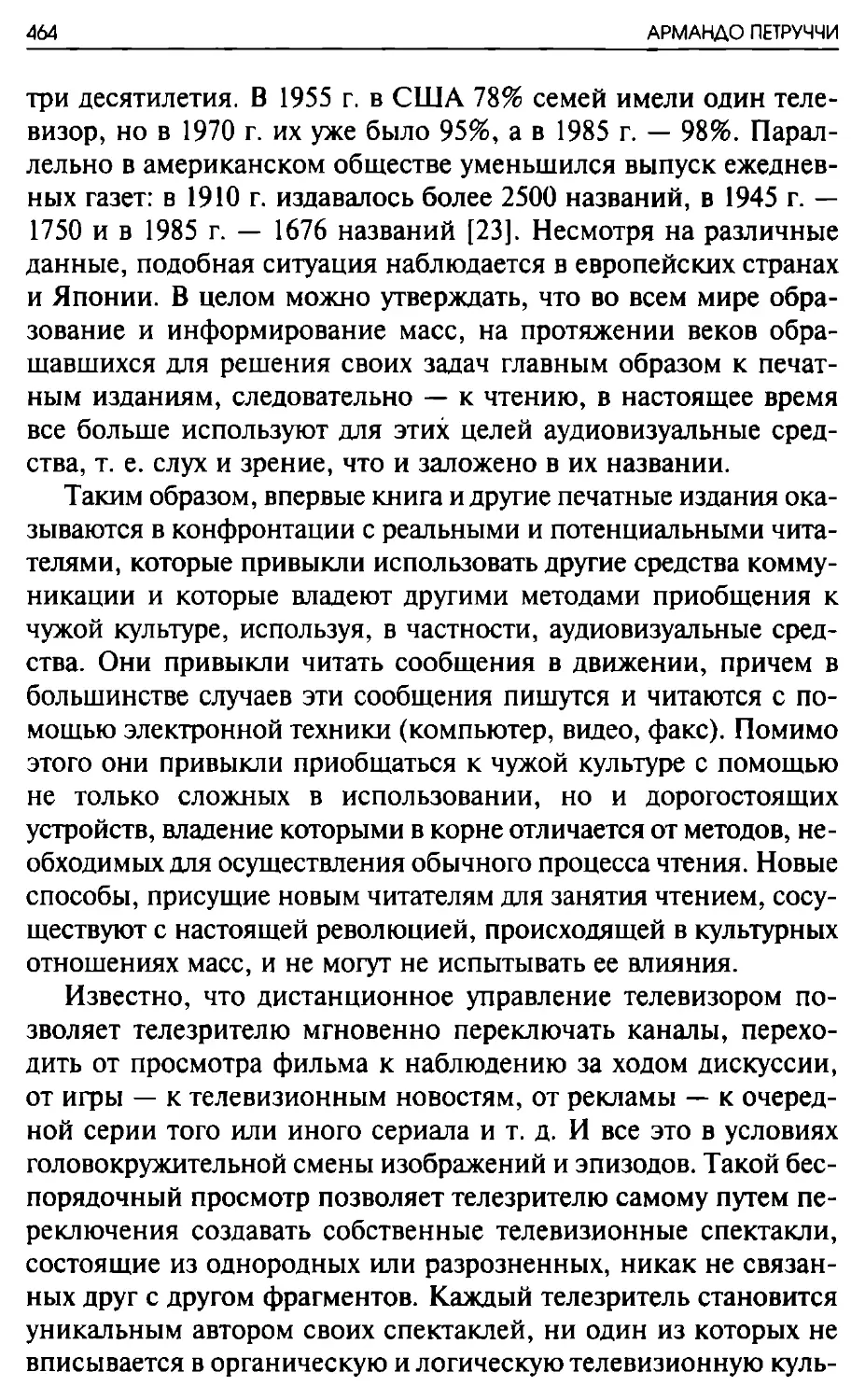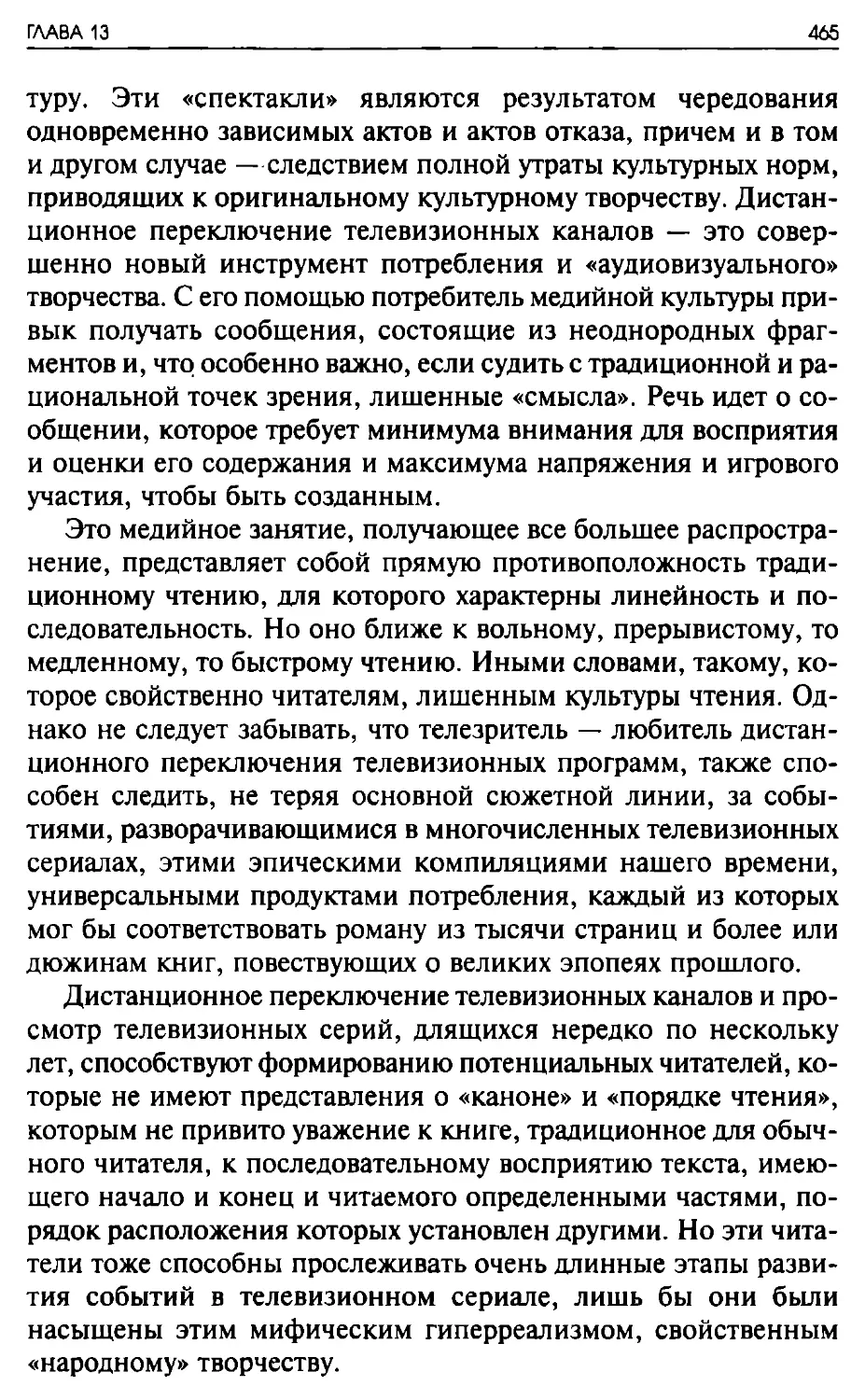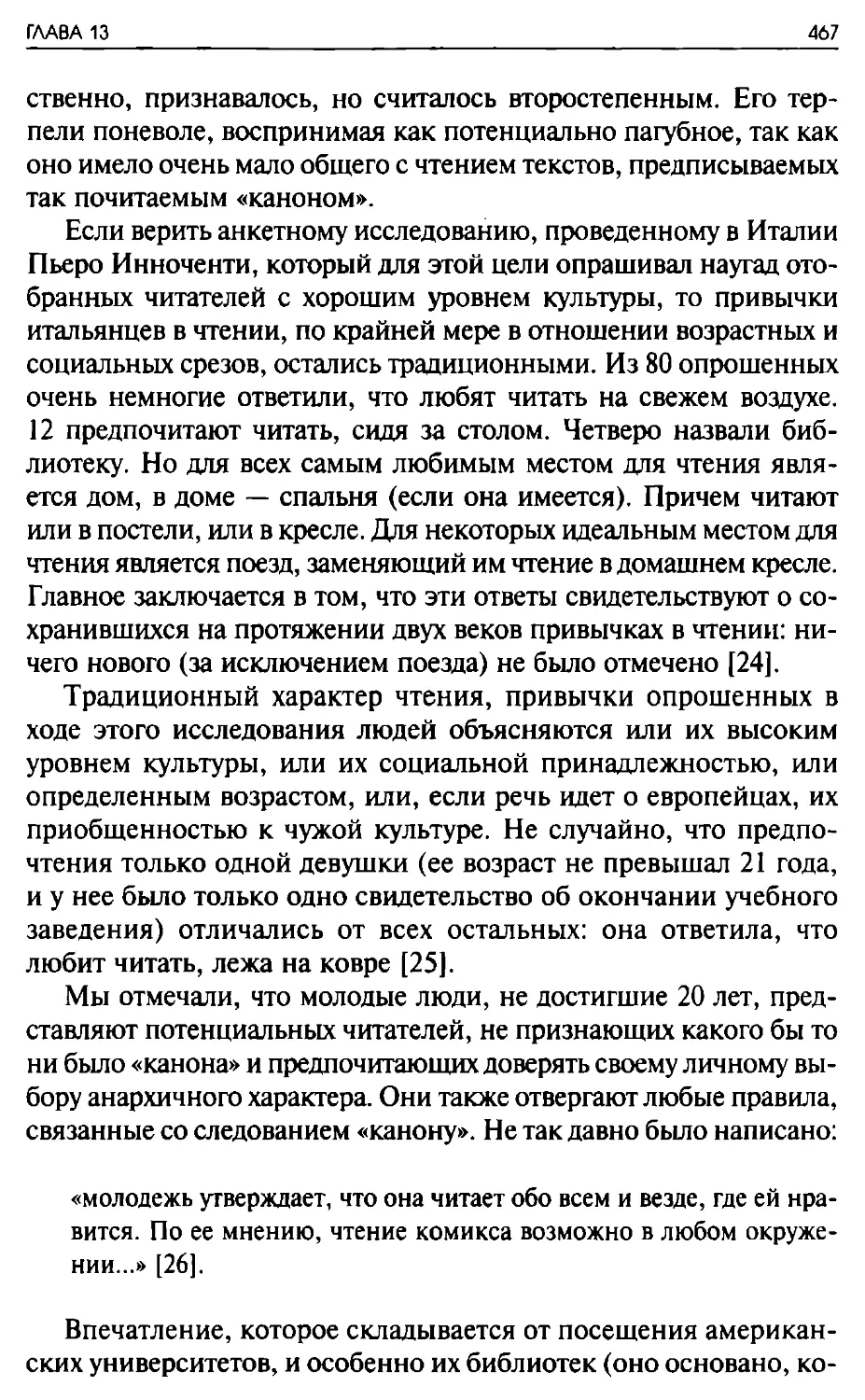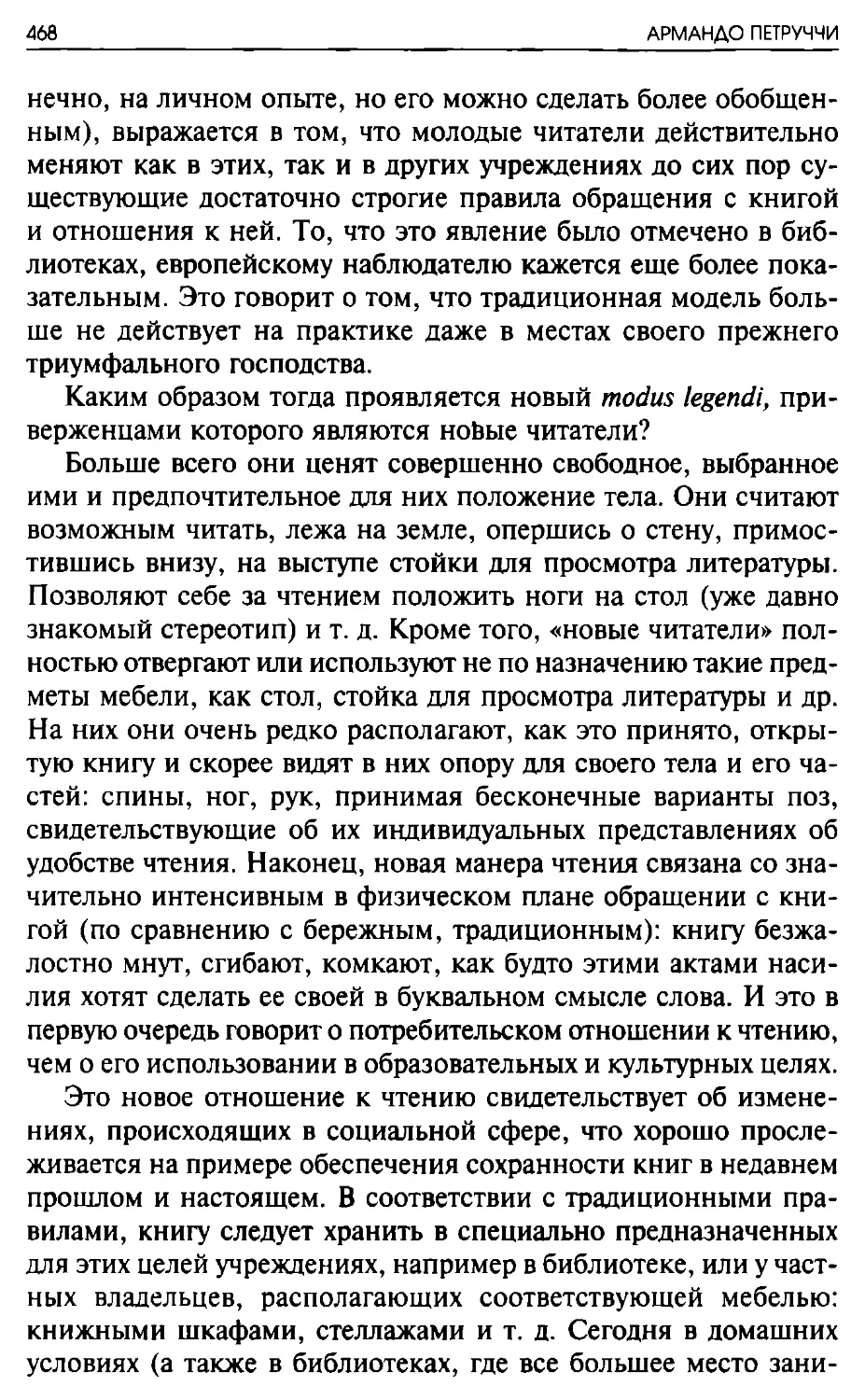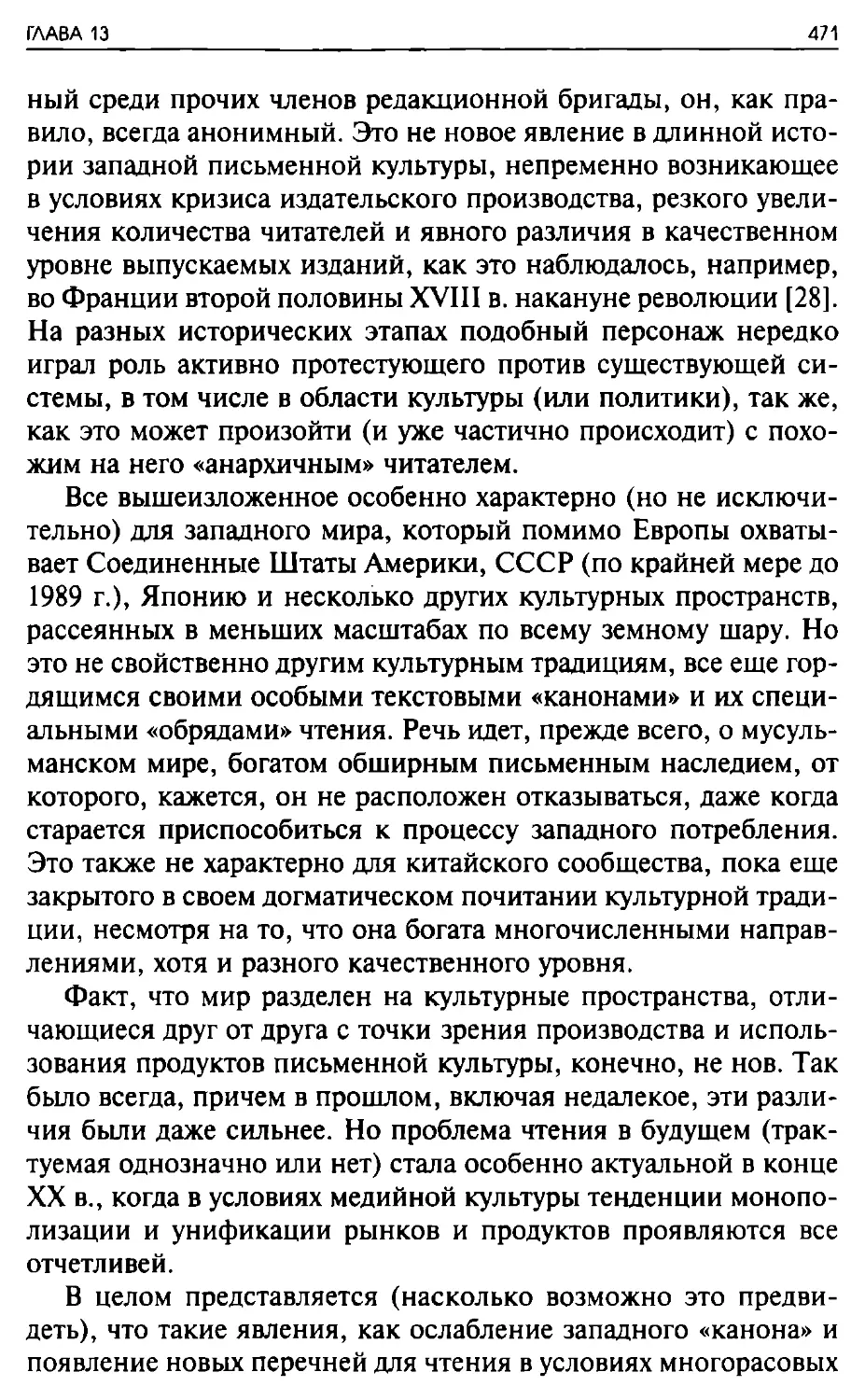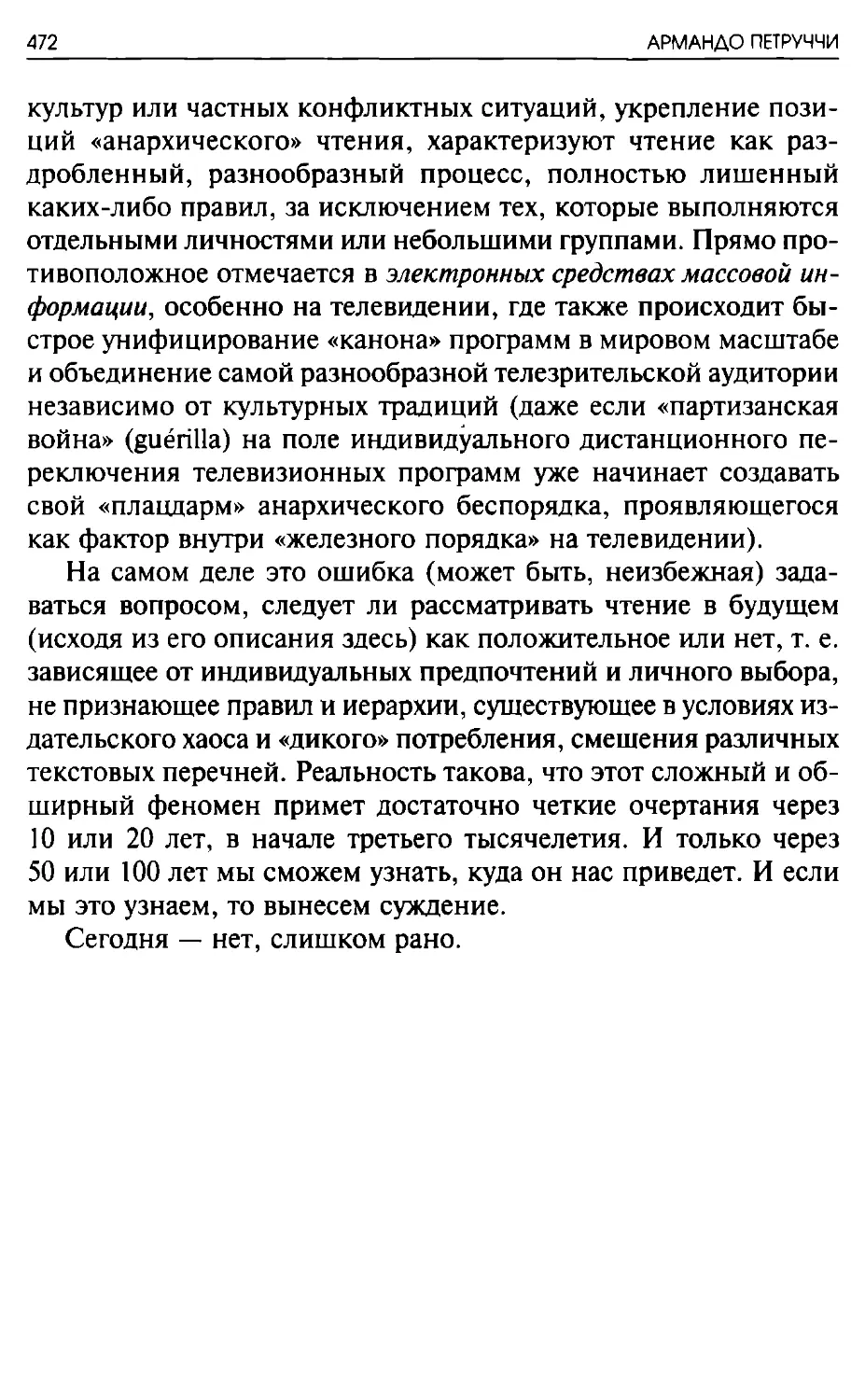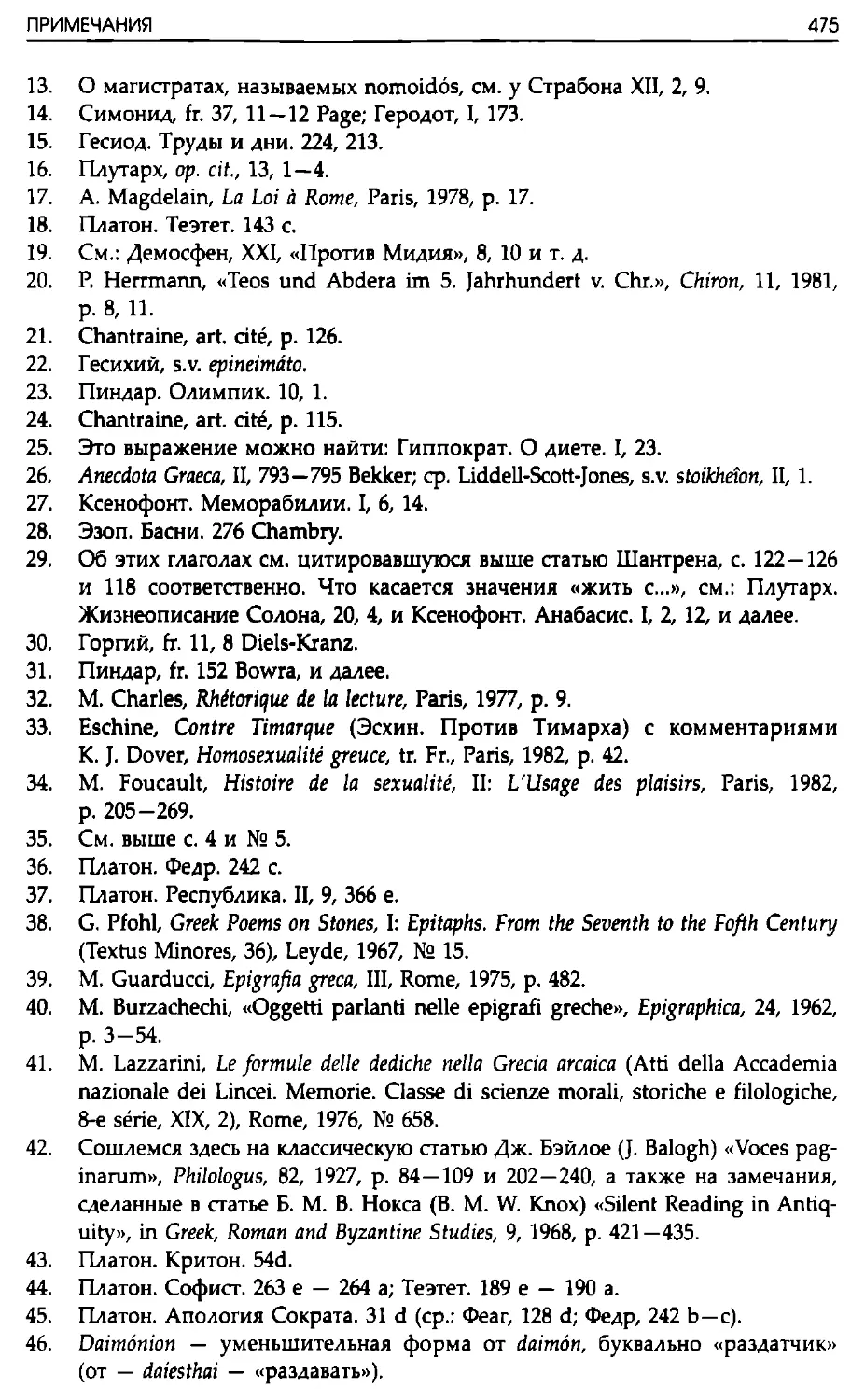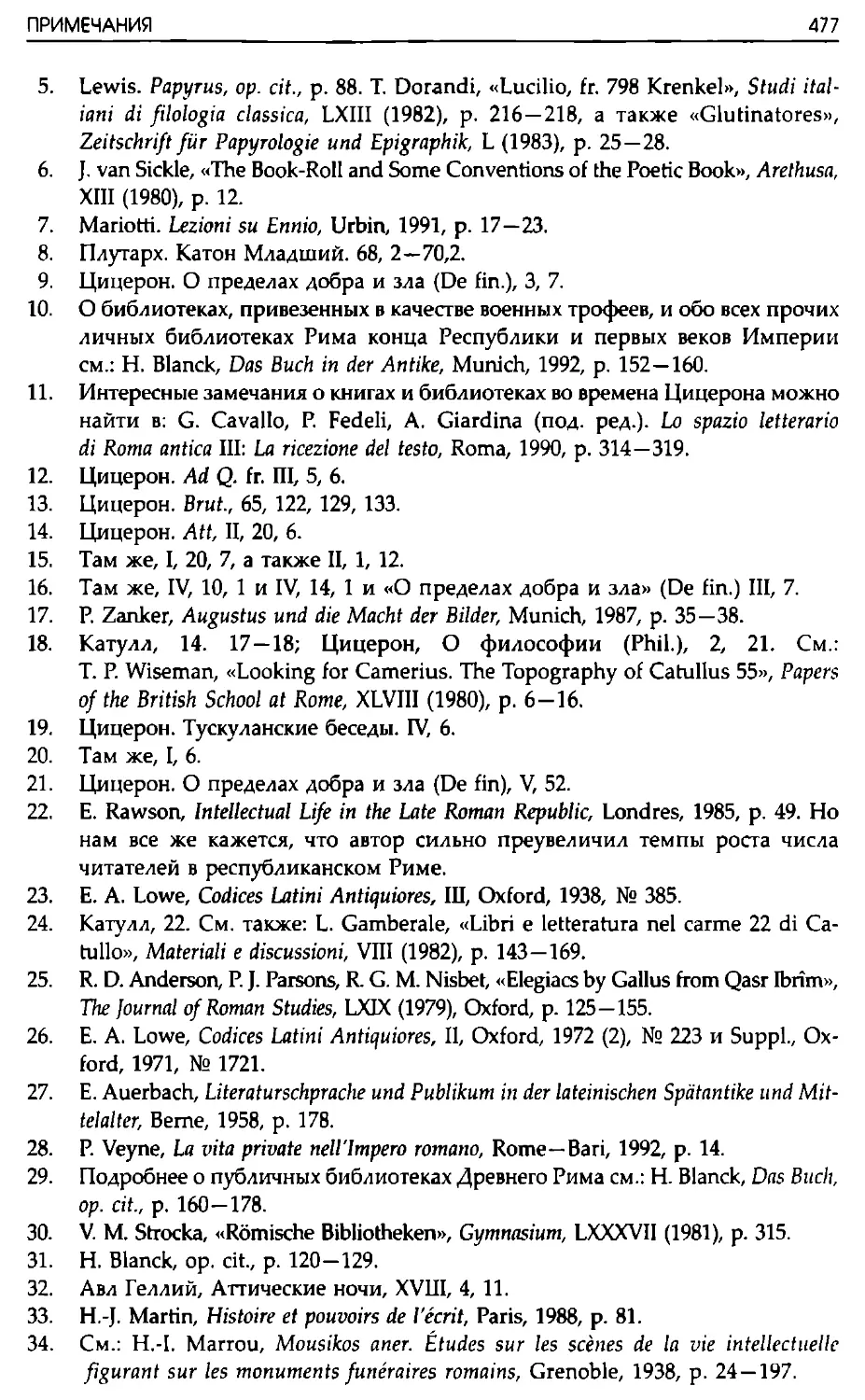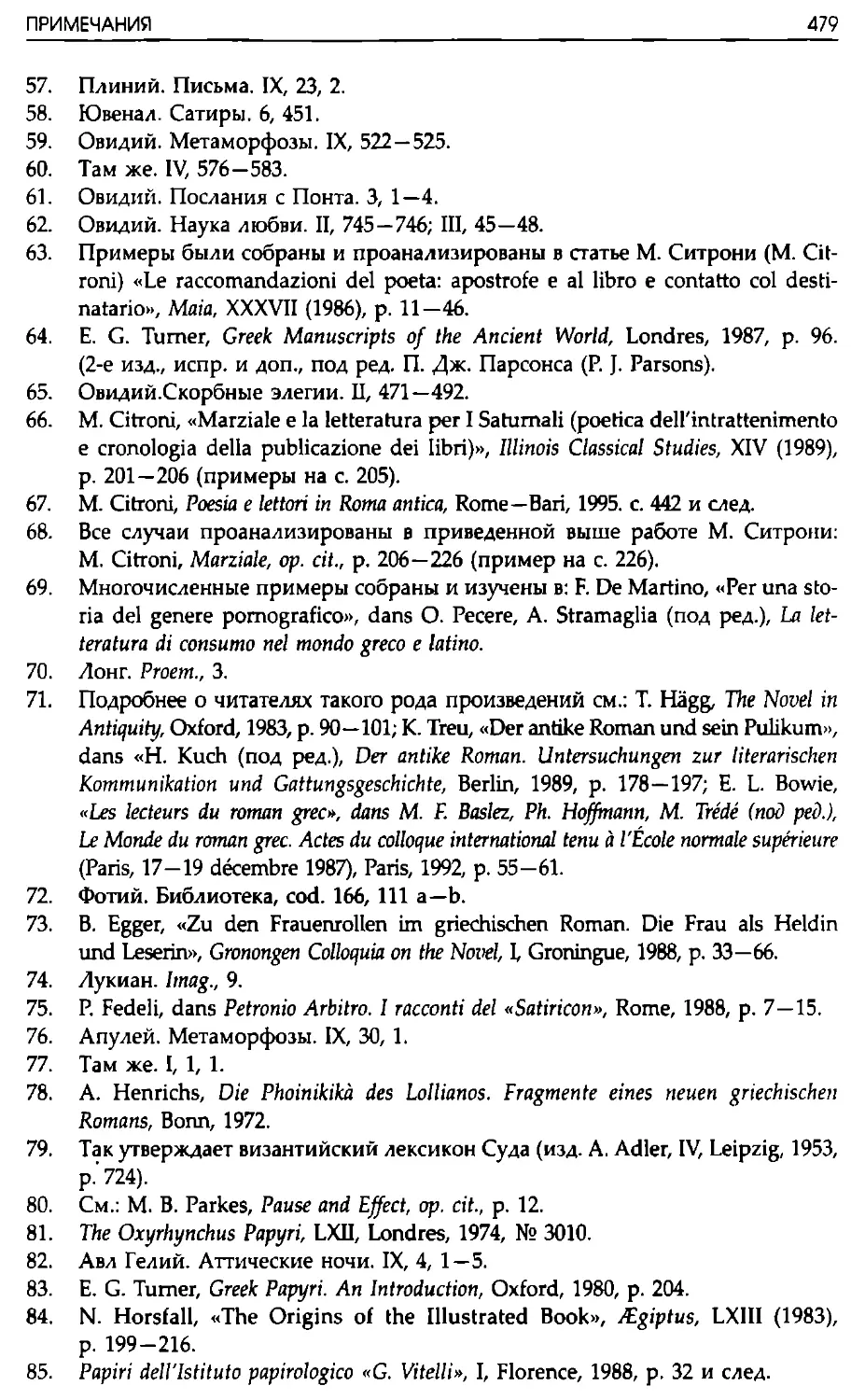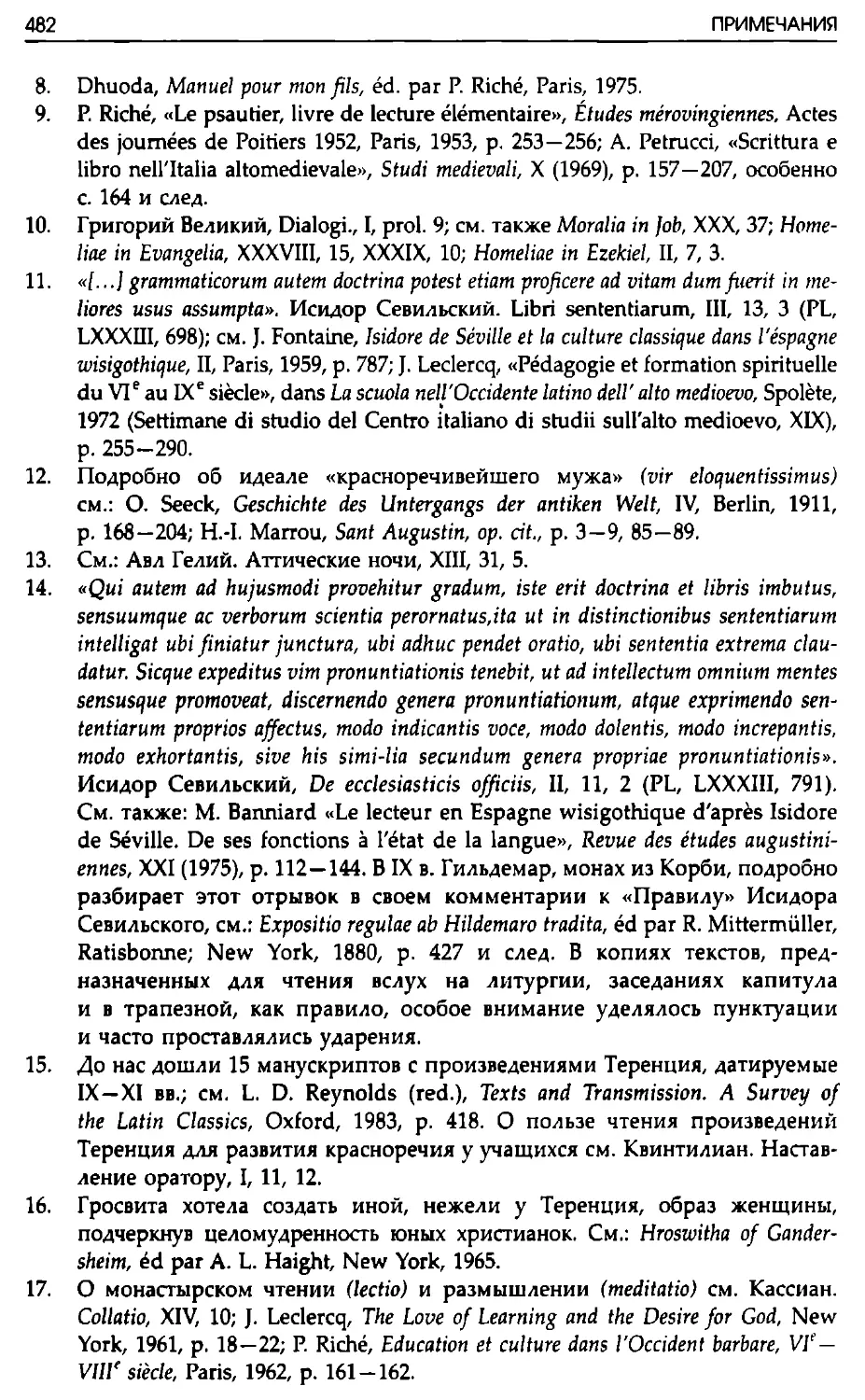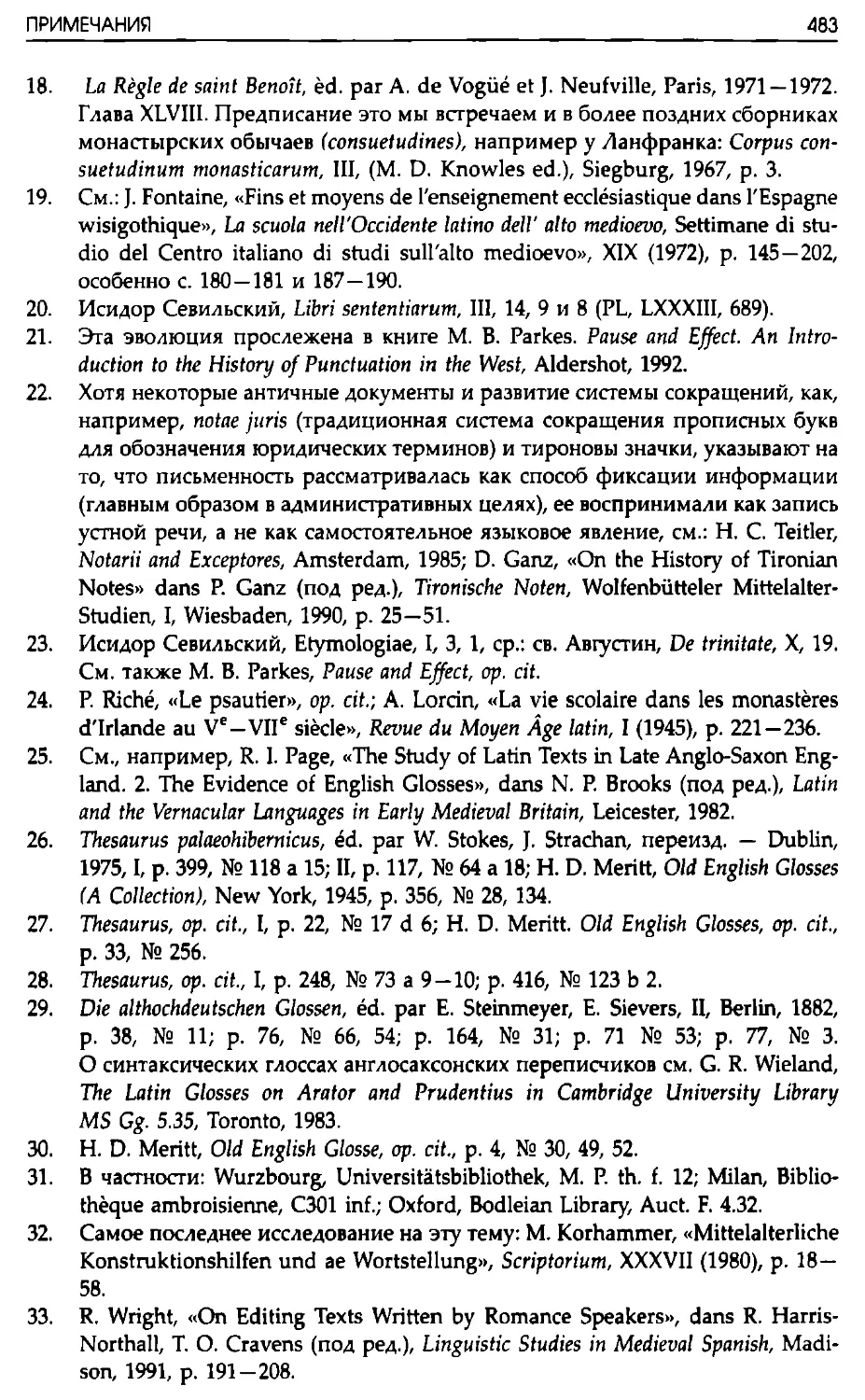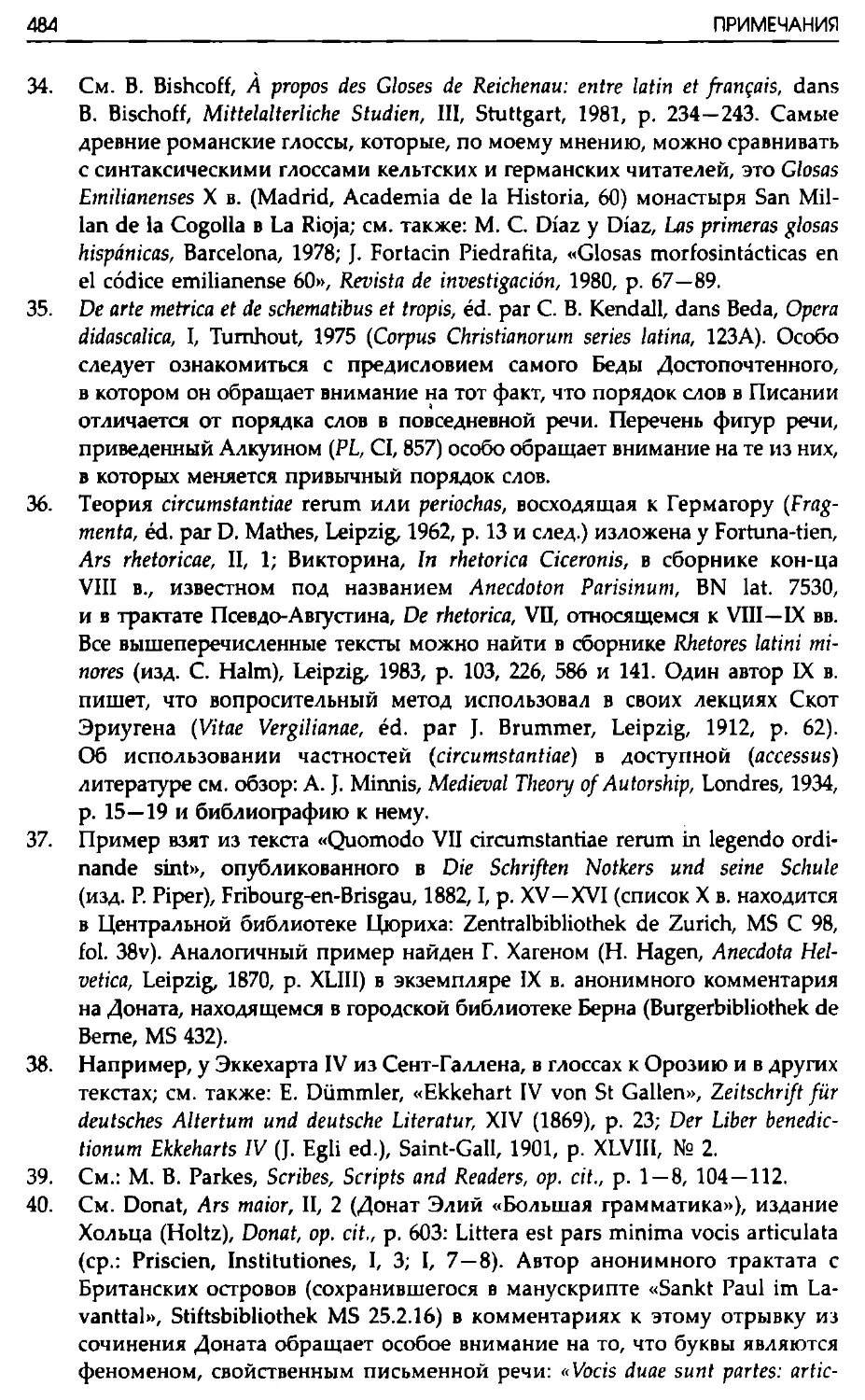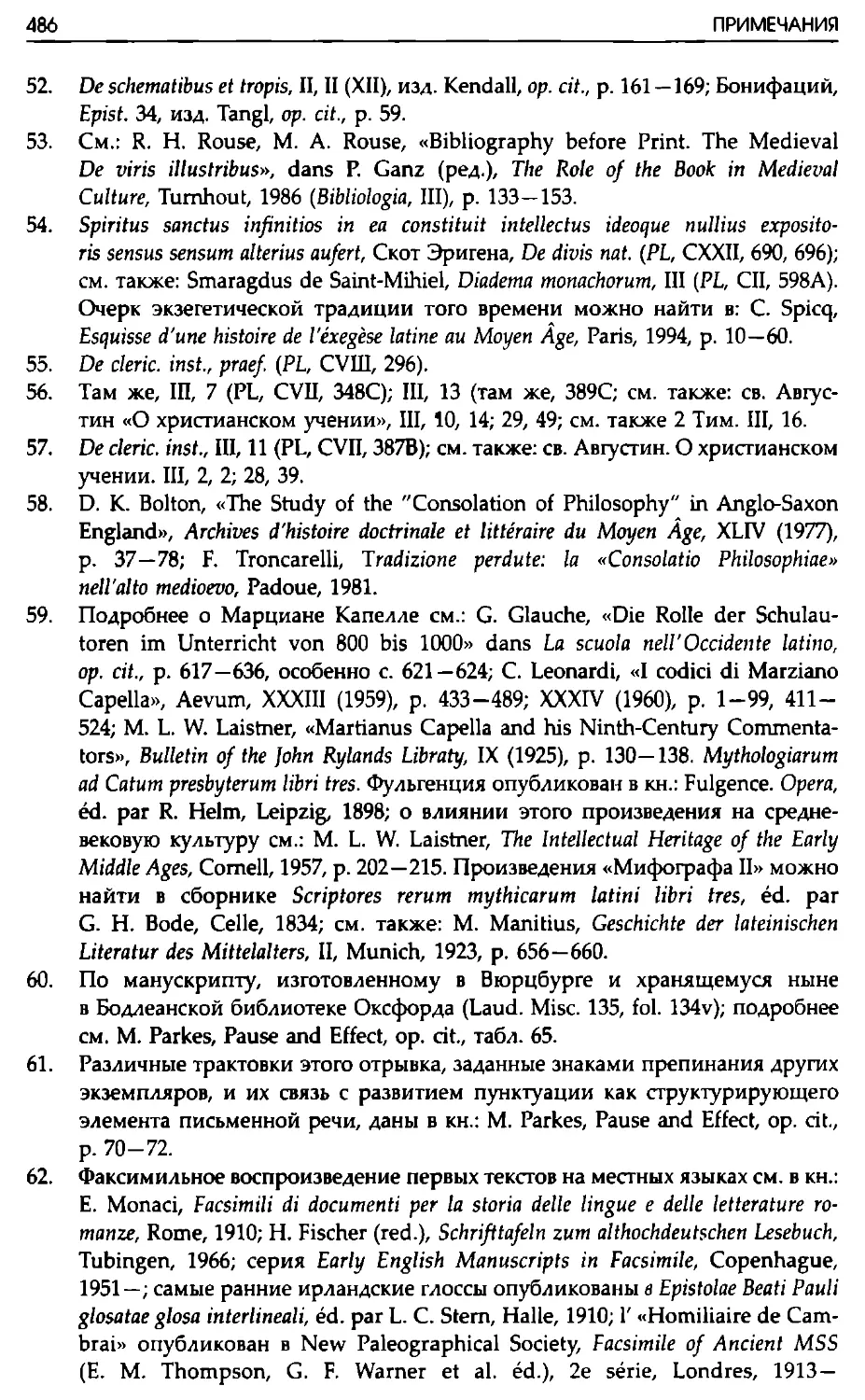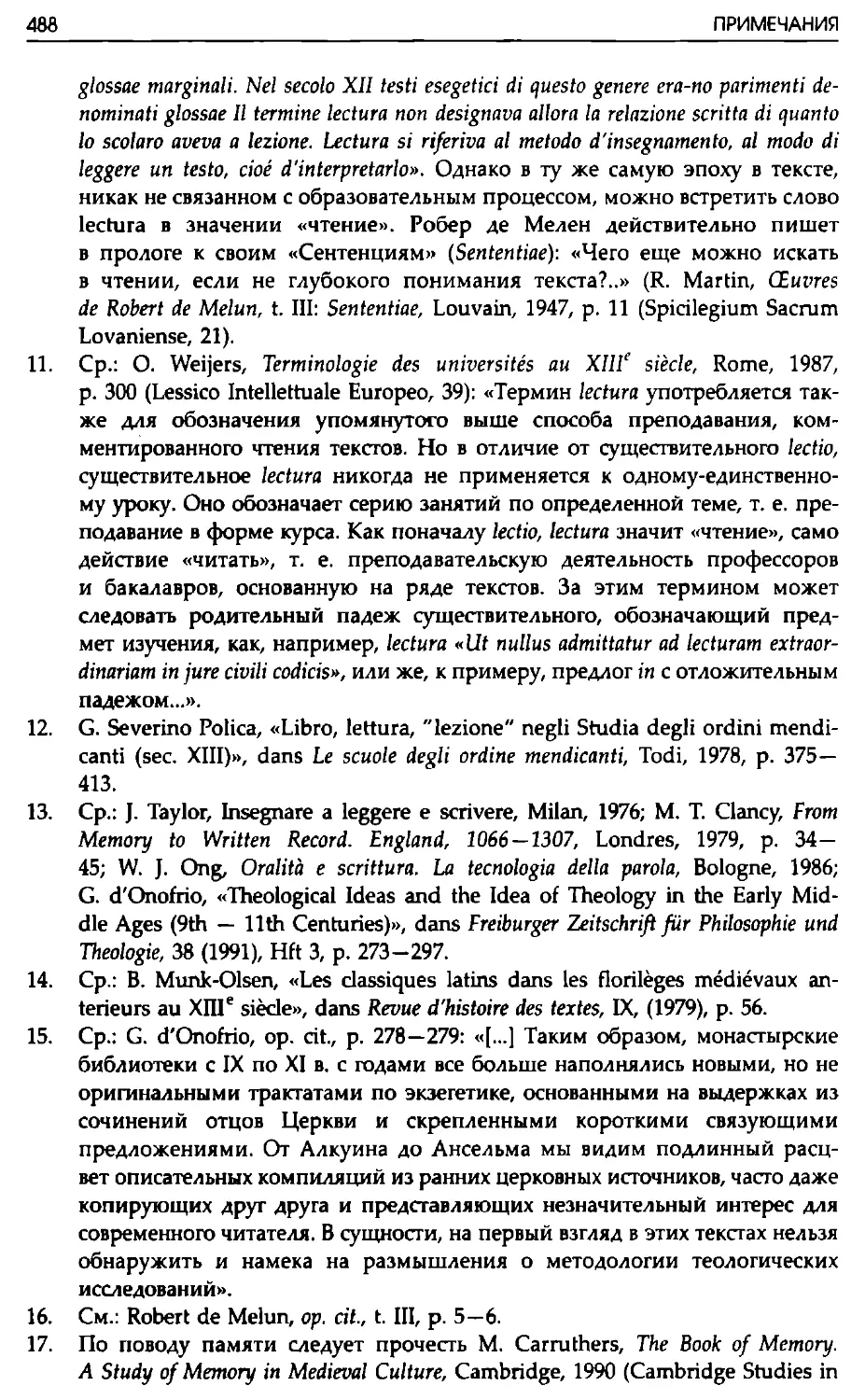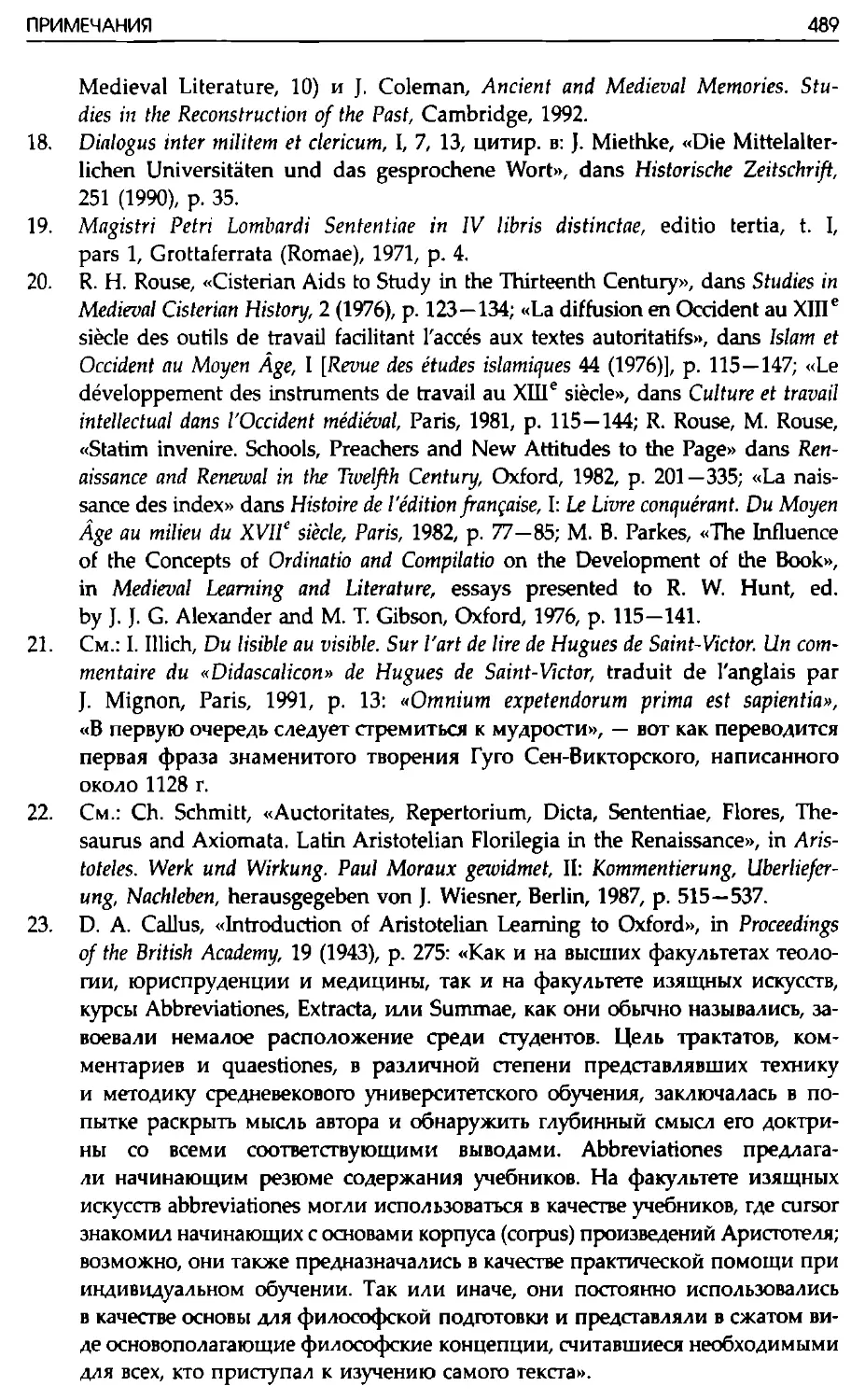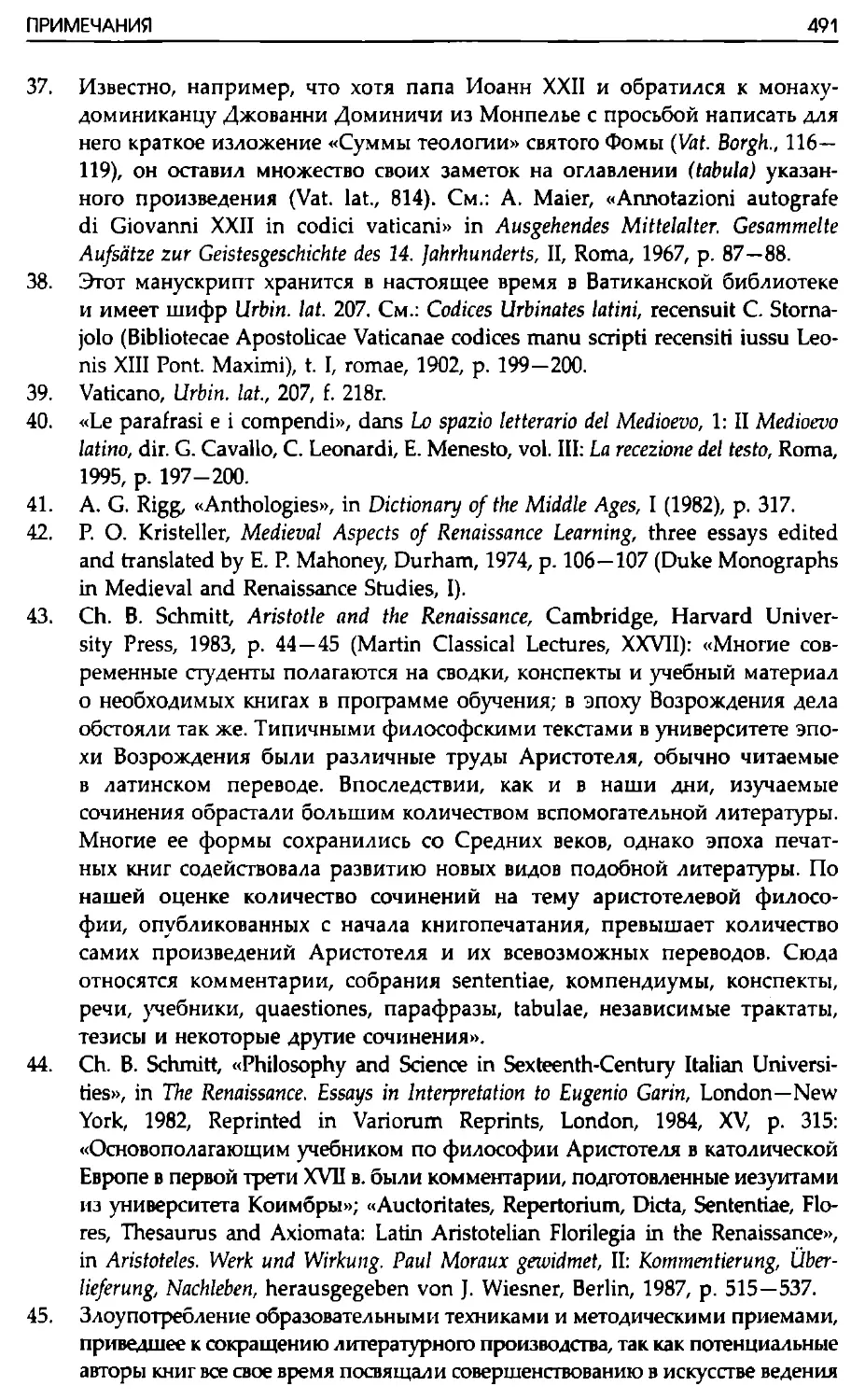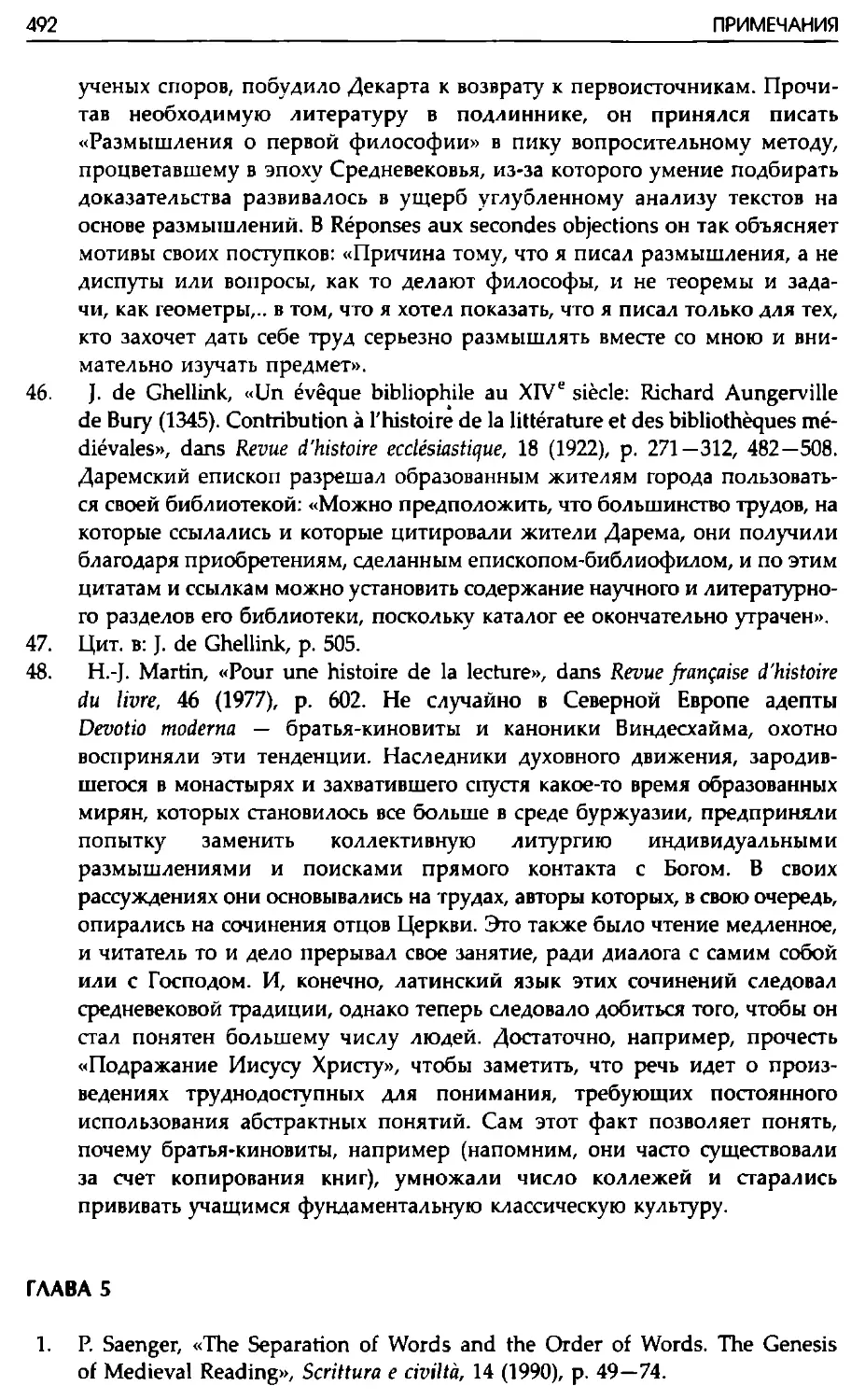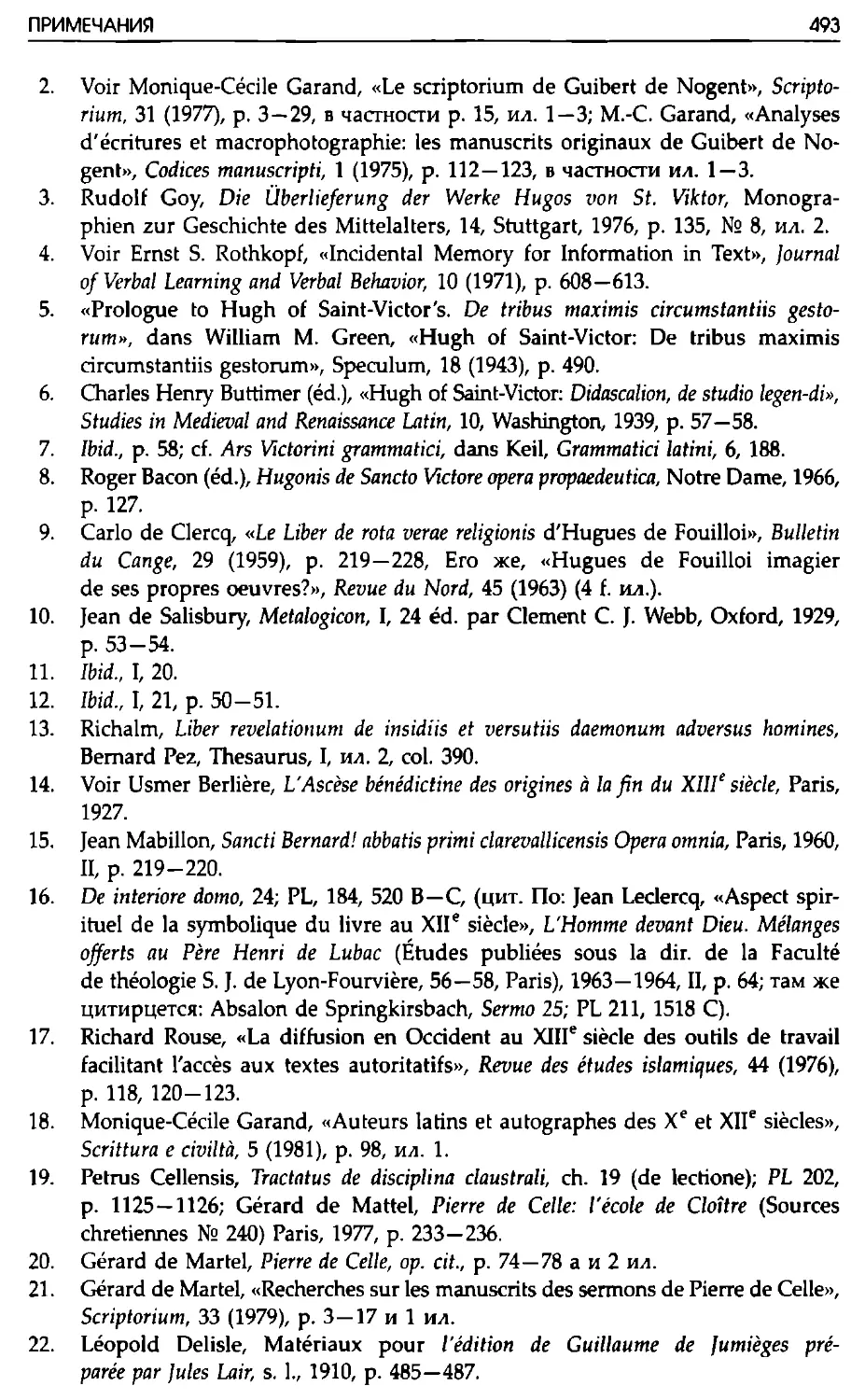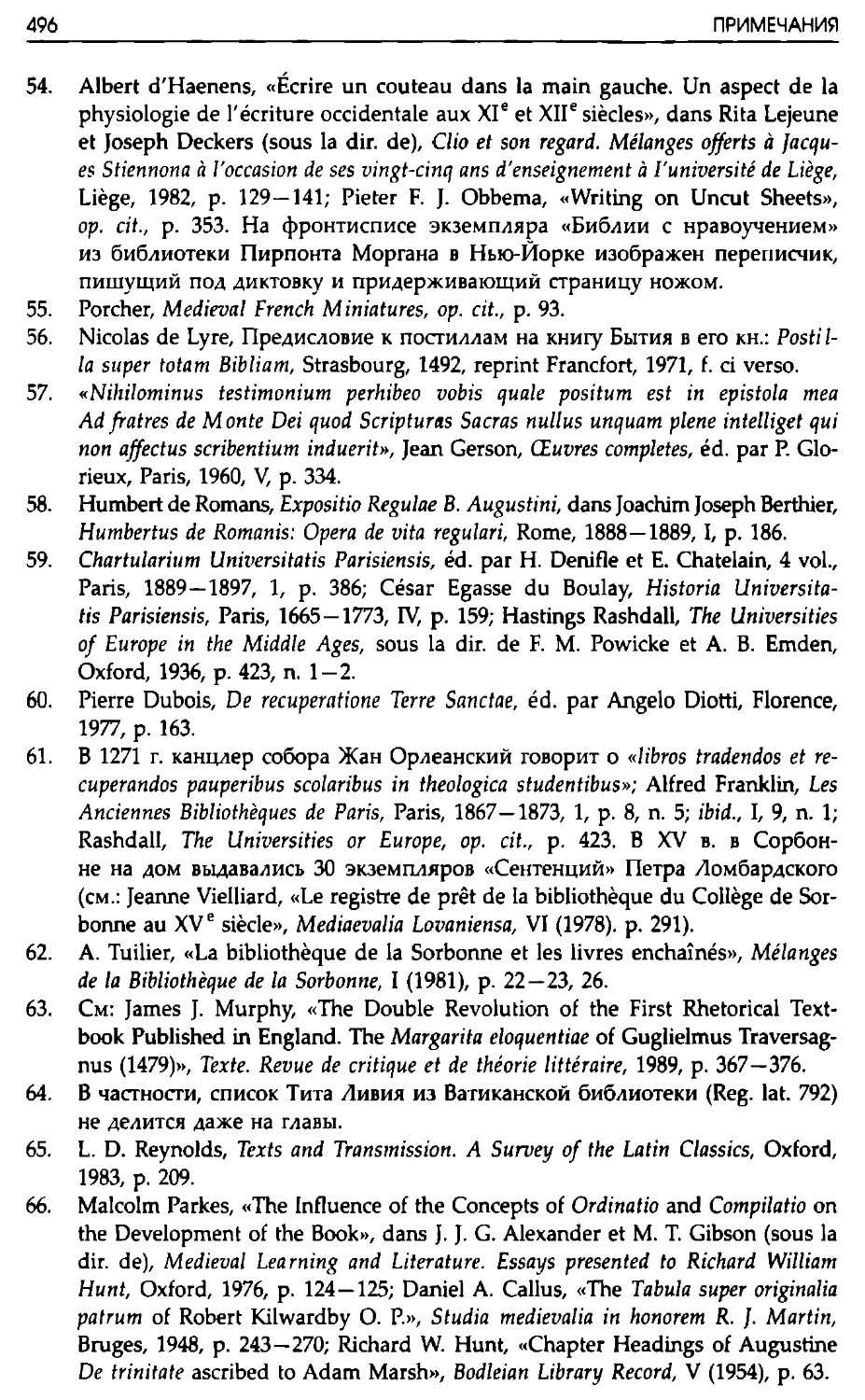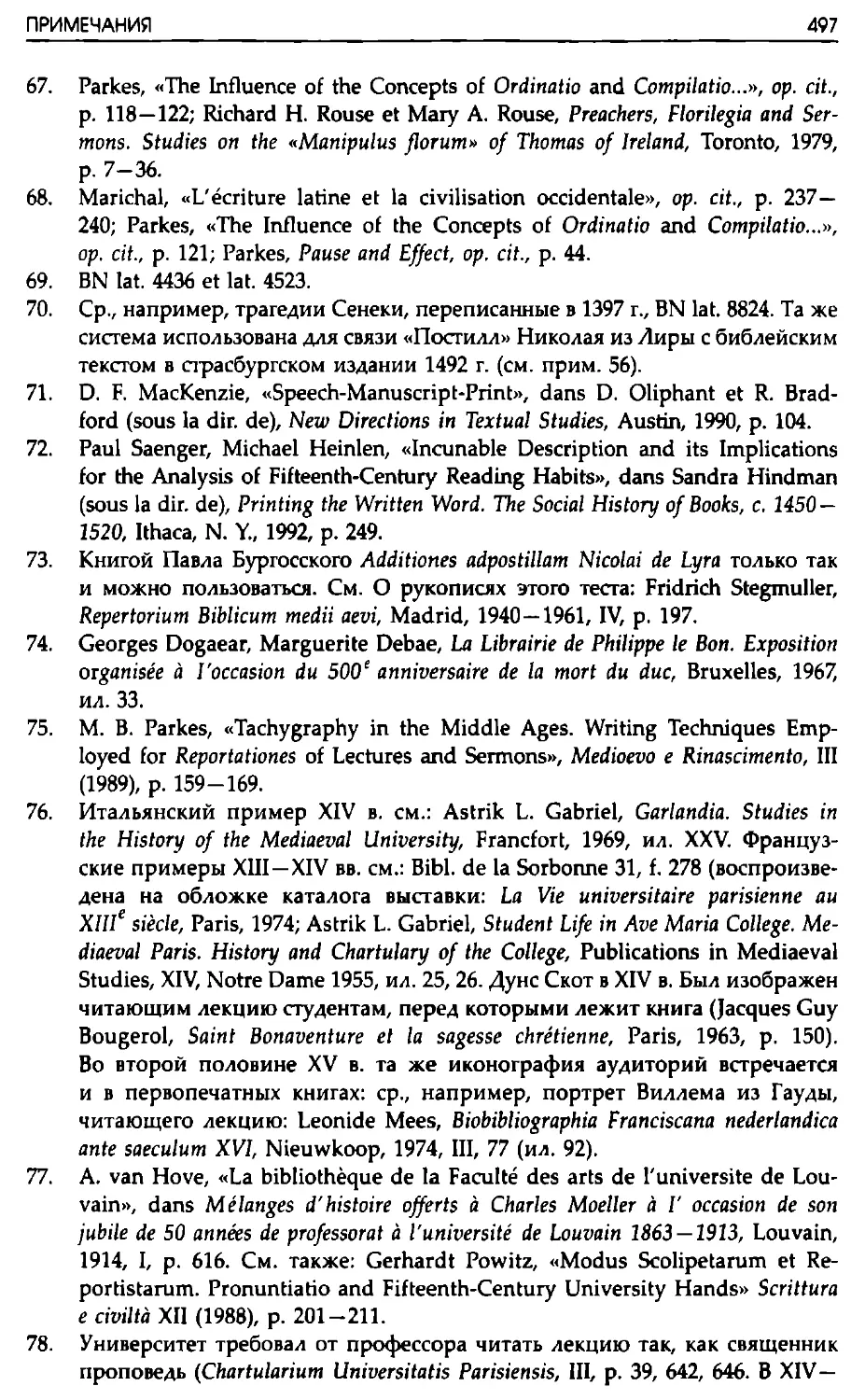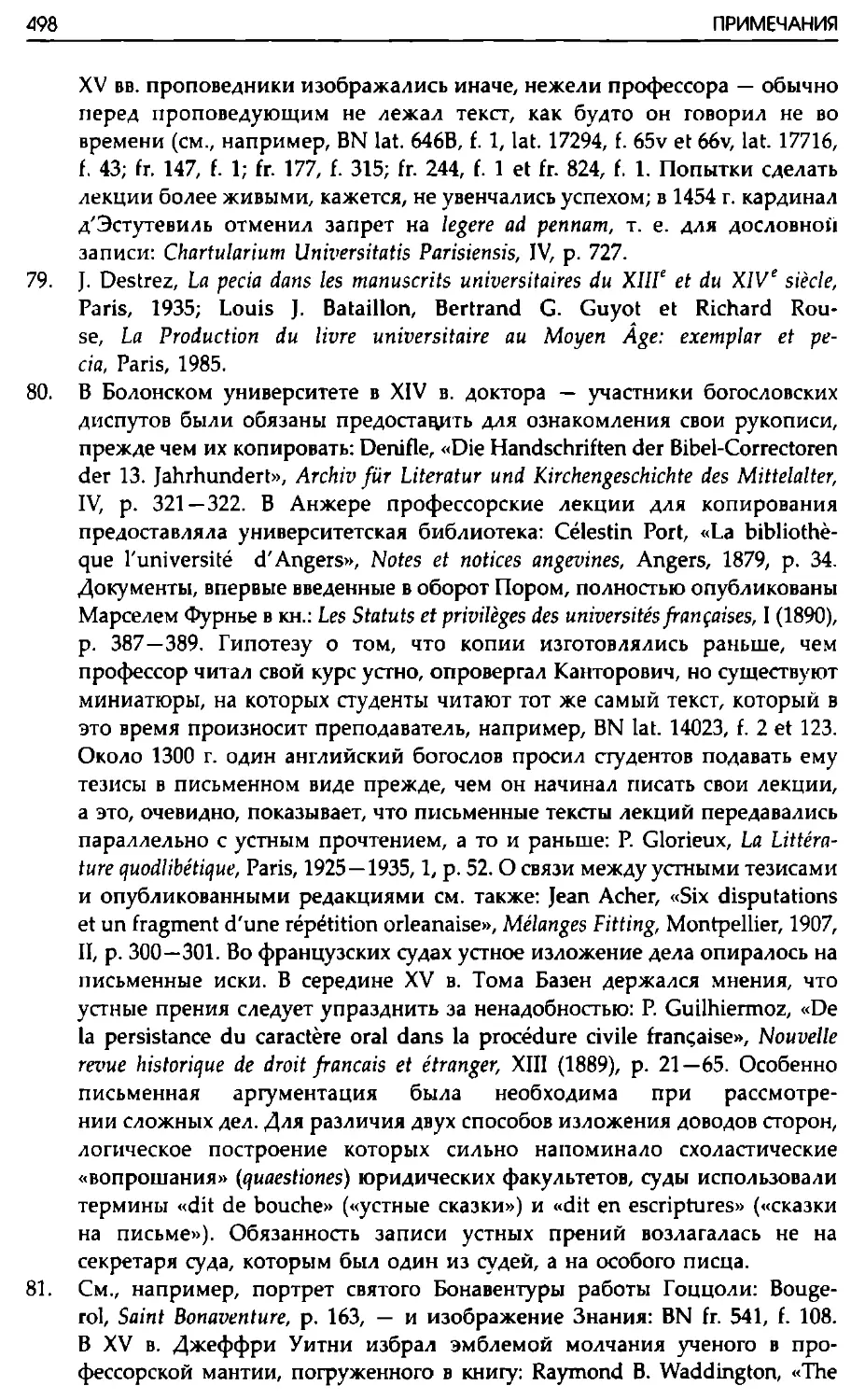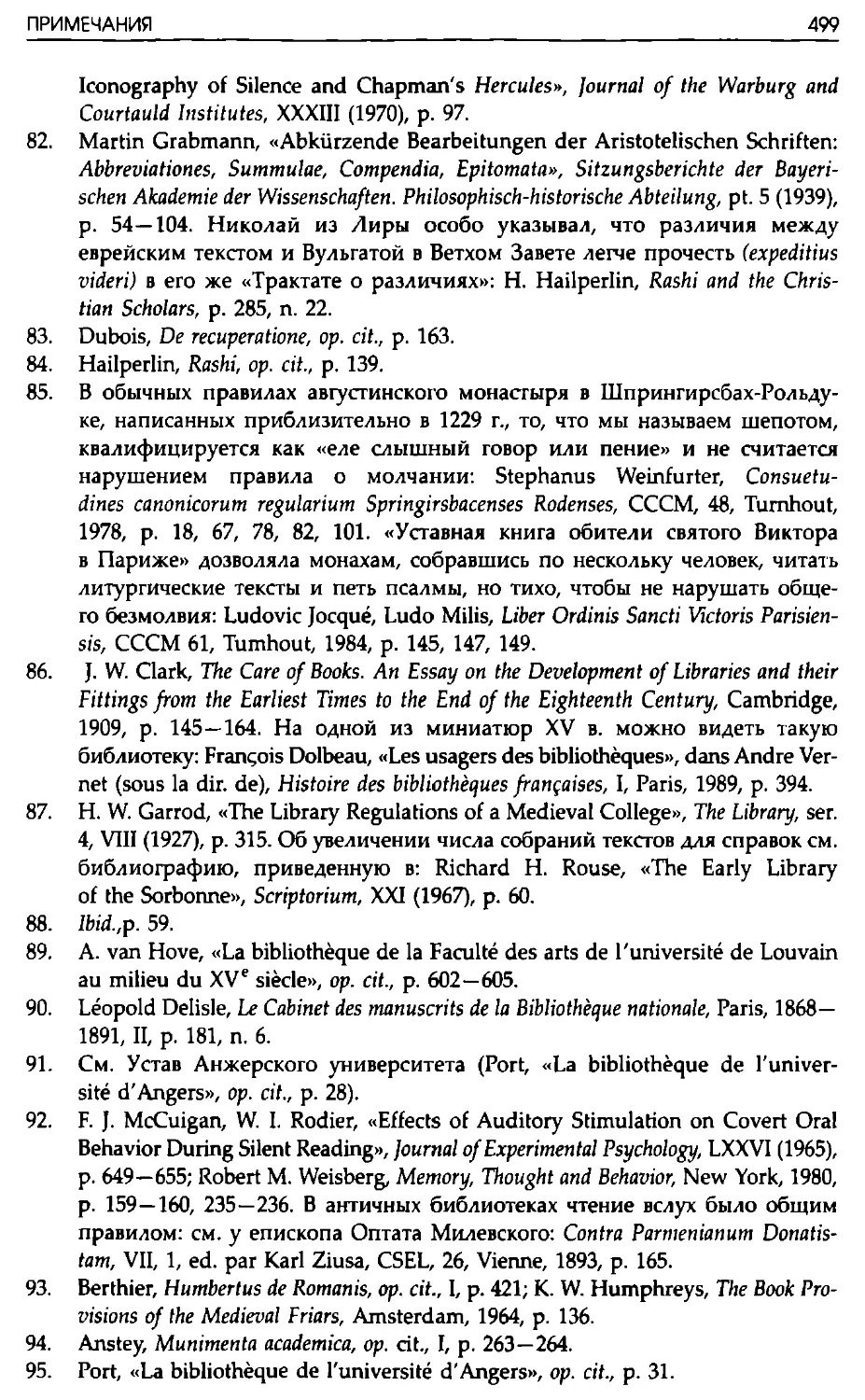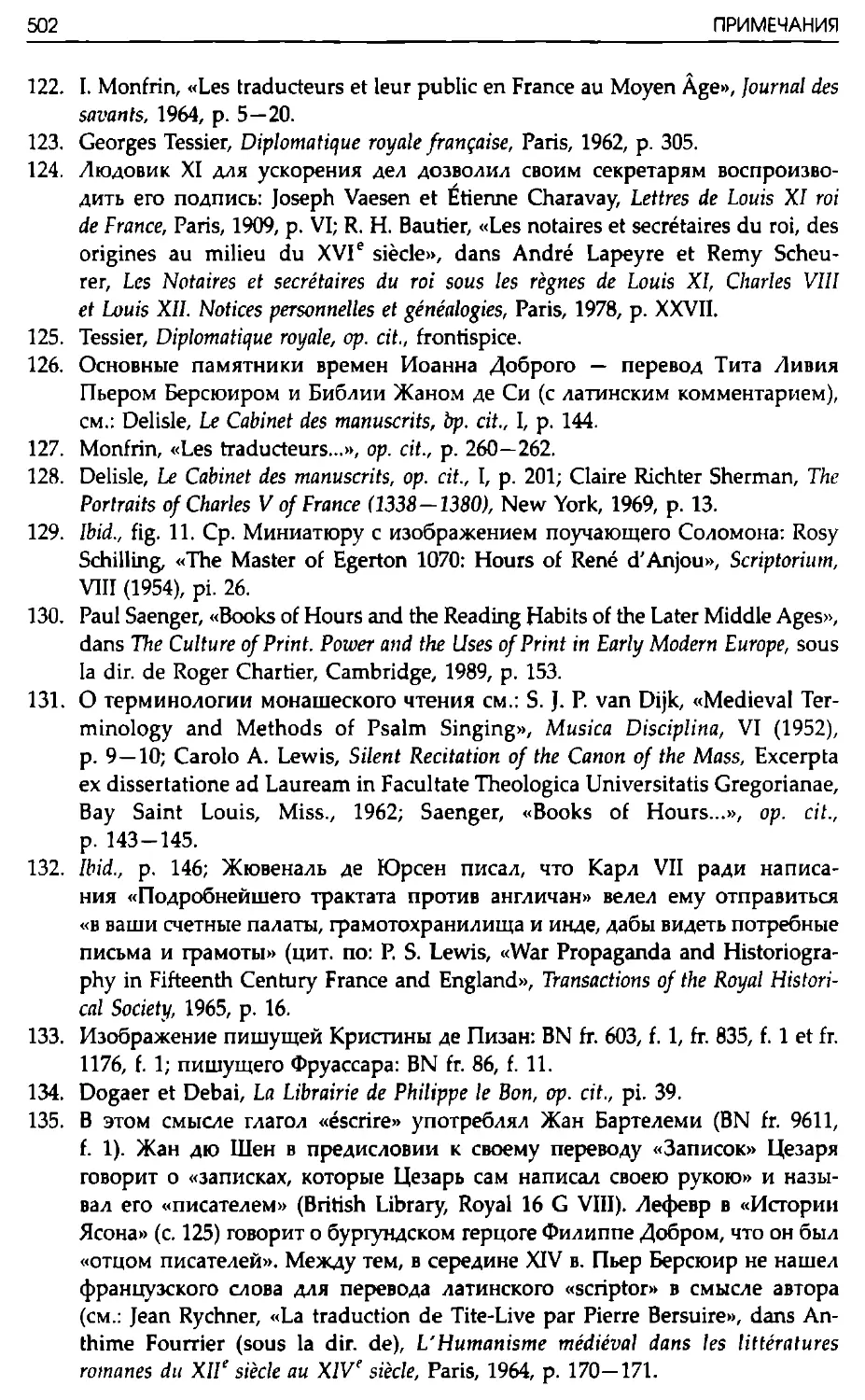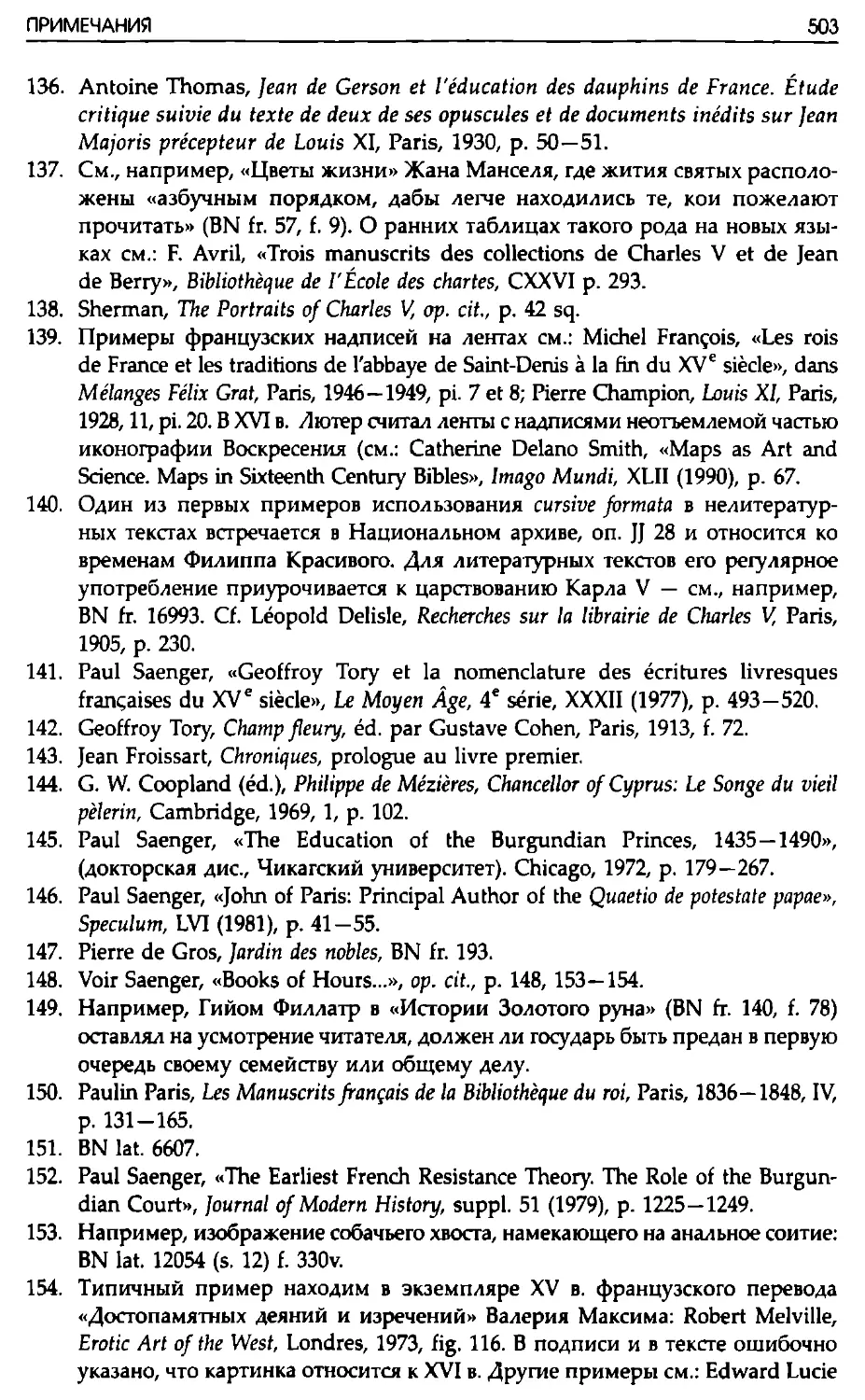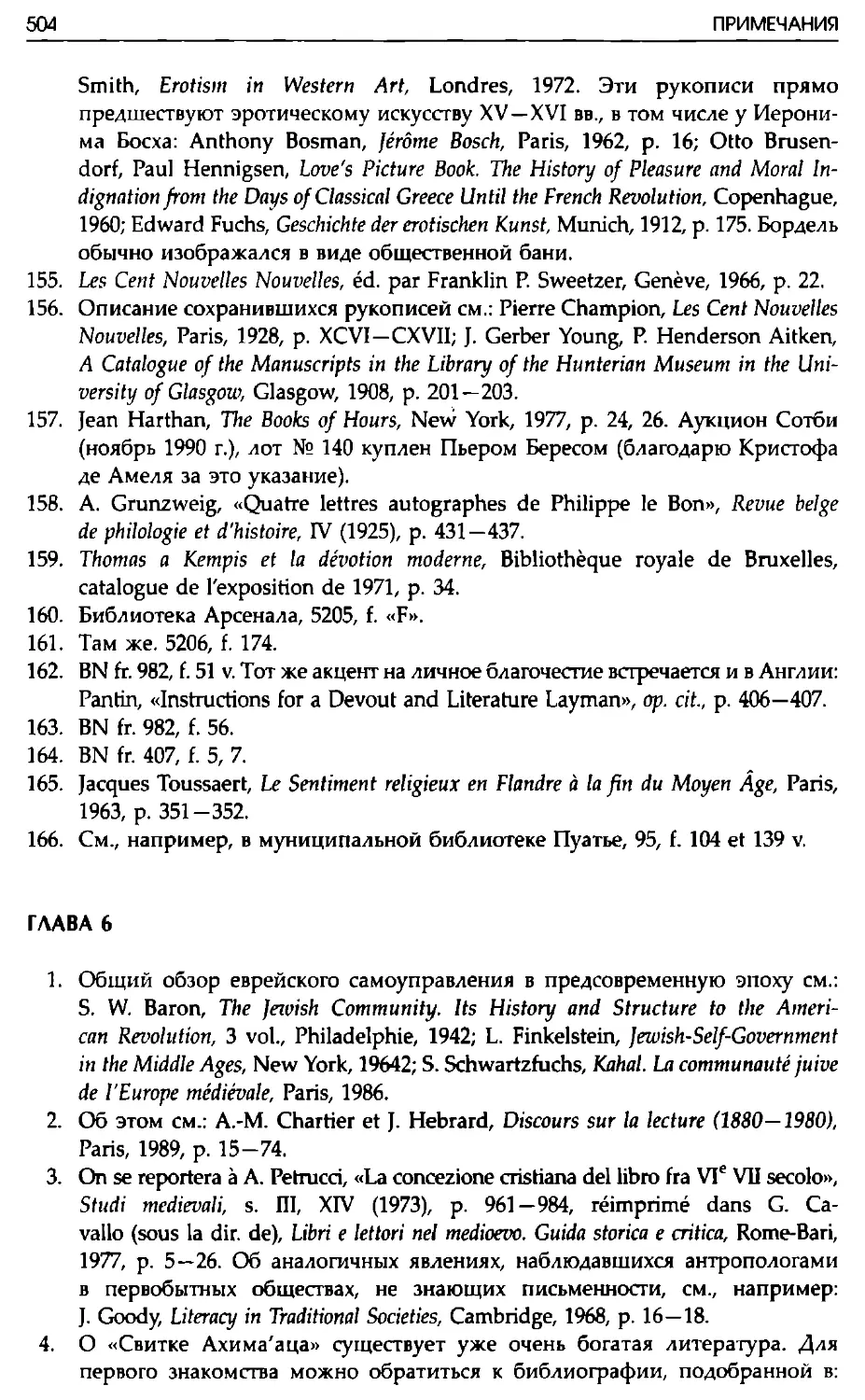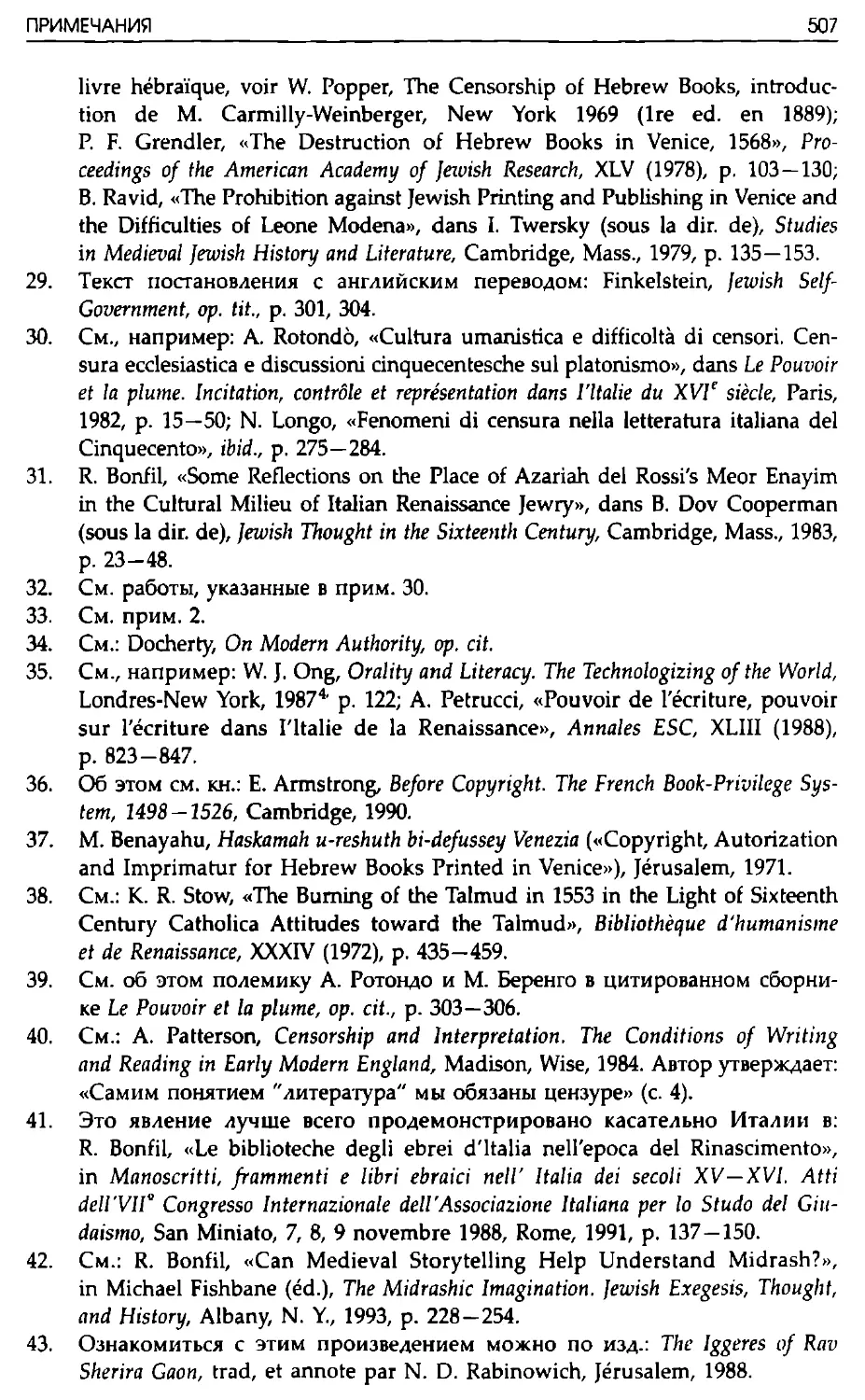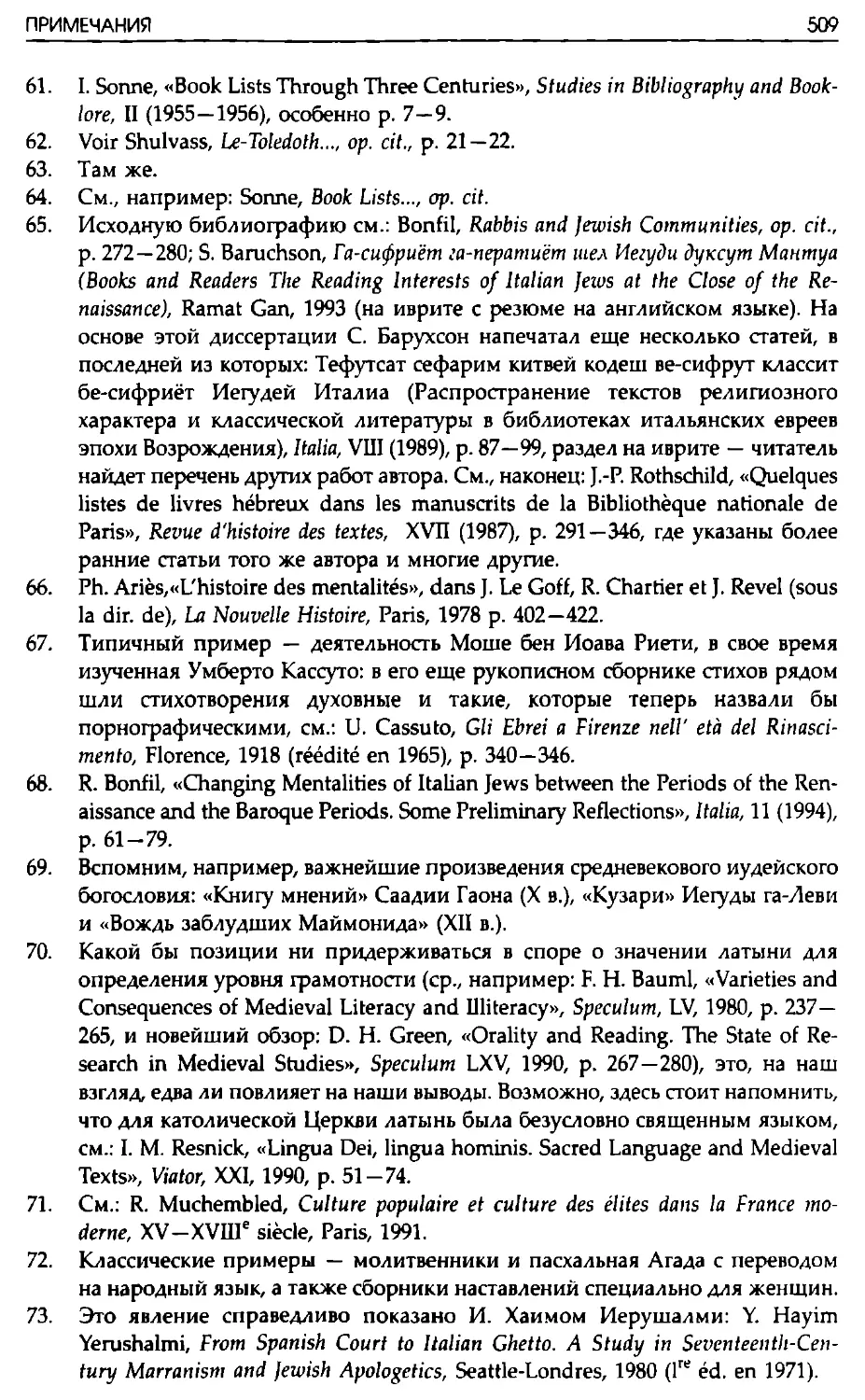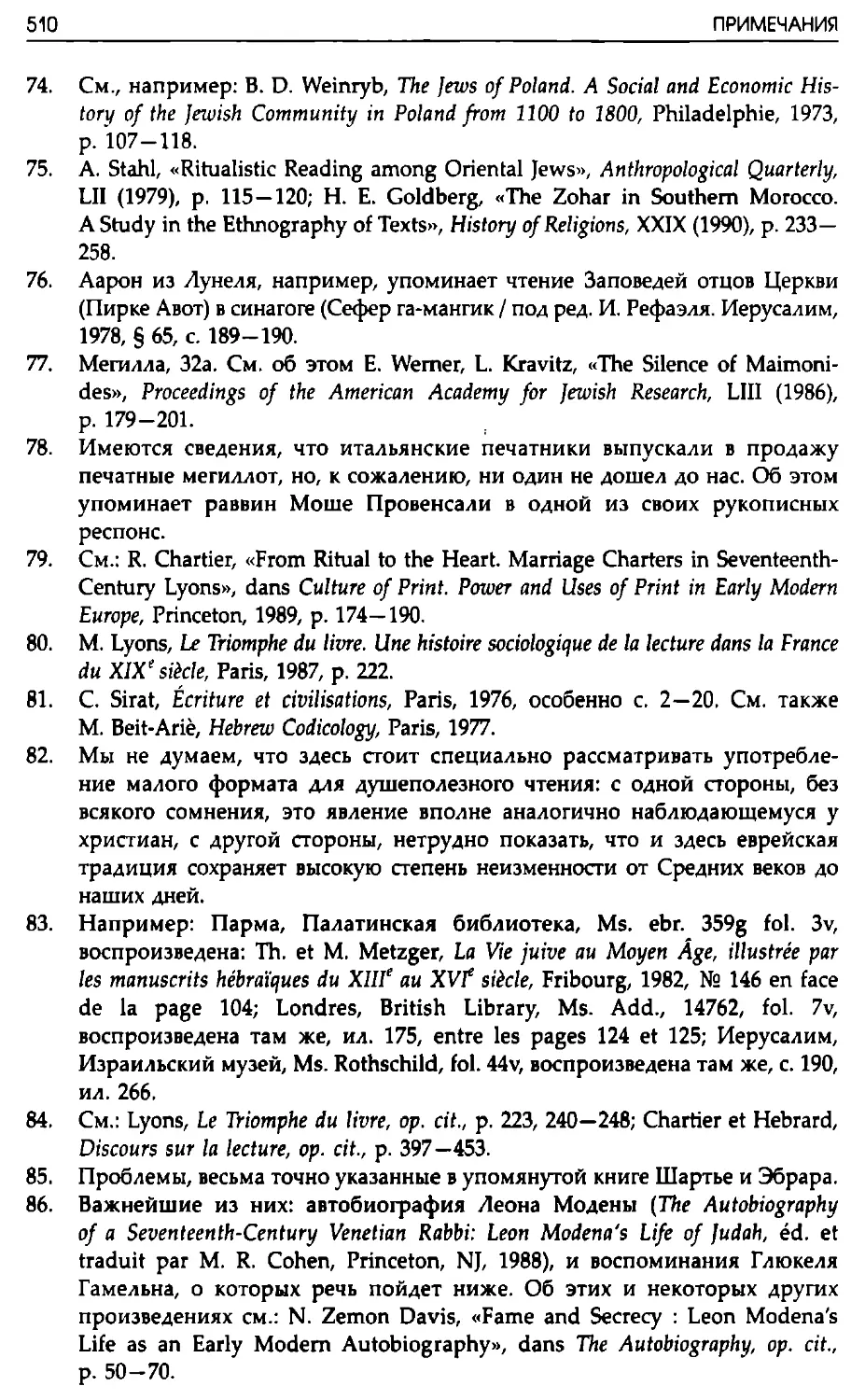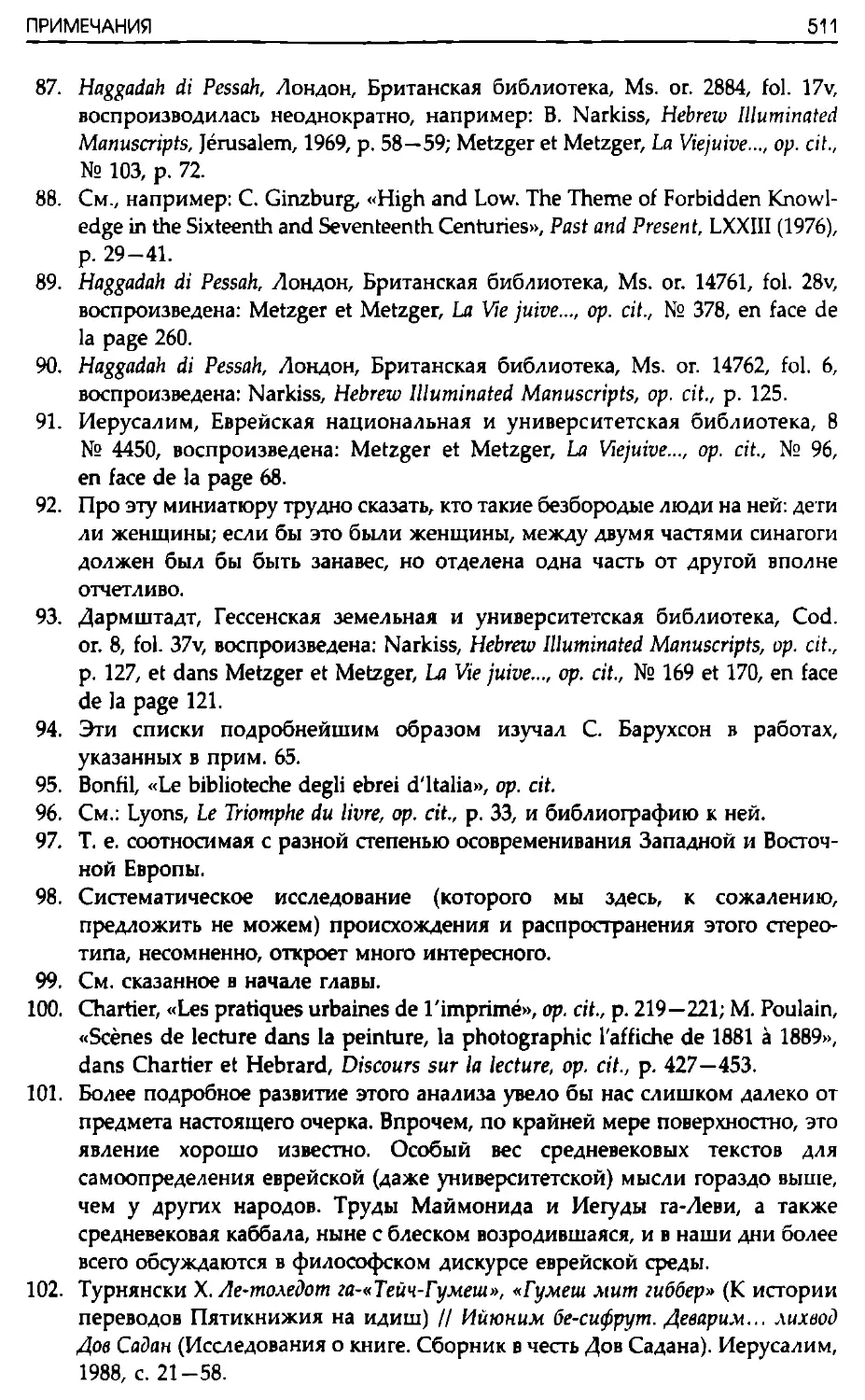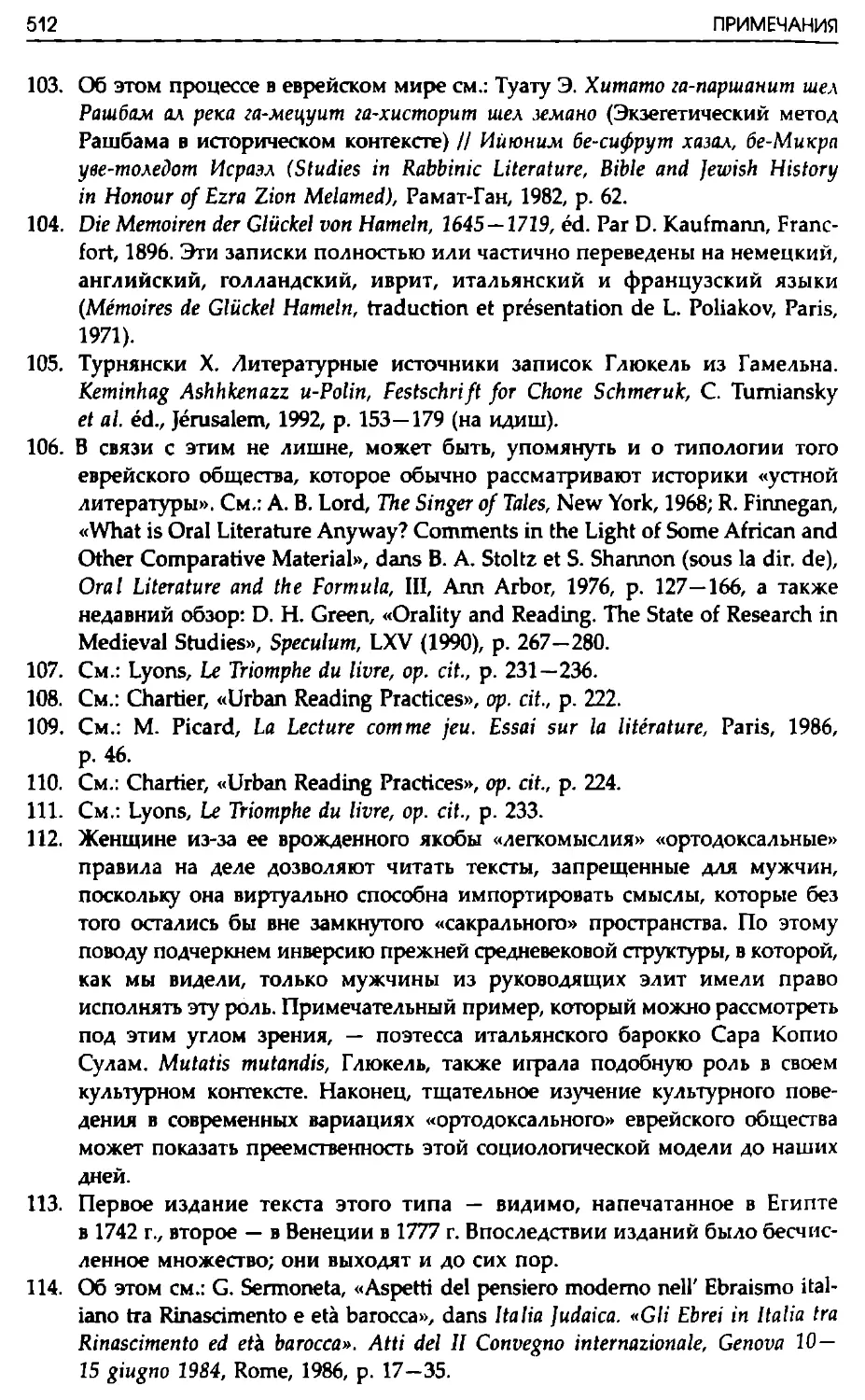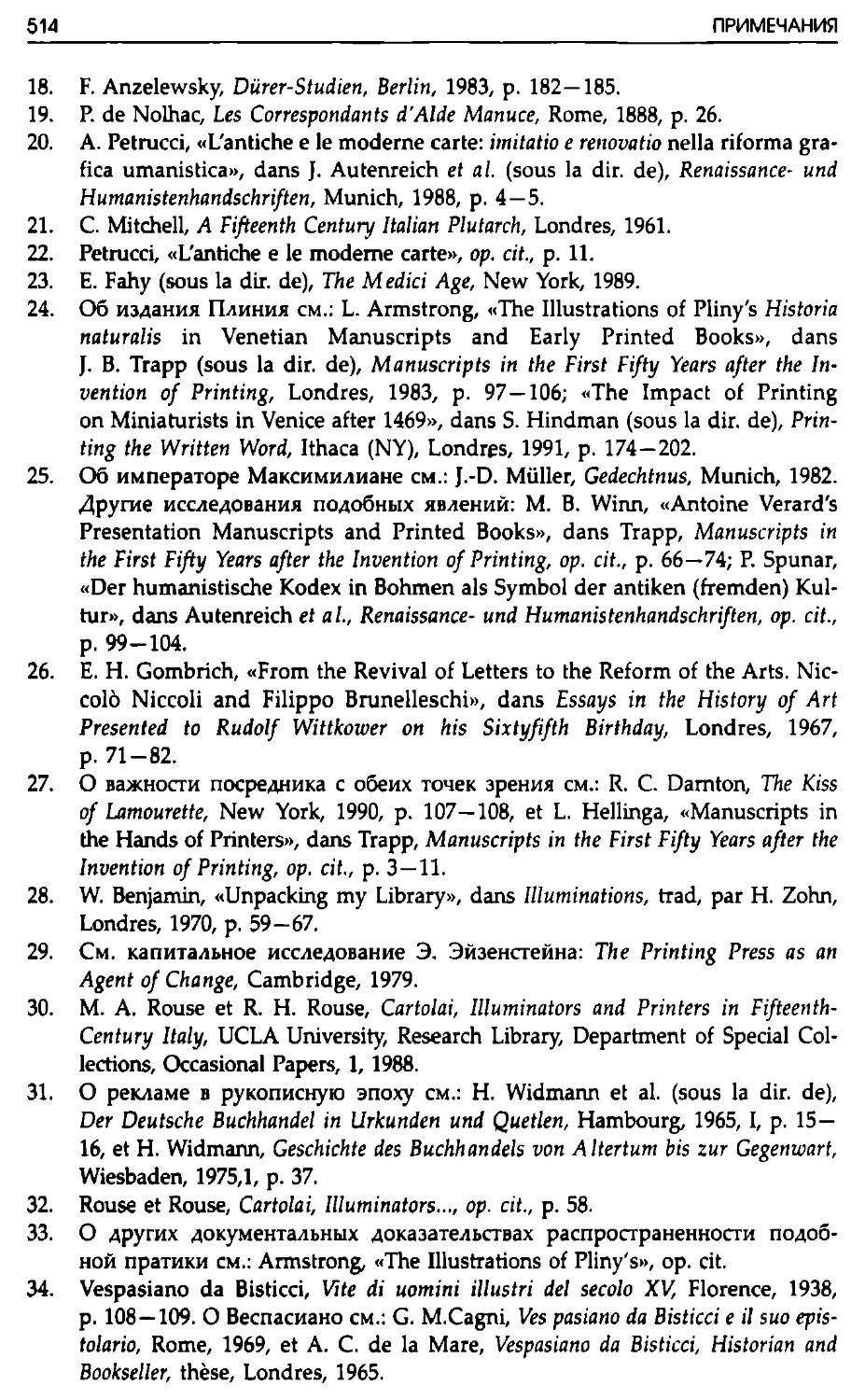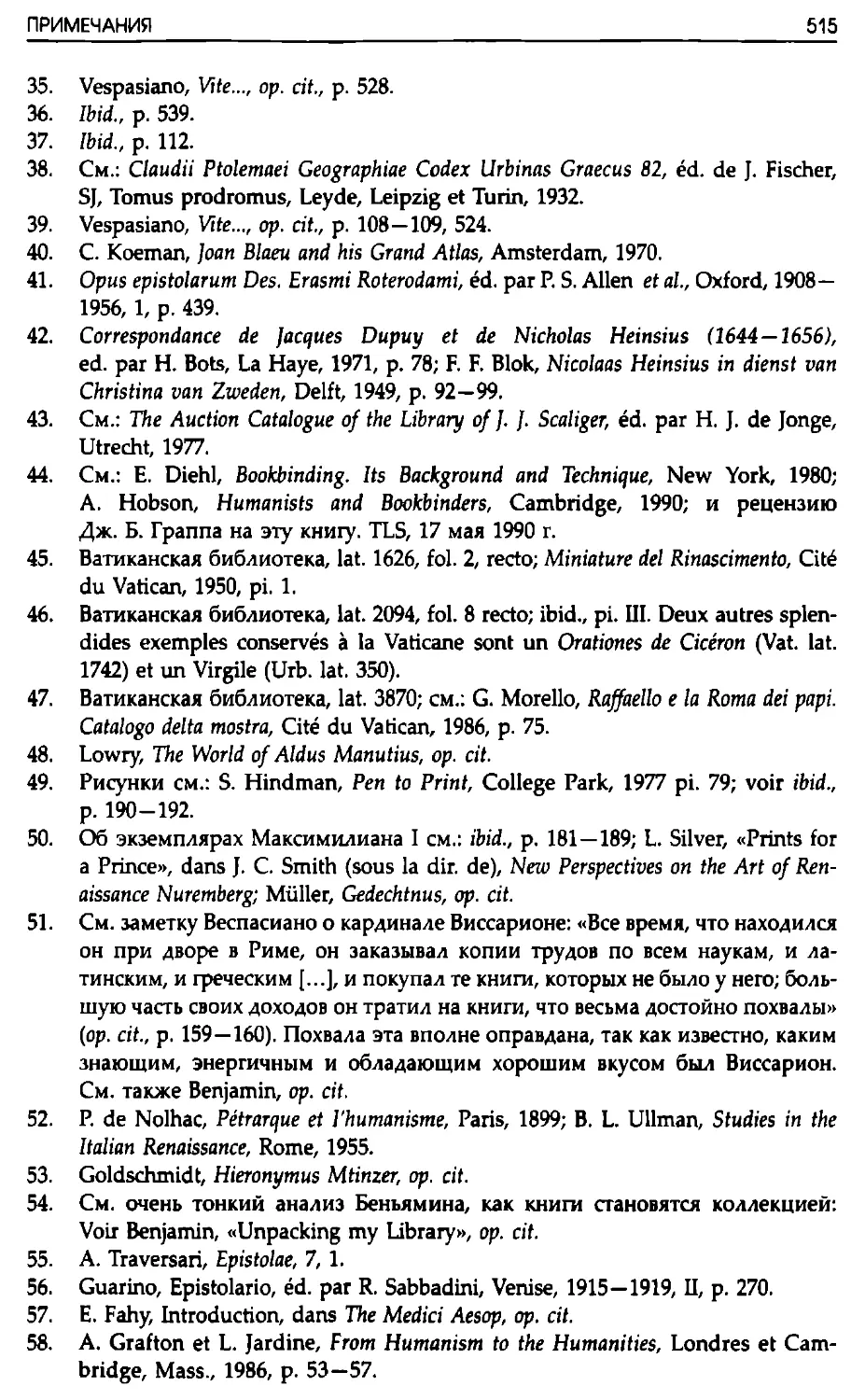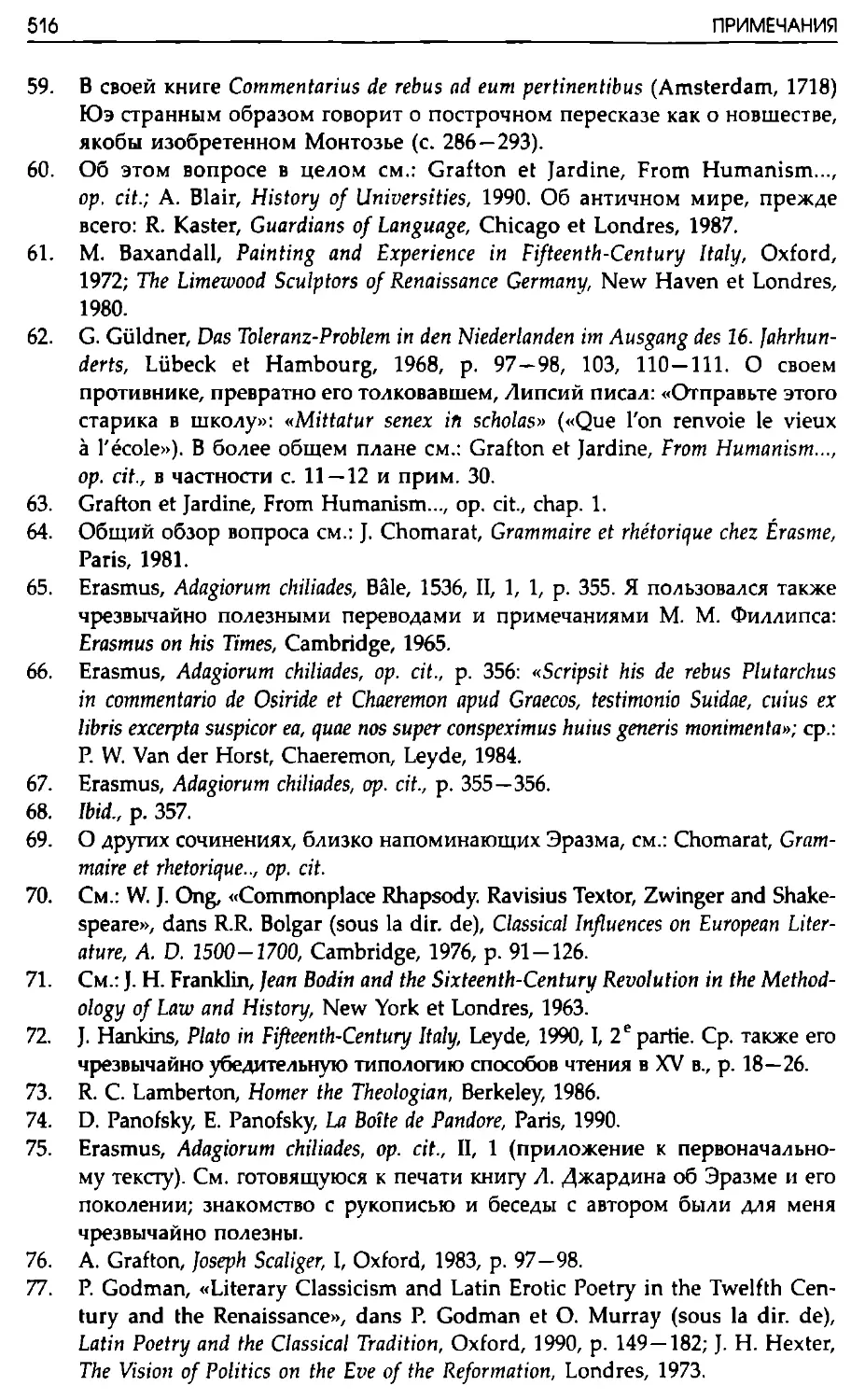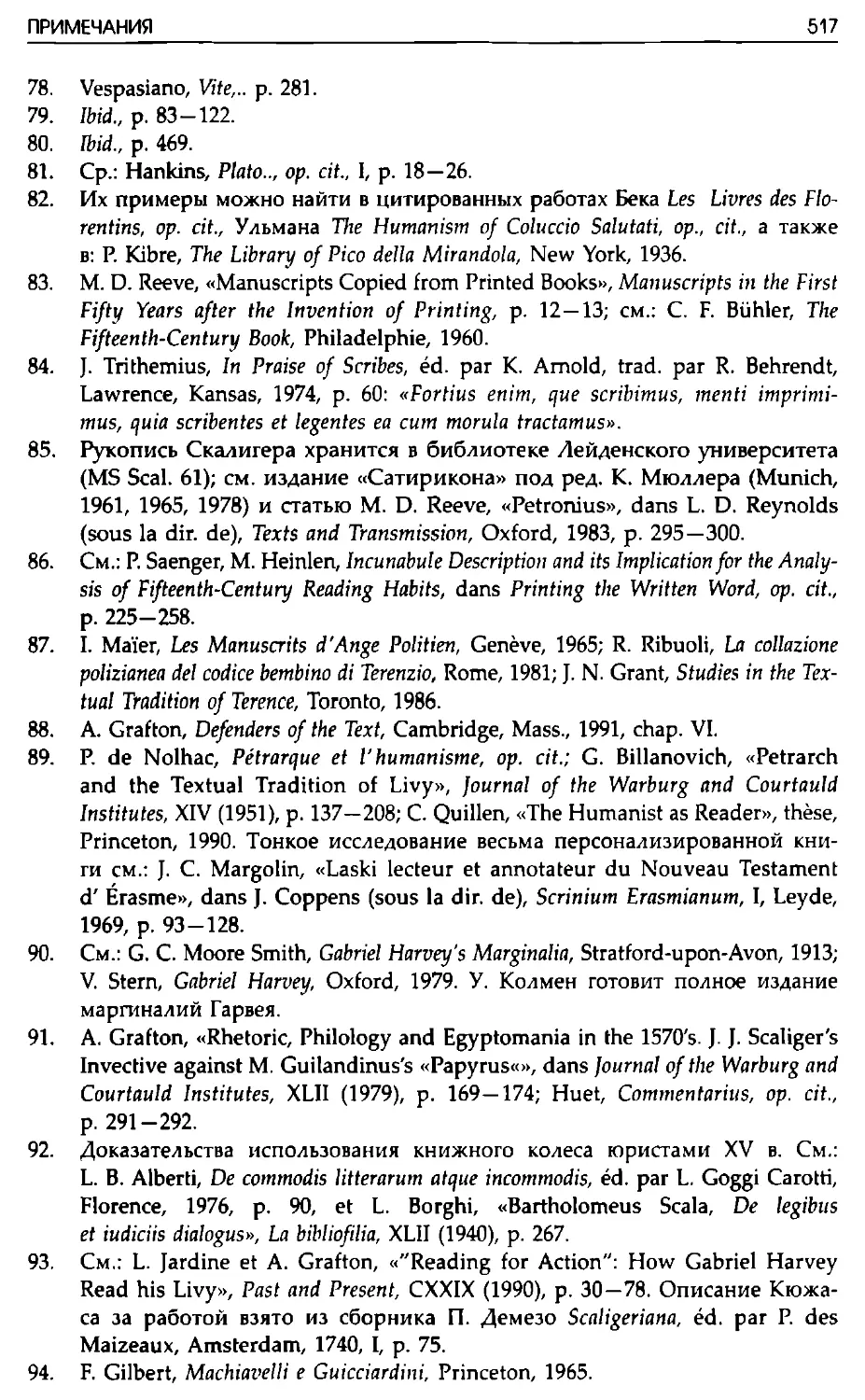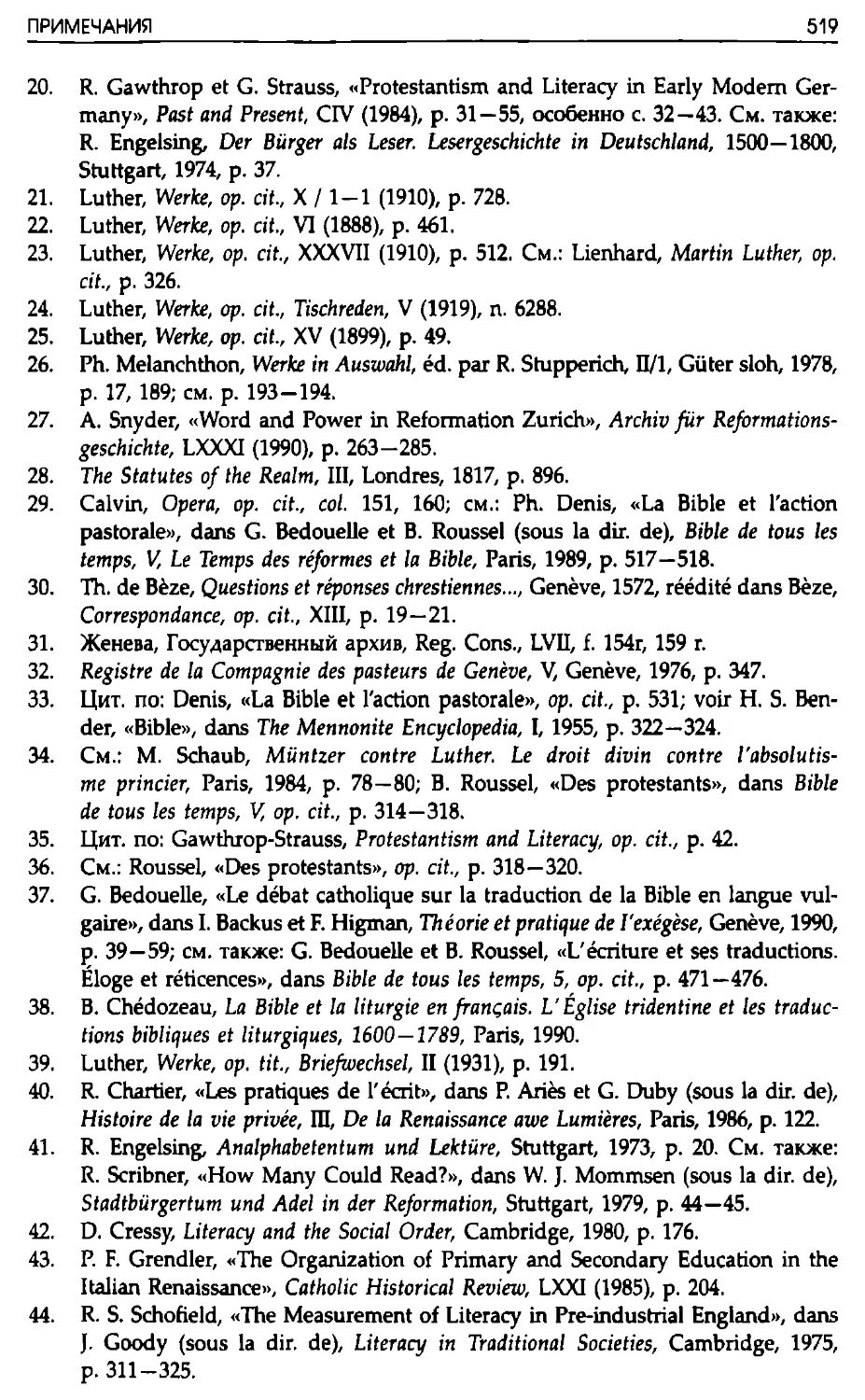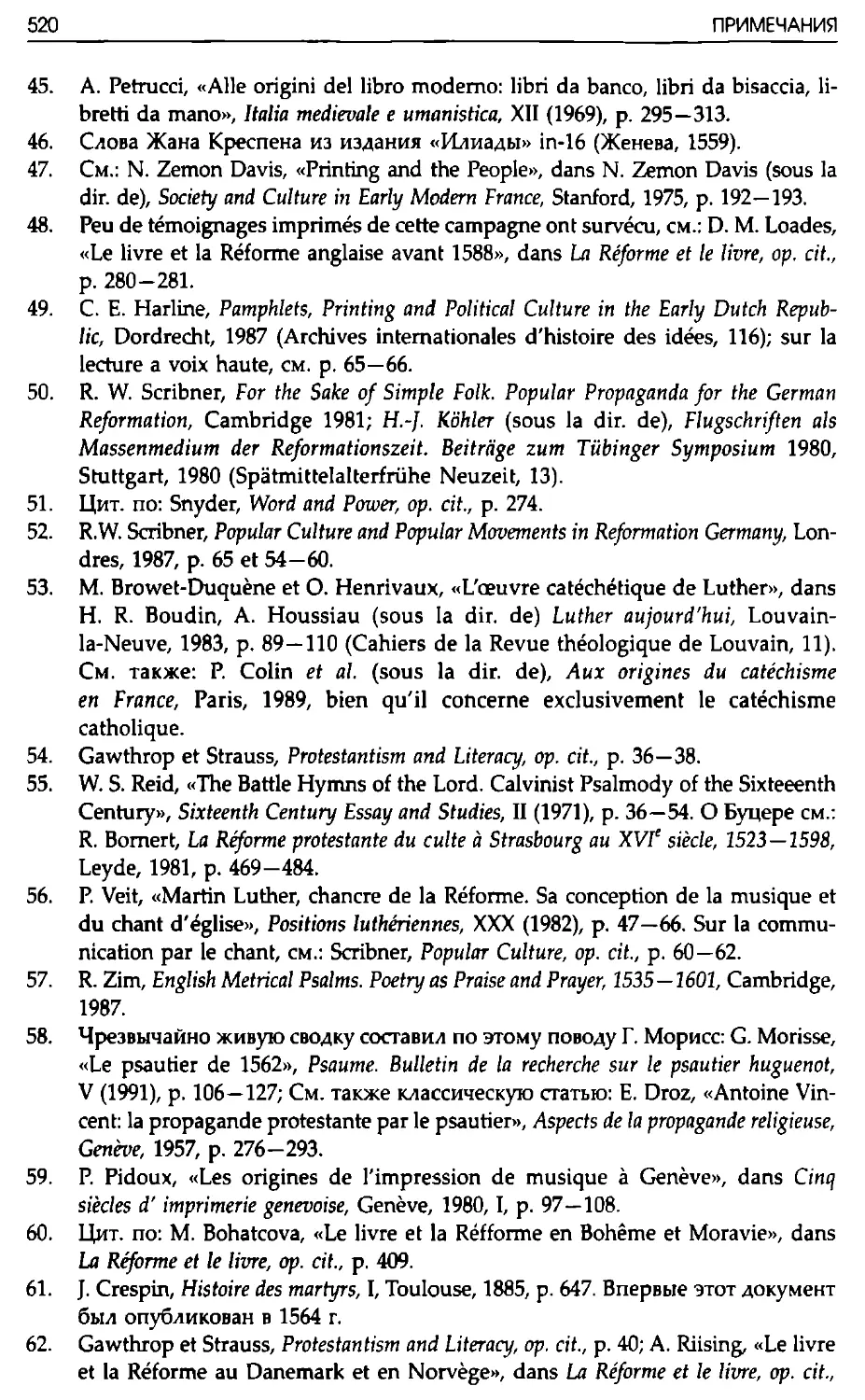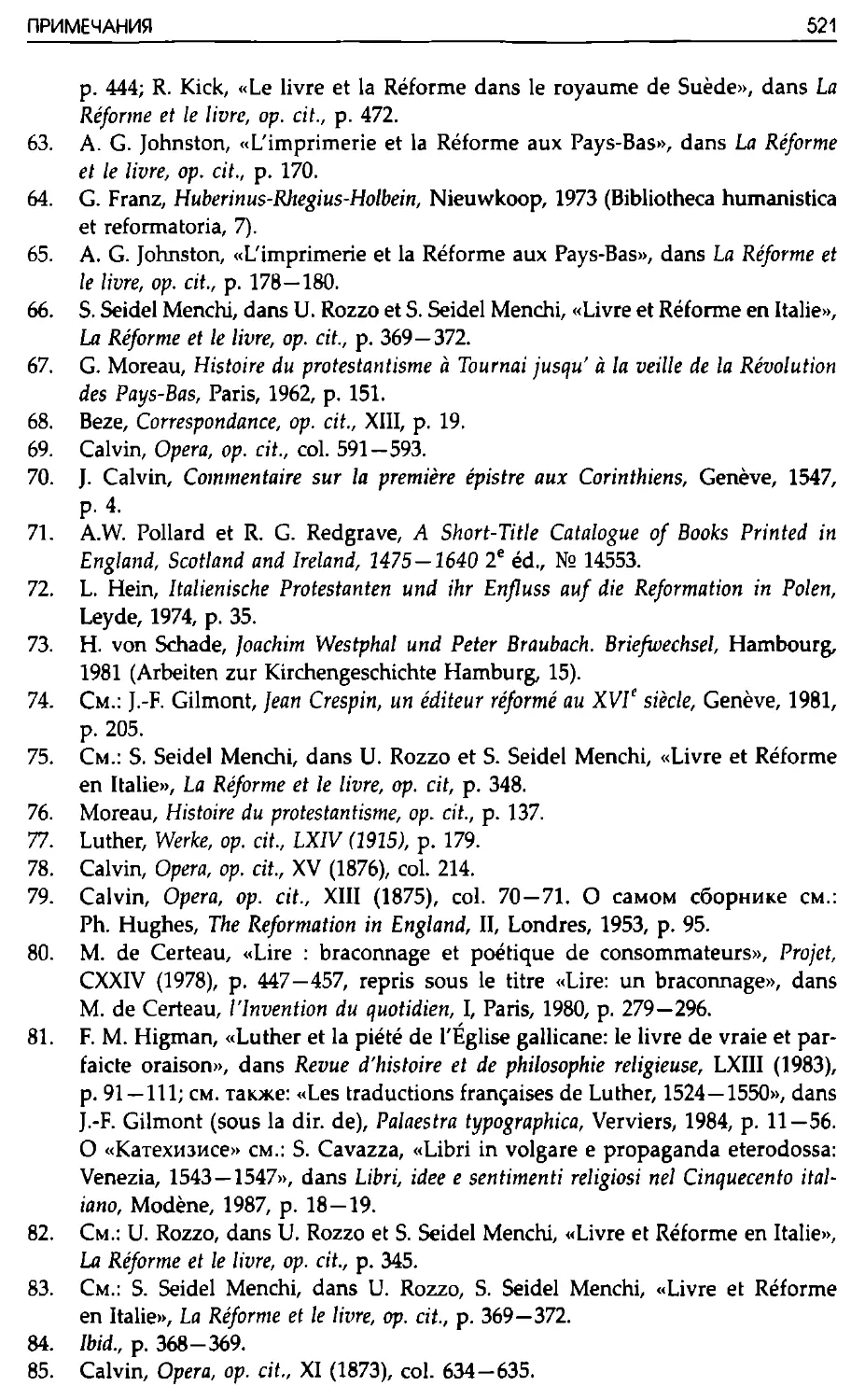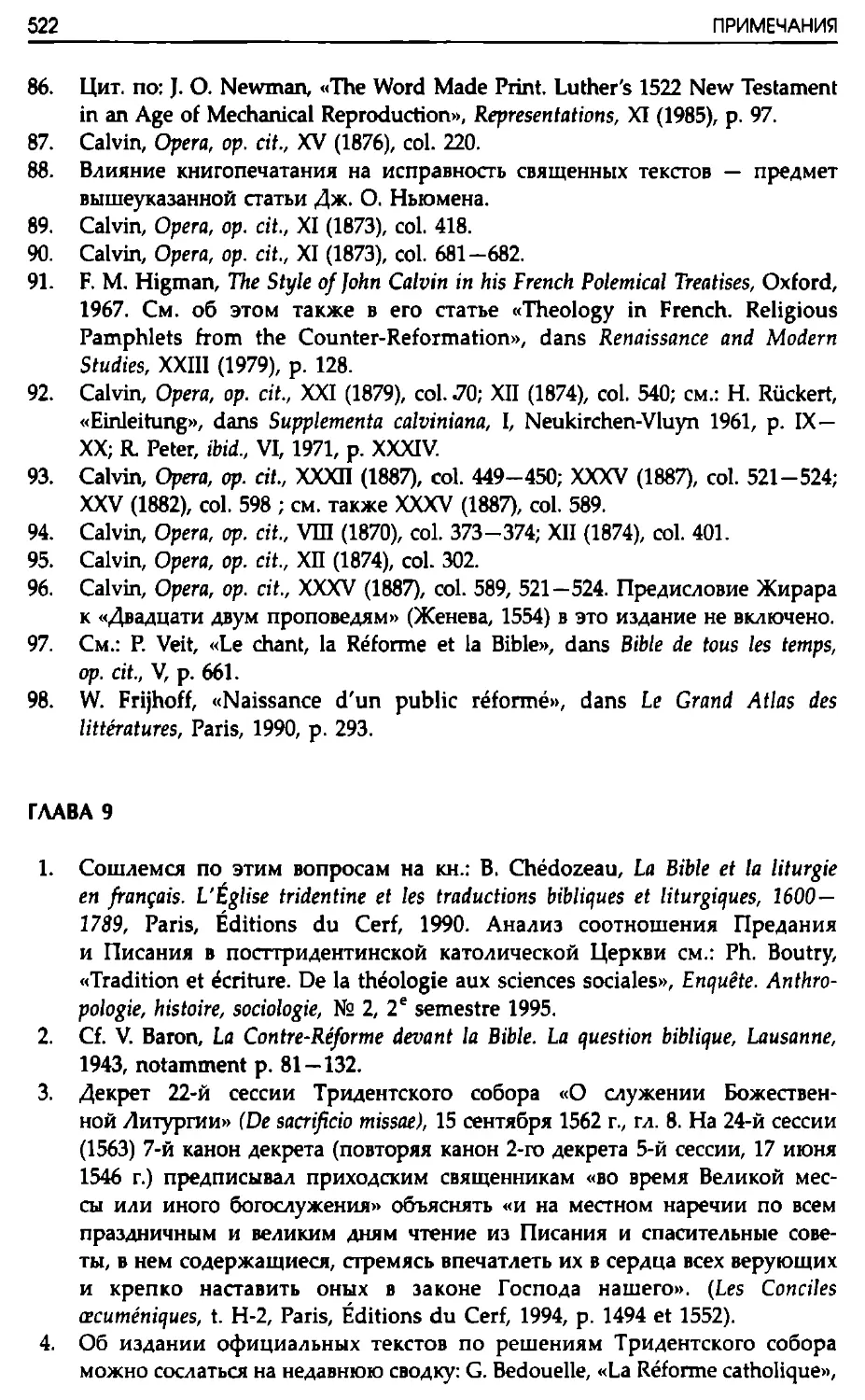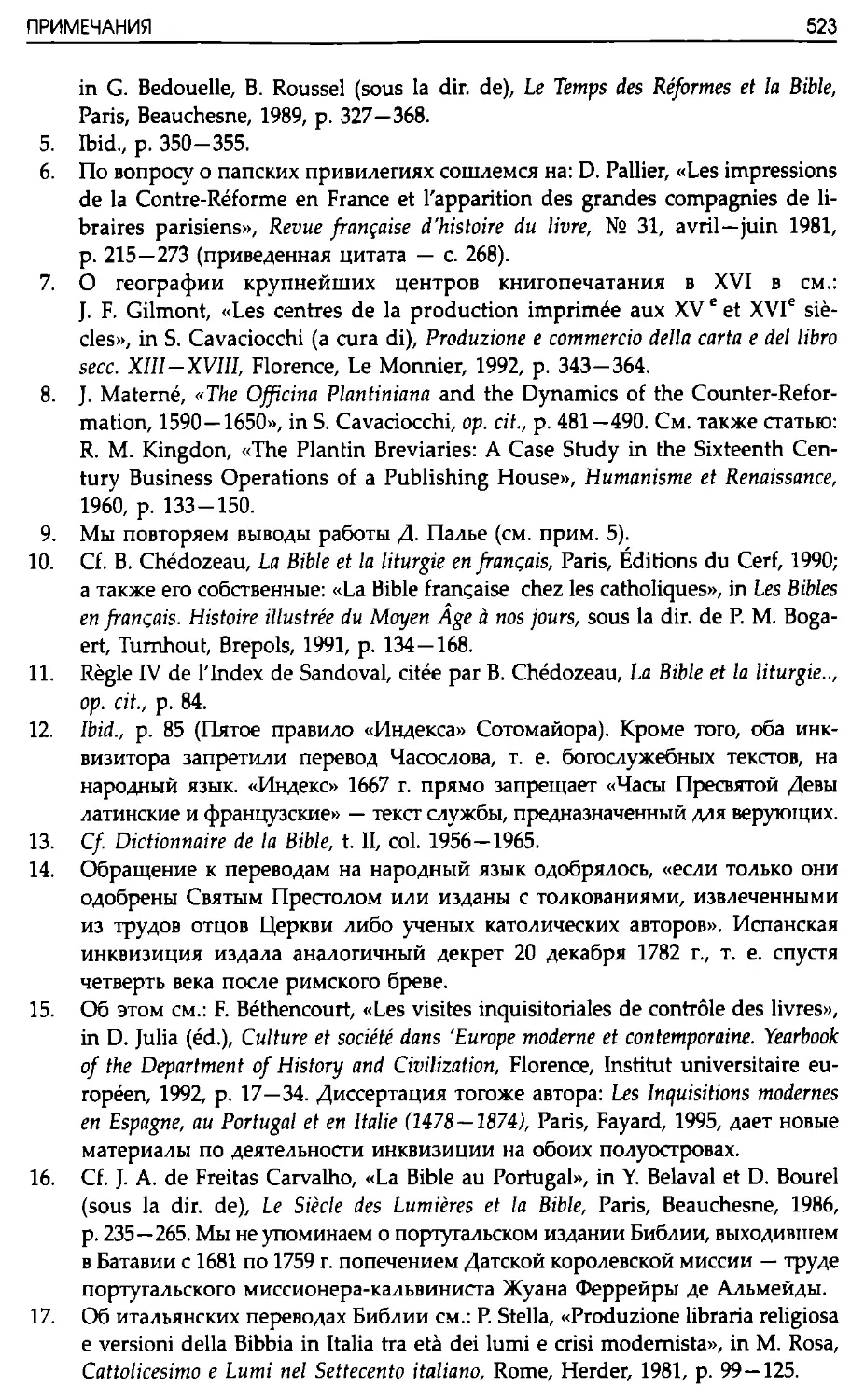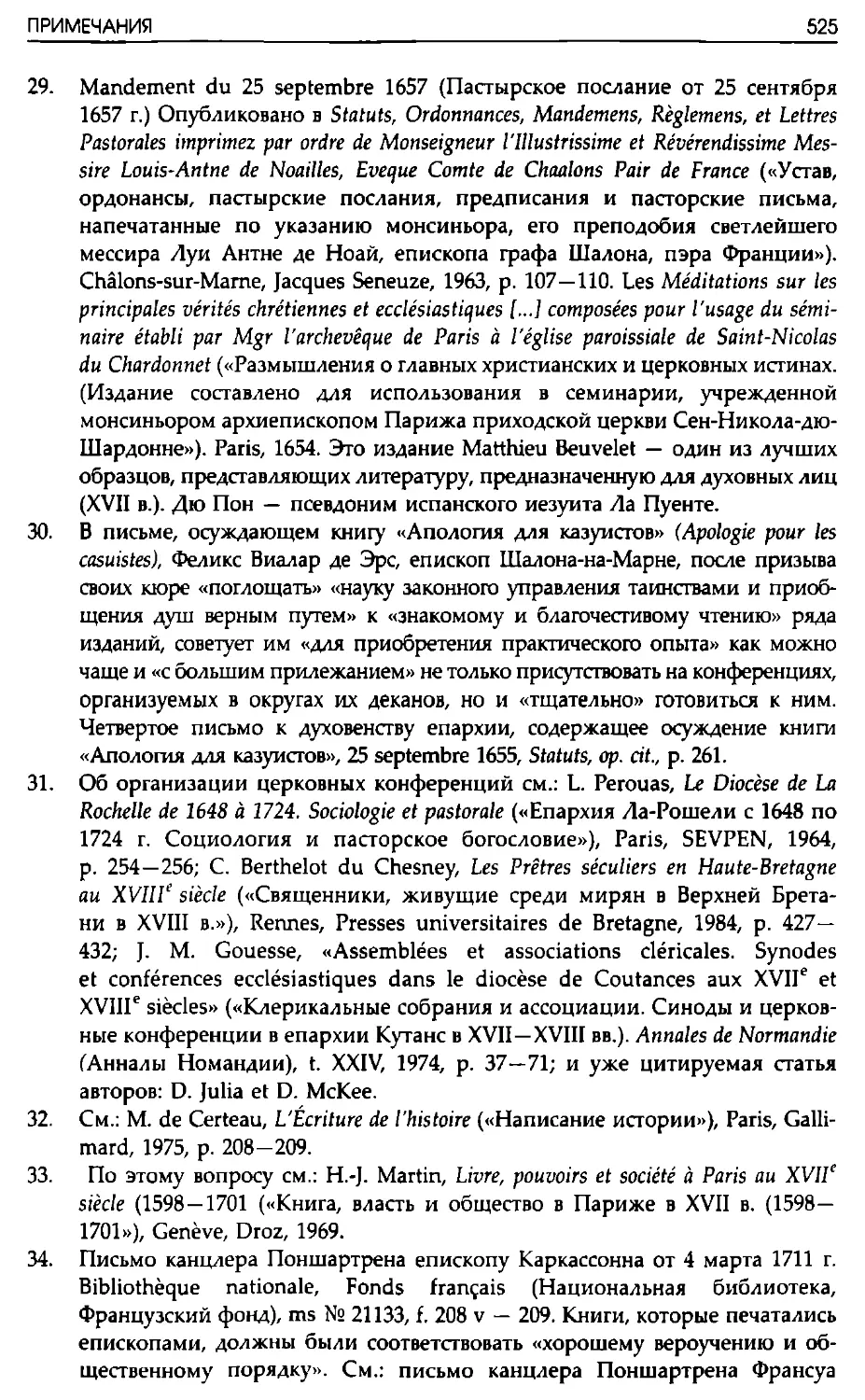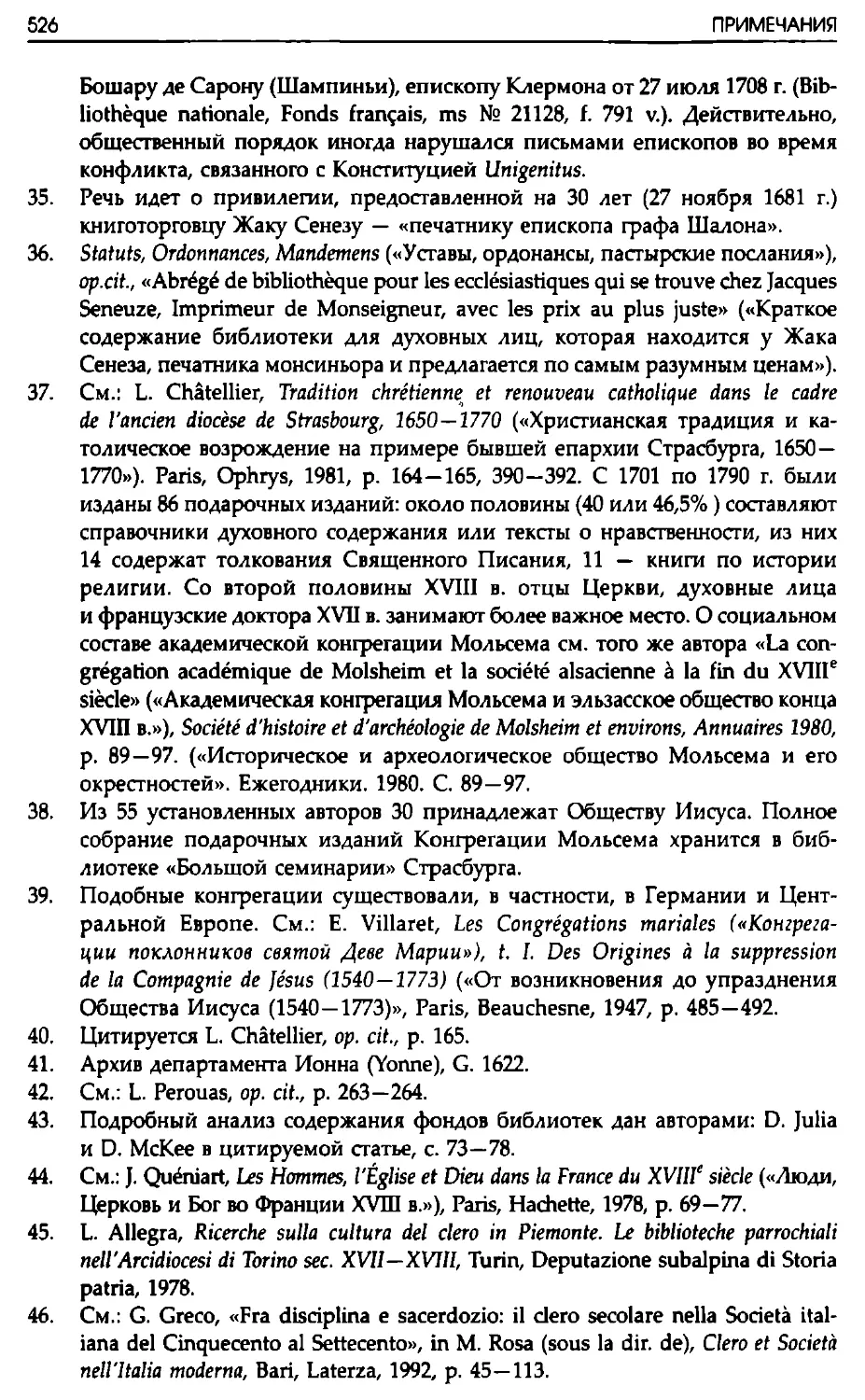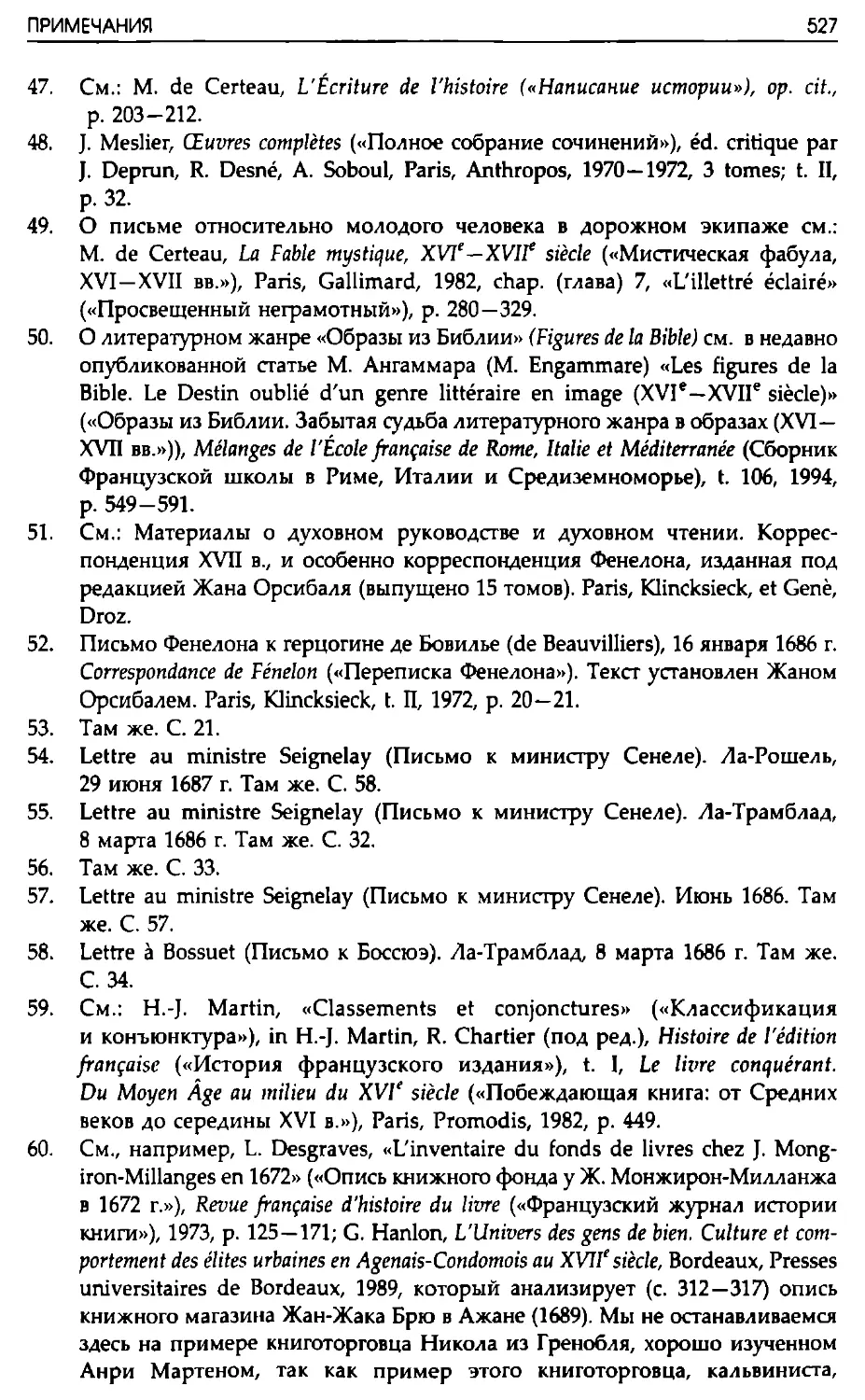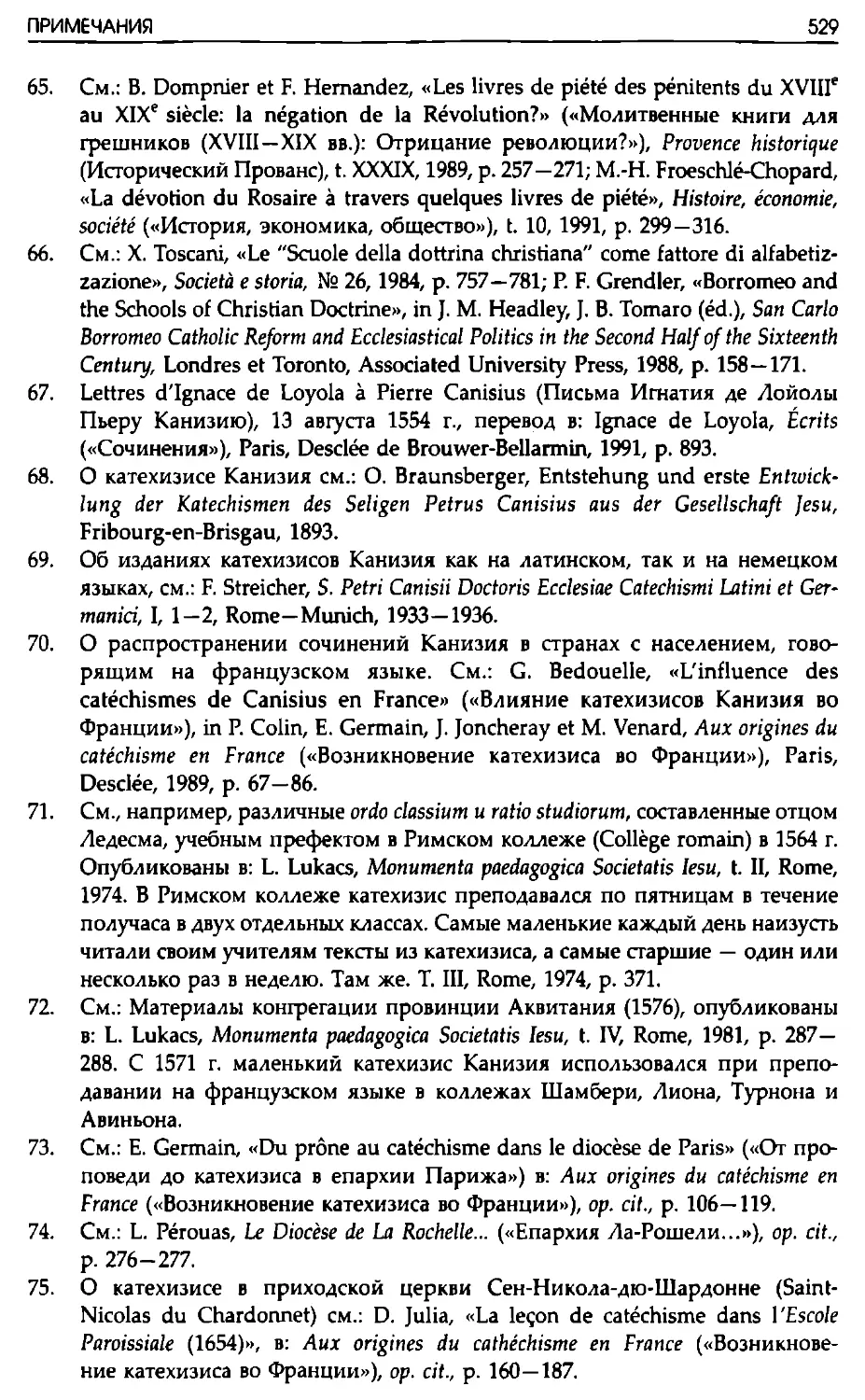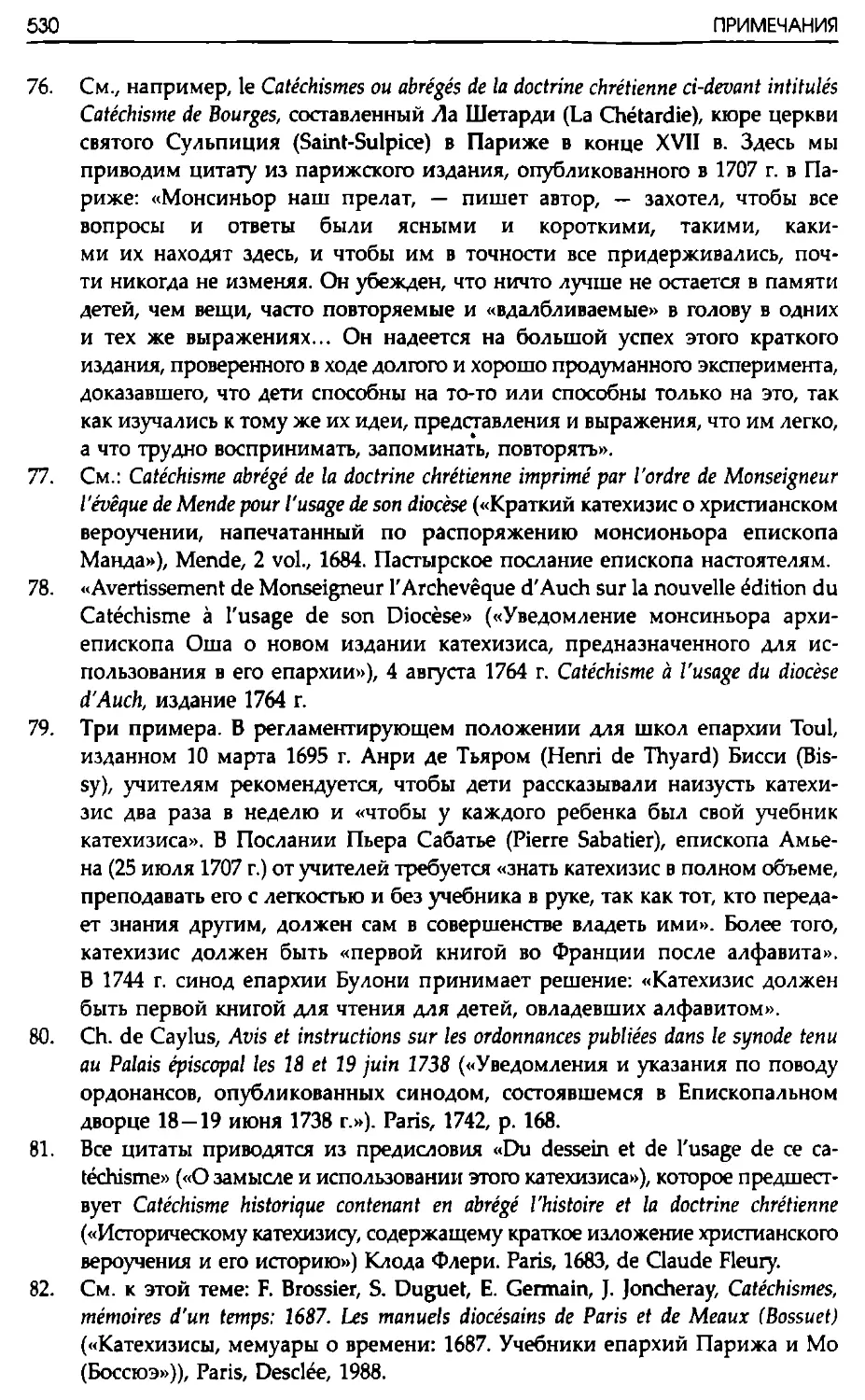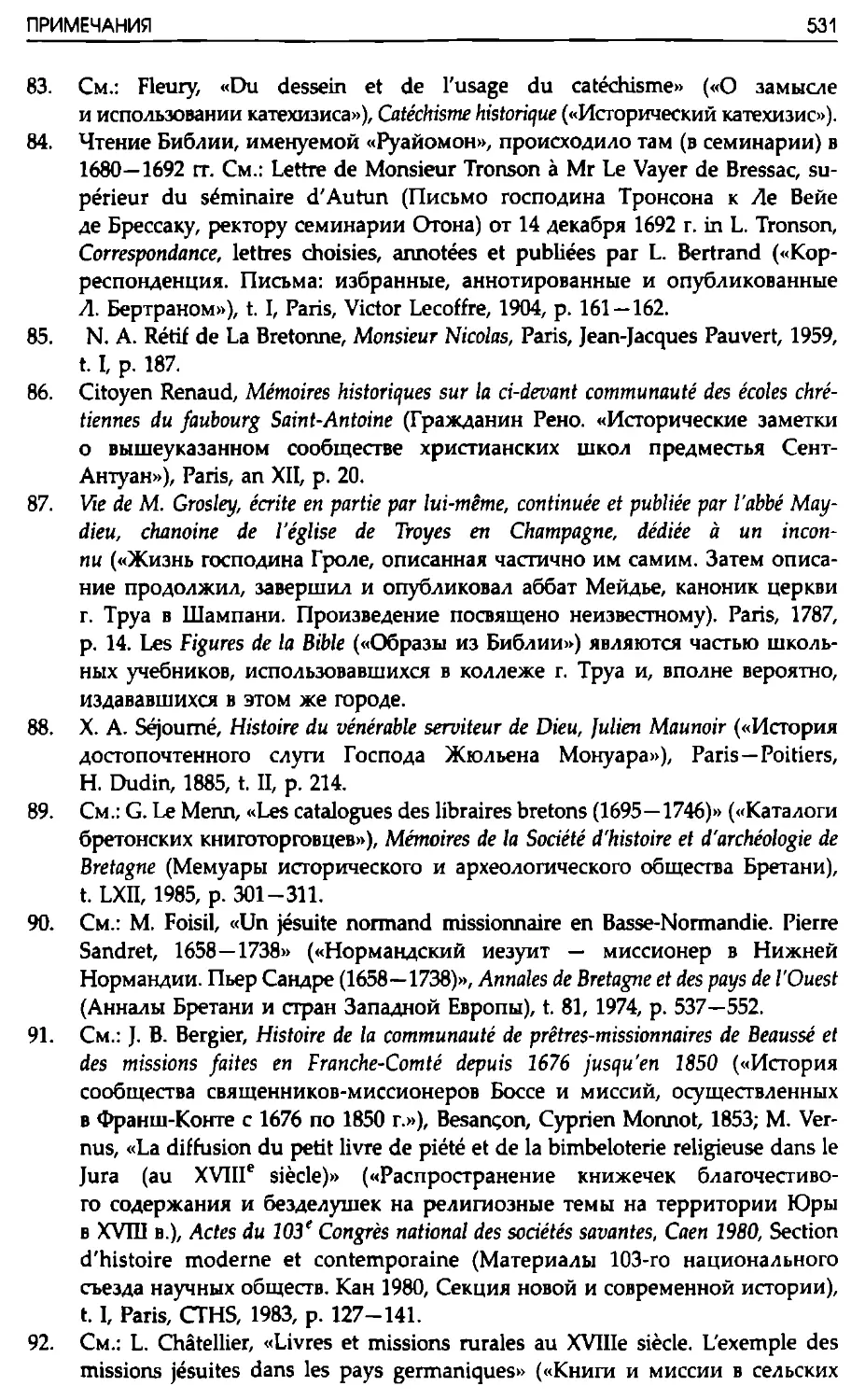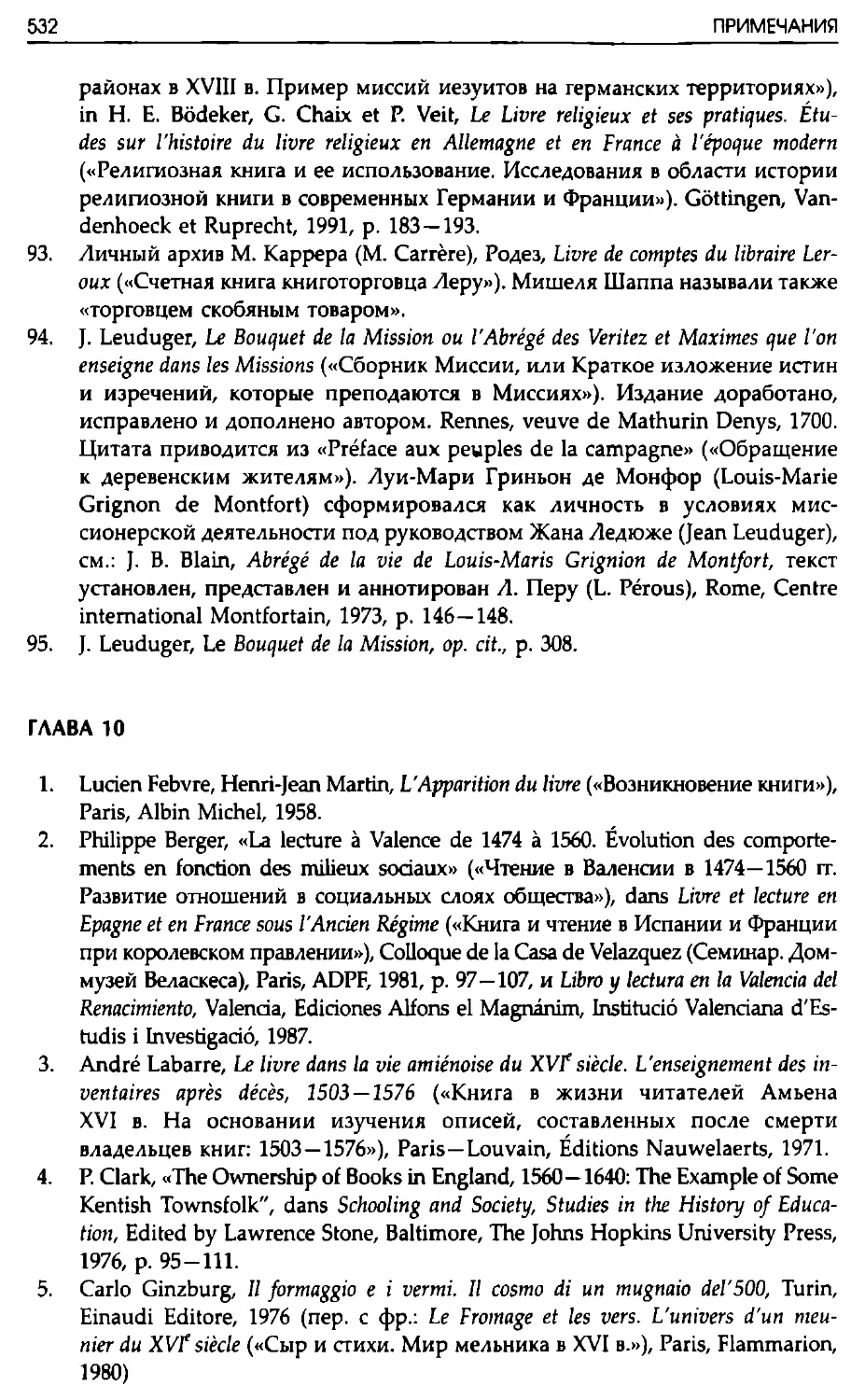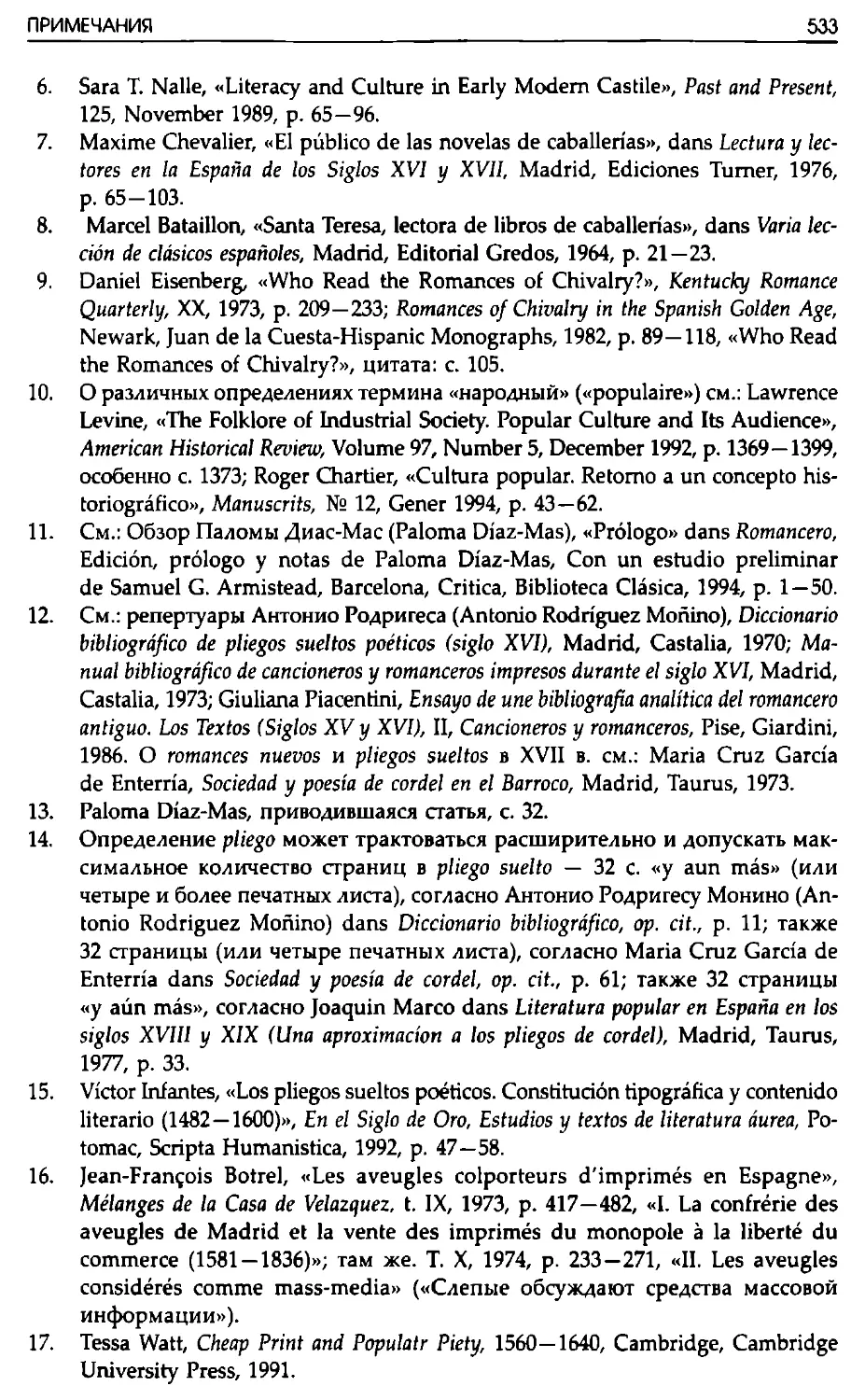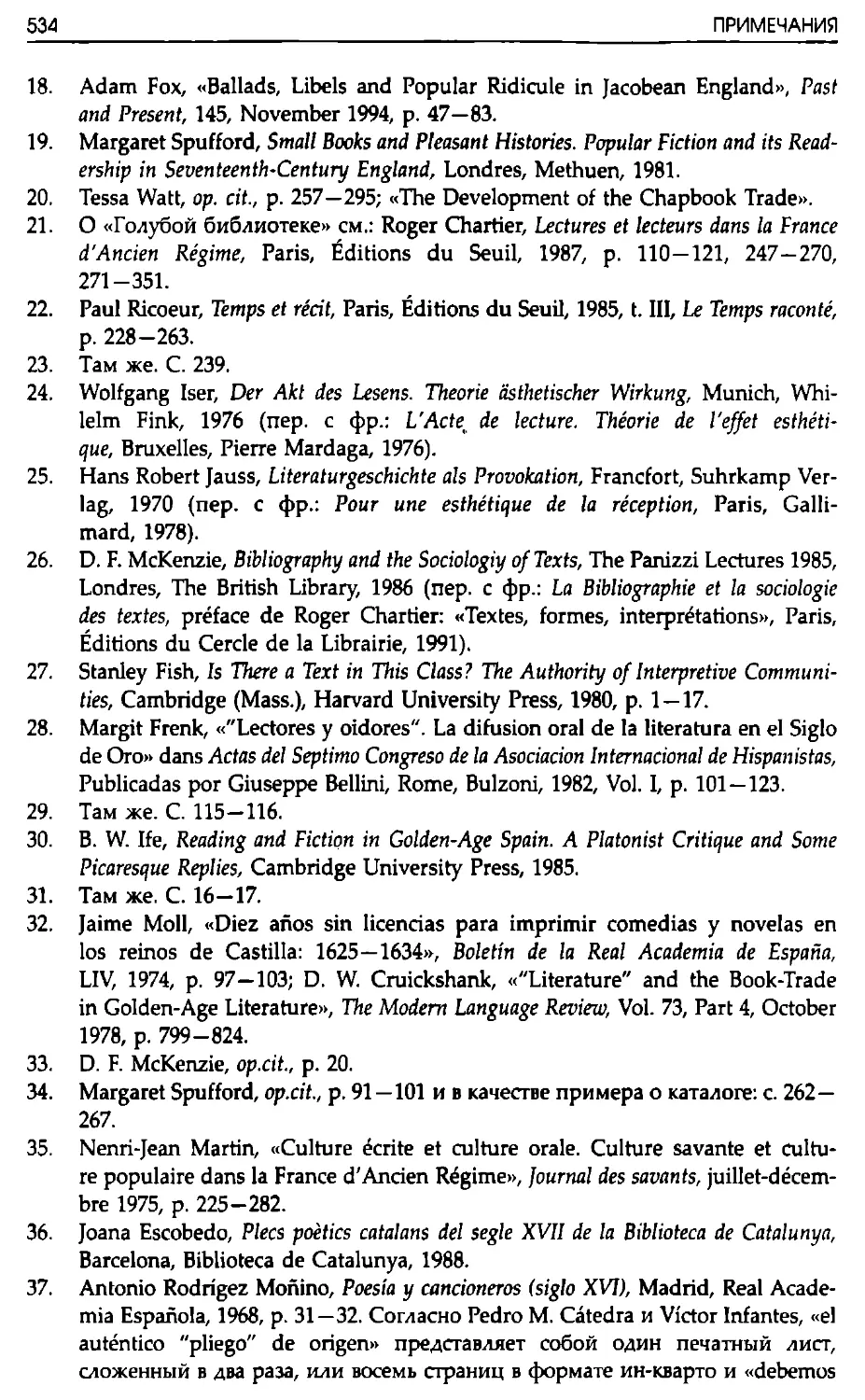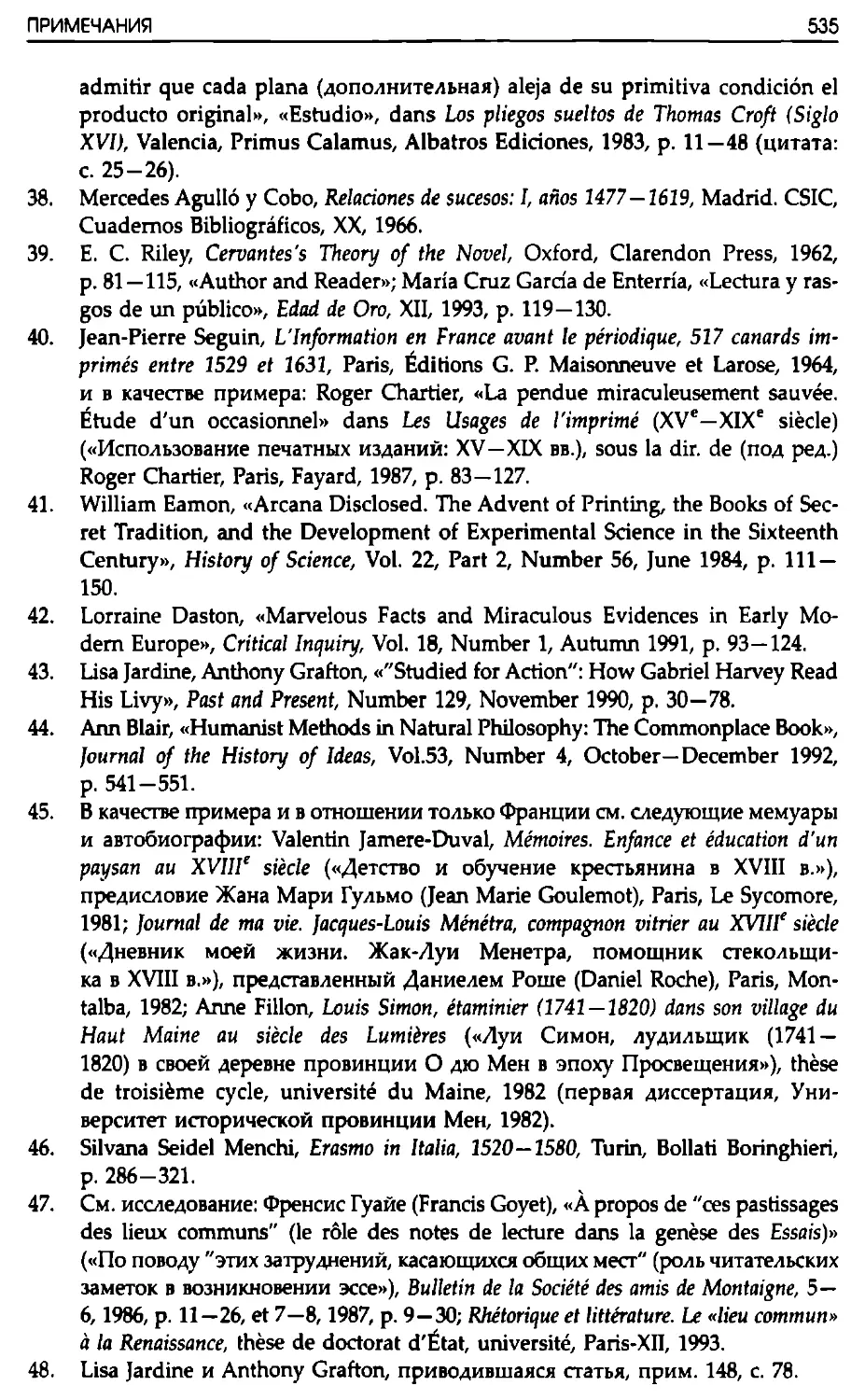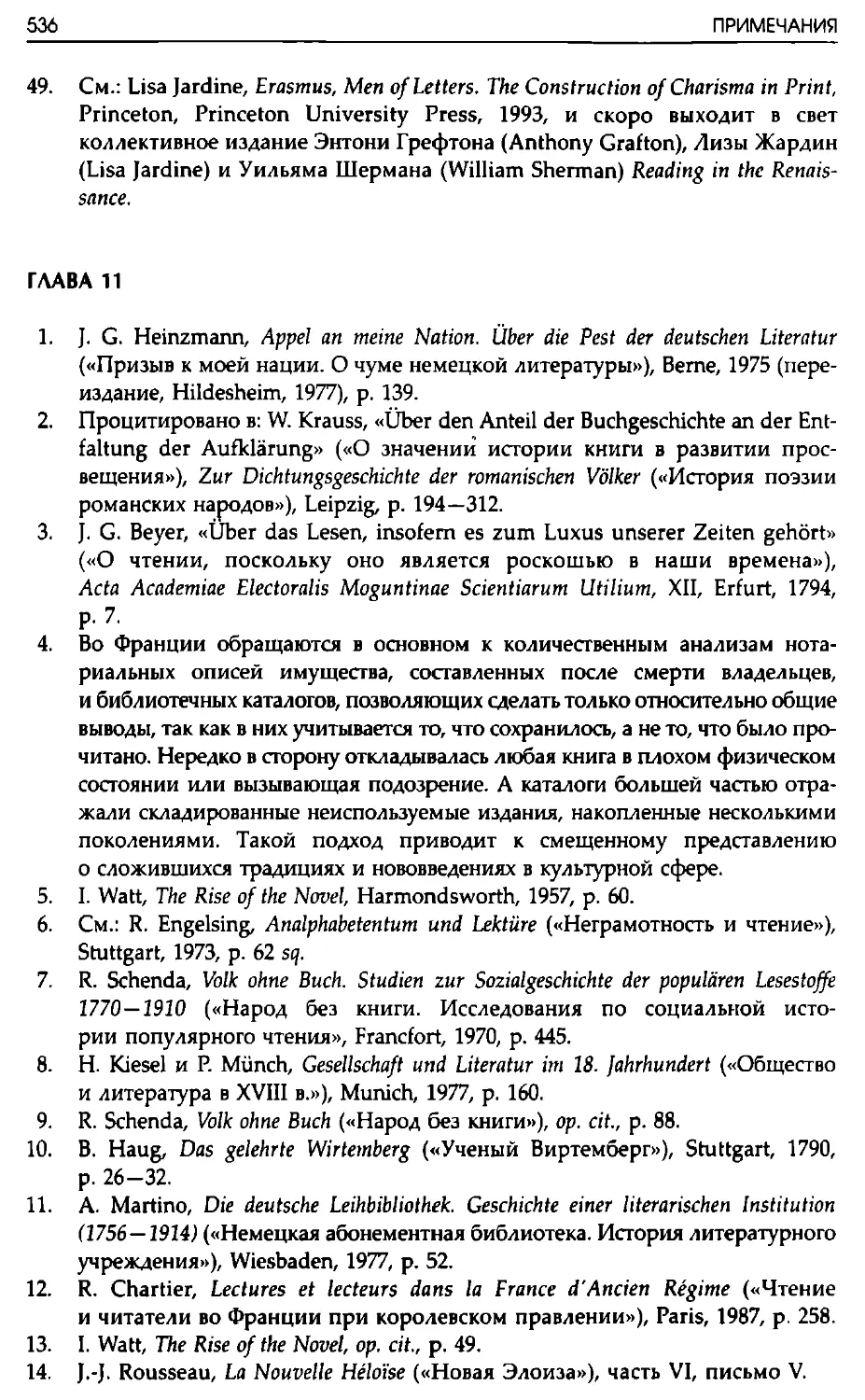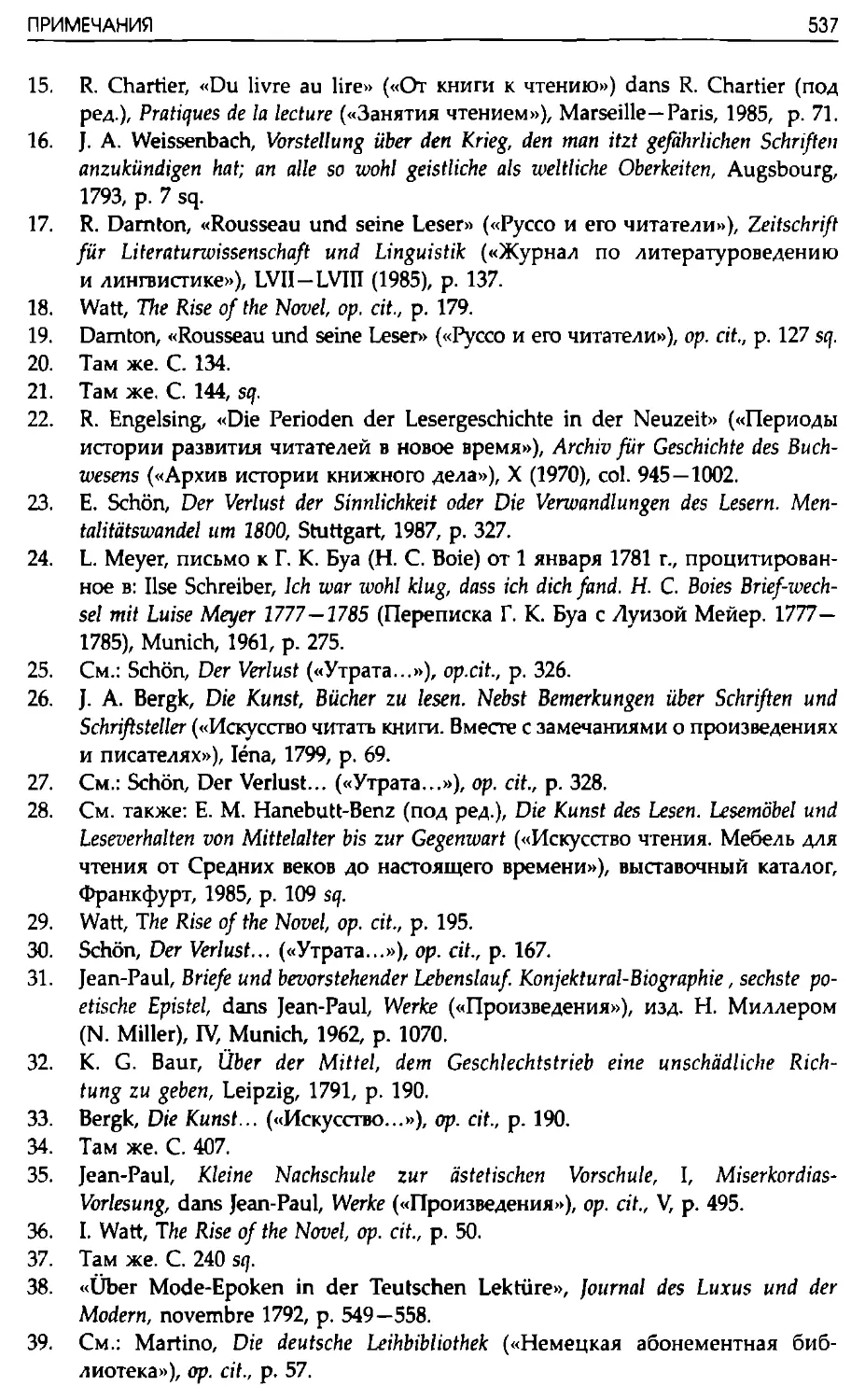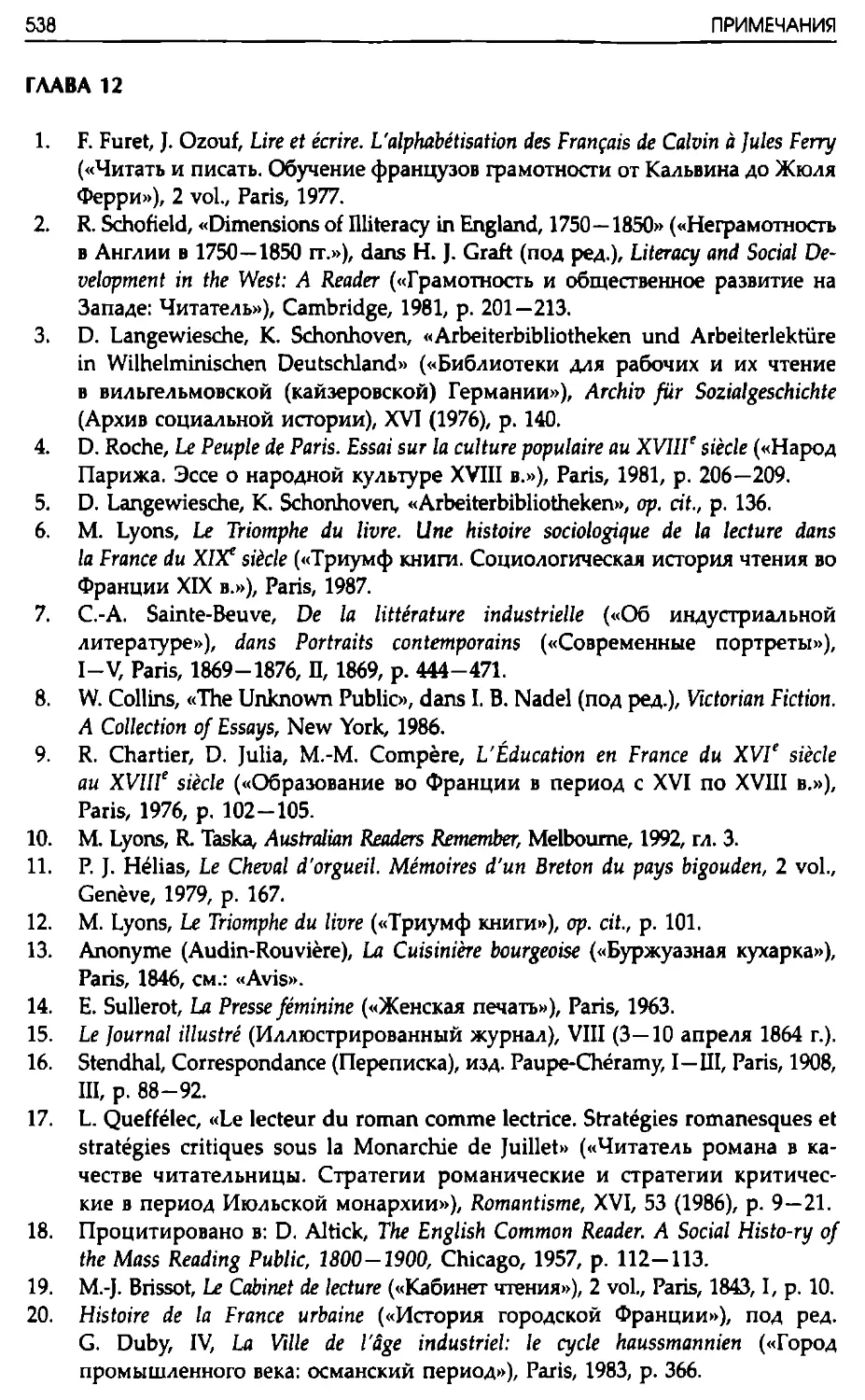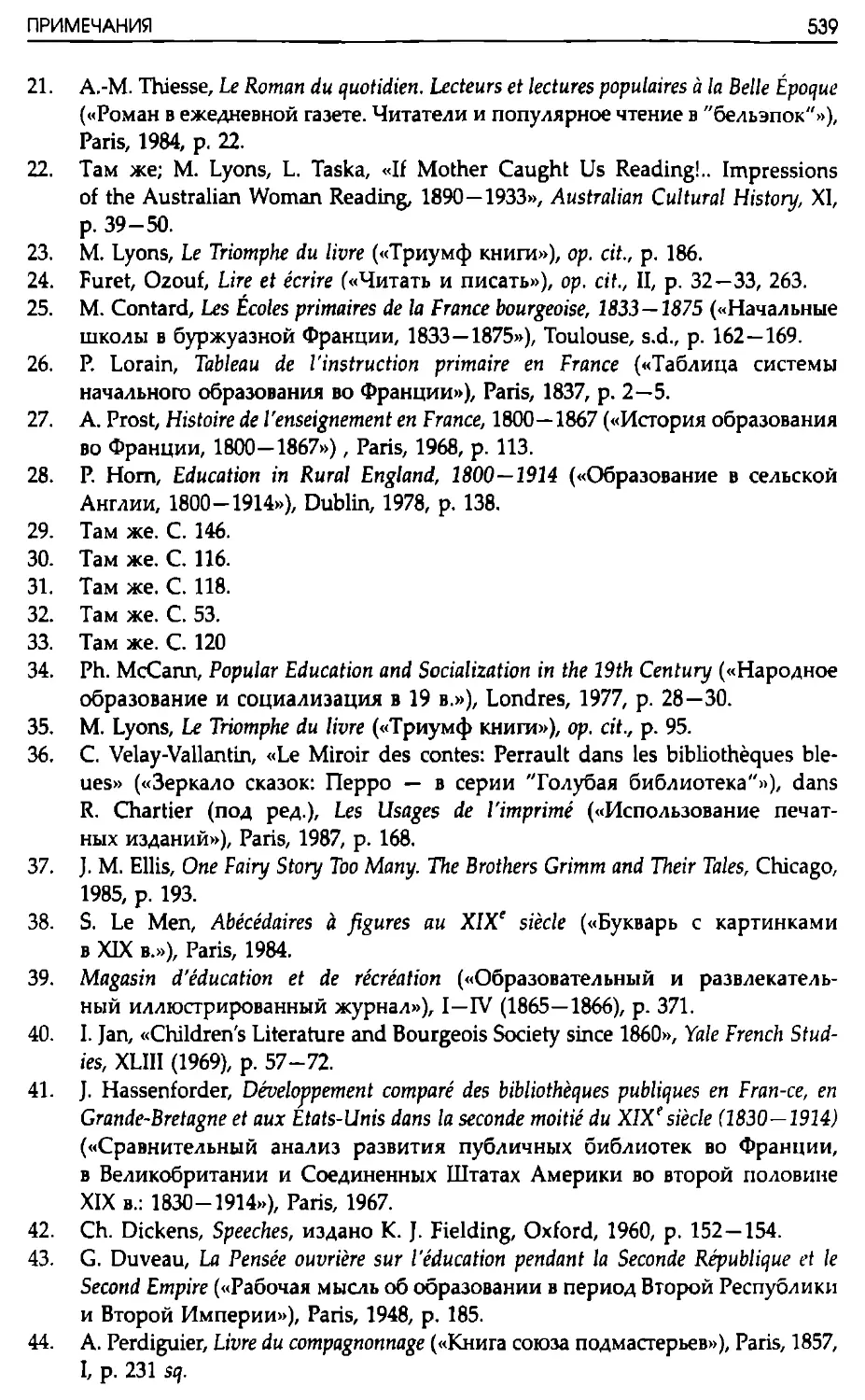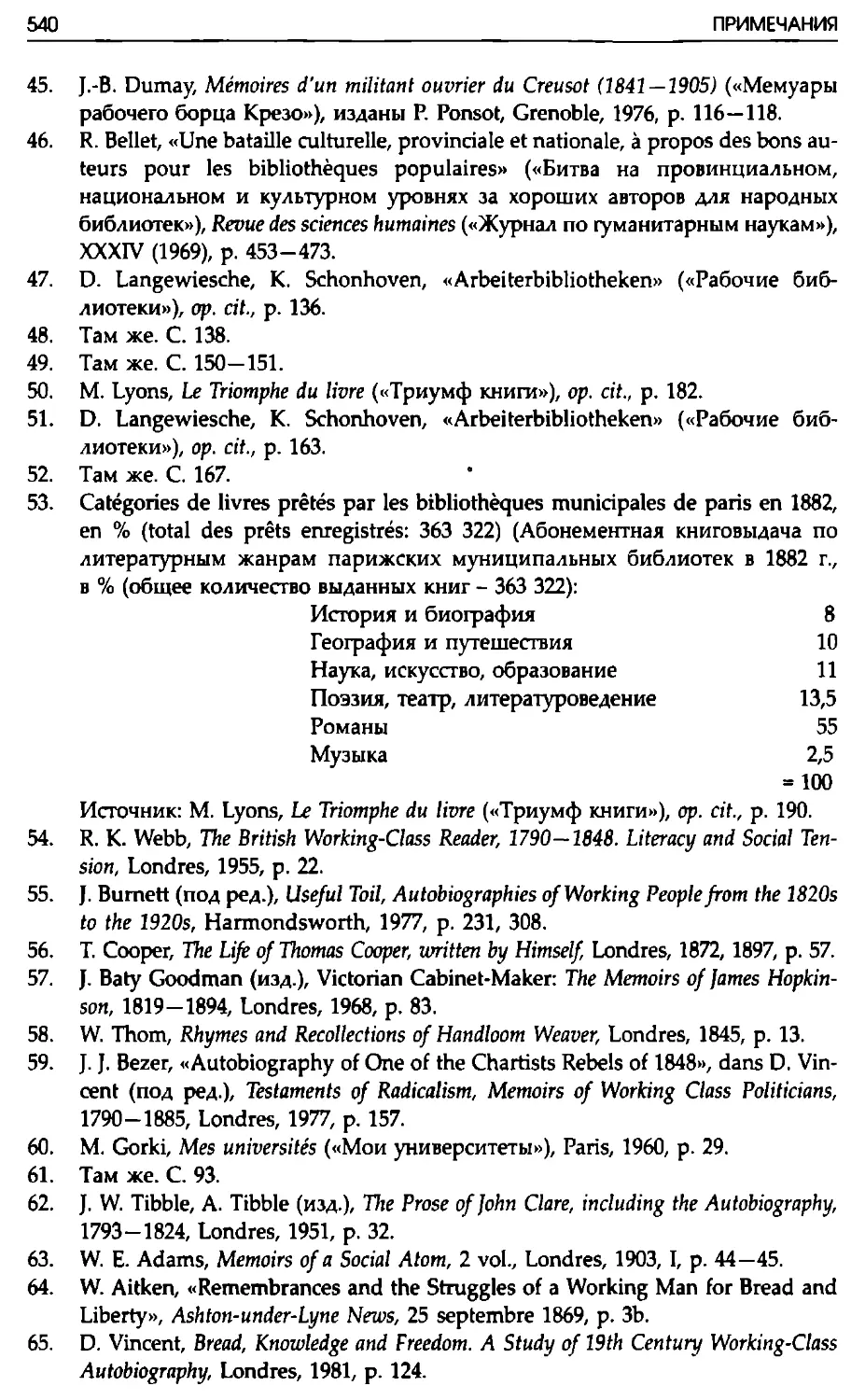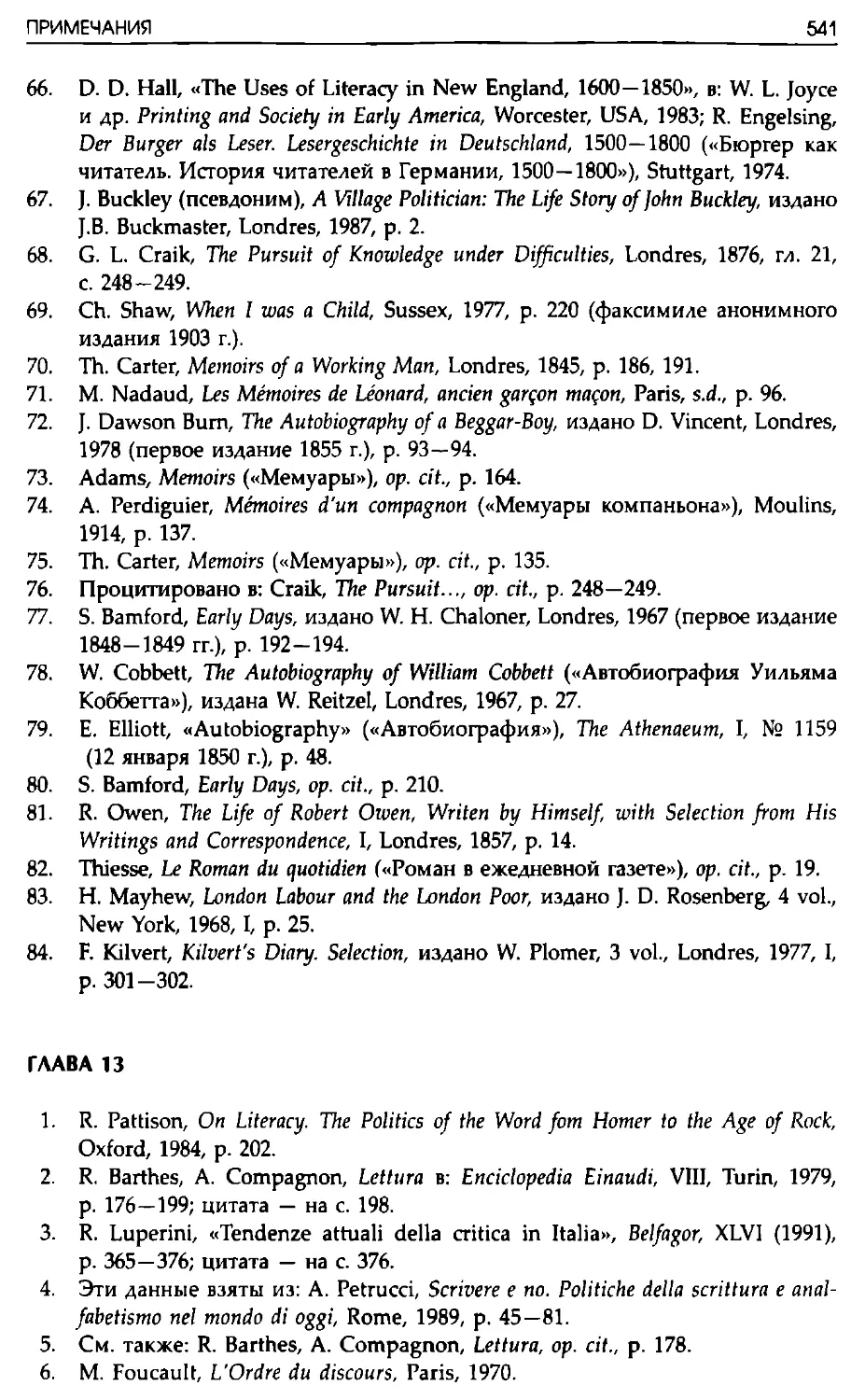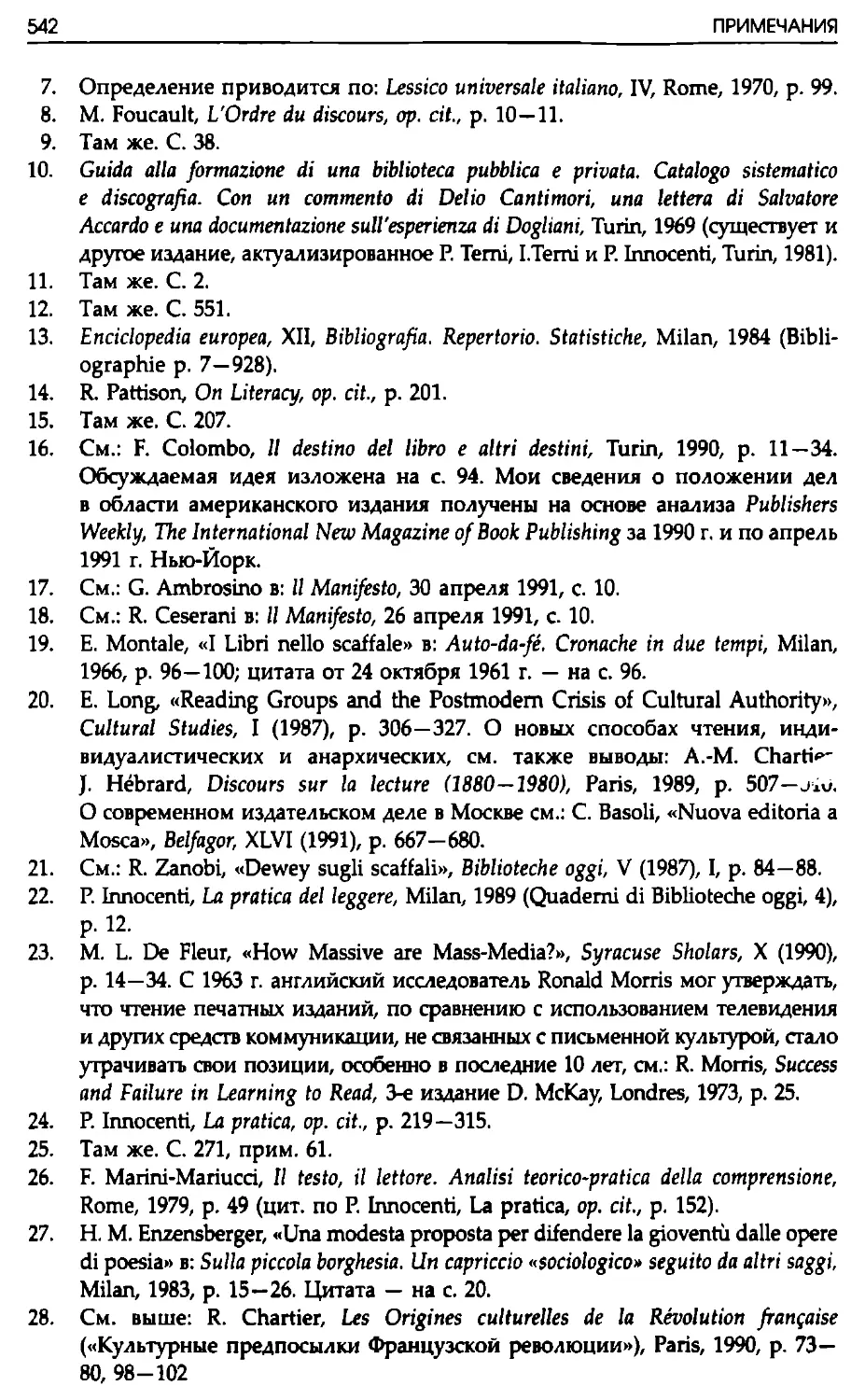Автор: Шартье Р.
Теги: документация научно-техническая информация (нти) печать в целом авторство чтение читательские интересы руководство чтением культура чтения сборник статей эволюция чтения книг характер чтения читательская аудитория
ISBN: 975-5-8183-1468-6
Год: 2008
Sous la direction de
Gugliemo Cavallo
et Roger Chartier
Histoire de la lecture
dans le monde
occidental
Editions du Seuil
Издательская группа «ГРАНД-ФАИР»
Всероссийская библиотека иностранной литературы
имени М. И. Рудомино
Метохия Чтения
в Западном ми^е
ош ^1нши1носши до наших дней
«Издательство ФАИР»
Москва
2008
УДК 002.2
ББК 78.303 (4Фра)
И89
Авторы статей: Й. Свенбро (глава I), Г. Кавалло (глава 2),
М. Паркс (глава 3), Ж. Амесс (глава 4), П. Зенгер (глава 5),
Р. Бонфий (глава 6), Э. Графтон (глава 7), Ж. Ф. Жильмон (глава 8),
Д. Жюлиа (глава 9), Р. Шартье (глава 10), Р. Виттман (глава 11),
М. Лайонс (глава 12), А. Петруччи (глава 13).
Авторы идеи проекта:
Е. Ю. Гениева, Е. М. Росинская
Научный редактор:
Ю. П. Мелентьева, д-р пед. наук,
вице-президент Российской Ассоциации чтения.
И89 История чтения в западном мире от Античности до наших дней /
ред.-сост. Г. Кавалло, Р. Шартье; пер. с фр. М. А. Руновой,
Н. Н. Зубкова, Т. А. Недашковской. — М.: «Издательство ФАИР»,
2008. — 544 с. — (Библиотечный бестселлер).
ISBN 975-5-8183-1468-6 (рус.)
ISBN 2-02-048700-4 (фр.)
Сборник статей известных во всем мире культурологов, ис-
следователей чтения, социологов из разных стран мира пред-
ставляет широкую картину эволюции чтения книги на протя-
жении нескольких столетий развития человечества. Ученые убе-
дительно доказывают, что изменение книги как таковой об-
условлено в первую очередь изменением характера чтения лю-
дей, трансформацией их взглядов на роль чтения и ценность
книги. Исследуются не только технические инновации, которые
привели к изменению формы книг и характеру чтения, но и
развитие и трансформация читательской аудитории.
Для широкого круга читателей.
УДК 002.2
ББК 78.303 (4Фра)
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме без письменного разрешения владельиев авторских прав.
ISBN 975-5-8183-1468-6 (рус.)
ISBN 2-02-048700-4 (фр.)
© Giuseppe Laierza & Figli Spa.
Rome-Bari, 1995 cl Editions du Seuil, Paris. 1997 e< 2001
© Издание на русском языке, перевод на русский язык,
оформление. «Издательство ФАИР», 2008
Закат ^в^опы, или ^ауЪите людей Ьитатъ!
Казалось бы, какая существует связь между нравственным кри-
зисом, охватившим страны Европы (причем, не только Западной),
и тем, что европейцы все меньше читают? Теперь книгу, перехо-
дившую в семье из поколения в поколение, заменило электронное
приспособление, весьма удобное, но лишенное очарования, запаха,
ощущения, которое мы получаем, листая бумажные страницы.
Как полагают психологи и социологи, зависимость прямая. Какой
может быть выход из такой почти тупиковой ситуации? Ответ —
в многочисленных программах Европейского Фонда культуры, посвя-
щенных чтению и роли книги в XXI в.
Философия этих программ — значение книги в становлении лич-
ности, в исправлении искалеченного нравственного облика молодых
европейцев, читающих «нон-стоп» «Гарри Поттера» и отрицаю-
щих «Оливера Твиста» как текст нелепый и безнадежно устаревший.
Стратегия — найти способы увлечь читателя книгой; показать, что
хорошо и полезно читать в любую погоду, в любом настроении и по
любому поводу.
Но какие книги особенно рекомендует Европейский Фонд куль-
туры молодым читателям? Прежде всего те, где герой сталкивается
с трудным жизненным выбором, а сама тема оказывает сильное
эмоциональное впечатление на читающих независимо от возраста,
расовой и национальной принадлежности и служит основой для бур-
ных обсуждений.
Европейский Фонд культуры не устает повторять: любовь к чте-
нию начинается дома, а потому особенно важно, чтобы родители
читали детям вслух и продолжали читать вслух и тогда, когда ре-
бенок уже читает сам. А в целом главный призыв Европейского Фонда
культуры звучит так: «Спасите Европу от катастроф. Научите
людей читать!»
Е. Ю. Гениева,
член Президиума Европейского Фонда культуры
ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Для российских специалистов в области книжной культуры и всех тех,
кто интересуется этой проблематикой, выход в свет данной книги, переве-
денной, наконец, на русский язык, представляет огромный интерес'.
В нее вошли тринадцать статей, написанных крупными европейскими
исследователями (Роже Шартье, Гульельмо Кавалло, Жаклин Амесс, Пол
Зенгер, Доминик Жюлиа, Малколм Паркс и др.), в которых освещаются
особенности чтения в различные исторические эпохи — от Античности и
Древнего Рима до наших дней. Несмотря на то что книга является сбор-
ником статей, ее характеризует единство методики и общность взглядов ав-
торов на исследуемый предмет.
Основное отличие научного метода авторов от привычного русскому
читателю социологического, психологического или структурно-семиотиче-
ского подходов к изучению чтения заключается в том, что чтение (явление
и процесс) рассматривается ими в прямой зависимости от текста, т. е. ав-
торы прослеживают эволюцию в практиках и приемах чтения в зависимо-
сти от изменений в организации (формы) текста как в целом (книжный сви-
ток, кодекс), так и отдельной страницы (возникновение пунктуации, осо-
бых знаков) и строки (сплошной или с интервалами между словами). Такой
подход позволяет соотнести текст как способ фиксации мысли, знания,
факта и чтение как способ их восприятия и воспроизведения. Вариатив-
ность прочтения текста, само существование текста постольку, поскольку
существует читатель, способный его прочесть, подчеркивается практически
всеми авторами статей. Кроме того, показывается зависимость восприятия
текста (чтения) от носителя (пергамента, бумаги, экрана).
Впервые российский специалист получил единую картину чтения как
общемирового явления. Настоящее исследование, посвященное Западной
Европе, показывает ее как пространство, где формировалась единая книж-
ная культура, важнейший элемент которой — чтение.
* Первое издание было осуществлено в 1995 г. на итальянском языке, в 1997 г.
книга была переведена на французский язык, также она выходила на английском
и других языках мира.
ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
7
Задачей ученых, участвовавших в написании книги, было выявление
сути чтения, восстановление общей картины его распространения и быто-
вания, анализ различных приемов чтения, характерных для западных стран
в различные эпохи.
Отказавшись от понимания чтения как неизменной антропологической
величины, исследователи определяют специфические особенности, отли-
чающие различные читательские сообщества, их традиции, характерные
практики чтения. Подробнейшим образом анализируется чтение в Древней
Греции и Древнем Риме, в эпоху раннего и позднего Средневековья, Воз-
рождения, Реформации и Классицизма. Чрезвычайно интересен материал
глав «Чтение в средневековых еврейских общинах Западной Европы» (Робер
Бонфий), а также «Новые читатели XIX в.: женщины, дети, рабочие» (Мар-
тин Лайонс). Проблемам чтения в будущем посвящена статья Армандо Пет-
руччи.
Следует отметить, что для русского читателя чтение этой книги будет
непростой задачей: на него обрушится множество фактов и концепций, с
которыми он познакомится впервые; этот материал непривычен и нетри-
виален, как необычен и сам выбор аспектов изучения.
В центре внимания исследователей оказались такие «странные» во-
просы, как понятие «читать» в древнегреческом языке; традиция чтения
Библии у протестантов и католиков; «дикое» и эрудированное чтение; чте-
ние в сакральном пространстве; индивидуальное чтение и организация гра-
фического пространства; «чтение вслух», «чтение про себя» и т. д. Суть чте-
ния под пристальным непредвзятым профессиональным взглядом ученого
представляется сложной, многогранной и не вполне разгаданной.
Особый интерес для российского читателя, не знакомого прежде с этим
аспектом исследования, представляет анализ психосоматики чтения, эволю-
ция его практик в зависимости от формы предоставления текста (свиток, ко-
декс), а также культурной традиции. Авторы статей рассматривают чтение как
действие, воплощенное в определенных жестах, привычках, навыках.
Показывая, какие всевозможные ситуации чтения свитка существовали
в разные эпохи (читатель наедине с книгой; с книгой перед аудиторией слу-
шателей; оратор, произносящий вслух лежащий перед его глазами текст;
путник, читающий в повозке; человек, возлежащий за трапезой и читаю-
щий свиток, который он держит в руках, и т. д.) авторы статей указывают
на то, что появление кодекса, т. е. книг-тетрадей со страницами (I в. н. э.),
коренным образом изменило чтение.
Авторы подчеркивают, что именно кодекс как новая форма предостав-
ления текста, послужил причиной возникновения новой модели чтения и,
8
ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
что чрезвычайно важно подчеркнуть, новой организации мышления, новых
форм работы с информацией. Кроме таких известных преимуществ ко-
декса, как дешевизна, экономичность (страница заполнялась с двух сторон),
кодекс сделал процесс чтения более комфортным, так как у чтеца осво-
бождались руки: не надо было держать концы свитка. Но дело было не
только в комфорте — освободившаяся вторая рука позволяла читать и пи-
сать одновременно, делать пометки на полях кодекса, листать книгу, бы-
стро находить необходимую цитату и т. д., и это способствовало интеллек-
туализации чтения.
Впервые российский специалист получил богатейший материал, по-
казывающий причины возникновения и дальнейшего развития в различ-
ные эпохи (от Античности до эпохи Просвещения) основных практик чте-
ния — вслух и про себя. Внутри каждого временного отрезка авторы вы-
являют глубокие перемены, вызвавшие трансформации в способах чтения
и отношении к написанному.
Глубокий анализ чтения во всех его модификациях позволил авторам
адекватно оценить и те «новые» практики чтения, которые привнесла с
собой электронная революция, увидеть их корни, прогнозировать их раз-
витие, хотя замена кодекса на компьютерный дисплей более радикальна,
чем замена свитка кодексом, поскольку сегодня изменяются сами способы
организации текста и структура его носителя.
Составители книги — известные ученые Роже Шартье и Гульельмо
Кавалло. Имя Р. Шартье — руководителя Центра исторических исследо-
ваний при Высшей школе общественных наук в Париже, профессора не-
скольких европейских и американских университетов — известно и в Рос-
сии: из двадцати написанных им книг на русский переведены «Письмен-
ная культура и общество» (2006), «Культурные истоки Французской ре-
волюции» (2001). Гульельмо Кавалло, может быть не столь известен
русскому читателю, но написанная им глава «От свитка к кодексу» — одна
из самых интересных.
Книга, которую «собрали» составители, уникальна, и можно только по-
радоваться за русского специалиста, которому она стала доступна. С уве-
ренностью можно сказать, что она станет сильным толчком для его про-
фессионального роста и послужит осмыслению истории чтения в нашем
Отечестве.
Мелентьева Юлия Петровна,
доктор педагогических наук, профессор,
вице-президент Российской Ассоциации чтения
Гульельмо Кавалло,
Роже Шартье
ВВЕДЕНИЕ
«Писатели создают собственные миры и, подобно земледельцам
древности, возделывают почву — почву языка, — роют колодцы и
строят дома. В отличие от них читатели — это странники. Они ко-
чуют по чужим землям, опустошая поля, на которых не написали
ни строчки, и расхищая древние сокровища, дабы насладиться ими.
Письменность все собирает, хранит, противостоя времени и соз-
давая новую реальность, и преумножает свою добычу, тиражируя
свои достижения и захватывая все большие и большие территории.
Чтение ничем не защищено от разрушительного воздействия вре-
мени (все забывается, и о нем забывают), свои приобретения оно
хранит плохо или не хранит их вовсе, и все, по чему оно проходит,
есть повторение потерянного рая» [1]*.
Так Мишель де Серто определил коренное различие между
любым написанным словом — фиксированным, прочным и со-
храняющим — и вариантами его прочтения, относящимися к об-
ласти эфемерного, множественного и воображаемого. Тем самым
он определил и замысел этой книги, написанной несколькими ав-
торами, в основе которой лежат две главные мысли. Во-первых,
изначально в тексте не заложен какой-то один вариант его про-
чтения. Текст дан без учета возможной разницы между смыслом,
который заложили в него его авторы, издатели, критики или тра-
диция, и тем, как им будут пользоваться и как его будут интер-
претировать его будущие читатели. Во-вторых, следует признать,
что текст существует лишь постольку, поскольку существует чита-
тель, способный придать ему смысл:
* Здесь и далее цифры в квадратных скобках отсылают к примечаниям, поме-
щенным в конце книги.
10
Г/ЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО. РОЖЕ ШАРТЬЕ
«Идет ли речь о газете или о Прусте, текст приобретает смысл только
благодаря своим читателям; он меняется вместе с ними; он строится
сообразно внешним по отношению к нему законам восприятия. Он
становится текстом только во взаимодействии с читателем через
игру следствий и уловок двух типов согласованных “ожиданий”: ор-
ганизующего считываемое пространство (литературность) и органи-
зующего необходимые действия для осуществления произведения
(чтение)» [2].
Задачей историков, участвовавших в написании этой книги,
была попытка восстановить во всем их разнообразии различные
приемы чтения, характерные для западного общества со времен
Античности.
Успех такого исследования зависит от того, насколько внима-
тельно отнесутся авторы к изучению того, каким образом происхо-
дит, если воспользоваться выражением Поля Рикера, встреча «мира
текста» и «мира читателя» [3]. Для того чтобы исторически досто-
верно воспроизвести этот процесс, необходимо, прежде всего, учи-
тывать, что значение текстов зависит от способов и обстоятельств,
посредством которых их воспринимают и усваивают читатели (или
слушатели). Последние никогда не имеют дела с отвлеченными,
идеальными текстами, лишенными какой-либо материальности: они
слушают слова и пользуются предметами, свойства которых упра-
вляют процессом чтения (или восприятия на слух), влияя тем
самым на понимание текста. Против чисто семантического опре-
деления текста, которое господствовало не только в структура-
листской критике во всем ее многообразии, но и в литературных
теориях, главным образом стремившихся к тому, чтобы установить,
как воспринималось произведение в ту или иную эпоху, — следует
возразить, что форма сама по себе производит содержание, и тест,
меняя носитель, на котором он предлагается читателю, приобре-
тает новый смысл и новый статус. Таким образом, любая история
читательского поведения есть история написанных объектов и про-
читанных слов.
Следует также помнить, что чтение — это действие, воплощен-
ное в определенных жестах, привычках и пространствах. Отказав-
шись от феноменологического подхода к проблеме, стирающего все
конкретные особенности процесса чтения, воспринимаемого как
неизменная антропологическая величина, следует установить спе-
ВВЕДЕНИЕ
11
цифические особенности, отличающие различные читательские со-
общества, традиции и способы чтения.
Подобного рода исследование предполагает анализ нескольких
видов различий. Прежде всего, это различия между разными степе-
нями владения навыками чтения. Основной, но весьма грубый раз-
рыв между грамотностью и неграмотностью не исчерпывает всего
разнообразия отношений к письменной речи. Не всякий, кто может
читать тексты, читает их одинаково, и в каждую конкретную эпоху
существует огромный разрыв между образованными виртуозами и
неумелыми читателями. Учитывать надо и различия между нормами
и приемами чтения, определяющими для каждого читательского со-
общества правила пользования книгой, способы чтения, а также
инструменты и методики интерпретации прочитанного. Наконец,
надо помнить и о различиях между разнообразными ожиданиями и
интересами различных читательских групп, от которых в свою оче-
редь зависит и практика чтения. От всего вышеперечисленного за-
висит, как будут читать тексты читатели, обладающие различными
интеллектуальными навыками, вступающие в разные отношения с
письменной речью и придающие разное значение и смысл на пер-
вый взгляд идентичному действию — чтению текста.
Долгая история чтения и читателей должна стать историей спо-
собов использования, понимания и усвоения текстов. С одной сто-
роны, она рассматривает «мир текста» как мир предметов, форм и
ритуалов, правила применения и взаимодействие которых форми-
руют и ограничивают смысл, с другой — знакомит с «миром чита-
теля» как миром, состоящим из различных «сообществ интерпрета-
торов», по выражению Стенли Фиша [4], к которым так или иначе
принадлежат отдельные читатели (и читательницы). Члены каждого
такого сообщества обладают одинаковыми навыками чтения, ис-
пользуют при обращении к письменным текстам одни и те же
приемы и правила, демонстрируют схожие интересы. Поэтому на
протяжении всей этой книги авторы будут проявлять интерес как к
материальной форме текстов, так и к способам их прочтения.
«Новые читатели производят новые тексты, и смысл последних
зависит от их материальной формы» [5]. Так, Д. Ф. Маккензи четко
определил две группы изменений: изменений форм письменных
текстов и изменений личностных характеристик читающей публики,
которые должен учитывать любой исторический труд, ставящий
перед собой цель воссоздать зыбкий и неоднозначный смысл тек-
12
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
стов. В этой книге мы подошли к данной проблеме с разных сто-
рон: выявили главные противоречия между различными способами
чтения, сменявшими друг друга на протяжении длительного вре-
мени; определили различия между приемами чтения, которыми
пользовались члены различных читательских сообществ, бытовав-
ших внутри одного общества; рассмотрели трансформации форм и
правил, изменявших как статус, так и состав читателей различных
типов текстов.
Подобный взгляд на проблему, хотя и вписывается в традицию
изучения истории книги, требует некоторого изменения в поста-
новке проблем и подходах к их решению. В самом деле, долгое
время история книги считала предметом своего исследования при-
сутствие книги в разных социальных группах, составляющих обще-
ство. Отсюда и необходимая на первых порах система индикаторов,
с помощью которых можно выявить культурные различия: нерав-
номерное распределение книг между жителями определенной мест-
ности в определенное время, иерархия библиотек в зависимости от
объема имеющихся в их распоряжении фондов, характеристика
самих фондов в зависимости от типов изданий. С этой точки зре-
ния, исследовать чтение — значит, выстраивать цепочки, устанав-
ливать уровни, добывать статистические данные. В конечном счете,
цель всего этого — определение того, каким образом имеющиеся
социальные различия проявляются в культуре.
В процессе таких исследований были собраны знания, без ко-
торых немыслимо было бы ставить другие вопросы и невозможно
написать эту книгу. Тем не менее их недостаточно для того, чтобы
написать историю практики чтения. Главное, такой подход подра-
зумевает, что культурное расслоение общества обязательно отра-
жает социальное расслоение, являющееся первичным, и связывает
различия в приемах чтения с различиями социальными, выстроен-
ными a priori или на уровне видимых невооруженным глазом кон-
трастов (между угнетателями и угнетаемыми, между элитой и на-
родом), или на уровне более тонких различий (например, между
различными социальными группами, иерархия которых устана-
вливается в зависимости от их знатности, профессии или матери-
ального положения).
Однако линии, по которым проходят культурные различия, не
обязательно совпадают с границами, определяющими, как пред-
полагалось ранее, социальные различия, а также разную степень
ВВЕДЕНИЕ
13
присутствия книги и разнообразие читательских практик. Необ-
ходимо взглянуть на вещи с другой стороны и выявить общест-
венные круги и сообщества, придерживающиеся одинаковых под-
ходов к письменным текстам. Если взять за исходную точку не
классы или группы, а обращение объектов и идентичность прак-
тик, то придется признать существование множества факторов, ко-
торые могут влиять на культурные различия: например, родовая
принадлежность или происхождение, религиозные взгляды, об-
щинная солидарность, образовательные или корпоративные тра-
диции и т. д.
Каждое такое «сообщество интерпретаторов» вступает в обще-
ние с письменным текстом, используя определенные приемы,
жесты и методы. Чтение — это не только абстрактная интеллекту-
альная операция. В процессе чтения человек вступает во взаимо-
отношения с самим собой и другими людьми, в нем участвует и
тело, и пространство. Вот почему в этой книге мы уделили особое
внимание исчезнувшим или оттесненным на обочину современ-
ного мира способам чтения. Например, чтению вслух и двойной
функции чтения: способности сообщать содержание написанного
тем, кто не может самостоятельно его разобрать, а также умению
укреплять высмеиваемые ныне формы общения, служащие в то же
время проявлениями частной жизни, — семейную близость, свет-
скую общительность, сообщничество образованных людей. Исто-
рия чтения не должна ограничиваться установлением происхож-
дения нашего современного способа чтения, молчаливого чтения
при помощи глаз. Ее вторая и, быть может, главная задача —
вспомнить забытые жесты и исчезнувшие привычки. Это очень
важно, поскольку таким образом мы не только знакомимся с уди-
вительными для нас, но широко распространенными в прошлом
древними практиками, но и восстанавливаем первоначальный осо-
бенный статус текстов, созданных для того, чтобы быть прочи-
танными совершенно иным способом, чем тот, которым поль-
зуются современные читатели.
В античном мире, в эпоху Средневековья и даже в XVI—XVII вв.
чтение многих текстов подразумевало их вокализацию, и их «чита-
тели» были, по сути дела, слушателями голоса чтеца. Следовательно,
текст, предназначавшийся не только для глаз, но и для слуха, играл
с формами и формулами, способными подчинить письменную речь
требованиям, свойственным «параметрам» устной речи.
14
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
«Что бы они ни делали, авторы не пишут книг. Собственно, книги
никто и не пишет. Их производят скрибы и другие ремесленники,
рабочие и прочие трудящиеся, печатные прессы и иные машины» [6].
Опровергая представление, выработанное самой литературой и
подхваченное квантитативной историей, согласно которой текст су-
ществует сам по себе, отдельно от своего материального воплоще-
ния, следует напомнить, что не существует текста вне носителя, ко-
торый дает возможность его прочесть (или услышать), и вне об-
стоятельств, в которых его читают (или слушают). Авторы не пишут
книг: они пишут тексты, которые превращаются в письменные
объекты, — рукописные, гравированные, печатные, а в наше время
и электронные; ими различным образом пользуются читатели, спо-
собы чтения которых изменяются в зависимости от времени, места
и среды.
Именно этот процесс, о котором столь часто забывают, мы и сде-
лали центром нашей работы, цель которой — выявить внутри каж-
дого временного отрезка глубокие перемены, вызвавшие в западном
мире трансформацию способов чтения и, следовательно, изменив-
шие отношение к письменной речи. Именно поэтому данная книга
строится по хронологическому и тематическому принципу и де-
лится на 13 глав, которые ведут читателя от изобретения в Древней
Греции чтения про себя к новейшим практикам, не только допу-
скаемым, но и навязываемым нам электронной революцией совре-
менности.
ГРЕЧЕСКИЙ И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР: РАЗНООБРАЗИЕ ПРАКТИК
«Единожды написанный всякий /откатится (kulindeitai) во всех на-
правлениях: как к тем, кто понимает в нем толк, так и к тем, кому
до него нет дела, и он не знает, с кем он должен, а с кем не должен
говорить». Это высказывание, вложенное Платоном в диалоге Федр
в уста Сократу, основывается на игре слов: глагол kuiindein («ка-
титься») отсылает нас к книге в форме свитка, которая по пути к
читателю, образно говоря, «катится» во всех направлениях, тогда как
глагол legein («говорить») предполагает только громкое чтение вслух.
Платон продолжает: «И когда этот logos становится жертвой фаль-
шивых (plemmeloumenos) голосов или несправедливых нападок, он
ВВЕДЕНИЕ
15
нуждается в помощи своего создателя, поскольку своими силами не
может отразить нападение или защититься». В этом отрывке глагол
plemmelein («фальшивить») употребляется для обозначения чтения,
при котором звуковая интерпретация, «диссонирующая» с намере-
ниями автора, может исказить и, следовательно, предать письмен-
ный текст. В этих строках Платона прямо или косвенно подни-
маются основные проблемы, возникающие при исследовании чте-
ния в Греции в классическую эпоху. Прежде всего, следует заду-
маться об отношениях внутри системы коммуникации с точки
зрения не только противопоставления письменной и устной речи,
но и различий внутри самой устной речи, которая принимает раз-
ные формы в зависимости от того, имеется в виду просто устная речь
или устное воспроизведение читателем письменного текста. Устная
речь, та, в которой Платон видит «рассуждения об истине», полез-
ная для процесса познания, выбирает себе собеседников, может
изучать их реакцию, отвечать на поставленные вопросы, нападки и
возражения. Письменная речь, напротив, похожа на живопись: она
не отвечает на вопросы, а может только повторяться до бесконе-
чности. Зафиксированная на безжизненном материальном носителе
письменная речь не может ни отыскать того, кто мог бы ее понять,
ни спастись от того, кто на это не способен: одним словом, нахо-
дясь в зависимости от никем не контролируемого распространения,
письменная речь не знает, кто предоставит ей свой голос для того,
чтобы в процессе чтения проявился скрытый в ней смысл. Каждое
прочтение, таким образом, превращается в толкование текста, ме-
няющееся от читателя к читателю. В пользу письменности (несмо-
тря на сделанные Платоном оговорки) говорит, однако, ее способ-
ность свободно «катиться» во все стороны, отдавая себя для свобод-
ного прочтения, позволяя свободно толковать и использовать текст.
Появление этого новшества — книги, переносящей записанный
logos, предназначенный для чтения, — повлекло за собой и другие
изменения. В этот период, кажется, сглаживается противоречие (су-
ществовавшее в Греции между VI и концом V в. до н. э.) между не-
хваткой книг и достаточно широким распространением, возможно,
даже среди низших слоев городского населения грамотности и уме-
ния читать официальные и частные надписи. Это противоречие го-
ворит нам и о роли чтения в ту эпоху, поскольку производство пись-
менных текстов и, главным образом, форма и типология содержав-
шихся в них сообщений, тесно связаны с функционированием ин-
16
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
статутов афинской демократии, начиная со времени ее основания
(508—507 гг. до н. э.).
Если, как пишет Йеспер Свенбро, письменность «служит устной
культуре [...] для того, чтобы способствовать производству звуков,
действенных слов и громкой славы», эта ее функция скорее отно-
сится к письменному творчеству периода «устной публикации» древ-
негреческих текстов: прежде всего, к эпосу, затем, в более широком
смысле, ко всем поэтическим произведениям, коротким текстам и
надписям на различных предметах. Однако книга, и в частности ее
чтение, выполняла и другие функции, в частности фиксировала тек-
сты и помогала их вспоминать, т. е. практически их сохранять. Неос-
поримым подтверждением этому являются экземпляры поэтиче-
ских и научно-философских сочинений, хранившихся в храмах, а
также использование авторских «печатей» (sphregis), предназначен-
ных для того, чтобы гарантировать подлинность текста, что было
оправдано только в целях сохранности (даже если нельзя было ис-
ключить возможность публичного чтения этих произведений вслух
самими авторами).
Кажется, именно через последние десятилетия V в. до н. э. про-
ходит граница, отделившая книгу, предназначенную исключительно
для фиксации и сохранения текстов, от книги, предназначавшейся
для чтения [7]. Этот переход можно проследить по рисункам на ат-
тических вазах этого периода, на которых можно встретить изобра-
жения того, как пользуются книгой в школе, т. е. в образователь-
ных целях, или сам процесс чтения, на которых сначала фигуриро-
вали только читатели-мужчины, но очень скоро появляются и чи-
тательницы-женщины. Это не одинокие читатели, они, как правило,
являются действующими лицами сцен приемов, пиров и дружеских
бесед, что говорит о том, что чтение воспринималось, прежде всего,
как форма общественной жизни. Чтение в одиночестве уже было
тогда известно, но, если верить редким иконографическим и лите-
ратурным свидетельствам, дошедшим до нас, широкого распро-
странения не получило.
Другой вопрос — это вопрос о методах чтения вслух, самого рас-
пространенного в Античности способа чтения. Как уже подчеркива-
лось, целью его было дать возможность читателю понять смысл тек-
ста, написанного непрерывным письмом (scriptio continua), письмом без
промежутков между словами, который оставался мертвым и невра-
зумительным, если только не был прочитан вслух. Но мы имеем также
ВВЕДЕНИЕ
17
доказательства существования даже в глубокой древности практики
чтения про себя [8], что побуждает задуматься о том, насколько, с
одной стороны, существование этих практик связано с использова-
нием scriptio continua, и, с другой — не существовали ли они парал-
лельно друг другу и не зависело ли предпочтение, отдаваемое одной
из практик, от обстоятельств, в которых находился читатель.
Первые свидетельства о чтении про себя мы находим в конце
V в. до н. э. у Еврипида и Аристофана, они касаются не чтения
книг, а чтения посланий и пророчеств оракула, написанных на во-
щеных дощечках. Это достоверные свидетельства. Но следует за-
дать вопрос, не было ли принято в эту эпоху при определенных
обстоятельствах читать про себя также и книги? «Когда на корабле
я читаю для себя “Андромеду”» (пьеса Еврипида, впервые пред-
ставленная в 413 г. до н. э.), — говорит Дионис в «Лягушках» Ари-
стофана, а главный герой отрывка из пьесы «Фаон» Платона — ко-
мического поэта, современника Аристофана, восклицает: «В оди-
ночестве я хочу прочесть (dielthein) эту книгу для себя самого»
(fr. 173, 1—5 Kock), — и тотчас же по просьбе проходившего мимо
незнакомца начинает читать вслух эту книгу, представлявшую
собой труд по кулинарии. Нельзя исключить возможность того, что
в этих случаях выражение «для себя» (pros emauton) предполагает
не только чтение в одиночестве, но и чтение беззвучное, внутрен-
ним голосом, предназначенным лишь для самого читающего.
Тут мы должны упомянуть и о другом типе чтения: грекам было
знакомо чтение во время путешествий, т. е. чтение «развлекатель-
ное», никак не связанное с их профессиональной деятельностью,
даже если предположить, что бог Дионис, тесно связанный с дра-
матическим искусством, возможно, все-таки читает на корабле в
целях почти профессиональных. Но будем помнить, что это гораздо
более широкая проблема, включающая в себя вопросы, связанные
с определением типологии читателей и с процессом все более ши-
рокого распространения чтения, начавшимся одновременно с рас-
пространением книг. Записанные logoi из диалогов Платона суть
философские тексты, циркулировавшие среди слушателей Академии
[9], а первые известные нам книжные собрания, как общественные,
так и личные, — это собрания профессионального характера, как,
например, библиотеки Еврипида и Аристотеля.
Однако в ту же эпоху появляются и личные библиотеки совер-
шенно иного типа: «Может быть, ты хочешь стать рапсодом?» —
18
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
спрашивает Сократ у Эвфидема (Euthydeme) и добавляет: «Говорят,
у тебя есть все сочинения Гомера». (Ксенофонт «Меморабилии, или
Воспоминания о Сократе». IV. 2, 8—10.) Эвфидем не собирается ста-
новиться рапсодом (декламатором), но вопрос, заданный ему Со-
кратом, несет в себе и другую важную информацию. Из него сле-
дует, что для Сократа очевидна связь между владением определен-
ного рода письменными источниками (grammata) и занятием —
теоретическим или практическим — разного рода науками и искус-
ствами от медицины до астрологии, от архитектуры до геометрии
и поэзии. Но Эвфидем, не признающий обязательность такой связи,
хочет приобрести как можно больше книг просто для того, чтобы
их читать, т. е. он хочет собрать библиотеку, не имеющую профес-
сионального характера. А вот еще одно свидетельство, уводящее нас
гораздо дальше. В «Эрехтее» Еврипида есть такие стихи: «Так пусть
я смогу, отложив копье [...] и повесив на стену мой фракийский
шит [...], заставить зазвучать голос табличек, из которых ученые до-
бывают себе славу» (fr. 60 Austin). Они могут относиться только
к чтению (вслух), не связанному ни с какими профессиональными
нуждами (даже если речь идет не о свитках, а о табличках). Кули-
нарная книга, упомянутая комическим поэтом Платоном, доказы-
вает, что в этот период (начало IV в. до н. э.) подобного рода труды
уже имели хождение.
Цитированный выше отрывок из «Фаона» приводит нас к пони-
манию того, что в Древней Греции существовали различные способы
чтения [10]. Глагол dierchomai, использованный автором в значении
«внимательное чтение», в процессе которого текст «проходят» (пер-
воначальное значение глагола dierchomai) от начала и до конца, резко
контрастирует (и этим достигается требуемый комический эффект)
с банальностью содержания книги (скромного пособия по кулина-
рии), которую собирается читать герой. Различные глаголы, кото-
рые греки использовали для обозначения самого акта чтения, отра-
жали —первоначально, по крайней мере, — разнообразные особен-
ности этого процесса. Глагол nemein и его производные: ananemein,
epinemein имеют значение «читать» в смысле «раздавать» содержа-
ние написанного, что предполагает вокализованное чтение вслух;
глагол anagignoskein обозначает процесс «узнавания» и «расшиф-
ровки» букв, слогов, слов и предложений, для характеристики этого
типа чтения часто используются различные наречия: tacheos — «бы-
стро», bradeos — «с трудом», ortos — «правильно», kata syllaben —
ВВЕДЕНИЕ
19
«слог за слогом», тогда как глаголы, заключающие в себе некую ме-
тафору (например, dierchomai и diexeimi — «проходить») соотносятся
с текстом, который «проходят», т. е. «пересекают» от начала до конца
с большим вниманием и, следовательно, углубленно.
Кажется, что Античность перешла от «раздачи текста», осу-
ществляемой немногими, умеющими читать, тем, кто не знал гра-
моты (их было значительно больше), через этап более широко рас-
пространенного чтения как «узнавание» букв, к начавшемуся
между V—IV вв. до н. э. этапу чтения, называемого «чтением про-
хождения», под которым греки подразумевали внимательное изу-
чение текста от начала до конца. Исократ, противопоставлявший
«читающих поверхностно» тем, кто «со вниманием перемещается
по тексту», не оставил никаких сомнений относительно семанти-
ческих различий между глаголами anagignoskein и diexeimi. Именно
у Исократа мы впервые встречаем употребление среднего залога
глагола patein для обозначения часто «посещаемой» книги (до-
словно — книги, которую «топчут»), т. е. книги, которую много-
кратно перечитывают. Можно ли считать это одной из форм ин-
тенсивного чтения?
Так это или нет, но это доказывает, что в классической Греции
были известны разные типы чтения, зависящие от уровня подго-
товки и потребностей читающего, если судить по количеству ис-
пользовавшихся для их обозначения глаголов, даже если впослед-
ствии изначально различавшиеся глаголы начали использоваться
параллельно или обозначать не всегда понятные нам оттенки
смысла.
Сложно сказать, способствовало ли новое возросшее использо-
вание письменной культуры в эллинистический период (о чем сви-
детельствует производство и использование большого числа тек-
стов) не только более широкому распространению образования и,
следовательно, школьного преподавания, но и более широкому рас-
пространению чтения. Пусть некий чиновник и ссылается на Кал-
лимаха и Посидиппа, мы поостережемся придавать слишком боль-
шое значение этому обстоятельству.
Скорее следует подчеркнуть, что в эллинистический период, не-
смотря на устойчивость некоторых форм устной передачи текстов,
книга стала играть основополагающую роль. Отныне литература пол-
ностью зависит от письменности и от книги, с помощью которых про-
изведения создаются, распространяются и сохраняются для потом-
20
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
ков. Более того, александрийские филологи, занятые почти исклю-
чительно атрибуцией, контролем, транскрибированием и комменти-
рованием текстов, превращают в книги древнюю литературу, кото-
рая в момент своего появления не предполагала подобной фиксации
(даже если такие книги предназначались только для ученого чтения
[11]). Одним словом, александрийские филологи навязывают обще-
ству мысль о том, что произведение может существовать только в
письменном виде и что его можно усвоить благодаря книге, которая
его и сохраняет. Александрийская библиотека, прототип всех боль-
ших эллинистических библиотек [12], является одновременно и «уни-
версальной», и «разумной»: универсальной, потому что хранит книги
всех времен со всего известного в то время мира; разумной, ибо все
собранные в ней книги систематизируются (см. Pinakes [«каталоги»]
Каллимаха) по авторам, произведениям и содержанию. И эта «уни-
версальность», и эта «разумность» подразумевали письменную фик-
сацию текстов, которые оценивались, переписывались, запирались
в книге, классифицировались и размещались среди других книг.
Именно при такой классификации и для упрощения этого про-
цесса все тексты, как древние, так и новые, разбили на свитки (vo-
lumina), исходя из внешних признаков по отношению к самому
свитку (volumen). Как только установился стандартный размер
свитка по высоте и длине, исключавший слишком большие и слиш-
ком маленькие форматы, правила начали требовать, чтобы каждый
свиток содержал только одно произведение (заметим, что его раз-
мер зависел от жанра и структуры произведения) или одну его
«книгу» (в значении раздела текста), если произведение состояло из
нескольких книг, за исключением слишком длинных произведений
и «книг», которые в этом случае делились на два свитка. Слишком
короткие произведения и «книги» объединялись в одном свитке.
Также были выработаны правила деления текстов на «столбцы»,
система написания заглавий, приспособления (знаки paragraphos,
coronis, которыми отмечали конец текста), с помощью которых от-
делялись друг от друга разные тексты и части одного и того же текс-
та. Идет процесс упорядочения процессов создания художественных
произведений и производства книг, функционально связанный с по-
явлением больших библиотек и новых типов (практик) чтения.
Однако большие эллинистические библиотеки не были библио-
теками для чтения, они были осязаемыми символами «величия» на-
ходившихся у власти династий (Птолемеев, Атталидов) и орудием
ВВЕДЕНИЕ
21
труда узкого круга ученых и литераторов. Несмотря на то что хра-
нение находящихся в этих библиотеках книг технически было ор-
ганизовано так, чтобы облегчить их чтение, книги не столько чи-
тали, сколько просто собирали. Эти эллинистические библиотеки
строились по образцу более древних библиотек — книжных собра-
ний философских и научных школ, предназначавшихся для не-
большого числа преподавателей, учеников и последователей.
Помимо больших библиотек, чью славу до нас донесли истори-
ческие источники, об остальных публичных библиотеках эллини-
стической эпохи известно совсем немного.
Хотя существование библиотек при гимнасиях, располагавшихся
в специально отведенных для этой цели помещениях, теперь вызы-
вает сомнение [13], различные археологические источники доказы-
вают, что в некоторых городах эллинистического мира такие биб-
лиотеки все-таки существовали. Вопрос в том, какова была их роль
и кто реально мог ими пользоваться. Создается впечатление, что те,
кто владел навыками чтения, скорее предпочитали обращаться к
ним в частном порядке. Более или менее крупные из дошедших до
нас фрагментов греко-египетских свитков показывают, что это были
главным образом классические тексты. В эллинистическую эпоху
расцвело производство специализированных учебников, таких, на-
пример, как критические работы по филологии и литературе или
труды по военному делу и сельскому хозяйству. Во втором случае
речь, скорее всего, идет о справочных изданиях для специалистов,
чем о сочинениях для широкой публики. В скульптуре и надгро-
биях того времени все чаще встречаются изображения людей, за-
нятых чтением, но в отличие от классической эпохи речь почти
всегда идет о чтении в одиночестве, так что кажется, что между чи-
тателем и книгой в этот период установились более тесные, близ-
кие отношения. От чтения как формы общественной жизни, свой-
ственной греческому полису, люди перешли к чтению как внут-
реннему поиску и способу уйти в себя, что в полной мере отражает
культурное поведение и направления мысли, свойственные элли-
нистической цивилизации.
По сравнению с предыдущим периодом резко увеличилось число
признаков, свидетельствующих о расширении читательской ауди-
тории. Книга вышла за пределы кружков эрудитов-профессионалов,
ее новая роль читается в эпиграммах-посвящениях и уведомлениях
издателей, в которых книга является объектом своего рода привет-
22
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
ствий, или, если выражаться точнее, «говорит». Чтение вслух «дарит
книге душу» точно так же, как, начиная с эпохи архаики, оно «да-
рило душу» различным надписям (на надгробных плитах и предме-
тах личного пользования — верный признак более широкого рас-
пространения письменной речи). Обладая собственной индивиду-
альностью, книга вступает в отношения с читателем и всеми, кто
обращается к ней или «одалживает» ей свой голос. Позже тема «оду-
шевленной» книги будет пользоваться большим успехом у латин-
ских авторов императорского периода — периода наиболее широ-
кого распространения литературы [14].
В эллинистическую эпоху более тесная связь устанавливается не
только между книгой и читателем, но и между читателем и автором,
который старается упростить доступ к своим текстам, особенно если
они сложны для понимания или состоят из нескольких книг. На-
пример, Полибий написал введение к книге XI своей «Всемирной
истории», для того чтобы «привлечь внимание тех, кто хочет читать,
поощрить и подбодрить читателей, дать возможность легко найти
то, что они ищут» (XI, 1 а, 2). Историки в большинстве своем стали
помещать в начале каждого раздела своих трудов его краткое изло-
жение, чтобы упростить чтение и поиск интересующих читателя
сведений. Эту практику подхватили и латинские авторы, как, на-
пример, Овидий, который включал в текст своих произведений внут-
ренние ссылки, связывавшие между собой разные произведения и
сюжеты, или Плиний, поместивший в самом начале своей «Есте-
ственной истории», сразу за посвящением Титу, краткое изложение
содержания всех 36 книг (с указанием использованных им первои-
сточников).
Нет ничего случайного в том, что благодаря софистам, Аристо-
телю и особенно Дионисию Фракийскому была выработана на-
стоящая теория чтения, изложенная в учебниках риторики и трак-
татах по грамматике, представлявшая собой подробный перечень на-
ставлений относительно выразительности голоса в процессе чтения
[15]. Без такого искусства чтения письменные тексты таки остались
бы рядами непонятных значков на папирусе. Любое «чтение» (ana-
gnosis), для самого себя или для слушателей, должно одновременно
быть и «интерпретацией» (hypokrisis) текста при помощи голоса и
жестов, наиболее соответствующих жанру произведения и намере-
ниям автора, в противном случае читатель выставит себя на посме-
шище. Корни такого артистического восприятия процесса чтения
ВВЕДЕНИЕ
23
лежат в ораторском искусстве, которое в свою очередь тесно свя-
зано с актерским мастерством. Отсюда и поиск методов расшиф-
ровки содержащихся в самом тексте указаний, позволяющих до-
биться его правильного прочтения.
ЧТЕНИЕ В ДРЕВНЕМ РИМЕ: НОВЫЕ ТЕКСТЫ И НОВЫЕ КНИГИ
Не вызывает сомнения, что Рим заимствовал у эллинистического
мира и физическую форму свитка (volumen), и некоторые практики
чтения. Этот процесс начался в эпоху Сципионов (III в. до н. э.)
и набрал силу во II в. до н. э. До этого времени письменной куль-
турой пользовались только жрецы и патриции, и трудно себе пред-
ставить, что в Древнем Риме кроме анналов, составленных понти-
фиками, книг толкований предсказаний (commentari augurum), си-
вилловых книг (сборников предсказаний оракулов) и некоторых
других libri reconditi, т. е. книг, хранившихся в потаенных местах, су-
ществовала еще какая-нибудь литература. В домах патрициев можно
было найти архивные документы, отчеты о деятельности магистра-
тов и надгробные речи, но не книги. Начиная с III—I вв. до н. э.
книга стала использоваться гораздо шире, и ее все более широкое
распространение вписывается в общую картину изменений, проис-
ходивших в римском обществе. Однако следует отметить, что почти
всегда речь идет о греческих книгах, таких, например, как те, в ко-
торых авторы комедий искали вдохновения и комических эффек-
тов, т. е. о книгах специального назначения. Появление латинской
литературы тесно связано с греческими образцами и, следовательно,
с греческими книгами.
Поначалу чтение было распространено только среди представи-
телей высших сословий и осуществлялось частным образом. Во II—
I вв. до н. э. греческие книги попадали в Рим в качестве военной
добычи: книги Павла Эмилия, взятые им в 168 г. до н. э. в Маке-
донии, книги Суллы, прибывшие из Афин в 86 г. до н. э., и книги,
полученные Лукуллом в 71—70 гг. до н. э. после его победы над Ми-
тридатом. Книги эти хранились в резиденциях тех, кто их завоевал,
и впоследствии вошли в состав личных библиотек, вокруг которых
собирался тесный круг образованных людей: Полибий рассказывал
о годах своей дружбы со Сципионом Эмилианом и Павлом Эми-
лием, наполненных беседами о книгах, которые они давали ему чи-
24
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
тать. Позже Цицерон будет пользоваться библиотекой Фаустуса
Суллы, сына диктатора, а Катон Утический — читать творения стои-
ков из библиотеки, которую юный Лукулл унаследовал от отца.
К зданиям библиотек богатых римлян, подобно библиотекам элли-
нистического мира, примыкали портики и сады, и это пространство,
первоначально предназначавшееся для книг, стало вскоре «про-
странством для жизни».
Императорская эпоха знаменует собой новый этап, сопровож-
давшийся широким распространением грамотности. Греко-рим-
ский мир (именно о нем отныне будет идти речь, несмотря на то
что придется помнить о различиях между разными временными
периодами, между столицей и провинциями, городом и деревней
и даже разными городами) — это мир, в котором широко рас-
пространена письменная культура. Помимо разнообразных граф-
фити и официальных настенных надписей в обращении находится
множество других письменных текстов: плакаты (их носят во
время шествий), рассказывающие о добрых делах или победных
кампаниях; брошюры и книжонки в стихах или прозе, раздавав-
шиеся в общественных местах в полемических или клеветнических
целях; жетоны с легендами, а также куски ткани с надписями, ка-
лендари, прошения, письма, сообщения. К этому следует добавить
административные и военные бумаги, документы, связанные с от-
правлением правосудия. Это огромный массив письменной про-
дукции, хотя в источниках (прямых и косвенных), которыми мы
располагаем, упоминается лишь малая их часть.
В мире, где многие умеют читать и в обороте находится мно-
жество письменных текстов, растет спрос на книги, который удо-
влетворяется тремя способами. Во-первых, создаются публич-
ные библиотеки и увеличивается число личных библиотек, а также
множатся пособия, призванные руководить читателем в поиске
и приобретении книг; во-вторых, появляются новые (или перера-
ботанные) тексты, предназначенные для читателей нового типа;
в-третьих, начинается производство и распространение нового
типа книг, кодексов (codex), лучше приспособленных к нуждам
новых читателей и требованиям, предъявляемым новыми спосо-
бами чтения.
О роли римских публичных библиотек нам известно немного, од-
нако можно с уверенностью утверждать, что хотя они предназнача-
лись не только для узкого круга элиты, как это было в случае элли-
ВВЕДЕНИЕ
25
мистических библиотек, но все равно оставались «библиотеками
учеными». Хотя официально они и были открыты для всех, на прак-
тике их посещали только образованные читатели, как правило те. у
которых были свои личные библиотеки. Поэтому рост числа таких
библиотек не стоит связывать с увеличением числа читателей. Если
решение о создании такой библиотеки принимал император, то речь
шла о памятнике, призванном сохранить его имя в веках (в таких
библиотеках хранились также архивы), и о том, чтобы отобрать и
систематизировать национальное литературное наследие.
Другие публичные библиотеки создавались частными лицами из
благотворительных соображений как места, где сосредоточивалась
культурная жизнь города.
Проводимый публичными библиотеками отбор текстов был, по
сути, настоящей цензурой, жертвой которой становились не по-
нравившиеся властям тексты, как это случилось, например, с про-
изведениями Овидия. Однако наличие этих книг в обращении и тот
факт, что они дошли до нас, показывают, что, хотя публичные биб-
лиотеки ставили своей целью повлиять на выбор читателей, по-
следние имели право приобретать отвергнутые библиотеками книги
для личного пользования, заказывать переписчикам их копии, чи-
тать их самостоятельно или просить об этом кого-либо другого, что
только увеличивало число имеющихся в обороте экземпляров и уве-
личивало шансы этих произведений сохраниться для последующих
поколений [16].
Конечно, рост числа личных библиотек некоторым образом удо-
влетворял все возраставшие потребности в книгах. И даже в тех слу-
чаях, когда библиотеки создавались только для того, чтобы проде-
монстрировать богатство и показную образованность их владельцев
(выскочки Тримальхиона у Петрония или невежды, высмеянного
Лукианом), они свидетельствуют о том, что в представлении греко-
римского общества того периода книги и чтение составляли неотъ-
емлемую часть жизни обеспеченных людей. Даже Тримальхион из-
редка брал в руки книгу и прочитывал из нее несколько строк; а не-
вежда, над которым потешался Лукиан, никогда не расставался с
книгой и прекрасно владел навыками чтения, хотя и не очень по-
нимал то, что было написано в книгах, которые он читал. Известно,
что в императорскую эпоху увидели свет многие трактаты, посвя-
щенные чтению, которые, к величайшему сожалению, были утра-
чены. Это сочинения «О знании книг» (Connaitre les livres) Телефа
26
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
Пергамского, «О выборе и приобретении книг» (Surle choix et Г ac-
quisition des livres') Эренния Филона и «Библиофил» (Bibliophile) Да-
мофила из Битинии. Все эти работы предназначались для того,
чтобы помочь читателю сделать свой выбор и составить свое пер-
вое книжное собрание. Вероятно, объем книжной продукции в тот
период был уже так велик, а сама она по сравнению с прошедшими
эпохами была столь разнообразна, что в ней либо было трудно ори-
ентироваться, либо читающая публика, включавшая в себя теперь
не одну только образованную элиту, терялась в таком количестве
текстов и затруднялась с выбором.
Вторым ответом на возросшую потребность в чтении стало уве-
личение числа новых текстов. Это сложный вопрос, который мы
рассмотрим на примере Овидия, особенно внимательно относив-
шегося к требованиям и переменам в настроении своих читателей.
Опубликовав две первые книги «Науки любви», он пишет третью,
предназначавшуюся исключительно для женщин. В императорскую
эпоху женщины эмансипировались, некоторые из них получили до-
ступ к письменным текстам и могли прочесть небольшую книжку,
написанную для них Овидием. Образ читающей женщины встре-
чался и в греческих изображениях классического периода, но
именно в императорском Риме читательницы впервые привлекли к
себе всеобщее внимание. Овидий говорит о пустых книжонках, рас-
сказывающих о салонных играх и правилах хорошего тона. Хотя эти
книги читали люди образованные и достаточно культурные, изна-
чально они предназначались для более широкой и недифференци-
рованной публики со средним уровнем образования. Это были тек-
сты, специально написанные или переработанные для новых чита-
телей, не столь высоко интеллектуальных.
Наконец, третьим ответом на возросший спрос на книги стал ко-
декс, книга со страницами, со II в. н. э. начавшая постепенно вы-
теснять свиток. Авторы и переписчики, а, следовательно, и чита-
тели отдали предпочтение кодексу. Возросший спрос привел в на-
чале III в. к разрыву между потребностью в новых текстах (количе-
ство одних только христианских текстов росло, как на дрожжах) и
возможностями традиционного производства свитков, остававше-
гося заложником рабского ручного труда, дорогостоящих ремес-
ленных практик и папируса — импортного сырья, привозимого из
Египта. У кодекса было множество преимуществ: более низкая цена,
поскольку текст занимал обе стороны носителя, использование (за
ВВЕДЕНИЕ
27
пределами Египта) пергамента — продукта животноводства, кото-
рый можно было производить где угодно; более удобная форма, не
требующая особо квалифицированной рабочей силы, которая по-
зволяла распространять его по новым каналам и оставляла читателю
больше свободы действий. Такая форма книги больше подходила
для текстов, к которым все чаще обращались за справками и глу-
боко и подробно изучали, как это было в случае с христианскими
и юридическими сочинениями (их ближе к концу имперского пе-
риода становилось все больше и больше).
СРЕДНИЕ ВЕКА: ОТ МОНАСТЫРСКОГО ПИСЬМА
К СХОЛАСТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ
Кодекс связывал между собой античное и средневековое чтение, но
следует уточнить, что разрыв между новыми и древними практиками
был гораздо глубже на латинском Западе, чем на греческом Востоке
(хотя типология книг была общей для них обоих). Самое главное,
что следует отметить, это центральное место, которое сохраняла
книга в культуре Византии. «Скажи мне, прошу, когда и как при-
дет конец света?» — спрашивает Епифаний у своего учителя свя-
того Андрея Юродивого, и добавляет: «По каким признакам уви-
дим, что подошли сроки. Как исчезнет наш город, этот новый Ие-
русалим? Что произойдет ... с книгами?» (PG, III, 854 а). Этот текст
лучше, чем какой-либо другой, показывает, что книга была главным
инструментом византийской цивилизации, в полном смысле ос-
новным ее объектом. В Византии на протяжении всей эпохи Сред-
невековья сохранялась система общественного и частного образо-
вания, как начального, так и высшего, а грамотность, которую под-
держивала преемственность бюрократических институтов и в сто-
лице, и в провинции, была потребностью светского общества, так
что все, поступавшие в церковные учреждения, уже умели читать и
писать. В Византии действовали читательские кружки и частные
библиотеки, книга оставалась товаром, который производили ре-
месленники — копиисты (а иногда и монахи) или переписчики-
любители; на литургии широко использовали свитки, хотя текст
на них и располагался иначе, чем во времена Античности. Суще-
ственное значение имеет тот факт, что основным способом чте-
ния в Византии оставался способ, сформулированный Дионисием
28
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО. РОЖЕ ШАРТЬЕ
Фракийским много веков назад и регулярно воспроизводившийся
византийскими комментаторами его произведений. При чтении
любой книги читателю предписывалось сосредоточить свое вни-
мание на заглавии книги, авторе, его намерениях, соразмерности
частей, структуре и воздействии текста, что предполагало систе-
матическое чтение и глубокое осмысление прочитанного [17].
Сохранился также античный обычай читать вслух, сближав-
ший письменную речь с устной, речью проповедующей и провоз-
глашающей, тогда как средневековый латинский Запад отдавал
предпочтение чтению шепотом или чтению про себя. Унаследо-
ванный от Античности и хранившийся в памяти язык культуры и
риторических формул, теперь уже навсегда застывших (то, что
можно назвать «византийской культурной археологией» [18]), лишь
отчасти объясняет приверженность традиционным способам чтения.
Главу об истории чтения в Византии еще только предстоит напи-
сать, это — «новый рубеж» для историков письменной культуры.
На латинском Западе, напротив, трещина оказалась очень глу-
бокой. Если в Античном мире художественные произведения чи-
тали для развлечения в садах и под сенью портиков, а письменные
тексты в изобилии были представлены на улицах и площадях, что
давало дополнительные возможности для чтения, западный мир
раннего Средневековья признает только чтение под сводами церк-
вей и келий, в трапезных, клуатрах и религиозных школах или —
редко — при дворах государей. К тому же чтение это часто ограни-
чивалось Священным Писанием и текстами духовного содержа-
ния. Только в околоцерковных кругах и монастырях процветали
поэмы, сочиняемые во славу книг, библиотек и чтения, размыш-
ления над ними могли бы помочь понять раннесредневековые
представления о чтении. Точно так же именно в церковных поме-
щениях сосредоточивались надгробия с надписями, предназна-
чавшимися ограниченному кругу читателей. Несмотря на то что во
многих из них использована формула «О ты, который читает...» —
«призыв к читателю», сохранившийся со времен Античности и
пришедший из давно исчезнувшего мира, в котором многие умели
читать, — традиция была прервана.
Другое существенное изменение, произошедшее с чтением в
средневековой Европе, — это переход от чтения вслух к чтению ше-
потом или чтению про себя. Тому было много причин: книги чи-
тали главным образом для того, чтобы познать Бога или спасти свою
ВВЕДЕНИЕ
29
душу, поэтому их следовало понимать, над ними надо было раз-
мышлять, их надо было заучивать наизусть. Сама форма кодекса,
делившая текст на отрывки, облегчала его многократное прочтение,
а сопоставление различных отрывков было своего рода приглаше-
нием к чтению и размышлению. Общинная жизнь большинства мо-
настырей, под сенью которых чаще всего находилось место чтению,
вынуждала говорить тихим голосом. Словом, изменилось назначе-
ние книги и способ ее использования. Читали мало, хотя писали
много, потому что утомительная работа по переписыванию текстов
сама по себе была молитвой, «творимой не устами, а рукой» (Петр
Достопочтенный, Epist. 1, 20). Работа над книгой, не обязательно
предназначавшейся для прочтения, — не только благое дело или
способ спасти свою душу, но и церковное достояние, которое в
самых священных, драгоценных и монументальных формах пре-
вращалось в символ священной тайны.
Образованные люди, которые, подобно Ратье, епископу Верон-
скому, жили, «уткнувшись носом в книгу» (Qualitatis coniectura, 2),
встречались редко. Читали всего несколько видов книг, причем чи-
тали их только при определенных обстоятельствах и в определен-
ное время (в монастырях во время Великого поста). Отсутствие до-
статочной практики мешало быстро распознавать слова и фразы,
чего требовало чтение вслух, поэтому приходилось читать про себя
или в лучшем случае шепотом, похожим на жужжание пчел. Пря-
мым следствием использования такого метода стало разделение тек-
ста на слова, приспособленное к типу чтения, больше не зависящего
от ритма произносимой оратором фразы; использование графиче-
ских условных знаков — litterae notabiliores — для того чтобы напра-
влять взгляд в его путешествии по партитуре текста; применение
новых правил пунктуации и новых знаков для ее обозначения, по-
скольку теперь она служила не для разметки текста как способа вы-
разительного чтения вслух, а для облегчения понимания текста или
совершенно определенного его восприятия. Ниже Малкольм Паркс
(Malcolm Parkes) подробно описывает этот процесс.
Точно так же, как в Античном мире то там, то тут мы встреча-
емся с чтением про себя, в Средневековье помнили о возможности
чтения вслух: этот способ применялся при чтении литургических и
поучительных текстов в храмах и монастырских трапезных или в ка-
честве школьных (или индивидуальных монашеских) упражнений.
Публичное чтение вслух использовалось, кажется, только при чте-
30
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
нии исторических сочинений. Хотя в данную эпоху нормой мог
быть либо один, либо другой способ чтения, следует избегать рез-
кой дихотомии, поскольку во все времена читатели практиковали
промежуточные варианты чтения, такие, как чтение шепотом и чте-
ние вполголоса. Вспомним Апулея, призывавшего читателей во
вступлении к «Метаморфозам» читать его произведения lepido su-
surro («милым лепетом»), или монаха, тихим голосом пережевы-
вающего слова (ruminatio).
Между концом XI и началом XIV в. начался новый этап в исто-
рии чтения. Возродились города, а с ними и школы, являвшиеся по
определению местом, где должна была присутствовать книга. Воз-
рос уровень грамотности, письменность развивалась на всех уров-
нях, способы использования и форма книги становились все более
разнообразными. Письмо и чтение, разделенные в раннем Средне-
вековье, сблизились и отныне целиком зависели друг от друга, со-
ставляя единое целое. Читали для того, чтобы писать, для компи-
лирования (compilatio), которое являлось специфическим методом
сочинительства, применявшимся схоластами. И главное, теперь пи-
сали для читателей.
Люди начали читать больше, и читали они по-другому. Теперь не-
достаточно просто разбирать написанные буквы (littera) — это всего
лишь первый этап, от которого следует переходить к пониманию
смысла текста (sensus), для того чтобы в конечном счете усвоить всю
полноту изложенного в нем учения (doctrina) [19]. Книга и чтение
должны подчиняться рассудку (ratio), с которым Петрарка беседует в
своем труде De librorum copia, осуждающем страсть к бессмысленному
накоплению книг и намечающем основы теории (и истории) чтения
как деятельности, конечной целью которой является возможность
«хранить» книги в голове, а не на «книжных полках» [20]. Таковы ос-
новные черты схоластической, университетской модели чтения, мо-
дели, глубоко проникшей в письменность, фактически создавшей
жанр комментария и обеспечившей рост его влияния.
Книга или, лучше сказать, написанная страница, созданная для
чтения, изучения, комментирования и толкования, приняла вид,
наиболее соответствующий ее функции. Для того чтобы ускорить
процесс чтения, пользуются сокращениями; пространство стра-
ницы делят на два довольно узких столбца — каждый из них можно
целиком охватить взглядом, что также облегчает его усвоение; текст
делится на фрагменты, призванные облегчить его понимание. Сло-
ВВЕДЕНИЕ
31
вом, как показывает Жаклин Амесс, родилась книга как инстру-
мент интеллектуального труда. Книга превратилась в источник, из
которого будут черпать знания, или, правильнее сказать, сведения,
она перестала быть носительницей знания, которое следует «пе-
режевывать» или просто хранить. Благодаря использованию раз-
нообразных графических приемов, текст на странице раздроблен
на части и больше не воспринимается как единое целое, цель чте-
ния — ознакомление с отдельными отрывками, а не со всем тек-
стом целиком. На смену целостному, медленному, внимательному
и многократному чтению небольшого количества сочинений в
эпоху схоластики — свидетельницы бесконтрольного увеличения
числа текстов и роста потребности в знании, ставшим фрагмен-
тарным, — пришло такое же отрывочное и фрагментарное чтение
большого количества книг.
Если в период раннего Средневековья тексты разбивались на
небольшое количество разделов не столько специальными знаками,
сколько орнаментальными приемами (выделение заглавных букв
цветом, смена почерка, различные украшения), теперь для облег-
чения чтения и быстрого поиска в книге необходимых отрывков
стали применять целую систему вспомогательных приемов: рубри-
кацию, деление текста на параграфы, присвоение названий отдель-
ным главам, отделение текста от комментария к нему, оглавление,
конкордансы и параллельные места, алфавитные указатели.
Одновременно изменяется и пространство, в котором суще-
ствует книга. В ХШ в. вместе с появлением нищенствующих ор-
денов появляются и библиотеки, предназначенные, прежде всего,
для чтения, а не для собирания и хранения наследия; так появи-
лось библиотечное дело, в основе которого лежал каталог, пони-
маемый отныне не как простой список, но как справочный ин-
струмент, предназначенный для определения места книги в дан-
ной библиотеке или в других библиотеках одного и того же ре-
гиона. Появился и контрольный листок, на котором записывали
количество выдач. С архитектурной точки зрения эта новая биб-
лиотека представляла собой длинный зал со свободным проходом
посередине, по обеим сторонам которого параллельными рядами
стояли пюпитры, к которым цепями были прикованы книги, пред-
лагаемые для чтения и исследования. План этого читального зала
отчасти повторял план готического собора, и сходство их выхо-
дило далеко за пределы одной только пространственной органи-
32
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
зации. Оно подчеркивало новые требования, которые предъявляла
к библиотеке готическая цивилизация. Библиотека покинула мо-
настырское уединение и тесные помещения, которые выделяли ей
под сводами соборов епископы, и превратилась в просторное го-
родское здание. Как церковь становится декорацией (различные
изображения, стрельчатые арки, цвет), радующей глаз, так и биб-
лиотека начинает выглядеть как декорация, созданная из книг, на
которые можно смотреть и которыми можно пользоваться. Этот
новый тип библиотек характеризовался также царящей в них ти-
шиной. Книгу листали в тишине, нарушаемой лишь едва слыш-
ным позвякиванием цепей, которыми книги крепились к пюпит-
рам. В тишине искали по доступному для всех каталогу произве-
дения нужного автора. И, наконец, книгу, приспособленную те-
перь исключительно для зрительного восприятия, читали в
тишине, потому что все читатели библиотеки одиноки, хотя и со-
браны в одном помещении.
Пол Сенгер утверждает, что визуальное чтение, которому ничто
не мешало, повлияло (пусть не прямо, а косвенно) на способы поль-
зования книгой, развитие критического отношения к написанному,
интеллектуальную деятельность, религиозные практики, зарождение
инакомыслия и эротизм.
Распространение грамотности среди мирян в XIII—XIV вв. по-
влекло за собой появление новых моделей чтения, отличавшихся от
схоластической и университетской моделей: именно в эту эпоху
появились книги на народных языках, иногда принадлежавшие перу
самих читателей [21]. Хотя у книг на народных языках достаточно
образованных читателей, главные их потребители — торговые люди
и более или менее грамотные ремесленники, не знающие латыни.
Другая модель чтения — та, что практиковалась в среде европей-
ской придворной аристократии, среди которой часто встречались
весьма образованные люди. У принцев и грандов, как правило, можно
было найти книги развлекательные и книги духовного содержания,
предназначенные не только для чтения: они являлись украшением,
знаком принадлежности к самому изысканному, самому «куртуаз-
ному» обществу. Эти книги, богато украшенные миниатюрами, в пе-
реплетах из дорогих кож и тканей, инкрустированных драгоценными
камнями и металлами, наглядно демонстрировали богатство и рос-
кошь их владельцев. Эти предметы напоминали, воплощали и про-
славляли великолепие самого принца и его двора. Эти книги заказы-
ВВЕДЕНИЕ
33
вали у самых опытных книготорговцев, получали в подарок и насле-
довали, позже из них создавались придворные библиотеки, разительно
отличающиеся по своему содержанию от библиотек церковных: в них
преобладали книги на народных языках, воспевающие войну и лю-
бовь, рассказывающие чудесные истории, «популяризирующие» про-
изведения классической древности. В их латинских разделах содер-
жались богословские труды, библии, часословы и требники. В XV в.
именно в этих библиотеках появились, одновременно с зарождением
гуманизма, подлинные сочинения греческих и латинских классиков.
Сильные мира сего часть своего свободного времени посвящали чте-
нию этих книг, но читали они их не собственно в библиотеке, а в дру-
гих комнатах своих дворцов, предназначенных специально д ля отдыха
и общения.
НОВОЕ ВРЕМЯ: РАЗНООБРАЗНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЧТЕНИЯ
Между XVI и XIX вв. география распространения различных моде-
лей чтения в западном мире зависела, прежде всего, от происхо-
дивших в этот период исторических изменений, которые включали
отношение к письменной культуре в общий контекст распростра-
нения грамотности, религиозного выбора и темпов индустриализа-
ции, сильно отличающихся от страны к стране. Эти различия уста-
новили труднопреодолимые границы между Европой, рано ставшей
грамотной, и Европой, в которую грамотность пришла позднее;
между странами, оставшимися католическими, и странами, при-
нявшими реформацию; между рано развившимися регионами и ре-
гионами, длительное время сохранявшими традиционные методы
ведения хозяйства. Эти различия проявились в наличии или отсут-
ствии цензуры, в издательской деятельности, книготорговле и книж-
ном рынке. Они также определяли сроки, в которые происходили
«революции» в чтении: та, что в период между Средними веками и
началом Нового времени превратила чтение про себя отдельных
людей в общепринятую практику и глубоко усвоенную норму; та,
что между XVIII и XIX вв. близко познакомила читателей с печат-
ной продукцией, ставшей более доступной и готовой использовать
различные издательские новшества.
Географические различия в истории чтения нашли свое отраже-
ние в имеющихся в нашем распоряжении источниках. Конечно,
34
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО. РОЖЕ ШАРТЬЕ
многие документы встречались повсеместно, или почти повсе-
местно. Это и перечни имущества покойников, из которых мы уз-
наем, насколько разнится количество книг в личных библиотеках
и каков их состав; и каталоги книжных лавок и библиотек, прода-
ваемых с молотка, — они дают возможность судить о предложении
на книжном рынке; и уставные документы и каталоги учреждений,
начиная с XVIII в. Их можно было читать, не приобретая в соб-
ственность: с одной стороны, в библиотеках, выдающих книги на
дом (circulating libraries, cabinets litteraires, Leihbibliotheken), с дру-
гой — в литературных обществах (books clubs, subscription libraries,
chambres de lecture, Lesegesellschafteri). Это и подписные листы, в ко-
торых указывались имена дарителей и потенциальных читателей
того или иного произведения.
Возможности более точно определить особенности оборота книг
или моделей чтения на основе изучения этих целостных и серийных
архивов сильно различаются в зависимости от положения в стране.
В европейском Средиземноморье и его колониях следователи на до-
просах собирали от заключенных сведения о том, какие книги те проч-
ли, каким образом они к ним попали и, самое главное, как они их по-
няли. В странах Северной Европы и британских колониях в Амери-
ке рассказы простых людей о прочитанных ими книгах надо искать
в других местах: в духовных автобиографиях, писать которые требо-
вали строгие пуританские и пиетистские правила; в рассказах о жиз-
ненном пути, следуя которому человек пришел от смиренного не-
вежества к высокой культуре; в семейных дневниках, газетах и мемуа-
рах, которые, благодаря распространению грамотности, перестали
быть достоянием одних только именитых граждан и образованного со-
словия; или — случай совершенно исключительный — в письмах, ко-
торые некоторые читатели писали авторам или издателям.
В каждом национальном ареале, языковом или культурном, бы-
тующие в нем модели чтения находятся в центре основного истори-
ческого процесса. В Италии, Испании, Португалии, да и во Франции,
в которой, правда, инквизиция не захватила столь сильные позиции,
читатели были вынуждены опасаться цензуры и обходить церковные
и государственные запреты, ставящие препятствия на пути распро-
странения идей, которые признаны представляющими угрозу авто-
ритету католической церкви и абсолютной власти монархов. В Гер-
мании новый тип чтения, распространившийся во второй половине
XVIII в. и характеризуемый как Leserevolution, соединил глубокое рас-
ВВЕДЕНИЕ
35
пространение информации (Aujklarung) с формированием нового об-
щественного пространства. В Англии промышленная революция
искоренила традиционные модели чтения и спустя какое-то время по-
родила новые категории читателей и новый рынок печатной продук-
ции. Всякий раз исследование моделей и способов чтения позволяет
по-новому увидеть и оценить какое-нибудь важное историческое со-
бытие или особенность национального самосознания: гнет запретов,
установленных во времена католической контрреформации, особен-
ности немецкого просвещения, формирование взаимоотношений
между представителями различных классов (и взаимоотношений
между полами) в протестантских сообществах Англии и Америки.
РЕВОЛЮЦИИ В ЧТЕНИИ
Первое изменение, оказавшее влияние на модели чтения в Новое
время - это изменение техническое. В середине XV в. оно произ-
вело переворот в способах тиражирования текстов и изготовления
книг. С появлением наборного шрифта и печатного станка руко-
писная копия перестала быть единственным средством, гарантирую-
щим размножение и введение в читательский оборот письменных
текстов. Изобретение Гутенберга увеличило количество имеющихся
в обороте текстов до невозможного прежде уровня; резко снизило
цену книги, стоимость производства которой теперь распределялась
на все экземпляры одного тиража; сократило сроки ее изготовления,
которые во все время существования рукописной книги оставались
весьма длительными даже после изобретения pecia и деления пред-
назначенной к переписыванию книги на отдельные тетради. Теперь
каждый читатель имел доступ к большему количеству книг, а каждая
книга могла дойти до большего числа читателей. К тому же книго-
печатание делало возможным идентичное (или почти идентичное,
учитывая возможные исправления во время изготовления тиража)
воспроизведение текстов в большом количестве экземпляров, что из-
меняло условия их передачи и восприятия.
Но следует ли из этого, что изобретение и распространение кни-
гопечатания само по себе произвело принципиальную революцию в
чтении? Возможно, что нет, и по многим причинам. Прежде всего,
совершенно ясно, что внедрение новой техники не изменило основ-
ные параметры книги. По крайней мере до начала XVI в. печатная
36
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО. РОЖЕ ШАРТЬЕ
книга сохраняла свою зависимость от манускрипта, воспроизводя его
структуру, шрифты и внешний вид. Для того чтобы старопечатная
книга приобрела свой окончательный вид, необходимо участие не-
скольких пар рук: иллюминатор пишет миниатюры и инициалы, укра-
шенные узорами, виньетками и различными изображениями; кор-
ректор, или emendator, расставляет знаки препинания, подзаголовки
и заголовки, и, наконец, сам читатель оставляет на страницах книги
свои значки, пометки и маргиналии.
Помимо этой прямой зависимости, книга как до, так и после Гу-
тенберга остается все тем же предметом, состоящим из сложенных ли-
стов, сшитых в тетради, собранные под одним переплетом. Поэтому
неудивительно, что все системы маркировки, приспособленные для
нужд книгопечатания, были изобретены значительно раньше. Так,
пометы, сигнатуры или предречия, позволяют собирать тетради в нуж-
ном порядке, а различные ориентиры помогают чтению: это и нуме-
рация страниц, столбцов и строк; и зрительное деление страницы на
части (с использованием иллюминированных инициалов, заголовков
и краевых букв); и установление не только пространственной, но и
смысловой связи между текстом и глоссами; и выделение разноцвет-
ными чернилами текста и комментариев к нему. Благодаря делению
на тетради и простоте внутреннего устройства рукописный или пе-
чатный кодекс легко поддается индексированию. Различные конкор-
дансы, алфавитные и тематические указатели были распространены
еще в период господства манускриптов, и этот способ организации на-
писанного, придуманный еще в монастырских скрипториях и лавках
стационариев, был взят на вооружение печатниками.
Наконец, именно в последние века существования рукописной
книги установилась сохранявшаяся долгое время иерархия форматов,
различавшая фолианты, libro da banco, которые читались на столе или
пюпитре и были книгами, предназначавшимися для обучения и уни-
верситетских штудий; более удобные в обращении книги среднего
формата, в котором печатались труды классиков и литературные но-
винки; и, наконец, libellus — книги переносные, карманные, созда-
вавшиеся для различных целей и в интересах самых многочисленных
и наименее обеспеченных читателей. Печатная книга унаследовала
это деление, объединив формат книги, ее содержание, обстоятель-
ства и способ ее чтения.
Существует еще одна причина, подчеркивающая преемствен-
ность между print culture и scribal culture. Изобретение книгопечата-
ВВЕДЕНИЕ
37
ния никак не повлияло на длительный путь, через который прохо-
дят абсолютно все читатели, сколь бы ни было велико их число. Это
путь от чтения вслух — проговаривания слов, необходимого для по-
нимания смысла прочитанного, к чтению про себя, только при по-
мощи глаз. Если в Античности оба способа чтения сосуществовали
на равных, то, как показывает Пол Сенгер (Paul Saenger), в Сред-
ние века практика чтения про себя, поначалу бытовавшая лишь в
среде монастырских переписчиков, широко распространилась в
университетах и стала в XIV—XV вв. привычной для светской ари-
стократии и образованных кругов. После Гутенберга движение про-
должилось в том же направлении, практика чтения одними глазами
распространилась среди самых широких слоев читателей. Пример
обратного развития мы можем наблюдать в современном западном
обществе, где «неграмотной» считается не только та часть населе-
ния, которая вообще не умеет читать, но и все, пока еще весьма мно-
гочисленные читатели, способные понимать текст только в том слу-
чае, если они читают его вслух.
Таким образом, первая «революция в чтении», произошедшая в
Новое время, никоим образом не зависит от технологии, изменив-
шей в XV в. процесс изготовления книги. Корнями она уходит го-
раздо глубже — в те сдвиги и мутации, которые в ХП—XIII вв. из-
менили саму функцию написанного текста, когда на смену мона-
стырской модели, возлагавшей на записанные тексты функцию хра-
нения и запоминания, мало связанную собственно с чтением,
пришла модель схоластическая, превратившая книгу в объект и ин-
струмент интеллектуальной деятельности. Различие между умением
читать про себя и вынужденным чтением вслух является здесь ос-
новополагающим. Чтение про себя устанавливает между текстом и
читателем более свободную, сокровенную, внутреннюю связь. Оно
предоставляет возможность читать быстро и легко, не смущаясь ни
сложностью расположения текста на странице, ни разнообразием
связей между текстом, глоссами, цитатами, комментариями и ука-
зателями. Оно позволяет по-разному использовать одну и ту же
книгу, которую читают вслух для других или вместе с другими, когда
того требует общество или обычай, или про себя в тиши кабинета,
библиотеки или часовни. Революция в чтении, таким образом, пред-
шествовала революции в способе производства книг, потому что
образованные клирики и знатные миряне начали читать про себя
гораздо раньше середины XV в. Принятый ими новый способ об-
38
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
ращения с письменным словом не следует поспешно приписывать
только техническому новшеству — изобретению книгопечатания.
То же, по всей видимости, можно сказать и о второй «револю-
ции в чтении» Нового времени, которая случилась раньше инду-
стриализации печатной отрасли. Классическое утверждение гласит,
что во второй половине XVIII в. на смену «интенсивному» чтению
пришло чтение «экстенсивное». «Интенсивный» читатель имеет дело
с ограниченным количеством книг, которые он читает и перечиты-
вает, запоминает и пересказывает, выучивает наизусть и передает
из поколения в поколение. Религиозные тексты, а в протестантских
странах в первую очередь Библия, были привилегированным объек-
том для этого вида чтения, носившего глубоко сакральный харак-
тер. «Экстенсивный» читатель — читатель периода «читательской
лихорадки» (Lesewut), охватившей Германию во времена Гёте, со-
вершенно иной: он поглощает несметное количество разнообразных
печатных текстов-однодневок, читает быстро и жадно; на все смо-
трит критическим взглядом, и нет ни одной области, которую он не
подверг бы сомнению. Уважительное отношение к написанному
слову, пронизанное почтением и послушанием, уступило место сво-
бодному, непринужденному и дерзкому чтению.
Это тезис спорный, и об этом спорили много. В самом деле, в
период «интенсивного» чтения было много «экстенсивных» читате-
лей. Вспомним об образованных гуманистах. Два предмета симво-
лизируют их способ чтения: «книжное колесо»*, позволявшее од-
новременно читать несколько книг, и сборники общих мест, кото-
рые под различными рубриками включали разнообразные цитаты,
сведения и замечания, собранные самими читателями. Речь идет об
ученых читателях, которые накапливали вычитанные из книг све-
дения, делали выписки, сравнивали, а у некоторых, самых образо-
ванных из них, такой метод чтения приобретал черты филологиче-
ской критики.
Однако именно во время второй «революции в чтении» с появ-
лением на рынке произведений Руссо, Бернардена де Сен-Пьера,
Гёте и Ричардсона наступает время самого что ни на есть «интен-
сивного» чтения, когда роман овладевает всеми мыслями и чув-
ствами читателя, привязывает его к себе и руководит его поведе-
* «Книжное колесо» — приспособление, поворачивающее полки, на которых ле-
жали книги, что позволяло быстро переходить от одной к другой. — Прим. науч. ред.
ВВЕДЕНИЕ
39
нием так, как прежде делали это священные тексты. Чтение
«Новой Элоизы», «Поля и Виргинии», «Страданий юного Вер-
тера», или «Памелы» переносит на новые литературные формы
старинный способ чтения. Роман постоянно перечитывают, выу-
чивают наизусть, цитируют и пересказывают. Его читатель — раб
текста, он живет в нем, отождествляет себя с его героями и тол-
кует свою собственную жизнь через призму вымышленных собы-
тий. При таком «интенсивном» чтении нового типа задейство-
ваны все чувства. Читатель (а чаше читательница) не может сдер-
жать ни своих эмоций, ни слез, сам берется за перо, чтобы напи-
сать автору, который, благодаря своему творчеству, превращается
в духовника и учителя жизни.
и- Читатели романов — не единственные «интенсивные» читатели
этой «революции в чтении». Самые многочисленные читатели до-
вольствовались произведениями народной литературы, написан-
ными по старинным образцам. Чтение книг из «Голубой библио-
теки» (Bibliotheque Ыеие), народных сказок преданий и легенд (cha-
pbooks) и literatura de cordel долгое время оставалась явлением ред-
ким, трудной задачей, предполагающей слушание и запоминание.
^Тексты, составлявшие основу народной литературы, усваивались
легко, и легкость эта была основана на узнавании (жанров, произ-
ведений, мотивов) больше, чем на открытии чего-либо нового, что
не соответствовало ожиданиям вечно спешащих, ненасытных и
скептически настроенных читателей.
Констатация этих фактов заставляет усомниться в справедли-
вости слишком прямолинейного и резкого противопоставления двух
типов чтения. Но они — эти факты — не противоречат утвержде-
нию Рейнхарда Виттмана (Reinhard Wittmann), что во второй поло-
вине XVIII в. имела место еще одна «революция в чтении». При-
знаки ее видны в Англии, Германии и Франции: развитие книгоиз-
дания, увеличившего к 1780 г. количество издаваемой литературы в
три или четыре раза по сравнению с началом столетия, быстрый рост
числа газет, триумфальное шествие книг малого формата, сниже-
ние стоимости книги, благодаря появлению контрафактной про-
дукции, создание организаций, позволяющих читать книгу, не при-
обретая ее в собственность: литературные общества, с одной сто-
роны, и книжные лавки, выдающие книги налом, — с другой. Часто
Повторяющийся у художников и писателей конца века сюжет кре-
огьянского, патриархального, библейского чтения, когда отец се-
40
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
мейства перед сном читает вслух собравшимся вокруг него домо-
чадцам книгу, свидетельствует о том, что общество сожалело об ут-
раченной к тому времени модели чтения. Идеализированное изо-
бражение сельской жизни, дорогое для образованной элиты, со-
вместное чтение символизирует мир, где книга пользуется уваже-
нием и авторитетом. Этот вымышленный образ, очевидно, призван
обличать широко распространившиеся привычки противоположного
свойства, привычки городские, небрежные, развязные. «Читатель-
ская лихорадка», признанная опасной для государственного устрой-
ства, искажающая истинный смысл Просвещения, лихорадка, кото-
рую сравнивали с «наркотиком» (по выражению Фихте) и называли
«расстройством ума и чувств», поражает всех современных наблюда-
телей. Она, без сомнения, стала главной причиной разрыва (во всей
Европе, а во Франции в особенности) между подданными и госуда-
рями, между христианами и Церковью.
В наше время электронная передача текстов и диктуемый ею
способ чтения свидетельствуют о третьей со времен Средневековья
«революции в чтении». Читать с экрана — это совсем не то, что
читать кодекс. Новая форма записанного слова меняет в первую
очередь понятие контекста, на место физической сопряженности
текстов, сосуществующих в границах одного предмета (книги, га-
зеты, журнала), приходят логические структуры, лежащие в основе
всех баз данных, электронных картотек, перечней ключевых слов,
обеспечивающих доступ к информации. По-новому определяется
«материальность» произведений, разрывается физическая связь,
существовавшая между печатным объектом (или манускриптом) и
одним или несколькими входящими в него текстами. Сейчас чи-
тателю, а не писателю или издателю, дается право членить текст,
разбивать его на части и самостоятельно решать, в каком виде он
будет выведен на экран. Таким образом, полностью разрушена вся
прежняя система идентификации и пользования текстами. Читая
с экрана, сегодняшний читатель, - а завтрашний тем более, — воз-
вращается к методу, отчасти напоминающему тот, которым поль-
зовался античный читатель при чтении свитка (volumen). Однако
разница между этими способами чтения все же очень велика: на
компьютере текст разворачивается в вертикальной плоскости и
снабжен всеми маркировками, свойственными кодексу: пагина-
ция, указатели, таблицы и т. д. Соединение в одном объекте со-
вершенно разных принципов организации текста, которыми поль-
ВВЕДЕНИЕ
41
зовались при чтении предшествовавших рукописных или печатных
книг (свиток, кодекс), ясно указывает на новое, оригинальное и
ранее не известное отношение к тексту.
Оно полностью вписывается в начавшийся процесс изменения
«экономики письма». Обеспечивая возможность одновременно соз-
давать, передавать и читать один и тот же текст, соединяя в одном лице
функции, ранее принадлежавшие разным людям: функции автора,
издателя и распространителя текстов, — электронное воспроизведе-
ние текста аннулирует прежние различия между интеллектуальной и
социальной деятельностью. Оно обязывает дать новые определения
всем категориям, которые до настоящего времени характеризовали
ожидания и восприятие читателей. Это касается как правовых поня-
тий, определяющих статус произведения (copyright, авторское право,
интеллектуальная собственность и т. д.), так и эстетических катего-
рий, которые, начиная с XVIII в., характеризуют всякое произведе-
ние (полнота, неизменность, оригинальность), а также положений
нормативных актов (обязательный экземпляр, национальная библио-
тека) и библиотековедческих терминов (каталогизация, предметиза-
ция, библиографическое описание), которые были сформулированы
для других способов производства, хранения и передачи информации.
В мире электронных текстов могут быть отменены два прежде
обязательных правила. Первое - ограничивающее возможность вме-
шательства читателя в текст. Начиная с XVI в., т. е. с того момента,
как печатник взял на себя заботу о значках, пометах и заголовках,
которые во время инкунабул добавлялись от руки корректорами или
владельцами книг, читатель мог размещать свои заметки только на
свободных от текста и рисунков участках книг. Печатный объект на-
вязывал ему свою форму, структуру и свободное пространство и не
предполагал никакого материального, физического воздействия со
стороны того, кто его читает. Если же читатель во что бы то ни стало,
хотел письменно зафиксировать свое присутствие, он мог сделать
это только тайком, заняв те места в книге, которые были оставлены
свободными при верстке текста: внутренние стороны переплета, чи-
стые листы, поля и т. д.
С электронными текстами дело обстоит совершенно иначе. Чи-
татель имеет возможность не только производить с ними различ-
ные операции (индексировать, аннотировать, копировать, переме-
щать, менять структуру и т. д.), но, более того, он может стать их
соавтором. Различие между письмом и чтением, между автором
42
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
текста и его читателем, немедленно бросающееся в глаза в печат-
ной книге, стирается и уступает место новой реальности: сидящий
перед экраном читатель становится одним из действующих лиц на-
писания текста, или, по крайней мере, он имеет возможность соз-
дать новый текст из произвольно выбранных и вновь собранных
фрагментов старого. Подобно владельцу манускрипта, который мог
соединить в одном сборнике самые различные произведения, чи-
татель электронной эры может по своему усмотрению создавать
оригинальные текстовые ансамбли, структура, вид, да и само су-
ществование которых зависят исключительно от него самого. Более
того, он в любой момент может вмешиваться в тексты, изменять их
и переписывать, делать их своими. Так коренным образом изме-
нилось отношение к написанному тексту.
Кроме того, электронный текст впервые позволяет избавиться и
от другого ограничения. Со времен Античности людей Запада тре-
вожило противоречие между мечтой об универсальной библиотеке,
в которой были бы собраны все когда-либо написанные тексты, все
когда-либо изданные книги, и неизбежно не оправдывающей этих
надежд действительностью, реальными библиотеками, которые, как
бы велики они ни были, дают лишь фрагментарную, неполную и
отрывочную картину универсального знания. Запад дал человече-
ству два мифических прообраза этой немыслимой и страстно же-
лаемой исчерпывающей полноты: Александрийскую и Вавилонскую
библиотеки. Электронные средства информации, позволяющие пе-
редавать тексты на расстоянии, уничтожают до сих пор оставав-
шуюся неустранимой границу между местом, где находится текст,
и местом, где находится читатель. Они делают возможным осу-
ществление древней мечты. Текст в его электронной версии, осво-
божденный от материальности, пространственно не связанный с
местом, где хранится его оболочка, теоретически может стать до-
ступным любому читателю, где бы тот ни находился. Если предпо-
ложить, что все существующие тексты, как рукописные, так и пе-
чатные, будут оцифрованы, то станет возможен и доступ ко всей
полноте письменного наследия человечества. Любой читатель, где
бы он ни находился, при условии, что в его распоряжении имеется
читательский терминал, соединенный с сетью, обеспечивающей рас-
пространение оцифрованных документов, сможет обратиться к лю-
бому тексту, читать его и изучать вне зависимости от того, в какой
форме и где находится оригинал.
ВВЕДЕНИЕ
43
Как показывает Армандо Петруччи, традиционное чтение во всех
его видах в современном мире вступает в жесткую конкуренцию с ви-
зуальными образами, и общество рискует утратить весь набор кодов,
правил и поведенческих навыков, которых требовали школьные и со-
циальные нормы. К этому «кризису» добавляется еще один, пока еще
не очень заметный и по-разному ощущающийся в разных странах. Он
приводит к изменению характера носителей письменных текстов и вы-
нуждает читателя менять свои прежние привычки на новые, исполь-
зовать новые интеллектуальные практики. От кодекса к экрану — шаг
столь же значимый, как и тот, который культура сделала когда-то, пе-
рейдя от свитка к кодексу. Он поставил под сомнение существование
целого мира книг, к которому, начиная с первых веков христианской
эры, привыкли читатели. Повсеместно утверждаются или навязы-
ваются новые способы чтения, которые пока еще невозможно пол-
ностью описать, но которые, без сомнения, предполагают овладение
иными, невиданными ранее навыками.
ТИПОЛОГИЯ
Отмеченная тремя революциями история чтения от Средних веков
до XX в. выявляет несколько основных моделей, которые последо-
вательно доминировали в обществе. Первая из них, проанализиро-
ванная в книге Энтони Грефтона, может быть охарактеризована как
«гуманистическая». Она применима к ученому чтению эпохи Воз-
рождения с его специфическими интеллектуальными приемами:
техникой «общих мест».
Носителем и символом этого способа чтения служат два пред-
мета. Первый из них — «книжное колесо». Оно появилось гораздо
раньше, но инженеры эпохи Возрождения, воспользовавшись ус-
пехам механики, существенно его усовершенствовали. «Книжное
колесо», приводимое в движение сложной системой шестерней, по-
зволяет читателю одновременно иметь перед собой несколько рас-
крытых книг, расположенных на пюпитрах, которыми снабжен ап-
парат. Этот инструмент дает возможность читать несколько книг од-
новременно! Читатель, владеющий этими навыками, сопоставляет,
сравнивает и сверяет тексты, читает их для того, чтобы выбрать из
них цитаты и примеры, и делает пометки, чтобы как можно легче
находить отрывки, привлекшие его внимание.
44
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
Тетрадь «общих мест» — второй предмет, характеризующий гума-
нистическую модель чтения. Речь идет как о вспомогательном мате-
риале, которым обязан пользоваться каждый школяр и студент, так и
об обязательном сопровождении ученого чтения. Начинающий или
опытный читатель выписывает в тетради, организованные по темати-
ческому принципу и разделенные на рубрики, отрывки из прочитан-
ных им текстов, замечательные с грамматической точки зрения, со-
держащие интересные факты или яркие примеры. Составленные из
прочитанного тетради, пришедшие на смену древним техникам запо-
минания, могут сами превратиться в источник новых текстов. Изо-
билие содержащегося в них материала, объединяющего литературные
цитаты, наблюдения и примеры из книг, питает риторический идеал
copia verborum ас гетт, необходимой для выстраивания системы до-
казательств. Являясь продуктом ученого чтения, эти тетради сформи-
ровали в XVI в. литературный жанр. Знаменитые авторы (Эразм Рот-
тердамский, Меланхтон — Melanchthon) и издатели-книготорговцы
преумножили их число и создали специализированные сборники, в
которые вошли выписки из трудов, которые можно было использо-
вать в юриспруденции, педагогике и теологии.
Существовали люди, чьим ремеслом было чтение с использова-
нием метода «общих мест»: их нанимали в аристократические дома
для того, чтобы они помогали сыновьям своих нанимателей в уче-
нии, или служили отцам семейств секретарями или чтецами. Одним
словом, они исполняли функции того, кого Энтони Грефтон и Лиза
Джардин называют facilitator. Им приходилось делать извлечения из
исторических книг, составлять конспекты, сборники цитат и отрыв-
ков, которые должны были помочь их хозяину или знатному покро-
вителю в чтении произведений классических авторов, которое им
было необходимо по рангу или по должности. Однако этим методом
пользовались не только «профессионалы», многие из которых имели
ученую степень и преподавали в университетах, но и все образован-
ные люди. Пример Жана Бодена в этом смысле весьма показателен.
С одной стороны, он рекомендует всем, кто хочет изучить историю,
читать, составляя параллельно три тетради, в которые должны зано-
ситься соответственно деяния людей, природные явления и вещи бо-
жественные. С другой стороны, он, кажется, и сам практиковал по-
добный метод, поскольку опубликованная им в 1596 г. книга Univer-
sae Naturae Theatrum представляет собой сборник цитат, сведений и
наблюдений, сгруппированных по темам так же, как это делалось в
ВВЕДЕНИЕ
45
сборниках общих мест. Во всяком случае, книгу эту воспринимали
именно так, о чем свидетельствуют пометки на полях некоторых ее
экземпляров, отсылающие выделенные читателям пассажи к раз-
личным рубрикам из перечня общих мест.
Мало кто из образованных читателей эпохи Возрождения отсту-
пал от этой доминировавшей в то время модели. К их числу принад-
лежит Монтень. Его поведение прямо противоположно поведению
образованных читателей его времени: он не делает выписок, отказы-
вается переписывать и компилировать. Он не делает пометок на кни-
гах, которые читает, ради того чтобы потом найти нужный ему отры-
вок или цитату, но прямо в книгу записывает свое суждение о ней.
Наконец, для своих «Опытов» он не пользуется перечнем общих мест,
но сочиняет свободно, не стесняя себя воспоминаниями о прочи-
танном и не прерывая течение своей мысли учеными ссылками. Мон-
тень — читатель особенный, отказавшийся от соблюдения правил и
установок ученого чтения: он никогда не читает по ночам, никогда
не читает сидя, он читает беспорядочно, а его библиотека, предста-
влявшая собой привилегированное место, где можно было скрыться
от мира, совсем не похожа на открытый и мобилизующий ресурс, ка-
ковым была любая большая гуманистическая библиотека. Ничто не
может лучше продемонстрировать всю необычность такого метода и,
от противного (о contrario), степень влияния отвергнутого Монтенем
метода, как и предпринятые после его смерти попытки подчинить все
своеобразие его «Опытов» принципам, по которым можно было бы
сформировать сборники «общих мест» или хотя бы скомпоновать эти
«общие места» по тематическому принципу, чтобы облегчить задачу
читателю, стремящемуся почерпнуть из их текста некоторое количе-
ство примеров и цитат. Неустранимое своеобразие Монтеня стано-
вится гораздо заметнее, если одновременно с его творчеством изу-
чать правила и навыки, которыми пользовались ученые читатели
эпохи Возрождения.
Религиозные реформы XVI—XVII вв. сформировали на Западе
новую модель чтения. Как это следует из статей Жана-Франсуа
Жильмона и Доминика Жюлиа, широкое распространение новых
христианских текстов коренным образом изменило отношение ве-
рующих к письменной культуре. Произошло разделение, никак не
соотносимое с классическим для современной историографии де-
лением на протестантов и католиков. Часто противопоставляют друг
Другу протестантизм, считающийся религией письменного слова,
46
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
основывающейся на индивидуальном чтении библейских текстов,
и католицизм, который воспринимают как религию слова устного,
т. е. опосредованного, и поэтому неприемлемого.
С одной стороны, по обе стороны границы, разделяющей эти два
вероисповедания, мы находим одну и ту же систему запретов и пред-
писаний, цель которой — заставить паству читать только разре-
шенные тексты. Конечно, не везде запреты соблюдают с одинако-
вой строгостью и не везде их насаждают одними и теми же мето-
дами: вспомним о той роли, которую в Римской церкви сыграл ин-
декс запрещенных книг и приговоры судов инквизиции. Однако
любая Церковь стремится сделать из христиан читателей и обосно-
вать с помощью постоянно возрастающего количества учебных, ве-
роучительных и литургических книг необходимость новых практик,
которых требует церковная реформа. Чтение в его духовном и ре-
лигиозном измерении полностью подчинено отношениям с Богом.
Само по себе оно ничего не значит, оно призвано направлять ве-
рующего по пути христианской жизни и вести его посредством
книги далеко за ее пределы — от расшифровки, толкования и об-
думывания религиозных текстов к непосредственному личному
опыту общения со святыней.
С другой стороны, во всем, что касается христианского чтения,
основное различие, судя по всему, установилось между лютеран-
ством и католицизмом, а также между протестантскими реформа-
торскими течениями типа кальвинизма и пиетизма. Лютеранство,
по крайней мере до конца XVII в., как и католицизм, не было ре-
лигией, требующей индивидуального чтения Библии. В лютеран-
ской Германии и странах Северной Европы Библия оставалась при-
ходской книгой, книгой пасторов и тех, кто желал бы принять сан,
книгой, которая не должна была попасть в руки тех, кто мог, не-
правильно ее истолковав, прийти к опасным еретическим выводам.
Отсюда следует, что как в лютеранских, так и в католических стра-
нах, основная роль отводилась слову священника и тем книгам, ко-
торые помогали правильно истолковывать Писание. Катехизисы,
псалтыри, сборники библейских историй (в которых просто пере-
сказываются библейские тексты), поначалу очень похожие друг на
друга по обе стороны конфессиональной границы, — основной ма-
териал для такого рода опосредованного чтения.
В странах, подпавших под влияние кальвинизма и пуританства,
чтение Библии для себя или в семейном кругу породило новые, ни
ВВЕДЕНИЕ
47
на что не похожие практики чтения. Прямой, непосредственный кон-
такт верующего со Словом Божиим превращает чтение Библии в глу-
бокий духовный опыт и возводит чтение священного текста в обра-
зец для подражания при чтении любых других текстов. Чтение Биб-
лии про себя или вслух для всего семейства, дома или в церкви, со-
провождающее человека в каждое мгновение его жизни, определяет
его отношение к написанному тексту, в чтение которого он вклады-
вает всю свою духовную энергию. Эта своеобразная модель, которую
можно рассматривать как крайнюю форму «интенсивного чтения»,
управляет в кальвинистских, пуританских, а также пиетистских об-
щинах, возникших в последние десятилетия XVII в. после Второй Ре-
формации, всем чтением, как религиозным, так и светским.
История моделей чтения и читательских практик приводит нас
к необходимости отказаться от упрощенного противопоставления
протестантизма и католицизма и обратить внимание как на оче-
видную, но долгое время остававшуюся незаметной, близость рим-
ско-католической и лютеранской Церквей, так и на серьезные раз-
личия внутри самого реформаторского сообщества. Наша история
чтения позволяет включить в западный социальный контекст од-
новременно с доминирующими христианскими моделями чтения
совершенно иные практики, например, практику иудейских
общин, которую в этой книге детально анализирует Робер Бонфи
(Robert Bonfil). Помимо иного отношения к письменным текстам,
формы чтения, которые практикуют гонимые и лишенные всяких
прав меньшинства (вспомним Испанию), свидетельствуют глав-
ным образом о том, что свою традицию и свою религию они вос-
станавливали окольными путями, по фрагментам текстов, най-
денных в трудах христианских богословов, обличавших еретиче-
ские воззрения и высказывания. Кроме еврейских общин такое
чтение «в глубину», дешифровка текстов как попытка отыскать в
них именно то, что необходимо утаить и сгладить, является обыч-
ным защитным приемом, им пользуются все читатели (протестанты
в странах Контрреформации, католики в странах, принявших Ре-
форму, мятежные умы в странах, где господствуют абсолютистские
режимы, и т. д.), от них господствующий порядок старается уда-
лить книги, которые никто и ни при каких обстоятельствах читать
не должен.
Одновременно с повсеместным ростом грамотности, вступле-
нием в мир письменной культуры новых читателей (женщин,
48
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
детей, рабочих), возросшим разнообразием печатной продукции
XIX в., который в нашей книге исследует Мартин Лионе (Martyn
Lyons), стал свидетелем распространения множества самых раз-
нообразных моделей чтения.
Велик контраст между книжной нормой, которую стремятся
внедрить повсеместно в качестве единственно возможного иде-
ального образца контролируемого, систематизированного и уза-
коненного чтения, с одной стороны, и разнообразием практик,
свойственных каждому читательскому сообществу вне зависимо-
сти от того, давно его члены освоили письменную речь, или они
являются новичками в мире печатного слова — с другой. Конечно,
в старое время не все читатели западных стран читали одинаково,
и между самыми виртуозными из них — наследственными, про-
фессиональными или привычными читателями, и самыми неуме-
лыми, читавшими исключительно народную (массовую) литературу,
литературу для масс, различия очень велики. Однако возможность
почти всех слоев общества овладеть навыками чтения, появившаяся
в XIX в. у жителей развитых европейских стран, адаптация к пись-
менной культуре, которая происходила как в школе, так и вне ее,
дробление моделей чтения и книжных (газетных) рынков привели
к тому, что за внешним фасадом единой культуры устанавливается
необычайное разнообразие практик чтения. Типология домини-
рующих моделей отношения к письменности в том порядке, в ко-
тором они следовали друг за другом от эпохи Средневековья (от мо-
настырской модели письма к схоластической модели чтения, от гу-
манистических приемов и методов общих мест к духовному и ре-
лигиозному чтению христиан-реформаторов, от народного чтения
к «революции в чтении» эпохи Просвещения) в Новое время усту-
пает место огромному разбросу в использовании тех или иных прие-
мов и навыков, что соответствует сложной и неоднородной струк-
туре общества в указанный период. В XIX в. история чтения всту-
пает в эпоху изучения социологии различий.
ЧТЕНИЕ: МЕЖДУ НОВШЕСТВАМИ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Долгое время при написании истории чтения ученые применяли два
совершенно разных подхода к изучаемому предмету. Особенностью
первого подхода было стремление вытеснить традиционную исто-
ВВЕДЕНИЕ
49
рию литературы или выйти за ее рамки, второй подход базировался
на результатах исследований социологии письменности в разные
исторические периоды. Немецкая эстетика восприятия, американ-
ская reader-response theory, труды, теоретической основой которых
был русский и чешский формальный метод или французский или
американский структурализм, — все они представляли собой по-
пытку «извлечь» чтение из произведения и анализировать его как ин-
терпретацию текста, не зависящую от одного лишь его лингвисти-
ческого и речевого устройства. Однако история чтения опиралась на
выводы фундаментальных исследований по истории распростране-
ния грамотности и школьного образования, истории формирования
культурных норм и навыков, истории распространения и использо-
вания печатной продукции. Она предстала прямым и необходимым
продолжением классических социологических исследований, по-
священных изучению издательской конъюнктуры, собственников
книг, клиентуры книготорговцев, посетителей библиотек-читален и
членов литературных кружков в различных регионах Европы.
Англо-американский библиографический анализ дает нам при-
мер возможного объединения двух этих подходов. С одной стороны,
он показывает, каким образом внешний вид, форма и строение
книги, компоновка страниц влияют на конструирование смысла
текста, с другой — собирает сохранившиеся на самой книге следы,
оставленные ее обладателями (владельческие записи, экслибрисы,
сведения о покупке, дарении, выдаче на дом и т. д.) и читателями
(подчеркивания, примечания, сделанные от руки надписи и пометы
и т. п.). Таким образом приверженцы этого метода напоминают нам
о том, что текст доходит до читателей только в конкретной форме
(рукописной или печатной, устной или письменной), которая огра-
ничивает, но не уничтожает полностью свободу читателей.
В истории чтения, которая предлагается вашему вниманию, мы
хотели соединить разнообразные подходы к решению стоявшей
перед нами задачи, хотя, конечно, данное исследование носит ско-
рее исторический, нежели литературный характер. Мы ставили
перед собой двоякую цель: исследовать факторы, ограничивающие
общение с книгой и производство смыслов; и описать средства и
возможности, которые может использовать свободная воля читате-
лей, не только вынужденная считаться со множеством стесняющих
ее обстоятельств, но и способная игнорировать, обходить и нару-
шать правила, призванные ее ограничивать.
50
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ
Это те правила, что устанавливаются в законодательном порядке.
Не только различные виды цензуры и самоцензуры, но и авторское
право и права наследования. Они стесняют читателей, полностью
лишая большинство из них возможности прочесть запрещенные
произведения, предназначенные лишь для привилегированного или
отважного меньшинства, рискующего приобретать такие книги у
подпольных торговцев, или предлагая читателям сокращенные, ис-
правленные и переработанные по воле цензоров или душеприказ-
чиков тексты, весьма далекие от своей первоначальной формы и на-
мерений их создателя.
Издательская политика также в чем-то ограничивает свободу чи-
тателя. Конечно, изобретая новые литературные жанры и новые типы
публикаций, предоставляя в распоряжение малоимущих дешевые
печатные издания (сначала книги «Голубой библиотеки», недорогие
книжки народных сказок, преданий, баллад, pliegos sueltos, а потом
газеты и народные книжные серии), издатели предлагают публике
все более широкий круг чтения. Однако читатель может быть сво-
боден только в обращении с результатами выбора, сделанного на ос-
нове интересов и предпочтений, которые далеко не всегда совпадают
с его собственными. Конечно, не всегда эти предпочтения бывают
продиктованы коммерческими соображениями, но именно они
определяют издательскую политику и предложение на книжном
рынке. Такой контроль, пусть и ослабленный появлением промыш-
ленного книгопечатания, рыночной конкуренции и новых типов чи-
тателей, осуществлялся на начальном этапе производства книги са-
мими издателями и на протяжении длительного времени характе-
ризовал общество стран с абсолютистскими режимами.
Внутри предложенных им для исследования территорий читатели
завладевают книгами (или другими печатными объектами), наде-
ляют их смыслом, вкладывают в них свои ожидания. Это освоение
имеет свои правила и пределы. Одни из них заложены в самом тек-
сте, рассчитывающем произвести определенный эффект, диктовать
условия, к чему-то побудить читателя. Ловушки, в которые читатель
должен незаметно для себя попасть, соответствуют мятежной изо-
бретательности, которая считается его неотъемлемым качеством.
Другие правила прочтения и читательские коды, стесняющие и од-
новременно разрушающие, задаются изображением. Очень часто
картинка, сопровождающая печатный текст, диктует собственное
его прочтение, которое либо полностью совпадает с тем, что зало-
ВВЕДЕНИЕ
51
жено в нем изначально, либо выявляет при помощи своего специ-
фического языка то, что логика речи передать не в состоянии. Од-
нако и в том, и в другом случае, характеризующем два разных спо-
соба взаимоотношений между текстом и изображением, иллюстра-
ция, которая по идее должна помогать пониманию текста, может
стать носителем «другого» чтения, существующего отдельно от пись-
менной речи и создающего свое собственное пространство.
Для изучения этой диалектической связи принуждения, ограни-
чений и изобретательности необходимо использовать как методы,
применяющиеся при изучении истории правил, устанавливающих
иерархию жанров, определяющих формы и уровни речи, так и ме-
тоды, к которым обращаются для написания истории систем вос-
приятия и оценки, свойственных тому или иному читательскому со-
обществу. Таким образом, одна из основных задач истории чтения —
выявление все углубляющихся расхождений между воображаемыми
читателями и вариантами прочтения, которые имплицитно присут-
ствуют в самих текстах, и их реальной, разнообразной и переменчи-
вой аудиторией.
Подобного рода расхождения порождают и вариации в «перело-
жении произведения в текст». Формы подачи текста, характер ко-
торых зависит от воли автора, решения издателя или привычек на-
борщиков (или переписчиков) имеют двоякий смысл. Во-первых,
они показывают, какое представление создатели текстов и книг
имеют о возможностях и навыках своих читателей; во-вторых, они
ставят перед собой цель навязать тот или иной способ чтения, вли-
ять на понимание текста и контролировать его интерпретацию.
В манускриптах и печатной книге эти формальные, материальные
различия присутствуют на самых разных уровнях. Во-первых,
строка: в раннем Средневековье появились пробелы между словами
как необходимое условие для чтения про себя. Во-вторых, стра-
ница: она менялась дважды. В последние годы существования ру-
кописной книги исчезли маргиналии (рубрикаторы, глоссы, ком-
ментарии), а в XVI—XVII вв. появились и стали повсеместно ис-
пользоваться абзацы и деление текста на параграфы. Наконец,
в-третьих, сама книга, ее индивидуальность обеспечивается техни-
ческими приемами книгопечатания, перечислением ее выходных
данных на титульном листе, техническими приемами (пагинацией,
индексацией), благодаря чему она становится более удобной в об-
ращении.
52 ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО. РОЖЕ ШАРТЬЕ
История практики чтения, предложенная в этой книге, стре-
мится совместить разные подходы, разные взгляды на то, как
происходит встреча текстов с читателями. И все же они объединены
одной обшей целью: при анализе изменений в способах чтения
обосновывается правомерность нового взгляда на основные пере-
мены (культурные, религиозные, политические), преображавшие
западное общество в период от Античности до нашего времени.
Очень рано, еще в греческом мире, общество это было обществом
написанного слова, обществом текста и книги. Следовательно, об-
ществом чтения. Но чтение — не исторически неизменная величина.
Читатели Запада не всегда читали одинаково. В своей практике они
следовали разным моделям; несколько «революций в чтении» изме-
нили их поведение и привычки. Именно эти модели и эти револю-
ции мы стремимся показать и объяснить в нашей работе.
Йеспер Свенбро ГЛАВА 1
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ В ЭПОХУ АРХАИКИ
И КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАКТИКИ
«БЕЗМОЛВНОГО ЧТЕНИЯ» —
ЧТЕНИЯ ПРО СЕБЯ
Алфавитная система письма, примерно в VIII в. до н. э. ворвав-
шаяся в древнегреческую культуру, попала в мир, где на протя-
жении многих веков господствовала устная традиция. В этом
мире произнесенное слово не только находилось, по всем из-
вестному выражению, «в начале» всего, но и — что, возможно,
самое главное, — обладало властью. В Греции в древнейшей пе-
риод ее истории устное слово безраздельно царствует главным
образом в форме «имени» (kleos), которым награждали героев
аэды гомеровского типа. Для греков эпохи архаики имя (kleos)
значило так много, что превращалось в своего рода наваждение.
Если герой гомеровской эпопеи и соглашается погибнуть в бою,
то только потому, что рассчитывает заработать себе «бессмерт-
ное имя», и показательно, что первоначально слово kleos перево-
димое как «имя» или «слава», значило «звук» (что следует из зна-
чения родственных ему слов в германских языках, например не-
мецкого Laut). Таким образом, слава Ахилла — это слава для
слуха, звучащая, акустическая слава. Kleos во множественном
числе — термин, который Гомер использует для обозначения
собственной эпической поэзии. Слово эффективно постольку,
поскольку оно звучит; только благодаря ему и существуют герои.
Важная роль, которую устная речь играла в древнегреческой
культуре, нашла свое воплощение и в изменениях, которые были
внесены в консонантный алфавит, заимствованный греками у се-
митских племен: как известно, они переименовали некоторое ко-
личество знаков, дабы получить возможность обозначать глас-
ные звуки. О значимости для греков устной речи должен пом-
нить каждый, кто хочет понять, почему они стали использовать
финикийское письмо. Это может показаться парадоксальным:
зачем обществу, уверенному в том, что устная традиция спо-
54
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
собна обеспечить непрерывное развитие культуры на основе
только людской памяти и человеческого голоса, «немое письмо»?
Самый простой ответ на этот вопрос может быть таким: ради
производства большего количества kleos («имен»), которое ста-
нет возможным благодаря надгробным надписям — эпитафиям,
гарантирующим покойному новый способ войти в историю.
Таким образом, письменность, возможно, стала на службу уст-
ной культуры не ради того, чтобы хранить эпическую традицию
(хотя кончила она именно этим), но для того чтобы способ-
ствовать производству нового звука, эффективного слова, гром-
кой славы.
Дав такой ответ на поставленный вопрос, мы, по сути, вы-
двинули новую гипотезу о природе чтения в Древней Греции
эпохи архаики: первые греческие читатели читали вслух. Ведь
для культуры, в которой звучащее слово имело такое значение,
каким оно обладало в культуре Древней Греции, письменность
приобретала значимость лишь постольку, поскольку ставила
своей целью чтение вслух. Наша гипотеза нисколько не проти-
воречит всем предыдущим представлениям о чтении у древних.
Она базируется на множестве историко-культурных данных и
скорее подтверждает, чем опровергает, другую общепринятую
гипотезу, возникшую благодаря экстраполяции свидетельств
более поздней эпохи: если греки в классический период своей
истории читали вслух, то следует признать, что их предки долж-
ны были поступать точно так же. При отсутствии документаль-
ных свидетельств логично предположить, что первоначальный
вид чтения — это чтение вслух.
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЧИТАТЬ»
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ
На первый взгляд, отсутствие свидетельств о характере чтения в
архаическую эпоху кажется почти полным, если понимать под
«свидетельствами» описания процесса чтения или реакции на
него, но как только мы начинаем изучать совокупность терми-
нов, которые греки с древнейших времен использовали для вы-
ражения идеи чтения, ситуация кардинально меняется. Если
быть точным, в древнегреческом языке существует более десятка
ГЛАВА 1
55
слов, означающих «читать», зафиксированных в письменных
источниках, начиная с 500 г. до н. э. Их количество поражает во-
ображение. Оно так велико благодаря разнообразию древнегре-
ческих диалектов и тому, что к моменту, когда они начали встре-
чаться в надписях и текстах, «испытательный срок», во время ко-
торого они находились в обращении, чтобы язык отобрал наи-
более подходящие из них, еще не завершился. Именно эти
глаголы открывают нам путь к пониманию закономерностей
древнейшего способа чтения: первоначальное значение того или
иного слова, употребляемого в значении «читать», указывает на
то, как воспринимался процесс чтения не только в период, когда
появилось специализированное употребление слова «читать», но
и, возможно, позднее. Эти свидетельства еще более ценны по-
тому, что выходят за рамки индивидуального или случайного,
располагаясь на уровне всеобщего знания, на уровне языка. Чи-
тателю станет понятно, почему для обоснования гипотезы об
устном характере чтения в эпоху архаики необходимо привле-
кать данные лексики и грамматики. Такой подход напоминает
и о том, что в культуре, глубоко отличающейся от нашей, но до-
статочно близкой нам для того, чтобы сравнение было полезным,
понимание процесса чтения было совершенно иным.
В 1950 г. Пьер Шантрен (Pierre Chantraine) опубликовал
статью, посвященную глаголам со значением «читать» в древне-
греческом языке [1]. Эта весьма полезная статья, тем не менее,
ограничивается изучением лишь четырех вокабул. Среди глаго-
лов, которыми пренебрег великий французский ученый, есть
один, который представляется нам чрезвычайно важным и с ко-
торого мы и начнем наше исследование. Это глагол nemein, бук-
вально означающий «раздавать». Судя по известным письмен-
ным источникам, глагол этот в значении «читать» встречается не-
часто, и именно этот факт мог бы объяснить, почему о нем забыл
упомянуть Шантрен. Помимо трех упоминаний у александрий-
ского лексикографа Гесихия, жившего в V в. до н. э., в простой
форме он встречается только один-единственный раз у Софокла
(496—406 гг. до н. э.) в небольшом отрывке, который и сохра-
нился только благодаря тому значению, в котором был упо-
треблен интересующий нас глагол. Накануне отбытия в Трою
греческие вожди устроили смотр своих войск: «О ты, что сидишь
на троне и держишь в руках записные таблички, прочти —
56
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
пёте — список, чтобы узнать, есть ли отсутствующие среди при-
несших клятву» [2]. Когда Тиндарей выбирал мужа для своей до-
чери Елены из многочисленных претендентов на ее руку, явив-
шихся в Спарту, он заставил их поклясться защищать права того,
на кого падет его выбор. Именно поэтому Менелай, у которого
Парис похитил Елену, и мог рассчитывать на помощь стольких
героев. В процитированном фрагменте читатель (чтец) держит в
руке список имен тех, кто принес клятву. Чтение списка, или
буквально — «раздача его содержания», должно выявить отсут-
ствующих, если они имеются. Речь идет о чтении вслух перед
собранием людей, которым содержание табличек «раздается»
устно.
Таким образом, глагол nemein, первоначальное значение ко-
торого «раздавать», может значить «читать», точнее — «зачиты-
вать вслух». Однако нам представляется, что в этом частном зна-
чении употреблялись преимущественно префиксально-суффик-
сальные формы этого глагола, начиная с ananemein, широко рас-
пространенного, по мнению Феокрита, в «дорийском диалекте»
[3], что подтверждается еще несколькими древними свидетель-
ствами. Первое мы находим у поэта Эпихарма (около 530—
440 гг. до н. э.) родом с Сицилии и, следовательно, писавшего
на дорийском диалекте [4]; второе — на вазе с дорийской над-
писью, найденной на Сицилии и датируемой V в. до н. э. [5]. Ге-
сихию и одному из древних комментаторов Пиндара [6] также
был известен этот глагол в значении «читать». Таким образом,
соглашаясь с Феокритом, следует признать глагол annemein до-
рийским глаголом, означающим «читать». Однако в дорийском
диалекте используется форма действительного залога ananemein,
тогда как в Спарте и на Сицилии в одной из надписей на ио-
нийском диалекте, найденной в Эвбее и датируемой первой по-
ловиной V в. до н. э., мы встречаем этот глагол в форме сред-
него залога — ananemesthai. Речь идет о надгробной стеле некоего
Мнесифея, чья эпитафия начинается так: «Привет тебе, путник!
Я, мертвый, лежу под этой плитой. О ты, подошедший к моей
могиле, прочти (глагол ananemesthai), что за человек здесь похо-
ронен: я чужеземец из Эгины по имени Мнесифей» [7].
В дорийском диалекте активная форма глагола ananemein пре-
вращает читателя в орудие на службе у написанного текста:
в Спарте не задаются вопросом, получает ли читающий сам сооб-
ГЛАВА 1
57
шение, которое он «раздает» окружающим. Это замечание спра-
ведливо также и для простой глагольной формы nemein,
и для префиксальной — epinemein, встречающейся у Гесихия
в значении «читать». Форма же среднего залога этого глагола,
употребленная в эпитафии Мнесифея, несет в себе более слож-
ное значение, чем просто «раздавать». Она означает «раздавать,
включая себя в число получателей» [8]. Читатель, выдвинутый
на авансцену надписью, найденной в Эвбее, «раздает» содержание
написанного не только «прохожим», упоминаемым в тексте, но и
самому себе. Иначе говоря, слово, произнесенное читателем, адре-
совано не только слушателям, но и ему самому. В крайнем случае
такой читатель может «раздавать» содержание написанного даже
в отсутствии слушателей: он будет читать текст вслух для себя од-
ного, ведь чтобы понять содержание графического фрагмента,
ему необходимо озвучить буквы, чтобы их могло воспринять его
ухо, способное уловить их смысл. Собственный голос становится
для него инструментом понимания написанного текста.
Размышляя над образом читателя, «раздающего» самому себе
написанный текст, читающего его вслух для себя самого (что нам
кажется абсолютно излишним), для того чтобы добраться до его
смысла, мы не можем отделаться от ощущения, что расшиф-
ровка написанного теста осуществляется медленно и с большим
трудом. Кажется, что чтение требует больших усилий, которые,
по мысли Шантрена [9], может выражать префикс апа-. Труд-
ности, испытываемые читателем, следует рассмотреть с двух сто-
рон: во-первых, с точки зрения компетентности самого читателя,
и, во-вторых, — с точки зрения материальной формы письмен-
ного текста. Что касается первого, то, благодаря Плутарху, нам
известно, что обучение грамоте в Спарте сводилось к «строго не-
обходимому» [10]. Весьма вероятно, что такой же была ситуация
и в Эвбее. Даже у того, кто возьмется прочесть эпитафию про-
хожим, навыки чтения могут оказаться весьма относительными.
Что же до второго аспекта, то надо подчеркнуть, что в надписях,
подобных эпитафии Мнесифея, промежутки между словами
практически отсутствуют, и ее строки представляют собой
сплошную линию (scriptio continua), что — и в этом может убе-
диться каждый на собственном опыте, — делает процесс чтения
весьма медленным и затруднительным и просто вынуждает поль-
зоваться голосом.
58
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
Глагол nemein оказывается, таким образом, в центре лекси-
ческого гнезда, образованного глаголами со значением «читать».
И мы вправе задать себе вопрос, не является ли «чтение» пер-
воначальным значением отглагольного существительного nomos,
образованного от глагола nemein. С формальной точки зрения ни-
каких препятствий для выдвижения подобной гипотезы не су-
ществует. Конечно, в наших словарях нет ничего, что позволяло
бы предположить употребление слова nomos, которое обычно
переводится как «закон», в упомянутом выше значении. Ничего,
кроме nomoi, птиц, нет и у Алкмана [11], поэта VI в. до н. э. На
первый взгляд, птичьи «мелодии» (именно так следует перево-
дить это слово в интересующем нас фрагменте) имеют мало об-
щего с плодами трудов древних законотворцев. Но это заблуж-
дение, которое следует рассеять. Nomoi Харондаса, одного из ве-
ликих законодателей Греции эпохи архаики, по выражению од-
ного из древних авторов [12], именно «пелись». Следовательно,
законы могли распространяться пением. Таким образом, птицы
и номоды (nomdidoi), «певцы закона» [13], «раздают» свои по-
слания одним и тем же способом. Закон распространяется устно,
вначале по памяти, а позже — на основании письменных тек-
стов. Это утверждение подтверждается двойным значением гла-
голов nemein и ananemesthai, поскольку эти глаголы могут упо-
требляться как для обозначения «цитирования» по памяти по-
словиц у Симонида (глагол nemein), так и о «декламации» родо-
словных, описанной Геродотом (глагол ananemesthai) [14]. Как
видим, эти глаголы могут применяться также для обозначения
устного распространения сведений с опорой на письменный
текст, т. е. для обозначения процесса чтения списка или надписи.
В VII в. до н. э. короли Беотии «раздают» (глагол nemein) право-
судие, являющееся, как нам сообщает Гесиод, правосудием, ко-
торое следует «слушать», т. е. вершащемся в устной форме [15].
Для того чтобы его «раздача» превратилась в чтение, правосудию
не хватает только письменного носителя.
Устное распространение текстов, к которому отсылают слова
nemein и nomos, может базироваться как на памяти, так и на на-
писанном тексте, т. е. являться либо рассказом по памяти, либо
чтением вслух. Существительное nomos может употребляться по
отношению и к устному, и к письменному тексту. Этого нельзя
сказать о слове, которое употреблялось в значении «закон»
ГЛАВА 1
59
в Спарте, т. е. о существительном rh&ra, потому что благодаря
Плутарху нам известно, что в Спарте было запрещено записы-
вать законы [16]. Поэтому вполне логично, что слово, обозна-
чающее закон, в Спарте происходит от глагола eirein — «гово-
рить». Напротив, законотворчество в Древнем Риме, кажется, из-
начально предполагает письменную форму: lex — «закон» —
происходит от глагола legere — «читать», и, следовательно, имеет
первоначальное значение «чтение» [17] (без той двойственности,
которую мы отмечали у греческого nomos). Таким образом, мы
можем составить следующую таблицу:
УСТНАЯ ТРАДИЦИЯ eirein, «говорить» rhStra
УСТНАЯ/ ПИСЬМЕННАЯ nemein,
ТРАДИЦИЯ «декламировать/читать» пбтов
ПИСЬМЕННАЯ ТРАДИЦИЯ legere, «читать» lex
Почему римляне выбрали для выражения понятия «читать»
глагол legere (собирать, срывать)? При ответе на этот вопрос сле-
дует учесть, что, хотя это и не отражено в словарях, древнегре-
ческий глагол legein также мог употребляться в значении «читать».
Вспомним фразу из «Теэтета» Платона: «Ну же, раб, возьми
книгу и читай, lege\» [18], или формулу lege ton потоп, «читай
закон», часто встречающуюся у ораторов IV в. до н. э. [19].
И если lego означает «я читаю», мы вправе думать, что римляне
слышали это слово от греков, у которых заимствовали алфавит.
Разве не естественно было использовать латинский омоним
lego (повелительное наклонение которого — lege — звучит так
же, как греческое слово) в качестве термина, означающего «чи-
тать»? Таким образом, значение «собирать, рвать» для латин-
ского глагола legere («читать») не является первоначальным, хотя
в конечном счете оно также сыграло свою роль.
Итак, глагол legein, как и глагол nemein, может означать «чи-
тать». В этом значении встречаются главным образом производ-
ные формы простого глагола, начиная с analegein, отмеченного
в одной из надписей, датируемой 470—460 гг. до н. э., найден-
ной в Теосе [20], и analegesthai, обнаруженного в более поздних
источниках [21]. Все, что было сказано выше относительно зна-
60
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
чения префикса апа- и различиях в значениях форм действи-
тельного и среднего залогов ananemein и ananemesthai, относится
и к этим глаголам, и этот параллелизм только подтверждает воз-
можность существования двух значений глагола nemein: «разда-
вать устно» и «читать». В самом деле, глаголы nemein и legein рас-
положены каждый в центре своего гнезда слов, имеющих раз-
ные оттенки значения «читать» и построенных по одному и тому
же принципу.
Чтобы гнездо legein было полным, к нему следует добавить
еще одну важную составляющую, а именно глагол epilegesthai.
Этот глагол, обозначающий «читать» и часто встречающийся у
Геродота, автора, писавшего на ионийском диалекте, употреб-
ляется только в формах среднего залога (тогда как парный ему
глагол epinemein («читать») зафиксирован только в формах дей-
ствительного залога) [22], значение его объясняется так же, как
и значение форм среднего залога глаголов ananemesthai
и analegesthai, т. е. «раздавать, включая себя в число получате-
лей» и «читать, включая себя в число слушателей». Этот способ
чтения предполагает, что читающий произносит написанный
текст вслух как для гипотетических слушателей, так и для самого
себя. Что же касается глагола epilegesthai, то дословно он озна-
чает «добавить сказанное к чему-либо». Читатель добавляет свой
голос к написанному тексту, который сам по себе неполон. Пред-
полагается, что написанное нуждается в legein или в logos, кото-
рые и добавляет к нему читающий. Без читателя написанное
останется мертвой буквой. Чтение, таким образом, добавляется
к написанному как «эпилог».
Итак, мы получили схему, поражающую своей симметрич-
ностью:
epinemein ananemein nemein legein analegein
ananemesthai analegesthai epilegesthai
Однако первый глагол, который приходит на ум, когда начи-
наешь вспоминать, как переводится на древнегреческий слово
«читать», — это, без сомнения, глагол anagignoskein, впервые
встречающийся у Пиндара в поэме, датируемой приблизительно
474 г. до н. э. [23]. Потому что, если ananemein — основной гла-
гол дорийского диалекта, a epilegesthai часто употребляется в диа-
ГЛАВА 1
61
лекте ионийском, то глаголом anagigndskein для обозначения по-
нятия «читать» пользовались в Афинах. Следовательно, в атти-
ческом диалекте «читать», прежде всего, значит «узнавать», по-
тому что именно таково первоначальное значение этого глагола.
Шантрен пишет: «Этот глагол идеально подходил для того, чтобы
обозначить процесс чтения, т. е. узнавания и расшифровки букв»
[24]. Подобная трактовка следует из данных авторитетного сло-
варя Лиддела-Скотта-Джонса (Liddell-Scott-Jones), но, на наш
взгляд, она абсолютно неприемлема. Узнавание, к которому от-
сылает этот глагол, не есть узнавание отдельного знака алфавита,
обозначаемого в древнегреческом языке словом gramma. Мы все
знаем, что чтение не сводится к простому узнаванию букв алфа-
вита. Можно «знать буквы», ta grammata epistasthai [25], и при
этом не уметь читать. Для иллюстрации того, как мне предста-
вляется правильным понимать процесс «узнавания» при чтении,
приведу один пример из современной литературы.
«АТКУДАШЭТАВОНЬ» (пер. М. К. Голованивской и Е. Э. Раз-
логовой), — читаем мы на первой странице романа Рэмона Кено
«Зази в метро». Учитывая привычный нам способ чтения, мы
тотчас же замечаем в этом тексте целый ряд аномалий: во-пер-
вых, предложение записано без промежутков между словами,
способом, называемым scriptio continua, что являлось характер-
ной чертой древнегреческого письма; во-вторых, автор исполь-
зовал не этимологический принцип написания, являющийся
правилом в современных европейских языках, а принцип фоне-
тический, свойственный древнегреческому; в-третьих, синтак-
сически предложение принадлежит к разговорному языку (что
можно сказать о любой древнегреческой фразе, записанной до
формирования письменной идиомы, заметно отличавшейся от
разговорного языка). Вследствие этих трех причин современный
читатель, впервые встречая в письменном тексте фразу «АТКУ-
ДАШЭТАВОНЬ», чувствует себя не в своей тарелке. На самом
деле, он попадает в ситуацию, весьма схожую с той, в которой
оказывался древнегреческий читатель: как показывает опыт,
только с помощью голоса он может «распознать» («узнать») то,
что на первый взгляд представляется весьма туманным. Его глаз
(и здесь аналогии заканчиваются) предпочел бы увидеть пред-
ложение, записанное с соблюдением принятых в языке норм, на-
пример, так: «Откуда же [идет] эта вонь?», или даже так: «От-
62
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
куда так неприятно пахнет?» Другими словами, узнавание, о ко-
тором идет речь, есть узнавание целой графической цепочки, а
не узнавание отдельных букв. Точнее сказать, идентификация
графической цепочки как речи.
Читатель, впервые произносящий фразу «АТКУДАШЭТА-
ВОНЬ», узнает, благодаря слуху, в этой цепочке речь и, воз-
можно, думает: «Так вот, оказывается, что это означает!» Прежде
чем он распознает фразу на слух, он заметит странное сочетание
букв, но это еще нельзя назвать чтением. Решающий момент, мо-
мент узнавания — это момент, когда буквы, на первый взгляд
лишенные какого-либо смысла и, следовательно, похожие на
буквы, выбранные произвольно, приобретут, благодаря голосу
читающего, смысл. Это момент, когда, если говорить о Древней
Греции, знаки алфавита превращаются в stoikheia, «составные
части речи», или, точнее, в «буквы, образующие буквенный ряд»
[26]. Произнося буквы вслух, читатель узнает, выстраиваются ли
они в цепочку, имеющую смысл, или нет.
Помимо глаголов, имеющих значение «читать» (см. выше),
в древнегреческом языке существует еще несколько глаголов,
значение которых, по всей видимости, не имеет никакого отно-
шения к чтению вслух. В эпохи, следующие за эпохой архаики,
процесс чтения может обозначаться глаголами, дословно озна-
чающими «разматывать» (anelissein) [27], т. е. «разматывать
книгу», или «пробегать» (diexienai) [28], или даже «встречаться,
сожительствовать с...» (entunkhanein et sungignesthai) [29]. Но
в большинстве своем древнегреческие глаголы, употреблявшиеся
в значении «читать», настоятельно указывают на чтение вслух,
что подтверждает как предположение о том, что в то время чи-
тали мало и с трудом, так и важную роль, которую играл звуча-
щий логос (logos), — этот «государь», как скажет впоследствии
софист Горгий [30], — в культуре, которая озвученный закон
(nomos) «возводит на царский трон» [31].
ТРОЙСТВЕННЫЙ УРОК ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЧИТАТЬ»
Исследуя глаголы со значением «читать», мы выявили по мень-
шей мере три характерные особенности процесса чтения в Древ-
ней Греции, важность которых следует подчеркнуть особо. Во-
ГЛАВА 1
63
первых, читатель и его голос являются в эту эпоху инструмен-
том на службе у текста, что следует из анализа глагола nemein
и его производных. Во-вторых, следует отметить, что письмен-
ную речь можно считать не завершенной по природе своей, она
требует обязательного озвучивания, о чем свидетельствует гла-
гол epilegesthai. Третья особенность логически вытекает из двух
первых, потому что если скоро голос читающего — всего лишь
инструмент, благодаря которому написанное реализуется во всей
своей полноте, то адресаты написанного, строго говоря, — не чи-
татели, а слушатели, как греки, собственно, себя и именовали.
«Слушатели» текста (akoiiontesvuwt akroatai), исключая, конечно,
читателя, «включающего себя в процесс чтения» и слушающего
собственный голос, не относятся, как утверждают все словари,
к его читателям. Они ничего не читают, а лишь слушают чтение,
подобно «прохожим» из эпитафии Мнесифея.
Остановимся сначала на незавершенном, с точки зрения гре-
ков, характере письменного текста. Если правда то, что для до-
стижения полноты текст должен быть озвучен, то из этого ло-
гически следует, что процесс чтения — необходимая часть тек-
ста. Это предположение согласуется с высказыванием Мишеля
Шарля, которым он начинает свою работу «Риторика чтения»:
«Мы будем придерживаться главного: процесс чтения является
составной частью текста, включен в него изначально» [32].
Каким образом эта концепция согласуется с культурной ситуа-
цией в Древней Греции? Каким образом речь может быть со-
ставной частью того, что мы можем назвать явлением беззвуч-
ным? Каким образом одно явление может содержать в себе дру-
гое? Прежде всего, вспомним, как выглядит древнегреческий
письменный текст, его материальное воплощение. Мы уже от-
мечали, что «непрерывное письмо» (scriptua continua), письмо без
промежутков между словами, делает вокализацию практически
неизбежной. Отсутствие интервалов между словами (также как
и отсутствие орфографических норм) всякий раз превращает
процесс чтения в звуковой опыт, самим фактом своего суще-
ствования предопределяя необходимость чтения вслух, которое,
следовательно, запрограммировано самим текстом. Но не сле-
дует останавливаться на этом, надо двигаться дальше. Обыгры-
вая этимологию слова «текст» (от латинского textus — «ткань»),
рискнем предположить, что все происходит так, как если бы
64
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
текст состоял из письменной основы и звукового утка, которые
объединяются в момент чтения, создавая ткань повествования,
и разъединяются после его окончания. Следуя этой концепции,
которая, как нам представляется, весьма точно описывает древний
способ чтения, приходится признать, что текст — не статичное яв-
ление, он лишь обозначает динамические отношения между пись-
мом и голосом, между писцом и чтецом. Таким образом, текст —
это звуковая реализация написанного, которое не смогло бы рас-
пространиться и выразить себя без помощи читающего вслух.
Но если написанный текст без голоса неполон, то для того,
чтобы самореализоваться, он должен присвоить себе чужой
голос. Мы видели, что пишущий рассчитывает на появление чи-
тателя, готового поставить свой голос на службу тексту и рас-
пространить его содержание среди прохожих, т. е. «слушателей»
текста. Он рассчитывает на читателя, который подчинится букве.
Следовательно, читать — значит отдавать собственный голос
в распоряжение написанного (и, в конечном счете, в распоря-
жение писавшего), уступить его на время чтения. Написанный
текст тотчас же присвоит себе этот голос, что означает, что в мо-
мент чтения голос читающего не будет ему принадлежать, по-
тому что он его отдал. Его голос подчиняется написанному, со-
единяется с ним. Отсюда следует, что быть прочитанным — это
иметь власть над телом читающего, даже находясь от него на
большом расстоянии в пространстве и во времени. Тот, кому уда-
лось заставить прочесть то, что он написал, воздействует на го-
лосовой аппарат другого человека, пользуется им даже после
своей смерти как голосовым инструментом (instrumentum vocale),
как кем-либо или чем-либо, находящимся у него в услужении,
в сущности, как рабом.
В культуре, где отсутствие принуждения считается основным
признаком гражданина, такое восприятие процесса чтения не-
избежно создает проблемы. Для того чтобы участвовать в жизни
полиса, гражданин должен быть «свободным от принуждения»
(eleiitheros). В самом деле, афинянин, который продает себя, не
имеет права говорить в Совете или на собрании граждан: если
он сделает это, то может быть приговорен к смертной казни, как
нам сообщает оратор Эсхин [33]. Как замечательно показал Ми-
шель Фуко, такое понимание позиции гражданина входит в кон-
фликт с распространенной практикой педерастических отноше-
ГЛАВА 1
65
ний в той мере, в которой последняя определяет любовников
в терминах доминирования и подчинения: будущий гражданин,
мальчик, подчиняется желаниям своего взрослого партнера [34].
Это рискует нанести ему непоправимый нравственный ущерб,
если только он не проявит сдержанность и не станет идентифи-
цировать себя с той ролью, которую он играет. Мальчик, усту-
пая эрасту, должен делать это не для собственного удовольствия,
а для того, чтобы доставить удовольствие партнеру. Он не дол-
жен отождествлять себя со своей ролью орудия наслаждения.
Ведь по отношению к педерасту он такое же орудие, как чита-
тель по отношению к автору письменного текста. Древние греки
могли мыслить письменную коммуникацию в терминах педера-
стических отношений уже в период дорийской надписи из Сици-
лии, о которой мы говорили выше [35]. Эта надпись — не что
иное, как одна из первых известных нам попыток объяснить при-
роду чтения: «Пишущий эти слова усодомит (pugixei) того, кто
будет их читать». Читать — значит играть роль партнера пассив-
ного, презренного, тогда как пишущий идентифицирует себя с
партнером активным, доминирующим и высоко себя ценящим.
Презрение к читающему, о котором свидетельствует эта ме-
тафора, не единственная в своем роде, объясняет, без сомнения,
почему греки так охотно доверяли роль чтеца рабам, главная фун-
кция которых заключалась именно в том, чтобы служить и под-
чиняться. Раб — это орудие, «орудие, обладающее голосом».
Возьмем, к примеру, сцену из «Теэтета»: в этом диалоге Платона
раб Евклида читает logos, написанный его хозяином. Терпсион
и Евклид — слушатели текста, который читает раб. В то же время
тенденция принижать роль читателя объясняет явное нежелание
учиться читать, о котором свидетельствует тот факт, что обуче-
ние грамоте в Спарте и, без сомнения, в других областях Древ-
ней Греции должно было ограничиваться только «строго необ-
ходимым». Таким образом, чтение все же совместимо с ролью
гражданина, однако в занятиях им нужна умеренность, чтобы
оно не превратилось в порок: читающий, если он хочет оста-
ваться свободным, т. е. свободным от принуждения, исхо-дяшего
от другого человека, не должен отождествлять себя с ролью чтеца.
Лучше уж быть, по выражению Сократа [36], «неумелым чтецом»
(ta grammata phaulos), т. е. уметь разбирать буквы, но не более
того.
66
ЙЕСПЕР С0ЕНБРО
«Я» И голос
Попытаемся уточнить стоящую перед нами проблему. Если для
того, чтобы сказать правду, необходимо, следуя другому выра-
жению Сократа [37], говорить «собственными словами» (ей idiots
logois), как следует воспринимать читателя древности, который
в присутствии группы слушателей вслух расшифровывает над-
пись типа: «Аз есмь могила Главка» [38]? Позже комические
поэты покажут, что они понимали двусмысленность подобных
ситуаций: возможность смешения читаемого сообщения и сооб-
щения, исходящего от самого читающего. Вероятно, этот фено-
мен возник вместе с надписями, в которых предмет, на котором
они были нанесены, обозначался местоимением «я», т. е. вместе
с самыми первыми греческими надписями VIII в. до н. э. Чи-
тающий приведенную выше надпись примеряет на себя местои-
мение «я», которое не является его собственным. Это «я» неиз-
менно, читатель не может ничем его заменить, сказав, напри-
мер: «Она утверждает, что она — могила Главка». Тогда это уже
не было бы чтением. Надпись следует произносить точно так,
как она написана. Если читающий это делает, значит, он и в
самом деле находится на службе у написанного текста, которому
он отдал свой голос и свое тело. Теперь он принадлежат тексту.
Следовательно, тут нет никакого противоречия, потому что, сле-
дуя логике приведенного рассуждения, голос, произносящий «я»,
принадлежит не читающему, а написанному тексту, и составляет
с последним единое целое, соединившись с ним на время чте-
ния. Противоречия нет, но имеет место своего рода насилие,
против которого существует только одно оружие — полный отказ
от чтения.
Однако употребление формы первого лица при обозначении
предмета, на который нанесена надпись, так поразительно
и встречается в древнегреческой эпиграфике столь часто, что
требует более глубокого осмысления. Оно свидетельствует о под-
чиненном отношении читающего к написанному тексту, но его
значение этим не исчерпывается. Оно свидетельствует об осо-
бом, свойственном всей культуре в целом, восприятии взаимо-
отношений между писцом, предметом, на который нанесена над-
пись, и читателем. Эти отношения можно резюмировать сле-
дующим образом: предмет с надписью обозначает себя в первом
ГЛАВА 1
67
лиие, тогда как писец обозначает себя в третьем (только начи-
ная с 550 г. до н. э. мы находим предметы, недвусмысленно обоз-
начающие себя в третьем лице, словно для того, чтобы зама-
скировать реальное насилие, которое только подчеркивается ме-
стоимением «я»). Приведем в пример надпись на одной из
амфор, относящихся к VI в. до н. э.: «Клеймах сделал меня и я
принадлежу ему, ekeinou eimi» [39]. В момент чтения надписи
Клеймаха там уже не будет, он будет отсутствовать, что точно вы-
ражается указательным местоимением ekeinos (eke t-nos является
указательным местоимением третьего лица, означающим, что
это лицо находится не «здесь», но «там» или даже «в потусто-
роннем мире»: еке'г). Амфора же, напротив, будет «здесь»: никто,
1кроме нее, не может претендовать на местоимение «я», упо-
'требленное в надписи. Клеймах этого не может. Он пишет на ам-
форе, потому что предвидит свое отсутствие в будущем (в про-
ливном случае писать не стоило бы труда). Он обозначает себя
,1Ок отсутствующего уже самим фактом составления надписи.
Лее остальное будет происходить между амфорой с надписью и
читателем, сошедшимися лицом к лицу, как «я» и «ты».
- Из-за надписей в первом лице надгробие Главка и амфору
-Клеймаха относят к категории предметов, применительно к ко-
торым уже очень давно употребляют термин «говорящие веши».
Марио Бурцакеки (Mario Burzachechi), автор ставшей классиче-
ской статьи, посвященной таким предметам (1962), сделал по-
пытку объяснить странный выбор первого лица для обозначе-
тИия предмета, снабженного надписью [40]. Это было анимисти-
ческое объяснение, поскольку, по мнению Бурцакеки, факт при-
писывания души и голоса предметам был типичен для
примитивных цивилизаций, и только со второй половины VI в.
ДО н. э. «можно отметить некое подобие рационалистического
восприятия статуи, утратившей свою магическую ауру». Однако
принцип этой категоризации располагается на несколько ином
Уровне: он коренится в отношении, установившемся между го-
лосом и формой первого лица, обозначающей надписанный
предмет (единственный критерий отбора надписей). Обозначая
себя местоимением «я» (иногда — «мы»), эти предметы воспри-
нимаются как «говорящие». Предполагается, что вещь наделена
«Даром слова» только потому, что она сообщает о себе в первом
лице.
68
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
Действительно, неразрывная связь между первым лицом и
голосом представляется совершенно очевидной. Между тем, для
того чтобы подвергнуть сомнению ее существование, достаточно
вспомнить о том, что если бы голос был неотъемлемой состав-
ляющей формы первого лица, то немой индивидуум не имел бы
права употреблять по отношению к себе местоимение «я», а это
полный абсурд. Таким образом, мы просто вынуждены, если, ко-
нечно, не хотим оставаться пленниками своего рода метафизики
голоса, разорвать такую связь. Первое лицо наделено голосом,
или внутренней сущностью, не больше, чем третье. Само по себе
оно голосом не обладает. Напротив, первое лицо определяет
место своего референта, будь то человек или предмет. Не явля-
ясь признаком анимизма, выбор первого лица для обозначения
надписанного предмета подчеркивает своеобразное положение
этого предмета, присутствующего («я») перед лицом читателя
(«ты») в отсутствие писавшего («он, она»), В то же время этот
выбор свидетельствует, — но это уже другая история, — о том,
как мало психологического содержания вкладывали древние
греки в местоимение «я».
По этой причине следует избегать употребления термина «го-
ворящий предмет» в его самом распространенном значении, од-
нако термин этот прекрасно подходит к предмету с надписью,
который присваивает себе голос человека, читающего эту над-
пись. В культуре, где практикуется чтение вслух, любой предмет
с надписью неизбежно становится «говорящим», независимо от
структуры высказывания, при условии, конечно, что он находит
своего читателя. Было бы легко обосновать необходимость упо-
требления термина «говорящий предмет» применительно к на-
званным объектам, если бы у них не было другого общеприня-
того названия: «надписанный предмет». Таким образом, нам
представляется более правильным называть «говорящими пред-
метами» только те объекты, которые употребляют примени-
тельно к себе метафору голоса, как в этой надписи, к которой
мы потом еще вернемся: «Каждому, кто спросит меня, я отве-
чаю одно и то же, а именно, что Андрон, сын Антифана, пере-
дал меня в дар» [41]. Снабженная такой надписью статуэтка ар-
хаической эпохи является «говорящим предметом» не потому,
что тут употреблено местоимение первого лица «я», но потому,
что в ней используется глагол, означающий «отвечать» — отве-
ГЛАВА 1
69
чать устно, разумеется. Она поднимает свой «голос», свой мета-
форический голос.
В архаическую эпоху эта метафора встречается крайне редко,
и процитированная выше надпись, датируемая концом VI в. до
н. э., по правде сказать, — первый бесспорный пример. До тех
пор пока такая надпись классифицируется как «говорящий пред-
мет» в том смысле, который вкладывает в это определение
М. Бурцакеки, ее исключительность рискует остаться незаме-
ченной, поскольку метафора голоса мало что может дать пред-
мету, который, как предполагается, и так уже является говоря-
щим. Мы же настаиваем на важности этой метафоры, которая
настолько замечательна и интересна, что побуждает нас заняться
более общим, но очень тщательным ее исследованием, поскольку
ее логика, как кажется на первый взгляд, противоречит всему,
что было сказано выше о чтении в Древней Греции. В самом
деле, для культуры, где читающий отдает свой голос написан-
ному слову, чтобы то могло достичь своей полной, звучащей
реализации, метафора голоса, относящаяся к надписанному
предмету, который ее использует, кажется странно избыточной,
если только она не делает излишним голос читающего. «Гово-
рящий предмет», прежде чем будет озвучена имеющаяся на нем
надпись, имеет «голос», свой собственный метафорический
голос, который и отличает его от прочих предметов с надпи-
сями. Это означает, что «говорящий» предмет обладает «голо-
сом», даже если человек, читающий надпись на нем, вслух ее не
произносит. Все происходит так, словно надпись Андрона, сына
Антифана, может обойтись без голоса читателя, возвысив свой
собственный метафорический голос.
Теперь понятно, почему было необходимо тщательно проа-
нализировать понятие «говорящий предмет» и дать ему новое
определение: предмет, использующий метафору голоса для ука-
зания на собственное письменное высказывание («я отвечаю»),
позволяет предположить существование неизвестного нам спо-
соба чтения, способа, противоположного тому, что был в цен-
тре нашего внимания до сих пор. Такое предположение вполне
правомерно, потому что логика надписи, сделанной Андроном,
не совпадает с логикой традиционного чтения. Это исследова-
ние помогло нам понять, насколько невероятным может пока-
заться само предположение о возможности существования в
70
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
Древней Греции чтения без участия голоса, иными словами, чте-
ния про себя. Нелепой такая мысль могла казаться и древним
грекам, практиковавшим чтение вслух, которое, без всякого сом-
нения, доминировало в эпоху Античности, нелепой она может
показаться и современным исследователям, которые в боль-
шинстве своем весьма скептически относятся к возможности су-
ществования в Древней Греции чтения без участия голоса [42].
Если для греков цель алфавитного письма заключалась, как
утверждалось ранее, в производстве новых звуков, действенной
речи, громкой славы, почему кому-то ни с того ни с сего должна
была прийти в голову мысль читать беззвучно, про себя? Зачем
в культуре, для которой молчание есть синоним забвения, кому-
то читать молча? Препятствие представляется непреодолимым.
Чтобы обосновать гипотезу о существовании в Древней Греции
чтения про себя, следует поискать в контексте культуры инте-
ресующей нас эпохи элементы, способные правдоподобно до-
казать это научное предположение. Такие элементы мы нашли
в области, которая, как было показано выше, имеет прямое от-
ношение к процессу чтения: в области законотворчества, но-
моса (nomos), правосудия. В области, которая в течение V в.
до н. э. дает примеры замечательной интериоризации голоса.
В театральной сцене из Платонова диалога «Критон» персо-
нифицированные «Законы» {Nomoi) сами начинают говорить
и уже не умолкают почти до самого конца произведения. При-
сутствуя при разговоре Сократа с Критоном, «Законы» долго
объясняют, почему Сократ не должен бежать из тюрьмы, на что
Сократ, озвучивающий их речь, замечает: «Уверяю тебя, милый
друг, что мне кажется, будто я все это слышу, подобно тому, как
корибанствующим кажется, что они слышат флейты, и от этих-
то вот речей звон стоит у меня в ушах и не позволяет мне слы-
шать ничего другого. Вот ты и знай — так по крайней мере ка-
жется мне теперь, — что если ты будешь говорить противное, то
будешь говорить понапрасну» (пер. М. С. Соловьева) [43]. Мы
видим, что голос «Законов», несмотря на производимый ими
«шум», не является голосом реальным, внешним. «Законы», вы-
веденные на сцену Сократом, — те же самые, что он слышит вну-
три себя даже при отсутствии какого-либо внешнего акустиче-
ского сигнала. В большинстве случаев внутренний диалог Со-
крата — «беседа души с собою самой» — обходится без голоса,
ГЛАВА 1
71
как это происходит в диалогах «Софист» и «Теэтет» [44]. Мысль
Сократа рождается в тишине. Здесь же мы сталкиваемся с со-
вершенно другой ситуацией. Голос «Законов» так громок, что
Сократ не может ни слышать, ни слушаться других. Он подчи-
нится только «Законам», рокочущим внутри него, и не послу-
шается своего старого друга Критона. Внешние голоса больше
не имеют значения. Сократ слышит только внутренний голос,
который указывает ему, чего делать не следует.
Этот голос очень похож на «демонический» голос, о котором
идет речь в «Феаге», «Федре» и в особенности в «Апологии Со-
крата», где Сократ говорит о себе: «Началось у меня это с дет-
ства: вдруг — какой-то голос (phons), который всякий раз от-
клоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к
чему-нибудь никогда не склоняет» (пер. М. С. Соловьева) [45].
(Из того же фрагмента мы узнаем, что Сократ имел обыкновение
разговаривать со своими согражданами этим внутренним голо-
дом, и обвинение, повлекшее за собой смертный приговор, ка-
жется, намекает именно на это. То, что мы назвали бы «голосом
совести», представлено здесь как нечто ранее невиданное и скан-
дальное: для большинства современников Сократа голос закона
(nomos) — это всегда голос внешний, а не внутренний, индиви-
дуальный. Nomos для них «раздается» публично, и они не могут
даже представить себе того «маленького раздатчика», которым
является Сократовский гений — daimonion [46], — чьи слова
«предназначены только для одного человека, который произно-
сит свою речь внутри себя с тем, чтобы она не могла быть ус-
лышана кем-либо еще.
'< 1 Итак, будем помнить, что nymos может пониматься как уст-
ное распространение текстов — рассказ или чтение вслух, во
всяком случае, как звуковой, акустический феномен. Отправле-
ние правосудия, dike, — это внешнее действие, орудием которо-
го является голос. Следовательно, dike есть с правосудие внеш-
нее, провозглашаемое публично, как это делали, например, ге-
«иодовы цари, на которых мы ссылались, когда анализировали
значение глагола nemein. Однако, как показал Эрик Хэвелок (Eric
Havelock), только начиная с эпохи Геродота и Протагора, со-
временников Сократа, dike интериоризируется и появляется сло-
dikaiosune, означающее «чувство справедливости» [47]. Такая
ЗОггериоризация, проявившаяся даже на лексическом уровне,
72
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
подтверждает, что существительное nomos могло употребляться
в том значении, в каком оно встречается у Платона в речах Со-
крата, а именно в значении «голос совести». Действительно, речь
идет об одном и том же движении к интериоризации голоса, за-
вершившемся в течение V в. до н. э., который и дал нам первые
прямые свидетельства о чтении про себя, т. е. об интериориза-
ции голоса читателя, умеющего отныне «читать в уме».
БЕЗМОЛВНОЕ ЧТЕНИЕ
В статье «Silent Reading in Antiquity» (1968) Бернард Нокс (Be-
rnard Knox) приводит два текста конца V в. до н. э., которые, по
его мнению, доказывают, что древние греки или, чтобы быть сов-
сем точным, некоторые из них, владели техникой чтения про
себя, и драматические поэты во время Пелопонесской войны
могли рассчитывать на то, что их читатели имеют навыки такого
чтения [48]. Первый текст — сцена из трагедии Еврипида «Иппо-
лит» (428 г. до н. э.). В ней описывается, как Тезей обнаруживает
в руке мертвой Федры табличку для письма и задается вопросом,
что она хотела ему сообщить. Он берет табличку и ломает печать.
Тут вступает хор, его песнь повествует о тревоге Тезея, который
прерывает воздыхания хора возгласом: «Увы мне! Ко всем бедам
прибавилась еще одна, невыносимая, невыразимая! Как я несча-
стен!» [49]. По просьбе хора он сообщает содержание письма, но
не читает вслух, а лишь пересказывает его содержание. Совер-
шенно очевидно, что он прочел его про себя, пока хор пел.
Второй пример Б. Нокса — фрагмент из «Всадников» (424 г.
до н. э.) Аристофана. В нем речь идет о чтении предсказания ора-
кула, текст которого Никий выкрал у пафлагонца. Демосфен об-
ращается к Никию, который наливает ему первую чашу вина, с
просьбой принести ему оракул, чтобы он смог его прочесть. «Что
написал оракул?» — спрашивает Никий. Демосфен же, погружен-
ный в чтение, отвечает: «Налей еще!» «Он что, так и пишет: ’’Налей
еще“»? — спрашивает Никий, подумавший, что Демосфен читает
вслух. Эта шутка развивается в последующей сцене до тех пор, пока
Демосфен не поясняет, что в оракуле говорится о том, как погиб-
нет пафлагонец [50]. Затем он кратко пересказывает содержание
написанного. Он не читает оракула: он уже прочел его, прочел про
ГЛАВА 1
73
себя. Таким образом в этом отрывке мы видим как читателя, при-
выкшего читать мысленно, — он даже может, не прерывая своего
занятия, просить налить вина! — так и слушателя, который, как
представляется, не знаком с подобной практикой и принимает
слова, произнесенные читающим, за текст, читаемый вслух, хотя
на самом деле они таким текстом не являются.
Приведенная сцена из «Всадников» особо поучительна, по
крайней мере, на первый взгляд, так как показывает, что прак-
тика чтения про себя в 424 г. до н. э. (Платону тогда исполни-
лось пять лет) известна еще далеко не всем, хотя и предполага-
ется, что зрители комедии должны быть с ней знакомы. Этими
навыками владеет ограниченное число читателей, а большинству
греков, особенно неграмотным, знакомым с письменной речью
только «снаружи», она неведома. Кроме того, следует помнить,
что оба приведенных текста — афинского происхождения: в тех
областях, где, подобно Спарте, обучение письму ограничивали
«строго необходимыми» навыками, чтение про себя, вероятно,
было известно еще меньше и использовалось гораздо реже. Для
человека, читающего мало и от случая к случаю, медленная и не-
уверенная расшифровка написанного не могла породить по-
требности интериоризировать голос, поскольку именно голос
являлся инструментом, посредством которого графический фраг-
мент идентифицировался как речь. Как мы уже говорили, озву-
чивание письменной речи запрограммировано отсутствием ин-
тервалов между словами и предложениями. А если такое озву-
чивание само по себе имеет ценность, зачем отказываться от не-
прерывного письма, являющегося техническим препятствием
Для развития чтения про себя?
Но отсутствие не было непреодолимым препятствием, как
можно было бы предположить, основываясь на анализе опыта
читателей Средневековья, когда, по мнению Пола Сенгера (Paul
Saenger), «разделение слов» (word division) было необходимым
Условием для того, чтобы получили распространение навыки
чтения про себя, которым пользовались монахи, переписывав-
шие тексты в тишине скрипториев [51]. Мы считаем себя вправе
сделать такое предположение, поскольку установили, что древ-
ние греки, судя по всему, умели читать про себя, продолжая при
этом использовать непрерывное письмо. Б. Нокс высказал точку
зрения, что в эпоху Античности необходимость использования
74
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
большого количества текстов ускорила развитие навыков чтения
про себя, т. е. навыков быстрого чтения. Весьма вероятно, что
уже в V в. до н. э. историк Геродот вынужден был отказаться от
чтения вслух, а во второй половине VI в. до н. э. в эпоху прав-
ления Писистратидов новый способ чтения получил дальнейшее
распространение в Афинах благодаря тому, что в этот период
многие образованные люди, подобно поэту Симониду, в квази-
филологических целях занимались гомеровским эпосом. Коне-
чно, новая техника чтения предназначалась для меньшинства,
но меньшинства, игравшего значительную роль в обществе.
К этому меньшинству принадлежали и драматические поэты.
В Средние века для широкого распространения чтения про
себя одних интервалов между словами оказалось недостаточно.
Потребовалось нечто большее, чем это техническое новшество,
появившееся уже в VII в. н. э. Для того чтобы преимущества но-
вого способа чтения: быстрота, внятность и разборчивость —
стали очевидными, должна была развиться схоластика, вместе с
которой широкое распространение получили и новые читатель-
ские навыки. Действительно, чтение про себя «укоренилось»
только в среде ученых-схоластов, оставаясь при этом практиче-
ски неизвестным для остальных членов средневекового общества
[52]. Точно также, по нашему мнению, одной только необходи-
мости обращения к большому числу текстов было недостаточно,
чтобы в V в. до н. э. чтение про себя стало привычным в неко-
торых кругах древнегреческого общества. Экстенсивное чтение,
как нам представляется, стало скорее результатом качественного
изменения в отношении читателей к письменной речи, новым
и мощным интеллектуальным усилием, способным изменить
традиционное чтение. Чтение про себя не могло появиться в ре-
зультате одних только количественных изменений. По правде го-
воря, Б. Нокс, приводя примеры обширного чтения древних,
цитирует только постклассических авторов, таких, как знамени-
тый эрудит и автор многих тысяч книг Дидим Александрийский.
ТЕАТРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Каковы отличительные черты театрального представления, до-
статочно четкие и самобытные, чтобы породить новый способ
ГЛАВА 1
75
чтения — чтение про себя? Совершенно естественно, первое,
что приходит в голову, — четкая граница между сценой и зри-
телями. Эта граница обозначает пределы условного действия,
разворачивающегося на сцене, и в определенном смысле явля-
ется главной отличительной чертой театра: публика не имеет
права вмешиваться в игру актеров. Например, она не может со-
общить находящемуся на сцене персонажу то, что ей уже из-
вестно о его дальнейшей судьбе. Она не может изменить ход со-
бытий, объяснив действующим лицам, как им следует посту-
пать. Она вынуждена «созерцать» (theasthai), как герои трагедии
сами приближают свою гибель. Напряжение, порождаемое этой
ситуацией, делает происходящее на сцене более привлекатель-
ным: театральное действо развивается независимо от публики,
не имеющей права нарушить его ход, как этого требуют правила
«игры» (paidia), о которой, в середине VI в. до н. э. говорит Фес-
пис, защищавший свое новое искусство от возмущенных напа-
док Солона [53].
Публика, даже публика Фесписа, вынуждена только смотреть
и слушать пассивно. Зрители не имеют права ни принимать уча-
стие в действии, разворачивающемся на сцене, ни читать текст,
который управляет всем происходящим на этой сцене, несмо-
тря на то что его самого там нет. Текст, запечатленный в памяти
актеров, остается невидимым, когда последние его произносят
[54]. Актеры заменили его собой, превратили скорее в «голосо-
вое письмо» (оправданность употребления этого термина будет
показана выше), чем в простое чтение вслух. Актеры не читают
текст, они производят его голосовую копию. Этим они отли-
чаются от обычного читателя, который одалживает свой голос
находящемуся перед ним письменному тексту. Когда такой чи-
татель читает написанное, он производит другой — голосовой —
текст, потому что его голос воспринимается как «естественное»
продолжение написанного, его необходимое дополнение, его за-
вершение. Следовательно, голос не может считаться копией чи-
таемого текста. Чтение вслух происходит с записанного текста,
так что слушатель не может заблуждаться относительно связи,
существующей между письмом и голосом. В противоположность
словам, произносимым актерами, читающий произносит слова,
которые он не учил заранее (хотя, конечно, любой читатель сво-
боден запоминать то, что он читает).
76
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
Напротив, отрыв текста драматического произведения от его
воспроизведения актерами кажется достаточно большим, для
того чтобы назвать — пока только предварительно — этот спо-
соб передачи текста «голосовым письмом». И коль скоро актер
не отождествляет себя с читателем, то и зрители, слушающие это
«голосовое письмо», не являются традиционными читателями.
Будучи зрителями, они не должны использовать собственный
голос, чтобы заставить написанное говорить, потому что по-
следнее само говорит с ними. Они пассивно слушают это «го-
лосовое письмо».
Граница между сценой, с которой звучало «голосовое письмо»,
с одной стороны, и публикой, ему внимавшей, — с другой, было,
по всей видимости, достаточно четким, для того чтобы внушить
грекам мысль о существовании такой же границы между пись-
менным текстом и его читателем. Вернее сказать, достаточным
для того, чтобы показать им возможность иного поведения по
отношению к написанному. Традиционный читатель, которому
голос необходим для того, чтобы «распознать» графический
фрагмент, в том, что касается озвучивания, играет в отношениях
с письменным источником активную роль (хотя по отношению
к писавшему, чью программу он реализует, он является «пас-
сивным партнером»). Для того чтобы исполнить роль «инстру-
мента для чтения», он должен сделать умственное и физическое
усилие, иначе буквы так и останутся лишенными какого-либо
смысла. Напротив, тот, кто умеет читать про себя, играет по от-
ношению к письменному тексту пассивную роль. Он больше не
является для написанного орудием, потому что последнее «го-
ворит» само. Читателю остается только пассивно слушать.
Выразимся по-другому: работа того, кто читает про себя, не
воспринимается им как усилие по расшифровке точно так же,
как работа уха слушающего и расшифровывающего значимый
звучащий фрагмент, не осознается работой как таковой: она по-
нимается скорее как пассивное восприятие. «Распознание»
смысла происходит моментально; ему не предшествуют минуты
неясности. Читателю, который читает про себя, не нужно ис-
пользовать собственный голос, чтобы заставить говорить напи-
санное. Кажется, что последнее само говорит с ним. Он слушает
его точно так же, как зритель в театре слушает «голосовое
письмо» актеров. Написанный текст, распознаваемый с по-
ГЛАВА 1
77
мощью одного только зрения, словно обретает ту же самостоя-
тельность, что и театральное действо. Буквы читаются — вернее,
произносятся, — сами. Молчаливый читатель не должен вме-
шиваться в то, что происходит при чтении написанного текста:
буквы, умеющие «говорить», могут обойтись без его голоса. Они
уже обладают голосом. Читателю остается только слушать то,
что звучит внутри его, голос чтеца оказывается интериоризиро-
ванным.
Коль скоро «пассивность» читателя родилась из пассивности
театрального зрителя, возникает вопрос, насколько далеко
в глубь времени мы можем проникнуть, чтобы проследить за ее
возникновением? Анализ глагола hupokrinesthai («играть роль»),
сделанный Джорджем Томсоном [55], поможет нам точно опре-
делить момент, когда в культуре утвердилась эта пассивность.
Томсон отмечает, что глагол hupokrinesthai в гомеровских поэ-
мах употребляется в двух значениях: в значении «отвечать» и
В значении «пояснять, толковать» (предсказание, сон). В проти-
воположность другим исследователям, стремившимся для объяс-
нения происхождения существительного hupokritts («актер») вы-
брать какое-либо одно из этих значений, Томсон задался во-
просом, почему для обозначения двух этих понятий использо-
вался один глагол, как это можно видеть в «Одиссее», когда
Писистрат говорит Менелаю: «Царь Менелай, повелитель людей,
Для кого, изъясни нам,/ Знаменье это Кронин послал, для тебя
ли, для нас ли?», — а Гомер продолжает: «... Так он спросил; и
... задумался бодрый / Царь Менелай, чтоб ответ (hupokrinaito)
несомнительный дать Писистрату» (пер. В. А. Жуковского) [56].
Эту фразу можно было перевести и так: «чтобы дать несомни-
тельное толкование». Ключ к решению этой задачи дает, по мне-
нию Томсона, отрывок из диалога Платона «Тимей», в котором
говорится о том, что те, кого называют пророками (prophetai),
являются лишь истолкователями (hupokritai) таинственных из-
речений и знаков, но никак не вещунами (mantels), т. е. прори-
цателями, изрекающими предсказания, находясь в состоянии
экстаза [57]. Из всего вышесказанного Томсон делает вывод, что
Первоначально существительное hupokrites обозначало персонаж,
Которому задавали вопросы относительно «таинственных изре-
чений и знаков». Толкование загадочных сообщений и было его
ответом на поставленный вопрос. Если этот персонаж является
78
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
предводителем хора, совершающим обряд, смысл которого не-
понятен присутствующим, hupokrites может «отвечать» на во-
просы, «истолковывая» происходящее, говоря, например: «Я Дио-
нис, а они — дочери Элевтерии, которую я поразил безумием».
Позднее, когда этот персонаж начинает давать «ответы — толко-
вания», когда его об этом никто не спрашивает, он тотчас же пе-
рестает быть hupokrites в прежнем значении этого слова, превра-
щаясь в актера. В этот момент и происходит отделение сцениче-
ского пространства (отныне автономного) от зрителей (отныне
пассивных).
Однако именно глагол hupokrinesthai употреблен в надписи,
сделанной Андроном, сыном Антифана, к которой нам следует
теперь вернуться. Эта метрическая надпись на аттическом диа-
лекте, сделанная на утраченной ныне бронзовой статуэтке, да-
тированной VI в. до н. э., была найдена в Афинах.
pdsin is' anthripois hupokrinomai hostis erotai
каждому человеку задающему мне вопрос я отвечаю одно и то же
hos m’anethek' Andron Antiphdnous dekdten
что передал меня в дар Андрон, сын Антифана в качестве десятины
Записанная и переведенная подобным образом надпись нуж-
дается в пояснениях. В конце VI в. до н. э. уже установились из-
вестные нам формы античного театра. Начиная с 534 г. до н. э.
уже проводятся драматические состязания, а сами театральные
представления — до Эсхила в них принимают участие только
один актер и хор — возникли примерно 30 годами раньше [58].
Когда на статуэтке появилась эта надпись, творчество трагиче-
ского поэта Фесписа (именно он придумал актера) переживало
период своего расцвета. Следовательно, значение глагола hu-
pokrinomai гораздо богаче, чем позволяет предположить перевод
(«я отвечаю»). В аттическом диалекте для обозначения понятия
«отвечать» употребляется не глагол hupo-krinesthai, как это имеет
место в ионийском диалекте. В Афинах для этого используют
глагол apo-krinesthai. Если бы автор надписи хотел написать
ГЛАВА 1
79
«я отвечаю», он должен был бы употребить глагол apokrinomai,
являющийся метрическим эквивалентом глагола hupokrinomai.
Но он этого не сделал. Следовательно, мы вынуждены поверить,
что им был выбран глагол, призванный выразить нечто большее,
чем просто идею ответа на вопрос.
При использовании глагола hupokrinomai надписанная стату-
этка как бы возвышает свой «голос», она «говорит». И в силу сло-
жившихся обстоятельств речь ее — это речь столь же театраль-
ная, сколь и вокальная. Своим метафорическим голосом надпись
отвечает на еще не заданный вопрос, который она предвосхи-
щает подобно hupokrites на сцене, дающему ответ на вопросы, ко-
торые никто ему и не думает задавать. Но если употребление
в надписи глагола hupokrinomai означает, что статуэтка не про-
сто отвечает на вопрос, а толкует то, что представляется загад-
кой (смысл, который несет в себе статуэтка с надписью), то это
значит, что она объясняет смысл собственного существования,
расшифровывает свое значение под взглядом зрителя-читателя,
которому не надо прилагать усилия для озвучивания написан-
ного, поскольку последнее «озвучивает» себя само. Лицемерная
чтица, предлагающая нам представить себе ее голос! Впервые в
истории. Ведь до изобретения чтения про себя письменная речь
порождала голос, а не представление о нем. До того момента,
как она начинала звучать, она значила для нас не больше, чем
буквы, напечатанные обезьяной на пишущей машинке.
Обращаясь к зрителю-читателю, которому не надо заставлять
звучать собственный голос, надпись может отныне передавать
свое содержание непосредственно глазу: зачем читать вслух над-
пись, которая умеет «говорить» беззвучно? Заключенный
в предмете смысл достигает глаз читателя посредством своего
рода излучения, флюидов, «испарений». Предмет источает свой
смысл на читателя. Значение предмета больше не нуждается
в том, чтобы голос читающего использовался для постижения
смысла. Написанный текст отныне независим, он умеет «гово-
рить» сам. Вот что, по нашему мнению, следует из надписи, ко-
свенно (а не прямо, как это сделано в «Ипполите» и «Всадни-
ках») свидетельствующей о бытовании в Афинах конца VI в. до
н. э. практики чтения про себя и об интериоризации театраль-
ного пространства в пространстве письменного текста. Отныне
пространство надписи может служить сценой. Этот новый спо-
80
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
соб чтения, при котором читателю отводится пассивная роль
зрителя активно действующего письменного текста, изливаю-
щего на него свой смысл, следует той же логике, что и логика
зрительного восприятия, разработанная Эмпедоклом, Левкип-
пом и Демокритом в V в. до н. э. Позиция Эмпедокла поначалу
была несколько невнятной. По словам Аристотеля, Эмпедокл
похож на того, кто думает, что видит потому, что его глаз исто-
чает свет [59]. Однако — и это очень показательно — Аристотель
добавляет: «Эмпедокл то заявляет, что мы видим так, а не иначе,
то утверждает, что зрение зависит от эманаций (aporrhoiai) ви-
димых глазу предметов [60]. Именно последней гипотезы при-
держивались и последователи Эмпедокла: все атомисты, начи-
ная с Левкиппа, также считают способность видеть результатом
эманации или истечения, арогтИоё, исходящего из видимых пред-
метов по направлению к глазу смотрящего. Один из философов
III в. н. э. так резюмировал их теорию: «Они объясняют спо-
собность видеть существованием неких образов, которые, бу-
дучи одной формы с предметами, их порождающими, беспре-
рывно вытекают (глагол aporrhein) из созерцаемых нами пред-
метов и достигают глаз: так полагали последователи Левкиппа
и Демокрита» [61]. Таким образом атомисты считали, что спо-
собность видеть предметы обусловлена тем, что они непрестанно
излучают некие частицы, которые более или менее сложным об-
разом (сложность эта объясняется внутренними противоречиями
атомистической теории) воспринимаются глазом. Двойствен-
ность позиции Эмпедокла, без сомнения, объясняется тем, что
философу пришлось отказаться от усвоенной в юности теории,
чтобы выработать новую, более удовлетворительную. Напротив,
позиция атомистов, наследников этой новой теории, предста-
вляется весьма четкой, во всяком случае в интересующей нас об-
ласти. Для того чтобы видеть, глаз не испускает никаких лучей,
но принимает излучения рассматриваемых предметов: так по-
ступает зрительная информация.
Важность аналогии между зрением и чтением про себя, в про-
цессе которого глаз пассивно, как может показаться, принимает
излучения, исходящие из письменного текста, становится осо-
бенно ясной, когда мы рассмотрим еще одно фундаментальное
положение атомистической теории. Она объясняет комбинации
элементов физического мира с помощью алфавитной модели,
ГЛАВА 1
81
когда разные слова образуются благодаря комбинациям всего
24 букв: в греческом языке для обозначения понятий «буквы»
и «элементы» используется одно существительное — stoikheia
[62]. «Трагедии и комедии пишутся одними и теми же бук-
вами», — читаем мы у Левкиппа [63]. Точно так же в мире фи-
зическом бессчетное число комбинаций одних и тех же элемен-
тов порождает множество разных предметов. Правы были те,
кто, как Хайнц Висманн (Heinz Wismann), говорили об «онто-
графии» атомистов, ведь по их теории зрительное восприятие
можно считать чтением — чтением окружающего мира.
Если в VI в. до н. э. статуя, надписанная Андроном, остава-
лась единичным «говорящим предметом» (в том значении этого
понятия, о котором мы говорили выше), то в V в. до н. э. эта ме-
тафора начинает распространяться все более и более широко.
Она используется не столько в эпиграфике, сколько у авторов,
посвятивших себя менее лаконичным жанрам, которые вслед-
ствие этого более расположены к тому, чтобы изменить привы-
чное отношение к чтению. Для иллюстрации этого утверждения
приведем два примера. Один — из Эсхила, первенство которого
в этой области весьма показательно (вскоре станет понятно, по-
чему). В трагедии «Семеро против Фив» такая метафора ис-
пользуется при описании щитов трех героев: Капанея, Этеокла
и Полиника. Гонец так описывает Этеоклу щит Капанея: «Знак
его: нагой человек с огнем пылающим; факелоносец возглашает
златыми буквами: “Сожгу я город!”» [64]. Нет ничего удиви-
тельного в том, что в произведении, где можно встретить заме-
чательное синестезическое выражение «я вижу грохот», поя-
вляются говорящие предметы, а изображенные на щитах персо-
нажи «возглашают», как это делает факелоносец со щита Капа-
нея, или просто «кричат» {boai), как на щите Эмпедокла,
посредством букв, изображенных рядом с ними. Наконец, на
щите Полиника мы видим женщину, в которой узнаем Дике, бо-
гиню правосудия и справедливости, но узнаем не по сопровож-
дающим ее атрибутам, а благодаря надписи, объясняющей ее
появление: «А это Справедливость, как говорится (legei) в надпи-
си, что около нее».
Второй пример — Геродот. У него буквы тоже начинают го-
ворить (legein), причем говорить в массовом порядке; письмен-
ные пророчества, стелы и треножники возвышают свои голоса
82
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
подобно статуе египетского бога Сета, «произносящей» надпись,
на ней выбитую [65].
Историку, который много пишет, а читает еще больше, чте-
ние про себя, принципиальную возможность которого показал
опыт театральных постановок (напомним, что Геродот был дру-
гом Софокла), просто необходимо. Он вынужден быстро читать
хотя бы для того, чтобы лучше прорабатывать собственные со-
чинения. Ускорить процесс чтения — значит до некоторой сте-
пени интериоризировать читающий голос. Абстрагироваться от
голоса и читать в уме.
«СЦЕНА» ПИСЬМЕННОСТИ И ПИСЬМЕНА В ДУШЕ
Надпись, сделанная Андроном, сыном Антифана, отмечает
собой поворотный момент в отношении греков к пространству
письменности. Не случайно ей вторит, спустя столетие, «Федр»
Платона, объясняя свойства письменной речи [66]. Сравнивая
письменность с живописью, Сократ упрекает первую за то, что
записанные сочинения «всегда говорят одно и то же», т. е. за то,
чем так «гордится» надпись Андрона. Конечно, философ мог бы
адресовать подобный упрек и актеру, голос которого является
лишь инструментом на службе у неизменного текста, а не чело-
века, наделенного знанием (episteme). Он так и сделал. Два раз-
ных явления свелись к одному, потому что, как мы уже видели,
письменный текст и актер взаимозаменяемы, поскольку выпол-
няют аналогичную функцию. Актер на сцене заменяет собою
текст, а надпись, сделанная Андроном, занимает место актера.
Производя то, что мы называем «голосовым письмом», актер от-
крывает зрителю возможность по-новому взглянуть на процесс
чтения, подсказывает ему мысль о возможности чтения про себя.
В самом деле, надписанная Андроном статуэтка называет себя
«актером» (hupokrites), что предполагает существование нового
отношения к чтению. Письменный текст — это «сцена», кото-
рая, следуя логике театрального представления, отводит чита-
телю роль зрителя. Он и интериоризирует театр.
Правильность такого вывода подтверждают как надпись Ан-
дрона, так и отрывок из трагедии Еврипида «Ипполит», в кото-
ром строки «восковой дощечки для письма», зажатой в руке
ГЛАВА 1
83
мертвой Федры, «кричат, кричат об ужасных бедах, boai boat del-
tas dlasta». Выведенное на сцену Еврипидом письмо может, пока
его читают про себя, не только «говорить», но и «кричать». Оно
даже может петь: «Такова песнь, — продолжает Тезей несколь-
кими стихами ниже, — что зазвучала из этих строк (hoion halon
eidon еп graphals melos phthengomenori) [67]. Актер, поющий роль
Тезея (это лирический фрагмент), выпевает мелодию (melos),
источник которой — написанный текст, т. е. песнь для глаза.
На сцене — поющий актер; на восковой дощечке, читаемой
в уме и тем самым интериоризирующей театральное простран-
ство, — «поющие» буквы. Трудно найти более наглядный при-
мер инсценировки процесса чтения про себя, и вот почему. Во-
первых, в исполняемую со сцены песнь включена метафориче-
ская песнь письменного текста, чем подчеркивается сходство
между театральным пространством и пространством текста. Во-
вторых, здесь четко видна связь между «говорящим» предметом
и чтением про себя: звучащему в уме читающего голосу соо-
тветствует именно «говорящий» предмет. Свидетельство Тезея,
таким образом, не сводится к внешним фактам, которые не по-
зволяют установить неоспоримые различия между чтением про
себя и чтением, неслышным для других, но содержит в себе внут-
ренний аспект, который подтверждает предположение Бернарда
Нокса, подкрепляя его новыми фактами, относящимися к мен-
тальным структурам настоящего чтения про себя.
Если таким способом театр интериоризируется в книге, то
книга, в свою очередь, интериоризируется в пространстве ум-
ственном, именуемом то phrSn, то psukh£. И это задолго до Пла-
тона, противопоставившего в упоминавшемся уже отрывке из
«Федра» простые письмена тем, что пишутся «в душе» [68]. Ме-
тафору «книга души» мы впервые встречаем у Пиндара в поэме,
о которой мы упоминали выше (анализируя глагол anagigndskeiriy.
«Прочтите имя олимпийского победителя там, где оно записано
(глагол graphein) в моей душе (phr£n) [69]. Но наиболее часто эта
метафора будет встречаться в трагедиях прежде, чем ее подхва-
тит Платон. И не без основания: драматические поэты, чьи тек-
сты предназначены для заучивания актерами наизусть, вполне
искренне переживают процесс записывания текстов в умах ак-
теров. В восприятии драматурга в уме актера делается надпись,
как она делается на камне или табличке для письма. Внутрен-
84
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
нее пространство актера — пространство для письма (письмен-
ное пространство). А это означает, что драматический текст «за-
писан» в уме того, кто читает его со сцены. Поэтому и вполне
оправдано употребление термина «голосовое письмо», который
мы использовали, и достаточно понятно, почему Эсхил, кото-
рый ввел в театральное действо второго актера [70], «пишет» в па-
мяти актеров, тогда как Гомер (пусть это даже будет писец, скрип-
тор) не может считаться тем, кто пишет в памяти своих аэдов,
слишком далеко отстоящих от него во времени и пространстве,
для того чтобы подобная метафора могла быть уместной.
Приведем несколько примеров из произведений Эсхила,
хотя та же самая метафора часто встречается и у других великих
трагических драматургов. В «Прометее прикованном» главный
герой заявляет: «Начну с твоих метаний, Ио. В памяти / Души
твоей (phrenes) ты это записать должна» (пер. С. Апта) [71]. Про-
метей — персонаж, с которым связывают происхождение письма;
традиционно считается, что Данай тоже с этим происхождением
связан. Вот с какими словами последний обращается к своим до-
черям: «Я и на суше предвижу будущее, и все, что я скажу вам,
вы должны записать в своей памяти». Та же метафора появляет-
ся в этой трагедии еще раз, когда Данай говорит: «Теперь к преж-
ним назиданьям и урокам скромности, записанным внутри вас
вашим отцом, вы прибавите еще и эту запись!» В «Эвменидах»
хор сравнивает память Аида с табличками для письма: «Под зем-
лей Аид требует от людей отчета, и его душа (ркгёп), которая
видит все, все хранит на скрижалях своих». В последнем при-
мере из Эсхила Электра говорит Оресту: «Послушай и запиши в
своей душе (phrenes)». Эту формулу трагический поэт мог ис-
пользовать и сам, обращаясь к одному из своих актеров.
АФИНЫ: ИНСЦЕНИРОВАННЫЙ АЛФАВИТ
Вот так и установилась связь между театром и книгой, кни-
гой и душой. Однако двум этим векторам движения к интерио-
ризации — от театра к письменному тексту и от текста к душе —
соответствуют два вектора, идущие в противоположном направ-
лении. Прежде всего, пространство мысли естественным обра-
зом экстериоризируется в книге. Можно даже предположить су-
ГЛАВА 1
85
шествование «безмолвного письма», хотя эту гипотезу, скорее
всего, невозможно подтвердить документально. В самом деле, за-
писанное воспоминание — hupomnema — может заменить собой
слабеющую память [72]: оно представляет собой память внеш-
нюю, объективную, «памятку», которую не следует путать с живой
человеческой памятью. Сознавая ограниченность такой объек-
тивированной памяти, Платон все же пользуется ею точно так же,
как драматический поэт, текст которого представляет собой
Иирбтпёта, написанное не ради читателей будущего, а ради од-
ного-единственного представления, необходимым условием ко-
торого он — текст — является.
Если пространство мысли может экстериоризироваться в про-
странстве письменности, то и пространство письменности в свою
очередь может экстериоризироваться в пространстве театраль-
ном. Прежде всего это неизбежно происходит тогда, когда дра-
матическое произведение разыгрывается на сцене. Такое дви-
жение изначально присуще этой системе взаимозависимых яв-
лений, поскольку порождает то, что мы называем «голосовым
письмом». Но не только это. В Древней Греции такая экстерио-
ризация была весьма оригинальным способом буквально пере-
несена на театральные подмостки афинским поэтом Каллием
в комедии «Буквы напоказ» (по-гречески — «Grammatike
thedria»7 [73]. Эта пьеса ставит перед исследователем множество
трудноразрешимых задач, касающихся ее датировки и связи
в плане музыкальном и метрическом с «Медеей» Еврипида (да-
тируемой 431 г. до н. э.) и «Эдипом-царем» Софокла (написан
чуть позже 430 г. до н. э.). Написаны ли эти трагедии под ее влия-
нием или же она их пародирует? Не будем сейчас обсуждать эти
вопросы, а ограничимся тем, что укажем приблизительную дату
появления вышеназванной пьесы: вторая половина V в. до н. э.
Все предлагавшиеся даты ее написания укладываются в этот вре-
менной отрезок. В любом случае даже такой весьма приблизи-
тельной датировки для наших целей вполне достаточно.
Так что же эти «Буквы напоказ» предлагают в качестве зре-
лища (theiria) собравшимся в театре людям (theatai)? Ни больше
ни меньше, чем хор из 24 женщин, олицетворяющих ионийский
алфавит, представленный в Прологе следующим образом:
«Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон (буква Аполлона), дзета,
эта, тета, йота, каппа, лямбда, мю, ню, кси, омикрон, пи, ро и
86
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
сигма, тау, ипсилон и фи, хи и с нею пси с омегой!» Затем хор
выстраивается попарно, и мы вдруг оказываемся на уроке чте-
ния в начальной школе: «Бета и альфа — ба; бета и эпсилон —
бе; бета и эта — бэ; бета и йота — би...» Затем следует антистрофа:
«гамма и альфа — га; гамма и эпсилон — ге; гамма и эта — гэ...»
и т. д., и т. д., всего 17 строф, поющихся на один и тот же мотив.
За «хором слогов», от которого у современных специалистов
по обучению чтению волосы бы встали дыбом, следует диалог
между школьным учителем и двумя женщинами:
УЧИТЕЛЬ: О жены, вам следует произнести отдельно
«альфа», а затем отдельно «эпсилон», а вы — скажите третью
гласную!
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА: Скажу я «эта».
УЧИТЕЛЬ: Теперь четвертую!
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Вот, «йота»!
УЧИТЕЛЬ: А пятая?
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА: То «омикрон».
УЧИТЕЛЬ: Скажите, что шестая?
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Шестая - «ипсилон».
УЧИТЕЛЬ: Последнюю, седьмую, скажу я сам: «омега». Вот
семь все выстроились в ряд. Вы их произнесли, теперь их по-
вторите сами для себя.
В следующем фрагменте Каллий дает детальное описание двух
букв, не называя их, однако всем ясно, о каких буквах идет речь.
В «Тезее» Еврипид делает то же самое: неграмотный пастух опи-
сывает буквы, из которых состоит имя ТЕЗЕЙ, не зная, что они
означают и как называются [74]. Разумеется, Каллий поступает
так не потому, что не знает названия букв: «Я беременна, — го-
ворит одна из женщин (возможно олицетворяющая Письмен-
ность), — из скромности, подруги, я назову вам имя младенца,
описывая только форму букв. Одна из них — прямая, по сторо-
нам которой две маленькие линии загнуты кверху. Вторая — круг
на двух ногах». Она говорит о буквах Ф (пси) и П (омега), двух
знаках ионийского алфавита, которых не было в афинском ал-
фавите и которые вследствие этого должны были считаться «не-
законнорожденными». Именно этими буквами должна была за-
канчиваться 17-я строфа «хора слогов». К несчастью, мы не знаем
значения, наверняка весьма непристойного, буквы «пси». Так
ГЛАВА 1
87
или иначе, но эта буква должна была намекать на что-то такое,
что женщина стыдится произнести. И поскольку шутка звучит
со сцены, мы имеем право предположить, что форма этих букв
часто обыгрывалась в непристойных шутках. В конце концов
Софокл в сатирической драме «Амфиарай» тоже использовал ак-
тера, который танцевал буквы на сцене [75].
Как бы то ни было, во второй половине V в. до н. э. в афин-
ском театре Диониса инсценировали алфавит. Это знаменатель-
ное событие. Именно в это время буквы «заговорили» и в про-
изведениях Геродота, друга Софокла, что косвенно подтверждает
бытование практики безмолвного чтения про себя (и, добавим,
«безмолвного письма»). Противоположно тому, что заключает в
себе надпись, сделанная примерно за сто лет до этого Андроном,
пьеса «Буквы напоказ» демонстрирует нам то, что обычно в теат-
ре не видно, а именно написанный текст. «Великий отсут-
ствующий» театральных подмостков, наконец, появился. На это
указывает само название пьесы: слово their ia, производное (как
и theatron) от глагола theaomai («я вижу, созерцаю»), обозначает
именно зрелище для глаз. Таким образом, зритель в театре смо-
жет не только слушать «голосовое письмо» актеров, но и видеть
буквы. Буквы, составляющие алфавит и записанные в памяти ак-
теров, предстанут на сей раз перед взором зрителя. Вся сцена
продемонстрирует, что она находится в самом сердце простран-
ства письменного текста, пространства, умеющего «отвечать» —
называть себя, читаться и интерпретироваться вслух.
Идея такой постановки могла возникнуть только в голове че-
ловека, воспринимающего буквы как самостоятельные объекты,
для которого их озвучивание не является необходимым усло-
вием понимания. Иными словами, в голове того, для кого буквы
стали чистым воплощением голоса (записанного реально или
фиктивно, как в случае «безмолвного письма») и их изначаль-
ная цель — производство kleos — звучащего имени, больше не
является единственной. Короче, в голове того, для кого чтение
про себя стало привычкой. Между тем, из всего, сказанного
выше, вовсе не следует, что в древнегреческой культуре востор-
жествовало чтение про себя. На самом деле оно так и осталось
явлением маргинальным, практиковавшимся только в среде про-
фессионалов, посвятивших себя письменным текстам и читаю-
щих достаточно много, для того чтобы у них возникла потреб-
88
ЙЕСПЕР СВЕНБРО
ность интериоризировать голос чтеца. Для среднего читателя ос-
новным способом чтения оставалось чтение вслух, поскольку
невозможно было заставить забыть о первоначальной цели, ко-
торую преследовала греческая письменность: производить новые
звуки, а не воспроизводить их. В античной Греции голос никогда
не откажется от своих прав. Благодаря особенностям древнегре-
ческой культуры его господству ничто серьезно не угрожает.
Именно поэтому чтение про себя не выработало собственной
терминологии, а просто использовало уже существовавшие сло-
ва, такие, например, как глагол anagignSskein, который отныне
может употребляться не только по отношению к расшифровке
написанного с помощью громко звучащего голоса, но и к рас-
шифровке графических фрагментов посредством одного только
зрения, которые «говорят» непосредственно глазам. Какой бы
новаторской ни была практика чтения про себя, в Древней Гре-
ции она оставалась под сильным влиянием чтения вслух, отзвук
которого мы постоянно слышим.
Гульельмо Кавалло ГЛАВА 2
ОТ СВИТКА К КОДЕКСУ
Можно ли с уверенностью утверждать, с какого времени книга
действительно утвердилась в культуре Древнего Рима и рим-
ляне начали читать? В первые века существования Вечного го-
рода письменная культура была распространена лишь среди
членов жреческих коллегий и патрицианских семейств, кото-
рые обязаны были хранить основы знаний о религии, отправ-
лять правосудие, определять время и помнить последователь-
ность событий, упомянутых в «анналах». Вероятно, все эти све-
дения (в частности, сведения, относящиеся к отправлению
культа) были записаны в книгах из льняного полотна (lintel)
или на деревянных дощечках (tabulae). Те же тексты, которые
весьма условно можно называть литературой, бытовали в узком
кругу правящего класса и были связаны со специфическим
стилем жизни этой социальной группы: строгие эпитафии, от-
четы магистратов, которые те обязаны были составлять по
окончании срока пребывания в должности, лишенные каких-
либо стилистических изысков городские анналы. Известно,
что Катон Цензорий (234—149 гг. до н. э.) писал на вощеных
дощечках речи, которые затем произносил перед согражда-
нами, сверяясь с написанным [1], и сочинил и записал «боль-
шими буквами» (чтобы легче было читать) «Историю Рима»,
по которой учил своего сына основам чтения, письма и уро-
кам прошлого [2]. До настоящих книг, как и до настоящего чте-
ния, было еще далеко, но эпоха Катона стала переломной.
В 181 г. до н. э. были найдены так называемые книги Ну-
мы — папирусные свитки, завернутые в листья кедра. Если ве-
рить существующим — весьма противоречивым — источникам,
на одних свитках были записаны греческие тексты философ-
ского содержания, которые были тотчас же сожжены как про-
90
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
тиворечившие официальной религии; на других — тексты ла-
тинских авторов и de jure pontificum («право верховного жреца»)
[3]. В действительности речь шла о подделке, «по виду весьма
недавней», как писал Тит Ливий [4], но сама эта история свиде-
тельствует о том, что во II в. до н. э. книга в виде папирусного
свитка, широко распространенная в эллинистическом мире,
была известна и в Риме, а сам папирус был привозным товаром,
из которого могли изготавливать и книги. В эту поворотную
эпоху у Энния, а несколько десятилетий спустя и у Луциллия мы
находим первые неопровержимые доказательства именно такого
применения папируса и, следовательно, существования в Древ-
нем Риме свитка как носителя литературных текстов [5].
Появление таких книг стало следствием двух важнейших пе-
ремен, произошедших в римской культуре между III и началом
I в. до н. э.: появлением латинской литературы, вдохновленной
греческими образцами, и прибытием во все больше подпадаю-
щий под греческое влияние Рим, населенный коллекционерами,
сходящими с ума по всему греческому, целых эллинистических
библиотек, трофеев победоносных войн. От этих привозных гре-
ческих книг и произойдут в недалеком будущем латинские книги.
Эпические поэмы, подобные «Одиссее» Ливия Андроника и «Пу-
нической войне» Гнея Невия, хотя и занимали несколько папи-
русных свитков, не были поделены на отдельные книги согласно
определенному заранее плану [6]. Но тот факт, что «Анналы»
Энния были поделены на 18 частей уже в момент их создания [7],
а чуть позже Октавиан Лампадио (Ottavianus Lampadio) разделил
поэму Невия на семь частей, показывает, что постепенно, бла-
годаря появлению все большего числа греческих сочинений, рим-
ляне стали глубже осознавать связь между текстом и книгой. Они
не просто переносили греческие образцы в иной культурный кон-
текст, но, вдохновленные ими, старались овладеть сложной ме-
тодикой структурирования книги и упорядочить тексты, сделав
их более удобными для чтения.
ПОЯВЛЕНИЕ ЧИТАЮЩЕЙ ПУБЛИКИ
Если верить Плутарху, Катон Утический, прежде чем покончить
жизнь самоубийством, уединился в спальне с текстом плато-
ГЛАВА 2
91
новского диалога «Федон», в котором говорится о бессмертии
души, и прочел уже достаточно много, прежде чем заметил, что
его меча не было на месте. Он задал вопрос рабу, ответа не по-
лучил и снова погрузился в чтение, от которого оторвался только
для того, чтобы приказать рабу принести меч. Однако, когда
Катон дочитал книгу, меча все еще не было, и ему пришлось по-
высить голос, чтобы добиться повиновения. Когда оружие на-
конец принесли, он снова углубился в диалог Платона и пере-
читал его дважды. Потом немного поспал, и только после этого
ронзил меч себе в грудь [8].
Тот факт, что Катон Утический, читающий Плутарха, пре-
бывал в тот момент в весьма своеобразном психологическом
состоянии, для нас в данный момент не имеет значения. Весь
этот эпизод наглядно показывает, что отныне чтение — это яв-
ление частной жизни, занятие, которому предаются в уедине-
нии спальни, отвлекаясь на то, чтобы дать распоряжения слу-
гам или поспать. Возникновение в этот исторический период,
период агонии республиканского режима, привычки читать
в одиночестве тесно связано с зарождением в римской куль-
туре такого явления, как «частная жизнь». Не случайно Катон
Утический читает именно диалог Платона: в 1 в. до н. э. серьез-
ное чтение, главным образом чтение греческих авторов, было
уже достаточно широко распространено среди представите-
лей римского правящего класса. Цицерон пишет, что тот же
Катон Утический приходил в Сенат с книгой и любил изучать
труды греческих философов, собранные в Тускуле на вилле Лу-
кулла Младшего [9], унаследовавшего библиотеку, привезен-
ную в Рим еще его отцом в качестве Ponticapraeda (добычи, взя-
той в Понтийском царстве) после победы над Митридатом
в 71—70 гг. до н. э.
Первые римские частные библиотеки были плодами побед
[10]. Еще до Лукулла Павел Эмилий привез в Рим книги маке-
донского царя Персея, а диктатор Сулла, армия которого раз-
грабила Афины, перевез на свою виллу в Путеолах книги Апел-
ликона с Теоса, философа-перипатетика и библиофила, собрав-
шего знаменитую библиотеку, в которой были свитки, принале-
Жавшие еще Аристотелю и Теофрасту. Эти эллинистическо-
александрийские библиотеки греческих ученых послужили об-
разцом для частных римских библиотек в эпоху, когда заметно
92
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
увеличилось число читателей, хотя в период заката Республики
речь могла идти только о немногочисленной элите. Хороший
пример таких библиотек — библиотеки Цицерона, о которых
мы знаем из его писем (одна — в Риме, две других — на его
виллах в Формиях и Тускуле, плюс еще библиотека его брата
Квинта). Собрания состояли из двух разделов — греческого и
латинского, что свидетельствует о встрече и взаимодействии
двух этих культур.
Создание таких библиотек (библиотеки Катона Утического,
Цицерона и его брата, собрания Аттика и Варрона) происходит
почти одновременно с зарождением производства латинских книг,
качество которых пока еще весьма далеко от качества греческих
книг [11]: «Не знаю, что делать с латинскими книгами, — пишет
Цицерон своему брату Квинту, который уже владеет некоторым
количеством греческих книг, но хотел бы составить и латинскую
библиотеку, — настолько плохи экземпляры, имеющиеся в про-
даже» [12]. Цицерону сложно найти латинские труды, которые он
читал и которыми восхищался в юности [13], и, чтобы расширить
свою «латинскую библиотеку», он велит переписывать все книги
подряд, даже те, что посылает ему такой посредственный поэт, как
Вибий [14]. Когда Луций Папирий Пет подарил ему книги, кото-
рые унаследовал после своего брата, Цицерон гораздо больше ра-
дуется новым латинским книгам, чем греческим [15].
Пример Катона Утического, читавшего труды стоиков в биб-
лиотеке Лукулла, и Цицерона, который пользовался книгами
Фавста Корнелия Суллы, Лукулла и своего большого друга Ат-
тика, потому что ему недостаточно собственного собрания [16],
показывает, что еще до возникновения библиотек существовали
патрицианские резиденции, виллы, задуманные как место, где
можно было бы проводить свой досуг (otium) в обществе книг и
друзей. Эти виллы с их портиками, гостиными, картинными га-
лереями, садами и залами, самими названиями (Академия, гим-
насий, лицей, палестра) призванными напоминать о греческих
учреждениях, создавались для общения и были своего рода де-
корацией, на фоне которой представители образованной элиты
приватно предавались чтению [17]. Тот факт, что личные биб-
лиотеки были открыты для посторонних (пусть даже последние
и принадлежали к «закрытой касте»), показывает, что потреб-
ность общества в чтении (для работы или для отдыха) была го-
ГЛАВА 2
93
раздо больше, чем в недавнем прошлом, но личные библиотеки
не могли полностью ее удовлетворить, поскольку уровень про-
изводства книг был низок, оно было плохо организовано и тех-
нически несовершенно. Если какой-нибудь автор, например,
Цицерон, желал «опубликовать» много книг, он был вынужден
прибегать к помощи профессиональных книготорговцев (libra-
rii) или друзей. Цицерон и Катулл первыми рассказали нам о
деятельности книготорговцев (библиополов) [18] и о вкусах чи-
тателей. На прилавках книготорговцев можно было найти
свитки (возможно, весьма невысокого качества) «очень плохих
поэтов», которых презирали настоящие знатоки, но у которых
тем не менее был свой круг читателей. Цицерон пишет о «мно-
жестве людей», которым нравилась потакавшая массовым вку-
сам доктрина эпикурейца Кая Амафиния (Caius Amaphinius) и
его последователей, труды которых наводнили в то время «всю
Италию» [19], но он же говорит и о множестве посредственных
философов, которых читают только они сами и их немного-
численные друзья [20]. У Цицерона мы находим также и упо-
минание о людях, занимавших весьма скромное положение (ре-
месленниках и стариках), но любивших «историю». Этот факт
требует отдельного комментария. Цицерон уточняет, что эти
люди читали (или слушали, как кто-то читает) исторические
труды ради удовольствия (voluptas), а не из соображений пользы
(utilitas), которой руководствовались более образованные чита-
тели [21]. Разнообразие способов чтения свидетельствует о су-
ществовании различных типов читателей. Весьма вероятно, что
наиболее простые тексты, подобные появившимся несколько
десятилетий спустя биографиям Корнелия Непота или описа-
ниям подвигов Цезаря, записанным со слов его военачальни-
ков, могли тронуть души даже малообразованных читателей [22].
И Катулл, и Цицерон выступают против тех читателей, которых
элита считала достойными презрения, однако в тот период это
были весьма немногочисленные группы с весьма узким кругом
интересов.
Двойственный характер: «специальный» и «для чтения»,
свойственный первым личным книжным собраниям, имеет и
единственная дошедшая до нас библиотека — библиотека «виллы
папирусов» в Геркулануме. Греческий раздел, почти полностью
состоявший из трудов эпикурейцев (некоторые из них были при-
94
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
везены с Востока, другие Филодем из Гадары заказал местным
переписчикам), был собранием философских трудов для спе-
циалистов; латинский же раздел (от него осталось лишь не-
сколько фрагментов текстов того времени, среди которых
«Поэма об Актийской войне» (Carmen di hello Actiaco) [23]) ско-
рее предназначался для другого типа чтения. Эта латинская биб-
лиотека I в. до н. э., как нам кажется, представляет собой пере-
ходный этап к библиотекам имперской эпохи, периоду больших
изменений в культуре чтения в Древнем Риме.
В это время в Вечном городе появилось, наконец, то, чего так
страстно желал Цицерон и что подробно описал Катулл [24] —
«новая книга» (novus liber), т. е. предназначенные для образо-
ванного читателя латинские свитки высокого качества, вдох-
новленные греческими и эллинистическими образцами, которые
в последние годы существования Республики и первые годы но-
вого режима начали производить и в Италии, о чем свидетель-
ствуют свитки с греческими текстами, найденные в Геркула-
нуме. Новый папирус высшего качества, тщательное располо-
жение текста, четкий и местами даже изящный почерк, пра-
вильный текст, употребление инициалов и различных шрифтов
для написания имени автора и заглавия произведения в конце
каждого текста, включенного в книгу, палочка для разворачива-
ния свитка и т. д. До нас дошли отдельные фрагменты латин-
ских свитков такого типа, датируемые I в. до н. э., среди кото-
рых встречаются как поэтические (Гай Корнелий Галл [25]), так
и прозаические (Саллюстий [26]) сочинения.
Интерес к книге, качеству ее исполнения и всему, что об-
легчает процесс чтения, возник одновременно с расцветом
новой великой римской литературы, продолжавшей испыты-
вать на себе греческое влияние (вспомним Катулла или «сов-
ременных» — neoteroi — поэтов). Но существовали и другие чи-
татели, равнодушные к качеству попадавших к ним в руки свит-
ков, читавшие только для удовольствия (voluptas), а не для
пользы (utilitas). Число таких читателей непрерывно росло до
тех пор, пока не появилась масса потребителей литературной
продукции, не ограничивающаяся несколькими кружками из-
бранных, но состоящая из огромного числа безымянных чита-
телей, лично не знакомых авторам, которые, в отличие от Ци-
церона, начнут в конце концов учитывать ее интересы в своем
ГЛАВА 2
95
литературном творчестве. Эта читательская аудитория, во вре-
мена правления императора Августа уже весьма многочислен-
ная, хотя и ограниченная определенными пределами (террито-
рия современной Италии), к концу правления династии
Юлиев-Клавдиев присутствовало на всей территории Римской
империи. По мере ослабления политико-культурной гегемонии
империи, количество читателей в провинциях неуклонно росло,
поскольку возросшая социальная и этническая мобильность
способствовала появлению как новых читателей, так и новых
авторов — выходцев из средних слоев населения провинциаль-
ных городов. Литераторы периода империи мечтали о том, что
когда-нибудь книги с их сочинениями распространятся по
всему миру. А между тем читающая публика по-прежнему со-
ставляла меньшинство населения: «Не миллионы, ни даже
сотни тысяч, несколько десятков тысяч максимум, и это
в период расцвета» [27]. Однако это меньшинство имело воз-
можность поддерживать создателей и распространителей весьма
разнообразной книжной продукции, учитывающей возможно-
сти читателей, обладавших разными культурными навыками.
К несчастью, приходится отказаться от надежды более точно
определить число читателей, количество копий, перечень книг,
которые действительно читали, и перечень самых популярных
книг.
Описываемый нами круг читателей состоял, прежде всего, из
образованных представителей аристократии, в среде которых
«досуг» (ptium) всегда занимал почетное место. Затем следовали
тесно связанные с этой группой многочисленные преподаватели
грамматики и риторики, среди которых могли быть и рабы, и
вольноотпущенники, более или менее искушенные в чтении
«классических авторов». И, наконец, новые читатели, отличав-
шиеся как от аристократических кругов и высокообразованных
преподавателей, так и от массы неграмотных. Это был средний
читатель, располагавшийся на социальной лестнице где-то не-
подалеку от верхней границы низших классов.
Рост читательской аудитории в имперскую эпоху напрямую связан
с распространением грамотности. На вопрос о том, «была ли гра-
мотность привилегией высших классов», один историк дал весьма
общий, но выразительный ответ: «Египетские папирусы позволяют
96
Г/ЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
нам сделать три неоспоримых вывода: существовали неграмотные,
за которых писали другие; существовали простолюдины, которые
умели читать и писать; даже в самых отдаленных поселениях можно
было найти литературные тексты, классические тексты... Все про-
чее весьма туманно» [28].
К этим выводам мы можем присовокупить драгоценные сви-
детельства, которые дарят нам граффити, обнаруженные в домах
и на улицах Помпей. Эта смесь непристойных шуток, поэтиче-
ских строк известных авторов, коротеньких, полных очарования
стихотворений как бы говорит нам о существовании трех типов
читателей: читателей абсолютно непритязательных, читателей,
получивших относительно приличное образование, и образо-
ванной и культурной публики.
Чтение, как, впрочем, и обучение, в Древнем Риме являлось
«украшением» традиционно образованных классов, которым
стремились подражать парвеню и люди, недавно обучившиеся
грамоте. Возросшее между I—II вв. н. э. число читателей в рим-
ском или, точнее, в греко-римском мире — достоверный факт,
подтверждаемый частым появлением сцен чтения на фресках,
мозаиках и барельефах той эпохи (даже если предположить, что
речь идет всего лишь об иконографическом стереотипе). Оста-
ется неясным лишь то, каким образом эти читатели получали до-
ступ к чтению. Изобилие публичных библиотек в Риме и его про-
винциях можно лишь отчасти объяснить увеличением потреб-
ности в чтении [29]. Эти библиотеки создавались как благотво-
рительные* или по инициативе императора, что свидетельст-
вовало: власть осваивала письменную культуру и стремилась ис-
* От греческого euregetes («эвергет» — «благодетель») — состоятельный римля-
нин, который стремился завоевать любовь к себе народа в политических (прежде
всего электоральных) целях и финансировал частично или полностью из собст-
венных средств строительство различных общественных зданий. Эвергетизм заро-
дился в греческих полисах, в частности, в Афинах — для строительства военных
кораблей, где он был оформлен законодательно и был равноценен налогу на бо-
гатство. Именно эвергетизму, широко распространенному в римских провинциях
времен Империи, поскольку он давал возможность в выгодном свете представить
себя императорской администрации и позволял надеяться на членство в Сенате,
многие города Галлии, например, обязаны своими акведуками, храмами, триум-
фальными арками и театрами. Эвергетизм также широко практиковался и самим
императором. — Прим. фр. переводчика.
ГЛАВА 2
97
пользовать ее в своих целях. В Риме самые большие библио-
теки, подобные библиотеке Аполлона на Палатинском холме,
основанной императором Августом, или Ульпиевой библио-
теке, основанной императором Траяном на его форуме, пред-
назначались для того, чтобы отбирать и хранить литературное
наследие и гражданские и религиозные анналы Великого го-
рода. На изображениях, которыми мы располагаем, нет ни
одной сцены чтения в публичной библиотеке; впрочем, чтение
вслух, часто сопровождавшееся жестами и весьма энергичными
телодвижениями как наиболее распространенный способ чте-
ния, не годилось для помещений, в которых разные люди чи-
тали разные книги. Такие библиотеки, как правило, посещали
питатели, разыскивавшие древние и редкие произведения, на-
меревавшиеся что-либо проверить или уточнить, прочесть для
развлечения несколько отрывков или просто встретиться с
друзьями в этом своеобразном «городском пространстве». Сло-
вом, речь шла о библиотеках научных, доступных для всех по
воле дарителя, но на практике посещавшихся ограниченным
числом эрудитов и образованных людей. Есть сведения о том,
что при некоторых римских банях существовали библиотеки
меньшего размера, аккумулировавшие литературу иного рода,
в основном, как можно предположить, литературу развлека-
тельную [30]. Возможно, книги читали не в экседрах, где эти
Собрания, как правило, располагались, но в других местах: в ал-
леях, базиликах или банных залах. Потенциальные читатели
этих публичных библиотек в большинстве своем были людьми,
У которых имелись собственные библиотеки, число которых
неуклонно увеличивалось, начиная с эпохи Августа. Домашняя
библиотека свидетельствовала о статусе ее владельца, иметь ее
Должен каждый обеспеченный человека, пусть даже малообра-
зованный и не умеющий как следует читать. С этого времени
книги и чтение стали одним из признаков принадлежности к
высшим слоям общества.
Несмотря на то что о распространении книги в эту эпоху нам
известно очень мало, можно с уверенностью утверждать, что, с
Одной стороны, часть книг производилась в домах аристократов
Для нужд их владельцев, друзей и «клиентов» хозяев дома; с дру-
гой — мы имеем доказательства существования все более мно-
гочисленных книжных лавок (tabernae librariae), которыми вла-
98
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
дели торговцы, занимавшие довольно низкое общественное по-
ложение, чаще всего вольноотпущенники. До нас дошли имена
некоторых знаменитых книготорговцев имперской эпохи: се-
мейство Сосиев (Sosii), Дорус, Трифон, Атректус (внутри его
давки стояли стеллажи с книгами, а снаружи на стенах имелись
рекламные надписи). Что же касается римских провинций, то до-
подлинно известно, что книготорговцы существовали в Галлии
(в Лионе и Вьенне) и в Бретани [31]. Случалось, что эти лавки ста-
новились местом диспутов и ученых бесед: Авл Геллий рассказы-
вал, что во времена своей юности (примерно в начале II в. н. э.)
он присутствовал при яростном споре об «Истории» Саллюстия
в одной из лавок римского квартала сапожников [32]. Несколько
столетий спустя, в VI в., в Константинополе книжные лавки,
судя по всему, будут по-прежнему оставаться местом общения,
где будут встречаться друг с другом и люди образованные, и
«псевдоинтеллектуалы».
РАЗНОВИДНОСТИ ЧТЕНИЯ
Чтение литературного произведения требовало определенных
практических и интеллектуальных навыков. Для прочих текстов
было достаточно более низкого уровня грамотности: в частно-
сти чтение объявлений, документов и писем облегчалось тем, что
при их составлении употреблялся ряд повторяющихся речевых
оборотов и формул [33]. До II—III вв. выражение «читать книгу»
означало читать свиток: свиток держали в правой руке, посте-
пенно разматывая его левой, которой сворачивали и уже прочи-
танную часть. В конце концов весь свиток оказывался в левой
руке. Различные этапы чтения свитка, как и некоторые другие
жесты и позы, часто встречаются в римской иконографии, осо-
бенно на надгробных памятниках [34]. Вот несколько примеров
таких поз: свиток в правой руке читающего, который только на-
чинает разворачивать его левой рукой — начало чтения; при-
мерно одинаковые части свитка в каждой руке, а между ними
более или менее значительная часть читаемого текста — свиток
прочитан до середины; развернутый свиток, оба конца которого
зажаты в одной руке, а вторая рука свободна — так называемое
прерванное чтение; развернута заключительная, правая часть
ГЛАВА 2
99
свитка — книга почти дочитана; и, наконец, свернутый свиток
в левой руке — процесс чтения завершен. Известные нам лите-
ратурные и иконографические источники свидетельствуют также
о существовании деревянного пюпитра, предназначавшегося для
того, чтобы поддерживать свиток во время чтения. Пюпитр либо
клали себе на колени (при чтении сидя), либо устанавливали на
высокой ножке. Можно было также изменять по своему усмот-
рению размер развернутой части свитка, для того чтобы иметь
перед глазами либо одну, либо сразу несколько колонок текста,
число которых могло доходить до пяти или шести (если судить
по размерам развернутого свитка на некоторых из дошедших до
нас изображениях). Так можно было одновременно просматри-
вать несколько столбцов. При чтении свитков с иллюстрациями
глазами можно было почти одновременно «читать» ряд после-
довательных изображений, мысленно заполняя временные и
пространственные расстояния между запечатленными на них
сценами [35].
В римской иконографии запечатлены почти все возможные
ситуации чтения: читатель наедине с книгой или перед аудито-
рией слушателей; читающий школьный учитель; оратор, произ-
носящий вслух лежащий перед его глазами текст; путник, чи-
тающий в повозке; человек, возлежащий за трапезой и пробе-
гающий глазами строки свитка, который он держит в руках; де-
вочка (сидящая или стоящая), читающая под сенью портика.
Кроме того, литературные тексты сообщают нам, что кто-то
читал на охоте в ожидании, когда дичь попадет в силки, или
ночью, чтобы побороть бессонницу. Словом, как и сегодня, чте-
ние, кажется, было занятием весьма свободным не только в вы-
боре места и времени, но и в выборе позы.
Грамоте учились по-разному, характер обучения определялся
обычаями той или иной эпохи, общественным положением и
Жизненными обстоятельствами: в семье, у частных педагогов
или в школе. Существовало также несколько этапов и ступеней
обучения, которое, вероятно, начиналось с расшифровки боль-
ших букв. Можно было ограничиться лишь начатками знания
(научиться читать «большие буквы» — «буквы на камнях», как
Гермерот у Петрония [36], и не более того) или достичь с по-
м°Щью преподавателя грамматики и риторики достаточно вы-
сокого уровня грамотности, а может быть, даже в совершенстве
100
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
овладеть всеми навыками чтения. Но прежде чем научиться чи-
тать, учились писать. Дети школьного возраста (который менялся
в разные эпохи в зависимости от того, жила семья в Риме или в
провинции, каков был ее социальный статус и т. д. и поэтому
трудно определим [37]) должны были сначала выучить «вид и на-
звание букв» в алфавитном порядке, по образцам, написанным
на слоновой кости или другом материале, и научиться их писать,
обводя каждую букву, выцарапанную учителем на деревянной таб-
личке, прежде чем процарапать ее самостоятельно. После этого
переходили к слогам, словам и, наконец, к предложениям [38].
Обучение чтению проходило иначе и начиналось позже, так
что некоторые дети (из тех, что недолго посещали школу) умели
кое-как писать, но не умели читать. Учить читать также начи-
нали с отдельных букв, переходя затем к слогам и словам, и
только потом к медленному непрерывному чтению до тех пор,
пока постепенно не достигали, при отсутствии ошибок, доста-
точной скорости чтения — emendata velocitas. Все упражнения чи-
тались вслух, пока губы произносили одно слово, глаза должны
были смотреть на следующее за ним, что Квинтилиан, описав-
ший этот процесс, считал делом весьма сложным, поскольку это
действие требовало dividenda intentio animi, т. е. «раздвоения вни-
мания». Когда человек привыкал читать быстро и без ошибок,
глаза его работали быстрее, чем губы, так что получалось, что он
читал одновременно и вслух и про себя. Когда Петроний нани-
мает раба-чтеца для того, чтобы «читать книгу глазами» (librum
ab oculo legit), он имеет в виду именно такой тип чтения, но мы
не знаем, шла ли речь в данном конкретном случае о чтении с
помощью одних только глаз (и, следовательно, о чтении про
себя), или также о чтении вслух [39].
Самым распространенным способом чтения на всех уровнях
было — вне зависимости от содержания читаемого текста — чте-
ние вслух. Нам это достоверно известно из сочинений того же
Квинтилиана и других источников [40]. Жители Рима могли чи-
тать сами или пользоваться услугами чтеца, бывшего посредни-
ком между книгой и слушателем или группой слушателей. В не-
которых поэтических кружках чтецы менялись в зависимости от
читаемого текста. Использование человеческого голоса объяс-
няет также существовавшее в тот период тесное взаимодействие
между литературным творчеством и процессом чтения. Тексты,
ГЛАВА 2
101
предназначавшиеся для произнесения вслух, находились под
сильным воздействием риторики, навязывавшей свои законы
многим литературным жанрам: поэзии, историографии, фило-
софским и научным трактатам. Такие тексты требовали выра-
зительного чтения, сопровождаемого модуляциями голоса, тона
и ритма в зависимости от типа текста и использованных в нем
стилистических приемов. Неудивительно, что глаголом, кото-
рый использовали для обозначения чтения поэтических про-
изведений, был глагол cantare (петь), а голос чтеца обозначался
термином сапога (пение): чтение текста, таким образом, было
сродни исполнению музыкального произведения [41]. Уже в
школе юный римлянин узнавал, «когда следует задерживать ды-
хание или обозначать паузой цезуру, где кончается и где начи-
нается смысловой фрагмент, когда следует повышать, а когда
понижать голос, с какой интонацией произносить каждый эле-
мент, где замедлить речь, а где ускорить, где усилить, а где
смягчить» [42]. Подобные упражнения начинали с чтения Го-
мера или Вергилия, а затем переходили к лирическим поэтам
(например, к Горацию, избегая, однако, непристойных пасса-
жей), трагикам и авторам комедий. Читали также древних поэ-
тов и прозаиков; наконец, в училищах риторики читали про-
изведения ораторов и историков, читали про себя, следя по
книге за текстом, который громко произносил вслух либо пре-
подаватель, либо по очереди сами ученики с целью обнаружить
возможные ошибки в тексте. Внимательно читать трудного ав-
тора — означало не останавливаться на его «коже», но прони-
кать в его «кровь» к самой «сердцевине» текста [43].
Чтение вслух требовало физических усилий (тем более что оно
часто сопровождалось более или менее энергичными движе-
ниями головы, грудной клетки и рук), а медицина того времени
считала его одним из упражнений, весьма полезных для здо-
ровья [44]. Именно эта жестикуляция, без сомнения, объясняет
часто повторяющуюся в древнеримских изображениях сцену
«прерванного чтения»: чтец останавливался не только тогда,
когда намеревался начать новый отрывок, поговорить с кем-ни-
будь или отдохнуть, но и для того, чтобы освободить одну руку
Для сопровождения только что прочитанного пассажа широким
выразительным жестом. Голос и жесты делали процесс чтения
Похожим на театральное представление.
102
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
Предполагаемое чтение текста перед большой аудиторией
диктовало свои требования письменной литературе, которая, бу-
дучи предназначена для чтения вслух, требовала от автора вла-
дения разнообразными стилями устной речи [45]. Мы видим, что
граница между книгой и словом была весьма расплывчата. Ав-
торы, самостоятельно записывавшие свои тексты, проговари-
вали их шепотом, громко произносили их в том случае, если
диктовал текст писцу, читали свои произведения друзьям, дабы
услышать их суждение (что, по многочисленным свидетельствам,
было практикой весьма распространенной). Таким образом, ли-
тературное произведение во многом зависело от восприятия его
слушателями, так что любое отступление от строгих стилисти-
ческих правил риторики могло ему навредить. Голос чтеца был
частью письменного текста на всех этапах его существования.
«При создании произведения всегда должно помнить о том,
каким образом написанное будет озвучено», — говорил Квин-
тилиан. Однако при всем том чтение вслух звучало по-разному
в зависимости от ситуации и требований самих читаемых тек-
стов [46].
Кроме профессионалов и людей, искусных в этом ремесле,
все остальные читали медленно. Первая трудность возникала
от типа шрифта, выбранного копиистом. Это мог быть шрифт
каллиграфический (называвшийся «книжным» — libraria), по-
лукурсив или курсив, полный лигатур, являвшиеся источни-
ком путаницы. Люди, освоившие какой-либо один шрифт, не
всегда могли с легкостью читать (точнее, расшифровывать)
другой. Кроме того, скандирование замедляло движение глаз
тем больше, чем выразительнее, четче и богаче интонациями
было чтение. Медленный темп чтения диктовали и другие фак-
торы. Вплоть до I в. н. э. в римских книгах применялась интер-
пункция (jnterpuncta), т. е. расстановка точек между словами, но
с конца 1 в. даже в латинских текстах стало преобладать непре-
рывное письмо (scriptio continua) греческого мира [47], не по-
зволявшее недостаточно натренированному взгляду быстро
определять границы слов и, следовательно, их значение. Для по-
нимания непрерывного письма, более чем когда-либо требова-
лась помощь голоса: когда расшифрована графическая струк-
тура, слух лучше, чем зрение, улавливает последовательность
слов и смысл фраз, моменты, когда читающий должен сделать
ГЛАВА 2
103
паузу. Знаки препинания служили не столько для «логического»
структурирования письменного текста, сколько для его «рито-
рического» структурирования, и обозначали места, где чтец дол-
жен был сделать паузу и вдохнуть, задавая тем самым ритм, ко-
торому тот должен был следовать. Впрочем, использование их
было бессистемным и не подчинялось никаким установившимся
правилам.
Однако непрерывное письмо имело одно преимущество:
текст, предлагавшийся вниманию читателя, был абсолютно ней-
трален, и каждый мог делать паузы в зависимости от сложности
написанного или, что еще важнее, от уровня своего понимания
его содержания, руководствуясь собственной манерой чтения.
Из-за отсутствия каких-либо ограничений со стороны автора
(или «издателя») хорошее чтение требовало не только хороших
практических и интеллектуальных навыков, но и предваритель-
ной подготовки текста. Необходимо было проставить значки,
отделяющие слова друг от друга, обозначить места, где надо сде-
лать паузу или поставить знак вопроса, а также разделить поэ-
тический текст на стихи.
«Одним из величайших достижений древних римлян» [48]
стало публичное чтение как художественных, так и разных дру-
гих сочинений. Для того чтобы «пустить в оборот» литературное
произведение, автор часто шел на такое общественное меро-
приятие, как recitatio [49] - чтение своего сочинения вслух
(в латинском языке глагол recitare означал не рассказ по памяти,
а «двойное действие глаза и голоса», чтение написанного текста
перед слушателями [50]). Вслух читали в общественных местах,
залах для собраний, клубах (statio) и театрах. Длительность се-
анса, как правило, ограничивалась размерами свитка, длина ко-
торого, кроме особых случаев, всегда оставалась более или менее
одинаковой и устанавливалась по договоренности между пере-
писчиками. Следует обратить особое внимание на то, как много
такие публичные чтения способствовали развитию обществен-
ной жизни, светскому и интеллектуальному общению и едине-
нию. Тот факт, что они превратились в своеобразный литера-
турно-общественный ритуал, привлекал к участию в них не
только людей образованных и не слишком хорошо подготов-
Ленных любителей, но и невнимательных слушателей, откро-
венно скучавших на подобных собраниях. Благодаря этому
104
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
новое произведение становилось известно гораздо более широ-
кому кругу людей, чем собственно круг читателей.
Дома читали самостоятельно или пользовались услугами до-
машних чтецов, рабов или вольноотпущенников, чье присут-
ствие в доме богатого римлянина не вызывало удивления (на-
пример, у императора Августа их было несколько). Все это дает
основание полагать, что тот, кто прибегал к помощи чтеца,
вполне мог читать и самостоятельно. Многие источники указы-
вают на то, что слуги читали вслух на приемах, банкетах и своего
рода «предпремьерных показах», которыми автор потчевал узкий
круг своих друзей [51]. Такого рода чтения позволяли укрепить
дружеские связи, установить новые знакомства и поддерживали
культурные традиции, а новичкам помогали усвоить незнакомые
им правила поведения.
Чтение про себя все же существовало, хотя и было распро-
странено гораздо меньше [52]. Возможно, к нему прибегали
главным образом при чтении писем, документов и сообщений,
но многие тексты, от Горация до святого Августина, доказы-
вают, что таким способом читали и литературные сочинения
[53]. На самом деле, особенно в императорском Риме, спо-
собы и обстоятельства чтения были весьма разнообразны.
В наше время чтение про себя — высшая ступень владения на-
выком, обучение которому начинается с чтения вслух, за ко-
торым следует чтение шепотом. Таким образом, чтение вслух
или про себя может служить указанием на социокультурный
уровень той или иной общественной группы [54]. Однако в пе-
риод Античности чтение про себя не являлось признаком глу-
бокого владения навыком: по имеющимся свидетельствам более
вероятно, что оно было результатом свободного выбора, обу-
словленного различными факторами, такими, как, например,
настроение читателя. Таким образом, многие из тех, кто читал
про себя, могли при определенных обстоятельствах читать вслух.
Чтение шепотом также применялось довольно часто. Выбор
определялся не столько уровнем подготовки читающего,
сколько другими факторами: окружающей обстановкой и ха-
рактером текста.
Слишком «выразительное» чтение предназначалось главным
образом для некоторых видов литературных произведений, ко-
торые испытывали на себе сильнейшее влияние риторики и ее
ГЛАВА 2
105
приемов и к которым могли иметь доступ в качестве читателей
или слушателей лишь самые образованные люди, освоившие ри-
торические приемы. Но существовали также и другие виды и
формы чтения, отвечавшие потребностям другой публики, поя-
вившейся только в 1 в. Если Апулей во вступлении к «Метамор-
фозам» говорит, что желает усладить слух читателей «милым ле-
петом» (пер. М. Кузмина) [55], это значит, что он адресовал свой
роман именно таким читателям и предполагал, что его будут чи-
тать в одиночестве и шепотом. Можно предположить, что ше-
потом или про себя читали не только серьезные тексты, но и раз-
влекательные книги, не слишком приспособленные для чтения
вслух на публике.
НОВЫЕ ЧИТАТЕЛИ
Новый читатель начала имперского периода — это читатель, ко-
торого не «обязывает» читать его положение образованного че-
ловека, военного или гражданского чиновника, преподавателя
или ученика. Этот читатель обращается к книге не только в про-
фессиональных целях, он читает для собственного удовольствия,
по привычке и из уважения к культуре. Одним словом, новая чи-
тательская аудитория состоит из людей, которые читают вне вся-
кой связи со своими основными занятиями, т. е. из людей гра-
мотных и даже образованных, профессия которых не требует об-
ращения к письменным текстам.
Лукиан, злой сатирик П в., оставил нам описание одного из
типичных читателей своего времени, который накапливал
книги и, возможно, даже много читал, но немного выносил из
прочитанного, потому что был не способен «видеть красоты и
недостатки тестов, понимать написанное и оценивать стиль ав-
тора». Сарказм Лукиана обращен на «невежественного» чита-
теля, у которого при этом «всегда в руке книга» и который умеет
читать «уверенно и бегло». Разумеется, этот «библиофил» (как
и еще один такой невежда из Коринфа, читавший «Вакханок»
Еврипида и прочие произведения, слишком сложные для че-
ловека, имеющего столь скудное образование) «оскорбляет»
книгу, «перевирая ее смысл», путает имена авторов, названия
произведений и литературные жанры, терзает поэзию и прозу
106
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
и смеет даже пытаться представить себя человеком образован-
ным, однако он все-таки читает книги сам или велит себе их
читать [56].
Чтение стихов или больших прозаических произведений, как
древних, так и новых, иногда достаточно сложных для понима-
ния, было ограничено кругом образованных людей, более мно-
гочисленным, чем в предыдущие эпохи, но все же достаточно
узким. Что же до невежд, помешанных на книгах и библиоте-
ках, то их глупость оскорбляла великих авторов. Однако такие
библиоманы и малообразованные читатели были способны по-
нимать менее сложные тексты и входили в число тех новых чи-
тателей, круг которых мы и пытаемся сейчас очертить. Они при-
надлежали к тем сословиям, которых латинские авторы имено-
вали vulgus, plebs, media plebs, plebeia manus. Состав этих читате-
лей не был однородным, они различались по социальному
происхождению и образованию; это была сильно стратифици-
рованная публика, интересы и читательские предпочтения ко-
торой были весьма и весьма разнообразны. Этих безымянных чи-
тателей во времена Плиния и Тацита [57] можно было встретить
и на форуме, и в цирке. В большинстве своем они происходили
из среднего, более или менее (иногда даже очень прилично) об-
разованного класса ученых, чиновников, военных достаточно
высокого ранга, грамотных фермеров и ремесленников, богатых
выскочек и женщин из обеспеченных семей, а также девиц лег-
кого поведения (faciles puellae).
В имперский период все большее число женщин овладевает
навыками письменной речи. Конечно, и в период Республики
некоторые женщины из высших слоев общества могли получить
образование (как, например, Корнелия, мать братьев Гракхов,
или Семпрония, читавшая множество греческих и римских ав-
торов), но это были случаи исключительные. Фигура чтицы поя-
вилась лишь в эпоху Августа, и, начиная именно с этого пе-
риода, мы находим в росписях Помпеи и на саркофагах изобра-
жения читающих женщин. Вхождение женщин в мир чтения
прошло не без труда. Общественное мнение Рима, которое раз-
деляли и некоторые литераторы, заключалось в следующем: было
бы лучше, если бы «женщина не понимала ничего из того, что
она читает в книгах», потому что нет ничего невыносимее уче-
ной женщины [58].
ГЛАВА 2
107
Овидий, напротив, стремился удовлетворить самые широкие
читательские круги своего времени и включил женщин в число
media plebs своих читателей. Овидий — ключевая фигура в новой
системе взаимоотношений женщин и письменной культуры.
Библида (Библис), смущенная своей кровосмесительной стра-
стью к брату, пытается описать свои бурные и порочные чувства
на вощеной дощечке, то и дело стирая уже написанное, чтобы
подыскать другие слова [59].
Филомела, которой отрезали язык, пишет на ткани свою mi-
serabile carmen (жалобную песнь = «злосчастную повесть» в пер.
С. В. Шервинского), в которой рассказывает о совершенном над
ней насилии, чтобы сестра узнала о случившемся с ней несча-
стье [60]. Письма Героид, например, Брисеиды, мокры от слез,
пролитых во время их написания [61]. Именно женщинам Ови-
дий посвящает третью книгу своей «Науки любви» [62], именно
для них пишет свой трактат «Об уходе за лицом», где раскрывает
искусство готовить и накладывать грим. Любовным страданиям
женщин, причем не только молодых, посвящена и его поэма
«Средства от любви». Женщины окончательно вошли в мир
письменной речи, теперь их часто изображают за чтением и пись-
мом, когда они рассказывают о своей жизни и своих чувствах.
Ответ литераторов на возросший читательский спрос весьма
разнообразен и зависит как от стратегии автора, так и от со-
циокультурного состава читающей публики. Об этом разнооб-
разии нам говорит ожившая книга, которой авторы доверили
самой рассказать свою историю [63]. Гораций представляет
свою книгу в образе молодого человека, горящего желанием по-
кинуть родительский дом (знак бытования книги вне узкого
круга образованных людей), но вынужденного общаться с «про-
стым народом», малокультурным и безымянным, и, следова-
тельно, иметь дело с чтением плохого качества, которого автор
сильно опасается. Овидий видит в книге посредника между
своим творчеством и «другом-читателем», к которому книга об-
ращается за помощью. Его читатели — безвестные простолю-
дины (plebs), число которых значительно возрастет в эпоху Мар-
Чиала, когда начнут читать даже представители самых малооб-
разованных сословий.
Следствием увеличения численности и диверсификации чи-
тательской аудитории в период Империи стало появление
108
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
«массовой» литературы, литературы развлекательной, выде-
лившейся из традиционных жанров. Это и мечтательная поэ-
зия, и переложения знаменитых эпических произведений;
история, сведенная к кратким биографиям и пересказам клас-
сических сочинений; маленькие книжечки по кулинарии и фи-
зическим упражнениям; сочинения о том, как проводить сво-
бодное время; описания игр, эротическая литература, горо-
скопы, книги по магии, сонники и особенно повести, в основе
сюжета которых лежат стандартные ситуации, стереотипные
описания и схематичные персонажи; повести, полные запу-
танных эпизодов, загадок и театральных эффектов, на фоне ко-
торых разворачиваются приключенческие или любовные исто-
рии. Среди литературы, предназначавшейся для массового чи-
тателя того времени, встречались и произведения, которые
можно было бы назвать «памфлетами» [64]. Мы имеем в виду
Acta Alexandrinorum, воссозданные на основе обнаруженных
греко-египетских текстов: это была литература «подрывная» и,
скорее всего, подпольная, описывавшая яростное сопротивле-
ние и казнь жителей Александрии, восставших против рим-
ского владычества. Некоторые развлекательные книги могли
быть интересны как читателям со средним (или низким) уров-
нем культуры, так и образованной публике, словом, всем
новым читателям, привыкшим читать только ради того, чтобы
«получать удовольствие от текста». Культурные барьеры между
различными группами читателей не обязательно предполагали
чтение разных произведений: все читали примерно одно и то
же, а различия заключались в способах чтения, глубине пони-
мания и оценки текста. Здесь мы вынуждены говорить о «го-
ризонтальном движении» книги.
Вернемся к Овидию, который упоминает несколько литера-
турных произведений нравоучительного характера, содержав-
ших также советы относительно того, как следует развлекаться
[65]. Это своеобразная «библиотека» трактатов и небольших
произведений, созданных для того, чтобы служить «путеводи-
телями по свободному времени», из которых читатель с удо-
вольствием узнавал изложенные в форме художественного про-
изведения правила некоторых салонных игр, в которые пред-
лагалось играть во время празднования сатурналий [66]. Во вре-
мена Овидия такие книги были средством общения, их часто
1ЛАВА2
109
дарили друг другу люди образованные и культурные, которые
не считали для себя зазорным читать и такие посредственные
сочинения. Сам Овидий тоже пишет книги, основная задача
которых — развлекать читателя. Особенно это касается книг
эротического содержания, «количество которых, по всей ве-
роятности, отвечает запросам публики» [67]. Несколько деся-
тилетий спустя этот тип литературы распространится и среди
более широкого и менее культурного круга читателей. Для
Марциала, чье творчество адресовано гораздо большему числу
читателей, чем творчество Овидия, публикация новой книги в
йреддверии Сатурналий является
«удачной возможностью объяснить читателям, что и его поэзия
(.. может веселить народ, будучи предложенной ему в то время, когда
• он с наибольшей страстью предается развлечениям, а новые книги
всячески стараются удовлетворить эту его потребность» [68].
Проследить, чем отличаются произведения, предназначен-
ные для читателей, объединенных общей любовью к развлече-
ниям, но отличающихся друг от друга уровнем культуры и об-
разования, легче всего на примере эротической литературы.
Здесь мы найдем как изощренные любовные фантазии Овидия,
так и любимые солдатами «Милетские рассказы» Аристида, из-
вестные своей непристойностью; эротические чувственные кни-
жечки (molies libelli) Элефантиса с непристойными иллюстра-
циями (obscenae tabellae), очень модные в 1—II вв. (экземпляр
такой книжки был даже у Тиберия); и, наконец, все те свитки,
На которых не было ничего, кроме серий figurae Veneris (порно-
графических картинок) [69]. В этой «неформальной» литера-
туре весьма значительное место занимают художественные
произведения, в первую очередь греческие романы («Лев-
киппа» и «Клитофон» Ахилла Тация, «Дафнис и Хлоя» Лонга,
«Эфиопские приключения» Гелиодора), нравившиеся как
людям, привыкшим читать серьезную литературу, так и мало-
образованным читателям и читательницам, которых не увле-
кало чтение великих произведений, потому что они мало что
в них понимали. Лонг называет свой роман «предметом, кото-
рый приятно иметь», как бы предуведомляя читателя об удо-
вольствии, которое тот получит [70]. В этих книгах простого
110
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
читателя (vulgus) привлекали любовные сюжеты, полные вол-
нующих сердце сцен и разнообразных перипетий, когда лю-
бовники непрестанно теряют и находят друг друга, изменяют
и мирятся в сумерках или при свете дня в атмосфере рели-
гиозности или чувственности [71].
Образованные женщины, вероятно, обожали такую сенти-
ментальную и фантастическую литературу, изобиловавшую жен-
скими образами, что и должно было казаться им особо привле-
кательным. Антоний Диоген, от которого до нас дошли только
несколько фрагментов текстов и их краткие пересказы, посвя-
тил свой роман «Чудеса за краем света» (Les Merveilles au-dela de
Thule) своей сестре Исидоре [72]. Не важно, было ли это посвя-
щение настоящим, но оно доказывает, что некоторые литера-
турные жанры предназначались также и (или преимущественно)
женщинам. Образованная женщина, отстраненная от обще-
ственной деятельности, могла, читая произведения, в которых
она видела себя, создать собственный мир [73]. Такое чтение —
про себя или шепотом — должно было сильно отличаться от
ораторского чтения вслух, которое можно квалифицировать как
«мужское». Обстановка, в которой читала женщина, воссоздан-
ная по фрескам Помпей (поздний эллинистический стиль), —
это домашняя обстановка. Чаще всего женщина читала в оди-
ночестве, все свое внимание сосредоточив на свитке. Однако из-
вестны примеры, когда женщина читала и вне дома: «[...] в руках
она держала развернутый с обеих сторон свиток и, казалось,
уже прочла часть его и продолжала читать дальше; на ходу она
беседовала с одним из своих сопровождавших» [74]. Это данное
нам Лукианом описание читающей на ходу женщины, которая
время от времени отрывается от своего занятия, чтобы погово-
рить с окружающими, является драгоценной иллюстрацией
женского чтения.
Оставаясь в области художественной литературы, но расши-
рив рамки нашего исследования за счет латинского романа, мы
не можем не обратить внимания на два произведения, которые
еще нагляднее проявляют различия между читателями, относя-
щимися к разным социокультурным группам и представляю-
щими разные уровни чтения: это «Сатирикон» Петрония и «Ме-
таморфозы» Апулея. Роман Петрония, героями которого стали
разбойники, педерасты, развратные женщины и выскочки-мил-
ГЛАВА 2
111
дионеры, мог привлечь не только образованных читателей, но и
людей попроще, в частности «нуворишей», которых было много
В греко-римском обществе того времени. Но образованный чи-
татель мог увидеть в этом романе выражение внутренних стра-
даний, горькие глубины, которых не бывает в развлекательных
книгах, и насладиться различными уровнями стиля [75]. Точно
fax же «Метаморфозы» Апулея адресованы, прежде всего, «при-
дирчивому», т. е. очень внимательному, читателю (lector scrupu-
lous) [76]. По мнению Апулея, читатель сам должен разглядеть
и уловить все оттенки стиля, все намеки и аллюзии, имеющиеся
й' адресованном ему тексте, но ему это удастся только если он
Снизойдет до того, чтобы «свиток египетского папируса», на ко-
тором написан текст, «читать со вниманием к подробностям» (1п-
Spicere) [77]. Одним словом, книга-роман, судя по всему, появи-
лась для развлечения. И, прежде всего, для развлечения образо-
ванных людей.
Тем не менее разнообразие типов читателей помещает роман
в культурный контекст, сильно отличающийся от того, к кото-
рому принадлежали первоначальные его адресаты. Те же самые
тексты постепенно распробовала менее подготовленная пуб-
лика, которая не слишком хорошо владела навыками чтения и
довольствовалась тем, что улавливала лишь основную сюжет-
ную линию романа — любовные приключения, фантастические
эпизоды — публика вовсе не «придирчивая», поскольку менее
образованная. Таким не слишком хорошо образованным чита-
телям предлагались тексты менее высокого уровня, сведенные
К основным любовным и фантастическим элементам, не имев-
шие иной цели, кроме как возбудить самую примитивную чув-
ственность: «Пунические сказки» (Phoinikika) Лоллиана [78],
Сохранившиеся лишь частично «Сказки острова Родос» (Rho-
diaka) Филиппа из Амфиполиса, которые один ученый труд на-
зывал в числе произведений «самых, что ни на есть, непри-
стойных» [79].
В Египте были найдены художественные произведения
весьма низкого уровня, в которых мы находим справочный ап-
парат для «помощи неопытным читателям», встречающий-
ся и в некоторых книгах, предназначенных для изучения в шко-
ле [80]. Один из отрывков подобного рода романов, называе-
мый «Греческим Сатириконом», записан способом, призван-
112
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
ным облегчить процесс чтения [81]. Это заставляет нас пред-
положить, что речь шла о том, чтобы помочь как менее иску-
шенным читателям, так и читателям, оставшимся на школьном
уровне.
Авл Геллий пишет, что в порту Бриндизи продавались гре-
ческие книги, он купил несколько книг по сходной цене
и «просмотрел» их за две ночи [82]. В этих книгах, если верить
автору, он нашел, помимо всего прочего, рассказы чудесные
и невероятные, что могло быть сказано только о развлека-
тельной литературе, предназначенной для путешественников,
намеревающихся плыть на корабле, и самих моряков. Нам
также известно, что существовали бродячие торговцы, которые
обходили дома и предлагали книги [83] и клиентура которых,
скорее всего, состояла из плебеев, способных прочесть не
слишком сложные произведения, снабженные аппаратом для
помощи в чтении.
Наконец, упомянем о фрагментах греческих иллюстриро-
ванных книг, найденных в Египте, которые представляют собой
или адаптацию великих произведений, таких, например, как
поэмы Гомера (в сокращенном и упрощенном варианте), или
тексты совсем новые, предназначенные для того, чтобы пре-
вратить иллюстрированную книгу в предмет чисто развлека-
тельный. Книги такого рода, вне зависимости от их исполне-
ния — бедного или изысканного, — не предназначались для лю-
бителей литературы. Их содержание представляло собой смесь
общих мест и банальностей и могли адресоваться или читателю
со скромными интеллектуальными и культурными запросами,
или окружавшим себя книгами нуворишам, к которым можно
отнести Тримальхиона Петрония, владевшего тремя библиоте-
ками, но умевшего читать только книги адаптированные или
иллюстрированные, в которых использовались приемы, упро-
щавшие понимание текста [84]. Мы становимся свидетелями
искажения первоначальных высоких образцов литературного
«свитка» ради того, чтобы популяризировать его в малообра-
зованных кругах общества.
Учеными были обнаружены также фрагменты книг II—III вв.,
которые наводят на мысль о том, что они состояли главным об-
разом из картинок, а текст, сведенный к минимуму, лишь пояс-
нял эти картинки: речь идет о сцене, изображающей историю
ГЛАВА 2
113
Амура и Психеи [85], об иллюстрации к «Илиаде» (эпизод с Бри-
сеидой [86]) и некоем подобии гомеровской компиляции, в ко-
торой мы видим призрак Патрокла, явившийся Ахиллу [87]. На-
ходили также иллюстрированные книги очень низкого языко-
вого и интеллектуального уровня, к которым принадлежит на-
поминающий «комиксы» или альбом карикатур свиток, посвя-
щенный подвигам Геракла [88].
Словом, эпоха Империи стала свидетелем распространения
«литературы для грамотных», несколько отличавшейся от тра-
диционной литературы, которая адресовалась более образо-
ванным читателям. Последние обращались к массовой лите-
ратуре точно так же, как и читатели попроще могли, если по-
желают, читать произведения высоких жанров. Читательская
среда становится более сложной, разнообразной и неопреде-
ленной, и авторы понемногу начинают осознавать этот факт,
стараясь отвечать на ожидания читателей не только увлека-
тельным содержанием своих сочинений, но и другими спосо-
бами; начиная с Овидия мы замечаем стремление сделать книгу
более удобной для чтения и тем самым привлечь к ней потен-
циальных читателей. Подобная практика встречается уже
в эпоху Эллинизма, но именно в императорском Риме она до-
стигла своего расцвета. Овидий, внимательно относившийся к
своим безымянным читателям, в эротических, наиболее попу-
лярных, произведениях время от времени указывал на то, какое
место занимает данная книга по отношению к опубликован-
ным ранее, или сравнивал между собой новое и предшествую-
щее издание, или отсылал читателя к другим своим произвде-
ниям [89]. Плиний начинает свой труд с подробного оглавле-
ния всех книг своей «Естественной истории», чтобы сделать ее
доступной для простонародья, фермеров и ремесленников,
всех, кто пожелал бы ее прочесть. В то же самое время мы
видим, что существуют и другие произведения научно-техни-
ческого содержания, во вводной части которых используется
тот же прием.
Той же потребности приблизить книгу к читателю или, если
хотите, пойти к нему навстречу, мы обязаны появлением ко-
дексов, книг-тетрадей со страницами. Кодекс более легок в
производстве, он позволял сократить сроки публикации и, сле-
довательно, облегчить распространение книги. При одинако-
114
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
вом объеме текста экономия места была весьма значительной,
потому что теперь можно было писать на обеих сторонах листа,
и стоимость кодекса была меньше стоимости свитка. Нако-
нец, свойственная кодексу форма давала читателю освободить
вторую руку. В конце I в. поэт Марциал, так старавшийся уго-
дить своим читателям, что указывал в них, в каких книжных
лавках можно купить его произведения [90], первым из лите-
раторов открыл для себя новые возможности, которые давал
кодекс [91]. Хотя люди, получившие сколько-нибудь сносное
образование, Марциала не читали, он писал, думая о много-
численных и менее обеспеченных читателях: центурионах, мо-
лодых женщинах, публике (plebs), наблюдавшей за ходом лите-
ратурных состязаний, обо всех, кто, в разной степени овладев
навыками чтения, хотел читать маленькие и удобные книги его
стихов.
СВИТОК И КОДЕКС:
ОТ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО К НОРМАТИВНОМУ ЧТЕНИЮ
Кодекс литературного содержания — римское изобретение. На-
чиная со II в. книга в виде свитка, пришедшая из эллинистиче-
ского мира несколько веков тому назад, постепенно отступила
под натиском кодекса и в конце концов оставила за ним поле
битвы. Когда это произошло? В греческом мире, который мы
лучше знаем благодаря находкам, сделанным в Египте, кодекс
окончательно воцарился в начале V в. Но на римском Западе это,
судя по всему, произошло раньше. Мы можем это утверждать,
даже обладая крайне скудным количеством сведений, не дающем
нам возможность установить точную дату. Уже начиная с конца
1 в. Марциал говорит о кодексах литературного содержания
(Гомер, Вергилий, Цицерон, Тит Ливий, Гораций и его собст-
венные эпиграммы), которые производили книготорговцы,
т. е. о некотором числе экземпляров, но по его словам можно
догадаться, что речь идет о каком-то новшестве. Что же касается
самых древних римских книг, дошедших до нас в свитках, то они
датируются самое позднее концом III — началом IV в., а один
из самых древних сохранившихся кодексов — отрывок латин-
ского произведения, называемый «О войне с македонцами»
ГЛАВА 2
115
(De bellis macedonicis), датируется I или II в. [92]. Все это дает ос-
нование предполагать, что на римском Западе окончательная
победа кодекса произошла в конце III в., и, следовательно,
раньше, чем в греческой части Империи.
Напротив, христиане, как на Востоке, так и на Западе, очень
быстро освоили кодекс, так что почти все их книги с самого на-
чала имели именно такую форму. Но из этого не стоит делать
вывод, что христиане его и изобрели: в примитивной форме до-
щечек для письма, тетрадей и записных книжек кодекс был из-
вестен в римском мире давно. Кроме того, христианство в пер-
вое время своего существования было религией, основанной на
слове, проповеди, на «живом голосе», который в греко-римской
традиции лежал в основе риторики, школьного и технического
образования, даже если в этих случаях и прибегали к помощи
книги как к учебнику. И все же, когда христианство столкну-
лось с обществом, в котором многие имели доступ к письмен-
ной культуре, и осознало, что для того, чтобы распространить
свое учение, необходимо использовать книгу, оно решительно
выбрало кодекс.
Об этом выборе много спорили [93]. Может быть, следует ис-
ходить из констатации того факта, что свиток был связан с куль-
турными традициями господствующих классов, а кодекс утверж-
дал свое своеобразие. Записанное «Откровение» предназнача-
лось всем, и христианство обращалось к грамотным людям раз-
ных социальных и культурных групп, не только к читателям,
привыкшим к книге-свитку, но и к людям менее образованным,
которые, хотя и были знакомы со свитком как носителем не-
сложных произведений развлекательного или популярного ха-
рактера, но привыкли к более легким текстам учебного или при-
кладного характера, следовательно, привыкли к кодексу, форма
которого была более удобна для школьных тетрадей, записных
книжек или учебников.
Христиане выбрали кодекс — наиболее доступный среднему
читателю тип книги, доступный не только с психологической,
но и с экономической точки зрения. Успех кодекса у христиан
обеспечивался преимуществами, которые давала ему его струк-
тура: на страницах кодекса можно было разместить гораздо
больше текста, чем на свитке (и, следовательно, с большим
Удобством группировать канонические тексты новой религии),
116
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
легче было искать нужные абзацы и отрывки. Вот причины, по
которым христиане выбрали кодекс. Однако поначалу им поль-
зовались только для записи текстов Священного Писания, а все
остальные сочинения, как светские, так и религиозные (патри-
стика), в течение еще некоторого времени существовали в свит-
ках. Свиток уступил место кодексу, и одновременно папирус
уступил место пергамену. Сделанный христианами выбор
в пользу кодекса, или, точнее, оказанное ему явное предпочте-
ние, имеет самое непосредственное отношение к этому процессу.
Как бы то ни было, мы видим, что в поздней Античности как
на Востоке, так и на Западе, кодекс используется во всех слоях об-
щества для записи любых текстов: и светских, и христианских.
Распространение кодекса не привело к немедленной смене
стратегий и разновидностей чтения христиан, которые массово
принимали новую веру. Верующие переписывали книги, обме-
нивались ими, читали как поодиночке, так и на собраниях об-
щины. Христианские тексты были написаны для «новых» чита-
телей с весьма средним, чтобы не сказать низким уровнем об-
разования, из числа которых христианство и вербовало себе
новых адептов. Можно с достаточным основанием предполо-
жить, что «густая и почти непроходимая поросль», каковой была
раннехристианская литература, читалась как литература худо-
жественная [94], как серия рассказов, отражавших обществен-
ную и духовную обеспокоенность того времени, и именно так
она и воспринималась читателями. Лишь позже некоторые из
этих текстов стали каноническими (писания, считающиеся апо-
крифами, были отвергнуты и осуждены) и были возведены в
ранг доктрины, которую всякий добрый христианин должен был
прочесть, если, конечно, он умел это делать.
В остальном все эти тексты, как канонические, так и апо-
крифические (вторые дополняли первые, поскольку использо-
вали при изложении событий разнообразные художественные
приемы, вводили в повествование новые персонажи, события и
подробности), как, впрочем, и тексты апокалиптические или
мистические, деяния мучеников, жития святых, exempla (при-
меры для подражания) и другие христианские тексты, были
своего рода вариантом языческой развлекательной литературы,
в первую очередь романа. В их основе лежали чувства персона-
жей и эмоции, вызываемые тем или иным событием, некоторое
ГЛАВА 2
117
количество периодически повторяющихся сюжетов, таких, как,
например, ужасные казни мучеников, их неколебимая убежден-
ность и готовность умереть — amor mortis, рассказы о путешест-
виях, приключениях и чудесах, словом то, что составляло суще-
ство всей предшествовавшей романной литературы. Подчерк-
нем еще раз, что речь шла о «литературе подрывной», пред-
назначавшейся либо для образованных читателей, способных
оценить ее риторические и вероучительные качества, либо для
людей со средним или невысоким уровнем культуры, чтение ко-
торых ограничивалось смакованием сюжетной линии и весьма
примитивным пониманием основ христианской морали.
Чем шире распространялись кодексы, приобретшие обычную
форму книги где-то между III—V вв., тем более глубокие пере-
мены происходили в обществе и культуре. Количество грамот-
ных и, следовательно, читающих христиан и язычников посто-
янно уменьшалось, больше всего неграмотных было среди жен-
щин. В IV в. Кирилл Иерусалимский настоятельно рекомендует
как мужчинам, так и женщинам приносить на литургические
собрания книги, но даже он предполагал, что некоторые муж-
чины предпочтут слушать, как читают другие, а женщины вме-
сто того, чтобы читать, будут наслаждаться песнопениями [95].
Святой Августин считал, что женщине достаточно быть просто
грамотной (litterata), т. е. знать алфавит [96].
На закате Империи лишь некоторые знатные дамы-христи-
анки блистали своей эрудицией, читая не только на латинском
и греческом, но и на древнееврейском, родном языке Ветхого
Завета. Мелания, знатная римская матрона, признанная свя-
той, ежедневно посвящала несколько часов чтению Писания
или сборников проповедей: для нее жития святых отцов были
почти что развлекательной литературой. Мелания, страстно
любившая книги, старалась приобретать их как можно больше,
покупая, одалживая и ежедневно переписывая собственно-
ручно [97]. Однако Мелания, как и другие христианки из числа
знати IV в.: Блезилла, Паола, Евстахия, принадлежала к огра-
ниченному кругу элиты, который очень скоро должен был ис-
чезнуть. В V—VI вв. привычка к чтению останется только у слу-
жителей Церкви.
Несмотря на то что первоначально распространение кодексов
было вызвано возросшим спросом на книги, постепенно они пре-
118
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
вратились в предметы, нужные лишь немногим, поскольку без-
грамотность, весьма заметная уже в IV в., возросла в последующие
два столетия. Параллельно происходили глубокие изменения
в практике и способах чтения: появление кодекса изменило само
понятие «книги». В случае со свитками, это понятие оставалось
неизменным и было тесно связано с техникой их производства
и содержанием: свиток позволял моментально установить ассо-
циативную связь между предметом и произведением, не важно, за-
нимало ли последнее один или несколько свитков. В последнем
случае некоторые «книги» читались по отдельности, причем, слу-
чалось, что одни читались больше, чем другие, хотя они очень
редко заключали в себе произведение целиком. Прочесть какой-
либо текст до конца на практике означало прочесть один или два
текста, уместившихся на одном свитке.
Кодекс, объединявший в одной книге-вместилише несколько
текстов, связанных между собою (одно или несколько произве-
дений одного автора, сборник однотипных рассказов) или со-
вершенно автономных, т. е. содержащий разнообразные произ-
ведения, составлявшие иногда то, что называли «библиотекой без
библиотеки» [98], спровоцировал глубокие изменения как самого
понятия книги, так и полноценного завершенного чтения. Книга
перестала ассоциироваться с произведением, в книгу-предмет
могли быть помещены тексты, качество и объем которых более
не диктовались техническими условиями производства; закон-
чить чтение отныне означало прочесть весь кодекс целиком, даже
если последний, как это чаше всего и было, содержал несколько
произведений.
Именно объединение в одном кодексе книг, составляющих
части одного произведения или нескольких разных произведе-
ний, иногда сильно между собой различавшихся, влечет за собой
в IV—V вв. появление новых и интенсивное использование ста-
рых «издательских приемов», предназначавшихся для обозначе-
ния границ внутри текста или между текстами, особенно разно-
родными. Применение таких приемов не было обязательным
при создании свитков, поскольку каждая текстовая единица
ограничивалась размерами самой книги, отдельного предмета,
содержанием которого она и являлась. Необходимость отделять
друг от друга различные произведения, содержавшиеся в кодексе,
требовала использования особых шрифтов, отличавшихся раз-
ГЛАВА 2
119
мером и формой от основного текста, украшенных орнаментом
и выделенных цветом, для заглавия и окончания каждого тек-
ста. Развитие орнаментации, часто сопровождавшееся переме-
ной шрифта, служило той же цели. Наконец, для того чтобы на-
гляднее обозначить границу между концом одного и началом
следующего текста, переписчики начали применять две фор-
мулы: «книга заканчивается» (/ ’explicit) и «книга начинается»
(I’incipit). Однако, несмотря на эти ухищрения, читатель, в конце
концов, воспринимал как единое целое все, даже совсем разные,
тексты, содержащиеся в одной книге, и обращался с ними как
с единым текстом, что сильно отражалось на интеллектуальной
деятельности.
Поскольку кодекс не был ограничен относительно постоян-
ными техническими условиями производства, а мог, напротив,
иметь различный формат и объем, который варьировался от
удобной в обращении книги до толстого тома, кончилось тем,
что он спровоцировал изменения в психологии чтения: некото-
рые книги из-за их структуры исключали или навязывали чита-
телю тот или иной тип поведения. Хотя в начале своего суще-
ствования кодекс был инструментом, облегчавшим процесс чте-
ния и дававшим читателю большую свободу движений, по-
скольку им можно было управляться одной рукой, в эпоху
поздней Античности (эпоху больших социальных и духовных
волнений, стремившуюся упорядочить и сохранить как языче-
ское, так и христианское наследие) их формат постоянно уве-
личивался, так что некоторые книги были просто огромными.
В них помещалась целиком вся Библия и комментарии к ней,
своды законов и судебных решений, классические тексты, при-
знанные новым учением: множество толстенных томов, с кото-
рыми было очень трудно управляться, были предназначены не
столько для чтения, сколько для справочных целей. Подобное
их использование облегчалось как нумерацией страниц, так и
прочими приемами организации текста.
Однако освободившаяся вторая рука позволяла читающему
одновременно и писать, следовательно, делать пометки на полях
кодекса, что постепенно стало обычной практикой. В VI в. Кас-
сиодор и другие будут размышлять о том, каким способом можно
было бы включить подобные выписки в текст книги [99]. В ко-
дексе для этого существовали не только поля, там были пустые
120
ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО
страницы, не занятые основным текстом места, форзацы, об-
ратные стороны обложки, словом, достаточно много мест, на ко-
торых можно было сделать разнообразные и «беспорядочные» за-
метки. Различные толкования текста, оставленные разными чи-
тателями, и комментарии, заимствованные из других книг,
мирно соседствовали в маргиналиях. Работа с кодексом предпо-
лагала одновременное чтение как основного, так и вспомога-
тельных текстов. Это было чтение трудное, ориентированное
лишь на истолкование текста и, следовательно, предназначен-
ное для узкого круга интеллектуалов.
Но самые большие изменения кодекс привнес в способ чте-
ния текстов. При чтении свитка последовательность столбцов
на его развернутом участке предполагала то, что называют «па-
норамным способом чтения» [100], поскольку глаз беспрепят-
ственно переходил от одного столбца к другому. В кодексе, на-
против, фрагмент письменного текста, предлагаемый взору чи-
тателя, зависит от размеров страницы, что мешает увидеть весь
текст полностью. Из-за этого чтение становилось фрагментар-
ным, страница за страницей, один сегмент текста за другим, так
что сами тексты, как это случилось со Священным Писанием,
были в конце концов разделены на короткие фрагменты, на-
зывавшиеся cola и commata, при помощи различных графиче-
ских приемов (увеличенные или вынесенные на поля заглав-
ные буквы, выступы и отступы). Следствием этого стало чте-
ние «по кускам», иногда длинным, а иногда коротким, облег-
чавшим понимание текста [101], которые было легко найти
(и запомнить) благодаря специфической «верстке» в виде афо-
ризмов или с помощью любых других способов. Таких спосо-
бов становилось все больше и больше, они предназначались для
того, чтобы членить текст, но членить не произвольно, а на ре-
комендованные признанными авторитетами смысловые блоки.
Для Кассиодора знаки препинания и диакритические знаки (di-
stinctiones) были «дорогами», ведущими к смыслу, которые, как
и пояснительные комментарии, помогали читателю найти путь
к более ясному пониманию написанного [102].
Точно так же, если иллюстрированный свиток являл взгляду
читателя ряд последовательных сцен, которые тот рассматривал
по мере развития повествования, то в кодексах он встречает те-
перь только одиночные иллюстрации, расположенные на спе-
ГЛАВА 2
121
циально для этого предназначенных частях страницы, вырван-
ные из контекста и, следовательно, приобретающие все большую
автономию, так что дело кончилось тем, что текст и изображе-
ние утратили всякую связь друг с другом [103]. Тот же Кассио-
дор подчеркивал достоинства иллюстрации как инструмента по-
знания [104].
Чтение художественных произведений ради отдыха, когда
взгляд беспрепятственно пробегал столбцы текста, а уста сво-
бодно произносили его вслух, сменилось чтением вниматель-
ным и сосредоточенным, голос читающего звучал все тише
и глуше, строго следуя содержавшимся в тексте указаниям и раз-
бивая его на части так, как того требовал переписчик-коммен-
татор. Это было чтение, стремившееся воздействовать на мысли
и поведение читателя. От свободного чтения ради отдыха чита-
тель перешел к управляемому, нормативному чтению. На смену
поиску «удовольствия от текста» пришло его толкование и раз-
мышление над его содержанием. Мелания, погруженная в чте-
ние Писания, не обращалась к матери ни словом, ни взглядом,
чтобы не упустить ни одного «выражения», ни одного «понятия»
из того, что она читала: способ чтения, образ которого весьма
далек от образа женщины, несколько веков назад читавшей сви-
ток (безусловно развлекательного содержания) в городской
среде, располагавшей к общению, прерывавшей свое занятие
ради того, чтобы обратиться со словом или взглядом к своим
спутникам.
Мелания имела привычку по три-четыре раза в году перечи-
тывать Ветхий и Новый Заветы и знала псалмы наизусть. Это на-
водит на размышление. Кодекс постепенно превращался в ин-
струмент перехода от «экстенсивного» чтения множества тек-
стов, распространявшихся среди читателей самого разного
уровня, как то было в ранней Империи, к интенсивному чтению
небольшого числа текстов, прежде всего библейских и правовых,
которые читали, перечитывали, дробили на цитаты, заучивали
наизусть и читали по памяти. В поздней Античности любой ав-
торитет, будь то во власти, в церковной иерархии или в семье,
опирался на эти тексты, т. е. на книгу и чтение. А для того чтобы
олицетворять этот авторитет, существовал кодекс.
Малколм Паркс ГЛАВА 3
ЧИТАТЬ, ПЕРЕПИСЫВАТЬ И ТОЛКОВАТЬ ТЕКСТЫ:
МОНАСТЫРСКИЕ ПРАКТИКИ
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ*
Раннее Средневековье унаследовало от Античности традицию
чтения, включающего виды грамматических штудий (grammati-
сае ojficid): чтение {lectio), исправление (emendatio), толкование
(enarratio) и рассуждение (judicium) [1]. Чтение (lectio) — это про-
цесс, в ходе которого читатель разбирал (расшифровывал) текст
(discretio — различение), вычленяя отдельные его элементы
(буквы, слоги, слова и предложения), прежде чем прочесть их
вслух (pronuntiatio), расставляя требуемые по смыслу логические
ударения. Исправление (emendatio) — практика, необходимость
которой была вызвана условиями воспроизводства манускрип-
тов, — требовала от читателя (или от его педагога) внесения
правки в принадлежавший ему экземпляр текста и, бывало, вво-
дила в искушение имеющийся текст «улучшить» [2]. Объясне-
ние (enarratio) заключалось в определении (или толковании) осо-
бенностей лексики, использованных автором риторических обо-
ротов и литературных приемов и, самое главное, в интерпрета-
ции содержания текста (explanatio). Целью размышления
(judicium) было оценить художественные, философские и нравст-
венные достоинства текста (bene dictorum conprobatio).
В этом трудном деле читателю приходил на помощь корпус
грамматических правил, унаследованных со времен поздней Ан-
тичности, задачей которого было не столько стимулировать ин-
терес к изучению языка, сколько облегчать процесс чтения.
* Я благодарю профессора Д. Ганца (D. Ganz), доктора А. Гротанса (A. Grotans),
доктора Пола Сенгера (Paul Saenger), доктора Дж. Таунбриджа (G. Tunbridge) и док-
тора Р. Зима (R. Zim) за их справедливые замечания и предложения, а также участ-
ников коллоквиума Центра исследований Средневековья университета Миннесоты
за дискуссии и обсуждения, стимулировавшие мою мысль. Я несу единоличную
ответственность за все высказанные ниже суждения.
ГЛАВА 3
123
Такой упрощенный подход к языку главенствовал в науке на про-
тяжении довольно длительного времени, поскольку считалось,
что человек должен заниматься только изучением языка боже-
ственного Слова, а все прочие языки — всего лишь следствие
строительства Вавилонской башни [3]. Для традиционной грам-
матики слово было изолированным лингвистическим феноме-
ном, и для того, чтобы выделить несколько классов слов, назы-
ваемых «частями речи», пользовались морфологическими крите-
риями. Далее грамматика выделяла парадигмы взаимосвязанных
форм («склонения и спряжения») и внешние синтаксические
связи между словами в предложении, «согласование» [4]. Это была
драгоценная помощь читателю при анализе текста и идентифи-
кации элементов латинского языка, богатого морфологической
информацией (именные и глагольные основы и окончания), осо-
бенно необходимая в раннем Средневековье, когда кодексы про-
должали писать непрерывным письмом (scriptuo continue), т. е. без
интервалов как между словами, так и между параграфами.
ЧИТАТЬ РАДИ СПАСЕНИЯ ДУШИ
Христианские профессора и писатели применили античную грам-
матическую традицию к изучению Писания, вследствие чего уста-
новилась неразрывная связь между религиозным воспитанием и
литературным образованием [5]. В отличие от языческой Антич-
ности, где высокая культура была привилегией господствующей
элиты [6]. Всем христианам, владевшим навыками чтения, отныне
рекомендуется ими пользоваться, а «всем, кто стремится к мона-
шеству, не следует забывать об образовании» [7]. Как потом ска-
жет Дюода (Dhuoda) в учебнике, написанном для сына, чтение по-
зволяет приблизиться к Богу [8]. Высшей целью чтения стано-
вится спасение души, и крайняя необходимость срочно достигнуть
этой цели отражалась в самих текстах, используемых для обуче-
ния. В качестве основной книги, по которой учились чтению и
письму, была выбрана Псалтырь (в течение многих веков знание
псалмов будет пробным камнем для определения уровня грамот-
ности) [9]. Для тех, кому проще было учиться на примерах, чем на
правилах, существовали жития святых, выражавшие основные хри-
стианские идеалы. Для других существовали учебные тексты, по-
124
МАЛКОЛМ ПАРКС
степенно подводившие человека к чтению трудов по теологии (lib-
ras catholicos), учивших правильно толковать слово Божие и питать
им свою душу. «На толкованиях к Писанию учатся приобретать и
хранить добродетель, из рассказов о чудесах мы узнаем, как проя-
вляется то, что было усвоено и сохранено» [10]. Изучение грам-
матики и текстов подчинялось этой цели и служило для лучшего
усвоения латинской культуры. Исидор Севильский полагал, что
«учение грамматиков может оказаться полезным для нашей жизни,
если, конечно, то, что мы из него извлечем, будет применено для
достижения более высокой цели» [11].
ОТ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ К ЧТЕНИЮ ПРО СЕБЯ
Еще одно изменение произошло по отношению к процессу чте-
ния. В Античности прежде всего ценилась декламация (внима-
тельное чтение вслух с соблюдением ритма читаемого текста), по-
тому что ораторское искусство в глазах древних ценилось превыше
любого другого [12]: чтение про себя существовало как подгото-
вительный этап, предназначенный для лучшего понимания текс-
та [13]. В раннем Средневековье древнее искусство чтения вслух
сохранилось только в литургии. В VII в. Исидор Севильский так
уточнил квалификационные требования к церковному чтецу:
«Тот, кто будет назначен на эту должность, должен быть весьма
осведомлен в том, что касается вероучения и книг, в совершенстве
знать слова и их значение, для того чтобы при разборе изречений
(sententiae) он мог видеть грамматические разделения: места, где
должно плавно продолжать чтение, и места, где фраза заканчива-
ется. Таким образом он без труда овладеет техникой устной речи (vim
pronuntiationis) так, что сможет вести разум и чувства (sensus) осталь-
ных к пониманию, умно изменяя тон и выражая чувства (affectus),
заключенные в том или ином изречении (sententiae): он должен го-
ворить то как повествователь, то как страдалец, то упрекать, то уве-
щевать, словом, соответствующим тоном» [14].
Начинающие также должны были читать вслух, чтобы учитель
мог следить за их успехами. Помимо первоначального этапа обу-
чения, иногда прибегали к коллективному (групповому) чтению
ГЛАВА 3
125
вслух и на следующих ступенях — это помогало совершенство-
ваться в латыни и контролировать свои знания. В Античности ко-
медии Теренция использовали для упражнения в декламации
и улучшения ораторских навыков, но их так часто переписыва-
лии на протяжении IX—X вв., что можно предположить, что и в
Средние века ими пользовались для тех же целей [ 15]. В X в. Гро-
свита из Гандерсгейма, желавшая предложить своим монахиням
христианскую женскую альтернативу язычнику Теренцию, сама
писала пьесы [16]: речь шла, конечно, не о пристрастии к этому
литературному жанру, а о способе научить монашек латыни, быв-
шей тогда языком духовной жизни. Громкое чтение или как ми-
нимум чтение sotto voce (вслух), являлось распространенной мо-
настырской практикой чтения {lectio), предназначенной для того,
чтобы читающий запомнил звучание и правила артикуляции слов,
служивших основой для размышления {meditatio). Такой вид чте-
ния назывался meditari litteras, или meditari psalmos [17].
Однако, начиная с VI в., все больше внимания начинают уде-
лять чтению про себя. В «Правиле святого Бенедикта» можно
найти упоминание о чтении в одиночестве и необходимости чи-
тать без участия голоса, чтобы не мешать другим. Поскольку счи-
талось, что индивидуальное чтение требовало контроля, который
помогал выявлять лентяев и проверять, насколько внимательно
читающий относится к своему занятию, то можно предположить,
что чтение это было в большинстве случаев беззвучным [18]. Иси-
дор Севильский, сформулировавший требования к церковному
чтецу, считал также, что подготовка к должности чтеца — это пер-
вая ступень в подготовке клирика [19], и отдавал предпочтение
чтению про себя, которое позволяло лучше понимать текст, так
как требовало меньше физических усилий и давало возможность
думать о прочитанном и сохранять его в памяти [20].
ПИСЬМО КАК ВИДИМАЯ РЕЧЬ
Такое понимание чтения про себя, пусть и порожденное при-
чинами сугубо практическими, должно быть связано с более глу-
бокими изменениями в отношении к письменному слову. Про-
цесс осознания письменной речи как некоего иного проявления
языка, имеющего собственную «субстанцию» и независимый
126
МАЛКОЛМ ПАРКС
статус, равный статусу разговорного языка, занял некоторое
время [21]. Но начало ему положено было еще в раннем Сред-
невековье [22]. Письменность сыграла главную роль в сохране-
нии истинного религиозного учения, передаче и распростране-
нии этого наследия в последующих поколениях. Чем более вы-
ражено представление о письменности как о носителе и пере-
датчике авторитетных суждений прошлого (а в раннем Средне-
вековье религиозные тексты оказывали большое влияние на
весьма значительное количество людей), тем реже она восприни-
мается как простой способ хранения устного слова. Если в IV в.
святой Августин считал буквы знаками, изображающими звуки,
а звуки — изображением мыслей, то Исидор Севильский в VII в.
видел в буквах беззвучные знаки, которые имели власть молча
(sine voce) передавать слова отсутствующих людей: буквы сами
были знаками, изображавшими предметы и явления [23]. Отныне
письменность воспринималась как видимая речь, идущая через
глаза непосредственно в душу и ум.
Традиция заставлять детей читать вслух в присутствии учителя
тексты, которые они переписывали с псалтыри, еще не зная ал-
фавита (как это было в прошлом), также имеет глубокий смысл
[24]. Этот метод не только позволял уяснить функцию букв и слов
в тексте, но способствовал переходу детей от устной культуры к
усвоению графических условностей культуры письменной, кото-
рой христианство было обязано своим существованием в веках.
Однако читатели, жившие на периферии (или вне) зоны рас-
пространения lingua romana или lingua mixta древней Римской
империи, в мире кельтском или германском, для которого ла-
тынь была чужой языковой системой, не способны были вос-
принимать письменность как самостоятельное проявление речи.
Несмотря на все, что они усвоили из уроков грамматики, им
было сложно разобраться в структуре латинского текста. Об этом
свидетельствуют глоссы на местных наречиях, написанные
прямо поверх латинских текстов в процессе их чтения, напи-
санные осторожно, почти незаметно, чтобы не мешать другим
читателям видеть оригинальный текст [25].
В некоторых из этих переводов можно найти ошибки в про-
чтении букв и, следовательно, ошибки в прочтении слов. Так,
один ирландский переписчик прочел eversione (разрушение) вме-
сто aversione (отступничество) и принял глагол concinnare (зави-
ГЛАВА 3
127
вать) за глагол conquinare (отдыхать), а какой-то англо-саксонский
грамотей перепутал occassu (закат) и occasio (случай) [26]. Другие
глоссы показывают, что слово могло быть неправильно распо-
знано потому, что читатель не сумел отделить его от соседних с
ним слов. Например, ирландский переписчик прочел innumero (не-
счетный,) вместо in питего (считать), а какой-то англосакс принял
inocciduas за in occiduas [27]. Другие ошибки свидетельствуют о
трудностях с синтаксисом: ирландский скриб читал фразу gratum
tibi esse officium est optimum, объединив gratum и optimum, и понял ее
как ambudech forccimen — «самый приятный»; a servo quippe vinctus
было понято, как conarracht assa mugsini — «освобожденный от
своего бремени» [28]. В других случаях читатель мог перепутать су-
ществительное с наречием: quo (которое может быть либо наре-
чием, либо аблативом единственного числа мужского рода вопро-
сительных и относительных местоимений quis и qui) было истол-
ковано одним немецким скрибом как thara (вследствие), a in quo
понято, как in Ми (где Ми — творительный падеж указательного
местоимения ther; quam (которое в латинском языке может быть
либо наречием, либо винительным падежом женского рода от quis
или qui) было истолковано как denni — «тогда как». Англосаксон-
ские переписчики часто толковали наречия вместе с предшество-
вавшим словом [29]. В других случаях толкование помогало чита-
телю в понимании латинского текста и определяло падеж слова
либо с помощью соответствующих предлогов его родного языка,
либо давая эквивалент склонения без указания значения. Так,
некий англосакс объяснял mentis как (-)des (возможно, желая таким
образом обозначить родительный падеж от mod, modes), a reveren-
ter как (-)се (суффикс наречия) [30].
Еще у англосаксонских и ирландских переписчиков была ма-
нера включать в текст собственные значки, призванные разъяс-
нять синтаксис, в частности синтаксис поэтического текста, по-
рядок слов в котором подчинялся требованиям стиха или стили-
стическим исканиям автора. Первые из дошедших до нас приме-
ров таких глосс, — ирландские и галльские манускрипты IX в.
[31]. В них использовались две системы. Первая состояла из ряда
точек и других знаков, указывающих на грамматические согласо-
вания (существительного с прилагательным), управляемые допол-
нения (существительного с глаголом) или связь, например, наре-
чия с глаголом, не зависящую ни от согласования, ни от управле-
128
МАЛКОЛМ ПАРКС
ния. Вторая система, по всей вероятности более позднего проис-
хождения, для указания на порядок прочтения отдельных слов и
словосочетаний использовала разнообразные знаки и буквы [32],
Напротив, вплоть до конца X в. читатели, говорившие на ро-
манских языках, находили в латинских текстах множество слов
и форм разговорного языка, записанных традиционным спосо-
бом, исключавшим многие черты их языков, недопустимые в пись-
менной речи [33]. Так в глоссы попадали разговорные или про-
стонародные формы, для того чтобы объяснить слова, которые пе-
реписчики посчитали архаичными, вышедшими из употребления
или неизвестными большинству читателей. Например, в глоссах
IX в. с острова Рейхенау встречаются языковые формы, позже пе-
решедшие в старофранцузский язык: compellere и cogere интер-
претируются как anetsare (старофранцузское anesser), посеге как Ло-
stare (старофранцузское oster), агепат как sabulo (старофранцуз-
ское sablori), а е/шгкак comparavit (старофранцузское сотрегег) [34].
Помимо трактатов по грамматике, облегчавших читателю иден-
тификацию различных элементов текста, были и другие, которые
не только помогали читателю распознавать текст, но и давали ему
ключ к расшифровке необычных вербальных конструкций, свойст-
венных различным фигурам речи. Одним из самых распростра-
ненных был трактат De schematis et tropis Беды Достопочтенного,
который на примерах, взятых из Библии, разъяснял некоторое ко-
личество тщательно отобранных фигур речи, обращая особое вни-
мание на те из них, в которых использовался порядок слов, от-
личный от порядка слов в разговорном языке [35]: на пролепсис
(перенесение слова из последующего предложения в предше-
ствующее) и на силлепсис (объединение имен существительных,
употребленных в разных падежах, в одно выражение, примером
которого может служить фраза: Adtendite populus meus legam meant
inclinate aurern vestram, где звательный падеж и группа существи-
тельных в винительном падеже имеют общего референта). Его
описание тропов включало также случаи нарушения порядка слов
и употребления скобок, остававшихся вплоть до XIV в., когда были
изобретены известные нам сейчас обозначения, постоянным
источником затруднений. Способность понимать фигуры речи
должна была облегчить процесс различения (discretio).
Для различения слов применялась еще одна техника, заим-
ствованная у риторов. Она заключалась в анализе предикативов
ГЛАВА 3
129
подлежащего, известных как «семь обстоятельств человеческой
деятельности»: объект, действие, время, место, причина, способ
и орудие» [36]. Они часто употреблялись в вопросительной
форме, отвечая на вопросы: quis (кто?), quid (что?), quando
(когда?), ubi (где?), quare или сиг (почему?), quomodo (как?), qui-
bus amminiculis (каким образом?). Сохранилось несколько ком-
ментариев и один коротенький трактат, показывающий, как ис-
пользовались вопросы, для того чтобы определить подлежащее
(quis), глагол и дополнение (quid), а также различные союзы
(quando, ubi, quomodo) для оказания самой первой помощи чита-
телю. Так, предложение Cicero готе diu mire disputat propter com-
munem utilitatem magna excelientia ingenii могло быть проанализи-
ровано следующим образом: quis? «Cicero», quid? «disputat»,
quando? «diu», ubi?«готе», quare?«propter communem utilitatem»,
quomodo? «mire», quibus amminiculis? «magna excelientia ingenii»
[37]. Некоторые комментарии называли эти предикаты circum-
stantiae sententiarum [38]
НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОДАЧИ ТЕКСТА
Необходимость упростить доступ к текстам стала толчком к по-
явлению новых способов подачи текста и размещения его на
странице. Английские и ирландские копиисты, для которых
письменность была, прежде всего, способом сохранять инфор-
мацию на странице и которые воспринимали латынь как «ви-
димый язык», задались целью разработать графические правила,
которые позволили бы быстрее усваивать информацию, содер-
жащуюся на таком визуальном носителе [39]. Эти правила ос-
новывались на принципах, заимствованных у грамматиков. Мы
намерены рассказать об этих изменениях применительно к раз-
личным фазам процесса чтения в порядке их возникновения.
Для грамматиков Античности буква была наименьшей гра-
фической и фонетической единицей. Каждая буква обладала
тремя свойствами: формой (figura), именем (nomen) и фонемным
Референтом (potestas) [40]. Отличительной чертой курсивов
Конца Римской империи, почти повсеместно сменивших уни-
биальное письмо, были многочисленные лигатуры, следствием
пРИменения которых стало множество вариантов написания
130
МАЛКОЛМ ПАРКС
одних и тех же букв. Англосаксонские копиисты первыми со-
кратили количество вариантов и унифицировали написание букв
в минускуле {litterae absolutae), так что с этого времени каждый
знак имел только один графический эквивалент, что суще-
ственно облегчало процесс чтения [41]. Позже эти графические
правила были приняты и в континентальной Европе с уточне-
нием минимально необходимых отличий одной буквы от другой,
результатом чего стал минускул, которым на Западе пользова-
лись в течение нескольких веков и который, в конечном счете,
лег в основу современных типографских латинских шрифтов,
где каждая буква имеет свою собственную форму, а знак &, из-
начально использовавшийся для обозначения лигатур, воспри-
нимается как самостоятельная печатная форма.
Когда ирландские скрибы переписывали латинские тексты,
они не пользовались непрерывным письмом {scriptio continua)
копируемых образцов, а применяли для разделения слов морфо-
логические критерии, которые находили в трудах ученых-грам-
матиков. Но когда они переписывали тексты, написанные на их
родном языке, то группировали слова, зависящие от доминирую-
щей акцентуации или тесно связанные друг с другом синтакси-
чески. Так, в «Проповедях из Камбре» (Homiliaire de Cambrai) мы
встречаем написание isaireasber вместо is aire as ber [42].
Ирландские копиисты стремились отделить друг от друга не
только части речи, но и грамматические компоненты латинской
фразы. Для того чтобы внести ясность в пунктуацию, они при-
няли на вооружение как новые знаки препинания, в которых ко-
личество символов увеличивалось в зависимости от длительно-
сти паузы, так и принцип «самой заметной буквы» — littera nota~
bilior— для более четкого выделения начала текста или какой-либо
из его частей. Много позже переписчики континентальной Ев»-
ропы также стали пользоваться выработанными ими правилами»
обращаясь в поисках «самой заметной буквы» {litterae notabiliores)'
для обозначения начала нового изречения {sententiae) к древниМ;
шрифтам, тогда как остальной текст писался минускулом.
Англосаксонские копиисты поочередно использовали старые
шрифты и новый минускул, для того чтобы структурировать текст-
Священное Писание, святоотеческие труды, монастырские праг,
вила и в самом широком смысле любой документ, касающийся?
учения Римской церкви, стали известны в англосаксонском мир®^
ГЛАВА 3
131
из экземпляров, написанных унициальным письмом, или capitate
rustique, так что англосаксонские скрибы, в конце концов, стали
считать, что старинные шрифты особым образом связаны с та-
кого рода литературой. Поэтому они использовали их и в тех слу-
чаях, когда им приходилось приводить цитаты из авторитетных
текстов такого рода в более поздних текстах и комментариях, на-
писанных минускулом [43]. Так установилось правило, согласно
которому цитируемый текст должен зрительно выделяться на
странице, чтобы читатель мог сразу же его заметить.
Эти приемы были разработаны ради удовлетворения потреб-
ностей читателей, для которых латынь была вторым языком: их
появление доказывает, что письменный латинский язык все чаще
воспринимался как язык самостоятельный. Следовательно, ан-
глийские и ирландские писцы заложили основу «удобочитае-
мой» грамматики как для новых, так и для древних текстов, чем
оказали неоценимую услугу своим читателям.
Если теперь мы посмотрим, как в IX в. анализировал язык из-
готовленного в VI в. итальянского экземпляра трудов св. Ила-
рия, написанного непрерывным письмом (scriptio continue), пе-
реписчик из Реймса, то увидим, что он использовал совсем иные
приемы [44]. Границы между словами в нем обозначены так
слабо, что мы вынуждены предположить, что он не придавал им
большого значения, а его анализ основывался на иных принци-
пах, нежели те, что были приняты в Англии и Ирландии. Мно-
гое говорит за то, что язык, на котором разговаривал скриб из
Реймса, происходил от lingua готапа (римского наречия, т. е. от
латинского языка. — Прим, пер.), и он чувствовал связь между
Родным языком и латынью переписываемого им текста (даже
если связь эта была достаточно слаба).
Уже в Античности разговорный латинский язык сильно от-
личался от языка письменного. Грамматик Велий Лонг отмечал,
что хотя все писали Шит и omnium полностью, но конечную сог-
ласную перед гласной уже не произносили: illu(m) ego и omniu(m)
°Ptimum. [45]. В экземпляре трудов св. Илария IX в. мы видим,
что в цепочках ad ipsu(m) extra, suu(m) inquo и legendu(m) est буква
w обозначена знаком сокращения. Самое правдоподобное объяс-
нение этому факту заключается в том, что родной язык копии-
ст3 побуждал его использовать сокращение, но не обязывал его
к этому: он применяет его не во всех подобных случаях и это по-
132
МАЛКОЛМ ПАРКС
казывает, что употребляемые им значки все еще являются зна-
ками сокращений, а не диакритическими знаками. Точно так же,
когда он пишет Clocaret, мы не можем с уверенностью сказать,
решил ли он таким образом сократить глагол conlocaret или это
глагольная форма collocaret с графической ассимиляцией.
Несмотря на то что группировка слов на странице зависела от
объема текста, который переписчик мог запомнить, когда отры-
вался от копируемого текста, чтобы перенести его содержание
в свой манускрипт, она предполагала также, что переписчик тол-
кует переписываемый им текст как читатель, а не просто воспро-
изводит случайный набор букв. Когда мы встречаем соединения
слов типа sertnodomini, &cumnecessesit, aequesemper (применительно
к Святой Троице), no-consequatur, aliquodrebus, inintelligibileest и ро-
ssibileest, то, возможно, нам следует говорить о «концептуальных
единицах» или предположить, что подобные связи между словами
продиктованы синтаксисом языка, на котором разговаривал скриб.
Но если предположить, что при анализе текста переписчик ру-
ководствуется только родным языком, мы не всегда сможем по-
лучить логически объяснимый результат, поскольку на действия
копииста влияла также (в той мере, в которой он мог ее воспри-
нять) степень связи между двумя языковыми системами —
латыни и его родного языка [46]. Чем хуже переписчик знал ла-
тынь, тем более произвольно он толковал текст. В одном экзем-
пляре Плиния, переписанном в каролингскую эпоху с другого
известного нам манускрипта того же времени, промежутки
между словами расположены иначе, чем в оригинале, и могут ме-
няться от страницы к странице. Например, там, где в исходном
экземпляре мы видим: auulpibus quiiocur animaliseius aridum ede-
rint, — в копии находим: a uulpibus quiiocuranimalis eius aridum ede-
rint (тогда как сам Плиний писал: a uulpibus qui iocur animalis eius
aridum ederint). Возможно, это свидетельствует о том, что копи-
ист с трудом понимал текст Плиния (в нем говорится, что лисы
не нападают на цыплят, которым давали сушеную лисью печень)
и, следовательно, не мог сразу распознать использованные в тек-
ста латинские выражения [47]. Однако мы имеем право сделать,
вывод о том, что навыки чтения у переписчиков, говоривших на
языках, происшедших от латинского, и проблемы, с которыми'
они сталкивались, отличались от навыков и проблем их коллег,,
чьим родным языком были языки кельтские и германские. ]
ГЛАВА 3
133
Кончилось тем, что во второй половине X в. большинство за-
падных переписчиков стали применять грамматический анализ,
как это уже делали некоторые их близкие предшественники, и
писать все слова раздельно. Но только во второй половине X в.
это разделение стало полностью адекватным: копиисты еше
долго путали независимые и префиксальные морфемы, по-
скольку некоторые грамматисты путали предлог in с отрица-
тельным префиксом in-, используемом в качестве приставки в
таких словах, как indoctus и infelix (примеры неделимых префик-
сов — praepositiones loquelares) [48].
ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТОВ И ХРИСТИАНСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА
От первых подготовительных этапов чтения можно было перехо-
дить к упражнениям в христианской герменевтике (что соответ-
ствовало языческим enarratio — «объяснению» и judicium — «раз-
мышлению»), т. е. к чтению, или самостоятельному толкованию
текста. Григорий Великий полагал, что чтение и, прежде всего, чте-
ние Библии, должно быть диалогом с текстом. Как мы узнаем лица
едва знакомых нам людей, хотя начинаем понимать, о чем они ду-
мают, только поговорив с ними, так же, только «вступив в разго-
вор» с Библией, можно понять мысли, спрятанные под поверхно-
стью текста [49]. В конце VIII в. Беатус (Beatus) в своем трактате
«Adversus Eliprandum» сравнил свод грамматических правил с че-
ловеческим телом и сделал вывод о том, что они одни не могут
удовлетворить все желания людей: точно так же, как человек со-
стоит из тела, души и духа, книга должна быть осмыслена с исто-
рической, нравственной и мистической точек зрения [50].
Трактат Блаженного Августина «О христианском учении», на-
чавший повсеместно распространяться с начала IX в., оказал на
читателей Средневековья наибольшее влияние. Святой Августин
считал, что аллегория — это подарок, преподнесенный людям Свя-
тым Духом для того, чтобы возбуждать их ум. Восстановление
скрытого смысла текста вело к лучшему пониманию истины и ле-
жало в основе монастырского lectio (чтения) [51]. Беда Достопо-
чтенный в трактате De schematibus et tropis пользовался примерами
Из грамматики, для того чтобы привить своим читателям навыки
эКзегезы: существенную часть раздела, посвященного тропам, за-
134
МАЛКОЛМ ПАРКС
нимает рассказ об аллегориях, к которым относится и тайна, ил-
люстрируемая примерами из Библии. Книгой пользовались по-
всюду, но для святого Бонифация лучшим руководством для чте-
ния Священного Писания оставались творения отцов Церкви [52].
С VII по XI в. все усиленно разыскивали творения отцов Церкви
и тщательно переписывали их во многих экземплярах. Поиски
этих текстов основывались на авторитетных с библиографической
точки зрения работах: истории христианской литературы святого
Иеронима De viribus illustribus, дополненной Исидором (список
произведений автора приводился прямо в тексте его биогра-
фии), первой книгой «Институций» Кассиодора (по мере того как
он переходил от одной темы к другой, он называл книги, которые
следовало бы прочесть), а также перечнях, составленных самими
авторами, таких, как список, который Блаженный Августин вклю-
чил в свои «Отречения» — Retractationes (он приводит перечень
своих трудов в хронологическом порядке с аннотациями и на-
чальными словами текста [53]). Вплоть до конца XI в. все, кто
желал читать и изучать Писание, строго следовали святоотеческой
традиции. Расхождения в учении святых отцов Скот Эруигена
объяснял тем, что Писание может иметь множество значений,
каждое из которых полностью согласуется с верой [54].
В IX в. Рабан Мавр написал учебник для священнослужите-
лей, называвшийся «Наставление духовникам» (De clericorum in-
stitutione). В третьей его книге он объясняет, как следует изучать
и преподавать то, что написано в книгах по богословию и что
полезного можно почерпнуть из научных и литературных тру’-
дов язычников (gentilium), которые служитель Церкви обязан
знать [55]. Основные свои доводы он позаимствовал из труда
Блаженного Августина «О христианском учении», но изложил их
в более сжатой и, как следствие, в более доходчивой форме.
Во-первых, в Библии все, прямо не касающееся нравственных
законов и принципов истинной веры, должно быть понято в пе-
реносном смысле [56]. Во-вторых, при толковании текста обя-
зательно строго следовать правилу, согласно которому каждое
слово и каждая фраза должны находиться в согласии с истин-
ной верой [57]. Короче говоря, каждое слово и каждая фраза,
несут в себе пищу для души. Традиция аллегорического истол-
кования текстов не ограничивалась библейскими текстами-
В глоссах IX в. к поэме об Орфее на некоторых экземплярах
ГЛАВА 3 135
«Утешения философией» Боэция (кн. III, 12) образ Орфея трак-
туется как аллегория человеческой души, Аид — как аллегория
мирской алчности, а эмпиреи — как осуществление высшего
добра [58]. Одним из произведений, изучавшихся в IX в. в шко-
лах, было сочинение Марциана Капеллы «О бракосочетании
Меркурия и Филологии», представлявшее собою аллегорию семи
свободных искусств. Изучавшие классические тексты сначала
опирались на аллегорическую интерпретацию языческих тек-
стов, данную в V в. Фульгенцием в его труде «Мифология» (Му-
thologiae) в 3 томах, а позже, в IX в., анонимный компилятор,
которого современные исследователи называют Мифограф II
(Mythographus II), написал новый учебник [59].
РАЗВИТИЕ ПУНКТУАЦИИ
С увеличением числа читателей возросший интерес к смыслу
текста, скрывавшемуся за его синтаксической структурой, повлек
за собой изменения в использовании знаков препинания. При-
веденный ниже отрывок взят из экземпляра трактата св. Авгу-
стина «О граде Божьем» (кн. XIV, 1—2), датируемого IX в. Сов-
ременный знак «точка с запятой» используется здесь в качестве
punctus versus, которым обозначали конец изречения (sententia),
а точка отмечает паузу внутри последнего. Эти знаки были до-
бавлены в манускрипт корректором.
; sicut ipsa eiusdem noe. & uinee plantatio & ex eius fructu inebriatio. &
dormientis nudatio. & que ibi cetera facta atque conscripta sunt propheti-
cis [s]unt grauidata sensibus. & uelata tegminibus. sed nunc rerum effectu
iam [in] posteris consecuto que operta fuerant satis aperta sunt; [60].
«Так насаждение Ноем виноградника, и опьянение произошедшее
от его плодов, и его нагота во время сна его. и прочие веши сде-
ланные и написанные в то время полны пророческого смысла, и
скрыты под покровом тайны, но теперь, вследствие последовавших
затем событий, то, что было скрыто, стало явным;».
Если сравнить пунктуацию данного экземпляра с тем, как ее
Использовали в других [61], то можно констатировать, что пауза
йосле inebriatio (существительного «плодов» в переводе), отделяет
136
МАЛКОЛМ ПАРКС
насаждение виноградника и опьянение Ноя от указания на его на-
готу, Пауза после sensibus (в русском переводе после «смысла»)
разделяет пророчество и тайну и делает из них два различных по-
нятия. Пауза после tegminibus (в переводе — после «тайны») соот-
носит все эти события — частные и общие — с раскрытием их про-
роческого и таинственного смысла посредством следующих за
ними событий. Такая расстановка знаков препинания означает, что
разные события и способы, с помощью которых узнается их тай-
ный смысл, принадлежат к одному временному континууму —
к вечности.
Успехи пунктуации, таким образом, позволили неизвестному
корректору IX в. повлиять не только на форму, но и на содер-
жание текста. Его утонченное прочтение этого отрывка превос-
ходит первоначальную пунктуацию, сделанную переписчиком
оригинала, и посредством добавления новых знаков привлекает
внимание к тому, что привносит в содержание текста риториче-
ская структура прозы св. Августина. Его пунктуация подчерки-
вает рифмы inebriatio / nudatio, sensibus / tegminibus; чтение этого
отрывка как единого изречения (sententia) позволяет выявить
связь понятий плод / результат его действия / смысл / пророче-
ство и ярче проявить контраст между понятиями нагота / покров,
тайный / явный. Ум, вступивший в диалог со св. Августином,
естественно уловил амбивалентность слова fructus, его двойное
значение («плод» и «результат») в том смысле, что то, что должно
быть открыто, является плодом точно так же, как нагота явля-
ется следствием воздействия вина. Этот неизвестный корректор
использовал при толковании библейского послания свои об-
ширные богословские и литературные познания. Применение
разнообразных знаков препинания позволило ему перенести свое’
толкование текста на страницу кодекса, для того чтобы читатель
мог воспользоваться им для понимания этого отрывка.
ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ НА ПРОСТОНАРОДНОМ ЯЗЫКЕ
Самые ранние памятники на местных языках также относятся К
этому периоду. Скриб, переписывающий текст на народном
языке, мог рассчитывать на то, что его читатели хорошо зналт*
свой родной язык, из чего следует, что рукописные тексты И*
ГЛАВА 3
137
местных языках более близки к разговорной речи, чем тексты
латинские, а различия в написании слов могут отражать диа-
лектальные различия. В самых ранних из сохранившихся ир-
ландских текстов — экземпляр «Проповедей из Камбре» (Homi-
liaire de Cambrai) VII в. и несколько глосс — слова сгруппиро-
ваны в соответствии с синтаксическим ритмом. Что касается
текстов на романском языке, то можно упомянуть «Веронскую
тайну» (Enigme veronaise) VIII в., записанную без пробелов между
словами на полях какого-то латинского текста; в «Страсбург-
ских клятвах» (Semen ts de Strasbourg) IX в. большинство слов от-
делены друг от друга, но некоторые сгруппированы в соответ-
ствии с синтаксическим ритмом. Тем временем привычка ком-
ментировать латинские термины научила кельтских и герман-
ских скрибов распознавать тождество слов на народном языке.
В списках «Гимна» Кедмона VIII в., написанного на древнеанг-
лийском языке, и в экземпляре «Песни о Гильдебранде» IX в. на
древневерхненемецком простые и составные слова чаще всего
отделены друг от друга пробелами, тогда как с предлогами и про-
клитиками происходит такая же путаница, что и с propositiones
loquelares в латинских манускриптах. Постепенно скрибы начали
оставлять между словами пробелы, использовать litterae notabi-
liores и знаки препинания, заимствованные ими из латинских
текстов, хотя ритмическая структура поэзии на местных наре-
чиях поначалу никак не была обозначена и отдельные стихи не
были выделены «версткой», как это делалось в случае с латин-
ской поэзией [62].
Никогда история не повторяется так, как это она делает в чте-
нии, когда каждое поколение читателей должно пройти те же
этапы обучения, что и предыдущее. Но время от времени рож-
даются читатели, у которых появляются новые требования, кото-
рые стимулируют изобретение новых технологий. Вот основные
характеристики изучаемой нами эпохи: возникновение новых по-
будительных мотивов для занятий чтением, исходящих от чита-
телей, для которых латынь была языком иностранным, требова-
ние облегчить им понимание текстов; влияние принципов, по-
черпнутых из трудов грамматиков древности, на выработку новых
Правил, способных удовлетворить эти запросы; появление зачат-
ков того, что мы назвали «грамматикой удобочитаемости» [63].
Жаклин Амесс ГЛАВА 4
СХОЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧТЕНИЯ
Исследователь, едва приступив к изучению культуры чтения в
эпоху схоластики, обнаруживает, что в этот период в интере-
сующей его области произошли глубочайшие изменения [1].
«Чтение» превратилось сначала в школьную, а затем в универ-
ситетскую дисциплину, подчинявшуюся собственным законам.
Главным местом, где сосредоточивалась эта деятельность, стали
школы и университеты. Если в раннем Средневековье чтение
(шла ли речь о коллективном чтении вслух во время церковных
служб, трапез и молитвенных бдений или о чтении индивиду-
альном во время самостоятельных занятий и медитаций) сосре-
доточивалось, прежде всего, в монастырских стенах, то в эпоху
схоластики, как можно заметить, полностью обновилась сама
концепция чтения. Не случайно даже в названии первого трак-
тата об «Искусстве чтения», принадлежащего перу Гуго Сен-
Викторского, «Дидаскаликон» (Didascalicori), датируемого XII в.,
мы видим выдвинувшуюся на первый план дидактическую, об-
разовательную роль чтения [2].
Действительно, именно в эпоху схоластики происходит осоз-
нание процесса чтения. Отныне этот процесс не мыслится от-
дельно от сопутствующих ему условий и обстоятельств. Хотя об
этом и не говорится прямо, но, начиная с XIII в., соображения
пользы и удобства начинают превалировать надо всеми осталь-
ными. Теперь книгу берут в руки только после соответствующей
подготовки. Сначала необходимо овладеть приемами, которые
следует применять при чтении текста. Эта мысль выражена
одним из современников Гуго Сен-Викторского в его письме к
нему [3]. Подзаголовок послания весьма красноречиво говорит
о том, что больше всего заботит автора: «О правилах и порядке,
которые следует соблюдать при чтении Священного Писания».
ГЛАВА 4
139
Формализация процесса чтения очень скоро создаст и новые
потребности. Возникнет необходимость легко находить в книге
нужные отрывки, не пролистывая весь том от начала до конца.
Для того чтобы удовлетворить этим требованиям, начали дро-
бить текст на части, нумеровать параграфы, давать названия от-
дельным главам, составлять конкордансы, оглавления и алфа-
витные указатели, которые помогали быстро просмотреть про-
изведение и отыскать необходимые сведения. Такой «школяр-
ский» способ чтения идет вразрез с монастырской методикой,
предполагавшей медленное чтение и осмысление всего текста
Писания.
ОТ «RUMINATIO» К «LECTURA»
В раннем Средневековье книгой по определению считалось Свя-
щенное Писание, лежавшее в основе монастырской духовности.
Его читали постоянно. Разве случайно все авторы, описывавшие
процесс усвоения текста Библии и размышления над ним, упо-
требляют по отношению к нему термин ruminatio (лат. — «пере-
жевывание»)? Для монахов чтение и было пищей духовной. Его
вполне можно было сравнить с «поеданием слова Божьего», по
меткому выражению Марселя Жусса (Marcel Jousse), назвавшего
так свою книгу. Это было медленное, регулярное и вниматель-
ное чтение. Многие отрывки заучивались наизусть, а над неко-
торыми фразами те, кто посвятили свою жизнь Господу, раз-
мышляли постоянно. Много читали вслух. Привычка прогова-
ривать слоги была так широко распространена, что даже тогда,
когда читали только для себя одного, тихо бормотали себе под
нос [4]. Эта привычка замедляла процесс чтения и помогала
Усваивать содержание читаемых произведений. Три основных
Духовных упражнения, предписывавшиеся монахам для поддер-
жания их духовной жизни: чтение (legere), медитация (meditari)
и созерцание (contemplari).
В этот период, как пишет А. Петруччи (A. Petrucci), можно вы-
делить три типа чтения: «Чтение про себя, in silentio; чтение тихим
голосом, называвшееся шептанием или пережевыванием, помо-
гавшее размышлять над текстом и заучивать его наизусть; и, на-
конец, громкое чтение вслух, требовавшее, как и в античные
140
ЖАКЛИН АМЕСС
времена, особых навыков и во многом близкое литургическому
речитативу и пению» [5].
Это был мир, в котором устная речь преобладала над речью
письменной [6]. Тот же феномен мы наблюдаем и в письме. Клас-
сические тексты и сочинения отцов Церкви, предназначавшиеся
для копирования, диктовались монахам-переписчикам в скрип-
ториумах, и даже много позже, когда переписываемые произве-
дения уже не зачитывались вслух ради многократного одновре-
менного воспроизведения текстов, индивидуальная манера
письма навсегда сохранила тесную связь с чтением, потому что
в процессе восприятия и понимания воспроизводимых терминов
зрение просто заменило собой слух. Большинство скрибов так и
будут проговаривать про себя переписываемые фразы.
Самое большое изменение, которое претерпело чтение в эпоху
схоластики, — это его возросшая роль в процессе преподавания.
Отец М.-Д. Шеню пишет: «Вся средневековая педагогика осно-
вана на чтении текстов, а университетская схоластика инсти-
туализирует и расширяет эту деятельность» [7]. Применительно
к Средним векам нельзя говорить о публичном чтении в рамках
образовательного процесса, как то было во времена Античности,
когда чтец давал возможность целой аудитории ознакомиться с
новым сочинением какого-либо автора. В интересующую нас
эпоху речь идет скорее о комментированном чтении и толкова-
нии сочинений, входивших в программу курса. Это не было яв-
лением совершенно новым. В школах раннего Средневековья
уже проводились занятия, посвященные объяснению и коммен-
тированию текстов классических авторов. В предыдущих главах
говорилось о подобной практике. Новшество состоит в том, что
практика эта была развита и регламентирована, и теперь уже
нельзя было читать как попало и где попало.
Само собой, коллективное чтение в процессе прохождения
учебного курса не упраздняет и не заменяет непосредственного
контакта интеллектуала с оригинальными авторскими текстами.
Приобретение знаний и рост образованности остаются столь же
актуальными, как и педагогическое образование. Но с течением
времени, как мы увидим, изменения произойдут и на уровне ин-
дивидуального чтения. Изменится техника изготовления книг, а
все более широкое их распространение глубоко повлияет на от-
ношение к текстам. Изобилие литературной продукции породит
ГЛАВА 4
141
новый подход к читаемым произведениям. Все это дает нам воз-
можность говорить о существовании схоластической модели чте-
ния, отличавшейся ото всех существовавших прежде практик.
Кстати, интересно подчеркнуть, что в классической латыни
глагол legere имеет двойное значение, поскольку обозначает как
«преподавание», так и собственно «чтение». Это отметил в своем
трактате «Металогикон» (Metalogicori) Иоанн Солсберийский
(XII в.): «Но потому, что термин legere неоднозначен и относится
как к труду того, кто преподает, так и к тому, кто самостоя-
тельно внимательно читает написанное, пусть одно слово будет
употребляться для обозначения отношений между преподавате-
лем и учеником (по выражению Квинтилиана), а именно слово
prelectio, а другое действие, обозначающее внимательное изуче-
ние написанного, пусть будет называться словом lectio» [8]. Для
того чтобы убрать из языка двузначные слова, Иоанн Солсбе-
рийский предлагает обозначать словом praelectio все, что отно-
сится к преподаванию, оставив термин lectio для обозначения са-
мостоятельного чтения. Любопытно отметить, что, начиная с
XII в., люди осознают двойную функцию чтения. В то же время,
изучая лексику, использовавшуюся в городских школах того пе-
риода, мы видим, что глагол legere в значении «преподавать» ис-
пользуется крайне редко. Расширительное толкование этого тер-
мина распространится только с появлением университетов [9].
Точно так же слово lectio, призванное, по мнению Иоанна Солс-
берийского, обозначать собственно «чтение текста», получит в
схоластическую эпоху более общее значение и станет обозначать
«лекцию, урок». Такая трансформация свидетельствует о глубо-
ких изменениях в привычках людей того времени и указывает
на существенные перемены в обществе, которые произведут в
нем вновь созданные структуры, а также на свойственные всем
периодам бурного культурного развития колебания и действия
методом проб и ошибок.
Различные значения глагола legere посредством латинского
синтаксиса отражены во множестве известных нам текстов.
Строение фразы меняется в зависимости от того, о чем идет
Речь: о преподавательской деятельности педагога, обучении са-
мого учащегося или о самостоятельном, индивидуальном, чте-
нии. Мы можем встретить разные конструкции: legere librum illi
(объяснять кому-либо содержание книги), или legere librum ab illo
142
ЖАКЛИН АМЕСС
(изучать книгу с помощью кого-либо), или же legere librum (чи-
тать книгу). Анализ языковых явлений всегда чрезвычайно ин-
тересен, тем более что он очень часто приводит к выводам, про-
тиворечащим тому, что на первый взгляд кажется очевидным.
В самом деле, можно констатировать, что в противоположность
lectio и legere классической латыни слово lectura — детище эпохи
Средневековья, и появилось оно в языке одновременно с воз-
никновением университетов для обозначения совершенно спе-
цифического способа подачи текста.
Все началось с того, что в школах правоведения на полях ма-
нускриптов, содержавших тексты, являвшиеся предметом изу-
чения, появились глоссы. Они разъясняли трудные места, об-
легчая их понимание. Слово lectura первоначально обозначало
именно такой способ толкования текста [10]. Только в XIII в.
оно станет использоваться как специальный термин для обоз-
начения содержания лекций или комментированного «прочте-
ния» текста с толкованием [11]. Во французском языке слова
«урок» и «чтение» обозначают разные реалии, и любопытно от-
метить, что существительное lectura появилось в латинском языке
только во второй половине XII в.
Еще один феномен, о котором следует упомянуть, говоря о
бытовании и использовании книги в эпоху схоластики, — роль,
которую в этом процессе играли различные монашеские ордена.
При их непосредственном участии параллельно проходили два
процесса: собственно передача письменной культуры и отбор
произведений для чтения [12]. Распространение некоторых тек-
стов всячески поощрялось, тогда как другие церковные власти
считали опасными и не предназначенными для всеобщего озна-
комления. Таким образом, мы видим, что, начиная с XIII в.,
концепция чтения претерпевает фундаментальные изменения,
которые следует проанализировать и точно охарактеризовать.
ПРИВЫЧКА ССЫЛАТЬСЯ НА «АВТОРИТЕТЫ»
Поскольку, начиная с XII в., производство книг непрерывно
росло, пришлось искать новые, более быстрые методики чтения,
которые позволили бы образованному сословию ознакомиться
с большим числом сочинений. Зрительное восприятие текста за-
менило собой восприятие на слух. Теперь требуется читать бы-
ГЛАВА 4
143
стро, иметь возможность легко находить отрывки, которые
нужно использовать, и необходимый минимум сведений в той
или иной области. Человек Средневековья всегда в своих лите-
ратурных трудах ссылался на «авторитеты» (auctoritates). Речь
идет о выражениях, цитатах и целых абзацах из Библии, сочи-
нений отцов Церкви и классических авторов, призванных при-
дать больше веса собственной аргументации сочинителя. Чтобы
помочь авторам в поиске таких отрывков, составляли сборники
цитат для заучивания наизусть, позволявшие быстро находить
нужные отрывки. Сборники эти назывались «цветы». Кроме этих
«цветов», начиная с XII в., появляются и другие инструменты для
облегчения интеллектуального труда, помогавшие читателю ори-
ентироваться в манускриптах и находить требуемые фрагменты,
не читая текст целиком. Систематическое и последовательное
медленное чтение какого-либо сочинения, позволявшее усвоить
если не все содержание произведения, то хотя бы самую его суть,
уступило место чтению отрывочному и дробному. Преимущество
этого способа заключалось в том, что он обеспечивал возмож-
ность быстро ознакомиться с избранными отрывками, но не тре-
бовал глубокого проникновения в текст и усвоения всего изло-
женного в нем учения. Соображения сиюминутной пользы во-
зобладали над стремлением к знанию.
Как мы уже видели, начиная с раннего Средневековья, со-
ставлялись сборники цитат, относящихся к различным областям
знания: «цветы» экзегезы, теологии, изречений отцов Церкви,
аскетов и других, ставших классическими, авторов — это если
вспомнить только основные отрасли знания того времени. Соз-
дание подобных инструментов, облегчавших умственный труд,
удовлетворяло совершенно различные нужды, позволяя интел-
лектуалам ознакомиться со сведенным в один-единственный том
основным содержанием произведения, которое они не могли
приобрести из-за отсутствия в обращении достаточного количе-
ства копий и высокой стоимости манускриптов и использовать
его в своей работе, которая требовала пользоваться мнениями ав-
торитетов как в преподавании, проповедях, так и в собственном
творчестве авторов [13]. Это были книги, полностью соответ-
ствовавшие потребностям читателей, поскольку в них легко за-
поминающимися фразами излагалось краткое содержание про-
изведения или приводились основные сведения по той или иной
144
ЖАКЛИН АМЕСС
теме [14]. Однако следует признать, что, несмотря на то что в
библиотеках таких сборников было очень много, они были всего
лишь хранилищами текстов, но не побуждали к творчеству. Ра-
бота с ними никогда не способствовала выработке новых теорий
или разработке новых методик будь то в области экзегезы или
составления собственных комментариев [15]. Как мы увидим
ниже, эти сборники, учитывая личность их составителей, имели
то преимущество, что в них не было пассажей, в которых могли
бы усмотреть ересь, и это, безусловно, одна из главных причин
их успеха.
Ряд текстов, составленных средневековыми авторами, дает
нам интересную информацию относительно как методов отбора,
так и использовавшейся в то время терминологии. Если пере-
числять только основные источники, то мы располагаем проло-
гом к «Сентенциям» (Sentences) Робера де Мелена, прологом к
трактату Абеляра «Да и нет» (Sic et поп), «Дидаскаликоном» Гуго
Сен-Викторского и «Металогиконом» Иоанна Солсберийского.
Существуют и другие сочинения, созданные на основе произве-
дений последующих лет. Эти тексты являются для нас прямыми
свидетельствами того, как средневековые авторы воспринимали
процесс обучения, чтения, доказательства и подбора аргументов.
Они информируют также о значении целого ряда технических
терминов, используемых в интересующей нас области. Это
важно, поскольку большинство этих классических вокабул при-
обрело в ту эпоху другое значение, удовлетворяя тем самым
новым потребностям образования и требованию уточнения пра-
вил их употребления.
Начиная с XIII в., изменения в языке, вызванные появле-
нием университетов и возникшей потребностью в точных опре-
делениях, привели к тому, что лексика приобрела более специ-
альный характер. ХН в. — век переходный, и именно поэтому
так интересны тексты, относящиеся к этому периоду. В них во-
кабулы по большей части используются еще в своем прежнем
смысле, характерном для эпохи Античности, но параллельно мы
видим, как зарождаются их новые значения. Этот феномен по-
зволяет нам понять эволюционный процесс, который чуть позже
будет идти на всех уровнях.
Так, Робер де Мелен (XII в.) в прологе к «Сентенциям» го-
ворит о читателях (recitatores), задача которых заключается в про-
ГЛАВА А
145
изнесении вслух текстов, содержание которых они могут и не по-
нимать [16]. Автор отличает того, кто довольствуется чтением
вслух чужого текста (recitator), от нормального читателя (lector),
который читает текст, стараясь вникнуть в его смысл. Помимо
вышеназванного фрагмента, об этом явлении говорится также и
в одном манускрипте, хранящемся в Брюгге, где мы нашли такой
заголовок: «О тех, кто читает книги и цитирует авторитетов, но
не понимает их». Эти отрывки показывают, как натренирован-
ная память людей Средневековья позволяла им запоминать боль-
шое число текстов, даже не понимая их смысла [17]. В XIV в.,
несмотря на прогресс в образовании и развитие наук, ситуация
если и изменилась, то далеко не везде, поскольку в одном из
отрывков трактата, ошибочно приписываемого Уильяму Оккаму,
изобличается тот же самый порок [18].
ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
Расцвет литературного творчества, начавшийся в XII в., ус-
ложнил доступ к книгам. Текстов теперь слишком много, для
того чтобы их все можно было прочесть. Становится трудным,
если не невозможным, запомнить такое количество имеющихся
в распоряжении потенциального читателя текстов и составить
представление о проблеме, не имея списков существующих тру-
дов, указателей и резюме, которые позволили бы собрать не-
обходимые сведения, чтобы разрабатывать ту или иную тему.
Сознавая все эти сложности, авторы той эпохи пользуются
весьма полезными в их деле антологиями, суммами, состав-
ленными с целью найти решение стоящей перед ними задачи.
Они могут воспользоваться самым известным комментарием к
Священному Писанию, каким является «Глосса библейская»
(Glosse ordinaire) Валафрида Страбона — незаменимый ин-
струмент для понимания библейских текстов; «Декретом» Гра-
циана, сделавшем доступным для юристов практически все не-
обходимые им сведения, а также предназначенной для бого-
словов «Суммой изречений» Петра Ломбардского. Предисло-
вие к последнему сочинению позволяет лучше понять
намерения автора XII в.: «[...] собрав в одном небольшом томе
мнения отцов Церкви [...], дабы не было необходимости обра-
146
ЖАКЛИН АМЕСС
щаться к многочисленным книгам, чтобы краткость собранных
примеров без труда давала искомое» [19].
Мы знаем, что авторы того времени постоянно обращались к
Библии и к упомянутым выше текстам, которые питали их соб-
ственное творчество. Но достаточно ли внимания современные
исследователи уделяли другим инструментам умственного труда,
которыми средневековые авторы пользовались как первоисточ-
никами? Мы имеем в виду «Золотую сумму» (Summa аигеа)
Гильома Оксеррского, «Сумму» Филиппа Канцлера, «Сумму»
Превотена Кремонского, — и это только самые известные из по-
добных сочинений.
Несмотря на все попытки предложить ученым инструмент
для работы, в котором были бы собраны основные знания по
тому или иному предмету, нерешенной остается еще одна про-
блема. Как сделать так, чтобы охватить все написанное и быть в
курсе новых публикаций? Этот вопрос очень занимал ученое со-
общество. Поначалу одним из решений поставленной задачи
признали необходимость составления энциклопедий, предна-
значенных для сбора основных сведений в той или иной обла-
сти. Не случайно, что именно в этот период появились много-
численные сочинения подобного масштаба, среди которых на-
зовем De natura rerum Александра Неккама (ок. 1195 г.), De fini-
bus rerum Арнольда Саксонского (ок. 1220 г.), De proprietatibus
rerum Варфоломея Глэнвильского (ок. 1240 г.), De natura rerum
Фомы Брабантского (ок. 1245 г.) и Speculum maius Венсана де
Бове (ок. 1245—1260 гг.). Можно утверждать, что в этот период
определяющую роль в создании такого рода текстов начали
играть некоторые монашеские ордена. Действительно, Варфо-
ломей Глэнвильский был францисканцем, тогда как Фома Бра-
бантский и Венсан де Бове — доминиканцами.
Помимо энциклопедий существовало множество глоссариев
и лексиконов, незаменимых для правильного понимания неко-
торых терминов, используемых в латинских текстах. Им пред-
шествует датируемый XI в. Elementarium Папия. В прологе к это-
му сборнику автор впервые перечисляет правила систематиче-
ской алфавитной классификации. Его система, к сожалению, не
получила в то время широкого распространения и пришлось
ждать больше века, прежде чем снова стали пользоваться выра-
ботанными им принципами классификации. Однако приходится
ГЛАВА 4
147
с сожалением констатировать, что строгая научность, которую
он продемонстрировал в своем прологе, будет соблюдаться да-
леко не всегда.
В связи с составлением энциклопедий мы упомянули мона-
шеские ордена. Однако ни доминиканцы, ни францисканцы не
были первыми в создании этих рабочих инструментов. Их опе-
редили цистерианцы, еще в XII в. доказавшие свое мастерство
во всем, что касалось организации процесса сбора информации.
В книге больше не ищут мудрости, как это делали монахи при
чтении духовных книг. Первейшей целью читателя становится
знание. Чтобы прийти к нему, необходимо иметь определенное
количество ключей, позволяющих быстро отыскать отрывки, ко-
торыми предполагали воспользоваться.
Если вы хотите получить общее представление о том, что было
сделано цистерианцами, для того чтобы разбить текст на фраг-
менты, организовать его по разделам, выделить абзацы, казав-
шиеся им самыми важными, необходимо прочесть работы
Р. Роуза (R. Rouse) по этой проблеме [20]. Вы попадете в новый
мир, чем-то похожий на наш. Первая попытка упорядочения со-
держания манускрипта породила и многие другие инструменты,
облегчающие труд интеллектуала: оглавления, перечни понятий,
указатели терминов, аналитические таблицы, выстроенные в ал-
фавитном порядке, обзоры и конспекты. Дело дошло до того, что
стали сокращать даже суммы XII в., сводя их в один весьма удоб-
ный в употреблении том, содержание которого было лишь блед-
ным отражением оригинального сочинения.
Появление этого нового литературного жанра привело к не-
избежному выводу о том, что отныне чтение не является обра-
щением к первоисточнику. Оригинальный текст сначала прохо-
дил через руки компилятора, сквозь фильтр первичного отбора.
Менялось и отношение к книге. Ее содержание больше не изу-
чалось ради самого себя с целью впитать некую мудрость, как то
советовал Гуго Сен-Викторский [21]. Отныне знание, даже фраг-
ментарное, первично и именно оно имеет значение. Размышле-
ние и медитация уступили место пользе, и это глубинное изме-
нение полностью изменило саму роль чтения.
Некоторые эрудиты поняли значение этих инструментов для
работы с текстом для всей культуры Средневековья [22], но мно-
гие исследователи не оценили влияния, которое эти тексты ока-
148
ЖАКЛИН АМЕСС
зали на интеллектуалов той эпохи. Достаточно открыть любой
перечень книг XIV в., чтобы обнаружить, что «цветы», конкор-
дансы и таблицы в изобилии представлены не только в библио-
теках монашеских орденов, но и в библиотеках коллежей и уни-
верситетов. Во многих случаях эти сборники подменили собой
обращение к подлинникам и a fortiori чтение авторских текстов,
и хотя их можно с полным основанием отнести к литературе
вторичной, нельзя пренебречь той ролью, которую они сыграли
в подготовке средневековых писателей. Этот способ приобще-
ния к культуре совсем не похож на то, к чему привыкли мы с
вами, и нам трудно представить себе, что даже знаменитые ав-
торы той эпохи пользовались этими инструментами, чтобы по-
быстрее получить необходимые им сведения. Необходимо при-
знать, что многие из дошедших до нашего времени манускрип-
тов свидетельствуют о том, сколь широко были распространены
и как часто использовались подобного рода сборники.
Эти компиляции представляли собой свод готовых к упо-
треблению сведений на случай, если кому-либо требовалось
большое число легко узнаваемых текстов, чтобы подкрепить
какой-либо тезис или выстроить систему аргументации. Они по-
зволяли всем, кто желал опереться в своей работе на автори-
тетные суждения, следуя описанной выше методике, обратимся
к доступно организованному материалу. Резюмируя короткими
и удобными для запоминания фразами доктрины, часто изло-
женные языком темным и маловразумительным, эти сборники
облегчали понимание многих произведений. Именно поэтому
они часто выполняли функции учебников, вводящих читателей
в систему мысли того или иного автора.
Преимущества, которые демонстрировали эти средства ин-
теллектуального труда, объясняют, почему большинство читате-
лей постепенно перестало обращаться к подлинникам и во мно-
гих случаях ограничивалось исключительно знакомством с
отрывками из них. Становится понятно, почему эти сборники
так высоко ценились студентами факультета искусств, посту-
павшими в университеты в юном возрасте и вынужденных изу-
чать доктрины, часто весьма заумные и непонятные [23]. Начи-
ная с XIV в. в германских университетах, а затем и в универси-
тетах других стран Европы, главным образом на факультетах
искусств, некоторые из таких сборников стали применять в ка-
ГЛАВА 4
149
честве учебных материалов к университетским курсам [24]. Мы
видим, какую эволюцию претерпели эти сборники. Первона-
чально они использовались только как справочный аппарат, но
с их помощью так легко было получить общее представление о
тексте, что многие избавили себя от необходимости обращаться
к оригиналу. Сначала ими пользовались только студенты, чтобы
составить представление о том или ином произведении, но с те-
чением времени даже преподаватели за основу читаемых ими
курсов стали брать не оригинальные тексты, а компиляции. Сле-
довательно, мы можем констатировать реальное оскудение зна-
ния обязательных текстов, которые следовало «прочесть» и
истолковать на лекциях в рамках различных университетских
программ.
АНТОЛОГИИ И КРАТКИЕ КУРСЫ: ПРИЧИНЫ УСПЕХА
Учебники, на которых основывалось университетское препода-
вание того времени, все еще плохо изучены. С одной стороны,
это объясняется тем, что многие из этих сборников еще не опуб-
ликованы и, следовательно, недостаточно изучены. С другой сто-
роны, некоторые историки культуры полагают, что эта вторич-
ная литература малоинтересна и изучать ее не стоит труда.
А между тем, именно по этим скромным учебникам средневе-
ковые интеллектуалы изучали обязательные предметы и знако-
мились с сочинениями своих предшественников [25].
Поначалу действовавшие методики преподавания все же тре-
бовали чтения оригинальных текстов [26]. Конечно, речь не шла
о монастырской практике чтения. В лекциях (lectio) привилеги-
рованное место отводилось толкованиям и комментариям. Но
университетскими программами предусматривались и другие
формы занятий: семинары-диспуты (disputatio) и проповедова-
ние (praedicatio). Трем уровням монастырской культуры: чтению,
Медитации и созерцанию — в схоластическую эпоху соответ-
ствовали три разных способа работы с текстом: толкование и
комментирование (legere), семинар-диспут (disputare) и духовное
осмысление содержания (praedicare). Но очень скоро станет ясно,
что роль диспута будет все возрастать и в конце концов вытес-
нит оставшиеся две формы занятий. Начиная с XIII в. влияние
150
ЖАКЛИН АМЕСС
философии Аристотеля стало определяющим. Активизировалось
преподавание диалектики, и главным стало искусство рассуж-
дения и ведения спора. Вот так столетие спустя во всех областях
знания начала главенствовать логика. Навыки подбора доказа-
тельств прививались ради них самих, в ущерб изучению содер-
жания текстов. Заорганизованность учебного процесса и из-
лишняя специализация привели к нарушению изначального рав-
новесия между различными формами обучения. Чтение, диспут
и проповедь оказались в неравном положении. Совокупность
вышеназванных причин скорее способствовала использованию
различных вспомогательных текстов, чем чтению текста, лежа-
щего в основе всей средневековой культуры, чтению Библии. Мы
видим, что в XIV в. даже на богословском факультете библей-
ские комментарии больше никого не интересуют. Другой взгляд
на вещи, другая ментальность... Произошел переход к иному
типу чтения.
Этой эволюции способствовали и другие факторы. Посту-
павшие в университеты студенты были очень молоды. Факуль-
тет искусств, курс которого во всех университетах, кроме Бо-
лонского, обязательно требовалось пройти, прежде чем присту-
пить к занятиям по выбранной специальности, выполнял в ту
эпоху функцию средней школы. Образования, полученного мо-
лодыми людьми до их поступления в университеты, было явно
недостаточно для углубленного понимания оригинальных про-
изведений, которые читали и комментировали на лекциях. Кол-
лективное чтение входивших в обязательную программу текстов
должно было быть организовано таким образом, чтобы каждый
получил возможность понять изучаемое произведение. Унасле-
дованная от XII в. методика преподавания включала три этапа:
объяснение грамматических особенностей каждого слова (lit-
tera), дословный перевод или парафраз, предназначенный, чтобы
понять основное содержание и оттенки смысла читаемого пред-
ложения (sensus), и, наконец, обстоятельное истолкование раз-
бираемого отрывка преподавателем (sententia). Подобная мето-
дика должна была помочь каждому учащемуся глубоко понять
изучаемое произведение.
На практике дело обстояло несколько иначе. Так, никто из
новоиспеченных студентов не был предварительно ознакомлен
с трудами Аристотеля, которые составляли основу преподавания
ГЛАВА 4
151
философии. Поэтому, несмотря на дословные переводы и ком-
ментарии, в обязательном порядке делавшиеся преподавателями,
несмотря на все учебные упражнения, призванные облегчить на-
чинающим усвоение доктрины, открывавшей перед ними новые
горизонты, глубокое понимание учения Стагирита оставалось
недоступным большинству из них. Таким образом, сборники
цитат из трудов Аристотеля упрощали понимание философской
системы, суть которой не всегда просто уловить даже специали-
стам. Как правило, студенты не предпринимали ни малейших
усилий, чтобы хотя бы попытаться прочесть оригинальный текст,
и довольствовались отрывками и комментариями, которые делал
преподаватель на лекциях.
Однако многие преподаватели также не пользовались ориги-
налами текстов, которые должны были толковать и комменти-
ровать. У некоторых из них возникали сложности с пониманием
греческих текстов, во внимание следует принять также причины
экономического характера. Доступ к оригиналам произведений,
которые хотелось прочесть и использовать в работе, ограничи-
вался двумя обстоятельствами. Во-первых, высокой стоимостью
пергамена (для того чтобы переписать полный текст Библии,
требовались шкуры целого стада коров, что по тем временам со-
ставляло немалое состояние), а во-вторых, тем обстоятельством,
что труд переписчика долгое время считался трудом рабским
[27], и вплоть до XIII в. большинство интеллектуалов пользова-
лись услугами секретарей или профессиональных копиистов, что
также требовало больших расходов. Но даже в период развития
университетского образования, когда письмо стало занятием
привычным, членам некоторых нищенствующих орденов запре-
щалось тратить свое время на переписывание текстов [28]. Время
учебы было слишком драгоценно и его не следовало терять, ко-
пируя чужие сочинения. Финансовые соображения вкупе с не-
уважением к труду скриба объясняют, почему при возросшей по-
требности в текстах приходилось обращаться к работам вспомо-
гательного характера, представлявшим собой сборники наибо-
лее характерных отрывков или же краткий пересказ всего
сочинения, которые давали возможность ознакомиться с содер-
жанием произведения.
В университетский период некоторые библиотеки выдавали
Манускрипты на дом. Но число имевшихся в обращении книг не
152
ЖАКЛИН АМЕСС
соответствовало все возраставшему спросу на них. Чтобы как-то
решить эту проблему, университеты создали систему размноже-
ния текстов — par exemplar et pecia [29]. Университетское началь-
ство осуществляло строгий контроль за качеством распростра-
нявшихся таким образом текстов, чтобы не допустить попадания
в оборот ошибочных версий [30]. Но все усилия были напрасны;
простота взяла верх и многие студенты ограничивались при изу-
чении текстов «цветами» и конспектами, избавив себя таким об-
разом от необходимости самостоятельно читать оригинал.
С грустью приходится констатировать, что, несмотря на су-
ществовавшие запреты и распоряжения, тенденция к упрощению
стала усиливаться везде, особенно на факультете искусств. Го-
раздо проще было преподать студентам краткое и легкое для за-
поминания изложение, чем долго и подробно объяснять темные
места некоторых произведений, входящих в программу курса.
Оскудение преподавания объясняется несколькими факто-
рами. После эпидемии чумы, свирепствовавшей в Европе и опу-
стошившей города, изменился состав университетского сооб-
щества. Среди студентов стали преобладать выходцы из сель-
ской местности, уровень подготовки которых, судя по всему,
был существенно ниже, чем у их предшественников. Для изуче-
ния входящих в программу наук им вполне подходили вспомо-
гательные работы, изначально предназначавшиеся для того,
чтобы облегчить понимание оригинальных текстов. Простота
изложения также имела значение, поскольку многочисленные
занятия, которые они были вынуждены посещать во время про-
хождения курса, требовали от них запоминания большого коли-
чества информации. Не все они в достаточной степени владели
навыками письма, и часто им бывало трудно полно и без оши-
бок записывать лекции. Таким образом, они были просто вы-
нуждены пользоваться многочисленными конспектами, распро-
странявшимися в форме таблиц, резюме, конкордансов, индек-
сов и «цветов».
Тут мы сталкиваемся с главной проблемой, которую ставят
такого рода тексты: проблемой отбора. Достоинство цитируе-
мых отрывков и качество пересказа полностью зависели от ра-
зумения компилятора. При пользовании любым из этих сбор-
ников неизбежно задаешься вопросом о том, какой методики
придерживался его автор, какие цели он преследовал при выборе
ГЛАВА 4
153
отрывков для заучивания наизусть. Понять это можно далеко не
всегда. Первая проблема состоит в том, что нам неизвестны
имена авторов многих подобных сочинений. Большинство из
них не имеет вводной части, пролога — и это вторая проблема.
Если же пролог, объясняющий цели и задачи компилятора, все
же существует, следует выяснить, является ли он подлинным
или же позаимствован из предыдущего сборника, как это часто
бывало в ту эпоху. Выяснив это, следует предпринять попытку
определить, в какой степени компилятор следовал заявленным
принципам на практике. Далеко не всегда можно с уверенностью
ответить на этот вопрос.
Само собой разумеется, что как бы ни были полезны подоб-
ные сборники, они не исключали необходимость обращения к
полному тексту того или иного произведения. Несмотря на то,
что задумывались они именно как замена недоступным для чи-
тателей текстам, способ их использования очень скоро показал,
что антологиями пользовались исключительно из-за их про-
стоты, поскольку в этом случае нет нужды читать произведение
целиком. Это замечание в полной мере относится ко всем типам
антологий. В общем, можно сделать вывод, что основной недо-
статок компилятивной литературы, сборников цитат и кратких
изложений состоял в том, что они отучали человека Средневе-
ковья от чтения оригинальных текстов. Интересное подтверж-
дение справедливости сделанного нами вывода можно найти во
введении к третьему тому Картулярия Парижского университета
(Chartularium Universitatis Parisiensis), авторы которого видят при-
чину падения в XIV в. интереса к изучению богословия и успеха
номинализма в чрезмерном увлечении антологиями и сборни-
ками цитат:
«Давно уже богословы, кроме небольшого их числа, пренебре-
гают замечательным источником богословских знаний, каковым
является изучение творений отцов Церкви. В самом деле, в ката-
логах манускриптов того беспокойного времени нет собственно-
ручных творений святых отцов, кроме небольших произведений,
повествующих главным образом об устройстве духовной жизни;
все, что было им известно о трудах отцов, они почерпнули из более
поздних богословских сочинений и из сборников выстроенных в ал-
фавитном порядке цитат из творений отцов Церкви. Этот схола-
154
ЖАКЛИН АМЕСС
стический метод берет свое начало в традициях Античности. Так
богословие стало бесплодным, бесплодным более чем когда-либо,
тогда как в философии безраздельно царствует номинализм...» [31].
Столь суровая оценка роли компилятивной литературы по-
казывает, до какой степени последняя ограничивала творческие
возможности человека и делала бесплодным любое исследова-
ние, если превращалась в самоцель, а не использовалась только
в качестве вспомогательного средства. Сведение оригинальных
мыслей автора к некоторому количеству более или менее удачно
подобранных и выдернутых из контекста цитат искажало сущ-
ность многих учений и не позволяло соприкоснуться с тем бо-
гатством, которое содержали в себе некоторые творения. Выбор
цитат целиком отдавался на откуп компилятору, так что те места,
которые были признаны недостойными войти в сборники, были
обречены на забвение. Наконец, слишком часто компилирова-
ние искажало авторскую мысль. Значительное сокращение почти
всегда предполагало крайнее упрощение доктрины и, главное,
отсекало все нюансы.
Кроме того, привычка выделять в тексте самые важные места
{notabilia) являлась одним из методов преподавания как на фа-
культете искусств, так и в studia монашеских орденов. Поэтому
неудивительно, что со временем стали появляться сборники
подобных notabilia из лекций преподавателей. Это был мате-
риал, готовый к употреблению. Создание вспомогательного ап-
парата, дающего возможность быстрого и легкого доступа к
текстам, было широко распространено во всех областях и до-
стигло своей кульминации во время развития университетов.
Действительно, некоторые уставные требования резко увели-
чили потребность в текстах. Почти во всех университетах сту-
денты были обязаны иметь списки текстов, которые читались
на лекциях, чтобы следить за объяснениями преподавателя [32].
Разнообразные университетские занятия требовали от них зна-
ний, достаточных для того, чтобы принимать участие в диспу-
тах, используя для этого суждения «авторитетов». Чтобы раз-
вить ум и научиться высказывать собственное мнение, они
должны были прочесть множество текстов. Вот так и появились
на свет множество конспектов, конкордансов, антологий и
сборников «цветов».
ГЛАВА 4
155
РОЛЬ МОНАШЕСКИХ ОРДЕНОВ
В то же время можно констатировать, что различные монаше-
ские ордена поощряли создание и распространение такого рода
литературы, преследуя при этом собственные цели. Делали они
это, прежде всег, для того, чтобы не допустить ошибочных истол-
кований философских учений, которые могут вынудить кое-кого
из монашеской братии исповедовать теории, противоречащие
христианскому вероучению. Поэтому в сборники, составленные
клириками, включались только ясные, легкие для понимания
отрывки, не затрагивающие неоднозначные проблемы. Напри-
мер, доминиканец Иордан Саксонский вскоре после образова-
ния ордена формально запретил молодым братьям читать фило-
софские труды, кроме тех случаев, когда орденский педагог был
способен их толковать и комментировать [33]. Только богослов-
ские труды были доступны всем и каждому. Гумберт Романский
не столь категоричен в своих суждениях и делит монахов на три
категории. Правила, которым они должны следовать, зависят от
умственных способностей представителей этих трех групп [34].
Следует также принять во внимание, что в основе всех анто-
логий и конкордансов лежал чей-то выбор, и компилятор мог
специально исключать места, имевшие двойственное толкова-
ние, не соответствовавшие христианской доктрине. Различные
монашеские ордена, желая избежать еретических споров, поощ-
ряли составление и распространение вспомогательных текстов
подобного рода, содержание которых они легко могли контро-
лировать. Известно, что эти сборники различными путями по-
падали в Авиньон к папскому двору. И даже папы пользовались
ими, чтобы не читать в подлинниках произведения, когда у них
для этого нет времени и желания.
Известно, что папа Иоанн ХХП (1316—1334) питал пристра-
стие к такой литературе [35]. Но несмотря на то что понтифик
в своей работе обильно пользовался этими сборниками, он
в большинстве случаев был знаком с сочинениями авторов, ко-
торых цитировал. В одной из своих проповедей он даже крити-
ковал клеветников, строящих свои доказательства на одних
только конспектах и отрывках [36]. Не имея времени прочесть
в подлиннике все произведения, с которыми они желали озна-
комиться из любопытства или для того, чтобы составить соб-
156
ЖАКЛИН АМЕСС
ственное мнение о текстах, которые были признаны еретиче-
скими, многие папы обращались к монахам с просьбой составить
для них сборники извлечений [37]. Многие из этих антологий фи-
гурируют в каталоге папской библиотеки в Авиньоне. Король
Роберт Анжуйский и другие великие мира сего поступали точно
так же. А Фредерико, герцог Урбинский (XV в.), заказал доми-
никанцу Джордано из Бергомо (lordanis de Bergomo) антологию
извлечений из трудов Аристотеля [38]. В сохранившемся в манус-
крипте посвящении называлась, помимо прочего, одна из при-
чин, по которой герцог обратился с такой просьбой: он испыты-
вал затруднения в понимании философии Аристотеля [39]. Вот мы
и встретили вновь один из доводов в пользу создания сборников
цитат из трудов Аристотеля для нужд образования.
Какое влияние оказывал труд монахов-компиляторов на об-
щественное сознание? все ли они обладали знаниями, доста-
точными для подобной работы? Не оставили ли они — вольно
или невольно — отпечаток собственной личности на составлен-
ных ими документах? Цели, которые они преследовали, потреб-
ности их заказчиков, их намерения и конечный результат за-
служивают специального исследования, которого пока никто не
предпринимал.
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ КОМПИЛЯЦИИ
Можно ли применительно к этим учебникам говорить о пере-
ходе от Средних веков к эпохе Возрождения? Отец Ш. Лор не
так давно заметил, что ни о какой эволюции не может быть и
речи, поскольку основные учебники, которыми пользовались в
конце XIV в. — это отчасти те же учебники, по которым изучали
философию в XIII в. Следовало бы проверить, распространяется
это правило на остальные университетские дисциплины или же
оно свойственно только одной из них. Однако следует обратить
внимание на то, что даже если сохранялась преемственность в
воспроизводстве основных учебников, то атмосфера изменилась
весьма существенно. Отношение интеллектуалов к суждениям
«авторитетов» стало другим. Преподавание законов логики и
искусства ведения диспутов сделало за истекшие столетия свое
дело, и во всех областях жизни разум (ratio), несмотря на со-
ГЛАВА 4
157
противление богословов, понемногу начал брать верх над «авто-
ритетами» (auctorifates). Изменения произошли не на уровне
сборников изучаемых и комментируемых текстов, а в способе
изучения и обсуждения этих текстов.
Верно также и то, что в некоторых случаях изменилась и ме-
тодика преподавания. Гуманисты снова ввели в моду индивиду-
альное чтение. Они советовали обращаться непосредственно к
оригиналам. Хотя продолжали создаваться новые сборники из-
влечений и цитат, но среди множества тех, что вышли в свет в
интересующий нас период, мы находим подборки «цветов», вы-
полненные скорее для личного пользования и представляющие
выписки, сделанные в процессе чтения каким-нибудь гуманистом
или эрудитом. В этот период часто бывает непросто провести
границу между собранием «цветов» и сборником текстов [40].
Если речь идет о личных заметках, то в этом случае цели, кото-
рые преследовал компилятор, коренным образом отличаются от
мотивировок, которыми в большинстве своем руководствова-
лись люди Средневековья. Некоторые из этих работ больше по-
хожи на полноценные антологии, чем на собственно сборники
цитат. Здесь также необходимо уточнить значение используе-
мых терминов [41]. Большинство этих сборников предназнача-
лись для личного пользования и не получили широкого распро-
странения, а некоторые из них никогда не брал в руки никто по-
сторонний.
Однако в эпоху Возрождения нищенствующие ордена продол-
жают играть заметную роль в разработке инструментария для за-
нятий философией. Чтобы убедиться в том, что средневековая
традиция продолжалась и в эпоху Возрождения, достаточно упо-
мянуть имена августинца Павла из Венеции, францисканца Ан-
тонио Тромбетта и доминиканца Тома де Вио [42].
Сборники «цветов» не исчезли с приходом эры гуманизма, на-
против, они эволюционировали, но не прекратили своего суще-
ствования. Известно, что продукция эта стала более разнооб-
разной. Сборниками пользуются как люди образованные, так и
проповедники и преподаватели. В них собраны полезные и до-
ступные документы, которые продолжают использовать в обра-
зовательных целях [43]. К тому же иезуиты, начиная с XVI в.,
всячески поощряли их использование [44]. Это неудивительно,
поскольку в сборниках «цветов» использовались только те тек-
158
ЖАКЛИН АМЕСС
сты, из которых были изъяты нежелательные места и которые
не могли посеять смущение в умах и толкнуть молодежь на опас-
ный путь. В эту эпоху произошло еще одно интересное событие:
с латыни на местный язык были переведены несколько средне-
вековых сборников.
ПОСТЕПЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СХОЛАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Эволюция приемов и способов чтения, начавшаяся в XII в., по-
зволяет признать отличие схоластической модели от предше-
ствовавших ей практик. Приобретение знаний стало важнее ду-
ховности. Проанализированные нами изменения в языке указы-
вают направление, в котором менялись подходы к чтению тек-
стов. Преподавание и насколько возможно быстрое приобретение
знаний пришли на смену углубленному изучению научных и ли-
тературных произведений. Отныне книги читают по диагонали.
Размышления над Священным Писанием заменили на изучение,
часто поверхностное, других текстов, включенных в универси-
тетские программы. Студенты и преподаватели по большей части
читают не для удовольствия, но ради получения сведений, необ-
ходимых для приобретения полезных знаний.
Чтобы знание не было заперто в монастырских стенах и не
оставалось делом преимущественно личным, начиная с XII в.
люди, подобные Петру Ломбардскому, Петру Певчему, Морису
де Сюлли, Роберу де Курсону и др., старались сделать его до-
ступным обществу. К несчастью, их благородное начинание не
имело успеха. Специализированное и организованное чтение во-
зобладало над чтением духовным. Энциклопедическая точка зре-
ния заменила на всех уровнях чтение и медитацию. Логика, при-
званная формировать характер и развивать умственные способ-
ности, ввела интеллектуалов в соблазн и заполонила универси-
тетское сообщество. Искусство ведения спора стало цениться
больше, чем глубокое знание текстов [45]. Хорошо натрениро-
ванная память людей Средневековья помогала им не обращаться
к первоисточникам, а пользоваться только сборниками отрыв-
ков и цитат, отобранных другими. Изменилась и методика ра-
боты. Индивидуальное творчество во многих случаях уступило
место сочинениям с уже заданной внутренней структурой, за-
ГЛАВА 4
159
гнанным в жесткие рамки и использующим типично схоласти-
ческие формулы и выражения. В их очень сильно специализи-
рованном языке отчасти и заключалась причина неизбежного
упадка схоластической модели. XIV в. стал в этом смысле пово-
ротным, несмотря на существование блестящих личностей.
Помимо университетских навыков, оказавших основопола-
гающее влияние на практику чтения, следует отметить, что су-
ществовали и иные способы доступа к текстам, которыми, как
правило, пользовались образованные интеллектуалы и библио-
филы, сохранившие любовь к книге. Хороший тому пример мы
находим в личности Ричарда Бьюри [46]. Однако от Ричарда
Фитц-Ральфа, архиепископа Армагского (XIV в.), мы узнаем,
чтои нищенствующие ордена приобретают огромное количество
книг для пополнения монастырских библиотек и обеспечения
братии необходимым багажом знаний:
«В Оксфорде невозможно купить ни одной книги по филосо-
фии или богословию; труды по медицине и каноническому праву
попадаются крайне редко, потому что число монастырей ни-
щенствующих орденов умножилось и они скупают для своих
обителей все подряд. Они имеют прекрасные большие мона-
стырские библиотеки; помимо этого каждый их студент в изо-
билии снабжается книгами. Нехватка вспомогательных изданий,
вызванная закупками нищенствующих орденов, вынудило троих
или четверых клириков, посланных архиепископом в Оксфорд,
отказаться продолжать учебу» [47].
Это свидетельство подтверждает особенности менталитета
этих орденов, которые запрещали своим братьям тратить учеб-
ное время на переписывание чужих текстов.
Следует добавить, что проблема нехватки книг и вспомога-
тельных материалов, необходимых для обучения в университе-
тах, естественным образом разрешилась во второй половине
XIV в. после эпидемии чумы, опустошившей Европу. Особенно
сильно пострадали города. Поскольку большинство интеллек-
туалов было сконцентрировано именно в городах, чума стала
причиной массовой гибели преподавателей и студентов, оставив
в распоряжении выживших большое количество книг. С этого
момента радикально изменились условия приобретения и рас-
160 ЖАКЛИН АМЕСС
пространения текстов. Книги снова стали доступными и вернули
ученому сословию вкус к чтению, который они отчасти утратили
в предыдущем столетии, подменив его стремлением к утилитар-
ному знанию.
А в Италии гуманисты начали разыскивать античные тексты
и возвращать их в культурный оборот. Такое изменение обшей
атмосферы, изобретение книгопечатания и любовь к художе-
ственной литературе вновь изменили отношение к книге. К тому
же движения, подобные Devotio moderna, опять предприняли по-
пытки ввести в моду чтение в той его форме, в которой оно су-
ществовало в монастырский период [48]. Рост городов и демо-
кратизация образования внесли разнообразие в интересы чита-
телей, среди которых можно встретить и бюргеров, и торговцев,
и интеллектуалов.
Пол Зенгер
ГЛАВА 5
ЧТЕНИЕ В ПОЗДНЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Историки признают, что XII в. в Северной Европе стал веком
огромных новшеств в области права, богословия, философии
и искусства. Но для историка, изучающего чтение, это, прежде
всего, — столетие развития и укрепления письма с межсловными
пробелами, которое появилось в VII в. на Британских островах и
стало обычным в XI в. во Франции, Лотарингии и Германии. След-
ствием появления четко видимых пробелов после каждого слова
во фразе, включая односложные предлоги, было то, что теперь для
понимания текста перестало быть необходимым чтение вслух.
К новому способу представления текста прибавилась и не
менее важная языковая перемена: новые правила порядка ла-
тинских слов или как минимум объединение грамматически свя-
занных слов в линейные последовательности. Эти два новшества:
разделение слов на письме и их синтаксическое упорядоче-
ние — позволили четко и однозначно передавать мысль, что и
требовала схоластическая философия с ее множеством тонкостей
[1]. Это было необходимым условием и для развития пунктуа-
ции, и для быстрого чтения про себя. Новшества предполагали
способность визуально распознавать форму слова и отмечать ос-
новные пространственные единицы текста: простое предложе-
ние, целое предложение, абзац.
Межсловные пробелы и чтение про себя
Один из самых поразительных примеров новой техники письма с
Межсловными пробелами — сочинения Гвиберта Ножанского
(Умер в 1125 г.). В работе Гвиберта, уроженца Нормандии, вопло-
тились все принятые в то время навыки умственного труда и
162
ПОЛ ЗЕНГЕР
письма. Рукописи самого Гвиберта и его секретарей (Националь-
ная библиотека, латинские рукописи 2500, 2502 и 2900 из аббат-
ства Ножан-су-Куси около Суассона) имеют отчетливые пробелы;
в конце слов они употребляют специфические написания (на-
пример, конечное S прописное), чтобы слова на глаз лучше выде-
лялись [2]. Выделение слов становилось еше четче благодаря абб-
ревиатурам коротких слов, особенно предлогов и союзов, изобра-
жавшихся одним недвусмысленным символом, например, лигатура
& вместо союза et, тиронов знак' вместо словоформы est. Кроме
того, Гвиберт и его секретари использовали дефис.
Аналогичное написание с регулярным разделением слов
встречается у Гуго Сен-Викторского (умер в 1141 г.). Чтобы яснее
проявить форму слова, в древнейших рукописях его произве-
дений из августинского Сен-Викторского аббатства в Париже ис-
пользованы (не считая округлого конечного S) особые знаки для
конечных -us, -tur, -т и -огит. Кроме того, копиист пользовался
дефисом. В латинской рукописи 15009 из Национальной биб-
лиотеки — древнейший известный экземпляр сочинения Гуго De
tribus maximis circumstantiis gestorum — имеются тиронов знак для
союза et, перечеркнутое S прописное для окончания -огит, про-
писная лигатура NS, прописное R. В кодексе S 292/1 из биб-
лиотеки Боннского университета, содержащем его произведение
De sacramentis Christianae fidei, переписанное через 14 лет после
смерти аббата, в 1155 г., для Альтенбургского цистерцианского
аббатства [3], соблюдены цистерцианские правила написания
рукописей: слова разделены пробелами, равными расстоянию
между ножками буквы п. Как в этом кодексе, так и в других,
более ранних рукописях Гуго Сен-Викторского, употребляются
прописные буквы в начале имен собственных.
В первых рукописях Гуго инициалы раскрашивались, чтобы
легче запоминались зрительно выделенные таким образом начала
разделов [4]. Такое графическое представление информации,
связанное с раскрашенными инициалами и структурой текста,
в XI в. выполнявшимися переписчиками таких аббатств, как
Фекам и Сен-Жермен-де-Пре, было педагогическим инстру-
ментом. В книге De tribus maximis circumstantiis gestorum он сове-
* Тироновы знаки — стенографическая система, изобретенная секретарем Цице-
рона Марком Туллием Тироном. — Прим. фр. переводчика.
ГЛАВА 5
163
тует учащимся внимательно читать в книгу, запоминая цвет и
форму букв, а также особые значки, дающие информацию о тек-
сте [5]. Он считал зрительное взаимодействие читателя с книгой
составной частью обучения; в «Дидаскаликон» он говорит о трех
типах чтения: чтение для другого, слушание чужого чтения и
чтение про себя, вглядываясь (inspicere), т. е. безмолвное чтение
наедине с собой [6].
Употребление глагола inspicere, отсылающего к визуальной сто-
роне чтения, идет от святого Ансельма и раннего употребления гла-
гола videre в значении «читать» в Англии и Ирландии, которое в
XI в. было принято и в континентальной Европе. По Гуго Сен-
Викторскому, читатель, прежде всего, должен овладеть граммати-
ческой конструкцией (что облегчалось синтаксической группи-
ровкой слов), затем пониманием буквального смысла и лишь затем
переходить к углубленному пониманию смысла, уже не обращая
внимания на устное произнесение и связанное с ним соблюдение
акцентуации [7]. Именно эти зрительные по преимуществу про-
цедуры и облегчались новой техникой структурирования пись-
менного текста. Гуго говорит, что значки (notae) старинных грам-
матиков, в том числе пунктуация, как правило, уже должны быть
выписаны на странице, или же писец должен вставлять их для об-
легчения задачи читателя; между тем, в древние времена зани-
маться этим для облегчения грамматического анализа должен был
не писец, а чтец. Тот факт, что аббат передает задачу подготовки
текста переписчику, говорит о важности перемен в менталитете,
случившихся в XI в. в Северной Франции. В книге De grammatica
он дает обширный список используемых знаков препинания; он
же первым из средневековых грамматиков внес в число знаков, ко-
торые писец должен дать в тексте, знаки сносок [8]. Эти знаки,
имеющие в виду безмолвное движение глаз для справки, встре-
чаются все чаше, начиная с конца X в.
Гуго из Фуйуа, современник Гуго Сен-Викторского, кото-
рому впоследствии часто ошибочно приписывались сочинения
Последнего, написал трактат Liber de rota verae religionis, иллю-
страции к которому, хотя еще и не слишком подробны, но уже
Дают довольно далеко зашедшую форму отношения к письму и
Изображению, развивавшуюся вместе с употреблением меж-
словных пробелов в весьма многочисленных рукописях Британ-
ских островов и Северной Франции XI в. [9]. Роль зрителя ил-
164
ПОЛ ЗЕНГЕР
люстраций этой книги, а также других сочинений Гуго из Фуйуа
(Liber avium и De pastoribus et ovibus) сливается с ролью читателя
текста. Текст Liber de rota verae religionis отсылает к миниатюрам
и находящемуся при них тексту, также написанному с межслов-
ными интервалами. В одной рукописи XII в., хранящейся в Ко-
ролевской библиотеке Брюсселя (BR II 1076), легенды, кото-
рыми подписаны миниатюры, содержат много терминальных
форм, в том числе прописное конечное S, ставшее эмблемой
протосхоластического письма XI в. На картинке изображен «доб-
рый аббат», погруженный в чтение. У такой иконографии без-
молвного чтения есть более ранние прецеденты в книгах XI в.,
иллюминованных для аббатств Фекам и Люксей. Одним из ши-
роких путей передачи протосхоластических графических новов-
ведений на рубеже XI—XII вв. стала Шартрская школа, где меж-
словные пробелы были введены со времен епископа Фульберта,
соученика Герберта. «Декрет» и «Панамия» Ивона Шартрского
(умер в 1116 г.) распространялись к северу от Альп исключи-
тельно в рукописях, где использовалось раздельное написание
слов, как и в заменившем их впоследствии «Декрете» Грациана.
Произведения Абеляра и Иоанна Солсберийского, учившихся в
Шартре, писались и распространялись в рукописях, где между
словами стояли пробелы. Иоанн Солсберийский, как и Гуго Сен-
Викторский, различал чтение вслух учителя ученику (prelectio)
и чтение про себя (lectio) [10]. Он, как и наставники ars lectoria
в XI в., полагал, что искусство правильного письма является ча-
стью грамматики, и видел в пунктуации знаки паратекстового
общения между автором и читателями, аналогичные невмам для
записи музыки [11]. Верный монашеской традиции, завешанной
прошлым веком, он особенно следил за правильным разделе-
нием на слова, чтобы их можно было различать на глаз и пони-
мать рукописный текст, не прибегая к чтению вслух [12]. В дру-
гих местностях Франции придерживались тех же принципов.
Гильберт из Пуатье прилагал к рукописям, написанным с по-
следовательным словоделением, эмблематические знаки, восхо-
дящие к образцам XI в. (например, рукопись из муниципальной
библиотеки Труа, № 988).
О новой привычке к безмолвному чтению, про которую упо-
минали Гвиберт Ножанский, Гуго Сен-Викторский и Иоанн.
Солсберийский, прямо говорит Рихальм, приор цистерцианского’
ГЛАВА 5
165
аббатства Шёнталь в 1216—1221 гг., в трактате Liber revelationum
de insidiis et versutiis daemonum adversus homines, рассказывая, как
бесы прерывали его lectio про себя и заставляли читать вслух, тем
самым мешая внутреннему и духовному пониманию [13]. Пред-
почтение, которое Рихальм отдает чтению про себя, вполне гар-
монирует с духовной психологией цистерцианства в описании
Бернарда Клервосского, Исаака из Стеллы, Гильома из Сен-
Тьерри и Аэльреда Риевосского (умер в 1167 г.) [14]. Все эти мо-
нахи-цистерцианцы считали, что центр духа находится в сердце
и видели в чтении лучший способ затронуть «сердечные чувства»
(affectus cordis). По их мнению, индивидуальное чтение тесно
связано с духовным размышлением и даже является необходи-
мым условием для него. Этот идеал, в XI в. уже проповедовав-
шийся Иоанном Фекамским и Асельмом Кентерберийским, про-
пагандировался во всех цистерцианских монастырях. Гильом из
Сен-Тьерри в Epistula adfratres de monte dei тесно связывал lectio
и meditatio [15]. Неизвестный, но, вероятно, цистерцианский
автор сочинения De interiori domo использовал метафору уеди-
ненного чтения, говоря о духовном размышлении [16]. Другое
доказательство весьма развитого характера чтения глазами у ци-
стерцианцев — то, что их трудами в первой половине XIII в.
вошли в практику сборники «дистинкций» (distinctiones) — слож-
ных систем указателей, основанных на нумерации страниц и ис-
пользовании букв алфавита для различения частей текста [17].
Новую технику чтения про себя и использования системы от-
сылок с XI в. развивали и бенедиктинцы. Монах аббатства Сен-
Марсьяль Бернард Итье (умер в 1225 г.) применял нумерацию
листов (Национальная библиотека, латинская рукопись 1338)
для упорядочения предварительных выписок к своей «Хронике»:
например, выписки к 1112 г. находятся на листе 112 [18]. Петр
Келльский, автор трактата De discipline claustrali, считавший чте-
ние про себя необходимым условием духовного размышления,
Употреблял глагол wr/егедля обозначения чтения [19]. Он гово-
рил об уединенном чтении в монастыре как о стимуляторе раз-
мышления, совершающегося в безмолвии. Все сохранившиеся
экземпляры его книги написаны с межсловными пробелами [20].
Один из экземпляров его проповедей, переписанный в Клерво
Поколение спустя после его смерти (Муниципальная библио-
Тека Труа, № 253), также выполнен с межсловными пробелами
166
ПОЛ ЗЕНГЕР
и некоторыми аббревиатурами, как-то: тиронов знак для et, диа-
критические знаки и эмблематическая пунктуация [21]. Ан-
глийский монах из аббатства Сент-Эвруль Одерик Виталь, «Цер-
ковная история» которого стоит в первом ряду нормандских
исторических компиляций первой половины XI в., был образ-
цом литературной плодовитости, о которой он говорит и в своем
сочинении [22]. Сам он на письме использовал пробелы больше
половины ширины обычной клетки, а также прописные буквы
и для имен собственных, и для терминальных форм.
АВТОР И ЕГО ТЕКСТ: ОТ ДИКТОВКИ К СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ЗАПИСИ
Тесная связь, возникавшая между читателем и книгой, суще-
ствовала также между автором и его рукописью. Квинтилиан, пи-
савший в те времена, когда слова отделялись друг от друга точ-
ками, советовал авторам писать самим [23], но писатели периода
поздней Античности обычно диктовали свои произведения, по-
скольку scriptio continua, ставшее нормой с конца П в., было
слишком трудно. С переходом на письмо с пробелами стало воз-
можным возобновление интереса к собственноручному писа-
нию, и некоторые, как Отлох Санкт-Эммерамский в XI в. и Гви-
берт Ножанский в XII в., уже могли выражать на письме такие
чувства, которые прежде не могли быть доверены пергамену,
ибо их интимный характер не предполагал присутствие секре-
таря. Гвиберт блестяще владел письмом с пробелами, что отра-
зилось и на его авторском сознании. В книге De vita sua sive
Monodiarum libri tres он проявляет склонность к самоанализу,
ставшую характерной для литературной культуры позднего Сред-
невековья. Он сочинял также эротические стихи в античном
духе, которые прятал от братии [24], и тайком от аббата сочинил
комментарий к книге Бытия. Как и Ансельм Бекский, он тща-
тельно делил свои книги на главы, чтобы было проще читать их
[25]. В последние годы жизни, ослепнув, Гвиберт уже не мог пи-
сать сам, и ему пришлось пользоваться услугами секретаря.
В «Тропологии на Осию, Амоса и Плач Иеремии» он горько жа-
луется, что слепота принуждает его сочинять «только памятью,
только голосом, без рук, без глаз». Присутствие секретаря тяго-,
тило его; он жалел, что уже не может сам исправлять стиль своих.
ГЛАВА 5
167
трудов, проверять выбор слов [26]. Безмолвное чтение при по-
мощи глаз, на утрату которого жалуется Гвиберт, основывалось
на технике словоделения, которой в той области (около Суас-
сона), где он умер в 1124 г., было чуть менее ста лет.
Будучи еще зрячим, Гвиберт, как и другие авторы XII в., со-
вершенствовал свои произведения, вписывая добавления между
строк; этот метод был тесно связан с наличием межсловных про-
белов. С тех пор авторские рукописи, которые можно узнать по
зачеркиваниям, поправкам, межстрочным вставкам, становятся
важными свидетельствами умственной жизни; до конца X в. их
не существовало [27]. Гвиберт Ножанский, как и его предше-
ственник XI в. Отлох Санкт-Эммерамский, чувствовал себя до-
статочно уверенно, чтобы подробно записывать свои потаенные
мечты. Его особенно потрясала связь, существовавшая между
движениями души и их выражением на письме; он раскаивался,
что писал эротические стихи, но видел в них подлинное вос-
произведение давних, уже очень далеких от него чувств, кото-
рые он сам записывал, чтобы тем надежнее сохранить [28]. Одон
Орлеанский, восстановивший аббатство Сен-Мартен в Турне и
ставший его настоятелем (1105—1113), устроил в нем новую ма-
стерскую переписчиков, где изготовлялись книги, написанные
с межсловными пробелами; он так же писал эротические стихо-
творения [29].
В XII в. между автором и читателем при чтении таких эроти-
ческих произведений возникала доверительная близость, ис-
подволь дававшая о себе знать в духовных книгах Иоанна Фе-
камского и Ансельма Бекского, бывшего, вероятно, наставни-
ком Гвиберта в детстве. В XII в. автор, представлявший круг об-
разованных людей, и на практике, и в языковом сознании все
более очевидно становится тем, «кто пишет сам». Цистерциан-
ский устав 1144 г. прямо видит в писании дело тайное и, следо-
вательно, подлежащее контролю [30]. Даже Бернард Клервос-
ский, хотя большинство его сочинений диктовалось, некоторые
тексты написал собственноручно [31].
Но желанию авторов писать самим, а не диктовать, которое
стимулировалось новой техникой письма, облегчавшей чтение,
Противилась сложность принятого для книг почерка, требовав-
шего очень много времени. Этим объясняется, почему в боль-
шинстве авторских рукописей: автографах Беренгера Турского,
168
ПОЛ ЗЕНГЕР
Годфрида Осерского и Гильома из Сен-Тьерри — писатель в
роли писца и корректора был лишь одним из тех, кто участво-
вал в написании книги; по его записям на вощеных дощечках
или на обрывках пергамента работали его помощники. Целиком
написанные рукой автора рукописи, вроде хранящейся в Кол-
ледже Тела Христова в Кембридже (№ 371) и содержащей
«Житие святого Ансельма» и другие произведения Эдмера, не-
редко писались очень долго [32]. Гильом из Сен-Тьерри, сочи-
нявший много и очень быстро, был вынужден пользоваться се-
кретарями, чтобы ускорить процесс написания рукописи. И все-
таки желание автора иметь личный и непосредственный кон-
троль над своим произведением, явно выраженное у Гвиберта
Ножанского, косвенно выражается в зачеркиваниях, добавле-
ниях на полях и между строк, встречающихся во многих руко-
писях с межсловными пробелами.
Первые миниатюры, изображающие авторов за писанием
собственных сочинений, относятся к XI в. [33]. В трех книгах
этого столетия мы видим поэта Ноткера Заику, задумчиво пишу-
щего в тихой келье [34]. Первые изображения Бернарда Клервос-
ского как сочинителя, относящиеся к XIII в., представляют его
пи-шущим [35]. Именно в это время такой тип изображения ста-
новится осознанным: сохранилась миниатюра, представляющая
Александра из Букстехуде, пишущего на глазах у Агнца Божьего
с подписью: «Проблемы пишущего и диктующего» (Hie scribat et
dictaf) и надписью, исходящей из уст Агнца: «С небес истекает,
что письму твоему Мое слово внушает» (Rorant a celo tibi que
scribenda revelo) [36]. Начиная с XII в. глагол dictare утратил бук-
вальный смысл и применялся для обозначения собственноручного
писания и переписывания, глядя в оригинал [37].
Впрочем, эти перемены не означали, что иконографические
образцы, шедшие от поздней античности и раннего Средневе-
ковья, исчезли. Авторы XI—XII вв. часто изображались диктую-
щими или пишущими под диктовку; именно так изображены,
как правило, евангелисты [38] и апостол Павел [39]. В одной ру-
кописи XI в., происходящей из аббатства Сен-Бенинь в Дижоне
(Национальная библиотека, латинские рукописи, 11624, f. 94v)
мы видим святого Амвросия, диктующего писцу через плечо; та
же сцена встречается и в другой рукописи того же времени (Му*
ниципальная библиотека Тура, № 291, f. 132). В манускрипте
ГЛАВА 5
169
XII в. (Алмонт, Фундаментальная библиотека, № 34), перепи-
санном около 1175 г., аббат Иримберт изображен диктующим
свое «Толкование на книги Иисуса Навина, Судей и Руфи» пе-
реписчику, пишущему на вощеных дощечках, а еще на одной
миниатюре из той же книги нарисован святой Иероним, дик-
тующий писцу со стилосом и табличками в руках [40].
КАК ЧИТАЛИ ПЕРЕПИСЧИКИ
Наличие межсловных пробелов, побуждавшее автора от устного
сочинительства перейти к сочинению на письме, действовало и
на переписчиков [41]. То, что они теперь читали оригинал гла-
зами, а не работали со слуха, совершенно ясно из примера ма-
стерской писцов Гвиберта Ножанского в его аббатстве. Писец
XII в., переписавший «Комментарий на книгу Аввакума» свя-
того Иеронима (Кентербери, Cath. Х.1.11 а) с кентерберийского
экземпляра времени Ланфранка (ныне в колледже Тринити в
Кембридже, В.3.5 [84]), чрезвычайно старательно воспроизвел
пунктуацию, диакритические знаки и многочисленные терми-
нальные формы своего прототипа [42]. Когда в начале XII в.
Герман в «Книге о возобновлении обители святого Мартина Тур-
ского» описывает изготовление книг в мастерской, основанной
Одоном Орлеанским, он отмечает, что переписчики «в молча-
нии» работают на специально устроенных для их труда столах
[43]. Некоторые миниатюры XI—XII вв. изображают писцов, пи-
шущих на коленях с оригинала, лежащего на столе. В 1173 г. в
такой позе были нарисованы Григорий Нарекаци и Григорий
Назианзин [44]. На других иллюстрациях переписчики изобра-
жались с пюпитром для оригинала и столом для копии. Иоанн
Гарландский оставил нам свидетельство о специальной мебели,
созданной, чтобы свести к минимуму число движений глаз пе-
реписчика от одной книги к другой; мебель этого рода в боль-
шом количестве представлена на миниатюрах позднего Средне-
вековья, в том числе в книгах на народных языках, предназна-
ченных для мирян.
Новое оборудование скриптория (мастерской переписчика),
Рудиментарные формы которого можно найти, начиная с
в., позволяло писцу механически воспроизводить страницу
170
ПОЛ ЗЕНГЕР
по воспринимаемым глазами элементам, не прибегая к устной
речи для запоминания того, что он должен написать [45]. Ми-
ниатюры и ксилографии позднего Средневековья показывают
нам переписчиков с закрытым ртом за специальными столиками
с полками; они работают, используя разнообразные механиче-
ские приспособления, чтобы не сбиваться при чтении копируе-
мого оригинала [46]. В ХП1 в. университетские либрарии изго-
товляли вспомогательные экземпляры с немного увеличенными
межстрочными пробелами, предназначенные исключительно для
копирования, — безусловно, чтобы облегчить механическую ра-
боту писца [47]. На исходе Средних веков Петрарка, говоря о
писце, переписывавшем тексты, не понимая их, употреблял слово
pictor (живописец) [48]. На иллюстрациях к часословам XV в. мы
часто видим переписчиков и художников, особенно в сюжете,
где покровитель живописцев святой Лука пишет свое Евангелие
[49]. На них евангелисты изображены не диктующими, а пере-
писывающими с книги, которую держат ангелы. Когнитивная
техника переписчиков позднего Средневековья приближалась к
технике профессиональных машинисток, читающих не так, как
обыкновенные читатели [50]. Переписчик-«живописец», как и
машинистка, сохранял постоянное расстояние между глазом и
рукой, воспроизводил черно-белое изображение своего ориги-
нала, не пытаясь понимать его. Способ вкладывания," доведен-
ный до совершенства в XV в., покоился на этом типе механиче-
ски-визуального копирования, причем сложные манипуляции с
листом, которые следовало соблюдать при этом способе копи-
рования, были несовместимы с диктовкой [51].
ОТ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ
Новый способ представления текста (с межсловными пробе-
лами) в соединении с новой схоластической латынью, в син-
таксисе которой было легче разобраться, облегчал понимание
* При этом способе, принятом затем в типографской практике, писец копировал
текст не в порядке следования текста, а в порядке страниц, получавшихся после скла-
дывания листа: например, для формата ин-кварто на нижней части лицевой стороне
листа находились страницы 4 и 5 (в обратном порядке), на верхней 1 и 8; на обо-
ротную сторону приходились страницы 6 и 3. 7 и 2. — Прим. фр. переводчика.
ГЛАВА 5
171
смысла и уменьшал роль слуховой памяти как составной части
чтения. В Средние века чтение вслух, свойственное периоду Ан-
тичности, было окончательно заменено чтением про себя более
графически и синтаксически простых текстов. Словоразделы,
порядок слов, пунктуация, различие между предложениями, вы-
строенными в порядке слов и простыми предложениями в со-
ставе сложных, использование союзов и наречий для построе-
ния длинных периодов — все это помогало последовательному
пониманию текста по простым предложениям и фразам. Там, где
античный читатель, чтобы удержать в уме неоднозначную зву-
ковую последовательность, должен был полагаться на память,
читатель схоластической эпохи быстро переводил знаки в слова
и осмысленные группы слов, после чего мог позволить себе сразу
же забыть подробности: точные слова и их порядок. Отныне па-
мять служила главным образом для того, чтобы запомнить обший
смысл предложения, фразы, абзаца [52]. Альберт Великий, Фома
Аквинский, Роджер Бэкон, Дунс Скот и Уильям Оккам, хотя и
жили в самых разных местах, писали на одной и той же простой
и безыскусной схоластической латыни, отличающейся ясностью
и точностью выражений, что достигалось в ущерб ритмичности
и мелодичной звучности классической латыни.
Влияние такой трансформации письменной латыни на культуру
было глубоким. Ученые XIII в. все больше старались синтезиро-
вать и систематически организовать новые идеи, появившиеся в
предыдущем столетии. Для таких авторов, как Дунс Скот и Уиль-
ям Оккам, ограниченного пространства вощеных дощечек уже не
хватало, чтобы сформулировать и привести в порядок сложную
мысль; именно потребность сочинять пространные обобщения
привела авторов к необходимости самим писать книги готическим
курсивом. Записывая текст курсивом непосредственно в тетрадях
или на листах пергамента, автор мог пересматривать и править его
в процессе сочинения. Схоластические писатели XIII в. все чаще
начали употреблять перекрестные ссылки, предполагая, что чита-
тель, как и автор, может перейти от страницы к странице, чтобы
найти логическую отсылку к аргументу или сравнить рассеянные
по разным местам, но согласующиеся друг с другом цитаты из
Священного Писания. Выработке безотрывного курсива уже с ро-
манской эпохи мешало как раз использование дощечек. Когда же
авторы XIII в. начали записывать на полях рукописи пометы и при-
172
ПОЛ ЗЕНГЕР
мечания, они изменили тип комментаторского почерка, создав
такой, которым удобно было быстро писать на пергаменте или бу-
маге. Первое время каждый писал на свой манер, и современники
автора с трудом могли прочесть написанный им текст, но около
1400 г. такой курсив стал кодифицированным, плавным и очень
разборчивым [53].
До XIV в. письмо на пергаменте было непростой задачей. Пер-
гамента касался только кончик пера, вся рука оставалась на весу.
Ранние миниатюры изображают переписчика с пером в одной руке
и ножом в другой: нож служил не только для подчисток и очинки
перьев, но и для того чтобы уравновесить руку с пером и удержи-
вать пергамент, поскольку готический книжный почерк с его уг-
ловатыми чертами требовал сильного нажима и постоянной пере-
мены направления с частым отрывом пера [54]. Писать же готи-
ческим курсивом на отдельных или не слишком жестких тетрад-
ных листах было физически не так тяжело, этот труд уподоблялся
умственному. На миниатюрах XIV в. сочинители, пишущие этим
способом, изображены не столь сгорбленными. Материал — пер-
гамент или бумага (лучше подходившая для нового почерка) — дер-
жался обычно рукой, как и в наши дни [55]. С этих пор на ми-
ниатюрах изображается автор, сидящий в одиночестве за рабочим
столом в окружении идиллической пасторальной сцены, без тра-
диционного снаряжения писца, да и без самого писца. Обретен-
ное удобство работы с текстом усиливало как чувство глубоко лич-
ного характера, так и интимность написанного. Автор в уедине-
нии теперь мог свободно пользоваться записями на листках или в
несброшюрованных тетрадях, перечитывать рукопись, вводя от-
сылки, отмечающие связи между разными отрывками, и устраняя
повторы, столь частые в надиктованных сочинениях XII в. Столь
же легко он мог добавлять вставки или исправления везде, где
только желал, прежде чем доверить рукопись скрипторию для пуб-
ликации. Вначале метод сочинения на письме использовался
только для текстов на латыни, но к середине XIV в. был разрабо-
тан и курсив для пишущих на народных языках.
Особо личный характер безмолвного сочинительства отра-
жался и на том, чего автор ожидал от читателя. В Античности и
раннем Средневековье, когда тексты сочинялись вслух, автор
работал, предполагая, что его труд будет также произноситься
вслух. В XIV в. молча писавшие авторы и от читателя ожидали,
ГЛАВА 5
173
что он будет читать молча. Францисканец Николай из Лиры, один
из главных комментаторов Библии в XIV в., обращался к чита-
телю, а не к слушателю [56]. Иоанн Гереон, со своей стороны, со-
ветовал читателю встать на место автора и пережить те же чувст-
ва [57]. Схоластическим сочинениям XIV в., написанным курси-
вом, присущ новый визуальный словарь, предполагающий, что
у читателя, как и у автора, текст находится перед глазами.
Хотя безмолвное уединенное чтение в XIV—XV вв. распро-
странилось повсеместно, публичное чтение сохраняло важную
роль в университетах. Но чтобы текст был понят с учетом слож-
ности преподававшихся предметов, чтению вслух неизбежно со-
путствовало и чтение глазами: профессор зачитывал вслух свои
рукописные записи, а студенты следили за ним по книгам. Это
было важной переменой по сравнению с lectio divina периодов
поздней Античности и раннего Средневековья, когда монах
читал вслух, а аудитория слушала его не видя текста. Гумберт Ро-
манский (ок. 1194—1277) полагал, что общая молитва вслух
больше пойдет на пользу, если все будут следить за ней по на-
писанному [58]. В 1259 г. доминиканская община при Париж-
ском университете потребовала от студентов приносить, по мере
возможности, на лекции экземпляр текста на определенную
тему. Правило, требовавшее от студентов приходить на лекции
со своими книгами, существовало также в коллеже Аркур в Па-
риже, в Венском и Ингольштадтском университетах [59].
В 1309 г. Пьер Дюбуа, самый знаменитый из юристов Филип-
па IV Красивого, заметил, что школяры, не имеющие при себе
текста, немного пользы получают от преподавания [60]. Бедные
студенты, которые не могли купить книг сами, имели возмож-
ность брать их в библиотеках, например библиотеке собора Па-
рижского Богоматери, специально для этого принимавшей да-
ры [61]. Устав Сорбонны предусматривал выдачу книг под за-
лог [62]. В последние годы XV в. необходимые для студентов
книги печатались типографским способом [63].
В XI и в XIV вв. произошли и другие изменения в презента-
ции рукописи, связанными с чтением про себя (в одиночестве
или на лекции). При прежнем чтении вслух чаще всего зачиты-
валось с начала до конца целое произведение или его большой
отрывок. Многочисленные каролингские кодексы, как и древ-
ние свитки, не знали более мелкого членения текста, чем гла-
174
ПОЛ ЭЕНГЕР
ва [64]. В XIII—XV вв. появились мелкие членения классических
и раннесредневековых текстов [65]. В некоторых случаях универси-
тетские профессора делили произведения, уже поделенные на
главы, более дробно [66]. Новый способ представления древних
текстов применялся и к новым произведениям: с этих пор в схо-
ластических сочинениях стало правилом деление текста на главы
и параграфы (distinctiones), применение алфавитного указателя
предметов, заголовков глав, а также колонтитулов [67]. В XIV в.
для прояснения нового метода последовательной аргументации
(во-первых, во-вторых и т. д.) начинают использовать иллюмини-
рованные инициалы. С XIII в., чтобы выделить единицу смысло-
вого содержания, в общее употребление входит новый знак —
цветной символ, обозначающий абзац [68]. Примечания на полях,
порядок которых отмечался буквами алфавита, впервые появи-
лись в рукописях, изготовленных бенедиктинскими аббатствами
Северной Франции в X в. и с тех пор стали общепринятыми для
юридических текстов [69]. В конце XIV в. систему примечаний рас-
пространяют на глоссы к литературным текстам. Алфавитные сно-
ски к глоссам встречаются в инкунабулах XV в. Николая из Лиры
[70]. Сложные диаграммы, сопровождающие схоластические тек-
сты и впервые появившиеся в рукописях Герберта из Орильяка и
Аббона из Флёри, выполненных с межсловными пробелами, были
понятны только таким читателям, которые читали про себя и
имели книгу перед глазами [71]. Подобные диаграммы останутся
важным элементом страницы и в новых гуманистических перево-
дах Аристотеля, и даже после появления книгопечатания писцы
будут вставлять их в книги, вышедшие из-под пресса [72]. Слож-
ная структура написанной страницы схоластического текста XV в.
предполагала, что ее будет читать молча, одними глазами, т. е. про
себя, читатель, способный быстро перейти от возражения к ответу,
от предметного указателя к тексту, от диаграммы к тексту, от тек-
ста к глоссам и их исправлениям [73].
ЧТЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Писцы позднего Средневековья по-прежнему переписывали тек-
сты, глядя в оригинал, но часто высказываемое утверждение,
будто бы схоластические трактаты писались студентами под дик-
ГЛАВА 5
175
товку профессоров, опровергается имеющимися у нас описа-
ниями учебных аудиторий. Вся известная нам иконография изо-
бражает писца, только переписывающего с оригинала. Действи-
тельно, одна миниатюра XV в. позволяет думать, что «Цветы из
Августинова “О граде Божием”» (Flores Augustini de civinane Dei)
Франсуа де Мейрона (Francois de Mayronnes) похожи на заметки
секретаря во время чтения [74], а некоторые гравюры начала Но-
вого времени, по-видимому, указывают, что во время лекций тек-
сты диктовались, но миниатюры XIV—XV вв. никогда не изо-
бражают студентов, слово в слово записывающих диктуемое про-
фессором. Впрочем, в Средние века не была известна какая-либо
форма стенографии, позволяющая быстро воспроизводить текст
под диктовку [75]. На миниатюрах мы постоянно видим нечто
иное: профессор читает лекцию, глядя в книгу, а у студентов,
иногда за исключением секретаря, которому поручено делать
какие-то пометки, нет ни перьев, ни тетрадей, чаще всего в руках
у них тоже книги [76].
В средневековом образовании диктовка служила, чтобы нау-
чить чистописанию и орфографии, — такая диктовка и пред-
ставлена в миниатюрах. Для изготовления же университетских
книг диктовка применялась совсем иначе, чем на лекциях. Так,
в новом Лувенском университете (основан в 1425 г.), где книж-
ный фонд был еще слишком мал, чтобы выдавать книги на дом,
профессора устраивали специальные сеансы диктовки, чтобы
студенты могли приходить на лекции с книгами [77]. В 1355 г.
Парижский университет вынес суждение, что, если профессор го-
ворит нарочито медленно, чтобы студенты успевали записывать,
это мешает им сосредоточиться и понять тонкости лекции [78].
Для распространения письменных текстов среди студентов су-
ществовали и другие способы. В XIII—XIV вв. профессиональ-
ные переписчики Парижского университета, использовавшие
систему «пений»’ могли дать студентам превосходно читаемые
стандартизированные экземпляры программных текстов [79].
В XV в. переписчики Анжерского университета за месяц делали
список профессорских лекций по довольно низкой цене, и, воз-
* «Списки с уже переписанного текста, разделенного на тетради (peciae — «ку-
рочки»), что позволяло нескольким переписчикам одновременно копировать
Разные части одного и того же текста. — Прим. фр. переводчика.
176
ПОЛ ЗЕНГЕР
можно, эти рукописи поступали в обращении раньше, чем про-
фессор начинал читать курс, что позволяло студентам следить по
книге, лучше понимая сложную аргументацию [80].
Итак, книга была нужна для слушания публичных лекций, но
еще более необходима для приватного чтения, которое все
больше и больше считалось важнейшей частью университетской
жизни. Миниатюры XIV—XV вв. в книгах на народных языках,
предназначенных для мирян, изображают ученых, поодиночке
и группами читающих в библиотеках книги, прикованные це-
пями, причем их рты закрыты — традиционный иконографиче-
ский способ выражения молчания [81]. По мере того как росли
потребности в приватных занятиях, все шире распространялись
недорогие краткие изложения больших трактатов на француз-
ском языке или на вульгарной латыни [82]. На взгляд Пьера
Дюбуа, такие сочинения необходимы для той реформы образо-
вания, за которую он боролся [83]. Николай из Лиры в преди-
словии к «Трактату о различиях» говорит, что составил это со-
кращение многотомных «Постилл» (Postillae), чтобы бедным сту-
дентам легче было раздобыть для себя экземпляр книги [84].
Перемены способа чтения затрагивали и устройство библио-
тек. Монастырские книгохранилища XII в. были приспособлены
к совместному существованию чтения вслух и чтения про себя
[85]. Отдельные ниши в каменных стенах позволяли монахам
читать поодиночке вполголоса или диктовать секретарю, не на-
рушая благочестивых размышлений или безмолвного чтения дру-
гих братьев. Поскольку монастырские писатели знали на память
большие отрывки из Священного Писания, не всегда была не-
обходимость иметь особое собрание текстов для справок. Но в
конце XIII в. архитектура и меблировка библиотек на глазах ме-
няются. В XIII—XIV вв. в колледжах Оксфорда и Кембриджа, в
Сорбонне и в крупных парижских коллежах библиотеки устраи-
вались в центральных залах и обставлялись столами, пюпитрами
и скамьями, на которых читатели сидят рядом [86]. Большие
книги для справок, предназначенные для общего пользования,
приковывались к пюпитрам. Такие собрания литературы для
справок впервые появились в Мертонском колледже в Оксфорде
(1289) [87] и в Сорбонне (1290) [88]. В середине XV в. факультет
свободных искусств Лувенского унииверситета создал большую
библиотеку схоластических сочинений для справок [89]. В такие
ГЛАВА 5
177
собрания прикованных книг почти всегда входили словари и ал-
фавитные указатели, «Сумма» Фомы Аквинского, библейские
комментарии Гуго Сен-Шерского и Николая из Лиры, другие
большие сочинения, часто цитировавшиеся учеными. Уставы
прямо говорили, что прикованные книги должны быть открыты
для всеобщего пользования [90], а библиотека считаться местом,
куда профессора и студенты могут приходить для чтения, письма
и обучения [91]. Именно такого типа библиотеку открыл в Лувре
Карл V, собравший там созданные по его заказу французские пе-
реводы классических и схоластических авторов.
Именно в библиотеках конца XIII в. начали требовать соблю-
дения тишины. В библиотеках поздней Античности и монасты-
рей раннего Средневековья, где читали вслух, собственный голос
каждого читающего служил заслоном для голоса другого [92]. Но
когда перешли к чтению про себя, шум стал помехой. Даже чте-
ние прикованных книг шепотом рассеивало внимание других чи-
тателей. Гумберт Романский в «Наставлениях служащим» требо-
вал, чтобы в каждом доминиканском монастыре был общий чи-
тальный зал, где царит тишина [93]. В Оксфорде устав 1412 г.
объявлял библиотеку зоной молчания [94]. Устав библиотеки Ан-
жерского университета запрещал всякие разговоры, даже шепо-
том [95]. Уставы Сорбонны, записанные в конце XV в., но отра-
жающие более раннюю практику, объявляли, что библиотека
есть место священное и высочайшее, где должна царить тишина
[96]. То же правило встречается и в уставе папской библиотеки,
возобновленной в Риме после Великого раскола [97]. В числе
справочных текстов, предназначенных для беглого просмотра,
встречаются и относящиеся к пользованию самой библиотекой:
алфавитные каталоги авторов и сводные каталоги сочинений,
хранящихся в библиотеках города или области [98]. Проходив-
шее под тщательным контролем исправление древних произве-
дений с добавлением «просодий» (знаков долготы), пунктуации
и вариантов текста уже с XI в. было вполне обычным занятием
переписчиков и рубрикаторов (писцов, выводивших, как пра-
вило, красными чернилами (rubra), заголовки в томах мона-
стырских библиотек) [99]. При чтении глазами у читателя воз-
никает желание пользоваться книгой как рабочим инструментом:
он делал на полях краткие замечания, ставил значки, росчерки,
позволявшие перейти к нужному месту. В сильно индивидуали-
178
ПОЛ ЗЕНГЕР
зированном мире университетов позднего Средневековья такие
действия пытались запретить, чтобы сохранить в хорошем со-
стоянии тексты, предназначенные для общего пользования [100].
Переход к чтению и сочинению про себя, что создавало новые
формы уединенного поведения, еще более глубокие, чем в сред-
невековой схоластической культуре, произошел и в культуре
мирян. С психологической точки зрения чтение про себя сти-
мулировало интерес к чтению, поскольку читатель полностью
контролировал свое внимание. В обществе IX в., еще во многом
дописьменном, клирик, рассуждавший еретически, на каждом
этапе создания сочинения: писания под диктовку, публикации
и доведения до читателя — находился под контролем собратьев,
его текст исправлялся ими. Сам факт диктовки и публичного чте-
ния сильно способствовал поддержанию богословской и фило-
софской ортодоксии. В XI в. появление чтения про себя и уе-
диненного размышления способствовало усвоению еретических
идей. Беренгер Турский, принадлежавший ко второму поколе-
нию читавших наедине с собой, впал в неправоверие, приложив
к таинству Причащения логические рассуждения Аристотеля и
Боэция [101]. Чтение, использующее лишь глаза, сочинение на
письме, а не под диктовку, вывели мысли индивидуума из-под
контроля группы; эти особенности интеллектуальной среды
стоят у истоков основания университетов и появления новых
ересей в XIII—XIV вв. «Трактаты», читавшиеся приватно, были
мощным средством распространения этих ересей [102]. Сидя в
своем кабинете, и знаменитый профессор, и безвестный сту-
диозус могли читать или сочинять еретические тексты так, что
никто об этом не знал. В лекционной аудитории студент, слу-
шая правоверные суждения профессора, мог потихоньку срав-
нивать его мнение с мнениями других авторов, отрицавших об-
щепринятые учения [103]. Даже в церкви во время богослуже-
ния можно было читать запрещенный текст. Чтение и письмо,
уединенные и безмолвные, поощряли критическую мысль, спо-
собствовали развитию скептицизма и интеллектуальных ересей.
В Англии одного только обладания книгой Лолларда было до-
статочно для официального обвинения в ереси [104].
Профессора университетов позднего Средневековья пре-
красно знали, что их книги читает более широкая публика, не-
жели только слушатели их лекций, и в университетских уставах
ГЛАВА 5
179
видна тревога, что мысли преподавателей потихоньку распро-
страняются вне аудиторий. В XIII в. уставы запрещают прино-
сить на лекции запрещенные сочинения [105]. В XIV в. гене-
ральный капитул ордена доминиканцев постановил, что все со-
чинения по алхимии, находящиеся в частном владении, должны
быть сожжены [106]. В 1346 г. Парижский университет объявил,
что сожжению подлежат произведения Николая из Отрекура
[107]. Однако какие-то экземпляры этих сочинений необходимо
было сохранить хотя бы для использования теми богословами,
которым надлежало опровергать крамольные мысли. Действо-
вавшие правила Сорбонны предусматривали, что еретические
сочинения, хранящиеся в библиотеке, могут читать лишь про-
фессора с целью их опровержения. Но как проследить, что от-
дельный читатель читал про себя? В 1473 г. Людовик XI дал пер-
вый ответ: он не только запретил преподавание номиналистских
учений, но и повелел все сочинения номиналистов в парижских
библиотеках запереть на два замка [108]. Король понимал, что
если труды ученых свободно доступны в библиотеках, беспо-
лезно запрещать их преподавание.
ТЕКСТЫ НА НАРОДНЫХ ЯЗЫКАХ: КНИГИ, ПОЧЕРКИ, ЧИТАТЕЛИ
Переход от монашеской устной культуры к схоластическому чте-
нию про себя поначалу не оказал большого влияния на навыки
чтения в мирском обществе; в частности, на севере Европы уст-
ное чтение и сочинение на народном языке остались общерас-
пространенными по крайней мере до XIII в. До середины
XIV в. французские государи и вельможи редко читали сами, а
велели читать им специально для этого созданные рукописи. Те,
кто умел читать, как Людовик Святой, часто делали это вслух или
в небольшой компании [109].
Кроме литургических текстов грандам читали хроники, герои-
ческие песни, романы, стихи трубадуров и труверов. Большая
часть этих произведений писалась в стихах и предназначалась для
чтения вслух. Прозаические компиляции XII в. вроде «Романа о
Ланцелоте» или «Древней истории до Цезаря» также сочинялись
Для устного чтения. Вельможа только слушал, как славились под-
виги рыцарей прежних времен и героев древности [НО]. Однако
180
ПОЛ ЗЕНГЕР
иллюстрации, которых, начиная с XIII в., в текстах на народных
языках для мирян было больше, чем в ученых сочинениях по-
латыни, позволяют думать, что и произведения эти предназна-
чались для уединенного чтения глазами.
Одновременно с появлением межсловных пробелов началась
эволюция письма на народных языках с той же целью: сделать
легче использование текстов. Тот факт, что на этих языках тексты
писались и для слушателей, а не только для читателей, возможно,
объясняет, почему в этом случае практика надиктовывания со-
хранялась дольше, чем для латинских текстов [111]. Жуанвиль
диктовал «Историю Людовика Святого», а на одной миниатюре
диктующим изображен автор «Романа о Ланцелоте» [112]. Позже
развитие новоязычных образцов протокурсивного и курсивного
почерка отражало практику диктовки сочинений на народных
языках и способствовало ее устойчивости. Значительная часть
поэзии и прозы на народных языках Средневековья сочинялась,
запоминалась и воспроизводилась устно, а записывалась лишь
впоследствии [113]. В XIII в., когда писавшие по-латыни начали
сами записывать свои мысли на отдельных листках или в тетра-
дях и создавать приспособленное для этого курсивное письмо,
книги на народных языках еще сочинялись устно и записыва-
лись текстурной готикой. Пробелы между словами, в XII в. об-
щераспространенная практика в латинских текстах, в рукописях
на народных языках начала того же столетия часто проставля-
лись еще непоследовательно, да и до конца Средних веков, осо-
бенно в Италии, соблюдались не так строго. Переписчики, знав-
шие, что в текстах на латыни пробелы обязательны, еще около
1300 г. не решались оставлять необходимое пространство, чтобы
группы слогов правильно соответствовали словам народного
языка [114]. До отдельного написания предлогов, нормального
для латинских текстов, в романах на народных языках не дошли
еще и в 1500 г. В переводе «Старой логики» Боэция не отде-
ляются артикли, хотя эта часть речи существовала в древнегре-
ческом [115]. Поскольку тексты на народном языке читатель по-
нимал легче, писцы не считали необходимым дополнительно об-
легчать чтение пробелами между словами, границы между кото-
рыми не воспринимались ухом. Таким образом, графическое
определение слова, в частности предлогов и артиклей, остава-
лось не столь однозначным, как в текстах на схоластической ла-
ГЛАВА 5
181
тыни, где артикль, заимствованный из французского, всегда
трактовался переписчиками Северной Европы как отдельная
единица. Отсутствие орфографического единообразия в одина-
ковых текстах на народных языках XI—XIII вв. подтверждает, что
в процессе чтения, остававшегося устным, расшифровке в пер-
вую очередь подлежали буквы в середине слова [116].
Впрочем, деление на слова, став правилом для латинских тек-
стов, оказало глубокое влияние как в целом на тексты на на-
родных языках, так и на их грамматику и орфографию. Слово-
разделы и различные правила о порядке слов, все чаще поя-
вляющиеся в рукописях на народных языках, начиная с XIII в.,
позволяли отказаться от флексий, в древней латыни помогавших
читателю правильно распознавать слова и расставлять ударения.
Ясно, что именно словоразделы позволили орфографии этих
языков, особенно среднефранцузского и среднеанглийского,
стать не настолько фонетической, как в латинском, поскольку
слова, соединенные в видимые на письме единства, продолжали
писаться по-прежнему, в то время, как в произношении неко-
торые буквы становились «немыми» [117]. В позднем Средневе-
ковье писцы с университетским образованием нередко вставляли
в слова народных языков «немые» буквы не для того, чтобы по-
влиять на их произношение, а чтобы визуально приблизить их
к латинским словам, от которых те происходили, дать чисто зри-
тельную этимологию, подобную китайским иероглифам и со-
вершенно неизвестную латыни [118]. Писцы XIII в., переписы-
вавшие тексты на вульгарной латыни, предпочитали использо-
вать образцы почерка с отчетливыми межсловными пробелами,
обильно пользуясь терминальными формами (в том числе коне-
чным S), пунктуацией и «просодиями» (prosodiae), аналогичными
тем, которыми пользовались профессиональные переписчики в
системе «пеций» [119]. Начиная с XIII в. некоторые тексты на
народных языках переписывались с оригинала с соблюдением
расположения страниц и текста на них по аналогии с обиход-
ными изданиями схоластических текстов, выходившим из-под
пера университетских либрариев. Экземпляры «Золотого руна»
Гильома Филластра, созданные в 1460-х гг. для одноименного
бургундского рыцарского ордена, поразительно напоминают об-
разцы, выработанные, начиная с XI в., для латинских текс-
тов [120]. Французский перевод «Истории Александра Маке-
182
ПОЛ ЗЕНГЕР
донского» Квинта Курция, сделанный Васком де Люсеном [121],
и «Исторический компендий» Анри Ромена — также примеры
текстов, воспроизведенных для бургундского и французского
дворов в той же манере [122].
В начале XIV в. латинский курсив был доведен до совершен-
ства и его, используя межсловные пробелы, стали применять для
документов на народном языке, а несколько позднее и для ли-
тературных произведений. При французском дворе задачи управ-
ления государством стали слишком сложны, чтобы, как и
прежде, неграмотные монархи полагались лишь на услуги чте-
цов и писцов. Королевские секретари начали пользоваться фран-
цузским курсивом для написания черновиков, подававшихся ко-
ролю; Карл V собственноручно их правил и подписывал ориги-
налы [123]. Веком позже было принято, чтобы некоторые коро-
левские рескрипты были целиком написаны его рукой, а другие
депеши имели хотя бы его собственноручную подпись [124].
В отличие от первых латинских хартий, писавшихся под диктовку
метрической прозой, чтобы их можно было громогласно зачи-
тывать, новые королевские документы писались прозой столь же
не ритмизованной, как и схоластическая латынь, и украшались
миниатюрами для услаждения глаз государя [125].
К середине XIV в. французская аристократия начала перени-
мать способы чтения и сочинения про себя для французских
текстов. К правлению Иоанна II относится начало перевода на
французский язык основных произведений латинской литера-
туры [126]. Поскольку синтаксис схоластической латыни был
очень похож на французский, переводы схоластических сочине-
ний удавались лучше, чем переводы древних авторов с их длин-
ными периодами, трудными для понимания читателем позднего
Средневековья [127]. После смерти (в изгнании) Иоанна II его
преемник Карл V продолжал заказывать переводы и первым со-
ставил из них настоящую королевскую библиотеку в одной из
башен Лувра, обставленную в точности так же, как и универси-
тетские библиотеки [128]. На одной из миниатюр он изображен
сидящим в своей библиотеке с неподвижными руками, сомкну-
тыми губами, погруженный в уединенное безмолвное чтение.
Еще на одной миниатюре он присутствует на публичном чтении,
следя за ним по книге, наподобие студента [129]. В новых ма-
лоформатных молитвенниках {missels) содержался французский
ГЛАВА 5
183
текст, который следовало читать про себя, в то время как свя-
щенник вслух произносил латинский текст [130]. Хотя богословы
считали, что канонический текст мессы и других служб положено
читать вслух, даже если он непонятен, религиозные сочинения
для чтения про себя должны были быть понятны. Поскольку ла-
тинское выражение in silentio часто означало лишь «очень тихое
чтение» (submissa или suppressa voce), французские авторы XV в.
говорили о чтении другими словами: сердечное благочестие, воз-
никающее благодаря письменному тексту, называлось «сердеч-
ным чтением», противопоставлявшееся «чтению губами» [131].
В XV в. для обозначения одиночного чтения про себя в аристо-
кратических текстах употреблялся глагол veoir («видеть») и фор-
мула «читать сердцем», примерно так же, как на латинском в XI
и XII вв. синонимами legere стали глаголы videre и inspicere [132].
Такие близкие ко двору авторы, как Жан Фруассар и Кристина
де Пизан, на миниатюрах, украшающих их рукописи, изобра-
жены пишущими [133]; принцев крови также рисовали записы-
вающими свои слова. Рене Анжуйский, внучатый племянник
Карла V, плодовитый писатель, изображен пишущим в той же
позе, что авторы латинских текстов того времени [134]. В XV в.
французское escrire («писать»), как и латинское scribere, стало
синонимом глагола «сочинять» [135].
Тот факт, что короли и такие принцы, как Жан Беррийский,
Филипп Смелый и Рене Анжуйский, стали читать про себя, явно
оказал влияние на количество и жанры книг, публиковавшихся
по инициативе двора и грандов. Как университетские библио-
теки XIV—XV вв. располагали более значительными собраниями,
нежели прежние монастырские, так и библиотеки королей и
принцев со второй половины XIV в. стали гораздо полней, чем
прежде. С переходом к чтению про себя выросла потребность в
чтении у профессоров и студентов; книг для чтения, прежде
всего часословов и текстов на французском языке, требовали
для себя и миряне. Новые французские тексты, сочинявшиеся
для принцев, почти все были в прозе, в то время как раньше
предпочтение отдавалось стихам. Отныне эти произведения со-
провождались предметными указателями, алфавитными глосса-
риями, оглавлениями, колонтитулами — словом, всем сложным
аппаратом, характерным для схоластических книг, начиная с
X в. Глоссы, упорядоченные системой отсылок, присутствовали
184
ПОЛ ЗЕНГЕР
в новых французских переводах Библии, сочинениях св. Авгу-
стина, Аристотеля, Валерия Максима; результатом был переус-
ложненный текст, который трудно было бы воспринять при чте-
нии вслух, но в высшей степени был пригоден для вниматель-
ного чтения и изучения про себя. Именно эти тексты Гереон
частным образом рекомендовал для воспитания Карла VI [136].
Их орфография становилась все более стандартизованной, что
позволяло читателю распознавать слово по его общему облику,
а не расшифровывать по фонемам. В первой половине XV в. для
дворянства пишутся справочные издания по-французски: алфа-
витные словари святых и географические словари [137]. В них
становится больше иллюстраций, поскольку миниатюра теперь
играла более прямую роль в понимании текста — примерно как
диаграммы, сопровождавшие схоластическую литературу [138].
При миниатюрах находился особый текст в виде полос с надпи-
сями, как и в латинских текстах, что предполагало способность
читателя разом разбираться и в тексте, и в изображении [139].
Другим следствием перехода вельмож на чтение про себя
стало изменение почерка в предназначенных для них книгах. До
1300 г., когда грандам читали вслух, рукописи на народных язы-
ках писали тем же («текстурным») письмом, что и латинские, по-
скольку чтецы, как правило, были выпускниками университе-
тов. Отсутствие каких-либо аббревиатур, кроме тиронова знака
для et, принятого как идеограмма также для французского et и
английского and, а также нерегулярный характер использования
фонетической орфографии отражали устный характер этих тек-
стов. В XIV в., когда гранды стали читать сами, они сочли тек-
стурную готику слишком трудной, в частности из-за т, п, I, и,
писавшихся совершенно одинаковыми палочками и с трудом
различавшихся. В два последних десятилетия XIV в., чтобы из-
бежать этой неразборчивости и путаницы, не прибегая к особым
диакритическим знакам, писцы начали применять для мирской
публики регулярный курсив (cursiva formata), весьма напомина-
вший тот, который использовался в королевской канцелярии
для документов на французском языке [140]; новый почерк
стали называть «письмом для заметок», «кратким» или «беглым»
письмом [141].
В первой половине XV в. регулярный курсив теряет лигатуры
и превращается в почерк, не имеющий эквивалента в деловых
ГЛАВА 5
185
текстах; его называют «бастардным письмом» (бастардой), от-
мечая то, что оно получилось от смешения курсива с текстурой
(textualis) [142].
В конце XIV—XV вв. распространение «краткого письма», ба-
старды и гуманистической текстуры иллюстрировало важную
перемену в навыках чтения высшей знати и городской элиты
Франции, Италии и долины Нижнего Рейна (и способствовало
этой перемене). Если Людовик Святой читал вслух в обществе
приближенных, то Карл V, Людовик XI, Лоренцо Медичи и фла-
мандские купцы с полотен Мемлинга и Ван Эйка читают про
себя и в одиночестве. Авторы, писавшие на народных языках,
начиная с конца XIV в. учитывают тот факт, что их публика со-
стоит из читателей, а не слушателей. В 70-х гг. XIV в. Фруассар
предполагал, что молодые дворяне «увидят и прочтут» его хро-
ники [143]. Около 1390 г. Филипп де Мезьер, в расчете на то,
что юный Карл VI лично прочтет его «Сон старого пилигрима»,
включил туда таблицу — путеводитель по этим длинным запу-
танным иносказательным историям [144].
Отныне авторы имели основание обогащать свои тексты на
народных языках всеми схоластическими тонкостями, прежде
свойственными лишь латинским сочинениям. Как переход на ла-
тинское письмо с межсловными пробелами помог рождению
схоластики, так употребление этого типа письма для народных
языков позволило познакомить мирян с ухищрениями схола-
стики времен ее расцвета. В Северной Европе проникновение
схоластики в новоязычную литературу произошло в XIV—XV вв.
Спор номиналистов и реалистов был изложен в глоссах, сопро-
вождавших сочинения Аристотеля во французском переводе Ни-
коля Орема и в обширном корпусе трактатов, написанных для
бургундского двора [145]. Памфлеты, которыми обменивались
стороны во время распри Филиппа Красивого с Бонифаци-
ем VIII, были переведены на французский язык для воспитания
Карла V и Карла VII [146]. Сложные дискуссии, например, о при-
роде святой крови Христовой, теперь излагались во французских
трактатах, написанных университетскими профессорами из
окружения Людовика XI [147]. Духовные размышления на на-
родном языке, навеянные латинским жанром, изобретенным в
XI в. Иоанном Фекамским и Ансельмом Кентерберийским, пи-
сались для этой же аристократической публики [148].
186
ПОЛ ЗЕНГЕР
Новая литература на народном языке и чтение про себя дали
аристократическим читателям новое представление о личном
благочестии и позволило им выносить суждения по схоластиче-
ским вопросам не хуже университетских профессоров. В много-
численных «диспутах», писавшихся по инициативе государей,
именно читатель должен был сделать выбор из двух непростых
тезисов [149].
ЧТЕНИЕ ПРО СЕБЯ: КРАМОЛА, ЭРОТИЗМ, БЛАГОЧЕСТИЕ
Сугубо личный характер чтения и сочинения про себя могли по-
рождать также иронию и скепсис. В экземпляре «Военного ро-
зария» (представленного как произведение Людовика XI) фран-
цузские хроники сопровождаются на полях комментариями в
таком саркастическом тоне, какого не позволил бы себе монарх
XIII в., читавший вслух и на людях [150]. Еще важнее то, что при-
ватное чтение давало возможность выразить подрывные полити-
ческие идеи. Мятежный брат Людовика XI Карл Французский
подчеркивал в своем экземпляре «Об обязанностях» Цицерона
места, оправдывающие восстание против тиранов и тираноубий-
ство [151]. В пору Лиги общественного блага Гильом Филластр
прибегал к аргументам, заимствованным у отцов Вселенских со-
боров для оправдания низвержения монархов-деспотов. Во вто-
рой половине XV в. аристократическая книга стала главным сред-
ством распространения идей противления монархическому са-
мовластию, так же как латинские трактаты XIV в. служили рас-
пространению идей сопротивления папской власти [152].
Сокровенный характер чтения про себя оказал на души мирян
и еще одно очевидное воздействие: он способствовал возврату к
древнему жанру эротической литературы. В Древней Греции и
Древнем Риме сочинения, которые сейчас сочли бы порногра-
фическими, публично читались и открыто распространялись в
весьма толерантном языческом обществе. До XIII в. орнаменты
эротического характера, встречавшиеся в книгах, были иноска-
зательными и должны были не возбудить читателя графическим
изображением его фантазий, а подавить желания, не дозволен-
ные целомудренному человеку [153]. В XV в. порнография во
Франции была запрещена, но это не мешало сочинять похотли-
ГЛАВА 5
187
вые тексты на потребу мирской публике. В рукописях на фран-
цузском и фламандском языках бордельные сцены изобража-
лись с нескрываемым, способным соблазнить реализмом [154].
Анонимный бургундский автор под влиянием «Декамерона» на-
писал для Филиппа Красивого «Сто новых новелл» — иллю-
стрированную «сумму» всевозможных сексуальных фантазий, где
монахам реформированных орденов, проповедовавшим бедность
И целомудрие, приписывалось много грешков. Автор выражал
надежду, что государь прочтет его книгу в часы досуга как
«упражнение в чтении и научении» [155]. Подобно схоластиче-
ским текстам, «Сто новых новелл» предварялись оглавлением,
где вкратце излагались основные моменты каждой истории,
чтобы читатель без труда мог найти полюбившуюся. Этот текст
с иллюстрациями переписывался в малом формате, чтобы его
было удобно передавать из рук в руки, примерно так же, как
веком ранее в университетах потихоньку передавали друг другу
запрещенные тексты Уильяма Оккама и Марсилия Падуанского
[156]. В конце XV в. сокровенный характер чтения про себя по-
зволял графически изображать сексуальные сцены даже в рели-
гиозных книгах. В одном из часословов соблазнительные кар-
тинки, изображающие Давида, подсматривающего за купаю-
щейся Вирсавией, сопровождали покаянные псалмы. В некоем
календаре май иллюстрировался изображениями обнаженных
мужчин и женщин, обнимающих и ласкающих друг друга самым
недвусмысленным образом [157]. На миниатюрных маргиналиях
встречаются как гетеросексуальные, так и гомосексуальные
сцены. Таким же образом новая привычка писать молча позво-
ляла мирянам сообщать об интимно-эротической стороне жизни
в письмах или личных заметках. Филипп Добрый в письмах к
своему другу Иоанну Клевскому рассказывал о своих галантных
похождениях весьма соленым языком [158].
Но то же самое уединенное чтение про себя, которое давало
возможность выразиться подавляемым прежде сексуальным фан-
тазиям, парадоксальным образом позволяло мирянам, читаю-
щим на родном языке, вступать в более глубокую связь с Богом,
согласно рекомендациям христианского воспитания, идущим со
времен блаженного Августина. «О подражании Христу» (De im-
itatione Christi), написанное Фомой Кемпийским для монаше-
ской братии, очень быстро после появления на свет было пере-
18в
ПОЛ ЗЕНГЕР
ведено на французский язык, и эта книга была известна при бур-
гундском дворе [159]. Десятки других религиозных текстов, пе-
реведенных с латинского и оригинальных, особо настаивали на
роли чтения, зрения и безмолвия в поиске духовных утешений.
В предисловии к «Жизни Христа» Жан Мансель писал, что ска-
занное слово улетает, написанное же остается, и просил госуда-
рей и рыцарей, желающих благочестием стяжать спасение души,
«увидеть» содержание его книги [ 160]. С опорой на чтение жизни
Христа каждый может предаться священному размышлению
«глазами молитвенного созерцания» [161]. В житии Петра Люк-
сембургского, написанном народным языком, этот отпрыск
знатной фамилии выведен читающим в ночные часы проповеди,
жития святых и труды святых отцов [162]. В книгах на народных
языках, предназначенных для мирян, непрестанно твердится,
что для чтения и молитвы следует отделиться от остальных; это
подчеркивал и тот же Петр Люксембургский [163]. «Жизнь Хри-
ста» Лудольфа Саксонского в переводе Людовика Брюггского
провозглашает уединенное чтение Священного Писания стол-
пом молитвенной жизни [164]. Все более многочисленные ча-
сословы, заказанные мирянами, предназначались именно для
таких индивидуальных духовных упражнений [165]. Душеполез-
ные сочинения на латинском или народном языках, публико-
вавшиеся по инициативе публики, содержали паратекстуальные
элементы, помогавшие чтению, которые были введены в латин-
ских книгах XI в.: пунктуацию, заглавные буквы, дефисы, сим-
вол, применявшийся в «текстуальной» готике для различения
слов [166].
Но стремление к спасению через чтение и молитву могло по-
рождать и сомнения в вере и благочестии, привести к идеям ре-
лигиозной реформации. Реформированные нищенские ордена
XV в. самых ярых сторонников обретали в среде крупных го-
родских купцов и в аристократических семействах, где читали
духовные книги на народном языке. Через три поколения их по-
томки станут последователями Кальвина. Накануне протестан-
тской Реформации способы распространения идей претерпели
столь революционные изменения, что не только университетские
профессора, но и миряне могли формулировать подрывные
мысли и тайно сообщать их. Изображение на портрете работы
Герарда Доу неподвижной безмолвно читающей матери Рем-
ГЛАВА 5
189
брандта имело иконографическим предшественником изобра-
жение читающей Девы Марии в сцене Благовещения. Книгопе-
чатание сыграло важную роль в торжестве протестантизма, но
возможность формулирования религиозных и политических ре-
форматорских идей, способность представителей европейской
элиты лично разрешать вопросы совести многим обязаны дли-
тельному развитию навыков чтения, начавшемуся в X в. и до-
стигшему кульминации в XV в.
Робер Бонфий
ГЛАВА 6
ЧТЕНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
У иудеев, как и у христиан, — по крайней мере, на взгляд элиты,
владевшей светской и духовной властью или желавшей получить
ее, — чтение создавало политическую проблему: необходимость
контроля за распространением идей. Обладать властью — зна-
чит задаваться вопросом о смысле противоположности между
контролирующими и контролируемыми. Что касается чтения,
это противопоставление всегда передается, с одной стороны, че-
рез комплекс негативных составляющих, а с другой — через ком-
плекс позитивных составляющих, иногда воспитательного ха-
рактера, предметом которых является истинное наставление:
вредное запрещается, полезное продвигается.
С этой точки зрения «ментальный инструментарий» иудеев и
христиан в Средние века строился одним и тем же образом. Од-
нако из особенностей положения евреев вытекало много разли-
чий. В Средние века евреи нигде не имели возможности неза-
висимо осуществлять политическую власть [1], а вследствие чего
нормоустанавливаюшая власть специфическим образом раз-
дваивалась: с одной стороны, существовали обладатели дей-
ствительной политической власти, т. е. неевреи, по определению
стоявшие вне еврейского социокультурного пространства; с дру-
гой стороны, имелась духовная власть еврейского руководства,
лишенного действительной политической власти и, следова-
тельно, вынужденного опираться на власть других или прибегать
хоть к сколько-то эффективным ее заменителям. Таким образом,
власть еврейского руководства двояким образом зависела от
внешнего мира: она должна была подчиняться нормам, установ-
ленным другими (и часто противоречившим тем нормам, кото-
рые оно само желало бы установить), а кроме того должна была
принять собственные нормы так, чтобы они не вступали в кон-
ГЛАВА 6
191
фликт с власть предержащими, за которыми в любом случае
оставалось последнее слово. Таким образом, еврейское руко-
водство диаспоры уже в предсовременную эпоху находилось в
положении, во многом близком тому, в котором оказалась Цер-
ковь после победы светского устройства общества в мире [2]. Вы-
нужденное ограничивать свой властный контроль лоббирова-
нием перед истинными обладателями политической власти и
проповедью небесного огня и отлучения без возможности при-
бегать к репрессиям и устраивать настоящие костры из книг ев-
рейское руководство очутилось перед необходимостью принять
менее суровый, более открытый и мирской образ обращения, чем
у христиан. Как мы увидим позже, это частный аспект более
общей черты, характеризующей еврейское общество того вре-
мени: в толщу религиозного окружения внедрялась светская со-
ставляющая, в отличие от Нового времени, когда произошло как
раз обратное. При взгляде под этим углом, думается нам, осо-
бенности еврейского общества станут яснее, если исследовать их
в рамках средневекового процесса «открытия» книги все более
широкой потенциальной публике и вообще трансформации мен-
тального инструментария, общего для иудеев и христиан, в связи
с отношениями сакрального к светскому и с проекцией этого
процесса на область книги и чтения.
КНИГА И ЧТЕНИЕ В САКРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Похоже, в течение всего раннего Средневековья у евреев на-
блюдалось то же, что и в христианском обществе той эпохи: на
книгу смотрели не как на средство общения через чтение, а как
на магико-религиозный предмет, не как на кладезь содержания,
из которого можно свободно черпать смысл жизни и знания, а
как на реликвию, предназначенную для поклонения и созерца-
ния ее сверхъестественной миссии. Вообще говоря, господ-
ствующая идея состояла в том, что книга дважды запиралась от
простых людей: в переплет и в ларец, к которому они не имели
Доступа; эта идея противоположна «открытой» книге, появив-
шейся после 1000 г. [3]. Очень ясный пример такого подхода
виден в тексте так называемого «Свитка Ахима’аца» — сочине-
ния эпико-генеалогического характера, написанного в Южной
192
РОБЕР БОНФИЙ
Италии на основе устных преданий, восходящих ко второй по-
ловине IX в. [4]. Там, среди прочих, можно прочесть историю о
женщине, навлекшей гнев свыше на свою семью и погубившей
нескольких своих родных тем, что однажды вечером в пятницу
зажгла лампаду перед святой книгой, будучи сама во время ме-
сячных. Подробности этого дела (при чем тут лампада и что была
за книга) не вполне ясны. Но кажется достоверным обычай за-
жигать лампаду перед «Книгой повозки» — одним из древнеев-
рейских мистических текстов. Таким образом, эта женщина
осквернила святость книги, почитавшейся за истинную релик-
вию [5].
Социально-политическая структура, лежащая в основе пози-
ции, проявляющейся в этом рассказе, подтверждается еще двумя
местами из того же произведения [6], а также другими текстами.
Это структура общества, которая для передачи культуры опира-
ется на замкнутую элиту; ее функция — осуществление посред-
ничества между священным пространством, в котором ее пред-
ставители были хозяевами, стражами и легитимными интерпре-
таторами, и «светским» [7] пространством обычных людей, до-
вольствующихся устным изложением содержания книг. С этой
точки зрения раннее Средневековье — это время, когда как у ев-
реев, так и у христиан и мусульман, властные полномочия по-
нимались в терминах сакральности, тесно связанной с легитим-
ной интерпретацией традиционных текстов и вследствие этого
с установлением вытекающих из них норм. Расстояние между
огромным большинством людей и читателями/интерпретато-
рами большинства текстов у иудеев на христианском Западе было
существеннее, чем на мусульманском Востоке. Ведь смысл свя-
щенных текстов доходил до них через двойное посредство: не
только властей общины, но и вселенских духовных властей (на-
чиная с IX в. почти исключительно вавилонских), находившихся
вне их географического пространства [8]. В общем, если мы за-
хотим увидеть в чтении сложную связь между написанным тек-
стом и его читателем, не трудно понять, как в таких обществах
эта связь, возникающая в рамках политической деятельности,
предполагает и установление отношений сакральной власти
между теми, кто имеет право публично толковать смысл напи-
санного текста, принадлежащего к сакральному пространству, и
теми, кто такого права не имеет, причем идея чтения (lectura) ас-
ГЛАВА 6
193
сониируется с законом (lex) [9]. Такая точка зрения возникала в
результате господства устного характера чтения, глубокого по-
чтения к риторике, средневековое еврейское название которой
считалось восходящим к библейскому meliz (Быт., 42, 23), что
значит «посредник». Такая позиция полностью гармонировала
с консервативным иммобилизмом, а не новаторским динамиз-
мом, с защитой замкнутой социально-политической структуры,
о которой мы говорили [10].
Этим объясняется, что от времен, когда чтение было доступно
малому кругу людей — элите, тем, «кому все дозволено читать»,
до нас не дошло ни одного случая цензуры. Поскольку речь шла
о деятельности по определению опасной, логично представить
себе, что она осуществлялась в местах, как нельзя более отде-
ленных от пространства, общего для всей общины, к которой
принадлежала и сама элита, местах, закрытых почти герметиче-
ски, — иногда даже без объявления об этом.
Кроме того, история чтения в еврейском обществе Средних
веков имеет особую компоненту: тексты, «импортированные» из
нееврейского культурного пространства и «иудаизированные»
(отфильтрованные и подогнанные) при заимствовании. Для ран-
него Средневековья есть два очень хороших примера: «Сефер
Йосиппон» [11] и комментарий Шабтая Донноло на книгу Бытия
[12], почти открыто обращавшихся к христианскому литератур-
ному наследию. «Сефер Йосиппон» переносил в еврейское куль-
турное пространство идеи, происходившие почти исключительно
из таких текстов, которые прежде иудейское религиозное чув-
ство сочло бы «весьма опасными»: «апокрифов», которые хри-
стиане считали каноническими, но «внешние» для еврейского
канона, и христианизированной версии Иосифа Флавия, со-
ставленной Гегесиппом. Весьма долговременная константа иу-
даизма раннего Средневековья, отчасти дожившая до наших
Дней в некоторых так называемых ортодоксальных кругах: по-
казать (подражая не столько христианству, сколько исламу) со-
жаление того, что считалось положительным с религиозной
точки зрения и, следовательно, по праву заслуживало положе-
ния внутри идеального культурного пространства, и смыслов, на-
ходящихся вне этого пространства. Всякий раз речь шла о том,
чтобы, пользуясь случаем, перестроить культурное пространство
гРУПпы, не покушаясь на основополагающую идею о необходи-
194
РОБЕР БОНФИЙ
мости границ, проводимую теми, кто в силу своего привилеги-
рованного интеллектуального положения приписывал себе и ис-
ключительное право снимать эти границы. Но у евреев (как и у
христиан) расширение практических возможностей чтения, су-
ществовавшее на протяжении всей эпохи Ренессанса, подвергало
эту логику все более и более суровым испытаниям. Согласно
принятой нами точке зрения, подчиненное положение евреев,
постоянно подверженных тяжелым столкновениям с господ-
ствующей культурой, превращало умозрительные размышления
о Другом в относительно более отчетливое стремление к откры-
тости сакрального пространства чтения. В последующие эпохи
эта тенденция усилилась.
КНИГА И ЧТЕНИЕ В УРБАНИЗИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Быстрая урбанизация еврейских общин Запада, начавшаяся в
XI в. [13], дала старт столь же быстрому процессу трансформации
социокультурного облика еврейского общества [14]. С одной сто-
роны, в нем довольно быстро исчезли крестьянские слои, суще-
ствование которых в раннем Средневековье ясно подтверждают
источники, с другой — еврейское общество, становясь более ур-
банизированным, вышло на довольно высокий уровень образо-
ванности. Согласно многим доступным источникам можно
утверждать, что в XII—ХШ вв. фигура совершенно неграмотного
еврея (разумеется, мужского пола), неспособного прочесть текст
молитвы, становится все более редкой. Рассказывая притчу о
пастухе, не умевшем читать и поэтому сочинявшем собственные
молитвы, редактор (возможно, комментатор) «Сефер хасидим»,
предупреждая недоумение читателей, специально оговаривает,
что он «был евреем» [15]. Можно также заметить, с каким удив-
лением говорит некий ученый из Рейнской области в «Сефер
ра’авия» (Sefer Ra’ avia) [16]:
«В одном сборнике респонса (response) я видел, что в Испании и
Вавилоне еще и теперь (курсив мой. — Р. Б.) принято, чтобы служа-
щий совершал седер (пасхальную службу. — Р. Б.) в синагоге, по-
тому что многие простолюдины не могут читать Агаду (традицион-
ный пасхальный рассказ. — Р. Б.)».
ГЛАВА 6
195
Как бы ни толковать сохранение этого обычая в Испании по
крайней мере до конца XIII в., кажется несомненным, что в дру-
гих подобных случаях, указанных в правилах «Мишны», он вос-
ходит ко временам, когда неграмотных было так много, что при
составлении ритуальных правил о них нельзя было забывать [17].
Чтобы истолковать особенности испанского случая, нужно при-
нять во внимание, что в Испании и Провансе евреи покидали
сельскую местность не так быстро и не так дружно, как в дру-
гих частях Европы: по свидетельству некоторых источников,
евреи-земледельцы там встречались еще в первой половине
XV в. Как бы то ни было, тексты, говорящие о неграмотности
евреев, ясно дают понять, что это были исключительные случаи.
Развитие грамотности и обращения книг, само собой разу-
меется, поставили вопрос о контроле. В спорах о Маймониде
[18], при отлучении тех, кто изучал «внешние» науки, не будучи
для того достаточно зрелым, произнесенным раввином Соло-
моном бен Адретом и его сторонниками в 1305 г. (Талмуд раз-
решал это с 25 лет, и то еще сочли слишком мало) [19], в других
менее известных и менее изученных случаях [20] речь всякий раз
шла о том, чтобы удержать строгий контроль над обществом, на-
блюдая за его чтением — потенциальным источником наруше-
ния равновесия. Под углом зрения специфических проблем
меньшинства характерными чертами всех этих событий до на-
ступления эры книгопечатания были, кажется, продолжение и
институализация средневековой тенденции, когда внимание об-
ращалось не столько на сами книги, сколько на действия, вы-
званные чтением, и на отдельных лиц. Цель заключалась в том,
чтобы строже определить пространство деятельности и способ-
ность тех, кто был принят в число посвященных, защитить идею
имманентной связи между сакральным и губительным, и в част-
ности предохранить существовавшую социокультурную струк-
туру, делавшую руководителей, контролировавших знание, пол-
ными хозяевами положения. Так легко разрешалось мнимое про-
тиворечие, на которое часто указывают историки, между про-
клятиями тех, чья умственная деятельность была основана на
чтении «внешних» текстов, и очевидным фактом, что прокли-
нающие питались теми же текстами, что и проклинаемые [21].
Здесь нужно подчеркнуть, что такой образ действий отличался
От принятого у власть имущих среди христиан, которые, начи-
196
РОБЕР БОНФИЙ
ная с XIII в., демонстрировали такую нетерпимость к «опасным»
книгам, что, если говорить о еврейской книге, уже в 1241 г. при-
вело к осуждению Талмуда на сожжение [22].
Нужно ли приписывать устойчивость «древнего пути» струк-
турной слабости еврейского самоуправления? Есть две причины
так думать. Первая: во время споров о Маймониде была попытка
призвать христианскую власть для окончательного решения во-
проса о сожжении книг, в том числе и еврейских. Для нашей
темы не так важно, желали ли евреи вмешательства христиан или
здесь следует видеть пример «дезинформации», до сих пор не
освещенный надлежащим образом [23]. Важней всего, что идея
политики репрессий письменных текстов была связана с идеей
действительного пользования властью, эффективность которой
должна доказываться вполне конкретно, лучше всего через очи-
стительный и изгоняющий бесов обряд сожжения на костре.
Вторую причину следует искать в том, что произошло впослед-
ствии: как и у христиан, у евреев эпохой самых острых споров о
времени был первый университетский бум, который мог ввести
в оборот слишком много книг, потенциально опасных на взгляд
тех, кто считал себя ответственными за состояние общества.
Прибегая к оружию отлучения от общины тех, кто читал не-
которые нежелательные книги, еврейские руководители, по-ви-
димому, опередили (на этой стадии) использование того же ору-
жия христианами. Первым к нему обратился, по-видимому,
Леоне ди Витале по прозвищу Мессер Леон (умер около 149 г.),
официально предававший анафеме всех дерзнувших читать биб-
лейский комментарий Герсонида, осужденный за отрицание
догмата сотворения мира из ничего. По всей вероятности,
дело должно быть связано с подготовкой первого издания это-
го сочинения у мантуанского издателя Коната в 1475 г. [24].
У Мессера Леона отождествление раввинского авторитета с
действенным отправлением власти опиралось на оригинальное
соображение, которое здесь нет места подробно излагать [25].
Оно было связано с тем, что правом отлучения в те времена об-
ладали только дипломированные раввины, каковым он и был-
Более того, его диплом был выдан самим императором, а потому
он, вероятно, полагал, что и авторитет его прочнее: по крайней
мере, именно на это намекали его противники. В том же смысле,
mutatis mutandis, в глазах раввина подтверждалось подобное поД'
ГЛАВА 6
197
меченному выше совпадение: между полномочиями еврейской
духовной власти и властными полномочиями тех, кто действи-
тельно ею располагал.
Как бы то ни было, применение репрессий постоянно обна-
руживает связь с идеей превратить раввинское право отлучения
от общины в действительные властные полномочия, причем при
таких исторических обстоятельствах, когда раввины сильно боя-
лись потерять контроль за чтением. Тем не менее, если дойти до
сути, окажется, что сила еврейских руководителей, державшаяся
на праве отлучения, была намного слабее власти их христиан-
ских коллег. С одной стороны, отсутствие верховной власти у
раввинов позволяло пользоваться ответным отлучением: как бы
ужасно ни было отлучение в глазах народной веры, но оно могло
быть обращено против применивших его и (что в нашем кон-
тексте намного важнее) не могло дать старт необратимому про-
цессу типа аутодафе. С другой стороны, к отлучению часто
нельзя было прибегнуть без одобрения христианских должност-
ных лиц, так что раввинская власть лишний раз оказывалась
в подчиненном положении по отношению к христианской.
Вследствие всего этого у евреев контроль за чтением оказывался
менее эффективным, чем у христиан. Мало того, что затея Мес-
сера Леона полностью провалилась: как мы увидим, и дальней-
шие попытки вести политику репрессий проходили с перемен-
ным успехом. Связь между репрессиями и властными полномо-
чиями у евреев оказалась менее прочной, чем у христиан, хотя,
если вглядеться, они также пытались ее установить.
КРИЗИС ВЛАСТИ И ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙ
Если учесть, что история вела не к укреплению еврейского са-
моуправление, а скорее наоборот, то заметно более позднее у ев-
реев превращение контроля над чтением в политику репрессий
против некоторых книг. Возможно, это указывает, что такое пре-
вращение совпадает с тем критическим моментом, когда духов-
ная власть оказалась перед утратой действенного контроля. Как
всегда в таких случаях, чем глубже ощущается кризис, тем более
отчаянно стараются прибегнуть к показному применению силы.
То, что происходило в христианском мире с XII по XV в., пока-
198
РОБЕР БОНФИЙ
зывает это как нельзя наглядней. Что касается евреев, живших
в атмосфере постоянного кризиса власти, эта прирожденная сла-
бость со временем превращалась в силу привычки, и, чтобы сло-
мать эту позицию, требовались исключительно серьезные об-
стоятельства. В этом отношении ситуация XVI в. оказалась более
критической, чем ситуация XV в. К необходимости перестроить
структуру знания в результате появления книгопечатания у ереев
прибавлялась трагедия изгнания, начавшаяся в Испании в 1492 г.
и принудившая их к перестройке во всех отношениях. Следова-
тельно, исключительное применение радикально репрессивной
политики, без всякого сомнения, может быть интерпретировано
как острый симптом крайней слабости и стремительной утраты
всякой надежды контролировать чтение [26]. Но если даже ре-
прессия эффективно ограничивает возможности чтения, она ко-
свенно поражает социокультурную и политическую структуру,
санкционирующую различие между контролирующими властями
и контролируемыми подданными [27]. Отсюда можно заклю-
чить, что, если события такого рода оставались исключитель-
ными, причину тому следует искать, прежде всего, в том, что их
душой был революционный радикализм — революционный в
том смысле, что он, хотя и наперекор желаниям, угрожал самим
основам структуры власти в обществе, где существовали бина-
рная оппозиция между элитарной и народной культурой и па-
терналистский властный надзор над народными слоями, на ко-
торые смотрели, как на детей. Реставрация духовной власти и
знания должна была, таким образом, принимать вид реставра-
ции statu quo ante с некоторыми видоизменениями, осущест-
вляться вмешательством в плоскость разделения знаний, введе-
нием рамок для производства, предварительной цензуры, индек-
сов запрещенных книг (благодаря которым уничтожение книг
становилось виртуальным, а перестройка пространства, в кото-
ром чтение запрещенных книг было дозволено, реальной), на-
конец, вмешательством в сами тексты [28].
Показательно, что первое общее постановление еврейских
руководителей в этой области было принято в Италии во время
Тридентского собора. Собравшись в Ферраре в 1554 г. вскоре
после папской буллы, осуждавшей на сожжение все экзем-
пляры Талмуда (сентябрь 1553 г.), и, вероятно, как раз по этому
случаю, делегаты итальянских еврейских общин решили, что:
ГЛАВА 6
199
«печатники не имеют права печатать книгу, прежде не печатав-
шуюся, без предварительного разрешения трех раввинов, назна-
ченных тремя другими раввинами, а также глав больших обшин, на-
ходящихся поблизости от места печатания, если таковым будет
малый город, в больших же городах довольно разрешения главы об-
шины и трех раввинов, как сказано выше. Имена вышеназванных
раввинов должны печататься в начале книги. В противном случае
ни один еврей не имеет права покупать такую книгу под страхом
штрафа в 25 скудо на каждого покупателя, употребляемого на бла-
готворительность по месту нарушения» [29].
Насколько мы знаем, это решение позорно провалилось. Без
поддержки христианских властей еврейские руководители, вы-
нужденные постоянно приспосабливать процесс принятия ре-
шений к религиозным и культурным привычкам обладателей
власти, как всегда должны были основывать свои властные пол-
номочия не на принуждении, а на убеждении. Однако даже у хри-
стиан сожжение книг в довольно скором времени было заменено
предварительной цензурой, внесением в индекс запрещенных
книг и разными другими способами (говорить о которых здесь
не к месту) восстановления «связей власти с пером» [30].
Очень показательна в этом отношении книга Азарии (Бо-
найюто) де Росси (ок. 1511—1578) «Свет очей» (Meor ’Enayim),
некоторые места которой многие раввины и еврейские руково-
дители считали крамольными [31]. В то время как в других ме-
стах (особенно в Сафеде и Праге) против книги метали громы и
молнии, отлучая от общины тех, кто посмел читать ее, еврей-
ские власти Италии ограничились тем, что запретили ее чтение
тем, кто был не способен определить это самостоятельно и, сле-
довательно, разрешили его специально на то уполномоченным
лицам. Иными словами, в той стране, где книга появилась, не
стали прибегать к отлучению из-за его недейственности. Реше-
ние было представлено в терминологии предшествующих вре-
мен, но с изменениями, вызванными тридентинской окружаю-
щей атмосферой с присущим ей стремлением к слиянию поже-
ланий цензорской власти и авторской воли, о чем свидетельству-
ет и продолжение дела: автор предпочел вступить в переговоры
с Духовными властями и исправить текст. Даже если не задер-
живаться на подробностях, этот эпизод весьма любопытен: он
200
РОБЕР БОНФИЙ
свидетельствует не только о слабости автора и силе цензуры, но
и о равенстве их сил — ведь в конце концов они пришли к ком-
промиссу. По-видимому, этот случай ясно указывает, что вну-
три общины, без обращения к христианской власти (которой
всегда мнилось выгодным распространять сочинение, сочтенное
опасным для иудейства), проблемы решались благодаря восста-
новлению связи между представителями власти и авторами тек-
стов, предназначенных для публики, или же поощрением вве-
дения, хотя бы и неполного, самих авторов в сферу власти. Таким
образом, с учетом подчиненного положения еврейского мень-
шинства, лишенного политической власти, новые явления на-
глядно показывают, как трудно было на деле осуществлять цен-
зуру (что уже проявлялось и в предшествующую эпоху) [32],
и более того, — по-видимому, в будущем предвещают ее воз-
никновение у христиан (о слабости современной Церкви в мир-
ском обществе мы уже говорили ранее) [33].
Таким образом, пример Азарии де Росси, а также и всего ев-
рейского меньшинства может толковаться как особый случай
более всеобъемлющего восстановления старой связи между авто-
ром и духовной властью в рамках перестройки, вызванной осоз-
нанием их обоюдной слабости, что стало еще очевиднее с разви-
тием книгопечатания. Надо, кстати, напомнить еще хотя бы
вскользь, что утрата контроля цензуры над авторами на пороге Но-
вого времени соответствовала и утрате контроля автора над
своими произведениями, потому что теперь книгу мог купить и
прочесть кто угодно. Поэтому есть основания полагать, что на
практике предварительная цензура была аналогична признанию
неких авторских прав [34] под давлением культуры, все более за-
висевшей от желаний потребителя, в отличие от рукописной эры,
когда все было наоборот [35]. В этом смысле весьма показательна
строгая связь между ранними формами копирайта [36] и борьбой
против еврейских текстов, отмечаемая, к примеру, в самой гнус-
ной форме в венецианском книгопечатании XVI в. [37]. Хотя все
детали дела о сожжении Талмуда в 1553 г. еще не выяснены (да и
не могут быть изложены здесь), оно, как и противодействие этому
осуждению, оказывается тесно связанным с конкуренцией изда-
тельств Б. Бомберга и М. Джустиниани, которую в наши дни на-
звали бы «промышленным шпионажем», и с раскрытием этого
шпионажа [38]. Интересы авторов пересекались с интересами из-
ГЛАВА 6
201
дателей, сталкиваясь вместе с тем с интересами власть предержа-
щих: так начинался слишком даже знакомый нам политический
сюжет [39]. Когда такое наблюдение делается на основе истории
еврейского меньшинства, где все эти двусмысленные совпадения
проявляются своеобразным, часто курьезным образом, общий
конститутивный принцип выявляется еще ярче и заходит гораздо
дальше, чем можно было ожидать [40]. Не входя в подробности,
скажем, что довольно легко показать, как христианская цензура
в некоторых случаях на деле меняла тексты, ходившие среди ев-
реев, приближая их к христианским вкусам, и тем, в конечном
счете, способствовала устранению разрыва между еврейской и
христианской культурой [41]. С современной точки зрения это яв-
ление может показаться положительным. Но тонко чувствующий
эти проблемы читатель должен заметить, что речь как-никак шла
об одной из форм репрессий против безвластного меньшинства
и, следовательно, связь между текстом и властью оказывалась
более сложной, чем мы привыкли думать, глядя лишь с одной кри-
тической точки зрения.
Если принять во внимание трудности осуществления контроля
за чтением, трансформация еврейского общества, ускоренная стре-
мительной урбанизацией еврейских общин на Западе, выявляет и
ряд аналогий с тем, что можно наблюдать в христианском обще-
стве, но так же и целую совокупность различий. Мы, в частности,
особо указывали на аналогию между положением еврейской об-
щины в Средние века и католической церкви во времена обмир-
щения, когда она при своих попытках контролировать чтение
столкнулась с неравноправием. Это привело к тому, что отноше-
ние между сакральным и светским, переосмысленное в таких ка-
тегориях, как полезное/вредное, дозволенное/запрещенное, у ев-
реев было не так строго поляризовано и не могло обернуться столь
действенными репрессиями, как в христианском обществе.
КНИГА И ОБЩЕСТВО: К ОТКРЫТОЙ КНИГЕ
Выше мы говорили, до какой степени глубоко в Средние века,
в том числе у евреев, была укоренена мысль о необходимости
посредничества духовных властей между сакральным и мирским,
и привели некоторые обоснования этому. Сейчас добавим, что,
202
РОБЕР БОНФИЙ
в результате этого у евреев устное чтение текстов долго доми-
нировало над письменным [42], причем оба способа доступа к
текстам были строго кодифицированы:
«Не дозволено передавать устно то, что должно быть написано, и
записывать то, что должно передаваться устно» (Вавилонский Тал-
муд, Гиттин, 60b).
В течение всего раннего Средневековья, когда на Западе книга
была «потаенной», сторонники вселенской гегемонии Вавилона
развивали эту идею, рассматривая формирование корпуса пись-
менных текстов, составляющих иудейское священное предание,
как ряд последовательных стадий упадка.
В так называемом «Послании рав Шериры Гаона» (X в.) [43]
автор дает последовательное выражение этой концепции, которой
в Средние века было суждено большое будущее. Но в то же время
он вполне недвусмысленно видел в этих «стадиях упадка» и ста-
дии перестройки письменного и устного пространств, раскрытия
прежде потаенных текстов, и, следовательно, расширения поля
чтения для публики. Как бы ни относился Рав Шерира к этим ста-
диям, в его время они были уже свершившимся фактом. Описы-
вая расширение поля письма и чтения как упадок, он явно хотел
ободрить своих собратьев — еврейские духовные власти, — счи-
тавших себя единственными полномочными посредниками между
сакральным и светским, единственными представителями Бога на
земле, — так сказать, «наместниками Божьими», наподобие на-
местников Христовых, восседавших в Риме на престоле святого
Петра. Между тем границы их власти, как и власти Римской
церкви, зависели от действительной возможности выражаться как
власть социально-политическая. Вследствие этого, то, что стало
происходить с Римской церковью приблизительно с XIV в., с ев-
рейскими духовными властями происходило еще с рубежа тыся-
челетий, когда по целому ряду причин иерархическая структура са-
кральных ценностей, установленная во времена халифата Аббаси-
дов, стала рушиться. Тогда идея о господстве Слова и неразрывно
связанного с расширением поля общедоступных текстов упадка у
евреев Запада отошла в область общественного сознания. Перед
новой реальностью особая социально-политическая ситуация
диаспоры вынуждала превратить нужду в добродетель, поскольку
ГЛАВА 6
203
тезис об упадке в равной мере и питал идею о том, что доступность
письменных текстов соответствовала «оскудению святости», и
оправдывал эту доступность [44]. Иными словами, достаточно ло-
гично то, что средневековое «утаивание» книг у евреев было не
столь эффективно, как у христиан, потому что у них иначе дей-
ствовала власть; что в еврействе менее значительным, чем в хри-
стианстве, было усилие, необходимое для того, чтобы открыть
книгу для публики, и для этого требовалось меньше времени; что
вследствие этого степень обмирщения практики чтения в Сред-
ние века у евреев была выше, чем у христиан.
И действительно, у евреев, начиная с раннего Средневековья,
область «потаенных» текстов, чаще всего передававшихся устно
в закрытой среде, довольно скоро свелась к сочинениям по магии
и мистической литературе. В цитированном отрывке из «Свитка
Ахима’аца» мы уже видели ссылку на эту категорию текстов. Как
мы показывали в другом месте [45], возможно, что запрет на
чтение мистических сочинений был связан с распространением
на Западе Вавилонского Талмуда (начиная с IX в.), что было на-
целено на вытеснение прежней палестинской культуры, которой
с полным основанием приписывались многие сочинения по-
добного рода. Но, как нам думается, есть более эффективный па-
раметр для сравнения еврейского общества той поры с христи-
анским. Хотя мы мало знаем о том, как еврейская публика ран-
него Средневековья пользовалась книгами, несомненно, что в
это время у евреев не было ничего подобного типично христи-
анскому способу производства и хранения книг в монастырях.
Как бы щедро ни оценивать степень вмешательства мирян в мо-
настырский мир, сам факт, что существование больших мона-
шеских владений отражало тесную связь политической власти с
религиозной, естественно выражался в недоступности или, по
крайней мере, ограниченной доступности книг в зависимости от
воли власть имущих [46]. Насколько нам известно, никаких по-
добных явлений европейские евреи не знали.
ОБУЧЕНИЕ КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ОБРЯД
Между христианством и иудаизмом существует одно чрезвы-
чайно важное для нас различие, относящееся к образовательной
204
РОБЕР БОНФИЙ
практике, которая в те времена неизбежно сливалась с практи-
кой чтения [47]. Формирование идеи образования в еврейском
менталитете на Западе было связано с многими факторами, в
частности: акцентом на образовании как на замене культа, поя-
вившемся в I в. после разрушения Храма; упадком вселенс-
кой гегемонии Востока, весьма точно совпавшим по времени с
возникновением еврейских общин на большей части Евро-
пы [48]; преимущественно урбанизированным характером этих
общин [49]; преобладанием денежной торговли в экономиче-
ской деятельности евреев; традиционной, появившейся еще во
времена восточной гегемонии, связью между знанием, трак-
туемым в сакральных терминах, и властью, политическая со-
ставляющая которой была неизбежно ограничена, но все же
трактовавшейся как царство, что видно из того, какие слова в
конечном счете приняли для нее раввины [50]. Но с интере-
сующей нас точки зрения, прежде всего, важен факт, что одним
из важнейших различий в культурном самоопределении евреев
и христиан было то, что по еврейским понятиям учение — это
религиозный обряд. Вероятно, корнем различия было самоосо-
знание противостоявших друг другу групп в антитезе «Слово —
Христос — Logos» и «Тога — Писание — Nomos». Эта антитеза,
вполне проявившаяся в ходе многовековой полемики христиан
и иудеев, ясно выражена в еврейских источниках первых веков
христианской эры, например в определении Торы как «боже-
ственного детоводителя» (Мидраш Берешит Раббат, I, 1) [51],
противопоставленной идее «детоводителя человеков», от кото-
рого уже апостол Павел (Галат., 3, 24; Рим., 10, 4) считал избав-
ленной общину христиан [52]. Следствием была весьма «долго-
живущая» противоположность еврейского и христианского мен-
талитетов. Переходя из лагеря в лагерь, напряжение между сло-
вом и писанием, в конце концов, стало представлять различия,
едва ли не обратные первоначальным стремлениям. И, думается,
именно так следует смотреть, чтобы понять тот факт, что до ру-
бежа Нового времени у евреев не встречается ограничений до-
ступа к чтению текста про себя в пользу чтения вслух, подобных
имевшимся у христиан и исчезнувших там, как известно, лишь
после победы Реформации. Для тех, кто желал основать свою ре-
лигиозную идентичность не на слове Сына Божьего, а на тексте
Закона, на соблюдении подробных правил, содержащихся в тек-
ГЛАВА 6
205
сте (а не на менее детализированных постулатах веры), на «букве»
(littera), как любили твердить христиане, провоцируя евреев, было
естественно, чтобы изучение текстов играло самую важную роль.
И в самом деле, традиция, прошедшая с тех пор через века,
считала долгом (религиозным) для всех евреев мужского пола си-
стематически заниматься учением. Чтобы исполнить этот долг,
каждый еврей хотя бы теоретически должен был иметь свобод-
ный доступ к текстам, которые общее мнение считало безопас-
ными. Что касается женщин, то их отлучение от образования
обычно обосновывалось идеей, что при женском легкомыслии
такое занятие будет для них пагубно (Вавилонский Талмуд, Шаб-
бат 33b, Киддушин 80b). На первых же страницах Талмуда евреи
видели ясно изложенный порядок индивидуального чтения в си-
нагоге:
«Возвращаясь с поля вечером, следует пойти в синагогу [прежде,
чем домой]; кто умеет читать [Библию], да читает; кто способен изу-
чать Мишну, да изучает Мишну, и да прочтет «Шема» [отрывки из
Второзакония, VI, 4—9; XI, 13—21 и книги Чисел, XV, 37—XVI, 4]
и вечернюю молитву прежде трапезы» (Вавилонский Талмуд, Бе-
рахот 4Ь).
Последующая кодификация лишь подхватила и развила это
древнее правило.
СИНАГОГА КАК «ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Если позволительно, как это показывает историческая эволю-
ция, наблюдаемая у христиан, установить корреляцию между
окончанием запрета на доступ к текстам и ускорением обмир-
щения общества и если мы можем понимать отмеченную нами
в связи с этим разницу между христианами и евреями, то доба-
вим, что с того момента, как по-настоящему начинается пере-
ход от чтения вслух к чтению глазами (около 1000 г.), практика
индивидуального чтения в синагогах Европы проявляет на удив-
ление более современные черты, чем в христианском обществе.
Средневековая синагога была совсем не тем самым, что христи-
анская церковь. В исследовании, посвященном итальянским си-
206
РОБЕР БОНФИЙ
нагогам, мы выделили некоторые из их характерных черт, при-
сущих (разумеется, mutatis mutandis) для любых групп, отделен-
ных от большинства людей в религиозном плане [53]. Несмотря
на густой религиозный фон, в них иногда ясно видны светские
черты, уже отмеченные нами в более общем виде. Средневеко-
вая синагога была не только местом молитвы, но настоящим ев-
рейским «культурным центром», в том числе и публичной биб-
лиотекой. Наличие в ней собрания книг было связано с культу-
рой поведения, покоившейся на весьма долгоживущих фундамен-
тальных идеях еврейской культурной идеологии: ответственности
членов группы друг перед другом, организации общины как кор-
поративного учреждения, основанного на юридическом пред-
ставлении об обществе [54], и, конечно, обязанности учиться од-
ному или вместе с товарищами. Естественно, еще очень далеко
до современной идеи публичного чтения как сознательной акции
государства и общества, до институционального определения их
роли в управлении открытых для публики библиотек, до пред-
ставления о библиотеке как об общей собственности и т. д. [55],
но мы уже ощущаем соприкосновение между частным собира-
нием книжной коллекции и публичным учреждением, а это оз-
начает, что идея публичной библиотеки у евреев появилась го-
раздо раньше, чем у христиан. С учетом того, что мы говорили
об ограниченности возможностей еврейских руководителей осу-
ществлять политическую власть, это явление, конечно, может
быть интерпретировано как особый случай общего роста частной
инициативы и представления о еврейской общине как о корпо-
рации [56]. Именно в недрах коллективной идеологии, коллек-
тивной ответственности рождается идея предоставить частные
книги в распоряжение другим, чтобы обеспечить индивидуаль-
ное образование, т. е., прежде всего, чтение.
Например, на рубеже XI в. мы встречаем в средиземномор-
ском регионе респонсу раввина Гершома (960 — ок. 1028), из-
вестную как «Светоч рассеяния» (Me’or Ha-Golah), где он пола-
гает за аксиому, что «книги пишутся не для того, чтобы стоять
на полках, а чтобы их давали читать». Предметом этой респонсы
было дело о выдаче под залог книг, которые по возвращении
были найдены слишком истрепанными, за что тот, кто выдал
книги для чтения, и тот, кто читал, требовал возмещения, кре-
дитор же утверждал, что использование книг входит в договор
ГЛАВА 6
207
(вероятно, следовало сказать «подразумевается договором»). Он
утверждал, что «на этом условии я и соглашался дать тебе залог
за эти книги: на условии, что книги можно будет изучать и
учиться по ним, а также давать взаймы другим» [57].
В нравственных наставлениях пиетистов Рейнской области
(«Хасидей Ашкеназ», XII—XIII вв.) целый раздел из 60 парагра-
фов посвящен тому, как обращаться с книгами: хранить их «в доб-
ром и достойном их ларце», избегать их порчи и т. д. Это свиде-
тельствует о ценности книги, о возросшем чувстве ответственно-
сти при пользовании книгой, по-прежнему считавшейся достой-
ной величайшего почитания не только как носительница Божьего
слова, но и потому, что была дорога, а значит, мало доступна неи-
мущим. И в то же время у нас есть свидетельства,в которых отра-
жено желание исправить такое положение, сделать книгу доступ-
ной всем. Имеются назидательные рассказы о благочестивых
людях, предоставлявших свои книги в распоряжение других [58].
В некоторых документах, довольно редких и еще плохо изучен-
ных с просопографической и социологической точек зрения, по-
казано, что частные лица по завещанию передавали книги си-
нагоге [59] или оставляли их там для бессрочного пользования,
не отказываясь от права собственности на них. Так, один
итальянский еврей записал на пустой странице рукописи, дати-
руемой 1433 г. [60], список книг своего дяди, некоего Исаака из
Тиволи, отданных на хранение местной синагоге. В работе о пе-
речне книг наследников некоего Леона бен Иоава, составлен-
ном в Чезене в 1445 г., Исайя Зонне считает этот тип собраний
«своего рода публичной библиотекой ренессансного типа» и срав-
нивает его с библиотекой, вскоре (в 1452 г.) основанной в Чезене
Доменико Малатестой в подражание библиотеке Козимо Ме-
дичи, которая создана в 1441 г. и считается самой первой биб-
лиотекой в этом роде [61]. Своеобразие такого обычая (не пе-
редавать книги синагоге, а лишь отдавать на хранение), веро-
ятно, объясняется мобильностью евреев, которые никогда не
были уверены, что где-то осели надолго: собственники книг
(вкладывавшие в них много денег) [62], очевидно, не желали,
чтобы их щедрость лишила их возможности пользоваться собст-
венными книгами в случае переезда. Следует также считаться
с фактом, подтверждаемым многими источниками, что эти
книги освобождались от налогов [63].
20в
РОБЕР БОНФИЙ
Не стоит особо говорить о том, что все эти случаи были чет-
кими проявлениями патерналистских представлений об обще-
стве и просвещении: предоставление книг в общее пользование
было решением самых богатых, а следовательно, и самых влия-
тельных лиц. Материально обеспечивая всю правящую вер-
хушку, они имели решающий голос в формировании коллек-
тивной ментальности внутри синагоги — наиболее важного для
влиятельных людей учреждения. Но полновластными властите-
лями они все же не были. На деле в еврейских общинах была
разработана весьма своеобразная система смешанного налога,
благодаря которой даже те, кто по бедности освобождался от
участия в возмещении общих расходов, должны были (если жили
не на одну милостыню) участвовать в «имущественном управле-
нии» синагогой, где степень демократизма, таким образом, была
выше, чем в других подобных учреждениях, т. е. частная ини-
циатива соприкасалась там с духом демократического консен-
суса, хотя и особого рода. Итак, богатые, передававшие книги
на хранение в синагогу, не обладали полной властью над чте-
нием в том смысле, что у них не было возможности устраниться
от общего консенсуса, как могла бы, например, сделать социо-
культурная и политическая оппозиция современного типа, опи-
рающаяся на деньги. Значит, мы можем считать, что книжные
собрания синагог представляли коллективную позицию в отно-
шении предпочтительного чтения. При рассмотрении с такой
точки зрения эти собрания, вне всяких сомнений, могут выявить
конкретные отличия между различными культурными ареалами,
в частности, между ашкенази германского мира и испанскими
или итальянскими евреями [64].
Систематическое изучение списков книг средневековых ев-
реев еще не началось, но и то, что уже сделано [65], выявляет
много интереснейших тенденций. В упомянутом перечне книг
Леона бен Иоава из Чезены, например, с удивлением находим
упоминание о книге «Князь и монах», т. е. произведении свет-
ской (впрочем, в основе моралистической) литературы в одном
переплете с трактатом «Авот» из Мишны, включающем ком-
ментарий Маймонида.
Кроме того, наряду с поучительными текстами преимуще-
ственно нормативного, этического или экзегетического харак-
тера, составляющими большую часть этих сочинений, ветре-
ГЛАВА 6
209
чаются и книги по грамматике. Другими словами, в этой сина-
гогальной библиотеке ясно видна и светская составная часть.
Небольшое число перечней такого рода не позволяет делать вы-
воды об их типичном содержании. Но надо прямо сказать, что
впечатление смеси светского с сакральным, которое они дают,
еще отчетливей в каталогах частных библиотек, гораздо более
многочисленных. Есть все основания сблизить это явление с
тем, что для христианского мира отмечалось во многих иссле-
дованиях истории ментальности, примерами чему могут служить
библиотеки Франциска I и Маргариты Наваррской, описанные
Ф. Ариесом [66]. Впрочем, все это подтверждается обширным
анализом литературных произведений того времени [67]. Но тот
факт, что частные библиотеки, по-видимому, показывают до-
вольно четкое сходство с известными ныне синагогальными кол-
лекциями, заставляет выдвинуть гипотезу, которую еще надле-
жит подтвердить, что содержание книжных собраний, предо-
ставленных для публичного пользования, имело тенденцию к
усиливающемуся обмирщению. В любом случае изучение спи-
сков книг приводит нас к констатации еще более важного факта:
точно установлено, что в еврейских библиотеках, как публичных,
так и частных, сакральное от светского отличалось не столько
по содержанию, сколько по языку. В то время, как в древнеев-
рейских книгах мы находим тексты всякого рода, часто, если
рассматривать их «пуританским» взглядом в контексте синагоги,
поистине «соблазнительные», то сочинения на латыни и народ-
ных языках в чтении евреев практически отсутствовали.
СВЯЩЕННЫЙ ЯЗЫК И НАРОДНЫЕ ЯЗЫКИ
Изучать грамотность среди евреев — значит не определить долю
людей, способных написанный текст воспроизвести устно, или
тех, кто владеет алфавитным письмом. Начиная по крайней мере
с XI в., можно констатировать, что в узком смысле слова еврей-
ское общество было высокограмотным. Следить по молитвен-
нику за ходом службы и библейской проповеди в синагоге могли
даже женщины. Но одно дело читать механически, а другое —
понимать, что читаешь. Если учесть, что для евреев древнеев-
рейский язык, характерный для большинства «внутренних» тек-
210
РОБЕР БОНФИЙ
стов, не был языком повседневной жизни, следует представить
себе, что уровень грамотности общества достигался иначе, не-
жели это происходило у христиан. Там с ростом производства
текстов на народном языке, а особенно с изобретением книго-
печатания, рост грамотности соответствовал уменьшению ди-
станции между текстами и обществом. У евреев же налицо об-
ратное явление: если относительно древнееврейского заметного
роста грамотности не наблюдается, то что касается народных на-
речий ситуация в корне иная. Исследование этого явления только
началось, но оно уже сейчас может быть четко выделено в рам-
ках исследования, относящегося к Италии эпохи барокко [68].
Чтобы понять, в каком направление шло развитие процессов
чтения у евреев XVI в., необходимо поразмыслить над фактом,
что исключительное использование древнееврейского языка как
языка литературного творчества у евреев на христианском Западе
полностью контрастирует с тем, что происходило в мусульман-
ском мире, где арабский язык, нередко использовавший еврей-
ское письмо, обогащенный характерными для древнееврейского
языка словами и оборотами, был повсюду принят евреями как
законное средство выражения для литературы, даже для сочи-
нений поучительного и религиозного характера [69]. Почти пол-
ное отсутствие еврейской литературы на латыни, вероятно, свя-
зано с тем, что это был почти исключительно язык интеллекту-
ального общения образованных людей христианского Средне-
вековья, а те были прежде всего церковниками [70]. Поэтому
достаточно логично думать, что на взгляд евреев латынь была го-
раздо сильнее отрицательно заряжена, чем арабский язык, а тот
в сравнении с ней мог казаться относительно нейтральным.
Таким образом, литературный язык становился подлинным
культурным барьером. Однако период, в течение которого ла-
тынь была основным языком литературного творчества, совпа-
дал со временем, когда народные языки считались однозначно
низшими по сравнению с ней. Тут евреи от христиан не отли-
чались: у них народное наречие также предназначалось для «низ-
шей» деятельности. Народный язык был повседневным, следо-
вательно, несакральным языком общения с неевреями (хри-
стианами, а значит, культурно низшими), языком женщин (низ-
ших по природе). И действительно, в ту пору были еще очень
редки женщины, способные понять древнееврейский текст, и
ГЛАВА 6
211
упоминания о таких женщинах подчеркивают их необычайность.
Показательно, что еврейские книги довольно позднего времени,
специально предназначенные для женской аудитории, писались
на народном языке [71], но еврейским письмом [72], что ясно
доказывает: знание грамоты следует отличать от настоящего, не
механического и не ритуального, чтения. Итак, параллельно про-
цессу снятия негативного заряда народных языков происходил,
в том числе и у евреев, процесс легитимизации письменности,
а позднее и творчества на этих языках, а значит, отказ от по-
среднической функции древнееврейского языка. Этот процесс
должен был ускориться в результате изменения отношения к
письменному (начиная с XVI в. — печатному) слову, а также по-
степенному превращению латыни в нейтральный научный lin-
gua franca. С этих пор все большее число евреев считало дозво-
ленным для себя читать на народном языке и на латыни, даже
когда текст содержал проблемы конфессионального плана. В об-
щем, перемена отношения к древнееврейскому языку может
быть истолкована как отказ от концепции языка как социаль-
ного и религиозного барьера, а этот отказ вписывается в общий
процесс обмирщения, связанного с распространением книгопе-
чатания и возникновением национального сознания. С интере-
сующей нас здесь точки зрения очевидно, что имела место боль-
шая «открытость» к нееврейским текстам. Тогда древнееврей-
ский стал эзотерическим языком, доступным немногим «из-
бранным», чаще всего связанным с религиозной культурой —
раввинам и наставникам иудаизма, стал языком «святым» или,
вернее, «сакральным», в то время как народный язык с распро-
странением грамотности утверждался как подлинный язык до-
ступа к знанию, язык социального и культурного общения ев-
реев с неевреями, общий для мужчин и женщин (по крайней
мере тех, которые научились читать), язык «светский».
Mutatis mutandis, мы думаем, что это верно для всей Европы,
благосклонной к еврейскому населению, значительная часть ко-
торого теперь состояла из учеников светских школ, возвратив-
шихся в иудаизм и вполне расположенных считать тексты на ла-
тыни и народных языках полноценными орудиями знания [73].
Аналогичное явление отмечается и в Восточной Европе, но
по другим причинам. Не входя в подробности, мы считаем воз-
можным утверждать, что важнее всего здесь были особенности
212
РОБЕР БОНФИЙ
социально-экономического развития, в результате которых за-
метная часть еврейского населения претерпела весьма своеоб-
разный «возврат к земле», превратившись на деле в крестьянское
общество с вытекающим отсюда регрессом грамотности [74].
В этом случае средневековую «закрытость» текстов следует при-
писывать этому процессу. Лишь во времена, очень близкие к
нашим дням (и выходящим за рамки настоящей работы), евреи
восточноевропейских общин научились читать на народных язы-
ках. Итак, в то время, как в Восточной Европе утвердился ра-
дикальный разрыв между еврейской и нееврейской культурами,
утвердилась и обособленность текстов (на древнееврейском) от
большинства евреев аналогично тому, что мы видим, совсем по
другим причинам, в Западной Европе. Мы приходим, таким об-
разом, к заключению, что для характеристики различий между
еврейским и христианским менталитетами в Европе на исходе
Средних веков и переходе к Новому времени примечательней
всего явное присутствие консервативно-«средневековой» соста-
вляющей в еврейском культурном пространстве, полностью про-
тивоположном открытости христианского пространства, каким
бы образом ни понимать это пространство.
ЧТЕНИЕ КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ОБРЯД: СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПЕРЕЖИТКИ
Подобные устойчивые черты Средневековья имели различные
следствия, которые мы знаем еще довольно плохо. Прежде всего,
следует констатировать сильную тенденцию превращения чте-
ния в религиозный обряд. По всей очевидности, это явление
аналогично тем, что мы уже отмечали в средневековом обществе,
для которого характерен высокий уровень неграмотности и где
тексту приписывали магические свойства с той разницей, что на
переходе к Новому времени «неграмотность» относилась лишь
к области древнееврейского сакрального языка. К этой катего-
рии относится такая практика, как ритуальное чтение текстов
«традиционного знания», причем действительному пониманию
их содержания большого значения не придавалось и даже отда-
валось предпочтение эзотерическим текстам вроде «Зогара». Но-
вейшие антропологические исследования различных общин
«восточного» типа выявили много нового о таких практиках [75].
ГЛАВА 6
213
Чтение происходило в группе вслух, обычно нараспев, отрывки
текста выбирались, невзирая на содержание. Например, при по-
минании усопших почти повсеместно принято было читать
отрывки из Мишны, отобранные по единственному принципу:
каждый должен начинаться с одной из букв, вместе образующих
имя покойного. Еще показательнее чтение отрывков из «Зогара»,
иногда по печатным тетрадочкам, где избранные куски внезапно
обрывались, а порой начинались с середины фразы. Последний
пример прекрасно показывает и магический характер обряда,
и то, какого типа книги используются при этом. Участники об-
ряда приписывали «Зогару» сверхъестественные свойства: ис-
целять болезни, помогать в щекотливых любовных делах, из-
бавлять женщин от бесплодия и даже приближать приход Мес-
сии. Ритуальные чтения такого рода засвидетельствованы еще
в XII в. [76], но лишь начиная со второй половины XVI в. мно-
жество братств, занимавшихся различной социально-религиоз-
ной деятельностью распространило их почти повсеместно. Бла-
годаря магическому характеру они применялись более всего (но
не исключительно) в обрядах перехода, как-то: уже упомянутое
поминовение покойных, канун обрезания и по крайней мере три
праздника, связанные со сменой времен года (15 шевата, ночь
на Пятидесятницу и ночь Осанна Рабба).
Другое примечательное явление — устойчивость средневеко-
вых методов обучения и получения знаний в ешивах. Этот во-
прос выходит за рамки нашего очерка, так что мы напомним
только, насколько важно в них заучивание талмудического тек-
ста, какое значение придается групповому обучению учеников,
вслух ведущих диалог между собой, и музыкальной ритуализа-
ции чтения по очень древнему талмудическому правилу [77]. Все
это заслуживает особого антропологического исследования и
свидетельствует о чрезвычайной устойчивости «устной» куль-
туры в изолированном еврейском культурном пространстве.
Особый аспект этого явления — отказ от печатания ритуаль-
ных книг и чрезвычайно позднее внедрение книгопечатания для
актов с ритуальным значением. Общее правило, вероятно, сле-
дующее: чем сильнее ритуальная составляющая, тем с большим со-
противлением рукопись заменяется на печатную книгу. Так, при-
менение печатных текстов для актов развода было еще невоз-
можно: они составлялись от руки по дотошно разработанным пра-
214
РОБЕР БОНФИЙ
вилам, над которыми насмехались многие авторы. То же отно-
сится к пергаментным свиткам для ритуального чтения книги
Эсфири (свиток Эстер) в праздник Пурим (свитки — мегиллот
(Meghillot) — множественное число от «мегилла»— Meghillah).
В связи с этим можно вспомнить, что, как ни парадоксально,
средневековые правила всегда дозволяли иллюстрировать мегил-
лот миниатюрами, что было абсолютно запрещено для свитков,
предназначенных для ритуального чтения Торы. Насколько мы
знаем, была лишь одна попытка использовать печатный пресс для
Торы (в Италии в XVI в.), потерпевшая полную неудачу [78].
Ныне в синагогах распространился даже обычай читать по пер-
гаментным свиткам еще четыре книги, для которых это не уста-
новлено правилом и которые с незапамятных времен читаются
на три главных праздника и в день поста 9 Ава: память разруше-
ния Храма (Песнь Песней на Пасху, книга Руфи на Пятидесят-
ницу, Экклезиаст на праздник Кущей и Плач Иеремии 9 Ава).
В ту же традицию вписывается сохранявшееся до совсем недав-
него времени использование рукописного, как правило, богато
иллюминированного текста агады.
Очень показательно, что лишь в XIX в. вошли в употребление
печатные «кеттубот» (множественное от «кеттуба» — акт о реги-
страции брака, перечислявший обязанности мужа к жене), при-
чем в этом отношении восточные общины, хотя они были удале-
ны от западной христианской цивилизации, намного опередили
их. Еще показательней тот факт, что именно брачный контракт
естественным образом стал объектом печатания в типографии,
как это было в христианской Франции XVII—XVIII вв. [79].
С интересующей нас точки зрения — это очередное доказатель-
ство установления в Новое время связи между рукописной куль-
турой и восприятием еврейской обособленности, полностью соо-
тветствующей общим устойчивым чертам Средневековья, харак-
терным для еврейской среды.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ:
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Читали ли евреи иначе, нежели христиане, и если да, то в каком
смысле и в какой мере отличалось их чтение? Здесь мы пойдем
ГЛАВА 6
215
по одной из троп, проложенных исследователями о принятых
практиках чтения в христианском мире.
Прежде всего попробуем подойти к книге как к «созвездию
знаков», способных вызвать читателя на специфический ответ.
Попробуем изучить разные способы использования графиче-
ского, а после изобретения книгопечатания — типографического
пространства и тем самым определить, куда могли звать чита-
теля различные знаки и изображения [80]. На первый взгляд,
общее впечатление таково, что распределение графического про-
странства, а также графическая и орнаментальная типология
вполне отражают «ментальный инструментарий» соседей-хри-
стиан. Сравнительно недавнее исследование, специально по-
священное письму, показало, что это не какая-то особенность
Запада, а весьма «долгоживущая» константа, наблюдаемая по-
всюду, начиная с Античности. В интересующей нас области она
проявляется чрезвычайным визуальным сходством между сред-
невековыми еврейскими и христианскими почерками (напри-
мер, готикой), сходством в способе разметки и орнаментации
страницы, в использовании микрографии* для сведения воедино
орнамента и содержания [81], сходство между закругленным
письмом, типичным для итальянского Возрождения, и харак-
терным курсивом еврейского письма того же времени, между
способами размещения текста на страницах в христианских и ев-
рейских инкунабулах, а также книгах XVI в. и многими другими
деталями, которые здесь перечислять излишне. Идя по этому
следу, мы увидим у евреев растущее расхождение между внеш-
ним обликом текста и его содержанием, схожее со все увеличи-
вающимся расстоянием между устной и письменной тради-
циями. Это явление, например, очевидно во все меньшем упо-
треблении микрографии как декоративного элемента книг: если
до появления типографского способа печати микрография была
общепринятым графическим средством для масоры, то в editio
princeps Библии, напечатанной Бомбергом (Венеция, 1517—1522),
она размещена вокруг текста, но без каких-либо других эле-
* Речь идет о присущей средневековым еврейским рукописям декоративной тех-
нике, напоминающей то, что мы сейчас знаем под именем «каллиграмма»: надпись
еврейскими буквами крошечного размера (отсюда название «микрограмма») в форме
геометрической фигуры или включенная в рисунок, изображающий какой-либо
предмет, животное или человека. — Прим. фр. переводчика.
216
РОБЕР БОНФИЙ
ментов графического оформления. Это доказывает, что перед
нами переходная фаза от средневековой практики к позднейшей,
когда масора будет сопровождать текст как критический или эк-
зегетический аппарат. В этом же плане наблюдается и растущее
расхождение между монолитно структурированным чтением свя-
щенного текста (центральное положение которого подчеркнуто
расположением на странице) и авторитетной экзегезой тех или
иных особо выделенных комментариев: начиная с первой поло-
вины XVI в. библейские комментарии печатаются отдельно,
т. е. уже не окружают библейский текст в центре страницы.
Можно отметить, что в отношении к типографскому про-
странству еврейская практика обнаруживает то же раздвоение,
которое присуще и языку. Действительно, это прямо касается
определения культурной еврейской обособленности; здесь выя-
вляется устойчивость средневековых образцов — первый признак
инверсии относительно предшествующей эпохе, которая, как
мы видели, характеризовалась рано наступившей «современно-
стью». Можно заметить довольно четкое соответствие между сох-
ранением средневекового способа размещения текста на стра-
нице и его важность для утверждения еврейской обособленно-
сти. Мало того, что построение страницы, установленное пер-
вопечатниками для некоторых классических произведений
еврейской культуры, воспроизводит типичные средневековые
образцы, еще важнее, что эти образцы построения устойчиво
сохраняются вплоть до современной эпохи. Верстка первых ком-
ментированных изданий Библии, Талмуда, кодексов Маймонида
и Иакова бен Ашера («Турим») не изменилась до наших дней.
Однако в изданиях на еврейском языке не получило такого ши-
рокого распространения, как в книге на народных европейских
языках, применение карманного формата для развлекательной
литературы [82]. Таким образом, в еврейской книжности про-
должали преобладать форматы ин-фолио и ин-кварто, книги чи-
тались с помощью пюпитра, чаше всего стоя, из почтения к ав-
торитету текста, и вместе с тем, текст воспринимался как сим-
вол «лекции», на которой лектор передает знания аудитории.
Средневековый пюпитр, на который иногда ставили несколько
книг, нередко все книги, имевшиеся в доме, остался типичным
предметом обстановки нынешних ешив и кабинетов современ-
ных подражателей «ортодоксальным» ученым старого времени;
ГЛАВА 6
217
он называется «штандер», что напоминает о древнем обычае чи-
тать стоя. Однако, судя по различным миниатюрам, изобра-
жающим читателей, сидящих за такими пюпитрами [83], этот
обычай вовсе не был повсеместно распространен в Средние века,
и тем менее в эпоху гуманистов.
ИКОНОГРАФИЯ ЧТЕНИЯ
Упоминание о миниатюрах призывает нас исследовать и этот ас-
пект и обратиться к практике чтения через ее изображение в
искусстве и литературе, в живописи и иллюстрациях различного
типа, в автобиографиях, мемуарах, народных сказках и всякого
рода косвенных свидетельствах [84]. Даже не принимая во вни-
мание то, что документы такого рода [85], весьма немногочис-
ленны. Автобиографий и мемуаров, написанных евреями той
поры, немного [86], живописной документации почти вовсе нет,
а миниатюр в рукописях и иллюстраций в печатных книгах нич-
тожное количество. Но и из них можно кое-что извлечь. Подобно
тому, что мы наблюдали выше, рассматривая книгу как предмет,
изображения процесса чтения также отражают, хотя и слабо,
эволюцию отношения к книге, связанную с социально-эконо-
мическими переменами, отмечающими переход от Средневе-
ковья к Новому времени. На них можно увидеть постепенно рас-
ширяющееся распространение книги, особенно среди женщин,
соответствующее растущей роли личности при переходе от сред-
невекового общества к буржуазному обществу последующих
эпох. Рассмотрим некоторые из наиболее заметных примеров.
Считается, что испанский обычай читать Агаду на Пасху в си-
нагоге подтверждается испанской миниатюрой XIV в. [87]. С ин-
тересующей нас точки зрения в этой миниатюре можно видеть
стереотипы средневековых представлений о социальном смысле
грамотности, таких, как установление связи между читателем, со-
вершающим службу, и слушателями, неспособными прочесть
богослужебный текст, а также духовных отношений между вер-
хом и низом, на значении которого излишне останавливать-
ся [88]. Однако мы должны признать, что такое толкование кар-
тинки, как бы оно ни было соблазнительно и общепринято, ка-
жется, представляет некоторые трудности: с одной стороны, со-
218
РОБЕР БОНФИЙ
провожающая ее легенда говорит не о синагоге и собравшейся
публике, слушающей раввина, а о главе семьи с домочадцами,
следовательно, находящихся у себя дома; с другой стороны, слу-
шатели держат в руках книги, а это заставляет думать, что они
умеют читать. Один из слушателей — мужчина с длинной боро-
дой, а другой, по всей видимости, еще ребенок: он гораздо
меньше остальных, одет в красное, которого взрослые не носят,
и помещен между мужчинами и женщинами, ни у одной из ко-
торых книги в руках нет. Последнее соображение подводит нас
к сближению этой миниатюры с некоторыми другими того же
типа, которые можно без всякой натяжки понимать как отра-
жение более широкого распространения книги, способности ши-
рокой публики, без различия пола, читать, следовательно, видеть
в ней еще робкую попытку заменить оппозицию грамотные/не-
грамотные на оппозицию мужчины/женщины. На одной ис-
панской миниатюре, датируемой 1350—1360-ми гг. [89], только
часть сотрапезников, совершающих обряд агады, держат перед
собой книги, причем не видно разницы между мужчинами и
женщинами, зато те, кто сидят с книгами, и те, кто без них четко
отделены, а среди вторых есть мужчина с длинной бородой. То
же находим на миниатюре из германского ареала, датируемой,
вероятно, 1450-ми гг. [90]: книга лишь у части сотрапезников,
невозможно отличить мужчин от женщин, но здесь нет и про-
странственного разделения на читающих и неграмотных. На изо-
бражении же интерьера итальянской синагоги, которое можно
датировать 1460—1475 гг. [91], все молящиеся держат перед собой
молитвенник [92]. Наконец, на двух изображениях обряда агады
из Рейнской области, относимых ко второй четверти XV в. [93],
все присутствующие без различия пола представлены с молит-
венниками в руках.
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЧТЕНИЯ
Явления распространения народных языков и превращения
древнееврейского языка в сакральный частично подтверждаются
изучением текстов, находившихся в личном владении. Это осо-
бенно характерно для Италии, где в распоряжении исследовате-
лей сохранилось много документов. Есть даже случай, когда мы
ГЛАВА 6
219
располагаем всеми перечнями книг, которыми обладали члены
целой общины: это Мантуя конца XVI — начала XVII в. [94]. Речь
идет о списках, переданных служителям инквизиции, желавшим
убедиться, что евреи не держат запрещенных книг. Хотя оче-
видно, что из них нельзя делать выводов, что тех или иных книг
в библиотеках не было (особенно если были резоны полагать,
что их сочтут подозрительными), мы, бесспорно, можем расс-
матривать некоторые статистические выводы из этих перечней
как показательные. Особенно красноречивыми представляются
два. Прежде всего, почти все книги относились к литературе ре-
лигиозного характера: Библии, библейские комментарии, сбор-
ники норм, молитвенники и т. д. Это были произведения на
древнееврейском языке, следовательно, замкнутые в своем
исконном пространстве. Во-вторых, заглавий книг светского ха-
рактера в списках мало, причем всегда в древнееврейских вер-
сиях и переводах. Книг на итальянском языке очень мало, но они
начинают появляться, что существенно, поскольку это означает
начало радикальных перемен, которые, как мы видели, совер-
шились на протяжении нескольких поколений; их интерпрета-
ция — предмет другой нашей работы [95]. Впрочем, вполне ло-
гично думать, что анализ списков книг евреев Мантуи выявляет
и тенденцию превращения оппозиции языков в оппозицию
между сакральным и светским, и замещение отделения сакраль-
ного пространства от светского путем проведения границы между
религиозным пространством и мирским, причем еврейской ре-
лигиозности приписывается некая замкнутость.
Если наш вывод верен, это явление следует считать допол-
няющим уже отмеченную нами замену оппозиции грамот-
ные/неграмотные на оппозицию мужчины/женщины. Но и эта
перемена должна быть соотнесена с аналогичным разделением
между религиозным и светским пространством в социальном
поведении христиан веком ранее, что поощряет нас уточнить
отношения между мужским и женским началом [96]. При ны-
нешнем состоянии наших знаний речь идет скорее о впечатле-
ниях и путях поиска, чем о конкретных результатах выполнен-
ных работ. Однако кажется, что уже ясна относительно новая и
преимущественно западная [97] ассоциация замкнутого по своей
сути еврейского сакрального пространства с идеализированным
образом еврейской женщины, надзирающей за этим простран-
220
РОБЕР БОНФИЙ
ством, домашней жрицы [98], и внешнего, мирского и светского
пространства с не менее идеализированным образом мужчины —
еврея, подверженного всевозможным опасностям при контакте с
внешним миром. «Ментальный инструментарий» евреев здесь
оказывается аналогичен инструментарию представителей христи-
анской церкви во время острой фазы современного процесса осво-
бождения от церковного влияния [98]. И действительно, по на-
шему разумению, именно с этим надо связывать соображения, вы-
сказанные насчет различия полов в изображениях процесса чте-
ния христиан в Новое время [100]. Но есть и разница: отношение
идей силы и слабости, прямо связанное с половыми различиями,
в еврейском обществе приобретает особую окраску, более двус-
мысленную, поскольку приписывает «слабой» женщине, замкну-
той в охраняемом домашнем пространстве, защиту ценностей ре-
лигии и морали, а значит — защиту всей еврейской идентично-
сти вообще! Иными словами, перед нами вновь парадоксальное
схождение двух «слабостей» — еврейской и женской, — которые
выявляют себя как сила сопротивления.
С точки зрения практики чтения, это раздвоение означает, в
конечном счете, фундаментальную ассоциацию Средневековья
с замкнутым внутренним пространством — конкретный сим-
птом более глобальной связи между Средними веками и специ-
фической еврейской культурой Нового времени [101]. Этот пункт
связывает иудаизм Западной Европы с иудаизмом Восточной
Европы, где характерные средневековые черты сохранились во
всем благодаря преемственности, обусловленной особым путем
социально-экономического и культурного развития.
УСТНОЕ И ПИСЬМЕННОЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСРЕДНИЧЕСТВА
Своеобразная «средневековость», наблюдаемая в Италии, не
только сохраняется, но и усиливается за Альпами. Недавнее ис-
следование изданий Библии на идиш ясно показывает, как глу-
боко уже в XIX в. начальное образование было основано на ме-
ханическом чтении древнееврейской Библии в сопровождении
переводов на идиш, которые на деле были пересказами и истол-
кованиями, полными поучительных мотивов, взятых из легенд
и фольклора. Можно отождествить некоторые фазы все расту-
ГЛАВА 6
221
щего отхода от устности и деволюции к письменности, т. е. к пе-
чатному тексту, этого комплекса переводов-преданий с распро-
странением «калькированных» версий на народном языке, ко-
торые почти невозможно понять, не обращаясь к древнееврей-
скому тексту, к которому они на деле служат глоссами. Тогда ста-
новится понятно все более глубокое неприятие этой ситуации
образованными людьми, что в конце концов привело к полному
отказу от этого жанра и к «революционному» делу Мендельсона
с его кружком [102]. Когда рассматриваешь «завоевательскую»
фазу посредничества между темным библейским текстом и си-
стемой внятных культурных референций (teitch, hibber, zusatz),
создается впечатление, что перед взором вновь проходят этапы
победоносного становления библейской экзегезы у христиан-
ских и еврейских ученых XII в. (sensus, littera, sententia) [103]. На
самом деле в культурном ареале, более или менее грубо соо-
тветствовавшем употреблению идиш, устойчивость средневеко-
вых черт выражена еще ярче, чем можно подумать, исходя из
этой случайной феноменологической аналогии. Меру этой
устойчивости можно ясно ощутить, знакомясь с дневником Глю-
кель из Гамельна (1646—1724) — женщины, умевшей читать и
писать; этот текст, конечно, следует признать не редким, но уни-
кальным [104]. Тщательное изучение дневника позволяет прийти
к выводу, не оставляющему ни малейших сомнений, что Глю-
кель читала только на идиш, преимущественно нравственные и
воспитательные сочинения. Очевидно, что она не читала древ-
нееврейского текста Библии, потому что не могла, а значит,
знала библейские рассказы лишь благодаря текстам устной ли-
тературы (например, проповедям в синагоге) и тех книг, кото-
рые была в состоянии прочесть. В ее случае посредничество осу-
ществлялось без какого-либо контакта с текстом Пятикнижия на
народном языке указанного выше типа: она, как женщина, не
получила начального образования, предусмотренного для муж-
чин, которым и адресовались эти переводы. Она не читала даже
«калек» переводов Библии: всякий раз, цитируя библейский рас-
сказ, она ошибается, допуская неточности, типичные при уст-
ной передаче (сжатие во времени, путаница одноименных пер-
сонажей и т. п.). Весьма любопытно видеть, как она то и дело
цепляет к библейскому или талмудическому тексту истории, вы-
читанные неизвестно где, а скорее, как можно себе представить,
222
РОБЕР БОНФИЙ
выученные наизусть или переписанные из книги, лежавшей
перед ней, или записанные под диктовку человека, переводив-
шего их с древнееврейского. Устное и письменное у Глюкель
смешиваются таким образом, что трудно даже сказать, что важ-
нее. Нравоучительные сочинения, составлявшие большую часть
ее чтения, ежеминутно обнаруживают себя в выборе слов, обо-
ротах речи, весьма искусственных клише и фразеологизмах, ко-
торые она использует, впрочем, вполне сознавая, что говорит,
«как в книгах пишут», что это ей не нравится и за это она про-
сит прощения. И здесь разница между мужским и женским миром
не так ясна: несмотря на очевидный культурный разрыв между
этой женщиной и образованными мужчинами (а также не менее
очевидный разрыв в культурной компетентности, требуемой от
мужчин и не признаваемой для женщин), на практике нет осо-
бой разницы между Глюкель и очень многими евреями мужского
пола; она стоит даже выше их в культурном развитии [105].
В культурном феномене, который представляли Глюкель и ей
подобные, устойчивость средневековых черт проявляется, таким
образом, вполне конкретно: заучивание наизусть как фундамен-
тальная составляющая получения знания, стереотипность плана
выражения, сложная диалектика письменного и устного [106].
РАЗДВОЕНИЕ ПОЛЯ ЧТЕНИЯ
Актуальные ныне вопросы, читали книги вслух или про себя,
поодиночке или собравшись у очага [107], переходили ли чита-
тели от интенсивного и весьма заинтересованного чтения к более
экстенсивному и «равнодушному» [108], для евреев сложнее, чем
для их соседей-христиан. Сложнее, прежде всего, потому, что в
еврейском мире существует внутреннее противоречие, состоящее
в растущей дифференциации публичной и частной сфер через
раздвоение поля чтения. В самом деле у евреев нельзя припи-
сать «светское» чтение сфере частного с соответствующим са-
молюбованием при углубленном чтении (в этом некоторые даже
пытались видеть игровой элемент) [109], которое развивалось
параллельно растущему обуржуазиванию общества, распростра-
нению на Западе идеи чтения как самоценного, поиска в нем
удовольствия, в то время как раньше оно было направлено на
ГЛАВА 6
223
духовное воспитание или, по крайней мере, на образование, бла-
гочестивые размышления и молитву. Средневековый компонент,
присущий еврейству, неотъемлемый от их внутреннего культур-
ного пространства, определяющий их обособленность, замед-
лил, а иногда даже свел на нет тенденции Нового времени в этой
области. Иначе говоря, раздвоение поля чтения у евреев оказы-
вается фундаментальной структурной характеристикой.
Таким образом, к внутреннему пространству в принципе не
принадлежат тексты классической литературы, исторические и
географические сочинения, появившиеся на древнееврейском
языке не ранее XIV в. Не принадлежит к нему, разумеется, и чте-
ние романов, развлекательных сочинений, газет и других пе-
риодических изданий, посвященных текущим событиям, объяв-
лений — всех типов текстов, которые прежде у евреев не суще-
ствовали. Все они относятся к внешнему, светскому простран-
ству. В некоторых ортодоксальных кругах они и сегодня
считаются запретными. К внутреннему пространству не при-
надлежит и широкое производство книг с проистекающей из
него десакрализацией [110]. В некотором смысле такая характе-
ристика внутреннего пространства противоречит «женскому» на-
чалу как предпочтению интроспекции. Но, по нашему разуме-
нию, то же самое было и у христиан, где также отмечают разде-
ление на домашнее, сакральное пространство, связанное с жен-
щиной, и внешнее, мирское, связанное с мужчиной [111].
Возможно, следует задаться вопросом о роли женщины как по-
средника между двумя пространствами; на эту роль есть много
указаний, но она пока недостаточно изучена [112]. Углубленное
исследование также позволит пролить свет на особенности про-
возглашения женского посредничества в Восточной Европе (где,
как мы видели, устойчивость средневековых черт была, можно
сказать, органична) и в Западной Европе, где ситуация была сов-
сем иной.
Таким образом, «средневековье в современности» делает внут-
реннее пространство пространством сакральным, более изоли-
рованным от внешнего мира, чем в Средние века, превращая вся-
кое чтение, так сказать, в ритуальный, коллективный способ
обучения: чтение нараспев текста Талмуда, семейное чтение
(особенно в рамках ритуальных трапез) Библии и классических
комментаторов священного текста, публичное чтение в сина-
224
РОБЕР БОНФИЙ
гоге текстов по религиозному воспитанию. И, стало быть, вновь
и вновь делается упор на устное посредничество между древне-
еврейским текстом, который остается авторитетным, но мало по-
нятным, и слушателями. Поскольку небольшое число особо почи-
таемых текстов бесконечно повторяется, многие из них остаются
в памяти. Особо символичный аспект этого процесса — чрезвы-
чайное распространение так называемых «Гок-ле-Исраэл»
(Hok-le-Israel) («Законы», но также и «дневной паек» Израи-
ля) — своего рода смесь классических комментариев, избранных
отрывков из Мишны, Талмуда и постталмудической литературы,
подобранных с тем, чтобы сопровождать еженедельное чтение
Торы и разделенных на недельные разделы, которые следует
ежедневно «читать», чтобы исполнять дома религиозный долг
каждодневного «учения» [113]. Столь же символичным нам ка-
жется и успех, продолжавшийся до довольно позднего времени,
учебников по искусству запоминания вроде «Лев Арье» Леона
Модены (первое издание в Венеции в 1612 г.) [114]. Все это —
результат четкого разделения, даже разрыва между сакральным
и светским в Новое время. Два пространства, которые в пред-
шествующую эпоху понимались как неразрывно связанные, те-
перь воспринимаются в противопоставлении, чреватом отчуж-
дением — характерным отчуждением современного еврея.
Энтони Графтон ГЛАВА 7
ГУМАНИСТ ЗА ЧТЕНИЕМ
10 декабря 1513 г. Макиавелли написал письмо своему другу
Франческо Вентури. Годом раньше пало правительство Пьеро
Содерини, Медичи вернули себе контроль над Флоренцией,
и Макиавелли потерял все самое для себя дорогое. Он пытался
создать гражданское ополчение, но войско рассеялось; гор-
дился тем, что был членом правительства, но был уволен. Его
заподозрили в заговоре, заключили в тюрьму, пытали и, нако-
нец, выслали в поместье под Флоренцией. Там он тосковал
по хоть какой-нибудь политической деятельности, сплетни-
чал и ругался с соседями, читал. Подробности его жизни, рас-
сказанные в письме к Вентури, незабываемы в своей подлин-
ности:
«Выйдя из леса, я иду к источнику, а оттуда в свой птичник. Под мыш-
кой я несу книгу: иногда Данте или Петрарку, иногда кого-нибудь из
малых поэтов, к примеру, Тибулла, Овидия и прочих. Погружаюсь в
чтение их любовных песен, и их любовь напоминает мне о моей;
этими мыслями я развлекаюсь в добрую минуту. Затем иду в придо-
рожную харчевню, беседую там с проходящими, расспрашиваю про
вести из их мест, о многом догадываюсь, наблюдаю разницу вкусов
и многообразие людских прихотей. [...] Наступает вечер, я возвра-
щаюсь домой. Прохожу в свой кабинет и прямо на пороге сбрасываю
повседневную ветошь, покрытую грязью и пылью, и надеваю одея-
ние царского и первосвященнического дворца; так, одевшись до-
стойно, я иду в древние дворцы людей древности. Там, любезно при-
нятый хозяевами, я питаюсь той пищей, которую люблю и для кото-
рой рожден. Там не стыдишься говорить с ними, расспрашивать о дви-
жущих причинах их поступков, и они, по человечности своей,
отвечают мне. Так за четыре часа я не чувствую ни малейшей скуки,
226
ЭНТОНИ ГРАФТОН
забываю все мои горести, перестаю бояться бедности, да и самая
смерть не страшит уже меня»[1].
Историки часто ссылались на это письмо, поскольку в нем
содержится рассказ о сочинении «Государь» — самого известного
произведения автора. Но его почти не использовали как исто-
рический документ о чтении, что жалко, ибо оно лучше любых
других выявляет историческое и физическое разнообразие тех
книг, которые читали гуманисты эпохи Возрождения, а также
неодинаковые эмоциональные отношения, с которыми подхо-
дили к этим книгам.
КНИГИ ДЛЯ БЕЗДЕЛЬЯ И КНИГИ БОЕВЫЕ
Макиавелли пишет, что читает книги двух типов. То, что он гово-
рит про первый, не оставляет никакого сомнения насчет их внеш-
него и текстового характера. То были небольшие издания класси-
ков ин-октаво, на латыни или на итальянском языке, которые в
предыдущем десятилетии начал выпускать в свет Альд Мануций.
Эти книжки, напечатанные скорописью, которая позволяла вог-
нать полные тексты в несколько сот страниц малого формата, вы-
звали восторг клиентов Мануция, а его конкурентов в Лионе и дру-
гих местах побудили воздать ему высшую почесть — воспроизве-
дение таких же [2]. Тексты сопровождались предисловием, иногда
парой иллюстраций, но не имели комментариев. Ясно, что Ма-
киавелли использовал их самым простым образом — так, как мы
теперь поступаем с текстами не столь классическими, но издан-
ными в столь же удобном формате, которые можно читать летом
на пляже: это удобное средство выкинуть из головы всяческие
проблемы. Такое чтение возбуждало в нем не мысль, а фантазию,
это было занятие от безделья для забытья.
Книги и чтение другого сорта Макиавелли описывает алле-
горически. Их авторы (и персонажи) под его пером становятся
великими людьми, которые удостаивают его беседы в его каби-
нете, и он не останавливается на столь малозначительных под-
робностях, как их имена. «Государь» и другие тексты позволяют
нам установить, каких выдающихся римских государственных
деятелей и полководцев Макиавелли считал главными образ-
ГЛАВА 7
227
цами практической мудрости для времени, в котором жил он.
Это Цицерон, возможно, некоторые другие философы, но в пер-
вую очередь такие историки, как Плутарх, Тит Ливий, Тацит.
Ясно, что Макиавелли читал их не в малоформатных изданиях
Мануция, а в больших ин-кварто и фолиантах, которыми были
уставлены полки рабочего кабинета ученого Возрождения. Как
показывает аллегория, он подходил к ним совсем с другим духом,
нежели к любовной поэзии, которую читал у источника. Он
искал у них не развлечения, а наставления. Он задавал им кон-
кретные вопросы и ожидал недвусмысленных ответов. Этим он
занимался ответственно и с ясной головой, интересуясь не эфир-
ными сновидениями эротизма, а государственной деятельно-
стью, на что указывает аллегория придворной беседы.
Таковы два типа античных текстов и два способа чтения: один
мы тотчас же узнаем, другой кажется весьма далеким от нас. Мы
можем представить себе, что авторов древности читали ради бег-
ства от проблем современной жизни и возбуждения любовных
чувств, но нам, по-видимому, гораздо труднее понять, что у них
можно было искать наставления, как вывести государство из
кризиса, чем объяснить военные и политические неудачи. Между
тем, для Макиавелли оба рода чтения не создавали никаких за-
труднений; мы видим, что он превосходно умел выбирать и си-
стему истолкования, и текст, к которому ее следовало приложить.
Значит, нам надо поместить его подход в более широкий кон-
текст. Какие еще возможности существовали в практике чтения
гуманистов, кроме этих двух? Был ли выбор текстов и методик,
сделанный Макиавелли, типичен для всей эпохи?
ТЕКСТ БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВА
В 1930—1970-е гг. крупнейшие европейские историки, в первом
ряду которых стоят Эрвин Панофски, Ганс Барон и Эудженио
Гарен, пришли к выводу, что гуманисты внесли глубокие пере-
мены в практику чтения, причем придерживаясь одного на-
правления [3]. Ученые Средних веков, объясняют они, читали
одинаковым образом канонические авторитетные тексты: Ари-
стотеля и его комментаторов, важнейшие тексты по праву, ме-
дицине и богословию, Вульгату, «Метаморфозы» Овидия и «Уте-
228
ЭНТОНИ ГРАФТОН
шение философией» Боэция. Хотя то были книги разного проис-
хождения и содержания, средневековые читатели считали, что
они составляют единую систему. Их официальные толкователи
видели в них основу системы мысли и образования, известной
под названием «схоластика». В связи с этим они трактовали эти
тексты не как произведения конкретных людей, каждый из ко-
торых жил в свое время и в своем месте, а просто как безлич-
ный свод доводов. Много десятилетий они сооружали «сложный
готический ансамбль из стен и контрфорсов», предварявший,
окружавший и поддерживавший тексты: предисловия, коммен-
тарии, отдельные трактаты. Этот аппарат в целом смог придать
средневековый облик самым разношерстным древним текстам.
Но на взгляд гуманистов, все предприятие покоилось на фунда-
ментальной ошибке: комментаторы стремились не объяснить
тексты сами по себе, а перенести их содержание в свою эпоху.
Например, там, где «Свод гражданского права» говорит о жре-
цах простых и высших (sacerdotes et de pontifices), комментатор Ак-
курсий думает, что речь идет о священниках и епископах хри-
стианской Церкви, известной ему, и усматривает в древнем тек-
сте основополагающую хартию для современной практики [4].
Иначе говоря, тексты эти читались не потому, что говорили о
древнем мире, а потому, что отвечали современным потребностям.
Обильное окружение, обеспечивавшее их полезность, искажало
их смысл. Весьма густая сеть гипотез и утверждений, воплощен-
ная в системе глосс, связывала их с системой схоластического об-
разования, а не со временем и местом их возникновения.
С самого начала гуманизм был попыткой спасти классиче-
ские произведения, заточенные в «затворенном вертограде» с
остроконечными зубцами на стенах, куда их поместили средне-
вековые комментаторы. Составителей глоссариев обвиняли в том,
что они глубочайшим образом деформировали первоначальный
предмет этих текстов. Петрарка, например, отказался продол-
жать изучение римского права, потому что преподаватели не
могли ему объяснить, откуда происходит это право [5]. Вместе с
другими гуманистами он пытался прямо читать оригинальные
тексты и хвалился, что не знал средневековых комментаторов, —
разве что ради того, чтобы высмеивать их ошибки. Потребность
преодолеть заслон, поставленный средневековым критическим
аппаратом между текстом и читателем был общим местом гума-
ГЛАВА 7
229
мистической полемики до самого XVI в. Муциан Руф насме-
хался над освященным комментарием к «Утешению филосо-
фией» Боэция, который приписывался тогда Фоме Аквинскому,
где Алкивиада превратили в женщину. Эразм потешался над еще
более неосмотрительными догадками средневековых коммента-
торов Библии: «У них деревья становятся четвероногими зве-
рями, а драгоценные камни рыбами» [6].
Стоит разрушить каменные твердыни ложных толкований,
говорили Петрарка и его ученики, когда читатель сможет, нако-
нец, выйти навстречу древним и увидеть их такими, какими они
были на самом деле: не вневременными «авторитетами», при-
способленными к XV в., а людьми, жившими во вполне опреде-
ленное время в определенном месте. В исконном тексте древние
возвращались к жизни во всех красках, в плоти и крови, в ан-
тичных одеждах и классических украшениях, подобные персо-
нажам фресок Мантеньи. Историки долго принимали эту рито-
рику за чистую монету и изображали гуманистов, читающих
классиков «непосредственно», «как они есть», так, будто бы они
видели в текстах античности не составные части будущей си-
стемы идей Нового времени, а возможность общения со слав-
ными предшественниками. И разве не писал Петрарка послания
к древним, изъясняя Вергилию, как он почитает его почти хри-
стианские добродетели, а Цицерону, как возмущает его, что
столь великий оратор погряз в политических смутах? Перепи-
сываться можно только с реальными людьми, а не с книгами.
В действительности, как дает понять пример Макиавелли, у гу-
манистов были разные способы читать произведения Античности.
Тот, кто желал воспринять древнюю поэзию как развлекательное
чтение, мог, подобно Макиавелли, прогуливаться по полям с Ови-
дием в руке. Но тот, кто в этой поэзии видел высочайшую фило-
софию, читал Вергилия ин-фолио у себя в кабинете, в уме разго-
варивая не только с поэтом, но и с дюжиной комментаторов, древ-
них и новых, дотошно отмечавших аллегории, нравоучения и исто-
рические факты. Иероним Мюнцер, который курьезным образом
из всех возможных текстов выбрал для чтения на досуге «Герме-
тический корпус» {Corpus hermeticum), написал на своем экзем-
пляре: «Читаю его и перечитываю, и утоляю свою жажду сладчай-
шим чтением». Но то же сочинение приводило в ярость Исаака
Казобона, не давая ему никакого отдохновения, а, напротив, воз-
230
ЭНТОНИ ГРАФТОН
буждая яростный филологический надрыв; он изучал его фраза за
фразой, чтобы доказать, что этот текст наверняка поддельный [7].
Вот два читателя, которые, как и Макиавелли, избрали свой осо-
бый физический и умственный подход к тексту. Любой историче-
ский анализ такого сложного, протеического процесса, как чте-
ние, должен устоять перед сладкоголосыми соблазнами больших
теорий, перед искушением различить резкие черты перемен, дол-
жен наперед принять возможности парадоксов и противоречий.
КЛАССИЦИЗМ И КЛАССИКИ: ТЕКСТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
Как мы видели, Макиавелли говорил не только о текстах, но и
об обращении с книгами — особыми предметами, подчиняю-
щимися принятым условностям формата и оформления, кото-
рыми пользуются при вполне определенных обстоятельствах.
Начиная с 1960-х гг. ученые много интересовались физической
и эстетической эволюцией книги в начале Нового времени и
установили, что в эту эпоху были востребованы, производились
и потреблялись как новые категории книг, так и новые типы тек-
стов, ибо гуманистам было что сказать не только против содер-
жания схоластических книг, но и против их внешнего вида.
Мастерски отделанные (авторитетные) тексты (auctoritates) сред-
невекового ученого производились специалистами — либрариями
университетских городов. Книгу делили на «пеции» — тетрадки,
служившие источниками важнейших текстов, так что писцы могли
брать эти тетрадки напрокат одну за другой, быстро и единооб-
разно переписывая их. Текст писался в две колонки угловатым го-
тическим письмом. Он занимал сравнительно небольшое место
в центре большой страницы, поскольку был окружен густой по-
рослью утвержденных комментариев, написанных более мелким
и трудночитаемым почерком; эти комментарии составляли массу
средневековых глосс, которые гуманисты отвергали в принципе.
Такие книги всем своим видом оскорбляли эрудитов Возрожде-
ния, которые считали, что в них и зрительно, и интеллектуально
искажается содержание [8].
Прежде всего, в готическом письме гуманисты тотчас усма-
тривали осязаемый знак готического невежества: оно было урод-
ливым, глупым, непонятным. Петрарка терпеть не мог «эти
ГЛАВА 7
231
сплюснутые буковки», которые «сам писец не мог бы разобрать,
а читатель и вовсе покупает не одну книгу, а вместе с книгой
еще и слепоту» [9]. Более изысканные почерки он отвергал, как
«приятные издали, но вблизи невнятные и утомительные, ибо
они предназначены не для чтения, а для чего-то другого»; он го-
ворил, что желал бы видеть «четкий, ясный и приятный для глаза
книжный почерк». Поэтому его ученики и последователи стара-
лись заменить общепринятый почерк другим, более приспособ-
ленным для чтения. В начале XV в. Колуччо Салютати и Поджо
Браччолини разработали новый круглый минускул, очень изящ-
ный, который считали более классическим, чем готику своего
времени. Ученые и художники, особенно Альберти и Мантенья,
вдохновляясь римскими надписями, рисовали симметричные
прописные буквы грандиозного стиля. Другие, особенно эрудит
Никколо Никколи и писец Бартоломео Санвито доводили до
совершенства изящнейший курсив. Его можно было применять
не только в книге, но и, например, для записей в записной
книжке; он позволял уместить больше текста на меньшем про-
странстве, чем прямой и сухой гуманистический почерк. Новые
виды почерка постепенно изучались другими учеными и, не без
труда, профессиональными переписчиками (Поджо называл их
faex mundi — «отбросы мира») [10]. В конце концов, они приняли
каноническую книжную форму и были приняты по всей Европе.
Изготовление гуманистических рукописей приспосабливалось
к разнообразию спроса. Большие, роскошно иллюминированные
фолианты предназначались для знакомства защитников гумани-
стов с последними достижениями филологических разысканий;
часто в начальной буквице или на особом титульном листе с рам-
кой из архитектурных мотивов изображалось, как эти защитники
принимают изъявления признательности автора или издателя, а с
ними и саму книгу. Но были и не такие большие книги, где текст
занимал всю страницу и между автором и читателем не вставал ни-
какой комментарий; такие составляли основу гуманистических
книжных собраний. Некоторым выдающимся личностям удава-
лось иметь до нескольких сот рукописей нового стиля [11].
Частные и публичные библиотеки, от «кабинетика» (studiolo)
Федерико да Монтефельтро в Урбино до Ватиканской библио-
теки, сформировавшейся при Николае V и Сиксте IV, также из-
менились весьма примечательным образом. На смену темным ком-
232
ЭНТОНИ ГРАФТОН
натам и прикованным книгам старого образца пришли большие
хорошо освещенные залы, окруженные изящными комнатками,
где было легче заниматься учеными трудами и беседовать. Два са-
мых важных и последовательных строительных плана XVI в. имели
целью роскошное размещение книжных коллекций: это постройка
«Старой библиотеки» (Libreria vecchia) на Пьяццетте в Венеции и
реконструкция Ватиканской библиотеки Сикстом V [12]. Столь же
роскошным, хотя и не столь долговечным, был флорентийский сад,
где Бернардо Руччелаи собирал друзей для разговоров о древней
истории и риторике; там стояли бюсты античных авторов и цвели
все цветы, упоминавшиеся в классических текстах.
Иногда встреча читателей с новыми текстами происходила в
совершенно необычных для старых навыков чтения местах —
еще более необычных, чем источник Макиавелли. Петрарка ни-
когда не был столь близок Новому времени, как в своем знаме-
нитом письме о восхождении на гору Венту, куда он принес кар-
манный экземпляр Августина и на вершине зачитывал отрывки
из него. Государи XV в. любили отмечать, какую большую роль
играли в их жизни книги и чтение: Альфонс Арагонский при-
глашал гуманистов к своему двору для ore del libro — публичных
литературных поединков, на которых спорили, кто лучше объяс-
нит и исправит темные места из Тита Ливия [13]. Федерико да
Монтефельтро любил, чтобы его изображали с книгой в руке. На
одном из портретов, приписываемом Йосту Гентскому, он сидит
рядом с сыном и держит роскошный фолиант. На другом, кото-
рый приписывают Карневале, из великолепного манускрипта
«Камальдульских диспутов» Ландино, он держит небольшую
книгу, повернув лицо в сторону одного из придворных. В обоих
случаях подчеркнутая любовь к словесности помогала узнать
изображенного столь же точно, как его знаменитый профиль
хищной птицы [14]. У Федерико страсть к новым книгам иногда
затмевала все остальные соображения; он признавался Донато
Аччайуоли, что задержал гонца, чтобы иметь возможность, не
отрываясь, прочесть его новый комментарий к «Политике» Ари-
стотеля [15]. При новых дворах Ренессанса читать хорошие книги
было так же необходимо, как приглашать хороших архитекторов
и одеваться по последней моде.
Когда рукописи стали постепенно вытесняться печатными
книгами, ученая Европа открыла новые книги и новые способы
ГЛАВА 7
233
чтения. Образованные печатники применяли литеры, воспроиз-
водившие почерк писцов и художников иногда до мельчайших де-
талей. В первых же напечатанных классических текстах (Швей-
нгеймом и Паннарцем в Субиако, (близ Рима) и Кобергером в
Нюрнберге) уже используются литеры гуманистического письма
(16]. Альдовские издания ин-октаво, появившиеся в 1501 г., в точ-
ности воспроизводят гуманистический курсив (иногда его отож-
дествляют с курсивом Санвито) [17]. Как показал Э. П. Голь-
шмидт, само собой разумелось, что классики должны быть пред-
ставлены в классическом стиле. Даже когда типографы и иллю-
минаторы не имели достаточно технических средств, чтобы на-
рисовать миниатюры или напечатать заглавие в соответствии с
исторической правдой, они старались сделать все возможное. Мо-
лодой Дюрер, например, в издании Теренция, вышедшем в Страс-
бурге, попытался изобразить римский театр, но актеры у него
вышли больше, чем надо, а зрительские места — меньше, по-
скольку он работал с наброска, не передававшего масштаба [18].
Печатная книга была в состоянии завоевать гораздо больше
мест и областей деятельности, чем замененная ею рукопись.
Один из первых клиентов Альда Мануция Сигизмунд Турзо в
1501 г. писал ему из Будапешта, что новые альдовские издания
ин-октаво, столь удобные в обращении, вернули ему вкус если
не к жизни, то к литературе:
«Поскольку мои многообразные занятия совсем не оставляли мне
досуга для чтения поэтов и ораторов дома, ваши книги, столь удоб-
ные в обращении, я могу читать и на ходу, а в некотором роде даже
при исполнении своей придворной роли, каждый раз, как только
представится возможность, доставили мне величайшее удоволь-
ствие» [19].
Новая книга, строгая и элегантная, портативная и удобная,
стала нормой, и кажется, что различные способы употребления
книги, о которых говорит Макиавелли, были типичны для его
среды. Оставался только шаг от его чтения эротических поэтов
на лоне природы к времяпрепровождению молодых ухажеров,
собиравшихся, как рассказывают придворные из «Рассуждений»
Аретино, под окнами у молодой дамы, к примеру, с Петраркой
в руках. Так история книги в какой-то мере подтверждает, что
234
ЭНТОНИ ГРАФТОН
гуманисты Возрождения действительно «встречались» с класси-
ками более непосредственно, чем раньше.
Но в одном важном пункте историки книги не могут принять
оптимизма историков идей. Они показали, что форма изданий,
в которых гуманисты читали классиков — большие или малые
произведения, любовные стихи или римскую историю, — была
отнюдь не классической.
Даже самые чисто гуманистические печатные и рукописные
книги были вовсе не возвратом к чему-либо старому, а изобрете-
нием нового. Они, конечно, включали и подлинно античные эле-
менты, приспособленные к новым целям: выделенные заголовки,
предисловия и указатели, но видно также, как авторы и перепис-
чики воскрешали и средневековые техники, даже вышедшие из
моды. Письмо, которое они применяли для книг, подражало не
какому-либо античному почерку, поскольку классического минус-
кула, который мог бы послужить образцом, не существовало, а ми-
нускулу каролингских рукописей, весьма строгому по форме, но
совершенно не классическому по истокам. Чтобы сделать книгу
привлекательнее, они прибегали к таким средневековым формам
и веяниям, как италийский курсив, красочный растительный ор-
намент, часто встречающийся на первых страницах. Несомненно,
писцы и иллюминаторы создавали тексты, которые и читателям
казались классическими, но, как обычно бывает, они смешивали
эстетические постулаты своей эпохи с подлинно античными об-
разцами и техниками. В крайней своей форме гуманистическая
книга была результатом сложного, кропотливого компромисса
между разными требованиями. Книгопродавцам, писцам, печат-
никам, художникам, ученым — всем было здесь что сказать, а от-
части еще использовавшиеся средневековые образцы не переста-
вали оказывать неприметное влияние, настраивая перья перепис-
чиков и эрудитов на такие системы пунктуации и аббревиатур, ко-
торые теперь кажутся нам весьма далекими от классики.
Гуманисты продолжали пользоваться многими книгами, в ко-
торых не соблюдались новые строгие рецепты. Петрарка обожал
свой экземпляр Вергилия (Амброзианская библиотека в Ми-
лане), которому поверил дату своей первой встречи с Лаурой и
скорбь от ее кончины. Но, как показал Петруччи, этот толстый
том был на самом деле «новой», т. е. средневековой рукописью
с анахроническими иллюстрациями Симоне Мартини [20]. Эта
ГЛАВА 7
235
вторая форма публикации классических произведений (преиму-
щественно литературных, а не технических текстов, написанных
готикой, часто с иллюстрациями, где персонажи изображены в
средневековых костюмах, которые были предназначены больше
для придворных, чем для ученых) в эпоху Возрождения сохра-
нилась и тогда, когда полностью отказались от средневековых
auctoritates. Некоторые пуристы из флорентийских гуманистов не
одобряли иллюстраций, но придворные Милана и других горо-
дов Северной Италии любили, чтобы в их книгах по древней
истории, хотя бы и «классических» по содержанию, по-прежнему
выделялись большие иллюминованные инициалы средневеко-
вого романского стиля. Широко известен североитальянский эк-
земпляр Плутарха (Британская библиотека), в котором Антоний
нарисован в рыцарских латах, Сертория убивают на фоне ковра,
изображающего средневековый пир, а Пирр находит смерть
перед стенами и башнями итальянского города [21].
Так в самом сердце той страны, откуда пошел ренессансный
классицизм, средневековые обычаи сосуществовали с новыми,
желание приспособить античность к вкусам своего времени со-
четалось со стремлением увидеть ее такой, какой она была.
В 1481 г., сообщает Петруччи, классическое оформление соеди-
нялось с классическим содержанием в рукописи Эзопа, испол-
ненной Кристофоро Майораном для арагонского двора: инвен-
тарная запись говорит об иллюстрации на первой странице, изо-
бражающей «древнего человека (очевидно, самого Эзопа) в древ-
ней одежде» [22]. Значит, читатель такой книги заранее знал, что
он приступает к общению с древним автором. Но у того, кто рас-
крывал книгу Эзопа с иллюстрациями флорентийца Герардо ди
Джованни того же времени (Нью-Йоркская публичная библио-
тека), создавалось совершенно противоположное впечатление:
перед ним был Эзоп в современном (вельможном) наряде. Что
касается персонажей баснописца, как людей, так и животных,
они одеты в современные по тем временам костюмы, гуляют по
тосканским пейзажам, толпятся во флорентийских лавках и ком-
натах, охотятся в поле близ города, над которым высится купол
собора Санта-Мария-дель-Фьори. Можно даже видеть, как раз-
бойник точит ножи на современном точильном круге. Только на
богах есть налет античности: они обнажены, весьма белотелы и
имеют свои традиционные атрибуты, однако являются посреди
236
ЭНТОНИ ГРАФТОН
тосканских жителей и беседуют с ними. Результат, столь же ана-
хроничный, сколь приятный для глаза, был примечательным и
соблазнительным изображением древнего мира, плавно перете-
кающего в современность, но классическим его назвать нельзя
[23]. Так что не стоит удивляться, что классические орнамен-
тальные мотивы в некоторых книгоиздательских традициях да-
леко не всегда могли вытеснить средневековые [24].
Даже самые гуманистические книги говорят нам не столько
об античности, сколько о ренессансных канонах вкуса и эле-
гантности. Многие итальянские издатели произвольно сочетали
средневековые традиции с ренессансными, гуманистические с
римскими. За пределами же Италии, от Дижона до Кракова, где
средневековые и ренессансные, латинские и народные традиции
сливались, подобно течениям разной температуры в океане, об-
разовывались самые непредсказуемые водовороты. И в письме,
и в печатном тексте проявлялось смешение литер классических
и современных, единых для разных стран и местных. Показа-
тельные примеры — роскошные издательские опыты Дюрера для
Максимилиана I: иероглифические «Врата славы» (Ehrenpforte),
«Белый царь» (Weisskunig), «Благодарение» (Theuerdank) и неза-
конченная «Золотая книга» (Livre d’or) [25].
Словом, издатели вели себя как интерпретаторы реалий Древ-
него мира, который ими воссоздавался в форме, казавшейся им
и последовательной, и приятной. Мы не хотим преуменьшить
важность их труда: напротив, они совершили настоящую эсте-
тическую революцию в подходе к текстам и их представлении
[26]. Но они давали читателю вымышленный потерянный рай,
а не историческое воспроизведение исчезнувшего мира. Оба спо-
соба подхода к классикам мы находим у Макиавелли: чтение
сборников любовных стихов в осьмушку и описаний подвигов
античных героев в строгих фолиантах; чтение на лоне природы,
располагающей к мечтаниям, или в уединении кабинета, скло-
няющем к работе, — отражали экономику и эстетику издатель-
ской практики Возрождения.
Как перейти от разнообразия и единичности индивидуальных
опытов к норме чтения, принятой в гуманистическую эпоху?
Как установить, что в книжном мире действительно изменилось,
а что осталось стабильным? Необходим широкий спектр иссле-
дований. Нам следует изучить вкусы и навыки посредников —
ГЛАВА 7
237
тех, кто отбирал тексты и определял форму книг, которые могли
бы иметь наибольший успех [27]. Мы должны войти в школь-
ные классы и вслушаться в скучнейшие назидательные речи учи-
телей и бормотание учеников, с трудом пробирающихся через
текст. Только там мы можем выяснить технику, при помощи ко-
торой гуманисты, получив образование, могли подходить к ка-
кому бы то ни было античному или следующему идеалам ан-
тичного искусства тексту. Наконец, нам придется последовать
за некоторыми из гуманистов в их рабочий кабинет и посмотреть
на них за чтением: это единственный способ понять и физиче-
скую форму, которую гуманисты давали самым важным на их
взгляд текстам, и интеллектуальный инструментарий, служив-
ший им, чтобы извлечь из них смысл, не говоря уже о взаимо-
действии того и другого. Хотя плата за вход в театр прошлого
высока, мы можем надеяться на ее возмещение. Можно даже на-
деяться, что мы узнаем нечто новое о рамках, ограничивавших
чтение в ту последнюю эпоху европейской истории, когда ин-
теллектуалы видели в книге главный источник фактов и идей.
ВСТРЕЧА С ПОСРЕДНИКАМИ:
КНИГОПРОДАВЦЫ, ПЕЧАТНИКИ, ЧИТАТЕЛИ
Текст становится книгой не сам по себе. Чтобы нанять и обу-
чить переписчиков, печатников и иллюминаторов, нужны были
предприниматели и купцы. И те, кто определял экономику из-
дания, имели свой голос насчет формата и внешнего оформле-
ния книг, предназначавшихся для гуманистической публики.
Все, что очевидно для печатной книги, имело место и в эпоху
книги рукописной. Покупатели книги также оказывали влияние
на производство, и не только потому, что книгопродавцы ста-
рались производить то, что отвечало их вкусам, но и, как мы уви-
дим, в более глубоком смысле.
Встречаясь с переменами, которые книгопечатание внесло
в книжный мир, историки склонны рассуждать по аналогии с
промышленной революцией XIX в.: на смену ремесленному спо-
собу производства, где каждая книга задумывалась и исполня-
лась для конкретного клиента, приходит индустриальный. Оп-
товая торговля сменила розничную, серийное производство — ре-
2за
ЭНТОНИ ГРАФТОН
месленную технику писцов, и книга стала первым ремесленным
продуктом, глубоко видоизмененным механическими средствами
производства. В руках у читателя уже не его личная вещь, про-
никнутая его теплом, для которой он сам выбирал почерк, ил-
люстрации и переплет, а холодная, безличная продукция, мате-
риальная форма которой уже предопределена кем-то другим. От-
ныне эмоциональный заряд книги как предмета связан с ее ролью
в жизни владельца, с воспоминаниями, которые она в нем про-
буждает, но не с материальным обликом [28]. Иные из совре-
менников, например либрарий Веспасиано да Бистиччи, горько
жаловались на эти новшества, обличали безобразную и эфемер-
ную печатную продукцию, которая казалась им недостойной при-
сутствия в порядочной библиотеке. Другие, как Эразм Роттер-
дамский, относились к ней с энтузиазмом. Как писал Эразм, даже
Птолемей Филадельф не может сравниться с Альдом Мануцием
своими заслугами перед наукой: египетский царь построил одну-
единственную библиотеку, которая потом была разрушена, Альд
же строит «библиотеку без стен», которая может дойти до всех
читателей и пережить любые потрясения. Во всяком случае, оба
лагеря сходились в одном: книгопечатание глубоко переменило
мир чтения, — по крайней мере, так считают историки [29].
Эти общепринятые выводы не учитывают некоторые важные
факты. Как показали Ричард и Мэри Роуз, производители ру-
кописей и торговцы ими (cartolai) играли в эпоху итальянского
Возрождения столь же значительную посредническую роль
между древними авторами и современными читателями, как и
типографы, пришедшие им на смену: именно они решали, в
каком виде большинство читателей могут получить доступ к тек-
сту [30]. В начале XV в. именно они главенствовали в производ-
стве и продаже рукописных книг, а с середины XV в. часто со-
трудничали с печатниками, а то и сами становились печатни-
ками. Как и другие предприниматели конца Средних веков и
раннего Возрождения, они работали с размахом, закупая боль-
шие количества бумаги или пергамента (самая крупная статья
расходов в книжном производстве), нанимая писцов и выбирая
тексты для их работы. Часто они делали сразу несколько экзем-
пляров одного произведения не потому, что у них уже были для
них клиенты, а про запас для продажи в лавке. Конечно, они по-
нятия не имели, каким станет книжный рынок с изобретением
ГЛАВА 7
239
книгопечатания, но во всех отношениях прокладывали путь изда-
телям-печатникам. Производя книги в больших количествах, они
действовали ради прибыли. Они давали рекламу своей продукции
и боролись с конкурентами такими же дикими средствами, как
впоследствии типографы [31]. Но, прежде всего, с помощью своих
служащих и клиентов они работали над канонической формой
книги, благодаря которой книга и могла обрести читателей.
Ричард и Мэри Роуз показали, что производители рукописей
и торговцы ими (cartolai) не только выбирали тексты для пере-
писки, но и предопределяли большинство иллюстраций, кото-
рые накладывали на рукопись печать классицизма. Конечно,
самые роскошные миниатюры выполнялись по частным заказам.
Особенно потрясающие архитектурные фронтисписы ренессанс-
ных рукописей собраны в библиотеке в Урбино и других биб-
лиотеках; на них, в качестве введения в текст, изображены ав-
торы, ученые и их покровители в классических декорациях; ру-
кописи иллюстрировали некоторые из самых одаренных
итальянских художников, в том числе Боттичелли. Но остальные
орнаменты делались серийно: создатели книги «почти конвей-
ерным способом изготовляли так называемые bianchi girari —
фронтисписы, состоявшие из двух-, трех- или четырехсторонних
рамок из незакрашенных, тонко прорисованных виноградных
побегов и, чаще всего, с двумя путги (putti) внизу, держащими
картуш, оставленный незаполненным для герба» [32].
То, что это пространство оставлялось незаполненным, до-
казывает, что этот орнамент изготовлялся одновременно с тек-
стом, который следовал за ним: клиенту оставалось только до-
рисовать после покупки свой герб. Но общее оформление
книги (а также выбор украшений в античном вкусе для важ-
нейших классических текстов) зависело не от клиента, а от
производителя, выпускавшего книгу в свет. Таким образом,
ясно, что типографы, также прибегавшие к подобным орна-
ментам для своей серийной продукции (или оставлявшие, как
делали и cartolai, незаполненные инициалы, чтобы покупатель
нарисовал их по своему вкусу), следовали обычаям предпри-
нимателей рукописных времен. К тому же они пользовались
услугами одних и тех же художников [33].
То, что cartolai сами принимали решения по вопросам вкуса,
подтверждено многими документами, но немногие тексты рас-
240
ЭНТОНИ ГРАФТОН
сказывают о поведении либрариев так ясно, как записки Веспа-
сиано — живой сборник маленьких жизнеописаний, использо-
вавшийся Буркхардом для работы «Культура итальянского Воз-
рождения». Историки книги обычно видят в Веспасиано закоре-
нелого ретрограда, влюбленного в прекрасную индивидуальную
книгу и ненавидящего книгопечатание. Он хвалил библиотеку
Федерико да Монтефельтро в Урбино за то, что она составлена
только из манускриптов:
«В этой библиотеке все книги исключительно красивы, все пи-
саны пером и нет ни одной печатной, ибо он этого постыдился
бы» [34].
Веспасиано вел себя как предприниматель в единственном
знаменитом случае: при создании библиотеки Козимо Медичи,
которую он собрал за 22 месяца благодаря огромному бюджету,
позволившему ему нанять 45 переписчиков.
Чаще всего в нем видят своеобразного Честертона или Бел-
лока Возрождения, неотвязно ностальгирующего по вымыш-
ленному прошлому — благоустроенному граду, тишина в кото-
ром нарушается лишь пением счастливых ремесленников, рабо-
тающих во славу Божию.
Но это представление о личности Веспасиано основано лишь
на малой части его высказываний о книгоиздательском мире. На
самом деле он нарисовал его портрет гораздо более резкими чер-
тами, показывая нам энергичных коммерсантов, действующих
на конкурентном литературном рынке, где царит одержимость
наживой, где регулярно выпускаются справки, отражающие ав-
торскую славу на бирже репутаций. Еще интереснее его настой-
чивое утверждение, что он сам и другие cartolai умели оценивать
успех будущей книги или автора, как это случилось с передел-
кой «Церковной истории» Евсевия и Иеронима Созомено из
Пистои (Eusebe et de Jerome par Sozomene de Pistoia). Написав
огромный труд, Созомено «не позаботился о его переписке». По
счастью, в дело вступил Веспасиано:
«По моему настоянию и поощрению, он дал его мне; книга имела
такой успех, что я продавал ее по всей Италии, в Каталонии, Ис-
пании, Франции, Англии и при римском дворе» [35].
ГЛАВА 7
241
Даже когда господствовала рукописная книга нужен был по-
средник, обладающий чутьем, чтобы сделать самое главное дело
хорошего издателя: найти достойную книгу, сам автор которой
не может определить свою потенциальную публику.
Прежде всего, публикация успешной книги не сводится к вы-
явлению хорошего текста. Как и в наши дни, книга, чтобы явить
всю меру своих достоинств, нуждалась в особой презентации.
Веспасиано рассказывает, как флорентиец Франческо ди Лапа-
чино угадал интерес к очень содержательному, но и очень труд-
ному тексту «Географии» Птолемея, переведенной на латинский
язык в начале XV в., однако остававшейся неизвестной, ибо
«текст не сопровождался картинками». Зато греческая рукопись
Птолемея была большого формата и имела роскошные карты.
Франческо взял на себя труд «сделать картинки своею рукою»,
переменив греческие названия мест на их латинские эквива-
ленты. Так и появилась каноническая форма атласа Птолемея,
имевшая огромный успех: «Отсюда пошли бесчисленные томы,
дошедшие до самой Турции» [36]. Веспасиано понял, что успех
произведения Птолемея связан не столько с наличием латин-
ского перевода, сколько с форматом и роскошью карт. Это важ-
ный факт: лавка Веспасиано и другие сделали их этого атласа
самую известную книгу итальянского Возрождения, как видно
по множеству великолепно сохранившихся экземпляров (ма-
лоинтересных с научной точки зрения). Когда сын-подросток
Федерико да Монтефельтро Гвидо демонстрировал умение об-
ращаться с «Географией» Птолемея, указывая два места на карте
и определяя расстояние между ними, он просто следовал куль-
турной моде, родившейся в лавке cartolaio [37]. Поэтому неуди-
вительно, что издатели-печатники следовали экземпляру Веспа-
сиано, одно за другим выпуская издания, соперничавшие с ру-
кописями размером и качеством исполнения, но успех которых
всегда зависел от наличия карт, раскрашенных от руки, как в зна-
менитых ульмских изданиях 1482 и 1486 гг. [38].
Итак, посредники имели значительное влияние на чтение
интеллектуалов Возрождения. Но их вкусы были весьма отста-
лыми. Они любили дорогие материалы: Веспасиано демон-
стрирует чисто флорентийскую любовь к тканям, лаская взгля-
дом золотую парчу и пурпурное сукно переплетов в библиотеке
Федерико да Монтефельтро. Он с восторгом говорил о велико-
242
ЭНТОНИ ГРАФТОН
лепных «буквах в древнем вкусе», «козьем пергаменте», миниа-
тюрах и переплетах, избранных Маттео Пальмьери для един-
ственного экземпляра «Града жизни» — еретической книги, ко-
торую он запер на два замка до самой своей смерти и, следова-
тельно, в эпоху Возрождения не опубликованной (и правильно,
считал Веспасиано) [39]. Издатели-печатники, подражая carto-
lai, также выпускали небольшое количество экземпляров на пер-
гаменте для любителей и давали более значительные тиражи на
бумаге для обычного рынка, призывая самых талантливых ил-
люминаторов для книг наиболее требовательных клиентов. Ко-
бергер, вероятно, одним из первых обзавелся собственным пе-
реплетчиком, сделавшим пергаментные переплеты для «Нюрн-
бергских хроник». Около 1650 г. Иоан Блау выпустил в продажу
«самую дорогую книгу в мире» — «Большой атлас» с цветными
и черно-белыми картами, переплетенный в пергамент с золо-
тым обрезом, в пурпурный бархат или в другие драгоценные
ткани [40]. Его счастливые обладатели, среди которых были
один берберский пират, адмирал Михель де Рейтер и турецкий
султан, явно ценили это печатное сокровище, как показывают
роскошные киоты, куда некоторые из них помещали свои эк-
земпляры.
Как видим, посредники ожидали от лучших своих клиентов,
что те будут обращаться с книгой подобающим образом. Они хо-
тели, чтобы облик книги говорил нечто о ее содержании и о пуб-
лике, для которой она предназначена. Так же, как современный
интеллигент по-разному относится к «белой серии» издатель-
ства «Галлимар» и к изящно-вызывающим книгам Zone Books,
так и интеллектуал рубежа XV—XVI вв. разного ожидал от книги,
написанной гуманистическим или готическим почерком, из-
данной с комментарием и без комментария, ин-фолио или ин-
октаво, роскошно иллюстрированной или скромной, выпущен-
ной Веспасиано или Альдом. Авторы прекрасно знали, что выбор
определенной формы вышедшего тома предопределял его сбыт
и готовил читателя к написанному. Уже в 1507 г. Эразм Роттер-
дамский писал Мануцию, что его издание переводов Еврипида
сделает его бессмертным, «особенно если книга напечатана
твоими малыми литерами, изящнейшими в мире» [41]. Полтора
века спустя Николай Гейнзиус будет умолять Эльзевиров, своих
издателей, не втискивать его Овидия в свой любимый малень-
ГЛАВА 7
243
кий и нечитабельный формат [42]. Оба автора, каждый по-
своему, были убеждены в важности шрифта и верстки.
Но cartolai и их преемники — типографы — прибегали и к дру-
гим средствам, не столь знакомым нам. Они заставляют думать,
что действительно образованные читатели не довольствовались
тем, что просто покупали и читали книгу, а старались индиви-
дуализировать ее. Прежде всего, образованный покупатель обычно
желал, чтобы его экземпляр был переплетен. Как мы видели, для
переплета хороших книг предпочитали либо роскошные, либо
особо прочные материалы, и читатель знал, во что это ему обой-
дется. Красивый переплет стал пристрастием и даже страстью об-
разованных людей Возрождения. Крупные коллекционеры от Фе-
дерико да Монтефельтро до Де Ту поощряли разработку новых
стилей орнамента и новых способов тиснения на пергаменте и
коже. Они обращались к известным художникам для рисунка
сложных узоров на кожаных переплетах. Мотивы, заимствованные
на античных монетах и медалях, нередко давали им печать клас-
сичности, а среди орнаментов в античном духе часто фигуриро-
вали имя, инициалы или девиз владельца, сообщая о личности и
безупречном вкусе этого любителя. Книга знатного человека уз-
навалась по переплету. Даже обычные читатели, ученые стипен-
диаты, считали безвкусным оставлять книгу в простой бумажной
обложке: «Я не терплю непереплетенных книг», — заявлял Иосиф
Скалигер, делая, впрочем, исключение для памфлета против себя
и своих друзей, написанного иезуитом Серариусом. Каталог его
библиотеки, составленный для распродажи И марта 1609 г., под-
тверждает это заявление: из 250 указанных в нем книг с пометами
рукой владельца ни одной нет в разделе книг без переплета [43].
Таким образом, попав в частную или публичную библиотеку, книга
сразу становилась ценностью и личной собственностью, местом
встречи двух стилей: культурного и индивидуального [44].
Кроме того, производители книг и торговцы ими учили про-
свещенного читателя, что книгу подобает украшать не только
снаружи, но и внутри. Cartolai и типографы предполагали, что
знатному клиенту, желающему видеть свой герб на переплете,
понравится и относящаяся к содержанию книги иллюстрация на
заглавных страницах: рамки из виноградных побегов или по
классическим мотивам, исторические, легендарные и современ-
ные персонажи, изображение которых говорит нечто о содержа-
244
ЭНТОНИ ГРАФТОН
нии произведения. Самые требовательные клиенты ничего не жа-
лели для подобного представления текста в рисунке. В 1477 г., пе-
реписывая «Илиаду» по-гречески и по-латыни для кардинала
Франческо Гонзага, писец украсил первую страницу латинского
текста огромной роскошной рамкой по архитектурным моти-
вам: наверху в трех секциях, разделенных пилястрами, изобра-
жены три сцены эпопеи, чтобы читатель предвосхитил грядущее
удовольствие живее, чем по оглавлению, также помещенному
в начале книги [45]. Экземпляр «Истории животных» Аристотеля
в латинском переводе Теодора из Газы, принадлежавший Сик-
сту IV, извещал о своем содержании еще более наглядно: в на-
чале текста можно было увидеть Аристотеля в пышной одежде
и высокой шапке, сидящего за столом у полукруглой стены с ко-
лоннами и смотрящего на животных, которых должен был опи-
сать в тексте; среди изображенных были также обнаженные муж-
чина и женщина и величественный единорог [46]. Случалось, что
к очень старым рукописям добавляли иллюстрации, выдавая их
за подлинно античные: даря Льву X уникальный, знаменитый
манускрипт Плавта, принадлежавший Орсини и датируемый
X в., каноники собора Святого Петра заказали богатый орнамент
в античном духе на полосах пергамента, которые затем наклеили
на первые два листа текста [47].
Очевидно, что клиенты хорошо усвоили уроки. И образы ан-
тичности, которые они, как и cartolai, любили видеть в своих
книгах, не имели ничего общего с теми, которые так любили нео-
классики последующих веков, со всеми этими белыми статуями
и благородной простотой. Как только доходило до античности,
перебрать с богатством декора было нельзя: самые великолеп-
ные краски, самые совершенные рисунки воссоздавали идеаль-
ные города и аркадские селения, упомянутые в тексте. При-
страстие к роскошной иллюстрации перед текстом, как и любовь
к богатым переплетам, не только были пережитком прежнего
времени, но и заново и чрезвычайно пышно расцвели в эру кни-
гопечатания. Печатный лист поддавался украшению не хуже жи-
вописного. Печатные или рисованные от руки экслибрисы (на-
пример, выполненные Дюрером для его друга Пиркгеймера) де-
лали книгу такой же индивидуальной, как и гербы в начале книги.
Иногда читатели доходили до того, что ставили на первой стра-
нице текста свою личную отметку: так, Виллибальд Пиркгеймер
ГЛАВА 7
245
просил у Дюрера нарисовать на первой странице его «Феокрита»
в альдовском издании картину сельской жизни, каждая деталь ко-
торой была бы взята из текста [48]. Клиенты и художники, точно
так же, как cartolai и ремесленники, могли влиять на действие тек-
ста, ставя ему хорошо продуманные пределы.
Иногда сотрудничество автора, художника и читателя было еще
сложнее. Превосходный пример — издание Вергилия у Себастиана
Бранта, где серия иллюстраций стала поразительным коммента-
рием к тексту. В этом нет ничего удивительного: нашему времени
также известны иллюстрированные издания классиков. Но другие
случаи полностью сохранили аромат Возрождения: например,
Гольбейн исполнил для комментированного издания «Похвала
глупости» Эразма Роттердамского серию комических иллюстра-
ций: одни прямо навеяны текстом, другие придуманы заново. Ми-
кониус (Myconius) показал их Эразму и записал реакцию автора
на эту интерпретацию текста художником [49]. Как показала Сара
Гиндман, подобным образом украшенная книга не легла в основу
никакого иллюстрированного издания, но осталась вместилищем
уникальной попытки охватить все явные и неявные смыслы тек-
ста, прославленного своей полифоничностью. Другие попытки
комбинировать текст и иллюстрацию, повествование и коммента-
рий, вероятно, также связаны с желанием создать не образец, по
которому будут созданы многочисленные копии для печати, а цен-
ную вещь, удовольствие от которой разделят лишь несколько дру-
зей с особо тонким вкусом [50].
Наконец, практика cartolai и их клиентов осталась господ-
ствующим подходом к торговле редкими книгам, хотя забыта
торговцами обычными, современными книгами. Продавец и по-
купатель сходились в том, что торговля книгой — важная и по-
четная деятельность, некая пафосная и в культурном, и в финан-
совом отношении сделка, требующая от обеих сторон того же
уровня вкуса и компетенции, что и процесс переписывания
книги [51]. Для некоторых читателей Возрождения покупка книг
была очень серьезным делом; они часто помечали на своем томе
место, время и обстоятельства его приобретения. Эти пометки,
поначалу краткие, могли становиться настоящими отрывками из
дневника, записанными на полях или пустых страницах вы-
бранных книг с особой тщательностью. Петрарка составил спи-
сок самых дорогих своих книг {«Libri mei peculiares») и на мно-
246
ЭНТОНИ ГРАФТОН
гих из них оставил записи интимного содержания, сохраняя сви-
детельства и о своей любви к Лауре, и о более приземленных под-
робностях, например о досаде на своих крестьян [52]. Сошлемся
теперь на менее знаменитый пример — на ученого Иеронима
Мюнцера из Нюрнберга: он записал, что одну из книг по меди-
цине заказал в 1478 г. в Венеции, другую в 1490 г. в Болонье, еще
одну купил во время «итальянского путешествия» (он учился в
Павии) в 1477 г.; от фиксирования приобретений он переходил
к записям о примечательных случаях, скажем, записал 26 апреля
1501 г. на одной рукописи, что с великим удовольствием встре-
тил того, «кто написал ее 32 года тому назад» [53]. Книга, куп-
ленная с подобным старанием, переплетенная и украшенная с
таким вниманием ко всем подробностям, была не просто тек-
стом: она свидетельствовала о жизни своего владельца, его ли-
тературных связях, становилась поверенной его чувств.
Книга, которую читали гуманисты, будь она рукописной или
печатной, на наш сегодняшний взгляд была и близким, и дале-
ким предметом. Она производилась серийно, но переживала ме-
таморфозу, персонализировалась, когда на вкус ее создателя на-
кладывался вкус владельца. В книжной лавке она продавалась за
невысокую цену и стояла рядом с другими экземплярами, по-
добными ей и по виду, и по содержанию [54]. Но попав к чита-
телю, даже печатная книга иногда становилась столь же ценной
и непохожей на другие, как манускрипт. Гуманист относился к
своей книге примерно так же, как калифорнийский подросток
к машинам из Детройта: он покупал соблазнительный продукт,
сделанный понимающими людьми, которые могли говорить с
ним о его вкусах и пожеланиях, но в процессе использования
переделывал его, добавлял к нему украшения, короче, делал его
уникальным, как в наши дни некоторые делают уникальными
серийные автомобили. Это активное, даже художественное со-
трудничество между производителем и покупателем было нор-
мой. Подобное же отношение между книгой и ее владельцем
еше много веков сохранялось в высшем европейском обществе,
мы же теперь пассивно принимаем форму книг, предложенную
теми, кто их производит. Книги Ренессанса были созданы та-
лантливыми предпринимателями, имена которых не сохрани-
лись, и коллекционерами: кожаные и пергаментные переплеты
этих книг поныне украшают полки наших библиотек и музеев.
ГЛАВА 7
247
ВСТРЕЧА С ПОСРЕДНИКАМИ: УЧИТЕЛЬ И ЧИТАТЕЛЬ
В 1435 г. Амброджио Траверсари посетил школу Витторино да
Фельтре близ Мантуи. Там он услышал, как 15-летний молодой
принц Гонзаго прочел 200 латинских стихов на вступление им-
ператора в Мантую с таким талантом, «что невозможно пред-
ставить, будто Вергилий с большим изяществом читал Августу
шестую книгу Энеиды» [55]. Примерно в то же время Гварино
писал из Вероны своему ученику Леонелло д’Эсте письмо, став-
шее знаменитым:
«Что бы ты ни читал, у тебя под рукой должна быть записная книжка
[...], где ты сможешь записывать все, что пожелаешь, и отмечать наи-
лучшие места. Тогда, если ты захочешь перечесть удивившее тебя
место, тебе не придется перелистывать много страниц: записная
книжка будет при тебе, как послушный и ревностный слуга, и до-
ставит тебе все, что будет угодно. [...] Быть может, тебе покажется,
что переписывать все в книжку тяжело или требует слишком часто
отрываться от чтения. Если так, найди умелого и образованного маль-
чика (а в них у тебя недостатка нет) и поручи ему это дело» [56].
Оба текста говорят нечто о путях воспитания и профессио-
нального образования элиты Ренессанса, о разных, иногда не-
обычных методах, отпечаток которых сохранял любой читатель.
Молодой принц, воспитанный Викторино, читал текст на-
изусть. Гуманист научил его относиться к древней литературе как
к партитуре для устного исполнения, требовавшей хорошей па-
мяти и хорошей дикции. На протяжении XV—XVI вв. качество
устного произнесения текста сохранит центральную роль в об-
разовании учеников и их оценке взрослыми. Такой юноша, как
Пьеро Медичи, гордился тем, что может прочитать много сти-
хов на память [57]. Еще более редким явлением была юная Алес-
сандра Скала, которая восхищала аудиторию чтением «Электры»
Еврипида с грацией, почитавшейся подлинно аттической [58].
Даже в конце XVI в. такие выдающиеся ученые, как Юст Лип-
сий и Иосиф Скалигер, завораживали окружающих, безоши-
бочно читая классические тексты наизусть. Липсий даже брался
прочесть всего Тацита с приставленным к горлу кинжалом, ко-
торый при малейшей ошибке приводился бы в действие. Me-
248
ЭНТОНИ ГРАФТОН
трика, аллитерации, примечательные сочетания звуков в лите-
ратуре, отобранной, прежде всего, за свои достоинства устного
текста, были истинными знаками отличия. Для гуманиста глу-
боко знать текст значило не анализировать то, что написано на
бумаге или пергаменте, а чувственно произносить звуки. Пет-
рарка, влюбившийся в мелодичную латынь Вергилия и Цице-
рона, был родоначальником такого подхода.
Впрочем, и смысл текста не считали чем-то маловажным.
Чтобы дойти до сути, учащийся проходил целый ряд этапов.
В первое время учитель строчка за строчкой пересказывал текст.
Прозаический или стихотворный, философский или историче-
ский, он раскладывал на части и вновь излагал на самой сухой
латыни. Закончив эту работу, преподаватель мог вернуться к тек-
сту, не торопясь, точно перечислить действующих лиц и исто-
рические факты, объяснить мифы и учения, проанализировать
риторические фигуры и воспользоваться любой возникающей
проблемой, чтобы изложить свои суждения о чем угодно. Так
ученик узнавал, что текст не прямая линия, а сложная мозаика,
глубинная логика которого зависит от толкования мастера, воо-
руженного связкой различных ключей.
Издания классических текстов, напечатанные в XVI в. для
французских коллежей и в других местах, учитывали эти методы
преподавания. Через каждые две строчки типограф оставлял
большой пробел, чтобы ученик, особенно в начале текста, мог
написать подробный технический комментарий; часто эти за-
писи сделаны очень разборчивым почерком, так что можно до-
гадаться, что ученики тщательно переписывали пометки, сде-
ланные наспех во время лекции. Эти упражнения просущество-
вали долго. В 1670-е гг., готовя серию латинских сочинений для
обучения дофина, П. Д. Юэ прилагал к ним и связный пересказ
(так называемый ordo verborum), и подробный комментарий со-
держания самого разного рода [59].
Все эти приемы, которые печатники теперь кодифицировали,
были не новы, как и центральная идея, на которую они опира-
лись: всякий текст для учащегося должно разложить на множе-
ство маленьких задач, решаемых поочередно. Они восходили к
римским школам поздней Античности, к училищам Византии и
«латинского Возрождения» XII в. [60]. Интеллектуальная тех-
ника, прилагавшаяся к изучению классического текста, остава-
ГЛАВА 7
249
лась, таким образом, неизменной на протяжении такого долгого
времени, что его с трудом даже можно назвать «периодом».
Юный читатель собирал целый исторический, мифологичес-
кий и географический багаж, прокладывая себе путь через про-
граммные тексты, через ежедневное заучивание 20 стихотворных
строк. Как утверждает Майкл Баксендалл (Michael Baxandall),
представление о том, что можно было назвать «взглядом эпохи»
(period eye) — способе, с помощью которого происходит воспи-
тание всякого человека для восприятия произведений искус-
ства, — можно получить, отмечая технику восприятия, которая
должна быть усвоена ценой большого труда [61]. Точно так же и
даже еще более непосредственно педагогические приемы гума-
низма очерчивают для нас стиль эпохи в истории чтения. Сотни
согласующихся друг с другом комментариев раскрывают перед
нами и направленность, и базовую технику этого процесса. Юный
читатель учился видеть в подборе слов и образов каждого автора
приложение риторических правил. Он учился расшифровывать
аллюзии, относиться к каждому великому тексту как к гулкому
помещению, где слова все время накладываются на свои под-
тексты, которыми автор собирался поделиться лишь с читателями
своего же уровня. Все писатели-гуманисты ждали от читателя, что
он будет мастером в искусстве декодирования. Когда Дирк Вол-
кертсзон Корнхерт нападал на Юста Липсия за требование казни
еретиков, тот оскорбленно отвечал, что, конечно, просил власти
прибегать к «костру и веревке» (иге et seed), но думал, что чита-
тель сумеет узнать здесь цитату из «Филиппик» Цицерона, кото-
рый употреблял это выражение не в буквальном смысле, а только
так, как для серьезных болезней требуют принятия хирургических
мер [62]. Новым в этих приемах в эпоху Возрождения было не
содержание текста, а аудитория, для которой он предназначался.
Гуманисты серьезно настаивали на том, чтобы к ним обращались
не только молодые светские люди, но и юноши из духовенства.
Однако эти перемены касались более социальной истории чита-
тельского мира и образования, чем чтения как социальной прак-
тики. Техническое умение, позволявшее ученику «рассекать»
текст, обнажая его «мускулы, нервы и кости», было по типу клас-
сическим, и в этом отношении применяемые гуманистические
методы были таким же «возрождением» классицизма, как и тек-
сты, к которым они прилагались.
250
ЭНТОНИ ГРАФТОН
Главное техническое новшество, которое мы можем зафикси-
ровать, вступало в силу тогда, когда ученик от анализа и толкова-
ния текста переходил к высшему уровню — использованию тек-
ста. Юный аристократ — воспитанник Гварино, читал классиков,
ученики Витторино также. Но Гварино требовал от своего воспи-
танника не только правильного произношения звуков, а совето-
вал найти другого юношу, из тех, кто учится не по свободному вы-
бору, а по необходимости, и поручить ему обработать для себя
текст, представив в сокращенном и готовом к употреблению виде.
Таким образом, чтение становилось не интимной, а социальной
деятельностью, подобно игре в крикет, основанной на сотрудни-
честве джентльмена с игроком. Часто бывало, что учителя, в том
числе и сам Гварино, отбрасывали этого посредника и давали уче-
никам собственноручно обработанные введения к классикам, ко-
торые стали главным инструментом педагогики Ренессанса [63].
Итак, ученик, будь он князь, сеньор или клирик, не выходил
на встречу с античными авторами один на один, погружаясь с
головой в их сочинения, рискуя утонуть и не имея никого, кто
научил бы его плавать. При нем был сведущий гуманист, пере-
страивавший классический текст, чтобы он мог им пользоваться,
превращавший трудные, шероховатые, нередко опасные тексты
в гомогенные единства выражения и информации, которые легко
было цитировать и пускать в дело. Эта система обучения делала
классические тексты заведомо полезными, давала юному чита-
телю образец для обработки текста, если в дальнейшем он желал
читать самостоятельно. Так было принято во всех учебных заве-
дениях Европы. В начале XVI в. профессора-новаторы печатали
подобные руководства к чтению для «классов без стен», которые
были гораздо больше реальных. Здесь история идей, история
книги и история чтения сходятся весьма поучительным образом.
Достаточно рассмотреть «Адагии» Эразма Роттердамского —
сборник пословиц и комментариев к ним, принявший каноничес-
кую, хотя и не окончательную форму в альдовском издании
1508 г. Поначалу, в издании 1500 г., напечатанном в Париже, в кни-
гу входило 800 латинских изречений, в конце же концов она на-
считывала около 4000 статей (иногда таких больших, что они за-
служивали отдельных изданий), объясняющих греческие и латин-
ские афоризмы, самые разнообразные по природе и происхожде-
нию, извлеченные из античной литературы и лексикографии.
ГЛАВА 7
251
Несмотря на значительный объем, «Адагии» стали одним из бест-
селлеров Возрождения, что доказывается издательскими катало-
гами и посмертными списками книг, найденных у лиц, когда-то
обучавшихся в Кембридже. Его удачно составленные поучения
были для молодых людей превосходным уроком этики и греко-
латинской культуры в сжатой и легко запоминающейся форме.
Читатель «Адагии» узнавал, что человеку, способному слишком
раздражать друзей и старших по возрасту или званию, следует го-
ворить Ne ignem gladio fodias («Не туши огонь мечом»), а товарища,
недовольного жребием, подобает утешать так: Spartam nactus est,
hanc oma («Ты спартанец, тем и гордись»). Тот, кто никак не мог
закончить диссертацию, слышал, что любой ученый и любой ху-
дожник должен уметь «отрывать руки от картины» (тапит de tab-
ula), а молодых воинственных государей предупреждали, что dulce
bellum inexpertis («война сладка тем, кто ее не изведал») [64].
Все это хорошо известно. Но хуже знают, что «Адагии» были
не только сочинением, предназначенным для обучения искус-
ству латинской прозы, но и учебником техники чтения, а также
сборником текстов, подготовленных для собирающихся приме-
нить их. Эразм не только собрал бесчисленное множество фор-
мул, но и цитировал их классические источники, прослеживал
изменения, которые они претерпевали в ходе латинской и гре-
ческой истории. Все это он вставлял в рамку столь же изящную,
что и рисованные рамки гуманистических рукописей — ком-
ментарий, обеспечивавший полезность изречений для христи-
анских читателей своего времени.
Вот афоризм, по словам самого же Эразма Роттердамского
ставший уже штампом: Festina lente — «торопись медленно». Он
говорит о нем очень подробно, объясняя, что сперва это был ок-
сюморон, созданный на основе греческого выражения, встре-
чающегося во «Всадниках» Аристофана: Speude tacheos — «по-
спешай скорее». Несмотря на краткость, изречение несло очень
много значений; один из уроков специально обращен к госуда-
рям: от спешки и пыла бывает больше вреда, чем пользы. Этот
простой урок Эразм ставит в контекст стоической этики гума-
низма, прикрепляя к нему целый ряд отсылок к стоическим про-
изведениям. Он показывает, что афоризм можно применить к хо-
рошему нравоучительному чтению основополагающего класси-
ческого текста — началу I песни «Илиады», где Агамемнон, ли-
252
ЭНТОНИ ГРАФТОН
шившись любимой невольницы Хрисеиды взамен завладевает
пленницей Ахилла Брисе ид ой:
«Мне кажется, что Гомер сделал Агамемнона слишком ленивым и
малодушным (как в пословице bradeos — «медленно»), не говоря
ни о каких его поступках или доказательствах силы, кроме ярости
при утрате Хрисеиды и похищения Брисеиды у Ахилла. Напротив,
Ахиллу он дает необузданные страсти (как в пословице speude —
«торопись»); разве что один пример есть также от противного,
когда он обнажает меч на царя при всем совете, но уступает убеж-
дениям Паллады и только гневными оскорблениями выражает свое
негодование» [65].
И далее без всякого усилия Эразм от морали в литературе пе-
реходит к нравоучению в истории. Он говорит, что Фабий Мак-
сим был одним из немногих великих исторических деятелей,
стяжавших бессмертие тем, что торопился медленно. Два образ-
цовых императора, Август и Веспасиан, особенно любили эту по-
говорку. Веспасиан даже выбил ее на своих монетах в виде изо-
бражения: дельфин, обвивший якорь*, что графически выражает
первоначальный оксюморон.
От поговорки к иероглифу, от нравоучения, кристаллизован-
ного в словах, к его переводу в изображение — такой путь в эпо-
ху Возрождения никогда не был долгим, Эразм же проделывает
его молниеносно, находя в этой оригинальной идеограмме пред-
лог для длинного рассуждения о письме египтян. Он дает све-
дения, почерпнутые из разных источников, в том числе из гре-
ческого текста Гораполлона, еще не опубликованного, когда пи-
сались «Адагии». Как истинный гуманист, он восходит и до
источников этого текста — утраченного сочинения стоика Хе-
ремона [66]. Но он останавливается не столько на истории ие-
роглифов, сколько на их природе: они потому доставляют удо-
вольствие и внушают почтение, растолковывает он, что, обра-
щаясь к реальным качествам предметов, дают уроки нравствен-
ности и физики. Это образец для педагогики: хотя иероглифы
четко нарисованы и легко запоминаются, они требуют от чита-
теля некоторого усилия для понимания:
Эта эмблема стала издательской маркой дома Альдов. — Прим. фр. переводчика.
ГЛАВА 7
253
«Египетские жрецы и чародеи [...] принимали во внимание, что
дурно открывать таинства мудрости простонародью, используя, по-
добно нам, доступную для всех письменность; то, что они считали
достойным и ценным, они выражали различными символами вещей
или животных, так что каждый мог толковать их. И тот, кто глу-
боко изучил качества разных предметов, природу и особые способ-
ности всякой твари, сравнивая и догадываясь, что они символизи-
руют, со временем начинал понимать смысл этих загадок» [67].
Для Эразма поговорка Festina lente и ее совершенное выра-
жение в зрительном образе якоря и дельфина были примером
«таинств древнейшей философии».
Наконец, чтобы объяснить иероглиф, нужно было знать естест-
венные свойства составляющих его частей — суть вещей, графиче-
ское изображение которых составляло словарь символов египетских
мудрецов. Поэтому Эразм подробно рассуждает о скорости дель-
фина, черпая анекдоты в каталоге ложных сведений — «Есте-
ственной истории» Плиния, своей излюбленной книге (к тому же
он не забывает сослаться и на источник Плиния — Аристотеля):
«Вот какова мера его необыкновенной проворности: хотя рот у него
довольно далек от рыла (говорят, что он находится посередине жи-
вота) и непременно должен замедлять его движение при ловле
рыбы, ибо ему приходится изгибаться, чтобы поймать ее, редкая ры-
бешка спасается от его стремительности» [68].
Вот так Эразм из одного-единственного изречения создал
тончайший, но крепко сбитый костяк, к которому прикрепил вы-
борку из реконструированной античной культуры в целом. Ри-
торика и эпическая поэзия, история и естествознание — все ста-
новилось одним и тем же умелым нравоучением. Эразм давал
явные и неявные уроки искусства раскрывать намеки в класси-
ческих текстах, причем расшифровка иероглифов, выявление
тайного сообщения, скрытого под непроницаемой на первый
взгляд поверхностью, становились для него основной метафо-
рой чтения классиков, которое всегда под корой языческого тек-
ста доискивается пригодного для христиан смысла. Этот при-
мер — один небольшой отрывок из огромной и очень почитае-
мой книги — показывает размах всего предприятия.
254
ЭНТОНИ ГРАФТОН
Труд Эразма Роттердамского был отнюдь не единственным
в своем роде. На протяжении XVI в. многие интеллектуалы Се-
верной Европы также стремились собрать для использования
учащимися основные элементы античного наследия [69]. Неко-
торые из этих трудов прямо заявляли о своем элементарном ха-
рактере, например «Мастерские» неверского преподавателя Ра-
визия Текстора. Эта книга давала ученику, желавшему украсить
свое сочинение, в точности то, что обещало заглавие: полезные
для его работы тексты. Равизий Текстор собрал и проанноти-
ровал небольшие отрывки, извлеченные из трудов римских
историков не для того, чтобы показать учащемуся античность, а
чтобы дать ему примеры нравственного и безнравственного по-
ведения. Юный читатель не оставался наедине с величествен-
ной римской историей Тита Ливия — труднодоступной вер-
шиной, на которую подчас и глядеть было страшно, а получал
связку занимательных анекдотов, объединенных между собой
довольно примитивным ассоциациями: рассказы о самоубий-
цах, об умерших в отхожих местах, о задушенных и о тех, с кого
заживо содрали кожу, шли друг за другом, как некие театраль-
ные куклы, соединяясь не в исторической последовательности
прошлого, а сообразно педагогическим и историческим нуж-
дам настоящего [70]. Лучшие, возвышеннейшие произведения
латинской литературы кромсались для развлечения ученика
или, вернее, для того, чтобы облегчить ему близкое знакомство
со всей гаммой античных анекдотов, которые должен был знать
образованный человек. Это изучение античности в одомаш-
ненной форме просуществовало долго; известно, что оно было
правилом в иезуитских коллежах старого режима, где учащиеся
читали не оригинальные тексты, а антологии, получая Мар-
циала в очищенной, если не усеченной версии.
Другие же опыты переоформления древних текстов для нужд
современных учащихся говорили о более высоких интеллекту-
альных притязаниях. Чем больше древних произведений стано-
вилось доступно, тем важнее было знать, как их читать, что по-
буждало некоторых ученых предъявлять публике свои система-
тизированные и весьма подробные методики чтения текстов.
Жан Боден в своем «Методе легкого постижения истории» имел
в виду облегчить чтение всех древних и новых исторических со-
чинений. Он не составлял антологию, а учил каждого молодого
ГЛАВА 7
255
человека составлять ее для себя, систематически отыскивая
нужное в книгах, обращаясь к тем историкам, которые заслу-
живают доверия. Монтень в «Опытах» (II, 10) отвечал на вопро-
сы, поставленные Боденом, и рассказывал, что делал краткие
выписки из трудов историков по его методу. Но даже Бодену
важно было не столько показать правду о прошлом, сколько
отыскать в нем урок: история фактически была философией, по-
коящейся на конкретных примерах, и он учился читать ее
в этом плане, пользуясь такими краткими пометками на полях,
как CH (consilium honestum — «достойный совет») или CTV
(consilium turpe sed utile — «совет низкий, но полезный»), чтобы
каждый рассказ о произнесенной речи или о сражении неиз-
бежно был заключен в эту глубоко традиционную рамку [71].
Влияние этих школьных учебников было очень велико: им не
хватало убедительности устного урока учителя в классе, но их
значение простиралось гораздо дальше. Они подхватывали и рас-
пространяли по всей Европе методику преподавания таких пе-
дагогов XV в., как Гварино. В общем, все юноши эпохи Воз-
рождения читали классические произведения одним и тем же
способом: не для того, чтобы открыть там мудрость прошлого в
ее возбуждающей наготе, а для того, чтобы обратиться к древ-
ним поучительным книгам (sapientia), собранным в своеобраз-
ном печатном музее и снабженным этикетками согласно проце-
дурам, заранее предопределявшим смысл экспонированных ре-
ликвий.
Эти общие усилия, предпринимавшиеся Эразмом и други-
ми — модернизация классики, — были отнюдь не новым делом.
Джеймс Хенкинс недавно показал, что в XV в. Дечембрио весьма
схожим образом дал миланским интеллектуалам возможность
читать Платона и восхищаться им, но не дал возможности по-
нять, насколько чужды им были его мысли и мораль [72]. Да и
античные неоплатоники намного раньше точно так же поступали
с Гомером, предложив его философское прочтение [73]. Но
в «Адагиях» Эразма и других произведениях этого рода бросаю-
щаяся в глаза механистичность составления, навязчивая связь
между текстом и его интерпретацией приводили к тому, что при-
рода и продолжительность отношений ученика с произведения-
ми Античности надолго закреплялись в неизменном виде. Вслед-
ствие этого метода для многих юных читателей все, что в не-
256
ЭНТОНИ ГРАФТОН
христианской истории и морали казалось вызывающим, услаща-
лось. В XVI в. гораздо больше юных читателей знало историю
ящика Пандоры в нравоучительном пересказе Эразма, а не в
оригинальной, скоромной версии Пиндара [74].
Наконец, такой подход к классикам приводил еще к двум
важным последствиям для восприятия античных текстов чита-
телями. Очень быстро, уже в начале XVI в., гуманистам удалось
убрать из изданий классиков раздражавшие их средневековые
комментарии. Но, вопреки утверждениям некоторых историков,
они вовсе не порывали тем самым с практикой комментирова-
ния, а просто заменили устаревшие, по их мнению, коммента-
рии другими, отвечавшими современному вкусу. Глоссы про-
фессоров-гуманистов, чаще всего перед подготовкой к печати за-
читывавшиеся в классах, подобно любезным сердцу иллюстра-
торов виноградным побегам, окружали хорошо раскупавшиеся
тексты Овидия, Вергилия, Ювенала, крупных прозаических со-
чинений вроде «Утешения философией» Боэция, «Золотого
осла» Апулея и самой Библии. Писались эти комментарии не го-
тикой, а гуманистическим почерком. Они касались и тривиаль-
ных технических вопросов, и массы других проблем, иногда бу-
дучи такими пространными, что едва не превосходили по объему
оригинал. Несмотря на старания некоторых критиков (например,
Полициано) приостановить их изобилие, они процветали в те-
чение всего XVI в., да и ученые сборники следующего столетия
еще собирали в них обильную жатву.
Итак, читатель-гуманист эры книгопечатания никак не мог
ожидать, что классические тексты лягут к нему на стол в пер-
возданном виде. Чем важнее был автор и его предмет, тем больше
его погребали под горой комментариев. Наступал даже такой
момент, когда в глоссах начинали нуждаться и не классические
тексты латинской литературы*: только так можно было утвердить
их статус. Бадий Асценсий комментировал XIII книгу «Энеиды»,
которую гуманист Маффео Веджо прибавил к подлинному тек-
сту Вергилия; Герардус Листрий составил большой комментарий
к «Похвале глупости», и эта комментированная версия была так
* И не только латинской: ср. многочисленные комментированные издания
Ариосто, не говоря уже о Данте, которого итальянские гуманисты XVI в. окон-
чательно приравняли к классикам. — Прим. фр. переводчика.
ГЛАВА 7
257
похожа на классический текст, что нередко печаталась или пере-
плеталась вместе с подлинно древними текстами. Гуманистиче-
ский текст парадоксальным образом обретал статус средневеко-
вого auctoritas. Большинство глосс, конечно, было не столь не-
проницаемо, как в Средние века: это был уже не готический ба-
стион вокруг текста, а классическая виньетка. Тем не менее, эти
новые комментарии не хуже прежних удерживали и закрепляли
текст. Украшенный гирляндой гуманистической экзегезы, текст
извлекал свою ценность не только из собственного достоинства,
но и из связи с системой преподавания и интерпретации.
Наконец, гуманистам принадлежит и еще одно капитальное
нововведение. Средневековые магистры всегда восславляли вели-
чие и несравненные добродетели своих авторов. Средневековый
или ранний ренессансный курс лекций о древнем авторе, как пра-
вило, начинался с подробного, хотя и стереотипного, изложения
его биографии. Текст сразу помещался в драматический, иногда
даже фантастический исторический контекст; особо подчеркива-
лись высокое происхождение автора, его подвиги, близость к
власть имущим. Гуманист, напротив, старался дать животрепещу-
щее изложение своей собственной жизни и познакомить с круж-
ками, в которые он был вхож. В «Апатиях» Эразм со щедрым лу-
кавством восхвалял услуги, оказанные ему Альдом Мануцием и его
сотрудниками, когда он приезжал работать к ним в типографию.
Некоторые из его коллег, например, Вивес, пользовались ком-
ментированными изданиями, чтобы рассказывать всевозможные
истории о том, как они находили древние рукописи, как сотруд-
ничали с выдающимися учеными старшего поколения, о до-
стоинствах и энергии этих ученых [75].
Гуманистический текст прославлял комментатора и его по-
кровителей с той же выспренностью, что и древний текст. Как
и современный читатель, приступающий к критическому чтению
произведения великого писателя, читатель Ренессанса знал, что
найдет в книге повествование двух видов: повествование древ-
него автора (поэтическое, историческое или философское) и па-
раллельно ему повествование, написанное комментатором, ко-
торое может по законам жанра быть риторическим или филоло-
гическим по явному содержанию, но по скрытому содержа-
нию — автобиографическим (и оттого еще более привлекатель-
ным). Экземпляры с пометами свидетельствуют, с каким рве-
258
ЭНТОНИ ГРАФТОН
нием читатели, особенно далекие от автора, искали там досто-
верные сведения не только о Древнем мире, но и о таких но-
вейших литературных кругах, прославивших Флоренцию, как
круг Медичи, или Лувен, как круг Эразма. Когда юный Лукас
Фрутериус читал Катулла в издании Мурета, его ничто не пора-
зило так, как рассказ о большой литературной полемике между
Полициано и Марулло или о недавнем споре Юэ с Пьеро Вет-
тори [76]. Гуманистический комментарий гарантировал чита-
телю, что текст принадлежит к вершинам культуры его времени
так же наверняка, как и глоссы Аккурсия, связывал его с осо-
бой педагогической и литературной системой.
В РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ
Как показывает пример Макиавелли, чтение, конечно, не огра-
ничивалось образовательной функцией. Некоторые почтенные
люди могли иногда использовать усвоенные в школе навыки для
целей, не предусмотренных преподавателями: юный Иоанн Се-
кунд читал Катулла так, что возмутил бы любого профессора, а
пожилой Макиавелли так же подходил к Цицерону [77]. «Поце-
луи» Иоанна Секунда и «Государь» Макиавелли, как и многие
другие шедевры, от «Утопии» Томаса Мора до «Опытов» Мон-
теня, явно не могли бы быть написаны, если бы их авторы не
сломали школярские рамки чтения древних и не интерпретиро-
вали бы с блеском их произведения. Эти превосходно продуман-
ные, но глубоко спрятанные интерпретации классических тек-
стов, слишком сложны и разнообразны, чтобы их здесь описы-
вать. Но подробная история чтения в ренессансной Европе
должна остановиться на них и включить их в корпус своих источ-
ников.
Подробно мы здесь задержимся на другом. Читатели Воз-
рождения покупали и ценили весьма разнообразные тексты,
часть которых вовсе не была ни классической, ни гуманистиче-
ской. Когда Козимо Медичи выпадали часы досуга, у него было
два любимых занятия: ухаживать за оливами и читать один из
важнейших средневековых текстов, «Нравоучения на книгу
Иова» Григория Великого [78]. Федерико да Монтефельтро осо-
бенно ценил комментарий Донато Аччайуоли на Аристотеля —
ГЛАВА 7
259
яркий схоластический текст. Его библиотека, энциклопедиче-
ская по составу, включала много трудов по богословию и ряду
гуманистических дисциплин. От сына он требовал выучить на-
изусть не только «Географию» Птолемея — античный текст,
представленный в новой форме, — но и самый средневековый
из auctoritates — библейские истории [79]. Когда Джакомо Ма-
нетги читал Библию по-еврейски и прибегал к совершенней-
шему филологическому мастерству, чтобы понять ее подлинный
смысл, он вел себя как настоящий гуманист, но он мог читать
ее и традиционным образом, как проповедник странствующего
ордена, и тогда находил в ней предсказание ужасной судьбы не-
добросовестному купцу:
«Я много раз перечитывал Священное Писание, и ты должен быть
уверен, что будешь наказан, и семья твоя с тобой, так, что твое на-
казание будет примером всему городу» [80].
Савонарола, искусством которого применять библейские
ссылки, чтобы смутить противников, восхищался Макиавелли,
не мог бы прочесть этот текст иначе [81].
Невозможно здесь рассмотреть другие источники первостепен-
ной важности: весьма многочисленные сохранившиеся каталоги
частных и публичных библиотек. И неявные прочтения, заклю-
ченные в великих произведениях литературы, и многочисленные
'ресурсы, накопленные на книжных полках в кабинетах гуманистов,
требуют особого и подробного рассмотрения [82]. Но мы можем
поговорить об источниках, относящихся к более узким вопросам:
к обстоятельствам чтения гуманистов, к тому, как готовились к
чтению, как в реакции на текст разум соединялся с эмоциями.
Гуманисты, как и мы, могли читать в любой подходящий мо-
мент. Но нередко, как показывает письмо Макиавелли к Вет-
тори, их чтение напоминало танец того времени, т. е. было дей-
ствием, управляемым сложным комплексом правил и требовав-
шим постоянного внимания. Прежде всего, гуманисты читали с
пером в руке и по ходу чтения писали. Иногда это было обяза-
тельно: только переписав книгу, можно было оставить ее у себя.
Уже при начале изучения Ренессанса, в XVIII в., историки знали,
что Поджо и Никколи переписывали книги, взятые в мона-
стырских библиотеках: у них не было другого способа приобре-
260
ЭНТОНИ ГРАФТОН
сти их и познакомить с ними коллег. Но только в последние годы
обнаружили, что по крайней мере до конца XV в. гуманисты и car-
tolai переписывали все тексты, которые покупали. Часто совре-
менные издатели с удивлением обнаруживают, что переписывали
они не с рукописей, а с печатных книг. Из 16 сохранившихся ру-
кописей «Утешения к Ливии» «десять наверняка, а шесть осталь-
ных вероятно восходят к печатным изданиям»; из 31 рукописи
«Эклог» Кальпурния шесть были переписаны с издания Свейн-
гейма и Паннарца 1471 г. [83]. И в течение всего XVI в. гумани-
сты будут переписывать целиком греческие и латинские тексты.
Современные историки нередко предполагали, что такая дея-
тельность имела ученые цели, что эти гуманисты задумывали
публикации текстов: переписывали их, чтобы дать комментарии
и в таком виде издать. Нередко такое толкование правильно.
Иногда же оно основано не на источниках, а на анахронической
гипотезе. Разве переписывание текста само по себе — не форма
чтения и воздание буква за буквой почтения могуществу ориги-
нала? Само изящество каллиграфии (как мы видели, весьма це-
нимой гуманистами) давало цену и тексту. Тритемий писал, что
лучший способ освоить текст — переписать его, и многие ин-
теллектуалы Нового времени с ним были согласны [84]. Иосиф
Скалигер переписал ценнейшую рукопись Петрония, принадле-
жавшую его профессору римского права, выдающемуся коллек-
ционеру Кюжасу. Современные издатели часто упрекают Ска-
лигера в том, что он писал нелепости и прелюбодейно сочетал
свой драгоценный источник с другими, в том числе и печат-
ными изданиями. На самом деле он, вероятно, намеревался из-
дать несколько стихотворений, приписываемых Петронию и со-
державшихся в рукописи Кюжаса, но полная транскрипция «Са-
тирикона», выполненная великолепным курсивом, должна была
остаться его собственностью и усладой. «Я люблю ее больше пе-
чатных», — говорил Скалигер, указывая и на то, как высоко ценил
он само переписывание, и на то, что не собирался сделать руко-
пись основой нового издания [85]. Как ученик знал текст на мер-
твом языке слово в слово, потому что взял на себя труд выучить
его наизусть, так и ученый нередко знал его почти дословно, по-
тому что переписал своей рукой; ему нравилось обращаться к
нему не в общедоступной форме, а исполненному собственным
почерком и с собственным пониманием спорных мест.
ГЛАВА 7
261
Но у ученого были и другие, более рациональные причины
браться за перо. От Петрарки до Скалигера было привычкой пи-
сать на полях тех текстов, которые сами от руки не переписы-
вали [86]. Там собиралась техническая информация, например,
свод вариантов, имеющихся в других изданиях текста. Анджело
Полициано был известен презрительным отношением к неточ-
ным изданиям древних текстов его времени, однако он пользо-
вался ими, покрывая поля филологическими примечаниями и
толкованиями, почерпнутыми из многочисленных источников.
В конце тома, подражая римским эрудитам IV в., он иногда за-
писывал «сускрипции» — указания на места и даты своей работы,
использованные тексты, имена помогавших ему юношей [87].
Казобон приплел к своему экземпляру «Герметического кор-
пуса» обличающий перечень совпадений между этим текстом и
Библией, а также языческими текстами, что позволяло ему
утверждать, что этот текст — подделка [88].
Кроме того, гуманисты записывали на книгах свое мнение о
литературных и философских достоинствах текста. Экземпляры
Вергилия, Августина и других авторов, принадлежавшие Пет-
рарке, покрыты изящными каллиграфическими примечаниями
по ходу чтения, и иногда в этих диалогах между текстом и мар-
гиналиями принимало участие несколько авторов [89]. На про-
тяжении XV—XVI вв. гуманисты фиксировали свою реакцию на
полях и чистых страницах, причем иногда эти записи имеют вы-
дающиеся литературные достоинства.
Монтень счел свои суждения о Плутархе и Гвиччардини до-
стойными включения в «Опыты». Скалигер по большей части
на полях записывал лишь справочные ссылки, но иногда, если
текст его раздражал, он несколько раз писал вдоль полей:
«cacas», а однажды нашел время вступить в длинную дискус-
сию на книжной латыни с другим задевшим его комментато-
ром, Мельхиором Гвиландином, и все возражения тщательно
записать на полях. Габриель Гарвей, большая библиотека кото-
рого, ныне рассеянная, была глубоко изучена Дж. С. Мур-Сми-
том (G. С. Moor Smith), Виджинией Стерн (Viginia Stem) и Уол-
тером Колменом (Walter Colman), испещрял поля своих книг
комментариями, написанными изощренно-элегантным курси-
вом, который стал знаменит, особенно благодаря врагам поэта,
считавшим его почерк смешным. В примечаниях к прочитанным
262
ЭНТОНИ ГРАФТОН
текстам Гарвей выражал свое мнение о других источниках и рас-
сказывал, иногда очень живым слогом, как ему случалось ком-
ментировать эти тексты или слышать, как другие их читали или
комментировали публично [90].
Такое обилие помет на книгах весьма значимо. Чаще всего
они означали, что внимательный читатель готовился что-либо
опубликовать по поводу данного текста. Ученые пометы Скали-
гера к Гвиландину были наброском более развернутого ответа,
пометы Юэ на его экземпляре «Манилия» (Manilius) Скалиге-
ра — прологом к форменной атаке на последнего [91]. Но не
всегда замечания служили столь очевидным целям. Часто гума-
нисты надписями на переплетах и фронтисписах книг подчер-
кивали для общего сведения, что этими экземплярами могут
пользоваться не только они, но и их друзья: экслибрис Поли-
циано гласил: «Книга Анджело Полициано и его друзей» (Angeli
Politiani et amicorum), и варианты этой формулы появляются на
многих и многих томах XV—XVI вв., в том числе и в библиотеке
Гарвея.
Если присмотреться, с каким тщанием ученые покрывали по-
метами книги, есть все основания понимать их буквально. Гу-
манист превращал свои книги в ценный источник по собствен-
ной интеллектуальной биографии и истории кружков, в которых
он умственно рос. То, что они непременно писали их очень раз-
борчивым и изящным почерком, показывает, что владельцы счи-
тали эти пометы достойными постоянного употребления. Когда
такие люди, как Гарвей, собирали целые библиотеки аннотиро-
ванных таким образом экземпляров, они, возможно, имели в
виду не опубликовать когда-либо свои заметки, а создать спра-
вочный корпус для всех членов интеллектуального кружка. Биб-
лиотека Лейденского университета, к примеру, сочла нужным
украсить книги и рукописи из библиотеки Скалигера особым
штампом, указывавшим на их происхождение (нередко оши-
бочно, поскольку библиотекари и другие читатели имели свой-
ство приписывать Скалигеру все книги с обильными маргина-
лиями). Такие коллекционеры, как Юэ, охотились за книгами с
пометами и любили показывать их.
То был немалый труд: покрыть поля десятков книг автобио-
графическими историями, сложными отсылками к параллель-
ным местам и пометками с критическим анализом. Гуманист
ГЛАВА 7
263
должен был внимательно следить за порядком расстановки книг,
чтобы можно было быстро к ним обратиться, в кроме того ему
нужно было выбрать нужные сведения из очень большого числа
источников. В конце XVI в. для облегчения этого аспекта литера-
турного труда были придуманы разные приспособления.
В частности, у юристов позднего Средневековья позаимствовали
систему, изобретенную, чтобы манипулировать объемистыми то-
мами «Свода гражданского права» и поражать клиентов весо-
мостью (в буквальном смысле) своих профессиональных зна-
ний, — машинку с крутящимися полками, наподобие люлек
большого ярмарочного колеса [92]. Рамелли, оставивший нам
описание этой машинки, говорит, что гуманист, у которого такая
была, мог, не сходя с места, иметь в своем распоряжении всю
библиотеку. Например, у Кюжаса было не только книжное ко-
лесо, но и стул на колесиках, чтобы без труда ездить из конца в
конец кабинета. Как ни странно, он не пользовался им, а «лежал
яичком на полу, обложившись книгами» [93].
Чтение, публичное или частное, могло также использоваться
для вполне конкретных политических и интеллектуальных целей.
В начале нашего очерка мы вместе с Макиавелли читали у него
в кабинете древнюю историю, чтобы найти в ней уроки для его
собственной судьбы. Позднее он, во вкусе своего времени, давал
и публичные лекции, читая Тита Ливия группе флорентийских
патрициев, собиравшихся в саду Ручеллаи [94]. В обоих случаях
при чтении античного текста был один предмет: действие, ося-
заемые результаты в настоящем. В конце XVI в. Габриель Гар-
вей стал одним из тех английских интеллектуалов, которые от-
крыто брали деньги за чтение исторических сочинений в обще-
стве знатных персон: известно, что он работал над изображением
Ганнибала, используя произведение Тита Ливия, вместе с То-
масом Смитом-младшим (пока тот не отправился возвращать
Англии господство над Ирландией, где и умер), а с сэром Фи-
липпом Сидни — над рассказом Ливия об основании Рима (пока
сэр Филипп не вернулся на пост посла при императоре Рудо-
льфе II). Его тщательно аннотированный экземпляр Ливия, где
он регистрировал совместные чтения, вероятно, был для него па-
мятной записью о попытках поставить свои знания на службу
власти и сделать карьеру. Случай Гарвея отнюдь не единичен:
современники полагали, что Эссекс впутался в заговор потому
264
ЭНТОНИ ГРАФТОН
лишь, что читал древних авторов вместе с Генри Кафом [95].
Даже Гоббс возлагал вину за гражданскую войну на молодых
людей, слишком восторженно воспринявших республиканские
идеи греков и римлян. Очевидно, что чтение древних в начале
новой политической эпохи могло помочь встать на прогрессив-
ные позиции. И этот тип чтения, не эстетический, а прагмати-
ческий, заслуживает того, чтобы ему отвели почетное место в
любом исследовании использования книги в эпоху Возрождения.
ЮЭ: КОНЕЦ ТРАДИЦИИ
В середине XVII в. философы стали придерживаться мнения, что
одного чтения недостаточно для приобретения надежных знаний
о естественной истории и истории человеческого общества. Де-
карт рассказывал, каким он вернулся из иезуитской школы: он
понял, что, читая повествования о прошлом, умственного багажа
вынесешь не больше, чем приобрел бы в странствиях. Прилеж-
ный читатель, как и прилежный путешественник, узнавал, что у
разных народов разные нравственные нормы и все с одинако-
вым легкомыслием смотрят на соседей, как на варваров. Только
строгое рассуждение по образцу математического доказательства
может дойти до глубоких истин. Гуманисты, пожалуй, даже по-
спешили принять эту критику или, по крайней мере, признать,
что с ней согласно большинство образованных молодых людей.
Столь сведущие издатели классических текстов, как И. Ф. Гро-
новиус и Николай Гейнзиус, уныло продолжали заниматься
своим делом, сознавая, что век философии прошел и на смену
ему явилась новая эра — эра математики [96].
Никто так пристально и печально не обратил внимания на эту
перемену, как Юэ. В конце жизни он ощущал себя призраком,
явившимся из погибшего мира своей молодости, когда эруди-
ция обладала высочайшим статусом и привлекала перворазряд-
ные умы [97]. При том он продолжал публиковать свои издания
классических текстов «а 1’usage du Dauphin», собирать и анно-
тировать на прекрасной латыни своим мелким, очень разборчи-
вым почерком ученые книги. Он по-прежнему считал книги пер-
воисточником знания как о природе, так и о людях. Нам кажется,
что краткий очерк о нем будет здесь хорошим эпилогом.
ГЛАВА 7
265
Ни один современный Юэ текст на французском языке не
нравился ему так, как «Гирлянда Юлии» — рукописный сбор-
ник мадригалов, украшенный рисунками цветов, который гер-
цог Монтозье придумал в подарок Жюли д’Анженн к Новому
году. Юэ любовно описывал оригинальную рукопись, перепле-
тенную и вложенную в футляр из ароматной испанской кожи,
которую Жюли обнаружила, проснувшись 1 января то ли 1633,
то ли 1634 г. Он с наслаждением вспоминал день, когда герцо-
гиня д’Юзес читала ему эту книгу в своей библиотеке, неболь-
шой и не роскошно убранной, но богатой тщательно подобран-
ными книгами, «изящно переплетенными и украшенными в том
роде, какой ценят женщины» [98]. Они закрылись там вдвоем на
четыре часа — самые счастливые в его жизни — от обеда до за-
ката. Впоследствии Юэ говорил, что благодаря чтению «пои-
стине вступал в беседу с самыми превосходными манерами и
духом людьми своего времени» [99]. Удовольствие, которое до-
ставляла Юэ физическая форма книги, его страсть к рукописям,
существующим лишь в одном экземпляре, желание найти в тек-
сте аромат кружка, в котором он создавался, — все эти эмоции
явно шли от гуманистических вкусов и навыков так же, как и
устройство библиотеки герцогини. Как ни утрачивала свои по-
зиции латынь, красивые издания, богато оформленные пере-
плеты, гуманистические методы чтения можно было перенести
на новые сочинения — на вульгарной латыни. Все прежние обы-
чаи оставались нетронутыми в латинских школах Германии, Ни-
дерландов, Скандинавии. Гуманистический подход к чтению был
связан с сохранением классического наследия; вполне справед-
ливо связывать его и с эпохой Возрождения. Но он пережил сам
себя как в высокой протестантской эрудиции беглых гугенотов,
так и в высокой светской культуре Старого режима. Последняя
глава полной истории гуманистического чтения никак не обой-
дется без Юэ и Ардуэна, г-жи Дасье и г-на Бентли, Монтозье и
Жюли д’Анженн.
Жан Франсуа Жильмон ГЛАВА 8
РЕФОРМАЦИЯ И ЧТЕНИЕ
Реформация — дочь Гутенберга! Уже в XVI в. было широко рас-
пространено убеждение в основополагающей роли книгопеча-
тания при распространении идей Лютера. Франсуа Ламбер из
Авиньона дошел до утверждения, что Бог затем и изволил появ-
ление типографского пресса, чтобы стала возможно реформа:
«Что же до искусства копирования (chalcographica), я хочу еще здесь
сказать, что главным образом по той причине Господь несколько
лет тому назад и вдохновил сие изобретение, да послужит оно рас-
пространению истины нашему веку» [1].
Другие реформаторы так же с восторгом хвалили новое изо-
бретение. Классической цитатой стали слова из застольных бесед
Лютера:
«Книгопечатание — последний дар Божий и величайший. В самом
деле, через него Бог хочет, чтобы дело истинной веры стало известно
по всей земле до пределов мира» [2].
Джон Фокс, автор «Книги мучеников» (Book of Martyrs), гово-
рит о книгопечатании как о «божественном и чудном изобрете-
нии» [3]. Впрочем, в определении типографского искусства как
«божественного» не было ничего нового. Этот эпитет часто исполь-
зовался с самого рождения книгопечатания: его находим уже в ко-
лофоне «Католикона» — издания, вышедшего в Майнце в 1460 г.
Историки, вполне естественно, также повторяли, что успех
Реформации многим обязан печатной книге. Не слишком дерзко
будет заметить, что это утверждение часто опирается на общие
места, а не на анализ фактов.
ГЛАВА 8
267
Но прежде чем перейти к собственно протестантским изда-
ниям, нелишне заметить, что расцвет Реформации совпал с важ-
ным переворотом средств коммуникации [4]. Открытие Гутен-
берга видоизменило условия движения идей, ускорив циркуля-
цию текстов и уменьшив цену каждого экземпляра. Впрочем, не
стоит преувеличивать непосредственное влияние его изобрете-
ния в обществе, где еще было множество неграмотных. К тому
же новое искусство само осознало свою новизну лишь после
долгого, примерно четвертьвекового вынашивания.
В момент открытия ars artificialiter scribendi (искусство искус-
ственного письма) полностью подражало письму рукописному.
Но постепенно печатники осваивали новую технику, и печатная
книга все больше обретала собственное лицо. Этот процесс за-
кончился между 1520 и 1540 гг. — как раз вскоре после того, как
Лютер возмутился против продажи индульгенций. К этому вре-
мени печатная книга полностью отошла от рукописного образца.
Типографы постепенно заметили, что серийное воспроизведе-
ние предъявляет новые коммерческие требования. Внешний
облик книги обновился благодаря появлению титульного листа,
рисунок литер был стандартизован, многие лигатуры отброшены.
Особенно глубокие перемены произошли в выборе публикуемых
текстов, среди которых стало значительно больше новых. Круп-
нейшие издатели создавали также сети распространения, искали
читателей за пределами узкого круга в своем городе.
Типографских заведений становилось все больше и больше.
Из Германии они проникли сначала в Италию, потом во Фран-
цию, затем распространились по всей Европе. Около 1520 г. ти-
пографий не хватало только в отдаленных областях (Англии, на
Пиренейском полуострове, в Центральной Европе, Скандина-
вии). Но Германия, Италия, Франция и Семнадцать Провинций*
располагали очень густой сетью печатен.
В 1530—1540-е гг. произошли изменения и в устройстве биб-
лиотек. Это точно известно в отношении Франции, но, вероятно,
то же относится и ко всей Европе. Дал о себе знать эффект уде-
шевления книги: средний размер библиотеки существенно уве-
личился, а рукописные книги уступили место печатным. Более
того, К. Боццоло и Э. Орнато установили некое привыкание к
Нидерланды. — Прим. фр. переводчика.
268
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
книге: в посмертных описях имущества они описываются не
столь подробно. Это знак уменьшения ценности: владеть печат-
ными изданиями стало обыденным делом [5].
Распространение книгопечатания произошло в тот момент,
когда в большинстве областей общественной жизни стали ис-
пользоваться национальные языки. Печатная книга очевидным
образом способствовала этому переходу, поскольку экономиче-
ское функционирование новой техники предполагает поиск
новых рынков, а значит, расширение читающей публики.
Несомненно, распространение народных языков и успех кни-
гопечатания следует связывать с общей социальной эволюцией.
Для конца Средних веков характерен рост буржуазии. Овладев
новыми секторами экономики и торговли, этот класс решил уча-
ствовать в принятии касающихся ее политических решений. Он
желал также обозначить свой социальный успех тем, что стал уде-
лять больше внимания культуре, даже если при этом нужно будет
изменить направление ее движения. Миряне больше не согла-
шались оставаться на вторых ролях в Церкви.
ПЕЧАТАТЬ КНИГИ НА НАРОДНОМ ЯЗЫКЕ
Вероятно, убеждение в чрезвычайной важности печатной книги
при распространении протестантизма происходит от «войны пам-
флетов» [6]. Вскоре после того как Лютер возмутился против на-
саждения индульгенций, в Германии началась широкая «агита-
ционная кампания», продолжавшаяся с 1520 по 1525 г. Тысячи
памфлетов — брошюрок из нескольких листков в четверку — хо-
дили по всей Империи. Все новые вопросы, поднятые Реформа-
цией, обсуждались в этих наспех написанных, плохо построенных,
невнятных и велеречивых листовках. Часто одни и те же тексты в
форме проповедей, диалогов или писем воспроизводились в раз-
ных городах. Фактически речь идет о первом использовании пе-
чатного слова для воздействия на общественное мнение. Это по-
ловодье мелких изданий (по-немецки очень выразительно назы-
ваемых «летучими» — Flugschriften) быстро сделало имя и дело Лю-
тера известными не только в Германии, но и во всей Европе.
В тех странах, где власть осталась верна традиционной Церк-
ви: Франции, Италии, Семнадцати Провинциях, — новые рели-
ГЛАВА 8
269
гиозные взгляды также распространялись в печатном виде, но не
так явно. Маленькие религиозные книжки знакомили с лютеранс-
кой тематикой, избегая агрессивности, прячась под традиционным
обличьем. В них писали не «На Тебя единого уповаем», а просто
«На Тебя уповаем». Сначала эти издания выходили из-под мест-
ных прессов в Париже, Венеции, Антверпене, но после 1540 г. это
стало слишком опасным предприятием и развилась сеть книгонош
с изданиями из соседних городов — Женевы, Страсбурга, Эмдена.
Одной из первых забот реформаторов было сделать доступной
Библию на народном языке. На этот путь вступил не один Лютер.
Он закончил свой перевод в 1534 г., но еще раньше, в 1530 г., цю-
рихские пасторы уже предложили читателю немецкую Библию.
Нидерландская Библия вышла в свет в Антверпене в 1526 г.,
итальянская Библия Антонио Бручоли относится к 1532 г. Оли-
ветан под влиянием Гийома Фареля осуществил французский пе-
ревод в 1535 г., в том же году Майлс Ковердейл сделал перевод
по-английски. Это лишь некоторые издания, прямо внушенные
протестантизмом. Феномен книгоиздательской активности, раз-
вернувшейся вокруг Библии гораздо внушительнее. Переиздания
следовали одно за другим. До смерти Лютера (1546) его немецкая
Библия была издана полностью или частично свыше 400 раз.
Кроме того, Лютер изменил экономическое положение Вит-
тенберга. В 1517 г. в этом университетском городке была лишь
одна совершенно провинциальная типография. Через несколько
лет прессов для распространения потока сочинений реформатора
в городе стало столько, что он вошел в число шести-семи круп-
нейших типографских центров Германии.
Нечто подобное произошло и в Женеве после того, как там
была провозглашена Реформация и обосновался Кальвин. С 1537
по 1550 г. рост оставался еще небольшим, но затем город, имев-
ший 12 тыс. жителей, стал принимать все больше и больше пе-
чатников, наводняя Францию и другие соседние страны рефор-
матскими изданиями. Идеологическая мотивация этих печатни-
ков поддерживалась и материальными интересами. Архивы города
сохранили отголоски многочисленных конфликтов, вызванных
жестокой конкуренцией: в 1550—1562 гг. печатание реформат-
ских книг в Женеве было источником серьезных доходов.
И действительно проведение реформы по всей Европе резко
Увеличило потребность в обиходной литературе: Библиях, катехи-
270
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
зисах, псалтырях, литургических книгах. Но протестантские печат-
ники занимались и более учеными трудами, предназначенными
для пасторов. Некоторые из них были дидактическими и работами
по богословскому синтезу, как-то «Общие места» Меланхтона и
«Установления христианской религии» Кальвина. Другие роди-
лись из ученых споров, ибо в XVI в. множество доктринальных
споров завязалось не только между католиками и протестантами,
но и внутри реформаторского течения. Трудно даже представить
себе, с каким бешенством ученые богословы рвали друг друга в
клочья в этих вечно возобновлявшихся полемиках, — а типогра-
фам только того и надо!
Особая судьба Англии позволяет увидеть этот типографский
подъем несколько иначе. В начале столетия книгопечатание там
находилось еще во младенчестве — большая часть книжной про-
дукции приходила в Англию с континента. Группа реформаторов,
связанная с Виттенбергом и недовольная промежуточной пози-
цией Генриха VIII (он порвал с Римом, но не отказался от тра-
диционной теологии), стала выпускать в Антверпене очень агрес-
сивные памфлеты против него. Генрих убедился в том, с чем
столкнулись все государи его века: довольно легко контролиро-
вать местную прессу, но трудно задержать ввоз запрещенных книг.
С этим столкнулась и Мария Тюдор, и французские короли. Было
одно исключение: испанской инквизиции удалось (но какой
ценой!) реально запретить ввоз еретических книг на полуостров.
Генрих VIII быстро сделал вывод из такого положения дел: он
стал поощрять укоренение книгопечатания в Англии. Через не-
сколько десятилетий английские книги печатались уже не в Па-
риже, не в Руане, не в Антверпене, а в Лондоне. Этим, безусловно,
была облегчена работа полиции, особенно когда концентрация
типографов в Лондоне утвердилась. В 1555—1558 гг. исход многих
протестантов после вступления на престол Марии Тюдор вызвал
новую волну английских изданий на континенте и новое наше-
ствие запрещенных сочинений на Британские острова.
В XVI в. любая религиозная группа нуждалась в доступе к пе-
чатному станку. Это доказывает политика диссидентских сект в
Центральной Европе. Польские и венгерские антитринитарии,
чешские чашники, моравское братство — все считали необходи-
мым обладать печатью, чтобы обеспечить свою религиозную иден-
тичность. Типографии служили как внутренним потребностям,
ГЛАВА 8
271
издавая богослужебную, катехическую и духовную литературу,
так и печатая контрпропагандистские книжки против других
христианских конфессий.
Еще одно свидетельство широкого влияния протестантской
книги — испуг католиков. С первых же лет Реформации ерети-
ческие книги повсюду конфисковывались. Иногда их сжигали,
как в Лувене в 1520 г. Но поначалу полиция не имела доста-
точных средств, чтобы действовать эффективно. Постепенно
создался более строгий надзор: после 1540 г. разноска и продажа
еретических книг в католических странах встретились с серьез-
ными проблемами. Многие передвижные книжные собрания
арестовывались и посылались на костер, но волна ереси не была
остановлена. Для уведомления книгопродавцев и паствы като-
лические власти приступают к составлению «Индексов запре-
щенных книг».
Ордонанс города Лаон от 1565 г. дает замечательный пример
страха перед еретической книгой. Он требует затыкать все вы-
ходящие на улицу отдушины в домах, потому что посланцы из
Женевы по ночам подбрасывают брошюрки в подвалы. Один
хроникер описывает, к каким катастрофическим последствиям
привели их действия:
«Немного времени спустя, многие горожане, жадные до новостей,
оставили римско-католическую религию и приняли новую, тогда
называвшуюся лютеровой, а все из-за маленьких книжечек» [7].
Короче говоря, при взгляде как с той, так и с другой стороны
конфессиональной границы книга оказывается весьма дейст-
венным орудием Реформации.
Реформаторы принесли и еще одно новшество: употребление
народного языка в богослужении, богословском дискурсе и,
прежде всего, в Библии. При этом на кон ставилось многое.
Отказ от латыни не обошелся без споров между учеными о
достоинстве древних и новых языков. В первую очередь встал во-
прос о способности народных наречий служить в сакральной об-
ласти. Борясь с теми, кто желал сохранить для священного языка
ореол таинственности, реформаторы защищали использование
языков, обеспечивающих более свободное общение внутри
Церкви и легкий доступ к богатствам евангельской вести [8].
272
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
Характерно заявление Лютера: «Я не стыжусь проповедовать
и писать на языке народа для невежественных мирян». Говоря
«не стыжусь», он показывал, что идет наперекор распространен-
ному мнению. Лютер настаивал: использование новых языков
принесет христианству больше добра, «чем прославленные и про-
странные книги и вопрошания, которыми занимаются только
ученые в школах» [9]. Строя свой перевод Библии сообразно не-
мецкому гению, он тронул народ, заговорив на его языке.
«Спроси мать у нее дома, — писал он, — детей на улице, просто-
людина на рынке и смотри им в рот, чтобы знать, как они говорят,
и переводить согласно этому: тогда они поймут и заметят, что
с ними говорят по-немецки» [10].
Итак, первым делом он заботился о том, чтобы быть понят-
ным народу. Как ни странно, ввести немецкое богослужение он
не слишком торопился. Правда, он смеялся над папистами: «Они
спрятали от нас слова таинства и научили нас, что мирянам их
учить не нужно» [11]. Но только под давлением более радикаль-
ных учеников, таких, как Андреас Карлштадт и Томас Мюнцер,
он ввел немецкую службу. К тому же Лютер до конца так и не
отказался от литургического использования латыни [12].
Кальвин, более приверженный гуманизму, от латыни отвыкал
с трудом. Не поразительно ли, что его переписка с лучшими фран-
коязычными друзьями вся шла по-латыни — и о богословских де-
батах, и о бытовых новостях? Первые его труды также написаны
на латыни, и только в 1541 г. появился небольшой трактат «О при-
чащении (евхаристии)» на французском языке. Как сам Кальвин
объяснял в 1546 г., он выбрал для него «простой, народный и при-
способленный для невегласов способ изложения», и далее:
«Для понимающих по-латыни я привык писать более тщательно. Но
тут я следил не только за тем, чтобы точно выразить, что я думаю,
а и затем, чтобы [...] объяснить это ясно и проникновенно».
В латинских «Установлениях...» он продолжает:
«я излагаю то же учение, выражаясь иным образом и, если я не
заблуждаюсь, яснее» [13].
ГЛАВА 8
273
Сомнения Кальвина насчет французского языка в 1572 г. по-
вторил Теодор де Без, говоря о переводе одного из своих бого-
словских трактатов. Он жаловался на «бедность языка нашего»:
«Весьма может статься, что французский переклад в неких местах
не так будет внятен, особливо для простого народа, нежели латин-
ский мой подлинник» [14].
Народные языки бурно развивались. Выразить на этих наре-
чиях понятия, издавна отшлифованные на древних, было не-
легко. Как заявил Оливетан в предисловии к переводу Библии,
«заставлять еврейское и греческое красноречие говорить на
французском языке» все равно, что «учить сладкогласного со-
ловья петь песню охрипшего ворона». Он перекликается с при-
знанием Лютера:
«Я исхожу кровавым потом, чтобы передать Пророков на народном
языке. Что за работа, Господи, и до чего же трудно принудить еврей-
ских писателей говорить по-немецки! Они не желают отказаться от
своего еврейства, не соглашаются соскользнуть в германское варвар-
ство. Это все равно, что соловью забыть свой сладкий напев и поне-
воле подражать однообразной песне кукушки» [15].
Тенденция найти широкий доступ к простому народу оче-
видна, но не всегда это было легко. Латынь, конечно же, оста-
валась языком богословских диспутов, ее несравненным преи-
муществом было международное употребление. Через латынь
первые тексты немецкой Реформации перешли в другие языко-
вые ареалы [16]. Некоторые трактаты Кальвина также перево-
дились на латынь, прежде всего для того, чтобы познакомить с
ними немецких реформаторов. Случай трактата «О причащении
(евхаристии)» в этом отношении весьма прозрачен [17].
ОПАСНОСТИ ЧТЕНИЯ
Вскоре панегирики «божественному искусству» книгопечатания
поутихли; что касается Лютера, стоит даже говорить о явном
скепсисе. Он жалуется на изобилие бесполезных и даже вредных
274
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
книг. Около 1520 г. он писал в «Манифесте к христианскому дво-
рянству германской нации»:
«Что же до богословских книг, надо было бы уменьшить их число и
выбрать лучшие. Не стоит впредь читать много, но читать доброе и
читать часто, как бы мало доброго не было. Вот что делает сведущим
в Священном Писании и вместе с тем благочестивым» [18].
Всю жизнь он чаще выражал подобную озабоченность, чем
пел похвалы книгопечатанию.
Конечно, протестанты выдвинули тезис scriptura sola, но его
не надо понимать как «написанное и только написанное». Этот
принцип, требовавший обоснования богословских позиций Свя-
щенным Писанием, позволял отбросить человеческие предания,
не подтвержденные Библией. Тут нет ничего общего со свобод-
ным исследованием, появившимся в либеральном протестан-
тизме только в XVIII в. [19].
Р. Готорп и Дж. Страус точно установили, что Лютер не был
инициатором народного чтения Библии [20]. В буре первых сра-
жений он, конечно, желал, «чтобы каждый христианин сам собой
постигал Писание и чистое слово Божье» [21], а в «Манифесте
к христианскому дворянству...» требовал, чтобы дети ежедневно
обучались Новому Завету так, чтобы к девяти-десяти годам знать
эти книги целиком [22]. Но после Крестьянской войны, под
влиянием распространения неортодоксальных толкований Свя-
щенного Писания, он заговорил иначе. Лютер теперь настаивал
на церковном контроле за доступом к Библии. Слово, заклю-
ченное в Библии, остается мертвой буквой, если не передано
проповедью.
«Царство Небесное, — говорил Лютер в одной из проповедей
1534 г., — основано на Слове, которого не уловить и не понять без
двух органов: ушей и языка» [23].
В 1529 г., закончив оба свои катехизиса, Лютер настаивает на
необходимости каждому дать эти руководства:
«Катехизис — Библия мирянина; в нем есть все, что каждый хри-
стианин должен знать о христианском учении» [24].
ГЛАВА 8
275
Его концепция образования подтверждает это воззрение. Для
Лютера задача школы не в том, чтобы всем дать доступ к куль-
туре. Функция школы — создать образованную элиту, которая
сможет руководить и гражданским, и церковным обществом.
Точно так же в 1524 г., призывая магистраты создавать хорошие
библиотеки, Лютер ставит перед ними две цели: сохранить книги
и способствовать обучению духовных и светских лидеров. О на-
родном чтении речи нет [25].
Такая же перемена произошла и с Меланхтоном: он шел от
призыва читать Библию всем к содействию использования кате-
хизиса. В предисловии к «Общим местам» (Loci communes) 1521 г.
он представляет свою книгу скромным введением, которое
должно посторониться перед чтением Библии; автор горячо
желал, «чтобы все христиане в полной свободе прилежали только
Священному Писанию». Но в предисловии 1543 г. он настаивал
на необходимости
«служителей Благовестия, которых Бог изволит готовить в учили-
щах. Их Он возжелал сделать хранителями книг пророческих и апо-
стольских и истинных догматов церковных» [26].
После того как некоторые ученики вышли за все рамки, ре-
форматоры стали осторожнее: пропагандировать чтение, коне-
чно, нужно, но лишь простейших книг, а контроль за доктри-
нальным толкованием надо сохранить.
Эволюция экзегетических принципов Цвингли в 1522—1525 гг.
параллельна тому, что наблюдаем у Лютера и Меланхтона [27].
Сначала он старался расшатать традиционную Церковь призывом
к широкому общественному мнению. Основой его учения был
тезис о вселенском священстве: все христиане, со смирением при-
ступающие к Библии, способны ее толковать. Цвингли отстаивал
его в публичных диспутах и в некоторых памфлетах 1522 г. Но
вскоре положение изменилось. Католическое духовенство было
повержено, а угрозу стали представлять анабаптисты. И Цвингли
совершил оборот на 180 градусов. После 1525 г. он оставляет право
толковать Библию компетентным людям — фактически, группе, в
которую входит политическая и церковная элита.
Поведение Генриха VIII также показывает социальные по-
следствия чтения Священного Писания. Он очень долго во-
276
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
обще запрещал распространение Библии на английском языке.
В 1543 г. Генрих, наконец, уступил давлению своего окружения.
Но он обставил дозволение печатать английскую Библию весьма
показательными ограничениями. Король установил три способа
чтения для трех категорий лиц. Люди знатные и благородные
могли читать Писание по-английски и даже зачитывать его вслух
как для себя, так и для всех, проживающих под их кровлей. До-
вольно присутствия одного дворянина, чтобы доступ к Писанию
был свободен. На другом конце социальной лестницы — те, кому
чтение английской Библии совершенно запрещено: «женщины,
ремесленники, ученики и подмастерья на службе у лиц, равных
по состоянию мелким землевладельцам, земледельцам и разно-
рабочим». Находящиеся посредине между этими категориями —
собственно буржуазия и благородные женщины — «могут читать
любые книги Ветхого и Нового Завета про себя и никому более».
Таким образом, эта средняя категория достаточно компетентна
сама, чтобы не соблазниться, но недостаточно авторитетна,
чтобы утвердить свое мнение для окружающих [28]. Можно ли
яснее выразить, каковы были политические и социальные ос-
новы чтения Библии?
Что касается кальвинистской традиции, то и ее толковать мог
далеко не каждый желающий. Существовал строгий контроль за
экзегетическим трудом и богословским творчеством. Кальвин
считал, что Библия не всем доступна непосредственно. В одной
из проповедей он поясняет: она подобна хлебу с толстой кор-
кой. Чтобы питать своих, Бог желает, «чтобы хлеб для нас был
нарезан, куски для нас разжеваны и положены в рот». Апостол
Павел, говоря о Писании, показывает, «что недостаточно каж-
дому из нас читать его у себя, а надобно, чтобы в уши нам было
вколочено извлеченное оттуда учение и чтобы нам его пропове-
довали, да научены будем» [29].
Другое свидетельство о том, как опасались кальвинисты вы-
вести богословие на площадь, оставил Теодор де Без. В посвя-
щении к «Христианским вопросам и ответам» (Questions et re-
sponses chrestiennes), написанном в 1572 г., последователь Каль-
вина объясняет, что с большой неохотой согласился на фран-
цузский перевод своего трактата. Он почувствовал, что его к
этому вынуждает интерес публики, но обличает ее манию бро-
саться в «лабиринты» тонких вопросов. Довод Беза ясен: бого-
ГЛАВА 8
277
словие — заповедная область, требующая знания «всех дорог и
проулков, по каким подобает ходить и не блуждать» [30].
Для иллюстрации царившего в Женеве желания направлять
богословское чтение нам кажется показательной одна история,
относящаяся к 1562 г. Печатник Жан Риври предполагал издать
евангельскую симфонию (harmonie evangelique) с примечаниями,
извлеченными из трудов большого круга богословов. Пасторы,
к которым обратился Городской совет, не поставили под сом-
нения ортодоксальность книги, но отказали в издании под пу-
стяковым предлогом: составителю не следовало цитировать
Кальвина и Беза, а то читатели могут отвратится от их полных
сочинений, довольствуясь отрывками [31]! Схожий вопрос об-
суждался и при подготовке Женевской Библии 1588 г., но на сей
раз он был решен обратным образом. Раньше пасторы критико-
вали примечания на полях, соблазняющие читателя, не читаю-
щего богословских комментариев и удовлетворяющегося вы-
держками; теперь победила противоположная точка зрения:
«Не у всех есть возможность читать полные комментарии, и доста-
точно твердо суждение, чтобы собирать и хорошо выбирать в них
существенное» [32].
Забота о продвижении хорошего чтения здесь заходит уже да-
леко. Таким образом, крупнейшие церкви Реформации проя-
вляют волю к контролю за чтением. Только некоторые марги-
налы защищали противоположную позицию. В Цюрихе анабап-
тисты оставались верны первоначальным тезисам Цвингли и ра-
дикальному толкованию Писания:
«С тех пор, как мы взяли в руки Евангелие и вопросили Его по всем
возможным пунктам, мы многому научились и открыли много по-
стыдных ошибок у пасторов» [33].
Спиритуалисты заняли сходную позицию с некоторыми ню-
ансами: они не соглашались ни на какое авторитарное вмеша-
тельство при общении со святыми книгами. Их позиция тесно
связана с убеждением в превосходстве Духа над буквой. В «Праж-
ском манифесте» 1521 г. Томас Мюнцер осуждает клириков,
предлагающих Писание, «коварно выкраденное из Библии с лов-
278
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
костью разбойников и жестокостью убийц». Лишь избранные
благословлены Словом Живым:
«Когда семя падет в добрую землю, т. е. в сердца, полные страха
Божия, там обретает бумагу и пергамент, на коих Бог пишет не чер-
нилами, но живым Перстом Своим истинное Священное Писание,
коему Библия истинное свидетельство».
Но Мюнцер знает, что живет в обществе, не слишком при-
способленном к индивидуальному чтению. Поэтому он в начале
«Проповеди перед князьями» 1524 г. выражает пожелание,
«чтобы служители Божии, ревностные и неутомимые, каждый
день разносили Библию пением, чтением и проповеданием». По
той же логике он хотел бы, чтобы богослужение происходило на
языке, понятном народу. Он желает, чтобы Библию читали на-
роду вслух, чтобы тот мог взять ее себе. Правда, этот идеал вскоре
был изменен, и Мюнцер заменил библейскую речь своей соб-
ственной проповедью [34].
Почтительней всего относился к священному тексту школь-
ный учитель Валентин Иккельзаммер. В памфлете 1527 г. этот
ученик Карлштадта яро защищал чтение Библии. Он полагал, что
живет во вдохновенные времена новой жизни. Никогда еще уме-
ние читать не было так драгоценно, как в это время. Отныне каж-
дый может сам по себе читать Слово Божие. Более того, каждый
христианин «может судить о нем, притом сам от себя» [35].
Каспар Швенкфельд не только подвергает сомнению цер-
ковные комментарии, но и саму букву Писания. В одном из
писем 1527 г. он так объясняет это:
«Вера — действительность духовная и внутренняя [...], она не может
иметь источника в реальности зримой, во внешнем слове писан-
ном и звучащем [...]. Свободно передается слово Бога Живаго. Оно
не связано с вещами видимыми, ни со служителем, ни со служе-
нием, ни со временем, ни с местом» [36].
Швенкфельд склоняется к индивидуалистическому христи-
анству, где растворяется и связь с Писанием.
Позиция «за» или «против» чтения Библии ведет нас к самому
фундаментальному спору. Христианство считает себя религией
ГЛАВА 8
279
Слова (Logos) и Книги (Biblos), призывая к двум противопо-
ложным, на первый взгляд, способам коммуникации. Верно, что
при рождении христианства письменная передача божествен-
ного послания ничуть не отражала желания ввести два парал-
лельных типа коммуникации. Христианская религия подразу-
мевала живое и спонтанное присутствие Слова. Книга нужна
лишь для того, чтобы сообщение стало непреходящим, давая
Слову гарантию верного запоминания.
С того момента, когда практика чтения становится всеобщей,
меняется и отношение к тексту. Письмо становится средством
прямой коммуникации. С этих пор сталкиваются две противо-
положных позиции. С одной стороны, есть убеждение, что уче-
ние Христа просто и адресовано всем. С другой стороны, из
страха ереси появляется желание контролировать проповедь. Это
фундаментальный спор между Библией для уха и Библией для
глаза [37], Церковью устной и Церковью печатной [38]. Эти
споры широко велись накануне Реформации. Лютер и Цвингли
дали им новый толчок, хотя вскоре распространение индивиду-
ального чтения было поставлено под надзор.
МНОГООБРАЗИЕ ЧТЕНИЯ
Для распространения реформы обращение к письменному слову
никогда не отделялось от устного. Все реформаторы были и про-
поведниками, и писателями, и профессорами, и авторами писем.
Устное слово по-прежнему сохраняло прочное первое место.
Судьбы протестантской книги многообразны. Систематическое
обращение к печатному станку свидетельствует о сознательной по-
литике тех, кто стоял во главе реформаторского движения. Уже
вскоре Лютер жалел о чрезмерном распространении своих книг:
«Я бы намного больше желал, чтобы росло число книг живых, си-
речь проповедников» [39].
Новым для XVI в. было то, что книга все шире расходилась в
мире, где основными связями между людьми были устные.
И действительно, информация шла по другим каналам: через
слухи, которые питались публичными и приватными диспутами,
280
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
объявления глашатаев, выкрики коробейников, проповеди, ко-
мические и полемические театральные представления, перепи-
ску, уличные песни и, наконец, публичные чтения. Привлекали
к себе внимание картины, зрелища и процессии. Итак, важно
отвлечься от нынешней ситуации, но никогда не терять из виду
вездесущности устного слова.
Общество было неграмотным. В какой мере? Этот вопрос
почти неразрешим. Роже Шартье считает, что отсутствие доку-
ментов не позволяет исчислить долю грамотных в Европе до
конца XVI в. [40]. Другие ученые настроены более оптимистично.
Р. Энгельзинг полагает, что к 1500 г. читать умело 3—4% насе-
ления Германии; в городах это число повышалось до 10 и даже
до 30% [41 ]. Для Англии Д. Кресси выводит долю грамотных как
10% мужчин и 1% женщин [42]. В таком образованном городе,
как Венеция, число посещающих в школу в 1587 г. доходит до
14% детей (26% мальчиков и 1% девочек), что дает представле-
ние о доле грамотных венецианцев [43]. Если эти цифры и на-
дежны, тогда тем более следует учитывать уровень неграмотно-
сти. Обычно умение людей читать доказывают тем, что они ста-
вили собственноручные подписи. Но уметь подписываться не
всегда означает уметь писать, да и связь между чтением и пись-
мом не односторонняя. Между умелым читателем, бегло вос-
принимающим много страниц подряд, и тем, кто мучительно
разбирает букву за буквой — пропасть. Элементарная грамот-
ность не рождает автоматически чтение про себя [44].
О роли книгопечатания в укоренении Реформации настой-
чиво говорят, начиная с XVI в., но лишь недавно стали изучать,
как именно это происходило. Дело в том, что история книги
считает важным для себя сместиться от текста к читателю. Те-
перь недостаточно установить репертуар изданий того или иного
времени, выяснить сеть типографов и книгонош, распростра-
нявших их: следует определить, как именно их читали, каким об-
разом эти тексты действовали в свое время.
Правдоподобнее всего предположить, что различные навыки
чтения были переплетены между собой. Наряду с безмолвной
позой читателя, вступающего в контакт с текстом без свидете-
лей, продолжали работать другие способы доступа к тексту: чте-
ние про себя вполголоса, чтение для немногих в узком кругу
людей, коллективное чтение литургического типа, где-либо со-
ГЛАВА 8
281
вершающий богослужение читает для всех, либо каждый следит
по своей книжке за общим чтением.
Есть ли возможность выйти за пределы этих общих положе-
ний и наметить некоторые важнейшие линии такого разнообра-
зия? На этом пути, безусловно, следует соблюдать осторожность,
предлагая скорее гипотезы, нежели установленные факты. Не-
которые категории изданий, видимо, были связаны с опреде-
ленным типом чтения: иногда лишь вслух, иногда только про
себя. Но были и такие книги, которые предназначались и для
индивидуального, и для коллективного чтения.
Помимо внешних свидетельств, стоит рассмотреть саму книгу
и задаться вопросом о намерениях ее создателей. Ее материальное
представление — формат, верстка, иллюстрации и т. д. — дает цен-
нейшие указания о том, какой способ чтения имел в виду изда-
тель. А. Петруччи нашел очень удачное выражение, говоря о «кни-
гах для пюпитра, книгах для котомки и книжечках для рук» [45].
Формат автоматически обращает к тому или иному типу чтения.
Если фолиант предполагает пюпитр, то маленькая книжка в шест-
надцатую долю позволяет «держать ее в руках дома, не обременяет
на улице и даже дает легко прогуливаться с нею за городом» [46].
Но не надо обманываться: существует существенное различие
между аудиторией книги (теми, кто ее действительно читает) и пуб-
ликой книги (теми, кому автор и издатель ее предназначают). Не
надо путать планы издателя с реакцией читателя, даже если изда-
тели и читатели тесно связаны между собой [47].
Популярность полемики иллюстрируют наплывом «летучих»
изданий, затопивших Германию в первой половине XVI в. Затем
эта своеобразная «агитационная кампания» повторялась и в дру-
гих странах: в Англии около 1540 г. (после падения канцлера
Кромвеля) [48], во Франции, начиная с 1561 г. и до конца ре-
лигиозных войн, а в Нидерландах с 1565 г. на протяжении войн,
приведших к независимости Соединенных Провинций [49].
Недавние исследования, в частности, Р. У. Скрибнера, пока-
зали, что этот тип изданий предназначался для чтения вслух, о
чем свидетельствует ряд согласных друг с другом источников
[50]. Анализ стиля свидетельствует, что в них преобладают уст-
ные интонации проповеди или диалога: это не столько писаные
тексты, сколько записи произносимого вслух текста. Кроме того,
влияние этих изданий на в большей мере неграмотное общество
282
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
нельзя предположить без посредства устной речи. Этот факт под-
тверждается и тем, что в таких брошюрках часто используются
иллюстрации, чтобы не сказать карикатуры: устное общение под-
крепляется зрительным. Цвингли, когда на него обрушилась про-
паганда Гребеля, прекрасно описал это предприятие — более
устное, чем письменное: «Они ведут спор на всех углах, на ули-
цах, в лавках — везде, где только могут» [51].
Таким образом, увеличение числа памфлетов в XVI в. гово-
рит не о прямой, а о косвенной письменной коммуникации. Как
отмечает Скрибнер, «те следствия их размножения, которые
обычно приписывают письменному слову, были вызваны,
прежде всего, воздействием устного слова» [52].
Реформация и Контрреформация способствовали значитель-
ному распространению катехизисов. Лютер, имея в виду простое,
с детства начинающееся христианское образование, сильно по-
ощрял чтение катехизиса. Это было связано с движением, коре-
нящимся еще в Средних веках. Лютер, как и Иоанн Гереон в
XV в., убедился, что религиозное возрождение наталкивается на
невежество масс и просветительскую бездарность многих па-
стырей. Он прямо говорил об этом в предисловии к Большому
катехизису 1529 г. [53]. Еще дальше он идет в «Малом катехи-
зисе», создавая образец катехизиса для семейного чтения: ос-
новные тексты (десять заповедей, «Отче наш», «Верую») должны
учиться наизусть, а потом комментироваться отцом семейства.
Очень скоро, как мы видели, Лютер пришел к желанию видеть
в руках каждого именно этот тип изданий, а не Библию.
Кальвинистская Реформация, как подтверждается библио-
графическими данными, тоже отводила катехизису большое
место. Хотя число изданий Библии и Нового Завета было велико,
это было ничто по сравнению с катехизисами и псалтырями.
Нет сомнений, что наши оценки ниже действительного количе-
ства, поскольку эти обиходные книжки часто терялись.
Между тем, чтение катехизиса — такое занятие, где господ-
ствует устное слово. Объяснению катехизиса предшествует заучи-
вание наизусть [54]. Книга, конечно же, была необходима: текст
читался вслух главой семьи или учителем, а ребенок, слушая его,
молча следил по своей книге. В этой разновидности письменного
текста книга — подпорка для памяти. Никакого нового сообще-
ния при этом никто не получает. Но этим типом скромного обу-
ГЛАВА 8
283
чения нельзя пренебрегать, как нельзя недооценивать и его влия-
ния на обучение чтению.
Кроме того, реформаторы постоянно занимались обновле-
нием богослужения. Несмотря на некоторое сопротивление, о
котором мы говорили выше, повсюду произошел переход на на-
родные языки, а главное место в службе было отведено общему
пению (чтению нараспев). Кальвин и Буцер больше были
склонны к безыскусному одногласному пению («всегда нужно
беречься, как бы уши не внимали гармонии пения больше, не-
жели души духовному смыслу слов» [55]), Лютер же, хотя и за-
ботился о согласии текста с мелодией, не удержался перед оча-
рованием полифонии [56].
Таким образом, литургическая реформа требовала составления
новых сборников. В Страсбурге у Буцера и в богослужении каль-
винистов Псалтырь стал почти единственной формой богослу-
жебного песнопения. Немецкие же гимнарии включали и другие
тексты. Создание этого музыкального фонда в Германии, Женеве,
Англии [57], Нидерландах и других местах потребовало несколь-
ких десятилетий. Путь проложило еще гуситское движение XV в.
Первые немецкие гимнарии были напечатаны в 1524 г. Ре-
форматы-кальвинисты около 1550 г. приступили к распростра-
нению сборника из трех частей, включавшего стихотворную
Псалтырь (тогда переведенную еще не полностью), катехизис и
служебник. Когда же в 1562 г. стихотворный перевод псалмов
был завершен, приступили к типографской операции огромного
размаха: за два года в одной лишь Женеве было отпечатано при-
мерно 30 тыс. экземпляров [58].
Но зачем были нужны эти сборники, особенно те, которые
издавались с нотами? Споры об одном из таких изданий, проис-
ходившие в Женеве в 1551 г., показывают, что реально певшиеся
мелодии сильно расходились с напечатанными. Большая часть
верующих не умела читать нот. Правда, некоторые умели, по-
скольку из-за опечаток иногда случалась неприятная фальшь в
пении [59], но и это лишь подтверждает, что книга и тут была
главным образом подпоркой для памяти.
Один чешский католик по имени Вацлав Штурм в 1588 г.
точно указал на пагубное (с его точки зрения) действие таких
книг для пения. Он говорит о сборнике песнопений моравских
братьев 1576 г.:
284
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
«Он есть у всех: благородных и подлых, бедных и богатых. И раз
они поют все вместе в собраниях и по домам, те, кто лишь мало
умеет читать, по книгам песнопений составляют для народа и тол-
куют ему эти песнопения» (60].
Таким образом, печатная книга служила и малограмотным
людям.
Библия, конечно, была изданием, которое могли читать са-
мыми разными способами. Опасения реформаторов перед неу-
правляемым доступом к Священному Писанию привели к тому,
что это чтение стало тесно связано с посещением проповедей.
Когда в 1552 г. Пьер Навьер в Лионе оправдывал перед католи-
ческим судом общедоступность Писания, он устанавливал стро-
гую связь между чтением и проповедью. Навьер ссылался на
утверждение древних учителей Церкви, что «должно пришед-
шим на проповедь прочесть то, о чем будет проповедано, да
лучше вонмут» [61].
Практика лютеран и кальвинистов в этом вопросе различа-
ется, пожалуй, некоторыми нюансами. В Германии и Сканди-
навских странах издания Библии в XVI в. предназначены глав-
ным образом для приходов и пасторов [62]. В Нидерландах же,
где грамотность была распространена шире, а типографское про-
изводство, соответственно, было значительней, много Библий
оказалось и в семьях [63]. Кальвинизм, прочнее укорененный в
городской буржуазной среде, больше поощрял индивидуальное
чтение Библии.
Во всяком случае, отличие лютеран от кальвинистов показы-
вает уже сравнение форматов, применявшихся теми и другими.
Лютеранские печатники выбирали преимущественно формат ин-
фолио, что ведет к коллективному (богослужебному или семей-
ному) чтению; реформаты печатали примерно поровну Библий
ин-фолио, ин-кварто и ин-октаво. Это было следствием созна-
тельной политики, поскольку и пересмотренное под надзором
женевских пасторов издание 1588 г. сразу вышло в трех форма-
тах, что предполагает, наряду с коллективным чтением, и более
частое индивидуальное чтение.
Пользование этими Библиями ставит и еще одну проблему.
Священный текст сопровождался несколькими вспомогатель-
ными текстами, предлагавшими несколько параллельных под-
ГЛАВА 6
285
ходов к основному. Некоторые из этих приложений находятся в
начале и в конце книги: предисловия, указатели, резюме. Но су-
ществуют также примечания на полях с отсылкой к ним от тек-
ста или без нее. Они дают сведения филологического, бого-
словского или литургического характера, встречаются также
ссылки на параллельные места. Как читатель ориентировался в
этих глоссах? Небезынтересно напомнить по поводу этого «па-
ратекста», что католические церковные власти больше боялись
этих комментариев на полях, чем выполненных протестантами
переводов.
Там, где бой с открытым забралом был слишком опасен: в
Италии, Франции, Нидерландах — одним из каналов проник-
новения идей Реформации были книги для благочестивого чте-
ния и духовного размышления, особенно в первой половине
века. Через эти сочинения, нарочито нейтральные по оформле-
нию и скрыто неортодоксальные по содержанию, переносились
религиозные разногласия. Писания реформаторов предлагались
в них либо в верных переводах, либо в переработках с различ-
ными переделками и вставками. Влияние Лютера по сравнению
с Цвингли в них преобладало не без некоторой доктринальной
расплывчатости, потому что реформаторская позиция Лютера
смешивалась с реформистскими взглядами Эразма. Некоторые
из особенно характерных евангелических сочинений были по-
священы утешению в болезнях и смерти, например Каспара Гу-
берина (Caspar Huberinus) и Урбана Регия (Urbanus Rhegius) [64].
Эти произведения по самой своей природе предназначались
для индивидуального чтения, на одной линии с такими настав-
лениями в благочестии, как «Devotio modema». Но немногочис-
ленные свидетельства об их влиянии указывают скорее на кол-
лективное чтение с последующим обсуждением небольшими
группами в ремесленных мастерских или в частных домах. Так,
в Нидерландах в 1520—1540-е гг. обнаружилось несколько круж-
ков, в которых читали вслух Библию и духовные сочинения [65].
Итальянские источники свидетельствуют, что протестанты про-
никали в братства, созданные для чтения назидательных тек-
стов, вроде житий святых и даже полемических произведений,
например Савонаролы. Это происходило даже в монастырях: в
1547 г. францисканец Стефано Боскайя на допросе в инквизи-
ции показал, что участвовал в общем чтении «Трагедия свободы
286
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
выбора» (Tragedia del libero arbitrio) Франческо Негри, впервые
опубликованной годом ранее [66]. Аналогичные случаи встре-
чаются по всей Европе, так что доступ к книгам получали и не-
грамотные.
Начиная примерно с 1545 г., воздействие Кальвина и Женевы
сплотило религиозных диссидентов во Франции и Семнадцати
Провинциях. Церкви «поднялись», говоря языком того времени,
получив хотя бы зачатки единого культа и дисциплины. Чтение
вслух при этом сохранило свое место. Так, в 1561 г. в Турне один
из столпов протестантской общины Жан де Ланнуа
«трижды приходил в дом к [Барб Эмри] читать ей некоторые главы
из Евангелия, Апокалипсиса и прочих, и пел там затем некоторые
из псалмов [...]; и сказанный ткач [Ланнуа] читал Писания и тол-
ковал их и пересказывал, как ему было угодно».
Иногда в таких кружках, открытых правосудием, насчитыва-
лось до дюжины человек [67].
Но устойчивость чтения вслух в реформатских общинах, не-
сомненно, подкреплялась и практикой индивидуального чтения.
Некоторые книги в XVI в. читались главным образом в ти-
шине ученых кабинетов. Это книги, предназначенные тем спе-
циалистам, которых Теодор де Без называл «людьми уже выш-
коленными и сведущими в таковых предметах» [68]. Экзегети-
ческие и богословские трактаты, написанные обычно по-латыни,
явно предназначались читателям, способным читать про себя. Во
всяком случае, эти книги были индивидуальными средствами
коммуникации. Это следует, например, из письма Валентина
Гартунга, пришедшего в восторг от сочинений Кальвина:
«Я их читаю и перечитываю, иногда не без слез, а чаще чувствуя
действие благодати [...]. Сколько могу, подвигаю и всегда буду под-
вигать всех наших учеников и друзей делать то же» [69].
Эта картина говорит о молчаливом чтении как самого кор-
респондента Кальвина, так и его друзей.
Очень быстро эти произведения, рассчитанные на ограничен-
ную публику, были переведены на народные языки, имея в виду,
конечно, менее образованных проповедников. Уже в 1524 г. Ле-
ГЛАВА 8
287
февр д’Этапль в «Псалмах Давида» обращался не к одним лишь
благочестивым мирянам. В предисловии он писал:
«И с тем наряду простые клирики, собравшись и читая стих за сти-
хом, легче уразумеют то,- что читают по-латыни».
И не для малообразованных ли служителей общины перево-
дились экзегетические комментарии Кальвина? Один из первых
таких переводов предназначался для «простых и неписьменных»:
«Для них сделан этот переклад [...]. Да пойдет им изложение сие
так же на благо, как тем, кому Господь наш дал дар разумения язы-
ков» [70].
Это расширение аудитории книги ставит вопрос: а умели ли
эти «неписьменные» читать? Подобные выражения: «невежды»,
«невегласы», «illeterati», «imperiti ас rudes» — часто обозначают
тех, для кого предназначены издания на народных языках. Джон
Фьютерер в предисловии к «Стеклянному зерцалу страстей Хри-
стовых» {The Myrrouror Glasse of Christes Passion) (1534) выражает
надежду, что сделал перевод, «полезный для читающих и слу-
шающих» [71]. Подобные выражения, намекающие на чтение
.-вслух, слишком редки, чтобы можно быть в чем-либо уверенным.
(Вопрос остается открытым.
Чтение вслух могло быть отправным пунктом для устных тол-
кований. Когда польский король Сигизмунд Август в 1551 г. по-
желал получить сведения о протестантстве, он обратился к Фран-
ческо Лисманини. Дважды в неделю, по средам и пятницам, он
приглашал его за свой стол и просил прочесть несколько страниц
из «Установлений» Кальвина [72]. Это чтение, иногда одной крат-
кой главы, вполне естественно переходило в богословский спор.
Полемические тексты предназначались главным образом для
индивидуального чтения. Довольно скоро главные догматиче-
ские пункты, особенно в отношении евхаристии, глубоко раз-
делили протестантов. Диспуты, нередко технического характера,
выносились на площадь в многочисленных памфлетах. В своей
переписке реформаторы не скрывали того, какое значение при-
дают этим изданиям. Они желали узнать, что предпринял про-
тивник, как можно скорее, если надо, даже до выхода из печати,
288
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
чтобы немедленно дать еше один необходимый, на их взгляд,
ответ. Хороший пример — переписка строгого лютеранина Иоа-
хима Вестфаля с его издателем Петером Браубахом. Будучи
в Гамбурге одинок, Вестфаль нуждался в постоянном контакте
с таким крупным книгоиздательским центром, как Франкфурт
[73]. Но обычно брошюрки такого рода не переиздавались, и это
показывает, что ученая богословская полемика (в отличие от
более популярных памфлетов, издававшихся во время «агита-
ционных кампаний») почти не находила спроса у публики.
Между тем, успех эгзегетических трактатов впечатляет: эти со-
чинения, часто толстые, а значит, дорогие, выходили из печати
регулярно [74].
ПРИСВОЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ТЕКСТОВ
Индивидуальное чтение может оказывать действие не только на
одного читателя в том случае, если он, убежденный прочитанным
текстом, становится пропагандистом почерпнутых из него идей.
В первые годы Реформации подобное происходило очень часто.
Несколько примеров дает Италия. В 1541 г. в келье пропо-
ведника Джулио да Милано, бывшего тогда членом ордена свя-
того Августина, конфисковали несколько еретических книг, в
том числе «Союз несогласных» Германа Бодия. Свидетельство
одного из братьев гласит, что многие слушатели следили за про-
поведями, которые брат Джулио произносил в Болонье в 1538 г.,
по книге Бодия, ибо монах «проповедовал по суждениям оного
до икоты». Аналогично в 1558 г. запрещенные книги были об-
наружены у доминиканца Джованни Рубео. Очевидец утверждал,
что монах имел привычку переписывать, иногда целыми стра-
ницами, отрывки из Буцера и Буллингера, Цвингли и Кальвина,
«коих держал спрятанными и запертыми в ларце в своей келье»,
а затем вставлял эти места в свои проповеди [75].
Такая пропаганда, расходившаяся концентрическими кру-
гами, существовала не только в Италии. Достаточно вновь на-
звать рабочего-ткача из Турне Жана де Ланнуа. Вследствие при-
лежного изучения Библии и трудов Кальвина, он стал, как пе-
редавали, способным «спорить о Писаниях без книг, ибо знал
их все наизусть» [76].
ГЛАВА 8
289
Лютер, со своей стороны, считал проповедь наилучшим ка-
налом распространения истинного учения. По его суждению:
богословские труды не предназначены для обыкновенных людей:
их задача — дать возможность «богослову и епископу получить доб-
рое и предостаточное образование так, чтобы способны были из-
ложить учение благочестия» [77].
Кальвин, со своей стороны, с радостью видел, как действуют
его книги на читателей. Одному корреспонденту из герцогства
Вюртембергского, писавшему ему в 1554 г. о своем восхищении
его писаниями, Кальвин отвечал, что это признание весьма его
ободрило:
«В сем веке, столь дурном, есть же и благочестивые, ученые люди,
которые не удовлетворились чтением наших толкований для себя
самих, но подвизались и распространять извлеченные из них блага
дальше, честно передавая их из рук в руки» [78].
Впрочем, Кальвин не смешивал проповедь с чтением вслух.
Чтобы как-то уменьшить невежество английского духовенства,
при Эдуарде VI в 1547 г. был издан сборник проповедей, кото-
рые пасторам полагалось читать каждое воскресенье во время
службы. В 1549 г. в письме герцогу Сомерсету Кальвин выска-
зал свое осторожное неодобрение этой затеи. Он желал бы на-
стоящей проповеди, «чтобы народ научался, будучи задеваем за
живое», и добавлял:
«так говорю [...], ибо кажется мне, будто мало в королевстве живой
проповеди, а большей частью сказывают их, как будто читают» [79].
Усвоение текста читателем было его глубоко личной за-
ботой, заключающейся в выборе и переработке написанного.
По словам Мишеля де Серто, «чтение — это браконьерство»
[80]. Письменный текст представляет собой последователь-
ность слов, строк и страниц, которые следует проходить по-
следовательно от начала до конца, но этим не ограничивается
свобода читателя раскрывать это пространство так, как ему
угодно. Более того, читатель, не оставаясь пассивным относи-
290
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
тельно текста, отнюдь не обязательно принимает его ценности
и идеи.
Первое свидетельство тому нам дают многочисленные манипу-
ляции с текстами, которыми занимались издатели XVI в. Если что-
то в сочинении им нравилось, они ничтоже сумняшеся эти места
и воспроизводили, иногда давая им другое направление. Подробно
разобранные примеры тому: «Книга об истинной и совершенной
молитве» {Livre de vraye et parfaite oraisori), c 1528 no 1545 г. разно-
сившая в среде католиков переработанные тексты Лютера и Фа-
реля, а также итальянская версия «Катехизиса» Кальвина 1545 г.,
представлявшая его учение о евхаристии в лютеранском духе [81].
Другое доказательство такого «дикого» чтения — то, как порой
читатели пользовались некоторыми полемическими сочине-
ниями. В трактате доминиканца Сильвестро Маццолини да
Приерио «Против горделивых заключений Мартина Лютера о
папской власти» счастливые читатели впервые в Италии обна-
руживали 95 тезисов Лютера, поскольку мажордом Святейшего
Дворца счел нужным ради опровержения воспроизвести их це-
ликом. Затем римские власти заметили, что этот прием ведет к
обратному результату и запретили цитировать еретические тек-
сты даже в целях опровержения [82].
Но процессы итальянской инквизиции позволяют пойти даль-
ше и определить, что читатели брали из текстов, лежавших перед
ними. С. Зейдль-Менки показал, что они чаще всего не следили
за аргументацией книги целиком, а обращали внимание на одну
из тем, вырывая ее из контекста. Францисканец Стефано Бо-
скайя, которого мы уже упоминали, в двух словах выражает всю
сложнейшую богословскую аргументацию «Трагедии о свободе
воле» Франческо Негри: «Благодать обезглавила свободную
волю». Весьма сложный текст он упрощает до предела. Более
того, итальянский читатель того времени был, как видно, даже
более склонен выделять в тексте то, что относится к повседнев-
ной жизни. Это показывает дело Зуане из Неаполя, арестован-
ного в 1568 г. за дела, совершенные шестью годами ранее. Он
читал книгу, где Антонио Бручоли в довольно свободной пере-
работке давал три первые главы «Установлений христианской ре-
лигии» Кальвина 1536 г. Это очень солидный текст, где выдви-
гаются фундаментальные категории реформатского богословия.
Но Зуане из него запомнил лишь несколько побочных тем: о вре-
ГЛАВА 8
291
мени и способе молитвы, о том, что относилось к питанию и
культу изображений. И это поразило его настолько, что перевер-
нуло всю жизнь [83]!
АВТОРИТЕТ ПИСАНОГО ТЕКСТА
Письмо — гарантия подлинности. Это было справедливо и для
первых веков Церкви, и для XVI в. Более того, авторитет, есте-
ственно принадлежавший Библии, переносился и на другие ре-
лигиозные письменные тексты.
Книга весьма значительно поддерживала деятельность пропа-
гандистов Реформы перед аудиторией, и грамотной, и неграмот-
ной. В 1543 г. в Удине донесли, что францисканец Франческо Гар-
зотго «всегда ходит по улицам с посланиями апостола Павла в
руках». Поскольку он в любой момент мог извлечь из книги авто-
ритетную ссылку, собеседники во всяком споре о вере оказыва-
лись в невыгодном положении. В 1547 г., когда Пьетро Ваньола
(Pietro Vagnola) поселился в Гриньяно Полезине, чтобы нести идеи
Реформации крестьянам, о нем говорили, что он «непрерывно за-
нят изучением еретических и лютеранских книг, которые держит
дома и никогда не выпускает из рук». Когда же один крестьянин
в защиту мессы сослался на авторитет Предания, Пьетро Ваньола
показал ему страницу печатной книги. Несчастный крестьянин
исповедался инквизитору: «Как же быть, он говорит по книгам,
так приходится терпеть», — иначе говоря: авторитету книги нельзя
не подчиниться [84].
Предъявлению письменного текста на публичной арене
могли придать весомость и другие факторы. В 1543 г. импера-
тор Карл V созвал имперский сейм в Шпейере для усмирения
религиозных раздоров. Некоторым реформаторам это пред-
приятие показалось опасным. Буцер убеждал Кальвина выпус-
тить в свет публичный адрес императору:
«Книгу, написанную для императора, прочтут и многие другие.
В ней будет больше весомости, и благодаря такому сочинению удоб-
нее будет требовать справедливости и публично, и приватно. [...]
Если же тебе противно взывать к императору, напиши королям и
князьям, имеющим желание собраться на сейм».
292
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
Кальвина эти доводы убедили, и он проследил, чтобы его
«Умоляющее призывание к Карлу V» было напечатано крупным
шрифтом, «добре читаемым и вида доброго» [85].
Подобно языку в басне Эзопа, книга — и лучшая, и худшая
из вещей. Это заметил один горожанин из Цуга в 1556 г., когда
из толкования одного библейского стиха разгорелся религиоз-
ный конфликт: «Ложь так же легко напечатать, как истину» [86].
На взгляд реформаторов, слишком многие издания разносили за-
блуждения. В 1554 г. Кальвин жаловался Пьетро Мартире (на-
стоящая фамилия — Вермильи) на «темный лес книжный» и го-
ворил о срочной потребности «в толкованиях важных, толковых
и надежных от людей богобоязненных и благомыслящих, ува-
жаемых столько же, сколь и разумных»: такие смогут «отвергнуть
мечты нелепые путающих вся» [87].
Но есть нечто и поважнее: порча самого слова Божьего. С этой
проблемой столкнулся Лютер, переведя на немецкий язык Новый
Завет. Реформатор сразу же увидел, как появилось множество не-
авторизованных изданий. Поначалу он обрадовался, но вскоре ра-
зочаровался: наспех сделанные перепечатки разносили испорчен-
ный текст. Чаша переполнилась, когда Лютер убедился, что Иеро-
ним Эмсер воспользовался его переводом для отредактированного
на католический лад издания [88]. Столь же агрессивно нападали
кальвинисты на французский перевод Библии, предложенный Се-
бастьеном Кастельоном. Их бурная реакция была соразмерна
опасности: потрясалась самая основа религиозного дискурса.
Кроме того, многими книга воспринималась как памятник,
предназначенный не для читателей и претендующий на суще-
ствование вне пределов времени автора. Двух примеров доста-
точно, чтобы показать, что Кальвин и его окружение сознавали,
что печатное слово в каком-то смысле вечно. 1542 г. выдался для
Кальвина особенно трудным, потому что надо было срочно обу-
страивать жизнь женевской церкви, и ни на что другое времени
не оставалось. В это самое время Фарель просил его записать свои
чтения о книге Бытия. Кальвин ответил, что ему некогда:
«Ежели продлит Бог жизнь и даст досуга, то, возможно, и примусь
за такой труд [...]. Ибо главная моя забота — служить своему веку
и тому, к чему ныне призван. При благоприятном же случае по-
стараюсь посвятить себя иному в другое время» [89].
ГЛАВА 8
293
Итак, в тот момент он утверждает, что прежде всего нужно
служить «своему веку» конкретными делами, а работу более дол-
говечную, для будущих поколений, откладывает на «другое
время». Фарель не забыл этого урока и два года спустя писал
Кальвину, прося написать опровержение одного анабаптист-
ского сочинения:
«Все мы знаем, что ты переобременен трудами и много другого име-
ешь изложить не только для нынешних людей, но и для потомства,
особенно изъясняя Писание» [90].
Эта диалектика кратковременного и долговременного труда
в письме заслуживает более подробного изучения. Для наших
целей здесь достаточно указать на сложный характер связи между
автором и читателем.
Увеличение числа письменных текстов ставит также вопрос,
который, насколько нам известно, историки чтения еще не фор-
мулировали. Когда реформаторы обменивались полемическими
доводами, иногда стоя на кафедре или городской площади,
иногда же рассылая их на страницах, покрытых черными печат-
ными значками, отдавали ли они себе отчет в специфике каж-
дого из средств информации? Для текстов, ходивших в Герма-
нии в виде первых памфлетов, ответ, кажется, должен быть отри-
цательным: эти издания — запись устной речи, а не сочинения,
задуманные для чтения про себя.
Работы Френсиса Хигмена показали, что Кальвин был соз-
дателем французского языка. От своих современников он отли-
чался тем, что отказался от пышного стиля с бесчисленными
вводными предложениями. Кальвин предложил стиль крепко
сбитый и просто скроенный — «картезианский», скажем мы, до-
пуская сознательный анахронизм [91]. Но нельзя ли в этом ана-
лизе пойти дальше? Осознавал ли он отличие письменного тек-
ста от произнесенного? То, каким образом Кальвин надзирал за
записью своих проповедей, на первый взгляд, несообразно: он
внимательно следил за точной фиксацией текста, но не желал
его распространять!
С одной стороны, Кальвин принимал и поощрял запись своих
проповедей. В 1549 г. был создан секретариат для их стеногра-
фирования во главе с Дени Рагенье; до того были и другие опыты.
294
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
В 1547 г. секретаря, способного выполнять такую работу, искал
сам Кальвин [92].
С другой стороны, когда речь заходила об издании проповедей,
Кальвин сопротивлялся. Предисловие первого издания 1546 г. так
и начинается: «Поелику автор отнюдь не одобрил печатания своих
проповедей...». Под конец жизни реформатора, в 1562 г., Жак Ру,
другой издатель проповедей, признавался, что добился разреше-
ния на издание «не без великого труда, с чем, конечно, не станут
спорить те, кто его запросто знает». Лишь одно издание вышло с
согласия самого Кальвина: «Четыре проповеди» (1552). Конрад
Бадиус, напечатавший при жизни Кальвина несколько серий его
проповедей, в предисловии 1557 г. говорит недвусмысленно:
Кальвин «никогда не был того мнения и не желал дозволять, чтобы
какие-либо из них, кроме четырех, предали тиснению для облегче-
ния участи несчастных, взыскующих евангельской свободы [...]. На
прочие же, с той поры прибавленные к тем четырем, согласия до-
бивались лишь нехотя и силою, а вернее надоедливостью, а не доб-
рой волею и согласием» [93].
Издание «Четырех проповедей» дает и первое объяснение та-
кому нежеланию. В этом издании Кальвин отдает в печать не за-
метки стенографов, а пересмотренный и «приведенный в порядок»
текст. Поэтому против простого воспроизведения его проповедей
у него были стилистические возражения. Это подтверждается и
письмом 1546 г. [94]. Да и слишком домашний стиль «Двух про-
поведей» того же года не слишком понравился Фарелю:
«Проповеди твои были мне очень приятны, — писал он Кальвину, —
хотя я желал бы, чтобы ты обработал свою речь несколько тщатель-
нее, как обыкновенно поступаешь» [95].
Жирар в предисловии к «Двадцати двум проповедям» 1554 г. го-
ворит еще яснее: Кальвин предпочитает «при благоприятном слу-
чае напечатать краткое какое-либо толкование, а не тратить бу-
магу на долгие доводы, какие излагаются с амвона». В предисло-
вии к изданию 1558 г. ему вторит Бадий, отмечая, что Кальвину
сдается, будто его проповеди, «чтобы очам каждого явлены были»,
следовало бы изложить по-иному. И не только по недостатку вре-
ГЛАВА 8
295
мени он не хочет «пересмотреть их, дабы выгладить». «Когда бы
желал он выставить их напоказ, то весьма мог бы сделать гомилии
совершенно новые и лучше возделанные, а не переделывать нечто,
уже однажды сказанное без приготовления». Объяснение, данное
Жаком Ру в 1562 г., не столь ясно, но также содержит намек на
чтение глазами. Как он пишет, Кальвин произнося свои пропо-
веди, «желал только послужить стаду, кое Бог вручил ему, уча его
по-домашнему, а не составлял гомилии на досуге, дабы глазам
всех представить» [96]. Ясно, что Кальвин — мастер как разговор-
ного, так и письменного языка — сознавал разницу двух стилей.
Он желал передать издателю более обработанные и сжатые тек-
сты. В его время это едва ли было общим явлением. Но догады-
вался ли он об особенностях чтения глазами и о требованиях к тек-
стам, «являемых очам каждого» и «представленных глазам всех»?
Оглядев весь представший перед нами горизонт, вероятно,
приходим к противоречивому выводу в отношении истории чте-
ния: Реформация изменила все и ничего!
Если протестантские Церкви к концу XVI в. утвердились, то
революции в отношении к письменному тексту, кажется, не про-
изошло. В религиозной области устное слово сохранило первое
место. Как хорошо сказал Иоганн Бренц, вера зависит от про-
поведи, а форм проповеди он знает три: самая важная — произ-
носимая с амвона, ее дополняют, с одной стороны, чтение, с дру-
гой — пение [97]. Напуганные обилием неортодоксальных идей,
опиравшихся на неуправляемое чтение, реформаторы создали
полицию в теологической области.
Доступ к Библии предпочтительно давался во время богослу-
жения и в семье; читались тексты, размеченные авторизован-
ными комментариями. Народное чтение поощрялось лишь в
пределах катехизиса и литургических текстов. Важно было не
звать на поиски новых смыслов, а обеспечить устойчивость эле-
ментарного христианского учения.
Таким образом, сознательная политика по-прежнему огра-
ничивала возможности чтения про себя. Страх перед поводами
к недовольству, которые оно может подать, был не лишен ос-
нования. Так что преобладание устной формы чтения в эпоху Ре-
формации, по-видимому, нисколько не подвергалось сомнению.
Но так ли все было? Неужели первое движение доверия к
письменному тексту вместе со всем вытекающим из него пере-
296
ЖАН ФРАНСУА ЖИЛЬМОН
смотром средневековых церковных авторитетов не оставило ни-
какого следа в протестантском обществе? Призыв к христианам
самим читать Библию, конечно же, потряс определенную кон-
цепцию сакрализованного «Священного Писания».
Более того, ежедневный контакт с книгой делал ее привычной.
Даже находясь в жестких рамках, протестанты стремились к чте-
нию. Средневековое христианство вовсе не поощряло овладения
священным текстом, будь то на слух или зрительно. Ученики Лю-
тера, Цвингли и Кальвина взяли книги в руки: иногда Библию, но
чаще катехизис, псалтырь, служебник. Конечно, на таких текстах
не просто научиться читать про себя, но постепенно к этому при-
ходили. Верующие обращались к текстам, уже известным им на-
изусть, и тем мало-помалу увеличивали число читающих.
Остается спросить, в каком направлении действовали эти
влияния. Вправду ли, последующее развитие чтения — эффект
протестантизма? Долгое время была принята мысль, что гра-
ница, разделяющая европейский мир в отношении к книгопе-
чатанию и чтению, коренится в конфессиональных различиях
XVI в.: с одной стороны, обильно читающие протестанты, с
другой — католики, более привязанные к устной традиции.
Ныне историки культуры не решаются объяснять массовое рас-
пространение грамотности лишь религиозным фактором. Ана-
лиз типографской продукции XV—XVI вв. проведен еще недо-
статочно, чтобы дать достоверные цифры на этот счет. Но уже
сейчас выявляется, что разрыв между Севером и Югом появился
раньше 1517 г. Кроме того, кажется, существуют важные раз-
личия между сельскими жителями, среди которых укоренилось
лютеранство, и более грамотными слоями населения, охвачен-
ными кальвинизмом. Последнее учение явно больше подходило
социальным группам, уже имевшим привычку к письму. Если
так, то вопрос меняется. Недостаточно констатировать, что про-
тестантство пропагандировало чтение: нужно различать, что
происходило в разных слоях, принимавших его. Как отмечает
В. Фрейхофф, «долг чтения, заявленный Реформацией, мог
привести к разным навыкам в зависимости от наличного обще-
ства» [98].
Что же происходило с чтением в связи с Реформацией? Не
что иное, как комплекс взаимовлияющих тенденций между об-
ществом и религией.
Доминик Жюлиа ГЛАВА 9
ЧТЕНИЕ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ
Реформация утвердила Священное Писание как единственный
источник веры (sola scriptura); в противовес ей Тридентский собор
вновь подтвердил необходимость, наряду с Писанием, Преда-
ния, устной передачи сокровищницы веры. Декретом от 7 апреля
1546 г. для католической Церкви была установлена равночти-
мость (pari pietatis affectu) Писания и «Предания, переданного от
Христа апостолам яко из рук в руки». Подчеркивая устный спо-
соб передачи веры (опираясь при этом на текст Послания к Рим-
лянам: fides ex auditu, auditus autem per Verbum Christi)' в тот мо-
мент, когда распространение технологии книгопечатания все
больше переворачивало отношение современного общества к
письменности, а Реформация видела в обращении к подлин-
ному тексту Писания единственный способ защиты от порчи
церковных институтов, Тридентский собор, основываясь на
некоей подразумеваемой антропологии, выдвигал на первый
план живое общение в лоне общины, но вместе с тем усили-
вал различие в роли клирика (отныне все более отождеств-
ляющегося со священником) и мирянина. Священнику должно
проповедовать собранию верующих, духовно направлять их в
индивидуальном общении (собор напоминал о требованиях
слова Божьего исповедоваться на ухо), мирянам — слушать и
запоминать то, что передано им голосом власть имущего.
Чтобы вступить на путь спасения, не обязательно прямо обра-
щаться к священным текстам; таким образом, недоверие ка-
толиков к чтению про себя имело теологическое и экклезио-
логическое обоснование, подкрепленное сильными аргумен-
тами, и об этом нельзя забывать, чтобы понять смысл дис-
... Вера от слуха, слух же глаголом Божиим (Рим 10, 17).
298
ДОМИНИК ЖЮЛИА
циплинарных текстов, постановленных в Тренто и впослед-
ствии римскими властями [1].
СОБОРНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
На четвертой сессии Собора (1546) епископы не только составили
список библейских книг, признаваемых каноническими, и опре-
делили латинский текст Вульгаты единственным подлинным тек-
стом Писания, но и записали, что они полагают верным спосо-
бом понимания текста: «в делах веры и даже нравоучения» никто
не должен дерзать,
«полагаясь на собственное суждение, тянуть Священное Писание
на свой особый смысл и давать ему толкования либо противные
тому, что дала Святая Матерь Церковь, которой принадлежит су-
дить об истинном смысле и толке Священного Писания, либо про-
тиворечащие единому суждению отцов Церкви» [2].
При существовании печатной книги из такой позиции выте-
кало два направления политики. С одной стороны, необходимо
было обеспечить строгий контроль за книгами, «трактующими
о священных предметах»: печатники и книгопродавцы были
обязаны предварительно отправить их на просмотр и одобре-
ние местному архиерею. В то же время, чтобы поставить пре-
граду значительному увеличению числа «подозрительных и
опасных» книг, которые «издалека и со всех сторон» приносили
ложное учение, отцы собора, разделившись, доверили папе за-
вершение цензурной работы, подготовленной соборной ко-
миссией. Фактически тем освящалась система «Индекса», пер-
вое издание которого по благословению Павла IV появилось в
Вечном городе в 1558 г. С другой стороны, подобало наладить
выпуск текстов, обеспечивающих единообразие обрядов во всей
Западной церкви. Декрет 1546 г. требовал, чтобы «Священное
Писание, особенно по древнему изданию и Вульгате, было в
скорейшем времени отпечатано елико возможно исправно». 4 де-
кабря 1563 г. отцы Церкви поручили папе также попечение о
пересмотре требника и молитвенника, а также о составлении
катехизиса. Единство Церкви должно было строиться вокруг
ГЛАВА 9
299
общих библейских, литургических и катехических текстов на
латинском языке.
Несомненно, можно заметить, что в тридентских текстах нет
двух важных вещей: не идет речи о запрещении мирянам читать
библейские тексты, а также о каком-либо переводе Писания.
Это молчание свидетельствует об открытом конфликте среди
отцов собора, который папские легаты, видя невозможность его
разрешения, предпочли затушевать. Тем более не шло речи о пе-
реводе литургических текстов: мессу полагалось служить по-ла-
тыни, а отдельные места канона, например молитвы при освя-
щении даров, священник должен был произносить вполголоса
(submissa voce). Тут-то и являлись во всем своем значении уст-
ные «экспликации»: пастырям подобало, «да не страждут овцы
Христовы гладом и да не просят младенцы хлеба, не имуще, кто
подаст им», объяснять им «нечто на литургии читаемое» и осо-
бенно объяснять «иные из тайн Пресвятого Причастия, особливо
в воскресные и праздничные дни» [3]. Особое внимание собора
к наставительной роли пастырей в проповедании слова Божьего
и обучении катехизису вполне естественно приводило к быстрой
публикации официальных текстов, предназначенных первона-
чально для них. Римский требник, в составлении которого боль-
шое участие принимали театинцы, вышел в свет в 1568 г. Он пол-
ностью сохранял, лишь подправляя старый текст, ход тради-
ционной средневековой службы, который делал богослужение
нарочито созерцательным, но для утренней службы все же отво-
дил больше места Писанию, хотя и без того дидактического и
гуманистического направления, который пытался внести в треб-
ник, представленный Павлу III в 1535 г., генерал францискан-
цев Франсиско Киньонес. Новый Римский молитвенник, полу-
чивший благословение Пия V в 1570 г., также не давал Писанию
более широкого места в совершении литургии, воспроизводя
средневековую систему библейских чтений и перикоп, в основ-
ном установившуюся в VIII в. Фактически с того момента, как
собор поддержал совершение божественной литургии на латыни,
основной задачей римской Комиссии по пересмотру богослуже-
ния стали не глубокие перемены чина, а богословски обосно-
ванное единообразие литургических формул и действий. «Кате-
хизис по постановлениям Тридентского собора», издававшийся,
начиная с 1566 г., явно, даже самим заглавием, адресован при-
300
ДОМИНИК ЖЮЛИА
ходским священникам (ad parvchos), а не прямо к пастве: свя-
щенство должно было пояснять его устно, «дабы народ церков-
ный приступал к таинствам, имея больше страха Божия и веры».
Составляя этот практический «концентрат» (condense) богосло-
вия, члены комиссии, работавшие под руководством племян-
ника Папы Пия IV кардинала Карло Борромео, просто свели
вместе четыре части традиционной катехизации (Апостольский
Символ Веры, Таинства, Десять заповедей, «Отче наш»); имея
эти «общие места Священного Писания», христианин имел «из-
вестным почти все, что может желать узнать». По своему чита-
тельскому предназначению тридентский катехизис стал единст-
венным текстом, который собор специально предписал пере-
вести на народный язык, причем епископов призывали особо об-
ращать внимание на верность перевода [4].
Исправление Вульгаты по требованию декрета 1546 г. потре-
бовало больше времени. Новая редакция, выработанная комис-
сией, назначенной Сикстом V по восшествии на папский пре-
стол (1585) и внимательно пересмотренная самим папой, кото-
рый был убежден, что должен играть важную роль в критике
текста, впервые вышла в мае 1590 г. с предисловием, где вер-
ховный понтифик постановлял, что это издание, «пересмотрен-
ное со всей возможной тщательностью», должно «рассматри-
ваться как то, которое Тридентский собор провозгласил под-
линным». После смерти Сикста V, случившейся всего через три
месяца (27 августа 1590 г.), оправданные опасения перед крити-
кой протестантов вынудили изъять все оставшиеся экземпляры
из продажи, а многие проданные выкупать или обменивать.
Новая комиссия, включавшая большинство членов предыдущей,
где главную роль играл кардинал Роберто Беллармино, верну-
лась к работе по уже начатым заготовкам, и в ноябре 1592 г. Кли-
мент VIII мог утвердить окончательный текст. Эту официальную
версию Вульгаты назвали Сикстинской для подкрепления ле-
генды, будто сам Сикст V почувствовал несовершенство редак-
ции 1590 г., и таким образом объяснить переделку (а число по-
правок доходило до 5000) [5]. Так была выполнена программа
изданий текстов, намеченная Тридентским собором.
В то же время, чтобы противостоять мощной книготорговой
сети протестантов, папство озаботилось быстрым и надежным
распространением новых официальных текстов: книги в собор-
ГЛАВА 9
301
ной редакции были немедленно приняты во всех землях испан-
ской короны, и даже во Франции, где с их официальным при-
знанием проблем было больше. Провинциальные соборы, соз-
ванные митрополитальными архиепископами в 1580-е гг., по-
становили принять римские требник и молитвенник (в Бордо —
1583 г., в Эксе — 1585 г., в Тулузе — в 1590 г.). «Ныне, — писали
в 1631 г. книгопродавцы, протестовавшие против монополиза-
ции богослужебных книг, — во Франции не найдется и десятка
епископств из 115, не держащихся целиком» собора [6]. Чтобы
соответствовать огромному спросу на послесоборные тексты,
Пий IV в 1561 г. учредил в Вечном городе для издания офици-
альных текстов Типографию римского народа, для которой вы-
звал из Венеции Павла Мануция. В 1562 г. типографии была вы-
дана генеральная привилегия в форме motu proprio, а печатникам
и книготорговцам, нарушающим ее, грозили штраф и отлучение
от Церкви. По мере появления трудов собора и, в частности, в
булле Quod a nobis 1568 г., вводившей в действие пересмотрен-
ный требник, выбор Святого Престола проявлялся яснее: во-
первых, речь шла о запрете на использование прежних изданий
и вводе во всеобщее употребление нового, в котором не дозво-
лялось ничего менять; во-вторых, для абсолютного единообра-
зия обрядов необходимо было строго контролировать новые тек-
сты, применяя политику выборочного одобрения: римский пе-
чатник имел монополию, которую с дозволения папы мог деле-
гировать надежным и компетентным издателям в форме местной
привилегии.
Так, в Венеции Доменико База совместно с Лукантонио
Джунти в 1567 г. получили двадцатилетнюю привилегию на из-
дание нового требника, а братья Торрезано — управляющие ти-
пографией Альдов — в 1571 г. приобрели таким же образом пап-
скую привилегию на издание службы Пресвятой Деве и разре-
шение епископов Миланского и Неаполитанского продавать
службы, напечатанные в Венеции, на территории их диоцезов.
Самый примечательный и самый известный пример — случай
предприятия Плантена в Антверпене, которому в 1568 г. была
дана папская привилегия на издание нового требника для всех
Испанских Нидерландов, а в 1570 г. — молитвенника для Ни-
дерландов, Венгрии и части Империи. Вскоре в результате до-
говоров между Филиппом 11 и папской властью Плантен посвя-
302
ДОМИНИК ЖЮЛИА
тил значительную часть своей деятельности печатанию богослу-
жебных текстов и для испанских территорий, поскольку круп-
ные города Пиренейского полуострова в число крупных типо-
графских центров XVI в. не входили [7]. Начиная с 1590-х гг.,
литургические и библейские тексты составляют более четверти эк-
земпляров, вышедших из типографии Плантена, а в 1640-е гг. из-
дания этого рода составляют три четверти продукции антверпен-
ского дома. Например, насчитывается 70 изданий или 31 400 эк-
земпляров римского молитвенника ин-фолио, выпущенных ти-
пографией Плантена с 1590 по 1640 г. [8].
Даже во Франции, где архивы, к сожалению, не позволяют
точно оценить масштаб деятельности издателей и книгопродав-
цев, распространение контрреформационных изданий, удо-
влетворявшее огромный спрос диоцезов и монашеских орде-
нов, как старых, так и новых, приводило к важным переменам
в этом секторе экономики. С одной стороны, некоторые па-
рижские книготорговцы прямо давали Плантену бумагу
и деньги, чтобы он на их счет напечатал римские книги: изда-
ние под маркой антверпенской типографии они продавали с
прибылью только для себя. С другой стороны, возникли книго-
торговые компании, которым король, вновь подтвердивший
свое право исключительной выдачи разрешений на печата-
ние книг, даровал привилегию издавать официальные тексты
Контрреформации. Кроме того, что они теоретически были за-
щищены от дикой конкуренции в провинции, эти большие па-
рижские компании, созданные нотариально заверенным дого-
вором, были хороши тем, что позволяли соединить капиталы
для крупных издательских предприятий. Они объединяли
самых богатых парижских книгопродавцев, которые, помимо
прочего, были и главными представителями парижского книж-
ного дела за рубежом, от Франкфурта до Нидерландов и от Ан-
глии до Испании; таким образом, они могли обеспечить ши-
рокий сбыт по всей Европе [9]. Эти перемены дают понять, как
огромен был рынок религиозной книги, открытый соборными
реформами: он требовал и технической компетентности опыт-
ных типографов, и серьезного финансового обеспечения, и
прочного кредита издателей у светских (поскольку во Фран-
ции папская привилегия заменялась королевской) и церков-
ных властей.
ГЛАВА 9
303
ЧТЕНИЕ БИБЛИИ
Но та же тенденция, вследствие которой римские власти стара-
лись установить строгий контроль за официальными изданиями
Контрреформации, все более (чего не сделали отцы собора)
определяла условия доступа к священным текстам, а особенно
к их переводам. «Индекс запрещенных книг», завершение кото-
рого было доверено папе Пию IV, вышел в свет в марте 1564 г.,
он открывался точными правилами дозволенного пользования
переводами Библии. Два основных условия вводились четвертым
правилом: чтение разрешалось исключительно лицам, получив-
шим письменное разрешение епископа или инквизитора, выда-
вавшееся «по совету с приходским священником или духовным
отцом»; в любом случае разрешение могло быть дано исключи-
тельно людям «ученым и богобоязненным», «что могут извлечь
из этого чтения не ущерб, но некое приращение для веры и бла-
гочестия». Таким образом, церковное суждение о «способно-
стях» мирянина было призвано отделить зерна от плевел. В этом
отношении предписания, приходившие из Рима, неуклонно ста-
новились все более строгими: в 1593 г. Климент VIII издал важ-
ные «замечания» на правила Пия IV; замечанием на четвертое
правило он отменил право обыкновенных епископов «выдавать
разрешения читать и иметь у себя народную Библию и иные
части Священного Писания, как Нового Завета, так и Ветхого,
на каком бы языке оные ни были изданы». Все последующие
«Индексы» до середины XVIII в. воспроизводили осуждение пе-
реводов Библии, которое де-факто означало и запрет на их чте-
ние. Остается узнать, как запреты, созданные римскими кон-
грегациями, применялись в разных католических странах. Вы-
деляются три основные позиции, которые мы, следуя за рабо-
тами Бернара Шедозо, вкратце здесь очертим [10].
Первое, самое строгое в смысле запретов, толкование, каса-
лось государств Пиренейского и Апеннинского полуостровов.
В Испании изданные инквизиторами «Индексы» включали в ка-
честве предисловия как правила Пия IV 1564 г., так и замечания
Климента VIII из апостольской конституции Sacrosanctum
Catholicae Fidei 1593 г. Поэтому «Индекс», изданный в 1612 г. ин-
квизитором Сандовалом, воспрещает «Библию и любую часть ее,
печатную или рукописную, на любом простонародном языке»,
304
ДОМИНИК ЖЮЛИА
а также и «изложения и компендии, будь то даже исторического
характера, оной Библии сиречь книг Священного Писания, пи-
санные на любом простонародном языке или наречии». Впро-
чем, он все же дозволяет
«Послания и Евангелия, поющиеся на литургии в течение года, од-
нако не сами по себе, но в сопровождении проповеди или поясне-
ний, написанных или имеющих быть написанными для каждого та-
кого Евангелия и Послания для наставления верующих» [И].
В 1640 г. инквизитор Сотомайор в новом издании «Индекса»
уже не может дозволить такой широты и включает в число за-
прещенных
«книгу на простонародном языке, обычно именуемую Евангелием
и Посланиями, даже если оная сопровождается какими-либо крат-
кими пояснениями на некоторые ее части; и вообще Евангелие, по-
скольку оно есть наибольшая часть Священного Писания, ввиду
опасности впасть в дурное толкование от невежественного народа,
а также других дурных следствий, известных по наставлению и на
опыте».
Далее инквизитор, как будто запрет недостаточно внятен, дает
определение, что он считает простонародным языком, а что нет:
«Не суть языки простонародные языки еврейский, греческий, ла-
тинский, халдейский, сирийский, эфиопский, персидский и араб-
ский. Сие означает — языки первородные, ныне не употребляемые
обыкновенно в простом разговоре, и да ведомо будет читателю, что
все языки, помимо сих, суть простонародные» [12].
Яснее выразиться невозможно; надо сказать, что очень не-
многие католические испанские переводы Библии после собора
(все неполные) остались в рукописи или были изданы за грани-
цей [13]. Грандиозная экзегетическая работа испанских богосло-
вов, иезуитов, шла исключительно на латинском языке, а потому
предназначалась только для духовных лиц. Лишь в самом конце
XVIII в. удавка инквизиции несколько разжалась, с опозданием
следуя папскому бреве, которым Бенедикт XIV в 1757 г. дозво-
ГЛАВА 9
305
лил чтение Библии в переводе на народный язык, не упоминая
более ни о способностях читающего, ни о каком-либо письмен-
ном дозволении [14]. Первый полный испанский перевод ла-
тинской Вульгаты, сделанный Фелипе Скио де Сан Мигелем,
епископом Сеговийским, монаху-клирику Богоугодных Школ,
вышел в Валенсии в 1791—1793 гг. в десяти томах ин-фолио. То
же самое видим и в Португалии: не говоря о том, что в 1580—
1640 гг. Португалия политически была частью Испании, порту-
гальская инквизиция в отношении запрещенных книг была столь
же бдительна, как и испанская [15]. Поэтому неудивительно, что
первые (неполные) переводы библейских книг появились только
после бреве Бенедикта XIV, а первый полный перевод латинской
Вульгаты, выполненный бывшим членом португальской оратории
отцом Антонио Перейрой де Фигейредо и вышедший в 23 томах
в 1778—1790 гг., многим обязан французским издателям, ком-
ментаторам и переводчикам XVIII в., особенно под руковод-
ством насельников Пор-Рояля [16]. Наконец, на Аппенинском
полуострове все римские «Индексы» до 1762 г. воспроизводят за-
прет Климента VIII на все Biblia Vulgari quocumque Idiomate con-
scripta. Близость папского престола вполне объясняет победу са-
мого строгого толкования: несмотря на рост антикуриализма
(anticurialisme), не по этому ли поводу итальянские государства
готовы были лоб в лоб столкнуться с Римом. Первый полный
перевод латинской Вульгаты, выполненный трудами Антонио
Мартини, появился в 1769 г. (Новый Завет) и 1776 г. (Ветхий
Завет), а в 1778 г. был одобрен Пием VI. В общем и целом, в го-
сударствах обоих полуостровов непосредственное чтение Библии
в течение двух столетий было дозволено одним духовным лицам,
поскольку доступен был только латинский текст [17].
Даже во Франции никак нельзя отрицать наличия запрети-
тельных тенденций в отношении переводов: некоторые мона-
шеские ордена (например, францисканцы-молитвенники), а
кроме того, доктора богословского факультета в Париже в конце
XVI в. и всю первую половину XVII в. проявляли живую и не-
уклонную враждебность к переводам Писания, парадоксальным
образом ссылаясь для обоснования своей позиции на иезуитских
испанских и римских богословов. Рене Бенуа, кюре церкви Свя-
того Петра в Арси, а потом Святого Евстафия в Париже, напе-
чатавший в 1566 г. французский перевод Библии, в предисловии
306
ДОМИНИК ЖЮЛИА
прямо представлял свой труд в качестве законного наследника
постановлений Тридентского собора, ибо его сопровождали «не-
обходимые примечания к пониманию труднейших мест и пред-
ставления, содержащие краткие и всем понятные разрешения тех
мест, кои были обесчещены и испорчены еретиками нашего вре-
мени», но это ему не помогло. Перевод был тотчас же запрещен
парижским богословским факультетом, вменившим ему в вину
(и не напрасно) заимствования из женевской Библии, а в 1575 г.
он был осужден также и Римом. Но в действительности заинте-
ресован в этом был Христофор Плантен, понявший, насколько
важен франкоязычный рынок; в 1572 г. антверпенский издатель
получил привилегию в Брюсселе и одобрение четырех лувен-
ских докторов, а в 1578 г. издал перевод со своими примеча-
ниями. С тех пор «Библия лувенских богословов», несмотря на
сопротивление докторов Сорбонны, пользовалась огромным ус-
пехом: за десять лет (1578—1587) насчитывается не менее 13 ее
изданий, в том числе некоторые в Лионе и Руане [18].
На деле «французская» римско-католическая позиция, со-
ответствующая четвертому правилу «Индекса» 1564 г., посте-
пенно оформляется в первой половине XVIII в. Вопреки па-
рижским ученым, она поощряла контролируемое чтение Библии
теми, кто был способен на это. Необходимость католического пе-
ревода Библии поначалу была узаконена религиозной ситуацией
во Франции: после Нантского эдикта (1598) Франция стала
единственным многоконфессиональным католическим государ-
ством. А как бороться с реформатами, читающими только по-
французски, не имея равного оружия? Тем не менее, чтение свя-
щенных текстов не могло быть дозволено всем и каждому: ка-
толическую аргументацию, встречающуюся в многочисленных
предисловиях, превосходно подытожил Никола Лемэр в книге
«Алтарь, для черни затворенный, или Библия, запрещенная для
простого народа», вышедшей в свет в 1651 г. Утверждая, что
«в числе главнейших обычаев церковных [...] скрывать таинства
от недостойных и удалять чернь от алтаря», автор защищает
идею, что Писание «отнюдь не должно делать повседневным или
простонародным», но это не значит запрещать его чтение лю-
бому мирянину. Необходимые для такого чтения качества он
определяет через отрицание: «чернь» для него — не только «по-
донки народные, пресмыкающиеся под ногами у других», но
ГЛАВА 9
307
также все «гордые, нечистые, невежественные, слабые, любо-
пытные, болтливые, гнусные» — словом, все, кто не способен
иметь дело со святыней. Поэтому чтение не подобает «мастеро-
вым и женщинам», а также и «без разбора всем людям какого бы
то ни было положения». Повторяя требования отцов Церкви к
чтению Библии, Никола Лемэр подчеркивает, что ее необходимо
читать со смирением, т. е. «не без наставника и толмача», стре-
миться найти в ней только лишь «наставление и спасение», иметь
привычку «зреть вещи духовные и невидимые», долго учиться
и глубоко молитвенно размышлять. Но все эти качества, вместе
и порознь, как раз противоположны качествам черни, ибо «на-
род — великий учитель заблуждения» и «погряз во мраке густого
невежества». Много и много есть оснований для Церкви не до-
верять священной сокровищницы Библии тем, кто непригоден
для того; здесь как раз возникает пастырская задача пояснения,
подтвержденная Тридентским собором и поручаемая священ-
никам и докторам, которым дано право преподавать. Как пока-
зывает пример первых христианских общин, не имевших Еван-
гелия, а за правило веры и жизни бравших единственно «глас па-
стырей и предания отцов», чтение «не всем необходимо и даже
не всем полезно». Но этот тезис не означает одобрения «того пре-
ступного небрежения, из-за которого книга Писания так мало
известна всем и под предлогом христианского благочиния ее
чтение изгоняется из большинства мирских семейств» [19].
Позицию, выраженную здесь Лемэром, в то время, вероятнее
всего, разделяло большинство французского епископата. В 1653 г.
Собрание духовенства даже поручило ораторианцу, отцу Дени
Амелоту целиком перевести Новый Завет. В 1666 г. эта работа
была завершена. Она, как писал ее автор в предисловии, пре-
следовала цель
«питать верующих в подчинении пастырям и была предназначена
лишь для тех, кто получит ее из рук Церкви и сможет пользоваться
ею благодаря своему просвещению и доброму поведению» [20].
Но в тот самый момент, когда эта инициатива, отвечавшая на
растущий спрос читателей-горожан, получивших воспитание в
коллежах, ширилась, она вдруг ослабла, столкнувшись с огром-
ной деятельностью по переводу Библии и литургических текстов,
308
ДОМИНИК ЖЮЛИА
проводившейся в Пор-Рояле или в его орбите. С 1650 по 1693 г.
янсенисты дали мирянам-католикам все эти тексты во фран-
цузском переводе: начиная с 1650 г. выходит «Служебник цер-
ковный на латинском и французском языках, содержащий вос-
кресные и праздничные богослужения», более известный как
«Часослов Пор-Рояля». Он еще не дает перевода повседневных
молитв мессы, но уже содержит на французском 58 псалмов с
еврейского оригинала и церковные гимны всего годового круга,
вследствие чего мирянин получал уже значительную долю мо-
литв, певшихся духовенством. В 1660 г. появился «Римский мо-
литвенник по установлению собора в Триденте. Переведенный
на французский язык. С изъяснением всех месс и их священно-
действий на всякий день года» в переводе г-на Вуазена; автор,
близкий Пор-Роялю, утверждает, что выполнил прямой заказ
принца Конти, пожелавшего заменить «полные заблуждений и
обмана» еретические переводы и толкования переводом моли-
твенника «с изъяснением всякой мессы в истинном церковном
смысле». Эту книгу, осужденную богословским факультетом в
Париже и Римом, тотчас взял под защиту Антуан Арно в сочи-
нении с многозначительным заглавием: «Перевод и изъяснение
молитвенника на народный язык, дозволенный Священным Пи-
санием, святыми отцами и учителями Церкви, постановлениями
соборов и пап, а также обычаями галликанской Церкви». Не-
смотря на множившиеся споры, толчок, данный переводом рим-
ского молитвенника, не ослабевал: в последующие годы пере-
водов церковных служб становилось все больше. Здесь необхо-
димо указать на работы Никола Летурнё (Nicolas Le Tourneux),
литургиста, весьма близкого к Пор-Роялю: в 1674 г. он опублико-
вал перевод «Службы Страстной седмицы», посвященный канц-
леру Летелье, а в 1688 г., через два года после смерти Летурнё,
вышел из печати его перевод «Римского требника». Столь же
грандиозную плодовитость пор-рояльские насельники прилага-
ли и к Библии: в 1665 г. появляются два перевода Псалмов Дави-
да: один — с еврейского, другой — с Вульгаты; в 1667 г. — Новый
Завет (так называемое Монское Евангелие), переведенный с
Вульгаты «с разночтениями по греческому тексту» Луи-Исааком
Леместром де Саси (Louis-Isaak Le Maistre de Sacy); тот же Саси
предпринял и перевод Ветхого Завета, который вышел в свет «с
пояснениями» в 1672—1693 гг.; наконец, с 1696 по 1708 г. таким
ГЛАВА 9
309
же образом был издан и Новый Завет. В целом собрание насчи-
тывает 32 тома в восьмую долю; каждый том включает преди-
словие и латинский текст с французским переводом; каждый
стих сопровождается «пояснением» смысла буквального и
смысла «духовного», согласно августиновому определению спо-
собов понимания Библии. За этим невероятным усилием [21]
стояло твердое убеждение, свойственное всему пор-рояльскому
движению и превосходно выраженное де Саси в предисловии к
«Монскому Евангелию»: читать Писание, особенно Новый
Завет, надлежит каждому католику; это его нравственная обя-
занность, даже для тех, кто «не умеет читать»: они также «не
имеют извинения не знать того, чему научаются» этим чтением.
Развивая вслед за Блаженным Августином параллель Евангелия
и евхаристии, Саси утверждает, что чтением Писания получают
Слово Божие так же, как через причащение Тело Божие; таким
образом, чтение Писания — приуготовление к евхаристии, ибо
«доброе» чтение совершается Святым Духом в душе верующего,
«предрасположенной» к тому благодатью. Такое рассуждение,
превращающее чтение Писания из права в высший долг всякого
верующего, приводит к огромной перемене в статусе мирян, на
которых теперь возлагается гораздо большая ответственность.
Вопреки декретам Тридентского собора, это приводит к сокра-
щению разрыва между мирянином и клириком, поскольку на-
лагает на первого обязанности, прежде свойственные только вто-
рому. В янсенистской позиции остро ощущается перемена от-
ношения к письменному тексту под влиянием распространения
текста печатного. Но понятно, что столь радикальный подход вы-
звал яростное сопротивление и привел к большим изломам:
одним из главных предметов осуждения в апостольской консти-
туции Unigenitus (\713) стал «Новый Завет на французском языке
с нравственными рассуждениями о каждом стихе» Паскье Ке-
неля, а в нем как раз предложенная автором обязанность каж-
дого христианина без всякого исключения (даже для женщин)
читать Писание [22].
Впрочем, радикализм позиции янсенистов не заставил фран-
цузских епископов отказаться от защиты регулируемого и кон-
тролируемого доступа мирян к чтению Писания. 1670—1720 гг. —
самый напряженный момент католической реформы во Фран-
ции; как раз в это время латинский язык в коллежах перестает
310
ДОМИНИК ЖЮЛИА
быть живым, да и в книгоиздании явно теряет прежнее значе-
ние. Теперь необходимо было отвечать на запросы определен-
ного круга городских прихожан, желавших иметь церковные тек-
сты на французском языке. Показательны в этом отношении
произведения, извлеченные в конце 1660-х гг. из переводов Но-
вого Завета Дени Амелота и Саси: «Слова Воплощенного Иисуса
Христа, извлеченные из Нового Завета» Паскье Кенеля (1668),
«Слова Господа нашего Иисуса Христа, извлеченные из Нового
Завета» (1668) и «Жизнь Иисуса Христа, составленная из всех ре-
чений евангелистов» (1669) о. Амлота, «Послания и Евангелия
на воскресные и праздничные дни», изданные как Амлотом, так
и Саси (а также другими составителями). Они свидетельствуют
не только о соперничестве двух группировок, но и о все более
быстром росте коммерческого рынка. Кроме того, галликанская
политика монарха, прежде всего политика в отношении проте-
стантов, после отмены Нантского эдикта (1685) окончательно за-
крыла дорогу строгим ультрамонтанским взглядам. Пасторская
акция под руководством архиепископа Арле де Шамваллона
была поистине книжной акцией. Новообращенным раздавалось
множество книг, причем раздача финансировалась Кассой об-
ращения в католичество: с октября 1685 по январь 1687 г. в про-
винциях с многочисленным протестантством было роздано более
300 тыс. экземпляров книг Писания (среди них Новый Завет в
переводе Дени Амелота и Псалтырь, переведенный специально
по этому случаю), более 150 тыс. томов сочинений, касающихся
служения мессы и дающих перевод богослужебного чина, не счи-
тая еще постановлений Тридентского собора и переводов со-
борного катехизиса (по 30 тыс. экземпляров каждый). Избран-
ный властью «путь кротости» приводил к тому, что каждый вче-
рашний еретик имел право получить французский текст Нового
Завета без сопровождения латинского, без предисловия и пояс-
нительных примечаний, перевод повседневных молитв мессы и
соборный катехизис, первоначально предназначенный для об-
разования духовенства; при этом, вопреки четвертому правилу
«Индекса» 1565 г., речь вовсе не шла о «способности» к чтению
полученных книг. Как же после этого было отказать исконным
католикам в том, что дано бывшим кальвинистам? Таким обра-
зом, раздача книг отрекшимся гугенотам открыла большую
брешь, которая уже не закрывалась: именно в это время поя-
ГЛАВА 9
311
вляются многочисленные «Руководства для христиан» (вклю-
чавшие французский, иногда вместе с латинским, текст Нового
Завета, псалмов, «Подражания Иисусу Христу» и молитвы
мессы), а также предназначенные для мирян молитвенники.
Правда, созданная таким образом льгота имела один важный
пробел: она не касалась Ветхого Завета, поскольку перевод Саси
во времена массового обращения не был еще завершен и его
нельзя было раздавать. В результате возникла новая культура
мирян-католиков, включавшая чтение Нового Завета и незави-
симая от духовенства [23].
Когда епископ Аррасский спрашивал Фенелона, «каких обы-
чаев он держится [...] на предмет чтения Священного Писания,
и в особенности Нового Завета» [24], епископ Камбре отвечал
ему, в точности повторяя аргументацию Никола Лемэра, изло-
женную за пятьдесят лет до этого (ибо она была почерпнута из
тех же патристических источников), громя дерзновенных кри-
тиков «иссушающих сердца, возносящих умы превыше установ-
ленных пределов» и «учащих презирать простое и сердечное бла-
гочестие». Он пришел к выводу, что
«христиан надобно наставлять в чтении Писания прежде, чем давать
им читать его. Их надобно готовить понемногу, так что когда они про-
чтут его, будут уже привычны его слышать и исполнены его духом
прежде, нежели узрят букву. Дозволять его чтение должно лишь душам
простым, послушным, смиренным, таким, что будут искать в нем не
удовлетворения своего любопытства, не предмета для споров или кри-
тики, а безмолвно вкушаемой пиши. Словом, Писание должно да-
вать тем только, кто лишь из рук Церкви получит его и не возжелает
искать в нем иного смысла, кроме церковного».
Но в то же время он вынужден был признать, что времена
сравнительно с первыми веками Церкви сильно изменились, что
ныне люди,
«носящие имя христиан, не имеют той простоты, того послушания,
той готовности ума и сердца [...]. Епископы не должны обольщаться
своею властию. Она так ослабела, что в духе народов следы ее едва
сохраняются [...]. Не у нас они будут спрашивать совета, утешения,
наставления совести. Итак, сей отеческой власти, столь необходи-
312
ДОМИНИК ЖЮЛИА
мой, чтобы умерить умы в смиренном послушании при чтении свя-
тых книг, не имеем нисколько. В наше время всяк сам себе казуист,
сам себе доктор, всякий решает, всякий готов принять сторону тех,
кто под разными предлогами вводит новшества против Церкви.
Придираются к словам, без которых чувства остаются пустыми при-
зраками» [25].
Одним словом, расширение возможности чтения сделало не-
надежными попытки контроля. Вскоре доказательство тому
представили и жестокие распри, последовавшие за изданием
конституции Unigenitus и затронувшие даже народную толщу.
ДУХОВЕНСТВО И ЧТЕНИЕ
Настаивая на необходимости образования духовенства в своем
декрете Cum adolescentium aetas, Церковный собор Тридцати
предложил каждому епископу создать в своей епархии семина-
рию для приема и обучения будущих семинаристов. Исходя из
того, что семинария как учебное заведение в том виде, как ее
представляли члены собора Тридцати, стала очень быстро ис-
пытывать соперничество со стороны коллежей, и не в свою
пользу, и что ее название в ходе развития на протяжении веков
допускало очень широкий спектр организации этого заведения
(от простого интерната до центра преподавания) [26], то не оста-
ется никаких сомнений, что уровень образования священнослу-
жителей приходов являлся одной из главных забот епископата.
Систематически проводимое сравнительное исследование как
синодальных епархиальных уставов, так и вопросных листов ин-
спекционных поездок в подчиненные приходы, позволило бы
выявить различные темпы проведения католического реформи-
рования. Рассматривая этот вопрос только на примере Франции,
можно сделать вывод, что синодальные уставы епархий содер-
жат крайне мало сведений. В первой половине XVI в. в список
книг, считающихся необходимыми для исполнения обязанно-
стей в сане священника, наряду со Священным Писанием и си-
нодальными уставами включены еще два, уже давно написанных
сочинения: Manipulus Curatorum Ги де Монроше (Guy de Mon-
trocher), испанского священника XIV в., учебник по разделу тео-
ГЛАВА 9
313
логии, переживший сотни переизданий в период между изобре-
тением книгопечатания и концом XVI в., а также Opus triparti-
tum — учебник духовника, который Жерсон (Gerson) предна-
значал для «менее образованных приходских священников» [27].
Со второй половины XVI в., по крайней мере, в заново рефор-
мированных епархиях «идеальная библиотека» приходского свя-
щенника увеличилась: наряду с римским катехизисом и катехи-
зисом Пьера Канизия (Pierre Canisius), появились такие учебники
для духовников, как: Directorium иезуита Поланко (впервые
вышел в свет в Лувене в 1554 г.) и Enchiridion наваррского док-
тора Мартина де Аспилкуэта (Martin de Azpilcueta) (первое ис-
панское издание увидело свет в 1553 г. в Коимбре (Coimbra), пер-
вое латинское издание — в 1573 г. в Антверпене, а также ком-
ментарии и проповеди отцов Церкви о Священном Писании,
комментарии к «Сумме» святого Фомы, например, комментарии
Франсуа Сильвестри, главного учителя доминиканцев в начале
XVI в., или полемические сочинения антипротестанского ха-
рактера, чтобы иметь возможность свободно черпать из арсе-
нала «общих мест». В самом начале католического реформиро-
вания, в период между 1650 и 1730 гг., книжный багаж, необхо-
димый «хорошему» священнику, стал еще более весомым: к обя-
зательной Библии и неизменно рекомендуемому катехизису
Церковного собора иногда прибавлялись французские катехи-
зисы, среди которых «Пастырское наставление христианина»
(/’Instruction du chretien) Армана дю Плесси де Ришелье было са-
мым рекомендуемым. Декреталии Церковного собора Тридцати
также рассматривались руководством церкви как необходимый
справочный материал. Наряду с этими основными изданиями
священники Франции второй половины XVII в. советовали своим
прелатам запастись еще следующими изданиями: коментариями
и проповедями отцов Церкви о Священном Писании, особенно
настаивая на «Морали» {Morales) и «Пасторской книге» {Livrepas-
toral) святого Георгия, а также книгами о моральной теологии,
которые можно было охарактеризовать как «профессиональные».
Например, «Наставления духовникам» {Instructions aux confesseurs)
святого Шарля Барроме, «Сумма вопросов совести» {Somme des
cas de consciences) испанского иезуита Толета и, наконец, в качест-
ве духовного чтения, в первую очередь, рекомендовались «Под-
ражание Иисусу Христу» Фомы Кемпийского, «Путь для греш-
314
ДОМИНИК ЖЮЛИА
ников» (Guide despecheurs) Луи де Гренада, «Введение в благоче-
стивую жизнь» (Introduction a la vie devote) Франсуа де Саля [28].
Большие усилия Контрреформации в области образования были
направлены на повышение уровня образованности приходских
священников, привитие им любви к книге, учебе и чтению.
Перед епископами стояла задача закрепить и сохранить у свя-
щенников, находящихся в их ведении, хорошие знания и на-
выки, приобретенные ими в семинариях, которыми руководили
представители новых конгрегаций священников (евдисты, ора-
торианцы, члены конгрегации святого Сульпиция и ордена ла-
заристов). Исходя из этого, им рекомендовался и соответствую-
щий распорядок дня. Например, Феликс Виалар де Эре (Felix
Vialart de Herse), епископ Шалона-на-Марне в «Пастырском по-
слании, как священнослужители, и особенно кюре, проживаю-
щие в городах и в сельской местности, должны хорошо исполь-
зовать свое время» (Mandement du bon emploi que les Ecclesiastiques
et principalement les cures, tant des Villes que de la Campagne doivent
faire de leur temps) предусматривал три часа на учебные занятия
утром и два часа — вечером. Точнее: с 8 до 11 часов утра свя-
щеннику рекомендовалось читать катехизис или готовиться
к воскресной проповеди, изучать вопросы совести, связанные с
«самыми полезными вещами, которые чаще всего происходят на
практике», углубленно работать над разделами молитвенника,
требника и ритуальных изданий, составлять тезисы к ближай-
шей церковной конференции. Во второй половине дня, с 4 до
6 часов, продолжать утренние занятия. После них предлагалось
«чтение какой-либо книги религиозного содержания» (краткий
список подобных книг прилагался), чтобы, «читая понемногу
одновременно из нескольких источников, охватить смысл и про-
никнуться благочестием». Это время, отведенное для учебы
и чтения, не исключало и другие занятия, посвященные меди-
тации. Так, после утренней молитвы, с 5.30 до 6 часов, приход-
ским священникам советовалось
«поразмышлять над каким-либо вопросом божественного харак-
тера» и привлечь для этой цели соответствующую книгу, в частно-
сти «Медитации» (Meditations) Бевеле, Гренада, дю Пона или дру-
гие подобные издания. Читать и размышлять рекомендовалось и ве-
чером, перед сном, и какое-то время после пробуждения [29].
ГЛАВА 9
315
Увеличение фондов клерикальных библиотек невозможно
представить без постоянного руководства чтением и развития со-
ответствующей практики [30]. Решению этих задач в значитель-
ной степени подчинено и проведение различных конференций.
Церковные конференции, которые получили особое развитие
во второй половине XVII в., действительно были направлены на
поддержание у священнослужителей приходов интереса к ин-
теллектуальному труду и на формирование общих подходов к ор-
ганизации их практической деятельности. Большое внимание
уделялось регулярному проведению собраний (как правило, они
проводились ежемесячно в период, когда дороги были пригодны
для передвижения). Основными организаторами собраний были,
как правило, декан или викарий, которым удавалось привлекать
для участия в этих мероприятиях кюре и викариев от десяти до
двадцати приходов. На собраниях обсуждались темы, связанные
с догмами Священного Писания, вопросы исполнения обязан-
ностей духовными лицами в сане священника (литургия, управ-
ление таинствами, дело совести), а также особенности призва-
ния («духовные добродетели»). Программа конференций, вклю-
чавшая вопросы для обсуждения, ежегодно окончательно
утверждалась епископатом. Затем в печатном виде распределя-
лась. Причем к каждому включенному в нее вопросу для обсуж-
дения прилагался рекомендательный библиографический список
книг. Таким образом, каждому священнику предлагалось
серьезно подготовиться к участию в конференции, после прове-
дения которой в канцелярию епископата направлялись «домаш-
ние задания», внимательно прочитанные и «исправленные» ви-
кариями [31]. К тому же, чтобы избежать неравного успеха этих
конференций, священники стали обращаться к одним и тем же
учебникам и использовать одни и те же цитаты. Так сложились
единый способ работы и общий язык [32].
Для поддержки этой пасторской работы в условиях посте-
пенного создания семинарий на местах идет процесс формиро-
вания целого направления религиозной литературы (учебники по
теологии, руководства для духовников, сборники проповедей,
тексты духовного содержания), предназначенной не только для
эрудированных или имеющих ученую степень в области теоло-
гии духовных лиц, но и всех священников. Составляемая белым
духовенством или членами новых конгрегаций (иезуитами, ора-
316
ДОМИНИК ЖЮЛИА
торианцами, членами ордена лазаристов и конгрегации святого
Сульпиция), эта литература печаталась в больших объемах в Па-
риже и широко распространялась в провинции благодаря спе-
циализированным каталогам, которые регулярно выпускали
книготорговцы, сами тесно связанные с определенным орденом,
конгрегацией, семинарией или духовным течением [33]. Даже в
провинции епископы располагали, как правило, главной при-
вилегией печатания книг для нужд своей епархии:
«Глубокоуважаемый господин, — пишет Поншартрен монсиньору
де Гриньяну, епископу Каркассонна. — Я полностью одобряю все,
что Вы делаете для образования кюре Вашей епархии, а также для
приобщения их к единому учению и установления единого порядка.
Все Ваши устремления свидетельствуют о Ваших достоинствах. Я
не нахожу слов, чтобы выразить свое восхищение Вашими такими
чистыми помыслами и открытыми намерениями. Буду счастлив со-
действовать Вам в их осуществлении, предоставляя Вам привиле-
гию на печатание книг, о которых Вы мне сообщаете» [34].
При каждом епископе значительной епархии находился пе-
чатник, который получал привилегию
печатать, продавать и сбывать в розницу такие книги, как «Юбилеи»,
«Молитвы», «Катехизисы», «Индульгенции», «Псалтыри», «Сбор-
ники церковных гимнов», «Пастырские послания», «Ордонансы»,
а также все издания, которые печатались в данной епархии, о чем
было известно монсиньору и его приближенным [35].
Наряду со своей печатной продукцией, печатник епископа
распределял и книги, предназначавшиеся для духовенства. Так,
в 1693 г. Жак Сенез (Jacques Seneuze) в качестве приложения
к своему изданию «Ордонансы Шалона-на-Марне» публикует
«Краткое содержание библиотеки для священнослужителей»
(Abrege de bibliotheque pour les ecclesiastiques), которое включало
около 90 названий. Эта «идеальная библиотека» содержала пол-
ный список текстов, необходимых «хорошему» служителю
церкви, как правило, рекомендуемых епископами католического
Реформирования. К ним в первую очередь относились: Библия
и труды ее известных толкователей конца XVI в. и первой по-
ГЛАВА 9
317
ловины XVII в. (Мальдона, Эстиуса, Янсения, Меноччио),
«Сумма теологии», прежде всего святого Фомы, а также более
скромные учебники для семинарий, например, «Теология», име-
нуемая Гренобльской, учебные пособия по истории церкви
(«Краткий курс» Барониуса, Годо, Флери), триентские тексты
(декреталии и катехизис Церковного собора как на латинском,
так и французском языках), а также целый спектр литературы в
области пасторского богословия, сборники проповедей, учеб-
ники духовников, катехизисы (так как «подавляющая часть епи-
скопов», как правило, занималась подготовкой катехизисов
(«почти каждый составил один катехизис»), то их предлагалось
более 12 видов). Далее следовали материалы церковных конфе-
ренций, проходивших в Люсоне, Ла-Рошели, Периге, Безансоне,
Лангре, духовные тексты Сен-Жура, Родригеса, Луи де Гренада,
«Медитации» Бевеле. Причем издания Библии и Нового Завета
на латинском языке, «Суммы» святого Фомы, «Жития святых»,
«Подражание Иисусу Христу» (на латинском и французском
языках) отличались друг от друга печатью, величиной и ценами.
И если издание святого Бернара, выпушенное Мабийоном (Ма-
billon), было недоступно многим (25 ливров за два тома ин-
фолио), то находились другие — дешевые и разной печати. Сенез,
продавая «все книги, рекомендуемые стремящимся к духовной
карьере или обучающимся в больших или маленьких семина-
риях», и объясняя, что все предлагаемые им книги «могут ис-
пользоваться для богослужений как в римских традициях, так и
в епархии Шалона», сообщал, что по распространяемому и до-
ставляемому им каталогу у него в продаже можно найти «все
книги, и главным образом те, что печатаются во Франции». На-
пример, «Сборники проповедей», «Проповеди» (в разных изда-
ниях), материалы церковных конференций, учебники, сочине-
ния казуистов, «Медитации» и другие духовные и молитвенные
книги. Он предлагал также «Комментарии к Священному Пи-
санию», сочинения отцов Церкви, труды историков, не только
представляющих церковь, но и светских авторов. В каталоге были
отражены также работы теологов, специалистов по канониче-
скому праву, «полемистов», философов и юрисконсультов, ста-
рых и новых [36].
Возникает вопрос, отличались ли библиотеки, рекомендуемые
священникам, от реальных, которыми они располагали. Несом-
318
ДОМИНИК ЖЮЛИА
ненно, некоторые духовные объединения священников прида-
вали большое значение чтению и даже проводили настоящую по-
литику в этой области. Так, «Большая академическая конгрега-
ция» (Grande congregation academique) Мольсема, объединяющая
поклонников святой Деве Марии и среди них — бывших уча-
щихся иезуитского коллежа, из которых около двух третей стали
духовными лицами, с 1670 г. выпустила книгу, которая ежегодно
преподносилась в качестве праздничного подарка каждому соб-
рату для его просвещения и наставления [37]. Таким образом,
духовность иезуитов рекомендовалась священникам для осмысле-
ния [38]. Пример конгрегации поклонников святой Деве Марии
не был единственным [39]. Но подобное побуждение к чтению не
следует рассматривать как общее явление. В 1697 г. викарий епи-
скопа епархии Страсбурга писал: «Духовенство Эльзаса не проя-
вляет никакого интереса к книгам и даже за целый год не откры-
вает ни одной книги» [40]. Оставшийся неизвестным автор «Па-
мятной записки по проведению службы в учреждении для конфе-
ренций в епархии Осер (Memoire pour servir a I’etablissement des
conferences dans le diocese d’Auxerre) отмечал в 1696 г.:
«учение в деревнях и даже в городах настолько из ряда вон выхо-
дящее явление, что за исключением нескольких составителей про-
поведей приходские священники совсем ничего не читают и не изу-
чают» [41].
Несомненно, эти суждения преувеличены. Чтобы точно опре-
делить влияние реформ на среду священнослужителей, необхо-
димо, в частности, выявить из массивов нотариально заверен-
ных описей и протоколов инспекционных поездок в подчинен-
ные приходы конкретную долю присутствующих в них книг.
Ограничимся несколькими наблюдениями. В последней че-
тверти XVII в. библиотеки священников были еще скромными.
Но уже тогда стала проявляться значительная разница между биб-
лиотеками священников, окончивших семинарии, и библиоте-
ками священников старшего поколения. Если библиотеки пер-
вых по своему составу и содержанию достаточно хорошо со-
ответствовали требованиям, предъявляемым прелатами в сино-
дальных уставах и ордонансах, то у вторых библиотек почти не
было. В епархии Ла-Рошели, как свидетельствуют материалы
ГЛАВА 9
319
инспекционных поездок, проводимых монсиньором Анри де Ла-
валем с 1674 по 1679 г., священники старшего поколения до-
вольствовались в лучшем случае Библией, Новым Заветом и не-
сколькими старыми учебниками по теологии. Священники,
представлявшие новое поколение, всегда имели издание Библии,
как правило, снабженное комментариями, сочинения отцов и
докторов Церкви (святого Георгия, святого Бернара, святого Ав-
густина) и, как правило, «Сумму» святого Фомы. Они распола-
гали также катехизисами, духовными изданиями, учебниками
по теологии. Эти книги и составляли почти всю библиотеку, не
превышавшую 10—12 томов. Они и олицетворяли собой начало
зарождения теологической культуры [42]. Выводы, которые
можно сделать на основании анализа инспекционных поездок
деканов в епархию Реймса в этот же период, сходны. Они сви-
детельствуют о качественном улучшении содержания библио-
тек, что связано с обновлением поколений священнослужителей.
В 1698 г. в округе декана Монтань, расположенном недалеко от
Реймса, издания Библий, декреталии Церковного собора Трид-
цати и римские катехизисы всегда присутствовали в библиоте-
ках священников. Две трети кюре располагали более или менее
полным изданием «Суммы» святого Фомы, одна треть — изда-
нием святого Бернара и современными комментариями к Свя-
щенному Писанию. Библиотеки остальных содержали издания
моральной теологии (как правило, недавно вышедшие в свет).
И если половина из имеющихся книг еще не полностью соот-
ветствовала пожеланиям прелатов, то соответствие требованиям,
изложенным в ордонансах, неукоснительно соблюдалось [43].
Это подтверждается анализом, который Жан Кениар смог
осуществить, работая с нотариально заверенными описями биб-
лиотек священников из городов на западе Франции. В конце
XVII в. 30% священников располагали перед их смертью менее
10 изданиями, некоторые из них не имели ни одной книги, а дру-
гие довольствовались «Житиями святых», несколькими книгами
благочестивого содержания, а также молитвенником, требни-
ком, сборником проповедей и иногда декретами Церковного со-
бора Тридцати. Только 5% библиотек насчитывали в то время
более 100 томов. Ощутимый прогресс начался в первой четверти
XVIII в., о чем свидетельствуют около 45% описей. И это при
том, что три четверти священников располагали, как правило,
320
ДОМИНИК ЖЮЛИА
менее чем 20 книгами. К 1755—1760 гг. уже 60%, а накануне
Французской революции — 75% священников имели библиотеки
в 100 и более томов. Перед революцией библиотеки 9 из 10 свя-
щенников насчитывали более 50 томов. Семинарии, спустя
100 лет после проведения Церковного собора, успешно справи-
лись с задачей подготовки священников, выпуская из своих стен
не только профессиональных священнослужителей, но и обра-
зованных, ценящих знания и книги людей. В то же время со-
держание фондов библиотек по-прежнему было ориентировано
на осуществление практической деятельности. Пространные
комментарии Библии XVII в. вытеснялись изданиями мораль-
ной теологии (этому эволюционному процессу в немалой сте-
пени способствовали конференции священнослужителей). Тек-
сты, предназначенные для исполнения должности сана священ-
ника, в частности катехизисы, проповеди, конфессиональные
учебники, а также тексты медитаций были нацелены на обога-
щение духовной жизни священнослужителей, в том числе для
придания им уверенности в руководстве паствой [44]. Анализи-
руя библиотеки церковных приходов архиепископства Турина
XVIII в., Лучиано Аллегра приходит к близким по сути выводам
и в то же время подчеркивает очень сильное проникновение
идей янсенистов в среду пьемонтских священников через чте-
ние ими книг в переводах с французского языка [45].
Нужно было бы привести в качестве примера результаты боль-
шого количества исследований, прежде чем прийти к следую-
щему выводу: темпы проведения католического реформирования
в среде духовенства были чрезвычайно различны и зависели от
государств и регионов, в которых осуществлялось реформиро-
вание, сопротивления в них церковных властей и их структур, а
также приверженности к семейным ценностям. Так, преобразо-
вание в «священнический» (la «sacerdotalisation») клерикального
ордена начинается, например, на Аппенинском полуострове
(Италия) только в XVIII в. [46].
Остается задаться вопросом: «Что же сделали, какую пользу
извлекли кюре и викарии из своего чтения?» Перефразируя бле-
стящее выражение Мишеля де Серто, можно было бы ответить,
что в основном они создали основы Церкви, организовав со-
ответствующие религиозные обряды и исключив народные суе-
верия. Наставники и учителя, они постепенно превратились в
ГЛАВА 9
321
«функционеров», стали служителями религиозной идеологии
[47]. В качестве доказательства можно привести два противоре-
чивых примера. Так, Жан Мелье, кюре из Шампани (XVII в.),
материалист по убеждению, который выразил свои «антихри-
стианские мысли и чувства», ставшие известными после его
смерти благодаря Вольтеру и Гольбаху, в своем труде, посвя-
щенном изучению Библии и патристики (они, кстати, и привели
его к организации церковных конференций в епархии Реймса),
писал,
что приходские священники не так уж бесполезны, потому что во
всех хорошо управляемых республиках всегда нужны учителя, ко-
торые преподают уроки добродетели и нормы морали [48].
И другой, противоположный пример. Что значил для Жиля
Гийома, кюре прихода Семуана в епархии Труа, современника
Жана Мелье, его поступок, когда он переписал в приходские
книги 1718 г. письмо иезуита Жана-Жозефа Сюрена, которое тот
написал своим собратьям из Ла-Флеши в 1630 г. и рассказал в
нем о неграмотном молодом человеке, встреченном им в до-
рожном экипаже, доставившем его из Руана в Париж? Разделял
ли он его уверенность, что духовное богатство свойственно
самым обездоленным и что, не зная Священного Писания,
самые маленькие люди нередко ведают лучше, чем доктора тео-
логии, пути к спасению? Выбор пастором этого особого текста
говорит о возникновении у него едва заметного, очень смутного
сомнения, касающегося собственного предназначения [49].
ВЕРУЮЩИЕ И ЧТЕНИЕ
Ограничить рассмотрение данной темы видами чтения верую-
щих — это задача по-своему более сложная и деликатная. Здесь
следует принимать во внимание особенности общественного раз-
вития, существовавшие в определенные периоды между госу-
дарствами и регионами, городами и деревнями, а также соци-
альными слоями населения. Значительное расширение в период
между XVI—XVIII вв. круга читателей, что было связано с про-
грессом в школьном образовании как в городах (развитие бла-
322
ДОМИНИК ЖЮЛИА
готворительных школ), так и в сельских районах, чему в значи-
тельной степени содействовали епископы-реформаторы, повлек-
ло увеличение и разнообразие учебных материалов для школ. На-
чиная с известных изданий («Священное Писание», «Подража-
ние Иисусу Христу», «Литургическое богослужение»), формы их
полиграфического оформления и содержательного наполнения
были разнообразными. Они печатались разным шрифтом: от
мелкого до крупного, издавались в разных версиях: от простой
латинской до изданий, содержащих «объяснения», и в перево-
дах. Их переплеты варьировались от сафьянового до простого бу-
мажного в дешевых книжках, так же как и гравюры — от пред-
назначавшихся для дорогих изданий, например Библии, име-
нуемой «Руайомон» (Royaumont) по названию места ее издания,
которые Луи-Исаак Леместр де Саси сопроводил кратким ком-
ментарием из библейского текста, до скромных гравюр с обра-
зами из «Святейшей Библии» {Figures de la Sainte Bible), укра-
сивших серию «Голубая библиотека», вышедшую в Труа
(в XVII в. три четверти иллюстрированных книг были религиоз-
ного содержания [50]). Это многообразие форм способствовало
разнообразию чтения, которое также требует рассмотрения.
Здесь у нас больше сведений о духовном чтении монахов, чем о
чтении мирян. В этой области проходит большое разделение
между представителями дворянской элиты, богатых сословий,
которые в индивидуальном порядке получали от своих духовни-
ков советы, какие именно книги им необходимо читать, чтобы
вести правильный духовный образ жизни, и как именно следует
их читать, чтобы лучше усваивать прочитанное [51 ], и населением
городов и деревень, для которого в массовом порядке просто рас-
пространялись картинки, листовки, другие «летучие» издания
и небольшие книжечки. Представляется целесообразным также
более подробно остановиться на этапах и особенностях, по-
казывающих, каким образом богословские книги, которые
в основном содержали тексты, стали постепенно, если не вытес-
нять, то все в большей степени сопровождать красочно оформ-
ленные издания. Решающий поворот, например, во Франции,
произошел во второй половине XVII в., когда представители всех
ступеней церковной иерархии решительно высказались за орга-
низацию и массовый охват школьным обучением широких на-
родных масс, не продумав при этом в должной степени послед-
ГЛАВА 9
323
ствия подобного шага на длительную перспективу. Действующим
лицом этих преобразований и одновременно хорошим свидете-
лем стал аббат Фенелон, в частности когда он был послан с мис-
сией к протестантам в провинции Онис и Сентонж, как раз в пе-
риод после отмены Нантского эдикта. Придав должное значе-
ние «чувствам и эмоциям», он сумел добиться королевского раз-
решения на пение новообращенными «по воскресеньям в церкви
перед обеденной службой и после вечерни». Примерно так по-
ступали и миссионеры, заставляя крестьян после богослужения
петь гимны и духовные песни о таинствах веры.
«Им нужно что-то, что пробуждает чувства, что их утешает и что
делает нас более близкими для них», — отмечал Фенелон [52].
Однако он быстро признал, что это пасторское обольщение,
предназначение которого — «незаметно» привлечь протенстан-
тов, умело наставляя и поучая, имеет свои границы. Временные
действия могут «удивить», вызвать потрясение, даже спровоци-
ровать «бурное» проявление чувств [53], но не могут укоренить
религию в сердцах: «раскачивания и сотрясения ветвей расша-
тывают дерево, но не вырывают его с корнем» [54]. Напротив,
необходима постоянная работа, постоянное проповедование, ло-
жащееся на кюре, которые «знают и умеют наставлять и обучать»,
потому что «народы, отравленные ересью, можно завоевать
только словом» [55]. Но это нежное, с любовью осуществляемое
священнослужителями просвещение есть не что иное как руко-
водство чтением и его ограничение. Фенелон видел два основ-
ных пути сделать процесс обращения долговременным и эф-
фективным. Это — создание школ («если мы как можно раньше
не создадим школы для учащихся обоих полов, все начнется
снова») и самое широкое распространение Нового Завета. При
этом он уточняет, что издания, предназначенные для широкого
распространения, необходимо печатать крупным шрифтом, так
как текст, отпечатанный мелко, простой народ не сумеет про-
читать. Не следует также надеяться, что люди будут покупать
книги католического содержания.
«Уже хорошо, что они будут читать те книги, которые им ничего не
стоят. Ведь большинство из них не в состоянии их даже купить» [56].
324
ДОМИНИК ЖЮЛИА
Фенелон также настаивал на доставке «Исторического кате-
хизиса» (Catechismes historiques) Клода Флери, который, по его
мнению, «был бы очень полезен» [57], потому что «это непро-
стое дело — изменить сознание целого народа», и не так уж легко
«убеждать невежественных людей с помощью ясных
и хорошо сформулированных отрывков, которые они должны
ежедневно читать в пользу религии их предков» [58]. Церковь
и король сознательно высказались за богословские книги, адап-
тированные для восприятия (использование крупного шрифта)
большей частью населения.
Нет нужды долго задерживаться на вопросе об объеме выпу-
скаемой религиозной печатной продукции. Данные Анри Мар-
тена относительно издательского процесса в Париже известны:
с 1600 по 1650 г. наряду со стремительным увеличением коли-
чества издательств (только в 1644 г. их уже насчитывалось 600,
тогда как в 1600-е гг. их было около 150), продолжала увеличи-
ваться и доля издаваемой религиозной литературы. Ее объем воз-
рос от 30 до 50% (вероятно, что эти данные были завышены за
счет средиземноморских полуостровных территорий).
В самом издательском потоке религиозной литературы проис-
ходят значительные изменения: если доля изданий Священного
Писания и патрологии кажется скромной, то выпуск катехизи-
сов и сборников проповедей существенно увеличивается. Поле-
мическая литература антипротестанского характера вытесняется
книгами о благодати и частом причащении, в которых иезуиты
и янсенисты ведут ученые споры. Но особенно активно на пер-
вый план выдвигается духовная литература. Это «нашествие»
всесторонне проанализировал Анри Бремон в монументальной
«Истории литературы о религиозном сознании во Франции»
(Histoire litteraire du sentiment religieux en France). В ней он рас-
смотрел не только церковные тексты, такие, как «Подражание
Иисусу Христу», «Жития святых» и сочинения святой Терезы,
труды Луи де Гренада и трактаты испанцев Ла Пуенте и Родри-
геса, но и весь цвет произведений великих французских капу-
цинов и иезуитов: отца Жозефа и Ива Парижского («Введение
в духовную жизнь» — Introduction a la vie spirituelle), иезуитов
Бине, Сюффрена, Коссена, Пуаре, Эйнева, Ле Муа, Сюрена [59].
Описи, составленные после смерти книготорговцев и ставшие
известными благодаря историкам, подтверждают этот вывод:
ГЛАВА 9
325
в XVII в. религиозные книги, посвященные вопросам теологии,
ученым спорам, религии, составляли, как правило, больше по-
ловины всех книжных массивов, хранившихся в складских по-
мещениях книготорговцев [60]. Тиражи, о которых можно судить
по книгам, пользовавшимся наибольшим спросом, («Подража-
ние Иисусу Христу», молитвенники, катехизисы) или небольшие
сборники молитв, например «Путеводный ангел» (L’Ange con-
ducted) иезуита Жака Коре, могли достигать от 5 до 10 тыс. эк-
земпляров [61]. По причине либерализации накануне Француз-
ской революции режима предоставления привилегий, для полу-
чения которых теперь было достаточно только простых разре-
шений (постановление от 30 августа 1777 г.), в сферу
общественного пользования было вброшено большое количе-
ство старинных книг, а историкам предоставилась возможность
определить и оценить колоссальные объемы религиозных книг,
переиздававшихся в провинции. В 1778—1789 гг. их количество
составило 1 363 700 экземпляров, или 63% от всего объема пе-
реизданной литературы. Около половины из них (45%) соста-
вляли переводы литургических текстов: «День христианина»
(Joumee du chretieri), «Богослужения в честь святой Девы Марии»
(Offices de la Sainte Vierge), «Церковные службы» (Offices de
I’tglise), «Псалтыри» (Psautiers), «Маленький молитвенник» (Petit
paroissien) и др. А также гимны, духовные песни и молитвы:
«Сборник христианских молитв для урсулинок» (Formulaire de
prieres chretiennes a I’usage des ursulines), «Духовные песнопения о
главных таинствах нашей религии» (Cantiques spirituelles sur les
principaux mysteres de noire religion) и др. — всего 569 тыс. экзем-
пляров. Почти третью часть этой продукции составляли молит-
венные книги, учебники примерного христианина. Широко был
представлен весь спектр литературы, цель которой — направлять
верующих на путь спасения. Нередко ее авторами были сами ие-
зуиты. Например, «Кающаяся душа» (L’Ame penitente) или Nou-
veau Pensez-y bien отца Бартелеми Бодрана (12 150 переизданных
экземпляра) или пользующаяся большой популярностью книга
«Ангел, ведущий по пути христианское благочестие на пользу на-
божным душам» (L’Ange conducteur dans la devotion chretienne en
faveur des times devotes) отца Жака Коре, впервые вышедшая в
свет в 1683 г. в Льеже (переиздана в 16 городах, главным обра-
зом в Лотарингии, в количестве 99 700 экземпляров). И, нако-
326
ДОМИНИК ЖЮЛИА
нец, 20,8% переизданной литературы представляют разнообраз-
ные часословы (283 500 экземпляров): «Королевский часослов»
{Heures royales), «Часы, посвященные монсиньору дофину» {Heu-
res, dediees a Monseigneur le Dauphin), «Новый часослов, посвя-
щенный глубокоуважаемой госпоже супруге дофина» {Heures,
nouvelles dediees a Madame la Dauphine) [62]. Такое количество пе-
реизданий свидетельствует о том, что в конце XVIII в. введение
христианской культуры происходило путем обучения широких
масс населения грамоте и письму, так как значительное коли-
чество распространяемых текстов было предназначено для
обучения чтению в школах. Вот названия некоторых из них:
«Французские духовные силлабические песни» {Cantiques syl-
labairesfranqais), «Богослужение святой Деве Марии в сочетании
с методом, облегчающим обучение чтению и французскому про-
изношению» {Office de la Sainte l^iurge suivi d’une methode facile pour
apprendre les lectures etprononciations fran^aises), «Новый школьный
часослов» {Heures nouvelles d’ecole), «Полупсалтырь для школ»
{Demi-psautier a I’usage desecoles) и др.
Далее мы ограничимся краткими замечаниями по поводу кол-
лективных форм использования текстов. В XVII в. в обществах,
объединяющих верующих из элитарных кругов, было принято
коллективное чтение. Так, уже на первых собраниях члены Об-
щества святого причастия (Евхаристического общества) {1а Сот-
pagnie du Saint-Sacrement) (как правило, в него входили королев-
ские офицеры) коллективно читали отрывки из «Подражаний
Иисусу Христу» или «Духовной борьбы» театинца Лоренцо Ску-
поли. На «духовных конференциях» (conferences spirituelles) чле-
нов Лиможского общества занимались коллективным обсужде-
нием и толкованием положений Нового Завета или иных рели-
гиозных текстов. В этой религиозной среде обращались книги и
книжечки, в том числе и содержащие биографии умерших со-
братьев. В качестве примера можно привести «Жизнь господина
де Ранти», опубликованную в 1651 г. иезуитом Жаном-Батистом
Сен-Журом (Jean-Baptiste-Saint-Jure). Подобные издания долж-
ны были служить собратьям примером для подражания, под-
держивая в них дух единства и общих намерений. В то же время
широко использовались листовки с целью их распространения
за пределами узкого круга собратьев, в других приходских объ-
единениях, а также среди членов благотворительных обществ.
ГЛАВА 9
327
Нередко эти листовки оповещали о проведении различных акций
и призывали поддержать их (например, деятельность зарубеж-
ных миссий), включая сбор фондов [63]. В конгрегациях по-
клонников святой Деве Марии, образованных иезуитами, целая
серия «Часословов», «Богослужений», а также «Исполнение ду-
ховных обязанностей» (сначала на латинском языке, а потом и
на французском) были направлены на поддержание у собратьев
религиозности. И именно с помощью книги, через создание пуб-
личных библиотек, апостольство очень рано распространилось,
например, в Северной Европе среди ремесленников, холостых и
женатых, в частности в Антверпене или Кельне [64]. На более
скромном уровне каждое из братств кающихся грешников, свя-
того причастия или святой Девы Марии в городских центрах рас-
полагало книгой богослужений, которая постоянно переиздава-
лась: «Службой в честь славной Девы Марии» (Office de la Glo-
rieuse Vierge Marie), она предназначалась для «обществ кающихся
священников, живущих среди мирян». Такие книги, как «Часо-
слов для грешников», «Требник для белых кающихся грешников
Гренобля», «Служба святейшего причастия», ревностно храни-
лись в семьях, наследовались и передавались от отца или род-
ственника. А самые бедные выкупали их иногда для вдов своих
собратьев. Остается только выявить и сделать полный и точный
учет этих литургических текстов братств [65].
КАТЕХИЗИС
Методы и виды использования литературы, которые были при-
сущи преподаванию катехизиса, стали значительно разнообраз-
нее, как и учебники, предназначавшиеся для священников и
учителей, в обязанности которых входило «вдалбливание» пред-
мета в головы обучаемых. Усилия по наставлению новообра-
щенных знали спады и подъемы, прежде чем стабилизировались
в XIX в. Однако достоверно установлено, что уже в XVI в. в
школе велось преподавание катехизиса. В Северной Италии
братство Христианского вероучения, вдохновляющим образцом
Для которых было Общество Compagnia dei Servi dei puttini in ca-
rita, основанное в 1539 г. Кастеллино да Кастелло, предприняло
очень серьезные шаги, особенно в последние годы XVI в., по на-
328
ДОМИНИК ЖЮЛИА
ставлению новообращенных путем создания воскресных школ.
Однако формы и методы «вдалбливания» этого предмета в го-
ловы учащихся значительно изменились. Например, в епархии
Милана, наряду с сохранявшимся основным правилом препо-
давания: «учить наизусть христианское вероучение», все же мно-
гие элементы преподавания способствовали обучению чтению.
Установлено, что это и обладание личной алфавитной таблицей,
с тем же типографским шрифтом, что и катехизис, и введение
одновременно небольшого количества слов о катехизисе, и су-
ществование «канцлера» (chancelier), который наряду с учителем
бесплатно обучал читать и писать. Но если в Милане или в Павии
в воскресных школах наблюдались зачатки обучения чтению
(связь «учитель/ученик» была качественной и чрезвычайно бла-
гоприятной), то в других местах вероучение преподавалось
только устно. Не было и речи о таблицах, в которые должны
были смотреть дети, ни о книжках, которые они тоже должны
были иметь. Признавались только устные ответы наизусть. На-
пример, в Болонье или Кремоне урок основывался только на его
устном изложении учителем, который дети должны были вос-
принимать на слух [66].
В Обществе Иисуса (Compagnie de Jesus) Игнатий де Лойола
предложил в 1554 г. Пьеру Канизию, в то время декану факуль-
тета теологии в Вене, «тройную» программу, направленную на
усвоение еретиками католического вероучения. Обучающие
должны были предложить «молодежи катехизис или книгу о хри-
стианском вероучении, представляющую собой краткое изло-
жение католической истины в форме, доступной для понимания
детьми или простыми людьми». Одновременно рекомендовалась
и подготовка «книги для кюре и не столь образованных пасто-
ров, составленной при участии членов ордена», чтобы научить
их, «что они должны говорить своей пастве для принятия или
отвержения последней того, что должно быть». И в качестве
третьей части программы советовалось подготовить «сумму схо-
ластической теологии», «составленную таким образом, чтобы об-
разованные люди или те, кто считает себя таковыми, не прихо-
дили в ужас» [67]. Этот наказ Пьер Канизий выполнил следую-
щим образом: он выпустил три катехизиса разного уровня слож-
ности. В 1555 г. в Вене вышла «Сумма христианского вероучения»
объемом примерно около 200 страниц на латинском языке, пред-
ГЛАВА 9
329
назначавшийся детям из христианских семей. Разделенный на
пять частей его насыщенный по содержанию текст с длинными
ответами на вопросы был дополнен в 1566 г. и издан в так на-
зываемой посттриентской версии с серьезным дополнением раз-
дела о доказательстве невиновности. В 1577 г. он был перерабо-
тан теологом Лувеном Пьером Бюзе, который подкрепил ответы
на вопросы авторитетными высказываниями в области Библии
и патристики. Таким образом переработанное издание «Суммы»
стало представлять собой теологический трактат из четырех
томов ин-кварто, содержание которого соответствовало более
высокому уровню, в соответствии с пожеланиями Игнатия де
Лойолы. В 1556 г. в Ингольштадте вслед за грамматикой латин-
ского языка вышел в свет «Малый катехизис», подразделенный
на 52 вопроса и сопровожденный основополагающими моли-
твами. Речь идет о катехизисе для маленьких детей, которые
учатся читать и приобщаются к латинскому языку. В Кельне из-
дается Parvus catechismus catholicus, также предназначенный для
школьников (вскоре книгу стали называть «minor», чтобы отли-
чать от двух других). Издание включало 124 вопроса, располо-
женных в той же последовательности, что и в «Сумме теологии»
(Summa theologica) [68]. Успех катехизисов Канизия, пережив-
ших большое количество переизданий как на латинском, так и
на народно-разговорном языках и в странах с населением, го-
ворящим на немецком языке [69], и в франкоязычных государ-
ствах [70], способствовал даже развитию коллежей Общества
Иисуса (об этом свидетельствуют места расположения изда-
тельств, совпадающие с местонахождением коллежей), в кото-
рых катехизисы использовались. Catechismus parvus действи-
тельно активно применяли и учили наизусть в младших классах
(четвертом, пятом, шестом), чаще всего на народно-разговорном
языке, тогда как большой катехизис в старших классах препо-
давался на латинском языке [71]. Даже во Франции катехизисы
Канизия быстро вытеснили катехизис, выпущенный Эдмоном
Оже, который также предложил его в трех видах изданий в зави-
симости от читательского предназначения. Действительно, кате-
хизис Эдмона Оже представлял большие неудобства для пользо-
вания, требуя шаг за шагом следовать катехизису Кальвина, чтобы
опровергать его положения на французском языке. Этот «поле-
мический» параллелизм был признан неудачным, так как не
330
ДОМИНИК ЖЮЛИА
«щадил» важность положений вероучения и «открыто» представ-
лял молодежи «ереси». Тогда как катехизис Канизия трактовал
«христианскую справедливость», разъясняя суть грехов и ди-
станцируясь от них, рассуждая при этом о милосердии, плодах и
дарах Святого Духа [72]. Из-за своего теологического соответ-
ствия постулатам Церковного совета Тридцати, а также ясности
изложения катехизис Канизия стал школьным учебником-спра-
вочником для поколений католиков, обучавшихся в коллежах.
Забота довести до читателей-детей католические истины хотя
бы на уровне запоминания (если не понимания) возникла очень
рано. Поэтому принцип разделения катехизиса в соответствии с
уровнем сложности содержания был подхвачен и активно ис-
пользовался епископами епархий при составлении и издании
ими учебников в течение XVII в. В 1646 г. Жан-Франсуа де
Гонди, епископ Парижа составил таким образом три катехизиса:
один «для маленьких детей», другой — для «более продвинутых
по способностям и более старших по возрасту» и третий — «чтобы
хорошо подготовиться к первому причастию» [73]. В 1676 г. ка-
техизис, именуемый «три Анри», так как был выпущен Анри де
Лавалем, епископом Ла-Рошели, Анри де Барийоном, еписко-
пом Люсона, и Анри Арно, епископом Анже. Он представлял
собой том, состоящий из трех частей. Первая — «маленький» ка-
техизис (27 страниц) — предназначался для совсем «маленьких»;
основная задача второй (93 страницы) — готовить детей с семи-
или восьмилетнего возраста к первому причастию и третья, самая
большая часть тома (382 страницы), была адресована в первую
очередь кюре, чтобы они умели наставлять своею паству в про-
поведях и катехизисах [74]. И действительно, парижская при-
ходская церковь Сен-Никола дю Шардонне стала настоящей пе-
дагогической лабораторией по проведению многочисленных экс-
периментов реформаторского характера. По уровням обучения
формировались не только группы детей (самые маленькие, сред-
него и старшего возраста), но и весь «специфический» материал
использовался соответствующим образом в помощь проведению
уроков. Смысл гравюр, выполненных на металле с изображе-
нием христианских таинств (пособия регулярно менялись по ли-
тургическому календарю), непременно объяснялся учителем, не-
смотря на то что учащимся перед уроком раздавались листовки
с его кратким изложением. Основные сведения, касающиеся
ГЛАВА 9
331
праздников, также распределялись по мере возрастания слож-
ности, соответствующей подготовленности детей. На первые во-
просы отвечали «самые маленькие из тех, которые читают на
французском языке». Вторая и третьи части, в которых излага-
лись причины, по которым Церковь отмечает свои торжества,
предназначались «средним». Что касается «больших», «более
способных, по сравнению с другими», то они отвечали в награду,
которой добивались те, кто хорошо себя ведет и «правильно вы-
полняет религиозные обряды». Таким образом, материал для
обучения продумывался и составлялся по специальной мето-
дике, учитывавшей уровень усвоения учащимися приобретен-
ных ими знаний и умений. И Жан-Батист де Ла Салль многое
позаимствовал из опыта приходской церкви Сен-Никола дю
Шардонне для организации обучения в своих христианских
школах [75].
Если необходимость адаптации обучения к уровню развития
прихожан разделялась многими [76], то этого нельзя утверждать
в отношении широкого распространения инновационных форм
и методов, получивших развитие в приходской церкви столицы.
На протяжении веков новой истории Церковь неизменно при-
держивалась устной методики преподавания катехизиса, в соо-
тветствии с которой только священник или учитель мог распо-
лагать учебником. Для Церкви было важно, чтобы верующие
постигли, прежде всего, истины их религии. Некоторые епи-
скопы даже составляли катехизисы на местном наречии. Так,
после своей первой инспекционной поездки Франсуа-Пласид
де Бодри (Пиенкур), епископ Манда, распорядился составить
катехизис на окситанском (провансальском) языке «ос», «чтобы
народам гор были более понятны основные религиозные
истины, знание которых необходимо во спасение, а из-за труд-
ностей восприятия языка многие их не знали». По его выра-
жению, необходимо дать «молока тем, кто находится еще, если
можно так сказать, в детской колыбели христианства» [77].
Сразу же после приезда в епархию Ош в 1746 г. Жан-Франсуа
де Монтийе (Jean-Francois de Montillet) повелел составить ка-
техизис на французском языке, который должен был препода-
ваться почти повсеместно на народно-разговорном языке. Во
втором издании учебника он уже поздравлял себя с достигну-
тыми результатами:
332
ДОМИНИК ЖЮЛИА
«Какое зрелище и для верующих, и для нас видеть, как более по-
ловины молодых людей, даже из деревенских приходов, где почти
никто не умеет читать, наизусть рассказывают весь катехизис! А те,
кто не смог выучить его наизусть, из краткого курса знают все, что
необходимо знать о наших таинствах, церковных заповедях, при-
частиях, дарованиях, чтобы их достойно принять!»
Сразу же возникла необходимость во втором издании этого
катехизиса, чтобы несколько ограничить количество вопросов и
ответов для «небольшого облегчения их доступности жителям де-
ревни», а также сократить молитвы, чтобы они больше соответ-
ствовали «памяти и способностям многих детей».
Нужно было ввести в текст на французском языке наиболее упо-
требительные для жителей этой епархии слова и выражения, так как
их смысл должен был быть понятен без перевода, поскольку даже
маленькое различие в нем озадачивало и приводило в замешатель-
ство детей [78].
Этот пример свидетельствует о заучивании катехизиса на-
изусть, когда детская память заполняется вопросами и ответами
при его изучении. В XVIII в. уже начинает проявляться ощути-
мая разница в методах преподавания этого предмета на юге
Франции (в данном случае он соответствует вышеописанному) и
на территориях севера и северо-востока страны, где катехизис —
это, прежде всего, учебник, который сначала читают, а потом за-
поминают прочитанное [79]. Шарль де Кейлю (Charles de Сау-
lus), епископ Осера, подчеркивает, что, по его мнению, Церковь
намного выигрывает от преподавания катехизиса в школах, осо-
бенно небольших:
«Очевидно, что дети, которых обучают читать, значительно лучше
слушают, воспринимают и запоминают основы веры, которые им
преподают. Всегда с большим трудом приходится «вкладывать» в го-
ловы детей и даже взрослых людей, которые не умеют читать, ос-
новные религиозные истины, а потом с болью в душе наблюдать, с
какой легкостью они забывают все, чему их научили из катехизиса,
как только они перестают приходить в церковь. Те же, кто умеет чи-
тать, всегда могут вспомнить забытое, обратившись к чтению» [80].
ГЛАВА 9
333
Вопрос, которым задается все большее количество учителей
катехизиса, — это вопрос о соотношении запоминаемого текста
и пониманием его смысла. Именно этот довод стал основной
причиной приверженности Клода Флери историческому методу
преподавания. В этом отношении катехизис, содержащий крат-
кое изложение истории и христианского вероучения, сравним с ре-
волюцией, произведенной учением Коперника. Клод Флери вос-
ставал против стиля изложения катехизисов, составлявшихся в
епархиях его времени:
«Нельзя отрицать, что стиль изложения катехизисов не должен быть
слишком сухим и что дети не должны испытывать большие труд-
ности в запоминании текстов, и тем более их восприятии на слух.
Ведь первые детские впечатления бывают самыми сильными, и у
многих на всю жизнь остается отвращение к этим наставлениям,
которые их так утомляли в детстве».
Основной недостаток катехизисов, с точки зрения Флери, за-
ключался в том, что они составлялись
«теологами, которые готовились в школах и при их составлении по
школьной привычке ограничивались только извлечением из каж-
дого теологического трактата ряда определений и разделов, по-
скольку считали их наиболее подходящими, а затем переводили
отобранное на народно-разговорный язык, не меняя стиля».
Таким образом, метод и стиль схоластической теологии
свойственны только тем, кто изучал «логику и другие разделы
философии». К ним, как правило, относятся теологи. Клод
Флери полемизирует по поводу смысла христианских истин:
«Верить — это не значит заучивать наизусть некоторые слова и вы-
ражения, не понимая их. Верят, не произнося слова без ощуще-
ния их смысла, а сердцем [...]. Нельзя утверждать, что я верю в
“таинство Троицы”, если я не имею об этом никакого представ-
ления, так как моя память только перегружена звучащими сло-
вами, которые мне так же непонятны, как и слова на иностран-
ном языке. Именно таким является схоластический язык для тех,
кто его не изучал».
334
ДОМИНИК ЖЮЛИА
Отсюда и постоянная забота и стремление Клода Флери об-
ратиться к накопленному веками опыту и следовать в препода-
вании религии методу «повествования, рассказа и извлечения
выводов из фактов, на которых были основаны догмы и нравст-
венные заповеди». «Все могут слушать и запоминать истории
[...]. Особенно дети, которые, как никто другой, расположены к
этому». По Флери, именно повествование, рассказ лежат в основе
катехизиса: речь больше не идет об историях или житиях свя-
тых, которые связаны с чудом, речь идет о «Священной исто-
рии» (Histoire sainte) [81]. Это было большое открытие, объяс-
няющее, почему «Исторический катехизис» Флери стал и оста-
вался вплоть до середины XIX в. одним из лучших во Франции.
Составители других катехизисов, например, Боссюе (Bossuet),
епископ Мо, немедленно последовали новаторскому примеру
Флери и включили рассказ об истории спасения в раздел, по-
священный догмам [82].
НЕГРАМОТНЫЕ И ЧТЕНИЕ
Клод Флери сознательно сопроводил свой «Исторический кате-
хизис» образами, «чтобы в их взаимном дополнении более полно
передать содержание катехизиса и образы святой истории». Об-
разы, признавал он, действительно «могут поражать воображе-
ние детей и запечатлеваться в их памяти: и это — писание для
непосвященных». Далее Флери признает, что в работе над кате-
хизисом его вдохновляли «отличные» находки, содержавшиеся
в таких кратких изданиях, как «История Старого и Нового За-
вета» (Histoire de I’Ancien et du Nouveau Testament), «сопровож-
давшихся образами». Действительно, жанр «образов из Библии»
(Figures de la Bible), который объединял изображения, предста-
влявшие эпизоды Священного Писания с комментариями,
помог многим детям сделать первые шаги по приобщению к чте-
нию. Несомненно, отмечает Клод Флери: «книги, полные обра-
зов, слишком дорогие, чтобы быть доступными для бедных, ко-
торые более всего нуждаются в обучении» [83]. Издание Библии
с гравюрами, называемое «Руайомон», было недоступно для
людей скромного достатка. Но есть убедительные подтвержде-
ния его коллективного использования: книгу читали вслух в
ГЛАВА 9
335
крупной семинарии Отона, учрежденной членами конгрегации
святого Сульпиция [84], в маленькой янсенистской семинарии
(духовном училище) при приюте Бисетра, в котором юного Ни-
кола Ретифа наставляли [85] почти так же, как в благотвори-
тельных школах предместья Сент-Антуан [86]. Помимо этой до-
рогостоящей книги — собственности учреждения, было еще до-
статочно более дешевых изданий, таких, как: «Образы из Биб-
лии» (Figures de la Bible) из серии «Голубая библиотека»,
издававшихся в Труа. Может быть, именно по одному из этих
изданий юный Гроле из Труа научился читать, благодаря посто-
янно бодроствовавшей старой и неграмотной служанке Мари,
знавшей, тем не менее, наизусть весь текст книги:
«Каждый вечер полчаса посвящался чтению «Образов из Библии».
Я вынужден был каждый раз начинать читать сначала каждое пред-
ложение, так как она не могла сразу ухватить смысл, из-за чего я
сам ощущал, что начинаю его понимать. Когда я читал, не остана-
вливаясь на точках и запятых, она ударяла по книге концом вере-
тена, прося меня остановиться» [87].
Нам труднее определить, каким было влияние книжек и кни-
жечек, широко распространяемых во время мероприятий, про-
водимых миссионерами. Конечно, их цель — прежде всего, сло-
вом и зрелищем взволновать народ, чтобы затем обращать его
в свою веру, возвращать заблудших в лоно Церкви и наставлять
все сообщество прихожан. В то же время, путешествуя, миссио-
неры придавали большое значение своему окружению. Как пра-
вило, их всегда сопровождали книготорговцы и продавцы-га-
лантерейщики, в обязанности которых входило распростране-
ние дешевого товара широкого ассортимента: четок, образков,
медальонов, но также книг и брошюр, призванных продлить
эффект воздействия от пребывания миссионеров. В Бретани в
1640—1660 гг. иезуита Жюльена Монуара (Julien Maunoir) в его
миссионерских походах сопровождал торговец Гийом Ивонник
(Guillaume Yvonnic), который в течение 15 лет сам вызывался
распространять маленькие книжечки, содержащие духовные
песни на бретонском языке [88]. Именно этот вид духовной ли-
тературы находят в каталогах, предлагавшихся книготоргов-
цами Ванна, Морле и Кемпера в конце XVII и в XVIII в. [89].
336
ДОМИНИК ЖЮЛИА
В «Учебнике миссии, предназначенном для капуцинов Париж-
ской провинции» (Manuel de la mission a I’usage des capucins de la
province de Paris) (1702) отец Альбер из Парижа советовал мис-
сионерам не распространять книги самим, «но только дать знать
какому-нибудь печатнику о месте проведения миссии, и он сам
не приминет к ней подготовиться». И действительно, книготор-
говцы даже издали «Каталог книг, которые хорошо иметь в за-
пасе для распространения во время миссионерских мероприя-
тий». Таким был печатник из Се, сопровождавший в Норман-
дии иезуита-миссионера Пьера Сандре. В 1719 г. он предложил
около десяти названий изданий, которые продавал даже на месте
расположения самой миссии. Это были молитвы, духовные
песни, «Путь к спасению» (Guide du Salut), Reglements des families,
«Уроки Голгофы, чтобы научиться готовиться к хорошей смерти»
(Lemons du Calvaire pour apprendre a se preparer a une bonne mort) [90].
В Франш-Комте миссионеры Бопре осуществили в первой по-
ловине XVIII в. 260 миссий. Их постоянно сопровождали по
меньшей мере два книготорговца, жители Юры: Дени Райар из
Салена и Жан-Батист Тонне из Доле. Как свидетельствуют
описи, составленные после смерти владельцев, книги еще были
редкостью в сообществе жителей Юры XVIII в. (23% описей со-
держат сведения о книгах у торговцев, 19% — у ремесленников
и только 6% — у различных категорий крестьян). Подавляющую
же часть книг составляют религиозные издания (от 70 до 90%).
И миссионеры, несомненно, сыграли решающую роль в их рас-
пространении [91]. Подобным же образом расходились книжки
и книжечки религиозного содержания во время миссионерства
иезуитов Эльзаса и Германии. Это делалось для того, чтобы под-
черкнуть сильные стороны католического вероучения (отсюда
аспект истинности катехизиса), набожность, традиционно при-
сущую населению прирейнских и германских территорий,
а также значение святых иезуитов (святого Франсуа Ксавье (saint
Frangois Xavier) и святого Игнатия (saint Ignace) [92]. Количест-
во распространяемой литературы было огромным. Только
в одной счетной книге мелкого книготорговца из Родеза Пьера
Леру мы видим из его расчетов в Оверни с «наборщиком» Ми-
шелем Шаппа из Мюра, что в 1670—1678 гг. для сопровожде-
ния миссионеров ему было направлено 3425 маленьких мис-
сионерских книжечек, 1500 песен, 500 молитв, 150 книжечек
ГЛАВА 9
337
с молитвами, обращенными к Богородице. И все это, не счи-
тая гравюр. Этот точный и обстоятельный перечень дает пред-
ставление о массе книжек и книжечек, предназначавшихся для
распространения [93].
Что же дало использование этой литературы? Большое зна-
чение, которое придавалось в маленьких книжечках, распро-
страняемых иезуитскими немецкими миссиями, могуществу вла-
сти святого Игнатия, противостоящей пагубному влиянию де-
монов, позволяет предположить, что миссионерские книжечки
могли иногда использоваться во время обрядов заклинаний, на-
правленных против сил зла. Для миссионеров, распространение
таких книжек имело еще и целью вытеснение и замену ортодок-
сальных религиозных обрядов (чтение молитв, регулярное ис-
поведование и причащение) магическими религиозными обря-
дами. В своем сочинении «Сборник миссии» (Bouquet de la mis-
sion), опубликованном в 1700 г., Жан Ледюже (Jean Leuduger),
схоласт собора Saint-Brieuc, руководитель очень многих миссий
в Бретани, прямо признается, что его сочинение представляет
собой
«сжатый вариант из всего того, что говорится в проповедях, на кон-
ференциях и во время осуществления других видов миссионерской
деятельности [...] и это сделано для того, чтобы «вы снова вспомнили,
чему вас научили в миссиях, и чтобы время от времени вы освежали,
воскрешая в памяти, охватывавшие вас тогда благородные чувства и
принятые под их воздействием духовные решения» [94].
Целая глава в этом сочинении посвящена духовному чтению.
В ней дается много классических советов, начиная с отцов
Церкви. Например, каким образом следует «вкушать» и «смако-
вать» тексты. Предлагается также список книг, к которым сле-
дует обращаться: от «Размышлений об имуществе» (Pensez-y bieri)
иезуита Барри и «Подражания Иисусу Христу» до сборников,
также традиционного содержания, Франсуа де Саля, Луи де Гре-
нада, Альфонсо Родригеса, Лоренцо Скуполи. Неграмотным тоже
предлагалось иметь книги:
«Даже если вы не умеете читать, не лишайте себя возможности
иметь хорошие книги, которые вам смогут прочитать другие. Так
330
ДОМИНИК ЖЮЛИА
поступала Армель Никола, почившая в Ванне в ореоле святости.
Она всегда носила с собой «Подражание нашему Господу» (Imi-
tation de notre Seigneur) и, когда находился кто-то, умеющий чи-
тать, просила его прочитать ей несколько строк из своей книги.
После чего она останавливалась, чтобы поразмышлять над про-
читанным» [95].
Часто ли духовный пример этой набожной неграмотной жен-
щины встречался в то время? Те, кому был знаком этот опыт, не
поделились им с другими.
Роже Шартье
ГЛАВА 10
«НАРОДНЫЕ» ЧИТАТЕЛИ И ИХ ЧТЕНИЕ
ОТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ДО ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА
«Встреча» с «народными» читателями эпохи Возрождения (с се-
редины XV в. до середины XVII в.) и их изучение в течение дли-
тельного периода осуществлялись по основным направлениям,
очерченным Люсьеном Фебре и Анри-Жан Мартеном в их но-
ваторской книге, посвященной истории книги [1]. В ней прежде
всего была дана характеристика различным категориям читате-
лей (и читательниц) путем воссоздания картины неодинакового
присутствия книги в различных социальных группах населения,
проживающих в городе или в сельском регионе. Ответ на вопрос:
«Кто читал?» был сформулирован на основе проведения социо-
логического исследования о владении книгами. Ответ на вопрос:
«Что читали?» был получен путем выявления из крупных биб-
лиографических массивов данных о названиях книг и их лите-
ратурных жанрах, присущих каждой социальной группе.
Затем были определены различные направления проведения
исследований. Предпочтение было отдано в первую очередь
источникам информации, содержащим объемные сведения, что
позволяло осуществлять количественную и серийную обработку
однородных повторяющихся и сравнимых данных. К таким, в
частности, были отнесены нотариальные описи, составленные
после смерти владельцев книг, или печатные каталоги прода-
вавшихся библиотек. Затем была разработана система критериев
(помимо основного деления населения на грамотных и негра-
мотных), определяющих ряд различий в уровне культуры, исходя
из таких показателей, как наличие или отсутствие книг, коли-
чество изданий, названий книг, содержавшихся в описях или
каталогах.
Такие исследования, базирующиеся, естественно, на изуче-
нии более многочисленных источников XVIII в., по сравнению
340
РОЖЕ ШАРТЬЕ
с предшествующими веками, принесли существенные резуль-
таты. Проводимые, как правило, в масштабе города, они позво-
лили прийти к неожиданному выводу о значительно более ши-
роком присутствии книг в кругах ремесленников и торговцев.
Так, в Валенсии 1474—1550 гг. третья часть всех составленных
описей указывала на наличие книг. В процентном отношении
ее можно представить следующим образом: 14% описей были
сделаны в домах ремесленников — производителей текстиля и
10% — в домах работников ручного труда [2]. В Амьене (1503—
1576) в каждой из пяти нотариальных описей, составленных
после смерти владельца, числится одна книга. В отношении опи-
сей имущества торговцев и ремесленников, составленных после
их смерти, в одной из десяти содержатся сведения о наличии
одной книги, т. е. — в 11% описей [3]. Несколько позже в Кен-
тербери (1620—1640) о наличии печатных изданий свидетель-
ствовала половина всех нотариальных описей. В процентном от-
ношении, данные распределяются таким образом: 45% — у ре-
месленников — изготовителей одежды, 36% — у рабочих —
строителей зданий, 31 % — у земледельцев, проживающих в го-
роде [4]. Следовательно, во всех городах и городках эпохи Воз-
рождения книги не были чужды представителям из народа. Ко-
нечно, ими владело меньшинство, но меньшинством никогда не
следует пренебрегать, так как оно может составить значительную
часть в пропорции от конкретно рассматриваемого населения.
Следует ли полностью полагаться на результаты этого первого
анализа? Может быть, и нет. Неравенство во владении книгами
в том виде, в каком их отражают описи и каталоги, обманчиво.
С одной стороны, в них учитываются только издания, ценность
которых определяется упоминанием в описи имущества после
смерти владельца или во время продаж с торгов, с другой — по
ним невозможно судить о чтении книг, которыми читатели не
владели, но могли позаимствовать, прочитать или послушать у
кого-то другого. Наконец, эти данные скорее свидетельствуют о
разном уровне культуры их владельцев, чем об их фактическом
чтении. Ведь в эпоху Возрождения одни и те же тексты и нередко
книги обращались во всех социальных слоях общества. Следо-
вательно, под термином «народный» применительно к книгам,
обнаруженным у ремесленников и торговцев того времени, пра-
вильнее понимать различные виды использования и чтения
ГЛАВА 10
341
одних и тех же текстов читателями (и читательницами), пред-
ставлявшими различные социальные слои общества.
ЧТЕНИЕ, РАЗДЕЛЯЕМОЕ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ
Этот вывод подтверждается следующими двумя положениями.
Очевидно, что «народные» читатели оказывались владельцами
книг, предназначавшимися по большому счету не для них. Ме-
ноккио, мельник из Фриули, читал Библию на народно-разго-
ворном языке, Fioretto della Bibbia, переводное издание «Житий
святых» (Legende doree), Il cavallier Zuanne de Mandavilla, в пере-
воде с французского языка на итальянский Voyages Мандевилля,
«Декамерон». Следовательно, Меноккио как «народного» чита-
теля характеризует не то, что он читал, а то, как читал, т. е. его
манера чтения, понимание прочитанного и затем применение в
жизни знаний, извлеченных из прочитанного [5].
Так же земледельцы, ремесленники и торговцы епархии
Канка (Cuenca) на допросах Инквизиции в 1560—1610 гг. отве-
чали, что читали то же, что и другие, более богатые, а именно:
молитвенные книги, жития святых, рыцарские романы — са-
ballerias [6]. Констатация этого факта позволяет переосмыслить
сложившееся мнение о том, что любителями рыцарских рома-
нов были в основном представители дворянства [7]. Это уже
ставшее традиционным в литературоведении суждение основы-
валось на трех доводах. Суть первого, заключалась в «склонно-
сти» представителей аристократии к этому литературному жанру,
что подтверждалось конкретными свидетельствами (письмами,
мемуарами, житейскими историями, начиная с «Жизни» (Vida)
Терезы де Авила [8], а также их популярностью у придворных,
в том числе состоявших на военной службе. Второй подчерки-
вал тесную связь между этой приверженностью и большой лю-
бовью дворянства к возвышенной свободной независимой ры-
царской жизни, которая продолжала сохраняться даже после на-
чавшегося процесса оседлости в городах и при дворе. Третий
подкреплялся конкретными примерами, иллюстрирующими
ошибочность отнесения рыцарских романов к «народному чте-
нию». Одним из таких примеров было содержание XXXII главы
первой части «Дон Кихота», в которой жнецы, собравшиеся на
342
РОЖЕ ШАРТЬЕ
постоялом дворе Хуана Паломека, слушают, как читают три про-
изведения: Los cuatro libros del valeroso caballero don Cirongilio de
Tracia Бернардо де Варгаса, Primera parte de la grande historia del
may animoso у esforzado principe Felixmarte de Hircania Мельхора де
Ортеги и Cronica del Gran Capiton Gonzalo Hernandez de Gordoba у
Agilar. Con la vida del caballero Diego Garcia de Paredes, которые ни
они, ни хозяин постоялого двора не покупали, а нашли в до-
рожном сундуке, забытом путешественником. На этом основа-
нии был сделан однозначный вывод:
«Рыцарские романы (romans de chevalerie) читали представители ари-
стократии, дворянства, а также некоторые очень зажиточные бур-
жуа. Нет никаких сомнений, что ни крестьяне, ни торговые люди
их не читали» [9].
Показания обвиняемых на инквизиторских трибуналах опро-
вергают этот вывод. В епархии Канка (1560—1610) семь земле-
дельцев, шесть торговцев и один ремесленник сказали, что они
читали рыцарские романы. Причем, они составили подавляю-
щее большинство в группе из 17 обвиняемых. Это были моло-
дые читатели (две трети из них — моложе 30 лет). Как правило,
они не состояли в браке (12 человек из 17). Следовательно,
именно возраст и семейное положение отличают читателей ры-
царских романов от читателей классической художественной ли-
тературы и изданий гуманитарного профиля, которые моложе по
возрасту и занимают более высокое социальное положение в об-
ществе. Об этом свидетельствует и значительная доля среди них
учащихся латинских школ. Возраст и семейное положение от-
личают их также от приверженцев чтения религиозной литера-
туры (пастырские наставления, жития святых, молитвенники).
Последние составляют наиболее многочисленную группу (91 чи-
татель и читательница). В нее входят читатели более старшего
возраста. Как правило, это вдовцы (или вдовы), а также люди,
состоящие в браке и принадлежащие ко всем социальным слоям
населения.
Образцовый анализ Сары Т. Налль (Sarra Т. Nalle) позволяет
сделать два вывода. Первый показывает, что для определения со-
циопрофессионального статуса такие показатели, как культур-
ные различия, совсем не обязательны и в большинстве случаев
ГЛАВА 10
343
они даже не играют никакой роли. Тогда как возраст, граждан-
ское состояние, ступени получения образования (и даже одина-
ковое вероисповедание, профессиональная принадлежность, про-
живание на одной и той же территории) могут определить даже в
большей степени, чем социальное положение, специфические
особенности различных категорий читателей. Из второго вывода
следует, что какого-то особого «экстраординарного» чтения не
существует. Так же, как молитвенные книги не являлись уделом
только «народных» читателей, так и рыцарские романы (несмот-
ря на их большой формат и высокие цены) были доступны в пря-
мом и переносном смысле не только элитарным слоям общества
и представителям богатых сословий. Даже если самые обездолен-
ные не могли владеть ими лично, то они, как жнецы из «Дон Ки-
хота», могли слушать, как эти произведения читают вслух другие.
НАРОДНЫЙ РЫНОК ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
Еще одна причина, обязывающая рассматривать вопросы ис-
пользования книг шире, чем их распространение, а связанные с
ними виды чтения — шире, чем просто владение книгами, имеет
отношение к стратегиям книготорговцев. Действительно, по-
всюду в Европе предприимчивые издатели-книготорговцы
раньше или позже (в зависимости от страны) изобрели народ-
ный рынок печатных изданий. Завоевание «народных» покупа-
телей (слово «народный» в данном случае имеет двойной смысл:
покупатели многочисленны и представляют самые широкие слои
населения: ремесленников, лавочников, мелких торговцев), а
также деревенскую элиту) [10] предполагает соблюдение не-
скольких условий: осуществление издательской стратегии, на-
правленной на снижение издержек производства, а следовательно,
и продажной цены; распространение печатных изданий путем
торговли вразнос как в городе, так и в сельской местности; выбор
текстов и литературных жанров, способных заинтересовать как
можно большее количество читателей, а среди них — самых неи-
мущих. Результат этих издательских стратегий — распростране-
ние среди «народных» читателей текстов, ранее издававшихся в
другой печатной форме и предназначавшихся для ограничен-
ного круга образованных и знатных людей, или текстов, издан-
344
РОЖЕ ШАРТЬЕ
ных в один и тот же период, но в различных полиграфических
версиях в зависимости от читательского предназначения, не-
редко резко различавшегося.
Например, romances, предназначавшиеся для чтения (и для
пения), предлагались в двух издательских версиях: в виде pliegos
sueltos (самая старая форма выпуска romance датируется 1510 гJ
и в сборниках. Так, “Cancionero general’’Эрнандо дель Кастильо
1511 г. издания содержит 48 romances. Затем последовал Cancio-
nero de romances, опубликованный Мартином Нусио в Антвер-
пене в 1547 или 1548 г. Далее — Romances nuevamente sacados de
historias antiguas de la cronica de Espana ("Севилья, около 1549 г.),
позднее — Silva de romances (Сарагоса, 1551 г.), и затем — Silva
de varies romances (Барселона, 1561 г.) [11]. Это обращение двух
издательских версий: отдельных текстов, отпечатанных на одном
листе в формате «кварто», и их собраний, объединявших в одном
издании несколько десятков или даже сотен стихотворений, —
способствовало развитию многочисленных обменов, в том числе
romances, между традицией устного творчества и печатными фор-
мами, различными печатными версиями, текстами различных
поколений: от romancero viejo и romances nuevos, сочиненных в
конце XVI в. поэтами (среди них Лопе де Вега и Гонгора) для
образованными читателей, до romances de ciego и de cordel, напи-
санных между XVII и XIX вв. авторами, специально пишущими
для простых городских жителей [12]. Благодаря этим обраще-
ниям и их разнообразным маршрутам «romance очень быстро
стал основой литературной культуры почти всех социальных
слоев общества, так как все слушали, читали, пели и учили ro-
mances» [13]. Решающую роль в этом процессе сыграла специ-
ально изобретенная издателями печатная форма — pliego suelto.
Эта форма, первоначально представлявшая книжечку из 8—4
страниц (лист или половину листа в формате кварто) [14], стала
условием широкого обращения romance каким бы он ни был. Она
придавала печатному изданию поэтический вид, постоянно всту-
пая в противоречие с новыми изобретениями [15], кормила
странствующих торговцев и слепых, торгующих вразнос [ 16], де-
лала доступным для всех, даже самых бедных, репертуар изда-
ний, которые можно было использовать в самых различных
целях, например во время работы и на празднике, а также для
того, чтобы учиться читать или проводить время.
ГЛАВА 10
345
В Англии XVI в. broadside ballads были равнозначны испан-
ским pliegos sueltos poeticos. Ballads, религиозные или мирские
тексты которых печатались на одной стороне печатного листа
и продавались затем торговцами вразнос, например, Autolycus
из Conte d’hiver ("«Зимняя сказка»), представляли собой однов-
ременно поэтический жанр и издательское направление, поль-
зовавшиеся большой популярностью у населения [17]. Об этом
убедительно свидетельствует большое количество для XVI в.
изданий, доходящее до 3000. В начале XVII в. наблюдалось по-
глощение рынка пятью книготорговцами Stationer’s Company, в
1624 г. ballad partners устанавливают почти монополию над
broadside stock. Отметим также заимствования ballads в печат-
ной форме спонтанными производителями. Тексты ballads, сох-
ранившиеся в архиве Star Chamber, отвечавшей в 1603—1625 гг.
за преследование авторов diffamous libels и lascivious, infamous или
scandalous ballads, направленных против магистратов, офицеров
или викариев, отличают две основные характерные черты.
С одной стороны, они подтверждают оригинальность содержа-
ния, отражающего «культуру таверн», где те, кто мог (школь-
ные учителя, прокуроры, образованные путешественники) бра-
лись за перо, чтобы запечатлеть в письменной форме резуль-
таты коллективного творчества, не всегда утруждая себя соб-
людением формальных правил, так как главной целью было
сохранение особой направленности содержания. С другой сто-
роны, тексты баллад, писавшиеся от руки, чтобы их распро-
страняли, пели или вывешивали в людных местах, имитировали
формы напечатанных баллад, например, расположение текста
в две колонки и адаптация его содержания к определенным об-
стоятельствам [18]. Как и в отношении romances, печатные вер-
сии поэм также оказывали сильное влияние на традиции или
устное творчество, в том числе своими печатными версиями и
текстами.
Используя многочисленные преимущества (контроль торгов-
цев, реализующих товар вразнос, и их сетей, владение автор-
скими правами (copyrights) или точнее — смежными правами на
воспроизведение (rights in copies), особенно широко обращав-
шихся текстов, знание клиентуры), ballad publishers в 1620-х гг.
изобрели и стали эксплуатировать новое направление в торго-
вле — penny chapbook trade. Оно связано со строгим выполнением
346
РОЖЕ ШАРТЬЕ
условий издателей, в первую очередь, соблюдением классифи-
кации (три вида) выпускаемых печатных изданий: small books, ко-
торые содержат 24 страницы ин-октавио или имеют формат в
двенадцатую долю листа (печатный лист или полтора), double
books, состоящие из 24 страниц форматом ин-кварто (три пе-
чатных листа), Histories, включающие от 32 до 72 страниц (или
от четырех до девяти печатных листов). В XVII в. издания пер-
вого класса продавались по два или два с половиной пенса. При-
надлежавшие ко второму классу стоили три или четыре пенса.
Отнесенные к третьему классу — по пять или шесть пенсов [19].
Новая классификация оказывала влияние на формирование ре-
пертуара, в который включались, адаптировались и подчас со-
кращались старые тексты религиозного и светского содержания
(penny goldlinnes и penny merriments), принадлежавшие к разным
жанрам и традициям [20]. Следует подчеркнуть, что издательская
стратегия ballad partners из Лондона была очень близка к страте-
гии, проводившейся в этот же период французскими издате-
лями-книготорговцами из Труа, создателями (последние годы
XVI в.) серии «Голубая библиотека» [21].
ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ЧТЕНИЕМ
Следовательно, между «народными» читателями эпохи Возрож-
дения и литературой, которая была им близка, не существовало
барьеров. Тексты и книги свободно обращались в обществе и
были доступны всем категориям читателей, несмотря на подчас
сильные социальные и культурные различия. В этой связи пред-
ставляется целесообразным больше внимания уделить ярко вы-
раженным особенностям использования произведений одного и
того же жанра, даже когда разное полиграфическое оформление
нередко одних и тех же изданий, по замыслу издателей, должно
было указывать на их предназначение определенной категории
читателей. Главным в этом контексте становится вопрос о по-
пулярных и наиболее предпочтительных занятий чтением.
Он в свою очередь требует более широкого рассмотрения.
С точки зрения историков, этот фундаментальный вопрос мог
быть сформулирован так: «Каким образом выявить социальные
и хронологические изменения, как в процессе чтения происхо-
ГЛАВА 10
347
дит “образование смысла”, когда встречаются два “мира”: “мир”
текста и “мир” читателей?» (терминология Поля Рикера) [22].
Герменевтический (толкующий преимущественно древние
тексты) и феноменологический подходы Рикера оказывают цен-
ную поддержку в определении истории практики чтения. В про-
тивовес наиболее резким формулировкам семиотического ха-
рактера и структурализма, которые ограничивают значение чте-
ния лишь автоматическими и безличностными языковыми фун-
кциями, подход Рикера предлагает рассматривать чтение как акт,
в процессе осуществления которого текст приобретает смысл и
эффективность воздействия. Без читателя текст виртуален, он
лишен настоящего существования:
«Можно подумать, что чтение прилагается к тексту как дополне-
ние, которого может и не быть [...]. Анализов, предпринятых нами
ранее, достаточно, чтобы развеять эту иллюзию: без читателя нет и
действия (акта), т. е. чтения, придающего смысл прочитанному; без
читателя, усваивающего текст, отсутствует и мир, раскрывающийся
в тексте» [23].
Чтение, рассматриваемое как процесс, может иметь двойное
измерение, обусловленное двойной референцией. В своем ин-
дивидуальном измерении оно тесно связано с феноменологи-
ческим подходом, основанном на динамическом взаимодей-
ствии, что необходимо для осмысления текста и его интерпре-
тации. Речь идет об определенной дистанции, существующей
между текстом и чтением, которое как процесс творческий,
одухотворенный и изобретательный никогда полностью не сов-
падает с целями и намерениями, заложенными автором в про-
изведении [24]. В своем коллективном измерении чтение
должно характеризоваться как диалоговая связь между «тек-
стовыми сигналами» («signaux textuels»), «излучаемыми» каж-
дым отдельным произведением, и коллективно разделяемым
«горизонтом ожидания» («horizon d’attente»), который упра-
вляет его восприятием. Следовательно, значение текста, вернее
его значения, зависят от критериев классификации, принад-
лежности референций, интерпретативных категорий, которые
свойственны различным читателям прошлых и настоящих по-
колений [25].
350
РОЖЕ ШАРТЬЕ
рокого круга «народных» читателей, в который входили мало-
грамотные и неграмотные, знакомившиеся таким образом с
научной литературой и ее направлениями, что свидетельствует
об их распространении далеко за пределы образованных кругов:
«Принимая во внимание неуменьшающее значение голоса в устном
воспроизведении и передаче содержания текстов, круг читателей в
современном смысле слова не ограничивался только умеющими
читать. В него входило и большое количество тех, кто слушал, как
читают другие. Каждый экземпляр печатного или рукописного из-
дания являлся своеобразным виртуальным очагом влияния, рас-
пространявшегося в самых разнообразных формах и направлениях
как через чтение вслух, так и будучи источником для запоминания
или свободного изложения. Огромное количество неграмотных не
было препятствием для существования и пополнения читательских
рядов. В семье или сообществе достаточно было кого-то одного,
умевшего читать, чтобы любой текст был “прочитан”, широко об-
сужден и оценен» [29].
Отождествлению термина «народный» с обращением текстов
во всех социальных слоях общества противопоставляется иной
подход, при котором большое значение придается развитию в об-
ществе чтения про себя, иными словами, чтения, по возможно-
сти, наиболее уединенного (наедине с самим собой) не только в
образованных кругах общества, но и среди самых обездоленных.
В этом случае исчезает дистанция, всегда существующая при
чтении вслух, между «миром» текста и «миром» читателя. Чте-
ние про себя придает силу небывалой убедительности вымыш-
ленным сюжетам текстов. Оно связано с опасным волшебством
и очарованием [30]. Это подтверждается и вызываемыми им сло-
вами восторга и восхищения: encantar, maravillar, embelesar. Ав-
торы полагают, что чтение про себя является более действенным,
по сравнению с воспроизведенным голосом текстом, особенно
когда необходимо заставить читателя поверить в невероятное.
Например, у Сервантеса в «Обманном браке» Кампусано не рас-
сказывает и не читает вслух «coloquio», текст которого он соста-
вил из «слов, которые эти собаки или кто-либо еще мог гово-
рить». Он дает его прочитать Перальте («Меня всего вывернет
наизнанку, — говорит капитан, — пока вы будете читать, если
ГЛАВА 10
351
захотите, эти выдумки и сумасбродства»), как будто воображе-
нием читателя можно легче овладеть с помощью чтения про себя,
как будто изложенному в «Беседе собак» (Le Colloque des chiens)
легче поверить, устранив любое опосредование между текстом и
его читателем.
Увеличение запретов властями Кастилии на фантастическую
литературу особенно понятно в связи с опасениями, вызван-
ными распространением чтения произведений, размывающих
границы между реальным и воображаемым. Королевским ука-
зом 1531 г. был запрещен вывоз в Индию romances, «вымыш-
ленных и невежественных историй, таких, как Amadis и других
подобных». В 1543 г. повторным королевским указом запрет
был подтвержден, в частности на печатание, продажу и владе-
ние в колониях romances с невежественными и фантастиче-
скими сюжетами или выдуманными историями». В 1555 г. кор-
тесы г. Вальядолид (Valladolid) потребовали расширения дей-
ствия на территории Испании запрета на «все книги, которые
были придуманы по примеру (J Amadis de Gaula. — Р. Ш.), а также
на любовные песни, фарсы и другие тщеславные глупости» [31].
Б. В. Ифе отлично показал в своих работах, как укоренялось не-
доверие к фантастическим произведениям среди сторонников
неоплатонизма, враждебно настроенных к приемам создания ил-
люзий и привлечению плохих примеров. Оно усугублялось на-
вязчивой идеей, что развитие в обществе чтения про себя делает
читателей более греховными и более уязвимыми. Эти причины
послужили основой для отказа в 1625 г. Junta de Reformation да-
ровать новые разрешения на печатание романов и драматических
произведений [32].
СТРАТЕГИИ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ТЕКСТОВОЙ РЕПЕРТУАР
Подход, направленный на более точное определение «народ-
ного» чтения, основан на рабочей гипотезе, сформулированной
Д. Ф. Макензи следующим образом: «Новые читатели создают
новые тексты, и значение последних зависит от их новых форм»
[33]. Преобразования в области формального и материального
представления текстов, изменяющие в свою очередь их формат
и верстку, разделение на части и иллюстрирование, могут спо-
352
РОЖЕ ШАРТЬЕ
собствовать завоеванию новых менее образованных читателей из
широких социальных слоев общества, а также приобретать новые
значения, далекие от замыслов их авторов или представлений
первых читателей. Книги серии «Голубая библиотека» или ан-
глийские chapbooks содержали уже издававшиеся, но по-другому
и для других читателей тексты. В сериях им были приданы новые
формы, делающие их доступными, экономически и интеллекту-
ально, новым читателям, чтение которых отличалось от чтения
образованных людей. Особенности чтения новых читателей по-
требовали представления текстов короткими, отдельными и за-
вершенными частями. Изображение, прилагаемое к тексту, даже
если оно повторялось, должно было помогать пониманию и за-
поминанию его содержания. При таком чтении в текстах больше
ценилось повторение уже знакомого, чем появление нового. Поэ-
тому каждый новый текст представлял собой скорее вариации на
уже знакомые темы и сюжеты. Вот почему издатели-книготор-
говцы, выпуская эти тексты в сериях «Голубая библиотека» или
chapbooks, добивались четко выраженных дискурсивных и/или
материальных различий в представлении их определенных на-
правлений, например, в Англии это были small godly books, small
merry books, double books, и histories [34]. Отсюда и неявное, но це-
ленаправленное формирование репертуара изданий, предназна-
чавшихся для торговли вразнос в соответствии с их классифика-
цией по жанрам. Например, серия «Голубая библиотека» вклю-
чала рыцарские романы, волшебные сказки, издания для нищих,
учебники правил хорошего тона, обрядовые книги, к которым
можно отнести и религиозные издания (даже если первоначаль-
ное назначение серии «Голубая библиотека» в XVII в. исключало
их из своего репертуара): жития святых, рождественские пропо-
веди, молитвенные учебники и др., а также альманахи [35].
Кастильские Pliegos sueltos, как и каталанские plecs [36], можно
охарактеризовать как результат, отражающий издательскую стра-
тегию, текстовой репертуар, а также представления и ожидания
читателей. Издание pliego действительно прекрасно адаптиро-
вано к размерам и ресурсам типографских мастерских, произ-
водственные возможности которых долгое время оставались
ограниченными. В течение дня мастерская, располагавшая
только одним печатным станком, могла воспроизводить один
печатный лист в 1250 или 1500 экземпляров. Ктому же, согласно
ГЛАВА 10
353
первоначальному определению, pliego — это «лист бумаги обыч-
ного размера, сложенный два раза пополам таким образом, чтобы
получилось восемь страниц» [37]. Приспособленное к экономи-
ческим и техническим трудностям испанского книгопечатания,
воплощенное в жизнь pliego (даже расширенное до четырех и
пяти листов) диктовало, вследствие материальных ограничений,
отбор текстов, которые могли быть напечатаны в такой форме.
Они должны были быть короткими, пригодными для широкого
распространения и, как позднее во Франции и Англии, сразу от-
носиться к распознаваемым жанрам. Этими причинами в XVI—
XVII вв. определялся выбор romances, antiguos, nuevos или rela-
ciones de sucesos, ежегодное производство которых очень сильно
возросло, особенно в последнем десятилетии XVI в. [38], как и
comedias sueltas в середине XVII в. Содействуя обращению уже
известных, традиционных, или новых произведений во всех со-
циальных слоях общества, представленных в том числе «народ-
ными» читателями (или слушателями), pliegos возвращаются
к читателям, разделенным социальными различиями на vulgo
и discrete.
Конечно, категория vulgo не обязательно и не сразу относит
читателей к «народным», в буквальном смысле слова указывая
на социальную принадлежность. В литературной риторике, ко-
торая находит свое самое яркое выражение в двух обращениях
Guzman de Alfarache (1599): «Al vulgo» и «Al discreto lector» читатели
(зрители) как бы «дисквалифицируются» из-за отсутствия спо-
собности эстетического суждения или компетентности в обла-
сти литературы [39]. В то же время в Кастилии в период золо-
того века эти «невежды» образовывали широкий круг потреби-
телей, особенно в отношении comedia. По этому поводу Лопе де
Вега пишет в Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609):
«...действительно, правильно, так как платит простонародье, / го-
ворить с ним на упрошенном языке, чтобы понравиться». По-
пулярности способствовали и низкие цены на печатные издания,
продававшиеся слепыми, а также вразнос торговцами книг, жанр
которых больше всего притягивал широкую публику, например,
поэзия cancioneros, рассказы о чрезвычайных событиях или фак-
тах, а также яркие отрывки из comedias. Постулируемое, но также
и проверенное существование такой публики — vulgo — опреде-
ляло и стратегию написания соответствующих произведений.
354
РОЖЕ ШАРТЬЕ
Оно влияло и на выбор текстов, и на стратегию издателей-кни-
готорговцев, выпускавших литературу для самых широких кру-
гов читателей.
Такая же связь между издательской политикой, спецификой
текстов и их восприятием разнообразной публикой, «народной»
по охвату и составу, прослеживается в издании французских ос-
casionnel [40]. Три характерные черты объединяют эти книжечки,
издававшиеся в XVI и XVII вв., особенно в период между
1570 и 1630 гг.: их материальная форма, способ обращения и на-
звания. Речь идет, как правило, об изданиях в формате ин-ок-
тавио, текст которых занимал не более одного или половины пе-
чатного листа (16 или 8 страниц). Иными словами, достаточно
было одного печатного станка, чтобы за один день напечатать
1250 или 2500 экземпляров подобных книжек, которые потом
распространялись, главным образом, в городах, и прежде всего
в Париже, продавцами, торгующими вразнос, и странствующими
торговцами. Большая часть этих изданий содержала «истории»
(«histoires») и «речи» («discours»). Причем смысл, вкладывав-
шийся в эти два понятия, был, кажется, один и тот же. Назва-
ния этих книжек указывали на «струны», на которых «играли»
эти тексты, чьи авторы всегда были неизвестны. Названия со-
общали об экстраординарных фактах, которые должны были
удивлять; отсюда явное преобладание таких прилагательных, как
«необычайный» (prodigieux), «удивительный» (merveilleux) или
«восхитительный» (admirable). Названия обещали также ужас,
откуда и серия следующих прилагательных: «жуткий» (epouvan-
table), «ужасающий» (effroyable), «жестокий» (cruel), «кровавый»
(sanguinaire), «грозный» (terrible), «варварский» (barbare), «бес-
человечный» (inhumain). Они сулили еще жалость и сострадание:
«жалобный» (lamentable), «жалостный» (pitoyable). К тому же на-
звания уверяли в подлинности описываемых фактов с помощью
таких прилагательных, как: «истинные» (vrais) или «подлинные»
(уёгйаЫев).
Тексты, составляемые для издания в форме occasionnel, имели
одинаковую структуру. Они начинались с изложения главной
истины, теологической или моральной, затем следовала история,
которая должна была ее подтвердить, и в завершение читателю
предлагался вывод в качестве урока религиозного содержания,
который он должен был извлечь из прочитанного. Начало и за-
ГЛАВА 10
355
ключительная часть определяли смысл самой «речи», что ука-
зывало на светскую форму христианского проповедования в пе-
чати. Предостерегали ли «истории» («histories»), изложенные в
occasionnels, от драк или дуэлей, тайных браков или скрываемых
беременностей, договоров, заключаемых с дьяволом, или бесед,
содержащих ересь, все они, как и exempla, использовали насле-
дие пасторского богословия, восходящего к традиции Средне-
вековья, основанной на угрозе страшных кар и вечного прокля-
тия, которая была заимствована для издания печатной продук-
ции широкого распространения.
Следовательно, эти тексты служили инструментами для ра-
зоблачения протестантизма, обращения в хритианство, завоева-
ния новых душ или повторного их покорения. Именно на эти
цели были направлены некоторые occasionnels, что становится
понятным из речей раскаявшихся преступников (преступниц),
их взглядов и убеждений, раскрывавшихся во время совершаю-
щегося наказания. Эти причины объясняют увеличение выпу-
ска подобных книжечек в периоды религиозных войн, с по-
мощью которых нередко боролись за распространение ради-
кального католицизма (например, Католическая лига в XVI в.),
а в первой трети XVII в. Церковь стремилась «выгравировать» в
умах и сердцах людей решения Церковного собора Тридцати.
Таким образом, occasionnels 1570—1630 гг. служили религиозно-
политическому делу католической Контрреформации, распро-
страняя рассказы, представлявшиеся как «подлинные» и
«новые», но которые в действительности чаще всего повторяли
старые сюжеты и мотивы, в частности из exempla, житий святых
и даже сказок. Сила их убедительности зависела от доверия чи-
тателей, так как излагавшиеся в них факты, необычные и не-
слыханные, должны были восприниматься как подлинные. Для
этого применялись разные приемы: приведение цитат якобы из
текстов судебных решений и оглашенных приговоров, отрывков
‘Из показаний свидетелей на судах с указанием их ранга или со-
циального положения (дворяне, священники, черное духовен-
ство, именитые граждане), использование большого количества
Деталей и подробностей (имен собственных, названий мест
и т. д.). Реже автор мог утверждать, что сам был свидетелем
Происходяшего. И если этот способ подтверждения подлинно-
сти предлагаемого рассказа был наименее распространенным, то
356
РОЖЕ ШАРТЬЕ
это, несомненно, потому, что в силу необычайности отражаемых
в нем событий, требовалась другая логика изложения, чем про-
стая констатация фактов. Чаще всего они окружались приме-
тами, знаками и знамениями, которые предостерегали, возве-
щали, карали. Грозные природные явления (кометы, наводне-
ния, чудеса) представлялись как предзнаменования или кары,
свидетельствовавшие о божественной воле или злобе дьявола
(причем проявление последней также было возможным из-за
гнева Господа). В то же время известны примеры, правда не
столь многочисленные, когда природные катаклизмы, какими бы
грозными и необычными они ни были, полностью лишались
какой-либо таинственности и символичности и описывались
просто как любопытные явления, которые натурфилософы
должны собирать, классифицировать и изучать, сравнивая и ана-
лизируя. Отсюда, по Лоррену Дастону, occasionnels (вместе с кни-
гами секретов ремесленников [41]) являются одним из источни-
ков, несколько неожиданным и парадоксальным, современного
понятия научного факта [42].
СПОСОБЫ ЧТЕНИЯ
Pliegos и occasionnels, книги из «Голубой библиотеки» и издания
народных сказок, преданий и легенд, несмотря на различия,
свидетельствуют о верности подхода издателей к выбору пе-
чатных форм и одновременно способствуют, с одной стороны,
созданию классов текстов в зависимости от их печатных форм,
а с другой — формированию категорий читателей (и видов чте-
ния) в соответствии с предлагаемой издателями продукцией.
Возможно ли сделать еще один дополнительный шаг и более
точно обосновать документальными данными способы, с по-
мощью которых самые обездоленные слои населения овладе-
вали чтением текстов, которые они покупали, заимствовали или
слушали? Это непростая задача, так как в отличие от чтения эру-
дированных и образованных читателей, «народные» читатели не
оставляли никаких следов и пометок на печатных изданиях, ис-
пользовавшихся ими для чтения. Историкам, исследующим чте-
ние самых неимущих читателей, кажется, уже никогда не пре-
доставится возможность воссоздать картину их чтения, тща-
ГЛАВА 10
357
тельно собирая примечания на полях изданий, которые позво-
лили, например, Гэбриэлу Харви определить способ чтения
Тита Ливия, «профессионального» чтеца у различных господ-
аристократов [43], или изучая особенности использования про-
изведений печати, интерпретацию их содержания студентами
университетов [44]. Историки чтения также ощущают недоста-
ток в произведениях исповедального характера, написанных от
первого лица (XVIII в.) некоторыми читателями из народа, ко-
торые взялись за перо, чтобы описать историю своей жизни [45].
В странах, где на несчастье их народов и к счастью для исто-
риков, проходили инквизиторские трибуналы, показания обви-
няемых могли бы показаться хорошим документальным мате-
риалом, способным заменить не сохранившиеся свидетельства.
Кажется возможным на основании документов репрессивного
архива воссоздать способы чтения выходцев из народа: в част-
ности, путем привлечения примеров отдельных читателей, таких,
как Меноккио; более масштабных свидетельств, например по-
казаний обвиняемых епархии Канка (Cuenca); или рассмотрения
особенностей восприятия творчества одного автора. В послед-
нем случае речь идет об отзывах, которые дали итальянские чи-
татели и читательницы сочинениям Эразма Роттердамского [46].
Действительно, велик соблазн охарактеризовать чтение самых
обездоленных, как если бы все они без исключения были Ме-
ноккио или как если бы особенности «народного» чтения выра-
жались в своеобразии подачи предназначавшихся для них тек-
стбв: в их расчленении, фрагментарности без учета контекста,
ориентации на буквальное восприятие смысла. Популярность
среди «народных» читателей структуры издававшихся для них
таким образом текстов также подтверждает правомерность по-
добного подхода.
Эти доводы небезосновательны. Однако следует быть очень
внимательным и проявлять осторожность прежде всего там, где
особенности «народного» чтения совпадают с чтением образо-
ванных людей, но только в определенном контексте. Два крас-
норечивых предмета ученого чтения в эпоху Возрождения, а
именно: «книжное колесо», которое позволяло читать одновре-
менно несколько книг, и тетрадь «общих мест» (le cahier des lieux
communs), в которой по рубрикам распределялись цитаты, све-
дения и наблюдения, собранные читателями, — не олицетворяют
358
РОЖЕ ШАРТЬЕ
ли они собой фрагментарное чтение текста, позволяющее вос-
принимать его не целиком, а частями и, по желанию, — в нару-
шенной последовательности, а также в сопоставлении, что при-
дает прочитанному (или услышанному) абсолютный вес и зна-
чение? И если не все (например, Монтень [47]), то большинство
образованных читателей прибегали к подобному чтению, осно-
ванному на «общих местах». Исходя из этого, следует ли тогда
делать из Меноккио ограниченного и невежественного плебея?
Следует ли полагать, что если он и принадлежит к «народной»
культуре в широком смысле слова, представляя деревенское со-
общество, то его способы чтения не очень «народны»? В любом
случае эти вопросы предостерегают от слишком поспешной
и приблизительной оценки с социальных позиций морфологи-
ческих характеристик занятий чтением.
Эти вопросы приглашают также к продолжению исследова-
ний, находящихся пока в зачаточном состоянии. Лиза Жардин
и Энтони Грефтон предлагают объединить усилия с историками,
которых они считают слишком «робкими» [48], для совместного
изучения текстов, их интерпретации, а также чтения и книги.
Такая программа, основанная на обновленном подходе к изуче-
нию чтения [49], может способствовать, насколько это воз-
можно, выявлению особенностей чтения «народных» читателей,
которые, в отличие от образованных, не оставили документально
подтверждающих свидетельств (например, заметок на полях книг
и др.). Задача не из легких. Она связана со многими «опасно-
стями». Например, принять желаемое за действительное или
очень узко, только в социальном аспекте, трактовать категорию
«народный» читатель, или делать окончательные выводы, исходя
из единичного примера (например, текста или его формы). Этих
«подводных камней» нелегко избежать из-за отсутствия источ-
ников и осторожности в проведении исследований. Но только
принимая во внимание эти важные обстоятельства, можно до-
стичь лучших результатов в изучении читательских групп, на-
правлений в издательской политике и различий в интерпрета-
ции текстов.
Рейнхард Виттман
ГЛАВА 11
РЕВОЛЮЦИЯ ЧТЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII В.?
«С тех пор как существует мир, мы являемся постоянными сви-
детелями таких странных явлений, как чтение романов в Герма-
нии и революция во Франции. Они — как две крайне полярные
противоположности — развивались почти одновременно. И сов-
сем уж не так нереально предположить, что для мужчин и их семей,
роман, оказавшийся в тени, стал причиной стольких же несчастий,
как свершившаяся однажды такая ужасная Французская револю-
ция» [I].
Проводя параллель между политическими волнениями в За-
падной Европе и революцией чтения в Центральной Европе,
швейцарский книготорговец и консерватор Иоганн Георг
Хейнцман хорошо передал суть убеждений многих своих совре-
менников: это не якобинцы нанесли смертельный удар коро-
левскому правлению, а именно читатели.
Подобная замена определяющей функции культурного за-
нятия, каковым явлйлось чтение, — для того времени исклю-
чительное, — сторонниками революции была встречена с эн-
тузиазмом. Просвещенные представители умеренных взглядов,
напротив, восприняли ее с озабоченностью, а реакционные
консервативные и клерикальные круги общества, на которые
опиралась власть, стали ее ожесточенными противниками. Но
никто эту замену не отрицал. Англия и Франция значительно
опередили в этом отношении страны Центральной Европы.
С середины XVIII в. немецкие путешественники решительно
Изменили отношение к чтению. В Англии во время обеденного
перерыва кровельщики приказывали принести газеты, которые
они читали на крышах. В метрополии Франции можно было
Наблюдать такие сцены:
360
РЕЙНХАРД ВИПМАН
«В Париже все читали. [...] Все — и особенно женщины — носили
при себе книги. Читали в экипаже во время прогулки, в театре —
во время антракта, в кафе, в купальне. В лавках женщины, дети,
компаньоны, ученики — все читали. По воскресеньям люди читали,
устроившись перед дверьми своих домов, лакеи — на задних си-
деньях экипажей, кучера — на своих традиционных местах, сол-
даты — во время несения караула...» [2].
Несколькими годами позже Германия (здесь и далее по тексту
название страны «Германия» обозначает не политическое или тер-
риториальное, а культурное и языковое пространство) также была
полностью охвачена этой культурной революцией. Действительно,
казалось, что революция чтения нигде больше не достигала та-
кого размаха и динамики, как в Центральной Европе, по которой
дотоле неизвестная «болезнь» быстро распространялась. Сначала
в отдельных местах как инфекционное заболевание, симптомы ко-
торого проявлялись в «яростном желании читать», а затем — стре-
мительно, как всеобщая «эпидемия чтения». В 1796 г. священ-
нослужитель Иоганн Рудольф Готглиб Бейер описал ее главные
признаки. Он наблюдал, как
«читатели и читательницы вставали и ложились с книгой в руках,
не выпускали ее из рук за столом, клали рядом с выполняемой ра-
ботой, брали с собой на прогулку, не в силах оторваться от чтения:
не успев дочитать одну книгу, они уже брались за другую. Как
только они проглатывали последнюю страницу очередной книги,
так сразу же жадно начинали оглядываться в поисках новой. За-
метив хоть что-то, что могло занять место на их книжной полке
или быть прочитано на туалетном столике, на пюпитре или где-
либо еще, они овладевали этим и страстно начинали читать. Ни
один курильщик, ни один любитель кофе или вина, ни один игрок
не могли в такой степени быть привязанными к своей трубке,
чашке кофе, бутылке вина, игральному столу, как эти, жадные до
чтения люди, — к своему чтению» [3].
Этой болезни, которой современники поставили правильный
диагноз, правда не зная как ее лечить, ученые-исследователи на-
шего времени дали название «революция чтения» («revolution de
la lecture»), основываясь на модели, объясняющей это измене-
ГЛАВА 11
361
ние в светском обществе как революционный переход от «ин-
тенсивного чтения» (lecture «intensive») к экстенсивному (lecture
«extensive»). На основе источников из протестантской Северной
и Центральной Германии Рольф Энгельзинг описал процесс, в
ходе которого в XVIII в. интенсивное и повторяющееся чтение
маленькими частями знакомых и канонических текстов, кото-
рые воспроизводились, комментировались и оставались неиз-
менными на протяжении всей жизни, — как правило, это были
религиозные тексты, и особенно «Библия», — переросло в со-
временное, экстенсивное чтение светских, новых и разнообраз-
ных текстов.
Принятое ранее традиционное чтение, конечно, не было за-
менено в одночасье новым, современным. Но даже, если воз-
никает желание избежать употребления термина «революция чте-
ния», то неоспоримым остается факт, что в конце королевского
правления читающей публики по всей Европе становилось все
больше, привычки и особенности чтения новых читателей от-
личались в количественном и качественном отношении в зави-
симости от регионов, в которых они проживали, и их социаль-
ной принадлежности. Тем не менее, постепенно экстенсивное
чтение становилось преобладающим, а традиционное интенсив-
ное все больше утрачивало свое значение и воспринималось как
устаревшее. Причины происходящих изменений можно охарак-
теризовать следующим образом: повторяющееся интенсивное
чтение больше соответствовало ритуалу, лишенному смысла,
поэтому экстенсивное чтение, которому можно было предаться
с энтузиазмом и вдохновением, становилось предпочтительнее.
Чтобы осмыслить этот процесс, связанный с тяжелыми по-
следствиями для истории европейской культуры, проследить его
возникновение и дальнейшее развитие, определить направления
и результаты влияния, чтобы попытаться, основываясь на кон-
кретной реальности, воссоздать образ неизвестного, каковым для
нас является читатель XVIII в., следует обратиться к большому
количеству источников и изучить их с критических позиций, бу-
дучи осторожными в выводах. В течение последних двадцати лет
европейские ученые исследуют эти вопросы в разных направле-
ниях и на разных уровнях в зависимости от конкретно постав-
ленных задач. Нов целом исследовательский процесс находится
На начальной стадии, и у нас еще нет четкого видения этого фе-
362
РЕЙНХАРД ВИТТМАН
номена [4]. Данная работа также не претендует на нечто боль-
шее, являясь попыткой углубить общие знания в этой области.
ЧИТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ
Здесь мы затронем обстоятельства и различные условия, тесно
связанные с занятием чтением в XVIII в., а также его измене-
ния, произошедшие под воздействием политических, экономи-
ческих, социальных и культурных факторов.
В период с 1700 по 1800 г. численность 25-миллионного на-
селения, говорящего на немецком языке на занимаемой им тер-
ритории, за исключением империи Габсбургов, увеличилась
почти в два раза. Своей кульминации рост населения достиг
в последние тридцать лет XVIH в. Несмотря на то что в этот пе-
риод 80% населения проживало еще в сельских районах, тен-
денция урбанизации, хотя и медленно, но уже ощутимо начала
проявляться. При этом вплоть до окончания столетия состав
и положение аристократии и крестьян в обществе оставались
стабильными на всей территории «Священной Римской импе-
рии» германской нации (Saint-Empire romain germanique), поли-
тически очень раздробленной. Буржуазия же переживала важные
процессы преобразования, обретения независимости и диф-
ференциации, приведшие к взрыву общественных устоев.
В то же время по своему составу буржуазия не была одно-
родной. Она объединяла в своих рядах средние традиционные
городские сословия, высшие сословия коммерсантов и управ-
ляющих цеховыми организациями, элиту ремесленного сосло-
вия, дополненного новой городской бизнес-буржуазией, кото-
рой были свойственны новаторство и предпринимательство. Но
решающая роль принадлежала «просвещенной буржуазии», со-
стоявшей из функционеров с высшим образованием и «эруди-
тов», иными словами, интеллектуалов. Принимая во внимание
раздробленность политического пространства Империи с ее мно-
гочисленными аристократическими дворами и имперскими го-
родами в качестве административных центров, эти элиты в ко-
личественном отношении превосходили другие европейские
страны. Но в начале XVIII в. возможности их дальнейшего раз-
вития значительно сократились из-за утраты социальной мо-
ГЛАВА 11
363
бильности, активной в эпоху барокко, а также из-за отмирания
феодального строя. Ряды представителей буржуазной культуры,
напротив, быстро пополнялись, но они не находили себе соот-
ветствующего применения. Снова смещенные с ключевых по-
зиций, эти протестующие интеллектуалы с неопределенным ста-
тусом представляли потенциальную силу, угрожавшую суще-
ствующему порядку.
Эта эволюция хорошо вписывалась в общеевропейский про-
цесс обуржуазивания общества, культуры и литературы, который
воплощал эпоху Просвещения с ее ценностями, идеалом равен-
ства, основанном на естественном праве, духом рациональной
эффективности и огромным стремлением к культуре, что по-
зволяло отмежеваться от аристократии. Еще сильнее проявлялась
приверженность к социальному прогрессу, олицетворяющему
разум, человечность, терпимость и добродетель. Юрген Хабер-
мас в работе «Структурные изменения в обществе» (Strukturwa-
ndel der Offentlichkeif) дал характеристику этому процессу изме-
нения общественного сознания. Согласно ученому, буржуазная
идентичность формируется с появлением нового, не зависящего
от аристократии общественного мнения, которое «как общий
результат мнений частных лиц, образующих сообщество», на-
правлено против удерживаемой государственными властями и
Церковью монополии на информацию и ее интерпретацию,
способствует внедрению в жизнь новых антифеодальных струк-
тур коммуникации и обмена сначала в области литературы, а
затем — политики. Идентичность личности заменяет статус,
определяемый рождением. Особенно сильное стремление к не-
зависимости и ее утверждению проявляется в интеллектуальной
сфере. Эта буржуазная индивидуальность, характеризующаяся
чрезмерной субъективностью, проявлялась в постоянном стрем-
лении к коммуникации для расширения ограниченного поля
своей экспериментаторской деятельности.
Ничто, по сравнению с печатным словом, не могло лучше вы-
полнить эту коммуникационную функцию. Письменная куль-
тура и литература стали экспериментальными полями для само-
выражения и анализа. Таким образом, книга и чтение приобрели
новое значение в общественном сознании. В сложившихся усло-
виях, когда буржуазия стала располагать временем для чтения и
возможностью приобретать достаточное количество книг, чтение
364
РЕЙНХАРД ВИТТМАН
превратилось в социальную действующую силу, способствую-
щую обретению независимости. Оно расширяло нравственные
и духовные горизонты, преобразуя читателя в гражданина, по-
лезного для общества, помогая ему лучше осознать свои обя-
занности и роль в обществе. Печатное слово стало движущей
силой буржуазной культуры.
В прошлые века книга воспринималась как авторитетный
проводник идей, как фактор, необходимый для поддержания об-
щественного порядка, устанавливаемого Церковью и государст-
венными властями.
В XVIII в. понадобилось всеобщее изменение менталитета,
чтобы осознать силу воздействия текста и его способность «до-
стигать полного проникновения в личную жизнь читателя» [5].
Именно потому, что текст, воспроизведенный механическим
способом, мог, по сравнению с рукописью, быть прочитан с
большей легкостью и даже автоматически, он оказывал на но-
вого читателя чудодейственное воздействие, приобщая его таким
образом к волшебному миру книги. Однако для этого требова-
лось соблюдение одного предварительного условия: знание гра-
моты или обучение ей.
Отсутствие даже приблизительных данных вынуждает огра-
ничиться предположением о количестве умеющих читать
и писать в конце XVIII в. Прежде всего зададимся вопросом: ка-
ковы критерии отнесения людей к этой категории? Какой смысл
вкладывается в понятие «элементарная способность к чтению»,
которое определяется только ограниченным в сроках школьным
обучением, без учета возможности ее развития в течение даль-
нейшей жизни и преобразования в каждодневную привычку за-
ниматься чтением? Следует ли считать «читателями» тех, кто мог
выводить каракулями свою подпись под купчей, с огромным
трудом разбирать текст катехизиса и даже тех неграмотных, ко-
торые, полностью обратившись в слух, внимали, как читают дру-
гие. Необходимо также учитывать такие факторы, как пол
(в обучении женщин грамоте больше внимания уделялось чте-
нию, чем письму), вероисповедание и социальные различия,
а также различия между жителями городов и деревень. Мы рас-
полагаем надежными данными только в отношении населения
Швеции, где в основном все взрослые жители (около 1,3 млн че-
ловек) умели читать и писать. Но Швеция — это единичный
ГЛАВА 11
365
пример. Что касается других европейских стран, то оценки
и свидетельства современников большей частью сходятся.
По данным Э. Бурке, в Великобритании «нация читателей»
(если следовать выражению Сэмюэля Джонсона) объединяла
в 1790-е гт. до 80 тыс. человек при общей численности населения
в 6 млн жителей. Следовательно, читатели составляли около
1,5%. В 1788 г. четвертая часть всех английских общин еще не
имела школ. В отношении Франции оценки также туманны.
В 1780-е гг. около 9,6 млн французов могли написать свое имя.
Количество же неграмотных к 1789 г. в процентном выраже-
нии достигало, по крайней мере, 60%.
Достоверно, что в Центральной Европе XVIII в. наблюдалось
«относительно» значительное увеличение количества читателей.
Есть предположения, что оно удвоилось, если не утроилось. Но
это увеличение происходило на очень низком уровне. Большие
расхождения наблюдаются в свидетельствах современников. Рас-
ходятся и сведения, содержащиеся в различных источниках [6].
В 1773 г. Фридрих Николаи причислял к «эрудированной» пуб-
лике Германии 20 тыс. человек (около 0,01% всего населения).
Ближе к 1800 г. Жан Поль относил к «литературной» публике
около 300 тыс. человек, что составляло около 1,5% от общей
численности населения. Разница между этими цифрами — перед
революцией чтения и после нее — чрезвычайно показательна:
последние более чем в десять раз превосходят первые. В настоя-
щее время исследователи называют значительно более щедрые
данные, касающиеся «потенциальных» читателей: к 1770 г. —
15% лиц в возрасте свыше 6 лет; к 1800 г. — 25% [7].
Следующее предположение, несмотря на слишком завышен-
ную цифру первого книжного тиража, среднего по объему, пред-
ставляется намного ближе к реальному положению дел.
Исходя примерно из 25 млн жителей Германии и 2500 экземпля-
ров первого тиража, среднего по объему, одна книга покупалась
0,01% населения и прочитывалась около 0,1% [8].
«Жалобы» современников на «страсть к чтению», свирепство-
вавшую во всех слоях общества, являлись не чем иным, как «идео-
логической фальсификацией» [9]. Реальная демократизация чте-
ния, в том числе в количественном отношении, произошла только
366
РЕЙНХАРД ВИТТМАН
через сто лет. Мы не располагаем достаточно конкретными дан-
ными о количестве жителей графства Вюртемберг, действительно
умевших читать. И все же мы сознательно приводим этот пример
(также не являющийся показательным). В 1790 г. Бальтазар Хауг
в сочинении «Ученый Виртемберг» (Das Gelehrte Wirtemberg)
представляет социальный состав знатных людей графства, под-
крепленный цифровыми данными. Большинство из них, конеч-
но, были активными участниками культурной и литературной
жизни общества. К ним относятся: 834 служителя культа, 388 ви-
кариев и стипендиатов в Тюбингене, 452 юриста (включая чи-
новников, занимающих высокие посты), 218 врачей и фармацев-
тов, 300 офицеров (из них две трети — дворяне), около 200 дипло-
мированных студентов, 75 коммерсантов в г. Штуптарт и около
450 — в сельской местности, и, наконец, 1324 «имевших отно-
шение к делопроизводству» («commis aux ecritures»), т. е. чинов-
ники средней руки без университетского образования [10]. Если
к этим 4000 благополучных и имевших доступ к культуре граж-
дан прибавить 2000 женщин и молодых людей, а также около
100 представителей аристократии, то получается, что в Вюртем-
берге конца XVIII в. насчитывалось около 7000 «экстенсивных»
читателей, или немногим более 1% всего населения. Что же ка-
сается приверженцев традиционного чтения, то они по старинке
обращались к «прежним утешениям» нравоучительного харак-
тера: Библии, катехизису и календарям.
Было бы ошибкой ограничивать значение около 300 тыс. ре-
гулярно читавших в Германии (около 1,5% всего взрослого на-
селения) только их относительно незначительной культурной и
в более широком смысле социальной ролью в обществе. Ведь они
служили той закваской, брожение которой провоцировало куль-
турные и даже политические события, приводившие подчас к тя-
желым последствиям в различных сферах общественной жизни.
«ДИКОЕ» ЧТЕНИЕ, ЭРУДИРОВАННОЕ ЧТЕНИЕ, ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
Как же в действительности осуществлялся процесс развития чте-
ния в XVII в.? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рас-
полагать дифференцированной схемой, воссоздающей истори-
ческий путь развития чтения не как линейный синоптический
ГЛАВА 11
367
процесс, а наоборот, в его «раздробленности». Эта схема позво-
ляет одинаково хорошо проследить как диахроническое преоб-
разование его этапов, с учетом промежуточных, переходных и
«накладывающихся» друг на друга стадий, так и их синхронное
проявление и взаимодействие. Более того, нередко эти обособ-
ленные в своей раздробленности этапы могут осуществляться
параллельно, а затем внезапно пересекаться и снова расходиться
во времени и пространстве. Следует также больше внимания
уделять изучению отдельных этапов, чтобы лучше показать их
конкретное влияние на формирование читателей, в том числе с
социальной, временной и географической точек зрения. С этих
позиций яснее становится картина постепенного преобразова-
ния чтения в индивидуальный процесс, не зависящий от соци-
альных факторов. Принадлежность к определенному социаль-
ному слою уже практически не являлась критерием, говорящим
о доступности чтения:
«В предреволюционный период образованная публика, любящая
литературу, была еще большей частью элитарной, однородной и за-
крытой. Читатели же периода 1789—1815 гг. — разнородны, от-
крыты и независимы от социального статуса» [11].
Наиболее распространенным в это время все еще оставалось
«дикое» чтение, которому предавались всей душой, наивно, и в
большинстве случаев читая вслух. Оно было распространено в
сельской местности и в низких слоях городского населения. Ра-
ботая в среднем шесть дней в неделю с восхода до заката солнца,
жителям некогда было заниматься чтением, да они и не испы-
тывали в этом потребности. В сложившемся укладе жизни сель-
ского населения, от слуги до зажиточного крестьянина, умение
читать (и к тому же свободно) воспринималось как излишество:
достаточно основных навыков, чтобы разбирать инструкции по
кровопусканию, поговорки о погоде и времени посева, а также
популярные религиозные и мирские издания, распространяв-
шиеся на рынках и торгующими вразнос. Многочисленные про-
винциальные издатели, особенно на севере Германии, выпускали
Десятки версий книжечек и маленьких брошюр подобного рода.
Их репертуар, как и репертуар серии «Голубая библиотека» во
Франции, «покупался как само собой разумеющееся не для того,
368
РЕЙНХАРД ВИПМАН
чтобы читать, по крайней мере, читать внимательно, кропотливо,
буква за буквой. Их покупали для “приблизительного чтения”,
довольствуясь пониманием общего содержания текста» [12]. Со
временем содержание этих небольших по формату изданий, как
и их полиграфическое оформление, подача текстов, менялись
с целью их адаптации к меняющимся запросам покупателей
и особенностям их чтения.
Однако это «дикое» чтение могло развиваться параллельно с
групповым: alfabetismo di gruppo (Italo Sordi). Речь идет о «пас-
сивном» чтении, когда вслух читает кто-то другой. В этом слу-
чае быть грамотным необязательно. Например, в семьях рели-
гиозные тексты читали или отцы семейства, или дети, а в об-
щественных местах: на рынках, на постоялых дворах — те, кто
умел читать. Среди них были даже учителя и приходские свя-
щенники. Это способствовало распространению политических
и других новостей. В конце XVIII в. большие усилия, которые
прилагали просвещенные умы по преобразованию распростра-
ненного среди сельского населения «дикого» чтения в «полез-
ное» (путем авторитарного руководства им), в целом заверши-
лись неудачей.
Однако потрясения, связанные с Французской революцией,
сильно изменили положение дел. Даже деревенские жители
стали проявлять интерес к сенсационным новостям, в которых
говорилось о свободе, равенстве и братстве. Адвокаты, занимав-
шие невысокие должности, учителя (в ущерб своим профессио-
нальным обязанностям), студенты, выступавшие против суще-
ствующего порядка, священники-реформаторы, содержатели по-
стоялых дворов, почтмейстеры читали вслух газеты в школах и
на постоялых дворах, вовлекая слушателей в бурные споры. Все
это побуждало людей самостоятельно учиться читать (контроль
за общественным мнением со стороны власть предержащих в
целях противостояния революционным настроениям в массах
оказывал то же воздействие). Это массовое стремление научиться
читать негативно воспринималось господствующими классами,
все более энергично противодействовавшими интеллектуаль-
ному раскрепощению.
В городской среде чтение раньше и быстрее завоевывало
своих сторонников, чем в сельской местности, среди предста-
вителей средних и низких сословий. В городе чтение охватывало
ГЛАВА 11
369
своим влиянием, прежде всего, домашнюю прислугу, лакеев и
парикмахеров, служанок и горничных, торговых служащих и ре-
месленников, средних армейских чинов и в меньшей степени —
нижних. В целом эти читатели составляли примерно четвертую
часть всего городского населения. Занятию чтением способ-
ствовали и их бытовые условия: наличие освещения (что очень
ценилось в то время), выдававшиеся в течение дня короткие мо-
менты для чтения и даже возможность выделять из своего скром-
ного жалования (если хозяева обеспечивали питанием и жильем)
средства для личной библиотеки. По примеру своих хозяев, слуги
придерживались литературной моды. Особенно популярными в
то время были произведения художественной литературы. Пе-
чатные издания были также неотъемлемой частью повседневной
городской жизни: афиши, объявления на стенах зданий, город-
ские глашатаи, продавцы с аукционов и их объявления, газеты,
постоянно имевшиеся в наличии в курительных комнатах и на
постоялых дворах. В прогрессивной Англии 1740 г. Памела —
персонаж одноименного произведения Сэмюэла Ричардсона —
воспринималась как «образованная культурная героиня очень
мощной конгрегации горничных, которые могли во время до-
суга предаваться чтению» [13]. Несколькими десятилетиями
позже подобная эмансипация в области чтения и литературы
произошла в Германии. В 1781 г. венский автор описал настоя-
щую страсть, испытываемую горничными к литературе:
«Не довольствуясь этим, они считают себя чувствительными ду-
шами, отстаивают свои права на чтение художественной литера-
туры, добросовестно читают комедии, романы и поэмы, заучивая
наизусть целые сцены, строфы, отрывки, и даже рассуждают о стра-
даниях молодого Вертера».
Уже не могло быть и речи об исправлении этих литератур-
ных вкусов с помощью такого морализирующего издания, как
«книжка нравов для народа» («petit livre des moeurs pour le peo-
ple») (Lavater, 1773). Что касается солдат, несущих службу
в городе, то долгие, ничем не заполненные часы, которые они
проводили, неся караул, подталкивали их к чтению, что с сожа-
лением констатирует в 1780 г. один блюститель порядка: «Вплоть
до мушкетеров в крупных городах, которые приказывают прино-
370
РЕЙНХАРД ВИТТМАН
сить им в караульное помещение книги из библиотеки». В гар-
низонах предпочтение отдавалось, в первую очередь, чтению ро-
манов, затем следовали развлекательная литература и памфлеты.
«Дикому» чтению, популярность которого в обществе посте-
пенно снижалась, но в процентном отношении оно продолжало
лидировать, всегда противостояло «эрудированное» чтение.
Среди интеллектуальной элиты было распространено не только
беглое поверхностное, «новое» чтение, но и появившееся в
XVII в. экстенсивное чтение энциклопедического характера. Од-
нако в середине XVIII в. эрудит, проводивший жизнь, уткнув-
шись в книги, забыв про все на свете, становится предметом на-
смешек. Его книжные знания упорно противопоставлявшиеся
любому проявлению прагматизма, противоречили буржуазному
мировоззрению эпохи Просвещения. На смену педантичному и
важному кабинетному мыслителю пришел эрудированный и
энергичный «денди», чьи отношения с науками были скорее по-
верхностными.
Зато идеология эпохи Просвещения способствовала распро-
странению «полезного» чтения среди старых и новых привер-
женцев культуры. В период с 1720 по 1750 г. склонный к мора-
лизму еженедельник Moralischen Wochenschriften, выходящий,
главным образом, в торговых городах протестантского севера
Германии, был одним из основных распространителей и пропа-
гандистов такого чтения. Гамбург и Лейпциг играли опреде-
ляющую роль в продвижении английского варианта концепции
просвещения. По примеру Moral Weeklys такие иллюстрирован-
ные журналы, как Spectator, Tatler, Guardian, распространяли идеи
добродетели и культурные идеалы узко буржуазной направлен-
ности эпохи Просвещения, противопоставлявшиеся галантному
образу жизни придворной аристократии. Используя програм-
мные заголовки, такие как «Патриот» (Der Patriot), «Гражданин
мира» (Der Weltburger), «Порядочный человек» (Der Biedermann),
«Филантроп» (Der Menschenfreund), «Свободный мыслитель» (Der
Freygeist), «Общительный человек» (Der Gesellige) и др., а также
опыт составления нравоучительных книг, обращенных к чита-
телям, они распространяли, заботясь о развлекательности, ма-
териалы светского содержания об этом низком мире. Чтение по-
добных изданий, ратующих за полезность обществу и одновре-
менно пропагандирующих принципы индивидуальной морали,
ГЛАВА 11
371
было для богатого коммерсанта и честолюбивого студента, доб-
родетельной женщины и порядочного чиновника нравственным
долгом, а не праздным времяпрепровождением.
Подобная издательская стратегия оказывала особенно эф-
фективное влияние на женскую читающую публику. Экономи-
ческое процветание и рост благосостояния позволили супругам
и дочерям буржуа уделять больше времени досугу. Если вплоть
до начала XVIII в. их чтение ограничивалось религиозными бла-
гочестивыми текстами (даже если эти ограничения и не всегда
соблюдались), то теперь и репертуар расширился, и время для
чтения значительно увеличилось. Так, в Moralischen Wochen-
schriften рекомендовались издания, достойные пополнить «биб-
лиотеку, предназначенную для женщин» («bibliothnque pour les
femmes»). Такая библиотека не должна была делать из своих чи-
тательниц «ученых женщин», но должна была дать им «относи-
тельную» культуру, не выходящую за рамки их обязанностей хо-
зяек дома. В то же время рекомендуемые книги в какой-то сте-
пени утоляли жажду знаний, предлагая читательницам рассказы
о путешествиях, басни и даже семейные английские романы.
В обществе стали уделять больше внимания чтению детей и под-
ростков. Уже было принято рассматривать детство как личный
мир ребенка и признавать его право на собственное индивиду-
альное восприятие окружающей действительности. Все чаще
поднимался вопрос: что именно читают дети и подростки?
После 1760 г. молодое поколение буржуазии было обязано
обучаться интенсивному чтению, что не получило почти ника-
кого отклика у юных учащихся, у которых было много времени
и которые уже давно пристрастились скорее к экстенсивному
светскому чтению.
Это «полезное» чтение рассматривалось не только как чтение
литературы нравственного содержания, способствующей само-
совершенствованию личности. Благодаря укреплению роли бур-
жуазии, ее идеологии, а также созданию обществ чтения (о чем
речь пойдет ниже), чтение все больше развивалось в направле-
ниях, связанных с анализом, размышлением и коммуникацией,
что, в конечном счете, должно было способствовать окончатель-
ному определению социальной идентичности буржуазии. Жан
Жак Руссо противопоставлял этот этап развития «разумного» чте-
ния (lecture «raisonnable»), которое было распространено как по-
372
РЕЙНХАРД ВИПМАН
лезное и прагматичное в его родном городе Женеве, чтению, слу-
жившему средством ухода от действительности или развлечением.
И именно таким, по его мнению, оно было в Париже:
«Француз много читает, но он читает только новые книги; или точ-
нее, он их листает. Не для того, чтобы читать, а для того, чтобы
потом сказать, что он их прочитал. Женевец читает только хорошие
книги; он их читает и думает одновременно; он не судит о них, но
он их понимает» [14].
По примеру энциклопедистов, немецкие рационалисты рас-
сматривали такое чтение как акт освобождения от феодального
обскурантизма. Оно способствовало развитию в буржуазной среде
нового сознания, основанного на светских принципах понима-
ния мира, что позволяло освободиться от пут религиозных и пра-
вовых доктринерских речей, защищавших феодальный порядок.
Таким образом, буржуа мог ориентироваться в происходящем и
обрести новую корпоративную идентичность как в социальном,
так и в культурном отношении. Не вызывает удивления и то, что
«разумное» чтение было мужским занятием. Экономическое про-
цветание и рост благосостояния способствовали тому, что муж-
чины могли все больше времени уделять чтению, причем не
только профессиональной, но и развлекательной литературы, а
также благодаря ему узнавать о политических новостях.
Хотя роль немецкой аристократии в этой области была отно-
сительно скромной, необходимо также рассмотреть особенности
чтения в этой среде. Правда, об этом имеется очень мало сведе-
ний, причем разрозненных. Как и во Франции, земельная не-
мецкая аристократия в конце века располагала очень незначи-
тельным количеством книг. В замках дворян {die Krautjunker) на-
считывалось, может быть, несколько десятков книг. Круг меце-
натов и друзей литературы был узок. Но они так же, как и
просвещенная буржуазия, способствовали развитию чтения, не-
смотря на то что среди придворной аристократии и земельного
дворянства было чрезвычайно мало библиофилов и тех, кто при-
обретал ценные книжные коллекции. Их общий вклад в разви-
тие «революции чтения» был очень незначительным.
Как уже отмечалось, аристократия, придворная и земельная,
в процессе дальнейшего развития чтения принимала несравнимо
ГЛАВА 11
373
меньшее участие, чем представители торговых метрополий про-
тестантской Северной и Центральной Германии. Католическое
население регионов стало участником этого процесса позже.
Дело в том, что католические верующие не предавались так
страстно индивидуальному чтению Библии, как протестанты,
для которых оно было почти религиозным актом и особенно по-
буждало к чтению:
«В соответствии с католическими традициями священнослужители
были посредниками между словом Божиим и верующими, и ника-
кая книга для них не имела такого важного значения, как Библия
у протестантов» [15].
Конечно, католики были знакомы с популярными массо-
выми изданиями, такими, как календари или «летучие» издания
(например, листовки). Мирянам не воспрещалось читать Биб-
лию, но в отличие от протестантского тезиса, в соответствии
с которым Писание доминирует над устной традицией (sola scrip-
ture), католики отдавали абсолютное первенство устной передаче
знаний, которая осуществлялась специально подготовленным
для этого авторитетным лицом. Однако такое отношение было
свойственно главным образом широкой верующей пастве (оно же
распространялось и на «народную» книгу), тогда как священ-
нослужители и обитатели монастырей всегда были образован-
ными приверженцами книг (suigeneris). В религиозных обителях
вольное чтение особенно почиталось. Еще больше ценились биб-
лиотеки монастырей, которые до секуляризации (освобождения
от церковного влияния) в XIX в. были почитаемыми центрами
интеллектуальной мысли и ее процветания.
Именно в них начался процесс развития чтения. После 1780 г.
в регионах, населенных католиками, начало все больше про-
являться недовольство тем, что семинаристы читают романы.
В то же время насмешек над некоторыми представителями ду-
ховенства, особенно деревенскими приходскими священниками,
по поводу того, что они не читают, стало намного меньше. Новое
поколение читателей-священнослужителей приобретало первый
опыт чтения светских изданий именно в монастырях или семи-
нариях. В прогрессивном периодическом издании «Публика Ба-
варии» (Zuschauer in Ваует) был опубликован материал, в кото-
374
РЕЙНХАРД ВИТТМАН
ром сравнивались баварские священнослужители старого и но-
вого поколений:
«Старшее поколение нюхает и курит табак, пьет и ничего не читает.
Молодое поколение стремится к новому, читает, начинает приоб-
ретать вкус и учится мыслить».
Не только католики-эрудиты, но и более широкий круг ве-
рующих католиков очень быстро приобщился к чтению свет-
ских изданий, правда, по сравнению с протестантами, — на два
или три десятилетия позже, освобождаясь при этом радикаль-
ным образом от церковного влияния:
«Ничто больше так не желалось, не печаталось, не читалось, не
продавалось, не рекомендовалось, как издания, в которых дискре-
дитировалась религия. Они переходили из рук в руки. Их переиз-
давали. Тираж некоторых из них исчерпывался через три месяца.
Обычные школы, где учили читать, и свобода печати способство-
вали тому, что любой мог читать всякого рода измышления, кото-
рые могли опубликовать эти “пишущие маньяки”. Были даже об-
щедоступные школы, в которых преподаватели рекомендовали по-
добные материалы своим ученикам и зачитывали отрывки из них
вслух. Девушки приносили их с собой в церковь. Мальчики, кото-
рые еще только учили правила грамматики, знали о них. Священ-
ники — Господь пожелал, чтобы это были самые низкие из них, те,
кто не достоин доверия, — выставляли эти издания напоказ, рас-
ставляя их поверх своих книжных шкафов» [16].
Так же, как и у протестантов, чтение Библии в католической
среде, прежде всего в городской, становилось все более редким.
Но зато среди католиков, тоже в первую очередь в метрополиях,
росла страстная увлеченность чтением, а также развивались
процессы аккультурации и дерегионализации. Лучший пример,
иллюстрирующий эти явления, — Вена периода правления
Иосифа II, когда политика вмешательства правительства в дела
Церкви была особенно целенаправленной, и брошюры анти-
клерикального толка издавались потоками. Священники, враж-
дебно настроенные к распространению чтения, призывали с вы-
соты своих кафедр во время богослужений и в печатных изда-
ГЛАВА 11
375
ниях обратиться к эпохе барроко как к примеру для подражания
в отношении к чтению. Они серьезно опасались, что его рас-
пространение приведет к освобождению масс от церковного
влияния и в конечном итоге — полному искоренению христи-
анства.
СТРАСТЬ К ЧТЕНИЮ
Концепция чтения эпохи Просвещения при решающем значе-
нии социальной составляющей в сфере культуры претерпевала
изменения в своем развитии, особенно начиная с 1770 г. Быстро
освобождаясь от противоречий, свойственных рационализму, от
его академизма, критериев восприятия и авторитарного руко-
водства, в этой сфере все большее значение приобретают эмо-
циональные и индивидуальные факторы. Они обозначили
новый, особо сложный этап исторического развития чтения,
длившийся в течение нескольких десятилетий, для которого
было характерно «сентиментальное» («sentimental») или «эмфа-
тическое» («emphatique») чтение. Чтение, в котором индивиду-
альная страсть читающего, изолировавшая его от окружающей
действительности и общества, сочеталось с жаждой общения
и сопричастности через обращение к чтению. Из «огромной по-
требности взаимодействовать с жизнью за пределами печатной
страницы» [17] возникали новые, небывалые прежде, довери-
тельные отношения и даже воображаемая дружба между автором
и читателем, между издателем и тем, кому его литературная про-
дукция предназначалась. Чувство изолированности и неизвест-
ности, охватывавшее взволнованного читателя, компенсирова-
лось осознанием, что он благодаря чтению принадлежит к со-
обществу почитателей книги и чтения. Бесспорно, такое чтение
в контексте «инверсивной» революции значительно в большей
степени является «интенсивным» по сравнению с прошлым пе-
риодом, и никоим образом — не «экстенсивным».
В Англии, во Франции и в Германии этот процесс, такой
определяющий в культурном плане, очень своеобразно суще-
ствовал совместно с именами Ричардсона и Руссо, Клопштока
и Гете. Возникновение новых связей между автором, текстом и
читателем связывается с именем Сэмюэла Ричардсона (1689—
376
РЕЙНХАРД ВИТТМАН
1761). Его романы «Памела, или Вознагражденная добродетель»
(Pamela or Virtue Rewarded) (1740) и «Кларисса» (Clarissa) (1747—
1748) были встречены читающей публикой с таким энтузиазмом,
какой до них не был известен ни одному художественному про-
изведению этого жанра. Особенно горячий прием у женщин
встретил роман «Памела». В нем Ричардсон с небывалой доселе
точностью описал специфический женский мир — шла ли речь
о подробностях ведения домашнего хозяйства или интимных лю-
бовных отношениях. Роман был написан в эпистолярном жанре,
что свидетельствовало о преобладании субъективного восприя-
тия событий его героями. Все это способствовало тому, что «Па-
мела» стала произведением, которое
«могло быть одновременно положительно оценено Церковью и под-
вергнуто осуждению как порнографическое. Оно могло нравиться
читателям, производя на них двойное притягательное воздействие:
воздействие проповеди и воздействие стриптиза» [18].
Как об этом свидетельствует «Похвала Ричардсону» (L ’Eloge
de Richardson) Дидро (1761), во Франции этот роман также нашел
широкий отклик у читателей. Но только благодаря Жан Жаку
Руссо (1712—1778) пожар, разгоревшийся из-за этой книги, стал
распространяться как по пороховому приводу (trainee de poudre).
Его чтение воспринималось
«как будто он был вестником божественной истины. [...] Что отли-
чало чтение почитателей Руссо от чтения его предшественников:
кальвинистов, янсенистов или пиетистов, так это их восприятие
произведений самых сомнительных жанров (например, романов),
таким образом, как будто они были самой Библией. [...] Руссо хотел
с помощью литературы проникнуть в суть жизни, своей и своих чи-
тателей» [19].
А его читатели, со своей стороны, стремились к чтению по-
добной литературы
«не для того, чтобы испытать удовольствие от чтения художествен-
ного произведения, а для того, чтобы лучше познать жизнь, особенно
семейную, что в точности соответствовало воззрениям Руссо» [20].
ГЛАВА 11
377
«Новая Элоиза» (La Nouvelle Heloise) (1761), издававшаяся не
менее 70 раз до 1800 г., — самый лучший бестселлер периода ко-
ролевского правления — производила на своих читателей неис-
числимые сильные воздействия, включая приступы истерики и
состояния крайней подавленности (депрессии). Робер Дарнтон
подчеркивает, что «мы почти не можем себе представить» эту
страсть к чтению. «Она нам кажется такой же странной, как
страх балийцев перед демонами» [21], или еще проще — как
юношеский экстаз на концерте поп-музыки.
В Германии развитие этого вида чтения прошло через важ-
ную промежуточную стадию. Читатели, особенно читательницы,
ценили, когда в одном произведении пересекались религиозные
и светские сюжетные линии. Таковой стала «Мессиада» (Der Mes-
sias) Фридриха Готлиба Клопштока (1724—1803) — религиозная
эпическая поэма на библейский сюжет, вышедшая в свет в
1749 г. Ее религиозное содержание, повествующее о жизни Хри-
ста, полностью удовлетворяло женщин, и к тому же, оно было
передано в сентиментальным духе, дерзко субъективно. Читатели
сначала «бросались» на это произведение как раз в тот период,
когда уже начали отходить от чтения традиционной религиоз-
ной и учебной литературы, преподаваемой в школах, и осво-
бождались от ее влияния. Потом, правда, охладели и совсем за-
бросили, что совпало с завершением процесса эмансипации. Те-
перь поэзия и проза стали для них настолько обычными и само
собой разумеющимися вещами, что им было непонятно, как
«Мессиада» Клопштока могла в прошлом иметь для них такое
важное значение [22]. Успех произведений Христиана-Фюрхте-
готта Геллерта был такого же свойства. В первом немецком бур-
жуазном романе «Жизнь шведской графини фон Г.» (Leben des
schwedischen Grafin von G.) моральные и религиозные намерения
автора были вне всяких подозрений, что позволяло читателю с
жадностью поглощать все происходившие в нем перипетии.
В 1774 г. широчайший читательский резонанс получила книга
И. В. Гете «Страдания молодого Вертера». Но в отличие от Руссо,
молодой автор не придавал никакого значения установлению
хоть какой-то близости с читателями, что не помешало части в
основном молодых читателей увидеть в этой трагической лю-
бовной истории, в которой светская буржуазная мораль уже
больше не пропагандировалась и даже разоблачалась, не только
378
РЕЙНХАРД ВИПМАН
художественный вымысел, но и приглашение к подражанию в
духе прежней традиции создания «полезных» поучительных тек-
стов. К сожалению, фатальным следствием неверно понятого
содержания романа стала прокатившаяся среди читателей «Вер-
тера» волна самоубийств. Однако подавляющая часть читающей
публики ограничилась внешними признаками подражания
герою, превратив его манеру одеваться (голубой сюртук и жел-
тые брюки) в символ мятежной юности и покупая ставшие куль-
товыми предметы, такие, например, как знаменитая чашка Вер-
тера. Совсем незначительной части читателей удалось прийти к
объективным выводам и провести грань между миром чтения и
реальным повседневным миром.
Пример Вертера хорошо иллюстрирует различия, существо-
вавшие в среде новых читателей, которые проявлялись в вос-
приятии литературных произведений и в особенностях их чте-
ния. Чтение в обществе (групповое) и уединенное уже больше
не было одним и тем же. Женщины, составлявшие преобладаю-
щее большинство читающих произведения художественной ли-
тературы, предпочитали коллективное чтение, что способство-
вало их непосредственному общению. На смену авторитетному
чтению вслух отца семейства, священника или преподавателя
пришло чтение, способствовавшее развитию общения благодаря
«опыту эмфатической игры ролей» [23], т. е. позволявшее вос-
принимать литературные произведения в контролируемой и дис-
циплинирующей обстановке. Письмо Луизы Мейер, написанное
в 1784 г. своему другу Генриху Кристиану Буа, в котором она
описывает один из проведенных ею дней, очень хорошо иллю-
стрирует этот процесс. Луиза Мейер была компаньонкой гра-
фини Штольберг в Тремсбюттеле герцогства Гольштейн, супруг
и шурин которой были поэтами:
«Мы позавтракали в 10 часов. Затем Штольберг прочитал нам
главу из Библии и текст из «Песен» (Lieder) Клопштока. После
чего все разошлись по своим команатам. Я читала отрывки из
Spectator, Physiognomik и некоторых других книг, которые мне дала
графиня. Она спустилась за мной: Лотта переводила, а я потом в
течение часа читала ей Ponce Pilatus Лаватера. Пока она занима-
лась латинским, я кое-что переписала для нее и почитала для себя
до обеда. После обеда и кофе Фриц читал отрывки из «Жиз-
ГЛАВА 11
379
неописаний» (Lebensldufen). Затем я около часа читала Лотте
Мильтона. После чего мы поднялись, и я читала графу и графине
Плутарха до девяти часов вечера — времени чая. После чая
Штольберг прочитал главу из Библии и песню из Клопштока, а
потом — спокойной ночи» [24].
Вот что Луиза Мейер думала об этих излишествах чтения, как
интенсивного, так и экстенсивного: «Здесь людей перекармли-
вают чтением, как гусей — лапшой».
В индивидуальном чтении были открыты новые качества, от-
личающиеся от чтения в обществе и имеющие коммуникатив-
ную направленность. Индивидуальному чтению, напротив, были
свойственны такие черты, как чтение про себя и особенность
восприятия.
В отличие от чтения в обществе, способствовавшего разви-
тию общения, в индивидуальном чтении были открыты новые
качества, связанные с особенностями восприятия текста, про-
читанного про себя.
Телу с его физиологией как непременному участнику про-
цесса чтения уже не придавалось особого значения, этот вопрос
был отодвинут на второй план. В связи с этим «дикое» чтение
приобрело более организованный и дисциплинированный ха-
рактер. Тишина, покой и расслабленность стали добродетель-
ными достоинствами буржуазного чтения и предварительными
условиями его эстетического восприятия. Теперь читатель, пре-
даваясь чтению, оставался хозяином положения и мог контро-
лировать себя [25]. В то же время неподвижность позы, которую
рекомендовалось соблюдать при чтении за письменным столом,
для некоторых читателей представляла проблемы: они предпо-
читали более естественные положения. В конце XVIII в. при
обучении чтению уже не требовалось, читая вслух, сохранять
определенную позу, за исключением случаев, связанных со здо-
ровьем, что заменяло целебный эффект прогулки:
«Совершаемое усилие улучшает кровообращение, препятствует
свертыванию крови, противостоит болезни и скуке. В дождливую
и вредную для здоровья погоду или когда мы болеем следует при-
бегнуть к чтению вслух, которое заменит получаемые от прогулки
на свежем воздухе удовольствие и пользу для здоровья» [26].
380
РЕЙНХАРД ВИПМАН
Что же касается чтения про себя, то, содействуя более эмо-
циональному восприятию, для которого свойственна глубина
проникновения чувств, оно позволяет читателю намного полнее
погрузиться в воображаемый мир.
Еще больший эффект, по сравнению с индивидуальным, про-
изводило сентиментальное чтение, когда им занимались на при-
роде, особенно на фоне любимого пейзажа. В определенный
исторический период такое чтение было особенно дорого эруди-
рованному буржуа: оно позволяло подчеркнутым образом де-
монстрировать свой уход от общества. В то же время оно свиде-
тельствовало о шаткости престижа и ненадежности социального
положения этой части буржуазии, которая, с одной стороны, об-
наруживала неприятие норм феодального строя, а с другой —
осознавала, испытывая чувство унижения, непрочность своего
положения в обществе. Нарочито показное отдаление от обще-
ства, дистанцирование от запросов аристократии, дворцовой,
городской жизни, повседневных забот, эмоциональный уход в
себя с помощью литературного произведения придавали такому
чтению особое воздействие, которое усиливали окружающий
идиллический пейзаж и размышления о собственном предна-
значении. Этому способствовало и охотное сочетание самими
читателями чтения книг с «прекрасными местами» на природе.
И все-таки местом, где читали больше всего, был дом бур-
жуа — центр его частной жизни. Занятие чтением, считавшееся
относительно новым культурным явлением, стало неотъемле-
мой частью повседневной жизни буржуазной семьи. До этого
только эрудиты с наступлением ночи корпели над книгами. Те-
перь же вечера и ночи и для любителей литературы стали време-
нем проведения досуга, включая чтение книг. Это свидетельствует
об изменении восприятия времени в буржуазной среде: посте-
пенно научились без особого труда переходить из воображаемого
мира чтения в мир повседневной реальности, уменьшая таким об-
разом риск смешения различных сфер существования [27].
Изготовители предметов роскоши предлагали «мебель для
чтения» («meubles pour la lecture»), которая позволяла, удобно
устроившись, часами погружаться в чтение захватывающей
книги. Это были, например, шезлонги для чтения с встроен-
ными пюпитрами; светским дамам предлагалась трансформи-
рующаяся мебель для чтения, которая могла служить одновре-
ГЛАВА 11
381
менно читательским, письменным, обеденным столом и туалет-
ным столиком. В ассортименте имелись также «английские стулья
для чтения или сна» и другие предметы [28]. В комплекте с ме-
белью для чтения дамам предлагалась соответствующая одежда
для чтения (Jiseuse): платье или блуза, теплые с изнаночной сто-
роны, но легкие и удобные для путешествий в царство грез.
Островком женской независимости стал closet, который для
читательниц из буржуазных семей (и не только в Англии) вы-
полнял ту же роль, что и будуар для галантных дам в эпоху ро-
коко, находивших в нем приют для уединения. Подобные места
предназначались для личных размышлений и переживаний, а не
для того, «чтобы прятать любовников. Напротив, они исключа-
ли их присутствие» [29]. Правда, он уже не был так галантно об-
ставлен, но для чтения располагал всем необходимым, в том
числе секретером с ручками (для перьев), чтобы вести перепис-
ку. По рассказам того времени (как правило, не лишенных от-
кровенных намеков эротического свойства) женщины очень це-
нили чтение в постели.
Только очень небольшому числу читателей удалось достичь
высшего уровня литературной культуры, позволявшего им осу-
ществлять «переход в вымышленный мир силой своего вообра-
жения» [30], а также сделать чтение повседневным занятием. Им
было доступно герменевтическое (толкующее тексты) чтение,
являвшееся своего рода независимым творческим упражнением.
Оно не было направлено на подтверждение уже знакомых ожи-
даемых истин, а предполагало открытие нового, неведомого.
Такие читатели — знатоки национальной классической литера-
туры, и в наши дни относительно малочисленны. Вот поче-
му Фридрих Шиллер отрицал понятие «народный поэт» («poete
populaire»): «Сейчас “элита” нации очень сильно удалена от ее
“массы”». Жан Поль тоже отмечал сложившееся к 1800 г. отно-
сительное разделение немецких читателей:
«В Германии существуют три категории читателей: 1) широкая
публика, посещающая библиотеки-читальни и практически ли-
шенная образования и культуры; 2) читатели-эрудиты, среди ко-
торых профессора, студенты, критики; 3) образованная публика,
объединяющая элиту общества и просвещенных женщин, худож-
ников и представителей высших сословий, для которых по край-
382
РЕЙНХАРД ВИПМАН
ней мере частое посещение библиотек и путешествия являются
неотъемлемой частью культуры (разумеется, эти три категории чи-
тателей нередко общаются между собой) [31].
Читатели в подавляющем большинстве предпочитали сенти-
ментальное чтение, предаваясь ему «страстно», как «наркотику»
(по образному выражению философа И. Г. Фихте), может быть
потому, что оно помогало уходить от действительности. Это чте-
ние всегда было в центре дискуссий того времени.
Примерно с 1780 г. эта новая эпидемия, которая пришла из
Северной и Центральной Германии, очень быстро распростра-
нилась, особенно среди молодежи и женщин. В конце века сен-
тиментальное чтение подвергалось всеобщей критике: в газетах
и журналах, в проповедях и памфлетах, и даже, как писал ба-
варский рационалист Л. Вестенридер, не одобрялось «народ-
ными массами, которые обычно читали мало или совсем не чи-
тали, которые и сегодня не читают в целях обучения или куль-
турного развития, а только — для развлечения».
Подобная страсть к чтению шокировала не только госу-
дарственные власти и Церковь. Прогрессивные рационалисты
эпохи Просвещения рассматривали его как основное препят-
ствие на пути к эмансипации, к которой они так стремились
и которая должна была происходить организованно и рацио-
нально. Сентиментальное чтение, порочное и пагубное для об-
щественного развития, противоречило буржуазной и проте-
стантской этике труда, смыкаясь с миром аристократии и при-
дворных — с миром праздности, роскоши, скуки. Если Тиссо
в сочинении «О здоровье эрудитов» (De la sante des erudits) (1768)
только предостерегал от заболеваний, угрожающих эрудитам,
которые все время просиживают над книгами в своих кабине-
тах, то дебаты об онанизме на страницах педагогических трак-
татов конца XVIII в. совпадают с дискуссиями о чтении, по-
священными в обоих случаях «скрытым (и вредным) грехам мо-
лодежи»:
«Необходимость при чтении находиться в определенном малопод-
вижном положении и отсутствие физических упражнений в соче-
тании с резко негативным воздействием частой смены образов и
впечатлений порождают ослабление организма, расстройство нер-
ГЛАВА 11
383
вной системы, вздутие живота, непроходимость кишечника. Одним
словом, — ипохондрию, которой подвержены, как известно, пред-
ставители обоих полов, но особенно женщины. А это, в свою оче-
редь, порождает коагуляцию и заболевание крови, возбужденное со-
стояние и состояние апатии, как и слабость во всем теле» [32].
В конце эпохи Просвещения, в соответствии с базовыми
принципами развития всего процесса чтения, развлекательное
чтение было признано общественно бесполезным:
«Читать книгу только для того, чтобы убить время, — это акт наи-
высшего предательства по отношению к человечеству, потому что
таким образом принижается значение средства, предназначенного
для достижения высших целей» [33].
Вместо того чтобы, следуя известному изречению Канта, быть
«средством обучения независимости», чтение служит слишком
большому количеству людей «средством для обычного время-
препровождения и удержания самих себя в состоянии вечной за-
висимости» [34].
НОВЫЙ КНИЖНЫЙ РЫНОК
Глубокие изменения в развитии чтения сразу же оказали влия-
ние на состояние книжного рынка, который оперативно отреа-
гировал на них новыми видами издательской продукции, спо-
собами ее распространения и обмена. Начиная со второй поло-
вины XVIII в., книга окончательно приобрела статус товара, от-
носящегося к сфере культуры. С переходом от доминировавших
до этого экономических, основанных на товарообмене отноше-
ний к денежной экономике рынок стал развиваться в капитали-
стическом направлении. Из книгоиздательского сектора Север-
ной Германии, Саксонии, а также Лейпцига распространилась
тенденция выпуска издательской продукции, ориентированной
только на продажу в соответствии с существующим спросом, что
повлекло за собой и новые виды рекламы. Значительно увели-
чилось количество книжных магазинов в провинциальных го-
родах. Издатели нового поколения развивали деловые связи с
384
РЕЙНХАРД ВИТТМАН
деятелями эпохи Просвещения. Это вызывало протест у публи-
цистов-консерваторов, заявлявших, что издатели являются глав-
ными зачинщиками революции чтения. Наряду с этим повыша-
лась и роль авторов в обществе, их все чаще стали воспринимать
как профессионалов. Это привело к появлению в Германии «не-
зависимых писателей». Они, с одной стороны, стремились к
творческой независимости, а с другой — вынуждены были под-
чиняться рыночным законам и товарным отношениям. Эта дик-
туемая рынком зависимость побуждала авторов (и наоборот —
читателей) искать и налаживать более тесные связи с теми, кому
они предназначали свои произведения, т. е. с читателями, обра-
зующими духовное сообщество, основанное на любви к книге
и чтению.
В то же время потребители книжного рынка представляли
разнородную публику, тенденция безграничного количествен-
ного роста которой проявлялась все отчетливей. Развитие чита-
тельских пристрастий и запросов покупателей все больше уг-
лубляло их различие. Покупатели могли проявлять интерес од-
новременно к политической и специальной литературе, исполь-
зуемой в профессиональных целях, кровавым романам ужасов и
художественным произведениям, оказывающим духовную под-
держку. На фоне проявления особенностей при выборе книг для
чтения шел процесс выравнивания и унификации читательских
вкусов, на которые сословные различия не оказывали влияния.
Одну и ту же слезную историю охотно читала дама из высшего
света и ее компаньонка, один и тот роман ужасов — важный чи-
новник юстиции и ученик портного. Представители всех сосло-
вий были способны читать и воспринимать традиционную на-
циональную литературу. Конечно, неизвестный читатель зави-
сел от предложения рынка, но ему противостояла сила коллек-
тивных читательских требований, которую нельзя было
игнорировать из-за угрозы коммерческих неудач и убытков.
Колебания рынка и читательских вкусов хорошо отражают (не-
смотря на лакуны в статистических данных) каталоги Лейп-
цигской ярмарки, которые на протяжении века предоставляли
надежные репрезентативные показатели оборота и распростра-
нения книг на наднациональном уровне. Только по одному та-
кому показателю, как расширение объема выпуска издательской
продукции, после 1760 г. уже можно судить о быстроте увеличе-
ГЛАВА 11
385
ния численности любителей чтения: в 1765 г. каталоги ярмарки
содержали 1384 названия, в 1775 г. — 1892, в 1785 г. — 2713, в
1790 г. — 3222, в 1795 г. — 3257 и в 1800 г. — 3906 названий. Таким
образом, к 1800 г. полный объем ежегодно производимой про-
дукции должен был увеличиться в два раза. Этот количествен-
ный экспансивный рост выпуска новинок сопровождался бы-
строй сдачей позиций литературы на латинском языке, который
на протяжении веков был престижным языком эрудитов. На
книжных ярмарках в 1740 г. было представлено примерно 27,7%
написанных на нем изданий, а в 1800 г. — всего около 3,9%. Та
же тенденция уменьшения объема литературы, выпускаемой на
латинском языке, прослеживается в отношении литературных
жанров. Некогда подавляющее преобладание теологической ли-
тературы быстро уменьшается, свидетельствуя как об освобож-
дении эрудированной публики от церковного влияния, так и
об охлаждении читателей-протестантов к назидательным ду-
шеспасительным сочинениям. В то же время показатели, вы-
раженные в процентах, указывают на значительное расшире-
ние новых направлений в издательской продукции, представ-
ленных книгами по географии, естественным наукам, поли-
тике, педагогике и, особенно, произведениями художественной
литературы. Последние, например, в 1740 г. составляли только
6% от всех книг, предлагавшихся на ярмарках. В 1770 г. их было
уже 16,5%, а в 1800 г. они заняли лидирующие позиции, соста-
вив 21,4%. Такой скачок произошел в значительной степени бла-
годаря романам. В 1740 г. их доля на книжном рынке равнялась
2,6%, а в 1800 ft она достигла 11,7%, что свидетельствует о 4-крат-
ном увеличении.
Прослеживается увеличение не только количества названий
предлагаемых изданий, но и их экземплярность. Однако темпы
роста средних по объему тиражей отставали от предыдущих по-
казателей из-за контрафактной продукции и развития абоне-
ментных библиотек, выдающих книги на дом. В конце века под
сильным воздействием Французской революции значительно
большими тиражами стали выпускаться газеты. Например, ти-
раж знаменитой газеты «Гамбургский корреспондент» (Hambur-
gische Correspondent} достигал в 1798 г. 25 тыс. экземпляров, а
в 1801 г. — даже 51 тыс. Если исходить из расчета, что в сред-
нем один экземпляр приходился на 10 читателей, то весь тираж
386
РЕЙНХАРД ВИПМАН
охватывал до 500 тыс. читателей. Тираж качественных литера-
турных журналов был, наоборот, определенно ниже (например,
«Teutscher Merkur» Виланда издавался в 1500 экземплярах).
В последней трети XVIII в. цена на книги, особенно наибо-
лее ценимые читателями, препятствовала быстрому увеличению
их количества. В этот период цены на книги возросли в 8—9 раз.
Подобный взлет свидетельствовал о специальной политике, про-
водимой издателями-книготорговцами (полная стоимость и не-
большие тиражи), а также о постоянном повышении читатель-
ского спроса. В Германии (как и в Англии) цена одного романа
была сравнима с суммой, на которую семья могла питаться в те-
чение одной-двух недель. Значительная часть новых читателей,
даже из буржуазных семей, чтобы утолить жажду чтения, при-
бегала к библиотекам и клубам чтения. Они также покупали под-
делки, изготавливавшиеся на юге империи, которые были зна-
чительно дешевле, чем подлинники, издававшиеся в Северной
и Центральной Германии. Таким образом, контрафактное про-
изводство, особенно на юге Германии, играло определяющую
роль в увеличении числа читателей, в появлении и распростра-
нении новых читательских предпочтений.
Естественно, книга эволюционировала и как предмет искус-
ства и культуры. Напрасно прогрессивные издатели долгое
время пытались в целях развития экстенсивного, быстрого чте-
ния заменить готический шрифт на «эту ужасную руну» («rune
affireuse»), «этот монашеский угловатый и полный прикрас»
(И. И. Бертух), каковым воспринимался элегантный античный
шрифт. Попытка его введения была обречена на неудачу. Лю-
бовь образованной читающей публики к выполненным на вы-
соком художественном уровне и полиграфически изящно пред-
ставленным текстам, содержавшим большое количество вкладок,
виньеток, орнаментов, только усилилась. Захватывающий роман
не мыслился без иллюстраций Даниеля Ходовецки (Daniel
Chodowiecki), этого непревзойденного художника буржуазной
жизни. В то же время росла неприязнь к большим форматам:
«Книги делают ученых, брошюры — людей», — таков был новый
девиз.
Формат ин-октавио с приходом буржуазной литературной
культуры эпохи Просвещения прочно занял свои позиции. На
протяжении десятилетий книги становились все менее и менее
ГЛАВА 11
387
объемными. Большой популярностью у любителей литературы
стали пользоваться книги в форматах: ин-октавио, в двенадца-
тую часть печатного листа и даже в шестнадцатую часть печат-
ного листа. Наилучшим образом они сочетались с содержанием
альманахов. Карманные книги также способствовали распро-
странению литературной культуры. С 1770 г. по примеру Фран-
ции было издано более 2000 этих маленьких очень красиво и даже
роскошно оформленных книжек. Наряду с художественными
произведениями в карманном формате выпускались сатириче-
ские, политические и научные издания (специальные и научно-
популярные). Жан Поль, один из любимых писателей конца
XVIII в., с юмором описывал развитие этого процесса:
«О боже! Когда вспоминаешь о прежних томах ин-фолио весом в
несколько книг, в деревянных или кожаных переплетах с зажимами
и медными застежками, напоминающих дедовские стулья, обтяну-
тых в кожу с помощью медных гвоздей, — символ сидячего образа
жизни эрудитов; то в случае, если в руке оказывается книга кар-
манного формата, чувствуешь себя счастливым. Свиная кожа была
заменена сафьяном, медные приспособления и украшения — по-
золоченным кантом, зажимы и застежки — шелковым футляром, а
цепь, которой закрепляли этих «гигантов» в библиотеках, — шел-
ковой ленточкой» [35].
Подобная литература не принадлежала к ознакомительной
или содержащей «реальные сюжеты». Это не были также рас-
сказы о путешествиях или естественно-научные издания, поль-
зовавшиеся всеобщей любовью читателей. Речь шла о новых ли-
тературных жанрах, составлявших основу экстенсивного чтения,
а именно: романах и периодических изданиях, которые служили
главными мишенями для критиков в отношении страстной при-
верженности к чтению. Роман подвергался особой критике, так
как он, по их мнению, требовал «быстрого, не сосредоточенного
и почти не осознанного чтения» [36]. В то же время может по-
казаться парадоксальным, что
«самое широкое и точное распознавание читателей посредством
вымышленных чувств, всегда присущее литературе, осуществля-
лось на основе печатания книги и эксплуатации ее основных
388
РЕЙНХАРД ВИПМАН
свойств, выражающихся в наивысшей степени безличностности,
в наивысшей степени объективности и в наивысшей степени ком-
муникативности» [37].
Полемика вокруг чтения романов имеет давнюю традицию,
восходящую к Amadis de Gaule. Однако ей всегда была присуща
извращенность привилегированного меньшинства. В то же время
в конце XVIII в. увеличение количества изданий и рост попу-
лярности романов способствуют тому, что увлечение ими ста-
новится общественным явлением. В Германии только на одной
Пасхальной ярмарке 1803 г. было выброшено в продажу не менее
276 романов. Эта цифра оставила далеко позади Францию и Анг-
лию. Поток издаваемых романов позволял удовлетворять любые
читательские вкусы и их нюансы. В 1805 г. литературная газета
Allgemeine Literatur-Zeitung охарактеризовала основные тенден-
ции наступившего в 1776 г. в Германии периода читательской
моды, совпавшей с появлением Siegwart Иоганна Мартина Мил-
лера следующим образом: сентиментальный, комический, пси-
хологический, период страсти и рыцарства, период мечтателей,
время проявления духа и магических сил, тайных орденов и ка-
балы аристократического двора, период семьи и дома, период не-
вероятных историй, разбойников и воров. В это время предла-
галось большое количество (около 40%) переводных изданий, в
основном на английском языке. Казалось, все поколение было
охвачено страстным чтением романов: поколение, которое, как
предполагалось, должно быть полно намерений продолжать
борьбу за буржуазное освобождение. Вместо этого, оно прово-
дило время в «наркотическом» чтении. В этой связи критика мо-
рального свойства приобрела в высшей степени политическую
направленность. Прогрессивные авторы выражали сожаление,
что этот вид чтения лишил учащуюся молодежь и мужчин неза-
висимости их взглядов, намерения бороться за свободу: «видно
невооруженным взглядом, как убивают свободу мысли и свободу
печати». Чтение в той степени, в какой оно разжигает и дает волю
воображению, удаляет читателя от реальных чувственных ощу-
щений и восприятия окружающей действительности с риском
доведения его до состояния полного разочарования в жизни,
вплоть до нигилизма. Женщинам, увлекавшимся романами, ста-
вился в упрек уход в мир бездействия и сентиментальных на-
ГЛАВА 11
389
слаждений как раз в то время, когда буржуазное общество и
семья возложили на них новые важные задачи. Консерваторы
также выражали недовольство тем, что романы возбуждают во-
ображение, вредят морали и отвращают от труда. Иммануил Кант
прямо заявлял:
«Чтение романов, наряду с многими другими умственными рас-
стройствами, приводит к тому, что развлечение становится обыч-
ным занятием».
Чтение периодических изданий наряду с романами также
стало излюбленным занятием читателей. С конца XVII в. воз-
никали недовольства «неуместной страстью» к чтению «Новой
газеты» (Neue Zeitung), но теперь эта критика приняла новые мас-
штабы. Интерес к ежедневным новостям, информационным
комментариям актуальных политических, религиозных, литера-
турных и экономических событий переполнял буржуазные круги.
То же можно сказать о «летучих изданиях», интерес к которым
возрастал по мере ослабления цензурных барьеров. Когда импе-
ратор-реформатор Иосиф II объявил в Австрии свободу печати,
наступил период настоящей «оттепели», благодаря которой
только в 1781 — 1782 гг. было издано по меньшей мере 1200 бро-
шюр, памфлетов и «летучих изданий». В конце века из-за пре-
обладания всеобщего интереса к политике население раздели-
лось на определенные читательские группы: нижние сословия
читали сенсационные новости на рынках или постоялых дворах,
высшие — опустошали полки киосков в крупных городах или
степенно обсуждали прочитанное в клубах чтения.
По-видимому, страсть к романам не только не усыпила целое
поколение читателей, а наоборот, достигла новой стадии разви-
тия, о которой писал достопочтенный франкмасон К. А. Рагот-
ский (К. A. Ragotzky):
«Но теперь мы являемся свидетелями следующего явления: новая
всеобщая мода, намного значительнее, чем все предыдущие, рас-
пространилась не только в Германии, но и по всей Европе, вовле-
кая все сословия и оттесняя при этом почти все другие виды чте-
ния. Речь идет о чтении газет и политических «летучих изданий».
Несомненно, эта мода — самая распространенная из всех, когда-
390
РЕЙНХАРД ВИПМАН
либо существовавших. [...] От регента и министра до резчика на
улице и крестьянина на постоялом дворе, от дамы за туалетным сто-
ликом до служанки на кухне, все читали газеты. [...] Изысканная
дама, сначала должна была прочитать как минимум последние но-
мера «Монитора» (Moniteur), «Парижского журнала» (Journal de
Paris), «Лейденской газеты» (Gazette de Leide), прежде чем присту-
пить к чаепитию, и в компании этих господ, которых общий ду-
ховный настрой собирал за чайным столом, начинался обмен но-
востями из «Хроники месяца» (Chronique du mois), «Лондонской
хроники» (London Chronicle), Morning Post или двух гамбургских жур-
налов, газет, издаваемых во Франкфурте и в Байройте. В это время
кузнец, расположившийся возле наковальни, и сапожник, сидя на
табурете, оставив свои молот и шило, читают Strassburger Kriegsbo-
ten, Brunner Bauem-Zeitung, Staats-Courrier или велят читать их своим
женам» [38].
В Германии революция чтения не помешала овладению по-
литическим сознанием. Наоборот, она способствовала проявле-
нию и укреплению антифеодальных и антирелигиозных тенден-
ций, в целом антиавторитарных, которые очень часто просле-
живались как в модной литературе, так и в политических ком-
ментариях. К сожалению, пока еще очень мало известно о роли
подпольной литературы в Германии. Во Франции, как это по-
казал Робер Дарнтон, привлекая особенно содержательные
источники Типографского общества Невшателя, непристойные
и безбожные (атеистические) книги особенно ценились даже в
средних слоях — среди чиновников и управляющих.
ЧТЕНИЕ БЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Появление новых видов изданий повлекло и возникновение
новых форм организации чтения. Высоко организованному
рынку стали противостоять, наряду с массой неизвестных, «ор-
ганизованные» читатели, т. е. читатели, объединявшиеся для сов-
местного приобретения и чтения литературы в специально пред-
назначенных для этой цели заведениях. Подобная организация
буржуазии в XVIII в., стремившейся к независимости, развива-
лась в двух основных направлениях: с одной стороны, действо-
ГЛАВА 11
391
вали кабинеты чтения или коммерческие (платные) абонемент-
ные библиотеки (Leihbibliothek), с другой — создавались обще-
ства чтения (Lesegesellschaft), доступ в которые был также бес-
платный. Все они, как в Германии, так и в Англии и во Фран-
ции, способствовали развитию революции чтения [39]. В то же
время публичные, муниципальные, а также монастырские биб-
лиотеки, библиотеки аристократии и большинство универси-
тетских библиотек (за исключением Геттингенской) не играли
практически никакой роли в удовлетворении потребности в чте-
нии новой литературы. Наоборот, они всячески препятствовали
этому, насколько это было возможно. Так, в Правилах пользо-
вания герцогской библиотекой в Готе (Тюрингия) было запи-
сано:
«Желающие работать с книгой должны обратиться к библиотекарю,
который им ее покажет и, вероятно, разрешит ее читать».
Во всей Европе расцвет абонементных библиотек, если не
считать возникновения самых первых предвестников, начался
после 1750 г. В Англии, по Monthly Magazine, к 1801 г. их коли-
чество достигло не менее тысячи. В 1761 г. книготорговец Quil-
lan основал в Париже на улице Christine первую во Францию або-
нементную библиотеку. В 1770—1780 гг. очень быстро увеличи-
валось число «арендаторов, дающих напрокат книги» («loueurs
de livres»). В Германии, по имеющимся свидетельствам, первые
абонементные библиотеки (после возникновения самых ранних
предвестниц в Берлине), появляются во Франкфурте-на-Майне
и в Карлсруэ в 1750-х гг., позднее, в 1780—1790 гг., — уже в боль-
шинстве средних по размерам городах и поселках работает как
минимум одна абонементная библиотека. К 1880 г. в Лейпци-
ге уже было девять таких библиотек, в Берлине — десять, а во
Франкфурте — восемнадцать. И даже в таком маленьком городе,
как Ораниенбург в Пруссии, почтмейстер выдавал на дом более
12 тыс. изданий и разрешал за некоторую плату читать до ста
газет. Для экстенсивного чтения, быстро распространявшегося
в средних сословиях, абонементные библиотеки подходили иде-
ально. Те, кто по социальным, финансовым причинам и причи-
нам местожительства не мог стать членом общества чтения, имел
возможность удовлетворить свои потребности в литературе всех
392
РЕЙНХАРД ВИПМАН
жанров в абонементных библиотеках. Для этого достаточно было
выразить свою просьбу или приобрести издание за умеренную
плату. Подобные читатели составляли значительную часть насе-
ления, которым доступ в общества чтения был постоянно закрыт,
несмотря на то что они, как никто другой, испытывали «страсть
к чтению». Это были студенты, ученики-подмастерья, девушки
и женщины, представители маргинальных общественных групп,
воспользовавшиеся неполным университетским образованием в
качестве наставников, военных недворянского происхождения,
секретарей-делопроизводителей.
Современники, поднимавшие голоса против этой пагубной
страсти к чтению, выступали и против абонементных библиотек
как главных очагов этого порока. Их называли «борделями и ме-
стами полной утраты нравственности и морали», которые рас-
пространяли свой «духовный мышьяк» среди знатных и обездо-
ленных, молодых и старых. Нередко абонементные библиотеки,
в фондах которых были особенно хорошо представлены сенти-
ментальные слезливые любовные романы, семейные истории,
соседствовавшие с рыцарскими романами, с невероятными исто-
риями и историями о привидениях, уничижительно относили к
низкопробным или низкоразрядным учреждениям ( Winkeletab-
lissemenf). Их фонды, часто превышавшие тысячу изданий, со-
стояли преимущественно из книг, вышедших из моды, количе-
ство названий которых колебалось обычно от одной до не-
скольких дюжин. Такими библиотеками, предназначавшимися
исключительно для предоставления читателям развлекательной
литературы, владели торговцы старинными книгами, переплет-
чики или люди, совершенно далекие от литературы и чтения. Но
в маленьких городах были книготорговцы, которые не одобряли
подобное потакание вкусам. В Вюртемберге, например, как и
в прочих маленьких городках, располагавших абонементными
библиотеками, были и низкоразрядные учреждения с фондами
от 100 до 600 книг. Однако следует подчеркнуть, что и в более
крупных местах читатели не были разборчивыми в своих лите-
ратурных вкусах.
С самого начала возникновения этим резко критикуемым або-
нементным библиотекам противостояли «кабинеты чтения», не-
редко бравшие свое начало в обществах чтения, которым во мно-
гом подражали и одновременно соперничали с ними. Состав
ГЛАВА 11
393
фондов этих «кабинетов чтения» или «музеев» свидетельствовал
об их почти универсальном характере. Они отражали весь ре-
пертуар, предлагавшийся современным книжным рынком: от
научной специальной литературы до полных собраний сочине-
ний писателей, в том числе на иностранных языках. Перечень
названий газет, предлагаемых для чтения, также нередко вклю-
чал немецкие и зарубежные периодические издания. Эти фирмы,
какой бы ни была их коммерческая направленность, хорошо чув-
ствовали конъюнктуру завершающейся эпохи Просвещения.
В осуществлении их деятельности им не мешали университет-
ские и публичные библиотеки, количество которых было недо-
статочным. В торговых и культурных метрополиях, таких, как
Вена, Франкфурт и Дрезден, эти учреждения помимо литера-
туры, приобретаемой для абонементных библиотек и читальных
залов, располагали и специальными выставочными залами, в ко-
торых экспонировались не только литературные новинки, но и
предметы искусства и художественных промыслов, а также му-
зыкальными залами и салонами, где можно было освежиться.
Несмотря на то что эти заведения считались солидными и «хо-
рошего уровня», все чаще и настойчивее, особенно после Фран-
цузской революции, стали раздаваться призывы к установлению
надзора за этими «местами гибели морали». К 1800 г. в государ-
ствах с населением, говорящим на немецком языке, абонемент-
ные библиотеки были или строго запрещены (например, в Авст-
рии они были закрыты в период с 1799 по 1811 г.) или подверг-
нуты жесткому контролю (например, в Пруссии — указом Вёль-
нера (Wollner) от 1788 г., и в Баварии — указом от 1803 г.).
С начала XIX в. абонементные библиотеки опережали в своем
развитии общества чтения, что свидетельствовало о возрастании
значения в выборе литературы и ее восприятии индивидуальных,
конфиденциальных и анонимных факторов. Дискуссии о про-
читанном в тесном дружеском кругу сменились уединенным чте-
нием, которое, с одной стороны, уводило от действительности,
а с другой — способствовало повышению социальной роли в об-
ществе, однако в обоих случаях требовалось коммерческое по-
средничество.
В отличие от абонементных библиотек, общества чтения, ор-
ганизованные на принципах самоуправления, не были ориенти-
рованы на получение коммерческой прибыли. Их главная цель
394
РЕЙНХАРД ВИТТМАН
заключалась в обеспечении своих членов необходимой им лите-
ратурой за минимальную плату. Некоторые представители бур-
жуазии конца эпохи Просвещения, критикуя страстную увле-
ченность чтением своих сограждан, считали, что уединенное чте-
ние наносит общественный вред и потворствует праздности.
В то же время они признавали, что клубы чтения — это центры
эмансипации, места взаимного контроля и дисциплины. В них
при соблюдении общих норм осуществляется руководство чте-
нием, которое воспринимается и усваивается на коллективных
началах. В обществах чтения, бесспорно, воплотились, взаимо-
действуя, два основных достижения буржуазии в борьбе за эман-
сипацию: продвижение экстенсивного чтения, в том числе среди
лиц, чьи финансовые возможности недостаточны для утоления
жажды чтения, и стремление новых читателей, являвшихся, как
правило, частными лицами и активными участниками дискус-
сий, стать на относительно независимых началах членом обще-
ственной организации.
Исторически общества чтения в XVII в. начинались с общей
подписки на газеты, и позднее — на журналы. Многие из круж-
ков чтения, создававшиеся для знакомства с политической ин-
формацией, так и просуществовали без явных изменений вплоть
до XIX в. Подобная организация позволяла каждому члену оста-
ваться независимым в своем выборе литературы для чтения. Не
существовало также никаких регламентирующих ограничений
относительно названий изданий для чтения. С 1770 г. возникают
первые заведения для «организованного» чтения. Прежде всего,
это — «библиотеки для чтения» («bibliotheques de lecture») с за-
лом, в котором приобретенные издания выдавались для чтения.
В скором времени в них наряду с периодикой все в больших ко-
личествах стали появляться книги. Для урегулирования вопро-
сов, связанных с покупкой литературы и ее абонементной вы-
дачей читателям, требовались регламентирующие документы
и комитеты управления: так начали возникать первые ассоциа-
тивные структуры. Зал, в котором обычно размещались издания,
вскоре становится местом собраний, на которых можно было об-
судить прочитанное и поделиться собственным мнением. Такие
заведения очень быстро стали необходимыми, что способство-
вало их оперативному распространению как коммуникацион-
ных центров в области чтения. Особенно динамично этот про-
ГЛАВА 11
395
цесс осуществлялся в торговых городах протестантской Герма-
нии. До 1770 г. было образовано 13 клубов. Еще 50 новых клу-
бов появились перед 1780 г. В 1780—1790 гг. уже насчитывалось
170 клубов, а в последнее десятилетие эпохи Просвещения эта
цифра достигла 200. До 1830 г. их количество возросло еще на
130 клубов, но перед 1820 г. количественный рост составил
только 34. Наряду с этой впечатляющей статистикой количе-
ственного роста мы, к сожалению, не располагаем данными о
сроках существования клубов чтения.
Особая притягательность этих клубов в конце XVIII в., оче-
видно, связана с разнообразием их деятельности. Все больше
«библиотеки для чтения» и «кабинеты чтения» располагали,
кроме читальных залов, другими помещениями, например «са-
лонами», в которых можно было поболтать, покурить и даже вы-
пить прохладительные напитки, предлагаемые обслуживающим
персоналом. Нередко были и другие помещения, в частности
предназначенные для пристойных развлечений: игры в бильярд
и проч. Даже если в уставах этих клубов не было и речи о со-
словных ограничениях, все-таки относительная однородность
их социального состава обеспечивалась условием принятия
новых членов при согласии большинства. Следовательно, в ре-
альной жизни так часто провозглашаемый лозунг «равенство всех
сословий» на поверку оказывался фикцией.
Клубы чтения нередко под названиями «Гармония», «Обще-
ство», «Музей», «Ресурс» или «Казино» позволяли преуспеваю-
щим буржуа налаживать в них связи с функционерами из ари-
стократии. Для их членов, которые тщательно отбирались (осо-
бенно в отношении выходцев из низших слоев), занятие чтением
было второстепенным. В маленьких клубах количество членов
могло достигать двадцати и более. Около ста насчитывали клубы
Бонна и Вормса. Клубы Франкфурта-на-Майне объединяли до
180 членов, 400 — в клубах Гамбурга. Но самое большое коли-
чество членов — 452, было только в Майнце, самом активном
городе в этом отношении. Значительно отличались эти клубы и
своими фондами, в частности их объемом и составом. В начале
создания фондов литература дидактического и назидательного
характера еще преобладала в них над периодическими и научно-
популярными изданиями. В обществах, объединявших читате-
лей по профессиям, например, врачей, юристов, проповедников,
396
РЕЙНХАРД ВИПМАН
преподавателей и экономистов, фонды состояли только из чисто
профессиональных изданий. Но к концу века в этих обществах,
которые стали самыми излюбленными местами для встреч и об-
щения, все больше стали ценить развлекательную литературу,
особенно романы. Многие общества стремились предлагать
своим читателям широкий выбор актуальной литературы: от аль-
манахов, солидных литературоведческих изданий, самых новых
рассказов о путешествиях до ежедневной политической печати,
в том числе на французском и английском языках.
Если исходить из среднего показателя в 100 членов, то в пе-
риод с 1770 по 1820 г. общества чтения объединяли в целом около
50 тыс. человек и играли очень важную роль в развитии поли-
тической и книжной культуры элиты. Кажется, что в них модель
Хабермаса воплотилась лучшим образом: публике, состоявшей
из образованных людей, удавалось в ходе обсуждения прочи-
танного приходить к общему мнению, учитывавшему их инте-
ресы в области политики и культуры. Эта элита представляла
около 7% всех читателей и одну тысячную всего населения, что
не мешало властям относиться с некоторым недоверием к этим
независимым объединениям. Таким образом, борьба против
страстной увлеченности чтением была обращена и против об-
ществ чтения, в которых превалировало экстенсивное чтение.
Она выразилась, в частности, в том, что их перевели на концес-
сионный режим, а книжные фонды подвергли постоянному над-
зору. Особенная неприязнь к организованному чтению про-
являлась на территориях, заселенных католиками. Епископства
Майнца, Трира и Вюрцбурга издавали запреты, особенно после
1789 г. В Баварии с 1786 г. общества чтения были распущены как
«гнезда» иллюминатов (членов мистической секты в Баварии
XVIII в.). К 1789 г. то же самое произошло в Австрии после дол-
гого периода строгого наблюдения. Из-за серьезных доводов,
выдвигавшихся против обществ чтения в Ганновере, они были
переданы под надзор полиции. Более того, по мнению против-
ников, эти общества представляли опасность в моральном и по-
литическом отношениях — опасность видеть,
как в семьи проникают беспорядок, распутство и даже заболевания
роговой оболочки глаз, другие болезни, если учащийся коллежа
может совершенно спокойно изучать дешево купленный «Причет-
ГЛАВА 11
397
ник монахов картезианского ордена» (Portier des chartreux), девушка
на выданье — Sopha et Ecumoire, молодая супруга — «Опасные связи»
(Liaisons dangereuses) и т. д. Видеть, как легко представители всех
классов и сословий с тех пор, как началась «великая эпоха Про-
свещения», могут достать эти и им подобные издания, предлагае-
мые в Германии на родном языке, в том числе в библиотеках и клу-
бах чтения, видеть до тех пор, пока эти «заводы деятелей Просве-
щения» не будут подвергаться никакому общественному контролю.
Вопрос о том, действительно ли общества чтения играли ос-
новную роль в формировании буржуазного мнения, как это
утверждали противники деятелей эпохи Просвещения и думают
некоторые исследователи в наше время, по-прежнему остается
до конца невыясненным. Факт, что они к 1800 г. изменили ха-
рактер своей деятельности, объясняется не репрессиями со сто-
роны властей, а новой функцией чтения, выразившейся в прек-
ращении развития этой социальной всеобъемлющей взрывной
силы, которой многие страшились. Чтение стало обычным заня-
тием, как любое другое, в зависимости от обстоятельств и ситуа-
ции ориентированное на развитие культуры и информации или,
наоборот, рассматриваемое как последний оплот, противостоя-
щий внешнему миру. Клубы чтения сначала служили для об-
суждения социальных проблем, а потом стали местом встреч и
общения. Некоторые из них преобразовались в ассоциации знат-
ных особ, просуществовав в этом качестве весь XIX в., а отдель-
ные даже сохранились до наших дней.
Была ли на самом деле революция чтения в XVIII в.? Пред-
принятый здесь краткий анализ свидетельствует о том, что, не-
смотря на все возражения, на этот вопрос можно ответить утвер-
дительно. Развитие чтения, идет ли речь об индивидуальном или
групповом чтении, подтверждает амбивалентную (двойную) роль
книги и печати в процессе рационализации и социализации в на-
чале периода новой истории. С одной стороны, чтение способ-
ствовало поддержанию массовости процесса социального фор-
мирования, с другой — оно служило самым соблазнительным
средством ухода от решения социальных проблем. Буржуазные
рационалисты полагали, что путь спасения с имманентной и
трансцендентной точек зрения пролегает через чтение. Их ярая
пропаганда полезного чтения познакомила поднимающуюся
398
РЕЙНХАРД ВИПМАН
буржуазию с этим культурным занятием как с оригинальным
видом коммуникации. Их противники — приверженцы тради-
ций — выступали против чтения с не меньшей запальчивостью,
потому что в их глазах чтение было равнозначно первородному
греху: тот, кто читал, вкушал плод с запретного древа познания.
Но за несколько десятилетий эти две тенденции полностью
исчерпали себя. Массовое воспитание чтением потеряло свою
актуальность, так как с 1800 г. публика стала разнородной, ра-
зобщенной и, что называется, неизвестной. Одним словом —
современной. Читатели уже больше не читают то, что им реко-
мендуют власть предержащие или идеологи. Они предпочитают
чтение, которое удовлетворяет именно их конкретные потреб-
ности: в эмоциональном, интеллектуальном, общественном и
личном планах.
Дух окончательно высвободился из сосуда.
Мартин Лайонс
ГЛАВА 12
НОВЫЕ ЧИТАТЕЛИ В XIX В.:
ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ, РАБОЧИЕ
УНИВЕРСИТЕТ НОВОГО ЮЖНОГО УЭЛЬСА, СИДНЕЙ
В XIX в. в западных странах начинается массовое обучение гра-
моте. Успехи, достигнутые в этой области в эпоху Просвещения,
продолжают развиваться, что способствует появлению и быстрому
увеличению числа новых читателей, предпочитающих чтение газет
и дешевых романов. В революционной Франции около 50% муж-
чин и 30% женщин умели читать [1]. В Великобритании количе-
ство грамотных было выше: 55% женщин и около 70% мужчин
умели читать (1850) [2]. В Германской империи по состоянию на
1871 г. грамотное население составляло около 88% [3].
Однако эти цифры не дают представления о сильных разли-
чиях в этом отношении между городом и деревней, а также между
столицами (в которых подавляющее число жителей были гра-
мотными) и провинцией. В Париже, например, накануне рево-
люции 90% мужчин и 80% женщин умели подписывать свои за-
вещания. В 1792 г. две трети жителей рабочего предместья Сен-
Марсель умели читать и писать [4]. Но такие данные вплоть до
середины XIX в. характерны только для очень крупных городов
Западной Европы. Уровень в 90% грамотного населения был до-
стигнут почти во всех странах Запада в 1890-х гг., и прежняя раз-
ница, существовавшая ранее в отношении грамотных мужчин
и женщин, почти исчезла. Для Запада это был «золотой век
книги», так как именно в этот период целое поколение в массо-
вом порядке обучалось грамоте. В истории это было первое и по-
следнее поколение, для которого печатное издание как средство
массовой коммуникации не имело никаких соперников, пока в
XX в. не появились радио и электронные средства массовой ин-
формации.
400
МАРТИН ЛАЙОНС
Бурное увеличение числа новых читателей сопровождалось
формированием основ начального образования. Но его разви-
тие скорее следовало за ростом численности читателей, чем опе-
режало его. Так, в Великобритании и во Франции начальное об-
разование стало по-настоящему бесплатным, общим и обяза-
тельным только в 1880-х гг., в период, когда оба государства уже
почти достигли всеобщей грамотности населения.
Параллельно происходившее сокращение рабочего дня высво-
бождало все больше времени для чтения. В 1910 г. «Союз в обла-
сти социальной политики» (Vereinfiir Sozialpolitik) констатировал,
что многие немецкие рабочие связывают проведение досуга
только с воскресеньем [5], несмотря на то что в 1870 г. рабочий
день в Германии был значительно сокращен: в конце XIX в. нор-
мированный рабочий день в этой стране равнялся 10 часам.
В Англии 9-часовой рабочий день стал нормой в 1880 г. Вслед-
ствие этих изменений рабочие стали пополнять ряды читателей.
Новая читающая публика жадно поглощала дешевые романы.
В XVIII в. роман не воспринимался как нечто респектабельное.
Он был оценен по достоинству только в первой четверти XIX в.,
став символом классической литературы победившей буржуа-
зии. В первые годы XIX в. романы редко издавались тиражами
более 1000 или 1500 экземпляров. В 1840-е гг. объемы тиражей
в 5000 экземпляров стали все более частыми, а в 1870-е гг. ти-
ражи дешевых изданий произведений Жюля Верна достигли
30 тыс. экземпляров [6]. В 1820—1830-е гг. Вальтер Скотт много
сделал для повышения значения романа и благодаря этому обрел
международную славу. В 1870-е гг. растущая популярность про-
изведений Жюля Верна обеспечила им лидирующие позиции на
новом книжном рынке художественной литературы, предназна-
ченной для всех. Массовое издание популярных романов спо-
собствовало притоку новых читателей и делало национальное
читающее сообщество более однородным.
Издатели, впервые признанные профессионалами в своем
деле, исчерпывающим образом использовали новые возможно-
сти для капиталовложений. Так, появление дешевых изданий в
виде ежемесячных выпусков значительно расширило круг чита-
телей, по сравнению с традиционно переплетенными романами
в трех томах. Публикация в периодических изданиях романов с
продолжением также способствовала открытию нового рынка и
ГЛАВА 12
401
сделала богатыми таких авторов, как Сю, Теккерей и Троллоп.
Между автором и его читателями устанавливаются новые отно-
шения. Рассказывали, что американские читатели осаждали на-
бережные в день прибытия судна, на борту которого находился
очередной выпуск с продолжением романа Диккенса «Лавка
древностей»: настолько всем не терпелось узнать, что произошло
с героиней, «маленькой Нелл». В 1872 г. французские читатели
открыли для себя «Капитал» Маркса, публиковавшийся в еже-
недельниках частями. В известном тексте (1839) Сент-Бев уве-
рял, что подобная «индустриализация литературы» несовместима
с созданием высокохудожественного произведения [7]. Однако
соблазн выгоды был непреодолим.
Новые читатели, ассоциировавшиеся с источником дохода,
вызывали у элиты чувство озабоченности и тревоги. Революции
1848 г. «обвинялись» в создании условий для распространения
подрывной, социалистической литературы среди городских ра-
бочих и новых деревенских читателей. В 1859 г. английский ро-
манист Уилки Коллинз вводит сформулированное им понятие
«неизвестная публика» («1е Public Inconnu»), обозначая таким
образом «племена, потерянные из-за неприобщенности к лите-
ратуре» («tribus litteraires perdues»), которые состоят из 3 млн чи-
тателей — выходцев из нижних слоев, «исключенных из литера-
турной культуры» («exclus de la civilisation litteraire») [8] и по-
этому предпочитающих чтение дешевых (за пенни) иллюстри-
рованных журналов, каждый из еженедельных выпусков которых
содержал очередную порцию рассказов и частей сенсационных
историй с продолжением, анекдотов, читательских писем, игр и
рецептов. Читателями этой дешевой литературы являлись глав-
ным образом слуги, продавщицы, «молодой женский класс» («les
jeunes classes feminines»). По Коллинзу:
«Будущее английской художественной прозы находится, вероятно,
в руках этой “неизвестной публики”, которая нуждается сегодня,
чтобы ее научили, как отличить плохую книгу от хорошей».
Эти новые английские читатели, которые ни разу в жизни не
купили ни одной книги, не записались в библиотеку, были в гла-
зах буржуазных наблюдателей незнакомым племенем, немного
внушающим страх.
402
МАРТИН ЛАЙОНС
ЧИТАТЕЛЬНИЦА: ЗАВОЕВАНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРОСТРАНСТВА
Женщины составляли значительную, постоянно увеличиваю-
щуюся часть новых читателей. Существовавшая ранее разница
(ставшая традиционной и выражавшаяся в количественном пре-
обладании грамотных мужчин над грамотными женщинами) не-
уклонно уменьшалась и к концу XIX в. почти исчезла. Особенно
сильно различия проявлялись в нижних слоях общества. В Лионе,
например, в конце XVIII в. поденщики и ткачи в два раза пре-
восходили своих жен по уровню грамотности. Но в семьях ре-
месленников, пекарей, где жены занимались ведением счетов и
обслуживали покупателей, супруги не уступали в грамотности
своим мужьям [9]. Возможно, что женщин, умеющих читать, было
значительно больше, чем принято полагать. Ведь критерием гра-
мотности для историков является, как правило, умение человека
поставить свою подпись на документе, без учета при этом его на-
выков чтения. Умевшие же читать представляли значительную
читательскую группу, в которой большинство составляли жен-
щины. Известно, что католическая церковь предпринимала
огромные усилия по массовому обучению населения, но только
не письму, а чтению. Было уже хорошо, если прихожане хоть в
какой-то степени умели читать Евангелие и катехизис. Умение пи-
сать поощрялось мало, так как оно давало крестьянам независи-
мость. В этом, вероятно, заключается причина, по которой
столько женщин умели читать, но не умели писать и даже под-
писываться. В некоторых семьях существовало даже строгое раз-
деление обязанностей по половому признаку: женщины должны
были читать в кругу семьи, своим домашним. А на мужчин воз-
лагалось выполнение письменных работ и ведение счетов.
Обучение девочек отставало от обучения мальчиков. В России
в конце XVIII в. только 9% девочек посещали государственные
школы. А в испанской Наварре (1807) школ для мальчиков было
в два раза больше, чем для девочек. Во Франции первые учебные
заведения, готовившие учительниц начальных школ, были соз-
даны только в 1842 г. Но в 1880 г. уже более 2 млн маленьких
француженок пошли учиться в школу.
Представляется, что развитие школ для девочек скорее сле-
довало за процессом усиливавшейся феминизации читающей
публики, чем опережало ее. Новые возможности, позволявшие
ГЛАВА 12
403
принимать на работу больше женщин (например, на должности
учительницы, продавщицы, почтовой служащей), а также ус-
пехи, которых удалось достичь женщинам в повышении своей
роли в обществе, еще больше способствовали их желанию по-
лучить образование. В XIX в. женские журналы переживают бур-
ное развитие, и появляется относительно новый персонаж:
«синий чулок». Женщины-писательницы, добивавшиеся при-
знания, буквально пригвождались к позорному столбу такими га-
зетами, как Le Charivari, видевшими в их занятии большую угрозу
целостности семьи. В то же время слава ряда известных писа-
тельниц, являвшихся и замечательными личностями, например
Жорж Санд, не должна затмевать признанное творчество мно-
гих других писательниц, внесших значительный вклад в разви-
тие литературы XIX в. Итак, появилась женщина-писательница.
По сложившейся в обществе традиции женщина, умевшая чи-
тать, была хранительницей семьи, ее уклада, обычаев и обрядов.
У австралийских протестантов, например, фамильная Библия
хранилась и передавалась женщинами из поколения в поколение.
В нее записывали даты рождений, браков и смертей, и она таким
образом символизировала преемственность и непрерывность хри-
стианской веры и семейного рода [10]. Вспоминая свое детство
в Плозеве (Финистер), пришедшееся на начало XX в., Пьер-Жак
Хелиас (Pierre-Jakez Helias) тоже рассказывал, что частью при-
даного его матери была книга «Жития святых»:
«В доме, кроме молитвенника моей мамы и нескольких сборников
духовных гимнов, были две ценные книги. Одна, всегда лежавшая
на подоконнике, — французский словарь господина Ларусса. [...]
Другая, закрытая в мамином шкафу (тоже часть приданого), кото-
рый мы называли прессом, была книга «Жития святых» на бретон-
ском языке» [11].
Здесь переплетаются несколько культурных стадий развития.
«Жития святых» (Vie des saints) ассоциируются с матерью — хра-
нительницей и владелицей этого ценного издания. Шкаф (при-
даное матери) воспринимается как средоточие религиозного зна-
ния, в отличие от словаря Ларусса, являвшегося для членов семьи
сокровищницей светского знания. «Жития святых» (Vie des saints,
или Buhez ar zent) символизировали католическую Францию,
404
МАРТИН ЛАЙОНС
тогда как словарь Ларусса был эмблемой республиканского свет-
ского образа мыслей. К тому же шкаф матери считался бретон-
ской «территорией», а подоконник — постоянное место словаря
Ларусса — был своего рода алтарем французского языка. В этом
описании проявляется традиционный образ читательницы, об-
ращенной к религии и семье и очень далекой от общественной
жизни и ее важных проблем.
В то же время у новых читательниц в XIX в. были уже более
мирские литературные вкусы, и специально для них стали вы-
пускаться такие издания, как поваренные книги, иллюстриро-
ванные журналы и, особенно, дешевые романы.
Из всевозможных поваренных книг «Буржуазная повариха»
(La Cuisiniere bourgeoise) занимала почетное место во француз-
ском обществе XIX в. Общий тираж 32 изданий книги (или La
Nouvelle Cuisiniere bourgeoise) в период наивысшей популярности
(с 1815 по 1840 г.) составил около 100 тыс. экземпляров, сделав
ее бестселлером [12]. Книга представляла собой учебное руко-
водство в духе эпохи Просвещения. В ней одобрялся более науч-
ный подход к диететике и отвергались такие проявления, как на-
рочитая демонстрация приверженности к аристократическим
вкусам и неразборчивость во вкусах нижних слоев населения.
В книге давались также советы, касающиеся соблюдения эти-
кета, принятого и ценившегося в буржуазной среде. Речь шла,
например, об умении искусно разместить гостей за столом, ис-
полнении ролей гостеприимных хозяина и хозяйки дома, о вы-
боре соответствующих тем для бесед, их умелом ведении и под-
держании. Уделялось внимание и правилам поведения за столом.
Так, хлеб следовало отламывать кусочками, а не резать ножом,
как принято у крестьян. Вино, очень рекомендованное в книге,
следовало пить в чистом (неразбавленном) виде после супа, а
в продолжении трапезы, следуя хорошему тону, его необходимо
было разбавлять водой. Таким образом, буржуазия XIX в. соз-
дала собственный стиль поведения в обществе, свой язык же-
стов, которые позволяли узнавать своих и выявлять чужих.
Название книги «Буржуазная повариха», в отличие от своих
соперниц, таких, как «Королевский повар» (Le Cuisinier royal) и
«Императорский повар» (Le Cuisinier imperial), уже своим назва-
нием свидетельствовало о ее предназначении женщинам. И под-
готовлено издание было тоже женщинами. Но это не означало,
ГЛАВА 12
405
что издатели книги адресовали ее только дамам из буржуазных
кругов. Наряду с рецептами и советами об искусстве приема го-
стей, в ней говорилось и об обязанностях слуг, следовательно,
книга была обращена и к ним. В предисловии к изданию 1846 г.
отмечалось, что хозяйки дома
«могут время от времени заставлять читать вслух прислугу, что изба-
вит их от труда бесконечно повторять одно и то же. С этой точки зре-
ния издание полезно и холостякам, демонстративно утверждавшим,
что им приходилось иметь дело только с недалекими слугами» [13].
Рецепты и правила хорошего тона предлагались и в женских
иллюстрированных журналах, соседствуя с публикациями о
моде. «Дамский журнал мод» (Le Journal des dames et des modes),
издававшийся c 1797 no 1837 г., содержал описания одежды и
соответствующие гравюры, предназначавшиеся не только для
женщин, но и для мужчин. В 1840 г. ему на смену пришли дру-
гие журналы, например, «Журнал для барышень» (Le Journal des
demoiselles) и «Туалет Психеи» (La Toilette de Psyche). Постепенно
эти иллюстрированные журналы мод начали оказывать влияние
на читателей из народа. И в конце концов, в их названиях слово
«femme» («женщина») полностью заменило слово «dame»
(«дама»). В 1866 г. журнал «Иллюстрированная мода» (La Mode
illustree) с ярко иллюстрированными страницами, посвящен-
ными моде, и публикациями коротких литературных произве-
дений в сочетании с советами хозяйкам дома довел свой тираж
до 58 тыс. экземпляров [14].
Периодически предпринимались попытки расширить тема-
тику подобных журналов и обогатить их содержание, публикуя
материалы в защиту женщин и их прав. Амбициозное ежеднев-
ное издание «Голос женщин» (La Voix des femmes) в 1848 г. вы-
ходил в свет в течение трех месяцев. Во времена Третьей Рес-
публики журнал «Право женщин» (Le Droit des femmes) требовал
вновь разрешить разводы и развивать женское образование.
С 1897 по 1903 г. выходил журнал «Фронда» (La Fronde), полно-
стью издаваемый женщинами.
Многие еженедельные иллюстрированные журналы, расцвет
которых начался в период Второй империи (царствование Напо-
леона III), издавались по образцу таких английских журналов, как
406
МАРТИН ЛАЙОНС
Penny Magazine или Illustrated London News. Одним из ярких пред-
ставителей подобных изданий во Франции был еженедельник
«Иллюстрированный журнал» (Le Journal illustre), созданный в
1864 г. Он состоял из 8 страниц в формате ин-фолио, одна или
две из которых были с иллюстрациями. В журнале печатались
виды Парижа, европейские новости, предлагались игры, свет-
ские сплетни и беседы на театральные темы («causerie thftBtrale»).
Тираж одного из номеров этого журнала, полностью составлен-
ный Александром Дюма и проиллюстрированный Гюставом
Доре, достиг 250 тыс. экземпляров (1864) [15]. Подобные еже-
недельные издания, продаваемые в ‘киосках за пять сантимов,
стали неотъемлемой частью массовой городской культуры.
Журнал Les Veillees des chaumieres предназначался только для
женщин, предлагая читательницам, в отличие от своих конку-
рентов, более содержательные и поучительные публикации.
Иногда в нем печатались романы с продолжением. Стоил жур-
нал только пять сантимов. Его издатели не забывали также о силе
воздействия на читательниц крупных иллюстраций мелодрама-
тического характера. В 1879 г. начало публикации романа с про-
должением «Федора-нигилистка» (Fedora la nihiliste) было отме-
чено красочной иллюстрацией на всю страницу. На ней был изо-
бражен царь в меховой мантии, восседавший как бог в облаках
с мечом и скипетром в руках. Рядом полуобнаженная фигура по-
трясала сияющим распятием. Внизу распростерся пронзенный
мечом человек в маске с дымящимся револьвером в руке. Спра-
шивается, каким образом Федора могла убить монарха, находя-
щегося под божественным покровительством?..
Журнал Les Veillees des chaumieres верстался в две колонки, раз-
рядка применялась только в подзаголовках. Но лишь в XX в. ил-
люстрированные журналы для женщин оценят преимущества раз-
дробленного расположения текста на странице, вперемежку с ре-
кламой, что давало возможность читать его фрагментами. А это
было удобнее, учитывая рабочий ритм современной хозяйки.
Для издателей эпохи Реставрации (1815—1830) женщина была,
прежде всего, читательницей романов. Верде в Париже предлагал
читательницам «собрание лучших французских романов, посвя-
щенных женщинам» («Collection des meilleurs romans fran^ais dedies
aux dames»), а Стелла в Милане — романы «для дам благородного
происхождения» («les dames de qualite»). Такие заверения демон-
ГЛАВА 12
407
стрировали респектабельность, стремление завоевать как покупа-
телей мужчин, так и женщин, которые в предлагаемых изданиях
не найдут ничего, что могло бы оскорбить их деликатные чувства.
Эти издания нашли собственную нишу на книжном рынке, что
способствовало зарождению женской субкультуры. Но вопреки
ожиданиям объем продаж падал, и в 1830-х гг. их выпуск был пре-
кращен. И тем не менее, эти собрания, о которых больше говорит
состав их читателей, чем содержательное наполнение, были на-
стоящим новшеством для общества того времени.
Стендаль в своих письмах подчеркивал значение для творче-
ства романиста, особенно в провинции, внимания читательниц:
«В провинции совсем немного женщин, которые прочитывают по
пять или шесть томов в месяц; многие читают по пятнадцать или
двадцать; и вы не найдете маленького городка, в котором не было
бы двух или трех кабинетов чтения» [16].
Если горничные, сообщает он, читали произведения таких
авторов, как Поль де Кок, издававшиеся форматом в одну две-
надцатую печатного листа, то завсегдатайницы салонов («fem-
mes de salon») предпочитали более солидные издания в формате
ин-октавио, указывавшем, к тому же, и на более качественную
литературу.
Несмотря на то что читательницами романов были не только
женщины, выпускавшие их издатели ориентировались, прежде
всего, на читательниц, особенно когда речь шла о популярных
и сентиментальных романах. Явное преобладание женщин среди
читателей романов, казалось, подтверждало бытовавшее преду-
беждение о роли женщины в обществе и ее интеллекте. На этом
основании роман относили к женской литературе, потому что в
женщинах видели интеллектуально ограниченных, фривольных
созданий, полных фантазий и одновременно находящихся в
плену у своих переживаний [17]. Роман противопоставлялся об-
разовательной литературе, так как предъявлял невысокие тре-
бования к своим читателям, а его предназначение заключалось
в развлечении тех, у кого было много свободного времени.
А главное — он уводил в царство грез. Мужским чтением счи-
тались газеты, отчеты о событиях, происходивших в обществе.
Романы же, в которых описывался, главным образом, внутрен-
408
МАРТИН ЛАЙОНС
ний мир, больше воссоздавали частную жизнь, которой был огра-
ничен мир представительниц буржуазных семей XIX в. Чтение
романов женщинами было небезопасно для мужей и отцов бур-
жуазных семейств, так как могло возбудить нежелательные стра-
сти, экзальтировать женское воображение. Оно могло стать при-
чиной неразумных сентиментальных ожиданий, возникновения
эротических эмоций, что угрожало нравственной чистоте и по-
рядочности нравов. Таким образом роман XIX в. ассоциировался
с большим соответствием женской натуре, с чертами иррацио-
нальности в ее характере. Не случайнр, супружеская неверность
женщин стала одной из основных тем романов и причин вос-
создания образов их героинь от Эммы Бовари до Анны Карени-
ной и Эффи Брист.
Преждевременное чтение романов детьми могло представлять
угрозу для их неокрепших целомудренных душ. О подобном
вреде, который был нанесен маленькой чувствительной девочке,
рассказала одна из читательниц. Шарлотте Элизабетт Браунсон,
дочери пастора Нориджа, было всего семь лет, когда она
в полном неведении наткнулась на «Венецианского купца»
(Те Marchand de Venise).
«Я выпила яд, который на несколько лет помутил мой рассудок, —
писала она в 1841 г. — Я упивалась охватившим меня возбуждением;
страницы с легкостью запечатлевались в моей памяти одна за дру-
гой; я провела бессонную ночь из-за роившихся в моей голове па-
губных удовольствий. [...] Действительность, окружавшая меня,
стала бесцветной, почти ненавистной; разговоры, не касавшиеся
писателей, — невыносимыми; я испытывала глубокое презрение к
женщинам, детям, домашним заботам, спасаясь за невидимыми
барьерами в себе самой. [...] Сколько потерянного времени, бес-
плодных занятий, сколько вреда я причинила другим из-за лову-
шек, расставленных в этом романе. Мой рассудок был пуст, мое вос-
приятие людей и вещей — полностью ложными. [...] Родители не
ведают, что творят, когда ради тщеславия, недомыслия или из-за
чрезмерной снисходительности поощряют в маленькой девочке так
называемый вкус к поэзии» [18].
Пережив этот печальный опыт, Шарлотта умоляла других ро-
дителей оберегать своих детей от опасного чтения.
ГЛАВА 12
409
Соблазны сентиментальных романов были с насмешливой
иронией описаны Бриссе в первых сценах его «Кабинета чтения»
(Cabinet de lecture), опубликованного в 1843 г. Горбатая хозяйка
с бородой мадам Бьенеме заявляет писателю:
«Вы заманиваете своих читательниц соблазнительными чувстви-
тельными пассажами, очаровательной неясностью фраз, откровенно
распутными мыслями в вихре страстей, исступленных восторгов и
зажигательных тирад» [19].
В истории, придуманной Бриссе, юная гризетка просит для
чтения после работы роман в готическом стиле: с замками, вы-
сокими башнями и счастливым романтическим концом. Вслед
за ней элегантная замужняя парижанка заявляет, что она устала
от целомудренных и сентиментальных героинь и поэтому пошлет
свою горничную за чем-то более пикантным. Романист сразу же
принимает решение соблазнить обеих: юную гризетку и богатую
парижанку. Роман также является не чем иным, как «предприя-
тием» соблазнения.
Чтение играло важную роль в общении женщин. В то время
как мужчины в кафе и кабаре с газетами в руках говорили о по-
литике, женщины постоянно обменивались романами и книгами
прикладного характера, полезными в хозяйстве. Писатель —
житель Бордо, отмечал в 1850 г.:
«Сегодня общество разделено на две большие части: одну пред-
ставляют мужчины, которые играют и курят, другую — женщины
и девушки, чья жизнь проходит за чтением романов и музициро-
ванием» [20].
Нередко женским чтением руководили мужчины. В некото-
рых католических семьях женщинам запрещалось читать перио-
дические издания. Чаще всего в семье их читал вслух мужчина,
что подчеркивало его моральное превосходство и право выби-
рать по своему усмотрению наиболее подходящие отрывки из
текста и опускать, как цензор, другие. Тематически «территория»
газеты была разделена на женскую и мужскую в зависимости от
склонностей. Мужчин больше интересовали политические и
спортивные новости. Женщины в первую очередь обращались к
410
МАРТИН ЛАЙОНС
рубрикам, посвященным происшествиям, и разделам, в которых
печатались романы с продолжением. Роман с продолжением был
ежедневной темой обсуждения среди женщин. Многие после по-
лучения газеты с очередным продолжением романа сразу же вы-
резали страницы, на которых он был опубликован, чтобы под-
клеить их к предыдущим или переплести. Такие импровизиро-
ванные книги ходили по рукам в женском кругу. Родившаяся
в 1900 г. дочь сапожника (департамент Воклюз) рассказывала:
«Из газеты я вырезала и переплетала страницы с очередным про-
должением романа. Подобные “книги” женщины затем переда-
вали друг другу для чтения. Вечерами по субботам мужчины
отправлялись в кафе, а к нам приходили женщины играть в карты.
Начинался обмен самодельными изданиями с романами. Особенно
охотно обменивались романами «Рокамболь» (Rocambole) и «Раз-
носчица хлеба» (Porteuse du pain) [21].
Таким образом, женщины, которые, может быть, ни разу в
жизни не купили ни одной книги, собирали свои собственные
библиотеки из вырезанных страниц с текстами романов, которые
затем обсуждались и передавались друг другу для чтения.
Все историки, беседовавшие в исследовательских целях (до
1914 г.) с женщинами из рабочей среды, отмечали их одинако-
вую реакцию на вопросы о занятии ими чтением. На предложе-
ние вспомнить, что они читали на протяжении своей жизни,
женщины, как правило, начинали с утверждения, что у них не
было времени для чтения: «Я всегда была слишком занята» или
«Моя мама никогда не сидела без дела». В ответах этих женщин
чистка картофеля, шитье, выпечка хлеба и приготовление мыла
совсем не оставляли времени для досуга. Они даже подчерки-
вали, что в детстве их бы наказали, застав за чтением, так как
важнее всего было выполнение домашних обязанностей, а чте-
ние могло быть расценено как пренебрежение ими. Казалось, в
их понимании идеализированный образ хорошей матери семей-
ства был несовместим с чтением.
И все-таки женщины в рабочих семьях, как выяснили бесе-
довавшие с ними исследователи, читали (иллюстрированные
журналы, романы, рецепты, учебные пособия по кройке и
шитью). Но они упорно продолжали неодобрительно отзываться
ГЛАВА 12
411
о чтении. Нередко о прочитанных романах они говорили:
«Хорош для мусорной корзины» или «Глупые вещи». Чтению
был вынесен приговор — трата времени, т. е. занятие, отрываю-
щее от настоящего труда. Эти женщины, беседовали ли с ними
во Франции (Anne-Marie Thiesse) или в Австралийском Сиднее
(Lyons, Taska), не хотели признавать своих достижений в обла-
сти чтения и культуры [22]. Они принимали уготованную им
роль матери семейства, интеллектуально уступающую мужчине
и, следовательно, ограниченную в выборе чтения. Те же, кто не
хотел мириться с принятыми стереотипами, читали тайком: для
них чтение книги было «тайным удовольствием».
Но были девушки, боровшиеся за свою независимость жен-
щины и читательницы. Например, Маргарет Пенн в автобио-
графическом сочинении, опубликованном в 1847 г. под назва-
нием «Четырнадцать миль от Манчестера» (Manchester Fourteen
Miles), рассказывает о своем детстве, проведенном в одном из го-
родов Северной Англии (1909), расположенном недалеко от
Манчестера.
Родители Маргарет или, точнее, Хильды — так она сама себя
называла — были очень набожными методистами, не умевшими
читать. Хильда читала им вслух Библию и приходящую почту.
К одиннадцати или двенадцати годам она стала брать в местной
общественной библиотеке небольшие по содержанию романы.
Ее родители считали, что она должна читать только Библию,
и были против чтения других книг, в том числе принесенных из
воскресной школы. Причем они разрешали ей читать только по
воскресеньям.
Но Хильде удалось убедить местного викария одобрить ее
увлечение книгами, которые она брала домой из общественной
библиотеки. Так Хильда смогла прочитать «Робинзона Крузо» и
«Tess d’Uberville», чем вызвала большое недовольство родителей.
Они были настроены и против ее любви к East Lynne, одной из
наиболее популярных мелодрам викторианской эпохи. Но ро-
дители вынуждены были смириться с увлечением дочери и под-
чиниться авторитету викария. Правда, мать продолжала с на-
стороженностью относиться к любой книге, которую Хильда не
читала вслух. К тому же, повзрослев, дочь отказалась остаться
дома с родителями и в 13 лет уехала в Манчестер учиться на порт-
ниху. Таким образом, в детстве ей всячески мешали предаваться
412
МАРТИН ЛАЙОНС
любимому занятию — чтению, которое родители считали «заня-
тием лентяйки» («lectures de paresseuse»), разрешая читать только
религиозные издания. Ее вина усугублялась еще и тем, что она
была девочкой и, следовательно, не должна была думать об учебе.
Отец считал, что именно из-за книг она отказалась от предна-
чертанной ей судьбы. И, может быть, он был прав, связывая
стремление дочери к независимости с чтением книг. Но чтение
в данном случае было только симптомом, а не причиной воз-
никновения у Хильды желания стать свободной.
Женщины — представительницы крупной и мелкой бур-
жуазии — редко сталкивались с подобными препятствиями.
Если у них не было средств для регулярного приобретения книг,
они брали их по абонементу в публичных библиотеках, что
было особенно распространено в крупных городах. В провин-
ции же среди пользователей сети народных библиотек, создан-
ных Обществом им. Франклина (5ос1ё1ё Franklin) в конце Вто-
рой империи, женщины представляли очень незначительную
часть. В Сете в 1872 г. мужчины составляли 94% записавшихся
в библиотеки, в По — 80%, в Руане в 1868 г. их было 88%. Но
в Париже в 1880—1890-х гг. число женщин, записавшихся в
окружные библиотеки, было значительно выше: около 50% —
в первом округе (Лувр) и в восьмом округе (предместье Сент-
Оноре), а также около 30% — в Батиньоле [23]. Большинство
из записавшихся были не работающими (в регистрационных
книгах они указаны как «хозяйки» («proprietaires») или «рантье»
(«rentieres»). По настоянию именно этих категорий читательниц
библиотекари пополняли фонды романами и литературой, уво-
дящей от действительности.
Никогда прежде женскому чтению не уделялось столько вни-
мания романистами, издателями, библиотекарями и родителями,
пытавшимися помешать своим дочерям напрасно тратить время
на чтение или оградить их от опасности ухода в мир фантазий
или эротических эмоций. Все чаще на страницах книг и на кар-
тинах художников стал воссоздаваться образ читательницы.
К этой теме неоднократно обращались в своем творчестве такие
художники, как Мане, Домье, Уистлер, Фантен-Латур. На по-
лотнах последнего — читательница, всегда в одиночестве, пол-
ностью погружена в чтение — журнал в розовой обложке («Порт-
рет Виктории Дюбур», 1873). Уистлер, напротив, никогда не при-
ГЛАВА 12
413
давал книге такого значения. Он изобразил свою сводную сестру
читающей ночью при свете лампы, рядом с которой была вы-
писана чашка кофе, отразив таким образом чтение в модном для
того времени буржуазном его понимании (Reading by Lamplight,
1858). Но чаще всего на его картинах читательницы — в непри-
нужденных позах, как на полотне «Сиеста» (The Siesta): его су-
пруга с книгой, лежащая на кровати.
Мане в своем творчестве воссоздавал образы читающих муж-
чин и женщин очень по-разному. Артиста Жозефа Галля в образе
читателя он воссоздал в манере автопортрета Тинторетто. На кар-
тине «Любитель чтения» (Liseur, 1861) он полностью погружен в
чтение большого и тяжелого тома и напоминает отца семейства,
захваченного серьезным чтением научного труда. Но совсем дру-
гое, современное видение читательницы отражает его картина
«Чтение иллюстрированного журнала» (Lecture de I’lllustre, 1879):
сидящая на террасе кафе элегантная девушка листает страницы ил-
люстрированного журнала. Ее лицо совершенно не сосредото-
чено: она читает только для своего удовольствия, одновременно
наблюдая за уличными сценками. Здесь мы недалеки от стерео-
типного восприятия женщины как вечной потребительницы лег-
ких, ничего не значащих и сентиментальных изданий.
Реалист Бонвен писал крестьянок, монахинь и служанок,
молчаливо склонившихся над толстыми иллюстрированными
изданиями в формате ин-кварто. Нередко по таким деталям, как
засученные рукава, не снятый фартук или головной убор, мы
видим, что они оторвались от своего повседневного труда, чтобы
улучить минутку для чтения: «Читающая женщина» (Femme lisant,
1861) и «Чтение» (La Lecture, 1852). Влияние голландских ма-
стеров чувствуется в манере воспроизведения толстой ткани
одежды, в распределении темных и светлых тонов. Стилю Бон-
вена присущи все качества репортажа. Своих читательниц из
нижних слоев он нередко изображает со спины, словно, воссоз-
давая их образы, он заглядывал им через плечо, чтобы не нару-
шить состояние сосредоточенности, в котором они находились.
В своем творчестве художник стремился верно отразить подме-
ченные и точно схваченные им моменты жизни. Его читатель-
ницы — всегда одни, как на картине «Нескромная служанка» (La
Servante indiscrete, 1871): героиня без разрешения читает почту
своей хозяйки. Как правило, их чтение — это всего лишь пауза
414
МАРТИН ЛАЙОНС
в работе, когда они наедине с собой. Примечательно, что ху-
дожник почти никогда не изображал за чтением мужчин.
Несмотря на то что чтение на картинах Фантен-Латура всегда
присутствовало как неотъемлемая часть общения женщин в бур-
жуазных интерьерах, воссоздаваемый другими художниками
образ читательницы становится все более одиноким. Тем не
менее мастера кисти того времени еще довольно часто отражали
в своем творчестве чтение вслух в мужских компаниях, напри-
мер в кафе или в художественных мастерских.
Обращение художников и писателей к читательнице XIX в.
связано с развитием индивидуального чтения, чтения про себя
и свидетельствует о постепенном уменьшении значения чтения
вслух как символа уходящей эпохи, в которой оно было распро-
странено. Образ читательницы XIX столетия, возможно, вобрал
в себя нечто большее, выражая понимание современниками лич-
ной жизни и ее интимных сторон.
РЕБЕНОК-ЧИТАТЕЛЬ: ОТ ШКОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ДО ЧТЕНИЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Развитие в XIX в. начального образования способствовало уве-
личению числа новых читателей детского возраста. Однако в те-
чение почти всего XIX столетия сеть начальных школ находи-
лась в зачаточном состоянии. Например, только с принятием во
Франции в 1833 г. закона Гизо были заложены основы реаль-
ного развития начального образования, т. е. каждый муниципа-
литет должен был создать начальную школу, но, тем не менее,
это не принесло быстрых результатов. А законы Жюля Ферри
1880-х гг. во Франции и закон об образовании (Education Act) от
1870 г. в Англии способствовали тому, что начальное образова-
ние в этих странах стало действительно всеобщим. Это оказало
большое влияние на развитие чтения и издательскую деятель-
ность. Расцвет, достигнутый в выпуске иллюстрированных жур-
налов и других видов детской литературы, был направлен на ока-
зание помощи семьям в обучении и воспитании детей. Поэтому
школьные учебники как часть этого издательского потока заняли
важное место на книжном рынке, способствуя успеху и благо-
состоянию издательских домов, таких, как «Ашетт» (Hachette).
ГЛАВА 12
415
Создание школ было только полделом. Далее следовало убе-
дить взрослых отправить в них учиться детей. В 1836 г. в де-
партаменте Дордонь только 8% детей пошли в школу. В 1863 г.
в департаменте Вьенна их было только 6% [24]. А во время жатвы
школа (даже если коммуна ею располагала) пустовала. Иссле-
дование, проведенное в 1863 г., показало, что почти четверть
детей в возрасте от 9 до 13 лет никогда не ходили в школу и что
третья часть других посещали ее только шесть месяцев в году
[25]. Эти данные, естественно, имеют отношение только к маль-
чикам.
Оборудование школ было плачевным. Нередко в них не было
ни столов, ни книг. Очень часто они не имели и настоящего учеб-
ного класса. Так, инспекторы Гизо с удивлением узнали, что
школа в Лон-ле-Сонье служила также оружейным магазином и
танцевальным залом [26]. Нередко занятия проводились в доме
учителя, на которых он спрашивал катехизис, возможно, од-
новременно готовя себе еду. Многие помещения школы были
сырыми, плохо проветривались и освещались. В департаменте
Мез инспектор испытал шок, узнав, что жена учителя только что
родила в учебном классе.
Учителя жили на денежные взносы родителей учеников. Со-
бирать их было нелегким делом. Некоторые работали за питание
(стол), что заставляло их искать дополнительный заработок, на-
пример в качестве руководителя хора или могильщика. В Мон-
пелье (1833) в одном классе учились от 100 до 200 человек [27].
В этом причина частого обращения учителей к методам взаимного
обучения: самый старший ученик и, вероятно, самый способный,
назначался классным надзирателем и помощником учителя.
В Англии, как и во Франции, большинство детей из рабочих
семей не имело возможности учиться. И только после введения в
действие законов об образовании {Education Acts) 1870, 1876 и
1880 гг. посещение школы стало обязательным, по крайней мере
для детей в возрасте до 10 лет. Правда, до 1880 г. принятие реше-
ния о наложении штрафа на родителей, не выполнявших эти за-
коны, было передано на усмотрение местных властей. С 14 лет,
как правило, начиналось обучение ремеслу, что требовало, однако,
предварительного взноса, который далеко не все семьи могли себе
позволить. Многие дети бросали школу как только предоставля-
лась возможность стать рассыльным или батраком. Большинству
416
МАРТИН ЛАЙОНС
из них было всего 8 лет. В рабочей среде образование детей всегда
зависело от степени испытываемой семьей нужды.
Том Ман, будущий руководитель тред-юниона (trade-union) и
Рабочей партии, был воспитан в традициях шахтерских семей.
В 1865 г. в возрасте 9 лет он начал работать на шахте, проучив-
шись до этого только три года. Его мать умерла, а отец работал
служащим в конторе на шахте. Оставить школу и пойти рабо-
тать требовалось для поддержания семьи.
В деревне сезонные работы все время мешали регулярному
посещению школы. Еще в 1898 г. английский школьный ин-
спектор Де Сосмарез писал:
«Кроме жатвы, детей посылали копать картошку, собирать зеленый
горошек, хмель, тутовую ягоду, орехи, фрукты, ромашки, и когда
[...] ребенок может заработать 10 шиллингов в неделю, собирая ту-
товую ягоду, ничего удивительного нет в том, что его родители счи-
тают это занятие более полезным, чем битва с грамматическим ана-
лизом» [28].
На севере Англии, где сельскохозяйственные заработки были
выше, проблема с учебой была менее острой.
В Англии действовала система взаимного обучения, в соот-
ветствии с которой обучение чтению осуществлялось в условиях
строгой дисциплины, а также под тщательным религиозным кон-
тролем. Созданные Обществом Британской и иностранной
школы (British and Foreign School Society) учебные заведения с
ланкастерской системой обучения, поддерживаемые протестан-
тами неангликанского направления, были вытеснены англикан-
скими школами с подобной же системой взаимного обучения.
Учителя, представлявшие одну и другую школы, имели довольно
поверхностное образование и считали одной из своих основных
задач подготовку лучших учеников в качестве своих помощни-
ков, большинству из которых не было и 13 лет. Под началом
юных помощников находились от 10 до 20 одноклассников, ко-
торых они должны были организовывать, раздавать им для вы-
полнения упражнения, помогать в учебе и следить за дисципли-
ной. В школах с ланкастерской системой обучения у каждого уче-
ника был свой номер. Ученики входили в класс организованно,
строевым шагом, как солдаты, построенные в шеренги. В 1846 г.
ГЛАВА 12
417
в стране была создана государственная система подготовки учи-
телей, и это позволило постепенно отказаться от практики ис-
пользования учащихся в качестве помощников преподавателей.
Начинающие заучивали буквы, сначала выводя их на по-
верхности из песка, заполнявшего специальные формы. И только
потом они переходили к упражнениям на грифельных досках.
Чтобы избежать расходов на приобретение книг, чтению обучали
с помощью картонных карточек. Разделенные на группы уче-
ники должны были «псалмодить», т. е. произносить слоги, слова
и фразы нараспев, как при монотонном чтении псалмов, что на-
поминало также, по воспоминаниям одного из них, чтение сти-
хотворения [29]. Часами школьники переписывали буквы и
слова. Причем их никогда не просили составить что-нибудь свое.
Дети никогда не обращались к книге. Перед приездом инспек-
тора для проверки их умения читать детей заранее заставляли
учить наизусть экзаменационные тексты, которые будут им пред-
ложены проверяющим. Таким образом, обучение чтению тре-
бовало от учащихся неимоверного терпения и бесконечного вы-
полнения одних и тех же упражнений. Вполне вероятно, что для
многих детей это было настоящим мучением. Такого же мнения
были и реформаторы, которые, как Матью Арнольд, развернули
кампанию за «более гуманное» обучение.
«Чтение — это ключ к ценностям Священного Писания», —
сказал один англиканский священник графства Оксфордшир в
1812 г., подчеркнув перед этим, что обучение письму и арифме-
тике может подтолкнуть деревенских бедняков к мечте о другой
жизни [30]. В школах с системой взаимного обучения даже уроки
математики проводились с религиозным уклоном. Так, в 1838 г.
Центральное общество в области образования (Central Society for
Education) рекомендовало учителям предлагать учащимся задачи
следующего содержания:
«Апостолов было 12, патриархов — 10 и евангелистов — 4. Требу-
ется умножить патриархов на апостолов и разделить на евангелис-
тов» [31].
Обучение чтению также должно было сочетаться с религией
и продолжать внушать провомерность социальной иерархии и
необходимость подчиняться ей. Т. В. Macaulay писал в 1847 г.:
418
МАРТИН ЛАЙОНС
«Государственный деятель может видеть, что сельское население так
же мало культурно и мало образовано, как и жители Новой Гви-
неи, и с дрожью сознает, что крестьянское восстание может вспых-
нуть в любой момент» [32].
В деревенских школах семилетних девочек били, если они
не сделали реверанс перед женой сквайра или викария [33].
Школы с системой взаимного обучения стремились к массо-
вому обучению грамоте еще и для того, чтобы внушить населе-
нию необходимость повиновения существующему обществен-
ному порядку и подчинения трудовой дисциплине, принятой в
обществе XIX в. Но им это не всегда удавалось.
Воскресные школы в рабочих кварталах восточного Лондона
чаще посещались по сравнению со школами с системой взаим-
ного обучения, потому что плата за учебу в них была ниже. Эти
школы хорошо знали жители, так как они являлись неотъемле-
мой частью жизни квартала. То же можно сказать о детских шко-
лах, которые женщины организовывали в своих домах для обу-
чения детей основам чтения и письма, не придерживаясь при
этом никакой системы преподавания, что давало местным вла-
стям основание воспринимать их как обычные детские сады.
Преподавание религиозных предметов в подобных учебных за-
ведениях было почти полностью исключено. Несмотря на уси-
лия, предпринимавшиеся руководителями, школы с системой
взаимного обучения не использовали свои возможности в пол-
ном объеме. В качестве примера можно привести школу Бетнала
Грина, использовавшую в начале 1820-х гг. только 21% своего
потенциала. В 1812 г. 20% бедных жителей Спиталфилда при-
знали, что не придерживаются никакой веры. Только у половины
из них была Библия [34].
В XIX в. в протестантских странах многие учились читать и
писать по Библии. Но потребность в педагогической литературе
светского характера все больше возрастала. И издатели не за-
медлили ее удовлетворить.
Во Франции в этот период для обучения детей рекомедова-
лись произведения авторов XVII—XVIII вв. Поэтому в первой
половине XIX в. «Басни» Лафонтена на книжном рынке образо-
вательной литературы занимали первое место: с 1816 по 1850 г.
в «Библиографии Франции» (Bibliographic de la France) было от-
ГЛАВА 12
419
ражено не менее 240 изданий этих «Басен» общим тиражом в
750 тыс. экземпляров [35].
«Робинзон Крузо» также был везде очень популярен: появля-
лись разнообразные издательские версии, в том числе адапти-
рованные для разных возрастных групп читателей. То же самое
происходило с «Естественной историей» (Histoire naturelle) Бюф-
фона, издававшейся в сокращенных вариантах под названиями:
Petit Buffon и Buffon des enfants. Изданное в 1788 г. и быстро рас-
ходившееся «Путешествие юного Анахарсиса в Грецию» (Voyage
du jeune Anacharsis en Grece) аббата Бартелеми знакомило юных
читателей с греческой цивилизацией. Автор, историк Античного
мира и знаток древних языков, хорошо знал историка искусства
Винкельмана и был также известным нумизматом. Описание ро-
мантического путешествия юного героя предоставляло возмож-
ность читателям познакомиться с искусством, религией и нау-
кой Греции в эпоху правления Филиппа Македонского. Путе-
шествуя по островам, он беседует с философами и узнает о мно-
гих греческих институтах. Книга издавалась и в сокращенной
версии, достигнув наибольшей популярности в 1820-х гг.
Возникновению и расцвету издательского производства дет-
ской литературы во многом способствовала концепция, которую
Филипп Арие назвал «обретение детства» («invention de Геп-
fance»). В ней детство и отрочество определялись как два особых
периода жизни со своими трудностями и потребностями. Но
даже если в первой половине XIX в. признавалось, что у ребенка
могут быть особые, свойственные ему потребности, то это дела-
лось, в основном, для того, чтобы навязать ему выполнение са-
мого обычного свода моральных правил. Что касается детской
литературы того периода, то ее преобладающая часть была пред-
ставлена изданиями дидактического характера.
С 1816 по 1850 г. 80 раз издается «Мораль в действии» (La
Morale en action) Беранже (позднее она также некоторое время
регулярно переиздавалась: с 1810 по 1899 г. амьенское издание
Карона было переиздано 137 раз. Адаптированная для средней
школы версия выходила с подзаголовком «Памятные события и
поучительные истории» (Faits memorabies et anecdotes instructives).
«Мораль в действии» представляла собой компиляцию неболь-
ших сказок на моральные темы, персонажами которых были в
основном дети. Чтобы сильнее увлечь юных читателей, действие
420
МАРТИН ЛАЙОНС
сказок, как правило, разворачивалось в экзотическом окруже-
нии. Во всех сюжетах мораль побеждала, и истории счастливо
завершались. Причем проповедуемые в сказках нравственные
принципы отличались особо добродетельным характером: доб-
ротой к животным, храбростью, мужеством, порядочностью и
верностью. Жадность и страсть к игре разоблачались, а значе-
ние семейных уз и солидарности особенно подчеркивалось, как
и в большей части произведений того времени. Персонажами
многих историй «Морали в действии» были богатые торговцы,
благие дела которых одобрялись. Показное же богатство и карье-
ризм непременно осуждались. В книге проповедовались извест-
ные традиционные истины, перенесенные на буржуазную почву,
в которой католицизму отводилась скромная роль.
Начало активного развития еще одного направления в изда-
нии детской литературы было связано с любовью детей к фан-
тастике, волшебству, особенно сильно проявляющейся к вол-
шебным сказкам (contes de fees). Авторы и издатели не преми-
нули этим воспользоваться. Они без конца их переделывали, со-
кращали, чтобы адаптировать для читателей разного возраста с
учетом особенностей их нравственного воспитания. Что касается
авторства самих сказок в строгом смысле слова, то оно, по су-
ществу, отсутствовало, так как сказки создавались на основе си-
стемы сложных связей, существующих между большой литера-
турой и традиционным устным творчеством, включая заимство-
вание и взаимопроникновение. Все знают эти сказки, но не-
редко в разной интерпретации. В романтическом XIX в.
народные сказки, возникшие в среде крестьян, получили назва-
ние «волшебные сказки», чтобы подчеркнуть их принадлежность
к детской и юношеской литературе. Как и многие другие заим-
ствования из устного народного творчества, они были «инфан-
тилизированы». Таким образом, детей, с точки зрения их пред-
почтений, можно было назвать «крестьянами» нового времени.
Сказки Шарля Перро также основаны на обращении к боль-
шой литературе и источникам устного народного творчества. Но
они переработаны им в соответствии с моралью своего времени
и требованиями приличия, что повлекло и устранение всех не-
пристойностей, грубости, а также открытых сексуальных прояв-
лений, которые могли бы шокировать добропорядочное обще-
ство XVII в. Этот процесс изменения содержания продолжился
ГЛАВА 12
421
и в XIX в. Издатели не переставали лишать волшебные сказки их
остроты, постоянно «подслащивая». Так, к концу XIX в. вто-
рая часть сказки «Спящая красавица» (La Belle аи bois dormant),
в которой появлялся людоед, нередко совсем отсутствовала.
И это делалось для того, чтобы в конце принц мог жениться на
красавице.
С «Красной Шапочкой» (Le Petit Chaperon rouge) у защитни-
ков морали также всегда возникали проблемы: ведь ее можно
было интерпретировать как своего рода предостережение. По-
следователи Фрейда тоже увидели в сказке своеобразный спо-
соб предупреждения девочек об опасности эротических соблаз-
нов, которыми так хорошо умеют пользоваться эти «сексуаль-
ные хищники» — волки. В то же время «Красная Шапочка» —
это единственная сказка Перро, у которой несчастливый конец.
Уже в XVII в. в некоторых народных версиях этой сказки ее за-
ключительная часть была изменена, и она завершалась наказа-
нием волка. У братьев Гримм, например, это произошло благо-
даря отеческому вмешательству дружелюбного дровосека, од-
ного из любимых персонажей их сказок. Не только в этой, но и
во многих других сказках, заключительная часть нередко рету-
шировалась, изменялась к лучшему. Сказки Перро продолжали
жить, но не всегда в своих первоначальных версиях. В народе
они пересказывались тоже в разных вариантах. Из всех воспро-
изводимых устно историй о Красной Шапочке, которые удалось
собрать фольклористам XIX и XX вв., только у семи из 35 (речь
идет о французских вариантах) был счастливый конец [36]. На-
чиная с 1888 г. сказка Перро все чаще пересказывается. В дан-
ном случае можно говорить о ее существовании в устном вари-
анте, чему способствовало и разрешение включать ее в школь-
ные программы для чтения в начальной школе. Таким образом,
волшебная сказка как результат устного народного творчества,
но в литературной обработке, еще раз оказала влияние на то, что
сохранилось от народной культуры в этой области.
Братья Гримм, чьи первые книги были опубликованы в 1812 г.,
тоже уверяли, что при написании сказок их во многом вдохнов-
ляло устное народное творчество, в частности крестьян. Своими
сказками они хотели поддержать стремление населения Герма-
нии обрести свою самобытную культуру и создать национальную
литературу. В то же время источники, которые они использовали,
422
МАРТИН ЛАЙОНС
не были ни исключительно крестьянскими, ни исключительно
немецкими: их вдохновению особенно способствовало общение
в гессенской среде (земля Гессен), которую составляли в основ-
ном потомки французских гугенотов, знавшие сказки Перро.
Создавая книгу сказок, братья Гримм пытались, прежде
всего, смягчить конфликт отцов и детей. Они считали неприем-
лемым, что Ханзель и Гретель были выгнаны из родительского
дома собственными родителями. Поэтому, создавая свою
сказку, они начали с того, что сделали симпатичным образ отца,
а в четвертом издании книги сказок (1840) персонаж матери был
заменен персонажем мачехи. Таким образом, авторы отказались
от воссоздания в своих произведениях отрицательных образов
родителей.
Из их антологии исчезли также истории, в которых преступ-
ления не наказываются, а вознаграждаются, как, например, в
сказке «Кот в сапогах» (Le Chat botte). Это не помешало авторам
активно использовать клише из подобных сказок: дружелюбные
охотники, очаровательные принцессы, феи, населяющие сла-
щавый предсказуемый мир. В то же время злодеи стали нести
более суровые наказания. Так, Румплестилтскин (Rumplestilt-
skin) не спасается бегством на ложке, а умирает насильственной
смертью. Братья Гримм считали необходимым усилить в своих
сказках значение нравственных принципов и семейных ценно-
стей. Они ввели в них и религиозные мотивы. В версии их сказки
Ханзель и Гретель, чтобы избежать угрожающей им опасности,
не полагаются только на свою находчивость и обращаются за по-
мощью к Богу. В пятом издании книги сказок (1843) даже под-
черкивается, что злая колдунья не верила в Бога [37].
Братья Гримм стали известны и как открыватели богатств на-
циональной литературы. Они были талантливыми интерпрета-
торами ценного наследия прошлого, например, рассказов и ска-
зок, делая их доступными для детей. Но они адаптировали
и собственные произведения, перерабатывая их от издания к из-
данию. Волшебные сказки как результат народного творчества
никогда не принимали раз и навсегда застывшие формы и со-
держание. Они всегда представляли собой собрание историй
с собственной динамикой, открытые для ассимиляции, измене-
ний, что тотчас же происходило, как только появлялись новые
издатели, новые веяния, новые ожидания читателей.
ГЛАВА 12
423
Прогресс в области литографии предоставил издателям бук-
варей больше возможностей для нововведений (исследование Се-
голен Ле Мен) [38]. Эти издания для начинающих овладевать
грамотой предназначались, в первую очередь, для использования
в семейном кругу. Яркая иллюстрация на одной из обложек по-
добного издания наглядно подтверждает это: обступившие маму
маленькие дети учат алфавит (но, несмотря на эту издательскую
пропаганду семейного обучения чтению, оно все больше пере-
мещалось в школы). Методики обучения, на основании которых
были составлены хорошо проиллюстрированные буквари, пред-
лагали овладевать знаниями в соответствии с принципами по-
следовательности: ребенок начинает с буквы «А», а затем посте-
пенно все упражнения и примеры приводят его к заключитель-
ной букве «Z». Как и в школе, он начинает учиться распознавать
каждую букву, затем различать слоги и, наконец, — слова. Яркие
иллюстрации помогали закреплять пройденный урок и прове-
рять усвоение ребенком приобретенных знаний. Таким образом,
иллюстрации играли важную роль в процессе запоминания.
Иногда картинка сопровождала текст, делая его более доходчи-
вым. Уже в то время существовавшие разнообразные технические
приемы давали возможность печатать текст прямо на иллюстра-
ции, или же буквы могли быть представлены в форме одного или
нескольких изображений: чтобы больше увлечь ребенка, им при-
давались очертания человеческих фигурок, которые танцевали,
сгибались или падали на свое место в алфавите.
Появились периодические издания для детей более старшего
возраста. В 1857 г. издательство «Ашетт» (Hachette) начало выпу-
скать «Детскую неделю» (La Semaine des enfants) стоимостью
10 сантимов за номер из восьми страниц. Здесь печатались романы
с продолжением графини де Сегюр. В 1864 г. Гетцель создает «Об-
разовательный и развлекательный иллюстрированный журнал»
(Le Magasin d’education et de recreation»), состоявший из 32 страниц
и стоивший 15 сантимов, которому принадлежало первенство
в публикации новых романов Жюля Верна. С 1864 по 1915 г. этот
журнал выходил два раза в месяц. Его редакторы стремились оста-
ваться на нейтральных позициях при подготовке материалов, осо-
бенно политического и религиозного характера. Однако темы
семьи, ее сплоченности, как и непоказного патриотизма, присут-
ствовали постоянно. Одним из способов привлечения журналом
424
МАРТИН ЛАЙОНС
читателей-буржуа являлось размещение публикаций, содержав-
ших идеи, которые волновали их и совпадали с их взглядами на
мир. Черпал же издатель эти идеи из произведений Жюля Верна
(они заключали в себе веру в науку, провозглашали такие качества
героев (нередко англосаксонских), как самообладание и хладно-
кровие). Подача материалов носила светский республиканский ха-
рактер, но в социальном плане сохранялась консервативная на-
правленность.
По замыслу Гетцеля журнал выполнял двойное предназначе-
ние: развлекать и просвещать. Тон задавала сама обложка: образ
пухленького младенца в очках и с разрезным ножом (для бумаги)
уже давал понять, что журнал содержит серьезные материалы для
чтения, но они составлены таким образом, что доступны и для
понимания детей. Гетцель лично проявлял заботу об организа-
ции рекламы по поводу публикации романов Жюля Верна. Он
представлял их читателям как серьезные научные издания, под-
тверждающие власть науки, силу внутренних возможностей че-
ловека в его противостоянии мощным проявлениям природы.
Журнал «Необыкновенные путешествия» (Voyages extraordi-
naires) был рассчитан на семейный круг, «на совместное чтение
у камина» [39] и, следовательно, в нем несколько по-иному рас-
крывалось значение образования и педагогики, а также чтения
научной и позитивистской литературы.
Но ни Жюль Верн, ни художники-иллюстраторы его про-
изведений не следовали в полной мере обещаниям и призывам,
содержавшимся в рекламных текстах Гетцеля. Верн, конечно,
освещал научные темы (геология, астрономия, проведение ис-
следований и т. д.), но больше всего он известен как создатель
приключенческих романов для подростков. В его произведениях
воображаемое и приключенческое всегда доминируют над педа-
гогической и научной направленностью. Этим, по Изабелль Ян
(Isabelle Jan), и объясняется глубокое непонимание, лежавшее
в основе отношений между Верном и Гетцелем [40].
Несовпадение устремлений обеих личностей еще отчетливее
проступает при внимательном рассмотрении иллюстраций в
Le Magasin d’education et de recreation. Гравюры Беннета и Риу —
художников-иллюстраторов романов Жюля Верна — составляли
неотъемлемую часть этого иллюстрированного журнала, как и
последующих изданий. В своих гравюрах художники всегда ак-
ГЛАВА 12
425
центировали внимание на перипетиях романа, а также на всем,
что связано с необычным, невероятным в описаниях Верном
природных явлений, причем всегда очень точных. Нередко
в одних гравюрах они высвечивали центр композиции, подчер-
кивая детали первого плана. Изображениями в других они, на-
оборот, погружали читателя в глубинный смысл явлений, пол-
ных загадок и тайн. Такой подход свидетельствует о стремлении
иллюстраторов с помощью художественных приемов больше рас-
сказать о нереальном, воображаемом, чем о достоинствах про-
изведения в педагогическом плане. Риу умел почувствовать и
отобразить описанные Верном бури, штормы, пучины и водо-
вороты, не делая при этом из своих иллюстраций наглядных по-
собий для урока географии. Его гравюры не демонстрировали
господство человека над природой, а говорили скорее о его без-
защитности и хрупкости перед ее грозными проявлениями.
Можно предположить, что больше внимания в них акцентиро-
валось на ценности таких человеческих качеств героев Жюля
Верна, как хладнокровие и самообладание. Как бы то ни было,
но иллюстрации этого художника помогали подросткам раскрыть
другой смысл в произведениях Жюля Верна, по сравнению с ан-
нексировавшимся в рекламах Гетцеля. Если Риу приглашал
юных читателей видеть в романе Верна только приключение, то
Гетцель в своей рекламе заманивал читателей достоинствами
более утилитарного характера, делая основную ставку на взрос-
лых, которые к тому же были в состоянии оплачивать подписку
на издаваемые им периодические издания.
ТРУДЯЩИЕСЯ: НАВЯЗЫВАЕМОЕ ЧТЕНИЕ, ЧТЕНИЕ ДЛЯ СЕБЯ
Новые читатели XIX в., в основном, из среды мелкой буржуа-
зии, ремесленников и мелких служащих, были заинтересованы
в улучшении своего социального положения и составляли боль-
шую часть пользователей почти всех абонементных библиотек*.
Самая развитая сеть публичных абонементных библиотек была
в Великобритании: принятый в 1850 г. закон обязывал муници-
пальные советы направлять часть финансовых средств, получае-
мых от сбора местных налогов, на субсидирование библиотек. Это
способствовало возникновению децентрализованной сети муни-
426
МАРТИН ЛАЙОНС
’ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НАРОДНЫХ БИБЛИОТЕК ПАРИЖА
(по профессиональной принадлежности): 1885—1894, %
Рантье, собственники, женщины «без профессии» 24
Коммерсанты, ремесленники, купцы 4,5
Представители свободных профессий, преподаватели 12
Служащие, включая конторских и торговых 31
Консьержи 5
Рабочие 13,25
Военные 8
Художники, артисты 2,25
Итого: =100
Источник: М. Lyons, Le Triomphe du livre («Триумф книги»), op. cit., p. 187
ципальных библиотек, насчитывавшей в 1908 г. 533 библиотеч-
ных учреждения. В 1902 г. город Лидс с населением в 400 тыс. че-
ловек мог похвастаться центральной библиотекой и ее 14 район-
ными филиалами, работавшими ежедневно. Библиотека распо-
лагала отделом абонемента и залом для чтения газет и журналов.
Быстрота, с которой в Великобритании развивалась эта библио-
течная сеть, объясняется высокой плотностью городского насе-
ления и децентрализованной системой административного управ-
ления, единственной в Европе [41].
Деятельность публичных абонементных библиотек была на-
правлена на решение политических задач. Большое внима-
ние уделялось вопросам филантропии. Как и школы при заво-
дах, публичные библиотеки служили инструментом социального
контроля, с помощью которого «благоразумная элита» трудя-
щихся масс приобщалась и затем приучалась разделять цен-
ности правящего класса. Открывая в 1852 г. публичную библио-
теку в Манчестере, Чарлз Диккенс в своем выступлении отме-
тил, что в подобных учреждениях он видит гарантов социальной
гармонии. Писатель услышал, как один из рабочих
со свойственными ему и его товарищам волнением и твердостью,
идущих из глубины сердца, сказал, что он знает, что книги в этой
библиотеке предназначены для него и что они придадут ему силы
в разгар борьбы и во время жизненных испытаний, повысят его в
собственных глазах. Из этих книг он узнает, что капитал и труд —
не враги, что они зависят друг от друга и взаимно дополняют
(«Браво», «Браво» и аплодисменты). Книги позволят ему прозреть и
ГЛАВА 12
427
отбросить предрассудки, ложные идеи, все, что не является истин-
ным, обратив их в пыль (аплодисменты) [42].
Диккенсу также было известно, что читатели из рабочих
проявляли недовольство, строптивость и упрямство, если биб-
лиотеки навязывали им нравоучительную и назидательную ли-
тературу. Поэтому в Великобритании и во Франции абонемент-
ные библиотеки не справлялись с задачами привлечения в них
рабочих. Эти учреждения охотно посещали женщины, студенты
и служащие, которые настойчиво требовали литературу, уводя-
щую от действительности, а не издания прикладного и образо-
вательного характера.
В то же время значительная часть рабочих испытывала на-
стоятельную потребность в образовании, не принимая предла-
гаемые им возможности культурного развития через «пичканье»
их историей религии и античной мифологией. В 1862 г. группа
рабочих, специализирующихся на изготовлении изделий из
бронзы, посетила Лондонскую выставку (Exposition de Londres).
Они высказывали сожаление, что мастера пластического искусства
в своем творчестве слишком часто обращаются к мифологическим
и аллегорическим сюжетам, к любовным историям богов и героев,
«выявляя и отображая почти всегда такие качества, как хитрость,
коварство, сила...». «История Франции, — говорили они, — бога-
та сюжетами, которые могли бы способствовать интеллектуаль-
ному развитию обычного французского жителя» [43].
Буржуазные реформаторы, занимавшиеся библиотеками, по-
прежнему не переставали настойчиво рекомендовать читателям
из рабочей среды классическую литературу. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует основной список рекомендуемых изданий,
составленный в 1857 г. Агриколем Пердигье для рабочей биб-
лиотеки [44]: в него включены Библия, произведения Виргилия
и Гомера, Фенелона, Корнеля, Мольера, Расина и Лафонтена.
Подобный выбор мог бы удовлетворить либералов из Общества
им. Франклина. Но в отличие от представителей данного
общества Пердигье все же включил в свой список книги по
истории Французской революции (Histoire de la Revolution
fran^aise), «Парижские тайны» (Les Mysteres de Paris) Эжена Сю,
«Собор Парижской Богоматери» (Notre-Dame de Paris) Гюго,
Le Compagnon du Tour de France Жорж Санд.
428
МАРТИН ЛАЙОНС
Однако читатель из народа, которого нередко снисходительно
называли «большой ребенок», мыслил самостоятельно. Гравер
Жирар создал в третьем округе Парижа народную библиотеку
и пытался вывести ее из-под контроля муниципалитета. В Крезо
в 1869 г. 29-летний рабочий (Dumay) основал «демократичес-
кую библиотеку» («bibliotheque democratique»), которая в этом
же году участвовала в кампании республиканского кандидата,
а в 1870 г. — в кампании, направленной против плебисцита [45].
В 1866 г. были созданы две народные библиотеки в г. Сент-Этьен,
знатные горожане и клерикальная элита которого сразу же попы-
тались взять ее под свой контроль [46]. Библиотечные книги, вы-
даваемые по абонементу, сразу же вызвали скандал, так как авто-
рами многих из них были Вольтер и Руссо, Жорж Санд и Эжен
Сю, обвиненные в пренебрежительном отношении к браку и в
оправдании самоубийств и адюльтера. Рабле тоже был причислен
к опасным авторам вместе с Мишле за его «Колдунью» (La Sor-
ciere), Ренаном за «Жизнь Иисуса» (La Vie de Jesus) и Ламенне за
«Слова верующего» (Paroles d’un croyant). В этих библиотеках по-
читались также Анфантен (Enfantin), Луи Блан, Фурье и Прудон.
Это свидетельствует о стремлении читателей, представлявших ра-
бочий класс, создать свою литературную культуру, свободную от
контроля буржуазии, органов власти или Церкви.
Постепенное сокращение рабочего дня предоставило читате-
лям-рабочим новые возможности для чтения. В Великобритании
в начале века рабочий день длился в основном 14 часов. В 1847 г.,
например в текстильной промышленности, он уже равнялся
10 часам. В 1870-х гг. лондонские ремесленники были заняты, как
правило, 54 часа в неделю. В Германии рабочий день сокращался
медленно, но неуклонно, и после 1870 г. стал равняться 12 часам.
Накануне Первой мировой войны, по данным Статистического
бюро Германской империи (Bureau des statistiques de I’Empire alle-
mand), из 1,25 млн рабочих, чьи условия труда были оговорены в
контрактах, 96% работали менее 10 часов в день, но только у 38%
рабочий день длился менее 9 часов [47]. В сталелитейной про-
мышленности одна бригада сменяла другую после 12 часов работы.
Исходя из этих условий труда, становится ясно, что время для
отдыха использовалось главным образом для восстановления фи-
зических сил. Вот почему все немецкие рабочие, когда их спра-
шивали, как они проводят свой досуг, связывали его с воскре-
ГЛАВА 12
429
сеньем. Они очень любили читать, их излюбленным занятием —
по данным Союза в области социальной политики (Vertin fur
Sozialpolitik) — были прогулки на свежем воздухе.
На привычки в чтении и пользование библиотечным абоне-
ментом большое влияние оказывала степень ежедневной рабо-
чей нагрузки. Например, в Германии зимой количество рабочих,
берущих книги по абонементу, увеличивалось, а летом — умень-
шалось, так как у многих, занятых в разных сферах производ-
ства, зимний рабочий день был короче. В периоды безработицы
рабочие также брали домой больше книг [48].
Социал-демократическая партия Германии, верная лозунгу, вы-
двинутому в 1872 г. Карлом Либкнехтом: «Знание — это власть!
Власть — это знание!» («Le Savoir est le Pouvoir! Le Pouvoir est le Sa-
voir!»), сделала образование рабочих одной из приоритетных своих
задач. Партийная комиссия по образованию предлагала абоне-
ментным библиотекам книги, рекомендованные ею к приобрете-
нию. Комиссия выпускала также брошюры за 10 пфеннигов, об-
легчавшие понимание трудящимися массами драматических про-
изведений и содержание либретто. Но эти издания не пользова-
лись большим успехом.
Владельцы предприятий со своей стороны пытались контро-
лировать и направлять читательские интересы новых читателей-
рабочих. Промышленники на востоке Франции, например,
играли важную роль в создании народных библиотек
на закате Второй империи. В Германии некоторые заводские
библиотеки пользовались удивительным успехом. В одной из
них, созданной на предприятии Рейнской сталелитейной про-
мышленности (Дуйсбург-Мейдерих), количество записавшихся
рабочих увеличилось с 17% в 1908 г. до 47% в 1911 г. В качестве
другого исключительного примера можно привести библиотеку
на предприятии Круппа в Эссене. После создания в 1899 г. ее
фонд в 1909 г. насчитывал 61 тыс. томов. В этом же году биб-
лиотечным абонементом пользовались 50% служащих пред-
приятий Круппа. Наиболее часто брали художественную лите-
ратуру, раздел которой был особенно хорошо подобран [49]. Это
была одна из лучших абонементных библиотек Германии.
Владельцы предприятий и реформисты надеялись, что, пре-
доставляя рабочим «правильную» литературу хорошего содержа-
ния и поощряя их интерес к чтению, им удастся смягчить соци-
430
МАРТИН ЛАЙОНС
альную напряженность. Таким образом они пытались удержать
рабочих от пьянства, отучить их от суеверий и сквернословия и
оградить от чтения опасных изданий социалистической направ-
ленности. С помощью «полезной» литературы, способствующей
рациональному отдыху, они хотели приобщить «наиболее умных»
представителей рабочего класса к буржуазным ценностям. По-
добная либеральная филантропия, казалось, приносила свои
плоды в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. На
наблюдателей, прибывавших из других европейских стран, про-
изводило впечатление видимое отсутствие рабочих волнений,
в частности в графстве Ланкашир в период кризиса, разразив-
шегося в хлопчатобумажной промышленности. Либеральные фи-
лантропы были убеждены, что необходимо действовать именно
в этом направлении, и считали, что публичные библиотеки будут
способствовать укреплению социальной стабильности.
Однако читатели-рабочие были против режима насаждения
им полезной и морализирующей литературы. Так, в рекомен-
дациях по составлению каталога, разработанных Обществом
им. Франклина в 1864 г., предусматривалось комплектование
двух третей библиотечного фонда изданиями назидательно-обу-
чающего характера [50]. В начале XX в. немецкие социал-
демократы предпринимали попытки развивать образование ра-
бочих с помощью библиотечных фондов, укомплектованных
в основном литературой по общественным наукам. Они пола-
гали, что вначале читателей привлекут издания развлекатель-
ного характера, и затем они постепенно перейдут к сочине-
ниям классиков социализма, в первую очередь Каутского,
и дорастут в конце концов до чтения «Капитала». Библиотекарь
из Дрездена Грисбах заявлял, что главная задача библиотекаря,
организующего обслуживание в рабочей среде, заключается
в «развитии читателя, которое начинается с чтения развлека-
тельной литературы и ведет к изданиям нероманического ха-
рактера» [51]. В Великобритании в 1830-е гг. приверженцы ути-
литаризма, например евангелисты, требовали, чтобы рабочим
дали литературу, «которая сделает их лучше». Также с чисто об-
разовательными целями Общество по распространению полез-
ных изданий (Society for the Diffusion of Useful Knowledge) об-
разовало свою «Библиотеку полезного знания» («Bibliotheque du
savoir utile»), фонд которой состоял главным образом из сочи-
ГЛАВА 12
431
нений биографического характера и изданий по естественным
наукам.
Эта наивная, полная оптимизма вера в возможность осу-
ществления таким путем образования рабочих была разбита о
многие трудности, так как почти все читатели из рабочей среды
предпочитали брать только развлекательную литературу.
В 1840-х гг. Общество по распространению полезных изданий
прекратило существование. В Германии, в библиотеках для ра-
бочих, обнаружилась «огромная пропасть» между реальными
предпочтениями читателей и представлениями членов Социал-
демократической партии. Из почти 1,1 млн выданных по абоне-
менту книг, зарегистрированных библиотеками для рабочих в пе-
риод с 1908 по 1914 г., 63% составляла художественная литера-
тура и 10% — детские и юношеские издания (волшебные сказки,
детские сказки и юмористические рассказы). Сходная ситуация
наблюдалась в венской Центральной библиотеке для рабочих, где
в 1909—1910 гг. литературу по общественным наукам брали менее
2% читателей [52].
Во Франции народные читатели также отказывались мириться
с предписаниями библиотекарей. В 1880—1890-х гг. романы со-
ставляли более половины всей книговыдачи муниципальных
библиотек Парижа [53]. Библиотеки, поддерживаемые Обще-
ством им. Франклина, постоянно выражали сожаление, что их
читатели серьезным изданиям предпочитают произведения
Александра Дюма или «Собор Парижской Богоматери» Гюго.
В то же время были рабочие, которые очень хотели стать об-
разованными, независимыми людьми. Р. К. Уэбб полагает, что
до 1870 г. две трети английских рабочих умели читать [54], но
лишь часть из них могла утолить свою жажду знаний в Mecha-
nics’ Institutes, дававших профессиональное и нравственное об-
разование представителям ремесленной элиты.
Все автобиографические сочинения, написанные рабочими
той поры, свидетельствуют об их решимости одержать победу над
бедностью, освободиться от пут материальной несостоятельно-
сти, а также осмыслить окружающий их мир. Томас Вуд, рабо-
чий из графства Йоркшир, когда ему было 16 лет, брал домой за
1 пенни в неделю старый журнал (вышедший 8 дней тому назад)
и читал его при свете очага, так как у него не было денег, чтобы
купить свечу. Примечательно, что журнал, о котором идет речь,
432
МАРТИН ЛАЙОНС
назывался «Северная звезда» (Northern Chart) — печатный орган
самых радикальных представителей чартистского движения.
Уинифред Фолей, мастер на все руки, был избит своей
90-летней хозяйкой за чтение «Хижины дяди Тома» [55]. Максим
Горький, который не был отдан в школу, находил время для чте-
ния несмотря на то, что работал по 14 часов в день в казанской
пекарне (1887). Позднее и другие места своей работы он с иро-
нией назовет «мои университеты».
Томас Купер, сапожник, чартист и лектор, так вспоминал о
своем стремлении к образованию без чьей-либо помощи:
«Я говорил себе, что к 24 годам я должен буду постичь основы ла-
тинского, греческого, древнееврейского и французского языков;
разбираться в Эвклиде и в алгебре; знать наизусть «Потерянный
рай» (Le Paradis perdu) и семь лучших пьес Шекспира; поглотить
объемные, хорошо подтвержденные документально курсы по исто-
рии и христианской теологии и быть в курсе литературных нови-
нок. Это не значит, что я во всем преуспел, но я всей душой от-
дался постижению знаний» [56].
Неудача, которую потерпел Купер в овладении знаниями, за-
служивает самого высокого уважения. Он читал ежедневно, на-
чиная с раннего утра; трех или четырех часов до семи; во время
еды он тоже глядел в лежащую перед ним книгу и продолжал это
занятие вечером, с семи часов и до тех пор, пока в изнеможе-
нии не отрывался от книги. Днем на своем рабочем месте он сам
себе рассказывал прочитанное. В 21 год (в 1828 г.) Купер подо-
рвал свое здоровье и вынужден был в течение нескольких меся-
цев соблюдать постельный режим.
Изобилие в начале XIX в. автобиографических сочинений, на-
писанных рабочими, — своеобразный знак, указывающий на все
более настоятельную потребность в овладении чтением, осмыс-
лении прочитанного и понимании окружающей действительно-
сти теми, кто очень мало учился в школе. Пролетарии же, пи-
савшие мемуары, составляли особую элитную группу. Несмотря
на чрезвычайную сдержанность, многие описывали жестокую
борьбу с трудностями, которую им пришлось вести, чтобы до-
биться успеха в жизни. Некоторые из них стали руководителями
тред-юнионов, другие возглавили объединения журналистов.
ГЛАВА 12
433
В определенной степени их мемуары свидетельствуют о довольно
двойственной идеологии «индивидуального развития» («progres in-
dividuel»), которую продвигали буржуазные мыслители, видевшие
в возрастающей на ее основе социальной мобильности способ раз-
мывания классовых границ.
Буржуазные реформисты были убеждены, что овладение зна-
ниями под силу тому, кто почти свободен от дисциплины. Томас
Купер следовал этому и в конце концов оказался в тюрьме Стаф-
форда в период чартистских волнений 1842 г. Интеллигенция из
рабочих-самоучек только начинала формироваться. На нее легла
огромная задача по разработке и распространению политиче-
ской идеологии рабочего класса. Ее представители были преем-
никами давней традиции чтения серьезной литературы в рабо-
чем мире Англии, обогащенной Милтоном (Milton) и Баньяном
(Bunyan) в XVII в., Пейном (Paine) и Волнеем (Volney), наряду
с другими прогрессивными мыслителями XVIII в.
Чтению в индивидуальном развитии рабочего отводилось
центральное место. Рабочие, авторы мемуаров, дают в них
почти в полном объеме литературу, которая их направляла
в жизни и которой они обязаны своим развитием в области об-
разования. Многие даже подробно описывали программы, ко-
торыми они руководствовались при чтении. Сэмюэл Бамфорд,
ткач из графства Ланкашир, рассказывает, что, когда он открыл
для себя «благословенную привычку читать», он набросился на
издания, которые привели его к политическому милитантизму,
защищавшему парламентскую реформу, в журналистику и, на-
конец, к карьере чтеца (речь идет о публичном чтении поэзии).
«Разве это жизнь, — писал краснодеревщик Джеймс Хопкин-
сон, — если у человека нет ни любимой книги, ни собствен-
ных мыслей, ни счастливых воспоминаний о том, что он со-
вершил, пережил или прочитал» [57].
Усердный поиск и извлечение знаний из книг играли глав-
ную роль в обретении интеллектуальной свободы, на которой ос-
новывалась политическая деятельность. Благодаря такому под-
ходу вырабатывались методология и дисциплина, ставшие воз-
можными также благодаря индивидуальному, нравственному и
рациональному развитию. В 1814 г. молодой текстильщик из
Абердина Вилли Том в свободное время читал Вальтера Скотта,
например роман «Уэверли». «Книги, — писал В. Том, — давали
434
МАРТИН ЛАЙОНС
нам представление (и оно было нам доступно) об истинном,
естественном и рациональном существовании» [58].
У прогрессивных читателей-рабочих были собственные спо-
собы овладения книжными знаниями. Многие, хоть и недолго и
не систематически, учились в школе. Длительному обучению ме-
шали вынужденная потребность зарабатывать на жизнь при пер-
вой же предоставлявшейся возможности или поиск работы вдали
от дома. Большинство из этих читателей были самоучками, кото-
рые самостоятельно постигали основы знаний. «Мой школьный
багаж был очень незначительным, — писал чартист Джон Джеймс
Безер, — я намного большему научился в Нью-Гейте (известная
лондонская тюрьма. — М. Л.), чем в воскресной школе» [59]. Бам-
форд, озаглавив свое автобиографическое сочинение «Жизнь Сэ-
мюэла Бамфорда, описанная им самим» (La Vie de Samuel Bamford
ecritepar lui-meme), хотел таким образом (как и те, кто следовал его
примеру) подчеркнуть свою независимость и исключительность
успехов, достигнутых путем самообразования.
Отношение самоучек к школьному обучению, которого они
были лишены, отличалось изменчивостью: от презрительного до
чрезмерно уважительного. Эта резко выраженная двойствен-
ность проявляется и в автобиографическом произведении Горь-
кого «Мои университеты», в названии которого уже звучит иро-
ния. Автор пишет, что его настоящими учителями были това-
рищи по труду, которые, как и он, зарабатывали себе на жизнь,
нанимаясь к разным хозяевам, проживавшим на берегах Волги.
Среди них были пьяницы-батраки и сборщики фруктов, пекари
и бродяги, скитавшиеся по дорогам России. Образование Горь-
кого продолжилось на подпольных политических собраниях,
которые нередко организовывали студенты, или на выступле-
ниях заезжих ораторов, происходивших в укромных помеще-
ниях или в домах частных владельцев. Здесь он мог многому на-
учиться, в том числе участвуя в дискуссиях. Однако на них Горь-
кий всегда испытывал двойственное чувство: его притягивали
собрания, но и неудержимо влекла Волга:
«[...] чтение Адама Смита меня не вдохновляло; фундаментальные
положения экономической науки вскоре показались мне очень
знакомыми: я постигал их на собственном опыте, о чем свидетель-
ствовали следы на моем теле [...]. Это чтение наводило на меня скуку.
ГЛАВА 12
435
Мне хотелось пойти к татарам, в их слободу, где жизнь этих привет-
ливых и добродушных людей отличалась особой чистотой» [60].
М. Горький упрекал интеллектуалов в романтическом вос-
приятии невежества и нищеты русского народа. Но он не при-
ветствовал и «героическую поэзию повседневной жизни» волж-
ских бурлаков.
Горький понимал, что для образования ему недостаточно уро-
ков, преподносимых его окружением. В 1884 г. в возрасте 20 лет
он направляется в Казань, чтобы поступить в университет, в чем
ему было отказано. Его реакция была следующей: «Я подумал,
что для того, чтобы по-настоящему испытать счастье от учебы в
университете, можно перенести несколько унижений» [61]. И не-
смотря на то что он считал студентов несколько высокомер-
ными, он уважал их за образованность и охотно признавал, что
они были искренни в своем желании изменить мир.
У самоучек овладение знаниями, в том числе в целях инди-
видуального развития, иногда граничило с одержимостью. Но
иначе быть не могло, так как речь шла о преодолении огромных
трудностей. Бедность, нехватка времени, отсутствие элементар-
ного внимания делали учение невозможным, если не погру-
жаться в него с полной отдачей.
Многие рабочие, живя в перенаселенных помещениях, были
вынуждены уходить в лес или поле, чтобы иметь возможность
читать. Поэт Джон Клэр, будучи чернорабочим, тайно сочинял
стихи в поле, укрываясь за изгородью или насыпью и записы-
вая свои мысли каракулями на полях шляпы [62].
Недостаточное освещение в жилищах рабочих было другим
серьезным препятствием. В Англии XIX в. окна были редкостью,
а свечи стоили дорого. У Адамса читаем, что свеча
«позволяла только слегка различать смутные очертания предметов
в темноте. В результате многие не могли заниматься чтением, так
как в свободные часы, выдававшиеся после захода солнца, они
должны были постоянно напрягать зрение, что привело бы к его
ухудшению у половины населения» [63].
До 1850 г. газовое освещение также нечасто встречалось в домах
английских рабочих. У Жан-Батиста Дюме в Крезо были те же
436
МАРТИН ЛАЙОНС
проблемы. Он позволял себе роскошь зажигать керосиновую
лампу только во время ужина. Поэтому читать ему приходилось
при свете, отбрасываемом горящими углями кухонной плиты.
Индустриализация провела четкую грань между рабочим и
свободным временем. Производственная дисциплина труда и его
ритмичность затрудняли занятие чтением. И не случайно, что
большая часть тех, кто занимался самообразованием, были ре-
месленниками. Их рабочий ритм был менее жестким. Периоды
интенсивной деятельности сменялись простоями, сравнимыми
иногда с короткими отпусками, о которых рабочие в начале ин-
дустриализации и представить себе нЪ могли. Уильям Эйткин
рассказывал: «Когда я был закройщиком, рабочие смены в тек-
стильной промышленности были такими долгими, что любые
попытки заниматься саморазвитием в интеллектуальном плане
были невозможны» [64]. Но такие, например, как неизвестный
Стоунмасон, доставлявший товары на дом, приучил свою лошадь
самостоятельно следовать одним и тем же маршрутом, а сам в
это время читал, восседая на двуколке [65].
Культура чтения этих самоучек была особенной. Несмотря на
эклектичность подбираемой ими для чтения литературы, они все
же стремились придерживаться определенных правил. В то же
время все признавались в ненасытном «аппетите» к изданиям,
которые не соответствовали целям их самообразования, о чем
они сожалели, оглядываясь назад. Томас Купер признавался с
некоторым стыдом, что «часто увлекался чтением очень разно-
родной литературы», например Дизраэли (Disraeli) или Босвел-
лом (Boswell), рассказами о путешествиях и лондонским иллю-
стрированным журналом London Magazine. Для Горького в усло-
виях царской России эта страсть к чтению представляла опасно-
сть, так как лица, проявлявшие сильный интерес к романической
литературе, могли привлечь внимание полиции.
Уильям Ловетт в автобиографическом сочинении прямо
писал, что самоучка видит в своем самообразовании три цели:
хлеб, знание и свободу. Продвижение по этому пути с матери-
альной, моральной и интеллектуальной точек зрения требует
огромных усилий и самоотдачи, граничащих с самоотречением.
Необходимо находить время для занятий, экономить, чтобы
иметь возможность покупать книги, недосыпать, расшатывая здо-
ровье, не говоря о том, что неудержимая погоня за знаниями может
ГЛАВА 12
437
отдалить друзей. Нередко это желание самосовершенствования
вдохновляла горячая протестантская вера: «не конформистская»,
т. е. не англиканская, требовавшая в залог воздержания от пьян-
ства, выполнения других важных обязательств, связанных с само-
контролем и стремлением отличаться от других.
Кто хотел самостоятельно решать задачи самообразования и са-
моконтроля, чтение было непременным условием. Во время чте-
ния их всегда отличала полная сконцентрированность на постав-
ленной цели. Во многих отношениях его можно охарактеризовать
как «интенсивное» чтение (lecture «intensive»), связанное с повто-
рениями, воспроизведением вслух, заучиванием наизусть.
К текстам самоучки относились очень ревностно. Они без конца
их перечитывали, чтобы, как они сами часто образно выражались,
«доверить их памяти». Запоминание для них было одним из спо-
собов самообучения, чему нередко способствовало чтение вслух.
Однако отношение к печатному слову у них было более лег-
ким, чем у пуритан, что описано историками в Германии
XVIII в. и в Новой Англии [66].
Чтение вслух являлось одним из отличительных признаков
«интенсивного чтения» в этом контексте, одним из наиболее
распространенных способов для впитывания заветов Библии.
Нередко именно так учили читать детей. Джон Бакмастер рас-
сказывал, что его бабушка читала вслух Священное Писание по
утрам и вечерам [67]. Александр Марри, шотландский пастух,
ставший преподавателем восточных языков в Эдинбурге, тоже
научился в раннем возрасте читать Библию наизусть [68].
Но вслух читали и светские произведения. По мнению Чарлза
Шоу, голос придавал чтению нечто важное:
«Ни одно чаепитие не было бы полным без чтения наизусть [...].
Я начал ценить шарм, исходивший от некоторых произведений,
прочитанных наизусть не только на публике, но и когда их музы-
кальное звучание застигало меня посреди повседневных забот. При
появлявшейся возможности я произносил вслух несколько строф
или несколько стихотворений и всегда находил их более вырази-
тельными, чем если бы ограничился чтением про себя» [69].
Чтение вслух играло важную роль в цеховой ремесленной
культуре. В 1815 г. Томас Картер работал у лондонского порт-
438
МАРТИН ЛАЙОНС
ного, чья мастерская располагалась недалеко от Grosvenor
Square:
«Я стал поставщиком новостей: каждое утро я рассказывал им о про-
читанном накануне в газете. Я читал ее за завтраком в кафе по до-
роге на работу» [70].
Он читал Register Коббетта, Black Dwarf и Examiner — глав-
ные реформаторские периодические издания, символизировав-
шие выход из бурного периода наполеоновского правления. По-
добное происходило и с Мартеном Надо в Париже 1834 г.: «Каж-
дое утро у кабатчика меня просили почитать вслух Populaire
Кабе» [71]. Он читал своим товарищам и социалистические бро-
шюры. Это чтение вслух играло важную роль в самообразова-
нии и политизации народных масс.
Как рассказывал Джеймс Берн, в 1817 г. Джордж Ситон, под-
мастерье шорника в Ньюкастле, читал вслух Black Dwarf своим
товарищам, собравшимся по этому случаю на перекрестке Бел-
лингема [72]. Адамс вспоминал, как читали «Северную звезду»
{Northern Star) О’Коннора утром по воскресеньям на кухне у са-
пожника [73]. В начале 1820-х гг. Пердигье читал плотникам Ра-
сина и Вольтера [74].
Иногда, чтобы лучше сосредоточиться, обучающемуся само-
стоятельно необходимо было принять определенную позу, при-
чем в специфической обстановке. Томасу Картеру, например,
требовались стимулирующие ощущения. Перед тем как начать
читать, он садился на землю «по-восточному» (по-турецки, под-
жав ноги) в комнате, предназначенной для хранения овощей, на-
полненной запахом трав и луковиц. Это было непременное усло-
вие для его концентрации [75].
Конечно, большое значение придавалось запоминанию. Мно-
гие самоучки начинали тренировать память с детства, рассказы-
вая наизусть отрывки из Библии. Александру Марри, например,
когда он был ребенком, не разрешали не то что открывать, но
даже прикасаться к семейной Библии, поэтому он читал ее на-
изусть тайком. Тем не менее:
«Наши соседи были очень удивлены, когда вскоре услышали, как я
декламирую наизусть длинные отрывки из Священного Писания. Се-
ГЛАВА 12
439
годня, к сожалению, я почти все забыл из моих библейских позна-
ний, но все-таки я еще могу перечислить имена всех патриархов, на-
чиная с Адама до Христа, как и другие трудно запоминающиеся эпи-
зоды» [76].
Когда ему было 11 лет, с гордостью вспоминал Александр
Марри, из-за его необыкновенной памяти его все знали и на-
зывали «живое чудо».
Томас Купер, составивший себе огромную программу для чте-
ния, являл собой среди самоучек еще более поразительный при-
мер интенсивной работы по запоминанию и воспроизведению
текстов наизусть. Любую выдававшуюся свободную минуту он
использовал для самообразования. В результате он знал наизусть
большое количество отрывков из произведений Шекспира, Мил-
тона, Коулриджа и поэтов-романтиков.
Купер, возможно, это — особый, исключительный пример.
И все же многие овладевали литературной культурой тем же
путем, что и он. Сэмюэл Бамфорд, в частности, читал Гомера «с
такой тщательностью, что я сам очень быстро запомнил почти
все строфы» [77]. Уильям Коббетг выучил «наизусть грамматику,
переписывая учебник. И каждый день, в карауле, сам себе рас-
сказывал его» [78]. Э. Эллиотт в 12 лет знал Библию наизусть, а
в 16 лет он уже мог рассказать по памяти первую, вторую и шес-
тую книги из «Потерянного рая» (Paradis perdu) [79].
Делать заметки в записной книжке — еще один из индиви-
дуальных способов овладения знаниями в области литературы и
пример взаимодействия с текстом. Сэмюэл Бамфорд переписы-
вал стихи Милтона:
«[...] и если я это делал, то не только для удовольствия, которое я
испытывал, повторяя их и таким образом как бы овладевая его
идеями, но и для того, чтобы улучшить свой почерк» [80].
Купер конспектировал Гиббона и религиозные издания, вел
учет всего, прочитанного в своем журнале. Максим Горький вно-
сил в свою записную книжку все, что ему было непонятно. Ро-
берт Оуэн в 12 лет переписывал советы о нравственности Сенеки,
чтобы затем размышлять над ними во время своих одиноких
прогулок [81]. Записная книжка была не только простой «по-
440
МАРТИН ЛАЙОНС
мошницей» памяти, но и свидетельницей личных дебатов ее вла-
дельца с текстом, который он принимал или опровергал. Она
служила ему главным средством в индивидуальном развитии.
Таким образом самоучки из рабочего класса обращались к ин-
тенсивному чтению, особенности которого объяснялись их по-
требностями, а также своеобразием данного периода обще-
ственного развития. Оно соответствовало стремлению этих ра-
бочих добиться успеха несмотря на скудные ресурсы.
СОХРАНЕНИЕ УСТНОЙ ТРАДИЦИИ
В XIX в. только часть крестьянства в качестве читателей была
представлена в читательском сообществе. Недавно проведенное
во Франции исследование об истории устной традиции свиде-
тельствует, что в «бель-эпок» (Belle Epoque — «прекрасная эпо-
ха») все служащие, 80% коммерсантов и две трети городских ра-
бочих ежедневно покупали газету, крестьяне же составляли
только 20% таких покупателей [82].
В крупных городах книга стала предметом ежедневного по-
требления, но для крестьянства, занятого в разных сферах сель-
скохозяйственного труда, книга по-прежнему оставалась ред-
ким, ценным предметом, к которому относились с особенным
уважением, так как он ассоциировался, прежде всего, с религией.
Это «поколение слушателей» («generation d’auditeurs») еще нельзя
было назвать «поколением читателей» («generation de lecteurs»),
так как в их представлении чтение было групповым занятием,
т. е. неотъемлемой частью устной культуры.
Даже в городе, несмотря на все большее распространение чте-
ния про себя и наедине, чтение вслух еще сохранялось. Мейхью,
внимательный наблюдатель за жизнью лондонской улицы, не раз
был свидетелем этого занятия [83]. Нередко ему доводилось ви-
деть, как уличные торговцы фруктами и овощами просили про-
хожего почитать им периодическое иллюстрированное издание
или воскресную газету, которые они затем заботливо отклады-
вали в сторону, чтобы заворачивать свой товар. В одной из лон-
донских таверн Мейхью услышал, как подростки за небольшую
плату (мелкими монетами) рассказывали известные отрывки из
произведений Шекспира. В 1825 г. главный редактор буржуаз-
ГЛАВА 12
441
ной Sydney Gazette высмеял своего плебейского соперника Aust-
ralian за материал о чтении вслух в лачуге поселенца, в кругу всей
семьи и собравшейся челяди, после долгого трудового дня.
Лондон знал и торговцев песнями, заходивших во дворы и пред-
лагавших листки с песенными текстами, и своих исполнителей
баллад, протягивавших плошки для сбора монет. Ему были зна-
комы и разносчики, продававшие сатирические и пародийные
брошюры, а также тексты последних признаний преступников
перед неотвратимым наказанием (речь идет о так называемой ви-
сельной литературе — «litterature du gibet»). Примечательно, что
значительная часть этой уличной литературы специально создава-
лась для чтения вслух или для пения.
Чтение вслух сохранялось и в средних слоях населения. Кил-
верт, священнослужитель из графства Шропшир, который очень
интересовался девочками-прихожанками и даже оставил нам днев-
ник с интимными подробностями, часто посещал семьи для чте-
ния домочадцам. Он принимал участие в публичных чтениях, по-
лучивших название «чтение за пенни» («lectures a un penny»):
«Около 60 человек скопились у школы. Окна были облеплены ими,
как пчелами. Глядя внутрь, они сидели на стульях и слушали, тесно
прижавшись друг к другу» [84].
Эта любовь к публичному чтению отрывков из знакомых про-
изведений, к устному слову и музыке поэзии олицетворяла тра-
диционную, или «интенсивную», связь между читателями-слу-
шателями и печатным словом. Но в течение XIX столетия эта
связь ослабевала, постепенно исчезая, к великому сожалению
консервативно настроенных умов, которые полагали, что инди-
видуальное чтение про себя разлагающим образом воздействует
на традиционные формы общения.
Эту ностальгию хорошо передает безмятежная атмосфера кар-
тины Ханса Томаса «Вечер: мать и сестра художника в саду» (Soir:
la mere et la sceur de Г artiste au jardin) (1868). Мать читает дочери
и сыну, вероятно, Библию: воссоздание сознательно идеализи-
руемой немецкой набожности. Это желание еще раз придать чте-
нию религиозное и семейное звучание — верный признак пере-
хода от «интенсивного» чтения к «экстенсиному», происходив-
шему в XIX в.
Армандо Петруччи
ГЛАВА 13
ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ*:
ЧТЕНИЕ В БУДУЩЕМ
У чтения, понимаемого как деятельность по аккультурации или
занятие для развлечения грамотного человека, есть будущее в той
степени вероятности, насколько с уверенностью можно утверж-
дать, что в недалеком будущем сообщества грамотных людей
продолжат развивать письменность — основополагающую дея-
тельность, от которой зависит чтение. Пока будут создаваться
письменные тексты (в той или иной форме), чтением продол-
жит заниматься, по крайней мере, часть населения (большая или
меньшая) земного шара.
Можно с уверенностью утверждать, что в более или менее
близком будущем «приобщенные к чужой культуре» слои обще-
ства будут продолжать создавать письменные документы. Се-
годня в современном мире объем создаваемых по самым разным
причинам письменных документов значительно превышает
объемы 1900 и 1950 гг., а также всех прошлых столетий. В ос-
новном, если не во всех случаях, речь идет о текстах, подготов-
ленных для чтения, сразу же или некоторое время спустя, в опре-
деленной социальной среде, широкой или ограниченной по мас-
штабам. Пока нет видимых причин, которые могли бы объяс-
нить, каким образом и почему эта деятельность, играющая
главную роль в информационной, бюрократической и произ-
водственной сферах, должна или может прекратить свое сущест-
вование. В целом люди (или какая-то их часть) будут продолжать
читать до тех пор, пока будут существовать те, кто продолжает
* Lire pour lire. La lecture litteraire («Читать, чтобы читать. Литературное чте-
ние») — название заимствовано из работы Жоржа Перека (Georges Perec), № 7
(1990) Textuel, издаваемого Восьмым парижским университетом. Этот номер,
подготовленный под руководством В. Sarrazin (Б. Сарразен) и R. Setrick
(Р. Сетрик), содержит ряд статей, посвященных вопросам индивидуального, ли-
тературного и образовательного чтения.
ГЛАВА 13
443
писать для того, чтобы их читали. И все идет к тому, что такое
положение вещей будет сохраняться.
Если верить Роберту Патиссону, то «со времен фараонов гра-
мотность как процесс никогда не знала в своем развитии резких
спадов, а только — эволюционные изменения» [1]. И можно пред-
положить, что эти изменения будут происходить, не исчезая.
Следовательно, не этот вопрос должен интересовать исто-
рика-пророка или аналитика социокультурных отношений масс,
а скорее другой, более тонкий: каким именно в недалеком буду-
щем станет чтение, рассматриваемое как человеческая деятель-
ность? Каким будет его социальное распространение? И с чем оно
будет связано? Какое значение и какие функции оно сохранит в
обществе? Потребность в чтении будет увеличиваться или умень-
шаться? И как при этом будут взаимодействовать на планете
различные социокультурные сферы его распространения? И, на-
конец, верно ли, как это недавно утверждалось, что «чтение как
деятельность утрачивает свои позиции по мере того, как процесс
чтения принимает все более унифицированный характер?» [2].
ЧТЕНИЕ В МИРЕ
Историки никогда не были хорошими пророками. Известно, что
у них были трудности с определением и толкованием прошлого.
И их будет еще больше в отношении предсказания будущего.
Следовательно, никто не должен ожидать, что что-то изменится
и на этот раз.
Однако, если будет позволено рискнуть сделать прогнозы от-
носительно «механизмов» взаимодействия людей в такой слож-
ной области, как приобщение к чужой культуре (аккультурация),
то это будет возможно только опираясь на основы анализа дан-
ных об обучении грамоте, производстве текстов и спросе на них,
обращении печатных изданий в мире в последнее десятилетие.
Заранее следует пояснить, что вопрос, подобный поставлен-
ному здесь и являющийся основным в этой главе, не может рас-
сматриваться только применительно к индустриально развитым
странам Европы или Америки, но исключительно на мировом
уровне, так как будущее чтения проявляется не там, где оно хо-
рошо развито и является обычным занятием, а там, где этого нет.
444
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
Новые потребности, новые предложения, новые виды занятий
чтением могут появляться только в «пограничных» зонах, в ко-
торых массовое или элитарное чтение находится в процессе ста-
новления и распространения, причем в совершенно новых со-
циокультурных ситуациях, по сравнению с прошлым и со стра-
нами, давно достигшими грамотности. Прежде всего это проис-
ходит еще и потому, что, как недавно с подкупающей прямотой
написал один литературовед:
«сегодня самые бескомпромиссные или просто самые порядоч-
ные интеллектуалы не могут больше довольствоваться привиле-
гией основываться в своих умозаключениях только на опыте за-
падных стран. Теперь они должны будут проводить сравнения с
иным, с непохожим, что не даст им больше возможности ссы-
латься на варварство и безумство прошлых времен» [3].
Доступные данные научных исследований, проведенных
ЮНЕСКО, воссоздают картину быстрых и очень разнообразных
изменений, происходящих в разных регионах земного шара. На-
зовем самые главные из них.
1. Наблюдается медленное увеличение грамотного населения,
но в абсолютных цифрах количество неграмотных сильно растет
и превышает уже 1 млрд. В 1980 г. показатель неграмотности был
равен 28,6%, что соответствовало 824 млн человек. В 1985 г. этот
показатель в процентном отношении слегка уменьшился (28%),
охватив 889 млн человек. Географические зоны наиболее рас-
пространенной неграмотности находятся на Африканском кон-
тиненте (в некоторых арабских и других государствах с преоб-
ладанием аграрного сектора экономики), в Латинской Америке
(Гватемала, Эквадор, Перу, Гаити, Боливия), в Азии, особенно
в мусульманских странах (Пакистан, Афганистан, Саудовская
Аравия). Следует отметить, что наряду с вышеперечисленными
исключительными примерами «рассеянная» неграмотность
встречается почти во всех африканских странах, во многих стра-
нах Южной Америки и в некоторых азиатских странах. И даже
в так называемых ведущих странах наблюдается относительно
высокий уровень «вторичной», или первоначальной, неграмот-
ности, носителями которой являются, как правило, эммигранты,
ГЛАВА 13
445
проживающие и работающие, прежде всего, в крупных город-
ских центрах. Соединенные Штаты Америки представляют от-
дельный пример, свидетельствующий о значительном коли-
честве неграмотных среди афро-, испано- и латиноамериканцев,
а также неимущих, бедных жителей крупных городов. В послед-
ние десятилетия это стало предметом исследований и причиной
проведения кампаний по борьбе с неграмотностью, почти без-
результатных.
2. Неграмотность как постоянное явление в важных регионах
мира связана не только с бедностью, но и с политическими и
идеологическими причинами. Политические режимы в некото-
рых странах (Гаити, Перу) никогда не относились положительно
к массовому образованию населения. Другие, например, в му-
сульманском мире отвергают образование женщин. Одним из по-
следствий женской неграмотности, характерной для стран с
сильным влиянием религиозной идеологии, является отсутствие
должного демографического контроля, что, в свою очередь, спо-
собствует увеличению количества неграмотных. Только отдель-
ным странам (Куба, Вьетнам или сандинистская Никарагуа), ко-
торые, следуя советской модели, избрали путь развития школь-
ного обучения женщин и усовершенствовали контроль рождае-
мости, удалось с успехом провести кампании по борьбе с
неграмотностью.
3. Издание книг находится на сильном подьеме во всем мире
независимо от того, идет ли речь о государствах-гигантах, на-
пример, Соединенных Штатах и СССР (по крайней мере, до
1989 г.), о европейских странах или других регионах земного
шара. В 1975 г. общий объем книжной продукции составил
572 тыс. названий, в 1980 г. — 715 тыс., в 1983 г. — 772 тыс. на-
званий. В начале 1980-х гг. Европа с населением, составляющим
15% от мирового, выпускала 45,6% книг, СССР (8,1% от миро-
вого населения) — 14,2%, Соединенные Штаты Америки (7,5%
от населения земного шара) — 15,4%. У этого соотношения есть
все шансы измениться в недалеком будущем, но не очень бы-
стро и не радикальным образом.
4. Что касается ежедневных газет, то в 1982 г. общий объем
их выпуска составил 8220 названий, из которых 4560 были из-
даны в так называемых ведущих странах (1815 названий — в
США). Показатель количества экземпляров на одного жителя
446
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
был очень высоким в странах с давними традициями чтения газет
и журналов населением: в Великобритании — 690 экземпляров
на 1 тыс. жителей; в Японии — 571, в Швеции и Восточной Гер-
мании — 496, в СССР — 400, во Франции - 205 экземпляров.
5. Данные абонементной выдачи документов в публичных
библиотеках такого же порядка. В 1980 г. лидировали Соеди-
ненные Штаты Америки (986 млн выданных экземпляров), далее
следуют СССР (665 млн) и Великобритания (637 млн выданных
экземпляров) (в соотношении с численностью населения самой
сильной в данном случае является Великобритания). Затем идут
Франция (89 млн выданных экземпляров), Дания (79 млн)
и Швеция (77 млн выданных экземпляров) (эти показатели в со-
отношении с численностью населения особенно высоки в по-
следних двух странах).
Если исключить недавние явления, связанные с позитивными
политическими процессами в странах Латинской Америки, Аф-
рики и Азии, то становится очевидным, что больше всего про-
изводится и обращается книг и ежедневных газет в странах с наи-
более грамотным по численности населением, являющихся од-
новременно самыми могущественными с экономической точки
зрения. К таким, в частности, относятся некоторые европейские
государства, обладающие очень давними культурными тради-
циями. Самый низкий уровень развития письменности наблю-
дается не только в экономически отсталых географических зонах
земного шара, но и в тех, которые находятся под сильным де-
мографическим прессом и в которых женщины лишены воз-
можности получать школьное образование [4].
КОНТРОЛЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Почти все кампании по массовому обучению грамоте, предпри-
нятые в XX в. на национальном или мировом уровне (например,
ЮНЕСКО) в ведущих странах или в бывших колониях, были на-
правлены в первую очередь на развитие чтения, а не письма [5].
Со всей очевидностью этот выбор является следствием педаго-
гической функции структур, которые повсюду разработали свою
идеологию и свои методики обучения. В буржуазных обществах
это школы и Церковь (конкуренты, но в данном случае — со-
ГЛАВА 13
447
юзники), библиотечный мир (особенно в англосаксонских стра-
нах), разработавший, в частности, идеологию демократического
пути развития публичного чтения; издательская индустрия, заин-
тересованная в постоянном расширении круга читателей, а не в
совершенствовании их способности писать. Есть еще нечто боль-
шее, что лежит в основе этого всеобщего выбора, свойственного
всем авторитетам и всем властям: идея, что чтение до наступле-
ния телевизионной эры было лучшим средством распростране-
ния ценностей и идеологий, наиболее легко поддававшимся ре-
гулированию, что стало возможным после того, как научились
контролировать издательские процессы, и прежде всего про-
цессы распределения, распространения и хранения текстов. Что
касается письма, то оно, напротив, олицетворяет индивидуаль-
ную способность личности, делающую ее совершенно свобод-
ной: писать, где угодно, чтобы создавать то, что хочется вне вся-
кого контроля и, по возможности, без какой-либо цензуры.
Действительно, на самых высоких уровнях и в официальной
культуре издаваемые письменные документы подвергаются жест-
кому контролю, как открытому, так и завуалированному. Ми-
шель Фуко это прекрасно продемонстрировал в своей работе, на-
писанной в 1970 г. [6]. Однако сравнительный анализ показы-
вает, что контроль за чтением является более прямым, более лег-
ким и, как правило, более безболезненным. Для его
осуществления достаточно, чтобы материалы, предназначенные
для чтения теми, кого следует обучить грамоте и воспитать, т. е.
наставить, проходили специальный отбор под руководством вы-
шестоящих органов и представляли таким образом собрание
одобренных (и никаких других) произведений. Речь идет о кон-
кретных правилах их отбора в определенном направлении, более
или менее широком, либеральном или ограничивающем, но ко-
торое тем не менее остается обязательным, т. е. необсуждаемым
и воспринимаемым как данность, т. е. «канон» (canon).
Согласно распространенному сегодня определению, «ка-
нон» — это «список произведений или авторов, предлагаемых в
качестве нормы или образца» [7]. Любой письменной культуре
известны один или несколько канонов, которых придержи-
ваются как в целом, так и в определенных сферах (религиозной,
литературной и т. д.). Западной литературной традиции присущ
свой «канон», достаточно широкий, чтобы удовлетворить изда-
448
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
тельскую индустрию, но и довольно жесткий, чтобы обеспечить
воспроизводство идеологических, культурных и политических
ценностей, лежащих вот уже на протяжении двух веков в основе
западного миросозерцания, начиная с трудов Гомера до «вла-
стителей дум» Коллежа де Франс.
Каким образом он был создан? Для ответа на этот вопрос сле-
дует обратиться к Фуко и составленному им каталогу, в котором
он отражает факторы или, следуя его выражению, «процедуры»
(«procedures»), определяющие «порядок производства текста»
(«1’ordre du discourse») в нашем обществе, исходя из гипотезы, что
«в любом обществе производство текста контролируется, проходит
отбор, организуется и перераспределяется определенными, дей-
ствующими одновременно процедурами, роль которых заключается
в соотнесении реакции властей и опасных проявлений, во владе-
нии ситуацией, связанной с возникновением непредвиденных со-
бытий, в умении обойти тяжелую сомнительную сторону действи-
тельности» [8].
К этим процедурам относятся: запрет, исключение, воля к
правде, комментарий, организация отраслей знания, социо-
культурные ритуалы, признанные доктрины, образовательные
системы. Анализ Фуко касается производства текста (production
du texte), но он полностью применим и к использованию текста
(usage du texte/ т. е. к чтению, которое в организованной пись-
менной культуре точно так же подвергается аналогичным, если
не идентичным, процедурам запрета и контроля. Следуя опять
же Фуко:
«Принято видеть в плодотворном творчестве автора, во многих ком-
ментариях, в развитии дисциплины безграничные ресурсы для соз-
дания текста. Возможно. Но не менее важны принуждающие прин-
ципы. И, вероятно, нереально представить их позитивное и разно-
стороннее значение без принятия во внимание исходящих от них
ограничений и давлений» [9].
В 1930—1940-е гг. в Соединенных Штатах Америки в точном
соответствии с «Новым курсом» («New Deal») Рузвельта стала
укреплять свои позиции и распространяться типично англосак-
ГЛАВА 13
449
сонская идеология, выражавшаяся в том, что публичная библиотека
является базовой структурой демократии. Все учебники, предна-
значенные для подготовки библиотекарей, и социологические ис-
следования, посвященные вопросам базового образования, утверж-
дали, что каталогом книг, гарантирующим позитивное и полезное
чтение как любому отдельному читателю, так и сообществу, может
быть только тот, который составлен в соответствии с нормами (stan-
darts), одобренными поколениями авторитетных интеллектуалов, и
на основе системы высших ценностей. Сегодня, при слегка затруд-
нительном чтении подобных изданий, создается впечатление, что в
идеологии американской прогрессивной политической доктрины
чтение совершенно осознанно рассматривается как инструмент об-
разования и социального контроля, так как оно ограничено «кано-
ном» определенных авторов и произведений, основу которого укреп-
ляет авторитет традиции.
«КАНОН» И КЛАССИФИКАЦИЯ
Именно эта природа культурного и идеологического отношения
лежит в основе создания как в прошлом, так и в будущем спи-
сков изданий, рекомендуемых для приобретения публичными
библиотеками и отдельными читателями, — настоящих «кано-
нов», содержащихся в каталогах и специализированных журна-
лах, которые, как и весь нормативный и педагогический аппа-
рат, производители и распространители книги (авторы, изда-
тели, интеллектуалы, журналисты, библиотекари и т. д.) еже-
дневно «изливают» на реальных и потенциальных читателей в
Риме и Париже, Нью-Йорке и Лондоне, Токио и Нью-Дели в
стремлении наставления и информирования («in-former»), с
целью подготовки к потреблению продуктов письменной куль-
туры, предназначенных в первую очередь для продажи и, следо-
вательно, достаточно однородных.
Со своей стороны библиографоведение (с давних времен его
возникновения (XVI в.) для него характерна глубокая идеологи-
зация, маскируемая под абстрактный и объективный техницизм)
на протяжении веков разрабатывало и предлагало для организа-
ции западной письменной культуры критерии отбора и запрета,
иерархическую систему ценностей и зависимостей. Вводимые
450
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
механически в структуры хранения и использования и в своем
повторении доведенные до автоматизма, они превратились сами
для себя в авторитетные источники, а для обычного читателя,
общественного мнения и для тех, кого называют читающей и по-
купающей публикой, стали непререкаемым руководством, чьи
положения не подлежат ни малейшему сомнению.
Даже сегодня в Соединенных Штатах Америки самой рас-
пространенной системой классификации книг является система,
разработанная в 1876 г. молодым американским библиотекарем
Мелвилом Дьюи (Melwil Dewey), который предлагает и в то же
время в определенной степени простодушно навязывает систе-
матизированное видение человеческого знания, одновременно
архаичное и современное. В ней десять основных классов: 0 =
словари и энциклопедии; 1 = философия; 2 = религия; 3 = со-
циальные науки; 4 = литература по языковедению; 5 = точные
науки; 6 = прикладные и технические науки; 7 = литература по
искусству, играм, спорту; 8 = художественная литература; 9 =
география, история. Каждый класс, в свою очередь, может быть
разделен на десять подклассов, каждый подкласс — еще на де-
сять делений и т. д. Такой достаточно простой математический
подход позволяет относительно легко классифицировать и нахо-
дить в библиотеке любую книгу независимо от того, размещена она
на полках открытого доступа или нет. Здесь следует подчеркнуть,
что иерархическое представление классификационных делений
(сначала идут философия и религия (причем религия следует за
философией), история и география объединены, а художествен-
ная литература отражена самостоятельно и т. д.) свидетельствует,
с одной стороны, о сохранении прошлых классификационных
структур, а с другой — о вкраплении светских и сциентических
ценностей, свойственных как американской культуре того вре-
мени, так и всей западной позитивистской культуре.
Таким образом, историческое развитие классификации Дьюи
может рассматриваться как одно из самых важных свидетельств
существования ограничивающих механизмов, их устойчивости
и твердости, направленных на регулирование в нашей культуре
распространения книг, их обращения и даже использования.
С этой точки зрения стоит кратко остановиться на двух при-
мерах, иллюстрирующих применение классификационной си-
стемы Дьюи в Италии. Один из них — уже старый и хорошо из-
ГЛАВА 13
451
вестный, а другой — новый, появившийся недавно и связанный
с большим успехом.
В 1969 г. издатель Джулио Эйнауди (Giulio Einaudi) опубли-
ковал систематический каталог книг, в котором описания были
сгруппированы по отраслям знаний, а внутри групп располага-
лись по предметным рубрикам, чтобы «предложить основной
выбор книг тому, кто желает создать библиотеку, личную или
публичную». Этот «Справочник по созданию библиотеки» (Guide
de la formation d ’une bibliotheque) [ 10] стал пользоваться большим
успехом, так как его выход в свет совпал с периодом высокого
политического напряжения в итальянском обществе. В это
время активно развивались прогрессивные движения. Издания
аналитического и философского характера по актуальным во-
просам в области культуры, особенно в политической сфере, на-
ходили новых читателей, более всего в молодежной среде. Спра-
вочник включал около 5000 названий, классифицированных по
системе, моделью для которой послужила классификация Дьюи,
правда несколько измененная, прежде всего, с целью актуали-
зации, выразившейся в перестановках, уточнениях и объедине-
ниях некоторых делений, чтобы сделать видение знания более
современным, по сравнению со слишком старым, характерным
для системы Дьюи [11]. Однако издание было сопровождено
послесловием, написанным известным интеллектуалом Делио
Кантимори (Delio Cantimori), в котором автор, верный педаго-
гической традиции, наоборот, предлагал вернуться к прежнему,
строгому и авторитетно подкрепленному видению знания, книги
и чтения, а именно: библиотека служит инструментом «обуче-
ния чтению» того, кто этого не умеет, и «дает здоровую пищу»
тому, кто ее лишен [12].
Тем же стремлением информировать и образовывать про-
никнута большая универсальная «Библиография» (Bibliographic)
Ливио Гарнанти (Livio Garzanti), изданная в 1984 г. в качестве
последнего тома «Европейской энциклопедии» (Encyclopedic
еигорёеппе) [13]. Ее классификационная система более сложная,
чем у Дьюи (20 основных классов вместо десяти), но сохраняются
те же принципы традиционного иерархического деления зна-
ния: после класса «репертуары» следуют философия и религия,
гуманитарные дисциплины и литература предшествуют научным
дисциплинам и технологии и т. д. Через эту принятую класси-
452
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
фикацию еще раз анализируется и представляется «канон» за-
падной культуры, причем с уверенной прямотой, без каких-либо
душевных сомнений и опасений.
КРИЗИС ЧТЕНИЯ, КРИЗИС ПРОИЗВОДСТВА
Известные до сегодняшнего времени в западной письменной
культуре процессы производства и распространения текстов в
форме книг, кажется, достигли совершенства в системном и гар-
моничном разграничении общечеловеческого знания, базирую-
щемся на общепринятом «каноне» и общепризнанных правилах
классификации. Но о видимости такого положения вещей сви-
детельствуют постоянно повторяющиеся кризисы и другие де-
стабилизационные проявления как в издательском производ-
стве, так и в области чтения. В этих двух сферах усиливаются
противоречия, растет неуверенность, все более настоятельной
становится потребность в государственном посредничестве. Воз-
никает закономерный вопрос: так существует ли кризис в обла-
сти чтения и книги и в чем он выражается?
В этой связи также следует проанализировать и четко опре-
делить существующие различия. Любопытно, что самые громкие
голоса тревоги по поводу нестабильности и возможности на-
ступления кризиса доносятся из стран, в которых производство
и распространение печатных изданий поставлены наилучшим
образом, охватывая издательской продукцией самые широкие
слои населения. Речь идет о Соединенных Штатах Америки и
европейских странах, а не о государствах Африканского конти-
нента или Южной Америки. Япония в этом контексте представ-
ляет особый случай.
В Соединенных Штатах Америки, стране, являющейся абсо-
лютным лидером по объему издаваемых книг и других печатных
изданий и обладающей мошной, очень организованной изда-
тельской индустрией, но одержимой идеей, что кризис — на под-
ходе, а также чаще всего поднимающей проблемы увеличения
численности неграмотного населения в городской среде и сни-
жения качества преподавания в государственных учебных заве-
дениях, как средних, так и высших, проявляются две стороны
одного и того же уникального феномена.
ГЛАВА 13
453
По Роберту Патиссону, в американской школьной системе все
больше углубляется разница между «элитным» преподаванием
(распространено в самых дорогих и лучшим образом оборудо-
ванных колледжах), основанном на ценностях официальной
культуры и абсолютном соблюдении литературных и языковед-
ческих традиций, и преподаванием для широких масс населения,
отличающимся низким качественным уровнем и техническим
подходом: «У нас есть два образования: одно — для власть пре-
держащих и бизнесменов, и другое — для образования народа и
преобразования его энергии» [14]. И в качестве заключения: если
это противопоставление перерастет в жестокий конфликт между
классами и культурами, то «американскому эксперименту на-
ступит конец» [15].
Соединенные Штаты Америки — страна с самой значитель-
ной разницей между медийной культурой молодых, обращенных
к року, кино, телевидению, электронным играм и только по-
том — к чтению (чаще всего ограниченному научно-фантасти-
ческой литературой и комиксами), и другой, более традицион-
ной юношеской культурой, основанной на чтении книг, посе-
щении театров, просмотрах высококачественных фильмов, на
любви к классической музыке: в ней использование новых муль-
тимедийных средств информации является лишь дополнением.
В США конечные цели программ борьбы с массовой негра-
мотностью городского населения всегда преподносятся как
приобщение новых социальных групп к чтению книг. Уже
в 1966 г. Роберт Макнамара создал ассоциацию «Чтение —
основа» («Reading is fundamental»), которая сегодня насчиты-
вает более 100 тыс. членов, проживающих на всей территории
США, и деятельность которой направлена в первую очередь на
приобщение маленьких детей к чтению. Несколько ранее Бар-
бара Буш основала «Фонд семейного образования» («Foundation
for Family Literacy»), в который поступают крупные субсидии
из федерального бюджета. 1989 г. был объявлен «Годом постоян-
ного читателя» («year of the lifetime reader»), a 6 февраля
1990 г. Сенат одобрил Национальный закон об образовании
(National Literacy Act), в соответствии с которым была создана
структура по борьбе с неграмотностью на всей территории Со-
единенных Штатов Америки. Получая значительные федераль-
ные дотации, организация выявляет и объединяет различные
454
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
частные и местные инициативы и начинания для их изучения и
оказания помощи в их осуществлении.
Однако некоторые говорят, что кризис скажется и на чтении
качественной литературы, а следовательно, и на убежденных
страстных читателях, создающих общественное мнение в литера-
турных кругах. Согласно официальным заявлениям одного из экс-
пертов по вопросам издания в США, количество таких читателей
колеблется от 15 до 16 тыс. (из 236 млн человек), к которым сле-
дует прибавить 500—600 любителей поэзии. Это свидетельствует о
парадоксальности вывода, который со всей очевидностью не может
соответствовать действительности, даже если он и разделяется дру-
гими авторитетными источниками, имевшими возможность по-
размышлять над данным вопросом. Как бы то ни было, даже сам
факт, что он мог быть выражен и опубликован (и даже нашел сто-
ронников) показывает, насколько, даже не учитывая проблем и ха-
рактерных особенностей производства книг, «кризис» книжного
рынка ощущается как «надвигающаяся угроза» [16].
В Европе проблема проявляется по-другому. Боязнь кризиса за-
ставляет крупные и небольшие издательства судорожно переходить
от одного объединения к другому, от одной «связки» владельцев к
другой, от одного способа увеличения капитала к другому в ожи-
дании наступления мифического единства стран на континенте и
со взорами, устремленными на обширные и дезориентированные
рынки государств Восточной Европы и СССР (до 1989 г.).
В Европе книга еще не полностью превратилась в товар. Про-
тив ее окончательного превращения в него особенно активно вы-
ступают представители культуры и владельцы небольших изда-
тельств. Показательной в этом отношении стала полемика, раз-
вернувшаяся во Франции по поводу либерализации (снятия огра-
ничений) цены на книгу, решение по которой во имя рыночной
экономики было принято в 1979 г. и отменено 1 января 1982 г.
на основании закона Ланга, восстановившего систему единой
(фиксированной) цены на всей территории страны.
Если с этой стороны океана старые мифы умирают медленно,
то верно и то, что европейские издания, вслед за американскими,
должны смело выступить против распространяющейся декуль-
турации (процесса утраты собственной культуры), которая ска-
зывается на всех уровнях книгоиздания и обуславливает выбор
и участие издателей, оказывает влияние на графическое пред-
ГЛАВА 13
455
ставление текстов, их перевод, провоцирует «охоту» на авторов
и популярные книги, порождает неистовый ажиотаж по созда-
нию «книг однодневок» (instant books), способствует вялому об-
ращению к авторитетам прошлого, открывая как бы заново ста-
рых известных авторов, иногда издавая их произведения на двух
языках, и т. д.
Предпринимаемые радикальные изменения в ориентирах
и процессах издания, особенно свойственные крупным непре-
рывно мутирующим издательским домам, являющимся жертвами
не прекращающихся изменений, происходящих с людьми и про-
граммами, не дали успешных результатов. Они не привели к за-
воеванию новых рынков и новых читателей и не избавили от
свирепой постоянной конкуренции как на национальном, так
и на европейском уровне. В подобных условиях наибольшие
трудности испытывают самые слабые национальные издательст-
ва (например, в Италии), по сравнению с более сильными
и лучше оборудованными, в частности, в Великобритании, Гер-
мании и Испании.
Хотя и в этих странах, и в Италии издательства производят
все больше продукции, расширяют ее репертуар, включая пере-
водные издания, и кажутся более активными и динамичными,
чем три десятилетия назад, им так и не удалось создать свой на-
дежный расширяющийся рынок. Как и издательства Соединен-
ных Штатов Америки они живут в постоянном страхе перед по-
степенным (или внезапным) сокращением своей уже и так по-
редевшей читающей публики.
Япония, как уже отмечалось, занимает особое место в этом
отношении. В Стране восходящего солнца самая большая кон-
центрация «сильных» читателей, которых, как известно, обслу-
живает современная, очень организованная издательская инду-
стрия (около 5000 предприятий), ежегодно выпускающая около
40 тыс. названий, или 1,5 млрд экземпляров. Японцы читают
много, так как очень приобщены к чужой культуре и считают
своим долгом быть хорошо информированными и образован-
ными в области письменной культуры; в этой стране непрере-
каем авторитет и престиж школы и университета. Крупными ти-
ражами издаются школьные учебники, информационные изда-
ния, литература, уводящая от действительности, и комиксы.
Цены на них очень низкие. В целом речь идет о феномене мае-
456
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
сового чтения, во многом ставшем возможным благодаря поли-
тике стимулирования потребления издаваемой продукции. Его
уникальность, вероятно, связана с авторитарным и иерархиче-
ским характером японского общества, что, естественно, трудно
поддается переносу на чужую почву — экспортированию.
ОСПАРИВАЕМЫЙ «КАНОН»
Выше речь шла о кризисных аспектах, лежащих на поверхности,
т. е. наиболее видимых, которые оказывают влияние на измене-
ние чтения как традиционное занятие социокультурного плана
в развивающихся странах. Но есть и другие факторы проявле-
ния кризиса, которые, по крайней мере в последнее десятиле-
тие, во многом способствовали обоснованию и оправданию с мо-
ральной точки зрения так называемой западной идеологии чте-
нии («ideologic occidentale de la lecture») и, если хотите, — за-
падного «порядка чтения» («ordre de la lecture»), что впервые
представило угрозу его сохранению, точнее — выживанию.
Речь идет или о выявленных слабых сторонах предложения
рыночной издательской продукции, или о непредвиденном воз-
никновении новых читательских вкусов, которые, встречаясь,
наслаиваясь и взаимодействуя хаотическим образом, подрывают
в конце концов авторитет всеми признанного «канона» пись-
менных текстов, который до сегодняшнего дня не подвергался
сомнению.
Действительно, можно утверждать, что предложение, над ко-
торым довлеет кризис рынка, постоянно воспринимаемый как
неизбежный, «стало сумасшедшим» («devenue folle») в том
смысле, что на всех уровнях (и прежде всего самых высоких) оно
потеряло ориентиры, которые помогли бы относительно спо-
койно анализировать ситуацию на рынке и формировать его.
Как следствие, на рынок «выбрасывается» самая разнообразная
издательская продукция («тривиальная литература» (Triviallitte-
ratur), классические произведения, изданные на двух языках,
журналистские низкопробные публикации (instant books), книги
об увлечениях, философские и языковедческие эссе, сборники
шуток, стихотворения и детективные романы, научно-фантас-
тическая и политическая литература, издания об истории кос-
ГЛАВА 13
457
тюма и секса, а также слащавые романы). Причем ни издатель-
ский продукт, ни его вид, ни, особенно, цена не служат разли-
чием и не способствуют упорядоченности в представлении при
продаже текстов, ежедневно производимых таким образом. Такое
положение очень контрастирует с предложением других товаров:
от продуктов питания до предметов мебели, одежды, автомоби-
лей и т. д., где дизайн, представление, распределительные по-
токи и, конечно, цена являются своего рода различительными
признаками, по которым покупатель ориентируется в своем вы-
боре с определенной долей уверенности. Во всех супермаркетах
любой посетитель может сразу же по цене (и не только) отли-
чить качественное вино от вина низкого сорта. В случае же не
соответствия он поднимет шум, обвиняя продавцов в мошенни-
честве. И то, что на протяжении уже некоторого времени круп-
ные издательства из-за отсутствия какого-либо критерия отбора
используют на книжном рынке подобный подход, чреватый
«смутой», можно расценить как настоящее мошенничество по
отношению к читателю — потребителю.
Что касается самого читателя, то он реагирует иррационально,
так как тоже дезориентирован. Принимая во внимание, что уч-
реждения, и прежде всего школа, одними из основных функций
которых с давних времен являются сохранение и распростране-
ние изданий, составляющих традиционный «канон» чтения,
также утратили способность оказывать влияние на отбор, то те-
перь читатель беспорядочно и непредсказуемым образом дез-
ориентирован: он покупает и не покупает, выбирает и не выби-
рает, сегодня интересуется этим сектором, завтра — другим, по-
зволяет себе соблазниться скидкой или презентацией, восполь-
зоваться моментом или пойти на поводу под воздействием
шквала рекламы. В действительности он так же лишен всякого
критерия отбора, что очень затрудняет любое рациональное пла-
нирование выпуска продукции, основанное на предсказуемых
читательских вкусах, которые остаются устойчивыми только в
небольшой группе, образуемой «сильными» читателями («forts
lecteurs»), читающими по несколько книг в год. Во всем сооб-
ществе читателей они представляют самую консервативную и
самую стабильную группу. Но ее малочисленность объясняет от-
сутствие к ней интереса многих издателей как в США, так и в
европейских странах.
458
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
Положение вещей усугубляет проявление в разных регионах
и городах земного шара симптомов демонстративного отказа все
более широких кругов читателей следовать «канону», отказа, ко-
торый, как представляется, обусловлен не рынком, а четкими
идеологическими ориентирами.
Примером может служить происходящее в бывшей Восточной
Германии, некогда считавшейся «раем» для книжного рынка, с
огромным количеством усердных читателей, подготовленных к
потреблению книжной продукции и следованию традиционному
«канону», вычищенному цензурой, потому что до 1989 г. (как
почти и во всех странах Восточного блока) обеспечение массо-
вого чтения как культурного занятия населения было одним из
приоритетных направлений государственной политики суще-
ствовавшего строя. Сегодня эти читатели категорически отказы-
ваются от продукции местных издательств: произведений клас-
сической литературы, романов, сочинений промарксистски на-
строенных авторов, и с жадностью, без разбора, набрасываются
на все, что предлагает книжной рынок Западной Германии: «три-
виальную литературу» (Triviallitteratur), книги об увлечениях
(хобби), детективные романы, научную фантастику, книги по ту-
ризму и т. д. Издательства бывшей ГДР переживают тяжелый
кризис, Союз писателей бывшего государства распущен, а в
окрестностях Лейпцига стали появляться первые свалки книг:
новое в современном городском пейзаже и, может быть, даже
символизирующее первые признаки более широкого читатель-
ского отказа, даже если он еще носит подспудный характер [17].
Из Лейпцига мы перенесемся в Станфорд (Stanford), в пре-
стижный калифорнийский университет, в котором в 1988 г. про-
звучал явный протест против навязывания «канона» материалов
для чтения студентам-первокурсникам почти во всех универси-
тетах США, «канона», в котором сконцентрирована вся евро-
пейская классическая культура от Гомера до Гете. Чего же тре-
бовали студенты Станфордского университета? Чего добиваются
студенты, особенно африканского, испанского и азиатского
происхождения, следуя этому примеру, почти на всей террито-
рии Соединенных Штатов Америки? Они требуют, чтобы этот
«канон» был лишен свойственного ему евроцентризма и стал
более «американским». Чтобы в него были включены африкан-
ские и южноамериканские авторы. Чтобы вузовские лекции по
ГЛАВА 13
459
литературе не только основывались на произведениях из тради-
ционного литературного репертуара, но и уделяли больше вни-
мания современной актуальной литературе, чтобы в них на рав-
ноправной основе были включены для изучения произведения
незападных, «небелых» культур. Иными словами, чтобы наряду
с «господствующими» сегодня «канонами» появились и другие.
Реакция на требования этих общественных движений про-
фессорско-преподавательского корпуса американских универ-
ситетов была чрезвычайно сдержанной и иногда резко отрица-
тельной. Защита традиционного «евроцентрического» «канона»,
основанного на европейской культуре от древних греков до
Сартра и Фуко (о чем мы пишем, и вы об этом читаете), была
ожесточенной и будет такой всегда. Когда мы обратили внима-
ние знаменитого профессора, насколько абсурдно поддерживать
чисто европейский «канон» в новой ситуации и в условиях взаи-
модействия многорасовых культур в таком государстве, как Со-
единенные Штаты Америки, он очень искренне почти сразу же
ответил мне, что с его точки зрения американская культура в
своей основе — европейская и что по-другому быть не может.
Как бы то ни было, во многих университетах США оппози-
ционное движение, направленное против «канона», было встре-
чено с одобрением и даже получило дальнейшее развитие. Про-
явление этого феномена поднимает очень сложную проблему не
только перед руководителями университетов и преподавателями
гуманитарных дисциплин, но и перед представителями так на-
зываемой письменной культуры в этой большой стране: издате-
лями, пока не ответившими на явный вызов, а также защитни-
ками ее ценностей и традиций [18]. Если время существования
«канона» западной культуры действительно движется к «закату»,
то зарождение этого «заката» началось в Лейпциге и Станфорде.
Вполне вероятно, что в не столь отдаленном будущем мы вспом-
ним об этих датах и местах.
ЧИТАТЬ ПО-ДРУГОМУ
Конечно, в истории человечества не впервые «канон», основан-
ный на отборе письменных текстов, оспаривается полностью или
частично. В истории Европы, которую мы знаем лучше, это проис-
460
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
ходило, по меньшей мере, два раза: в первый — между III и
IV вв., когда христианская культура была противопоставлена язы-
ческой и вытеснила своим «каноном» греческих и латинских ав-
торов, во второй — в период между XIV и XVI вв., когда итальян-
ские гуманисты выступили против «канона», представлявшего
схоластическую культуру, и предложили заменить его другим «пе-
речнем», включавшим, в первую очередь, отобранные произве-
дения классических авторов — греческих и латинских. В обоих
случаях отказ от предшествовавших «канонов» не был полным.
Христиане не отказались от Виргилия, а гуманисты — от трудов
отцов Церкви. Со временем часть предшествовавшего «канона»
поглощалась новым. Однако неоспоримым является тот факт,
что в одном и другом случаях смена «канона» сопровождалась по-
явлением новых способов производства письма, новых образцов
книг и новых способов чтения. Также и в изменениях, которые
происходят на наших глазах, может быть, уже есть некоторые
признаки смены принятых моделей как в области выпуска изда-
тельской продукции, так и в сфере ее использования.
Верно и то, что на периферии системы, образуемой каждой
письменной культурой, всегда можно наблюдать неприятие дей-
ствующего «канона» отдельными людьми или небольшими груп-
пами. Этот протест исходит или от критиков-интеллектуалов,
стремящихся добиться включения новых текстов и противопо-
ставить новые авторитеты старым, или от читателей-маргина-
лов, которые сумели преобразовать и представить свою марги-
нальную культуру как систему ценностей и текстов, отличаю-
щуюся от официальной. История Италии знает много подобных
примеров, известных и малоизвестных, в частности мифиче-
ский случай, произошедший во второй половине XVI в. с мель-
ником из Фриула Меноккио, и второй, в XVII в., — с Мителли
в Болонье.
Подобное происходит и в наше время, в основном с двумя
категориями потребителей книг, молодых и старых: они при-
надлежат к социально неблагополучным слоям общества и много
читают, потому что у них есть свободное время. Они никогда не
будут пытаться составить для себя программу чтения или при-
держиваться определенного «канона», так как из-за слабости ма-
териального и общественного положения в их распоряжении ни-
когда не будет личной библиотеки (ведь они — не юный граф
ГЛАВА 13
461
Леопарди) и никогда не будет средств на ее создание. Следова-
тельно, они читают беспорядочно, все, что попадается под руку,
не разбирая жанров и авторов, направлений и уровней. Они не
знают, но они оспаривают, даже неосознанно, официальный
«канон» и иерархию ценностей.
Не знать, чтобы оспаривать, или оспаривать, чтобы не знать?
Именно в амплитуде этой дилеммы колеблются сегодня при-
чины отказов от «канона», которые мы можем наблюдать в осо-
бенностях ежедневного чтения (помимо более организованных
проявлений протеста, о которых мы уже говорили). Речь идет об
отстаивании права на свободу читать все вне всякого «канона»,
отвергая все существующие. В этом заключается основное от-
личие от позиций студентов Станфорда, стремящихся, протестуя,
«ввести» в «канон» других авторов и их произведения, а также
от требований читателей бывшей Восточной Германии, предпо-
читающих других вместо предлагаемых в «каноне».
Уже в 1961 г. Эудженио Монтале (Eugenio Montale), человек
старого закала, внимательный наблюдатель современных нравов,
заметил разницу между образовательным чтением и чтением по-
требительского характера, а также такими понятиями, как «чи-
тать, чтобы научиться, чтобы помнить и чтобы быть образован-
ным» и «читать, чтобы проводить время, развлекаться и впо-
следствии больше не думать о прочитанном»:
«Особенность заключается в том, — писал он, — что читают все
меньше и меньше книг и все больше и больше периодики, газет и
журналов, настенных афиш и других подобных печатных изданий.
Но читатели летучих ежедневных изданий их даже не читают: они
их смотрят, они их разглядывают. И хотя они по-настоящему умеют
читать, их внимание сравнимо с вниманием, необходимым при чте-
нии комиксов: их разглядывают, а затем бросают» [19].
Сегодня в Америке наблюдается развитие чтения открыто по-
требительского характера, при котором во имя его абсолютной
свободы отвергаются любые системы ценностей и любые педа-
гогические подходы к нему. Во время анкетного исследования,
проведенного социологом Элизабет Лонг в Хьюстоне (крупный
американский город, обращенный в будущее), представители
некоторых из 70 спонтанно образованных читательских групп
462
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
при опросе заявили, что требуют полной независимости в вы-
боре изданий для своего чтения из рекомендуемого перечня, ко-
торый характеризуется ими как «хорош для мусорной корзины».
В нем они предпочитают таинственные истории, научную фан-
тастику, вестерны и т. д. В этих группах можно встретить уни-
верситетских преподавателей (но не гуманитарных наук), пред-
ставителей свободных профессий, бизнесменов: никто не хочет
быть «снобом», все выступают за легитимное право не соблю-
дать навязываемые им регламентирующие условия, связанные с
чтением, и не придерживаться каких-бы то ни было рекоменда-
ций, поступающих извне и касающихся выбора материала для
чтения, которое ими полностью воспринимается как простое
развлечение [20].
Вследствие давления, оказываемого «новыми массовыми чи-
тателями» (по нашему определению), даже американские або-
нементные библиотеки — «храмы» и инструменты распростра-
нения «канона» традиционной и официальной культуры — на-
чали менять свои прежние методы, базирующиеся на основных
классификационных делениях западного знания. Они отказы-
ваются от классификации, введенной Дьюи, и заменяют ее дру-
гими классификационными делениями, которые лучше учиты-
вают требования читателей с потребительским отношением к
чтению. В Детройте, например, появились такие: «классика»;
«искусство»; «современный мир»; «народы и страны»; «юмор»;
«спорт»; «увлечения»; «личная жизнь» (включает также религию
и психологию); «семья»; «дом»; «групповые занятия»; «работа»;
«техника»; «информация» [21]. В крупной публичной библиотеке
отсутствуют также важные традиционные разделы фонда, с по-
мощью которых представители нашего поколения формирова-
лись как личности и получали образование, в частности «естест-
венные науки», «художественная литература», «история», «фи-
лософия», «политика». Нельзя также с уверенностью утверждать,
что новые классификационные деления по своему содержатель-
ному наполнению идентичны прежним. Создается впечатление,
что меняется не только спрос «диких» читателей Хьюстона, но
и предложение. И что некоторые тексты, уже не только больше
не предлагаются для чтения, но очень скоро даже перестанут пе-
реиздаваться, по крайней мере, в объемах, соответствующих мас-
совому спросу.
ГЛАВА 13
463
БЕСПОРЯДОЧНОСТЬ ЧТЕНИЯ
Вышеизложенное свидетельствует о том, что подобное чтение,
которое стало принято называть «пост-модерн» («post-modeme»),
распространяются в самых развитых странах (Соединенные
Штаты Америки, европейские государства). Его характеризуют
прилагательные: «анархичное», «эгоистичное», «эгоцентричное»,
и оно основано на единственном безапеляционном утверждении:
«Читаю то, что хочу» [22].
Как уже говорилось, феномен связан, прежде всего, с кризи-
сом образовательных и идеологических структур, которые до сих
пор поддерживали старый «порядок чтения» («ordre de la lec-
ture»). К ним, в частности, относятся: школа в качестве автори-
тетного руководителя чтением, действующего в соответствии с
определенным перечнем специально отобранных текстов, и Цер-
ковь как пропагандист чтения, ориентированного на благочестие
и моральные нормы, а также представители прогрессивной и де-
мократической культуры, которые видят в чтении незаменимый,
ценный источник формирования идеального гражданина. Но
этот феномен является также следствием как значительно более
высокого уровня грамотности населения, существенно более ши-
рокого доступа к книге в обществе, по сравнению с периодом
30—50-летней давности, так и кризиса на издательском рынке
предложения, неспособного справиться с анархическим спро-
сом, прежде неизвестного в отношении читательских вкусов и
значительного по своим масштабам. Все это очень напоминает
уже пройденный в Европе XVIII в. кризис чтения, когда книга
породила в обществе привычку повседневно заниматься чтением
и новые читатели стали предьявлять постоянно возрастающие
новые требования, которые издательствам удавалось удовлетво-
рять только частично, причем неуверенно и с запозданием.
А также, когда традиционно существовавшие различия между
книгами для народа и книгами для культурных людей почти ут-
ратили свое прежнее значение для читателей-буржуа и некото-
рых недавно ставших грамотными горожан.
В отличие от прошлых времен чтение сегодня больше не явля-
ется для современного человека главным инструментом приоб-
щения к чужой культуре. Его роль в массовой культуре подорвана
телевидением, очень быстро распространившимся в последние
464
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
три десятилетия. В 1955 г. в США 78% семей имели один теле-
визор, но в 1970 г. их уже было 95%, а в 1985 г. — 98%. Парал-
лельно в американском обществе уменьшился выпуск ежеднев-
ных газет: в 1910 г. издавалось более 2500 названий, в 1945 г. —
1750 и в 1985 г. — 1676 названий [23]. Несмотря на различные
данные, подобная ситуация наблюдается в европейских странах
и Японии. В целом можно утверждать, что во всем мире обра-
зование и информирование масс, на протяжении веков обра-
щавшихся для решения своих задач главным образом к печат-
ным изданиям, следовательно — к чтению, в настоящее время
все больше используют для этих целей аудиовизуальные сред-
ства, т. е. слух и зрение, что и заложено в их названии.
Таким образом, впервые книга и другие печатные издания ока-
зываются в конфронтации с реальными и потенциальными чита-
телями, которые привыкли использовать другие средства комму-
никации и которые владеют другими методами приобщения к
чужой культуре, используя, в частности, аудиовизуальные сред-
ства. Они привыкли читать сообщения в движении, причем в
большинстве случаев эти сообщения пишутся и читаются с по-
мощью электронной техники (компьютер, видео, факс). Помимо
этого они привыкли приобщаться к чужой культуре с помощью
не только сложных в использовании, но и дорогостоящих
устройств, владение которыми в корне отличается от методов, не-
обходимых для осуществления обычного процесса чтения. Новые
способы, присущие новым читателям для занятия чтением, сосу-
ществуют с настоящей революцией, происходящей в культурных
отношениях масс, и не могут не испытывать ее влияния.
Известно, что дистанционное управление телевизором по-
зволяет телезрителю мгновенно переключать каналы, перехо-
дить от просмотра фильма к наблюдению за ходом дискуссии,
от игры — к телевизионным новостям, от рекламы — к очеред-
ной серии того или иного сериала и т. д. И все это в условиях
головокружительной смены изображений и эпизодов. Такой бес-
порядочный просмотр позволяет телезрителю самому путем пе-
реключения создавать собственные телевизионные спектакли,
состоящие из однородных или разрозненных, никак не связан-
ных друг с другом фрагментов. Каждый телезритель становится
уникальным автором своих спектаклей, ни один из которых не
вписывается в органическую и логическую телевизионную куль-
ГЛАВА 13
465
туру. Эти «спектакли» являются результатом чередования
одновременно зависимых актов и актов отказа, причем и в том
и другом случае —следствием полной утраты культурных норм,
приводящих к оригинальному культурному творчеству. Дистан-
ционное переключение телевизионных каналов — это совер-
шенно новый инструмент потребления и «аудиовизуального»
творчества. С его помощью потребитель медийной культуры при-
вык получать сообщения, состоящие из неоднородных фраг-
ментов и, что особенно важно, если судить с традиционной и ра-
циональной точек зрения, лишенные «смысла». Речь идет о со-
общении, которое требует минимума внимания для восприятия
и оценки его содержания и максимума напряжения и игрового
участия, чтобы быть созданным.
Это медийное занятие, получающее все большее распростра-
нение, представляет собой прямую противоположность тради-
ционному чтению, для которого характерны линейность и по-
следовательность. Но оно ближе к вольному, прерывистому, то
медленному, то быстрому чтению. Иными словами, такому, ко-
торое свойственно читателям, лишенным культуры чтения. Од-
нако не следует забывать, что телезритель — любитель дистан-
ционного переключения телевизионных программ, также спо-
собен следить, не теряя основной сюжетной линии, за собы-
тиями, разворачивающимися в многочисленных телевизионных
сериалах, этими эпическими компиляциями нашего времени,
универсальными продуктами потребления, каждый из которых
мог бы соответствовать роману из тысячи страниц и более или
дюжинам книг, повествующих о великих эпопеях прошлого.
Дистанционное переключение телевизионных каналов и про-
смотр телевизионных серий, длящихся нередко по нескольку
лет, способствуют формированию потенциальных читателей, ко-
торые не имеют представления о «каноне» и «порядке чтения»,
которым не привито уважение к книге, традиционное для обыч-
ного читателя, к последовательному восприятию текста, имею-
щего начало и конец и читаемого определенными частями, по-
рядок расположения которых установлен другими. Но эти чита-
тели тоже способны прослеживать очень длинные этапы разви-
тия событий в телевизионном сериале, лишь бы они были
насыщены этим мифическим гиперреализмом, свойственным
«народному» творчеству.
466
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
СПОСОБЫ ЧТЕНИЯ
Традиционный порядок чтения заключался (и заключается) не
только в едином с иерархической структурой перечне читаемых
текстов, рекомендуемых для чтения, но и в определенных «об-
рядах» чтения, требующих особого отношения к книге и соблю-
дения читателями правил пользования ею, что определенным
образом связано с организованным пространством, оборудова-
нием и специальными средствами. В тысячелетней истории чте-
ния всегда наблюдались прямо противоположные отношения к
пользованию книгой: профессиональное, строгое, упорядочен-
ное и полностью зависящее от личного выбора. В Европе
XIII—XIV вв., например, с одной стороны, было известно усид-
чивое чтение профессионалов письменной культуры, всегда на-
ходившихся в окружении книг, пюпитров для чтения и различ-
ных инструментов, а с другой — совершенно свободное чтение,
распространенное в придворном обществе, в буржуазной и на-
родной среде, где читали тексты на народно-разговорном языке.
Во времена преобладания «порядка чтения» диктовались и
определенные правила культуры чтения, касающиеся правиль-
ного обращения с книгой, поведения читателей. Эти правила
были тесно связаны с последними достижениями в области пе-
дагогики и применялись в буржуазной школе XIX—XX вв. В со-
ответствии с правилами читать следовало, держась прямо, по-
ложив руки на стол, а книгу — перед собой, причем не двигаясь
и полностью сосредоточась. Не разрешалось шуметь, мешать
другим и занимать много места. Полагалось читать текст в опре-
деленной последовательности: соблюдать в нем очередность ча-
стей, знаки препинания. Переворачивать страницы следовало
аккуратно, не сгибая и не портя их. Эти правила легли в основу
принципов при создании читальных залов англосаксонских пуб-
личных библиотек — «священных мест для чтения всех». Им
практически в неизменном виде следуют в традиционных чи-
тальных залах научных библиотек.
Чтение, основанное на этих правилах и принципах, — всепо-
глощающий серьезный процесс, требующий усилий и внимания.
Нередко он осуществляется совместно с другими читателями,
всегда в тишине, при строгом соблюдении правил. Индивидуаль-
ное чтение для себя, дома, в обстановке полной свободы, есте-
ГЛАВА 13
467
ственно, признавалось, но считалось второстепенным. Его тер-
пели поневоле, воспринимая как потенциально пагубное, так как
оно имело очень мало общего с чтением текстов, предписываемых
так почитаемым «каноном».
Если верить анкетному исследованию, проведенному в Италии
Пьеро Инноченти, который для этой цели опрашивал наугад ото-
бранных читателей с хорошим уровнем культуры, то привычки
итальянцев в чтении, по крайней мере в отношении возрастных и
социальных срезов, остались традиционными. Из 80 опрошенных
очень немногие ответили, что любят читать на свежем воздухе.
12 предпочитают читать, сидя за столом. Четверо назвали биб-
лиотеку. Но для всех самым любимым местом для чтения явля-
ется дом, в доме — спальня (если она имеется). Причем читают
или в постели, или в кресле. Для некоторых идеальным местом для
чтения является поезд, заменяющий им чтение в домашнем кресле.
Главное заключается в том, что эти ответы свидетельствуют о со-
хранившихся на протяжении двух веков привычках в чтении: ни-
чего нового (за исключением поезда) не было отмечено [24].
Традиционный характер чтения, привычки опрошенных в
ходе этого исследования людей объясняются или их высоким
уровнем культуры, или их социальной принадлежностью, или
определенным возрастом, или, если речь идет о европейцах, их
приобщенностью к чужой культуре. Не случайно, что предпо-
чтения только одной девушки (ее возраст не превышал 21 года,
и у нее было только одно свидетельство об окончании учебного
заведения) отличались от всех остальных: она ответила, что
любит читать, лежа на ковре [25].
Мы отмечали, что молодые люди, не достигшие 20 лет, пред-
ставляют потенциальных читателей, не признающих какого бы то
ни было «канона» и предпочитающих доверять своему личному вы-
бору анархичного характера. Они также отвергают любые правила,
связанные со следованием «канону». Не так давно было написано:
«молодежь утверждает, что она читает обо всем и везде, где ей нра-
вится. По ее мнению, чтение комикса возможно в любом окруже-
нии...» [26].
Впечатление, которое складывается от посещения американ-
ских университетов, и особенно их библиотек (оно основано, ко-
468
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
нечно, на личном опыте, но его можно сделать более обобщен-
ным), выражается в том, что молодые читатели действительно
меняют как в этих, так и в других учреждениях до сих пор су-
ществующие достаточно строгие правила обращения с книгой
и отношения к ней. То, что это явление было отмечено в биб-
лиотеках, европейскому наблюдателю кажется еще более пока-
зательным. Это говорит о том, что традиционная модель боль-
ше не действует на практике даже в местах своего прежнего
триумфального господства.
Каким образом тогда проявляется новый modus legendi, при-
верженцами которого являются ноЬые читатели?
Больше всего они ценят совершенно свободное, выбранное
ими и предпочтительное для них положение тела. Они считают
возможным читать, лежа на земле, опершись о стену, примос-
тившись внизу, на выступе стойки для просмотра литературы.
Позволяют себе за чтением положить ноги на стол (уже давно
знакомый стереотип) и т. д. Кроме того, «новые читатели» пол-
ностью отвергают или используют не по назначению такие пред-
меты мебели, как стол, стойка для просмотра литературы и др.
На них они очень редко располагают, как это принято, откры-
тую книгу и скорее видят в них опору для своего тела и его ча-
стей: спины, ног, рук, принимая бесконечные варианты поз,
свидетельствующие об их индивидуальных представлениях об
удобстве чтения. Наконец, новая манера чтения связана со зна-
чительно интенсивным в физическом плане обращении с кни-
гой (по сравнению с бережным, традиционным): книгу безжа-
лостно мнут, сгибают, комкают, как будто этими актами наси-
лия хотят сделать ее своей в буквальном смысле слова. И это в
первую очередь говорит о потребительском отношении к чтению,
чем о его использовании в образовательных и культурных целях.
Это новое отношение к чтению свидетельствует об измене-
ниях, происходящих в социальной сфере, что хорошо просле-
живается на примере обеспечения сохранности книг в недавнем
прошлом и настоящем. В соответствии с традиционными пра-
вилами, книгу следует хранить в специально предназначенных
для этих целей учреждениях, например в библиотеке, или у част-
ных владельцев, располагающих соответствующей мебелью:
книжными шкафами, стеллажами и т. д. Сегодня в домашних
условиях (а также в библиотеках, где все большее место зани-
ГЛАВА 13
469
мают документы на небумажных носителях) книга соседствует с
большим количеством электронной аппаратуры и электронных
документов, являющихся источниками получения информации
и образования, а также многочисленными техническими, тех-
нологическими и чисто символическими новинками, которыми
молодые люди любят себя окружать, подчеркивая оригиналь-
ность своего образа жизни. Из всех перечисленных предметов
книга для них — самый дешевый предмет, она больше всего под-
вержена манипулированию (на ней можно писать, рисовать) и
ее легче всего испортить, нанести ущерб. Изменения в ее хра-
нении тесно связаны с изменениями в ее использовании: на-
сколько отношение к книге стало легким, свободным, завися-
щим от инициативных выдумок ее хозяина, настолько стало иг-
норироваться значение ее определенного местонахождения,
обеспечивающего в том числе надлежащие условия ее сохран-
ности. Книга (если она имеется) хранится, как правило, среди
прочих самых разнообразных предметов, соседствующих с бес-
конечно сменяемыми мебельными гарнитурами, нередко разде-
ляя их призрачную судьбу.
Все это оказывает влияние на привычки чтения, так как крат-
кие сроки хранения книги и отсутствие определенного место-
нахождения (что не облегчает ее быстрый поиск) затрудняет и
даже делает невозможным такие прежде частые занятия, как,
например, перечитывание уже знакомого произведения: свиде-
тельство того, что над содержанием книги следует размышлять,
что к тексту должно относиться с уважением, он заслуживает за-
поминания, способствует образованию. Прежнее отношение
противоречит современному, суть которого состоит в том, что
книга — предмет для сиюминутного использования: употребить
и отбросить, едва прочитав.
Уже прошло несколько лет, как Ханс Магнус Энценсбергер
после категорического утверждения, что «чтение — это анархи-
ческий акт», продекларировал абсолютную свободу для читателя
в духе авторитарной критически-интерпретативной традиции:
«Читатель всегда прав. И никто не может отнять у него свободы
использовать текст по своему усмотрению» или еще:
«Частью этой свободы является право бегло, листая, просматривать
книгу от начала до конца, пропускать целые абзацы, читать пред-
470
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
ложения как заблагорассудиться, переставлять их части, снова ком-
поновать, соединять по своему усмотрению, улучшать всевозмож-
ными ассоциациями, извлекать совершенно не свойственные дан-
ному тексту выводы, приходить в бешенство или радоваться чте-
нию текста, забывать про него или делать плагиат и даже бросить
книгу в угол» (27].
ОТСУТСТВИЕ «КАНОНОВ» И НОВЫЕ «КАНОНЫ»
Современная ситуация, кажется, свидетельствует о четком про-
явлении признаков постепенного исчезновения «порядка чте-
ния», свойственного западной письменной культуре, идет ли
речь о перечне рекомендуемых текстов, их использовании и хра-
нении. Этому значительно способствовала система издательского
производства, действовавшая иррационально и старавшаяся в
кратчайшие сроки извлечь наибольшую выгоду, не заботясь о бу-
дущем, тогда как сосуществование в одной и той же медийной
системе книг (и других печатных изданий) с аудиовизуальными
документами отодвигает первые на второй план и ослабляет их
из-за неспособности приспособиться к требованиям времени, в
частности к новым способам использования и обучения, все
больше и больше отдаляющимся от принятых в традиционной
письменной культуре. Другим дополнительным аспектом про-
явления этого феномена является уже проанализированное здесь
чтение по-новому, свойственное «анархическому читателю» («1е-
cteur anarchique»), до настоящего времени приписываемое только
молодежи, но которое будет постепенно распространяться и на
читателей других возрастных категорий и в недалеком будущем,
вероятно, станет доминирующим.
Этому новому читателю и его нововведениям, связанным с
чтением, в определенной степени соответствует другой потен-
циально «анархический» и «аномальный» образ из сферы изда-
тельского производства. Речь идет об авторе издательской про-
дукции широкого потребления, который создает паралитературу
(занимается маргинальным литературным творчеством), пере-
писывает тексты других авторов, фабрикует детективные или
слащавые романы или компилирует статьи из низкопробных
газет. Он, как правило, приговорен к неизвестности. Затерян-
ГЛАВА 13
471
ный среди прочих членов редакционной бригады, он, как пра-
вило, всегда анонимный. Это не новое явление в длинной исто-
рии западной письменной культуры, непременно возникающее
в условиях кризиса издательского производства, резкого увели-
чения количества читателей и явного различия в качественном
уровне выпускаемых изданий, как это наблюдалось, например,
во Франции второй половины XVIII в. накануне революции [28].
На разных исторических этапах подобный персонаж нередко
играл роль активно протестующего против существующей си-
стемы, в том числе в области культуры (или политики), так же,
как это может произойти (и уже частично происходит) с похо-
жим на него «анархичным» читателем.
Все вышеизложенное особенно характерно (но не исключи-
тельно) для западного мира, который помимо Европы охваты-
вает Соединенные Штаты Америки, СССР (по крайней мере до
1989 г.), Японию и несколько других культурных пространств,
рассеянных в меньших масштабах по всему земному шару. Но
это не свойственно другим культурным традициям, все еще гор-
дящимся своими особыми текстовыми «канонами» и их специ-
альными «обрядами» чтения. Речь идет, прежде всего, о мусуль-
манском мире, богатом обширным письменным наследием, от
которого, кажется, он не расположен отказываться, даже когда
старается приспособиться к процессу западного потребления.
Это также не характерно для китайского сообщества, пока еще
закрытого в своем догматическом почитании культурной тради-
ции, несмотря на то, что она богата многочисленными направ-
лениями, хотя и разного качественного уровня.
Факт, что мир разделен на культурные пространства, отли-
чающиеся друг от друга с точки зрения производства и исполь-
зования продуктов письменной культуры, конечно, не нов. Так
было всегда, причем в прошлом, включая недалекое, эти разли-
чия были даже сильнее. Но проблема чтения в будущем (трак-
туемая однозначно или нет) стала особенно актуальной в конце
XX в., когда в условиях медийной культуры тенденции монопо-
лизации и унификации рынков и продуктов проявляются все
отчетливей.
В целом представляется (насколько возможно это предви-
деть), что такие явления, как ослабление западного «канона» и
появление новых перечней для чтения в условиях многорасовых
472
АРМАНДО ПЕТРУЧЧИ
культур или частных конфликтных ситуаций, укрепление пози-
ций «анархического» чтения, характеризуют чтение как раз-
дробленный, разнообразный процесс, полностью лишенный
каких-либо правил, за исключением тех, которые выполняются
отдельными личностями или небольшими группами. Прямо про-
тивоположное отмечается в электронных средствах массовой ин-
формации, особенно на телевидении, где также происходит бы-
строе унифицирование «канона» программ в мировом масштабе
и объединение самой разнообразной телезрительской аудитории
независимо от культурных традиций (даже если «партизанская
война» (guerilla) на поле индивидуального дистанционного пе-
реключения телевизионных программ уже начинает создавать
свой «плацдарм» анархического беспорядка, проявляющегося
как фактор внутри «железного порядка» на телевидении).
На самом деле это ошибка (может быть, неизбежная) зада-
ваться вопросом, следует ли рассматривать чтение в будущем
(исходя из его описания здесь) как положительное или нет, т. е.
зависящее от индивидуальных предпочтений и личного выбора,
не признающее правил и иерархии, существующее в условиях из-
дательского хаоса и «дикого» потребления, смешения различных
текстовых перечней. Реальность такова, что этот сложный и об-
ширный феномен примет достаточно четкие очертания через
10 или 20 лет, в начале третьего тысячелетия. И только через
50 или 100 лет мы сможем узнать, куда он нас приведет. И если
мы это узнаем, то вынесем суждение.
Сегодня — нет, слишком рано.
ПРИМЕЧАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1. Michel de Certeau, [.'Invention du quotidien, vol.l, Arts de faire (1980), reedition,
Paris, Gallimard, 1990, p. 251.
2. Там же. С. 47.
3. Paul Ricceur, Temps et recit, Paris, Editions du Seuil, 1985, vol. 3, Le Temps raconte,
p. 228 -263.
4. Stanley Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Commu-
nities, Cambridge, Mass., et Londres, 1980.
5. D. F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of Texts, The Panizzi Lectures, 1985,
Londres, The British Library, 1986, p. 20.
6. Roger Stoddard, «Morphology and the Book from an American Perspective»,
Printing History, 17, 1990, p. 2-14.
7. Ограничимся тем, что отошлем читателя к ставшей классической работе:
Е. G. Turner, Athenian Books in the Fifth and Fourth Centuries В. C., Londres, 1977.
8. В. M. W. Knox, «Silent Reading in Antiquity», Greek, Roman and Byzantine Stu-
dies IX (1968), p. 421-435.
9. Отметим, что Платон более снисходителен к письменной речи, когда это
не касается разговора о философии и «истине» (см. G. Cerri, Platone sociolo-
go della comunicazione, Milan, 1991, p. 119—128.
10. О глаголах, обозначающих различные способы чтения, см. (помимо статьи
Pierre Chantraine, «Les verbes grecs signifiant "lire"», in Melanges Henri Gre-
goire, П, Bruxelles, 1950, p. 115—126, и работ Свенбро (Svenbro)) следующие
сообщения: G. F. Nieddu, «Decifrare la scrittura, "Ipercorrere" il testo: momen-
ti e livelli diversi dell'apporoccio alia lettura nellessico dei Greci», Giornale
italiano di filologia XL (1988), p. 17—37; D. J. Allan, «Anagignosko and Some
Cognate Words», The Classical Quarterly (1980), p. 224 — 251.
11. О разных этапах перехода от устной культуры к письменной см.:
L. Е. Rossi, «L'ideologia dell'oralita fino a Platone», in G. Cambiano, L. Canfora,
D. Lanza (ed.), Lo spazio letterario della Grecia antica, I: La produzione e la circo-
lazione del testo, 1: La polis, Rome, 1992, p. 77—106.
12. Необходимо сослаться на книгу: L. Canfora, La Veritable Histoire de la biblio-
theque d'Alexandrie, Paris, 1988.
13. R. Nicolai, «Le biblioteche dei ginnasi», Nuovi annali della Scuola speciale per
archivisti e bibliotecari I (1987), p. 17—48.
14. M. Citroni, «Le raccomandazioni del poeta: apostrofe al libro e contatto col des-
tinatario», Maia, XXXVIII (1968), p. 111—146.
15. G. M. Rispoli, «Declamazione e lettura nelle teoria retorica e grammaticale greca»,
Koinonia XV (1991), p. 93-133.
474
ПРИМЕЧАНИЯ
16. Подробнее о проблеме передачи древних латинских текстов см.: О. Ресеге,
«I meccanismi della tradizione testuale», in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina
(ed.), Lo spazio letterario di Roma antica, III: La ricezione del testo, Rome, 1990,
p. 297 - 386.
17. J. Diethart-Ch. Gastgeber, «Sechs eindringliche Himweise fiir den Byzantinischen
Leser aus der Kommentarliteratur zu Dionysos Thrax», Byzantinische Zeitschrift,
LXXXVI—LXXXVII (1993-1994), p. 386-401.
18. E. Patlagean, «Discours ecrit, discours parle a Byzance», Annates ESC, XXXIV
(1979), p. 264 — 278; в этой статье вы найдете несколько проницательных
замечаний о византийской письменной культуре.
19. Основополагающая работа, посвященная техникам чтения в эту эпоху:
F. Alessio, «Conservazione е modelli di sapere nel medioevo», in P. Rossi
(ed.), La memoria del sapere. Forme dt conservazione e strutture organizzative
dall'antichith a oggi, Rome-Bari, 1988, p. 93—133.
20. Francesco Petrarca, De remediis utriusque fortunae, 1, 43, ed. G. Contini, in Mostra
di codici petrarcheschi laurenziani, Florence, 1974, p. 75—81 (особенно c. 79).
21. Об этой и других проблемах отношений между книгой, чтением и чи-
тающей публикой в последние столетия эпохи Средневековья см.:
A. Petrucci, «II libro manoscritto», in Letteratura italiana Einaudi, П: Produzione e
consumo, Turin, 1983, p. 499— 524.
ГЛАВА 1
В этой главе изложены основные положения двух работ, к которым мы пригла-
шаем обратиться читателям, желающим узнать больше о поднятых в ней во-
просах: J. Svenbro, Phrasikleia. Anthropologie de la lecture en Grice ancienne, Paris, 1988;
он же, «La lecture A haute voix. Le tёmoignage des verbes grecs signifiant "lire"»,
в: Cl. Baurain, C. Bonnet et V. Crings (ed.), Phoinikeia grammata. Lire et ecrire en Mediter-
ranee, Li£ge — Namur, 1991, p. 539 — 548.
1. P. Chantraine, «Les verbes grecs signifiant "lire"» in: Melanges Gregoire, II, Brux-
elles, 1950, p. 115-126.
2. Софокл, fr. 144 Nauck2.
3. Феокрит. Идиллии. 18, 47— 48.
4. Эпихарм, fr. 224 Kaibel.
5. См.: C. Gallavotti, «Letture epigrafiche», Quademi urbinati di cultura classica,
№ 20,1975, p. 172—177; B. Forssman, «ANNEMOTA in einer dorischen Gefassin-
schrift», Miinchener Studien zur Sprachwissenschaft, 34, 1976, p. 39 —44.
6. Гесихий, s.v. annemein (=ananemein); Комментарии к Пиндару, III, 222, 16—
17 Drachmann.
7. W. Peek, Griechische Vers-Inschriften, I, Berlin, 1955, № 1210, 1—3.
8. См.: E. Benveniste, Problemes de linguistiqie generale, Paris, 1966, p. 168—175
(«Actif et moyen dans le verbe»).
9. Chantraine, art. cite, p. 115.
10. Плутарх. Жизнеописание Ликурга. 16, 10.
11. Алкман, fr. 40 Page.
12. Гермипп (Hermippe), fr. 88 Wehrli.
ПРИМЕЧАНИЯ
475
13. О магистратах, называемых nomoidds, см. у Страбона XII, 2, 9.
14. Симонид fr. 37, 11 — 12 Page; Геродот, I, 173.
15. Гесиод. Труды и дни. 224, 213.
16. Плутарх, op. cit., 13, 1—4.
17. A. Magdelain, La Loi a Rome, Paris, 1978, p. 17.
18. Платон. Теэтет. 143 с.
19. См.: Демосфен, XXI, «Против Мидия», 8, 10 и т. д.
20. Р. Herrmann, «Teos und Abdera im 5. Jahrhundert v. Chr.», Chiron, 11, 1981,
p. 8, 11.
21. Chantraine, art. cite, p. 126.
22. Гесихий, s.v. epineimato.
23. Пиндар. Олимпик. 10, 1.
24. Chantraine, art. cite, p. 115.
25. Это выражение можно найти: Гиппократ. О диете. I, 23.
26. Anecdota Graeca, II, 793 — 795 Bekker; ср. Liddell-Scott-Jones, s.v. stoikheion, II, 1.
27. Ксенофонт. Меморабилии. I, 6, 14.
28. Эзоп. Басни. 276 Chambry.
29. Об этих глаголах см. цитировавшуюся выше статью Шантрена, с. 122—126
и 118 соответственно. Что касается значения «жить с...», см.: Плутарх.
Жизнеописание Солона, 20, 4, и Ксенофонт. Анабасис. I, 2, 12, и далее.
30. Горгий, fr. 11, 8 Diels-Kranz.
31. Пиндар, fr. 152 Bowra, и далее.
32. М. Charles, Rhttorique de la lecture, Paris, 1977, p. 9.
33. Eschine, Centre Timarque (Эсхин. Против Тимарха) с комментариями
К. J. Dover, Homosexualite greuce, tr. Fr., Paris, 1982, p. 42.
34. M. Foucault, Histoire de la sexualite, II: L'Usage des plaisirs, Paris, 1982,
p. 205 -269.
35. См. выше c. 4 и № 5.
36. Платон. Федр. 242 с.
37. Платон. Республика. II, 9, 366 е.
38. G. Pfohl, Greek Poems on Stones, I: Epitaphs. From the Seventh to the Fofth Century
(Textus Minores, 36), Leyde, 1967, № 15.
39. M. Guarducci, Epigrafia greca, III, Rome, 1975, p. 482.
40. M. Burzachechi, «Oggetti parlanti nelle epigrafi greche», Epigraphica, 24, 1962,
p. 3-54.
41. M. Lazzarini, Le formule delle dediche nella Grecia arcaica (Atti della Accademia
nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di scienze morali, storiche e filologiche,
8-e serie, XIX, 2), Rome, 1976, № 658.
42. Сошлемся здесь на классическую статью Дж. Бэйлое (J. Balogh) «Voces pag-
inarum», Philologus, 82, 1927, p. 84—109 и 202—240, а также на замечания,
сделанные в статье Б. М. В. Нокса (В. М. W. Knox) «Silent Reading in Antiq-
uity», in Greek, Roman and Byzantine Studies, 9, 1968, p. 421—435.
43. Платон. Критон. 54d.
44. Платон. Софист. 263 e — 264 а; Теэтет. 189 e — 190 a.
45. Платон. Апология Сократа. 31 d (ср.: Феаг, 128 d; Федр, 242 b—с).
46. Daimonion — уменьшительная форма от daimon, буквально «раздатчик»
(от — daiesthai — «раздавать»).
476
ПРИМЕЧАНИЯ
47. Е. A. Havelock, «Dikaiosune. An Essay in Greek Intellectual History», Phoenix,
23, 1969, p. 49-70.
48. Knox, art. cite, p. 432 —435.
49. Еврипид. Ипполит. 874 — 875.
50. Аристофан. Всадники. 118—127.
51. Р. Saenger, «Silent Reading. Its Impact on Late Medieval Script and Society»,
Water, 13, 1982, p. 378.
52. Saenger, art. cite, p. 378 —380, 383 —384, 405.
53. Плутарх. Солон. 29.
54. Ср. Ch. Segal, La Musique du Sphinx, Paris, 1987, p. 263 — 298.
55. G. Thomson, Aeschylus and Athens, 2-e ed. Londres, 1950, p. 181 — 183.
56. Гомер. Одиссея. 15, 167—170.
57. Платон. Тимей. 72 a—b.
58. A. Pickard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, 2-e ed., Oxford, 1962,
p. 88.
59. Аристотель. О чувственном восприятии. 437 b.
60. Там же; ср. Эмпедокл, fr. В 89 Diel-Kranz.
61. Александр Афродизский. О чувственном восприятии. 56, 12.
62. Ср.: S. Sambursky, The Physical World of the Greeks, Oxford, 1956, p. 126—
128.
63. Левкипп, fr. A9 Diels-Kranz.
64. Эта и последующие цитаты — стихи 432—434; 103; 465—469; 646— 648.
65. Геродот, I, 124, 187; II, 102, 106, 133, 136, 141; III, 88; IV, 91; V, 60, 61, 90, 92;
VI, 77, VII, 228; VIII, 22, 136.
66. Платон. Федр. 275 d.
67. Еврипид. Ипполит. 865; 877; 878 — 880.
68. Платон. Федр. 275 d — 276 а; ср.: Филеб. 38 е — 39 а.
69. Пиндар. Олимпик. 10, 1—3.
70. Аристотель. Поэтика. 4, 1449 а 16.
71. Эсхил. Прометей прикованный. 788—789. Последующие цитаты взяты из
следующих произведений: «Просительницы», 178—179; 991—992; «Эвме-
ниды», 273—275; «Хоэфоры» («Жертва у гроба»), 450.
72. Платон. Федр. 276 d.
73. «Афиней», VIII, 276 а; X, 448 Ь; 453 с — 454 а (= Callias, fr. 31 Edmonds).
См:. Е. Pohlmann, «Die ABC-Komodie des Kallias» in Reinisches Museum, 114,
1971, p. 230- 240.
74. Еврипид, fr. 382 Nauk2.
75. Софокл, fr. 117 Nauk2.
ГЛАВА 2
1. A. E. Astin, Cato the Censor, Oxford, 1978, p. 135—137.
2. Плутарх. Катон Старший. 20, 7.
3. Подробнее об этом см.: N. Lewis, Papyrus in Classical Antiquity, Oxford, 1974,
p. 85-87.
4. Тит Ливий, XL, 29, 6.
ПРИМЕЧАНИЯ
477
5. Lewis. Papyrus, op. cit., p. 88. T. Dorandi, «Lucilio, fr. 798 Krenkel», Studi ital-
iani di filologia classica, LXIII (1982), p. 216—218, а также «Glutinatores»,
Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik, L (1983), p. 25—28.
6. J. van Sickle, «The Book-Roll and Some Conventions of the Poetic Book», Arethusa,
XIII (1980), p. 12.
7. Mariotti. Lezioni su Ennio, Urbin, 1991, p. 17—23.
8. Плутарх. Катон Младший. 68, 2 — 70,2.
9. Цицерон. О пределах добра и зла (De fin.), 3, 7.
10. О библиотеках, привезенных в качестве военных трофеев, и обо всех прочих
личных библиотеках Рима конца Республики и первых веков Империи
см.: Н. Blanck, Das Buch in der Antike, Munich, 1992, p. 152—160.
11. Интересные замечания о книгах и библиотеках во времена Цицерона можно
найти в: G. Cavallo, Р. Fedeli, A. Giardina (под. ред.). Lo spazio letterario
di Roma antica III: La ricezione del testo, Roma, 1990, p. 314—319.
12. Цицерон. Ad Q. fr. Ш, 5, 6.
13. Цицерон. Brut., 65, 122, 129, 133.
14. Цицерон. Att, II, 20, 6.
15. Там же, I, 20, 7, а также II, 1, 12.
16. Там же, IV, 10, 1 и IV, 14, 1 и «О пределах добра и зла» (De fin.) Ill, 7.
17. Р. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, Munich, 1987, p. 35—38.
18. Катулл, 14. 17—18; Цицерон, О философии (Phil.), 2, 21. См.:
Т. Р. Wiseman, «Looking for Camerius. The Topography of Catullus 55», Papers
of the British School at Rome, XLVIII (1980), p. 6—16.
19. Цицерон. Тускуланские беседы. IV, 6.
20. Там же, I, 6.
21. Цицерон. О пределах добра и зла (De fin), V, 52.
22. Е. Rawson, Intellectual Life in the Late Roman Republic, Londres, 1985, p. 49. Ho
нам все же кажется, что автор сильно преувеличил темпы роста числа
читателей в республиканском Риме.
23. Е. A. Lowe, Codices Latini Antiquiores, III, Oxford, 1938, № 385.
24. Катулл, 22. См. также: L. Gamberale, «Libri e letteratura nel carme 22 di Ca-
tullo», Materiali e discussioni, VIII (1982), p. 143—169.
25. R. D. Anderson, P. J. Parsons, R. G. M. Nisbet, «Elegiacs by Gallus from Qasr Ibrim»,
The Journal of Roman Studies, LXIX (1979), Oxford, p. 125—155.
26. E. A. Lowe, Codices Latini Antiquiores, II, Oxford, 1972 (2), № 223 и Suppl., Ox-
ford, 1971, № 1721.
27. E. Auerbach, Literaturschprache und Publikum in der lateinischen Spdtantike und Mit-
telalter, Beme, 1958, p. 178.
28. P. Veyne, La vita private nell'Impero romano, Rome—Bari, 1992, p. 14.
29. Подробнее о публичных библиотеках Древнего Рима см.: Н. Blanck, Das Buch,
op. cit., p. 160—178.
30. V. M. Strocka, «Romische Bibliotheken», Gymnasium, LXXXVII (1981), p. 315.
31. H. Blanck, op. cit., p. 120—129.
32. Авл Геллий, Аттические ночи, XVIII, 4, 11.
33. H.-J. Martin, Histoire et pouvoirs de I'ecrit, Paris, 1988, p. 81.
34. Cm.: H.-I. Marrou, Mousikos aner. Etudes sur les scenes de la vie intellectuelle
figurant sur les monuments funeraires remains, Grenoble, 1938, p. 24—197.
478
ПРИМЕЧАНИЯ
35. Интересные соображения по этому поводу можно найти в кн. S. Settis,
A. La Regina, G. Agosti, V. Farinella, La colonna traiana, Torino, 1988,
p. 107-114.
36. Петроний. Сатирикон. 58, 7.
37. R. P. Duncan-Jones, «Age-Rounding, Illiteracy and Social Differentiation in the
Roman Empire», Chiron, VII (1987), p. 335 — 353.
38. Квинтилиан. Наставление оратору. I, 1, 25 — 34.
39. Петроний. Сатирикон. 75, 4.
40. Фундаментальный труд Дж. Бэлоу — J. Balogh, «Voces paginarum». Beitrage
zur Geschichte des Lauten Lesens und Schreibens», Philologus, LXXXI1 (1927),
p. 84—129 и 202—240, — по-прежнему очень полезен благодаря при-
веденному в нем фактическому материалу, хотя многие его положения
устарели и требуют критического пересмотра.
41. См. К. Quinn, «The Poet and his Audience in the Augustan Age», W. Haase
(ed.) Aufstieg und Niedergang der romischen Welt, II: Principal, 30, Berlin—New
York, 1982, p. 155-158.
42. Квинтилиан. Наставление оратору. I, 8, 1.
43. Авл Геллий. Аттические ночи. XVIII, 4, 2.
44. Первоисточники и фактические материалы можно найти в: F. Di Capua,
«Osservazioni sulla letture e sulla preghiera ad alta voce presso gli antichi»,
Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, XXVIII
(1953), p. 59-62.
45. J. Marouzeau, «Le style oral latin», Revue des etudes latines, X (1932), p. 147—
186.
46. Квинтилиан. Наставление оратору. IX, 4, 138 и XI, 2, 33.
47. Об античной пунктуации см. фундаментальную докторскую диссерта-
цию Р. В. Мюллера (R. W. Muller, Rhetorische und syntakttsche Interpunktion.
Untersuchungen zur Pausenbezeichnung im antiken Latein, Tubingen, 1964),
а также очень интересные наблюдения М. Б. Паркса (М. В. Parkes, Pause
and Effect. An Introduction to the History of Punctuation in the West? Aidershot,
1992, p. 9-19).
48. H.-J. Martin, «Pour une histoire de la lecture», Revue franfaise d'histoire du livre,
XVI (1977), p. 585.
49. Cm.: Quinn, The Poet and his Audience, op. cit., p. 158—165.
50. U. E. Paoli, «"Legere" et "recitare"», Atene e Roma, III (1922), p. 205 — 207 (цитата
находится на с. 206).
51. Р. Fedeli, «I sistemi di produzione e diffusione» in: G. Cavallo, P. Fedeli, A. Gi-
ardina (под ред.), op. cit., II, t. 349 — 367.
52. В. M. V. Knox, «Silent Reading in Antiquity», Greek, Roman and Byzantine Stu-
dies, IX (1968), p. 421—435; S. Mollfulleda, «La lectura, eslabon entre la lengua
escrita у la hablada?», Revista espanola de linguistica, XVIII (1988), p. 38 и след.
53. Гораций. Сатиры. I, 6, 122 и II, 5, 68; св. Августин. Исповедь. VI, 3, 3 (по
поводу св. Амвросия).
54. R. Chartier, «Du livre au lire», dans R. Chartier (sous la dir. de), Pratiques de la
lecture, Marseille—Paris, 1985, p. 67.
55. Апулей. Метаморфозы. I, 1, 1.
56. Лукиан, Ind., 2-4, 7, 18-19, 24.
ПРИМЕЧАНИЯ
479
57. Плиний. Письма. IX, 23, 2.
58. Ювенал. Сатиры. 6, 451.
59. Овидий. Метаморфозы. IX, 522 — 525.
60. Там же. IV, 576-583.
61. Овидий. Послания с Понта. 3, 1—4.
62. Овидий. Наука любви. II, 745 — 746; III, 45 —48.
63. Примеры были собраны и проанализированы в статье М. Ситрони (М. Cit-
roni) «Le raccomandazioni del poeta: apostrofe e al libro e contatto col desti-
natario», Maia, XXXVII (1986), p. 11—46.
64. E. G. Turner, Greek Manuscripts of the Ancient World, Londres, 1987, p. 96.
(2-е изд., испр. и доп., под ред. П. /Дж. Парсонса (Р. J. Parsons).
65. Овидий.Скорбные элегии. П, 471—492.
66. М. Citroni, «Marziale е la letteratura per I Satumali (poetica dell'intrattenimento
e cronologia della publicazione dei libri)», Illinois Classical Studies, XIV (1989),
p. 201—206 (примеры на с. 205).
67. M. Citroni, Poesia e lettori in Roma antica, Rome—Bari, 1995. c. 442 и след.
68. Все случаи проанализированы в приведенной выше работе М. Ситрони:
М. Citroni, Marziale, op. cit., p. 206 — 226 (пример на с. 226).
69. Многочисленные примеры собраны и изучены в: F. De Martino, «Per una sto-
ria del genere pomografico», dans O. Pecere, A. Stramaglia (под ред.), La let-
teratura di consume nel mondo greco e latino.
70. Лонг. Proem., 3.
71. Подробнее о читателях такого рода произведений см.: Т. Hagg, The Novel in
Antiquity, Oxford, 1983, p. 90—101; K. Treu, «Der antike Roman und sein Pulikum»,
dans «Н. Kuch (под ред.), Der antike Roman. Untersuchungen zur literarischen
Kommunikation und Gattungsgeschichte, Berlin, 1989, p. 178—197; E. L. Bowie,
«Les lecteurs du roman grec», dans M. F. Baslez, Ph. Hoffmann, M. Trede (nod ped.),
Le Monde du roman grec. Actes du colloque international tenu d I'Ecole normale superieure
(Paris, 17—19 decembre 1987), Paris, 1992, p. 55—61.
72. Фотий. Библиотека, cod. 166, 111 a—b.
73. B. Egger, «Zu den Frauenrollen im griechischen Roman. Die Frau als Heldin
und Leserin», Gronongen Colloquia on the Novel, L Groningue, 1988, p. 33—66.
74. Лукиан, hnag., 9.
75. P. Fedeli, dans Petronio Arbitro. I racconti del «Satiricon», Rome, 1988, p. 7—15.
76. Апулей. Метаморфозы. IX, 30, 1.
77. Там же. I, 1, 1.
78. A. Henrichs, Die Phoinikika des Lollianos. Fragmente eines neuen griechischen
Romans, Bonn, 1972.
79. Так утверждает византийский лексикон Суда (изд. A. Adler, IV, Leipzig, 1953,
Р-724).
80. См.: М. В. Parkes, Pause and Effect, op. cit., p. 12.
81. The Oxyrhynchus Papyri, LXII, Londres, 1974, № 3010.
82. Авл Гелий. Аттические ночи. IX, 4, 1—5.
83. Е. G. Turner, Greek Papyri. An Introduction, Oxford, 1980, p. 204.
84. N. Horsfall, «The Origins of the Illustrated Book», jigiptus, LXIII (1983),
p. 199-216.
85. Papiri dell'Istituto papirologico «G. Vitelli», I, Florence, 1988, p. 32 и след.
480
ПРИМЕЧАНИЯ
86. A. Hartmann, Eine Federzeichung auf einem Miinchener Papyrus, in Festschrift filr
G. Leidinger zum 60. Geburtstag am 30. Dezember 1930, Munich, 1930,
p. 103-108.
87. The Oxyrhynchus Papyri, LXII, cit., № 3001.
88. The Oxyrhynchus Papyri, XXII, cit., № 2331.
89. M. Ситрони (M.Citroni, Poesia e lettori, op. cit., p. 442—459) совершенно
справедливо связывает это явление с увеличением числа читателей.
90. Марциал, I, 117, 10-7; IV, 72, 2; XIII, 3, 4.
91. Марциал, I, 2, 1-4; XIV, 184, 186, 188, 190, 192.
92. Е. A. Lowe, Codices Latini Antiquiores, II, op. cit., № 207.
93. Подробнее об этих дискуссиях, помимо ставшего классическим труда:
С. Н. Roberts, Т. С. Skeat, Тпе Birth of the Codex, Oxford, 1983, рекомендуем
обратиться к следующим работам! М. McCormic, «The Birth of the Codex
and the Apostolic Life-Style», Scriptorium, XXXIX (1985), p. 150—158; J. van
Haelst, «Les origines du codex», dans A. Blanchard (под ред.), Les Debuts du
codex, Turnhout, 1989, p.13—35; W. V. Harris, «Why Did the Codex Supplant
the Book-Roll?», dans J. Monfasani, R. G. Musto (под ред.), Renaissance Soci-
ety and Culture. Essays in Honor of Eugene F. Rice, Jr., New York, 1991,
p. 71—85; T. C. Skeat, «Irenaeus and the Four Gospel Canon», Novum Testa-
mentum, XXXIV (1992), p. 194—199, а также «The Origin of the Chris-
tian Codex», Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik, СП (1994),
p. 263-268.
94. См.: T. Hagg, The Novel, op. cit., p. 154—165 (пример на с. 162), а также
недавно опубликованный сборник La narrativa cristiana antica. Codici narrativi,
strutture formali, schemi retorici. XX11I Incontro di studiosi dell'antichita cristiana
(Roma, 5—7 maggio 1994), Rome, 1995.
95. Кирилл Иерусалимский. Procatech., 14 (PG, XXXIII, col. 356 A—B).
96. Св. Августин. Разговоры с самим собой, 1,10,17 в изд. W. Hermann, Vienne,
1986, р. 26 (CSEL, 89).
97. Vita Melan. Jun., 23 (см. также параграфы 26 и 33, сведения из которых были
использованы выше), в изд.: D. Goree, Paris, 1962, р. 174, 178, 180, 188
(SC, 90). Об отношении святой Мелании к книжной культуре см. заме-
чательную работу А. Джардина (A. Giardina) Melania, la santa в сборнике
под редакцией А. Фраскетти (A. Fraschetti), Roma al femminile, Rome—Bari,
1994, p. 277 — 283.
98. A. Petrucci, «Dal libro unitario al libro miscellaneo», dans A. Giardina
(под ред.), Societa romana e impero tardoantico, IV: Tradizione dei classic!,
transformazioni della cultura, Rome—Bari, 1986, p. 173—187 (примеры на
с. 179 и 186).
99. Кассиодор. Институции. I, 3, 1.
100. Т. С. Skeat, «The Origin of the Christian Codex», op. cit., p. 265 и след.
101. Св. Иероним, Praef. in Ezech. (PL, XXXVIII, col. 996 A).
102. Кассиодор. Институции. I, 15, 12.
103. См.: H. Toubert, «Formes et fonctions de 1'enluminure», dans R. Chartier,
H.-J. Martin (под ред.), Histoire de I'edition fran^aise, I: Le Livre conquerant.
Du Moyen Age au milieu du XVIIе siecle, Paris, 1989, p. 110—114.
104. Кассиодор. Институции. I, 31, 2.
ПРИМЕЧАНИЯ
481
ГЛАВА 3
1. Подобное определение понятия officia grammaticae в разных формах встре-
чается в трудах грамматиков поздней Античности и приложениях к совре-
менным им манускриптам, содержащим, помимо всего прочего, сочинения
по грамматике. Более развернутый вариант текста (отрывок из предисло-
вия к трактату, известному под названием Anonymus ad Cuimnanum
в манускрипте «Sankt Paul im Lavanttal», Stiftsbibliothek, 26.2.16, fol. 23)
и краткое описание сложившейся традиции см.: М. Irvine, «Bede the Gram-
marian, and the Scope of Grammatical Studies in Eight Century Northumbria»,
Anglo-Saxon England, XV (1986), p. 15—44 (Работа того же автора The Making
of Textual Culture. Grammatica and Literary Theory 350—1100, Cambridge, 1994,
была опубликована уже после написания настоящего очерка). См. также:
H.-I. Marrou, Histoire de I'education dans I'Antiquite, Paris, 1965 (6), p. 406—410.
2. Как правило, при выборе вариантов руководствовались субъективными
соображениями и личными интересами без учета иных текстовых тради-
ций. Однако читателю случалось сравнивать свой экземпляр с другими, как,
например, делал это святой Дунстан (Ватиканская библиотека, MS lat. 3363
fol. Ill), обнаруживший в нем вариант толкования труда Боэция
«Об утешении философией», который «quidam codices habent»: см. М. В. Par-
kes, Scribes, Scripts and Readers. Studies in the Communication, Presentation and
Dissemination of Medieval Texts, Londres, 1991, p. 259—262.
3. См.: св. Августин. О христианском учении. II, IV. Автор одной из грамматик
ирландского языка VII в., объясняя важность своего труда, говорил, что
необходимость в нем появилась как следствие строительства Вавилон-
ской башни: см. Auraicept па n-Eces, the Scholar's Рготе, изд. А. Алквистом
(A. Ahlqvist), The Early Irish Languist, Helsinki, 1982 (Commentationes hu-
manum litterarum, LXIII), p. 47; а также A. Borts, Der Turmbau von Babel,
Stuttgart, 1957—1963.
4. Каноническим сборником подобных текстов является Grammatici latini, ed. par
H. Keil, Leipzig, 1857—1870. См. также труд Л. Хольца и библиографию
к нему: L. Holtz, Donat et la tradition de I'enseignement grammatical. Etude sur I'Ars
Donati et sa diffusion (IVе—IXе siecle), Paris, 1981; C. Lambot, «La grammaire la-
tine selon les grammairiens latins du IVе et du Vе siede», Revue bourguignonne
publiee par I'universite de Dijon, XXVIII (1908). Дополнения, внесенные в IX в.
для того, чтобы облегчить процесс различения (discretio), исследуются
в книге: V. Law, The Insular Latin Grammarians, Woodbridge, 1982.
5. См. в частности: H.-I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris,
1958.
6. См. замечания Марру в упоминавшейся выше книге: H.-I. Marrou. Histoire
de /'education, op. cit., p. 446 — 447.
7. «Omnis qui nomen vult monachi vindicare, litteras et ignorare non liceat», Ferreolus,
Regula II (Patrologia, series latina, editee par J. P. Migne (далее сокра-щенно PL),
LXVI, p. 959. Из многих других подобных советов приведем слова апостола
Павла из Первого Послания к Тимофею: «...занимайся чтением,
наставлением, учением (1 Тим, IV, 13), и Григория Великого (Moralia in Job,
XXIV, 8, 16 (PL, LXXVI, p. 295). См. также: D. Ulmer, Formen der Erziehung und
Wissenvermittlung im friihen Mittelalter, Munich, 1971.
482
ПРИМЕЧАНИЯ
8. Dhuoda, Manuel pour mon fils, ed. par P. Riche, Paris, 1975.
9. P. Riche, «Le psautier, livre de lecture elementaire», Etudes merovingiennes, Actes
des joumees de Poitiers 1952, Paris, 1953, p. 253—256; A. Petrucci, «Scrittura e
libro nell'Italia altomedievale», Studi tnedievali, X (1969), p. 157—207, особенно
c. 164 и след.
10. Григорий Великий, Dialog!, I, prol. 9; см. также Moralia in fob, XXX, 37; Home-
liae in Evangelia, XXXVIII, 15, XXXIX, 10; Homeliae in Ezekiel, II, 7, 3.
11. «[] grammaticorum autem doctrina potest etiam proficere ad vitam dumfuerit in me-
liores usus assumpta», Исидор Севильский. Libri sententiarum, III, 13, 3 (PL,
LXXXIII, 698); cm. J. Fontaine, Isidore de Seville et la culture classique dans I'espagne
wisigothique, II, Paris, 1959, p. 787; J. Leclercq, «Pedagogie et formation spirituelle
du VIе au IXе siecle», dans La scuola nell'Occidente latino dell' alto medioevo, Spolete,
1972 (Settimane di studio del Centro italiano di studii sull'alto medioevo, XIX),
p. 255-290.
12. Подробно об идеале «красноречивейшего мужа» (vir eloquentissimus)
см.: О. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, IV, Berlin, 1911,
p. 168 —204; H.-I. Marrou, Sant Augustin, op. cit., p. 3—9, 85—89.
13. См.: Авл Гелий. Аттические ночи, XIII, 31, 5.
14. «Qui autem ad hujusmodi provehitur gradum, iste erit doctrina et libris imbutus,
sensuumque ac verborum scientia perornatus,ita ut in distinctionibus sententiarum
intelligat ubi finiatur junctura, ubi adhuc pendet oratio, ubi sententia extrema clau-
datur. Sicque expeditus vim pronuntiationis tenebit, ut ad intellectum omnium mentes
sensusque promoveat, discernendo genera pronuntiationum, atque exprimendo sen-
tentiarum proprios affectus, modo indicantis voce, modo dolentis, modo increpantis,
modo exhortantis, sive his simi-lia secundum genera propriae pronuntiationis».
Исидор Севильский, De ecclesiasticis officiis, II, 11, 2 (PL, LXXXIII, 791).
См. также: M. Banniard «Le lecteur en Espagne wisigothique d'apres Isidore
de Seville. De ses fonctions a I'dtat de la langue», Revue des etudes augustini-
ennes, XXI (1975), p. 112—144. ВIX в. Гильдемар, монах из Корби, подробно
разбирает этот отрывок в своем комментарии к «Правилу» Исидора
Севильского, см.: Expositio regulae ab Hildemaro tradita, ёd par R. Mittermiiller,
Ratisbonne; New York, 1880, p. 427 и след. В копиях текстов, пред-
назначенных для чтения вслух на литургии, заседаниях капитула
и в трапезной, как правило, особое внимание уделялось пунктуации
и часто проставлялись ударения.
15. До нас дошли 15 манускриптов с произведениями Теренция, датируемые
IX—XI вв.; см. L. D. Reynolds (red.), Texts and Transmission. A Survey of
the Latin Classics, Oxford, 1983, p. 418. О пользе чтения произведений
Теренция для развития красноречия у учащихся см. Квинтилиан. Настав-
ление оратору, I, 11, 12.
16. Гросвита хотела создать иной, нежели у Теренция, образ женщины,
подчеркнув целомудренность юных христианок. См.: Hroswitha of Gunder-
sheim, 6d par A. L. Haight, New York, 1965.
17. О монастырском чтении (lectio) и размышлении (meditatio) см. Кассиан.
Collatio, XIV, 10; J. Leclercq, The Love of Learning and the Desire for God, New
York, 1961, p. 18—22; P. Riche, Education et culture dans I'Occident barbare, VIе—
VIII' siecle, Paris, 1962, p. 161-162.
ПРИМЕЧАНИЯ
483
18. La Regie de saint Benoit, ed. par A. de Vogue et J. Neufville, Paris, 1971 — 1972.
Глава XLVIII. Предписание это мы встречаем и в более поздних сборниках
монастырских обычаев (consuetudines), например у Ланфранка: Corpus соп-
suetudinum monasticarum, III, (М. D. Knowles ed.), Siegburg, 1967, p. 3.
19. Cm.: J. Fontaine, «Fins et moyens de I'enseignement ecclesiastique dans 1'Espagne
wisigothique», La scuola nell'Occidente latino dell' alto medioevo, Settimane di stu-
dio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo», XIX (1972), p. 145—202,
особенно c. 180—181 и 187—190.
20. Исидор Севильский, Libri sententiarum, III, 14, 9 и 8 (PL, LXXXIII, 689).
21. Эта эволюция прослежена в книге М. В. Parkes. Pause and Effect. An Intro-
duction to the History of Punctuation in the West, Aidershot, 1992.
22. Хотя некоторые античные документы и развитие системы сокращений, как,
например, notae juris (традиционная система сокращения прописных букв
для обозначения юридических терминов) и тироновы значки, указывают на
то, что письменность рассматривалась как способ фиксации информации
(главным образом в административных целях), ее воспринимали как запись
устной речи, а не как самостоятельное языковое явление, см.: Н. С. Teitler,
Notarii and Exceptores, Amsterdam, 1985; D. Ganz, «On the History of Tironian
Notes» dans P. Ganz (под ред.), Tironische Noten, Wolfenbiitteler Mittelalter-
Studien, I, Wiesbaden, 1990, p. 25—51.
23. Исидор Севильский, Etymologiae, I, 3, 1, ср.: св. Августин, De trinitate, X, 19.
См. также M. B. Parkes, Pause and Effect, op. cit.
24. P. Riche, «Le psautier», op. cit.; A. Lorcin, «La vie scolaire dans les monasteres
d'lrlande au Vе—VIIе siecle», Revue du Moyen Age latin, I (1945), p. 221—236.
25. См., например, R. 1. Page, «The Study of Latin Texts in Late Anglo-Saxon Eng-
land. 2. The Evidence of English Glosses», dans N. P. Brooks (под ред.), Latin
and the Vernacular Languages in Early Medieval Britain, Leicester, 1982.
26. Thesaurus palaeohibernicus, ed. par W. Stokes, J. Strachan, переизд. — Dublin,
1975,1, p. 399, № 118 a 15; II, p. 117, № 64 a 18; H. D. Meritt, Old English Glosses
(A Collection), New York, 1945, p. 356, № 28, 134.
27. Thesaurus, op. cit., I, p. 22, № 17 d 6; H. D. Meritt. Old English Glosses, op. cit.,
p. 33, № 256.
28. Thesaurus, op. cit., I, p. 248, № 73 a 9-10; p. 416, № 123 b 2.
29. Die althochdeutschen Glossen, ed. par E. Steinmeyer, E. Sievers, II, Berlin, 1882,
p. 38, № 11; p. 76, № 66, 54; p. 164, № 31; p. 71 № 53; p. TJ, № 3.
О синтаксических глоссах англосаксонских переписчиков см. G. R. Wieland,
The Latin Glosses on Arator and Prudentius in Cambridge University Library
MS Gg. 5.35, Toronto, 1983.
30. H. D. Meritt, Old English Glosse, op. cit., p. 4, № 30, 49, 52.
31. В частности: Wurzbourg, Universitatsbibliothek, M. P. th. f. 12; Milan, Biblio-
theque ambroisienne, C301 inf.; Oxford, Bodleian Library, Auct. F. 4.32.
32. Самое последнее исследование на эту тему: М. Korhammer, «Mittelalterliche
Konstruktionshilfen und ae Wortstellung», Scriptorium, XXXVII (1980), p. 18—
58.
33. R. Wright, «On Editing Texts Written by Romance Speakers», dans R. Harris-
Northall, T. O. Cravens (под ред.), Linguistic Studies in Medieval Spanish, Madi-
son, 1991, p. 191-208.
484
ПРИМЕЧАНИЯ
34. См. В. Bishcoff, Л propos des Gloses de Reichenau; entre latin et frani;ais, dans
B. Bischoff, Mittelalterliche Studien, III, Stuttgart, 1981, p. 234—243. Самые
древние романские глоссы, которые, по моему мнению, можно сравнивать
с синтаксическими глоссами кельтских и германских читателей, это Glosas
Emilianenses X в. (Madrid, Academia de la Historia, 60) монастыря San Mil-
lan de la Cogolla в La Rioja; см. также: M. C. Diaz у Diaz, Las primeras glosas
hispdnicas, Barcelona, 1978; J. Fortacin Piedrafita, «Glosas morfosintacticas en
el codice emilianense 60», Revista de investigation, 1980, p. 67—89.
35. De arte metrica et de schematibus et tropis, ed. par С. B. Kendall, dans Beda, Opera
didascalica, I, Turnhout, 1975 (Corpus Christianorum series latina, 123A). Особо
следует ознакомиться с предисловием самого Беды Достопочтенного,
в котором он обращает внимание на тот факт, что порядок слов в Писании
отличается от порядка слов в повседневной речи. Перечень фигур речи,
приведенный Алкуином (PL, CI, 857) особо обращает внимание на те из них,
в которых меняется привычный порядок слов.
36. Теория circumstantiae rerum или periochas, восходящая к Гермагору (Frag-
menta, ed. par D. Mathes, Leipzig, 1962, p. 13 и след.) изложена у Fortuna-tien,
Ars rhetoricae, II, 1; Викторина, In rhetorica Ciceronis, в сборнике кон-ца
VIII в., известном под названием Anecdoton Parisinum, BN lat. 7530,
и в трактате Псевдо-Августина, De rhetorica, VII, относящемся к VIII—IX вв.
Все вышеперечисленные тексты можно найти в сборнике Rhetores latini mi-
nores (изд. C. Halm), Leipzig, 1983, p. 103, 226, 586 и 141. Один автор IX в.
пишет, что вопросительный метод использовал в своих лекциях Скот
Эриугена (Vitae Vergilianae, ed. par J. Brummer, Leipzig, 1912, p. 62).
Об использовании частностей (circumstantiae') в доступной (accessus)
литературе см. обзор: A. J. Minnis, Medieval Theory of Autorship, Londres, 1934,
p. 15—19 и библиографию к нему.
37. Пример взят из текста «Quomodo VII circumstantiae rerum in legendo ordi-
nande sint», опубликованного в Die Schriften Notkers und seine Schule
(изд. P. Piper), Fribourg-en-Brisgau, 1882,1, p. XV—XVI (список X в. находится
в Центральной библиотеке Цюриха: Zentralbibliothek de Zurich, MS С 98,
fol. 38v). Аналогичный пример найден Г. Хагеном (Н. Hagen, Anecdota Hel-
vetica, Leipzig, 1870, p. XLIII) в экземпляре IX в. анонимного комментария
на Доната, находящемся в городской библиотеке Берна (Burgerbibliothek de
Вете, MS 432).
38. Например, у Эккехарта IV из Сент-Галлена, в глоссах к Орозию и в других
текстах; см. также: Е. Diimmler, «Ekkehart IV von St Gallen», Zeitschrift fiir
deutsches Altertum und deutsche Literatur, XIV (1869), p. 23; Der Liber benedic-
tionum Ekkeharts IV (J. Egli ed.), Saint-Gall, 1901, p. XLVIII, № 2.
39. См.: M. B. Parkes, Scribes, Scripts and Readers, op. cit., p. 1—8, 104—112.
40. Cm. Donat, Ars maior, II, 2 (Донат Элий «Большая грамматика»), издание
Хольца (Holtz), Donat, op. cit., p. 603: Littera est pars minima vocis articulata
(cp.: Priscien, Institutiones, I, 3; I, 7—8). Автор анонимного трактата с
Британских островов (сохранившегося в манускрипте «Sankt Paul im La-
vanttal», Stiftsbibliothek MS 25.2.16) в комментариях к этому отрывку из
сочинения Доната обращает особое внимание на то, что буквы являются
феноменом, свойственным письменной речи: «Vocis duae sunt partes: artic-
ПРИМЕЧАНИЯ
485
ulata et confusa. Articulate est quae scribi potest, quae sub est articulis, id est digi-
tis qui scribent, vel quod artem habeat et exprimat. Confusa est quae scribi non potest
(fol. 54v). Ученик переписывал буквы, чтобы научиться воспроизводить их
форму (figurae), и произносил их, чтобы воспроизвести их фонемный
вариант.
41. Выражение litterae absolutae использовал в своих посланиях святой
Бонифаций, Epist. 63 (S. Bonifatii et Lullii Epistolae (изд. M. Tangl), MGH, Epis-
tolae selectae, I, Berlin, 1916, p. 131).
42. Подробнее о том, что будет изложено ниже, см.: М. В. Parkes, Scribes, Scripts
and Readers, op. cit., p. 1 — 18. Другой, сугубо лингвистический комментарий
содержится в списке трактата по стихосложению, относящемуся к VIII в.
(BN lat. 11411, fol. 123). В нем слова в цитатах с примерами метаплазмов
сгруппированы не по частям речи и смыслу, но согласно требованиям
метрики, например: dumpela. Gode, saevit. hiempseta. quosuso. rion («Энеида»,
IV, 52: dum pelago desaeuit hiemps et aquosus orion).
43. Voir par exemple Parkes, Pause and Effect, op. cit., pl. 11.
44. Латинский манускрипт 12132 Национальной библиотеки Франции был
переписан в Реймсе во второй половине IX в. с итальянского экземп-
ляра VI в. (BN lat. 2630). О взаимосвязи этих манускриптов см.: J. Vezin, «Hinc-
mar de Reims et Saint-Denis a propos de deux manuscrits du De trinitate
de saint Hilaire», Revue d'histoire des textes, IX (1979), p. 289 — 298; M. B. Par-
kes, Pause and Effect, op. cit., табл. 49, 50 с транскрипцией, переводом
и комментариями.
45. Grammatici latini (ed. par H. Keil, op. cit., p. 54, 1—13. Из новых работ по
этому вопросу см.: R Wright, Late Latin and Early Romance in Spain and Car-
olingian France, Liverpool, 1982, p. 104—144 и библиография.
46. Собственная языковая система скрибов не ограничивалась их «родным
языком», но включала множество других элементов, почерпнутых из их
опыта использования письменного и устного языков, будь то латынь или
народный язык, местные наречия или диалекты. Во второй половине IX в.,
по мнению Райта и Норберга («А quelle epoque a-t-on cesse de parler latin
en Gaule?», Annales, XXI (1966), p. 345 — 356), на их знание латыни, возмож-
но, повлияло желание вернуться к ней, обнаруженное у Павла Диакона
и Алкуина.
47. Манускрипт Lipsius 7 из библиотеки Лейденского университета (фолио
291v воспроизведен в кн.: Е. Chatelain, Paleographie des classiques latins, Paris,
1884—1900, табл. CXLII), переписан с манускрипта Leyde Vossianus lat. 2,
61 (фолио 80v воспроизведен там же (табл. CXLI) и содержит тот же объем
текста).
48. Ср. с тем, что говорится о praepositiones loquelares у Помпея (Pompeius, Com-
mentum in artis Donati (Grammatici latini, ed. par H. Keil, V, p. 271,21) и у псевдо-
Сергия (Pseudo-Sergius, Explanationes (ed. par H. Keil), IV, p. 217, 6.
49. Григорий Великий, Moralia in fob, IV, praef.
50. Hoc totum corpus litterae et tamquam corpus homini (PL, XCVI, 958 A—B);
Ecce hominem integrem corpore anima et spiritu. Ecce et librum integrem historia
tropologia et mystice intellegentur (ibid., 962 c).
51. Святой Августин. О христианском учении. И, 6, 7; III, 9, 13 и 27, 38.
486
ПРИМЕЧАНИЯ
52. De schematibus et tropis, II, II (XII), изд. Kendall, op. cit., p. 161—169; Бонифаций,
Epist. 34, изд. Tangl, op. cit., p. 59.
53. Cm.: R. H. Rouse, M. A. Rouse, «Bibliography before Print. The Medieval
De viris illustribus», dans P. Ganz (ред.), The Role of the Book in Medieval
Culture, Turnhout, 1986 (Bibliologia, III), p. 133—153.
54. Spiritus sanctus infinities in ea constituit intellectus ideoque nullius exposito-
ris sensus sensum alterius aufert, Скот Эригена, De divis nat. (PL, CXXII, 690, 696);
см. также: Smaragdus de Saint-Mihiel, Diadema monachorum, III (PL, СП, 598A).
Очерк экзегетической традиции того времени можно найти в: С. Spicq,
Esquisse d'une histoire de I'exegese latine au Moyen Age, Paris, 1994, p. 10—60.
55. De cleric, inst., praef. (PL, CVHI, 296).
56. Там же, Ш, 7 (PL, CVU, 348C); III, 13 (там же, 389C; см. также: св. Авгус-
тин «О христианском учении», III, 10, 14; 29, 49; см. также 2 Тим. III, 16.
57. De cleric, inst., Ill, 11 (PL, CVII, 387В); см. также: св. Августин. О христианском
учении. III, 2, 2; 28, 39.
58. D. К. Bolton, «The Study of the "Consolation of Philosophy" in Anglo-Saxon
England», Archives d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age, XLIV (1977),
p. 37— 78; F. Troncarelli, Tradizione perdute: la «Consolatio Philosophiae»
nell'alto medioevo, Padoue, 1981.
59. Подробнее о Марциане Капелде см.: G. Glauche, «Die Rolle der Schulau-
toren im Unterricht von 800 bis 1000» dans La scuola nell'Occidente latino,
op. cit., p. 617 — 636, особенно c. 621—624; C. Leonardi, «I codici di Marziano
Capella», Aevum, XXXIII (1959), p. 433-489; XXXIV (1960), p. 1-99, 411-
524; M. L. W. Laistner, «Martianus Capella and his Ninth-Century Commenta-
tors», Bulletin of the John Rylands Libraty, IX (1925), p. 130—138. Mythologiarum
ad Catum presbyterum libri tres. Фульгенция опубликован в кн.: Fulgence. Opera,
ed. par R. Helm, Leipzig, 1898; о влиянии этого произведения на средне-
вековую культуру см.: М. L. W. Laistner, The Intellectual Heritage of the Early
Middle Ages, Cornell, 1957, p. 202 —215. Произведения «Мифографа II» можно
найти в сборнике Scriptores rerum mythicarum latini libri tres, ed. par
G. H. Bode, Celle, 1834; см. также: M. Manitius, Geschichte der lateinischen
Literatur des Mittelalters, II, Munich, 1923, p. 656—660.
60. По манускрипту, изготовленному в Вюрцбурге и хранящемуся ныне
в Бодлеанской библиотеке Оксфорда (Laud. Misc. 135, fol. 134v); подробнее
см. М. Parkes, Pause and Effect, op. cit., табл. 65.
61. Различные трактовки этого отрывка, заданные знаками препинания других
экземпляров, и их связь с развитием пунктуации как структурирующего
элемента письменной речи, даны в кн.: М. Parkes, Pause and Effect, op. cit.,
p. 70—72.
62. Факсимильное воспроизведение первых текстов на местных языках см. в кн.:
Е. Monaci, Facsimili di documenti per la storia delle lingue e delle letterature ro-
manze, Rome, 1910; H. Fischer (red.), Schrifttafeln zum althochdeutschen Lesebuch,
Tubingen, 1966; серия Early English Manuscripts in Facsimile, Copenhague,
1951—; самые ранние ирландские глоссы опубликованы в Epistolae Beati Pauli
glosatae glosa interlineali, ed. par L. C. Stem, Halle, 1910; 1' «Homiliaire de Cam-
brai» опубликован в New Paleographical Society, Facsimile of Ancient MSS
(E. M. Thompson, G. F. Warner et al. ed.), 2e serie, Londres, 1913—
ПРИМЕЧАНИЯ
487
1930, табл. 10 (b). О влиянии глоссариев см. «Commentaire paleog-
raphique» dans The Epinal, Erfurt, Werden and Corpus Glossaries, fac-simile
B. Bischoff et al., ed., Copenhague, 1988. О расположении поэтических текстов
на рукописных листах см.: М. Parkes, Pause and Effect, op. cit., p. 97 и след.;
H.-J. Martin, J. Vezin (sous la dir. de), Mise en page et mise en texte du livre
manuscrit, Paris, 1990, p. 147—153, 165 — 168.
63. M. Parkes, Scribes, Scripts and Readers, op. cit., p. 1 — 18.
ГЛАВА 4
1. Изучая эволюцию техник чтения в Средние века, неизбежно приходишь
к тому же выводу, что и автор статьи: H.-J. Martin, «Pour une histoire de la
lecture», dans Revue franfaise d'histoire du livre, 46 (1977), p. 583: «[...] наши
предки воспринимали чтение текстов совершенно иначе, чем мы, и тем
более совершенно иначе представляли себе структуру страницы и книги
в целом. Более того, они по-другому видели отношения между разговор-
ной и письменной речью. Безусловно, этот вопрос требует специально-
го рассмотрения». Чтобы получить общее представление об этой проблеме,
рекомендуем обратиться к книге: G. Cavallo, Libri е lettori nel Medioevo. Guida
storica e critica, Rome—Bari, 1989 (Bibliteca Universale Laterza, 296).
2. Греческий термин, легший в основу названия этого сочинения, обознача-
ет процесс преподавания и обучения. Ср.: Hugues de Saint-Victor. L’art
de lire. Didascalicon, introduction, traduction et notes par M. Lemoine, Paris,
1991 (Sagesses chretiennes).
3. PL, 213, col. 713-718.
4. См.: P. Saenger, Silent Reading. Its Impact on Late Medieval Script and Society, dans
Viator, 13 (1982), p. 367—414; Manieres de lire medievales, dans Histoire de I'edition
fran^aise, I: Le Livre conquerant. Du Moyen Age au milieu du XVIIе siecle, Paris, 1982,
p. 131-141.
5. A. Petrucci, «Lire au Moyen Age» in: Melanges de ГЁсо1е frangaise de Ro-
me, 96 (1984), c. 604).
6. Cp.: A. Petrucci, «Lire au Moyen Age», dans Melanges de I'Ecole franfaise
de Rome. Moyen Age-Temps modernes, 96 (1984), p. 604 —616.
7. M.-D. Chenu, Introduction a I’etude de saint Thomas d'Aquin, Montreal-
Paris, 1954, 2 ed., p. 67 (universite de Montreal, Publications de 1'Institut d'e-
tudes medievales, XI).
8. loannis Saresberiensis Episcopi Carnotensis Metalogicon libri Illi. Recognovit...
С. С. I. Webb. Oxonii, 1919, p. 53—54.
9. Cm.: Ch. Vulliez, Vocabulaire des ecoles et des methodes d'enseignement
au Moyen Age, Actes du colloque (Rome 21—22 octobre 1989), ed. par O. Wei-
jers, Turnhout, 1992, p. 94 (CIVICIMA, Etudes sur le vocabulaire intellectuel
du Moyen Age, V).
10. Ср.: V. Colli, «Termini del diritto civile», in Methodes et instruments du travail in-
tellectuel au Moyen Age. Etudes sur le vocabulaire, ed. par O. Weijers, Turnhout,
1990, p. 234 (CIVICIMA, Etudes sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Age,
III): «Gli storici del diritto sono soliti classificarli lecturae, per contrapposizione alle
488
ПРИМЕЧАНИЯ
glossae marginal/. Nel secolo XII test/ esegetici di questo genere era-по parimenti de-
nominati glossae II termine lectura non designava allora la relazione scritta di quanto
lo scolaro aveva a lezione. Lectura si riferiva al metodo d'insegnamento, al modo di
leggere un testo, cioe d'interpretarlo». Однако в ту же самую эпоху в тексте,
никак не связанном с образовательным процессом, можно встретить слово
lectura в значении «чтение». Робер де Мелен действительно пишет
в прологе к своим «Сентенциям» (Sententiae): «Чего еще можно искать
в чтении, если не глубокого понимания текста?..» (R. Martin, CEuvres
de Robert de Melun, t. Ill: Sententiae, Louvain, 1947, p. 11 (Spicilegium Sacrum
Lovaniense, 21).
11. Ср.: O. Weijers, Terminologie des universites au XIIIе siecle, Rome, 1987,
p. 300 (Lessico Intellettuale Europeo, 39): «Термин lectura употребляется так-
же для обозначения упомянутого выше способа преподавания, ком-
ментированного чтения текстов. Но в отличие от существительного lectio,
существительное lectura никогда не применяется к одному-единственно-
му уроку. Оно обозначает серию занятий по определенной теме, т. е. пре-
подавание в форме курса. Как поначалу lectio, lectura значит «чтение», само
действие «читать», т. е. преподавательскую деятельность профессоров
и бакалавров, основанную на ряде текстов. За этим термином может
следовать родительный падеж существительного, обозначающий пред-
мет изучения, как, например, lectura «Ut nullus admittatur ad lecturam extraor-
dinariam in jure civili codicis», или же, к примеру, предлог in с отложительным
падежом...».
12. G. Severino Police, «Libro, lettura, "lezione" negli Studia degli ordini mendi-
canti (sec. XIII)», dans Le scuole degli ordine mendicanti, Todi, 1978, p. 375—
413.
13. Cp.: J. Taylor, Insegnare a leggere e scrivere, Milan, 1976; M. T. Clancy, From
Memory to Written Record. England, 1066 — 1307, Londres, 1979, p. 34—
45; W. J. Ong, Oralita e scrittura. La tecnologia della parola, Bologne, 1986;
G. d'Onofrio, «Theological Ideas and the Idea of Theology in the Early Mid-
dle Ages (9th — 11th Centuries)», dans Freiburger Zeitschrifi fur Philosophic und
Theologie, 38 (1991), Hft 3, p. 273 -297.
14. Ср.: B. Munk-Olsen, «Les dassiques latins dans les florileges medievaux an-
terieurs au XIIIе siede», dans Revue d'histoire des textes, IX, (1979), p. 56.
15. Cp.: G. d'Onofrio, op. dt., p. 278 —279: «[...] Таким образом, монастырские
библиотеки с IX по XI в. с годами все больше наполнялись новыми, но не
оригинальными трактатами по экзегетике, основанными на выдержках из
сочинений отцов Церкви и скрепленными короткими связующими
предложениями. От Алкуина до Ансельма мы видим подлинный расц-
вет описательных компиляций из ранних церковных источников, часто даже
копирующих друг друга и представляющих незначительный интерес для
современного читателя. В сущности, на первый взгляд в этих текстах нельзя
обнаружить и намека на размышления о методологии теологических
исследований».
16. См.: Robert de Melun, op. cit., t. Ill, p. 5—6.
17. По поводу памяти следует прочесть М. Carruthers, The Book of Memory.
A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge, 1990 (Cambridge Studies in
ПРИМЕЧАНИЯ
489
Medieval Literature, 10) и J. Coleman, Ancient and Medieval Memories. Stu-
dies in the Reconstruction of the Past, Cambridge, 1992.
18. Dialogus inter militem et clericum, I, 7, 13, цитир. в: J. Miethke, «Die Mittelalter-
lichen Universitaten und das gesprochene Wort», dans Historische Zeitschrift,
251 (1990), p. 35.
19. Magistri Petri Lombardi Sententiae in IV libris distinctae, editio tertia, t. I,
pars 1, Grottaferrata (Romae), 1971, p. 4.
20. R. H. Rouse, «Cisterian Aids to Study in the Thirteenth Century», dans Studies in
Medieval Cisterian History, 2 (1976), p. 123—134; «La diffusion en Occident au XIIIе
siecle des outils de travail facilitant I'acces aux textes autoritatifs», dans Islam et
Occident au Moyen Age, I [Revue des etudes islamiques 44 (1976)], p. 115—147; «Le
developpement des instruments de travail au XIIIе siecle», dans Culture et travail
intellectual dans I'Occident medieval, Paris, 1981, p. 115—144; R. Rouse, M. Rouse,
«Statim invenire. Schools, Preachers and New Attitudes to the Page» dans Ren-
aissance and Renewal in the Twelfth Century, Oxford, 1982, p. 201—335; «La nais-
sance des index» dans Histoire de Tedition fran^aise, I: Le Livre conquerant. Du Moyen
Age au milieu du XVIIе siecle, Paris, 1982, p. 77— 85; M. B. Parkes, «The Influence
of the Concepts of Ordinatio and Compilatio on the Development of the Book»,
in Medieval Learning and Literature, essays presented to R. W. Hunt, ed.
by J. J. G. Alexander and M. T. Gibson, Oxford, 1976, p. 115—141.
21. См.: I. Illich, Du lisible au visible. Sur Part de lire de Hugues de Saint-Victor. Un com-
mentaire du «Didascalicon» de Hugues de Saint-Victor, traduit de 1'anglais par
J. Mignon, Paris, 1991, p. 13: «Omnium expetendorum prima est sapientia»,
«В первую очередь следует стремиться к мудрости», — вот как переводится
первая фраза знаменитого творения Гуго Сен-Викторского, написанного
около 1128 г.
22. См.: Ch. Schmitt, «Auctoritates, Repertorium, Dicta, Sententiae, Flores, The-
saurus and Axiomata. Latin Aristotelian Florilegia in the Renaissance», in Aris-
toteles. Werk und Wirkung. Paul Moraux gewidmet, II: Kommentierung, Uberliefer-
ung, Nachleben, herausgegeben von J. Wiesner, Berlin, 1987, p. 515—537.
23. D. A. Callus, «Introduction of Aristotelian Learning to Oxford», in Proceedings
of the British Academy, 19 (1943), p. 275: «Как и на высших факультетах теоло-
гии, юриспруденции и медицины, так и на факультете изящных искусств,
курсы Abbreviationes, Extracta, или Summae, как они обычно назывались, за-
воевали немалое расположение среди студентов. Цель трактатов, ком-
ментариев и quaestiones, в различной степени представлявших технику
и методику средневекового университетского обучения, заключалась в по-
пытке раскрыть мысль автора и обнаружить глубинный смысл его доктри-
ны со всеми соответствующими выводами. Abbreviationes предлага-
ли начинающим резюме содержания учебников. На факультете изящных
искусств abbreviationes могли использоваться в качестве учебников, где cursor
знакомил начинающих с основами корпуса (corpus) произведений Аристотеля;
возможно, они также предназначались в качестве практической помощи при
индивидуальном обучении. Так или иначе, они постоянно использовались
в качестве основы для философской подготовки и представляли в сжатом ви-
де основополагающие философские концепции, считавшиеся необходимыми
для всех, кто приступал к изучению самого текста».
490
ПРИМЕЧАНИЯ
24. См.: J. Hamesse, «Le vocabulaire de la transmission orale des textes», dans
Vocabulaire du livre et de I'ecriture au Moyen Age, Turnhout, 1989, p; 168—
194 (CIVICIMA, Etudes sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Age, II.
25. C. Lafleur, Quatre introductions a la philosophic au XIIе siecle. Textes critiques et
etude historique, Montreal—Paris, 1988 (Universite de Montreal, Publications de
1'Institut d'etudes medievales, 23).
26. P. Glorieux, «L'enseignement au Moyen Age. Techniques et methodes en usage
a la Faculte de theologie de Paris, au XIIIе siecla», dans Archives d'histoire doc-
trinale et litteraire du Moyen Age, 35 (1968), p. 65—186.
27. J. Hamesse, «Les autographes a I'epoqie scolastique», dans P. Chiesa, L. Pinelli
(под ред.), Gli autografi medievali. Problemi paleografici e filologici (Erice,
25—30 septembre 1990), Spoleto, 1994,_ p. 179—205.
28. Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, t. IV: Acta capitulorum genera-
lium (vol. II), recensuit В. M. Reichert, Romae—Stuttgartiae, 1899, p. 80.
29. Cf. supra, expose de P. Saenger.
30. J. Hamesse, «Le vocabulaire de la transmission orale des textes», dans Vocabu-
laire du livre et de I'ecriture au Moyen Age, Turnhout, 1989, p. 168—
194 (CIVICIMA, Etudes sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Age, II).
31. Chartularium Universitatis Parisiensis, III, p. IX, ed. H. Denifle, E. Chateain, Paris,
1894.
32. Но не в Оксфорде, где, кстати, сроки обучения были гораздо дольше; этим,
возможно, и объясняется тот факт, что там было больше занятий и в рас-
поряжении студентов было больше времени для того, чтобы выучить
полагавшиеся по программе предметы. См.: М. В. Parkes, The Provision
of Books, in: The History of the University of Oxford, vol. II: Late Medieval Oxford,
ed. by J. I. Catto, T. A. Evans, Oxford, 1992, p. 407: «Начинающие студенты,
получающие первые степени на факультете изящных искусств, не нужда-
лись в книгах, так как в обязательном порядке посещали лекции, где ма-
гистр или бакалавр предложение за предложением зачитывал пред-
писанный текст, а затем объяснял и комментировал каждое предложение».
33. Конституции Иордана Саксонского (1228), изд. Н. С. Scheeben, Die Konstitu-
tionen des Predigerordens unter Jordan von Sachsen (Quellen und Forschungen
zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, 38), Koln—Leipzig,
1939, p. 76.
34. Гумберт Романский, Expositio super regulam sancti Augustini, cap. CXLIV: De stu-
dio philosophiae (ed. J. J. Berthier, I. Torino, 1956).
35. F. Ehrle, Historia bibliothecae Romanorum Pontificum turn Bonifatianae turn Avenio-
nensis (Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica, VII), 1.1, Romae, 1890, p. 180.
Эго утверждение основывается на знаменитом отрывке из второй книги
«О достопамятных событиях» Франческо Петрарки, где говорится о всем
известном пристрастии папы Иоанна XXII к таблицам и кратким
изложениям. (Francesco Petrarca, Rerum memorandarum libri, edizione critica per
cura di G. Billanovich (Edizione Nazionale delle opere di Francesco Petrarca,
V.-P. la), Firenze, 1943, p. 102).
36. Проповедь IV (2 февраля 1332 г.), 2 (M. Dykmans, Les Sermons de Jean
XXII sur la vision beatifique [Pontificia Universitas Gregoriana, Miscellanea
Historiae Pontificiae, 34], Roma, 1973, p. 149,11 — 150,3.
ПРИМЕЧАНИЯ
491
37. Известно, например, что хотя папа Иоанн XXII и обратился к монаху-
доминиканцу Джованни Доминичи из Монпелье с просьбой написать для
него краткое изложение «Суммы теологии» святого Фомы (Vat. Borgh., 116—
119), он оставил множество своих заметок на оглавлении (tabula) указан-
ного произведения (Vat. lat., 814). См.: A. Maier, «Annotazioni autografe
di Giovanni XXII in codici vaticani» in Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte
Aufsdtze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts, II, Roma, 1967, p. 87—88.
38. Этот манускрипт хранится в настоящее время в Ватиканской библиотеке
и имеет шифр Urbin. lat. 207. См.: Codices Urbinates latini, recensuit C. Storna-
jolo (Bibliotecae Apostolicae Vaticanae codices manu scripti recensiti iussu Leo-
nis XIII Pont. Maximi), t. I, romae, 1902, p. 199 — 200.
39. Vaticano, Urbin. lat., 207, f. 218r.
40. «Le parafrasi e i compendi», dans Lo spazio letterario del Medioevo, 1: II Medioevo
latino, dir. G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menesto, vol. Ill: La recezione del testo, Roma,
1995, p. 197- 200.
41. A. G. Rigg, «Anthologies», in Dictionary of the Middle Ages, I (1982), p. 317.
42. P. O. Kristeller, Medieval Aspects of Renaissance Learning, three essays edited
and translated by E. P. Mahoney, Durham, 1974, p. 106—107 (Duke Monographs
in Medieval and Renaissance Studies, I).
43. Ch. B. Schmitt, Aristotle and the Renaissance, Cambridge, Harvard Univer-
sity Press, 1983, p. 44—45 (Martin Classical Lectures, XXVII): «Многие сов-
ременные студенты полагаются на сводки, конспекты и учебный материал
о необходимых книгах в программе обучения; в эпоху Возрождения дела
обстояли так же. Типичными философскими текстами в университете эпо-
хи Возрождения были различные труды Аристотеля, обычно читаемые
в латинском переводе. Впоследствии, как и в наши дни, изучаемые
сочинения обрастали большим количеством вспомогательной литературы.
Многие ее формы сохранились со Средних веков, однако эпоха печат-
ных книг содействовала развитию новых видов подобной литературы. По
нашей оценке количество сочинений на тему аристотелевой филосо-
фии, опубликованных с начала книгопечатания, превышает количество
самих произведений Аристотеля и их всевозможных переводов. Сюда
относятся комментарии, собрания sententiae, компендиумы, конспекты,
речи, учебники, quaestiones, парафразы, tabulae, независимые трактаты,
тезисы и некоторые другие сочинения».
44. Ch. В. Schmitt, «Philosophy and Science in Sexteenth-Century Italian Universi-
ties», in The Renaissance. Essays in Interpretation to Eugenio Garin, London—New
York, 1982, Reprinted in Variorum Reprints, London, 1984, XV, p. 315:
«Основополагающим учебником по философии Аристотеля в католической
Европе в первой трети XVII в. были комментарии, подготовленные иезуитами
из университета Коимбры»; «Auctoritates, Repertorium, Dicta, Sententiae, Flo-
res, Thesaurus and Axiomata: Latin Aristotelian Florilegia in the Renaissance»,
in Aristoteles. Werk und Wirkung. Paul Moraux gewidmet, II: Kommentierung, Uber-
lieferung, Nachleben, herausgegeben von J. Wiesner, Berlin, 1987, p. 515—537.
45. Злоупотребление образовательными техниками и методическими приемами,
приведшее к сокращению литературного производства, так как потенциальные
авторы книг все свое время посвящали совершенствованию в искусстве ведения
492
ПРИМЕЧАНИЯ
ученых споров, побудило Декарта к возврату к первоисточникам. Прочи-
тав необходимую литературу в подлиннике, он принялся писать
«Размышления о первой философии» в пику вопросительному методу,
процветавшему в эпоху Средневековья, из-за которого умение подбирать
доказательства развивалось в ущерб углубленному анализу текстов на
основе размышлений. В Reponses aux secondes objections он так объясняет
мотивы своих поступков: «Причина тому, что я писал размышления, а не
диспуты или вопросы, как то делают философы, и не теоремы и зада-
чи, как геометры,., в том, что я хотел показать, что я писал только для тех,
кто захочет дать себе труд серьезно размышлять вместе со мною и вни-
мательно изучать предмет».
46. J. de Ghellink, «Un eveque bibliophile au XIVе siecle: Richard Aungerville
de Bury (1345). Contribution a 1'histoire de la litterature et des bibliotheques me-
dievales», dans Revue d'histoire ecclesiastique, 18 (1922), p. 271—312, 482—508.
Даремский епископ разрешал образованным жителям города пользовать-
ся своей библиотекой: «Можно предположить, что большинство трудов, на
которые ссылались и которые цитировали жители Дарема, они получили
благодаря приобретениям, сделанным епископом-библиофилом, и по этим
цитатам и ссылкам можно установить содержание научного и литературно-
го разделов его библиотеки, поскольку каталог ее окончательно утрачен».
47. Цит. в: J. de Ghellink, р. 505.
48. H.-J. Martin, «Pour une histoire de la lecture», dans Revue fran^aise d'histoire
du livre, 46 (1977), p. 602. He случайно в Северной Европе адепты
Devotio moderna — братья-киновиты и каноники Виндесхайма, охотно
восприняли эти тенденции. Наследники духовного движения, зародив-
шегося в монастырях и захватившего спустя какое-то время образованных
мирян, которых становилось все больше в среде буржуазии, предприняли
попытку заменить коллективную литургию индивидуальными
размышлениями и поисками прямого контакта с Богом. В своих
рассуждениях они основывались на трудах, авторы которых, в свою очередь,
опирались на сочинения отцов Церкви. Это также было чтение медленное,
и читатель то и дело прерывал свое занятие, ради диалога с самим собой
или с Господом. И, конечно, латинский язык этих сочинений следовал
средневековой традиции, однако теперь следовало добиться того, чтобы он
стал понятен большему числу людей. Достаточно, например, прочесть
«Подражание Иисусу Христу», чтобы заметить, что речь идет о произ-
ведениях труднодоступных для понимания, требующих постоянного
использования абстрактных понятий. Сам этот факт позволяет понять,
почему братья-киновиты, например (напомним, они часто существовали
за счет копирования книг), умножали число коллежей и старались
прививать учащимся фундаментальную классическую культуру.
ГЛАВА 5
1. Р. Saenger, «The Separation of Words and the Order of Words. The Genesis
of Medieval Reading», Scrittura e civilta, 14 (1990), p. 49—74.
ПРИМЕЧАНИЯ
493
2. Voir Monique-Cecile Garand, «Le scriptorium de Guibert de Nogent», Scripto-
rium, 31 (1977), p. 3—29, в частности p. 15, ил. 1—3; M.-C. Garand, «Analyses
d'ecritures et macrophotographie: les manuscrits originaux de Guibert de No-
gent», Codices manuscripts 1 (1975), p. 112—123, в частности ил. 1—3.
3. Rudolf Goy, Die Uberlieferung der Werke Hugos von St. Viktor, Monogra-
phien zur Geschichte des Mittelalters, 14, Stuttgart, 1976, p. 135, № 8, ил. 2.
4. Voir Ernst S. Rothkopf, «Incidental Memory for Information in Text», Journal
of Verbal Learning and Verbal Behavior, 10 (1971), p. 608 — 613.
5. «Prologue to Hugh of Saint-Victor's. De tribus maximis circumstantiis gesto-
rum», dans William M. Green, «Hugh of Saint-Victor: De tribus maximis
circumstantiis gestorum», Speculum, 18 (1943), p. 490.
6. Charles Henry Buttimer (ed.), «Hugh of Saint-Victor: Didascalion, de studio legen-di»,
Studies in Medieval and Renaissance Latin, 10, Washington, 1939, p. 57—58.
7. Ibid., p. 58; cf. Ars Victorini grammatici, dans Keil, Grammatici latini, 6, 188.
8. Roger Bacon (ed.), Hugonis de Sancto Victore opera propaedeutica, Notre Dame, 1966,
p. 127.
9. Carlo de Clercq, «Le Liber de rota verae religionis d'Hugues de Fouilloi», Bulletin
du Cange, 29 (1959), p. 219—228, Его же, «Hugues de Fouilloi imagier
de ses propres oeuvres?», Revue du Nord, 45 (1963) (4 f. ил.).
10. Jean de Salisbury, Metalogicon, I, 24 ed. par Clement C. J. Webb, Oxford, 1929,
p. 53 - 54.
11. Ibid., I, 20.
12. Ibid., I, 21, p. 50-51.
13. Richalm, Liber revelationum de insidiis et versutiis daemonum adversus homines,
Bernard Pez, Thesaurus, I, ил. 2, col. 390.
14. Voir Usmer Berliere, L'Ascese benedidine des origines a la fin du XIIIе siecle, Paris,
1927.
15. Jean Mabillon, Sancti Bernard! abbatis primi clarevallicensis Opera omnia, Paris, 1960,
II, p. 219-220.
16. De interiore dome, 24; PL, 184, 520 В—С, (цит. По: Jean Ledercq, «Aspect spir-
ituel de la symbolique du livre au XIIе siecle», L'Homme devant Dieu. Melanges
offerts au Pere Henri de Lubac (Etudes publiees sous la dir. de la Faculte
de theologie S. J. de Lyon-Fourviere, 56—58, Paris), 1963—1964, II, p. 64; там же
цитирцется: Absalon de Springkirsbach, Sermo 25; PL 211, 1518 C).
17. Richard Rouse, «La diffusion en Occident au XIIIе siecle des outils de travail
facilitant I'acces aux textes autoritatifs», Revue des etudes islamiques, 44 (1976),
p. 118, 120-123.
18. Monique-Cecile Garand, «Auteurs latins et autographes des Xе et XIIе siecles»,
Scrittura e civilta, 5 (1981), p. 98, ил. 1.
19. Petrus Cellensis, Tractatus de disciplina claustrali, ch. 19 (de lectione); PL 202,
p. 1125—1126; Gerard de Mattel, Pierre de Celle: I'ecole de Cloftre (Sources
chretiennes № 240) Paris, 1977, p. 233— 236.
20. Gerard de Martel, Pierre de Celle, op. cit., p. 74 — 78 а и 2 ил.
21. Gerard de Martel, «Recherches sur les manuscrits des sermons de Pierre de Celle»,
Scriptorium, 33 (1979), p. 3—17 и 1 ил.
22. Leopold Delisle, Materiaux pour I’edition de Guillaume de Jumieges pre-
paree par ]ules Lair, s. 1., 1910, p. 485 —487.
494
ПРИМЕЧАНИЯ
23. Quintilien, Instifutiones oratoriae, X, 3, 19—20.
24. Edmond Rene Labande, Guibert de Nogent. Autobiographic (Paris, 1981),
p. 136-139.
25. Ibid., p. 144-145.
26. PL, 156, p. 340.
27. Cm.: Monique-Cecile Garand, «Auteurs latins et autographes», op. cit., p. 88— 97.
28. Labande, Guibert de Nogent, op. cit., p. 136—137.
29. Andre Boutemy, «Odon d'Orleeans et les origines de la bibliotheque de 1'abbaye
de Saint-Martin de Toumai», dans Melangesdedies a la memoire de Felix Grat, Paris,
1946—1949, П, p. 179 —222. Пример рукописи, переписанной в Сен-Мартене:
BN NAL 2195; France: manuscrits dates, IV, 1 (1981), p. 213 и ил. 17. В число
«просодий» (prosodiae) входили дефисы и акуты, обозначавшие двойное i.
30. Josephus-Maria Canivez (ed.), Statuta'capitulorum generalium ordinis cistercensis,
Louvain, 1933-1941, 1, p. 26.
31. Jean Leclercq, «Saint Bernard et ses secretaires», Revue benedictine, LXI (1951), p.
208-228; cf. Bernard, Epistula, 89; PL 182, 220-221.
32. R. W. Southern (ed.) The Life of Saint Anselm Archbishop of Canterbury by
Eadmer, Londres, 1962, p. VIII—XXIX ; Southern, Saint Anselm and his Biographer.
A Study of Monastic Life and Thought (1059 — 1130), Oxford, 1963, p. 367—
374 (на фронтисписе воспроизведена первая иллюстрация текста).
33. Их обзор см.: Р. Bloch, «Autorenbild», dans Engelbert Kirschbaum, Lexicon
der christlichen Ikonoqraphie, I (1968), p. 232—234.
34. Wolfram von dem Steinen, Notker der Dichter und seine geistige Welt, Berne,
1948, II, ил. 1-3.
35. Jean Leclercq, «Aspects litteraires de 1 'oeuvre de saint Bernard», Cahiers
de civilisation medievale, I (1958), p. 440 и ил. 3, 4.
36. S. J. P. van Dijk, The Myth of the Aumbrey. Notes on Medieval Reservation Practice
and Eucharistic Devotion with Special Reference to the Finding of Dorn Gregory Dix,
p. 80, ил. 10.
37. John J. O'Meara, «Giraldus Cambrensis: In topographia Hiberniae», Procee-
dings of the Royal Irish Academy, 52 C4 (1949), p. 151 — 152.
38. Примеры: Евангелие Генриха III (Бремен, Университетская библиоте-
ка, т. 21 — из Эхтернаха); BN lat. 8551, л. I, Manuscrits dates, III (1974),
87; Reims, BN 9, л. 23.
39. Luba Eleen, The Illustrations of the Pauline Epistles in French and English Bibles
of the Twelfth and Thirteenth Centuries, Oxford, 1982, ил. 54, 55, 59, 61, 100.
40. Beschreibendes Verzeichnis der Illuminierten Handschriften in Osterreich, IV, 2(1911),
ил. 58, 60.
41. Pierre Petitmengin et Bernard Flusin, «Le livre antique et la dictee. Nouvel-
les recherches», dans Enzo Lucchesi et H. D. Saffrey (sous la dir. de), Memo-
rial Andre-Jean Festugiere. Antiquite pai'enne et chretienne, Cahiers d’orientalisme,
X, Geneve, 1984, p. 247 — 262, ил. 61, 71, 103; A. I. Doyle, «Further Observa-
tions on Durham Cathedral MS A.IV.34», dans J. P. Gumbert, M. J. De Haan
(sous la dir. de), Litterae textuales. Essays Presented to G. I. Lieftinck, Amster-
dam, 1972—1976, 1, p. 35-47.
42. Neil R. Ker, «Copying an Exemplar. Two Manuscripts of Jerome on Habakkuk»,
dans Pierre Cockshaw, Monique-Cecile Garand et Pierre Jodogne (sous la dir.
ПРИМЕЧАНИЯ
495
de), Miscellanae codicologica F. Masai dicata. Publications de Scriptorium, 8, Gand,
1979, 1, p. 203 - 210 и ил. 30 -33.
43. Waitz (ed.), «Hermani liber de restauratione S. Martini Tomacensis», dans
MGH, Scriptores, XIV, (1983), p. 312-313.
44. Iconographie der Heiligen, II, p. 442, 446.
45. Cm.: «Word Separation ad Its Implications for Manuscript Production»,
в материалах семинара, состоявшегося в Вольфенбюттеле 12—14 нояб-
ря 1994 г. Peter Riick (sous la dir. de), Die Rationalitierung der Buchherstel-
lung im Mittelalter und in der friihen Neuzeit, Marburg, 1994, p. 41—50.
46. См., например: Dorothee Klein, «Autorenbild», Reallexicon zur deutschen Kunstges-
chichte, I, Stuttgart, 1937, col. 1312; BN lat. 415, f. 1.
47. Воспроизведение такой вспомогательной рукописи либрария (exemplar)
с большими интервалами можно увидеть в кн.: Louis J. Batallon, La Production
du livre universitaire au Moyen Age. Exemplar et pecia, Paris, 1988. Существовали
также exemplares с очень большими интервалами на народном языке,
например, рукопись BN fr. 794 (s. XIII in.), описанная в статье: М. Roques,
«Le manuscrit fran^ais 794 de la Bibliotheque nationale et le scribe Guiot»,
Romania, LXXIII (1952), p. 177-199.
48. Petrarque, Epistolae familiares, XXIII, 19, ёd. par G. Martellotti, Petrarca. Prose,
Milan, 1955, p. 1016; Epistolae variae, XV, ed. par Joseph Fracassetti, Francisci
Petrarcae. Epistolae de rebus familiaribus et variae, Florence, 1959—1963, III,
p. 332 —333; Conrad H. Rawski, Petrarch. Four Dialogues for Scholars, Cleveland,
1967, p. 78, 138.
49. Примеры: BN lat. 1160, f. 3, et British Library Add 20694, f. 189 (святой Марк);
Janet Backhouse, Book of Hours, Londres, 1986, p. 20, ил. 13.
50. Harry Levin et Ann Buckler Addis, The Eye-Voice Span, Cambridge, Mass., 1979,
p. 71-76, 79.
51. Cm.: G. I. Lieftinck, «Mediaeval Manuscripts with Imposed Sheets», Het Boek,
set. 3, XXXIV (1960—1961), p. 210—220; Pieter Obbema, «Writing on Un-
cut Sheets», Quaerendo, VII (1978), p. 337—354. О более ранних приме-
рах механической переписки, см.: W. М. Lindsay, Palaeographia latina, II,
р. 26—28; IV, р. 84—85; A. I. Doyle, «Further Observations...», op. cit., I,
p. 35-47.
52. Это явление изучалось современными психологами и психо-лингвиста-
ми, например: Samuel Fillenbaum, «Memory for Gest. Some Relevant Variables»,
Language and Speech, IX (1966), p. 217— 227; Jacqueline Struck Sachs, «Recogni-
tion Memory for Syntactic and Semantic Aspects of Connected Discourse», Per-
ception and Psychophysics, II (1967), p. 437—442; John R. Anderson, «Verba-
tim and Praepositional Representation of Sentences in Immediate and Long-
Term Memory», Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, XIII (1974),
p. 149—162; Eric Wanner, On Remembering, Forgetting and Understanding
Sentences. A Study of the Deep Structure Hypothesis (Janua linguarum, series
minor), 170,'s Gravenhage, 1974.
53. Примеры протокурсивного почерка см.: почерк Альберта Великого в кн.:
S. Harrison Thomson, Latin Bookhand of the Later Middle Ages, Camb-
ridge, 1969, № 38; Фомы Аквинского: Antoine Dondaine, Secretaires de saint
Thomas, Rome 1956, ил. XXXVI-XXXVIII.
496
ПРИМЕЧАНИЯ
54. Albert d'Haenens, «Ecrire un couteau dans la main gauche. Un aspect de la
physiologie de Гёсгкиге occidental aux XIе et XIIе siedes», dans Rita Lejeune
et Joseph Deckers (sous la dir. de), Clio et son regard. Melanges offerts a Jacqu-
es Stiennona a I'occasion de ses vingt-cinq ans d'enseignement a I'universite de Liege,
Liege, 1982, p. 129—141; Pieter F. J. Obbema, «Writing on Uncut Sheets»,
op. cit., p. 353. На фронтисписе экземпляра «Библии с нравоучением»
из библиотеки Пирпонта Моргана в Нью-Йорке изображен переписчик,
пишущий под диктовку и придерживающий страницу ножом.
55. Porcher, Medieval French Miniatures, op. cit., p. 93.
56. Nicolas de Lyre, Предисловие к посгиллам на книгу Бытия в его кн.: Posti I-
la super totam Bibliam, Strasbourg, 1492, reprint Francfort, 1971, f. ci verso.
57. «Nihilominus testimonium perhibeo vobis quale positum est in epistola mea
Ad fratres de Monte Dei quod Scriptures Sacras nullus unquam plene intelliget qui
non affectus scribentium induerit», Jean Gerson, CEuvres completes, ed. par P. Glo-
rieux, Paris, 1960, V, p. 334.
58. Humbert de Romans, Expositio Regulae B. Augustini, dans Joachim Joseph Berthier,
Humbertus de Romanis: Opera de vita regulari, Rome, 1888—1889, I, p. 186.
59. Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. par H. Denifle et E. Chatelain, 4 vol.,
Paris, 1889—1897, 1, p. 386; Cesar Egasse du Boulay, Historia Universita-
tis Parisiensis, Paris, 1665—1773, IV, p. 159; Hastings Rashdall, The Universities
of Europe in the Middle Ages, sous la dir. de F. M. Powicke et A. B. Emden,
Oxford, 1936, p. 423, n. 1-2.
60. Pierre Dubois, De recuperatione Terre Sanctae, ed. par Angelo Diotti, Florence,
1977, p. 163.
61. В 1271 г. канцлер собора Жан Орлеанский говорит о «libros tradendos et re-
cuperandos pauperibus scolaribus in theologica studentibus»; Alfred Franklin, Les
Anciennes Bibliotheques de Paris, Paris, 1867—1873, 1, p. 8, n. 5; ibid., I, 9, n. 1;
Rashdall, The Universities or Europe, op. cit., p. 423. В XV в. в Сорбон-
не на дом выдавались 30 экземпляров «Сентенций» Петра Ломбардского
(см.: Jeanne Vielliard, «Le registre de pret de la bibliotheque du College de Sor-
bonne au XVе siecle», Mediaevalia Lovaniensa, VI (1978). p. 291).
62. A. Tuilier, «La bibliotheque de la Sorbonne et les livres enchaines», Melanges
de la Bibliotheque de la Sorbonne, I (1981), p. 22 —23, 26.
63. Cm: James J. Murphy, «The Double Revolution of the First Rhetorical Text-
book Published in England. The Margarita eloquentiae of Guglielmus Traversag-
nus (1479)», Texte. Revue de critique et de theorie litteraire, 1989, p. 367—376.
64. В частности, список Тита Ливия из Ватиканской библиотеки (Reg. lat. 792)
не делится даже на главы.
65. L. D. Reynolds, Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics, Oxford,
1983, p. 209.
66. Malcolm Parkes, «The Influence of the Concepts of Ordinatio and Compilatio on
the Development of the Book», dans J. J. G. Alexander et M. T. Gibson (sous la
dir. de), Medieval Learning and Literature. Essays presented to Richard William
Hunt, Oxford, 1976, p. 124—125; Daniel A. Callus, «The Tabula super originalia
patrum of Robert Kilwardby О. P.», Studia medievalia in honorem R. J. Martin,
Bruges, 1948, p. 243 — 270; Richard W. Hunt, «Chapter Headings of Augustine
De trinitate ascribed to Adam Marsh», Bodleian Library Record, V (1954), p. 63.
ПРИМЕЧАНИЯ
497
67. Parkes, «The Influence of the Concepts of Ordinatio and Compilatio...», op. cit.,
p. 118—122; Richard H. Rouse et Mary A. Rouse, Preachers, Florilegia and Ser-
mons. Studies on the «Manipulus florum» of Thomas of Ireland, Toronto, 1979,
p. 7-36.
68. Marichal, «L'ecriture latine et la civilisation occidentale», op. cit., p. 237—
240; Parkes, «The Influence of the Concepts of Ordinatio and Compilatio...»,
op. cit., p. 121; Parkes, Pause and Effect, op. cit., p. 44.
69. BN lat. 4436 et lat. 4523.
70. Ср., например, трагедии Сенеки, переписанные в 1397 г., BN lat. 8824. Та же
система использована для связи «Постилл» Николая из Лиры с библейским
текстом в страсбургском издании 1492 г. (см. прим. 56).
71. D. F. MacKenzie, «Speech-Manuscript-Print», dans D. Oliphant et R. Brad-
ford (sous la dir. de), New Directions in Textual Studies, Austin, 1990, p. 104.
72. Paul Saenger, Michael Heinlen, «Incunable Description and its Implications
for the Analysis of Fifteenth-Century Reading Habits», dans Sandra Hindman
(sous la dir. de), Printing the Written Word. The Social History of Books, c. 1450 —
1520, Ithaca, N. Y, 1992, p. 249.
73. Книгой Павла Бургосского Additiones adpostillam Nicolai de Lyra только так
и можно пользоваться. См. О рукописях этого теста: Fridrich Stegmuller,
Repertorium Biblicum medii aevi, Madrid, 1940—1961, IV, p. 197.
74. Georges Dogaear, Marguerite Debae, La Librairie de Philippe le Bon. Exposition
organises d I'occasion du 500е anniversaire de la mart du due, Bruxelles, 1967,
ил. 33.
75. M. B. Parkes, «Tachygraphy in the Middle Ages. Writing Techniques Emp-
loyed for Reportationes of Lectures and Sermons», Medioevo e Rinascimento, III
(1989), p. 159-169.
76. Итальянский пример XIV в. см.: Astrik L. Gabriel, Garlandia. Studies in
the History of the Mediaeval University, Francfort, 1969, ил. XXV. Француз-
ские примеры XIII—XIV вв. см.: Bibl. de la Sorbonne 31, f. 278 (воспроизве-
дена на обложке каталога выставки: La Vie universitaire parisienne au
XIIIе siecle, Paris, 1974; Astrik L. Gabriel, Student Life in Ave Maria College. Me-
diaeval Paris. History and Chartulary of the College, Publications in Mediaeval
Studies, XIV, Notre Dame 1955, ил. 25, 26. Дунс Скот в XIV в. Был изображен
читающим лекцию студентам, перед которыми лежит книга (Jacques Guy
Bougerol, Saint Bonaventure et la sagesse chretienne, Paris, 1963, p. 150).
Во второй половине XV в. та же иконография аудиторий встречается
и в первопечатных книгах: ср., например, портрет Виллема из Гауды,
читающего лекцию: Leonide Mees, Biobibliographia Franciscana nederlandica
ante saeculum XVI, Nieuwkoop, 1974, III, 77 (ил. 92).
П. A. van Hove, «La bibliotheque de la Faculte des arts de 1'universite de Lou-
vain», dans Melanges d'histoire offerts a Charles Moeller a Г occasion de son
jubile de 50 annees de professorat a I'universite de Louvain 1863 — 1913, Louvain,
1914, I, p. 616. См. также: Gerhardt Powitz, «Modus Scolipetarum et Re-
portistarum. Pronuntiatio and Fifteenth-Century University Hands» Scrittura
e civilta XII (1988), p. 201-211.
78. Университет требовал от профессора читать лекцию так, как священник
проповедь (Chartularium Universitatis Parisiensis, III, p. 39, 642, 646. В XIV—
498
ПРИМЕЧАНИЯ
XV вв. проповедники изображались иначе, нежели профессора — обычно
перед проповедующим не лежал текст, как будто он говорил не во
времени (см., например, BN lat. 646В, f. 1, lat. 17294, f. 65v et 66v, lat. 17716,
f. 43; fr. 147, f. 1; fr. 177, f. 315; fr. 244, f. 1 et fr. 824, f. 1. Попытки сделать
лекции более живыми, кажется, не увенчались успехом; в 1454 г. кардинал
д'Эстутевиль отменил запрет на legere ad реппат, т. е. для дословной
записи: Chartularium Universitatis Parisiensis, IV, р. 727.
79. J. Destrez, La pecia dans les manuscrits universitaires du XIIIе et du XIVе siecle,
Paris, 1935; Louis J. Bataillon, Bertrand G. Guyot et Richard Rou-
se, La Production du livre universitaire au Moyen Age: exemplar et pe-
cia, Paris, 1985.
80. В Болонском университете в XIV в. доктора — участники богословских
диспутов были обязаны предоставить для ознакомления свои рукописи,
прежде чем их копировать: Denifle, «Die Handschriften der Bibel-Correctoren
der 13. Jahrhundert», Archiv fur Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalter,
IV, p. 321—322. В Анжере профессорские лекции для копирования
предоставляла университетская библиотека: Celestin Port, «La bibliothe-
que I'universte d'Angers», Notes et notices angevines, Angers, 1879, p. 34.
Документы, впервые введенные в оборот Пором, полностью опубликованы
Марселем Фурнье в кн.: Les Statuts et privileges des universites franfaises, I (1890),
p. 387—389. Гипотезу о том, что копии изготовлялись раньше, чем
профессор читал свой курс устно, опровергал Канторович, но существуют
миниатюры, на которых студенты читают тот же самый текст, который в
это время произносит преподаватель, например, BN lat. 14023, f. 2 et 123.
Около 1300 г. один английский богослов просил студентов подавать ему
тезисы в письменном виде прежде, чем он начинал писать свои лекции,
а это, очевидно, показывает, что письменные тексты лекций передавались
параллельно с устным прочтением, а то и раньше; Р. Glorieux, La Litera-
ture quodlibetique, Paris, 1925—1935,1, p. 52. О связи между устными тезисами
и опубликованными редакциями см. также: Jean Acher, «Six disputations
et un fragment d'une repetition orleanaise», Melanges Fitting, Montpellier, 1907,
II, p. 300—301. Во французских судах устное изложение дела опиралось на
письменные иски. В середине XV в. Тома Базен держался мнения, что
устные прения следует упразднить за ненадобностью: Р. Guilhiermoz, «De
la persistence du caractere oral dans la prcredure civile franchise», Nouvelle
revue historique de droit francais et etranger, XIII (1889), p. 21—65. Особенно
письменная аргументация была необходима при рассмотре-
нии сложных дел. Для различия двух способов изложения доводов сторон,
логическое построение которых сильно напоминало схоластические
«вопрошания» (quaestiones) юридических факультетов, суды использовали
термины «dit de bouche» («устные сказки») и «dit en escriptures» («сказки
на письме»). Обязанность записи устных прений возлагалась не на
секретаря суда, которым был один из судей, а на особого писца.
81. См., например, портрет святого Бонавентуры работы Гоццоли: Bouge-
rol, Saint Bonaventure, p. 163, — и изображение Знания: BN fr. 541, f. 108.
В XV в. Джеффри Уитни избрал эмблемой молчания ученого в про-
фессорской мантии, погруженного в книгу: Raymond В. Waddington, «The
ПРИМЕЧАНИЯ
499
Iconography of Silence and Chapman's Hercules», Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, XXXIII (1970), p. 97.
82. Martin Grabmann, «Abkiirzende Bearbeitungen der Aristotelischen Schriften:
Abbreviationes, Summulae, Compendia, Epitomata», Sitzungsberichte der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung, pt. 5 (1939),
p. 54—104. Николай из Лиры особо указывал, что различия между
еврейским текстом и Вульгатой в Ветхом Завете легче прочесть (expeditius
videri) в его же «Трактате о различиях»: Н. Hailperlin, Rashi and the Chris-
tian Scholars, p. 285, n. 22.
83. Dubois, De recuperatione, op. cit., p. 163.
84. Hailperlin, Rashi, op. cit., p. 139.
85. В обычных правилах августинского монастыря в Шпрингирсбах-Рольду-
ке, написанных приблизительно в 1229 г., то, что мы называем шепотом,
квалифицируется как «еле слышный говор или пение» и не считается
нарушением правила о молчании: Stephanus Weinfurter, Consuetu-
dines canonicorum regularium Springirsbacenses Rodenses, CCCM, 48, Turnhout,
1978, p. 18, 67, 78, 82, 101. «Уставная книга обители святого Виктора
в Париже» дозволяла монахам, собравшись по нескольку человек, читать
литургические тексты и петь псалмы, но тихо, чтобы не нарушать обще-
го безмолвия: Ludovic Jocque, Ludo Milis, Liber Ordinis Sancti Victoris Parisien-
sis, CCCM 61, Turnhout, 1984, p. 145, 147, 149.
86. J. W. Clark, The Care of Books. An Essay on the Development of Libraries and their
Fittings from the Earliest Times to the End of the Eighteenth Century, Cambridge,
1909, p. 145—164. На одной из миниатюр XV в. можно видеть такую
библиотеку: Francjois Dolbeau, «Les usagers des bibliotheques», dans Andre Ver-
net (sous la dir. de), Histoire des bibliotheques fran^aises, I, Paris, 1989, p. 394.
87. H. W. Garrod, «The Library Regulations of a Medieval College», The Library, set.
4, VIII (1927), p. 315. Об увеличении числа собраний текстов для справок см.
библиографию, приведенную в: Richard Н. Rouse, «The Early Library
of the Sorbonne», Scriptorium, XXI (1967), p. 60.
88. lbid.,p. 59.
89. A. van Hove, «La bibliotheque de la Faculte des arts de I'universite de Louvain
au milieu du XVе siede», op. cit., p. 602 — 605.
90. Leopold Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliotheque nationale, Paris, 1868—
1891, II, p. 181, n. 6.
91. См. Устав Анжерского университета (Port, «La bibliotheque de I'univer-
site d'Angers», op. cit., p. 28).
92. F. J. McCuigan, W. I. Rodier, «Effects of Auditory Stimulation on Covert Oral
Behavior During Silent Reading», Journal of Experimental Psychology, LXXVI (1965),
p. 649 — 655; Robert M. Weisberg, Memory, Thought and Behavior, New York, 1980,
p. 159—160, 235—236. В античных библиотеках чтение вслух было общим
правилом: см. у епископа Оптата Милевского: Contra Parmenianum Donatis-
tam, VII, 1, ed. par Karl Ziusa, CSEL, 26, Vienne, 1893, p. 165.
93. Berthier, Humbertus de Romanis, op. cit., I, p. 421; K. W. Humphreys, The Book Pro-
visions of the Medieval Friars, Amsterdam, 1964, p. 136.
94. Anstey, Munimenta academica, op. at., I, p. 263—264.
95. Port, «La bibliotheque de I'universite d'Angers», op. cit., p. 31.
500
ПРИМЕЧАНИЯ
96. Леопольд 'Делили, Le Cabinet des manuscrits (op. cit., II, p. 201) справедливо
пишет, что текст, фигурирующий в рукописи Клода Эмере Sorbonae
origines, датируется временем постройки нового здания библиотеки (около
1483 г.). Однако он делает отсюда вывод, что эти правила относились толь-
ко к печатным книгам, что не подтверждается документами. Каждое из
правил, записанных в XV в., имеет прецедент. Кроме того, и в 1493 г.
библиотека Сорбонны еще продолжала приобретать рукописные кни-
ги (см.: Franklin, Les Anciennes Bibliotheques de Paris, I, p. 256, n. 8.
В средневековых библиотеках рукописи и печатные книги, как правило, не
разделялись, см.: Dominique Coq, «L'incunable, un batard du manuscrit»,
Gazette du livre medieval, I (1981) p. 10—11.
97. Eugene Mutz, La Bibliotheque du Vatican au XVе siecle d'apres des docu-
ments inedits, Paris, 1887, p. 140.
98. Rouse et Rouse, Preachers, op. cit.; Pieter F. J. Obbema, «The Roolooster
Register Evaluated», Quaerendo, VII (1977) p. 326—353.
99. Saenger et Heinlin, «Incunable Description», op. cit., p. 239—250.
100. A Oxford, Angers et Paris: Anstey, Munimenta academica, p. 139—140; Port,
«La bibliotheque de I'universite d'Angers», op. cit., p. 32; Delisle, Le Cabinet
des manuscrits, op. cit., II, p. 201.
101. P. Saenger, «Coupure et separation des mots sur le continent», dans Henri-
Jean Martin et Jean Vezin, La Mise en page et la mise en texte du livre manuscrit,
Paris, 1990, p. 450-455.
102. После 1320 г. «кводлибет» перестал быть важным средством изложения
спорных вопросов. Все сочинения Оккама распространялись в форме
брошюр, а не предназначались для зачитывания студентам на лекциях.
Об отказе от «кводлибет» см.: Gordon Leff, Paris and Oxford Universities in the
Thirteenth and Fourteenth Centuries. An Institutional and Intellectual History, New
York, 1958, p. 249.
103. Возможно, именно поэтому в 1559 г. доминиканцы запретили приносить
на лекции какие-либо книги, кроме той, по которой читал профессор: Char-
tularium Universitatis Parisiensis, I, p. 386.
104. Anne Hudson, «А Lollard Quaternion», Review of English Studies, ХХП (1971),
p. 442.
105. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, p. 486 et 543.
106. Ibid., Il, p. 271.
107. Ibid., II, p. 576.
108. Робер Гаген в письме к Гийому Фише рассказывал, что эти книги были
прикованы цепями (Charles Samaran et al., Auctarium chartularii Universi-
tatis Parisiensis, III (1935), p. 259 — 260). Его рассказ подтверждается письмом
Жана Эстутвиля к ректору Парижского университета (1479): «Король
поручил мне расковать и запереть все книги номеналисгов, кои допреж сего
были уже опечатаны и закованы господином д'Авраншем из колле-
гий сказанного университета в Париже, и дать вам знать, яко всякому
возможно изучать их, кто пожелает».
109. Geoffroy de Beaulieu, Sancti Ludovici vita, dans Recueil des historiens des Gaules
et de la France, XX, Paris, 1840, p. 14—15 ; Vie de Saint Louis par le confesseur
de la reine Marguerite, p. 79 — 80.
ПРИМЕЧАНИЯ
501
110. Bernard Guenee, «La culture historique des nobles: le succes des Faits des Ro-
mains, XIIIе—XIVе siecle», dans La Noblesse du Moyen Age, XIе—XVе siecle.
Essais a la memoire de Robert Boutruche, sous la dir. de Philippe Contamine,
Paris, 1976, p. 268.
111. По утверждению Гастона Париса и А. Жанруа (Extraits des chroniquers
frangais, Paris, 1912, p. 6), текст «Хроник» Виллардуэна «кажется устной
речью, как будто предназначенной для слушания».
112. В первой главе «Истории Людовика Святого» Жуанвиль говорит, что «велел
записать» свою книгу, а к публике он обращается «вы услышите (orrez —
гл. 7 и passim). Миниатюра, на которой автор «Романа о Ланцелоте»
изображен за диктовкой, BN fr. 342, f. 150, рукопись 1274. В 1298 г. свою книгу
продиктовал Марко Поло.
113. Этим объясняется наличие таких разночтений между рукописями, как
различный порядок стихов и строф в произведениях провансальской поэ-
зии. Гийом Машо в «Книге об увиденном и сказанном» говорит: «Сочинив
же речь и песню,., я велю писать их словами и нотами». Guillaume Machaut
dit dans le Livre du voir-dit, ed. Paulin Paris, Paris, 1875, p. 180. Испанс-
кая миниатюра ХШ в. изображает автора «Кантик» в честь Девы Ма-
рии диктующим писцу (см.: Robert I. Bums, American Historical Review,
LXXVI (1971), p. 1383, слева внизу). Существует также портрет писцов,
записывающих слова за трубадурами: Hendrik van der Werf, The Chanson
of the Troubadours and Trouveres, Utrecht, 1972, pi. 3 et 4.
114. См. недавние наблюдения над провансальскими текстами XII в. в кн.:
Laura Kendrick, The Game of Love. Troubadour Wordplay, Berkeley, 1988, p. 135.
Такие же проблемы с делением на слова существовали в письме
французских крестьян начала XX в., см.: Marcel Jousse, L'Anthropologie
du geste, Paris, 1974—1978,1, p. 340.
115. Dag Norberg, Manuel pratique de latin medieval, Paris, 1968, p. 90.
116. Voir Kendrick, The Game of Love, op. cit., p. 31—32 et 195—196.
117. Прекрасные примеры: слова «fillastre» (пасынок) и «maistre» (мастер), где
в конце Средневековья «s» уже не произносилась.
118. «Devoir» превратилось в «debvoir», «fevre» — в «febvre» (кузнец);
в английском языке «Ь» появилось в слове «debt» (долг), см.: Albert
С. Baugh, A History of the English Language, New York, 1957, p. 250,
et J. Vachek, «English Orthography. A Functionalist Approach», dans W. Haas,
Standard Languages, Spoken and Written, Manchester, 1982, p. 37—56. Под
влиянием гуманизма в первой половине XVI в. отклонения орфогра-
фии от французской фонетики достигли максимума, но со второй по-
ловины XVI в., когда Жак Пельтье, Луи Мегре и Жан Антуан де Баиф
начали кампанию за восстановление орфографии, соответствующей произ-
ношению, пошли на спад.
119. Например, см.: BN fr. 794, изученную Марио Роком («Le manuscrit fr. 794»,
op. cit.). За эту ссылку я благодарю Женевьеву Азенор.
120. Paul Saenger, «Colard Mansion and the Evolution of the Printed Book», Library
Quarterly, XLV (1975), p. 405 —418.
121. D. J. A. Ross, Alexander Historiatus. A Guide to Medieval Illustrated Alexan-
der Literature, Londres, 1963, p. 69—71.
502
ПРИМЕЧАНИЯ
122. I. Monfrin, «Les traducteurs et leur public en France au Moyen Age», Journal des
savants, 1964, p. 5—20.
123. Georges Tessier, Diplomatique royale franfaise, Paris, 1962, p. 305.
124. Людовик XI для ускорения дел дозволил своим секретарям воспроизво-
дить его подпись: Joseph Vaesen et Etienne Charavay, Lettres de Louis XI roi
de France, Paris, 1909, p. VI; R. H. Bautier, «Les notaires et secretaires du roi, des
origines au milieu du XVIе siecle», dans Andre Lapeyre et Remy Scheu-
rer, Les Notaires et secretaires du roi sous les regnes de Louis XI, Charles VIII
et Louis XII. Notices personnelles et genealogies, Paris, 1978, p. XXVII.
125. Tessier, Diplomatique royale, op. cit., frontispice.
126. Основные памятники времен Иоанна Доброго — перевод Тита Ливия
Пьером Берсюиром и Библии Жаном де Си (с латинским комментарием),
см.: Delisle, Le Cabinet des manuscrits, bp. cit., I, p. 144.
127. Monfrin, «Les traducteurs...», op. cit., p. 260 — 262.
128. Delisle, Le Cabinet des manuscrits, op. cit., I, p. 201; Claire Richter Sherman, The
Portraits of Charles V of France (1338—1380), New York, 1969, p. 13.
129. Ibid., fig. 11. Ср. Миниатюру с изображением поучающего Соломона: Rosy
Schilling, «The Master of Egerton 1070: Hours of Rene d'Anjou», Scriptorium,
VIII (1954), pi. 26.
130. Paul Saenger, «Books of Hours and the Reading Habits of the Later Middle Ages»,
dans The Culture of Print. Power and the Uses of Print in Early Modern Europe, sous
la dir. de Roger Chartier, Cambridge, 1989, p. 153.
131. О терминологии монашеского чтения см.: S. J. Р. van Dijk, «Medieval Ter-
minology and Methods of Psalm Singing», Musica Disciplina, VI (1952),
p. 9—10; Carolo A. Lewis, Silent Recitation of the Canon of the Mass, Excerpta
ex dissertatione ad Lauream in Facultate Theologica Universitatis Gregorianae,
Bay Saint Louis, Miss., 1962; Saenger, «Books of Hours...», op. cit.,
p. 143-145.
132. Ibid., p. 146; Жювеналь де Юрсен писал, что Карл VII ради написа-
ния «Подробнейшего трактата против англичан» велел ему отправиться
«в ваши счетные палаты, грамотохранилища и инде, дабы видеть потребные
письма и грамоты» (цит. по: Р. S. Lewis, «War Propaganda and Historiogra-
phy in Fifteenth Century France and England», Transactions of the Royal Histori-
cal Society, 1965, p. 16.
133. Изображение пишущей Кристины де Пизан: BN fr. 603, f. 1, fr. 835, f. 1 et fr.
1176, f. 1; пишущего Фруассара: BN fr. 86, f. 11.
134. Dogaer et Debai, La Librairie de Philippe le Bon, op. cit., pi. 39.
135. В этом смысле глагол «escrire» употреблял Жан Бартелеми (BN fr. 9611,
f. 1). Жан дю Шен в предисловии к своему переводу «Записок» Цезаря
говорит о «записках, которые Цезарь сам написал своею рукою» и назы-
вал его «писателем» (British Library, Royal 16 G VIII). Лефевр в «Истории
Ясона» (с. 125) говорит о бургундском герцоге Филиппе Добром, что он был
«отцом писателей». Между тем, в середине XIV в. Пьер Берсюир не нашел
французского слова для перевода латинского «scriptor» в смысле автора
(см.: Jean Rychner, «La traduction de Tite-Live par Pierre Bersuire», dans An-
thime Fourrier (sous la dir. de), L'Humanisme medieval dans les litteratures
romanes du XIIе siecle au XIVе siecle, Paris, 1964, p. 170—171.
ПРИМЕЧАНИЯ
503
136. Antoine Thomas, Jean de Gerson et I'education des dauphins de France. Etude
critique suivie du texte de deux de ses opuscules et de documents inedits sur Jean
Majoris precepteur de Louis XI, Paris, 1930, p. 50—51.
137. См., например, «Цветы жизни» Жана Манселя, где жития святых располо-
жены «азбучным порядком, дабы легче находились те, кои пожелают
прочитать» (BN fr. 57, f. 9). О ранних таблицах такого рода на новых язы-
ках см.: F. Avril, «Trois manuscrits des collections de Charles V et de Jean
de Berry», Bibliotheque de ГЁсо1е des chartes, CXXVI p. 293.
138. Sherman, The Portraits of Charles V, op. cit., p. 42 sq.
139. Примеры французских надписей на лентах см.: Michel Francois, «Les rois
de France et les traditions de 1'abbaye de Saint-Denis a la fin du XVе siecle», dans
Melanges Felix Grat, Paris, 1946—1949, pi. 7 et 8; Pierre Champion, Louis XI, Paris,
1928,11, pi. 20. В XVI в. Лютер считал ленты с надписями неотъемлемой частью
иконографии Воскресения (см.: Catherine Delano Smith, «Maps as Art and
Science. Maps in Sixteenth Century Bibles», Imago Mundi, XLII (1990), p. 67.
140. Один из первых примеров использования cursive formata в нелитератур-
ных текстах встречается в Национальном архиве, on. JJ 28 и относится ко
временам Филиппа Красивого. Для литературных текстов его ретулярное
употребление приурочивается к царствованию Карла V — см., например,
BN fr. 16993. Cf. Leopold Delisle, Recherches sur la librairie de Charles V, Paris,
1905, p. 230.
141. Paul Saenger, «Geoffroy Tory et la nomenclature des ecritures livresques
fran^aises du XVе siecle», Le Moyen Age, 4е serie, XXXII (1977), p. 493 — 520.
142. Geoffroy Tory, Champ fleury, ed. par Gustave Cohen, Paris, 1913, f. 72.
143. Jean Froissart, Chroniques, prologue au livre premier.
144. G. W. Coopland (ed.), Philippe de Mezieres, Chancellor of Cyprus: Le Songe du vieil
pelerin, Cambridge, 1969, 1, p. 102.
145. Paul Saenger, «The Education of the Burgundian Princes, 1435—1490»,
(докторская дис., Чикагский университет). Chicago, 1972, p. 179—267.
146. Paul Saenger, «John of Paris: Principal Author of the Quaetio de potestate papae»,
Speculum, LVI (1981), p. 41-55.
147. Pierre de Gros, Jardin des nobles, BN fr. 193.
148. Voir Saenger, «Books of Hours...», op. cit., p. 148,153—154.
149. Например, Гийом Филлатр в «Истории Золотого руна» (BN fr. 140, f. 78)
оставлял на усмотрение читателя, должен ли государь быть предан в первую
очередь своему семейству или общему делу.
150. Paulin Paris, Les Manuscrits frangais de la Bibliotheque du roi, Paris, 1836—1848, IV,
p. 131-165.
151. BN lat. 6607.
152. Paul Saenger, «The Earliest French Resistance Theory. The Role of the Burgun-
dian Court», Journal of Modern History, suppl. 51 (1979), p. 1225—1249.
153. Например, изображение собачьего хвоста, намекающего на анальное соитие:
BN lat. 12054 (s. 12) f. 330v.
154. Типичный пример находим в экземпляре XV в. французского перевода
«Достопамятных деяний и изречений» Валерия Максима: Robert Melville,
Erotic Art of the West, Londres, 1973, fig. 116. В подписи и в тексте ошибочно
указано, что картинка относится к XVI в. Другие примеры см.: Edward Lucie
504
ПРИМЕЧАНИЯ
Smith, Erotism in Western Art, Londres, 1972. Эти рукописи прямо
предшествуют эротическому искусству XV—XVI вв., в том числе у Иерони-
ма Босха: Anthony Bosman, Jerome Bosch, Paris, 1962, p. 16; Otto Brusen-
dorf, Paul Hennigsen, Love's Picture Book. The History of Pleasure and Moral In-
dignation from the Days of Classical Greece Until the French Revolution, Copenhague,
1960; Edward Fuchs, Geschichte der erotischen Kunst, Munich, 1912, p. 175. Бордель
обычно изображался в виде общественной бани.
155. Les Cent Nouvelles Nouvelles, ed. par Franklin P. Sweetzer, Geneve, 1966, p. 22.
156. Описание сохранившихся рукописей см.: Pierre Champion, Les Cent Nouvelles
Nouvelles, Paris, 1928, p. XCVI—CXVII; J. Gerber Young, P. Henderson Aitken,
A Catalogue of the Manuscripts in the Library of the Hunterian Museum in the Uni-
versity of Glasgow, Glasgow, 1908, p. 201—203.
157. Jean Harthan, The Books of Hours, New York, 1977, p. 24, 26. Аукцион Сотби
(ноябрь 1990 г.), лот № 140 куплен Пьером Бересом (благодарю Кристофа
де Амеля за это указание).
158. A. Grunzweig, «Quatre lettres autographes de Philippe le Bon», Revue beige
de philologie et d'histoire, IV (1925), p. 431—437.
159. Thomas a Kempis et la devotion moderns, Bibliotheque royale de Bruxelles,
catalogue de 1'exposition de 1971, p. 34.
160. Библиотека Арсенала, 5205, f. «F».
161. Там же. 5206, f. 174.
162. BN fr. 982, f. 51 v. Тот же акцент на личное благочестие встречается и в Англии:
Pantin, «Instructions for a Devout and Literature Layman», op. cit., p. 406—407.
163. BN fr. 982, f. 56.
164. BN fr. 407, f. 5, 7.
165. Jacques Toussaert, Le Sentiment religieux en Flandre a la fin du Moyen Age, Paris,
1963, p. 351-352.
166. См., например, в муниципальной библиотеке Пуатье, 95, f. 104 et 139 v.
ГЛАВА 6
1. Общий обзор еврейского самоуправления в предсовременную эпоху см.:
S. W. Baron, The Jewish Community. Its History and Structure to the Ameri-
can Revolution, 3 vol., Philadelphie, 1942; L. Finkelstein, Jewish-Self-Government
in the Middle Ages, New York, 19642; S. Schwartzfuchs, Kahal. La communaute juive
de /'Europe medievale, Paris, 1986.
2. Об этом см.: A.-M. Chartier et J. Hebrard, Discours sur la lecture (1880—1980),
Paris, 1989, p. 15-74.
3. On se reportera a A. Petrucci, «La concezione cristiana del libro fra VIе VII secolo»,
Studi medievali, s. Ш, XIV (1973), p. 961—984, reimprime dans G. Ca-
vallo (sous la dir. de), Libri e lettori nel medioevo. Guida storica e critica, Rome-Bari,
1977, p. 5—26. Об аналогичных явлениях, наблюдавшихся антропологами
в первобытных обществах, не знающих письменности, см., например:
J. Goody, Literacy in Traditional Societies, Cambridge, 1968, p. 16—18.
4. О «Свитке Ахима'аца» существует уже очень богатая литература. Для
первого знакомства можно обратиться к библиографии, подобранной в:
ПРИМЕЧАНИЯ
505
R. Bonfil, «Тга due mondi: prospettive diricerca sulla storia culturale degli Ebrei
dell'Italia meridionale nell'alto medioevo», Italia Judaica, 1, Atti del P Coii-
vegno internazionale, Bari, 18—22 maggio 1981, Rome, 1983, p. 135—158.
5. Meghillath Ahima'az, ed. par B. Klar, 2е ed. revisee, Jerusalem, 1974, p. 30.
У христиан о нечистоте женщин в связи с богослужением см., например,
«Декрет Грациана», раздел 23, гл. 25 (запрет женщинам прикасаться
к священным предметам) и комментарий Руфина на запрет женщинам
входить в храм во время месячных, введенный Григорием Великим и
подтвержденный Грицианом: «ибо жена — единственное живое существо,
у которого бывают месячные; при соприкосновении с ее кровью плоды не
зреют, вино киснет, растения вянут, с деревьев плоды опадают, железо
ржавеет, воздух меркнет, если же эту кровь лижут собаки, становятся
бешеными». Оба отрывка приведены и прокомментированы в: A. Boureau,
La Papesse Jeanne, Paris, 1988, p. 44—45.
6. Ср., например, рассказ о шутке Силана над апостолом Палестины,
разобранный нами в указанной работе.
7. Кавычки необходимы, поскольку ничего действительно светского в Средние
века не было.
8. О вселенской власти в центрах, находившихся на мусульманском Восто-
ке см.: S. Dov Goitein, A Mediterranean Society, II, Berkeley, 1971, p. 5—40.
О переходе западных евреев из-под палестинской гегемонии под ва-
вилонскую: Bonfil, «Tradue mondi», op. cit.
9. Voir Th. Docherty, On Modern Authority. The Theory and Condition of Writing, 1500
to the Present Day, Sussex-New York, 1987, p. 2—43. Voir D. Weiss Haliv-ni,
Midrash, Mishnah and Gemara, Cambridge, Mass., 1986.
10. Voir R.W. Southern, The Making of the Middle Ages, New Haven-Londres, 1953,
p. 170-184.
11. Новейшее и подробнейшее исследование этой книги — статья Давида
Флюссера (на иврите) в осуществленном им критическом издании: The Yos-
sippon [Josephus Gorionides], П, ]ёги8а1ет, 1980. Текст содержится в первом томе
(Там же. 1978).
12. О Донноло и его произведениях: A. Sharf, The Universe of Shabbetai Donnolo,
Warminster, 1976, et G. Sermoneta, «II neo-platonismo nel pensiero dei nuclei
ebraici stanziati nell'-Occidente latino (riflessioni sul «Commento al libro della
Creazione» di Rabbi Sabetai Donnolo)», dans Gli Ebrei nell’alto medioevo, Spoleto,
30 marzo—5 aprile 1978, Spoleto, 1980 (Settimane di studio del Centro italiano di
studi sull'alto medioevo, XXVI), p. 867—925.
13. На эту тему см.: S. W. Baron, A Social and Religious History of the Jews,
IV, Philadelphia 19572, p. 150 - 227, 312 - 352 (Histoire d'Israel, Paris, 1986);
I. A. Agus, Urban Civilization in Pre-Crusade Europe, 2 vol., New York, 1965; Id.,
The Heroic Age of Franco-German Jewry, New York, 1969; H. Hillel ben Sasson,
«The «Northern» European Jewish Community and Its Ideals», Journal
of World History, XI (1968), p. 208 - 219.
14. Следует сказать, что последующие соображения не прямо взяты из работ,
упомянутых в предыдущем примечании. Их следует рассматривать как
предварительные результаты нового изучения источников, которым я занят
и результаты которого надеюсь в довольно скором времени опубликовать.
506
ПРИМЕЧАНИЯ
15. Sefer Hassidim, ed. Wistinetski, Francfort, 1924, p. 6. О «Сефер Хасидим» и
социокультурном контексте существования еврейских общин Рейнской об-
ласти можно найти в довольно плодотворных работах, в которых предс-
тавлена и библиография для более углубленного исследования: I. G. Mar-
cus, Piety and Society. The Jewish Pietists of Medieval Germany Leyde, 1981; Id., «Hi-
erarchies. Religious Boundaries and Jewish Spirituality in Medieval Germany»,
Jewish History, I, 2 (1986), p. 7—26; P. Schaefer, «The Ideal of Piety
of the Ashkenazi Hasidim and Its Roots in Jewish Tradition», Jewish History, IV,
2 (1990), p. 9-23.
16. I, p. 179.
17. Меир бар-Илан. Ришума шель и-йедат га-кериа аль кериат Мегилла вэ-
Галлель (Влияние неумения читать на ритуальное чтение Мегиллы
и Галлеля), Proceedings of the American Academy for Jewish Research, LIII (1987),
Section hebraique, p. 11—12.
18. Cm.: D. J. Silver, Maimonidean Criticism and the Maimonidean Contro-
versy, 1180—1240, Leyde, 1965; H. Hillel ben Sasson, «The Maimonidean Con-
troversy», dans Id., Trial and Achievment. Currents in Jewish History, Jerusalem,
1974, p. 230 - 242.
19. Cm.: A. S. Halkin, «Yedaiah Bedershi's Apology», dans A. Altmann (sous la
dir. de), Jewish Medieval and Renaissance Studies, Cambridge, Mass., 1967,
p. 165-184.
20. Краткий обзор на эту тему см.: Р. Girard, «Le peugle du livre brule», dans
Censures. De la Bible aux larmes d' Eros, Paris, 1987, p. 24—31.
21. Это, к примеру, очень ярко проявилось у Соломона бен Адрета, см.: Halkin,
«Yedaiah Bedershi's Apology», op. cit.
22. Излишне напоминать по этому поводу хронологию отношений между
культурным истеблишментом и гонениями на книги со стороны хрис-
тиан от основания Парижского университета до издания буллы Parens sci-
entiarum (1231). См., в частности, Censures, op. cit., р. 214—216.
23. См.: Silver, Maimonidean Criticism, op. cit., p. 15—17.
24. Ход дела был реконструирован мною в предисловии к фототипическому
изданию «Сефер нофет цмиум» Мессера Леона (Иерусалимская на-
циональная и университетская библиотека, 1981, с. 15—18).
25. См.: R. Bonfil, Rabbis and Jewish Communities in Renaissance Italy, Ox-
ford, 1990, p. 67—75 et passim; Id., «Le savoir et le pouvoir», dans La Societe
juive a trovers I'histoire, sous la dir. De Schmuel Trigano, t. 1, Paris, 1992,
p. 115-195.
26. Логика этой политики подобна логике Хорхе в «Имени розы» Умберто Эко.
Хорхе слеп, не рассеивается на множество вещей, даваемых зритель-
ным восприятием мира, и потому лучше других видит «опасность»
двусмысленной ситуации, когда книги разрешены для одних и запрещены
для других. Он стремится разрушить эту двусмысленность, а значит, и само
содержание книг.
27. В «Имени розы» сожжение книг неизбежной исторической судьбой прев-
ращается в разрушение самого аббатства.
28. На эту тему см., например: A. Rotondo, «La censura ecclesiastica e la culture»,
dans Storia d'ltalia, V, I documents Turin, 1973, p. 1397—1492. Sur la censure du
ПРИМЕЧАНИЯ
507
livre hebra'ique, voir W. Popper, The Censorship of Hebrew Books, introduc-
tion de M. Carmilly-Weinberger, New York 1969 (Ire ed. en 1889);
P. F. Grendler, «The Destruction of Hebrew Books in Venice, 1568», Pro-
ceedings of the American Academy of Jewish Research, XLV (1978), p. 103—130;
B. Ravid, «The Prohibition against Jewish Printing and Publishing in Venice and
the Difficulties of Leone Modena», dans I. Twersky (sous la dir. de), Studies
in Medieval Jewish History and Literature, Cambridge, Mass., 1979, p. 135—153.
29. Текст постановления с английским переводом: Finkelstein, Jewish Self-
Government, op. tit., p. 301, 304.
30. См., например: A. Rotondo, «Culture umanistica e difficolta di censori. Cen-
sura ecclesiastica e discussioni cinquecentesche sul platonismo», dans Le Pouvoir
et la plume. Incitation, controle et representation dans 1'ltalie du XVIе siecle, Paris,
1982, p. 15—50; N. Longo, «Fenomeni di censura nella letteratura italiana del
Cinquecento», ibid., p. 275 — 284.
31. R. Bonfil, «Some Reflections on the Place of Azariah del Rossi's Meor Enayim
in the Cultural Milieu of Italian Renaissance Jewry», dans B. Dov Cooperman
(sous la dir. de), Jewish Thought in the Sixteenth Century, Cambridge, Mass., 1983,
p. 23 - 48.
32. См. работы, указанные в прим. 30.
33. См. прим. 2.
34. См.: Docherty, On Modern Authority, op. cit.
35. См., например: W. J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the World,
Londres-New York, 19874' p. 122; A. Petrucci, «Pouvoir de I'ecriture, pouvoir
sur I'ecriture dans I'ltalie de la Renaissance», Annales ESC, XLIII (1988),
p. 823 - 847.
36. Об этом см. кн.: Е. Armstrong, Before Copyright. The French Book-Privilege Sys-
tem, 1498 — 1526, Cambridge, 1990.
37. M. Benayahu, Haskamah u-reshuth bi-defussey Venezia («Copyright, Autorization
and Imprimatur for Hebrew Books Printed in Venice»), Jerusalem, 1971.
38. См.: K. R. Stow, «The Burning of the Talmud in 1553 in the Light of Sixteenth
Century Catholica Attitudes toward the Talmud», Bibliotheque d'humanisme
et de Renaissance, XXXIV (1972), p. 435 — 459.
39. См. об этом полемику А. Ротондо и М. Беренго в цитированном сборни-
ке Le Pouvoir et la plume, op. cit., p. 303 — 306.
40. Cm.: A. Patterson, Censorship and Interpretation. The Conditions of Writing
and Reading in Early Modern England, Madison, Wise, 1984. Автор утверждает:
«Самим понятием "литература" мы обязаны цензуре» (с. 4).
41. Это явление лучше всего продемонстрировано касательно Италии в:
R. Bonfil, «Le biblioteche degli ebrei d'Italia nell'epoca del Rinascimento»,
in Manoscritti, frammenti e libri ebraici nell' Italia dei secoli XV—XVI. Atti
dell'Vir Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana per lo Studo del Giu-
daismo, San Miniato, 7, 8, 9 novembre 1988, Rome, 1991, p. 137—150.
42. Cm.: R. Bonfil, «Can Medieval Storytelling Help Understand Midrash?»,
in Michael Fishbane (ed.), The Midrashic Imagination. Jewish Exegesis, Thought,
and History, Albany, N. Y., 1993, p. 228 — 254.
43. Ознакомиться с этим произведением можно по изд.: The Iggeres of Rav
Sherira Gaon, trad, et annote par N. D. Rabinowich, Jerusalem, 1988.
508
ПРИМЕЧАНИЯ
44. Постепенно «открывшиеся» тексты сами по себе были прямо перечислены
в «Послании Рав Шериры».
45. Bonfil, «Тга due mondi», op. at.
46. См., например: G. Cavallo, «Aspetti della produzione libraria nell'Italia meri-
dionale longobarda», dans Libri e lettori net medioevo, op. cit., p. 101—129.
47. M. А. Шульвасс, бывший первопроходцем в этой, как и во многих других
областях, отмечал это в преамбуле к одному из немногих в истории
иудаизма исследований этого предмета. См. его работу: Ле-толедот га-сефер
би-тегум тарбут га-Иагадут га-Фшкеназит би-йумей га-бейнаим (К истории
книги в культурной атмосфере ашкеназийского иудаизма): Samuel К. Mirsky
Jubilee Volume, New York, 1958, p. 337—349. (Воспроизведено в его кн.: Би-цват
га-дорот (В тисках веков). Тель-Авив, Иерусалим, 1960, р. 9—22.)
48. Goitein, A Mediterranean Society, op. cit.
49. См. прим. 13.
50. Bonfil, «Le savoir et le pouvoir», см. прим. 25.
51. Изд. Теодор — Альбек, Иерусалим, 1965, с. 1.
52. На эту тему, в частности, и об антитезе Христа и Закона как сердцевине
мысли апостола Павла см.: М. Simon, Ver us Israel. Etude sur les relations entre
juifs et chretiens dans I'Empire remain (135 —425), Paris, 1948 (reedite en 1964),
p. 96-97.
53. R. Bonfil, «La sinagoga in Italia come luogo di riunione e di preghiera», dans
Il Centenario del Tempio Israelitico di Firenze. Atti del Convegno, 24 ottobre 1982, Flo-
rence, 1985, p. 36—44.
54. Sur ('organisation communautaire, voir Baron, The Jewish Community..., op. cit.,
et Schwartzfuchs, Kahal, op. cit.
55. Cm.: R. Chartier et D. Roche, «Les pratiques urbaines de Tirimprime», dans
Histoire de I' edition fran^aise, sous la dir. de H. J. Martin et R. Chartier, Paris,
1984, t. 2, p. 402—429; Chartier-Hebrard, Discours sur la lecture, op. cit.,
p. 81-167.
56. Соответствующую социологическую модель см., например: К. Polanyi,
The Livehood of Man, New York, 1937, p. 55.
57. The Response ofRabbenu Gershom Meor Hegoleh, ed., preface et notes de S. Eidel-
berg, New York, 1955, № 66, p. 153—154. Правда, как справедливо отмечает
Эйдельберг, несколько десятилетий спустя эта аксиома уже не принималась
всеми sic et simpliciter. Но см. также цитату из респонсы рабби Меира из
Ротенбурга (XIII в., Прага, № 179), где аксиомой полагается, что «людям
привычно давать книги взаймы тем, кто занимается учением».
58. Sefer Chassidim, ed. Wistinetzki, 2е ed. par J. Freimann, Francfort, 1924, № 309,
p. 99; № 1215, p. 303, etc.
59. В связи с обычаем оставлять книги по завещанию синагоге см. пример
Бонайюто да Баньякавалло, завещавшего синагоге в дому Музетты в Падуе
Библию в четырех томах «ut omnes volentes legere possint et discere». Этот
документ опубликован в ст.: R. Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri di
Padova nel secolo XIV», Bolletino del Museo Civico in Padova, VI (1907), а ныне c
ним можно ознакомиться в изд.: Padova medievale. Studi e document!, Padoue,
1985, doc. I, p. 329.
60. Vat. Urb. 22/1.
ПРИМЕЧАНИЯ
509
61. I. Sonne, «Book Lists Through Three Centuries», Studies in Bibliography and Book-
lore, II (1955—1956), особенно p. 7—9.
62. Voir Shulvass, Le-Toledoth..., op. cit., p. 21—22.
63. Там же.
64. См., например: Sonne, Book Lists..., op. cit.
65. Исходную библиографию см.: Bonfil, Rabbis and Jewish Communities, op. cit.,
p. 272 — 280; S. Baruchson, Га-сифриёт га-ператиёт шел Иегуди дуксут Мантуа
(Books and Readers The Reading Interests of Italian Jews at the Close of the Re-
naissance), Ramat Gan, 1993 (на иврите с резюме на английском языке). На
основе этой диссертации С. Барухсон напечатал еще несколько статей, в
последней из которых: Тефутсат сефарим китвей кодеш ве-сифрут классит
бе-сифриёт Иетудей Италиа (Распространение текстов религиозного
характера и классической литературы в библиотеках итальянских евреев
эпохи Возрождения), Italia, VIII (1989), р. 87—99, раздел на иврите — читатель
найдет перечень других работ автора. См., наконец: J.-P. Rothschild, «Quelques
listes de livres hebreux dans les manuscrits de la Bibliotheque nationale de
Paris», Revue d'histoire des textes, XVII (1987), p. 291—346, где указаны более
ранние статьи того же автора и многие другие.
66. Ph. Aries,«L'histoire des mentalites», dans J. Le Goff, R. Chartier et J. Revel (sous
la dir. de), La Nouvelle Histoire, Paris, 1978 p. 402—422.
67. Типичный пример — деятельность Моше бен Иоава Риети, в свое время
изученная Умберто Кассуто: в его еще рукописном сборнике стихов рядом
шли стихотворения духовные и такие, которые теперь назвали бы
порнографическими, см.: U. Cassuto, Gli Ebrei a Firenze nell’ eta del Rinasci-
mento, Florence, 1918 (reedite en 1965), p. 340 — 346.
68. R. Bonfil, «Changing Mentalities of Italian Jews between the Periods of the Ren-
aissance and the Baroque Periods. Some Preliminary Reflections», Italia, 11 (1994),
p. 61-79.
69. Вспомним, например, важнейшие произведения средневекового иудейского
богословия: «Книгу мнений» Саадии Гаона (X в.), «Кузари» Иегуды га-Леви
и «Вождь заблудших Маймонида» (XII в.).
70. Какой бы позиции ни придерживаться в споре о значении латыни для
определения уровня грамотности (ср., например: F. Н. Bauml, «Varieties and
Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy», Speculum, LV, 1980, p. 237—
265, и новейший обзор: D. H. Green, «Orality and Reading. The State of Re-
search in Medieval Studies», Speculum LXV, 1990, p. 267—280), это, на наш
взгляд, едва ли повлияет на наши выводы. Возможно, здесь стоит напомнить,
что для католической Церкви латынь была безусловно священным языком,
см.: I. М. Resnick, «Lingua Dei, lingua hominis. Sacred Language and Medieval
Texts», Viator, XXI, 1990, p. 51—74.
71. Cm.: R. Muchembled, Culture populaire et culture des elites dans la France mo-
derne, XV-XVIIIе siecle, Paris, 1991.
72. Классические примеры — молитвенники и пасхальная Агада с переводом
на народный язык, а также сборники наставлений специально для женщин.
73. Это явление справедливо показано И. Хаимом Иерушалми: Y. Hayim
Yerushalmi, From Spanish Court to Italian Ghetto. A Study in Seventeenth-Cen-
tury Marranism and Jewish Apologetics, Seattle-Londres, 1980 (lre ed. en 1971).
510
ПРИМЕЧАНИЯ
74. См., например: В. D. Weinryb, The Jews of Poland. A Social and Economic His-
tory of the Jewish Community in Poland from 1100 to 1800, Philadelphie, 1973,
p. 107-118.
75. A. Stahl, «Ritualistic Reading among Oriental Jews», Anthropological Quarterly,
LII (1979), p. 115—120; H. E. Goldberg, «The Zohar in Southern Morocco.
A Study in the Ethnography of Texts», History of Religions, XXIX (1990), p. 233—
258.
76. Аарон из Яунеля, например, упоминает чтение Заповедей отцов Церкви
(Пирке Авот) в синагоге (Сефер га-мангик / под ред. И. Рефаэля. Иерусалим,
1978, § 65, с. 189-190.
77. Мегидда, 32а. См. об этом Е. Werner, L. Kravitz, «The Silence of Maimoni-
des», Proceedings of the American Academy for Jewish Research, LIII (1986),
p. 179 -201.
78. Имеются сведения, что итальянские печатники выпускали в продажу
печатные мегиллот, но, к сожалению, ни один не дошел до нас. Об этом
упоминает раввин Моше Провенсали в одной из своих рукописных
респонс.
79. См.: R. Chartier, «From Ritual to the Heart. Marriage Charters in Seventeenth-
Century Lyons», dans Culture of Print. Power and Uses of Print in Early Modern
Europe, Princeton, 1989, p. 174—190.
80. M. Lyons, Le Triomphe du livre. Une histoire sociologique de la lecture dans la France
du XIXе stole, Paris, 1987, p. 222.
81. C. Sirat, Ecriture et civilisations, Paris, 1976, особенно c. 2—20. См. также
M. Beit-Arie, Hebrew Codicology, Paris, 1977.
82. Мы не думаем, что здесь стоит специально рассматривать употребле-
ние малого формата для душеполезного чтения: с одной стороны, без
всякого сомнения, это явление вполне аналогично наблюдающемуся у
христиан, с другой стороны, нетрудно показать, что и здесь еврейская
традиция сохраняет высокую степень неизменности от Средних веков до
наших дней.
83. Например: Парма, Палатинская библиотека, Ms. ebr. 359g fol. 3v,
воспроизведена: Th. et M. Metzger, La Vie juive au Moyen Age, illustree par
les manuscrits hebraiques du XIlT au XVIе stole, Fribourg, 1982, № 146 en face
de la page 104; Londres, British Library, Ms. Add., 14762, fol. 7v,
воспроизведена там же, ил. 175, entre les pages 124 et 125; Иерусалим,
Израильский музей, Ms. Rothschild, fol. 44v, воспроизведена там же, с. 190,
ил. 266.
84. См.: Lyons, Le Triomphe du livre, op. cit., p. 223, 240—248; Chartier et Hebrard,
Discours sur la lecture, op. cit., p. 397 —453.
85. Проблемы, весьма точно указанные в упомянутой книге Шартье и Эбрара.
86. Важнейшие из них: автобиография Леона Модены (The Autobiography
of a Seventeenth-Century Venetian Rabbi: Leon Modena's Life of Judah, ed. et
traduit par M. R. Cohen, Princeton, NJ, 1988), и воспоминания Глюкеля
Гамельна, о которых речь пойдет ниже. Об этих и некоторых других
произведениях см.: N. Zemon Davis, «Fame and Secrecy : Leon Modena's
Life as an Early Modem Autobiography», dans The Autobiography, op. cit.,
p. 50 - 70.
ПРИМЕЧАНИЯ
511
87. Haggadah di Pessah, Лондон, Британская библиотека, Ms. or. 2884, fol. 17v,
воспроизводилась неоднократно, например: В. Narkiss, Hebrew Illuminated
Manuscripts, Jerusalem, 1969, p. 58—59; Metzger et Metzger, La Viejuive..., op. cit.,
№ 103, p. 72.
88. См., например: C. Ginzburg, «High and Low. The Theme of Forbidden Knowl-
edge in the Sixteenth and Seventeenth Centuries», Past and Present, LXXIII (1976),
p. 29-41.
89. Haggadah di Pessah, Лондон, Британская библиотека, Ms. or. 14761, fol. 28v,
воспроизведена: Metzger et Metzger, La Vie juive..., op. cit., № 378, en face de
la page 260.
90. Haggadah di Pessah, Лондон, Британская библиотека, Ms. or. 14762, fol. 6,
воспроизведена: Narkiss, Hebrew Illuminated Manuscripts, op. cit., p. 125.
91. Иерусалим, Еврейская национальная и университетская библиотека, 8
№ 4450, воспроизведена: Metzger et Metzger, La Viejuive..., op. cit., № 96,
en face de la page 68.
92. Про эту миниатюру трудно сказать, кто такие безбородые люди на ней: дети
ли женщины; если бы это были женщины, между двумя частями синагоги
должен был бы быть занавес, но отделена одна часть от другой вполне
отчетливо.
93. Дармштадт, Гессенская земельная и университетская библиотека, Cod.
or. 8, fol. 37v, воспроизведена: Narkiss, Hebrew Illuminated Manuscripts, op. cit.,
p. 127, et dans Metzger et Metzger, La Vie juive..., op. cit., № 169 et 170, en face
de la page 121.
94. Эти списки подробнейшим образом изучал С. Барухсон в работах,
указанных в прим. 65.
95. Bonfil, «Le biblioteche degli ebrei d'Italia», op. cit.
96. Cm.: Lyons, Le Triomphe du livre, op. cit., p. 33, и библиографию к ней.
97. Т. е. соотносимая с разной степенью осовременивания Западной и Восточ-
ной Европы.
98. Систематическое исследование (которого мы здесь, к сожалению,
предложить не можем) происхождения и распространения этого стерео-
типа, несомненно, откроет много интересного.
99. См. сказанное в начале главы.
100. Chartier, «Les pratiques urbaines de rimprime», op. cit., p. 219—221; M. Poulain,
«Scenes de lecture dans la peinture, la photographic 1'affiche de 1881 a 1889»,
dans Chartier et Hebrard, Discours sur la lecture, op. cit., p. 427—453.
101. Более подробное развитие этого анализа увело бы нас слишком далеко от
предмета настоящего очерка. Впрочем, по крайней мере поверхностно, это
явление хорошо известно. Особый вес средневековых текстов для
самоопределения еврейской (даже университетской) мысли гораздо выше,
чем у других народов. Труды Маймонида и Иегуды га-Леви, а также
средневековая каббала, ныне с блеском возродившаяся, и в наши дни более
всего обсуждаются в философском дискурсе еврейской среды.
102. Турнянски X. Ле-толедот га-«Тейч-Гумеш», «Гумеш мит гиббер» (К истории
переводов Пятикнижия на идиш) // Ийюним бе-сифрут. Деварим... лихвод
Дов Сада» (Исследования о книге. Сборник в честь Дов Садана). Иерусалим,
1988, с. 21-58.
512
ПРИМЕЧАНИЯ
103. Об этом процессе в еврейском мире см.: Туату Э. Хитато га-паршанит шел
Рашбам ал река га-мецуит га-хисторит шел земано (Экзегетический метод
Рашбама в историческом контексте) // Ииюним бе-сифрут хазал, бе-Микра
уве-толедот Исраэл (Studies in Rabbinic Literature, Bible and Jewish History
in Honour of Ezra Zion Melamed), Рамат-Ган, 1982, p. 62.
104. Die Memoiren der Gliickel von Hameln, 1645—1719, ed. Par D. Kaufmann, Franc-
fort, 1896. Эти записки полностью или частично переведены на немецкий,
английский, голландский, иврит, итальянский и французский языки
(Memoires de Gliickel Hameln, traduction et presentation de L. Poliakov, Paris,
1971).
105. Турнянски X. Литературные источники записок Глюкель из Гамельна.
Keminhag Ashhkenazz u-Polin, Festschrift for Chone Schmeruk, C. Tumiansky
et al. ed., Jerusalem, 1992, p. 153—179 (на идиш).
106. В связи с этим не лишне, может быть, упомянуть и о типологии того
еврейского общества, которое обычно рассматривают историки «устной
литературы». См.: А. В. Lord, The Singer of Tales, New York, 1968; R. Finnegan,
«What is Oral Literature Anyway? Comments in the Light of Some African and
Other Comparative Material», dans B. A. Stoltz et S. Shannon (sous la dir. de),
Oral Literature and the Formula, III, Ann Arbor, 1976, p. 127—166, а также
недавний обзор: D. H. Green, «Orality and Reading. The State of Research in
Medieval Studies», Speculum, LXV (1990), p. 267-280.
107. Cm.: Lyons, Le Triomphe du livre, op. cit., p. 231—236.
108. Cm.: Chartier, «Urban Reading Practices», op. cit., p. 222.
109. См.: M. Picard, La Lecture comme Jeu. Essai sur la literature, Paris, 1986,
p. 46.
110. Cm.: Chartier, «Urban Reading Practices», op. cit., p. 224.
111. Cm.: Lyons, Le Triomphe du livre, op. cit., p. 233.
112. Женщине из-за ее врожденного якобы «легкомыслия» «ортодоксальные»
правила на деле дозволяют читать тексты, запрещенные для мужчин,
поскольку она виртуально способна импортировать смыслы, которые без
того остались бы вне замкнутого «сакрального» пространства. По этому
поводу подчеркнем инверсию прежней средневековой структуры, в которой,
как мы видели, только мужчины из руководящих элит имели право
исполнять эту роль. Примечательный пример, который можно рассмотреть
под этим углом зрения, — поэтесса итальянского барокко Сара Копио
Судам. Mutatis mutandis, Глюкель, также играла подобную роль в своем
культурном контексте. Наконец, тщательное изучение культурного пове-
дения в современных вариациях «ортодоксального» еврейского общества
может показать преемственность этой социологической модели до наших
дней.
113. Первое издание текста этого типа — видимо, напечатанное в Египте
в 1742 г., второе — в Венеции в 1777 г. Впоследствии изданий было бесчис-
ленное множество; они выходят и до сих пор.
114. Об этом см.: G. Sermoneta, «Aspetti del pensiero modemo nell' Ebraismo ital-
iano tra Rinascimento e eta barocca», dans Italia Judaica. «Gli Ebrei in Italia tra
Rinascimento ed eta barocca». Atti del II Convegno internazionale, Genova 10—
15 giugno 1984, Rome, 1986, p. 17—35.
ПРИМЕЧАНИЯ
513
ГЛАВА 7
1. Machiavel, CEuvres completes, Bibliotheque de la Pleiade, Paris, 1952, p. 1435—
1436.
2. Великолепное изложение этого сюжета см.: М. Lowry, The World of Aldus
Manutius, Ithaca, NY, 1979.
3. E. Panofsky, La Renaissance et ses avant-courriers dans Tart d' Occident, Pa-
ris, 1976; E. Garin, L' umanesimo italiano, Bari, 1952, et Medioevo e Ri-
nascimento (Bari et Rome, 1980). Размышления по поводу этих книг
можно найти в кн.: A. Grafton, Defenders of the Text, Cambridge, Mass.,
1991, гл. 1.
4. Бюде характерным образом говорил, что эта практика произошла от
невежества «ignorantia Accursii vel saeculi potius Accursiani, quae hac aetate ridic-
ula est». См.: E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi, Paris 1989.
5. Petrarque, Posteritati, dans Opere, ed. de G. Ponti, Milan, 1968, p. 886 — 900.
6. Erasme, Methodus, ed. et traduit par G.B. Winkler, Ausgewahlte Werke, ed. de
W. Welzig, III, Darmstadt, 1967, p. 50.
7. E. P. Goldschmidt, Hieronymus Miinzer und seine Bibliothek, Londres, 1938,
p. 35-37.
8. О совокупности этих проблем см.: La Production du livre universitaire
au Moyen Age. Exemplar et pecia, sous la dir. de L. J. Bataillon et al., Paris, 1988,
notamment les articles de H. V. Schooner, «La production du livre par la pecia»,
p. 17—37, et de R. H. Rouse et M. A. Rouse, «The Book Trade at the Univer-
sity of Paris, ca. 1250-ca. 1350», p. 41 — 114.
9. Seniles, VI, 5, cite par A. Petrucci, «Libro e scrittura in Francesco Petrarca»,
dans A. Petrucci (sous la dir. de), Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento,
Bari et Rome, 1979, p. 5; Fam. 23, 19, dans Prose, ed. par G. Martellotti et al.,
Milan, 1955, p. 1014-1021.
10. B. L. Ullman, The Origin and Development of Humanistic Script, Rome, 1960;
J. Wardrop, The Script of Humanism, Oxford, 1963; M. Meiss, «Towards a More
Comprehensive Renaissance Paleography», dans The Painter's Choice, New
York, 1976, p. 151 — 175; Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento, op. cit.
О Поджо см.: E. Walser, Poggius Florentinus, Leipzig, 1914, p. 104—110.
И. Исследование одного из классических случаев см.: В. L. Ullman, The Hu-
manism of Coluccio Salutati, Padoue, 1963. О проблеме в целом см.: С. Вес,
Les Livres des Florentins (1413—1608), Florence, 1984.
12. О Ватикане см.: J. Bignami Odier et J. Ruysschaert, La Bibliotheque vaticane
de Sixte IV a Pie XI, Cite du Vatican, 1973; sur San Marco, cm.: J. Onians,
Bearers of Meaning, Princeton, 1988, chap. XX.
13. M. Baxandall, Giotto and the Orators, Oxford, 1971.
14. Репродукцию портрета см.: Federico da Montefeltro, Lettere di stato e d'arte
(1470—1480), Rome, 1949, фронтиспис.
15. Ibid., p. 115-116.
16. E. P. Goldschmidt, The Printed Book of the Renaissance, Amsterdam, 1974.
17. A. Petrucci, «Alle origini del libro modemo: libri da banco, libri da bisaccia
e libretti da mano», dans A. Petrucci (sous la dir. de), Libri, scrittura e pubblico,
op. cit., p. 139—156.
514
ПРИМЕЧАНИЯ
18. F. Anzelewsky, Dilrer-Studien, Berlin, 1983, p. 182—185.
19. P. de Nolhac, Les Correspondants d'Alde Manuce, Rome, 1888, p. 26.
20. A. Petrucci, «L'antiche e le moderne carte: imitatio e renovatio nella riforma gra-
fica umanistica», dans J. Autenreich et al. (sous la dir. de), Renaissance- und
Humanistenhandschriften, Munich, 1988, p. 4—5.
21. C. Mitchell, A Fifteenth Century Italian Plutarch, Londres, 1961.
22. Petrucci, «L'antiche e le modeme carte», op. cit., p. 11.
23. E. Fahy (sous la dir. de), The Medici Age, New York, 1989.
24. Об издания Плиния см.: L. Armstrong, «The Illustrations of Pliny's Historia
naturalis in Venetian Manuscripts and Early Printed Books», dans
J. B. Trapp (sous la dir. de), Manuscripts in the First Fifty Years after the In-
vention of Printing, Londres, 1983, p. 97—106; «The Impact of Printing
on Miniaturists in Venice after 1469», dans S. Hindman (sous la dir. de), Prin-
ting the Written Word, Ithaca (NY), Londres, 1991, p. 174—202.
25. Об императоре Максимилиане см.: J.-D. Muller, Cedechtnus, Munich, 1982.
Другие исследования подобных явлений: М. В. Winn, «Antoine Verard's
Presentation Manuscripts and Printed Books», dans Trapp, Manuscripts in
the First Fifty Years after the Invention of Printing, op. cit., p. 66—74; P. Spunar,
«Der humanistische Kodex in Bohmen als Symbol der antiken (fremden) Kul-
tur», dans Autenreich et al., Renaissance- und Humanistenhandschriften, op. cit.,
p. 99-104.
26. E. H. Gombrich, «From the Revival of Letters to the Reform of the Arts. Nic-
cold Niccoli and Filippo Brunelleschi», dans Essays in the History of Art
Presented to Rudolf Wittkower on his Sixtyfifth Birthday, Londres, 1967,
p. 71-82.
27. О важности посредника с обеих точек зрения см.: R. С. Damton, The Kiss
of Lamourette, New York, 1990, p. 107—108, et L. Hellinga, «Manuscripts in
the Hands of Printers», dans Trapp, Manuscripts in the First Fifty Years after the
Invention of Printing, op. cit., p. 3—11.
28. W. Benjamin, «Unpacking my Library», dans Illuminations, trad, par H. Zohn,
Londres, 1970, p. 59 - 67.
29. См. капитальное исследование Э. Эйзенстейна: The Printing Press as an
Agent of Change, Cambridge, 1979.
30. M. A. Rouse et R. H. Rouse, Cartolai, Illuminators and Printers in Fifteenth-
Century Italy, UCLA University, Research Library, Department of Special Col-
lections, Occasional Papers, 1, 1988.
31. О рекламе в рукописную эпоху см.: Н. Widmann et al. (sous la dir. de),
Der Deutsche Buchhandel in Urkunden und Quetlen, Hambourg, 1965,1, p. 15—
16, et H. Widmann, Geschichte des Buchhandels von Altertum bis zur Gegenwart,
Wiesbaden, 1975,1, p. 37.
32. Rouse et Rouse, Cartolai, Illuminators..., op. cit., p. 58.
33. О других документальных доказательствах распространенности подоб-
ной пратики см.: Armstrong, «The Illustrations of Pliny's», op. cit.
34. Vespasiano da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo XV, Florence, 1938,
p. 108—109. О Веспасиано см.: G. M.Cagni, Ves pasiano da Bisticci e il suo epis-
tolario, Rome, 1969, et A. C. de la Mare, Vespasiano da Bisticci, Historian and
Bookseller, these, Londres, 1965.
ПРИМЕЧАНИЯ
515
35. Vespasiano, Vite..., op. cit., p. 528.
36. Ibid., p. 539.
37. Ibid., p. 112.
38. Cm.: Claudii Ptolemaei Geographiae Codex Urbinas Graecus 82, ed. de J. Fischer,
SJ, Tomus prodromus, Leyde, Leipzig et Turin, 1932.
39. Vespasiano, Vite..., op. cit., p. 108—109, 524.
40. C. Koeman, ]oan Blaeu and his Grand Atlas, Amsterdam, 1970.
41. Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, ed. par P. S. Allen et al., Oxford, 1908—
1956, 1, p. 439.
42. Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicholas Heinsius (1644—1656),
ed. par H. Bots, La Haye, 1971, p. 78; F. F. Blok, Nicolaas Heinsius in dienst van
Christina van Zweden, Delft, 1949, p. 92— 99.
43. Cm.: The Auction Catalogue of the Library of J. J. Scaliger, ed. par H. J. de Jonge,
Utrecht, 1977.
44. См.: E. Diehl, Bookbinding. Its Background and Technique, New York, 1980;
A. Hobson, Humanists and Bookbinders, Cambridge, 1990; и рецензию
Дж. Б. Траппа на эту книгу. TLS, 17 мая 1990 г.
45. Ватиканская библиотека, lat. 1626, fol. 2, recto; Miniature del Rinascimento, Скё
du Vatican, 1950, pi. 1.
46. Ватиканская библиотека, lat. 2094, fol. 8 recto; ibid., pi. III. Deux autres splen-
dides exemples conserves a la Vaticane sont un Orationes de Ciceron (Vat. lat.
1742) et un Virgile (Urb. lat. 350).
47. Ватиканская библиотека, lat. 3870; см.: G. Morello, Raffaello e la Roma dei papi.
Catalogo delta mostra, Cite du Vatican, 1986, p. 75.
48. Lowry, The World of Aldus Manutius, op. cit.
49. Рисунки см.: S. Hindman, Pen to Print, College Park, 1977 pi. 79; voir ibid.,
p. 190-192.
50. Об экземплярах Максимилиана I см.: ibid., p. 181—189; L. Silver, «Prints for
a Prince», dans J. C. Smith (sous la dir. de), New Perspectives on the Art of Ren-
aissance Nuremberg; Muller, Gedechtnus, op. cit.
51. См. заметку Веспасиано о кардинале Виссарионе: «Все время, что находился
он при дворе в Риме, он заказывал копии трудов по всем наукам, и ла-
тинским, и греческим [...], и покупал те книги, которых не было у него; боль-
шую часть своих доходов он тратил на книги, что весьма достойно похвалы»
(op. cit., р. 159—160). Похвала эта вполне оправдана, так как известно, каким
знающим, энергичным и обладающим хорошим вкусом был Виссарион.
См. также Benjamin, op. cit.
52. Р. de Nolhac, Petrarque et 1'humanisme, Paris, 1899; B. L. Ullman, Studies in the
Italian Renaissance, Rome, 1955.
53. Goldschmidt, Hieronymus Mtinzer, op. cit.
54. См. очень тонкий анализ Беньямина, как книги становятся коллекцией:
Voir Benjamin, «Unpacking my Library», op. cit.
55. A. Traversari, Epistolae, 7, 1.
56. Guarino, Epistolario, 6d. par R. Sabbadini, Venise, 1915—1919, П, p. 270.
57. E. Fahy, Introduction, dans The Medici Aesop, op. cit.
58. A. Grafton et L. Jardine, From Humanism to the Humanities, Londres et Cam-
bridge, Mass., 1986, p. 53—57.
516
ПРИМЕЧАНИЯ
59. В своей книге Commentarius de rebus ad eum pertinentibus (Amsterdam, 1718)
Юэ странным образом говорит о построчном пересказе как о новшестве,
якобы изобретенном Монтозье (с. 286—293).
60. Об этом вопросе в целом см.: Grafton et Jardine, From Humanism...,
op. cit.; A. Blair, History of Universities, 1990. Об античном мире, прежде
всего: R. Kaster, Guardians of Language, Chicago et Londres, 1987.
61. M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy, Oxford,
1972; The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, New Haven et Londres,
1980.
62. G. Giildner, Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhun-
derts, Lubeck et Hambourg, 1968, p. 97—98, 103, 110—111. О своем
противнике, превратно его толковавшем, Липсий писал: «Отправьте этого
старика в школу»: «Mittatur senex in scholas» («Que 1'on renvoie le vieux
a I'ecole»). В более общем плане см.: Grafton et Jardine, From Humanism...,
op. cit., в частности с. 11—12 и прим. 30.
63. Grafton et Jardine, From Humanism..., op. cit., chap. 1.
64. Общий обзор вопроса см.: J. Chomarat, Grammaire et rhetorique chez Erasme,
Paris, 1981.
65. Erasmus, Adagiorum chiliades, Bale, 1536, II, 1, 1, p. 355. Я пользовался также
чрезвычайно полезными переводами и примечаниями М. М. Филлипса:
Erasmus on his Times, Cambridge, 1965.
66. Erasmus, Adagiorum chiliades, op. cit., p. 356: «Scripsit his de rebus Plutarchus
in commentario de Osiride et Chaeremon apud Graecos, testimonio Suidae, cuius ex
libris excerpta suspicor ea, quae nos super conspeximus huius generis monimenta»; cp.:
P. W. Van der Horst, Chaeremon, Leyde, 1984.
67. Erasmus, Adagiorum chiliades, op. cit., p. 355—356.
68. Ibid., p. 357.
69. О других сочинениях, близко напоминающих Эразма, см.: Chomarat, Gram-
maire et rhetorique.., op. cit.
70. Cm.: W. J. Ong, «Commonplace Rhapsody. Ravisius Textor, Zwinger and Shake-
speare», dans R.R. Bolgar (sous la dir. de), Classical Influences on European Liter-
ature, A. D. 1500—1700, Cambridge, 1976, p. 91 — 126.
71. Cm.: J. H. Franklin, Jean Bodin and the Sixteenth-Century Revolution in the Method-
ology of Law and History, New York et Londres, 1963.
72. J. Hankins, Plato in Fifteenth-Century Italy, Leyde, 1990,1, 2 е partie. Ср. также его
чрезвычайно убедительную типологию способов чтения в XV в., р. 18—26.
73. R. С. Lamberton, Homer the Theologian, Berkeley, 1986.
74. D. Panofsky, E. Panofsky, La Boite de Pandore, Paris, 1990.
75. Erasmus, Adagiorum chiliades, op. cit., II, 1 (приложение к первоначально-
му тексту). См. готовящуюся к печати книгу А. Джардина об Эразме и его
поколении; знакомство с рукописью и беседы с автором были для меня
чрезвычайно полезны.
76. A. Grafton, Joseph Scaliger, I, Oxford, 1983, p. 97—98.
77. P. Godman, «Literary Classicism and Latin Erotic Poetry in the Twelfth Cen-
tury and the Renaissance», dans P. Godman et O. Murray (sous la dir. de),
Latin Poetry and the Classical Tradition, Oxford, 1990, p. 149 — 182; J. H. Hexter,
The Vision of Politics on the Eve of the Reformation, Londres, 1973.
ПРИМЕЧАНИЯ
517
78. Vespasiano, Vite,., p. 281.
79. Ibid., p. 83-122.
80. Ibid., p. 469.
81. Cp.: Hankins, Plato.., op. cit., I, p. 18—26.
82. Их примеры можно найти в цитированных работах Бека Les Livres des Flo-
rentins, op. cit., Ульмана The Humanism of Coluccio Salutati, op., cit., а также
в: P. Kibre, The Library of Pico della Mirandola, New York, 1936.
83. M. D. Reeve, «Manuscripts Copied from Printed Books», Manuscripts in the First
Fifty Years after the Invention of Printing, p. 12—13; см.; C. F. Buhler, The
Fifteenth-Century Book, Philadelphie, 1960.
84. J. Trithemius, In Praise of Scribes, ed. par K. Arnold, trad, par R. Behrendt,
Lawrence, Kansas, 1974, p. 60: «Fortius enim, que scribimus, menti imprimi-
mus, quia scribentes et legentes ea cum morula tractamus».
85. Рукопись Скалигера хранится в библиотеке Лейденского университета
(MS Seal. 61); см. издание «Сатирикона» под ред. К. Мюллера (Munich,
1961, 1965, 1978) и статью М. D. Reeve, «Petronius», dans L. D. Reynolds
(sous la dir. de), Texts and Transmission, Oxford, 1983, p. 295—300.
86. См.: P. Saenger, M. Heinlen, Incunabule Description and its Implication for the Analy-
sis of Fifteenth-Century Reading Habits, dans Printing the Written Word, op. cit.,
p. 225- 258.
87. I. Maier, Les Manuscrits d'Ange Politien, Geneve, 1965; R. Ribuoli, La collazione
polizianea del codice bembino di Terenzio, Rome, 1981; J. N. Grant, Studies in the Tex-
tual Tradition of Terence, Toronto, 1986.
88. A. Grafton, Defenders of the Text, Cambridge, Mass., 1991, chap. VI.
89. P. de Nolhac, Petrarque et I'humanisme, op. cit.; G. Billanovich, «Petrarch
and the Textual Tradition of Livy», Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, XIV (1951), p. 137—208; C. Quillen, «The Humanist as Reader», these,
Princeton, 1990. Тонкое исследование весьма персонализированной кни-
ги см.: J. С. Margolin, «Laski lecteur et annotateur du Nouveau Testament
d' Erasme», dans J. Coppens (sous la dir. de), Scrinium Erasmianum, I, Leyde,
1969, p. 93-128.
90. Cm.: G. C. Moore Smith, Gabriel Harvey's Marginalia, Stratford-upon-Avon, 1913;
V. Stern, Gabriel Harvey, Oxford, 1979. У. Колмен готовит полное издание
маргиналий Гарвея.
91. A. Grafton, «Rhetoric, Philology and Egyptomania in the 1570's. J. J. Scaliger's
Invective against M. Guilandinus's «Papyrus«», dans Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, XLII (1979), p. 169—174; Huet, Commentarius, op. cit.,
p. 291-292.
92. Доказательства использования книжного колеса юристами XV в. См.:
L. В. Alberti, De commodis litterarum atque incommodis, ed. par L. Goggi Carotti,
Florence, 1976, p. 90, et L. Borghi, «Bartholomeus Scala, De legibus
et iudiciis dialogus», La bibliofilia, XLII (1940), p. 267.
93. Cm.: L. Jardine et A. Grafton, «"Reading for Action": How Gabriel Harvey
Read his Livy», Past and Present, CXXIX (1990), p. 30—78. Описание Кюжа-
ca за работой взято из сборника П. Демезо Scaligeriana, ed. par Р. des
Maizeaux, Amsterdam, 1740, I, p. 75.
94. F. Gilbert, Machiavelli e Guicciardini, Princeton, 1965.
518
ПРИМЕЧАНИЯ
95. Обо всем этом см.: Jardine et Grafton, «Reading for Action», op. cit.
96. Grafton, Defenders of the Text, op. cit., p. 1—3.
97. Huetiana, Amsterdam, 1723, p. 3: «Итак, могу сказать, что видел жизнь
и смерть словесности и пережил ее».
98. Huet, Commentarius, op. cit., p. 295.
99. Ibid.; другой рассказ об этом, см.: Huetiana, op. cit., p. 104—105.
ГЛАВА 8
1. F. Lambert, Commentarii de prophetia, eruditione et Unguis, Strasbourg, 1526.
2. M. Luther, Werke, Kritische Cesamtausgabe, Weimar, 1883—, Tiscftreden, I,
Weimar, 1912, p. 523, n. 1038.
3. J. Foxe, Acts and Monuments, ёd. par G. Townsend et S. R. Cattley, Londres,
1837-1841, III, p. 270.
4. Обо всем этом см. наше предисловие к сборнику под нашей редакцией:
La Reforme et le livre. L’Europe de I'imprime (1517-v. 1570), Paris, 1990,
p. 19-28.
5. C. Bozzolo et E. Omato, «Les bibliotheques entre les manuscrits et I'imprime»,
dans Histoire des bibliotheques frangaises, I, Paris, 1989, p. 346.
6. За всеми подробностями о распространении протестантской книги и ее
влиянии на Реформацию отсылаю к упомянутому коллективному труду
La Reforme et le livre, op. cit., где около 15 авторов дали подробный обзор
положения протестантской книги в XVI в. по всей Европе.
7. A. Richard, Memoires sur la Ligue dans le Laonnais, Laon, 1869, p. 492, цит. no:
F. M. Higman, «Le domaine fran^ais, 1520—1562», dans La Reforme et le livre,
op. cit., p. 146.
8. См.: H. A. P. Schmidt, Liturgie et langue vulgaire. Le probleme de la langue
liturgique chez les premiers reformateurs et au concile de Trente, Rome, 1950
(Analecta gregoriana, 53); V. Coletti, Parole dal pulpito. Chiesa e movimenti
religiosi tra latino et volgare nelT Italia del Medioevo et del Rinascimento, Casale
Monferrato 1983 (Collana di saggistica, 6).
9. Luther, Werke, op. cit., VI (1888), p. 203.
10. Luther, Werke, op. cit., XXX / 2 (1909), p. 637.
11. Luther, Werke, op. cit., VI (1888), p. 362.
12. M. Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, Paris-Geneve 1983,
p. 188—195; cm.: J. L. Flood, «Le livre dans le monde germanique a I'epoque
de la Reforme», dans La Reforme et le livre, op. cit., p. 80—83.
13. J. Calvin, Opera qua extant omnia, Brunswick-Berlin, 1863—1900, XII (1874),
col. 316.
14. Th. de B£ze, Correspondance, XIII, Geneve, 1988, p. 19.
15. Luther, Werke, op. cit., Briefwechsel, IV (1933), p. 484.
16. Higman, «Le domaine fran;ais...», op. cit., p. 132—133.
17. Calvin, Opera, op. cit., XI (1873), col. 804.
18. Luther, Werke, op. cit., VI (1888), p. 461.
19. J. Leder, «Protestantisme et "libre examen": les etapes et le vocabulaire
d'une controverse», Recherches de science religieuse, LVII (1969), p. 321 —374.
ПРИМЕЧАНИЯ
519
20. R. Gawthrop et G. Strauss, «Protestantism and Literacy in Early Modem Ger-
many», Past and Present, CIV (1984), p. 31—55, особенно c. 32—43. См. также:
R. Engelsing, Der Burger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland, 1500—1800,
Stuttgart, 1974, p. 37.
21. Luther, Werke, op. cit., X /1-1 (1910), p. 728.
22. Luther, Werke, op. cit., VI (1888), p. 461.
23. Luther, Werke, op. cit., XXXVII (1910), p. 512. Cm.: Lienhard, Martin Luther, op.
cit., p. 326.
24. Luther, Werke, op. cit., Tischreden, V (1919), n. 6288.
25. Luther, Werke, op. cit., XV (1899), p. 49.
26. Ph. Melanchthon, Werke in Auswahl, ed. par R. Stupperich, П/l, Giiter sloh, 1978,
p. 17, 189; cm. p. 193-194.
27. A. Snyder, «Word and Power in Reformation Zurich», Archiv fur Reformations-
geschichte, LXXXI (1990), p. 263-285.
28. The Statutes of the Realm, III, Londres, 1817, p. 896.
29. Calvin, Opera, op. cit., col. 151, 160; cm.: Ph. Denis, «La Bible et Faction
pastorale», dans G. Bedouelle et B. Roussel (sous la dir. de), Bible de tous les
temps, V, Le Temps des reformes et la Bible, Paris, 1989, p. 517—518.
30. Th. de Beze, Questions et reponses chrestiennes..., Geneve, 1572, reedite dans Beze,
Correspondance, op. cit., XIII, p. 19—21.
31. Женева, Государственный архив, Reg. Cons., LVII, f. 154r, 159 r.
32. Registre de la Compagnie des pasteurs de Geneve, V, Geneve, 1976, p. 347.
33. Цит. no: Denis, «La Bible et Faction pastorale», op. cit., p. 531; voir H. S. Ben-
der, «Bible», dans The Mennonite Encyclopedia, I, 1955, p. 322—324.
34. См.: M. Schaub, Miintzer centre Luther. Le droit divin centre I'absolutis-
me princier, Paris, 1984, p. 78 — 80; B. Roussel, «Des protestants», dans Bible
de tous les temps, V, op. cit., p. 314—318.
35. Цит. no: Gawthrop-Strauss, Protestantism and Literacy, op. cit., p. 42.
36. Cm.: Roussel, «Des protestants», op. cit., p. 318 — 320.
37. G. Bedouelle, «Le debat catholique sur la traduction de la Bible en langue vul-
gaire», dans I. Backus et F. Higman, Theorie et pratique de I'exegese, Geneve, 1990,
p. 39—59; см. также: G. Bedouelle et B. Roussel, «L'ecriture et ses traductions.
Eloge et reticences», dans Bible de tous les temps, 5, op. cit., p. 471—476.
38. B. Chedozeau, La Bible et la liturgie en franqais. L'Eglise tridentine et les traduc-
tions bibliques et liturgiques, 1600—1789, Paris, 1990.
39. Luther, Werke, op. tit., Briefwechsel, II (1931), p. 191.
40. R. Chartier, «Les pratiques de I'ecrit», dans P. Aries et G. Duby (sous la dir. de),
Histoire de la vie privee, Ш, De la Renaissance awe Lumieres, Paris, 1986, p. 122.
41. R. Engelsing, Analphabetentum und Lektiire, Stuttgart, 1973, p. 20. См. также:
R. Scribner, «How Many Could Read?», dans W. J. Mommsen (sous la dir. de),
Stadtbiirgertum und Adel in der Reformation, Stuttgart, 1979, p. 44—45.
42. D. Cressy, Literacy and the Social Order, Cambridge, 1980, p. 176.
43. P. F. Grendler, «The Organization of Primary and Secondary Education in the
Italian Renaissance», Catholic Historical Review, LXXI (1985), p. 204.
44. R. S. Schofield, «The Measurement of Literacy in Pre-industrial England», dans
J. Goody (sous la dir. de), Literacy in Traditional Societies, Cambridge, 1975,
p. 311-325.
520
ПРИМЕЧАНИЯ
45. A. Petrucci, «АПе origini del libro modemo: libri da banco, libri da bisaccia, li-
bretti da mano», Italia medievale e umanistica, XII (1969), p. 295 —313.
46. Слова Жана Креспена из издания «Илиады» in-16 (Женева, 1559).
47. См.: N. Zemon Davis, «Printing and the People», dans N. Zemon Davis (sous la
dir. de), Society and Culture in Early Modern France, Stanford, 1975, p. 192—193.
48. Peu de temoignages imprimes de cette campagne ont survecu, cm.: D. M. Loades,
«Le livre et la Iteforme anglaise avant 1588», dans La Reforme et le livre, op. cit.,
p. 280-281.
49. С. E. Harline, Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Repub-
lic, Dordrecht, 1987 (Archives intemationales d'histoire des idees, 116); sur la
lecture a voix haute, cm. p. 65—66.
50. R. W. Scribner, For the Sake of Simple Folk. Popular Propaganda for the German
Reformation, Cambridge 1981; H.-J. Kohler (sous la dir. de), Flugschriften als
Massenmedium der Reformationszeit. Beitrdge zum Tiibinger Symposium 1980,
Stuttgart, 1980 (Spatmittelalterfriihe Neuzeit, 13).
51. Цит. no: Snyder, Word and Power, op. cit., p. 274.
52. R.W. Scribner, Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany, Lon-
dres, 1987, p. 65 et 54-60.
53. M. Browet-Duquene et O. Henrivaux, «L'oeuvre catechetique de Luther», dans
H. R. Boudin, A. Houssiau (sous la dir. de) Luther aujourd'hui, Louvain-
la-Neuve, 1983, p. 89—110 (Cahiers de la Revue theologique de Louvain, 11).
См. также: P. Colin et al. (sous la dir. de), Aux origines du catechisme
en France, Paris, 1989, bien qu'il concerne exclusivement le catechisme
catholique.
54. Gawthrop et Strauss, Protestantism and Literacy, op. cit., p. 36—38.
55. W. S. Reid, «The Battle Hymns of the Lord. Calvinist Psalmody of the Sixteeenth
Century», Sixteenth Century Essay and Studies, II (1971), p. 36 — 54. О Буцере см.:
R. Bomert, La Reforme protestante du culte a Strasbourg au XVIе siecle, 1523—1598,
Leyde, 1981, p. 469 -484.
56. P. Veit, «Martin Luther, chancre de la Reforme. Sa conception de la musique et
du chant d'eglise», Positions lutheriennes, XXX (1982), p. 47—66. Sur la commu-
nication par le chant, cm.: Scribner, Popular Culture, op. cit., p. 60 —62.
57. R. Zim, English Metrical Psalms. Poetry as Praise and Prayer, 1535—1601, Cambridge,
1987.
58. Чрезвычайно живую сводку составил по этому поводу Г. Морисе: G. Morisse,
«Le psautier de 1562», Psaume. Bulletin de la recherche sur le psautier huguenot,
V (1991), p. 106—127; См. также классическую статью: E. Droz, «Antoine Vin-
cent: la propagande protestante par le psautier», Aspects de la propagande religieuse,
Geneve, 1957, p. 276—293.
59. P. Pidoux, «Les origines de 1'impression de musique a Geneve», dans Cinq
siecles d' imprimerie genevoise, Geneve, 1980,1, p. 97—108.
60. Цит. по: M. Bohatcova, «Le livre et la Refforme en Boheme et Moravie», dans
La Reforme et le livre, op. cit., p. 409.
61. J. Crespin, Histoire des martyrs, I, Toulouse, 1885, p. 647. Впервые этот документ
был опубликован в 1564 г.
62. Gawthrop et Strauss, Protestantism and Literacy, op. cit., p. 40; A. Riising, «Le livre
et la Reforme au Danemark et en Norvege», dans La Reforme et le livre, op. cit.,
ПРИМЕЧАНИЯ
521
р. 444; R. Kick, «Le livre et la Reforme dans le royaume de Suede», dans La
Reforme et le livre, op. cit., p. 472.
63. A. G. Johnston, «L'imprimerie et la Reforme aux Pays-Bas», dans La Reforme
et le livre, op. cit., p. 170.
64. G. Franz, Huberinus-Rhegius-Holbein, Nieuwkoop, 1973 (Bibliotheca humanistica
et reformatoria, 7).
65. A. G. Johnston, «L'imprimerie et la Reforme aux Pays-Bas», dans La Reforme et
le livre, op. cit., p. 178—180.
66. S. Seidel Menchi, dans U. Rozzo et S. Seidel Menchi, «Livre et Reforme en Italie»,
La Reforme et le livre, op. cit., p. 369 — 372.
67. G. Moreau, Histoire du protestantisme a Tournai jusqu' a la veille de la Revolution
des Pays-Bas, Paris, 1962, p. 151.
68. Beze, Correspondance, op. cit., XIII, p. 19.
69. Calvin, Opera, op. cit., col. 591—593.
70. J. Calvin, Commentaire sur la premiere epistre aux Corinthiens, Geneve, 1547,
p. 4.
71. A.W. Pollard et R. G. Redgrave, A Short-Title Catalogue of Books Printed in
England, Scotland and Ireland, 1475—1640 2е ed., № 14553.
72. L. Hein, Italienische Protestanten und ihr Enfluss auf die Reformation in Polen,
Leyde, 1974, p. 35.
73. H. von Schade, Joachim Westphal und Peter Braubach. Briefwechsel, Hambourg,
1981 (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburg, 15).
74. Cm.: J.-F. Gilmont, Jean Crespin, un editeur reforme au XVIе siecle, Geneve, 1981,
p. 205.
75. Cm.: S. Seidel Menchi, dans U. Rozzo et S. Seidel Menchi, «Livre et Reforme
en Italie», La Reforme et le livre, op. cit, p. 348.
76. Moreau, Histoire du protestantisme, op. cit., p. 137.
77. Luther, Werke, op. cit., LXIV (1915), p. 179.
78. Calvin, Opera, op. cit., XV (1876), col. 214.
79. Calvin, Opera, op. cit., XIII (1875), col. 70—71. О самом сборнике см.:
Ph. Hughes, The Reformation in England, II, Londres, 1953, p. 95.
80. M. de Certeau, «Lire : braconnage et poetique de consommateurs», Projet,
CXXIV (1978), p. 447 — 457, repris sous le titre «Lire: un braconnage», dans
M. de Certeau, {'Invention du quotidien, I, Paris, 1980, p. 279 — 296.
81. F. M. Higman, «Luther et la piete de 1'Eglise gallicane: le livre de vraie et par-
faicte oraison», dans Revue d'histoire et de philosophic religieuse, LXIII (1983),
p. 91 — 111; см. также: «Les traductions fran^aises de Luther, 1524—1550», dans
J.-F. Gilmont (sous la dir. de), Palaestra typographica, Verviers, 1984, p. 11—56.
О «Катехизисе» см.: S. Cavazza, «Libri in volgare e propaganda eterodossa:
Venezia, 1543—1547», dans Libri, idee e sentimenti religiosi net Cinquecento ital-
iano, Modene, 1987, p. 18—19.
82. Cm.: U. Rozzo, dans U. Rozzo et S. Seidel Menchi, «Livre et Reforme en Italie»,
La Reforme et le livre, op. cit., p. 345.
83. Cm.: S. Seidel Menchi, dans LJ. Rozzo, S. Seidel Menchi, «Livre et Reforme
en Italie», La Reforme et le livre, op. cit., p. 369—372.
84. Ibid., p. 368 - 369.
85. Calvin, Opera, op. cit., XI (1873), col. 634 — 635.
522
ПРИМЕЧАНИЯ
86. Цит. по: J. О. Newman, «The Word Made Print. Luther's 1522 New Testament
in an Age of Mechanical Reproduction», Representations, XI (1985), p. 97.
87. Calvin, Opera, op. cit., XV (1876), col. 220.
88. Влияние книгопечатания на исправность священных текстов — предмет
вышеуказанной статьи Дж. О. Ньюмена.
89. Calvin, Opera, op. cit., XI (1873), col. 418.
90. Calvin, Opera, op. cit., XI (1873), col. 681-682.
91. F. M. Higman, The Style of John Calvin in his French Polemical Treatises, Oxford,
1967. См. об этом также в его статье «Theology in French. Religious
Pamphlets from the Counter-Reformation», dans Renaissance and Modern
Studies, XXIII (1979), p. 128.
92. Calvin, Opera, op. cit., XXI (1879), col. 70; XII (1874), col. 540; см.: H. Ruckert,
«Einleitung», dans Supplementa calviniana, I, Neukirchen-Vluyn 1961, p. IX—
XX; R. Peter, ibid., VI, 1971, p. XXXIV.
93. Calvin, Opera, op. cit., ХХХП (1887), col. 449-450; XXXV (1887), col. 521-524;
XXV (1882), col. 598 ; см. также XXXV (1887), col. 589.
94. Calvin, Opera, op. cit., VIII (1870), col. 373 - 374; XII (1874), col. 401.
95. Calvin, Opera, op. cit., ХП (1874), col. 302.
96. Calvin, Opera, op. cit., XXXV (1887), col. 589, 521—524. Предисловие Жирара
к «Двадцати двум проповедям» (Женева, 1554) в это издание не включено.
97. См.: Р. Veit, «Le chant, la Reforme et la Bible», dans Bible de tous les temps,
op. cit., V, p. 661.
98. W. Frijhoff, «Naissance d'un public reforme», dans Le Grand Atlas des
litteratures, Paris, 1990, p. 293.
ГЛАВА 9
1. Сошлемся по этим вопросам на кн.: В. Chedozeau, La Bible et la liturgie
en fran^ais. L'fcglise tridentine et les traductions bibliques et liturgiques, 1600—
1789, Paris, Editions du Cerf, 1990. Анализ соотношения Предания
и Писания в посттридентинской католической Церкви см.: Ph. Boutry,
«Tradition et Venture. De la theologie aux sciences sociales», Enquete. Anthro-
pologic, histoire, sociologie, № 2, 2е semestre 1995.
2. Cf. V. Baron, La Contre-Reforme devant la Bible. La question biblique, Lausanne,
1943, notamment p. 81—132.
3. Декрет 22-й сессии Тридентского собора «О служении Божествен-
ной Литургии» (De sacrificio missae), 15 сентября 1562 г., гл. 8. На 24-й сессии
(1563) 7-й канон декрета (повторяя канон 2-го декрета 5-й сессии, 17 июня
1546 г.) предписывал приходским священникам «во время Великой мес-
сы или иного богослужения» объяснять «и на местном наречии по всем
праздничным и великим дням чтение из Писания и спасительные сове-
ты, в нем содержащиеся, стремясь впечатлеть их в сердца всех верующих
и крепко наставить оных в законе Господа нашего». (Les Conciles
acumeniques, t. H-2, Paris, Editions du Cerf, 1994, p. 1494 et 1552).
4. Об издании официальных текстов по решениям Тридентского собора
можно сослаться на недавнюю сводку: G. Bedouelle, «La Reforme catholique»,
ПРИМЕЧАНИЯ
523
in G. Bedouelle, В. Roussel (sous la dir. de), Le Temps des Reformes et la Bible,
Paris, Beauchesne, 1989, p. 327— 368.
5. Ibid., p. 350-355.
6. По вопросу о папских привилегиях сошлемся на: D. Pallier, «Les impressions
de la Contre-Reforme en France et 1'apparition des grandes compagnies de li-
braires parisiens», Revue frangaise d'histoire du livre, № 31, avril—juin 1981,
p. 215 — 273 (приведенная цитата — с. 268).
7. О географии крупнейших центров книгопечатания в XVI в см.:
J. F. Gilmont, «Les centres de la production imprimee aux XV e et XVIе sie-
cles», in S. Cavaciocchi (a cura di), Produzione e commercio della carta e del libro
secc. XIII—XVIII, Florence, Le Monnier, 1992, p. 343—364.
8. J. Materne, «The Officina Plantiniana and the Dynamics of the Counter-Refor-
mation, 1590—1650», in S. Cavaciocchi, op. cit., p. 481—490. См. также статью:
R. M. Kingdon, «The Plantin Breviaries: A Case Study in the Sixteenth Cen-
tury Business Operations of a Publishing House», Humanisme et Renaissance,
1960, p. 133-150.
9. Мы повторяем выводы работы Д. Палье (см. прим. 5).
10. Cf. В. Chedozeau, La Bible et la liturgie en fran<;ais, Paris, Editions du Cerf, 1990;
а также его собственные: «La Bible franchise chez les catholiques», in Les Bibles
en francais. Histoire illustree du Moyen Age a nos jours, sous la dir. de P. M. Boga-
ert, Turnhout, Brepols, 1991, p. 134—168.
11. Regie IV de 1'Index de Sandoval, citee par B. Chedozeau, La Bible et la liturgie..,
op. cit., p. 84.
12. Ibid., p. 85 (Пятое правило «Индекса» Сотомайора). Кроме того, оба инк-
визитора запретили перевод Часослова, т. е. богослужебных текстов, на
народный язык. «Индекс» 1667 г. прямо запрещает «Часы Пресвятой Девы
латинские и французские» — текст службы, предназначенный для верующих.
13. Cf. Dictionnaire de la Bible, t. II, col. 1956—1965.
14. Обращение к переводам на народный язык одобрялось, «если только они
одобрены Святым Престолом или изданы с толкованиями, извлеченными
из трудов отцов Церкви либо ученых католических авторов». Испанская
инквизиция издала аналогичный декрет 20 декабря 1782 г., т. е. спустя
четверть века после римского бреве.
15. Об этом см.: F. Bethencourt, «Les visiles inquisitoriales de controle des livres»,
in D. Julia (ed.), Culture et societe dans 'Europe moderne et contemporaine. Yearbook
of the Department of History and Civilization, Florence, Institut universitaire eu-
ropeen, 1992, p. 17—34. Диссертация тогоже автора: Les Inquisitions modernes
en Espagne, au Portugal et en Italie (1478—1874), Paris, Fayard, 1995, дает новые
материалы по деятельности инквизиции на обоих полуостровах.
16. Cf. J. A. de Freitas Carvalho, «La Bible au Portugal», in Y. Belaval et D. Bourel
(sous la dir. de), Le Siecle des Lumieres et la Bible, Paris, Beauchesne, 1986,
p. 235—265. Мы не упоминаем о португальском издании Библии, выходившем
в Батавии с 1681 по 1759 г. попечением Датской королевской миссии — труде
португальского миссионера-кальвиниста Жуана Феррейры де Альмейды.
17. Об итальянских переводах Библии см.: Р. Stella, «Produzione libraria religiosa
e versioni della Bibbia in Italia tra eta dei lumi e crisi modemista», in M. Rosa,
Cattolicesimo e Lumi nel Settecento italiano, Rome, Herder, 1981, p. 99—125.
524
ПРИМЕЧАНИЯ
18. О «Библии лувенских богословов» см.: В. Chaiozeau, La Bible et la liturgie..., op.
cit., p. 110—113, et J. F. Gilmont, «La Bible fran^aise chez les catholiques au XVIе
siecle», in P. M. Bogaert (sous la dir. de), Les Bibles en franfais, op. cit., p. 91 — 101.
19. Все цитаты взяты нами из превосходного разбора книги Лемэра в той же
работе Б. Шедозо (La Bible et la liturgie..., p. 200 — 206).
20. Ibid., p. 207.
21. См. работы, цитируемые Б. Шедозо, а также его собственные: «La publica-
tion de 1'Ecriture par Port-Royal. Premiere partie 1653—1669», «Deuxieme par-
tie: 1'Ancien Testament de la "Bible de Sacy", 1672—1693», Chroniques de Port-
Royal, 1984, p. 35-42, et 1986, p. 195-203.
22. Конкретно конституция осуждала пропозиции 79 и 85; они опубликова-
ны в: Constitution Unigenitus; elles sont publiees par B. Chedozeau, La Bible
et la liturgie..., op. cit., p. 219—221.
23. Обо всем этом см.: J. Orcibal, Louis XIV et les protestants, Paris, Vrin, 1951;
B. Clredozeau, «Les distributions de livres aux nouveaux convertis et leurs inci-
dences sur le statut du laic catholique», XVIIе Siecle, № 154, janvier—mars 1987,
p. 39-51.
24. Lettre de Guy de Seve de Rochechouart, ёvёque d'Arras a Fenelon, ler fevrier
1707, Correspondance de Fenelon, texte etabli et commentaire par J. Orcibal avec
la collaboration de J. Le Brun et I. Noye, t. XII, Geneve, Droz, 1990, p. 270.
25. Lettre de Fenelon a Guy de Seve de Rochechouart, fevrier 1707, ibid., p. 270—
284 (приведенные цитаты — с. 283— 284).
26. О разнообразии структурных форм организации семинарий см.: D. Julia,
«L'education des ecclesiastiques en France aux XVIIе et XVIIIе siecles», Prob-
lemes d’histoire de l'education (Образование духовных лиц во Франции
в XVII—XVIII вв.: Проблемы истории образования). Материалы семина-
ров Французской школы в Риме и Римского университета «La Sapien-
za». Рим, Французская школа в Риме, 1988. С. 141—205.
27. L' Opus tripartitum Жерсона (Gerson) — это случайное собрание трех неболь-
ших дидактических трактатов о десяти заповедях, искусстве исповедоваться
и искусстве умирать (1'art de se confesser et I'art de mourir). Вначале эта книга
прилагалась к Синодальным уставам епархии Пуатье (1544), а затем была
переведена в 1558 г. на французский язык в Синодальных уставах епархии
Каора (Cahors), а в 1556 г. на окситанский (провансальский) язык «ос»
в Синодальных уставах епархии Родез. Н. Деметр в книге «Le Rouergue flam-
boyant. Le clerge et les fideles du diocese de Rodez», 1417—1563 («Пылающий
Руэрг. Духовенство и верующие епархии Родез», 1417—1563) (Paris, Editions
du Cerf, 1998, p. 434 — 436) показывает, как книга Жерсона стала «удобным»
решением проблемы подготовки священнослужителей в первой половине
XVI в. и из-за своей дидактической ясности послужила основой для ка-
толических проповедей.
28. Об эволюции предписаний, касающихся библиотек священников см.:
D. Julia et D. McKee, «Les confreres de Jean Meslier. Culture et spiritualite
du clerge champenois au XVIIе siecle» («Собратья Жана Мелье. Культура и
духовность священнослужителей Шампани в XVII в.»), Revue d’histoire de
I'Eglise de France (Журнал по истории Церкви Франции), t. LXIX, 1983,
p. 61-86.
ПРИМЕЧАНИЯ
525
29. Mandement du 25 septembre 1657 (Пастырское послание от 25 сентября
1657 г.) Опубликовано в Statuts, Ordonnances, Mandemens, Regiemens, et Lettres
Pastorales imprimez par ordre de Monseigneur I'lllustrissime et Reverendissime Mes-
sire Louis-Antne de Noailles, Eveque Comte de Chaalons Pair de France («Устав,
ордонансы, пастырские послания, предписания и пасторские письма,
напечатанные по указанию монсиньора, его преподобия светлейшего
мессира Луи Антне де Ноай, епископа графа Шалона, пэра Франции»).
Chalons-sur-Mame, Jacques Seneuze, 1963, р. 107—110. Les Meditations sur les
principales verites chretiennes et ecclesiastiques [...] composees pour I'usage du semi-
naire etabli par Mgr I'archeveque de Paris a I'eglise paroissiale de Saint-Nicolas
du Chardonnet («Размышления о главных христианских и церковных истинах.
(Издание составлено для использования в семинарии, учрежденной
монсиньором архиепископом Парижа приходской церкви Сен-Никола-дю-
Шардонне»). Paris, 1654. Это издание Matthieu Beuvelet — один из лучших
образцов, представляющих литературу, предназначенную для духовных лиц
(XVII в.). Дю Пон — псевдоним испанского иезуита Ла Пуенте.
30. В письме, осуждающем книгу «Апология для казуистов» (Apologie pour les
casuistes), Феликс Виалар де Эре, епископ Шалона-на-Марне, после призыва
своих кюре «поглощать» «науку законного управления таинствами и приоб-
щения душ верным путем» к «знакомому и благочестивому чтению» ряда
изданий, советует им «для приобретения практического опыта» как можно
чаще и «с большим прилежанием» не только присутствовать на конференциях,
организуемых в округах их деканов, но и «тщательно» готовиться к ним.
Четвертое письмо к духовенству епархии, содержащее осуждение книги
«Апология для казуистов», 25 septembre 1655, Statuts, op. cit., p. 261.
31. Об организации церковных конференций см.: L. Perouas, Le Diocese de La
Rochelle de 1648 d 1724. Sociologie et pastorale («Епархия Ла-Рошели с 1648 по
1724 г. Социология и пасторское богословие»), Paris, SEVPEN, 1964,
р. 254—256; С. Berthelot du Chesney, Les Pretres seculiers en Haute-Bretagne
au XVIIIе siecle («Священники, живущие среди мирян в Верхней Брета-
ни в XVIII в.»), Rennes, Presses universitaires de Bretagne, 1984, p. 427—
432; J. M. Gouesse, «Assemblies et associations ctericales. Synodes
et conferences ecclesiastiques dans le diocese de Coutances aux XVIIе et
XVIIIе siecles» («Клерикальные собрания и ассоциации. Синоды и церков-
ные конференции в епархии Кутанс в XVII—XVIII вв.). Annales de Normandie
(Анналы Номандии), t. XXIV, 1974, р. 37—71; и уже цитируемая статья
авторов: D. Julia et D. McKee.
32. См.: M. de Certeau, L'Ecriture de I'histoire («Написание истории»), Paris, Galli-
mard, 1975, p. 208 - 209.
33. По этому вопросу см.: H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et societe a Paris au XVIIе
siecle (1598—1701 («Книга, власть и общество в Париже в XVII в. (1598—
1701»), Geneve, Droz, 1969.
34. Письмо канцлера Поншартрена епископу Каркассонна от 4 марта 1711 г.
Bibliotheque nationale, Fonds franijais (Национальная библиотека,
Французский фонд), ms № 21133, f. 208 v — 209. Книги, которые печатались
епископами, должны были соответствовать «хорошему вероучению и об-
щественному порядку». См.: письмо канцлера Поншартрена Франсуа
526
ПРИМЕЧАНИЯ
Бошару де Сарону (Шампиньи), епископу Клермона от 27 июля 1708 г. (Bib-
liotheque nationale, Fonds fran^ais, ms № 21128, f. 791 v.). Действительно,
общественный порядок иногда нарушался письмами епископов во время
конфликта, связанного с Конституцией Unigenitus.
35. Речь идет о привилегии, предоставленной на 30 лет (27 ноября 1681 г.)
книготорговцу Жаку Сенезу — «печатнику епископа графа Шалона».
36. Statute, Ordonnances, Mandemens («Уставы, ордонансы, пастырские послания»),
op.cit., «Abrege de bibliotheque pour les ecclesiastiques qui se trouve chez Jacques
Seneuze, Imprimeur de Monseigneur, avec les prix au plus juste» («Краткое
содержание библиотеки для духовных лиц, которая находится у Жака
Сенеза, печатника монсиньора и предлагается по самым разумным ценам»),
37. См.: L. Chatellier, Tradition chretienne et renouveau catholique dans le cadre
de I'ancien diocese de Strasbourg, 1650—1770 («Христианская традиция и ка-
толическое возрождение на примере бывшей епархии Страсбурга, 1650—
1770»). Paris, Ophrys, 1981, р. 164-165, 390 -392. С 1701 по 1790 г. были
изданы 86 подарочных изданий: около половины (40 или 46,5% ) составляют
справочники духовного содержания или тексты о нравственности, из них
14 содержат толкования Священного Писания, 11 — книги по истории
религии. Со второй половины XVIII в. отцы Церкви, духовные лица
и французские доктора XVII в. занимают более важное место. О социальном
составе академической конгрегации Мольсема см. того же автора «La con-
gregation academique de Molsheim et la societe alsacienne a la fin du XVIIIе
siecle» («Академическая конгрегация Мольсема и эльзасское общество конца
XVIII в.»), Societe d'histoire et d'archeologie de Molsheim et environs, Annuaires 1980,
p. 89—97. («Историческое и археологическое общество Мольсема и его
окрестностей». Ежегодники. 1980. С. 89—97.
38. Из 55 установленных авторов 30 принадлежат Обществу Иисуса. Полное
собрание подарочных изданий Конгрегации Мольсема хранится в биб-
лиотеке «Большой семинарии» Страсбурга.
39. Подобные конгрегации существовали, в частности, в Германии и Цент-
ральной Европе. См.: Е. Villaret, Les Congregations tnariales («Конгрега-
ции поклонников святой Деве Марии»), t. I. Des Origines a la suppression
de la Compagnie de Jesus (1540—1773) («От возникновения до упразднения
Общества Иисуса (1540—1773)», Paris, Beauchesne, 1947, р. 485—492.
40. Цитируется L. Chatellier, op. cit., р. 165.
41. Архив департамента Ионна (Yonne), G. 1622.
42. См.: L. Perouas, op. cit., р. 263 —264.
43. Подробный анализ содержания фондов библиотек дан авторами: D. Julia
и D. McKee в цитируемой статье, с. 73— 78.
44. См.: J. Qu6niart, Les Hommes, I'tglise et Dieu dans la France du XVIIIе siecle («Люди,
Церковь и Бог во Франции ХУШ в.»), Paris, Hachette, 1978, р. 69—77.
45. L. Allegra, Ricerche sulla cuitura del clero in Piemonte. Le biblioteche parrochiali
nell'Arcidiocesi di Torino sec. XVII—XVIII, Turin, Deputazione subalpina di Storia
patria, 1978.
46. Cm.: G. Greco, «Fra discipline e sacerdozio: il clero secolare nella Societa ital-
iana del Cinquecento al Settecento», in M. Rosa (sous la dir. de), Clero et Societa
nellTtalia moderna, Bari, Laterza, 1992, p. 45—113.
ПРИМЕЧАНИЯ
527
47. См.: М. de Certeau, Е'ЁсгИиге de I'histoire («Написание истории»), op. cit.,
р. 203-212.
48. J. Meslier, CEuvres completes («Полное собрание сочинений»), ed. critique par
J. Deprun, R. Desne, A. Soboul, Paris, Anthropos, 1970—1972, 3 tomes; t. II,
p. 32.
49. О письме относительно молодого человека в дорожном экипаже см.:
М. de Certeau, La Fable mystique, XVIе—XVIIе siecle («Мистическая фабула,
XVI—XVII вв.»), Paris, Gallimard, 1982, chap, (глава) 7, «L'illettre eclaire»
(«Просвещенный неграмотный»), p. 280—329.
50. О литературном жанре «Образы из Библии» (Figures de la Bible) см. в недавно
опубликованной статье М. Ангаммара (М. Engammare) «Les figures de la
Bible. Le Destin oublie d'un genre litteraire en image (XVIе—XVIIе siecle)»
(«Образы из Библии. Забытая судьба литературного жанра в образах (XVI—
XVII вв.»)), Melanges de I'Ecole franfaise de Rome, Italie et Mediterranee (Сборник
Французской школы в Риме, Италии и Средиземноморье), t. 106, 1994,
р. 549 -591.
51. См.: Материалы о духовном руководстве и духовном чтении. Коррес-
понденция XVII в., и особенно корреспонденция Фенелона, изданная под
редакцией Жана Орсибаля (выпущено 15 томов). Paris, Klincksieck, et Gene,
Droz.
52. Письмо Фенелона к герцогине де Бовилье (de Beauvilliers), 16 января 1686 г.
Correspondance de Fenelon («Переписка Фенелона»), Текст установлен Жаном
Орсибалем. Paris, Klincksieck, t. П, 1972, р. 20—21.
53. Там же. С. 21.
54. Lettre au ministre Seignelay (Письмо к министру Сенеле). Ла-Рошель,
29 июня 1687 г. Там же. С. 58.
55. Lettre au ministre Seignelay (Письмо к министру Сенеле). Ла-Трамблад,
8 марта 1686 г. Там же. С. 32.
56. Там же. С. 33.
57. Lettre au ministre Seignelay (Письмо к министру Сенеле). Июнь 1686. Там
же. С. 57.
58. Lettre a Bossuet (Письмо к Боссюэ). Ла-Трамблад, 8 марта 1686 г. Там же.
С. 34.
59. См.: H.-J. Martin, «Classements et conjonctures» («Классификация
и конъюнктура»), in H.-J. Martin, R. Chartier (под ред.), Histoire de /'edition
franfaise («История французского издания»), t. I, Le livre conquerant.
Du Moyen Age au milieu du XVIе siecle («Побеждающая книга: от Средних
веков до середины XVI в.»), Paris, Promodis, 1982, р. 449.
60. См., например, L. Desgraves, «L'inventaire du fonds de livres chez J. Mong-
iron-Millanges en 1672» («Опись книжного фонда у Ж. Монжирон-Милланжа
в 1672 г.»), Revue franqaise d'histoire du livre («Французский журнал истории
книги»), 1973, р. 125—171; G. Hanlon, L'Univers des gens de bien. Culture et com-
portement des elites urbaines en Agenais-Condomois au XVIIеsiecle, Bordeaux, Presses
universitaires de Bordeaux, 1989, который анализирует (с. 312—317) опись
книжного магазина Жан-Жака Брю в Ажане (1689). Мы не останавливаемся
здесь на примере книготорговца Никола из Гренобля, хорошо изученном
Анри Мартеном, так как пример этого книготорговца, кальвиниста,
528
ПРИМЕЧАНИЯ
продававшего, тем не менее большое количество теологических и католи-
ческих духовных изданий, на наш взгляд, не является достаточно пока-
зательным для анализа мест продажи религиозных текстов.
61. Вот только два примера: Жан-Франсуа Беур, печатник из Руана, умерший
в 1759 г., оставил 200 тыс. экземпляров книг религиозного содержания,
из них: 33 тыс. часословов, 15 тыс. сборников гимнов и духовных песен
и 12 тыс. катехизисов. См.: Jean Queniart, L'Imprimerie et la librairie a Rouen au
XVIIIе siecle («Книгопечатание и книготорговля в Руане в XVIII в.»), Paris,
Klincksieck, 1969, р. 137. Опись после смерти Этьенна Гарнье (Etienne Gar-
nier), печатника и владельца книжного магазина в Труа (1789), сви-
детельствует о том, что 42,7% его фонда (или 189 672 экз.) составляли книги
религиозного содержания. Причем значительную часть занимали
в нем псалтыри, жития святых, книжки о паломничестве, сборники гимнов,
духовных, рождественских песен и катехизисов. См.: H.-J. Martin, «Culture
ecrite, culture orale. Culture savante et culture populaire» («Письменная
культура, культура устного творчества, научная культура и народная
культура») in Le Livre fran^ais sous I'Ancien Regime («Французская книга при
королевском правлении»), Paris, Promodis-Editions du Cercle de la
Librairie, 1987, в частности с. 160—165.
62. J. Brancolini et M. T. Boussy, «La vie provinciale du livre a la fin de I'Ancien
Regime» («Жизнь книги в провинции в конце королевского правления») in
F. Furet (sous la dir. de), Livre et societe dans la France du XVIIIе siecle («Книга и
общество во Франции XVIII в».). II, Paris—La Haye, Mouton, 1970, p. 3—35.
Данные двух рукописей, на основе которых базируется это исследование
(Bibliotheque nationale, Fonds frangais 22018 et 22019 — Национальная
библиотека. Французский фонд 22018 и 22019) были недавно опубликованы:
R. L. Dawson, The French Booktrade and the «Permission simple» of 1777. Copyright
and Public Domain with an Edition of the Permit Registers, Oxford, The Voltaire
Foundation, 1992 (Studies on Voltaire and the Eighteenth-Century № 301).
О судьбе издания «L'Ange conducteur» («Путеводный ангел») можно
прочитать: М. Vemus, «Un best-seller de la litterature religieuse: L'Ange con-
ducteur du XVIIе au XIXе siecle» («Лучшее произведение религиозной
литературы XVII—XIX вв.: "Путеводный ангел"», in Actes du 109е Congres na-
tional des societes savantes (Материалы 109-ro Национального съезда научных
обществ), Dijon, 1984, Section d'histoire moderne et contemporaine (Секция
современной и новой истории), t. I, Transmettre la foi: XVIе—XXе siecle
(Передача веры: XVI—XX вв.) 1: «Pastorale et predications en France»
(«Пасторское богословие и проповедование во Франции»), Paris, CTHS, 1984,
р. 231-244.
63. См.: A. Tallon, La Compagnie du Saint-Sacrement («Общество святого
причастия»), Paris, Editions du Cerf, 1990, p. 37—47. Совместное духовное
чтение было принято и в миланских братствах в конце XVI в. и в начале
XVII в. См.: R. Bottom, «Libri et lettura nelle confratemie milanesi del secondo
Cinquecento», in N. Raponi et A. Turchini, Stampa, libri et letture a Milano nel-
I'eta di Carlo Borromeo, Milan, Vita e Pensiero, 1992, p. 247—277.
64. Cm.: Louis Chatellier, L'Europe des devots («Европа благочестивых»), Paris, Flam-
marion, 1987, p. 137.
ПРИМЕЧАНИЯ
529
65. См.: В. Dompnier et F. Hernandez, «Les livres de piete des penitents du XVIIIе
au XIXе siecle: la negation de la Revolution?» («Молитвенные книги для
грешников (XVIII—XIX вв.): Отрицание революции?»), Provence historique
(Исторический Прованс), t. XXXIX, 1989, р. 257 —271; М.-Н. Froeschle-Chopard,
«La devotion du Rosaire a travers quelques livres de piete», Histoire, economic,
societe («История, экономика, общество»), t. 10, 1991, p. 299—316.
66. См.: X. Toscani, «Le "Scuole della dottrina Christiana" come fattore di alfabetiz-
zazione», Societa e storia, № 26,1984, p. 757—781; P. F. Grendler, «Borromeo and
the Schools of Christian Doctrine», in J. M. Headley, J. B. Tomato (ed.), San Carlo
Borromeo Catholic Reform and Ecclesiastical Politics in the Second Half of the Sixteenth
Century, Londres et Toronto, Associated University Press, 1988, p. 158—171.
67. Lettres d'lgnace de Loyola a Pierre Canisius (Письма Игнатия де Лойолы
Пьеру Канизию), 13 августа 1554 г., перевод в: Ignace de Loyola, Ecrits
(«Сочинения»), Paris, Desclee de Brouwer-Bellarmin, 1991, p. 893.
68. О катехизисе Канизия см.: О. Braunsberger, Entstehung und erste Entwick-
lung der Katechismen des Seligen Petrus Canisius aus der Gesellschaft Jesu,
Fribourg-en-Brisgau, 1893.
69. Об изданиях катехизисов Канизия как на латинском, так и на немецком
языках, см.: F. Streicher, S. Petri Canisii Doctoris Ecclesiae Catechismi Latini et Ger-
mania, I, 1—2, Rome—Munich, 1933—1936.
70. О распространении сочинений Канизия в странах с населением, гово-
рящим на французском языке. См.: G. Bedouelle, «L'influence des
catechismes de Canisius en France» («Влияние катехизисов Канизия во
Франции»), in Р. Colin, Е. Germain, J. Joncheray et M. Venard, Aux origines du
catechisme en France («Возникновение катехизиса во Франции»), Paris,
Desclee, 1989, p. 67-86.
71. См., например, различные ordo classium и ratio studiorum, составленные отцом
Ледесма, учебным префектом в Римском коллеже (College remain) в 1564 г.
Опубликованы в: L. Lukacs, Monumenta paedagogica Societatis lesu, t. II, Rome,
1974. В Римском коллеже катехизис преподавался по пятницам в течение
получаса в двух отдельных классах. Самые маленькие каждый день наизусть
читали своим учителям тексты из катехизиса, а самые старшие — один или
несколько раз в неделю. Там же. Т. Ill, Rome, 1974, р. 371.
72. См.: Материалы конгрегации провинции Аквитания (1576), опубликованы
в: L. Lukacs, Monumenta paedagogica Societatis lesu, t. IV, Rome, 1981, p. 287—
288. C 1571 г. маленький катехизис Канизия использовался при препо-
давании на французском языке в коллежах Шамбери, Лиона, Турнона и
Авиньона.
73. См.: Е. Germain, «Du prone au catechisme dans le diocese de Paris» («От про-
поведи до катехизиса в епархии Парижа») в: Aux origines du catechisme en
France («Возникновение катехизиса во Франции»), op. cit., р. 106—119.
74. См.: L. Perouas, Le Diocese de La Rochelle... («Епархия Ла-Рошели...»), op. cit.,
p. 276 - 277.
75. О катехизисе в приходской церкви Сен-Никола-дю-Шардонне (Saint-
Nicolas du Chardonnet) см.: D. Julia, «La le^on de catechisme dans VEscole
Paroissiale (1654)», в: Aux origines du cathechisme en France («Возникнове-
ние катехизиса во Франции»), op. cit., p. 160—187.
530
ПРИМЕЧАНИЯ
76. См., например, le Catechismes ои abreges de la doctrine chretienne ci-devant intitules
Catechisme de Bourges, составленный Ла Шетарди (La Chetardie), кюре церкви
святого Сульпиция (Saint-Sulpice) в Париже в конце XVII в. Здесь мы
приводим цитату из парижского издания, опубликованного в 1707 г. в Па-
риже: «Монсиньор наш прелат, — пишет автор, — захотел, чтобы все
вопросы и ответы были ясными и короткими, такими, каки-
ми их находят здесь, и чтобы им в точности все придерживались, поч-
ти никогда не изменяя. Он убежден, что ничто лучше не остается в памяти
детей, чем вещи, часто повторяемые и «вдалбливаемые» в голову в одних
и тех же выражениях... Он надеется на большой успех этого краткого
издания, проверенного в ходе долгого и хорошо продуманного эксперимента,
доказавшего, что дети способны на то-то или способны только на это, так
как изучались к тому же их идеи, представления и выражения, что им легко,
а что трудно воспринимать, запоминать, повторять».
77. См.: Catechisme abrege de la doctrine chretienne imprime par I'ordre de Monseigneur
I'eveque de Mende pour I'usage de son diocese («Краткий катехизис о христианском
вероучении, напечатанный по распоряжению монсионьора епископа
Манда»), Mende, 2 vol., 1684. Пастырское послание епископа настоятелям.
78. «Avertissement de Monseigneur 1'Archeveque d'Auch sur la nouvelle edition du
Catechisme a I'usage de son Diocese» («Уведомление монсиньора архи-
епископа Оша о новом издании катехизиса, предназначенного для ис-
пользования в его епархии»), 4 августа 1764 г. Catechisme a I'usage du diocese
d'Auch, издание 1764 г.
79. Три примера. В регламентирующем положении для школ епархии Toul,
изданном 10 марта 1695 г. Анри де Тьяром (Henri de Thyard) Бисси (Bis-
sy), учителям рекомендуется, чтобы дети рассказывали наизусть катехи-
зис два раза в неделю и «чтобы у каждого ребенка был свой учебник
катехизиса». В Послании Пьера Сабатье (Pierre Sabatier), епископа Амье-
на (25 июля 1707 г.) от учителей требуется «знать катехизис в полном объеме,
преподавать его с легкостью и без учебника в руке, так как тот, кто переда-
ет знания другим, должен сам в совершенстве владеть ими». Более того,
катехизис должен быть «первой книгой во Франции после алфавита».
В 1744 г. синод епархии Булони принимает решение: «Катехизис должен
быть первой книгой для чтения для детей, овладевших алфавитом».
80. Ch. de Caylus, Avis et instructions sur les ordonnances publiees dans le synode tenu
au Palais episcopal les 18 et 19 juin 1738 («Уведомления и указания по поводу
ордонансов, опубликованных синодом, состоявшемся в Епископальном
дворце 18—19 июня 1738 г.»). Paris, 1742, р. 168.
81. Все цитаты приводятся из предисловия «Du dessein et de I'usage de ce ca-
techisme» («О замысле и использовании этого катехизиса»), которое предшест-
вует Catechisme historique contenant en abrege I'histoire et la doctrine chretienne
(«Историческому катехизису, содержащему краткое изложение христианского
вероучения и его историю») Клода Флери. Paris, 1683, de Qaude Fleury.
82. См. к этой теме: F. Brossier, S. Duguet, Е. Germain, J. Joncheray, Catechismes,
memoires d'un temps: 1687. Les manuels diocesains de Paris et de Meaux (Bossuet)
(«Катехизисы, мемуары о времени: 1687. Учебники епархий Парижа и Мо
(Боссюэ»)), Paris, Desclee, 1988.
ПРИМЕЧАНИЯ
531
83. См.: Fleury, «Du dessein et de 1'usage du catechisme» («О замысле
и использовании катехизиса»), Catechisms historique («Исторический катехизис»).
84. Чтение Библии, именуемой «Руайомон», происходило там (в семинарии) в
1680—1692 гг. См.: Lettre de Monsieur Tronson a Mr Le Vayer de Bressac, su-
perieur du s6minaire d'Autun (Письмо господина Тронсона к Ле Вейе
де Брессаку, ректору семинарии Огона) от 14 декабря 1692 г. in L. Tronson,
Correspondence, lettres choisies, annotees et publiees par L. Bertrand («Кор-
респонденция. Письма: избранные, аннотированные и опубликованные
Л. Бертраном»), t. I, Paris, Victor Lecoffre, 1904, p. 161—162.
85. N. A. Retif de La Bretonne, Monsieur Nicolas, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1959,
1.1, p. 187.
86. Citoyen Renaud, Memoires historiques sur la ci-devant communaute des ecoles chre-
tiennes du faubourg Saint-Antoine (Гражданин Рено. «Исторические заметки
о вышеуказанном сообществе христианских школ предместья Сент-
Антуан»), Paris, an XII, р. 20.
87. Vie de М. Grosley, ecrite en partie par lui-meme, continuee et publiee par I'abbe May-
dieu, chanoine de I'eglise de Troyes en Champagne, dediee a un incon-
nu («Жизнь господина Гроле, описанная частично им самим. Затем описа-
ние продолжил, завершил и опубликовал аббат Мейдье, каноник церкви
г. Труа в Шампани. Произведение посвящено неизвестному). Paris, 1787,
р. 14. Les Figures de la Bible («Образы из Библии») являются частью школь-
ных учебников, использовавшихся в коллеже г. Труа и, вполне вероятно,
издававшихся в этом же городе.
88. X. A. Sejoume, Histoire du venerable serviteur de Dieu, Julien Maunoir («История
достопочтенного слуги Господа Жюльена Монуара»), Paris—Poitiers,
Н. Dudin, 1885, t. II, р. 214.
89. См.: G. Le Menn, «Les catalogues des libraires bretons (1695—1746)» («Каталоги
бретонских книготорговцев»), Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de
Bretagne (Мемуары исторического и археологического общества Бретани),
t. LXII, 1985, р. 301-311.
90. См.: М. Foisil, «Un jesuite normand missionnaire en Basse-Normandie. Pierre
Sandret, 1658—1738» («Нормандский иезуит — миссионер в Нижней
Нормандии. Пьер Сандре (1658—1738)», Annales de Bretagne et des pays de I'Ouest
(Анналы Бретани и стран Западной Европы), t. 81, 1974, р. 537—552.
91. См.: J. В. Bergier, Histoire de la communaute de pretres-missionnaires de Beausse et
des missions faites en Franche-Comte depuis 1676 jusqu'en 1850 («История
сообщества священников-миссионеров Боссе и миссий, осуществленных
в Франш-Конте с 1676 по 1850 г.»), Besantjon, Cyprien Monnot, 1853; М. Ver-
nus, «La diffusion du petit livre de piete et de la bimbeloterie religieuse dans le
Jura (au XVIIIе siecle)» («Распространение книжечек благочестиво-
го содержания и безделушек на религиозные темы на территории Юры
в XVIII в.), Actes du 103е Congres national des societes savantes, Caen 1980, Section
d'histoire moderne et contemporaine (Материалы 103-го национального
съезда научных обществ. Кан 1980, Секция новой и современной истории),
1.1, Paris, CTHS, 1983, р. 127-141.
92. См.: L. Chatellier, «Livres et missions rurales au XVIIIe siecle. L'exemple des
missions jesuites dans les pays germaniques» («Книги и миссии в сельских
532
ПРИМЕЧАНИЯ
районах в XVIII в. Пример миссий иезуитов на германских территориях»),
in Н. Е. Bodeker, G. Chaix et Р. Veit, Le Livre religieux et ses pratiques. Etu-
des sur I'histoire du livre religieux en Allemagne et en France d I'epoque modern
(«Религиозная книга и ее использование. Исследования в области истории
религиозной книги в современных Германии и Франции»), Gottingen, Van-
denhoeck et Ruprecht, 1991, p. 183—193.
93. Личный архив M. Каррера (М. Саггёге), Родез, Livre de comptes du libraire Ler-
oux («Счетная книга книготорговца Леру»). Мишеля Шаппа называли также
«торговцем скобяным товаром».
94. J. Leuduger, Le Bouquet de la Mission ou I'Abrege des Veritez et Maximes que Гоп
enseigne dans les Missions («Сборник Миссии, или Краткое изложение истин
и изречений, которые преподаются в Миссиях»), Издание доработано,
исправлено и дополнено автором. Rennes, veuve de Mathurin Denys, 1700.
Цитата приводится из «Preface aux peuples de la campagne» («Обращение
к деревенским жителям»). Луи-Мари Гриньон де Монфор (Louis-Marie
Grignon de Montfort) сформировался как личность в условиях мис-
сионерской деятельности под руководством Жана Ледюже (Jean Leuduger),
см.: J. В. Blain, Abrege de la vie de Louis-Maris Grignion de Montfort, текст
установлен, представлен и аннотирован Л. Перу (L. Perous), Rome, Centre
international Montfortain, 1973, p. 146—148.
95. J. Leuduger, Le Bouquet de la Mission, op. cit., p. 308.
ГЛАВА 10
1. Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, L'Apparition du livre («Возникновение книги»),
Paris, Albin Michel, 1958.
2. Philippe Berger, «La lecture a Valence de 1474 a 1560. Evolution des comporte-
ments en fonction des milieux sodaux» («Чтение в Валенсии в 1474—1560 гг.
Развитие отношений в социальных слоях общества»), dans Livre et lecture en
Epagne et en France sous I’Ancien Regime («Книга и чтение в Испании и Франции
при королевском правлении»), Colloque de la Casa de Velazquez (Семинар. Дом-
музей Веласкеса), Paris, ADPF, 1981, p. 97—107, и Libro у lectura en la Valencia del
Renacimiento, Valencia, Ediciones Alfons el Magnanim, Institucio Valenciana d'Es-
tudis i Investigacio, 1987.
3. Andre Labarre, Le livre dans la vie amienoise du XVf siecle. L'enseignement des in-
ventaires apres deces, 1503 — 1576 («Книга в жизни читателей Амьена
XVI в. На основании изучения описей, составленных после смерти
владельцев книг: 1503—1576»), Paris—Louvain, Editions Nauwelaerts, 1971.
4. P. Clark, «The Ownership of Books in England, 1560—1640: The Example of Some
Kentish Townsfolk", dans Schooling and Society, Studies in the History of Educa-
tion, Edited by Lawrence Stone, Baltimore, The Johns Hopkins University Press,
1976, p. 95-111.
5. Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un tnugnaio del’500, Turin,
Einaudi Editore, 1976 (пер. с фр.: Le Fromage et les vers. L'univers d’un meu-
nier du XVf siecle («Сыр и стихи. Мир мельника в XVI в.»), Paris, Flammarion,
1980)
ПРИМЕЧАНИЯ
533
6. Sara Т. Nalle, «Literacy and Culture in Early Modem Castile», Pest and Present,
125, November 1989, p. 65—96.
7. Maxime Chevalier, «Е1 publico de las novelas de caballerias», dans Lectura у lec-
tores en la Espana de los Siglos XVI у XVII, Madrid, Ediciones Turner, 1976,
p. 65-103.
8. Marcel Bataillon, «Santa Teresa, lectora de libros de caballerias», dans Varia lec-
tion de cldsicos espanoles, Madrid, Editorial Gredos, 1964, p. 21—23.
9. Daniel Eisenberg, «Who Read the Romances of Chivalry?», Kentucky Romance
Quarterly, XX, 1973, p. 209 — 233; Romances of Chivalry in the Spanish Golden Age,
Newark, Juan de la Cuesta-Hispanic Monographs, 1982, p. 89—118, «Who Read
the Romances of Chivalry?», цитата: c. 105.
10. О различных определениях термина «народный» («populaire») см.: Lawrence
Levine, «The Folklore of Industrial Society. Popular Culture and Its Audience»,
American Historical Review, Volume 97, Number 5, December 1992, p. 1369—1399,
особенно c. 1373; Roger Chartier, «Culture popular. Retomo a un concepto his-
toriografico», Manuscrits, № 12, Gener 1994, p. 43 — 62.
11. См.: Обзор Паломы Диас-Мас (Paloma Diaz-Mas), «Prologo» dans Romancero,
Edition, prologo у notas de Paloma Diaz-Mas, Con un estudio preliminar
de Samuel G. Armistead, Barcelona, Critica, Biblioteca Clasica, 1994, p. 1—50.
12. См.: репертуары Антонио Родригеса (Antonio Rodriguez Monino), Diccionario
bibliogrdfico de pliegos sueltos poeticos (siglo XVI), Madrid, Castalia, 1970; Ma-
nual bibliogrdfico de cancioneros у romanceros impresos durante el siglo XVI, Madrid,
Castalia, 1973; Giuliana Piacentini, Ensayo de une bibliografia analitica del romancero
antiguo. Los Textos (Siglos XV у XVI), II, Cancioneros у romanceros, Pise, Giardini,
1986. О romances nuevos и pliegos sueltos в XVII в. см.: Maria Cruz Garcia
de Enterria, Sociedad у poesia de cordel en el Barroco, Madrid, Taurus, 1973.
13. Paloma Diaz-Mas, приводившаяся статья, с. 32.
14. Определение pliego может трактоваться расширительно и допускать мак-
симальное количество страниц в pliego suelto — 32 с. «у aun mas» (или
четыре и более печатных листа), согласно Антонио Родригесу Монино (An-
tonio Rodriguez Monino) dans Diccionario bibliogrdfico, op. cit., p. И; также
32 страницы (или четыре печатных листа), согласно Maria Cruz Garcia de
Enterria dans Sociedad у poesia de cordel, op. cit., p. 61; также 32 страницы
«у aiin mas», согласно Joaquin Marco dans Literatura popular en Espana en los
siglos XVIII у XIX (Una aproximacion a los pliegos de cordel), Madrid, Taurus,
1977, p. 33.
15. Victor Infantes, «Los pliegos sueltos poeticos. Constitution tipografica у contenido
literario (1482—1600)», En el Siglo de Oro, Estudios у textos de literatura durea, Po-
tomac, Scripta Humanistica, 1992, p. 47—58.
16. Jean-Francois Botrel, «Les aveugles colporteurs d'imprimes en Espagne»,
Melanges de la Casa de Velazquez, t. IX, 1973, p. 417—482, «I. La confrerie des
aveugles de Madrid et la vente des imprimes du monopole a la liberte du
commerce (1581 — 1836)»; там же. T. X, 1974, p. 233—271, «II. Les aveugles
consideres comme mass-media» («Слепые обсуждают средства массовой
информации»).
17. Tessa Watt, Cheap Print and Populatr Piety, 1560—1640, Cambridge, Cambridge
University Press, 1991.
534
ПРИМЕЧАНИЯ
18. Adam Fox, «Ballads, Libels and Popular Ridicule in Jacobean England», Past
and Present, 145, November 1994, p. 47— 83.
19. Margaret Spufford, Small Books and Pleasant Histories. Popular Fiction and its Read-
ership in Seventeenth-Century England, Londres, Methuen, 1981.
20. Tessa Watt, op. cit., p. 257— 295; «The Development of the Chapbook Trade».
21. О «Голубой библиотеке» см.: Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans la France
d'Ancien Regime, Paris, Editions du Seuil, 1987, p. 110—121, 247—270,
271-351.
22. Paul Ricoeur, Temps et retit, Paris, Editions du Seuil, 1985, t. Ill, Le Temps raconte,
p. 228 -263.
23. Там же. С. 239.
24. Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens. Theorie dsthetischer Wirkung, Munich, Whi-
lelm Fink, 1976 (пер. с фр.: L'Acte de lecture. Theorie de I'effet estheti-
que, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1976).
25. Hans Robert Jauss, Literaturgeschichte als Provokation, Francfort, Suhrkamp Ver-
lag, 1970 (пер. с фр.: Pour une esthetique de la reception, Paris, Galli-
mard, 1978).
26. D. F. McKenzie, Bibliography and the Sociologiy of Texts, The Panizzi Lectures 1985,
Londres, The British Library, 1986 (пер. с фр.: La Bibliographic et la sociologie
des textes, preface de Roger Chartier: «Textes, formes, interpretations», Paris,
Editions du Cercle de la Librairie, 1991).
27. Stanley Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communi-
ties, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1980, p. 1—17.
28. Margit Frenk, «"Lectores у oidores". La difusion oral de la literature en el Siglo
de Oro» dans Aetas del Septimo Congreso de la Asociacion International de Hispanistas,
Publicadas por Giuseppe Bellini, Rome, Bulzoni, 1982, Vol. I, p. 101—123.
29. Там же. С. 115-116.
30. В. W. Ife, Reading and Fiction in Golden-Age Spain. A Platonist Critique and Some
Picaresque Replies, Cambridge University Press, 1985.
31. Там же. С. 16-17.
32. Jaime Moll, «Diez anos sin licencias para imprimir comedias у novelas en
los reinos de Castilla: 1625—1634», Boletin de la Real Academia de Espana,
LIV, 1974, p. 97—103; D. W. Cruickshank, «"Literature" and the Book-Trade
in Golden-Age Literature», The Modem Language Review, Vol. 73, Part 4, October
1978, p. 799 - 824.
33. D. F. McKenzie, op.cit., p. 20.
34. Margaret Spufford, op.cit., p. 91—101 и в качестве примера о каталоге: с. 262—
267.
35. Nenri-Jean Martin, «Culture ecrite et culture orale. Culture savante et cultu-
re populaire dans la France d'Ancien Rёgime», Journal des savants, juillet-decem-
bre 1975, p. 225-282.
36. Joana Escobedo, Plecs poetics Catalans del segle XVII de la Biblioteca de Catalunya,
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1988.
37. Antonio Rodrigez Monino, Poesia у cancioneros (siglo XVI), Madrid, Real Acade-
mia Espanola, 1968, p. 31—32. Согласно Pedro M. Catedra и Victor Infantes, «el
autentico "pliego" de origen» представляет собой один печатный лист,
сложенный в два раза, или восемь страниц в формате ин-кварто и «debemos
ПРИМЕЧАНИЯ
535
admitir que cada plana (дополнительная) aleja de su primitiva condition el
producto original», «Estudio», dans Los pliegos sueltos de Thomas Croft (Siglo
XVI), Valencia, Primus Calamus, Albatros Ediciones, 1983, p. 11—48 (цитата:
c. 25-26).
38. Mercedes Agullo у Cobo, Relaciones de sucesos: I, anos 1477— 1619, Madrid. CSIC,
Cuademos Bibliograficos, XX, 1966.
39. E. C. Riley, Cervantes's Theory of the Novel, Oxford, Clarendon Press, 1962,
p. 81—115, «Author and Reader»; Maria Cruz Garda de Enterria, «Lectura у ras-
gos de un publico», Edad de Oro, XII, 1993, p. 119—130.
40. Jean-Pierre Seguin, L'lnformation en France avant le periodique, 517 canards im-
primes entre 1529 et 1631, Paris, Editions G. P. Maisonneuve et Larose, 1964,
и в качестве примера: Roger Chartier, «La pendue miraculeusement sauvee.
Etude d'un occasionnel» dans Les Usages de I’imprime (XVе—XIXе siecle)
(«Использование печатных изданий: XV—XIX вв.), sous la dir. de (под ред.)
Roger Chartier, Paris, Fayard, 1987, p. 83—127.
41. William Eamon, «Arcana Disclosed. The Advent of Printing, the Books of Sec-
ret Tradition, and the Development of Experimental Science in the Sixteenth
Century», History of Science, Vol. 22, Part 2, Number 56, June 1984, p. Ill —
150.
42. Lorraine Daston, «Marvelous Facts and Miraculous Evidences in Early Mo-
dem Europe», Critical Inquiry, Vol. 18, Number 1, Autumn 1991, p. 93—124.
43. Lisa Jardine, Anthony Grafton, «"Studied for Action": How Gabriel Harvey Read
His Livy», Past and Present, Number 129, November 1990, p. 30— 78.
44. Ann Blair, «Humanist Methods in Natural Philosophy: The Commonplace Book»,
Journal of the History of Ideas, Vol.53, Number 4, October—December 1992,
p. 541-551.
45. В качестве примера и в отношении только Франции см. следующие мемуары
и автобиографии: Valentin Jamere-Duval, Memoires. Enfance et education d’un
paysan au XVIIIе siecle («Детство и обучение крестьянина в XVIII в.»),
предисловие Жана Мари Гульмо (Jean Marie Goulemot), Paris, Le Sycomore,
1981; Journal de ma vie. Jacques-Louis Menetra, compagnon vitrier au XVIIIе siecle
(«Дневник моей жизни. Жак-Луи Менетра, помощник стекольщи-
ка в XVIII в.»), представленный Даниелем Роше (Daniel Roche), Paris, Mon-
talba, 1982; Anne Fillon, Louis Simon, etaminier (1741 — 1820) dans son village du
Haut Maine au siecle des Lumiires («Луи Симон, лудильщик (1741 —
1820) в своей деревне провинции О дю Мен в эпоху Просвещения»), these
de troisifcme cycle, universite du Maine, 1982 (первая диссертация, Уни-
верситет исторической провинции Мен, 1982).
46. Silvana Seidel Menchi, Erasmo in Italia, 1520—1580, Turin, Bollati Boringhieri,
p. 286 - 321.
47. См. исследование: Френсис Гуайе (Frands Goyet), «А propos de "ces pastissages
des lieux communs" (le role des notes de lecture dans la genese des Essais)»
(«По поводу "этих затруднений, касающихся общих мест" (роль читательских
заметок в возникновении эссе»), Bulletin de la Societe des amis de Montaigne, 5—
6, 1986, p. 11—26, et 7—8,1987, p. 9—30; Rhetorique et /literature. Le «Неи commun»
a la Renaissance, these de doctoral d'Etat, universite, Paris-XII, 1993.
48. Lisa Jardine и Anthony Grafton, приводившаяся статья, прим. 148, с. 78.
536
ПРИМЕЧАНИЯ
49. См.: Lisa Jardine, Erasmus, Men of Letters. The Construction of Charisma in Print,
Princeton, Princeton University Press, 1993, и скоро выходит в свет
коллективное издание Энтони Грефтона (Anthony Grafton), Лизы Жардин
(Lisa Jardine) и Уильяма Шермана (William Sherman) Reading in the Renais-
sance.
ГЛАВА 11
1. J. G. Heinzmann, Appel an rneine Nation. Uber die Pest der deutschen Literatur
(«Призыв к моей нации. О чуме немецкой литературы»), Вете, 1975 (пере-
издание, Hildesheim, 1977), р. 139.
2. Процитировано в: W. Krauss, «Uber den Anteil der Buchgeschichte an der Ent-
faltung der Aufklarung» («О значений истории книги в развитии прос-
вещения»), Zur Dichtungsgeschichte der romanischen Volker («История поэзии
романских народов»), Leipzig, р. 194—312.
3. J. G. Beyer, «Uber das Lesen, insofem es zum Luxus unserer Zeiten gehort»
(«О чтении, поскольку оно является роскошью в наши времена»),
Acta Academiae Electoralis Moguntinae Scientiarum Utilium, XII, Erfurt, 1794,
p. 7.
4. Во Франции обращаются в основном к количественным анализам нота-
риальных описей имущества, составленных после смерти владельцев,
и библиотечных каталогов, позволяющих сделать только относительно общие
выводы, так как в них учитывается то, что сохранилось, а не то, что было про-
читано. Нередко в сторону откладывалась любая книга в плохом физическом
состоянии или вызывающая подозрение. А каталоги большей частью отра-
жали складированные неиспользуемые издания, накопленные несколькими
поколениями. Такой подход приводит к смещенному представлению
о сложившихся традициях и нововведениях в культурной сфере.
5. I. Watt, The Rise of the Novel, Harmondsworth, 1957, p. 60.
6. Cm.: R. Engelsing, Analphabetentum und Lektiire («Неграмотность и чтение»),
Stuttgart, 1973, p. 62 sq.
7. R. Schenda, Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populdren Lesestoffe
1770—1910 («Народ без книги. Исследования по социальной исто-
рии популярного чтения», Francfort, 1970, р. 445.
8. Н. Kiesel и Р. Munch, Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert («Общество
и литература в XVIII в.»), Munich, 1977, р. 160.
9. R. Schenda, Volk ohne Buch («Народ без книги»), op. cit., p. 88.
10. В. Haug, Das gelehrte Wirtemberg («Ученый Виртемберг»), Stuttgart, 1790,
p. 26-32.
11. A. Martino, Die deutsche Leihbibliothek. Geschichte einer literarischen Institution
(1756—1914) («Немецкая абонементная библиотека. История литературного
учреждения»), Wiesbaden, 1977, р. 52.
12. R. Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien Regime («Чтение
и читатели во Франции при королевском правлении»), Paris, 1987, р. 258.
13. I. Watt, The Rise of the Novel, op. cit., p. 49.
14. J.-J. Rousseau, La Nouvelle Heloise («Новая Элоиза»), часть VI, письмо V.
ПРИМЕЧАНИЯ
537
15. R. Chartier, «Du livre au lire» («Or книги к чтению») dans R. Chartier (под
ред.), Pratiques de la lecture («Занятия чтением»), Marseille—Paris, 1985, p. 71.
16. J. A. Weissenbach, Vorstellung liber den Krieg, den man itzt gefdhrlichen Schriften
anzukiindigen hat; an alle so wohl geistliche als weltliche Oberkeiten, Augsbourg,
1793, p. 7 sq.
17. R. Damton, «Rousseau und seine Leser» («Руссо и его читатели»), Zeitschrift
fur Literaturwissenschaft und Linguistik («Журнал по литературоведению
и лингвистике»), LVII—LVIII (1985), p. 137.
18. Watt, The Rise of the Novel, op. cit., p. 179.
19. Damton, «Rousseau und seine Leser» («Руссо и его читатели»), op. cit., p. 127 sq.
20. Там же. С. 134.
21. Там же. С. 144, sq.
22. R. Engelsing, «Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit» («Периоды
истории развития читателей в новое время»), Archiv fur Geschichte des Buch-
wesens («Архив истории книжного дела»), X (1970), col. 945—1002.
23. Е. Schon, Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlungen des Lesern. Men-
talitdtswandel urn 1800, Stuttgart, 1987, p. 327.
24. L. Meyer, письмо к Г. К. Буа (Н. С. Boie) от 1 января 1781 г., процитирован-
ное в: Use Schreiber, Ich war wohl klug, dass ich dich fand. H. C. Boies Brief-wech-
sel mit Luise Meyer 1777—1785 (Переписка Г. К. Буа с Луизой Мейер. Т777—
1785), Munich, 1961, р. 275.
25. См.: Schon, Der Verlust («Утрата...»), op.cit., р. 326.
26. J. A. Bergk, Die Kunst, Bucher zu lesen. Nebst Bemerkungen uber Schriften und
Schriftsteller («Искусство читать книги. Вместе с замечаниями о произведениях
и писателях»), 1ёпа, 1799, р. 69.
27. См.: Schon, Der Verlust... («Утрата...»), op. cit., p. 328.
28. См. также: E. M. Hanebutt-Benz (под ред.), Die Kunst des Lesen. Lesemobel und
Leseverhalten von Mittelalter bis zur Gegenwart («Искусство чтения. Мебель для
чтения от Средних веков до настоящего времени»), выставочный каталог,
Франкфурт, 1985, р. 109 sq.
29. Watt, The Rise of the Novel, op. cit., p. 195.
30. Schon, Der Verlust... («Утрата...»), op. cit., p. 167.
31. Jean-Paul, Briefe und bevorstehender Lebenslauf. Konjektural-Biographie, sechste po-
etische Epistel, dans Jean-Paul, Werke («Произведения»), изд. H. Миллером
(N. Miller), IV, Munich, 1962, p. 1070.
32. K. G. Baur, Uber der Mittel, dem Geschlechtstrieb eine unschddliche Rich-
tung zu geben, Leipzig, 1791, p. 190.
33. Bergk, Die Kunst... («Искусство...»), op. cit., p. 190.
34. Там же. С. 407.
35. Jean-Paul, Kleine Nachschule zur dstetischen Vorschule, I, Miserkordias-
Vbrlesung, dans Jean-Paul, Werke («Произведения»), op. cit., V, p. 495.
36. I. Watt, The Rise of the Novel, op. cit., p. 50.
37. Там же. С. 240 sq.
38. «Uber Mode-Epoken in der Teutschen Lektiire», Journal des Luxus und der
Modern, novembre 1792, p. 549—558.
39. Cm.: Martino, Die deutsche Leihbibliothek («Немецкая абонементная биб-
лиотека»), op. cit., p. 57.
538
ПРИМЕЧАНИЯ
ГЛАВА 12
1. F. Furet, J. Ozouf, Lire et ecrire. L'alphabetisation des Frangais de Calvin a Jules Ferry
(«Читать и писать. Обучение французов грамотности от Кальвина до Жюля
Ферри»), 2 vol., Paris, 1977.
2. R. Schofield, «Dimensions of Illiteracy in England, 1750—1850» («Неграмотность
в Англии в 1750—1850 гг.»), dans Н. J. Graft (под ред.), Literacy and Social De-
velopment in the West: A Reader («Грамотность и общественное развитие на
Западе: Читатель»), Cambridge, 1981, р. 201—213.
3. D. Langewiesche, К. Schonhoven, «Arbeiterbibliotheken und Arbeiterlektiire
in Wilhelminischen Deutschland» («Библиотеки для рабочих и их чтение
в вильгельмовской (кайзеровской) Германии»), Archiv fur Sozialgeschichte
(Архив социальной истории), XVI (1976), р. 140.
4. D. Roche, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIе siecle («Народ
Парижа. Эссе о народной культуре XVIII в.»), Paris, 1981, р. 206 —209.
5. D. Langewiesche, К. Schonhoven, «Arbeiterbibliotheken», op. cit., p. 136.
6. M. Lyons, Le Triomphe du livre. Line histoire sociologique de la lecture dans
la France du XIXе silicle («Триумф книги. Социологическая история чтения во
Франции XIX в.»), Paris, 1987.
7. С.-А. Sainte-Beuve, De la litterature industrielle («Об индустриальной
литературе»), dans Portraits contemporains («Современные портреты»),
I-V, Paris, 1869-1876, П, 1869, p. 444-471.
8. W. Collins, «The Unknown Public», dans I. B. Nadel (под ред.), Victorian Fiction.
A Collection of Essays, New York, 1986.
9. R. Chartier, D. Julia, M.-M. Compere, L'Education en France du XVIе siecle
au XVIIIе siecle («Образование во Франции в период с XVI по XVIII в.»),
Paris, 1976, р. 102-105.
10. М. Lyons, R. Taska, Australian Readers Remember, Melbourne, 1992, гл. 3.
11. P. J. НёНаз, Le Cheval d'orgueil. Memoires d'un Breton du pays bigouden, 2 vol.,
Geneve, 1979, p. 167.
12. M. Lyons, Le Triomphe du livre («Триумф книги»), op. cit., p. 101.
13. Anonyme (Audin-Rouviere), La Cuisiniere bourgeoise («Буржуазная кухарка»),
Paris, 1846, см.: «Avis».
14. E. Sullerot, La Presse feminine («Женская печать»), Paris, 1963.
15. Le Journal illustre (Иллюстрированный журнал), VIII (3—10 апреля 1864 г.).
16. Stendhal, Correspondence (Переписка), изд. Paupe-Cheramy, I—III, Paris, 1908,
III, p. 88-92.
17. L. Queffelec, «Le lecteur du roman comme lectrice. Strategies romanesques et
strategies critiques sous la Monarchic de Juillet» («Читатель романа в ка-
честве читательницы. Стратегии романические и стратегии критичес-
кие в период Июльской монархии»), Romantisme, XVI, 53 (1986), р. 9—21.
18. Процитировано в: D. Altick, The English Common Reader. A Social Histo-ry of
the Mass Reading Public, 1800—1900, Chicago, 1957, p. 112—113.
19. M.-J. Brissot, Le Cabinet de lecture («Кабинет чтения»), 2 vol., Paris, 1843,1, p. 10.
20. Histoire de la France urbaine («История городской Франции»), под ред.
G. Duby, IV, La Ville de I'dge industriel: le cycle haussmannien («Город
промышленного века: османский период»), Paris, 1983, р. 366.
ПРИМЕЧАНИЯ
539
21. А.-М. Thiesse, Le Roman du quotidien. Lecteurs et lectures populates a la Belle Epoque
(«Роман в ежедневной газете. Читатели и популярное чтение в "бельэпок"»),
Paris, 1984, р. 22.
22. Там же; М. Lyons, L. Taska, «If Mother Caught Us Reading!.. Impressions
of the Australian Woman Reading, 1890—1933», Australian Cultural History, XI,
p. 39 - 50.
23. M. Lyons, Le Triomphe du livre («Триумф книги»), op. cit., p. 186.
24. Furet, Ozouf, Lire et ecrire («Читать и писать»), op. cit., II, p. 32—33, 263.
25. M. Contard, Les Ecoles primaires de la France bourgeoise, 1833—1875 («Начальные
школы в буржуазной Франции, 1833—1875»), Toulouse, s.d., р. 162—169.
26. Р. Lorain, Tableau de I'instruction primaire en France («Таблица системы
начального образования во Франции»), Paris, 1837, р. 2—5.
27. A. Prost, Histoire de I'enseignement en France, 1800—1867 («История образования
во Франции, 1800—1867»), Paris, 1968, р. 113.
28. Р. Hom, Education in Rural England, 1800—1914 («Образование в сельской
Англии, 1800—1914»), Dublin, 1978, р. 138.
29. Там же. С. 146.
30. Там же. С. 116.
31. Там же. С. 118.
32. Там же. С. 53.
33. Там же. С. 120
34. Ph. McCann, Popular Education and Socialization in the 19th Century («Народное
образование и социализация в 19 в.»), Londres, 1977, р. 28—30.
35. М. Lyons, Le Triomphe du livre («Триумф книги»), op. cit., p. 95.
36. C. Velay-Vallantin, «Le Miroir des contes: Perrault dans les bibliotheques ble-
ues» («Зеркало сказок: Перро — в серии "Голубая библиотека"»), dans
R. Chartier (под ред.), Les Usages de I'imprime («Использование печат-
ных изданий»), Paris, 1987, р. 168.
37. J. М. Ellis, One Fairy Story Too Many. The Brothers Grimm and Their Tales, Chicago,
1985, p. 193.
38. S. Le Men, Abecedaires d figures au XIXе siecle («Букварь с картинками
в XIX в.»), Paris, 1984.
39. Magasin d’education et de recreation («Образовательный и развлекатель-
ный иллюстрированный журнал»), I—IV (1865—1866), р. 371.
40. I. Jan, «Children's Literature and Bourgeois Society since 1860», Yale French Stud-
ies, XLIII (1969), p. 57- 72.
41. J. Hassenforder, Developpement compare des bibliotheques publiques en Fran-ce, en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans la seconde moitie du XIXе siecle (1830—1914)
(«Сравнительный анализ развития публичных библиотек во Франции,
в Великобритании и Соединенных Штатах Америки во второй половине
XIX в.: 1830-1914»), Paris, 1967.
42. Ch. Dickens, Speeches, издано К. J. Fielding, Oxford, 1960, p. 152—154.
43. G. Duveau, La Pensee ouvriere sur I'education pendant la Seconde Republique et le
Second Empire («Рабочая мысль об образовании в период Второй Республики
и Второй Империи»), Paris, 1948, р. 185.
44. A. Perdiguier, Livre du compagnonnage («Книга союза подмастерьев»), Paris, 1857,
I, р. 231 sq.
540
ПРИМЕЧАНИЯ
45. J.-B. Dumay, Memoires d'un militant ouvrier du Creusot (1841 — 1905) («Мемуары
рабочего борца Крезо»), изданы Р. Ponsot, Grenoble, 1976, р. 116—118.
46. R. Belief, «Une bataille culturelle, provinciate et nationale, a propos des bons au-
teurs pour les bibliotheques populaires» («Битва на провинциальном,
национальном и культурном уровнях за хороших авторов для народных
библиотек»), Revue des sciences humaines («Журнал по гуманитарным наукам»),
XXXIV (1969), р. 453 - 473.
47. D. Langewiesche, К. Schonhoven, «Arbeiterbibliotheken» («Рабочие биб-
лиотеки»), op. cit., р. 136.
48. Там же. С. 138.
49. Там же. С. 150-151.
50. М. Lyons, Le Triomphe du livre («Триумф книги»), op. cit., p. 182.
51. D. Langewiesche, K. Schonhoven, «Arbeiterbibliotheken» («Рабочие биб-
лиотеки»), op. cit., p. 163.
52. Там же. С. 167.
53. Categories de livres pretes par les bibliotheques municipales de paris en 1882,
en % (total des prets enregistres: 363 322) (Абонементная книговыдача по
литературным жанрам парижских муниципальных библиотек в 1882 г.,
в % (общее количество выданных книг - 363 322):
История и биография 8
География и путешествия 10
Наука, искусство, образование 11
Поэзия, театр, литературоведение 13,5
Романы 55
Музыка 2,5
= 100
Источник: М. Lyons, Le Triomphe du livre («Триумф книги»), op. cit., p. 190.
54. R. K. Webb, The British Working-Class Reader, 1790—1848. Literacy and Social Ten-
sion, Londres, 1955, p. 22.
55. J. Burnett (под ред.), Useful Toil, Autobiographies of Working People from the 1820s
to the 1920s, Harmondsworth, 1977, p. 231, 308.
56. T. Cooper, The Life of Thomas Cooper, written by Himself, Londres, 1872, 1897, p. 57.
57. J. Baty Goodman (изд.), Victorian Cabinet-Maker: The Memoirs of fames Hopkin-
son, 1819—1894, Londres, 1968, p. 83.
58. W. Thom, Rhymes and Recollections of Handloom Weaver, Londres, 1845, p. 13.
59. J. J. Bezer, «Autobiography of One of the Chartists Rebels of 1848», dans D. Vin-
cent (под ред.), Testaments of Radicalism, Memoirs of Working Class Politicians,
1790-1885, Londres, 1977, p. 157.
60. M. Gorki, Mes universites («Мои университеты»), Paris, 1960, p. 29.
61. Там же. С. 93.
62. J. W. Tibble, A. Tibble (изд.), The Prose of John Clare, including the Autobiography,
1793-1824, Londres, 1951, p. 32.
63. W. E. Adams, Memoirs of a Social Atom, 2 vol., Londres, 1903, I, p. 44 —45.
64. W. Aitken, «Remembrances and the Struggles of a Working Man for Bread and
Liberty», Ashton-under-Lyne News, 25 septembre 1869, p. 3b.
65. D. Vincent, Bread, Knowledge and Freedom. A Study of 19th Century Working-Class
Autobiography, Londres, 1981, p. 124.
ПРИМЕЧАНИЯ
541
66. D. D. Hall, «The Uses of Literacy in New England, 1600—1850», в: W. L. Joyce
и др. Printing and Society in Early America, Worcester, USA, 1983; R. Engelsing,
Der Burger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland, 1500—1800 («Бюргер как
читатель. История читателей в Германии, 1500—1800»), Stuttgart, 1974.
67. J. Buckley (псевдоним), A Village Politician: The Life Story of John Buckley, издано
J.B. Buckmaster, Londres, 1987, p. 2.
68. G. L. Craik, The Pursuit of Knowledge under Difficulties, Londres, 1876, гл. 21,
c. 248 - 249.
69. Ch. Shaw, When I was a Child, Sussex, 1977, p. 220 (факсимиле анонимного
издания 1903 г.).
70. Th. Carter, Memoirs of a Working Man, Londres, 1845, p. 186, 191.
71. M. Nadaud, Les Memoires de Leonard, ancien garden macon, Paris, s.d., p. 96.
72. J. Dawson Bum, The Autobiography of a Beggar-Boy, издано D. Vincent, Londres,
1978 (первое издание 1855 г.), p. 93—94.
73. Adams, Memoirs («Мемуары»), op. cit., p. 164.
74. A. Perdiguier, Memoires d'un compagnon («Мемуары компаньона»), Moulins,
1914, p. 137.
75. Th. Carter, Memoirs («Мемуары»), op. cit., p. 135.
76. Процитировано в: Craik, The Pursuit..., op. cit., p. 248—249.
77. S. Bamford, Early Days, издано W. H. Chaloner, Londres, 1967 (первое издание
1848-1849 гг.), p. 192-194.
78. W. Cobbett, The Autobiography of William Cobbett («Автобиография Уильяма
Коббетта»), издана W. Reitzel, Londres, 1967, p. 27.
79. E. Elliott, «Autobiography» («Автобиография»), The Athenaeum, I, № 1159
(12 января 1850 г.), p. 48.
80. S. Bamford, Early Days, op. cit., p. 210.
81. R. Owen, The Life of Robert Owen, Writen by Himself, with Selection from His
Writings and Correspondence, I, Londres, 1857, p. 14.
82. Thiesse, Le Roman du quotidien («Роман в ежедневной газете»), op. cit., p. 19.
83. H. Mayhew, London Labour and the London Poor, издано J. D. Rosenberg, 4 vol.,
New York, 1968, 1, p. 25.
84. F. Kilvert, Kilvert's Diary. Selection, издано W. Plomer, 3 vol., Londres, 1977, I,
p. 301-302.
ГЛАВА 13
1. R. Pattison, On Literacy. The Politics of the Word fom Homer to the Age of Rock,
Oxford, 1984, p. 202.
2. R. Barthes, A. Compagnon, Lettura в: Enciclopedia Einaudi, VIII, Turin, 1979,
p. 176—199; цитата — на с. 198.
3. R. Luperini, «Tendenze attuali della critica in Italia», Belfagor, XLVI (1991),
p. 365 — 376; цитата — на с. 376.
4. Эти данные взяты из: A. Petrucci, Scrivere е по. Politiche della scrittura е anal-
fabetismo nel mondo di oggi, Rome, 1989, p. 45—81.
5. См. также: R. Barthes, A. Compagnon, Lettura, op. cit., p. 178.
6. M. Foucault, L’Ordre du discours, Paris, 1970.
542
ПРИМЕЧАНИЯ
7. Определение приводится по: Lessico universale italiano, IV, Rome, 1970, p. 99.
8. M. Foucault, L'Ordre du discours, op. cit., p. 10—11.
9. Там же. С. 38.
10. Guida alia formazione di una biblioteca pubblica e privata. Catalogo sistematico
e discografia. Con un commento di Delia Cantimori, una lettera di Salvatore
Accardo e una documentazione sull’esperienza di Dogliani, Turin, 1969 (существует и
другое издание, актуализированное Р. Temi, I.Temi и Р. Innocenti, Turin, 1981).
11. Там же. С. 2.
12. Там же. С. 551.
13. Enciclopedia europea, XII, Bibliografia. Repertorio. Statistiche, Milan, 1984 (Bibli-
ographic p. 7—928).
14. R. Pattison, On Literacy, op. cit., p. 201.
15. Там же. С. 207.
16. См.: F. Colombo, ll destine del libro e altri destini, Turin, 1990, p. 11—34.
Обсуждаемая идея изложена на с. 94. Мои сведения о положении дел
в области американского издания получены на основе анализа Publishers
Weekly, The International New Magazine of Book Publishing за 1990 г. и по апрель
1991 г. Нью-Йорк.
17. См.: G. Ambrosino в: ll Manifesto, 30 апреля 1991, с. 10.
18. См.: R. Ceserani в: /I Manifesto, 26 апреля 1991, с. 10.
19. Е. Montale, «I Libri nello scaffale» в: Auto-da-fe. Cronache in due tempi, Milan,
1966, p. 96—100; цитата от 24 октября 1961 г. — на с. 96.
20. Е. Long, «Reading Groups and the Postmodem Crisis of Cultural Authority»,
Cultural Studies, I (1987), p. 306 — 327. О новых способах чтения, инди-
видуалистических и анархических, см. также выводы: А.-М. Charti₽-
J. Hebrard, Discours sur la lecture (1880—1980), Paris, 1989, p. 507—jiu.
О современном издательском деле в Москве см.: С. Basoli, «Nuova editoria а
Mosca», Belfagor, XLVI (1991), p. 667- 680.
21. Cm.: R. Zanobi, «Dewey sugli scaffali», Biblioteche oggi, V (1987), I, p. 84— 88.
22. P. Innocenti, La pratica del leggere, Milan, 1989 (Quademi di Biblioteche oggi, 4),
p. 12.
23. M. L. De Fleur, «How Massive are Mass-Media?», Syracuse Sholars, X (1990),
p. 14—34. C 1963 г. английский исследователь Ronald Morris мог утверждать,
что чтение печатных изданий, по сравнению с использованием телевидения
и других средств коммуникации, не связанных с письменной культурой, стало
утрачивать свои позиции, особенно в последние 10 лет, см.: R. Morris, Success
and Failure in Learning to Read, 3-е издание D. McKay, Londres, 1973, p. 25.
24. P. Innocenti, La pratica, op. cit., p. 219—315.
25. Там же. С. 271, прим. 61.
26. F. Marini-Mariucci, Il testo, il lettore. Analisi teorico-pratica della comprensione,
Rome, 1979, p. 49 (цит. по P. Innocenti, La pratica, op. cit., p. 152).
27. H. M. Enzensberger, «Una modesta proposta per difendere la gioventii dalle opere
di poesia» в: Sulla piccolo borghesia. Un capriccio «sociologico» seguito da altri saggi,
Milan, 1983, p. 15—26. Цитата — на с. 20.
28. См. выше: R. Chartier, Les Origines culturelies de la Revolution franfaise
(«Культурные предпосылки Французской революции»), Paris, 1990, р. 73—
80, 98-102
ОГЛАВЛЕНИЕ
Закат Европы, или Научите людей читать! ............................5
От научного редактора...............................................6
Кавалло Г., Шартье Р.
Введение ...........................................................9
Свенбро Й.
Глава I. Древняя Греция в эпоху архаики и классический период:
Возникновение практики «безмолвного чтения» —
чтения про себя ...................................................53
Кавалло Г.
Глава 2. От свитка к кодексу.......................................89
Паркс М.
Глава 3. Читать, переписывать и толковать тексты:
Монастырские практики раннего Средневековья...................... 122
Амесс Ж.
Глава 4. Схоластическая модель чтения............................ 138
Зенгер П.
Глава 5. Чтение в позднем Средневековье.......................... 161
Бонфий Р.
Глава 6. Чтение в средневековых еврейских обшинах
Западной Европы ................................................. 190
Графтон Э.
Глава 7. Гуманист за чтением .....................................225
Жильмон Ж. Ф.
Глава 8. Реформация и чтение .................................... 266
Жюлиа Д.
Глава 9. Чтение и Контрреформация ................................297
Шартье Р.
Глава 10. «Народные» читатели и их чтение
от эпохи Возрождения до эпохи Классицизма ........................339
Виттман Р.
Глава 11. Революция чтения в конце XVIII в.? .....................359
Лайонс М.
Глава 12. Новые читатели в XIX в.: женщины, дети, рабочие ........399
Петруччи А.
Глава 13. Читать, чтобы читать: чтение в будущем ................ 442
Примечания ...................................................... 473
Серия «Библиотечный бестселлер»
Редакторы-составители: Г. Кавалло, Р. Шартье
История чтения в западном мире
от Античности до наших дней
Главный редактор проекта Л. А. Казаченкова
Редактор Е. Елочкина
Корректор С. Лавренова
Оригинал-макет и верстка Г. Задыхиной
Дизайн обложки А. Матросова
Подписано в печать 20.04.2008.
Формат 60 х 90 '/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Newton». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 34,0. Тираж 2000 экз.
Заказ № 3784.
«Издательство ФАИР»
109428, Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93