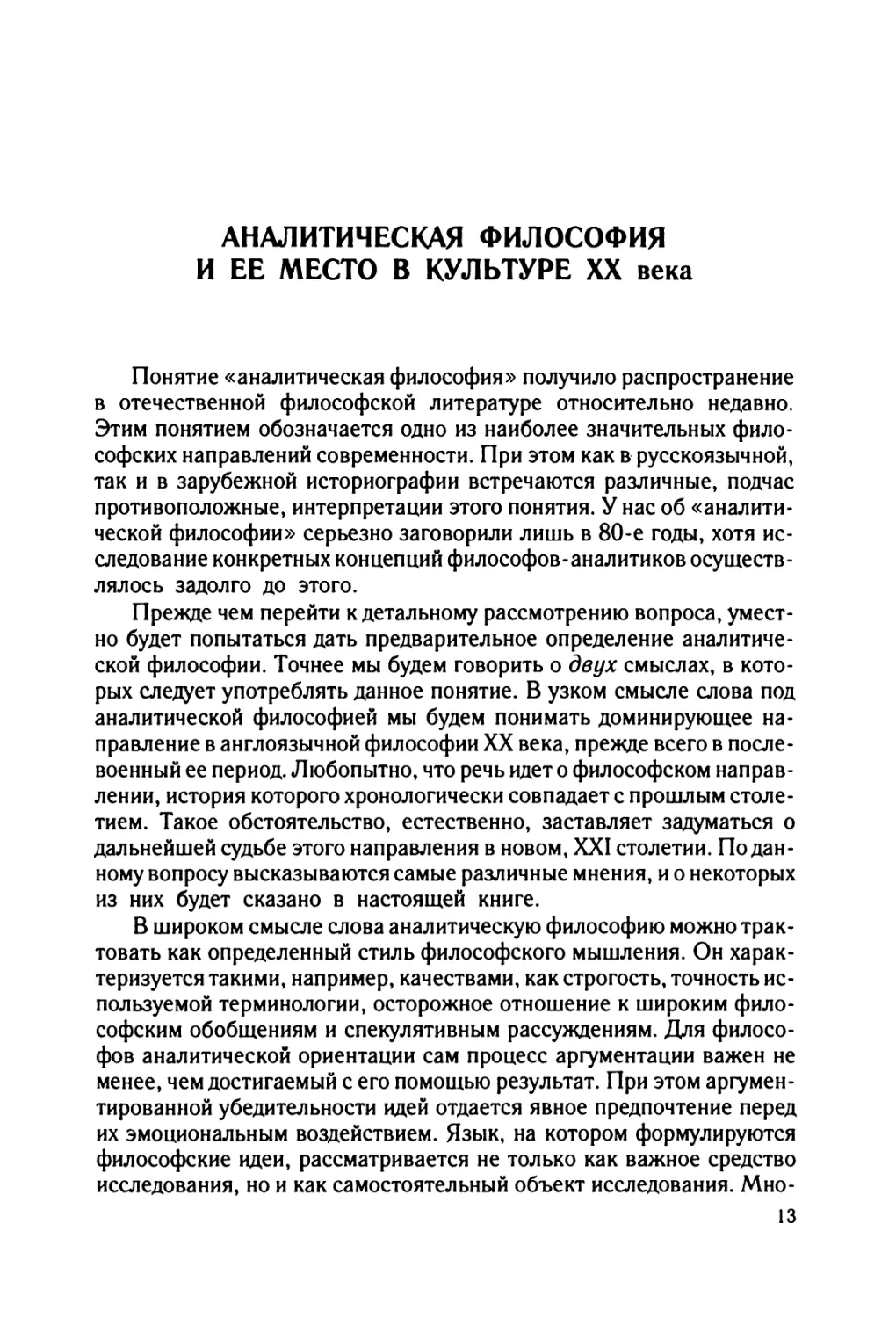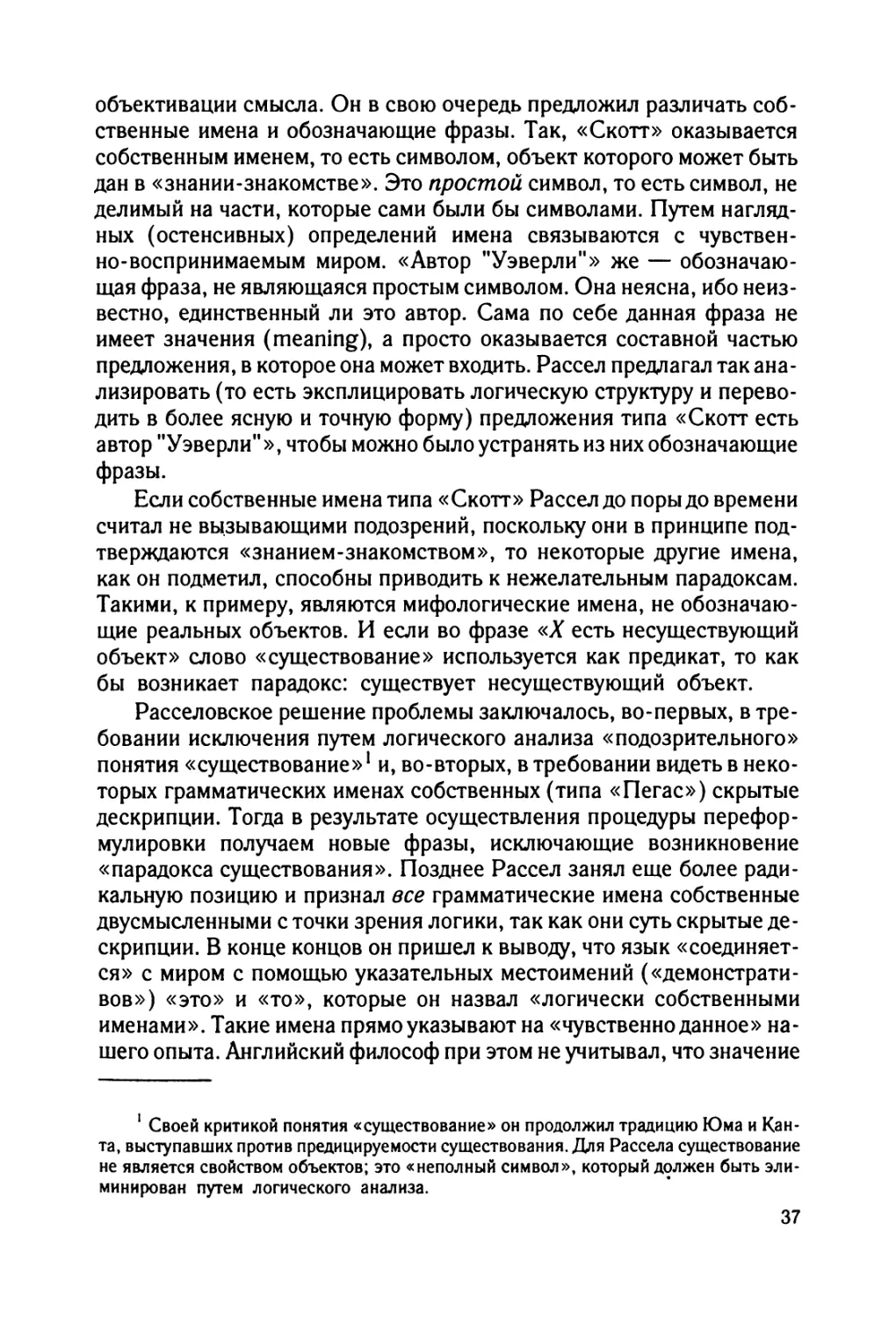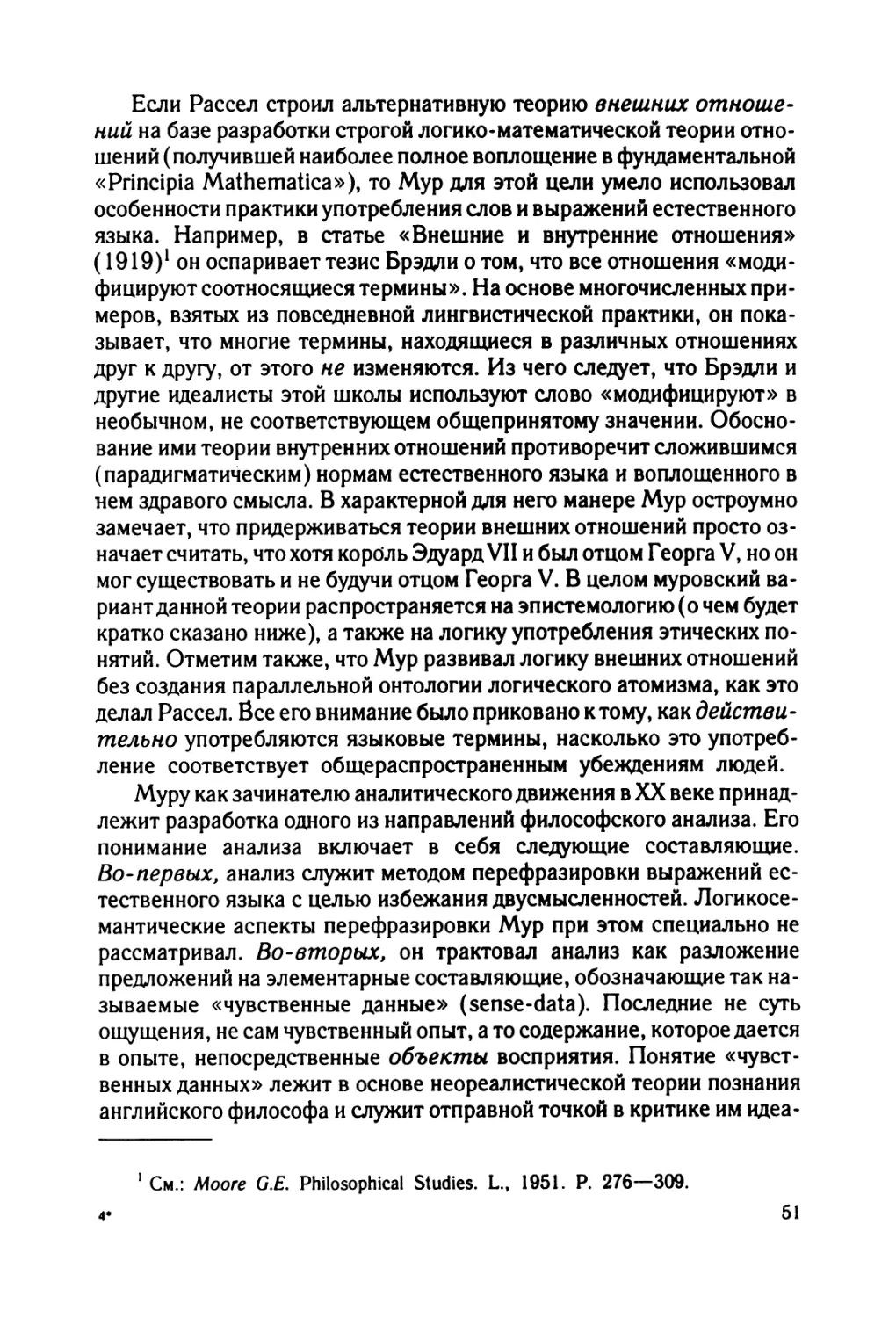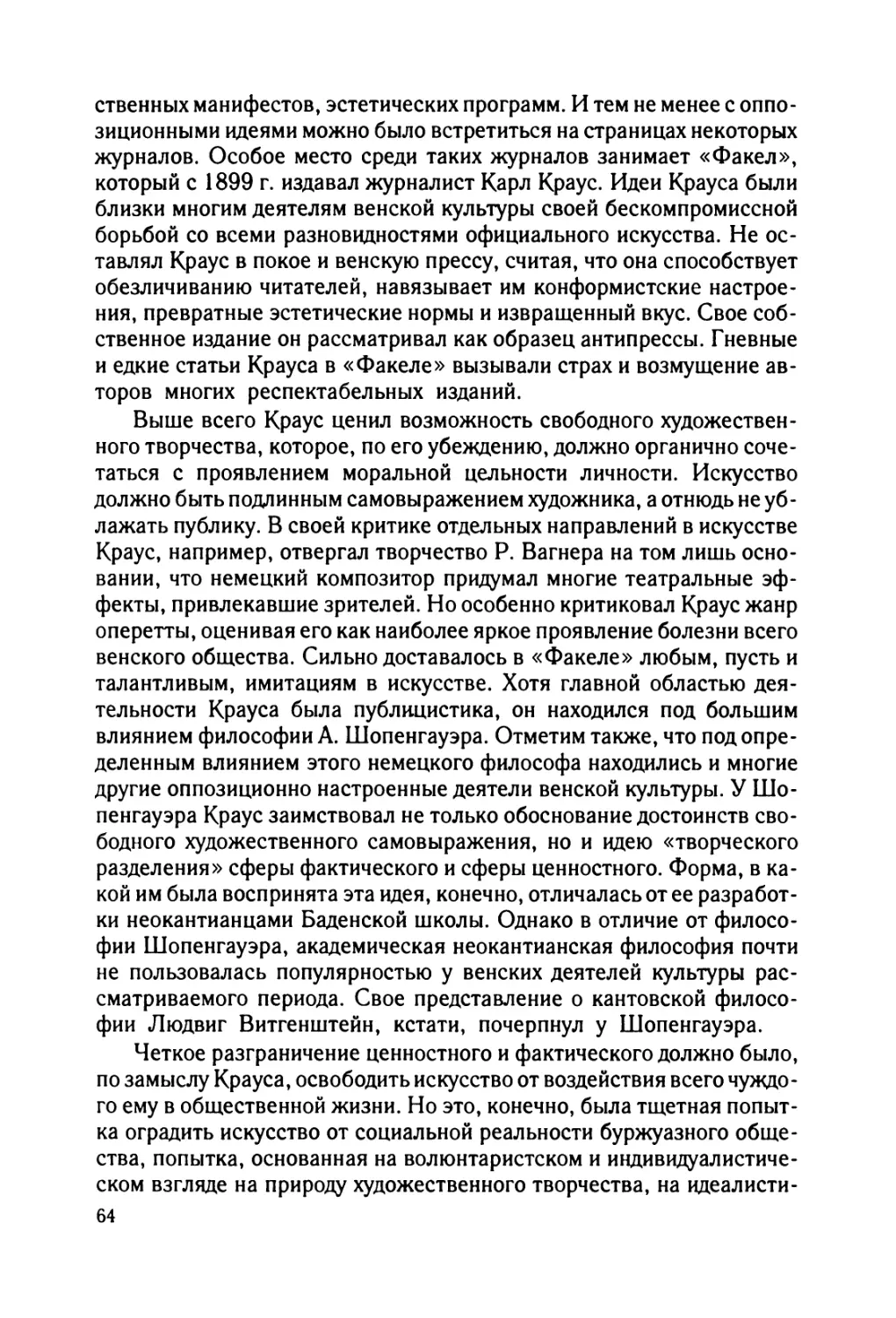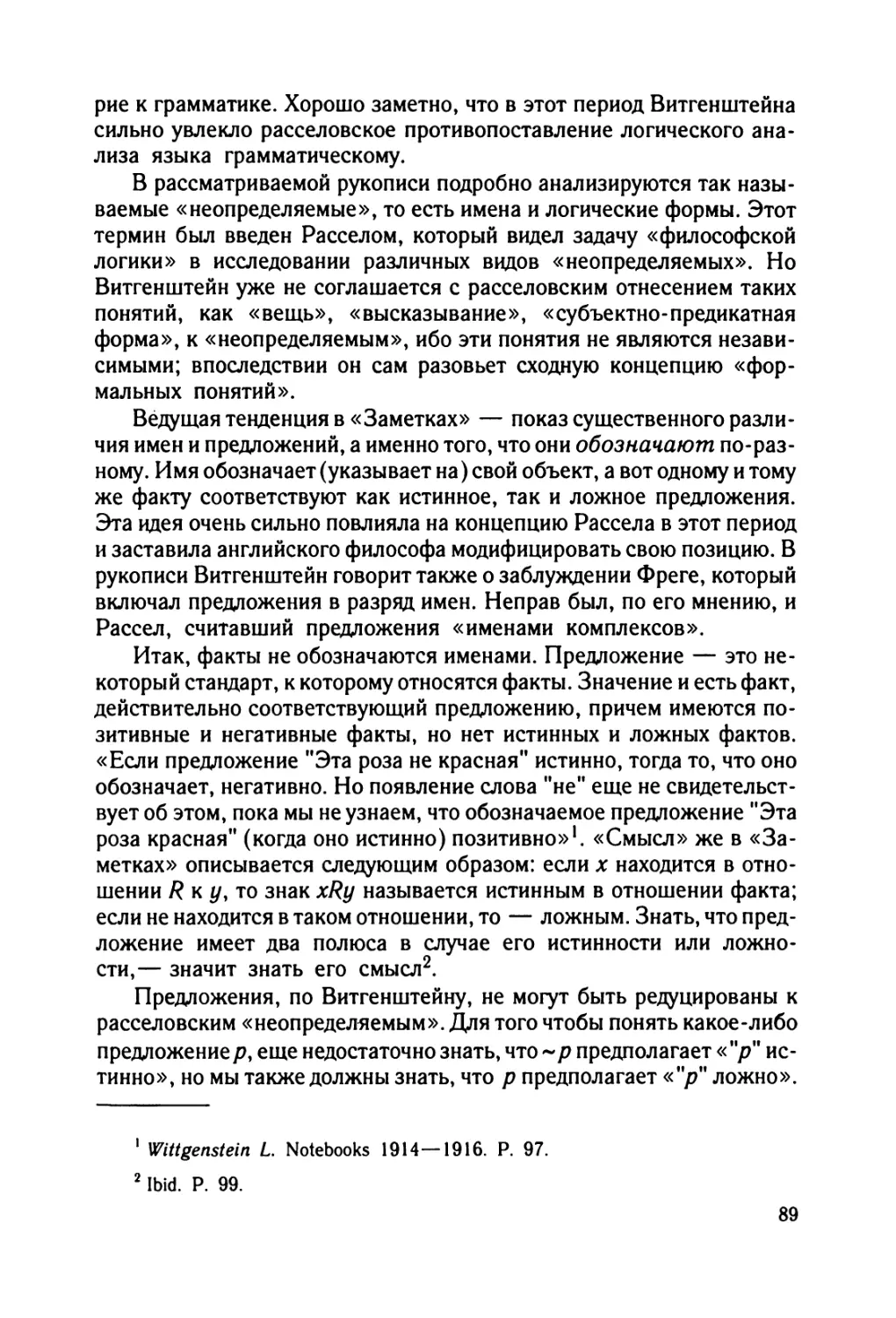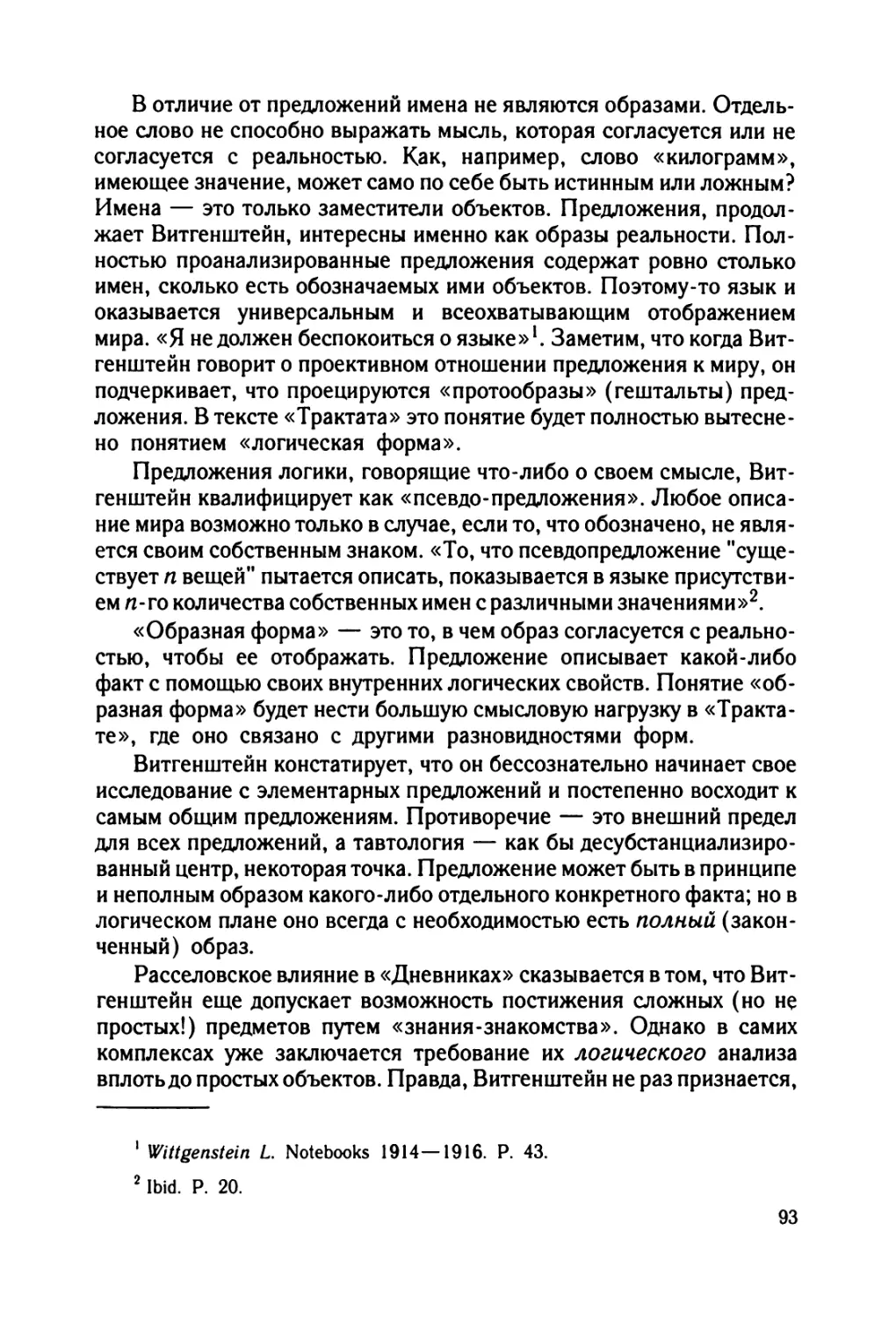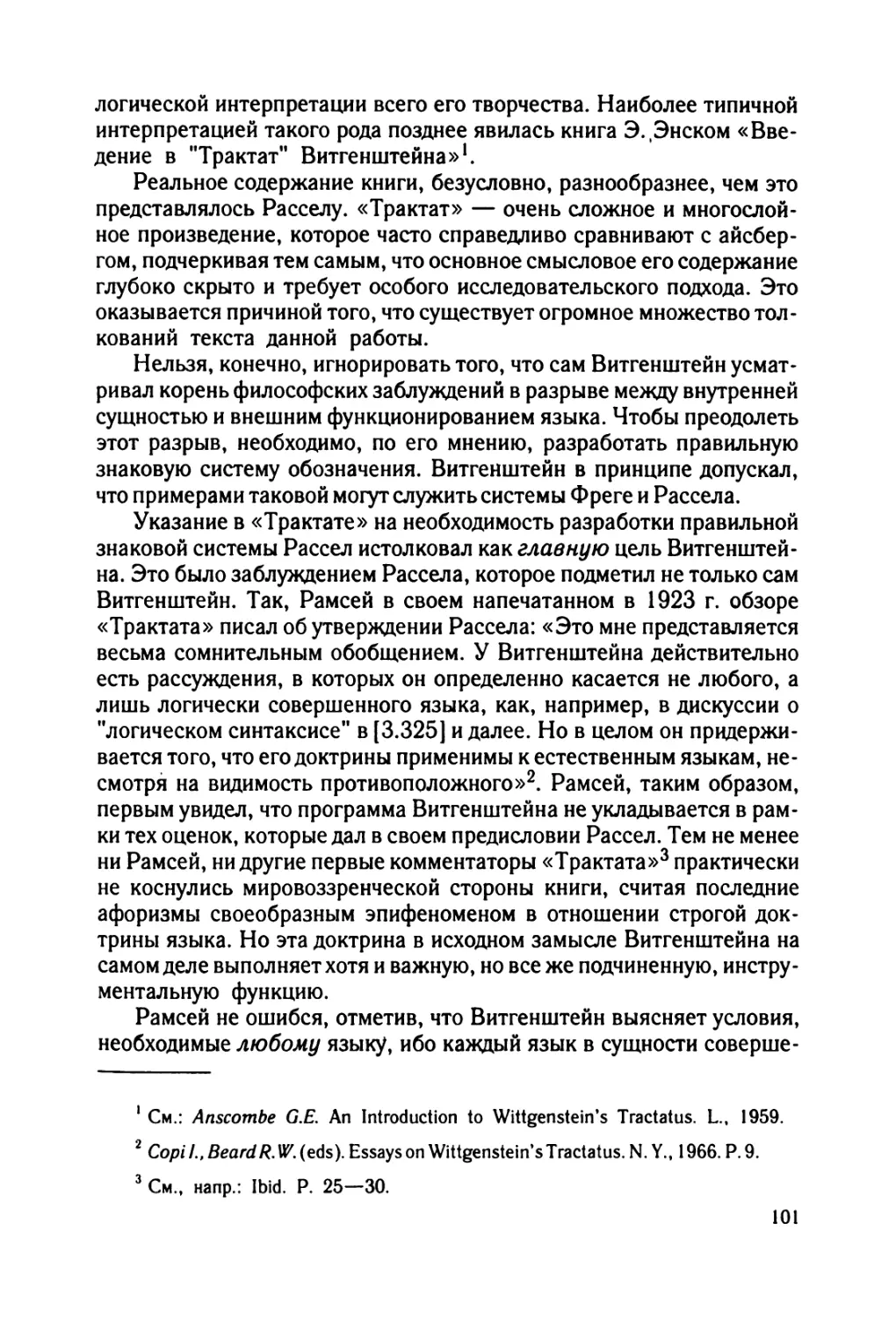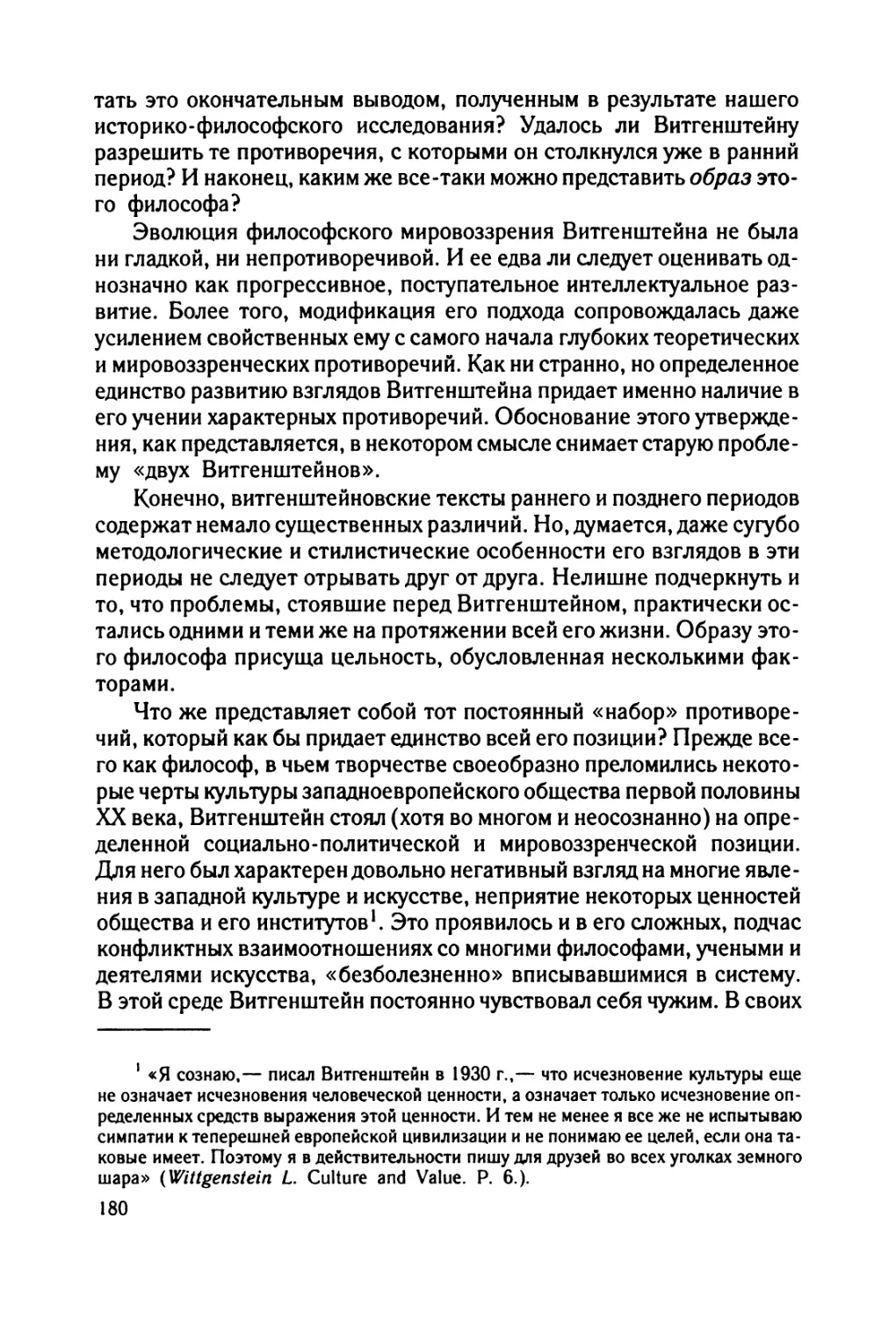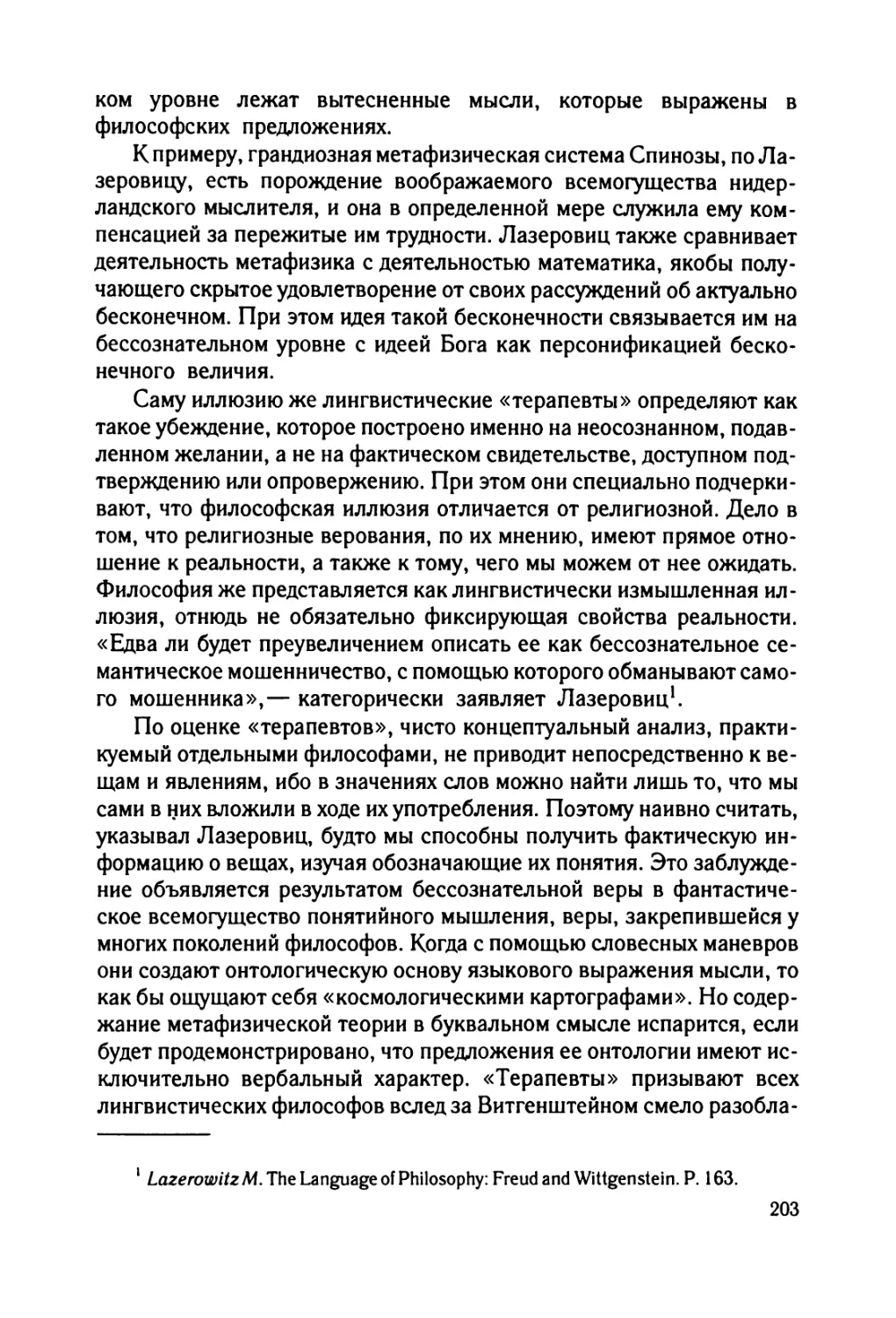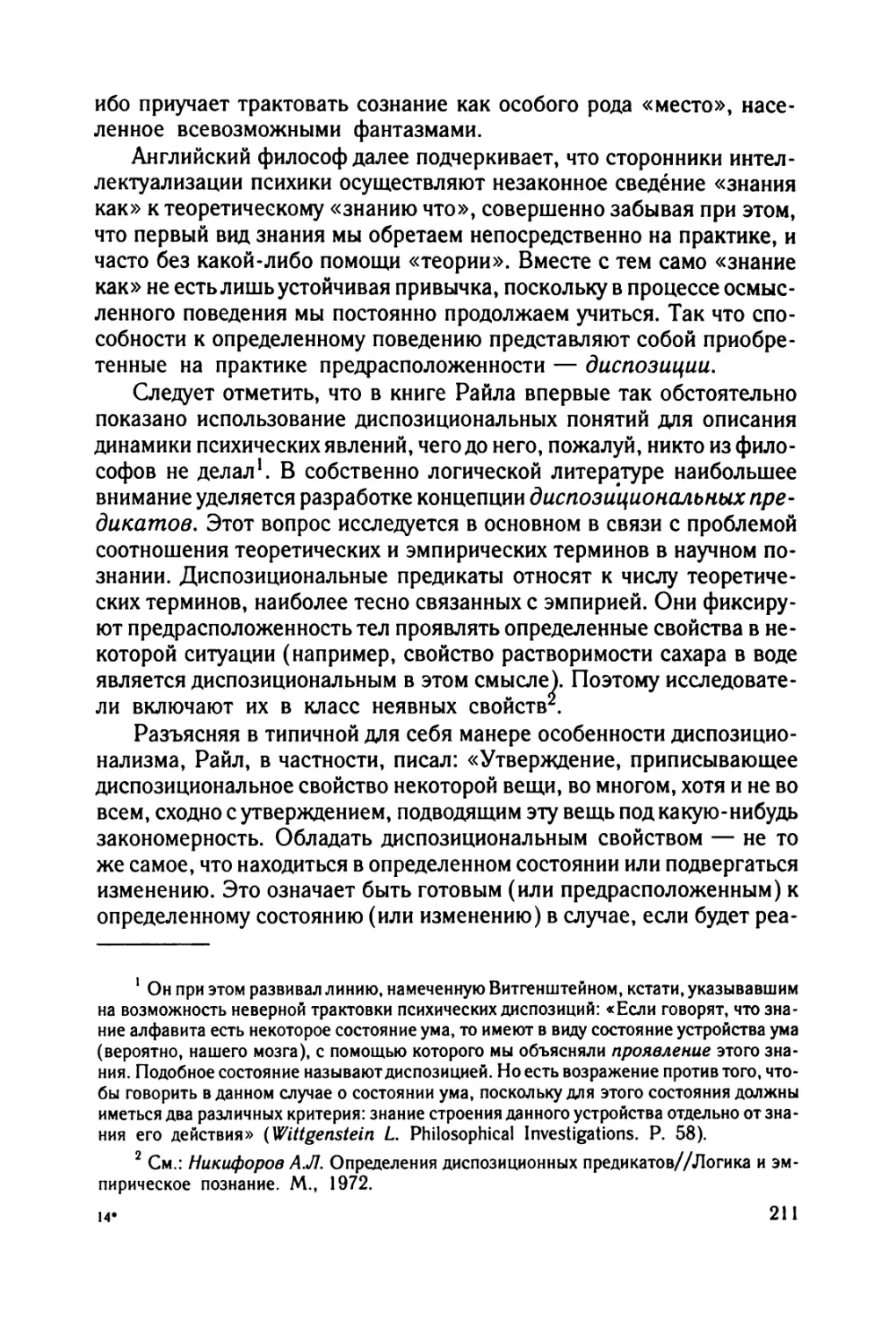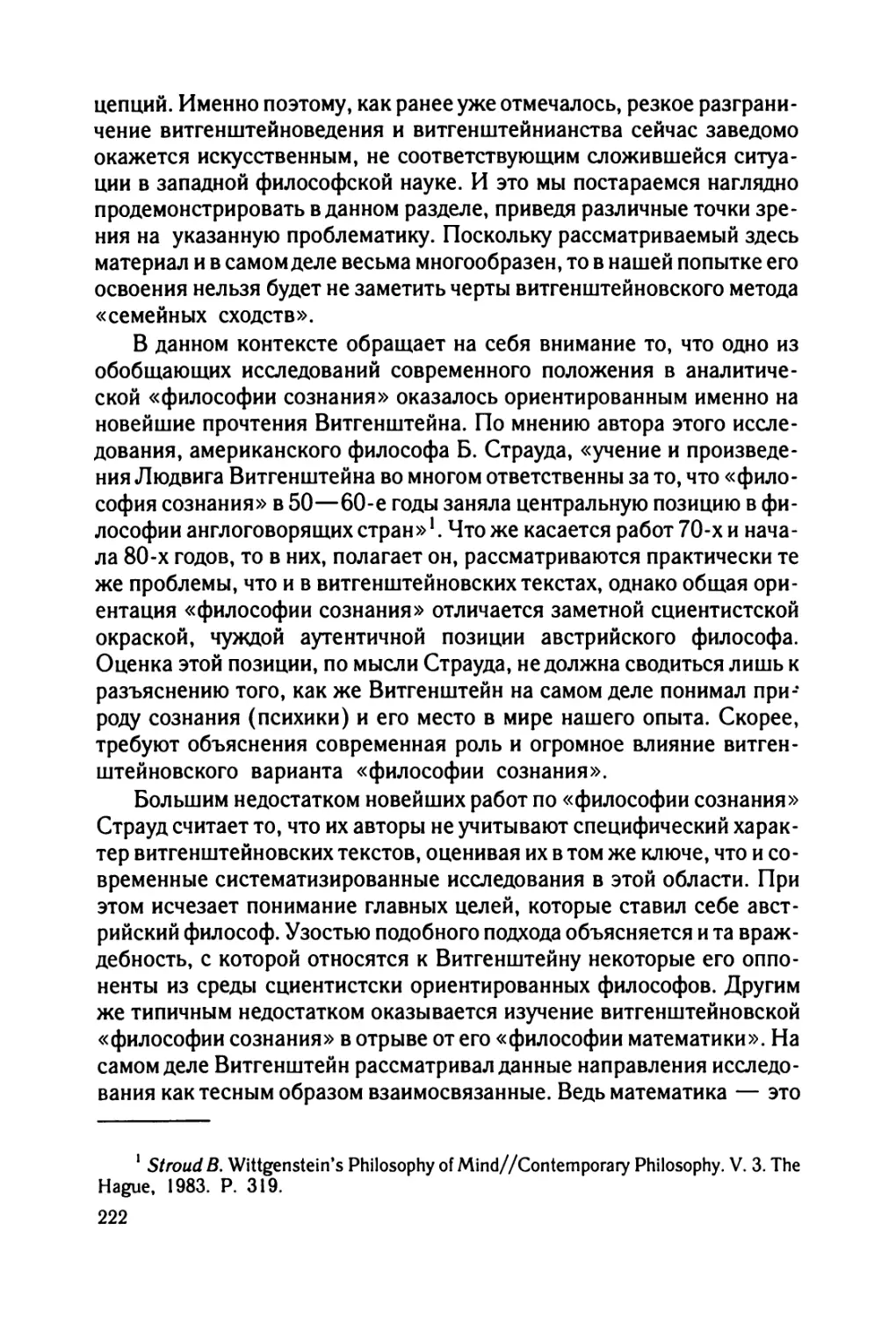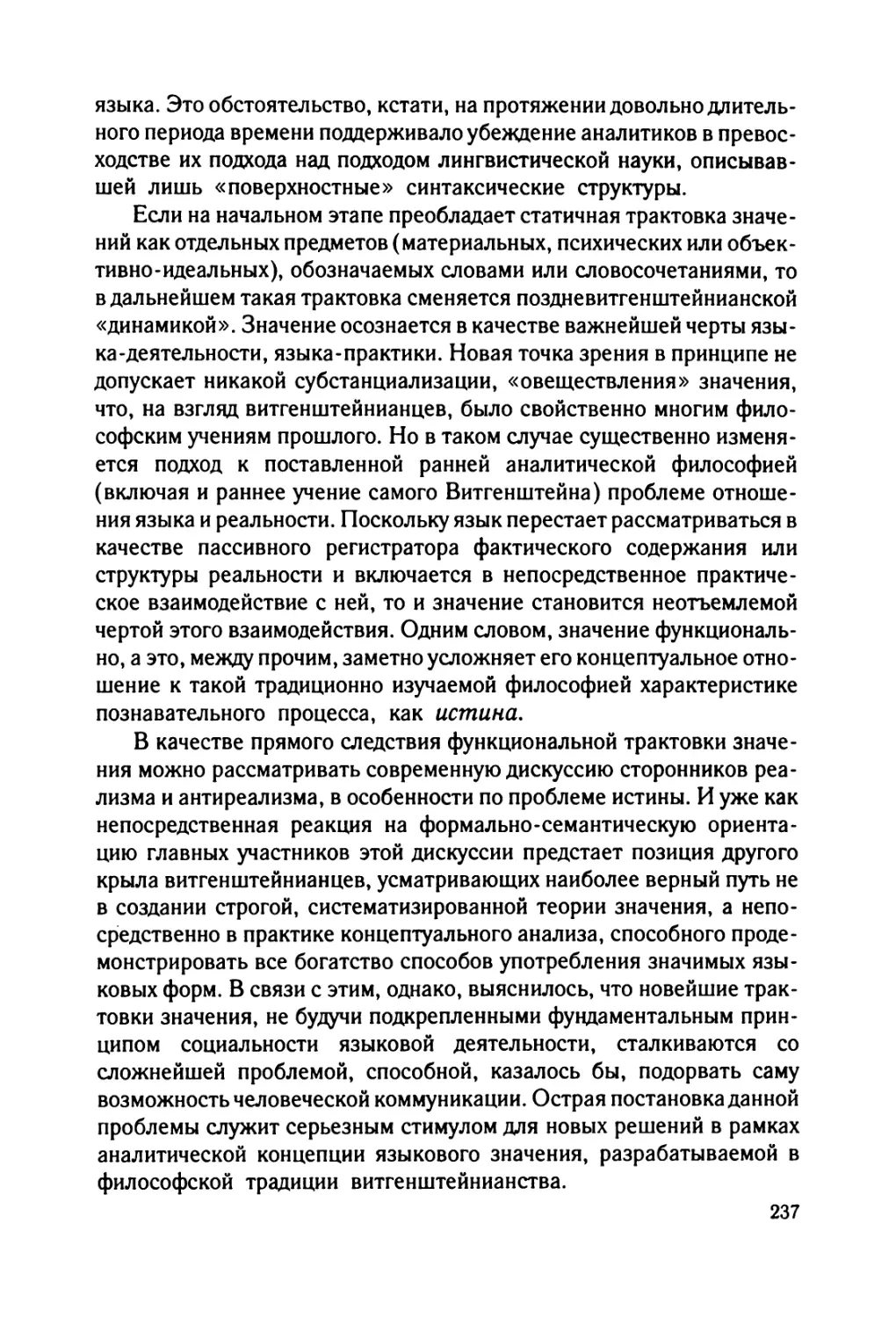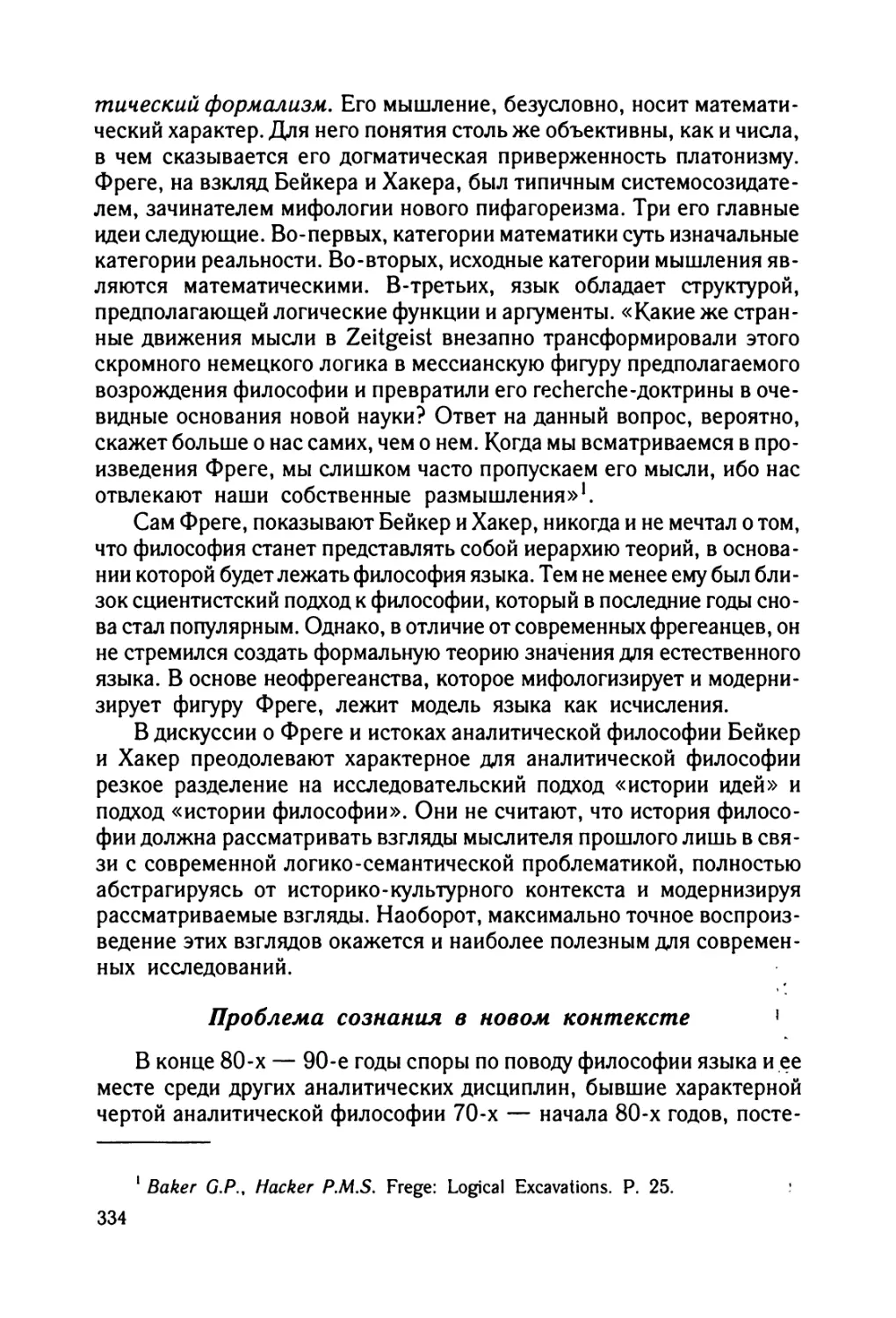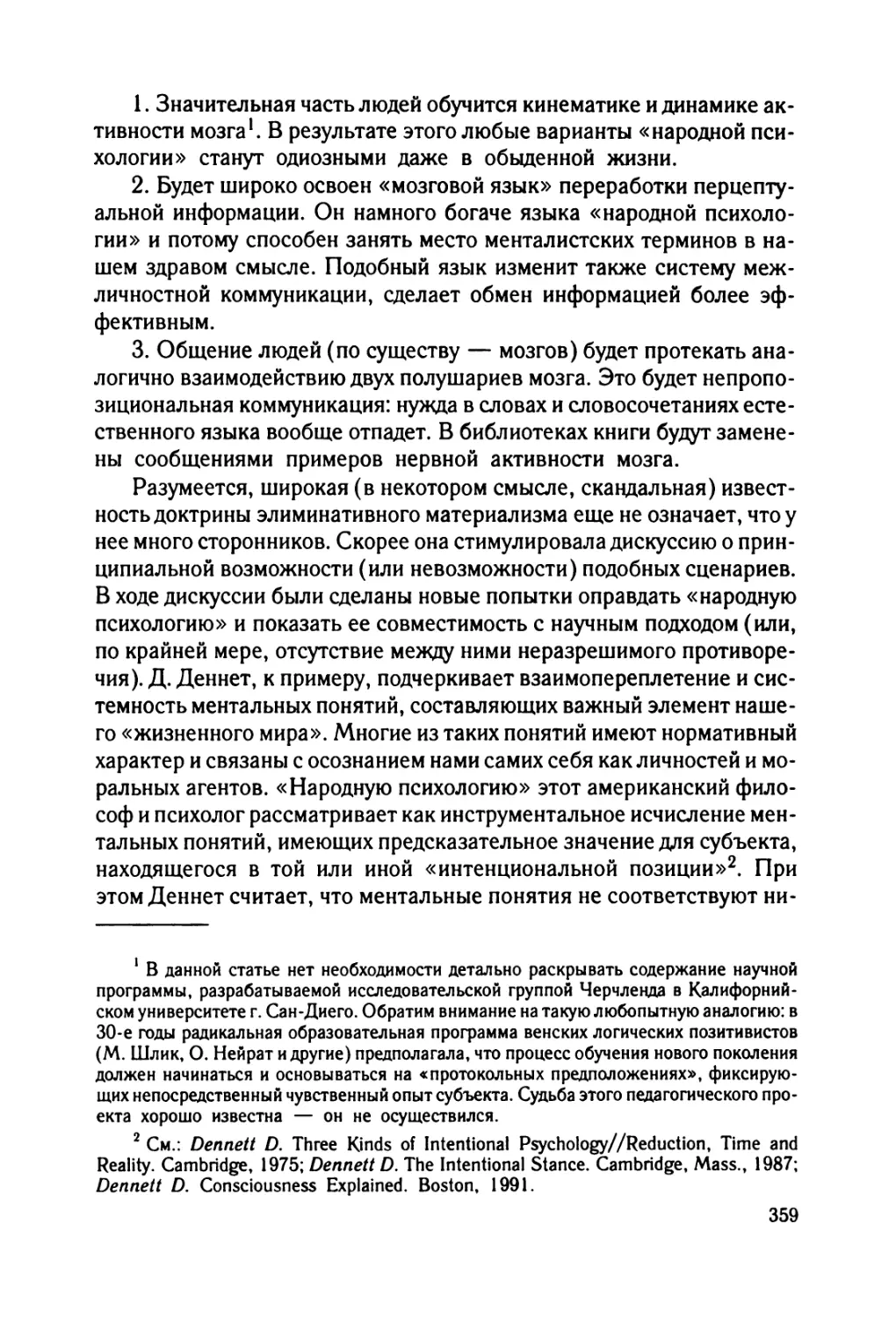Теги: философия психология гносеология (теория познания) история философии
ISBN: 5-06-005116-1
Год: 2006
Текст
АЛЕКСАНДР ФЕОДОСИЕВИЧ
ГРЯЗНОВ
1948-2001
Философский анализ языка
дает возможность вскрыть
оставшуюся незамеченной проблему
или же, напротив, полностью рассеять
туман значительности, окружавший
ту или иную общепризнанную позицию.
А.Ф. Грязнов
КЛАССИКА
ФИЛОСОФСКОЙ
МЫСЛИ
А.Ф.Грязнов
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ
Составление и редакция
A.A. Лавровой
,1,1,1,11 ТЛ
I ITTTT
1 J ■"■_
J_J_JLLQ
I I I
Москва
«Высшая школа»
2006
УДК 1/14
ББК 87.22
Г 75
Рецензенты:
кафедра современных проблем философии философского факультета РГГУ
(зав. кафедрой доктор филос. наук, проф. В. П. Филатов); доктор филос. наук,
проф. A.M. Руткевич (Институт философии РАН)
Грязное, А.Ф.
Г 75 Аналитическая философия/А.Ф. Грязнов. — М.: Высшая
школа, 2006.— 375 с.— (Классика философской мысли).
ISBN 5-06-005116-1
В книге заслуженного профессора Московского государственного универ-
ситета А.Ф. Грязнова (1948—2001 ) всесторонне освещается история аналити-
ческого движения на различных его эта пах (от Б. Рассела, Дж.Э. Мура и Л. Вит-
генштейна до Дж. Сёрла, Д. Деннета и С. Приста), его современное состояние,
специфика, проблемное поле, методология, а также соотношение с другими фи-
лософскими движениями. Наиболее подробно рассматривается философия соз-
нания, тем самым открывая для читателя новые и перспективные научные на-
правления.
Для студентов вузов, философов, логиков, лингвистов, психологов,
всех интересующихся проблемой искусственного интеллекта и междис-
циплинарными исследованиями.
УДК 1/14
ББК 87.22
ISBN 5-06-0051 16-1 © ФГУП «Издательство «Высшая школа», 2006
Оригинал-макет данного издания является собственностью издательства «Выс-
шая школа», и его репродуцирование (воспроизведение) любым способом без согласия
издательства запрещается.
ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГЕ
Начало XXI века оказалось благоприятным для философии во
всем мире. Невиданная интеграция человечества на основе новейших
информационных систем в наши дни сталкивает различные культуры,
заставляя людей решать сложнейшие коммуникационные проблемы,
нащупывая универсальные ценности, но при этом не теряя собствен-
ной идентичности. Успешное решение этих задач невозможно бездея-
тельного руководства со стороны философии. Философы всегда отли-
чались способностью «панорамного» мышления и умением увидеть в
разнообразии явлений сущностное единство.
Но философский бум, охвативший Америку и Европу, имеет и не-
гативные стороны. Публике все труднее ориентироваться в массе фи-
лософских книг, все больше шансы упустить что-то действительно
важное, потратив время на чтение слабых работ. Особенно остро эта
ситуация ощущается в России. Ручейки качественной литературы за-
теряны в потоках симуляций философских текстов. Недуги нашей фи-
лософии обусловлены историческими причинами. В коммунистиче-
ские времена философия преподавалась с марксистских позиций. Она
рассматривалась в качестве идеологии, тем самым людям внушалась
мысль, что философские системы выражают устремления каких-то
социальных групп и не опираются на общезначимые истины. Рацио-
нальные доказательства и аргументы, без которых не существует фи-
лософии, объявлялись прикрытием, маскировкой классовых интере-
сов. Такой подаод убивал самую суть философствования. После краха
марксизма в нашей стране это наследие стало питательной почвой для
роста постмодернистских настроений и появления откровенно марги-
нальных «самобытных» систем. Эта «самобытность», изоляционизм
остается главной проблемой российской философии. Он тоже связан
с марксистским прошлым, когда «буржуазная философия» объявля-
лась заведомо неприемлемой. Такая практика никак не стимулирова-
ла ее изучение и не поощряла попытки заявить о себе за рубежом. В
наши дни ситуация выглядит просто угрожающей. Несмотря на нали-
чие мощных интеллектуальных центров, таких, как философский фа-
культет МГУ или Институт философии РАН, наши философы практи-
5
чески неизвестны на Западе. Это в значительной мере обесценивает
их труды: не встраиваясь в мировой философский процесс, мы словно
работаем вхолостую.
Но положение, конечно, не безнадежно. В последнее время наме-
тились и некоторые позитивные тенденции. Отечественные филосо-
фы все активнее участвуют в международных форумах, расширяются
личные контакты. Однако для глобального изменения ситуации тре-
буются более решительные и планомерные действия, основанные на
внедрении определенных технологий. Без конкретных технологий все
всегда остается на уровне благих пожеланий. А с ними самые сложные
проблемы могут оказаться на удивление простыми. К примеру, разба-
заривание оригинальных разработок российских философов было бы
сокращено, а то и вовсе остановлено при принятии обязательного
требования о наличии публикаций в западных журналах при выходе на
защитудокторских диссертаций. Другим позитивным фактором может
стать осмысленная книгоиздательская политика государства, публи-
кация работ тех авторов, которые составляют гордость отечественной
мысли и широкое изучение произведений которых может значительно
укрепить российскую философию.
Отрадно, что такие книгоиздательские программы уже начали
осуществляться. Сборник, который лежит перед читателем, нагляд-
ное тому подтверждение. Автор вошедших в него текстов, Александр
Феодосиевич Грязнов ( 1948—2001 ), был одним из самых ярких пред-
ставителей отечественной философии конца XX века. Значение его
идей определяется ролью, которую он играл в нашем философском
сообществе. Эта роль может быть передана словами «просветитель-
ство» и «посредничество между Западом и Россией». На Западе он
защищал достоинства отечественной философии, в России пропаган-
дировал идеи современных европейских и американских мыслителей.
Его деятельность способствовала интеграции российской и мировой
философии. Иными словами, Грязнов делал именно то, что настоя-
тельно необходимо делать всей нашей гуманитарной науке. Этот фи-
зически не очень крепкий человек был живым символом оздоровле-
ния российской философской традиции.
Ясно, что такую роль может сыграть не всякий, для этого требуют-
ся определенные жизненные предпосылки. А.Ф. Грязнов родился в
семье дипломата. Он с детства привык к западной культуре и в совер-
шенстве овладел английским языком. Впоследствии это помогало ему
налаживать контакты с западными мыслителями. Но вначале, посту-
пив на философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, он испы-
тал влияние ряда отечественных философов и историков мысли, в том
числе В.Ф. Асмуса, И.С. Нарского, A.C. Богомолова. В 1971 г.
6
А.Ф. Грязнов окончил философский факультет и был оставлен на ка-
федре истории зарубежной философии, в то время одной из самых
«свободомыслящих» на философском факультете. Сотрудники ка-
федры публиковали книги, в которых почти не чувствовалось идеоло-
гического давления и нередко выезжали на Запад. Все это удалось и
Грязнову. В 1979 г., после защиты кандидатской диссертации, у него
вышла монография «Философия Шотландской школы». Это была но-
ваторская работа, в которой впервые в отечественной историко-фи-
лософской литературе были детально проанализированы взгляды
шотландского философа XVIII века Т. Рида, пытавшегося противо-
стоять юмовскому скептицизму с позиций «здравого смысла». Уже в
этой ранней книге А.Ф. Грязнов продемонстрировал способность ясно
излагать материал, аналитичность и эрудицию — качества, отличав-
шие и его учителей.
Кйига о Риде и его сторонниках Дж. Битти и Д. Стюарте (учения
которых тоже затрагивались в ней) не прошла незамеченной, и, несо-
мненно, одним из ее последствий стало решение отправить Грязнова в
1980 г. на стажировку в Великобританию, где он познакомился с
А. Айером и П. Стросоном. Оба этих мыслителя оставили заметный
след в современной культуре, будучи крупнейшими представителями
аналитической философии, доминировавшей в англоязычном интел-
лектуальном пространстве XX века и ведущей свое происхождение от
учений Г. Фреге, Б. Рассела и Л. Витгенштейна. Интенсивное обще-
ние, в том числе неформальное, с лидерами аналитического движения
предопределило направленность будущих исследований Грязнова,
тем более что аналитическая философия с ее трезвым подходом к ре-
шению философских проблем, стремлением к строгой аргументации и
разоблачению метафизических вымыслов и сама по себе соответство-
вала складу его ума.
Изучение аналитической философии естественно было начать с ее
истоков. Грязнов решил сделать акцент на самом эксцентричном и
влиятельном из «отцов» этой традиции — Витгенштейне. После воз-
вращения в Москву, на философский факультет, где в 1983 г. он полу-
чил должность доцента, он опубликовал монографию «Эволюция фи-
лософских взглядов Л. Витгенштейна», вошедшую в настоящий сбор-
ник. Читатель сам может убедиться, насколько качественно выполне-
на эта работа. Помимо представления интеллектуальной биографии
самого Витгенштейна и анализа его важнейших текстов (в том числе
дневников и других рукописей), в книге дан информативный очерк
взглядов ближайших предшественников австрийского философа,
Фреге и Рассела, а также обозначены основные направления влияния
его идей. Эта тема получила дальнейшее развитие в третьей моногра-
7
фии А.Ф. Грязнова — «Язык и деятельность. Критический анализ
витгенштейнианства», вышедшей в 1991 г. по итогам защиты им док-
торской диссертации, состоявшейся в МГУ в 1990 г.
В «Языке и деятельности», также вошедшей в настоящий сбор-
ник, Грязное выделил три линии влияния идей Витгенштейна — фи-
лософия психологии, теории значения и теории практики. При этом он
подчеркивал, что эти линии не исчерпывают всего богатства направ-
лений поствитгенштейновской аналитической философии. Вполне ес-
тественно поэтому, что в последующие годы он попытался нарисовать
более обобщенную картину современной аналитической мысли. Но
прежде чем сказать об этих попытках, необходимо отметить, что ана-
лиз новейших тенденций англо-американской философии сочетался у
Александра Феодосиевича с исследованием ее предыстории. Возмож-
но, под влиянием П. Стросона, опубликовавшего в 1966 г. моногра-
фию о Канте, в которой показана возможность инкорпорировать кан-
товскую философию в аналитическую традицию, еще в 80-е годы
Грязнов написал ряд статей о Канте, где он рассматривал те аспекты
кантовской философии, которые нашли отклик в аналитической фи-
лософии — так называемую трансцендентальную аргументацию
Канта (восхождение от фактической данности к условиям ее возмож-
ности) и его критику идеализма. Немало времени Грязнов уделял и
другому предшественнику аналитической философии — Юму. Он
был членом Всемирного юмовского общества и подготовил переизда-
ние сочинений Юма на русском языке.
В 1993 г. А.Ф. Грязнов стал профессором кафедры истории зару-
бежной философии философского факультета МГУ. В том же году он
отправился во вторую длительную зарубежную поездку — в США.
Именно она подхлестнула его интерес к последним новинкам в анали-
тической философии и подтолкнула к смелым обобщениям. Они были
представлены в статье 1996 г. «Феномен аналитической философии в
западной культуре XX столетия». По словам самого Грязнова, здесь
систематизированы «основные линии в понимании процедуры анали-
за, предложенные философами аналитической традиции». Первая по
времени из них — «фреге-расселовская», выявляющая глубинные
структуры суждений о мире. Вторая линия, ассоциирующаяся с фигу-
рой Дж.Э. Мура, акцентирует важность естественного языка для про-
яснения человеческих мыслей. Третья связана с философией позднего
Витгенштейна. Ее представители обращают особое внимание на кон-
тексты употребления терминов. Четвертый тип философского анали-
за Грязнов соотносите именем Стросона, который предпринял попыт-
ку возрождения метафизики («дескриптивной метафизики») в рамках
аналитического подхода.
8
Разнообразие методик, по мнению Грязнова, не позволяет гово-
рить об аналитической философии как замкнутой на себя школе. Но
недостаток определенности с избытком компенсируется открытостью
этой философии обогащающим ее внешним влияниям и ее способно-
стью браться за решение самых разных вопросов.
Одним из наиболее важных влияний на аналитическую традицию
за последнее время А.Ф. Грязнов считал воздействие на нее «когни-
тивной науки», возникшей во второй половине XX века. Когнитивная
наука трактует человеческое познание как своего рода вычислитель-
ный процесс и заявляет о возможности строгих исследований в этой
области. Это обстоятельство создавало предпосылки для интеграции
данной дисциплины с аналитической философией и возвращало по-
следнюю к классическим проблемам самопознания.
Неудивительно, что конец XX века прошел под знаком аналитиче-
ской «философии сознания» (philosophy of mind). У многих возникло
ощущение, что вечные проблемы метафизики, вопросы о природе
знания и сознания, соотношении сознания и тела и сущностном уст-
ройстве человеческой субъективности наконец-то могут получить на-
учное решение. Аналитическая философия сознания оказалась мощ-
ным противовесом релятивистским настроениям постмодернистов.
Конечно, это проявилось не сразу. Еще в начале 90-х годов ситуация
выглядела не столь определенной. Александр Феодосиевич был сви-
детелем жесточайшей конкуренции филологических и философских
отделений американских университетов. Филологи, увлеченные идея-
ми главного пророка постмодернизма Ж. Деррида, прямо заявляли о
ненужности кафедр аналитической философии. И, казалось бы, у них
были все шансы взять верх. Ведь аналитические философы, как и
постмодернисты, делали акцент на исследовании языка, но они оказы-
вались в невыгодном положении в споре с профессиональными фило-
логами, вооруженными модными лозунгами постмодернизма, объяв-
лявшего весь мир текстом без начала и конца.
Десять лет, прошедшие с той конфронтации, расставили все по
своим местам. Постмодернисты потерпели поражение. Но чтобы по-
бедить их, аналитикам пришлось пойти на изменение собственной фи-
лософской программы. Еще совсем недавно типичный аналитик вы-
глядел весьма эзотерично: отрешенный от мира виртуоз в какой-ни-
будь частной проблеме, он обрушивал на слушателей сотни логиче-
ских формул и специальных терминов. Таким автору этих строк
запомнился друг Александра Феодосиевича М. МакКинси, стажиро-
вавшийся в Москве в начале 90-х и прочитавший на философском фа-
культете МГУ любопытнейший курс по философии языка. Аналитиче-
ские философы сознания начала XXI века не похожи на МакКинси.
9
Они говорят не о тончайших (и зачастую несуществующих) нюансах
языка, а о реальных проблемах сознания и человеческой природы, об-
ращаются не только к профессионалам, но и к широкой публике, а по
сути — к всеобщему человеческому разуму и здравому смыслу, их
книги становятся бестселлерами и читаются как детективы. Постмо-
дернизм, рассуждавший о всемогуществе массовой культуры, оказал-
ся побитым философией, оснащенной этой самой культурой.
А.Ф. Грязнов чувствовал тенденцию сращивания аналитической
философии с массовой культурой, ее стремление к «актуальности».
Он даже считал, что это приводит к выведению на первый план анали-
тических исследований философии политики, которая вытесняет с
центральных позиций философию сознания. Время, впрочем, показа-
ло, что философия сознания может уживаться с философией полити-
ки. Примером тому служит деятельность крупнейшего философа на-
ших дней (и одного из самых влиятельных людей в мире) С. Пинкера,
доказывающего, что современная философия сознания может стать
базой для решения острых политических вопросов.
Так или иначе, но А.Ф. Грязнов был одним из первых историков
философии в России, который почувствовал масштабность поворота,
происходящего в западном интеллектуальном мире. Его последние
статьи посвящены именно проблемам и перспективам современной
философии сознания. Он пытался систематизировать различные под-
ходы к решению центральной для дискуссий последних лет проблемы
«сознание — тело» и предложить свое понимание ее специфики. Его
не устраивал односторонний редукционистский подход к сознанию,
отождествляющий его с нейронными процессами в мозге, а также
функционализм Д. Деннета, превращающий человека в биологиче-
ского робота, лишенного субъективных состояний. Но и противопо-
ложные установки Дж. Сёрла и Т. Нейгела, гостившего на философ-
ском факультете МГУ по инициативе Грязнова, не вызывали его пол-
ного одобрения. Нейгел и Сёрл решительно заявляют о нередуцируе-
мости человеческой субъективности, но такой радикализм может
привести к игнорированию важных результатов, которые могут быть
получены в рамках других подходов.
Таким образом, в решении проблемы «сознание — тело» надо,
считал Грязнов, искать некую компромиссную, синтетическую пози-
цию. Основой для синтеза, по его мнению, могут стать некоторые идеи
Витгенштейна, интерпретированные британским философом Э. Кен-
ии. Речь идет о винтгенштейновском различении «симптомов» и
«критериев». Симптомы — это состояния, которые, как показывает
опыт, скоррелированы с какими-то другими состояниями. Между
ними нет необходимой сопряженности. Критерии же связаны с этими
10
состояниями дефинитивной, лингвистической связью. К примеру,
воспаление горла — это симптом ангины, но ее критерием является
наличие в гландах определенных микроорганизмов. Перенесение этой
витгенштейновской дистинкции на проблему «сознание — тело» по-
зволяет признать нейронные процессы в мозге всего лишь симптома-
ми ментальных состояний. Что же касается критерия последних, то им
может оказаться внешнее поведение, в том числе вербальное. При
этом критерии не тождественны самим ментальным состояниям. Та-
кое понимание позволяет сохранить значимость нейрофизиологиче-
ских, функционалистских и субъективистских подходов к изучению
сознания, по возможности сочетая их в общей теории.
Ясно, что обозначенная позиция Грязнова не претендует на пол-
ное решение «загадки сознания». Скорее, она имеет дидактическое
значение, помогая наглядно объединять разнородный материал. И эта
дидактическая направленность совсем не случайна. В последние годы
жизни Александр Феодосиевич читал на философском факультете
МГУ спецкурс по философии сознания, который вызывал немалый
интерес у студентов — на него записывались не только те, кто спе-
циализировался по истории зарубежной философии, но и представи-
тели других кафедр. Вообще, лекции Грязнова студенты ценили. Он
читал ясно, без особых эмоций, но очень информативно.
В такой манере изложения отражались не только философские
пристрастия Грязнова, но и природные черты характера этого челове-
ка. Он был не из тех, кто бросается людям в объятия, и отличался
сдержанностью и корректностью. С другой стороны, это был ранимый
человек, и он умел давать отпор обидчикам. Он быстро замечал харак-
терные особенности людей и мог иронично рассуждать о них. Но это
был благородный и порядочный человек, совершенно чуждый интри-
ганству. Коллеги могли всегда рассчитывать на него.
В конце 90-х годов Грязнов серьезно заболел и балансировал на
грани гибели. Он уже не мог в полной мере участвовать в факультет-
ской жизни. Хотя он по-прежнему читал лекции и спецкурсы, он
обычно не присутствовал на заседаниях кафедры и других админист-
ративных мероприятиях (хотя всегда интересовался их результатами
по телефону). Тем не менее он продолжал и даже активизировал науч-
ную работу. Результатом его труда стали ряд статей и перевод важных
книг — «Теорий сознания» С. Приста и «Открывая сознание заново»
Дж. Сёрла. Он хотел написать монографию по философии сознания,
но этим планам не суждено было осуществиться.
Незадолго до смерти Грязнова на кафедре истории зарубежной
философии философского факультета состоялось торжественное за-
седание, которое было посвящено тридцатилетию его педагогической
И
деятельности. С того времени прошло уже несколько лет. Но можно
уверенно говорить, что Александра Феодосиевича не забыли. В конце
2003 г. при поддержке руководства философского факультета МГУ и
Российского гуманитарного научного фонда прошла конференция
«Философия сознания: история и современность», посвященная па-
мяти А.Ф. Грязнова. По итогам этого форума, вызвавшего интерес и
привлекшего лучшие философские умы нашей страны, вышел боль-
шой сборник статей его участников. Уже одно это означает, что Алек-
сандр Феодосиевич трудился ненапрасно. То, о чем думал он, теперь
интересует многих, и этот интерес неуклонно растет, чему способст-
вует и то обстоятельство, что после смерти А.Ф. Грязнова его супруга
A.A. Лаврова передала философскому факультету сотни книг совре-
менных англо-американских философов, составлявших уникальную
личную библиотеку Грязнова, — значимость этого дара трудно пере-
оценить. Не меньшее значение в этом плане, несомненно, будет иметь
и данная книга. Ее появление свидетельствует о позитивных измене-
ниях в нашей культуре. Ориентируясь на таких людей, каким был
А.Ф. Грязнов, мы сможем преодолеть многие комплексы, свойствен-
ные российской философии, быстрее откажемся от чувства собствен-
ной исключительности и добьемся того, чтобы нас ценили другие.
Грязновские точность и широта мысли — залог успешной филосо-
фии, практикуя которую можно сделать мир немного лучше, если уда-
ча будет на нашей стороне.
В.В. Васильев,
доктор философских наук, профессор
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
И ЕЕ МЕСТО В КУЛЬТУРЕ XX века
Понятие «аналитическая философия» получило распространение
в отечественной философской литературе относительно недавно.
Этим понятием обозначается одно из наиболее значительных фило-
софских направлений современности. При этом как в русскоязычной,
так и в зарубежной историографии встречаются различные, подчас
противоположные, интерпретации этого понятия. У нас об «аналити-
ческой философии» серьезно заговорили лишь в 80-е годы, хотя ис-
следование конкретных концепций философов-аналитиков осуществ-
лялось задолго до этого.
Прежде чем перейти к детальному рассмотрению вопроса, умест-
но будет попытаться дать предварительное определение аналитиче-
ской философии. Точнее мы будем говорить о двух смыслах, в кото-
рых следует употреблять данное понятие. В узком смысле слова под
аналитической философией мы будем понимать доминирующее на-
правление в англоязычной философии XX века, прежде всего в после-
военный ее период. Любопытно, что речь идет о философском направ-
лении, история которого хронологически совпадает с прошлым столе-
тием. Такое обстоятельство, естественно, заставляет задуматься о
дальнейшей судьбе этого направления в новом, XXI столетии. Подан-
ному вопросу высказываются самые различные мнения, и о некоторых
из них будет сказано в настоящей книге.
В широком смысле слова аналитическую философию можно трак-
товать как определенный стиль философского мышления. Он харак-
теризуется такими, например, качествами, как строгость, точность ис-
пользуемой терминологии, осторожное отношение к широким фило-
софским обобщениям и спекулятивным рассуждениям. Для филосо-
фов аналитической ориентации сам процесс аргументации важен не
менее, чем достигаемый с его помощью результат. При этом аргумен-
тированной убедительности идей отдается явное предпочтение перед
их эмоциональным воздействием. Язык, на котором формулируются
философские идеи, рассматривается не только как важное средство
исследования, но и как самостоятельный объект исследования. Мно-
13
гие аналитики, хотя и не все, предпочитают опираться на формальную
логику, эмпиристскую эпистемологию, данные науки. Разумеется, не-
которые из перечисленных качеств присущи и другим направлениям
западной философской мысли. Однако ни в одном из них эти качества
не являются преобладающими.
Столь широкое определение аналитического стиля, конечно, по-
зволяет включать в аналитическую философию весьма разнообраз-
ные явления. Так и происходит в действительности. Аналитическая
философия не представляет собой единой школы, ориентирующейся
на четко сформулированный набор принципов. Правильнее, на наш
взгляд, говорить об аналитическом движении в философии XX сто-
летия, по аналогии, скажем, с феноменологическим движением. И
именно в этом движении с наибольшей полнотой воплотились те чер-
ты стиля философствования, о которых говорилось выше.
К сказанному, пожалуй, можно добавить еще, что представители
различных направлений современной философской мысли рассмат-
ривают аналитическую философию как своеобразную метафило-
софскую дисциплину, которая может служить основой для широкой
дискуссии. Дискуссии на Всемирных философских конгрессах послед-
них лет показывают не только нарастание интегративных тенденций,
но и то, что терминология и подходы аналитической философии все
более осваиваются мировым философским сообществом.
Как в отечественной, так и в зарубежной литературе сложилось
немало стереотипных представлений об аналитической философии,
которые требуют коррекции. Прежде всего рассмотрим соотношение
понятий «аналитическая философия» и «неопозитивизм». Известно,
что долгое время в наших публикациях фигурировало только послед-
нее название. Согласно общепринятой точке зрения, неопозитивизм
представляет собой третий — новейший — этап развития позитиви-
стской философии, возникшей в середине XIX века. В этом плане лю-
бая строгая философия, уделявшая значительное внимание логи-
ко-лингвистической стороне обсуждаемых проблем, однозначно ква-
лифицировалась как неопозитивизм. Последний же характеризовался
как субъективный идеализм и феноменализм, дополненный некото-
рыми идеями современной логики.
Изучение истории аналитической философии в XX столетии сви-
детельствует, однако, о другом. Позитивистские черты были присущи
лишь отдельным разновидностям аналитической философии на опре-
деленных этапах ее развития. Так, несомненно, позитивистская тен-
денция главенствовала в концепциях членов Венского кружка
(20—30-е годы), в некоторых физикалистскихтеориях 40-х и 50-х го-
дов; позитивистская окраска также свойственна «натурализирован-
14
ной эпистемологии», не усматривающей разницы между философ-
ским и естественнонаучным знанием, и некоторым другим течениям.
Тем не менее ошибочно на основе отдельных эпизодов из истории ана-
литического движения категорически оценивать его как неопозити-
визм. Ведь концепции многих ведущих аналитиков, как будет проде-
монстрировано далее, имели антипозитивистскую направлен-
ность.
В этой связи можно говорить еще об одном недоразумении в трак-
товке аналитической философии, которое сложилось в нашей литера-
туре 70-х — начала 80-х годов. Дело в том, что в советской филосо-
фии тех лет значительное распространение приобрели новые идеи,
подчерпнутые из западной философии науки, инициированные, как
известно, Карлом Поппером и его сторонниками. Эти идеи имели не-
оспоримое преимущество над эмпиристско-индуктивистскими кон-
цепциями науки и кумулятивистскими моделями ее развития. Данное
обстоятельство дало основание ряду исследователей для заявления о
полном вытеснении аналитической философии (отожествляемой с
неопозитивизмом) из западной философской мысли и замене ее так
называемым постпозитивизмом. Одним из негативных последствий
такой оценки явилось то, что широкие исследования аналитической
философии у нас в стране задержались едва ли не на десятилетия. На
деле же новые тенденции коснулись лишь, хотя и важной, но все же
одной сферы философского знания — философии науки. В 70-е и
80-е годы аналитическая философия не только не прекратила свое су-
ществование, но и претерпела существенные изменения, которые в
известном смысле можно охарактеризовать как прогрессивные. Ее
роль в культуре стала более заметной. Аналитики начали осваивать
новые для себя проблемные области и чутко реагировать на различ-
ные веяния в общественной жизни. Более явной стала связь аналити-
ческой философии с традициями классической философской мысли
прошлого. Это опровергало взгляды тех, кто считал, что аналитиче-
ская философия окончательно порывает со всеми формами «традици-
онного» философствования1.
Оказалось, что аналитическая традиция современной мысли име-
ет глубокие корни в истории мировой философии. Упомянем в этой
связи лишь некоторые явления и имена.
Аналитический стиль философствования начал вырабатываться
еще в древности. Достаточно вспомнить сократическую индукцию,
1 Основание для таких утверждений давали манифесты логических позитивистов в
30-е годы. С тех пор отношение к «метафизической» проблематике в рамках аналити-
ческой философии было кардинально пересмотрено.
15
платоновскую диалектику (в античном смысле этого слова), аристоте-
левские «Аналитики», эксплицировавшие формальные структуры
мышления и рассуждения, семантические идеи софистов и стоиков и
многое другое. Средневековая западноевропейская философия также
дает богатый материал в этом отношении. В особенности должны
быть отмечены логико-семантические идеи британских схоластиков
Дунса Скота и Уильяма Оккама. Схоластические трактаты и диспуты,
как бы их не трактовали в последующие периоды развития философ-
ской мысли, и сегодня служат эталоном доказательности, аналитично-
сти и концептуальной строгости.
Новоевропейская философия XVII—XVIII веков открыла широ-
кий круг вопросов, связывавших познание и представления о мире с
их логико-лингвистической обработкой. При этом, наряду с призна-
нием огромной роли языка в познании, многие авторы обращали вни-
мание на те специфические проблемы, которые порождаются непра-
вильным или логически некорректным употреблением тех или иных
языковых форм. Начало такому критическому подходу положил
Фрэнсис Бэкон своим учением об «идолах рынка (площади)», кото-
рые представляют собой препятствия к познанию истины, возникаю-
щие в результате беспорядочной речевой коммуникации людей, не об-
ращающих внимание на различные смыслы употребляемых ими слов и
словосочетаний. Томас Гоббс взялся упорядочить наши представления
о языке как знаковой системе, служащей для обозначения чувственных
образов («фантасмов»), возникающих под воздействием внешних
предметов на органы чувств. Его знаменитая классификация знаков ле-
жит в основе аналитико-синтетической методологии исследования ес-
тественных и искусственных тел (включая государство). Аналитиче-
ский стиль философского мышления наиболее полно воплотился в уче-
нии Джона Локка, разработавшего так называемую традиционную кон-
цепцию образования понятий и положившего в основание своей
эпистемологии принцип психологического атомизма, предполагающий
рассмотрение познания и мышления как деятельности по комбиниро-
ванию исходных элементов чувственности — «простых идей».
Этот принцип в его имматериалистической интерпретации был
развит Джорджем Беркли, предложившим рассматривать все вещи и
явления как комбинации ощущений, источником которых является
уже не внешний мир, а Высшее существо. В феноменальном мире
Беркли реальная каузальная связь заменена знаковыми отношениями
между группами ощущений. В более последовательной феноменали-
стской доктрине Дэвида Юма вообще ставится под сомнение сущест-
вование каких-либо субстанций и единственный вид реально-
сти — сфера перцептуального опыта — представлена как сложная
16
комбинация «впечатлений» и «идей» на основе ассоциативного прин-
ципа. В юмовской репрезентативной теории абстракций значитель-
ную роль играет слово, выполняющее сигнальную функцию в процес-
се поиска конкретно-чувственного представителя того или иного об-
щего понятия. В XIX веке линия Юма и других британских эмпири-
стов-аналитиков была продолжена Джоном Стюартом Миллем,
который усовершенствовал логико-индуктивные процедуры эмпири-
стской философии. В целом акцентирование внимания на языковой и
эпистемологической стороне философской деятельности становится
отличительной чертой англоязычной философии, присущей ей и на
современном этапе эволюции аналитического направления.
Однако картина историко-философских предпосылок аналитиче-
ской философии была бы неполна без упоминания тех «континен-
тальных» учений, которые внесли свою лепту в формирование совре-
менного аналитического стиля философствования. В этом отношении
можно упомянуть хотя бы три великих имени: Рене Декарт, Готфрид
Лейбниц и Иммануил Кант. Так, важно не только то, что Декарт вклю-
чил в число своих правил метода правило анализа, но и то, что он раз-
работал принципиально новую модель сознания, изменившую все
сложившиеся представления в этой области. Философы-аналитики
считают Декарта подлинным основателем философии сознания
(philosophy of mind) в современном ее понимании. Хотя при этом мно-
гие из них, начиная с Гилберта Райла, рассматривают картезианскую
модель сознания как такую, которая сегодня уже должна быть преодо-
лена. Аналитическому уму Лейбница принадлежит заслуга создания
логической теории отношений, адекватно оцененной лишь в начале
XX столетия такими учеными, как Бертран Рассел и Луи Кутюра.
Трансцендентальная аналитика Канта также должна быть включена в
число теоретических предпосылок аналитической философии, причем
не только в силу ее названия. Дело в том, что немецкий философ раз-
работал процедуры концептуализации опыта и конструирования объ-
ектов познания (прежде всего научного), которые хорошо вписывают-
ся в современные представления о развитии научного знания. Одним
из излюбленных приемов рассуждения и доказательства для филосо-
фов-аналитиков служит так называемая трансцендентальная аргу-
ментация, имеющая, разумеется, кантианскую основу.
Как видим, аналитическое философствование имеет глубокие ис-
торические корни. Причем список приведенных примеров никак нель-
зя считать исчерпывающим. Это опровергает не только утверждения
противников аналитической философии о том, что она не имеет серь-
езной основы в истории философской и научной мысли, но и широко-
вещательные заявления логических позитивистов 30-х годов о «рево-
2-5739 17
люции» в философии и полном разрыве с любыми формами традици-
онного философствования. В этой связи выскажем довольно риско-
ванную, но имеющую право на существование гипотезу: именно
аналитическая философия в XX-м столетии, более чем любая другая
философская традиция, наследует идеи и принципы классического
философствования. Она становится связующим звеном, обеспечи-
вающим преемственность философского знания. При этом традици-
онные проблемы философии, конечно, рассматриваются в форме,
наиболее соответствующей современной потребности концептуаль-
ной строгости и логической ясности.
К сожалению, фактор преемственности не всегда осознается не
только противниками аналитического философствования, но и многи-
ми аналитиками, придерживающимися своеобразного подхода к исто-
рии философии. Речь в данном случае идет о том, что сами аналитики,
как правило, не склонны подчеркивать генетическую связь с теми или
иными учениями прошлого, несмотря на явные свидетельства в поль-
зу такой связи. Отношение аналитиков (особенно британских) к исто-
рии философии обусловлено характерным разделением двух дисцип-
лин: истории философии и истории идей. Последняя рассматривается
как нефилософская дисциплина, имеющая дело с конкретно-истори-
ческими условиями формирования некоторой системы идей. Считает-
ся, что в концептуальном отношении она уступает истории филосо-
фии, которая является не столько исторической, сколько общетеоре-
тической философской дисциплиной. История философии в понима-
нии аналитиков должна быть освобождена от рассмотрения
конкретных деталей и культурно-исторического фона, на котором за-
рождалась определенная философская концепция. Наиболее важной
признается логическая основа концепции и способ ее обоснования. С
этим связан избирательный подход к учениям прошлого, которые об-
суждаются лишь в том случае, если затронутые в них проблемы впи-
сываются в новейшие философские дискуссии. Взгляды философов
прошлого так сопоставляются со взглядами философов наших дней,
будто речь идет о современниках. Понятно, что вне зависимости от
точности воспроизведения логико-аргументативной основы учений,
они подвергаются значительной модернизации. Кстати, резкая дихо-
томия истории философии и истории идей сказывается и на оценке
аналитиками своей собственной истории и квалификации ее отдель-
ных этапов. В этой области создалась парадоксальная ситуация: наи-
более содержательные исследования и глубокое осмысление анали-
тической философии зачастую принадлежат авторам, работающим в
иных философских традициях (в особенности герменевтикам и фено-
менологам). Впрочем, это обстоятельство лишь подтверждает извест-
18
ное правило, что определенное явление лучше видится со стороны.
Таким образом, при всех очевидных достоинствах аналитического сти-
ля мышления современной англо-американской философии понима-
ние историко-философского процесса не относится к числу ее дости-
жений.
Тем не менее все главные школы в интерпретации метода фило-
софского анализа демонстрируют зависимость от определенных уста-
новок классической философии. Рассмотрим подробнее основные ли-
нии в понимании процедуры анализа, предложенные философами
аналитической традиции.
Одна из первых по времени тенденций в интерпретации анали-
за — назовем ее фреге-расселовской — предполагает противопос-
тавление «глубинного» логического анализа языка «поверхностно-
му» грамматическому анализу. Представители данной тенденции ус-
матривали в новой — математической — логике универсальное
средство решения многих философских и научных проблем, элимина-
ции сомнительных с логической точки зрения сущностей и оконча-
тельного разрешения эпистемологических парадоксов. Философ-ана-
литик, разделяющий подобную установку, выступает в роли своеоб-
разного логического мудреца, которому подвластны скрытые законо-
мерности языка и мышления. Несмотря на то что первые аналитики
противопоставляли свой подход подходу объективно-идеалистиче-
ской метафизики (например, метафизики британского абсолютного
идеализма), достаточно заметна зависимость их позиции от магист-
ральной линии европейской метафизики (от Платона до Шопенгау-
эра), разделявшей сферу видимости и сферу субстанциальных прин-
ципов и сущностных структур. Последняя представлена в ранней ана-
литической философии формально-логическими принципами и струк-
турами, подлежащими экспликации в процессе глубинного анализа.
Что же касается пренебрежительного отношения к собственно язы-
коведческому анализу, которое демонстрировали философы рассмат-
риваемой тенденции, то оно впоследствии было преодолено, как толь-
ко наука о языке стала использовать строгие логические методы. В
этом плане создателя трансформационно-генеративной грамматики
Ноэма Хомского, опирающегося в своей лингвистической деятельно-
сти на формально-логические приемы, также можно отнести к фре-
ге-расселовской линии. В целом, если попытаться обозначить специ-
фику рассматриваемой тенденции в понимании анализа каким-либо
ключевым словом, то таким словом могло бы быть, по нашему мне-
нию, слово «глубина».
Другая тенденция в понимании философского анализа связана с
деятельностью Дж.Э. Мура. В своих статьях он блестяще использовал
2- 19
концептуальный анализ в целях перевода (или перефразировки) одних
выражений, имеющих неясный смысл, в другие, более ясные выраже-
ния естественного языка. При этом переводимые выражения должны
оставаться синонимичными. Хотя Мур и не исследовал логико-инфор-
мационные аспекты синонимии — он вообще редко пользовался
средствами математической логики — его метод перефразировки по-
лучил широкое распространение и в определенный период развития
аналитической традиции являлся преобладающим, предвосхитив под-
ходы так называемой лингвистической философии. Для данного типа
анализа характерно пристальное внимание к тончайшим нюансам
употребления языковых выражений. Если по примеру рассмотрения
предыдущего типа анализа подобрать ключевое слово, то им, вероят-
но, стало бы слово «ясность». В отношении установления критериев
философской ясности Мур, однако, сам высказывался недостаточно
ясно, что было подмечено современниками.
Людвиг Витгенштейн — австрийский философ, оставивший столь
глубокий след в англоязычной философии, представляет еще одну
влиятельную линию в интерпретации философского анализа. В позд-
ний период своего творчества он стал рассматривать язык как дея-
тельность, тесно переплетающуюся с другими — нелингвистически-
ми — видами человеческой деятельности. Оставив задачу выявления
априорной структуры языка и его логической формы, общей языку и
миру, он обратился к коммуникативной стороне языка. В этом смысле
анализ в поздних текстах Витгенштейна выступает как описание
функциональной роли слов и выражений, порождающей их значение.
Он иначе, нежели Фреге и Рассел, видел различие философского и
собственно лингвистического подхода к языку. Витгенштейн, в част-
ности, различал «поверхностную» и «глубинную» грамматику. В пер-
вом случае подразумевался обычный грамматический синтаксис,
во-втором — уровень так называемых языковых игр. Необычно, но
факт: «игры» и представляют собой то лежащее на поверхности мно-
гообразие употреблений языковых форм, которое способен описы-
вать аналитик. Поэтому «глубинная» грамматика у Витгенштейна не
обозначает скрытые от глаз внутренние структуры, имеющие фор-
мально-логическую природу. Языковые игры представляют собой
взаимопереплетение различных форм человеческой активности. Для
человека они выступают как его «формы жизни», в которые он погру-
жен и правилам которых он в той или иной степени следует. Ключевым
словом поздневитгенштейновского типа анализа следует, на наш
взгляд, считать слово «употребление».
Четвертый вид философского анализа в наибольшей степени при-
сущ деятельности Питера Стросона. Его линия в аналитической фи-
20
лософии предполагает использование ряда идей и подходов кантов-
ской философии, в частности учение об опыте, а также метод «транс-
цендентальной аргументации». В основе философии Стросона — логи-
ко-лингвистический анализ «базисных понятий» нашей концептуальной
схемы и показ их взаимоотношений. Английский философ был одним
из первых аналитиков, который в 50-е годы выступил с программой
разработки метафизической проблематики в рамках аналитического
подхода. При этом он опирался на идеи не только Канта, но и Аристо-
теля, которых квалифицировал как представителей «дескриптивной
метафизики». Последнюю он противопоставлял «ревизующей мета-
физике», изменяющей нашу врожденную концептуальную схему (к
представителям такой метафизики он, в частности, относил Декарта,
Лейбница и Беркли). Таким образом, ключевым словом для обозначе-
ния стросоновской линии в аналитической философии будет слово
«схема».
Нами выделены лишь главные типы философского анализа, во-
круг которых группируются аналитики, представляющие различные
национальные традиции, школы и объединения. Расселовский, му-
ровский, витгенштейновский и стросоновский подходы имеют немало
сторонников и последователей в новейших концепциях аналитиче-
ской философии. Хотя следует одновременно учитывать, что ориента-
ция на указанные классические трактовки анализа носит в основном
регулятивный характер, направляя и организуя деятельность анали-
тиков в целом, нисколько не предопределяя конкретные решения по
тем или иным вопросам. Более того, в деятельности некоторых веду-
щих аналитиков последних двух десятилетий — Хилари Патнэма, До-
нальда Дэвидсона, Майкла Даммита, Джона Сёрла, Артура Данто,
Томаса Нейгела, Бернарда Уильямса и других можно обнаружить эле-
менты каждой из четырех перечисленных разновидностей философ-
ского анализа.
Роль аналитической философии в культуре XX столетия может
быть рассмотрена, во-первых, через призму ее отношений к другим
направлениям современной философской мысли Запада. Начнем с
тех философских направлений, отношение которых к аналитическому
стилю мышления не только кажется проблематичным, но и характе-
ризуется откровенным его неприятием. Прежде всего здесь должен
быть упомянут экзистенциализм, который однозначно оценивал ана-
литическую философию как современный вариант позитивизма. По-
следний-де воплощает собой сциентистскую тенденцию, характерную
для эпохи технической цивилизации, и выражает отчужденный харак-
тер существования человека в окружающем его мире. Экзистенциа-
листы полагали, что аналитическая философия полиостью исключила
21
рассмотрение вопросов культуры и человеческих ценностей. Оши-
бочность такой точки зрения осознали в 70-е годы философы различ-
ных экзистенциально-антропологических течений, наследовавших
классическому экзистенциализму. Одним из главных факторов, сыг-
равших решающую роль в этом повороте, явилось открытие «подлин-
ного Витгенштейна», философа, во взглядах которого (особенно ран-
них) гармонично сочетались логико-лингвистические идеи и ориги-
нальное экзистенциальное видение мира (учение о «невыразимом» и
абсолютных ценностях жизни). Резкое противопоставление экзистен-
циального и аналитического философствования в современной лите-
ратуре постепенно сходит на нет.
Весьма многогранно отношение аналитической философии и фе-
номенологии. Не следует забывать, что последняя возникает под де-
визом «строгой науки». Эдмунд Гуссерль и другие ранние феномено-
логи разделяли антипсихологическую установку создателей совре-
менной (математической) логики, представлявших аналитическую
традицию. Разумеется, в дальнейшем пути этих традиций в истолкова-
нии языка и познания значительно разошлись, но не столько, чтобы их
современные представители не могли и не стремились найти общие
точки соприкосновения. За последние три десятилетия было проведе-
но несколько совместных конференций и выпущены сборники совме-
стных работ аналитиков и феноменологов. Если, в частности, гово-
рить о ситуации в американской философии, то здесь имеет место поч-
ти полное сближение этих тенденций. Главный теоретический орган
американских феноменологов, основанный последователем Гуссерля
Марвином Фарбером, «Философия и феноменологическое исследо-
вание» по стилю и рассматриваемой проблематике ничем не отлича-
ется от журналов с отчетливо выраженной аналитической ориентаци-
ей. Концепции некоторых философов (например, Родерика Чизолма)
оцениваются как вклад в развитие и феноменологии, и аналитической
философии. В последние годы в связи с огромным интересом аналити-
ков к проблеме интенциональности и специфики ментальных актов
многие аналитики обратили свой взор к соответствующим исследова-
ниям феноменологов, обладающих несравненно большим опытом в
этой теоретической области.
Уже на раннем этапе становления аналитической философии вы-
явились ее точки соприкосновения с психоаналитическими процеду-
рами. Аналитические приемы поздневитгенштейновской философии,
направленные на выявление заблуждений, которые порождаются в
результате непонимания логики употребления естественного языка и
смешения различных языковых игр, напоминали приемы психоанали-
тиков по выявлению скрытых и подавленных мотивов поведения с по-
22
мощью интерпретации слов и рассказов пациентов. Некоторые уче-
ники Витгенштейна — Д. Уиздом, М. Лазеровиц и Э. Эмброуз —
даже попытались объединить подходы философско-лингвистического
анализа и психоанализа. Они отталкивались, в частности, от указания
Витгенштейна на то, что нет единой философской методологии, но
есть разные методологии, подобные разным терапиям. Сам австрий-
ский философ не только сравнивал свою деятельность с деятельно-
стью психоаналитика по выявлению психических заболеваний, но и
придавал своей медицинской аналогии весьма серьезное значение.
Вышеназванные лингвистические философы (их относят к так назы-
ваемой школе обыденного языка) разрабатывали линию философ-
ской терапии, направленную прежде всего на разоблачение «метафи-
зических» заблуждений. Но уже к началу 60-х годов, когда позитиви-
стские тенденции в аналитической философии окончательно ослабе-
ли, влияние терапевтических аналитиков практически исчезло. Это,
однако, не отменяет того, что имеется объективное сходство одного из
перечисленных типов философского анализа и практики психоанали-
за.
Одно из самых интересных отношений сложилось между аналити-
ческой философией и философской герменевтикой. Известно, что по-
следняя связана с традициями немецкой гуманитарной культуры и
дает методологическое основание для интерпретации философских,
исторических, юридических и теологических текстов. Сближение ана-
литической философии и герменевтики осуществляется в последние
годы в связи с исследованием проблемы понимания. Примечательно,
что это одна из главных тем позднего творчества Витгенштейна, на ко-
тором как бы замыкаются две ведущие западные философские тради-
ции — немецкоязычная и англоязычная. И аналитики витгенштей-
новской традиции, и современные герменевтики показывают специ-
фический характер процедур понимания и их отличие от естественно-
научного объяснения. Одним из первых близость подходов
аналитической философии и герменевтики в данной области подчерк-
нул английский ученик Витгенштейна Питер Уинч. Он показал, что
сближение этих дисциплин может принести положительные резуль-
таты для развития «социальной науки» и совершенствования иссле-
дования «иных культур», то есть культур, «формы жизни» которых
существенно отличаются от наших. Аналитический стиль философст-
вования характерен для творчества крупнейшего герменевтика наших
дней — Поля Рикера. Немецкий философ Карл-ОттоАпель выступа-
ет своеобразным посредником между двумя традициями: его работы в
равной мере принимаются и аналитиками, и герменевтиками. Одним
словом, тесное взаимодействие в последние годы герменевтики и фи-
23
лософского анализа служит примером нарастания интегративных
тенденций в западной философии как таковой.
Более сложным является вопрос об отношении аналитической
философии и структурализма, получившего особенно широкое рас-
пространение во франкоязычной философии. Оба направления име-
ют дело с анализом определенных языковых форм (слов и предложе-
ний в аналитической философии и «текста» и дискурса в структура-
лизме). Для структурализма и аналитической философии (правда, в
меньшей степени) характерна сциетистская направленность, уверен-
ность в возможности разрешения сложнейших проблем с помощью
строгих научных методов, которые применяются и в сфере гуманитар-
ного знания. Вместе с тем сближения указанных направлений в пери-
од расцвета структурализма (60—70-е годы) так и не произошло,
причем даже на поле семиотических исследований. Все дело в разном
понимании смысла и значения языковых единиц, способов их упот-
ребления, соотношения структурных и функциональных аспектов
языка, роли языка в человеческой культуре. Внешние сходства струк-
турализма и философского анализа не должны заслонять существую-
щие между ними серьезные различия. Эти различия рельефно прояви-
лись в 80-е и 90-е годы, когда классический структурализм трансфор-
мировался в постструктуралистские теории, выступающие как харак-
терное проявление так называемого постмодернизма. Одним из
вариантов постструктурализма — деконструктивизм — находится в
состоянии жесточайшей конкуренции с аналитической философией.
Распространение деконструктивизма в Соединенных Штатах привело
к своеобразному «конфликту факультетов»: отделения английского
языка и литературоведения в университетах выступают в качестве оп-
понентов философских отделений, на которых преобладает анализ.
«Постмодернистский вызов» представляет сегодня наиболее серьез-
ное испытание для академической аналитической философии. В из-
вестной степени современная ситуация напоминает противостояние
позиций риторики (аналог философии постмодернизма) и диалектики
(аналог аналитической философии) в средневековой европейской
культуре. Исход спора современных «риториков» и «диалектиков»
предсказать очень трудно.
Отношение аналитической философии к другой группе философ-
ских направлений, представленных прагматизмом и неопрагматиз-
мом, а также научным материализмом и научным реализмом, являет-
ся в известной мере «родственным». Эти направления возникли и
развивались во многом параллельно развитию аналитического фило-
софствования. Что касается, в частности, классического прагматиз-
ма, то он, разумеется, возник как специфически американское куль-
24
турное и идейное течение, но уже работы второго поколения прагма-
тистов — К.И. Льюиса, У. Куайна и Н. Гудмена — по стилю ничем не
отличаются от работ собственно философов-аналитиков. Неопрагма-
тисты привнесли свежую струю в аналитическую философию, способ-
ствовав преодолению ею этапа логического позитивизма. В этом от-
ношении, в частности, решающее значение имела работа Куайна о
«двух догмах эмпиризма», в которой опровергнуто позитивистское
разделение аналитического и синтетического знания и редукционист-
ская установка. Прагматисты придали американскому варианту ана-
литической философии праксеологическую направленность. Разуме-
ется, было бы некорректно представлять отношение аналитической
философии и новейшего прагматизма как совершенно безоблачное. К
примеру, хорошо известна позиция Ричарда Рорти, одного из «разоча-
ровавшихся» аналитиков, который рассматривает прагматизм как
альтернативу философскому анализу. Позиция Рорти, однако, не
разделяется абсолютным большинством представителей академиче-
ской философии США, поскольку его интерпретация прагматизма
предполагает не только отказ от ряда общепринятых исследователь-
ских установок, но и согласие с постмодернистским разоблачением
«идеологем» англосаксонского аналитического рационализма, пре-
дельное сближение философии и художественной литературы.
Научный реализм и научный материализм, получившие значи-
тельное распространение за последние 20 лет, можно рассматривать
как ответвления аналитической философии, тесно связанные с есте-
ственнонаучным знанием. Именно в рамках научного материализма
были представлены наиболее радикальные решения психофизиче-
ской (психофизиологической) проблемы типа теории тождества мен-
тального и телесного. Научный реализм выступает в качестве оппо-
нента различных инструменталистских («анти-реализм») концепций
научного знания. Однако полемика эта ведется на «поле» аналитиче-
ской философии, полностью соответствуя установившимся в ней ка-
нонам философской дискуссии. Помимо научного реализма с анали-
тической философией тесно связана такая новая дисциплина, как ког-
нитивная наука, находящаяся на стыке когнитивной психологии, лин-
гвистики, computer science, исследований в области искусственного
интеллекта и теории информации. Синтез данных этих наук и осуще-
ствляется с помощью аналитической методологии и ее концептуаль-
ных средств.
Вообще отношение аналитической философии к научному знанию
составляет большой вопрос, полное освещение которого потребовало
бы немало времени. Поэтому в данном случае мы ограничимся лишь
двумя дисциплинами, взаимоотношение которых с этой философией
25
представляет особую проблему. Речь, во-первых, пойдет о лингвисти-
ке. Известно, что одно из течений аналитической философии даже на-
зывалось «лингвистической философией». Однако в период наиболь-
шего влияния данного течения (30—40-е годы XX века) оно никак не
было связано с главными тенденциями в лингвистической науке. Обе
дисциплины долгое время развивались совершенно независимо друг
от друга. Впоследствии в лингвистической философии все более стал
преобладать интерес к конкретнонаучной проблематике, что вырази-
лось, в частности, в программе аналитика Джона Остина по созданию
«лингвистической феноменологии» и его знаменитой теории речевых
актов (действий). Именно последняя оказалась тем связующим зве-
ном, благодаря которому уже в 50-е годы лингвистика и философский
анализ начинают устанавливать взаимоотношение. Сложилась не-
обычная для современности ситуация, когда специальная дисципли-
на — лингвистика — восприняла конкретную теорию, разработан-
ную в рамках философии.
В настоящее время, как известно, теория речевых актов составля-
ет один из важных разделов лингвистической прагматики. Нечто по-
добное произошло и с витгенштейновской идеей «языковых игр», а
также с муровским методом анализа парадоксальных предложений
(типа предложения «Сейчас идет дождь, но я в это не верю»). Среди
других примеров аналитической «поддержки» лингвистики назовем
разработку аналитиками проблемы референции и значения, концеп-
ции синонимии, идеи совпадения мыслительных и языковых структур.
Особо следует отметить весьма популярную в последнее время среди
лингвистов поздневитгенштейновскую концепцию правилосообраз-
ного характера лингвистической и нелингвистической деятельности.
Разумеется, отмеченные явления отражают и наметившееся сближе-
ние методов математической логики и лингвистики, ведь опора на ло-
гику составляет характерную черту аналитического подхода в целом.
В данной связи следует несколько подробнее сказать о взаимоот-
ношении аналитической философии и логики. На начальном этапе
развития этой философии ее связи с новой логикой были максимально
тесными (вспомним, хотя бы, позицию раннего Рассела, считавшего
логику «сущностью философии»). Впоследствии — в период господ-
ства лингвистической философии — опора аналитиков на формаль-
ную логику была подвергнута критике и потому многие из них скон-
центрировали свое внимание на исследовании смыслообразующих и
коммуникативных аспектов естественного языка. В этот период соб-
ственно логические работы приобретали все более специализирован-
ный характер, и потому связь логики и аналитической философии не-
сколько ослабла. В последние же 20 лет противостояние аналитиков,
26
ориентированных на дескриптивный анализ естественного языка, и
тех, кто ориентируется на строгие методы логики, практически исчез-
ло. Теперь аналитики в большинстве своем применяют обе указанные
методологии. Вместе с тем бытующее представление об аналитиче-
ской философии как сводящейся либо к формальной логике, либо к
лингвистическому анализу лишено основания. В этой философии чет-
ко осознается различие собственно философского и специально-на-
учного подхода. Разработка в рамках аналитической философии во-
просов эпистемологии, онтологии, моральной философии и других,
естественно, требует использования логико-лингвистических мето-
дов, но только к ним не сводится. Аналитические процедуры применя-
ются для решения сугубо философских проблем, многие из которых,
как отмечалось, достались аналитикам от классической философии.
Остановимся еще на одном вопросе, касающемся взаимоотноше-
ния собственно философских дисциплин в пределах аналитической
установки. Дело в том, что на разных этапах развития аналитической
философии та или иная аналитическая дисциплина играла роль свое-
образного лидера. Если последовательно рассмотреть этот процесс,
то представится следующая картина. На раннем этапе ведущей дисци-
плиной была философия логики ( это название впервые ввел Рассел ) и
связанная с ней эпистемология. На следующем этапе уже эпистемо-
логия, получившая более эмпиристскую окраску (в особенности у
представителей Венского кружка), выходит на первый план. В центре
внимания аналитической философии 60—70-х годов оказывается
проблематика философии языка, а позднее — философии сознания
(philosophy of mind). Интересная ситуация сложилась в аналитиче-
ской философии последних лет, когда среди аналитических дисциплин
на первый план начала выходить политическая философия. И это яв-
ление достаточно симптоматично, ибо аналитическая философия те-
перь не только осваивает новые проблемные области (например, во-
просы биоэтики, искусственного интеллекта, права и другие), но и
стремится преодолеть стереотип консервативной и чисто академиче-
ской дисциплины, искусственно изолированной от процессов в обще-
ственной и культурной жизни. Акцент, сделанный на политической
философии, в которой, разумеется, используются характерные анали-
тические процедуры, отражает данную тенденцию и новые настроения
философов-аналитиков. Кстати, в предыдущие периоды переход на
лидирующую позицию происходил более плавно (так, скажем, анали-
тическая философия сознания долгое время выступала как дополне-
ние философских теорий языкового значения).
Лидирующее положение той или иной аналитической дисциплины
на определенном этапе, конечно, не следует преувеличивать. Иссле-
27
дования в других проблемных областях отнюдь не прекращаются.
Кроме того, в согласии с возникшей еще в Античности традицией,
корпус аналитических дисциплин обязательно включает три главные
составные части: онтологическую (метафизика), логико-эпистемоло-
гическую и этическую. Наличие последней также опровергает мнение
об аналитической философии как исключительно сциентистском по
духу направлении в западной философии.
Феномен лидирующей дисциплины отличается в наши дни от того,
что имело место в прошлом. Сейчас для аналитической философии не
характерно выдвижение тех или иных широких программ или теорети-
ческих манифестов (это было характерно, например, в 20—40-е годы
для представителей логического позитивизма). Исследования приня-
ли более специализированный характер, а выдвижение на первый
план политической философии обусловлено скорее внешними причи-
нами (обсуждение статуса аналитической философии в сравнении с
другими областями знания и вопроса о ее роли в культуре), чем имма-
нентным развитием философии. Помимо этого, новейшей стадии ана-
литической философии не свойственно заимствование и экстраполя-
ция концептуального аппарата «лидера» на другие дисциплины, что
имело место в прошлом.
В заключение необходимо напомнить, что аналитическая филосо-
фия в наши дни по-прежнему остается преобладающим направлением
в англосаксонском мире (США, Великобритания, Канада, Австралия,
Новая Зеландия). Аналитический подход постепенно захватывает ве-
дущие позиции в Скандинавии и Нидерландах, а также в ряде разви-
вающихся стран (например, в Индии). Влияние его чувствуется в
странах с иной национальной философской традицией (Германия и
Франция, в первую очередь). Так что разговоры о «смерти» аналити-
ческой философии несколько преждевременны. Основное распро-
странение она, как отмечалось, имеет в интеллектуальной среде за-
падных университетов. Несомненно появление широкого интереса к
данному направлению философской мысли и в отечественной филосо-
фии последних лет. Этим и вызвана попытка осмыслить сам феномен
аналитической философии, предпринятая в данной книге.
ПОИСК ЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ
БЕРТРАНА РАССЕЛА
«Три страсти, хотя и простые, но необычайно сильные, направля-
ли всю мою жизнь: стремление к любви, поиск знания и неослабеваю-
щее сочувствие человеческим страданиям. Эти страсти, подобно бур-
ным ветрам, несли меня туда и сюда изменчивым курсом над океаном
мучений, достигая самого предела отчаяния»,— писал Бертран Рас-
сел в «Автобиографии»1. Подробный рассказ о жизни и творчестве
английского философа и общественного деятеля занял бы немало
времени и места. В данном случае мы обратим внимание на одну из
страстей, которые предопределили его жизненный путь, — на
страсть к познанию.
Бытует мнение, что творческая эволюция Рассела представляла
собой череду сменяющих друга друга перевоплощений и трансформа-
ций. Одни видели в этом свидетельство недогматического характера
его творчества, другие подчеркивали этим непостоянство его фило-
софских пристрастий, чрезмерную увлеченность модными философ-
скими идеями и новейшими открытиями в естествознании. Критиче-
ские исследования и комментарии, вышедшие в свет после смерти фи-
лософа в 1970 году и в той или иной степени разделявшие последнюю
точку зрения, зачастую создают у читателя его искаженный образ.
При таком взгляде Рассел значительно уступает тем ведущим запад-
ным философам XX века, учения которых отличались последователь-
ностью. Всестороннее изучение его наследия и главных вех творчест-
ва, однако, свидетельствует о другом, а именно, об удивительной на-
стойчивости Рассела в достижении поставленных еще в молодости це-
лей и о последовательном развертывании и реализации изначальных
мотивов философской деятельности. На наш взгляд, для его работ в
области эпистемологии такая настойчивость особенно характерна. В
них обнаруживаются теоретические установки, которые на протяже-
нии десятилетий постоянно направляли его поиски. Сказанное, есте-
1 The Autobiography of Bertrand Russell. L., 1978. P. 9.
29
ственно, не исключает того, что Расселом «проигрывались» различ-
ные варианты решения тех или иных концептуальных вопросов, преж-
де чем он делал окончательный выбор.
В данной связи важен начальный период становления его взгля-
дов, который отмечен полемикой Рассела с одной влиятельной в Ве-
ликобритании в конце XIX — начале XX века доктриной. Речь идет о
так называемом абсолютном идеализме, воцарившемся в британской
академической среде и противопоставившем себя тому, что считалось
отличительной чертой национальной традиции, — философскому эм-
пиризму. Реакция на долгое доминирование эмпиристской традиции и
ее слияние в XIX веке с позитивизмом воплотилась в особой разновид-
ности объективно-идеалистической метафизики. Она подчеркивала
приоритетную роль диалектико-логических связей и принципов, при-
дающих единство и целостность самопротиворечивому миру челове-
ческого опыта, который считался основополагающим в концепциях
эмпиристов. Эмпиристская философия при этом оценивалась как дос-
тигшая в своем развитии тупиковой стадии, продемонстрировав в
лице Д. Юма и его последователей невозможность какого-либо зна-
ния вообще.
Онтология абсолютного идеализма была, за редким исключением,
монистической. При этом, хотя представители данного направления
и опирались на некоторые положения немецкого классического идеа-
лизма, все же оно оказалось одним из проявлений той традиции ра-
ционализма и объективного идеализма, которая всегда существовала
на Британских островах, но на протяжении долгого времени была от-
теснена на второй план традицией эмпиристской. Борьба Рассела с
абсолютным идеализмом оказалась очередным этапом в этом проти-
востоянии.
Другой отличительной чертой абсолютного идеализма была тео-
рия внутренних отношений. Согласно этой теории, любая вещь
или явление реальны только в том случае, если они входят в ту или
иную систему отношений, причем отношения носят сущностный ха-
рактер и изменяют соотносящиеся стороны. Также считалось, что
сами отношения невозможны вне какой-либо тотальности. В конеч-
ном итоге они оказывались подчиненными Абсолюту как верховной
реальности, возвышающейся надантиномичной сферой «видимости».
В таком контексте истина понималась философами этого направле-
ния как идеальное выражение всех связей, их согласованность (коге-
рентность).
В области собственно логики абсолютные идеалисты основное
внимание уделяли анализу суждения как «тождества-в-различии»,
якобы всегда указывающего на духовное содержание реальности. Они
30
одни из первых стали отделять логику от психологии мышления, сбли-
жение которых было характерно для раннего позитивизма (в особен-
ности для логического учения Дж. Ст. Милля). И Рассел, надо ска-
зать, в первые годы своей деятельности тоже активно исследовал суж-
дение и стремился создать непсихологистскую логику, но делал он это
на другом основании, нежели его оппоненты.
Одним из учителей Рассела в Кембриджском университете был
крупный представитель абсолютного идеализма Джон Мактаггарт,
оказавший на него немалое интеллектуальное влияние. Примечатель-
но, что Мактаггарт был единственным из абсолютных идеалистов, кто
придерживался плюралистической позиции в онтологии. Он пола-
гал, что все существующее дифференцированно, а вселенная охваты-
вает различные субстанции, причем некоторые духовные субстан-
ции — «личности» — более реальны, чем материальные. Отсюда
персоналистская окраска его учения. В отличие от других британских
идеалистов этого периода Мактаггарт был атеистом и придерживался
политической доктрины либерализма. В этом плане он явился пред-
шественником Рассела.
Все же влияние абсолютного идеализма на Рассела было непро-
должительным. В самом начале XX столетия он и его коллега по Три-
нити-колледжу Дж.Э. Мур осуществили то, что впоследствии Рассел
назвал «бунтом» против абсолютного идеализма1. Монизму был про-
тивопоставлен плюрализм (в дальнейшем у Рассела он примет форму
логического атомизма), а теории внутренних отношений — теория
внешних отношений, имеющих сугубо функциональный характер. Со-
гласно этой теории, соотноситься без «посредника» (то есть Абсолю-
та) могут любые сущности и элементы реальности, которые остаются
простыми и самостоятельными. В данном контексте существенно то,
что в свой ранний период Рассел специально занимался логическими
идеями Г. Лейбница, в особенности его теорией отношений. Именно
Рассел (а также французский логик Л. Кутюра) впервые показал со-
временное значение этих идей и их роль в становлении новой — мате-
матической — логики. Немаловажно и то, что в своей метафизике не-
мецкий философ был сторонником монадического плюрализма.
С другой стороны, перед Расселом стояла задача не только реаби-
литировать эмпиристскую теорию познания, но и усилить ее с учетом
тех возражений против эмпиризма, которые высказали абсолютные
1 См. в книге: Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993. С. 11 —19.
31
идеалисты. В этом ему должна была помочь новая логика, одним из
выдающихся создателей которой он был.
Вопреки тому, что иногда утверждается, расселовский философ-
ский эмпиризм никогда не был односторонним1. Наряду с доскональ-
ным анализом чувственного восприятия как главного источника зна-
ния и показом той роли, которую играет опыт в конструировании на-
шей картины внешнего мира, Рассел занимался темами, касающими-
ся статуса общих понятий и идеальных объектов. И это вполне
понятно, если учесть его особый интерес к математике и математиче-
ской логике. Вопросы, связанные с обоснованием идеальных объек-
тов, а также с объяснением всеобщего и необходимого характера за-
конов науки, как известно, еще с XVII века разделяли философов ра-
ционалистической и эмпиристской ориентации. Философия транс-
цендентального идеализма И. Канта была одной из самых серьезных
попыток преодоления этого противостояния. Для Рассела, однако,
кантовская альтернатива оказалась неприемлемой. Дело в том, что он
иначе, нежели немецкий философ, понимал априорный элемент на-
шего знания2 и не допускал возможности априорных синтетических
суждений (прежде всего, в математике). Позиция, занятая англий-
ским философом, зачастую обозначается как неореализм, К ней мы
обратимся позднее.
Расселовское понимание предмета философии всегда — от пуб-
ликаций начала века до книги «Человеческое познание» (1948) —
предполагало соотнесение ее с передовой наукой. Это, правда, не оз-
начает, что взгляды английского философа имели сугубо сциентист-
скую направленность. Скорее в этом проявилось глубокое осознание
им той роли, которую играет наука в современном ему мире. Немного
наберется в XX веке философов, которые бы в такой степени владели
научным материалом из разных отраслей знания. И все же Рассел ни-
когда не отождествлял философию с наукой, как это делали его пози-
тивистские предшественники и современники. Хотя философия, по
его мнению, и не обладает особым источником знания по сравнению с
наукой, именно она осуществляет критическое исследование прин-
1 В 1936 году на заседании Аристотелевского общества им была прочитана лекция
«Пределы эмпиризма», в которой он сказал: «Многое из того, что мы предполагаем, не
дается в наблюдении или же не выводится из того, что наблюдается, пока мы не призна-
ем те формы вывода, которые отвергаются чистым эмпиризмом».
2 В 1912 году Рассел писал: «Дело в том, что априорное познание относится к
сущностям, которые, собственно говоря, не существуют ни в духовном, ни в физиче-
ском мире. Такие сущности могут обозначаться теми частями речи, которые не являют-
ся субстантивами; это качества и отношения» (Russell В. The Problems of Philosophy.
Oxford, 1978. P. 50).
32
ципов науки и здравого смысла, наших убеждений и верований. Фило-
софию следует изучать не только для получения определенных и одно-
значных ответов, но и для того, чтобы уметь ставить вопросы, обо-
гащающие наше интеллектуальное воображение и позволяющие пре-
одолевать догматизм. Философия, как только она получает такие
ответы, сразу же передает их науке, оставляя себе все те вопросы, на
которые еще не найдены ответы. Рассел был также против того, что-
бы философия пыталась доказывать те или иные догматы теологии.
Положение философии скорее промежуточное — между наукой и
теологией1.
Конечно, тем, кто привык подчеркивать верховную роль филосо-
фии по отношению ко всем другим областям человеческого знания, ее
превосходство над ними, рассмотренное понимание предмета филосо-
фии вряд ли покажется привлекательным. Сам же Рассел — не без
основания — видел в подобном промежуточном положении филосо-
фии ее преимущество, позволяющее ей поднимать вопросы, на кото-
рые наука еще не имеет ответов, а ответы теологов своей догматично-
стью уже не удовлетворяют духовные потребности современного че-
ловека.
Сказанное, однако, не должно создавать впечатления, будто фило-
софия для Рассела — нечто неопределенное, и она не может пользо-
ваться точными методами, приводящими к конкретным результатам.
Как раз наоборот, всю свою жизнь английский философ разрабаты-
вал такие методы и подходы. Его общефилософское развитие проис-
ходило одновременно с развитием исследований в области логики, ко-
торая, как он считал в ранний период, является «сущностью» филосо-
фии2. Это было связано с пониманием им того обстоятельства, что но-
вая логика позволяла осуществлять глубинный логический (в
отличие от поверхностного грамматического) анализ языка науки и
утверждений здравого смысла. В согласии с национальной философ-
ской традицией, берущей начало в философии Дж. Локка, он считал
анализ главной функцией философии. Основываясь на своих логи-
ко-математических изысканиях, Рассел указывал на наличие всевоз-
можных антиномий (парадоксов) в естественнонаучном и философ-
ском знании. Способность эксплицировать и устранять парадоксы он
1 Философия — это «Ничья Земля», какой назвал ее во введении к своей «Исто-
рии западной философии» (1945).
2 В предисловии к «Человеческому познанию» Рассел уже не разделяет мнение о
тождестве логики и философии, подчеркивая при этом, что дедуктивная логика по мере
ее развития становится все более специальной дисциплиной.
3 - 5739 33
считал важнейшим качеством философского учения, опирающегося
на логику.
Для Расселя было характерно серьезное отношение не только к
тому, что говорила передовая наука, но и к своим и чужим убеждениям
здравого смысла, инстинктивным верованиям, установкам обыденно-
го сознания. Как философ, интересовавшийся фундаментальными во-
просами онтологии, он не мог принять разделение всего на сферу «ви-
димости» (противоречивый мир чувственного опыта) и подлинной
«реальности» (Абсолют), осуществленное в рамках идеализма
Ф. Брэдяи. Рассел постоянно ссылался на свой «инстинкт реально-
сти», который подсказывал ему, что действительно существует в ре-
альности, а что — нет. Для него было несомненным наличие так на-
зываемого «чувственно данного» (sense-datum)1, объектов здравого
смысла (то есть макрообъектов типа столов и стульев), а также уни-
версалий (то есть объектов типа «равенства», «белизны» и «братст-
ва»), без которых невозможно представить содержание реальности.
Существование2 универсалий делает расселовский «мир» неизмери-
мо богаче и разнообразнее того, что предполагалось в онтологических
концепциях предыдущего поколения британских эмпиристов.
Однако — ив этом английский философ опирался на свой «ин-
стинкт реальности» — в мире нет таких объектов, как единороги, ру-
салки, кентавры, грифоны, крылатые кони, золотые горы и круглые
квадраты. Дело, разумеется, не столько в самих этих забавных суще-
ствах и странных предметах, сколько в произвольно принимаемых
спекулятивными философами абстракциях, которые населяют мир
всевозможными философскими кентаврами. К числу подобных сущ-
ностей относился и «Абсолют» британских идеалистов. Как философ
логического склада, Рассел ставил себе цель разработать эффектив-
ные способы элиминации таких сущностей, но при этом осознавал,
что сделать это будет непросто.
Принципиально важным для его теории познания, а также для он-
тологических построений было различение двух видов знания: «зна-
ния-знакомства» (khowledge by acquaintance) и «знания по описа-
нию» (knowledge by description)3. Базисным является первый вид зна-
ния, представляющий собой непосредственное знание о двух типах
1 Английский философ, кроме того, говорил о «сенсибилиях», то есть таких «чув-
ственно данных», которые существуют и тогда, когда их никто не воспринимает (напри-
мер, окрашенные в тот или иной цвет поверхности).
2 Рассуждая о существовании универсалий, ранний Рассел использовал термин
«subsistence», а не более привычный термин «existence».
34
3 Один из вариантов такого различения представлен в статье Рассела 1911 года.
объектов: «чувственно данных» и универсалиях, которые обладают
идеальным существованием вне пространства и времени. Оно осуще-
ствляется с помощью так называемых обозначающих фраз, неограни-
ченное применение которых может приводить к серьезным заблужде-
ниям философского характера. И поэтому Рассел в свой ранний пери-
од уделил таким фразам особое внимание.
Благодаря «знанию по описанию» мы, во-первых, узнаем о «фи-
зических (то есть материальных) объектах». Это знание выводится
из нашего знания «чувственно данных». Во-вторых, с помощью ана-
логии мы получаем знание о ментальных состояниях других людей.
В-третьих, к «знанию по описанию» относится знание о прошлых со-
бытиях.
Вышеприведенная концепция «знания-знакомства», с одной сто-
роны, свидетельствует о принадлежности Рассела к эмпирико-сен-
суалистской традиции (подчеркивание изначальной роли «чувственно
данного» в познании). С другой стороны, положение о непосредствен-
ном знании объективно существующих универсалий свидетельствует
о своеобразном платонизме его учения. Последнее вполне объясни-
мо, если принять во внимание раннюю позицию английского филосо-
фа в вопросе о статусе математических объектов. Такое достаточно
необычное сочетание эмпиристской и платонистской тенденций явля-
ется одной из отличительных черт расселовского неореализма.
Концепция двух видов знания получила отражение и в расселов-
ской философии языка, одна из главных тем которой — соотношение
(и связь) языка и мира. Английский философ был убежден, что те эле-
менты языка, которые связывают язык с миром, обязательно должны
подтверждаться соответствующим «знанием-знакомством». В этом
вопросе он следовал главному принципу теории познания Д. Юма1.
Хотя допущение непосредственного знания «чувственно данного»
и универсалий в эпистемологию и связано с целым рядом проблем,
все же главную трудность для английского философа, по его словам,
представляло «знание по описанию», основывающееся на «обозна-
чающих фразах». Впервые вопрос об обозначающих фразах был под-
робно рассмотрен Расселом в статье 1905 года2; эта тема присутству-
1 Как известно, Юм разделил сферу перцептуального опыта на «впечатления»
(impressions) и «идеи». Последние, будучи, по существу, понятиями, должны были
быть скопированы с более сильных и ярких «впечатлений». От «идей», за которыми не
стояли «впечатления», приходилось отказываться (например, от «идеи» субстанции).
Иногда Рассел включал в число объектов «знания-знакомства» воспоминания и знание
человека о своих внутренних ментальных состояниях.
2 On Denoi\ng//Russell В. Logic and Knowledge. L., 1956.
3* 35
ет и во многих его последующих работах. Среди главных видов обозна-
чающих фраз он называл следующие.
1. Фраза обозначает, не обозначая ничего реального («нынешний
король Франции»).
2. Фраза обозначает один определенный объект («нынешний ко-
роль Англии»). В английском языке такие фразы употребляются с оп-
ределенным артиклем. Они позволяют выбрать уникальный (единст-
венный) объект из некоторой совокупности объектов. Подобные фра-
зы Рассел назовет «определенными дескрипциями». С ними, на его
взгляд, связаны самые трудные и интересные логико-философские
проблемы.
3. Фраза обозначает неопределенно («человек»). В английском
языке подобные фразы употребляются с неопределенным артиклем.
Они позволяют выбрать один (но не уникальный) объект из некоторой
совокупности объектов.
Одна из проблем, связанных с определенными дескрипциями,
была представлена Расселом, например, в такой форме: он предлагал
вообразить ситуацию, когда кто-то хочет узнать, был ли шотландский
писатель Вальтер Скотт автором романа «Уэверли», опубликованно-
го в 1814 году. Этим мог, в частности, интересоваться современник
писателя английский король Георг IV. Тогда окажется, что фраза ( 1 )
«Скотт есть автор «Уэверли»» и фраза (2) «Скотт есть Скотт» не то-
ждественны, хотя и обозначают один и тот же объект, ибо ( 1 ) обладает
дополнительным свойством, а именно, говорит о том, что относитель-
но авторства романа хотел узнать Георг IV. В то же время, с юмором
заметил Рассел, вряд ли можно заподозрить первого джентльмена Ев-
ропы (кстати, слабоумного) в интересе к формально-логическому за-
кону тождества (А =Л), выраженному во второй фразе.
Немецкий логик и математик Г. Фреге еще в статье 1892 года, рас-
сматривая семантические аспекты проблемы тождества, ввел поня-
тия «значения» (Bedeutung) и «смысла» (Sinn) имен (то есть знаков).
Скажем, фразы ( 1 ) «утренняя звезда» и (2) «вечерняя звезда» имеют
одно и то же значение, то есть обозначают один и тот же объ-
ект — планету Венера. Однако эти фразы по-разному указывают на
данный объект, связывают с ним разное мыслительное содержание.
Для астронома фраза «Утренняя звезда есть вечерняя звезда» инте-
реснее фразы «Утренняя звезда есть утренняя звезда». Одним сло-
вом, у фраз ( 1 ) и (2) различный смысл. Причем Фреге в соответствии
со своей философской установкой говорил об объективности смысла
имен, не зависящем от психологических особенностей мышления.
Рассел был хорошо знаком с фрегевским подходом к проблеме,
однако не принял его, отмечая возможные негативные последствия
36
объективации смысла. Он в свою очередь предложил различать соб-
ственные имена и обозначающие фразы. Так, «Скотт» оказывается
собственным именем, то есть символом, объект которого может быть
дан в «знании-знакомстве». Это простой символ, то есть символ, не
делимый на части, которые сами были бы символами. Путем нагляд-
ных (остенсивных) определений имена связываются с чувствен-
но-воспринимаемым миром. «Автор "Уэверли"» же — обозначаю-
щая фраза, не являющаяся простым символом. Она неясна, ибо неиз-
вестно, единственный ли это автор. Сама по себе данная фраза не
имеет значения (meaning), а просто оказывается составной частью
предложения, в которое она может входить. Рассел предлагал так ана-
лизировать (то есть эксплицировать логическую структуру и перево-
дить в более ясную и точную форму) предложения типа «Скотт есть
автор "Уэверли"», чтобы можно было устранять из них обозначающие
фразы.
Если собственные имена типа «Скотт» Рассел до поры до времени
считал не вызывающими подозрений, поскольку они в принципе под-
тверждаются «знанием-знакомством», то некоторые другие имена,
как он подметил, способны приводить к нежелательным парадоксам.
Такими, к примеру, являются мифологические имена, не обозначаю-
щие реальных объектов. И если во фразе «X есть несуществующий
объект» слово «существование» используется как предикат, то как
бы возникает парадокс: существует несуществующий объект.
Расселовское решение проблемы заключалось, во-первых, в тре-
бовании исключения путем логического анализа «подозрительного»
понятия «существование»1 и, во-вторых, в требовании видеть в неко-
торых грамматических именах собственных (типа «Пегас») скрытые
дескрипции. Тогда в результате осуществления процедуры перефор-
мулировки получаем новые фразы, исключающие возникновение
«парадокса существования». Позднее Рассел занял еще более ради-
кальную позицию и признал все грамматические имена собственные
двусмысленными с точки зрения логики, так как они суть скрытые де-
скрипции. В конце концов он пришел к выводу, что язык «соединяет-
ся» с миром с помощью указательных местоимений («демонстрати-
вов») «это» и «то», которые он назвал «логически собственными
именами». Такие имена прямо указывают на «чувственно данное» на-
шего опыта. Английский философ при этом не учитывал, что значение
1 Своей критикой понятия «существование» он продолжил традицию Юма и Кан-
та, выступавших против предицируемости существования. Для Рассела существование
не является свойством объектов; это «неполный символ», который должен быть эли-
минирован путем логического анализа.
37
этих «надежных» слов во многом зависит от контекста их употребле-
ния. На данный недостаток ему впоследствии указал Л. Витгенштейн.
Итак, Расселу было принципиально важно различать имена и де-
скрипции. В этой связи он на протяжении нескольких лет настойчиво
критиковал позицию австрийского философа А. Мейнонга, который,
по его мнению, в своей «теории предметов» (Gegenstandstheorie)
приписывал любой грамматически правильной обозначающей фразе
свой объект. Так, если использовать вышеприведенный расселовский
пример, фраза «нынешний король Франции», по Мейнонгу, обозна-
чала бы «возможный несуществующий объект», а, скажем, самопро-
тиворечивая фраза «круглый квадрат» — «невозможный несущест-
вующий объект». Подобные специфические объекты заняли бы свое
место в онтологии наряду со всеми другими объектами. Расселу же
«инстинкт реальности» и логическая установка не позволяли допус-
тить в свой мир такие сомнительные сущности. Это означало бы отказ
от требований логической строгости и соответствия принципам эмпи-
ристской эпистемологии.
Надо сказать, что спор Рассела и Мейнонга получил продолжение
в ходе дальнейших логических исследований онтологической пробле-
матики. Одни исследователи углубились в «джунгли Мейнонга» (это
выражение австралийского логика Р. Раутли), подчеркивая преиму-
щества более богатой онтологии и занимаясь проблематикой несуще-
ствующих объектов. При этом, помимо чисто логической стороны во-
проса, отмечалось, что подобные объекты обладают важной для лю-
дей психологической реальностью (например, в случае страха челове-
ка перед наступлением какого-либо невероятного события). Другие,
вроде У. Куайна, стали разрабатывать более «скупую», нежели рас-
селовская, онтологию на основе экстенсиональной логики, в основ-
ном игнорируя модальный аспект. Спор двух линий продолжается.
Когда Рассел рассуждал о парадоксах обозначающих фраз, он
имел в виду случаи, могущие иметь негативные последствия при фор-
мулировании философских и научных положений. Рассмотрим два
предложения, в которых несуществующему объекту — в 1905 году во
Франции уже не было короля — приписывается определенный пре-
дикат.
(1) «Нынешний король Франции лыс».
(2) «Нынешний король Франции не лыс».
Оба приведенные предложения выглядят как грамматически пра-
вильные предложения с денотатом (то есть обозначаемым объектом),
и одно из них в соответствии с законом исключенного третьего должно
быть истинным. Но как среди лысых, так и среди нелысых людей мы не
находим «нынешнего короля Франции». Гегельянцы, шутливо заме-
38
тил Рассел, с их склонностью к синтезу противоположностей, вероят-
но, сказали бы, что «нынешний король Франции» носит парик.
Английский философ показал, что оба предложения могут быть
ложными, если дескриптивная фраза «нынешний король Франции»
имеет «первичное вхождение» в предложение. Так, предложение
«Нынешний король Франции не лыс» ложно, если оно означает:
«Имеется такая сущность, которая в настоящее время является коро-
лем Франции и которая не лыса». Но оно может быть истинным, если
подразумевается: «Ложно, что имеется сущность, которая является в
настоящее время королем Франции и которая лыса». В последнем
случае вхождение фразы в предложение оказывается «вторичным»1.
Рассела интересовали и более серьезные парадоксы (антиномии).
Одни из них относились к сфере логико-математического знания, дру-
гие — к семантическим свойствам языка. В число первых входит и па-
радокс, получивший название «парадокса Рассела». Он возникает
при рассмотрении классов как самостоятельных объектов. В таком
случае можно различать собственные и несобственные классы. Пер-
вые суть те, что не являются членами самих себя (например, класс та-
ких объектов, как авторучки, сам не является авторучкой). Вторые
суть те, что являются членами самих себя (например, класс всех клас-
сов). Рассел в этой связи рассматривает «класс всех классов, не яв-
ляющихся членами самих себя» и задается вопросом: является ли та-
кой класс членом самого себя или нет? При ответе на поставленный
вопрос, как нетрудно убедиться, возникает противоречие.
Имеется несколько популярных и даже шуточных формулировок
указанного парадокса, но они в известной мере затемняют суть про-
блемы, ибо предполагают решение на уровне здравого смысла2. Разу-
меется, парадокс заинтересовал английского философа не в связи с
теми или иными тупиковыми жизненными ситуациями. Дело все в
том, что «парадокс Рассела» был обнаружен в той области математи-
ческого знания, которая бурно развивалась с конца XIX века и счита-
лась образцом логической правильности для других областей матема-
тики — в теории множеств (классов). Фреге и некоторые другие веду-
1 Различение первичного и вторичного «вхождения» (оссигепсе) обозначающей
фразы является интересным (и спорным) с чисто логической точки зрения, и поэтому
мы не будем углубляться в его рассмотрение. Подробнее см. в: Рассел Б. Дескрип-
ции//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982.
2 Так, например, можно посчитать нелепым указ по деревне: единственный брадо-
брей деревни должен брить только тех мужчин деревни, которые не бреются сами. Тогда
просто не будет необходимости отвечать на приводящий к антиномии вопрос: бреет ли
он самого себя?
39
щие математики (включая Рассела) стремились придать математике
максимально строгий, аналитический характер, избавить ее от интуи-
тивных допущений, выводить все основные положения математики из
небольшого набора логических принципов (аксиом), давать точное
логическое определение математическим понятиям. Грандиозная
программа Фреге по логической формализации математики была в
значительной мере подорвана в результате обнаружения указанного
парадокса1.
Рассел, который сам стремился осуществить проект полной фор-
мализации математики, попытался не просто заблокировать противо-
речие, но и дать радикальное — в некотором роде парадигматиче-
ское — решение проблемы. С этой целью он разработал теорию
типов, которая, по его убеждению, позволяла избегать парадоксов.
Так, в частности, обнаруженный им парадокс не возникает, если учи-
тывается, что множество (класс) и его элементы относятся к различ-
ным логическим типам, причем тип множества выше типа его элемен-
тов. В трехтомной работе «Principia Mathematica» (PM), написанной
совместно с кембриджским математиком А.Н. Уайтхедом, и в других
более поздних работах по философии математики Рассел отказался от
своей ранней платонистской трактовки классов. «Класс,— писал он,—
есть всего лишь выражение. Это удобный способ говорить о значени-
ях переменной, для которой истинна определенная функция»2.
Утверждения о классах Рассел представил как утверждения о про-
позициональных функциях, то есть функциях типа F(x)y которые ста-
новятся истинными или ложными предложениями в зависимости от
того, какие значения подставляются на место переменных. В РМ
представлена иерархия пропозициональных функций, которым удов-
летворяют в качестве значений объекты разных логических типов: ин-
дивиды, их свойства, свойства свойств и так далее. В противном слу-
чае мы получаем бессмысленные утверждения относительно таких
объектов, как «класс всех классов, не являющихся членами самих
себя».
Далеко не все математики и логики поддержали расселовский
подход к разрешению математических парадоксов. Одни сочли теорию
типов чересчур искусственной, другие (ранний Витгенштейн) — про-
1 В 1902 году Рассел в письме сообщил Фреге об открытом парадоксе. В творче-
ском отношении это явилось для Фреге тяжелейшим ударом, от которого он так и не оп-
равился. Кстати, отношение к парадоксам современных математиков, которые не ста-
вят себе столь грандиозные цели, как их коллеги начала века, достаточно спокойное.
2 Russell В. My Philosophical Development. L, 1975. P. 62.
40
сто излишней1. Предлагалось также в качестве решения полностью
отказаться от таких широких по объему понятий, как «класс всех
классов». Справедливо отмечалось, что теория налагает слишком
сильные ограничения, не позволяя, например, высказывать одно ос-
мысленное утверждение об объектах разных уровней. А математи-
ки-интуиционисты вообще не ввдели в парадоксах какой-либо опас-
ности для математического творчества. Кроме того, сильный удар по
планам Рассела и других математиков-логицистов нанесло доказа-
тельство в 1931 году К. Гёделем теоремы о принципиальной неполно-
те2 формализованных систем типа РМ.
Помимо математических Рассела интересовали и семантические
(лингвистические) парадоксы, в частности известный еще с древности
парадокс «Лжец». В одной из своих формулировок он гласит: «Все,
что я утверждаю, ложно». Понятно, что если само это утверждение
истинно, то оно ложно; если же оно ложно, то оно истинно. Как прави-
ло, семантические парадоксы разрешаются путем уточнения значения
слов и выражений естественного языка. Рассел же при разрешении
указанного парадокса использовал свою идею иерархии типов лин-
гвистических и логико-математических сущностей. Он полагал, что
утверадение лица, вводящее в заблуждение, является самоуказываю-
щим (self-referring) и потому логически бессмысленным. Его следует
переформулировать с учетом того, что утверждение, обозначающее
другие утверждения, должно быть более высокого типа, чем обозна-
чаемые им утверждения. В результате переформулировки, например,
получаем: «Я утверждаю ложное предложение (Я лгу) первого типа».
Но само это утверждение, содержащее высказывание о другом, отно-
сится ко второму типу.
Логической иерархии различных сущностей в концепции Рассела
соответствует определенная иерархия элементов реальности. Теория
типов и некоторые другие логические построения Рассела лежат в ос-
нове его метафизики, которую он впервые в 1911 году назвал «логи-
ческим атомизмом». Элементам реальности соответствуют имена,
подтверждаемые «знанием-знакомством», а также состоящие из
имен предложения, которые он делит на атомарные и молекулярные.
В качестве примеров атомарных предложений Рассел приводил: «Это
белое» и «Это слева от того» и другие предложения подобного рода3.
В них фиксируется обладание некоторым свойством или же наличие
Wittgenstein L Tractatus Logico-Philosophicus. Üb 3.331—3.333.
! Это означает, что в системе есть предложения, которые в ней недоказуемы.
1 Russell В. The Philosophy of Logical Atomism. La Salle, 1993. P. 60.
41
некоторого отношения. Атомарным предложениям в мире соответст-
вуют атомарные факты.
Один из примеров молекулярного предложения: «Если идет
дождь, то я захвачу зонтик»1. В таких предложениях входящие в них
атомарные предложения соединяются с помощью слов-связок «и»,
«или», «если». Молекулярные предложения суть функции истинно-
сти составляющих их атомарных предложений. Хотя и есть атомарные
факты, но молекулярных фактов быть не может, ибо ничто в мире не
соответствует связкам (в том числе никакие психические состояния
субъекта).
В этом контексте Рассел связывал проблему истины с вопросом о
соответствии наших предложений фактам. Он вначале создает до-
вольно сложную концепцию, согласно которой суждение или верова-
ние трактуются как отношения, связывающие воедино все термины,
входящие в предложение. Например, отношение, обозначаемое сло-
вом «believing», связывает в единый комплекс все составляющие
предложения «Отелло верит, что Дездемона любит Кассио». Субъект
(Отелло) и «объекты» (Дездемона, любит, Кассио) в определенном
порядке «стягиваются» верованием. Если верование Отелло истин-
но, то имеется комплексное единство «Дездемона любит Кассио».
Если же верование Отелло ложно, то такого комплекса в действи-
тельности нет. В целом некоторое верование истинно, если имеется
соответствующий ему факт, и ложно в противном случае. Рассел так-
же подчеркивал, что Отелло не мог иметь в виду такой сложный объ-
ект, как «любовь Дездемоны к Кассио», поскольку это означало бы
объектацию лжи, допущение негативных фактов и тем самым вызов
«инстинкту реальности».
Впоследствии, однако, Рассел отказался от этой теории сужде-
ния-верования. Решающую роль в этом сыграл его ученик, коллега и
друг (до определенного времени) Людвиг Витгенштейн. Последний
подверг уничтожающей критике взгляд Рассела и противопоставил
ему свою — значительно более простую — теорию предложения как
образа (модели) факта. Рассел был вынужден признать правоту сво-
его молодого оппонента и отказаться от некоторых проектов.
Теория логического атомизма представляет собой одно из реше-
ний центральной задачи, поставленной английским философом: дать
максимально полное и экономное (только «факты») описание «того,
что есть», установить структурное единство языка и мира. С этим же
связаны попытки Рассела создать совершенный логический язык, в
1 Pussell В. The Philosphy of Jogical Atomism. P. 70.
42
котором каждому слову (знаку) будет соответствовать компонент оп-
ределенного факта (за исключением, разумеется, слов, обозначаю-
щих связки). Рассел с оптимизмом верил в возможность создания иде-
ального языка. Правда, в завершающий период творчества этот опти-
мизм несколько поостыл. Надо учитывать, что идеальный язык рас-
сматривался Расселом прежде всего как язык науки. Он прекрасно
понимал, что в естественном языке однозначное соответствие эле-
ментов языка и фактов невозможно. Если бы у всех людей за конкрет-
ными словами стояло одно и то же «знание-знакомство», то они про-
сто не смогли бы общаться.
Как философ и логик, Рассел недооценивал возможности естест-
венного языка. Его отношение к естественному языку и к философии,
описывающей различные аспекты употребления языка, явилось при-
чиной идейного расхождения в 30-е годы с «поздним» Витгенштейном
и лингвистическими аналитиками Оксфордской школы обыденного
языка. Последние, в свою очередь, критиковали расселовскую теорию
обозначающих фраз за игнорирование коммуникативной функции
языка и многообразия способов его употребления1. Они также не раз-
деляли его стремления к созданию логически совершенного языка.
Появление лингвистической философии знаменовало собой новый
этап в развитии аналитического направления. Однако если говорить о
состоянии аналитической философии за последние 15—20 лет, то для
нее нехарактерно преобладание той или иной школы со своей четкой
программой. В этой связи расселовская теория обозначающих фраз
уже не считается устаревшей и снова оказывается в центре внимания
теоретиков проблемы языковой референции2.
От расселовской философии языка перейдем к другой стороне его
творчества. В 1921 году Рассел публикует книгу «Анализ сознания».
Он начал работу над ней в 1918 году, находясь в заключении за свою
пацифистскую деятельность. В основе книги — прочитанный ранее
лекционный курс. В ней он обращается к проблеме психического, ста-
раясь и в этой области создать максимально экономную и строгую
концепцию. Сам автор охарактеризовал свое исследование как по-
пытку совмещения определенной тенденции в психологии с опреде-
ленной тенденцией в физике. В этот период под влиянием американ-
ских психологов Рассел становится горячим сторонником бихевиори-
стской школы. Он полагал, что позиция данной школы ведет в мате-
1 См., например: Sainsbury R.M. Russell. L., 1979. P. 13—160.
2 См.: Стросон П.Ф. О референции//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII.
М., 1982.
43
риалистическом направлении: психология оказывается зависимой от
физиологии и метода внешнего наблюдения за поведением. Совре-
менная же физика, по мнению Рассела, дематериализует материю,
рассматривает ее как логическую конструкцию из пространствен-
но-временных событий. Более того, материя — это логическая фик-
кия, представляющая собой удобное обозначение для сферы действия
каузальных законов1. Налицо, как считал Рассел, сближение психо-
логии и физики.
Английский философ стремился опровергнуть точку зрения, со-
гласно которой сущностью ментальных (психических) процессов яв-
ляется нечто, называемое «сознанием» (consciousness). В соответст-
вии с ней различные психические функции и операции (ощущение,
восприятие, память, мышление, верование, желание, удовольствие и
другие) рассматриваются как состояния (или акты) сознания. В про-
тивовес этому Рассел подчеркивал невозможность эмпирическим пу-
тем обнаружить какие-либо особые «состояния сознания», считая
мнение о существовании последних лишь трансформацией устарев-
ших представлений о «душе».
Рассел полагал, что общеупотребимые выражения типа «я ду-
маю», «вы думаете», «он думает» в сфере психологического знания
являются вводящими в заблуждение, ибо навевают ложное представ-
ление о субъекте как носителе мыслей (и сознания в целом). Психо-
логу следует переформулировать их в десубстанциализированные вы-
ражения типа «во мне имеется мысль» и тому подобное, даже несмот-
ря на необычность этих выражений. Отказ от понятия субъекта как
носителя психических процессов, по Расселу, позволит сблизить опи-
сание закономерностей ментальных и физических событий.
В период интенсивного занятия вопросами философии психологии
Рассел находился под влиянием некоторых идей прагматиста
У. Джеймса, в частности его статьи «Существует ли сознание?»2. В
ней американский философ и психолог отстаивал радикальное мне-
ние, что «сознанию» как особой субстанции не место в науке. Это по-
нятие имеет лишь функциональное значение, указывая на познава-
тельную функцию мышления. По Джеймсу, мир состоит из единого
«вещества», а не из материи и духа. Одни сочетания элементов опыта
составляют ментальную сферу, другие — физическую. С Джеймсом
солидаризировалась группа американских неореалистов, которые в
1 В 1927 году Рассел посвятил этому вопросу специальную книгу «Анализ мате-
рии».
2 См. русский перевод в: Новые идеи в философии. Сб. 4. СПб., 1913. С. 102—
127.
44
своем манифесте «Программа и первая платформа шести реалистов»
(1910) использовали понятие «нейтральных сущностей», из которых
конструируется все остальное.
Рассел также считал, что «вещество» мира нейтрально, но при
этом указывал, что в физике и психологии действуют разные каузаль-
ные закономерности. Однако констатация данного различия не долж-
на, по его мнению, приводить к теории психофизического параллелиз-
ма. Материя влияет на дух, а дух — на материю, поскольку в их осно-
ве одни и те же элементы, отношения между которыми носят внешний
характер. «В ходе этих лекций,— отмечал Рассел,— я попытаюсь
убедить вас, что материя не столь материальна, как считают, а дух не
столь духовен»1. Так что, говоря о материи, следует склоняться к
идеализму, а говоря о духе,— к материализму. Но в целом, по Рассе-
лу, правильнее говорить о нейтральных сущностях, из которых конст-
руируется мир. Им не присуща ни твердость материи, ни ментальная
способность указывать на объекты (интенциональность). Такой под-
ход представлялся английскому философу самым экономным и научно
обоснованным.
Вышеизложенная теория, получившая название теории «ней-
трального монизма», все же предполагает, что научное объяснение
мира более адекватно, если оно изначально осуществляется с психо-
логической, а не с физической точки зрения. Дело в том, что исходны-
ми данными психологии являются ощущения; они же, согласно Рассе-
лу, являются и основными данными физических наук. В этом смысле
психология ближе к тому, что непосредственно познается.
Если Рассел в 20-е годы предполагал возможность создания унифи-
цированной науки на основе психологии, то последующие поколения
англо-американских философов аналитического направления в 40—
50-е годы стали склоняться к позиции физикализма, предполагающей
перевод терминов и содержания всех наук на интерсубъективный язык
физики. Свою позицию они противопоставляли феноменализму. Неко-
торое влияние это изменение позиции оказало и на Рассела.
Опубликованная в 1948 году книга «Человеческое познание. Его
сфера и границы» является итоговой работой английского философа,
посвященной собственно эпистемологическим вопросам2. В ней он
1 Russell В. The Analysis of Mind. L; N. Y., 1924. P. 36.
2 В середине 10-х годов на основе своих гарвардских лекций Рассел подготовил
обобщающую работу «Теория познания». В силу ряда причин эта рукопись так и не
была опубликована им. О ее существовании стало известно лишь в 1967 году. В настоя-
щее время она опубликована в 7-м томе собрания сочинений Рассела.
45
изложил свои взгляды на принципиальную для него тему: соотноше-
ние обыденного и научного знания, мира здравого смысла и мира фи-
зики. В этом контексте здесь всесторонне проанализировано понятие
причинности, отношение к которому позднего Рассела более конст-
руктивное, чем в ранний период. В книге содержится большой факти-
ческий материал из многих отраслей науки. Некоторые факты и ин-
терпретации, приводимые Расселом, к настоящему времени устарели,
что вполне понятно. Но несомненно, что фактический материал в кни-
ге не является чужеродным элементом. Он закономерно подводит анг-
лийского философа к его взгляду на мир как сферу действия вероятно-
стных закономерностей и сложных каузальных связей. Кстати, рассе-
ловское философское рассмотрение основных концепций вероятно-
сти до сих пор считается одним из лучших в подобной литературе. Он
прекрасно понял, что в вероятностном мире эпистемолог уже не мо-
жет уповать ни на спекулятивные построения, ни на описание «чисто-
го опыта».
Поздний Рассел возвращается к вопросу о роли верований в по-
знании, который трансформируется в вопрос о внелогических прин-
ципах — ив конечном итоге в концепцию пяти постулатов научного
вывода, венчающую книгу1. Именно в них Расселу удается осущест-
вить синтез эмпиристской и рационалистической тенденций своего
учения, о которых говорилось в связи со становлением его взглядов. В
стремлении к такому синтезу английский философ продемонстриро-
вал последовательность и настойчивость, способствовавшие его
страстному «поиску знания». Постулаты практического вывода —
естественный результат полувековых логико-эпистемологических ис-
следований Рассела.
В истории философии XX века взгляды Бертрана Рассела занима-
ют видное место. Так, хотя он и не создал особой философской школы,
он справедливо признается одним из зачинателей аналитического
движения в западной философии. Однако представляется, что его
вклад не ограничивается только этим обстоятельством. Вне зависи-
мости от тех или иных пристрастий Рассела в разные периоды творче-
ства очевидно, что он был оригинальной и самостоятельной фигурой,
идеи которой однозначно не вписываются ни в одно из главных на-
правлений философской мысли современности.
1 См.: Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. М., 2000. С. 362—
434.
ДЖОРДЖ МУР И СТАНОВЛЕНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Английский философ Джордж Эдвард Мур родился в 1873 году в
предместье Лондона. Его отец и дед были практикующими медиками,
а мать происходила из семьи квакеров. С восьми лет он был отдан на
обучение в Далвич-колледж, где старательно и с немалым успехом
изучал древние языки. Античная литература, а затем и английская
проза настолько увлекли юного Мура, что он в значительной степени
проигнорировал изучение естественных наук и математики, о чем впо-
следствии сожалел. По мере обучения он постепенно утратил приви-
тые ему родителями религиозные убеждения, став, по его словам, «за-
конченным агностиком»1. В 1892 году он поступил в Кембриджский
университет, где продолжил классическое образование в знаменитом
Тринити-колледже. В конце первого года обучения он познакомился
со студентом этого колледжа Бертраном Расселом, который посове-
товал ему заняться философией. В Кембридже в те годы блистал фи-
лософ-идеалист Дж. Мактаггарт, испытавший значительное влияние
гегелевской философии и доказывавший различные парадоксальные
утверждения (например, что «время нереально»). Общение с этим
преподавателем стимулировало у Мура интерес к логике рассужде-
ний спекулятивных философов, отстаивающих мнения, противореча-
щие здравому смыслу. В области моральной философии его учителем
был известный этик Г. Сиджуик, чья, в отличие от Мактаггарта, при-
верженность здравому смыслу импонировала Муру.
В 1895 году он некоторое время провел в Германии, в Тюбинген-
ском университете, где прослушал курсХ. Зигварта о Канте. Вернув-
шись в Кембридж, он занялся диссертацией, посвященной кантовской
этике. Следующая работа Мура была связана уже не с практической,
а с теоретической философией Канта. Первая его оригинальная пуб-
ликация «Природа суждения» (1899) явилась основанием для избра-
1 См. «Автобиографию» Мура в: The Philosophy of G.E. Moore. Ed. by P.A. Schilpp.
Evanston and Chicago, 1942. P. 11.
47
ния его в члены колледжа. В начале века он читал в Лондоне короткие
курсы лекций по этике, составившие в конечном итоге костяк книги
«Principia Ethica», над которой он работал шесть лет. В 1898 году Мур
стал членом Аристотелевского общества, ведущего объединения бри-
танских философов. Именно на заседаниях этого общества он сделал
многие свои доклады. В 1918 году он был избран членом Британской
Академии. Первая книга кембриджского философа по этике, в осо-
бенности ее глава «Идеал», имела большой успех и сблизила ее авто-
ра со знаменитой «Блумсберской группой», в которую входили из-
вестные деятели британской культуры (например, писательница
Вирджиния Вульф и экономист Дж. М. Кейнс).
С 1904 по 1911 год Мур преподавал вне Кембриджа — в Эдин-
бурге и Лондоне; затем он вернулся в aima mater, где занимал долж-
ность лектора по этике, а с 1925 года был профессором «ментальной
философии и логики». Помимо этики он читал курс психологии, кото-
рый точнее было бы отнести к «философии психологии» или «фило-
софии сознания» (philosophy of mind), а также курс метафизики. В
1939 году в возрасте 65 лет, в соответствии с университетскими пра-
вилами, он оставил профессорскую должность, которая перешла к
Людвигу Витгенштейну. С Витгенштейном он познакомился еще в
1912 году, а в 30-е годы, когда австрийский философ вернулся в Кем-
бридж, они оказывали немалое взаимное влияние друг на друга. Прав-
да, в целом их отношения (как и отношения Расселя и Витгенштейна)
не были идеальными.
Оставив профессорскую должность, Мур продолжал лекционную
работу вначале в Оксфорде, а с 1940 по 1944 год — в различных уни-
верситетах США(Принстонский, Колумбийский и другие университе-
ты). Важной сферой деятельности зрелого периода его творчества
было редактирование ведущего британского философского журнала
«Mind» (1921 —1947). Джордж Эдвард Мур умер в 1958 годуй был
похоронен на университетском кладбище в Кембридже.
Мур является создателем оригинального стиля философство-
вания. Ктому времени, когда он начал активно публиковать свои про-
изведения, в британской философии, как известно, доминировал
стиль приверженцев абсолютного идеализма (Т.Х. Грин, Б. Бозанкет,
Ф. Брэдли, Дж. Мактаггарт и др.). Для последнего была характерна
крайне абстрактная метафизическая терминология, изощренные диа-
лектические хитросплетения и недооценка формальной логики, а так-
же подчеркнуто высокомерное отношение к эмпирико-фактической
стороне рассматриваемой проблематики. Мур довольно быстро про-
шел школу такого идеализма, став в последствии одним из наиболее
известных его критиков. Он первым среди британских философов
48
XX века обратился к естественному, повседневному языку как основ-
ному орудию философствования. Именно в естественном языке он
увидел не только источник многих традиционных философских заблу-
ждений, но также и воплощение здравого человеческого смысла. По-
следнее понятие, надо заметить, давно — с начала XVIII века — во-
шло в лексикон британских философов, однако в период господства
абсолютного идеализма (вторая половина XIX века) в значительной
степени игнорировалось. Для Мура обращение к здравому смыслу оз-
начало возвращение к принципам национальной философской тради-
ции (напомним в этой связи, что британские идеалисты испытали
сильное влияние немецкого классического идеализма), в частности к
реалистической тенденции, представленной в конце XVIII века так на-
зываемой Шотландской школой (Томас Рид и др. ). Естественный язык
он рассматривал как средство проникновения в здравый смысл, в при-
сущие последнему врожденные интуиции нашего восприятия предме-
тов внешнего мира и нравственности.
Тонкие философско-лингвистические «упражнения» кембридж-
ского философа при этом имели одну специфическую особенность,
роднящую его даже не столько с предшественниками в британской
философии, сколько с античными мыслителями, прежде всего с Со-
кратом. Дело в том, что в текстах Мура, излюбленным жанром кото-
рого была статья, а не книга, отсутствуют какие-либо однозначные от-
веты на поставленные вопросы, категоричные выводы. «Майевтика»
Мура заключается в умении с помощью лингвистического анализа
слов и словосочетаний подвести читателя к зарождению понимания
той или иной проблемной ситуации, выявлению сугубо философских
заблуждений, прояснению позиции здравого смысла. В результате
лингвистической перефразировки выражений, которая, сохраняя си-
нонимичным первоначальный смысл, представляет их в более ясной и
простой форме, возникает очевидное представление проблемы. Надо
сказать, что ссылки на очевидность служат для Мура едва ли не
главным видом философской аргументации, а ясность выступает ос-
новным регулятивом всех его аналитических процедур. В отличие от
Рассела, он ищет ясность в самом повседневном языке, а не обраща-
ется к глубинному формально-логическому анализу языка с целью
выявления скрытых структур обозначения. Наряду с поздним Л. Вит-
генштейном Мур стимулировал возникновение в 30—40-е годы лин-
гвистической философии (самые яркие представители которой —
оксфордские философы «обыденного языка»), однако сам он едва ли
может быть отождествлен с этим течением. Все дело опять же в уни-
кальном, «сократическом» стиле его философствования, который не
ориентировал на формулирование конкретных теоретических прин-
4 - 5739 49
ципов и исследовательских установок (вроде теории «речевых актов»
оксфордского аналитика Дж. Остина или «лингвистического бихе-
виоризма» Г. Райла). Такой подход, естественно, оставляет неудовле-
творенность у любителей четких ответов на философские вопросы, но
кажущаяся уклончивость позиции кембриджского философа объяс-
няется отнюдь не неспособностью давать такие ответы. Тексты Мура
представляют собой метафилософские исследования основных,
принципиальных точек зрения, высказанных в мировой философии.
Как неоднократно отмечалось в комментаторской литературе, стиму-
лом для него послужили не столько сами философские проблемы,
сколько то, что другие философы высказывали по поводу этих про-
блем. Поэтому в работах Мура мы встречаемся с осмыслением и ана-
лизом вопросов, так сказать, на втором уровне. И это касается не
только его эпистемологии, но и этических исследований, приведших к
созданию метаэтики.
При оценке отношения Мура к Абсолютному идеализму, разуме-
ется, нельзя ограничиться только указанием на стилистические раз-
личия. Отношение Мура к господствовавшей в британских универси-
тетах в его молодые годы философской традиции было значительно
сложнее. Даже несмотря на поднятый им в начале века «бунт» (выра-
жение Рассела) против данной традиции, он еще довольно долго при-
держивался некоторых принципов, разделявшихся идеалистами. Это
прежде всего касается его мнения о неэмпирическом, объективном
характере понятий, а также рассуждений о совпадении истины и ре-
альности. Кстати, истину ранний Мур трактовал как неанализируе-
мое, данное в интуиции свойство наших утверждений. Нетрудно уви-
деть сходство такого понимания истины и положения о неопределимо-
сти основных этических понятий (понятия добра, в первую очередь),
которое он отстаивает в своей моральной философии.
Основной критический пафос Мура и Рассела в полемике с абсо-
лютными идеалистами был направлен против теории внутренних
отношений, которая играла решающую роль в монистической мета-
физике спекулятивных идеалистов. Согласно этой теории, все отно-
шения в «мире явлений» носят существенный (необходимый) харак-
тер и модифицируют соотносящиеся стороны. Причем в онтологиче-
ском плане это могут быть и материальные вещи, и ощущения, и поня-
тия, и языковые термины, то есть объекты любого рода и статуса.
Брэдли, например, доказывал, что никакая онтологическая сущность
не может существовать и иметь значение вне той или иной системы
внутренних отношений. Исключение составляет лишь сам Абсолют,
представляющий собой подлинную реальность, лежащую в основании
противоречивого феноменального мира.
50
Если Рассел строил альтернативную теорию внешних отноше-
ний на базе разработки строгой логико-математической теории отно-
шений (получившей наиболее полное воплощение в фундаментальной
«Principia Mathematica»), то Мур для этой цели умело использовал
особенности практики употребления слов и выражений естественного
языка. Например, в статье «Внешние и внутренние отношения»
( 1919)1 он оспаривает тезис Брэдли о том, что все отношения «моди-
фицируют соотносящиеся термины». На основе многочисленных при-
меров, взятых из повседневной лингвистической практики, он пока-
зывает, что многие термины, находящиеся в различных отношениях
друг к другу, от этого не изменяются. Из чего следует, что Брэдли и
другие идеалисты этой школы используют слово «модифицируют» в
необычном, не соответствующем общепринятому значении. Обосно-
вание ими теории внутренних отношений противоречит сложившимся
(парадигматическим) нормам естественного языка и воплощенного в
нем здравого смысла. В характерной для него манере Мур остроумно
замечает, что придерживаться теории внешних отношений просто оз-
начает считать, что хотя король Эдуард VII и был отцом Георга V, но он
мог существовать и не будучи отцом Георга V. В целом муровский ва-
риант данной теории распространяется на эпистемологию (о чем будет
кратко сказано ниже), а также на логику употребления этических по-
нятий. Отметим также, что Мур развивал логику внешних отношений
без создания параллельной онтологии логического атомизма, как это
делал Рассел. Все его внимание было приковано к тому, как действи-
тельно употребляются языковые термины, насколько это употреб-
ление соответствует общераспространенным убеждениям людей.
Муру как зачинателю аналитического движения в XX веке принад-
лежит разработка одного из направлений философского анализа. Его
понимание анализа включает в себя следующие составляющие.
Во-первых, анализ служит методом перефразировки выражений ес-
тественного языка с целью избежания двусмысленностей. Логикосе-
мантические аспекты перефразировки Мур при этом специально не
рассматривал. Во-вторых, он трактовал анализ как разложение
предложений на элементарные составляющие, обозначающие так на-
зываемые «чувственные данные» (sense-data). Последние не суть
ощущения, не сам чувственный опыт, а то содержание, которое дается
в опыте, непосредственные объекты восприятия. Понятие «чувст-
венных данных» лежит в основе неореалистической теории познания
английского философа и служит отправной точкой в критике им идеа-
См.: Moore G.E. Philosophical Studies. L, 1951. P. 276—309.
51
листического феноменализма. В-третьих, аналитические процеду-
ры применяются Муром при рассмотрении так называемых парадок-
сальных предложений типа «Идет дождь, но я в это не верю» или «Мы
никогда с очевидностью не знаем то, о чем помним». Особенностью
этих, казалось бы, правильно сформулированных с точки зрения «по-
верхностной грамматики» предложений является отклонение от об-
щепринятых норм употребления, непоследовательность осуществ-
ляемых с их помощью речевых действий. Исследования Муром этого
вопроса оказали существенное влияние не только на аналитическую
философию, но и на собственно лингвистическую науку.
Общефилософская позиция Мура наиболее полно представлена в
трех статьях, воплощающих главные этапы его творческого разви-
тия. Название первой из них — «Опровержение идеализма»1 — пе-
рекликается с названием известного раздела второго издания кантов-
ской «Критики чистого разума». Статья состоит из двух частей: крити-
ческой и позитивной. В первой осуществляется лингвистический ана-
лиз берклианского тезиса «быть, значит быть воспринимаемым»
(esse is percipi). Этот тезис, по мнению Мура, неявно присутствует в
различных формах идеалистического философствования. Показав
ложность берклианского тезиса, мы, хотя и не опровергнем главный
тезис всякого идеализма вообще (для Мура таковым оказывается по-
ложение «реальность имеет духовный характер»), но сделаем решаю-
щий шаг в этом направлении. Кембриджский философ описывает тон-
чайшие нюансы употребления фразы Беркли, приходя к выводу о
внутренней противоречивости тезиса и неопределенности значения в
нем связки «есть». «Быть, значит быть воспринимаемым» не являет-
ся аналитическим (логически необходимым) суждением, отрицание
которого неизбежно приводило бы к противоречию. Дело в том, под-
черкивает Мур, что в критикуемом тезисе предикат (percipi) не рас-
крывает содержание субъекта (esse). Однако идеалисты, в той или
иной форме придерживающиеся этого тезиса, не видят разницы меж-
ду тем, что означает, к примеру, «быть голубым» и «быть ощущением
голубого». А это в свою очередь приводит к глубоким философским
заблуждениям.
В позитивной части статьи философ обосновывает тезис о неза-
висимости объекта познания. Для этого он предпринимает анализ
понятия «ощущение» (sensation), выделяя в нем две части: ( 1 )то, что
общее всем ощущениям, и (2) то, что отличает одни ощущения от дру-
гих. В первом случае речь идет о, так сказать, субъективной модально-
1 Впервые напечатана в: Mind. .№48. October 1903. P. 433—453.
52
сти ощущения, называемой им сознанием (consciousness), которое
«прозрачно» и которого мы не замечаем. Bo-втором случае речь идет
о содержании ощущения, его объекте («голубизна»), который не за-
висит от сознания. Но при этом объект нельзя отождествить и со всем
ощущением, иначе придется стать на точку зрения наивного реализ-
ма («объект таков, каким он воспринимается»).
Таким образом, в эпистемологии Мура «зеленое» и «голубое»
суть ощущения в силу наличия в них элемента сознания, но они при
этом отличаются своими объектами. Как же в рамках ощущения соот-
носятся сознание и объект? Отношение между этими составляющими
ощущения кембриджский философ называет «осведомленностью»
(awareness), которое является внешним, не изменяющим соотнося-
щиеся стороны. Иметь ощущение голубого означает быть осведом-
ленным о чем-то голубом, причем это не сводится ни к «сознанию», ни
к наличию в голове ментального образа. Если мы знаем об ощущении
голубого, то мы знаем с «очевидностью» о своей осведомленности о
нем. Последняя в концепции Мура рассматривается в качестве уни-
кального внешнего отношения, доступного самого по себе. В этом
проявляется интутивистская тенденция его учения о познании. Свое-
образный интуитивизм присущ и его моральной философии.
В результате проведенного концептуального анализа ощущения
английский философ осуществил перефразировку: «иметь ощущение
значит быть осведомленным». Объект ощущения в его неореалисти-
ческой теории познания не совпадает с сознанием объекта. Непосред-
ственное восприятие и существование чего-либо не тождественны:
между ними внешнее, функциональное отношение. Таков был ранний
ответ Мура сторонникам идеалистического феноменализма.
Влияние на него идей Шотландской школы, о котором говорилось
ранее, наиболее полно сказалось в другой знаменитой статье «Защита
здравого смысла» (1925)1. Как и его предшественники — шотланд-
ские реалисты XVIII века — он перечисляет отдельные самоочевид-
ные положения (которые он называет «трюизмами здравого смыс-
ла»), хорошо известные ему с самого детства. Правда, дать их анализ
(то есть осуществить перефразировку в более ясную форму) не удает-
ся в силу их изначального характера. Среди трюизмов, приводимых
Муром, например, такие: «в настоящее время существует живое че-
ловеческое тело, которое является моим телом», «оно родилось в оп-
ределенное время в прошлом», «кроме него существуют другие тела,.,
а также существуют другие личности» .., которые тоже когда-то роди-
1 См.: Moore G.E. Philosophical Papers. L; N. Y., 1959. P. 32—59.
53
лись и продолжали существовать некоторое время после рождения»,
«они либо находились в прямом контакте с Землей, либо были недале-
ко от ее поверхности» и некоторые другие. Во-вторых, он считает бес-
спорным тезис относительно того, что и другие люди знают об очевид-
ности этих трюизмов. Однако, возмущается он, многие спекулятив-
ные философы (и его кембриджский учитель в философии Дж. Мак-
таггарт, в первую очередь) развивали взгляды, противоречащие
данному тезису. Они сомневались в реальности материи, пространст-
ва, времени, личности, причинности. Но их позиция была самопроти-
воречивой. Ибо, к примеру, отрицание достоверности знания о суще-
ствовании других людей подразумевает противоречие следующего
рода: «Кроме меня существует множество других живых созданий, и
ни одно из них, включая меня самого, не знает о существовании других
живых созданий». Причем это противоречие выявляется в результате
перефразировки скептического положения. Мур в целом приходит к
выводу, что отрицание вышеперечисленных трюизмов неизбежно
приводит идеалистов к заблуждениям. Их основные положения по-
этому являются не ложными, а абсурдными.
Статья «Доказательство (существования) внешнего мира»
( 1939)1 тоже представляет собой своеобразный ответ «скептику», а
также продолжение критики берклианского тезиса, начатое еще в
«Опровержении идеализма». Все же непосредственным поводом для
ее написания, по словам автора, послужила необходимость преодоле-
ния той ситуации, которую в свое время Кант назвал «скандалом для
философии», подразумевая под этим отсутствие в философии строго-
го доказательства существования вещей вне нас. Свое доказатель-
ство английский философ строит с помощью метода лингвистической
перефразировки. Обозначим лишь отдельные этапы данного процес-
са. Вначале фраза «вещи вне нас» заменяется на синонимичную фра-
зу «вещи вне нашего сознания». Затем мы ищем «вещи, с которыми
мы сталкиваемся в пространстве», поскольку сознание непространст-
венно. Это могут быть объекты не только действительного, но и воз-
можного опыта. Столы, стулья, другие люди, растения и даже тени, с
которыми мы сталкиваемся в пространстве и в наличии которых не со-
мневаемся, и поясняют фразу «вещи вне нашего сознания».
На своих университетских лекциях Мур любил указывать на свои
руки как на важнейшую посылку для доказательства существования
предметов внешнего мира. В этом случае его руки выступали как об-
разец «вещей, с которыми мы встречаемся в пространстве». Если же
1 См.: Moore G.E. Philosophical Papers. P. 127—150.
54
подобная посылка кем-то не принимается (например, сторонниками
понимания мира как иллюзии или видимости), то тогда рушится вся
наша привычная картина мира, наша система опыта и повседневной
практики (как лингвистической, так и нелингвистической). Одним
словом, речь идет о конфликте со здравым человеческим смыслом.
Таким образом, общефилософская позиция Мура, как она оконча-
тельно сформировалась к концу 30-х годов, включала в себя следую-
щие составляющие. Во-первых, это метод уточненного лингвистиче-
ского анализа употребления слов и словосочетаний, в основе которого
лежат приемы перефразировки высказываний естественного языка в
более ясную форму. Именно с помощью такого метода он вел полеми-
ку со своими идеалистическими оппонентами. Во-вторых, он разра-
батывал неореалистическую теорию познания, в основе которой ле-
жит тезис о независимости от сознания объекта познания, данного
нам непосредственно, а также понятие «чувственных данных», из ко-
торых складывается наш опыт. И наконец, он совершенствовал свое
доказательство вещей внешнего мира, в основе которого лежат врож-
денные реалистические убеждения людей и их здравомыслие.
эволюция философских взглядов
Л. ВИТГЕНШТЕЙНА
В истории западной философии XX века заметно выделяется в ка-
честве одной из ее центральных фигур австрийский философ Людвиг
Витгенштейн. Однако эта заметность еще не свидетельствует о четко-
сти и определенности сложившегося у нас образа этого мыслителя.
Безусловно, учение какого-либо философа всегда может быть пред-
ставлено различными, иногда даже противоположными интерпрета-
циями. И все же нередко критические реконструкции, осуществляе-
мые разными исследователями, способны вызывать сходные образ-
ные представления о философе. Ядром таких образов (при этом от-
нюдь не чуждых концептуальности) оказываются мировоззренческие
аспекты философских доктрин, подчас освобожденные от конкретных
особенностей присущих им способов аргументации. Какой бы абст-
рактный и специальный характер ни имело то или иное значительное
философское учение, в нем обязательно должно присутствовать неко-
торое мировоззренческое содержание. В мировоззрении иногда нема-
ловажную роль играют и личностные моменты, в которых специфиче-
ски преломляются социальные реалии эпохи (хотя, конечно, образ в
таком понимании отличается от чисто психологического портрета фи-
лософа, воссоздаваемого на основе имеющихся биографических под-
робностей и воспоминаний).
Значимость образа философа, по-видимому, двояка. Во-первых,
образ позволяет нам увидеть воздействие его философских идей за
пределами собственно философской сферы; влияние, оказываемое
ими, в зависимости от особенностей конкретной философии, на ис-
кусство, науку, мораль, право, религию, политику, обыденное созна-
ние. Во-вторых, образ философа зачастую является важнейшим, если
не единственным средством синтеза, казалось бы, противоречивых и
несовместимых идей, развиваемых тем или иным конкретным филосо-
фом. Поэтому несомненна полезная эвристическая функция образа в
указанном смысле этого слова.
56
Философский образ Витгенштейна в настоящее время складыва-
ется лишь в отдельных его чертах. В бесчисленных зарубежных иссле-
дованиях, посвященных этому мыслителю, обстоятельно изучены
особенности его философского стиля, приемы и методы аргументации
и обоснования, взаимоотношения с другими философскими теориями,
психологические мотивы деятельности. И тем не менее образ филосо-
фа по-прежнему нечеток и неопределен. Удивительные повороты фи-
лософской эволюции Витгенштейна до сих пор не увязаны в единое
целое. В то же время категоричность, безапелляционность философ-
ских взглядов Витгенштейна свидетельствуют о более или менее це-
лостном характере его мировоззрения. Попытка выяснения такой це-
лостности и является главной целью настоящей историко-философ-
ской работы.
Мозаичное исследование отдельных сторон учения Витгенштей-
на, конечно, тоже способно давать определенный интересный резуль-
тат. Но этот результат сводится к оценке лишь частных аспектов и ни в
коей мере еще не фиксирует целостный образ философа. Детальное
критическое рассмотрение формальнологической теории «Логи-
ко-философского трактата», анализ философии математики Витген-
штейна, а также его поздних философско-лингвистических идей мо-
жет иметь позитивное значение для философии логики, математики,
лингвистики. Но подобных специальных исследований еще недоста-
точно для объяснения роли и особенностей функционирования идей
Витгенштейна в системе новейшей философии, идеологии и куль-
туры. Мысль о том, что идеи Витгенштейна действительно в явной или
скрытой форме присутствуют в западной культуре нашего столетия,
не является преувеличением. Это воздействие, начиная с академиче-
ской среды, может быть специально выявлено в самых различных
сферах. Исследование такого рода само по себе должно представлять
интерес, однако оно уже выходит за рамки цели, поставленной в на-
шей работе: экспликации философского образа Витгенштейна, выяв-
ления целостного характера и особенностей эволюции его философ-
ского мировоззрения. Эта задача, по нашему мнению, может быть ре-
шена лишь путем комплексного критического анализа многих сторон
его учения.
Реконструкция взглядов Витгенштейна предъявляет к исследова-
телю дополнительные требования, связанные с особенностями его
философских текстов. Известно, что при жизни австрийского филосо-
фа были опубликованы только две его работы — «Логико-философ-
ский трактат» и небольшая статья «Некоторые замечания о логиче-
ской форме». С середины 30-х годов он готовил к публикации боль-
57
шую работу, которая, однако, не была им завершена и увидела свет
лишь после его смерти — в 1953 г. под названием «Философские ис-
следования». В конце 50-х — начале 60-х годов публикуются мате-
риалы из обширного архива философа: «Заметки по основаниям ма-
тематики», «Голубая и Коричневая книги», а также «Дневники 1914—
1916 гг.». Все эти тексты и стали основным источником для исследо-
вателей рассматриваемого периода. Тексты данной группы принято
считать как бы «классическими» текстами австрийского философа. В
то же время начиная с конца 60-х годов усилиями литературных душе-
приказчиков Витгенштейна — английских философов Э. Энском и
Р. Рииса, а также финского ученого Г. фон Вригта, являющихся непо-
средственными учениками Витгенштейна,— было осуществлено из-
дание многочисленных рукописей, дневников и текстов лекций, о ко-
торых до тех пор и не подозревала философская публика. Тогда же
были изданы письма Витгенштейна, прояснившие некоторые непо-
нятные до того времени мотивы его философской деятельности. Не
исключено, что в ближайшие годы будут подготовлены к публикации
новые витгенштейновские тексты.
Трудности интерпретации витгенштейновских текстов, таким об-
разом, связаны с тем, что это либо неотредактированные рукописи,
либо дневники, либо тексты лекций, записанные стой или иной степе-
нью достоверности его учениками. Тексты 30-х годов, в которых со-
держится немало повторений, свидетельствуют о долгом и мучитель-
ном процессе подготовки главного сочинения позднего периода —
«Философских исследований». Однако не только незавершенность и
отрывочность подавляющего большинства витгенштейновских тек-
стов создает сложности для их критического изучения. Парадоксаль-
но, но факт: именно опубликованный и многократно переизданный
«Трактат», над отшлифовкой которого автор трудился в течение не-
скольких лет, до сих пор остается одним из самых загадочных его про-
изведений. Эта загадочность, помимо особенностей философского со-
держания, во многом связана с необычным стилем как данной, так и
других его работ. Мы сталкиваемся здесь с уже встречавшейся в исто-
рии философии поразительной афористичностью и метафоричностью
философского языка (ср. тексты Ницше, Новалиса и Ф. Шлегеля).
Безусловно, эта стилевая особенность в немалой степени отражает
само содержание его идей.
Особенности литературно-философского стиля Витгенштейна,
как было показано в некоторых зарубежных работах последних лет,
имеют свои глубокие корни в австрийской, точнее, венской культуре
XX века. В них отразились духовные искания австрийской интелли-
58
генции того времени. Философские тексты Витгенштейна имеют
удивительно личностный характер. Они как бы фиксируют очередные
этапы становления его мировоззрения. Многие тексты написаны бук-
вально в форме дневников, позволяющих с точностью установить вре-
мя выработки им тех или иных взглядов. Стиль Витгенштейна как бы
заранее отрицает однозначные и скороспелые интерпретации его уче-
ния. Вместе с тем стилевая особенность создает и богатую почву для
всевозможных искажений подлинного содержания его философского
творчества, она нередко эксплуатируется его многочисленными ин-
терпретаторами на Западе.
Личностные мотивы практически невозможно отделить от многих
весьма специальных философских построений Витгенштейна. Свою
жизнь он в некотором смысле пытался построить согласно рецептам
своей философии. И в этом плане необычная биография Витгенштей-
на отражает его бесконечные поиски в области философии. Одним из
движущих мотивов для него выступает стремление к реализации це-
лостного отношения к жизни и философии. Болезненно воспринимая
противоречивое состояние интеллигенции в условиях буржуазного
общества, он делает «подлинность» и «органичность» главными це-
левыми установками своей деятельности. Его жизнь складывалась из
бесчисленных попыток осуществления этих установок. Однако соци-
альные и культурные условия эпохи приводили большей частью к не-
удачным, а иногда и к трагичным для него решениям. Это неизбежно
порождало замкнутость, таинственность его личности. Реакцией ав-
стрийского философа на отчужденный характер главных институтов
буржуазного общества (и пре>вде всего системы образования) было
его стремление свести к минимуму свою зависимость от них. Все это,
конечно, было иллюзорным решением жизненно важной для него
проблемы существования философа в современном ему мире.
Негативное отношение к буржуазной культуре своего времени (и
не только австрийской) Витгенштейн выражал неоднократно. Эту
культуру он оценивал как бесперспективную. В то же время он мало
верил и в возможность создания более прогрессивной культуры. За-
коны общественного развития Витгенштейн считал принципиально
непознаваемыми, появление новой культуры — совершенно непред-
сказуемым. Внешне радикальный подход австрийского философа к
буржуазной культуре глубоко противоречив. Противопоставляя себя
ей, он обращается к так называемым «органичным» формам жизни, к
старым традициям и обычаям. Витгенштейн специально интересуется
ролью установленных правил в обществе, «ритуальными» аспектами
человеческого общения и поведения. Все это дало основание некото-
59
рым исследователям квалифицировать его позицию по отношению к
обществу и культуре как консервативную1. Витгенштейн не был про-
роком гибели западной цивилизации наподобие сильно повлиявшего
на него О. Шпенглера. Его философское мировоззрение скорее на-
полнено «воспоминаниями о прошлом»2.
Проблемы и противоречия современного Витгенштейну общества
и культуры получили в его творчестве необычное преломление в виде
проблем языка. Эта особенность имеет свои теоретические причины.
Здесь определенную роль сыграли конкретные явления венской куль-
туры начала XX века, со всей остротой поставившие перед литерато-
рами, учеными и философами проблемы человеческой коммуникации.
Решающая роль языка не только как главной формы, в которой воз-
можно осуществление коммуникации, но и как по существу основной
«причины» особенностей этого процесса почти единодушно принима-
лась многими известными деятелями культуры. В превращенной фор-
ме лингвистических проблем и коммуникативных свойств произведе-
ний искусства воспринимали современники Витгенштейна социаль-
но-экономические противоречия общества.
С другой стороны, раннее подключение Витгенштейна к возникав-
шему тогда в Германии и Англии логико-философскому подходу к язы-
ку позволило ему объединить свои культурные искания с новым
«строгим» методам анализа, расширить рамки венского культурного
фона. Главная, проходящая через все этапы философского творчества
Витгенштейна тема — выяснение того, каким образом получают свое
значение выражения языка,— оказывается той специфической фор-
мой, в которой он пытался определить свое отношение к окружавшей
его социальной и культурной действительности. Вся философская
эволюция Витгенштейна состоит из последовательных этапов реше-
ния проблемы значения, воплотивших путь духовных исканий авст-
рийского философа. В этой эволюции фактически можно выделить
два основных периода, ознаменованных его попытками осуществить
синтез своих представлений по данной проблеме. Каждому синтезу
воззрений предшествовала продолжительная подготовительная рабо-
та. Сохранившиеся материалы рукописного наследия австрийского
философа, его дневники, многие из которых написаны в хронологиче-
1 См.: Kenny A., McGuinness B.F., Nyiri J.C. (eds). Wittgenstein and his Times.
Oxford, 1982. P. 45.
2 Ibid. P. 115.
60
ском порядке, позволяют детально представить, каким образом раз-
вивались его взгляды на проблему значения.
Подчеркнем еще раз: эта эволюция отражала мировоззренческие
искания Витгенштейна. Первый этап можно рассматривать как по-
пытку радикального решения проблемы значения. Этот этап, завер-
шившийся публикацией «Трактата», заключает в себе основное ме-
тодологическое противоречие: стремление дать абсолютное и непо-
грешимое решение указанной проблемы и одновременно полное не-
приятие самих средств решения. Второй этап («поздний
Витгенштейн») дает в этом плане противоположную картину: стрем-
ление к завершенности в решении проблемы исчезает, но зато имею-
щиеся в наличии лингвистические средства принимаются как данные.
Впрочем, о «втором синтезе» Витгенштейна можно говорить лишь в
относительном смысле. И не только потому, что философ так и не из-
дал при жизни ни одного своего позднего произведения, но и потому,
что сам характер его позднего учения практически не позволял выра-
ботать окончательные формулировки и обобщения, более того, разъ-
едал всю ткань философских построений.
Все сказанное позволяет нам охарактеризовать «проблему Вит-
генштейна» как выяснение путей решения им мировоззренческого
вопроса об отношении к окружающей его действительности, при ко-
тором главное внимание уделяется языковому выражению этого от-
ношения. Рассмотрение данной проблемы, по нашему убеждению, не-
отделимо от реконструкции образа австрийского философа, выделе-
ния принципиально важных для него творческих связей и отношений,
сопоставления противоречий, объективно присущих Витгенштейно-
вому решению мировоззренческого вопроса, с противоречиями его
эпохи и общества, а также показа особенностей функционирования
его идей в системе современной культуры.
СТАНОВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ
1. Витгенштейн и венская культура начала XX века
Людвиг Витгенштейн родился в Вене в 1889 г. Он был самым
младшим ребенком в большой семье венского стального магната Кар-
ла Витгенштейна, который к тому же являлся известнейшим в этом
городе меценатом. Все восемь детей К. Витгенштейна получили до-
машнее начальное образование. Рано проявившие интерес к искусст-
ву, они болезненно ощущали путы навязываемых им эстетических
критериев, господствовавшие в семье принципы строгой протестант-
61
ской морали1. Деспотическая отцовская власть в семье, видимо, яви-
лась главной причиной самоубийства трех его сыновей. Все же имен-
но в отцовском доме, являвшемся одним из главных артистических са-
лонов Вены, дети могли познакомиться со многими знаменитыми му-
зыкантами. Сообщают, что в доме К. Витгенштейна неоднократно
бывали Брамс, Малер, Казальс и другие музыканты. Это до опреде-
ленного времени, конечно, способствовало эстетическому развитию
детей. Однако стремление отца быть главным и непререкаемым зако-
нодателем норм художественного вкуса в семье скоро пришло в про-
тиворечие с наклонностями его одаренных детей. Один из братьев
стал впоследствии пианистом-виртуозом'и продолжал концертиро-
вать даже после потери на войне правой руки. Интерес же к филосо-
фии раньше всех проявился у одной из сестер, которая познакомила с
некоторыми философскими произведениями младшего брата Людви-
га. Первой философской книгой, которую он прочитал, оказалась
«Мир как воля и представление» Шопенгауэра. Познакомился он
также и с произведениями Августина и Спинозы. Затем пришел черед
отдельных произведений Кьеркегора и Литхтенберга. Ссылки на ука-
занных авторов встречаются в витгенштейновских текстах на протя-
жении всей его жизни.
Духовное формирование детей К. Витгенштейна происходило на
фоне сложных социально-экономических и политических процессов,
протекавших в «лоскутной» Австро-Венгерской империи, столица
которой как бы воплощала в себе все острейшие противоречия этой
большой страны. За внешне ярким фасадом одного из знаменитых
культурных центров Европы скрывались разительные социальные
контрасты. В поверхностном представлении иностранцев тогдашняя
Вена запоминалась прежде всего своим колоритом и особым стилем
жизни, который, как считалось, с наибольшим блеском проявляется в
специфических музыкальных формах — вальсе и оперетте. И одно-
временно это был город с одним из самых низких в Европе уровнем
жизни трудящихся. Особую остроту социальным противоречиям при-
давал многонациональный состав населения. По всей империи усили-
вались настроения в пользу национальной и культурной автономии. В
то же время в Вене зарождалась реакционная идеология пангерма-
низма.
Для многих прогрессивных деятелей был очевиден противоестест-
венный характер объединения разных народов в этом полуфеодаль-
1 Л. Витгенштейн, однако, под влиянием матери был крещен как католик. В даль-
нейшем его отношение к официальной религиозности всегда было прохладным.
62
ном государственном образовании. Однако лакированный облик
габсбургской монархии по-прежнему сохранял черты иллюзорной
стабильности. Олицетворением этой «стабильности» было очень
долгое правление императора Франца-Иосифа. Противоречие между
видимостью благополучия и неприглядной действительностью про-
слеживается в судьбах искусства Австро-Венгрии на рубеже двух ве-
ков. Преломление этого противоречия в искусстве можно считать ха-
рактерной особенностью духовной ситуации в стране и прежде всего в
ее столице. С одной стороны, существовала, так сказать, «официаль-
ная» культура, которую, однако, никак нельзя недооценивать. Пре-
красная венская музыка, изощренная парадная архитектура, основан-
ная на фольклорном материале драма и другие проявления австрий-
ской «официальной» культуры — все это было, безусловно, талант-
ливым творением представителей разных национальностей этой
страны. Но для понимания отношения искусства к реальной действи-
тельности нужно обратить внимание на то, как и кем использовалось
здесь искусство. В рассматриваемый период искусство, как, пожалуй,
никакая другая сфера деятельности, было особенно престижным; оно
даже становилось мерилом общественного и имущественного преус-
пеяния. Богатые венские бюргеры, пытаясь конкурировать со старой
родовой аристократией, стараются приобщать к искусству своих де-
тей, щедро украшают дома, устраивают у себя литературные и музы-
кальные салоны. Не был в этом плане исключением и Карл Витген-
штейн, быстро разбогатевший сын венского торговца средней руки.
Потребительское отношение к искусству, однако, вызывало спра-
ведливые протесты прогрессивных деятелей культуры. Критическая
позиция, занятая ими по отношению к существовавшей тогда куль-
туре, и была во многом отражением их негативного отношения к неко-
торым сторонам буржуазного общества. Свой протест они часто вы-
ражали в модернистских художественных формах. В каком-то смысле
правомерно даже говорить о существовании в этот период своеобраз-
ной венской «контркультуры». Конечно, это движение было очень не-
однородно. Мелкобуржуазный по своему социально-классовому ха-
рактеру протест сам по себе еще не мог привести к каким-либо ради-
кальным переменам в сфере искусства и общественной жизни в це-
лом. И все же указанное движение составляло определенную
оппозицию тем формам культуры, которые были в достаточной степе-
ни ассимилированы и приспособлены к своим целям представителями
правящих классов империи.
Венские критики культуры не имели своей четко сформулирован-
ной программы и идеологии. Здесь, в отличие от других западноевро-
пейских стран, не практиковалась публикация литературно-художе-
63
ственных манифестов, эстетических программ. И тем не менее с оппо-
зиционными идеями можно было встретиться на страницах некоторых
журналов. Особое место среди таких журналов занимает «Факел»,
который с 1899 г. издавал журналист Карл Краус. Идеи Крауса были
близки многим деятелям венской культуры своей бескомпромиссной
борьбой со всеми разновидностями официального искусства. Не ос-
тавлял Краус в покое и венскую прессу, считая, что она способствует
обезличиванию читателей, навязывает им конформистские настрое-
ния, превратные эстетические нормы и извращенный вкус. Свое соб-
ственное издание он рассматривал как образец антипрессы. Гневные
и едкие статьи Крауса в «Факеле» вызывали страх и возмущение ав-
торов многих респектабельных изданий.
Выше всего Краус ценил возможность свободного художествен-
ного творчества, которое, по его убеждению, должно органично соче-
таться с проявлением моральной цельности личности. Искусство
должно быть подлинным самовыражением художника, а отнюдь не уб-
лажать публику. В своей критике отдельных направлений в искусстве
Краус, например, отвергал творчество Р. Вагнера на том лишь осно-
вании, что немецкий композитор придумал многие театральные эф-
фекты, привлекавшие зрителей. Но особенно критиковал Краус жанр
оперетты, оценивая его как наиболее яркое проявление болезни всего
венского общества. Сильно доставалось в «Факеле» любым, пусть и
талантливым, имитациям в искусстве. Хотя главной областью дея-
тельности Крауса была публицистика, он находился под большим
влиянием философии А. Шопенгауэра. Отметим также, что под опре-
деленным влиянием этого немецкого философа находились и многие
другие оппозиционно настроенные деятели венской культуры. У Шо-
пенгауэра Краус заимствовал не только обоснование достоинств сво-
бодного художественного самовыражения, но и идею «творческого
разделения» сферы фактического и сферы ценностного. Форма, в ка-
кой им была воспринята эта идея, конечно, отличалась от ее разработ-
ки неокантианцами Баденской школы. Однако в отличие от филосо-
фии Шопенгауэра, академическая неокантианская философия почти
не пользовалась популярностью у венских деятелей культуры рас-
сматриваемого периода. Свое представление о кантовской филосо-
фии Людвиг Витгенштейн, кстати, почерпнул у Шопенгауэра.
Четкое разграничение ценностного и фактического должно было,
по замыслу Крауса, освободить искусство от воздействия всего чуждо-
го ему в общественной жизни. Но это, конечно, была тщетная попыт-
ка оградить искусство от социальной реальности буржуазного обще-
ства, попытка, основанная на волюнтаристском и индивидуалистиче-
ском взгляде на природу художественного творчества, на идеалисти-
64
ческом мировоззрении. Позиция Крауса и его единомышленников
фактически обосновывала элитарность искусства. Краус придавал
большое, подчас преувеличенное значение роли художественной кри-
тики в жизни общества. Он считал, что в языке критики может полу-
чить адекватное или искаженное отражение моральное содержание
произведения искусства. От того, каков язык критики, пользуется ли
она клише и штампами, соответствующими общепринятым нормам,
или же близка творческой стороне искусства, по Краусу, зависит все.
Поэтому следует подвергнуть критике сам язык эстетической крити-
ки. Такая критика косвенным образом явится критикой всей культуры
и устоев общества. Она должна показывать все «фактическое» в та-
ком свете, чтобы тлетворный характер его был виден сам по себе. Для
этого иногда достаточно без искажения привести фрагменты содер-
жания какого-либо произведения. При этом подлинная критика не
должна навязывать читателю свои нормы и оценки. Краус был на-
столько уверен в эффективности своего критического подхода, что
даже отношение к человеку и культуре своего соотечественника и со-
временника 3. Фрейда считал недостаточно радикальным. Он пола-
гал, что фрейдовский анализ скрытых, репрессированных мотивов,
так взбудораживший и напугавший «благополучное» венское обще-
ство, в действительности не способен зафиксировать подлинные при-
чины разложения этого общества, ибо Фрейд не отважился на крити-
ку самого языка.
Идеи Крауса указывали на мнимый выход из кризиса общества и
сочетали в себе мелкобуржуазный радикализм с абстрактно-гумани-
стическим пониманием назначения творческой интеллигенции. Ста-
тьи Крауса в «Факеле», яростно отстаивавшие необходимость мо-
ральной цельности художника в каждой конкретной области его дея-
тельности, нашли отзыв у многих художников. И здесь первым, веро-
ятно, следует назвать крупного венского архитектора Адольфа Лооса.
Свою главную задачу Лоос видел в четком различении подлинных
объектов искусства и всего лишь «полезных» объектов. В такой фор-
ме им была воспринята краусианская идея «разделения». По Лоосу,
«полезные» объекты зависят от конкретного состояния того или ино-
го общества и не могут искусственно изменяться лишь по прихоти ар-
хитекторов. Такие изменения должны быть вызваны переменами в са-
мой жизни общества. В то же время подлинные, «органичные» произ-
ведения искусства поистине вневременны и принадлежат всему чело-
вечеству. В своей архитектурной практике Лоос создавал простые,
естественные постройки, противопоставляя их богато декорирован-
ным и орнаментированным домам венских бюргеров. Архитектурные
принципы Лооса были в совершенстве усвоены Витгенштейном, ко-
5 - 5739 65
торый в конце 20-х годов применил их при создании проекта венского
дома для своей сестры. Лоос увидел в Витгенштейне своего союзника
и даже, как сообщают, однажды сказал ему: «Вы — это я!». Приме-
чательно, что сразу после Первой мировой войны и Краус и Лоос пы-
тались помочь Витгенштейну в издании «Трактата».
Неожиданное воплощение идеи Крауса получило в музыкальном
творчестве Арнольда Шёнберга. Будучи противником вагнеровского
неоромантического новаторства, Шёнберг вначале придерживался
более традиционного подхода Брамса. Но это не мешало ему самому
стать крупным новатором в области музыкальной композиции, одним
из создателей экспрессионистического направления в музыке. В стро-
гой приверженности законам композиции он видел единственный путь
для реализации свободы музыканта, выражения цельности его нату-
ры. «В музыке,— писал Шёнберг,— форма не существует без логи-
ки, а логика без единства»1. Такой логикой была для него созданная
им новая теория гармонии. Его интересовали прежде всего подлин-
ность музыкальной идеи и точность ее воспроизведения в соответст-
вии с «музыкальной логикой». Прекрасное в музыке — это результат
цельности композиторской личности, настойчивого поиска истины и
жизненного смысла. «Я хочу, чтобы моя музыка рассматривалась как
честная, умная личность, явившаяся к нам, чтобы сказать нечто такое,
что она глубоко чувствует и что имеет значение для всех нас»2. В
1904 г. Шёнберг стал президентом «Объединения творческих музы-
кантов», а в 1918 г. он организует еще одно музыкальное общество.
Деятельность этих обществ тщательно охранялась от прессы и меце-
натов. Как глава «нововенской» музыкальной школы, он имел много-
численных последователей, среди которых выделяются А. Берг и
А. Веберн. Шёнберговский музыкальный идеал, его критика неесте-
ственного музыкального эстетизма венского общества того времени
развивали идейные установки краусианства. Из философов наиболь-
шее влияние на Шёнберга оказал опять-таки Шопенгауэр, и, может
быть, поэтому некоторые музыкальные произведения Шёнберга про-
никнуты пессимистическим настроением.
Проблемы человеческой коммуникации и подлинности морали и
искусства в этот период волновали многих известных поэтов и писате-
лей страны, таких, например, как Р. Музиль, С. Цвейг, Ф. Кафка,
P.M. Рильке, Г. Тракль. Известный венский поэт-символист Гуго фон
Гофмансталь в своих поэмах проводил идею невыразимости в языке
1 Цит. по: Janik A., Toulmin S. Wittgenstein's Vienna; N. Y., 1973. P. 106.
2 Цит. по: Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. И. М., 1973. С. 198.
66
главных ценностей жизни и культуры и на этом основании отвергал
общепринятые языковые нормы. Однако наиболее полную реализа-
цию призыв Крауса к критике языка получил в деятельности фило-
софствующего публициста Фрица Маутнера1. Критику языка он осу-
ществлял с номиналистической позиции. При этом он считал, что в ос-
нове приемов политического манипулирования и реакционной сущно-
сти официальной австро-венгерской идеологии лежали всевозможные
абстрактные понятия типа гегелевского «народного духа». Гносеологи-
ческим основанием маутнеровской критики был крайний сенсуализм и
идеалистический феноменализм. Он произвольно отождествлял ин-
теллект с языком, а в языке находил только то, что дано в чувственном
опыте. В гносеологии Маутнер всецело опирался на субъектив-
но-идеалистическую концепцию венского физика Эрнста Маха.
Хотя Мах довольно высоко оценил взгляды Маутнера, немецкоя-
зычная академическая философия в целом так и не признала его. А
неокантианец Э. Кассирер даже представил уничтожающие аргумен-
ты против маутнеровского скептицизма и релятивизма. Свысока от-
носились к Маутнеру и последователи Э. Гуссерля. Сам Маутнер счи-
тал свои взгляды близкими британской философской традиции, в осо-
бенности взглядам Беркли и Юма, и в связи с этим восхищался англо-
фильством Шопенгауэра.
Философская позиция Маутнера привела его к скептическому вы-
воду о полном разладе языка и реальности. В 1901 г. Маутнер издал
свой «Философский словарь», в котором задался целью выявить те
ощущения, которые скрываются за философскими терминами, а так-
же показать, каким путем эти слова были в дальнейшем незаконно реи-
фицированы философами в метафизические сущности. Маутнер при-
зывал подходить к языку как к конкретному социально-психологиче-
скому явлению, а не абстрактно. Он хвалил Канта за то, что тот сумел
понять необходимость критики разума. Однако Кант, по его мнению,
не понял того, что разум и есть язык.
Маутнер критиковал идею единой универсальной логики, лежа-
щей в основе всех национальных языков. «Логика» для него своди-
лась к психологии языка в его повседневном употреблении. Он счи-
тал, что только язык конституирует ту или иную культуру, и, таким об-
разом, приходил к идеалистически гипертрофированному взгляду на
роль лингвистической практики в обществе. По его мнению, любой
1 Философские взгляды Маутнера и его роль в формировании как ранней, так и
поздней позиции Витгенштейна были малоизвестны до выхода в 1970 г. специального
исследования Г. Уэйлера (см.: Weiler G. Mautner's Critique of Language. Cambridge,
1970).
5* 67
язык неизбежно овеществляет высшие ценности, придает им «фак-
тичность», поэтому-то следует оберегать все ценное и прекрасное
молчанием. Так философия языка Маутнера по существу приходила к
саморазрушению. Заметим, что знаменитый последний афоризм
«Трактата» («о чем невозможно говорить, о том следует молчать»)
является почти дословным повторением одного из высказываний Ма-
утнера. Витгенштейн был хорошо знаком с произведениями Маутне-
ра. Однако в другом месте «Трактата» Витгенштейн, как известно, от-
личает свою критику языка от маутнеровской [см. афоризм 4.0031 J1.
Дело тут в том, что Маутнер был, в противоположность раннему Вит-
генштейну, сторонником психологического подхода к логике, а также
отрицательно относился к попыткам дать формальнологическое ис-
толкование структуры языка.
Все же идеи Маутнера послужили важным катализатором для ста-
новления позиции самого Витгенштейна. Это влияние становится
особенно заметным в дальнейшем, когда Витгенштейн отказывается
от опоры на математическую логику и обращается к стихии естествен-
ного языка и многозначности употребления слов.
Маутнеровская приверженность к Маху не должна означать, что в
философии науки Мах был также главным авторитетом и для Витген-
штейна. В сфере творческих взаимоотношений, как известно, не дей-
ствует логический принцип транзитивности. Как раз наоборот, силь-
нейшее влияние в этом плане на Витгенштейна оказали тогда идеи оп-
понента Маха — Г. Герца, а также Л: Больцмана. Одно из главных
понятий механики Герца — понятие теоретической «модели» —
имело в глазах Витгенштейна существенное преимущество перед ма-
ховским концептуальным аппаратом, обобщавшим непосредствен-
ный чувственный опыт субъекта. Основа герцевских моделей была не
феноменальной, а геометрической. Сам немецкий физик так описы-
вал свою задачу и научный метод. «Метод, которым мы всегда пользу-
емся при выводе будущего из прошедшего, чтобы достигнуть этого
предвидения, состоит в следующем: мы создаем себе внутренние об-
разы или символы внешних предметов, причем мы создаем их такими,
чтобы логически необходимые следствия этих представлений, в свою
очередь, были образами естественно необходимых следствий отобра-
женных предметов. Чтобы это требование вообще было выполни-
мым, должно существовать некоторое соответствие между природой и
нашим умом... Если нам удастся создать из накопленного до сих пор
1 Цифры, заключенные в квадратные скобки, здесь и в дальнейшем означают но-
мера афоризмов «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна.
68
опыта представление требуемого характера, то мы сможем в короткое
время вывести из них, как из моделей, следствия, которые сами по
себе проявились бы во внешнем мире только через продолжительное
время или же были результатом нашего вмешательства; следователь-
но, мы имеем возможность предвидеть факты и координировать при-
нятые нами решения со сложившимися представлениями»1.
Впоследствии Витгенштейн увидит в герцевских моделях («об-
разах») подходящее средство для обозначения мира «фактического».
Такие модели как бы сами предписывают границы их применения, а
также исключают возможность отображать свой собственный способ
моделирования. Герцу было свойственно убеждение в принципиаль-
ном сходстве законов мышления и действительности. Мир, описывае-
мый его механикой, представляет собой некоторое идеальное состоя-
ние, в основе которого лежали геометрические связи, а не сила или
энергия.
Основные принципы герцевского механистического подхода были
близки венскому физику Людвигу Больцману. Он, в частности, вы-
полнил три главных требования, предъявляемых Герцем к научной
теории: ее положения должны быть логически согласованными, ее ос-
новные элементы должны соответствовать отношениям между веща-
ми и, наконец, теория должна быть сформулирована наиболее про-
стым способом. Больцман стремился распространить применение
данных принципов на различные области физики. В своей статистиче-
ской механике и теории газов он противостоял модному энергетизму
Оствальда. Как раз у Больцмана, который в то время читал в Венском
университете курс лекций по философии природы, и собирался Вит-
генштейн после окончания Линцского реального училища изучать фи-
зику. Однако в 1906 г. знаменитый физик покончил жизнь самоубий-
ством.
С 1906 по 1908 г. Витгенштейн обучается в Высшей технической
школе в Берлине. Интерес к инженерному делу сочетается у него с ин-
тересом к событиям в мире искусства. В эти годы молодой Витген-
штейн сближается с инсбрукским кружком краусианцев, сложившим-
ся вокруг журнала «Фонарь», который издавал Людвиг фон Фикер.
Значительную часть своего наследства Витгенштейн впоследствии
передал именно фон Фикеру с просьбой распределить эти средства
среди австро-венгерских деятелей культуры. Так, крупные денежные
переводы получили, в частности, Рильке, Тракль, Кокошка, которые
сами ничего не знали об источнике поступления этих денег.
'Жизнь науки. М., 1973. С. 208—209.
69
Среди авторов инсбрукского журнала выделялся Теодор Хекер. В
своих статьях он пропагандировал мысль Кьеркегора о том, что сфера
этического (в широком смысле слова) совершенно отлична от того,
что может быть изучено научными средствами. Этическое всегда па-
радоксально и может быть описано только в афористической манере.
Этот вывод Хекер относил также и к эстетическому. Вот почему такой
мастер афоризмов, как Кьеркегор, был в глазах Хекера подлинным
«философом языка». Кстати, другим чрезвычайно популярным в это
время автором был тоже мастер афористического стиля — Георг
Лихтенберг. Характерные черты стиля и отдельные понятия (напри-
мер, понятие «парадигма») этого немецкого философа-просветителя
XVIII века без труда можно обнаружить в текстах Витгенштейна.
С 1908 по 1911 г. Витгенштейн продолжал изучать инженерное
дело в Англии. В связи с этими занятиями он проявил также интерес к
математике и захотел усовершенствовать свои познания в данном
предмете. Из Англии он отправляется в Германию, к профессору ма-
тематики Йенского университета Г. Фреге. Встреча с Фреге, оказав-
шая заметное влияние на формирование математических взглядов
Витгенштейна, состоялась тогда, когда у него уже сложился интерес к
философии и определенное отношение к явлениям культуры. И в це-
лом, несмотря на солидные знания в области математики и естествен-
ных наук, Витгенштейну никогда не была свойственна сциентистская
ориентация. В конце жизни он даже признавался: «Я способен нахо-
дить научные вопросы интересными, но они никогда по-настоящему
не захватывают меня. Только концептуальные и эстетические вопро-
сы способны на это. В сущности, я индифферентен к решению именно
научных проблем, но отнюдь не проблем другого рода»1.
2. Влияние Фреге
Общение Витгенштейна с Готлобом Фреге происходило не в са-
мый лучший для йенского ученого творческий период. Наиболее пло-
дотворный этап его научной деятельности в основном был уже позади.
Известность Фреге получил еще в 1879 г., после выхода в свет его
книги «Исчисление понятий», в которой предвосхищены многие ос-
новополагающие принципы современной математической логики.
Тем не менее восприятие этой книги специалистами, как считал ее ав-
тор, было во многом неадекватным. Чаще всего она рассматривалась
как простое усовершенствование идей ирландского математика
1 Wittgenstein L Culture and Value. Oxford, 1980. P. 79.
70
Джорджа Буля и его последователей. На самом же деле позиция Фре-
ге стимулировалась другими источниками: философской традицией
кантовского трансцендентализма, логической концепцией Лейбница,
«наукоучением» Б. Больцано, а также некоторыми идеями немецкого
метафизика Р.Г. Лотце. Различие исходных мотивов Буля и Фреге
стало еще более сильным после опубликования в 1884 г. следующей
книги немецкого ученого — «Оснований арифметики». Если Буль
пытался показать в своей алгебре решающее значение математики
для логики, то Фреге видел в логике более строгую науку, способную
придать точный и однозначный характер основным понятиям матема-
тики. При этом речь шла уже не о традиционном понимании логики, а
о новой логике, в принципе разработанной им еще в «Исчислении по-
нятий». Фреге полагал, что на языке его логики можно адекватно
сформулировать главное понятие такого раздела математики, как
арифметика — понятие числа. Тем самым, как он надеялся, будет по-
ложено начало уточнению и других частей математической науки и в
первую очередь теории множеств, переживавшей в то время период
бурного развития. Перефразируя Канта, он называл «скандалом для
математики» отсутствие строгого понимания сущности числа.
Фреге воспринял кантовскую идею аналитического a priori и хо-
тел показать, что вся теоретическая математика имеет такой харак-
тер. В то же время он не принял кантовского истолкования математи-
ческого знания как основанного на синтетических априорных положе-
ниях. «Я надеюсь,— писал он в «Основаниях арифметики»,— что в
данной монографии доказал возможность того, что законы арифмети-
ки являются аналитическими суждениями и потому априорны. В соот-
ветствии с этим арифметика будет только дальше развившейся логи-
кой, каждая арифметическая теорема — логическим законом, хотя и
производным. Применение арифметики к объяснению природных яв-
лений будет логической обработкой наблюдаемых фактов; вычисле-
ние будет представлять собой вывод»1. Программа Фреге была клас-
сической формулировкой позиции логицизма, одного из главных, на-
ряду с формализмом, интуиционизмом и конструктивизмом, направ-
лений обоснования математического знания.
В истории логики и философии за Фреге закрепилась репутация
наиболее последовательного критика психологического обоснования
логического и математического знания. В этом плане он оказал ре-
шающее воздействие на формирование знаменитой гуссерлевской ан-
1 Цит. по: BenaceraffP., Putmam H. (eds.). Philosophy of Mathematics. N. Y.f 1964.
P. 107.
71
типсихологической программы, представленной в первом томе «Ло-
гических исследований». Именно Фреге в свое время резко раскрити-
ковал первую работу Гуссерля, посвященную обоснованию арифме-
тики и построенную на принципе психологического истолкования
законов математики как ассоциаций, обладающих особой устойчиво-
стью.
В дальнейшем Фреге последовательно публикует два тома (пер-
вый — в 1893 г., второй — в 1903 г.)своей фундаментальной работы
«Основные законы арифметики», где была сделана попытка полной
формализации арифметики средствами классической экстенсиональ-
ной логики. Оптимизм логицистской программы Фреге был подорван
открытием в его обосновании теории множеств парадокса. Об этом
парадоксе ему сообщил в письме молодой английский философ и ма-
тематик Бертран Рассел. Фреге, в отличие от итальянского математи-
ка Джузеппе Пеано и его коллег, также в это время занимавшихся
формализацией арифметики, сразу понял разрушительный характер
этого парадокса для всей своей системы. Несмотря на это, во втором
томе «Основных законов...» он все же публикует дополнение, в кото-
ром делается неудачная попытка блокировки открытого Расселом в
1901 г. противоречия.
Обнаружение парадокса Расселом сыграло решающую роль в
дальнейшей творческой судьбе Фреге. До конца жизни (он умер в
1925 г.) Фреге опубликовал лишь несколько небольших статей.
Скромный и даже застенчивый в личном плане ученый, он болезненно
переносил свою неудачу. Фреге, как мы знаем, долго боролся за при-
знание оригинальности своих идей, которые во многом так и не были
поняты его современниками. Поэтому с изданием основного труда он
связывал большие надежды. Открытие парадокса нанесло сильней-
ший удар по этим надеждам. В конце концов он оставляет попытку по-
казать аналитический характер всего математического знания. Вслед-
ствие этого он переходит на позицию, которая раньше подвергалась
им самой суровой критике: он подчеркивает основополагающую для
математики роль геометрии, построенной на основе синтетического а
priori. Теперь геометрия получает первенство над логизированной
арифметикой.
Рассел оказался не только тем, кто нанес смертельный удар по
грандиозным замыслам Фреге, но и тем, кто впервые понял новатор-
ское значение фрегевских идей для понимания сущности логики и ма-
тематики. Другим человеком, по достоинству оценившим Фреге, был
Витгенштейн.
Вклад Фреге в современную логику велик. Им были сформулиро-
ваны многие понятия логической науки, показан путь выявления ло-
72
гических форм и структуры логического вывода. Споры относительно
концепции Фреге продолжаются и в наши дни. С новой силой интерес
к наследию немецкого ученого проявился в 70-е и 80-е годы XX столе-
тия. Во многом это было связано с быстрым развитием идей логиче-
ской семантики, выяснением ее отношения к философии. И здесь сле-
дует остановиться на некоторых достижениях Фреге в данной области,
оказавших влияние на Витгенштейна.
В творчестве Фреге особое место занимает статья «О смысле и
значении» (1892), с содержанием которой был хорошо знаком Вит-
генштейн. Непосредственным поводом для рассмотрения семантиче-
ских вопросов послужило для Фреге занятие проблемой тождества и
равенства. Его интерес к данной проблеме вполне понятен, так как
через равенство им определяется базисное для математики понятие
числа. «Многосторонняя и широкая применимость уравнений скорее
основывается на том факте, что нечто может быть узнано снова, хотя
оно дается и иным образом»1.
Понятие тождества вызывает, согласно Фреге, немало вопросов.
Является ли оно отношением? И если оно — отношение, то отноше-
ние между объектами или между знаками объектов? На взгляд Фреге,
правилен последний ответ. В противном случае при истинном «а = Ь»
данное выражение не отличается от выражения «а = а». В то же вре-
мя очевидна их разная познавательная ценность. Первое выражение
Фреге, следуя Канту, считает синтетичным a posteriori, a второе —
априорным и аналитичным. Нужно поэтому различать смысл знака
(Sinn) и его значение (денотат) (Bedeutung). Значение — это тот
объект, который обозначается знаком, а смысл — то понятие, та
мысль, которая связана со знаком (по существу, здесь речь идет об ин-
формационном содержании), способ указания «пути» к объекту. Все
знаки Фреге называл «именами», а знаки, которые обозначают от-
дельные объекты, — «собственными именами» (не путать с грамма-
тическими именами собственными)2. При этом Фреге перечислил
различные типы употребления имен и требовал их четкого разграни-
чения. Он считал, что слово или выражение может быть осмысленным
только в контексте предложения.
Один и тот же объект может быть обозначен различными имена-
ми; соответственно, и одно значение может нести разный смысл. Так,
выражения «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» обозначают один
и тот же объект — планету Венеру, и таким образом им присуще одно
1 Цит. по: BenaceraffP., PutnamH. (eds.) Philosophy of Mathematics. P. 93.
2 Кроме имен, обозначающих объекты, Фреге выделял также имена для функций.
73
значение. Но эти выражения обозначают по-разному, им присущ раз-
ный смысл, они могут иметь неодинаковую ценность в познаватель-
ном процессе. Возможны расхождения и в отношении грамматиче-
ских собственных имен. Например, имя «Аристотель» можно описать
и как «ученик Платона», и как «учитель Александра Македонского».
При одном общем значении познавательный смысл этих описаний
различен. Фреге полагал, что в идеальном случае в логике и в других
точных науках каждому имени должен соответствовать конкретный
смысл и определенное значение. Однако отнюдь не каждое имя, обла-
дающее смыслом, имеет и значение. Есть и мнимые имена, типа выра-
жения «небесное тело, наиболее удаленное от Земли», которое ос-
мысленно, но вряд ли имеет значение (объект).
В соответствии со своим антипсихологизмом Фреге подчеркивал
отличие смысла и значения от внутреннего образа («идеи», представ-
ления), возникающего в сознании при восприятии имени. Идеи субъ-
ективны и относительны, а смысл не всегда связан с одной и той же
идеей. Например, с именем «Буцефал» художник, наездник и зоолог,
вероятно, свяжут разные идеи. В то же время Фреге настаивал на том,
что смысл не является субъективным. Существует, по его мнению,
объективный и постоянный набор мыслей человечества, который пе-
редается от одного поколения к другому.Если бы мы имели дело с од-
ними только идеями, то впали бы в солипсизм. В качестве аналогии,
призванной прояснить соотношение значения, смысла и идеи, он при-
водит пример с наблюдением Луны в телескоп. Здесь данное небесное
тело, его объективное отражение в телескопе, а также субъективный
образ на сетчатке глаза как бы соответствуют трем перечисленным
аспектам.
Все же, пытаясь избежать в своей концепции любых рецидивов
субъективизма, Фреге полностью изолирует смысл от образов, кото-
рые в действительности часто сопровождают слова нашего естествен-
ного языка, и это во многом приводит его к истолкованию смысла как
некоторой самостоятельной реальности. Недаром гуссерлевское по-
нятие «сущности» столь близко фрегевскому «смыслу». Так борьба с
психологизмом нередко приводит Фреге в философии в лагерь объек-
тивного идеализма. И тем не менее собственно логический подход
Фреге позволил ему с большой прозорливостью выделить именно се-
мантические аспекты языка. Он как бы смоделировал структурные
особенности одного из важнейших свойств языка — свойства обо-
значения, именования. Дальнейшее развитие этот подход получит в
работах Рассела и Витгенштейна.
Говоря об именах, Фреге не ставил каких-либо ограничений для
существования обозначаемых ими объектов. В примерах, приводимых
74
им, речь идет, как правило, о реально существующих предметах. Од-
нако он подчеркивал важность указания на смысл и для таких имен,
как «Одиссей», ибо, скажем, для отождествления выражений «муж
Пенелопы» и «отецТелемаха» нужно уже обладать некоторыми лите-
ратурными познаниями (хотя Фреге в целом считал, что имя «Одис-
сей» едва ли имеет значение, но иногда он указывал, что «Одиссей»
обозначает так называемый «нулевой класс»).
Повествовательные предложения Фреге рассматривает как осо-
бую разновидность имен. Он отмечает, что каждое предложение всег-
да содержит некоторую мысль, или суждение. Обычно суждение ока-
зывается смыслом, а не значением предложения. К примеру, сужде-
ние в предложении «Утренняя звезда есть тело, освещаемое солн-
цем» отличается от суждения в предложении «Вечерняя звезда есть
тело, освещаемое солнцем». Тот, кто не знал бы, что «вечерняя звез-
да» есть «утренняя звезда», очевидно, счел бы первое из указанных
предложений истинным, а второе — ложным. При этом значение
обоих предложений одно и то же. Однако бывают предложения, кото-
рые осмысленны, но не имеют значений. Так, предложение «Одиссей
оказался спящим на Итаке», безусловно, осмысленно, но поскольку
имя «Одиссей» едва ли обозначает реальный предмет, то и целое
предложение не имеет значения. Все же почему мы желаем, чтобы ка-
ждое имя обладало не только смыслом, но и значением? Это, считает
Фреге, происходит потому, что мы постоянно стремимся к истине1. И
лишь в искусстве мы не имеем такого интереса (пример с Одиссеем
как героем древнегреческого эпоса).
Фреге впервые вводит понятие «истинностного значения» повест-
вовательного предложения, и именно это дало ему возможность при-
равнять предложения к собственным именам. Истинное предложение
выступает именем истины, а ложное предложение — именем лжи.
Если в предложении: «Вечерняя звезда есть тело, освещаемое солн-
цем» — заменить «вечерняя звезда» на «утренняя звезда», тогда из-
менится .смысл предложения, но неизменным останется истинностное
значение предложения — «истина». Любое повествовательное пред-
ложение для Фреге либо истинно, либо ложно (других истинностных
1 В особенности это характерно для логики: «Слово "истинный",— пишет Фре-
ге,— определяет цель логики, подобно тому как "прекрасное" определяет цель эстети-
ки или "доброе" цель этики. Естественно, все науки стремятся к истине, но логика так-
же имеет отношение к ней и в несколько ином плане. Она относится к истине приблизи-
тельно так, как физика относится к весу или теплоте. Задача всех наук — открывать ис-
тины; логика же должна обнаруживать законы истины» (Frege G. Translations from the
Philosophical Writings of Gottlob Frege. Ed. By P. Geach and M. Black. Oxford, 1952.
P. 17).
75
значений он, в отличие от современных логиков, не признавал; в сис-
темах многозначной логики, например, в принципе допускается бес-
конечное множество значений истинности) и таким образом он при-
держивался так называемого «принципа бивалентности». В духе ло-
гико-математического реализма («платонизма») он объявлял «исти-
ну» и «ложь» объективными сущностями и даже наделял их особым
существованием.
Все истинные предложения (как и все ложные) имеют одно значе-
ние. Это обстоятельство давало Фреге возможность применения пра-
вила подстановки, указывавшего на постоянство истинностного зна-
чения предложения при замене входящих в него имен на другие, имею-
щие то же значение. Однако, подчеркивая универсальность данного
правила1, Фреге фактически не всегда учитывал свою собственную
типологию употребления имен, которая свидетельствует о том, что в
отдельных случаях ситуация значительно сложнее2. Положение, в ча-
стности, усложняется, если принять во внимание возможность под-
становки в интенсиональных языковых контекстах, что способно при-
водить к так называемой антиномии отношения именования3.
Особой заслугой Фреге является разработка понятия «пропози-
циональной функции», которая соотносит с предметами некоторой
предметной области истинностные значения. Например, «х есть про-
стое число» — это пропозициональная функция, получающая значе-
ние «истина» при аргументе 3 и «ложь» при аргументе 4. Главная осо-
бенность пропозициональных функций и одновременно главное их от-
личие от собственных имен заключается в «ненасыщенности», в том,
что они нуждаются в заполнении аргументами, после чего они и пре-
вращаются в законченные предложения. Это наглядно видно при та-
ком обозначении данной пропозициональной функции: «(...) простое
число». Подход Фреге обладал рядом несомненных достоинств. Вве-
дение понятия пропозициональной функции позволило привнести ма-
тематическую строгость в логический анализ предложений, который
еще со времен Аристотеля осуществлялся в субъектно-предикатной
форме, навеянной грамматической структурой естественного языка.
1 На самом деле оно применимо лишь в логике высказываний, а также, с опреде-
ленными ограничениями, в логике предикатов.
2 Так, он писал: «...в косвенной речи слова выступают в косвенном употреблении
и имеют косвенный денотат. Таким образом, мы будем различать у слов обычный дено-
тат и косвенный денотат, обычный смысл и косвенный смысл. Косвенный денотат сло-
ва совпадает с его обычным смыслом» (Фреге Г. О смысле и денотате//Семиотика и
информатика. Вып. 8. М., 1977. С. 185).
3 См.: Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1959.
76
Однако Фреге ничем не ограничивал ту область, в которой он на-
ходил аргументы для функций. Здесь оказывались поэтому объекты
разных уровней: сами предметы, их свойства, а также классы. Такое
объединение разных по своему «логическому типу» объектов послу-
жило причиной возникновения в системе Фреге указанного выше па-
радокса.
Философская позиция Фреге была достаточно односторонней и в
целом недиалектичной. Понятия классической математической логи-
ки, как он считал, полностью характеризуют все наше мышление, за-
коны которого постоянны и непоколебимы. Его мир напоминает мир
рационалистического панлогизма Лейбница. Фреге верил в возмож-
ность исправления недостатков естественного языка и создания иде-
ального логического языка: «Логическая правильность никогда не
должна приноситься в жертву краткости выражения. Поэтому чрез-
вычайно важно изобрести математический язык, который сочетает
наиболее строгую аккуратность с наиболее возможной краткостью.
Для этой цели больше всего будет подходить символический язык, с
помощью которого мы сможем прямо выражать мысли написанными
или напечатанными символами без вмешательства разговорного язы-
ка»1.
Однако необычная «плоскостная» символика самого Фреге не
привилась в современной логике, так как она довольно неудобна в
употреблении. Все же идущая еще от Лейбница и с такой силой под-
держанная Фреге идея создания совершенного логического обозначе-
ния оказала прямое влияние на возникновение логической системы
Рассела, а также на раннюю логическую концепцию Витгенштейна. В
то же время последователи Фреге пошли дальше, обратив внимание
не только на семантические, но и на синтаксические характеристики
языка.
Некоторые исследователи справедливо квалифицируют общефи-
лософскую позицию Фреге как «умеренный реализм» (хотя, конечно,
это не совсем то же самое, что средневековый умеренный реализм
универсалий). Подтверждением этой оценки могут служить следую-
щие слова немецкого ученого: «...мысли не являются ни вещами
внешнего мира, ни идеями. Следует признать некоторую третью об-
ласть. То, что к ней принадлежит, близко идеям в том, что его нельзя
воспринять чувствами; но оно сходно с вещами в том, что оно не нуж-
1 Frege G. Translations... P. 116.
11
дается в субъекте, содержанию сознания которого оно могло бы при-
надлежать»1.
Понятие смысла у Фреге, как уже отмечалось, близко понятию
«сущности» у Гуссерля. Но Фреге был против гуссерлевской концеп-
ции интуитивного постижения сущностей в интенциональном акте
сознания. Будучи последовательным антипсихологистом, он всегда
рассматривал интуитивизм как рецидив психологизма. Тем не менее
переход Фреге на позиции концепции объективной истины в познании
затрудняется у него многими факторами и прежде всего отсутствием в
его учении гносеологии, построенной на понятии отражения. Более
того, он прямо критиковал саму идею истины как «корреспонденции».
В основе полного отделения им образа от смысловой характеристики
знака лежала ошибочная трактовка образов как лишенных общезна-
чимого, объективного содержания.
Конечно, с Фреге нельзя спрашивать по самому большому фило-
софскому счету. Профессиональным философом он не был. Коррект-
нее будет говорить о «философском мировоззрении» этого крупного
немецкого ученого. Стремясь, как и ранний Гуссерль, к обоснованию
объективного характера знания, а также к борьбе с релятивистскими
и субъективистскими концепциями научного (прежде всего логи-
ко-математического) знания конца XIX — начала XX века, Фреге в то
же время занял крайнюю позицию, которой свойственны статичный,
недиалектический взгляд на проблему истины, объективно-идеали-
стическая направленность. Так, он полагал, что наука не выдвигает и
не разрабатывает, а лишь открывает «предсуществующие» истинные
мысли: «...мысль, которую мы выразили в теореме Пифагора, являет-
ся истинной независимо от того, считает ли кто-либо ее истиной. Она
не нуждается в субъекте. Она не становится истинной лишь тогда, ко-
гда мы ее открываем, но она напоминает планету, которая еще до того,
как ее кто-либо увидел, уже находилась во взаимодействии с другими
планетами»2.
Мы описали в основном лишь те стороны учения Фреге, которые
могли стимулировать занятия Витгенштейна логическим анализом
языка, направить его последующие исследования по определенному
руслу. Разумеется, многие фрегевские идеи и понятия стали для Вит-
генштейна объектом критики, и в этом также заключалась их эвристи-
ческая функция. Поработав небольшой срок под руководством Фреге,
Витгенштейн, по совету немецкого ученого, отправился совершенст-
вовать свои логико-математические познания в Англию. Впрочем,
1 Frege G. Translations... P. 29.
78
2 Ibid.
возможно, одной из причин переезда было то, что Фреге так и не сумел
воспринять оригинальность наметившегося подхода своего австрий-
ского ученика. В этом плане положение не изменится и в дальнейшем,
когда Витгенштейн ознакомит Фреге с завершенной рукописью
«Трактата».
3. Влияние Рассела
Витгенштейн впервые посетил Англию еще в 1908 г. Тогда в Ман-
честере он изучал авиационное дело и занимался конструкцией про-
пеллера. Постоянно усиливавшийся у него интерес к проблемам
обоснования математического знания привел его в 1912 г. в знамени-
тый Тринити-колледж Кембриджского университета, к Расселу. Анг-
лийский философ и ученый быстро и по достоинству оценил возмож-
ности своего ученика и посоветовал ему сконцентрировать внимание
исключительно на математической логике и философии.
Витгенштейн застал Рассела в один из самых активных и плодо-
творных периодов его творческой биографии. Формирование фило-
софской позиции Рассела, начавшееся еще в конце XIX века «бун-
том» против английского неогегельянства (так называемый абсолют-
ный идеализм) с позиции национальной философской традиции эмпи-
ризма, продолжалось, как известно, всю его долгую жизнь. Главным
союзником и вдохновителем Рассела в полемике с абсолютным идеа-
лизмом был его коллега по Тринити - колледжу Дж. Э. Мур. С Муром,
а также с известным экономистом Дж. М. Кейнсом Витгенштейн
сближается во время своего пребывания в Кембридже. Все же в этот
период и вплоть до начала 30-х годов муровская философия не оказы-
вала влияния на формирование позиции Витгенштейна. Подход Мура
начинает интересовать его в последние годы жизни.
Приверженность Рассела британской эмпирической традиции
проявлялась и в дальнейшей разработке им проблем логической се-
мантики, и в этом плане особую роль сыграла статья Рассела «Об
обозначении» (1905). В ней были поставлены вопросы, на многие
годы определившие характер его деятельности. Содержание данной
статьи многим его соотечественникам показалось столь необычным,
что даже редактор философского журнала «Майнд», где она впослед-
ствии все же была напечатана, вначале рекомендовал автору отка-
заться от публикации. В то время на страницах английских философ-
ских журналов печатались статьи по логике, написанные, как прави-
ло, лишь неогегельянцами (среди авторов по логике были: Ф. Брэдли,
Б. Бозанкет, Дж. Мактаггарт, Г. Иоахим и др.).
79
Гносеологические идеи в этой статье были тесно увязаны с собст-
венно логическими идеями. Рассел проводит принципиальное для
него различение двух типов познания: «знания-знакомства» и «зна-
ния по описанию». Первое возникает в результате непосредственного
чувственного восприятия, второе — с помощью обозначающих (де-
нотирующих) фраз. Рассел перечисляет примеры различных обозна-
чающих фраз. При этом возможны следующие виды денотации: 1 )
фраза может обозначать, не обозначая ничего реального ( «нынешний
король Франции»); 2) фраза может обозначать один определенный
предмет («нынешний король Англии»); 3) фраза может обозначать
неопределенно (например, «человек» обозначает неопределенного
человека).
В силу многообразия типов денотации обозначающие фразы спо-
собны вызывать путаницу, приводить к нежелательным парадоксаль-
ным ситуациям. Задача философа, считал Рассел, и заключается в
правильном логическом анализе выражений, включающих подобные
фразы. Этот анализ, по его мнению, отличается от поверхностного
грамматического анализа языковых выражений. Правильность логи-
ческой теории проверяется ее способностью разрешать те или иные
парадоксы, которые для логики играют ту же роль, что и «решающие
эксперименты» для физики. Отметим характерную особенность: Рас-
сел фактически не различает свою логику и философию. В дальней-
шем эта позиция будет выражена им в явной форме.
Как и Фреге, Рассел затрагивает проблему тождества. Он указы-
вает, что если а тождественно ft, тогда то, что истинно в отношении од-
ного, истинно и в отношении другого и они взаимозаменяемы. Но это
известное правило не выполняется для таких фраз, как «автор
"Уэверли"» и «Скотт», в ситуации, когда, скажем, хотят узнать, был
ли В. Скотт автором романа «Уэверли». В соответствии с точкой зре-
ния Фреге, этим фразам присущ разный смысл, но одно значе-
ние — писатель Вальтер Скотт. По этому пути Рассел, однако, не
идет. Он предлагает различать имена («Скотт») и обозначающие фра-
зы ( «автор "Уэверли11 » ). Ранняя теория Рассела допускает только та-
кое понимание имен, когда они прямо указывают на предметы, дан-
ные «знанием-знакомством». Здесь хорошо видна зависимость его
логической концепции референции от односторонней эмпиристской
гносеологии, в основе которой лежит процесс непосредственного ука-
зания на предмет и его свойства. Обозначающие фразы для Рассела
выступают лишь как части предложений и потому не имеют сами по
себе ни смысла, ни значения. «Автора "Уэверли"» нельзя обнаружить
в чувственном опыте. «Есть автор» — тоже неясная фраза: единст-
венный ли он автор или один из нескольких? Для устранения всех этих
80
недостатков следует так проанализировать предложение «Скотт есть
автор "Уэверли"», чтобы совсем устранить из него обозначающую
фразу. И Рассел в своей статье подробно демонстрирует механизм та-
кого анализа, получая в результате: «Скотт написал "Уэверли", и в от-
ношении у всегда истинно, что если у написал "Уэверли", то у тожде-
ствен со Скоттом».
В других работах Рассел подчеркивал, что в отличие от таких имен,
как «Скотт», есть имена, способные в определенных ситуациях при-
водить к серьезным парадоксам. Например, можно рассмотреть имя
«Пегас» в предложении «Пегас не существует». В случае, если слово
«существует» используется в нем как предикат, то тогда мы приходим
к парадоксальному заключению о существовании несуществующего
предмета. Чтобы разрешить парадокс, нужно уточнить само слово
«существование». В тоже время объект данного предложения Рассел
начинает рассматривать как скрытую дескрипцию (описание). Подде-
скрипциями он понимал фразы типа «то-то и то-то», причем различал
«двусмысленные дескрипции» (фразы с неопределенным артиклем) и
«определенные дескрипции» (фразы с определенным артиклем). Рас-
села интересовал лишь последний вид дескрипций.
Вообще, грамматические собственные имена, на его взгляд, до-
пускают самые различные описания и потому двусмысленны, в отли-
чие от имен типа «это» и «то», которые прямо указывают на то, что
они обозначают. Обозначив предмет («Пегас») через описание, то
есть с помощью приписываемых ему мифологией свойств «крылато-
сти» и «лошадности», можно получить новое предложение, где суще-
ствование уже не является предикатом. «Существование» для Рассе-
ла — «неполный символ», исчезающий в результате логического
анализа1. Анализ отрицательных предложений о «существовании»
объектов типа «Пегас» показывает, что они не бессмысленные, а
ложные. В философском же плане Рассел продолжал линию Юма, а
также Канта, отрицавшего, что существование есть реальный преди-
1 Интересно, что в своих ранних работах Фреге предвосхитил критическую пози-
цию Рассела. «Фреге,— отмечает В.Г. Кузнецов,— вслед за Кантом полагает, что тер-
мин "существование" содержит очевидную информацию, то есть не имеет никакого кон-
кретного содержания. Если его использовать в качестве сказуемого в предложении
"люди существуют", то оно не дает нам нового знания о подлежащем... Слово "сущест-
вующее" используется, по Фреге, лишь для того, чтобы применить форму частного суж-
дения. Оно изобретено, придумано для образования одной из множества языковых
форм» (Методология развития научного знания. М., 1982. С. 135—137).
6-5739 81
кат, но шел еще дальше, предлагая совсем отказаться отданного по-
нятия1.
Критика Расселом понятия «существование» сыграла некоторую
положительную роль в плане опровержения объективно-идеалисти-
ческих теорий, которые гипостазировали идеальные сущности. Одна-
ко из этой критики Рассел на протяжении всей его философской эво-
люции часто сам делал прямые идеалистические выводы. Например, в
своей поздней работе «Исследование значения и истинности» (1940),
где он попытался представить иерархию языков, исходным и первич-
ным языком для него оказывается так называемый «объектный»
язык, язык вещей как конструкций из «чувственных данных». В связи
с этим он писал: «"Существование" и "бытие", как они фигурируют в
традиционной метафизике, являются гипостазированными формами
определенных значений "есть". Поскольку "есть" не принадлежит
первичному языку, то "существование" и "бытие", если вообще что-то
значат, должны быть лингвистическими понятиями, непосредственно
не применимыми к объектам»2. Следуя расселовской логике рассуж-
дения, можно лишить существования и объективную реальность.
Важным отличием имен от дескрипций Рассел считает то, что име-
на не имеют значения в предложении, если не существует того, что
они обозначают. На дескрипции же подобное ограничение не распро-
страняется. Этого-то, как он считал, не понял австрийский философ
А. Мейнонг, который приписывал любой грамматически правильной
обозначающей фразе свой объект. Мейнонг различал реальное (экзи-
стенция) и идеальное (субсистенция) существование объектов. Если
следовать такой точке зрения, сокрушался Рассел, то тогда даже фра-
зы «нынешний король Франции» и «круглый квадрат» имеют свой
объект. Логическая критика Расселом Мейнонга принесла англий-
скому философу славу. Однако следует заметить, что для современной
логики в таком понимании Мейнонга в общем-то нет ничего абсурдно-
го: первая расселовская фраза обозначает «возможный несущест-
вующий объект», а вторая — «невозможный несуществующий объ-
ект». Ктому же Рассел не учел, что под «объектом» Мейнонг понимал
нечто, существующее в переживании как данность. Такой объект дей-
1 «Нельзя не заметить,— указывает И.Н. Бродский,— искусственность рассе-
ловской экспликации высказываний вида "а существует", при которой собственное имя
заменяется индивидуальной дескрипцией. Эта замена не отвечает обычному употребле-
нию собственных имен, при котором об индивиде говорят как о чем-то едином и отлич-
ном от всего остального, не фиксируя специально определяющих его свойств» (Брод-
ский И.Н. Отрицательные высказывания. Л., 1973. С. 67).
2 Ressell В. An Inquiry into Meaning and Truth. L, 1980. P. 65.
82
ствительно может быть как реальным, так и идеальным1. Рассел вме-
нял в вину Мейнонгу нарушение формальнологического закона недо-
пущения противоречия. Последние исследования в области паране-
противоречивой логики тем не менее показывают, что подход Мей-
нонга вполне может получить строгую логическую реализацию.
Рассел допускал, что концепция Фреге в основном позволяет из-
бежать недостатков позиции Мейнонга. Однако Фреге сам встречает-
ся с затруднениями в тех случаях, когда имеются фразы со смыслом,
но без денотата. Например, «нынешний король Англии лыс» имеет и
смысл и денотат, но «нынешний король Франции лыс» не имеет сво-
его денотата. Однако выглядит последняя фраза так, как будто ей при-
сущ денотат. И здесь возможна путаница. Концепция Фреге, по Рас-
селу, не показывает пути, каким можно было бы доказать ложность
этой фразы.
Согласно расселовской теории дескрипций, при логическом ана-
лизе фразы «нынешний король Франции лыс» следует разделить ее на
две части: 1 ) «есть уникальный индивид, управляющий сегодня Фран-
цией» и 2) «если кто-либо управляет Францией, то он лыс». В первой
части говорится о наличии объекта. Эта часть ложна, ибо не подтвер-
ждается нашим «знанием-знакомством». Следовательно, ложно и все
предложение (так как ложна одна из частей конъюнкции). Аналогично
показывает Рассел ложность и другой денотирующей фразы — «ны-
нешний король Франции не лыс». При этом не происходит нарушения
закона исключенного третьего, ибо в утвердительном предложении
фраза «нынешний король Франции» дана в так называемом «первич-
ном вхождении», а в отрицательном — уже во «вторичном». Это рас-
селовское различение сопоставимо с более поздним различением в
логике экстенсиональных и интенсиональных контекстов.
В период знакомства с Витгенштейном Рассел (совместно с
А.Н. Уайтхедом) заканчивал издание трехтомной «Principia
Mathematica». Целью этой фундаментальной работы было доказа-
тельство того, что математика вытекает из логических предпосылок и
использует только те понятия, которые определяются в логических
терминах. Это, по словам Рассела, было антитезой кантовской теории
математического знания. Книга двух авторов имела как собственно
математическое, так и философское значение. Разработку логико-фи-
лософских проблем осуществил Рассел. Наиболее ценным в работе
он считал новую логическую теорию отношений. «Предрассудки» ма-
тематиков против отношений, их приверженность к субъектно-преди-
1 См.: ПетровВ.В. Проблема указания в языке науки. Новосибирск, 1977. С. 29.
83
катной форме выражения оказали, по Расселу, самое отрицательное
воздействие на все развитие математического знания. Неадекватное
понимание отношений может служить источником заблуждений и в
философии. Но это, согласно Расселу, имеет свое объяснение. Дело в
том, что очень сложно передать словами естественного языка кор-
ректную теорию отношений, так как язык обычно затемняет типовое
различие между самими отношениями и соотносящимися терминами.
Большинство метафизических аргументов «за» или «против» реаль-
ности отношений было порождено этой особенностью языка. Помочь
преодолеть такое затруднение, по замыслу Рассела, должна была
«теория типов».
Популярно излагая содержание этой теории, Рассел впоследствии
указывал, что, например, все слова как таковые принадлежат к одно-
му и тому же логическому типу. Слово — это некоторый класс серий,
состоящих из звуков и очертаний. В то же время значения слов при-
надлежат к разным типам. Атрибут, выражаемый прилагательным,
принадлежит к иному типу по сравнению с объектом, которому он
приписывается. Когда два слова обладают значениями, относящимися
к разным типам, тогда отношения этих слов к тому, что они обознача-
ют, тоже сводятся к разным типам. Рассел также разработал строгое
логическое определение принадлежности к определенному «типу».
Теория типов стала постоянным предметом его дискуссий с Витген-
штейном.
Английский философ полагал, что без теории типов невозможно
разрешение как теоретико-множественных, так и семантических па-
радоксов. Вот как он описывал парадокс первой группы, названный
впоследствии его именем: «Применение аргумента Кантора (то есть
доказательство того, что не существует наибольшего кардинального
числа.— А.Г.) привело меня к рассмотрению классов, не являющихся
членами самих себя; и они, как казалось, должны были составлять
класс. Я задал себе вопрос: является ли этот класс членом самого себя
или нет? Если он — член самого себя, то он должен обладать опреде-
ляющим свойством класса, заключающимся в том, чтобы не быть чле-
ном самого себя. Если же он не член самого себя, то он не должен об-
ладать определяющим свойством класса, и потому должен быть чле-
ном самого себя. Так каждая альтернатива ведет к своей противопо-
ложности, и возникает противоречие»1.
Известным примером семантического парадокса является пара-
докс «Лжец». Существуют разные исторические формулировки этого
1 Russell В. My Philosophical Development. L., 1975. P. 58.
84
парадокса. В самом простом виде он сводится к следующему. Лжец го-
ворит: «Все, что я утверждаю, ложно». Спрашивается, говорит ли он
правду или лжет? Если он говорит правду, то он лжет. Если он лжет, то
говорит правду. Данное утверждение обозначает множество утвер-
ждений лжеца, и если его само включить в данное множество, то тогда
и возникает парадокс. Следует, подчеркивал Рассел, различать те вы-
сказывания, которые обозначают тотальность высказываний, и те,
которые этого не делают. Первые сами никогда не могут быть членами
подобной тотальности.
Рассел предлагал называть высказываниями первого порядка те
высказывания, которые не обозначают тотальности высказываний, а
высказываниями второго порядка — те, которые обозначают тоталь-
ности первого порядка, и т. п. Поэтому, отмечал он, лжецу следовало
бы сказать: «Я утверждаю ложное высказывание первого порядка,
которое ложно». Но это высказывание уже само будет высказывани-
ем второго порядка. Следовательно, лжец теперь не утверждает ника-
кого высказывания первого порядка. То, что он говорит, попросту
ложно, и аргумент, согласно которому это в то же время истинно, не
действует. Лжец, таким образом, не мог говорить обо всех своих вы-
сказываниях, ибо это бессмысленно1. Фразы такого рода Рассел на-
зывал «самореферирующими» и полагал, что они не имеют значения.
Любое утверждение, обозначающее другие утверждения, должно
быть иного, более высокого типа, чем обозначаемые им утверждения.
Теория типов, хотя она и помогает разрешать некоторые парадок-
сы (которые в ней фактически не могут быть сформулированы), на-
кладывает тем не менее слишком строгие и жесткие ограничения. По-
этому в дальнейшем многие математики и логики отказались от нее, а
Витгенштейн в своем «Трактате» объявил теорию типов излишней.
На практике мы высказываем одни и те же правильные положения об
объектах разных уровней. Например, мы способны производить вы-
числения на многих уровнях, и при этом формулируемые нами количе-
ственные выражения сохраняют постоянное значение. Для того чтобы
как-то скоррелировать объекты разных уровней, Рассел, как извест-
но, вел специальную «аксиому сводимости». Но это решение было
справедливо воспринято как слишком искусственное, напоминающее
ad hoc гипотезу. Витгенштейн в 1913 г. в письме к Расселу даже на-
звал эту аксиому «жонглерским трюком».
Расселовская логика и теория познания тесно связаны с его фило-
софской онтологией логического атомизма. Исходными для него яв-
1 Russell В. My Philosophical Development. P. 63.
85
ляются имена, непосредственно обозначающие фрагменты чувствен-
ного опыта, с которыми мы «знакомы» (так называемые чувственные
данные), а также атомарные высказывания, состоящие из имен и ло-
гических связок. Эта концепция оказала заметное влияние на раннюю
позицию Витгенштейна, хотя расселовский односторонний эмпиризм
был ему достаточно чужд. В то же время и логический атомизм Рассе-
ла испытал сильное обратное воздействие со стороны Витгенштейна с
самого начала их творческих контактов1.
В особенности это касается расселовской теории суждения. В ее
раннем варианте предполагалось, что когда субъект судит, то имеется
отношение не к единичному объекту, а к нескольким объектам, с кото-
рыми он «знаком» (например, «Отелло считает, что Дездемона любит
Кассио»). Отношение суждения (или верования) связывает эти объ-
екты в определенном порядке. Такая позиция, как думал Рассел, по-
зволяла объяснить возможность ложных суждений, не прибегая к
объективизации ложности (если Отелло ложно считает, что Дездемо-
на любит Кассио, то просто не существует такого комплексного един-
ства или факта, как «любовь Дездемоны к Кассио»).
Но эта теория еще не объясняла того, как субъект относится ко
всему высказыванию в целом, как он его понимает. В 1913 г. Рассел
начинает развивать теорию, предполагающую также знакомство
субъекта с чистой логической формой высказывания, в которой имена
заменены на переменные. Однако такие формы трактовались им в
платонистском духе. Во взглядах Рассела этого периода эмпиризм
причудливо сочетался с платонистским «реализмом», ибо он считал,
что с помощью «знания-знакомства» мы непосредственно постигаем
универсалии. Данная теория суждения, как видно из писем английско-
го философа, подверглась Витгенштейном сильной критике при их
личных беседах. Эта критика во многом заставила Рассела отказаться
от публикации подробного изложения своей теории. Для Витгенштей-
на же это был первый этап выработки его собственной образной тео-
рии предложения.
Все проблемы Рассел пытался решать с помощью логического
анализа языка, который, как уже говорилось, он предлагал отличать
от грамматического анализа. А «логическую форму», по его мнению,
нельзя путать с чисто грамматической формой языковых выражений.
1 Рассел в связи с этим пишет: «Влияние Витгенштейна на меня составило две вол-
ны: первая из них была до Первой мировой войны; вторая непосредственно после вой-
ны, когда он послал мне рукопись своего "Трактата". Его поздние доктрины, как они
проявились в "Философских исследованиях", совсем не повлияли на меня» (Russell В.
My Philosophical Development. P. 83).
86
Рассел отказывался считать философию конструктивной и созида-
тельной наукой. Основной задачей философии для него выступает
критика и прояснение тех понятий, которые обычно считаются фунда-
ментальными, но якобы принимаются философами и учеными некри-
тически. Для Рассела это такие понятия, как «сознание», «опыт»,
«каузальность», «воля», «время». Все они, с его точки зрения, неточ-
ны и приблизительны и не должны играть главную роль в науках.
Нужно стремиться вывести из многообразия явлений логические
структуры, у которых уже не будет подобного недостатка.
Логический атомизм лежит в основе расселовского крайнего плю-
рализма. Он отвергал любую монистическую онтологию (как мате-
риалистическую, так и объективно-идеалистическую), а свой плюра-
лизм связывал с так называемой логикой внешних отношений, кото-
рую он противопоставлял логике внутренних отношений английского
неогегельянства. Это направление отрицало плюралистичность ре-
альности и утверждало, что любые отношения возможны лишь при
наличии посредника, каковым для него оказывался Абсолют. Против-
ники Рассела учили, что все термины, а также вещи, процессы и явле-
ния внутренне взаимосвязаны и влияют (в том числе и каузально)
друг на друга, становясь от этого сложными. Для них не было ничего
независимого, простого, атомарного. Этому также соответствовал
неогегельянский вариант когерентной теории истины.
Согласно расселовской логике внешних отношений, само отноше-
ние между любыми терминами (или вещами, явлениями, событиями)
всегда функционально. Никакой посредник здесь не нужен, а соотно-
сящиеся стороны остаются абсолютно простыми. В своей теории Рас-
сел недооценил внутренние логические связи (этот недостаток впо-
следствии пытался справить Витгенштейн). К тому же, исходя из юми-
стских установок, он ошибочно отвергал объективную каузальную
связь в мире как форму внутренней зависимости.
Рассел доказывал, что логика внутренних отношений равносильна
утверждению онтологического монизма и отрицанию самих отноше-
ний. Она также неразрывно связана с положением традиционной ло-
гики, согласно которому каждое высказывание обязательно состоит
из субъекта и предиката. Дело в том, что для неогегельянцев высказы-
вание, утверждающее некоторое отношение, всегда должно быть сво-
димо к субъектно-предикатному высказыванию о целом (то есть об
Абсолюте).
Конечно, Рассел провел достаточно эффективную критику учения
абсолютного идеализма, которому он противопоставил многие разум-
ные идеи британского эмпиризма. Однако следует учитывать, что он
опирался прежде всего на субъективно-идеалистический эмпиризм и
87
феноменализм Юма. В тоже время, критикуя неогегельянцев, Рассел
отвергал и многие положения диалектики вообще. Для него, напри-
мер, всегда было абсурдно и невозможно понятие «тождества», вклю-
чающего различие.
Последователи Рассела и Мура — британские и американские
неореалисты — использовали логику внешних отношений для объяс-
нения познавательного процесса. Они утверждали, что между субъек-
том и объектом имеет место внешняя, чисто функциональная связь. С
одной стороны, а именно в плане познания, объект будто бы непосред-
ственно входит в сознание, «имманентен» ему, а с другой — он
«трансцендентен», независим от субъекта в своем существовании.
Сходную точку зрения стал развивать и сам Рассел в 20-е годы («тео-
рия нейтрального монизма»).
4. Подготовительные материалы
В конце 1913 г. Витгенштейн неожиданно покинул университет-
ский Кембридж. Свой отъезд он объяснял в письмах какими-то лич-
ными мотивами. Вполне вероятно, что он просто желал осмыслить все
то, что получил от общения с Расселом. Витгенштейну было необхо-
димо в уединении подготовить новый вариант своей концепции, и он
селится в одном из самых глухих мест западной Норвегии, где живет в
полном одиночестве1, которое прервалось лишь визитом к нему в ап-
реле 1914 г. Джорджа Мура. Витгенштейн продиктовал ему заметки,
с которыми он просил ознакомить Рассела. Впоследствии Витген-
штейн сожалел, что Мур недостаточно адекватно передал суть его
идей этого периода. От довоенного периода сохранились, кроме того,
«Заметки по логике», написанные Витгенштейном еще в Кембридже
в 1913 г. и находившиеся у Рассела.
В этих «Заметках по логике»2 Витгенштейн начинает с утвержде-
ния о том, что философия состоит из логики и метафизики. При этом,
следуя за Расселом, он полагает, что основание философии составля-
ет именно логика. Философия пользуется описательным методом.
Первое требование для занятия философией — это полное недове-
1 В одном из своих первых писем Расселу он писал: «Я нахожусь здесь в маленьком
местечке на берегу прекрасного фиорда и размышляю о чудовищной теории типов. Еще
предстоит разрешить некоторые очень сложные проблемы (и очень фундаментальные
также), и я не начну писать до тех пор, пока не найду для них нечто вроде решения».
(Wittgenstein L Notebooks 1914—1916. Oxford, 1979. P. 123).
2
См.: Wittgenstein L Notebooks 1914—1916.
88
рие к грамматике. Хорошо заметно, что в этот период Витгенштейна
сильно увлекло расселовское противопоставление логического ана-
лиза языка грамматическому.
В рассматриваемой рукописи подробно анализируются так назы-
ваемые «неопределяемые», то есть имена и логические формы. Этот
термин был введен Расселом, который видел задачу «философской
логики» в исследовании различных видов «неопределяемых». Но
Витгенштейн уже не соглашается с расселовским отнесением таких
понятий, как «вещь», «высказывание», «субъектно-предикатная
форма», к «неопределяемым», ибо эти понятия не являются незави-
симыми; впоследствии он сам разовьет сходную концепцию «фор-
мальных понятий».
Ведущая тенденция в «Заметках» — показ существенного разли-
чия имен и предложений, а именно того, что они обозначают по-раз-
ному. Имя обозначает (указывает на ) свой объект, а вот одному и тому
же факту соответствуют как истинное, так и ложное предложения.
Эта идея очень сильно повлияла на концепцию Рассела в этот период
и заставила английского философа модифицировать свою позицию. В
рукописи Витгенштейн говорит также о заблуждении фреге, который
включал предложения в разрад имен. Неправ был, по его мнению, и
Рассел, считавший предложения «именами комплексов».
Итак, факты не обозначаются именами. Предложение — это не-
который стандарт, к которому относятся факты. Значение и есть факт,
действительно соответствующий предложению, причем имеются по-
зитивные и негативные факты, но нет истинных и ложных фактов.
«Если предложение "Эта роза не красная" истинно, тогда то, что оно
обозначает, негативно. Но появление слова "не" еще не свидетельст-
вует об этом, пока мы не узнаем, что обозначаемое предложение "Эта
роза красная" (когда оно истинно) позитивно»1. «Смысл» же в «За-
метках» описывается следующим образом: если х находится в отно-
шении R к у, то знак xRy называется истинным в отношении факта;
если не находится в таком отношении, то — ложным. Знать, что пред-
ложение имеет два полюса в случае его истинности или ложно-
сти,— значит знать его смысл2.
Предложения, по Витгенштейну, не могут быть редуцированы к
расселовским «неопределяемым». Для того чтобы понять какое-либо
предложениер, еще недостаточно знать, что ~р предполагает «"р" ис-
тинно», но мы также должны знать, что р предполагает «"р" ложно».
1 Wittgenstein L Notebooks 1914—1916. P. 97.
2 Ibid. P. 99.
89
И это показывает изначальную биполярность любого предложения.
В этой рукописи у Витгенштейна в первый (и последний) раз исполь-
зуются расселовские термины «атомарное» и «молекулярное» пред-
ложения. «Если,— пишет он,— мы сформулировали все возможные
атомарные предложения, то мир был бы полностью описан, когда мы
объявили бы истинность или ложность каждого из них»1.
В «Заметках», продиктованных Муру, уже появляется квалифи-
кация логики как метода описания тавтологий. Витгенштейн подчер-
кивает, что каждое осмысленное предложение отражает некоторое
логическое свойство Вселенной. А собственно предложения логики
являются лишь формами доказательств, сами по себе они не истинны
и не ложны. Такие предложения показывают, что одни предположе-
ния следуют из других. Логические предложения всегда что-то пока-
зывают, ибо язык, в котором они выражены, может сказать все, что
может быть сказано. И делают они это потому, что все они — тавто-
логии. Однако логические предложения являются разными видами
тавтологий, и каждое из них показывает нечто свое. Они — своеоб-
разные постулаты, лежащие в основе совершенного знакового обо-
значения. А сами логические законы как формы мысли Витгенштейн в
стиле Канта сравнивает с пространством и временем как формами ин-
туиции2. При этом он отказывается рассматривать мышление с психо-
логической точки зрения.
Витгенштейн снова подчеркивает, что значение предложения —
это соответствующий предложению факт. Но предложение имеет и
другое отношение к реальности, ибо можно понимать предложение,
совсем не зная его значения. Дело в том, что предложению принадле-
жит смысл. «Быть истинным или ложным — это в действительности
составляет то отношение предложения к реальности, которое мы име-
ем в виду, говоря, что ему присущ смысл (Sinn)»3. В «Трактате» поня-
тие «смысл» предложения полностью вытеснит его «значение».
Ответ на вопрос о том, имеет ли некоторое предложение смысл,
никогда не может зависеть от истинности другого предложения, ка-
сающегося конституента первого предложения. В противополож-
ность Расселу, австрийский философ утверждает, что логика в целом
не имеет дело с отношениями. Несмотря на то что Витгенштейн при-
знает внутренние отношения между предложениями, он считает, что
1 Wittgenstein L Notebooks... P. 103.
2 Ibid. P. 118.
3 Ibid. P. 113.
90
в сущности это отношения между различными типами, отличные от
внутреннего отношения имен к целому предложению, в которое они
входят. Отношения между предложениями не выражаются в самих
предложениях, но показываются в символах и могут быть представле-
ны в систематической форме в тавтологиях. Что же касается имен, то
мы в сущности не знаем, что это такое. Мы лишь уверены в том, что
имена не есть вещи1.
Все же центральное место среди витгенштейновских текстов рас-
сматриваемого периода занимают «Дневники 1914—1916 гг.» (по-
следние записи в них сделаны в январе 1917 г.). Этот довольно объем-
ный подготовительный текст характеризуется безграничным опти-
мизмом его автора в отношении возможностей логики. Уже первое
предложение свидетельствует об этом: «Логика должна позаботиться
о самой себе»2. Философам остается только смотреть и описывать то,
каким образом она это делает. В логике, согласно Витгенштейну, все
закономерно и нет ничего неожиданного, ибо в ней процесс и резуль-
тат совпадают. И происходит это потому, что собственно логические
предложения не отображают фактов. Единство логики напоминает
ему единство музыкального произведения. Витгенштейн даже полага-
ет, что если удастся установить все синтаксические правила для про-
позициональных функций, то отпадает надобность в специальной он-
тологической теории предметов, свойств и т. п. Поэтому окончатель-
ное решение всех вопросов окажется крайне простым. Но эта задача,
по его мнению, уже существенно отличается от задачи, поставленной
ранее Фреге и Расселом.
В логике, как она представлена в «Дневниках», ошибки объявля-
ются принципиально недопустимыми. В этой всесильной науке нет не-
обходимости ссылаться на самоочевидность, которая часто обманы-
вает. Каждое возможное предложение всегда правильно сформулиро-
вано, любой знак должен обладать способностью что-либо обозна-
чать. Предложение детерминирует свое «логическое место». Как
«логическое», так и собственно пространственное место свидетельст-
вует, по Витгенштейну, о возможности существования чего-либо.
Знак и обозначаемый им предмет тождественны в отношении логиче-
ской структуры. Если бы этого не было, тогда имелось бы нечто более
фундаментальное, чем логика. Но, с панлогистской точки зрения Вит-
генштейна, такое принципиально невозможно. Чтобы увидеть в знаке
именно знак, следует обратить внимание на его использование. Ука-
1 Wittgenstein L Notebooks 1914—1916. P. 111.
91
2 Ibid. P. 2.
зание на то, что в логике (и философии) необходимо описывать прак-
тику использования знаков, станет одной из важнейших установок
раннего и позднего периодов деятельности Витгенштейна.
«Предложение может выражать свой смысл, только будучи ло-
гическим отображением его»{. Для того чтобы охарактеризовать фун-
даментальное свойство предложений, Витгенштейн и заимствует гер-
цевское понятие «модель». Он поясняет модельный, образный харак-
тер предложения описанием случая в парижском суде, когда одно до-
рожное происшествие было продемонстрировано с помощью кукол.
В предложении, предупреждает Витгенштейн, мы не можем нело-
гическим путем располагать обозначаемые предметы. Это означало
бы выход за пределы логики языка, что абсурдно. Иначе говоря, как и
в случае с «моделями» Герца, предложения сами устанавливают гра-
ницу своей применимости. Предложения способны быть истинными
или ложными, но их смысл от этого не зависит. А истинными или лож-
ными они оказываются только в том случае, если, будучи образами не-
которой ситуации, согласуются или не согласуются с «реальностью».
То, что «истинное» и «ложное» обозначают одно и то же для всех
предложений, доказывается тем, что любое «законченное» предло-
жение можно отрицать. Однако образы (картины), не являющиеся
предложениями, отрицать нельзя. В этом, как считает Витгенштейн,
заключается отличие, так сказать, «чистых» образов от предложе-
ний2. Это — общее свойство всех предложений. Предложение также
служит как бы мерилом отображаемой им ситуации. «Предложение
конструирует мир с помощью своих строительных лесов»3.
«Логика мира» (то есть его структура) предшествует истинност-
ному значению. До того как предложение получит смысл, его логиче-
ские константы, согласно Витгенштейну, уже должны что-то обозна-
чать, иметь значение. В «Трактате» эта позиция в отношении кон-
стант будет, однако, отвергнута. Что же касается самого существова-
ния констант, то об этом, по Витгенштейну, неправомерно даже
спрашивать, ибо к главным свойствам констант относится способ-
ность исчезать4. В данном случае он, очевидно, подразумевал возмож-
ность определения одних логических связок с помощью других.
1 Wittgenstein L. Notebooks 1914—1916. P. 6.
2 Ibid. P. 33.
3 Ibid. P. 16.
4 Ibid. P. 19.
92
В отличие от предложений имена не являются образами. Отдель-
ное слово не способно выражать мысль, которая согласуется или не
согласуется с реальностью. Как, например, слово «килограмм»,
имеющее значение, может само по себе быть истинным или ложным?
Имена — это только заместители объектов. Предложения, продол-
жает Витгенштейн, интересны именно как образы реальности. Пол-
ностью проанализированные предложения содержат ровно столько
имен, сколько есть обозначаемых ими объектов. Поэтому-то язык и
оказывается универсальным и всеохватывающим отображением
мира. «Я не должен беспокоиться о языке»1. Заметим, что когда Вит-
генштейн говорит о проективном отношении предложения к миру, он
подчеркивает, что проецируются «протообразы» (гештальты) пред-
ложения. В тексте «Трактата» это понятие будет полностью вытесне-
но понятием «логическая форма».
Предложения логики, говорящие что-либо о своем смысле, Вит-
генштейн квалифицирует как «псевдо-предложения». Любое описа-
ние мира возможно только в случае, если то, что обозначено, не явля-
ется своим собственным знаком. «То, что псевдопредложение "суще-
ствует п вещей" пытается описать, показывается в языке присутстви-
ем п-го количества собственных имен с различными значениями»2.
«Образная форма» — это то, в чем образ согласуется с реально-
стью, чтобы ее отображать. Предложение описывает какой-либо
факт с помощью своих внутренних логических свойств. Понятие «об-
разная форма» будет нести большую смысловую нагрузку в «Тракта-
те», где оно связано с другими разновидностями форм.
Витгенштейн констатирует, что он бессознательно начинает свое
исследование с элементарных предложений и постепенно восходит к
самым общим предложениям. Противоречие — это внешний предел
для всех предложений, а тавтология — как бы десубстанциализиро-
ванный центр, некоторая точка. Предложение может быть в принципе
и неполным образом какого-либо отдельного конкретного факта; но в
логическом плане оно всегда с необходимостью есть полный (закон-
ченный) образ.
Расселовское влияние в «Дневниках» сказывается в том, что Вит-
генштейн еще допускает возможность постижения сложных (но нс
простых!) предметов путем «знания-знакомства». Однако в самих
комплексах уже заключается требование их логического анализа
вплоть до простых объектов. Правда, Витгенштейн не раз признается,
1 Wittgenstein L Notebooks 1914—1916. P. 43.
93
2 Ibid. P. 20.
что не может привести примера ни одного из таких объектов. Сущест-
вование простых элементов детерминируется не свойствами мира, а
априорным требованием, чтобы анализ предложений был точным, пол-
ным и небесконечным. «Смысл предложения должен проявляться в
предложении, разделенном на его простые составляющие»!. В «трак-
тате» тема «простых объектов» получит дальнейшее освещение.
Несмотря на провозглашенное всемогущество логики, Витген-
штейн опасается, как бы в его логическую систему не закрались психо-
логические рассуждения. Свои главные трудности он связывает с труд-
ностями выражения содержания. Поэтому, считает он, следует строго
придерживаться правила: нельзя выражать то, что невыразимо.
В отличие от «Заметок» 1913 и 1914 гг., имеющих прежде всего
логическое назначение, в «Дневниках» логика и философское миро-
воззрение тесно переплетаются. «Моя работа,— пишет Витген-
штейн,— простирается от оснований логики до природы мира»2.
Объяснение свойств предложения есть объяснение всего бытия, при-
чем последнее не сводится только к существующему. Логика, по Вит-
генштейну,— это «великое зеркало» мира.
Ранней позиции Витгенштейна был присущ своеобразный логиче-
ский фетишизм. Многие из поднятых им специальных вопросов давно
усвоены современной логикой, которая не видит в них ничего сверхъ-
естественного. Молодому Витгенштейну же они казались подлинным
философским откровением. Занятие логикой было бы для него к тому
же глубоко личным делом, о чем можно судить по его письмам рас-
сматриваемого периода.
Мировоззрение Витгенштейна в период написания им «Дневни-
ков» удивительно пронизано пантеистическими мотивами. Здесь так-
же противоречиво сочетаются оптимистический, поистине эпикурей-
ский подход к миру и шопенгауэровский пессимизм. По сравнению с
предназначавшимся для опубликования «Трактатом» эти вопросы в
«Дневниках» занимают больше места. На вопрос о том, что он знает о
Боге и назначении человеческой жизни, Витгенштейн отвечает про-
стым указанием на факт существования мира. Смысл жизни и мира
для него связан с доброй и злой волей. Такой смысл, как он считает, и
обозначается словом «Бог». Поэтому молиться Богу означает думать
о смысле жизни. Но сам человек в сущности бессилен и ничего не мо-
жет изменить в мире, ибо мир не зависит от его индивидуальной воли и
ее конкретных проявлений. И в этом смысле «Бог» есть неумолимая
1 Wittgenstein L Notebooks 1914—1916. P. 63.
2 Ibid. P. 79.
94
судьба, или независимый от индивидуальной воли мир, то, «как обсто-
ят дела в мире»1.
Витгенштейн соглашается с Достоевским, считавшим, что чело-
век, который счастлив, выполняет цель своего существования. Счаст-
ливый человек всегда живет в настоящем и ничего не боится. В на-
стоящем ведь нет места для смерти. Страх смерти оценивается Вит-
генштейном как ложная, плохая жизнь. Быть счастливым означает
быть в согласии с миром и в то же время отказываться от его прелес-
тей. Но как можно быть счастливым, если мы не можем изгнать стра-
дания и горе из этого мира? Ответ Витгенштейна на этот вопрос при-
ближает его к созерцательному идеалу Спинозы: «Жизнь знания есть
жизнь счастливая независимо от страданий в мире»2.
Но индивидуализм Витгенштейна усиливается и становится похо-
жим на безграничный индивидуализм Шопенгауэра. «Какое отноше-
ние ко мне имеет история? Мой мир является первым и единствен-
ным! Я хочу описать то, каким я нахожу мир... Я должен судить мир,
соизмерять вещи»3. В такой форме здесь предвосхищается будущая
постановка проблемы солипсизма в «Трактате».
По Витгенштейну, жизнь (но не в физиологическом или психоло-
гическом смысле) и мир совпадают. Все, что связано со счастливой
жизнью, трудно объяснимо и глубоко мистично. Это можно только
описывать. Из осознания личностью уникальности своей жизни воз-
никают религия и искусство. С эстетической точки зрения, для Вит-
генштейна чудо заключается в самом существовании мира. Искусство
как бы со стороны смотрит на мир счастливыми глазами. Цель искус-
ства — прекрасное, но это и есть то, что делает нас счастливыми.
Венский эстетизм мироощущения Витгенштейна ограничивает для
него проблему смысла человеческой жизни рамками «облагоражи-
вающего» искусства. Такое искусство понимается им в «Дневниках»
как самая «совершенная экспрессия».
Насколько сейчас известно, подготовительные материалы к
«Трактату» не ограничивались только тремя вышеприведенными тек-
стами. По предположению исследователей философии Витгенштей-
на, существовало 7—9 тетрадей, значительная часть содержания ко-
1 Но 17.10.1916 г. он, однако, записал: «...я могу также говорить о воле, которая
обща всему миру. Но эта воля есть в высшем смысле моя воля. Как моя идея есть мир,
так и моя воля является мировой волей» (Wittgenstein L. Notebooks. 85). Вообще про-
блема воли — одна из центральных философских проблем, рассматриваемых в «Днев-
никах».
2 Wittgenstein L Notebooks... P. 81.
3 Ibid.
95
торых впоследствии вошла в «Трактат». Так, фон Вригт обнаружил в
1965 г. в Вене рукописный текст, который в основном уже почти не от-
личался от изданного текста «Трактата». Эта рукопись была не так
давно опубликована под названием «Прототрактат»1. Некоторые
свои ранние рукописи, хранившиеся в Вене, Витгенштейн уничтожил
за год до своей смерти. Он, по-видимому, хотел, чтобы «Трактат»
продолжал восприниматься читателями как целостное и законченное
произведение, написанное «на одном дыхании».
Во всех подготовительных текстах Витгенштейна (за исключени-
ем, пожалуй, лишь «Прототрактата») встречается огромное количе-
ство неточностей, непонятных положений и явных противоречий. Из
текста в текст переходят одни и те же положения, которые, наконец,
закрепляются подтем или иным индексом в «Трактате». Наличие в
подготовительных вариантах массы повторений не свидетельствует,
однако, лишь о неряшливости автора. Демонстрация какой-либо идеи
с помощью многочисленных, подчас минимально отличающихся при-
меров — индивидуальная особенность философского стиля Витген-
штейна. Эта особенность, между прочим, получит наиболее полную
реализацию в поздний период его деятельности. В целом, несмотря на
крайне несистематический характер, подготовительные материалы
довольно обстоятельно показывают лабораторию витгенштеиновскои
мысли рассматриваемого периода, процесс вызревания его логи-
ко-философской терминологии.
ПЕРВЫЙ СИНТЕЗ. ФИЛОСОФИЯ «ТРАКТАТА»
1. История создания и замысел книги
Первая мировая война сыграла значительную роль в жизни Вит-
генштейна. С начала войны он, несмотря на возможность освобожде-
ния от воинской службы по состоянию здоровья, вступает в авст-
ро-венгерскую армию и принимает непосредственное участие в бое-
вых действиях на разных фронтах. В скором времени он становится
офицером артиллерии. Активное участие Витгенштейна в войне со-
ставляет одну из загадок для его биографов. С одной стороны, нет све-
дений о том, что ему были присущи милитаристские настроения. Не
был он и «ура-патриотом». Немаловажен и тот факт, что оказывав-
ший тогда на него сильное влияние Рассел был убежденным пацифи-
стом. Но, с другой стороны, нельзя недооценивать того, с каким ува-
жением и даже пиететом относился Витгенштейн ко всему традицион-
ному в обществе, к узаконенным в нем нормам и конвенциям. Критика
'См.: Wittgenstein L Prototractatus. Ithaca, 1971.
96
некоторых сторон буржуазной культуры и искусства удивительным
образом сочеталась у него с покорным, конформистским отношением
ко многому, что происходило в буржуазном «мире фактов». В поздних
рукописях философа часто говорится о значении всевозможных форм
«ритуального» (в широком смысле этого слова) поведения людей.
Поэтому можно предположить, что воинская служба и участие в бое-
вых действиях воспринимались им как необходимая и наиболее «орга-
ничная» в тех условиях форма такого поведения. В период Второй ми-
ровой войны Витгенштейн также оставит свою академическую дея-
тельность и будет активно работать в одном из английских военных
госпиталей. Он сохранит свое отношение к принятым в конкретном
обществе установлениям. В то же время оба этих биографических
примера показывают, что в своем поведении австрийский философ
больше руководствовался внешней, формальной стороной историче-
ских событий его эпохи и не был способен проникнуть в их сущность,
понять агрессивный и империалистический характер Первой мировой
войны. В арсенале описательной витгенштейновской философии не
было средств для осуждения этой войны. Не встретим мы у него и оце-
нок событий Второй мировой войны.
Именно в ходе Первой мировой войны Витгенштейну удалось по-
знакомиться с творчеством мыслителя, который повлиял на дальней-
шее формирование его мировоззрения. Дело в том, что, находясь оп-
ределенное время с войсками в Галиции, он прочитал некоторые про-
изведения Л.Н. Толстого. Приверженность Толстому он сохранил на
всю жизнь. При этом наибольшее впечатление на него оказали не ос-
новные романы великого русского писателя, а такие его вещи, как
«Краткое изложение Евангелия», статья «Что такое искусство?», а
также сказки. В этих вещах, не составляющих, как известно, самое
главное и ценное в творчестве Толстого, тем не менее определенно
проявляются противоречивые идеология и мировоззрение «толстов-
ства». Витгенштейну импонировало толстовское отношение к жизни,
его понимание нераздельного единства этического и эстетического,
проповедь аскетизма и искренности человеческих чувств. Он восхи-
щался экспрессивными возможностями языка Толстого, его способ-
ностью с помощью простых и жизненных примеров, а не навязчивых
поручений, передать глубокое моральное содержание. Со сложив-
шимся у него образом толстовского отношения к жизни и культуре
Витгенштейн будет часто сопоставлять свою собственную деятель-
ность.
Толстой, однако, был не единственным русским автором, творче-
ство которого оставило след в мировоззрении Витгенштейна. Не
меньшее, если не большее, воздействие на него оказал Ф.М. Достоев-
7 - 5739 97
ский. Любимыми книгами Витгенштейна стали «Преступление и на-
казание» и «Братья Карамазовы». Сообщают, что фигура старца из
«Братьев Карамазовых» всегда была центральной при обсуждении им
взглядов Достоевского. Как это свойственно многим представителям
западной интеллигенции, Витгенштейн считал, будто в произведениях
Достоевского показаны постоянные и неизменные типы русского ха-
рактера как такового.
Витгенштейн все время совершенствовал свои познания в рус-
ском языке и в 30-е годы, готовясь к своей поездке в СССР, которую
он осуществил в 1935 г., уже мог достаточно свободно говорить
по-русски, а также читать в подлиннике романы Достоевского.
Свою работу над «Трактатом» Витгенштейн продолжал в течение
всей войны.В его походном ранце всегда находились варианты текста
будущей книги. В конце 1918 г. он оказывается в плену в итальянском
городе Кассино. Здесь-то ему и удается закончить свой труд. Витген-
штейн посылает экземпляр рукописи в Кембридж Кейнсу, и тот пере-
дает ее Расселу. Другой экземпляр был послан в Германию Фреге, ко-
торый, однако, как заключил по его ответу Витгенштейн, не понял в
работе «ни слова». Витгенштейн боялся встретить непонимание и со
стороны Рассела и поэтому после освобождения из плена стал искать
возможность обсудить с ним идеи книги во время личной встречи. Та-
кая встреча состоялась в Гааге в 1919 г.1
Затем он предпринимает многочисленные попытки издать руко-
пись у себя на родине, но все они оказываются безуспешными. Осо-
бые надежды он связывал с издателем фон Фикером, однако возглав-
ляемая последним издательская фирма вскоре прекратила свое суще-
ствование. Тем не менее рукопись была в конце концов опубликована
в Германии — в «Анналах натурфилософии» под редакцией извест-
ного «энергетиста» В. Оствальда (1921). Работа Витгенштейна, та-
ким образом, была издана в ежегоднике, в котором господствовал дух
психологизма и феноменализма, противоположный основной направ-
ленности «Трактата». Это издание вышло в свет со множеством оши-
бок; раздраженный Витгенштейн в письмах прямо называл Оствальда
шарлатаном.
1 С этой встречей связано одно любопытное обстоятельство. После смерти отца
Людвиг Витгенштейн стал обладателем огромного наследства. Однако он считал, что
ему как философу деньги станут обузой в дальнейшей жизни, и поэтому отказался от на-
следства в пользу своих братьев и сестер. В результате, когда встал вопрос о поездке в
Голландию, он не смог даже заплатить за железнодорожный билет. Поэтому по его
просьбе Рассел заложил его оставшееся в Кембриджском университете имущество. На
полученные средства Витгенштейн и осуществил свою поездку в Голландию.
98
Через год книга была издана уже в Англии с предисловием Рассе-
ла. Витгенштейн всеми силами добивался расселовского предисло-
вия, так как надеялся, что это создаст дополнительную рекламу его
книге, которая была переведена Ч. Огденом при участии Ф. Рамсея.
Хотя впоследствии — в 1961 г.— появился более совершенный анг-
лийский перевод1, тем не менее первый перевод обладает тем досто-
инством, что он был сверен самим автором, о чем свидетельствует его
переписка с Огденом2.
В то же время содержание расселовского предисловия совершен-
но не удовлетворило Витгенштейна, и он категорически отказался от
участия в английском издании своей книги. В 1921 г. Витгенштейн не-
ожиданно уходит от активных занятий философией и после кратковре-
менной подготовки на педагогических курсах начинает работать про-
стым учителем начальных классов в отдельных горных деревнях у себя
на родине. До 1926 г. его общение с другими европейскими философа-
ми замирает.
Рукопись Витгенштейна первоначально называлась «Предложе-
ние» («Der Satz»). Английский переводчик предлагал озаглавить ее
«Философская логика», ожидая, что такое модное тогда название бу-
дет способствовать коммерческому успеху. Принято, однако, было на-
звание, предложенное, очевидно, Муром: «Логико-философский
трактат». Это латинское название не случайно ассоциируется с назва-
нием одного из трактатов Спинозы. В работе Витгенштейна, особенно
в ее завершающих афоризмах, содержится несколько утверждений,
напоминающих учение нидерландского мыслителя XVII века.
Мы специально остановились на факте издания работы Витген-
штейна в Англии лишь потому, что как раз с этой страной будет в ос-
новном связана его дальнейшая философская деятельность. В то вре-
мя как вышедшее в Германии издание «Трактата» осталось практиче-
ски незамеченным, английское издание сразу сделало Витгенштейна
одной из самых заметных фигур в британских философских дискуссиях
тех лет. Известность, которую он получил в Англии, а также то обсто-
ятельство, что его последующая академическая карьера протекала
именно здесь, послужили одной из причин того, что философия Вит-
генштейна долгое время рассматривалась исследователями только в
русле британской аналитической традиции. При этом фактически иг-
норировались «континентальные» корни его философии и мировоз-
зрения.
1 См.: Wittgenstein L Tractatus logico-philosophicus. L, 1978.
2 См.: Wittgenstein L Letters to C.K. Ogden. Oxford, 1973.
?• 99
Расселовское предисловие, как отмечалось, было крайне негатив-
но встречено Витгенштейном. Он писал по этому поводу своему другу
Энгельману: «Моя книга, видимо, не будет напечатана, ибо я не могу
заставить себя издать ее с ведением Рассела, которое кажется мне
еще более невозможным в [немецком] переводе, чем в оригинале»1.
Что же обусловило такую реакцию Витгенштейна?
В своем предисловии Рассел подчеркивает, что автор «Трактата»
имеет дело с условиями возможности логически совершенного язы-
ка. Правда, Витгенштейн, по его мнению, не стремится к практиче-
скому созданию подобного языка, а просто показывает, что если язык
вообще может быть осмысленным, то только потому, что он прибли-
жается к идеалу логически совершенного языка. Для того чтобы язык
был приспособлен к утверждению или отрицанию фактов, между
структурой его предложений и структурой фактов должно быть нечто
общее.Однако это общее не может быть высказано в самом языке, а
должно быть лишь показано. Эту мысль Витгенштейна Рассел охарак-
теризовал как одну из центральных в книге. Об этом же ему еще в 1919 г.
писал сам Витгенштейн: «Я боюсь, что Вы не поняли мое главное убе-
ждение, по отношению к которому все занятие логическими высказы-
ваниями есть только пояснение. Главное — это теория того, что может
быть выражено (gesagt) высказываниями — т. е. языком (и, что то же
самое, что может быть мыслимо) — и того, что не может быть выражено
в высказываниях, а только показано (gezeigt); что, как я полагаю, явля-
ется кардинальной проблемой философии2. Таким образом, в этом пунк-
те между Расселом и Витгенштейном нет расхождения.
Рассел далее отмечал, что, по Витгенштейну, все собственнр фи-
лософское относится к сфере того, что может быть лишь показано. Из
этого следует, что в философии ничего нельзя высказать правильно, а
каждое философское предложение — это, так сказать, нелогичная
конструкция. Единственное, что можно извлечь из философской дис-
куссии,— это понимание ошибочности самой такой дискуссии.
Подробно рассмотрены Расселом собственно логические идеи
книги, причем он продемонстрировал свое несогласие с Витгенштей-
ном по целому ряду конкретных вопросов. Не исключено, что именно
расселовское акцентирование формальнологических моментов
«Трактата» противоречило главным интенциям автора книги. Во вся-
ком случае, это предисловие стало первым критическим исследовани-
ем позиции Витгенштейна, положившим начало односторонней, узко-
1 Engelman P. Letters from Ludwig Wittgenstein. With a Memoir. N. Y., 1968. P. 31.
2 Russell B. Autobiography. L., 1978. P. 350.
100
логической интерпретации всего его творчества. Наиболее типичной
интерпретацией такого рода позднее явилась книга Э. .Энском «Вве-
дение в "Трактат" Витгенштейна»1.
Реальное содержание книги, безусловно, разнообразнее, чем это
представлялось Расселу. «Трактат» — очень сложное и многослой-
ное произведение, которое часто справедливо сравнивают с айсбер-
гом, подчеркивая тем самым, что основное смысловое его содержание
глубоко скрыто и требует особого исследовательского подхода. Это
оказывается причиной того, что существует огромное множество тол-
кований текста данной работы.
Нельзя, конечно, игнорировать того, что сам Витгенштейн усмат-
ривал корень философских заблуждений в разрыве между внутренней
сущностью и внешним функционированием языка. Чтобы преодолеть
этот разрыв, необходимо, по его мнению, разработать правильную
знаковую систему обозначения. Витгенштейн в принципе допускал,
что примерами таковой могут служить системы Фреге и Рассела.
Указание в «Трактате» на необходимость разработки правильной
знаковой системы Рассел истолковал как главную цель Витгенштей-
на. Это было заблуждением Рассела, которое подметил не только сам
Витгенштейн. Так, Рамсей в своем напечатанном в 1923 г. обзоре
«Трактата» писал об утверждении Рассела: «Это мне представляется
весьма сомнительным обобщением. У Витгенштейна действительно
есть рассуждения, в которых он определенно касается не любого, а
лишь логически совершенного языка, как, например, в дискуссии о
"логическом синтаксисе" в [3.325] и далее. Но в целом он придержи-
вается того, что его доктрины применимы к естественным языкам, не-
смотря на видимость противоположного»2. Рамсей, таким образом,
первым увидел, что программа Витгенштейна не укладывается в рам-
ки тех оценок, которые дал в своем предисловии Рассел. Тем не менее
ни Рамсей, ни другие первые комментаторы «Трактата»3 практически
не коснулись мировоззренческой стороны книги, считая последние
афоризмы своеобразным эпифеноменом в отношении строгой док-
трины языка. Но эта доктрина в исходном замысле Витгенштейна на
самом деле выполняет хотя и важную, но все же подчиненную, инстру-
ментальную функцию.
Рамсей не ошибся, отметив, что Витгенштейн выясняет условия,
необходимые любому языку, ибо каждый язык в сущности соверше-
1 См.: Anscombe G.E. An Introduction to Wittgenstein's Tractatus. L, 1959.
2 Copi /., BeardR. W. (eds). Essays on Wittgenstein's Tractatus. N. Y., 1966. P. 9.
3 См., напр.: Ibid. P. 25—30.
101
нен и самодостаточен. Рассел же не принял во внимание такие афориз-
мы, как, например, [4.002]: «Человек обладает способностью строить
язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея представле-
ния о том, как и что означает каждое слово...» Многие афоризмы сви-
детельствуют о том, что исходный замысел Витгенштейна в целом от-
личался от сциентистского замысла Фреге или Рассела. Конечно, ав-
стрийский философ стремился к выработке совершенного знакового
обозначения для решения проблем. Но делал он это не для того, чтобы
как-то модифицировать язык, осуществить его «реформу», а для того,
чтобы вскрыть внутреннюю структуру языка, необходимость чего дик-
товалась задачами его философии и мировоззрения.
Помимо расселовского предисловия, «Трактату» предпосылается
краткое авторское ведение. Витгенштейн не столько разъясняет за-
мысел своей работы,сколько заостряет внимание на идеях, которые в
действительности могут быть поняты лишь в результате изучения со-
держания всей книги. Он подчеркивает, что его книга излагает фило-
софские проблемы и отнюдь не является учебником. А возникают
проблемы такого рода в результате неправильного понимания логики
языка. С присущей ему категоричностью он пишет: «Весь смысл кни-
ги можно выразить приблизительно в следующих словах: то, что вооб-
ще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно
говорить, о том следует молчать»1. Витгенштейн стремится поставить
в языке, точнее, в логике самого языка границу выражению мыслей.
Все, что лежит «по ту сторону» языка, он квалифицирует как «бес-
смысленное». В такой позиции нетрудно разглядеть мотив краусиан-
ского «творческого разделения». В «Трактате» тождество мыслей и
языка реализуется путем отождествления мыслей и предложений.
При этом Витгенштейна не интересует психологическая сторона
мышления.
Значимость своей работы австрийский философ усматривает в
следующем. Во-первых, в ней якобы точно выражены некоторые
мысли. Во-вторых, истинность этих мыслей он считает окончатель-
ной: здесь полностью решены поставленные проблемы, причем пока-
зано, как мало дает их решение.
Познакомив читателей со всеми афоризмами «Трактата», Витген-
штейн в койце книги написал следующее: «Мои предложения поясня-
ются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов уясняет их
бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше
их (он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он
1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 29.
102
взберется по ней наверх). Он должен преодолеть эти предложения,
лишь тогда он правильно увидит мир» [6.54]. Парадоксальный и, на
первый взгляд, загадочный данный афоризм книги получает, однако,
определенное объяснение в свете всей витгенштейновской теории
языка и его специфического понимания «бессмысленного». Кроме
того, есть еще одно важное обстоятельство, которое не было принято
Расселом во внимание в его предисловии. Речь идет об изначальной
мировоззренческой тенденции всего «Трактата», о неявном, на пер-
вый взгляд, подчинении логического (теоретического) этическому,
что в некотором смысле напоминает позицию Канта. Указав на то, как
мало дает нам решение проблем, поставленных в «Трактате», Витген-
штейн, вероятно, имел в виду, что это решение не затрагивает этиче-
ские ценности жизни. Данное обстоятельство он выразил в письме к
фон Фикеру так: «...точка зрения книги является этической... То, что я
собирался написать, сводится к следующему. Моя работа состоит из
двух частей: той, что представлена здесь, плюс все то, что я не напи-
сал. И именно эта вторая часть является наиболее важной. Моя книга
как бы изнутри устанавливает пределы сферы этического, и я считаю,
что это единственный строгий путь установления пределов. Короче, я
полагаю, что там, где многие другие сегодня просто гадают, мне уда-
лось все твердо поставить на место благодаря тому, что я обо всем
хранил молчание. И по этой причине, если я только не слишком оши-
баюсь, книга скажет многое из того, что вы сами хотите сказать. Толь-
ко, возможно, вы не заметите, что об этом сказано в книге»1.
Итак, нельзя отрицать этическую (и в более широком плане —
мировоззренческую) ориентацию «Трактата». Книга в этом смысле
напоминает произведение искусства тем, что подводит к пониманию
этической позиции автора не путем прямых указаний или строгих фор-
мулировок, а путем умелой компоновки материала и особых, свойст-
венных именно данной работе выразительных средств/Конечно, инст-
рументальность и подчиненность собственно логической теории не оз-
начает ее малозначительности для самого философа. Этическая цель,
к которой стремится Витгенштейн,— «правильное видение мира» —
не может быть достигнута без прохождения разработанного им пути. А
путь этот для него оказывается достаточно тернистым.
«Трактат» написан в форме афоризмов. В его стиле, какуже отме-
чалось, имеется несомненное сходство со знаменитыми афоризмами
Лихтенберга. Цифровая система обозначения в книге фиксирует сте-
пень важности афоризмов. Например, [2] важнее [2.1], а [2.11] есть
Wittgenstein L Prototractatus. P. 16.
103
комментарий к [2.1 ]. Подобная система обозначения до Витгенштейна
уже применялась в труде Рассела и Уайтхеда. Следует также подчерк-
нуть, что автор «Трактата» зачастую не соблюдает последовательно-
сти изложения и вводит новые термины, которые он разъясняет зна-
чительно позднее. Порядок обоснования идей в книге не соответству-
ет семи главным разделам: не каждый новый раздел, помеченный це-
лым числом, начинает новую тему. К тому же, как отмечали еще
первые рецензенты книги, автор, отказавшийся от привычной, деля-
щейся на параграфы структуры текста, сам допускает неточности в
своей системе обозначения. Так, скажем, [4.0411 ] более относится к
[4.04], чем к [4.041 ]!. В тексте «Трактата» также встречается немало
других неточностей, неясных мест, бесспорных противоречий, цели-
ком лежащих на совести его автора. Многим общепринятым поняти-
ям он придает сугубо индивидуальное содержание.
Некоторые комментаторы находят в «Трактате» скрытую внут-
реннюю структуру. Так, американский философ Г. Финч полагает, что
содержанию книги присуща симметрия. Основные разделы текста он
определяет следующим образом: ( 1 ) мир как тотальность фактов; (2)
образы как образы фактов; (3) предложения как знаки; (4) предложе-
ния как образы реальности; (5) предложения как функции истинно-
сти; (6) логические, математические и научные предложения, а также
этические псевдопредложения; (7) афоризм «молчания»: «О чем не-
возможно говорить, о том следует молчать». Причем симметричны ( 1 )
и (7), (2) и (6), (3) и (5). Раздел (4), по мнению Финча, составляет са-
мую сердцевину книги2. Такая реконструкция содержания «Тракта-
та», конечно же, внешне привлекательна, придает ему эстетический
блеск и изящество. Сам текст, однако, сопротивляется приписывае-
мой ему симметрии и гармонии.
Логическая символика, применяемая в книге, хотя и выработана
под влиянием логико-математических исследований Фреге и Рассела,
во многом оказывается результатом оригинальной концепции самого
Витгенштейна. Причем важную роль в понимании этой символики
призвана играть своеобразная «логическая интуиция».
2. Анализ основных понятий
Подход Витгенштейна, санкционировавший наличие определен-
ной логической структуры во всем, что выразимо в языке, часто при-
водит его к односторонним, метафизическим выводам. Например, он
1 См.: Copi /., Beard R.W. (eds.). Essays on Wittgenstein's Tractatus. P. 25.
2 См.: Finch H. Wittgenstein. The Early Philosophy. N. Y., 1971. P. 256—257.
104
пишет, что возможна только логическая необходимость, что нет кау-
зальности [6.37]. Или: «Исследование логики означает исследование
всей закономерности. А вне логики все случайно» [6.3]. Следователь-
но: «Все, что мы видим, может быть также другим... Нет никакого ап-
риорного порядка вещей» [5,634]. Одним словом, Витгенштейн заве-
домо лишает чувственно воспринимаемую картину мира присущей ей
объективной закономерности.
При этом Витгенштейн ищет неизменные, всеобщие и обязатель-
ные условия для функционирования языка. Эти условия напоминают
кантовскую трактовку понятия «объективное». Выявление их позво-
ляет ему достаточно произвольно обращаться с онтологическим «ма-
териалом». Так, он, в частности, не давал конкретных примеров «объ-
ектов», о которых говорится в самом начале «Трактата», но полагал,
что таковые обязательно должны быть, если последовательно исхо-
дить из принципов его логики. Подобные «объекты» необходимы для
того, чтобы предложения могли выражать определенный смысл.
Рассмотренные нами ранее «Заметки по логике» свидетельствуют
о том, что Витгенштейна первоначально заинтересовали специфиче-
ские проблемы математической логики, а уже потом он сформулиро-
вал свои онтологические представления. Другое дело, что при этом он
заранее руководствовался установкой, согласно которой принципи-
ально возможно перенесение на мир «фактического» характеристик
его логической теории. И это может быть оценено не только как со-
временный вариант панлогизма, но и как основная целевая установка,
даже догма, витгенштейновской разновидности логико-лингвистиче-
ского идеализма.
Витгенштейн пытается показать условия, необходимые для суще-
ствования языка как такового и для возможности выполнения им
функции обозначения. То, что такие условия должны быть, не вызы-
вает у него сомнения. Как и Канта, его интересует не quidfacti, a quid
juris. В то же время Витгенштейн принципиально исключил любые
попытки говорить о самом языке (даже с помощью метаязыка). Каж-
дое логическое предложение многое показывает о себе, но ничего не
говорит о себе.
Минимальная, но строгая логическая символика, по Витгенштей-
ну, показывает структурные особенности языка. Например: «Мы не
должны говорить: комплексный знак "aRb" означает, что а находится
в отношении R и Ь, но должны говорить: "то, что "а" стоит в опреде-
ленном отношении к "Ь"у означает, что "aRb"» [3.1432]. Первая фор-
мулировка попросту излишняя, ибо самого расположения символов
достаточно для показа данного отношения. «Очевидно, что предложе-
ние формы "aRb" мы воспринимаем как образ. Здесь, очевидно, знак
105
есть подобие обозначаемого» [4.012]. Витгенштейн несколько упро-
щает ситуацию, но его подход тем не менее требует от читателя нема-
лой логической интуиции. В «Заметках по логике» этот пример пояс-
нялся так: «Таким образом, факты символизируются фактами, или,
более правильно: то, что определенная вещь имеет место в символе,
говорит о том, что определенная вещь имеет место в мире»1.
Поэтому, на взгляд Витгенштейна, совершенно не нужна строго
иерархическая теория типов Рассела: «Ошибка Рассела проявилась в
том, что при разработке своих символических правил он должен был
говорить о значении знаков» [3.331 ]. Проблемы, поднятые Расселом,
могут решаться синтаксически. «Правила логического синтаксиса
должны быть понятны сами собой, если только известно, как обозна-
чает каждый знак» [3.334]2.
Взамен, так сказать, «вертикальной» теории типов Витгенштейн
строит «горизонтальную» теорию, учитывающую внутренние логи-
ческие связи. В ней для того чтобы понять значение знака, необходимо
знать его возможные комбинации с другими знаками, а зная эти ком-
бинации, мы уже понимаем характер его применимости. «Если знак
не применим, то он не имеет значения... (перевод мой.— А.Г.)»
[3.328]. Впрочем, идеальное знаковое обозначение, согласно Витген-
штейну, само показывает характер своей применимости, и здесь вооб-
ще не возникает условий для парадокса Рассела [2.332—3.333].
Как мы знаем, замысел Витгенштейна сводился к ограничению
сферы мышления путем ограничения сферы языка. А границы опреде-
ленного языка — это всегда и границы «мира», онтологические гра-
ницы. Таким образом, получается, что для него язык дескриптивен,
ибо высказать что-либо — значит описать нечто. В связи с этим Вит-
генштейн находит «истинный» момент даже в солипсистской позиции.
Правда, отождествляя пределы чьего-либо языка (а следовательно, и
пределы мира) с пределами субъекта, Витгенштейн имеет в виду не
эмпирического, а «метафизического» субъекта, некоторую философ-
скую абстракцию. Его интересует лишь необходимая, априорная сто-
рона субъекта. Поэтому в строгом смысле слова речь здесь скорее
идет о «логическом субъекте», ибо в «Трактате» признается только
логическая необходимость. Взгляд Витгенштейна по этому вопросу
1 Wittgenstein L Notebooks, 1914—1916. P. 96.
2 Из сказанного не следует делать вывод о том, что Витгенштейн совершенно отка-
зался от семантического подхода в пользу синтаксического. На самом деле в «Тракта-
те» имеют место оба подхода, а в поздний период разрабатывается и своеобразная праг-
матика естественного языка.
106
несет на себе печать традиции немецкого трансцендентализма, а не
британского эмпиризма.
Витгенштейновский «солипсизм» весьма специфичен и может
быть понят только в контексте всей его теории, а в особенности его
концепции «показывания»: «То, что в действительности подразуме-
вает солипсизм, вполне правильно, только это не может быть сказа-
но, а лишь показывает себя» [5.62]. Устранив из «мира» эмпириче-
ский субъект (психологическое Я), мы, согласно Витгенштейну, ока-
зываемся с одними «объектами», что якобы соответствует реалисти-
ческой позиции. Однако этот «реализм», как будет видно из
дальнейшего рассмотрения самого понятия «объект», никак не может
быть отождествлен с материализмом.
Широко известен афоризм [5.6]: «Границы моего языка означа-
ют границы моего мира»1. Говоря о «моем языке», Витгенштейн име-
ет в виду не какой-либо национальный язык или же сугубо индивиду-
альный язык, а просто тот язык, который понятен. Речь здесь идет о
принципиальном владении языком как совокупностью предложений.
Априорные структурные свойства языка и воплощают собой «логиче-
ский субъект», совпадающий с «миром». Витгенштейн пишет: «Логи-
ка наполняет мир, границы мира являются также ее границами»
[5.61].
Известно, что «критика» в специфически кантовском значении
этого слова понимается как исследование пределов некоторой спо-
собности. Поэтому, учитывая цель, поставленную Витгенштейном в
«Трактате», можно рассматривать предпринятое им исследование
как определенную критику, а именно как критику языка с априорист-
ских позиций. Замысел Витгенштейна был, несомненно, ближе Кан-
ту, чем критические пассажи Крауса и Маутнера. Пределы мыслимого
в его книге устанавливаются в языке, а все, что лежит за пределами
понятного языка, уже не постижимо рациональными средствами. В
частности, традиционные религиозные и метафизические понятия
Бога и души запредельны языку. Более того, не может быть даже эти-
ческих и эстетических предложений. За пределами языка артикулиро-
ванное значение должно уступить место «молчанию». Подобное ре-
1 Сходные утверждения мы находим у представителя иной философской тради-
ции — М. Хайдеггера, в работах которого можно найти сравнения языка с «домом бы-
тия», «жилищем, в котором живетчеловек» и т.д. (см., например: Heidegger M. Piatons
Lehre von der Wahrheit. Bern, 1947. S. 53). Подобное сходство и дало в последние годы
повод ряду немецких комментаторов провозгласить близость витгенштейновского уче-
ния (причем не только раннего, но и позднего) и философской герменевтики. В самом
деле, при всем значительном различии позиций Витгенштейна и Хайдеггера их обоих
роднит настоящая фетишизация роли языка.
107
шение тоже может быть сопоставлено с кантовским (правда, у немец-
кого философа речь идет о соотношении знания и веры). Причем у
Витгенштейна само описание пределов языка (а следовательно, и
мира), критика языка лежат за пределами того, что может быть пра-
вильно сказано. Когда же логическая форма предложений языка будет
представлена в адекватном ей символическом обозначении, сущност-
ная структура мира станет явной и легко обозримой. А это, как наивно
надеялся Витгенштейн, в свою очередь позволит занять правильную
этическую позицию в жизни.
Фреге, как мы знаем, учил, что именам (и предложениям как
сложным именам) может быть присущ и смысл, и значение (объект).
По Витгенштейну же, когда мы понимаем собственно предложение,
мы понимаем лишь его смысл. Смысл предложения как «пропозицио-
нального знака» заключается в том, что «его элементы, слова соеди-
няются в нем определенным образом» [3.14]. При этом, уже в согла-
сии с Фреге, он говорил, что предложение не может обладать смыс-
лом, не будучи истинным или ложным. Ложные предложения в той же
мере осмысленны, как и истинные. Понять же имя (а имена Витген-
штейн резко отделял от предложений) — это значит понять его зна-
чение, то есть соответствующий ему объект. Но сделать это можно бу-
дет только тогда, когда мы увидим, как имя используется в предложе-
нии. В отличие от предложений имена абсолютно просты и не имеют
частей. Имя — первичный знак, не определяемый с помощью других
знаков. Но оно не есть что-то вроде простого ярлыка, а выступает в
качестве важного логико-семантического понятия, служащего для
идентификации «объектов» витгенштейновского логизированного
мира. Имена кое в чем сходны с расселовскими «неопределяемыми».
В том символическом языке, который показывается в «Тракта-
те», элементы осмысленного предложения соответствуют объектам
возможного «положения дел»; это «положение дел» может как суще-
ствовать, так и не существовать в реальности. В первом английском
издании книги слово «Sachverhalt» было под влиянием Рассела не со-
всем точно переведено как «атомарный факт», что придало концеп-
ции Витгенштейна несвойственный ей эмпиристский оттенок1. Каж-
дому элементу предложения должен быть поставлен в соответствие
отдельный объект. Отсюда, как считал Витгенштейн, образная, мо-
дельная природа предложения должна быть очевидной. Исключение
1 Поэтому при цитировании афоризмов «Трактата» мы в дальнейшем будем вно-
сить коррективы в имеющийся русский перевод, где тоже встречаются «атомарные
факты».
108
тут составляют лишь предложения логики, которые образами не явля-
ются и выполняют другую функцию.
Объекты есть те элементы, которые лежат в основе полностью
проанализированного языка. Причем «имеется один и только один
полный анализ предложения» [3.24]. Достаточно ясно, что метафи-
зичность витгенштейновского подхода проявляется при абсолютиза-
ции им своего метода логического анализа.
Об этих объектах в языке ничего нельзя сказать, ибо они a priori
предполагаются самим осмысленным языком, его логикой. И хотя в
[2.01], а также в [4.1272] Витгенштейн как будто бы приравнивает
объекты к вещам и предметам, он одновременно подчеркивает: «Объ-
ект прост» [2.02] и «Объекты образуют субстанцию мира. Поэтому
они не могут быть составными» [2.021 ]. Отсюда следует, что объект
есть нечто абсолютно простое, а следовательно, это не предмет или
вещь, которые таковыми принципиально не могут быть, а понятие,
служащее для обозначения формального аналога языковой едини-
цы — имени. Не случайно Витгенштейн называет подобные понятия
«псевдопонятиями», а также «формальными понятиями», которые в
его символическом языке выражаются не функциями или классами,
как обычные (эмпирические) понятия, а пропозициональными пере-
менными [4.126—4.1274]. В отличие от вещей, имеющих конкретные
пространственно-временные характеристики, объекты как бы высту-
пают элементами любых «возможных миров», если пользоваться со-
временной логической терминологией.
Вещи (Dingen) — это эмпирические комплексы, то, что может
быть описано в терминах чувственного восприятия, расселовского
«знания-знакомства»1. Они соединены в ситуациях, положениях ве-
щей (Sachlagen). Мир вещей — мир изменчивого, несамостоятель-
ного, случайного. Слова обыденного языка обозначают лишь вещи, но
не объекты. Непостоянные вещи не составляют «субстанцию» логи-
зированного мира Витгенштейна. Его понятие «вещи» близко рассе-
ловскому понятию «физических объектов» как устойчивых комплек-
сов «чувственных данных».
Объекты (Gegenständen) есть в сущности то, что может быть кон-
венционально обозначено именами идеального языка. Они лишены
чувственных качеств: «Между прочим: объекты бесцветны»
[2.0232],— пишет Витгенштейн, подчеркивая тем самым, что «мате-
1 Ср. с «Дневниками»: «Комплекс и есть вещь!» (Wittgenstein L Notebooks,
1914—1916. P. 49).
109
риальные свойства» объекта не являются его необходимыми свойст-
вами1.
Объекты «Трактата» некоторые исследователи2 даже сопостав-
ляют с понятием «первоматерии» у Аристотеля. «Первоматерия»,
как известно, абсолютно неопределенна, и если бы она не была
оформлена в первичные субстанции, то она не имела бы никаких
свойств вообще. Также и объекты Витгенштейна получают свои «ма-
териальные свойства» в том случае, если они оказываются состав-
ляющими фактов, то есть участвуют в некоторых конфигурациях с
другими объектами3. Как и первоматерия, объекты неописуемы. Опи-
сывать, по Витгенштейну, можно только факты. Объекты же создают
лишь принципиальную возможность такого описания. Первоматерия
Аристотеля — это возможность формы. Объекты Витгенштейна —
это возможность их конфигурации. Об объектах нельзя мыслить, аб-
страгируясь от их способности комбинироваться с другими объекта-
ми. «Если я знаю объект, то я также знаю все возможности его вхож-
дения в положения дел. (Каждая такая возможность должна заклю-
чаться в природе объекта)» [2.0123]; «Если даны все объекты, то этим
самым даны также и все возможные положения дел» [2.0124].
В 30-е годы Витгенштейн признавался, что в период написания
«Трактата» его позиция была исключительно логической и он совер-
шенно не интересовался эмпирическими вопросами, вроде вопроса о
конкретных свойствах объектов. Тогда он полагал, что эпистемоло-
гия, являющаяся в его глазах лишь «философией психологии»
[4.1121 ], не имеет ничего общего с логикой. В этот период он действи-
тельно старался строго придерживаться антипсихологической линии
Фреге. Отсутствие специального интереса к эмпирическому обосно-
ванию своей философии языка отличает раннего Витгенштейна не
только от Рассела, но и от венских логических позитивистов. Это от-
нюдь не означает, что у него отсутствует онтология. Наоборот, логи-
ческое и онтологическое в его концепции тесно взаимосвязаны. Вы-
шеприведенное сопоставление с аристотелевской онтологией, не-
смотря на возможные возражения по его поводу, в принципе показы-
вает, что «темные» понятия Витгенштейна вполне переводимы на
язык классической европейской философской традиции.
1 Ср. с «Дневниками»: «Нам стало ясно поэтому, что имена могут и должны обо-
значать самые разнообразные формы» (Ibid. P. 59).
2 См.: Wolniewicz B.A. Parallelism between Wittgenstein and Aristotelian
Ontologies//Boston Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht, 1969, IV.
3O «материальных свойствах» упоминается в [2.0231].
ПО
Когда Витгенштейн отмечает, что объекты образуют субстанцию
мира, то данное утверждение служит напоминанием о том, что посто-
янным и неизменным в его мире оказываются именно объекты, а из-
меняются лишь конфигурации, способы, какими объекты комбиниру-
ются. В [2.0211] говорится, что если бы не было субстанции (иначе:
абсолютно простых объектов), то смысл каждого предложения зави-
сел бы от смысла другого предложения, и так до бесконечности, и по-
этому мы не имели бы истинного или ложного образа мира (следует
помнить, что предложение в теории Витгенштейна — это образ, мо-
дель). Но это невозможно в силу образной природы языка. «Требова-
ние простых объектов есть требование определенности смысла » 1.
Говоря, что мир есть совокупность фактов [1.1], Витгенштейн, ви-
димо, не противоречит своей идее относительно субстанциальности
объектов. Ведь факт (Tatsache) есть существование определенных по-
ложений дел. Факты всегда сложны, ибо положения дел, которые в
них входят, являются комбинациями комбинации объектов, которые
уже не могут быть расчленены на другие комбинации. Разные положе-
ния дел независимы друг от друга (во многом именно поэтому в первом
английском издании они были переведены как «атомарные факты»).
Положения дел не могут быть логически выведены одно из другого,
между ними также невозможны каузальные отношения (так как сама
каузальность, по Витгенштейну, невозможна). Объекты, внутренне
соединенные в положения дел, создают возможность описания эмпи-
рических вещей, внешне соединенных в ситуациях (положениях ве-
щей). Объекты по-прежнему составляют «субстанцию» мира фактов.
Таким образом, логическое у Витгенштейна первично и полностью де-
терминирует наше знание об эмпирическом.
То, что объекты не могут быть мыслимы в изоляции и должны про-
являться в некоторых положениях дел, фиксируется в самом соотно-
шении имен и предложений. Мы узнаем значение имен (то есть соот-
ветствующих им объектов), только используя предложения, понимая
их смысл. Правда, подобная позиция Витгенштейна таила в себе воз-
можность того заключения, что все одинаково (по одним правилам)
используемые предложения будут и обозначать одно и то же.
3. Предложения как «образы»
Следуя фрегевской терминологии, Витгенштейн называет истин-
ность и ложность каждого предложения «значениями истинности».
Но они у него отнюдь не являются особыми объектами или же ком-
Wittgenstein L Notebooks, 1914—1916. P. 63.
Ill
плексами объектов. «Не существует "логических объектов". Анало-
гично, конечно, и для всех знаков, выражающих то же самое, что и
схемы "И" и "Л" [4.441]. Логицизм Витгенштейна, таким образом,
имеет весьма умеренный характер. А главной характеристикой пред-
ложения у него остается «смысл»1.
Все сложные (или «молекулярные», по Расселу) предложения
Витгенштейн трактовал как функции истинности элементарных (или
«атомарных») предложений2. Предложение, не являющееся ни эле-
ментарным, ни сложным, просто лишено смысла. Элементарные
предложения (в начале «Трактата» они еще называются «полностью
проанализированными предложениями») — это класс взаимно неза-
висимых простейших предложений. Каждое из них есть взаимосвязь
имен, то есть элементарных знаков, обозначающих объекты. Элемен-
тарные предложения оказываются функцией истинности самих себя,
причем это не ведет к возникновению парадокса. Такие предложения,
как сказано в [4.211 ], не могут и противоречить друг другу3. Витген-
штейн не дает конкретных примеров этих предложений, ибо они для
него — своеобразный идеал.
Никакие негативные предложения уже не являются элементар-
ными, так как «не-р» всегда будет функцией истинности другого
предложения «р». Каждое элементарное предложение, подобно шах-
матной фигуре, влечет за собой все «логическое пространство». Эле-
ментарные предложения отражают возможное положение дел в мире,
и в этом заключается их смысл. Если это положение дел имеет место,
то предложение истинно, если не имеет, то ложно. «Если элементар-
ное предложение истинно, то положение дел существует; если эле-
ментарное предложение ложно, то положение дел не существует»
[4.25].
1 В современных логических исследованиях было показано, что витгенштейнов-
ская концепция предложений в принципе открывает путь для разработки не-фрегев-
ских логик. Это предполагает отказ от классического экстенсионального анализа пред-
ложений, замену абстрактных объектов «истина» и «ложь» всевозможными ситуация-
ми, которые могут задаваться предложениями.
2 Это создавало сложность в понимании квантифицированных предложений, кото-
рые приходилось трактовать как функции истинности бесконечного числа аргументов.
3 И. Хакинг констатирует: «Нет другой такой части "Трактата", к которой Витген-
штейн впоследствии стал испытывать большее презрение, чем к мифу об элементарных
предложениях. Но даже учитывая некоторые уроки его поздней философии, можно
по-прежнему с пользой применять данный миф. Это поучительный миф, ибо он пред-
ставляет собой в чистейшем виде идею дескриптивной части языка» (Hacking/. What is
Logic?//The Journal of Philosophy. V. LXXVI, N 6. P. 314.)
112
Итак, получается, что элементарное предложение может быть ос-
мысленным, не будучи истинным. В ранней философии Витгенштейна
предложение как образ не зависит от того, что оно обозначает; скорее
имеет место обратное. В [4.023] он, например, пишет: «Предложение
должно определять действительность до такой степени, чтобы доста-
точно было сказать "да" или "нет" для приведения его в соответствие с
действительностью. Для этого действительность должна полностью
описываться им. Предложение есть описание положения дел... Пред-
ложение описывает действительность по его внутренним свойствам...
Предложение конструирует мир с помощью логических строительных
лесов...» Как видим, австрийский философ в разной форме настойчи-
во отстаивает приоритет языка перед действительностью.
Текст «Трактата» не позволяет дать категоричный ответ на во-
прос: говорят ли элементарные предложения о чувственном опыте
субъекта? Однако логические позитивисты Венского кружка одно-
значно истолковали эту концепцию предложений в духе прямого вери-
фикационизма. При этом они ссылались на такие афоризмы, как, на-
пример: «Понять предложение — значит знать, что имеет место, ко-
гда оно истинно...» [4.024], который на самом деле имеет логико-се-
мантическое, а не гносеологическое значение. Они отождествляли
элементарные предложения с «протокольными предложениями»,
якобы констатирующими непосредственный чувственный опыт субъ-
екта. Логические позитивисты проигнорировали то обстоятельство,
что объекты в «Трактате» невоспринимаемы, лишены каких-либо
чувственных качеств. Все же впоследствии у членов Венского кружка
появился определенный повод для феноменалистической интерпрета-
ции «Трактата». Дело в том, что Витгенштейн в конце 20-х годов, уже
не будучи удовлетворенным своей ранней позицией, некоторое время
придерживался неопозитивистской доктрины верификационизма.
В «Трактате» говорится: ( 1 ) об осмысленных предложениях; (2) о
псевдопредложениях (бессмысленном); (3) о логических тавтологиях
и противоречиях, причем «тавтология и противоречие не являются
бессмысленными, они являются частью символизма, подобно тому
как "0" есть часть символизма арифметики» [4.4611]. Тавтологии не
нарушают правил «логической грамматики»1. Они просто лишены
смысла. Тавтологии — это предложения, истинные при всех значени-
ях истинности составляющих их элементарных предложений, а проти-
воречия — это ложные при всех истинностных значениях предложе-
ния. Отрицание противоречия дает тавтологию и наоборот. Все пред-
1 Об этом понятии см. в [3.325].
8-5739 ИЗ
ложения логики, по Витгенштейну,— тавтологии или же выведены из
тавтологий. В этом плане предложения логики равноправны, в ней нет
привилегированной системы предложений (это касается и аксиом).
Логический вывод не дает каких-либо новых истин, новой информа-
ции о реальности, а просто устанавливает внутренние связи между
предложениями, между их основаниями истинности1. Это, по замыслу
Витгенштейна, должно наглядно показываться с помощью разрабо-
танных им таблиц (матриц) истинности. «Тот факт, что истинность од-
ного предложения следует из истинности других предложений, мы
усматриваем из структуры предложений» [5.13].
То, что предложения логики суть тавтологии, с точки зрения Вит-
генштейна, свидетельствует о том, что они, в отличие от предложений
естествознания, ничего не говорят в мире. «Тавтология и противоре-
чие — не образы действительности. Они не изображают никакого
возможного положения вещей, поскольку первая допускает любое
возможное положение вещей, а второе не допускает никакого. В тав-
тологии условия соответствия с миром — отношения изображе-
ния — взаимно аннулируются, так что они не стоят ни в каком отно-
шении изображения к действительности» [4.462].
Таким образом, в контексте своей теории Витгенштейн по сущест-
ву проводит идею о неинформативности всей логики. Эта идея, выска-
занная им достаточно категорично, в целом неверна. Аналитический
характер предложений логики не является абсолютным, а всегда ре-
левантен той или иной логической системе. О «тавтологичности» же
этих предположений можно говорить в том смысле, что закрепленное
в них знание (точнее, его формы, структуры) уже существует в этой
конкретной системе.
Итак, логические тавтологии и противоречия объявляются в
«Трактате» формальными, априорными и аналитичными. Синтетич-
ны же и осмысленны для Витгенштейна, а после него и для логических
позитивистов лишь предложения естествознания. «Осмысленное
предложение нечто высказывает, а его доказательство показывает,
что это так и есть; в логике каждое предложение является формой до-
казательства» [6.1264]. «Доказательство в логике есть только меха-
ническое средство облегчить распознавание тавтологии там, где она
усложнена» [6.1262].
Противоречивость позиции Витгенштейна проявляется в том, что
несмотря на утверждение им совершенно неинформативного характе-
1 «Те возможности истинности аргументов истинности... которые подтверждают
предложение, я буду называть основаниями истинности»,— пишет Витгенштейн
[5.101].
114
pa логики, у него на деле логические тавтологии и противоречия как
бы показывают структуру и пределы мира: «Тавтология оставляет
действительно все бесконечное логическое пространство, противоре-
чие заполняет все логическое пространство и ничего не оставляет дей-
ствительности» [4.463]; «Тавтология и противоречие являются пре-
дельными случаями комбинации знаков, а именно — их исчезновени-
ем» [4.466].
Продолжая далее свой анализ предложений, Витгенштейн отме-
чает, что если рассматривать предложение со стороны его качеств, то
оно будет выступать как знак. «Мысль в предложении выражается
чувственно воспринимаемо» [3.1 ]. «Мы употребляем чувственно вос-
принимаемые знаки предложения (звуковые или письменные и т. д.)
как проекцию возможного положения вещей» [3.11 ]. «Знак, посред-
ством которого мы выражаем мысль, я называю пропозициональным
знаком (Satzzeichen). И предложение есть пропозициональный знак в
своем проективном отношении к миру» [3.12]. «Пропозициональный
знак есть факт» [3.14].
Если же мы схватываем осмысленное использование предложе-
ния, правила его применения, которые чувственно не воспринимают-
ся, то мы уже имеем дело с символом. «Каждую часть предложения,
характеризующую его смысл, я называю выражением (символом).
(Само предложение есть выражение)» [3.31 ]. «Два различных симво-
ла могут иметь общий знак (письменный или звуковой) — тогда они
обозначают по-разному» [3.321]. Таким образом, символ — это знак,
употребляемый в соответствии с правилами логического синтаксиса,
а не какая-нибудь скрытая за знаком особая нечувственная сущность.
Только символы показывают, что мы имеем дело с логическими пред-
ложениями [6.1 13]. «Для того, чтобы узнать символ в знаке, мы долж-
ны учитывать осмысленное употребление» [3.326]. Само различение
Витгенштейном знаков и символов в принципе не лишено основания.
Он также считает, что смешение этих понятий, характерное для
повседневного языка, приводит в философии ко многим серьезным за-
блуждениям. «Так появляется слово "есть" как связка, как знак ра-
венства и как выражение существования» [3.323]. «Для того, чтобы
избежать этих ошибок, мы должны использовать такую символику,
которая исключает их, не применяя одинаковых знаков в различных
символах и не применяя одинаковым образом знаки, которые обозна-
чают различным образом, то есть символику, подчиняющуюся логи-
ческой грамматике — логическому синтаксису» [3.325]. Констата-
ция подобного рода смешения, имеющего место в повседневном язы-
ке, не противоречит другому утверждению Витгенштейна: «Все пред-
ложения нашего повседневного языка являются фактически, так, как
8* 115
они есть, логически полностью упорядоченными» [5.5563]. Дело в
том, что логическая структура присуща любому языку как языку. Но в
повседневном языке, в отличие от логически совершенного языка, она
скрыта, замаскирована.
Уместно будет вкратце сопоставить указанную концепцию Вит-
генштейна с теорией символа, развиваемой А.Ф. Лосевым в основном
на материале искусства. Соотношение знака и символа имеет в этой
теории не статичный, как у Витгенштейна, а динамичный и даже диа-
лектический характер. Русский ученый рассматривает символ как
разновидность знака, как развернутый знак, а знак —.как неразвер-
нутый символ. В зависимости от важности символизируемой им дей-
ствительности символ и получает свое значение. Различие знака и
символа определяется прежде всего значимостью обозначаемого и
символизируемого предмета. Знак может либо однозначно и постоян-
но определять один предмет, либо иметь много значений. «Сущность
дела заключается в том, что символ не просто обозначает бесконечное
количество индивидуальностей, но что он есть также и закон их воз-
никновения»1.
Генерация знаков и символов, на наш взгляд, должна рассматри-
ваться на обширном материале истории становления различных форм
отражения человеком действительности. При этом спецификой сим-
волических и знаковых форм являются их условность, абстрактность,
обобщенность. Эти особенности могут возникнуть лишь на конкрет-
ном этапе эволюции человеческого общества. Формалистическая по-
зиция Витгенштейна заведомо исключает такой генетический подход.
Отсюда и абсолютизация им своей точки зрения поданному вопросу.
Конечно, различение знаков и символов не было для раннего Вит-
генштейна самоцелью. Это различение следует оценивать в контексте
всей его теории, рассматривать как одну из ступенек лестницы (впо-
следствии отбрасываемой), ведущей к «правильному» этическому ви-
дению мира.
Витгенштейновскую концепцию знаков и символов можно также
охарактеризовать в ее отношении к расселовской теории типов. С по-
мощью этой теории Рассел, как мы помним, пытался разрешить пара-
доксы, которые возникают в результате допущения самореферирую-
щих предложений. В противовес Расселу Витгенштейн пишет: «Ни
одно предложение не может высказывать что-либо о самом себе, по-
тому что пропозициональный знак не может содержаться в самом
себе» [3.332]. В следующем афоризме показано, что если функция
займет место своего аргумента, то знак F внешней функции будет от-
1 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 134.
116
личаться от того же знака внутренней функции своим употреблени-
ем, одним словом, это будет иной символ. В точном логическом симво-
лизме будет сразу видна невозможность того, чтобы одлн и тот же
символ был одновременно и функцией и своим аргументом. Отсюда
следует, что проблемы с самореферирующими предложениями даже
не должны возникать. Это-то для Витгенштейна и свидетельствует о
ненужности расселовской теории. К тому же Рассел, используя знак
утверждения (ь-)э сам вступает в противоречие с требованием теории
типов: «..."*-" является частью соединения предложений не более,
например, чем номер предложения. Предложение не может утвер-
ждать о себе самом, что оно истинно» [4.442].
Ко времени написания Витгенштейном «Трактата» уже была до-
казана сводимость всех логических констант исчисления высказыва-
ний к одной — штриху Шеффера (/). Упрощение логического языка с
помощью этого изобретения должно было, согласно Витгенштейну,
еще более определенно показать внутренние логические связи между
предложениями. В силу принципиальной допустимости замены всех
логических констант одной возможно и обоснование исходной логиче-
ской операции. С помощью такой операции, как он надеялся, из эле-
ментарных предложений могут быть получены внелогические предло-
жения. Подобная операция под названием «общей формы предложе-
ния» формулируется в афоризме [б]1.
Логические константы, как и логические тавтологии и противоре-
чия, ничего не обозначают в витгенштейновском мире. Связки «или»
и «и» отнюдь не обозначают каких-либо отношений, их можно повто-
рять сколько угодно раз, и от этого ничего не изменится. То же имеет
место и в отношении знака отрицания. «Но важно то, что знаки "р" и
"~рп могут выражать одно и то же, так как это показывает, что знаку
"~" в действительности ничего не соответствует. То, что в предложе-
нии встречается отрицание, еще не характеризует его смысла
(~ ~ р = р). Предложения "р" и "~р" имеют взаимнопротивопо-
ложный смысл, но им соответствует одна и та же действительность»
[4.0621]. Понимая предложение, мы понимаем его способность быть
1 Согласно Р. Фогелину, это положение Витгенштейна неверно. Формула [/?, £, N
(£)] в афоризме [6] по существу предполагает, что каждое сконструированное предло-
жение должно быть разрешимым. Однако А. Чёрч показал, что для сложных общих
предложений (предложений, содержащих более одного квантора) не могут быть по-
строены процедуры разрешимости. Поэтому в системе «Трактата» есть предложения,
которые в ней нельзя сконструировать, и следовательно, она неполна. Кроме того, в
своей формуле Витгенштейн отводит особое место операции отрицания и делает это
на том ошибочном основании, что все другие операции могут быть сконструированы из
нее (Fogelin RJ. Wittgenstein. L, 1976. P. 70—75).
117
как истинным, так и ложным, точнее, понимаем, какие факты делают
его истинным или ложным. Поэтому отрицание предложения не дает
ничего нового в понимании этих фактов. Отрицание просто отменяет
определенное представление фактов. Знак отрицания, как и знаки
других логических констант, сам не обозначает фактов. Поняв смысл
предложения, мы уже выделили все необходимые факты для понима-
ния его отрицания. Смысл отрицания не зависит от фактов. Правило
двойного отрицания, согласно Витгенштейну, говорит, что отрицание
не дает нам никакого приращения информации.
Эту концепцию логических констант вряд ли правомерно истолко-
вывать расширительно, в философском плане. Но ведь именно так
пытается ее использовать сам Витгенштейн, делающий далеко иду-
щие философские выводы. Философский вопрос о реальном референ-
те логических констант, как и других логических объектов, тоже не
может решаться без учета истории становления различных форм от-
ражения человеком действительности (прежде всего мыслительных
конструкций, идеализации) и их постепенного закрепления в структу-
ре языка. Такой диалектический подход к проблеме демонстрирует от-
нюдь не «пустоту» констант, а важные структурные особенности обо-
значаемой ими действительности (например, реальное существова-
ние и реальное отсутствие для конъюнкции и отрицания и т. п.).
В «Трактате» Витгенштейн следующим образом наглядно иллю-
стрирует соотношение позитивных и негативных фактов. Представим
себе черное пятно на белой бумаге. Можно описать форму этого пят-
на, если указать в отношении каждой точки на бумаге, является ли она
черной или белой. Тому, что точка черная, соответствует позитивный
факт, а тому, что она белая (не черная),— негативный факт [4.063].
Условия истинности предложения определяют ту область, которую
оно оставляет фактам. Поэтому в негативном плане предложение (об-
раз, модель) похоже на твердое тело, а в позитивном — на простран-
ство, ограниченное твердой субстанцией, в котором есть место для
тела [4.463].
Что же касается упомянутой выше «общей формы предложения»,
то это понятие было выдвинуто для того, чтобы показать то, что свой-
ственно всем предложениям. Каждое предложение Витгенштейн рас-
сматривает как результат операции, производящей его из других пред-
ложений1. Любое предложение будет результатом последовательного
применения к элементарным предложениям некоторой операции,
предполагающей отрицание. В [4.5] говорится: «Теперь, кажется,
1 Ср. с «Дневниками»: «Понятие "и так далее" и понятие операции эквивалентны»
(Wittgenstein L Notebooks, 1914—1916. P. 90).
118
можно дать самую общую форму предложения, то есть дать описание
предложений некоторого знакового языка так, чтобы каждый воз-
можный смысл мог выражаться символом, который подходит под это
описание, и так, чтобы каждый символ, подходящий под это описание,
мог выражать смысл, если соответствующим образом будут выбраны
значения имен. Ясно, что при описании самой общей формы предло-
жения может быть описано только ее существо — иначе она не
была бы собственно самой общей формой. То, что имеется общая
форма предложения, доказывается тем, что не может быть ни одного
предложения', форму которого нельзя было бы предвидеть (то есть
сконструировать). Общая форма предложения такова: "дело обстоит
так-то и так-то"».
Одним словом, по Витгенштейну, каждое предложение является
либо элементарным, либо сконструировано из элементарных предло-
жений. А в [6—6.01 ] показано, каким именно образом любое предло-
жение может быть сконструировано из элементарных предложений. С
этим же связана одна специфическая особенность витгенштейновско-
го логицизма, отличающая его от логицизма Фреге и Рассела. Он го-
ворит не о том, что предложения математики выводятся из предложе-
ний логики, а о том, что все эти предложения в равной мере подчиня-
ются общей форме предложения, операциям порождения одних пред-
ложений другими. Это и демонстрируется на конкретных примерах в
[6.02—6.03].
Если предложение истинно, то при этом участвуют две группы
фактов: одна есть соотношение самих чувственно воспринимаемых
знаков, составляющих структуру предложения, а другая группа собст-
венно делает это предложение истинным. В предложении обозначает
не какой-то третий элемент, а именно расположение знаков. Как-ли-
бо расположенные знаки и являются моделью мира. «То, что элемен-
ты образа соединяются друг с другом определенным способом, пока-
зывает, что так же соединяются друг с другом и вещи» [2.15].
Возможность структуры образа, то есть того, что объекты соеди-
нены также, как и элементы образа, Витгенштейн называет «формой
отображения». Форма отображения есть то, что обще образу с дейст-
вительностью, причем образ способен отображать любую действи-
тельность, форму которой он имеет. «Но свою форму отображения
образ не может отображать» [2.172], так как «образ не может выйти
за пределы своей формы изображения» [2.174]. Имея общую с ото-
бражаемой действительностью форму, образ похож на масштаб этой
действительности, что делает возможным истинное или ложное ее
отображение. Соотнесение элементов образа и объектов, то есть от-
ношение отображения, Витгенштейн описывает следующим образом:
119
«Эти соотнесения есть как бы щупальцы элементов образа, которыми
образ касается действительности» [2.1515].
С формой отображения связана логическая форма. Данное поня-
тие в ранней философии Витгенштейна несет особенно большую смы-
словую нагрузку. Это — то условие, которое абсолютно необходимо
любому образу для отображения действительности. «Каждый образ
есть также логический образ. (Напротив, не каждый образ есть, на-
пример, пространственный образ.)» [2.182]. В логической форме эле-
менты образа должны быть способны комбинироваться друг с другом
в соответствии с отношениями между элементами (частями) того, что
отображается. Различные объекты, имеющие способность вступать в
конфигурации и образующие, например, материальное свойство «зе-
леного», будут иметь одну и ту же логическую форму, логическую
форму объектов, конфигурации которых порождают цвета. То же про-
исходит и с пространственными и временными формами объектов
[2.0251].
Предложения, казалось бы, совсем не похожи на образы. Но это
происходит потому, что язык «переодевает» мысли. Предложения не
имеют с отображаемой ими ситуацией общей пространственной фор-
мы (хотя и такую аналогию можно построить1 ), но они имеют общую с
ней логическую форму. Однако в повседневном языке логическая
форма мыслей скрыта. Предложение не может в языке выразить свою
логическую форму. «Для того, чтобы можно было изображать логиче-
скую форму, мы должны были бы быть в состоянии поставить себя
вместе с предложениями вне логики, то есть вне мира» [4.12]. Поэто-
му «предложение показывает логическую форму действительно-
сти» [4.121 ], а «то, что может быть показано, не может быть сказа-
но» [4.1212]. Следовательно, не может существовать образ логиче-
ской формы мира, ибо любое предложение само должно разделять эту
форму и потому не способно быть не зависимым от нее. Логическая
форма — это необходимые, а не случайные свойства предложения, о
которых допустимо высказываться. Логическая форма только пока-
зывается.
4. Математика, естествознание, «мистическое»
С понятием «показывание» связана и концепция математики ран-
него Витгенштейна. Он полагал, что эта наука в своей основе состоит
из равенств. «Логику мира (то есть по существу логическую фор-
1 В афоризме [3.1431] Витгенштейн пишет: «Сущность пропозиционального знака
станет очень ясной, если мы будем представлять себе его составленным не из письмен-
ных знаков, а из пространственных объектов (например, столов, стульев, книг). Про-
странственное взаиморасположение этих вещей выразит тогда смысл предложения».
120
му.— AT.), которую предложения логики показывают в тавтологиях,
математика показывает в уравнениях» [6.22]. Но равенство как раз
есть попытка сказать то, что показывает само себя; следовательно,
оно является псевдопредложением [6.2; 6.21]. Два математических
выражения равны не потому, что об этом говорит знак равенства, но
сам знак равенства возможен потому, что эти выражения равны (ср. с
[3.1432], где подчеркивается то же самое, но на собственно логиче-
ском материале). Витгенштейн далее пишет: «Фреге говорит, что эти
выражения имеют одинаковое значение, но различный смысл. Но в
уравнении существенно то, что оно не необходимо для того, чтобы по-
казать, что оба выражения, связанные знаком равенства, имеют оди-
наковое значение, так как это может быть понято из самих этих двух
выражений» [6.232].
Математика определяется как логический метод вычисления,
производства подстановок в уравнениях [6.24], причем «взаимозаме-
няемость двух выражений характеризует их логическую форму»
[6.23]. В этом плане метод математики отличается от собственно ло-
гического метода, основанного на тавтологиях. Поэтому математика,
рассматриваемая подобным образом, обладает определенной незави-
симостью по отношению к логике. Но сам Витгенштейн, однако, как
бы не замечая этого, пишет: «Математика есть логический метод»
[6.2] и «Математика есть метод логики» [6.234].
В «Трактате» мы встречаемся со скрытой тенденцией своеобраз-
ного «антилогицизма», хотя в целом, конечно, ранний Витгенштейн
был очень многим связан с классическими логицистскими построе-
ниями Фреге и Рассела. Но уже в работах и лекциях 30-х годов Вит-
генштейн разовьет конструктивистский взгляд на природу математи-
ческого знания, а метод математики станет рассматривать сугубо ан-
тропологически.
Между прочим, и в самом «Трактате» обнаруживается линия бу-
дущего математического конструктивизма Витгенштейна. Здесь мож-
но сослаться, например, на [5.22—5.32], где речь идет о понятии опе-
рации; на [5.5—5.51; 6—6.03], где говорится об общей форме пред-
ложения и конструктивном образовании понятия числа. Числа, по
Витгенштейну, есть определенные ступени, этапы в цепи операций:
«Число есть показатель операции» [6.021 ]. Числа поэтому не обозна-
чают объектов, и математические предложения ничего не говорят о
самом мире — они чисто формальны. При этом «теория классов в ма-
тематике совершенно излишня» [6.031].
В целом же математика для Витгенштейна — это еще один воз-
можный способ показывать структуру мира. Математическое знание
121
обладает особым статусом, отличным от статуса других наук, напри-
мер физики. И хотя законы современной физики формулируются в ма-
тематической форме, а математика связана с логикой, все же предло-
жения физики отличаются как от математических уравнений, так и от
логических тавтологий.
Витгенштейновская критика понятия каузальности, лежащего в
основании естествознания, внешне напоминает юмовскую: «То, что
завтра взойдет солнце,— гипотеза; а это означает, что мы не знаем,
взойдет ли оно» [6.36311 ]; «События будущего не могут выводиться
из событий настоящего» [5.1361 ]. Витгенштейн считал, что вера лю-
дей в возможность объективной и необходимой каузальной связи есть
просто неясное выражение того врожденного мнения, что в принципе
существуют какие-то законы природы. Правда, эти законы не суть
объяснения явлений природы [6.371 ]. Такие законы только описыва-
ют. «Закон причинности» (его он однажды в стиле Шопенгауэра на-
зывает законом (достаточного) основания) ничего не говорит о мире.
Это только форма закона, утверждающая, что у всего есть своя при-
чина. Дело в том, что каузальные предложения не являются функция-
ми истинности составляющих их предложений. Каузальные предло-
жения не необходимы, а вера в каузальную связь между различными
положениями дел оценивается как предрассудок, ибо описывающие
их элементарные предложения не выводятся друг из друга. Каузаль-
ность, таким образом, не согласуется с витгенштейновской догмой о
взаимной независимости элементарных предложений.
В позитивистском духе Витгенштейн сравнивает естественнона-
учные теории, формулирующие дескриптивные законы, с сетками,
ячейки которых могут быть различной формы, а «различным сеткам
соответствуют различные системы описания мира» [6.341 ]. И класси-
ческая механика Ньютона выступает подобной сеткой, придающей
некоторую форму нашему описанию мира фактов. Это лишь одна из
наиболее «простых» сеток. Но то, что мы способны описывать мир с
помощью именно ньютоновской теории, еще ничего не говорит о са-
мом мире [6.342]. Механика, в основе которой, как традиционно пред-
полагается, лежит закон каузальности, лишь показывает, что имеют-
ся законы природы. «Механика есть попытка построить по единому
плану все истинные предложения, в которых мы нуждаемся для опи-
сания мира» [6.343]. Законы естествознания для Витгенштейна по су-
ществу малоинформативны. А сама наука в его понимании — это ка-
кая-то смесь эмпирического и формального, апостериорного и апри-
122
орного. Концепция естествознания в «Трактате» в целом эклектична
и довольно слабо разработана.
Лишение Витгенштейном каузальности необходимого характера
непосредственно связано с его критикой индукции. Он пишет: «Так
называемый закон индукции ни в коем случае не может быть логиче-
ским законом, так как очевидно, что он является осмысленным пред-
ложением, и поэтому также не может быть априорным законом»
[6.31 ]. И далее: «Процесс индукции состоит в том, что мы принимаем
простейший закон, согласующийся с нашим опытом» [6.363]; «но
этот процесс имеет не логическое, а только психологическое основа-
ние. Ясно, что нет никакого основания верить, что в действительности
наступит только простейший случай» [6.3631].
Так как наступление или ненаступление чего-либо, по Витген-
штейну, есть предмет нашей веры и потому относится к психологии, то
собственно логическая вероятность не может основываться на этом.
Такой вероятности (точнее, вероятностным предложениям) ничего не
соответствует в мире [5.1511 ]. Она имеет дело лишь с взаимоотноше-
ниями оснований истинности предложений. Конкретный механизм
подобного взаимоотношения показан в [5.15—5.151]. А все элемен-
тарные предложения, поскольку они независимы друг от друга, и за-
прещено выводить основания истинности одних из других, равноверо-
ятны. Как и закон каузальности, схему вероятности Витгенштейн рас-
сматривает в качестве чистой формы, придавая ее истолкованию при
этом субъективный оттенок: «Таким образом, вероятность есть обоб-
щение. Она включает общее описание формы предложения. Только
за неимением достоверности мы нуждаемся в вероятности. Когда мы
знаем факт не полностью, но, однако, знаем что-то о его форме»
[5.156].
Предложения же, связанные с определением вероятности и отне-
сенные Витгенштейном к сфере психологии, создают для него опреде-
ленные трудности. Есть предложения, которые непросто примирить с
его основополагающим тезисом о том, что сложные предложения суть
функции истинности составляющих их элементарных предложений.
Такие предложения, очевидно, не зависят от истинностного значения
своих частей. О них Витгенштейн пишет: «На первый взгляд кажется,
будто предложение может также входить в другое и другим способом
(то есть не как основание операций истинности, о чем говорится в
предыдущем афоризме.— AT.). В особенности в определенных фор-
мах предложений психологии, например: "А думает, что р имеет
место" или "Л мыслит/Л Здесь на первый взгляд кажется, что предло-
123
жениер как будто стоит к объекту Л в каком-то отношении. (Так пони-
мались эти предложения и в современной Витгенштейну теории по-
знания (Рассел, Мур и т. д.).)» [5.541].
Решение Витгенштейна выглядит неожиданным: «Но ясно, что "Л
верит, что/?", "А мыслитр", "А говоритр"; являются предложениями
формы: «"р" говорит р»; и здесь мы имеем не координацию факта и
объекта, а координацию фактов посредством координации их объек-
тов» [5.542]. Однако предложенное Витгенштейном средство не дает
права говорить об эквивалентности указанных предложений. Скорее
оно дает только ключ к объяснению понимания предложений веры и
прочих предложений, связанных с описанием познавательных и пси-
хологических состояний.
Когда в «Трактате» отмечается, что «логика трансцендентальна»
[6.13], это, по-видимому, означает не то, что логика выдвигает ка-
кие-либо абстрактные положения, а то, что предложения логики по-
казывают нечто, само по себе не выразимое в языке, но как бы струк-
турирующее то, что выразимо. Логика показывает именно существен-
ные структурные свойства языка. Многие витгенштейновские поня-
тия, о которых «нельзя говорить», имеют интенсиональный
характер1.
Вообще, согласно Витгенштейну, у нас имеется много способов
показывать то, что невыразимо в словах. Например, такие виды ис-
кусства, как музыка или живопись, могут показывать нечто глубокое и
содержательное с помощью определенного сочетания и расположе-
ния звуков или красок. Метафизика, мораль, искусство и религия
принадлежат к области того, что может быть лишь показано. Мы ни-
чего не можем сказать о ценностях, ибо утверждения о ценностях не
сводимы к утверждениям о том, что объекты скомбинированы опреде-
ленным образом, то есть к утверждениям относительно фактов. В та-
кой форме Витгенштейн нашел логико-философское обоснование
идеи размежевания фактического и ценностного, столь популярной в
венской «контркультуре».
Воля как феномен, по Витгенштейну, может заинтересовать толь-
ко психологию [6.423]. Подлинная, то есть этическая, воля и мир
1 Фон Вригт пишет в этой связи: «Логические позитивисты и их последователи, ко-
торые не приняли всерьез различение в «Трактате» выражаемого и показываемого,
были поэтому вынуждены отрицать sui generis характер интенсионального и пренебре-
гать изучением понятий и способов рассуждения иных, чем экстенсиональные» (Von
Wright G.H. Wittgenstein. Oxford, 1982. P. 186).
124
внешни по отношению друг к другу, хотя и координированы каким-то
непостижимым образом. Причем такая воля невыразима в языке. Ко-
гда в [6.373] говорится, что «мир не зависит от моей воли», то в этом
полемичном в отношении Шопенгауэра афоризме речь идет о факти-
ческом содержании мира, о том мире, который «определен фактами и
тем, что это все факты» [1.11]. Поэтому «смысл мира должен лежать
вне его. В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как проис-
ходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и была, то она не
имела бы никакой ценности» [6.41].
В [6.43] все же до некоторой степени раскрывается общий харак-
тер взаимоотношения воли и мира: «Если добрая и злая воля изменяет
мир, то она может изменить только границу мира, а не факты, не то,
что может выражаться в языке. Короче говоря, при этом условии мир
должен вообще стать совсем другим. Он должен, так сказать, умень-
шаться или возрастать как целое. Мир счастливого совершенно дру-
гой, чем мир несчастного». В этом фрагменте по существу показыва-
ется приоритет этического перед фактическим. Поэтому «решение
загадки жизни в пространстве и времени лежит вне пространства и
времени» [6.4312]; «все факты принадлежат только к задаче, а не к
решению» [6.4321 ]. И смерть, поскольку при ней мир не изменяется,
но прекращается вообще,— тоже вне мира [6.431—6.4311].
В популярной «Лекции по этике» (прочитанной Витгенштейном в
Кембридже для так называемого «Общества еретиков» в 1929 или
1930 г.) прямо говорится, что этика сверхъестественна, в то время как
слова нашего языка могут выражать только факты1. Развивая эту
идею «Трактата», Витгенштейн подчеркивал, что суждения «абсо-
лютной ценности» (а только они, на его взгляд, составляют предмет
этики) не сводимы к фактам. Все этические и религиозные предложе-
ния — это лишь метафоры и аллегории. Сущностью же этических и
религиозных предложений является их бессмысленность. Они оказы-
ваются лопытками выйти за пределы языка. Язык и речь, по Витген-
штейну, совершенно не обязательны для религии. В лекции утвержда-
ется, что этический опыт берет начало от двух переживаний: ( 1 ) удив-
ления от того, что мир существует; (2) ощущения абсолютной без-
опасности и спокойствия. Хотя, по Витгенштейну, этическое, а также
эстетическое, не могут быть высказаны, но зато возможно этическое и
эстетическое действие, поведение. Этическое наказание и этическое
1 См.: Wittgenstein L Lectures on Ethics//The Philosophical Review. 1963. V. 74.
N. 1.
125
вознаграждение, как отмечается в «Трактате», должны лежать в са-
мом действии [6.422]. Это напоминает одно из главных положений
этического учения стоиков.
Факты мира ограничены тем, что лежит вне ах (конечно, не в про-
странственном смысле), то есть «мистическим». Данный термин Вит-
генштейн, возможно, заимствовал у Рассела, который в знаменитом
эссе «Мистицизм и логика»1 проанализировал мистическое как, по
его мнению, составной элемент любой философской доктрины. Вит-
генштейновский подаод не предполагает подобного досконального
анализа мистического, поскольку тесно связан с его теорией показы-
вания. В то же время, как и Рассел, Витгенштейн отнюдь не отождест-
вляет мистическое с чем-то таинственным или загадочным2. Мистиче-
ское в его ранней философии выполняет совершенно определенную
функцию.
Витгенштейн пишет: «Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно по-
казывает себя; это — мистическое» [6.522]; «созерцание мира sub
specie aeterni есть его созерцание как ограниченного целого. Чувство-
вание мира как ограниченного целого есть мистическое» [6.45]. Инте-
ресно, что в «Дневниках» спинозовское видение мира с «точки зрения
вечного» еще относится только к этике и эстетике: «Произведение ис-
кусства является объектом, видимым sub specie aeterni; а доброде-
тельная жизнь есть мир sub specie aeterni. В этом заключается единст-
во искусства и этики » . В «Трактате» значение выражения «с точки
зрения вечного» увеличивается.
В то же время мистическое, согласно Витгенштейну, есть все то,
что крайне необходимо в нашей жизни. «Мы чувствуем, что если бы и
существовал ответ на все возможные научные вопросы, проблемы
жизни не были бы при этом даже затронуты. Тогда, конечно, больше
не останется никаких вопросов; а это как раз и есть ответ» [6.52]. Та-
ким образом, в «Трактате» присутствует иррационалистический мо-
тив, близкий философии жизни и даже экзистенциализму и дополняю-
щий витгенштейновский «рационалистический» панлогизм. В част-
ности, взгляды Витгенштейна по рассматриваемому вопросу близки
учению К. Яспера об «охватывающем»4. Ранее уже подчеркивалось
1 См.: Russell В. Mysticism and Logic. L, 1956.
2 Ср. MgGuinness B.F. The Mysticism of the Tractatus//Philosophicat Review. 1966.
V. LXXV. N. 3.
3 Wittgenstein L Notebooks, 1914—1916. P. 83.
4 См.: Leinfellner E., Leinfellner W., BerghelH., Hübner A. (eds.). Wittgenstein and
His Impact on Contemporary Thought. Dordrecht, 1978. P. 65—69.
126
удивительное совпадение некоторых высказываний Витгенштейна о
языке с соответствующими высказываниями Хайдеггера.
Но наибольшее сходство, конечно же, имеется с учением Шопен-
гауэра. Правда, Шопенгауэр, как известно, учил, что мир тождествен
воле и что он несовершенен. Витгенштейн же, по-видимому, считал,
что мир не только не зависит от воли, но и в некотором смысле явля-
ется совершенным. Все же, несмотря на данное различие, у обоих фи-
лософов есть очень много общего1.
Мы знаем, что «Мир как воля и представление» была первой фи-
лософской книгой, которую прочитал Витгенштейн. Любопытно, что
в [5.631], где говорится о солипсистской позиции, Витгенштейн упо-
минает воображаемую книгу «Мир как я его нахожу», название кото-
рой перекликается с названием книги Шопенгауэра. В «Дневниках»
Витгенштейна особенно интересует проблема воли, что оказывается
результатом влияния на него основной идеи философии Шопенгау-
эра. Существуют также свидетельства его увлечения немецким идеа-
листом и в более поздние годы.
Шопенгауэр доказывал, что мышление ограниченно, производно
от иррациональной воли и выполняет лишь служебные функции. У
Витгенштейна же границами мира являются границы осмысленного
языка, а далее — мистическое, которое ограничивает мир (следова-
тельно, и мышление, поскольку мир есть все то, что выразимо в языке,
мыслимо). Таким образом, мышление ограничивается и «подлинной»
этической волей, входящей в невыразимую сферу мистического.
В историю этики Шопенгауэр вошел как представитель крайнего
пессимизма. Он полагал, что если понять бесцельность и единство
воли во всех ее проявлениях, то тогда будет ясен иллюзорный харак-
тер человеческого счастья, человеческих устремлений. Отсюда при-
зыв Шопенгауэра к подавлению воли к жизни, к аскетизму (правда,
сам он, как известно, в жизни не был аскетом), превознесение буддий-
ской нирваны, как он ее понимал. У Витгенштейна же, который не яв-
лялся таким крайним пессимистом, как Шопенгауэр, мы имеем, по
выражению Дж. Морэна2, позицию крайнего квиетизма (кстати,
Витгенштейн, о чем свидетельствуют многие знавшие его люди, дей-
ствительно вел аскетический образ жизни). Эта позиция выражается
в следующем. Если мы «правильно» поймем мир, то нам станет ясно,
1 Развернутое сопоставление раннего Витгенштейна с Шопенгауэром дается в ста-
тье А.Ф. Гриффитса «Витгенштейн, Шопенгауэр и этика» (см.: Understanding
Wittgenstein. Royal Institute of Philosophy Lectures. L, 1974).
2 См.: MoranJ. Toward World and Wisdom in Wittgenstein's Tractatus. The Hague,
1973. P. 23.
127
что от мира нечего ожидать и что в нем нельзя сделать никаких ради-
кальных изменений и улучшений. Философское мировоззрение
«Трактата» ориентирует на пассивное отношение к действительно-
сти.
Все же витгенштейновский «мистик», как подчеркивают многие
комментаторы, отличается от обычного человека тем, что он как бы не
удовлетворяется простым присутствием в мире, а постоянно преис-
полнен удивления по поводу существования мира: «Мистическое не
то, как мир есть, но то, что он есть» [6.44]. При этом он отнюдь не
считает мир иллюзорным, как это делал Шопенгауэр, не призывает к
отрицанию мира. Пассивное, примирительное отношение к миру Вит-
генштейн сохранил и в свой поздний период. Таким образом, критиче-
ские интенции Витгенштейна, навеянные радикальными венскими
критиками языка и культуры, трансформировались в его философии в
чисто созерцательную позицию, в своеобразное толстовское «непро-
тивление». Кстати, «правильно» понять мир в терминах Витгенштей-
на означает увидеть отсутствие реальной связи между элементами,
фактами этого мира. Ведь в таком мире нет места объективной кау-
зальной зависимости.
В «Трактате» указывается на то, что «Бог» и «метафизический»
субъект являются пределами мира, но сами эти пределы описать нель-
зя. Так, «субъект не принадлежит к миру, но он есть граница мира»
[5.632]. «Где в мире можно заметить метафизический субъект? Вы го-
ворите, что здесь дело обстоит так же, как с глазом и полем зрения. Но
в действительности вы сами не видите глаза. И ни из чего в поле зре-
ния нельзя заключить, что оно видится глазом» [5.633]. В отношении
неописуемости субъекта в опыте Витгенштейн по существу повторяет
известную аргументацию Юма против рационалистического, прежде
всего картезианского, отождествления субъекта (души) с мышлени-
ем. Вывод Витгенштейна здесь чисто негативный: «Мыслящего,
представляющего субъекта нет» [5.631].
Известно, что в ранний период философской деятельности Вит-
генштейн попытался построить жизнь в соответствии со своей глав-
ной философско-мировоззренческой установкой, делать то, что не мо-
жет быть высказано, а только показано. Свое предназначение он ви-
дел в том, чтобы не говорить ничего об этических и религиозных чув-
ствах, а просто действовать соответствующим образом. Правда, что
касается личного поведения Витгенштейна в отношении окружаю-
щих, то оно никогда не было идеальным. Его постоянные придирки к
своим друзьям и коллегам, обвинения их в неискренности, нетерпи-
мость к иным точкам зрения, резкие перемены настроения создавали
поистине непреодолимые сложности в общении.
128
Витгенштейн не соблюдал обрядов никакой религии. Он был убе-
жден в том, что как только какую-либо форму мистического пытаются
выразить в словах, оно сразу не уничтожается. Мистическое следует
охранять молчанием [7]. Любой разговор относительно природы и
свойств Бога пагубен для религии, ведь «Бог не проявляется в мире»
[6.432]. «Религия,— позднее писал он,— есть как бы спокойное дно
моря в его глубочайшей точке, остающееся спокойным независимо от
того, сколь большими могут быть волны на поверхности»1. Правда, в
«Дневниках» Витгенштейн формулирует своеобразную пантеистиче-
скую позицию, по существу отождествляя Бога и мир в целом (но — и
это очень важно — не сего конкретными проявлениями, не с факта-
ми). Веру в Бога он тогда сравнивал с пониманием вопроса о смысле
жизни, с пониманием того, что факты, составляющие мир, еще не есть
все. «У Бога две головы: мир и мое независимое Я»2.
Идея «Бога» как предела мира используется в «Трактате» и в чис-
то инструментальном плане — для определения границ применимо-
сти логики. При этом в соответствии со своим панлогизмом Витген-
штейн делает Бога зависимым от требований логики: «Если Бог соз-
дает мир, в котором истинны некоторые определенные предложения,
то он тем самым создает мир, в котором верны предложения, следую-
щие из них. И подобно этому, он не мог бы создавать такого мира, в ко-
тором предложение «р» было бы истинно, не создавая всей совокуп-
ности его объектов» [5.123].
Из рассмотренных выше и некоторых других идей Витгенштейна
во многом ведет свое начало традиционное для неопозитивистов отно-
шение к религии — своеобразный подновленный вариант «теории
двух истин» (впрочем, еще у ранних позитивистов, например у
Г. Спенсера, появляется трактовка религии, в чем-то сходная с вит-
генштейновской). Известно, однако, что указанная теория, игравшая
определенную прогрессивную роль в эпоху европейского Средневе-
ковья, по существу утратила эту роль уже в период Нового времени. В
современных условиях это по существу одна из наиболее гибких и ра-
финированных форм апологии религии. Этот факт необходимо прини-
мать во внимание при анализе религиозных представлений Витген-
штейна и неопозитивистов. К тому же витгенштейновское отнесение
религии к сфере «невыразимого» (в соединении с его более поздней
идеей языковых игр) сегодня подхвачено многими западными теолога-
ми, в особенности представителями религиозного модернизма.
9 - 5739
1 Wittgenstein L Culture and Value. Oxford, 1980. P. 53.
2 Wittgenstein L Notebooks, 1914—1916. P. 74.
129
5. Понимание философии
Свое понимание предмета философии Витгенштейн высказывает
в нескольких местах «Трактата». Если выделить основное, то следует
подчеркнуть, что философия для него — это простая деятельность по
прояснению наших мыслей. Такая позиция, разумеется, требует бо-
лее конкретного раскрытия. Так, Витгенштейн полагает, что филосо-
фия, в отличие от эмпирической науки, не стремится к истине. Основ-
ная задача философии заключается в устранении путаницы, которая
возникает в результате неправильного использования слов языка, не-
знания его логической грамматики.
Здесь, конечно, можно было бы провести историко-философскую
параллель со знаменитой критикой Ф. Бэконом «идолов рынка», а
также припомнить всю традицию британского номинализма, связан-
ную с критикой философских затруднений, порождаемых неточностью
языка. Вспомним, наконец, небезызвестную «бритву Оккама». Прав-
да, если говорить о Бэконе, то он никогда принципиально не ограничи-
вал задачу философии лишь критикой языка. Поэтому в данном отно-
шении Витгенштейн и особенно перенявшие эту его позицию логиче-
ские позитивисты Венского кружка, безусловно, сделали шаг назад в
понимании характера философского исследования, гипостазировали
в общем правильную идею о необходимости критики используемых
философией понятий и утверждений. На самом деле анализ не есть са-
моцель философского исследования, а только одно из важных
средств его осуществления.
Впоследствии один из лидеров Венского кружка, Р. Карнап, в про-
граммной статье «Преодоление метафизики логическим анализом
языка» ( 1931 ) недвусмысленно писал: « Но что тогда вообще остается
для философии, если все предложения, которые нечто высказывают,
имеют эмпирическую природу и принадлежат к науке о реально-
сти? — То, что остается,— это не предложения, не теория, не систе-
ма, а только метод, а именно: метод логического анализа. Примене-
ние этого метода в его негативном действии мы показали выше: он
служит здесь для устранения не имеющих значения слов, бессмыслен-
ных псевдопредложений»1.
Вслед за Расселом Витгенштейн допускает, что метод философии
есть метод аналитический. Но ранний Рассел при этом же сближал
1 Сагпар R. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache//
Erkenntnis. 1931. Bd. II. Hf. 4. S. 237.
130
философию с наукой. Такое сближение было неприемлемо для Вит-
генштейна на том основании, что в его учении предложения любой
конкретной науки оцениваются как осмысленные, а предложения фи-
лософии (метафизики) для него всегда бессмысленны.
Итак, философия, по Витгенштейну, есть особого рода деятель-
ность по прояснению предложений нашего языка [4.112], и в этом
плане она отлична от деятельности ученого. Подобный взгляд на пред-
мет и задачу философии, между прочим, сохраняется Витгенштейном
и в поздний период его философской эволюции. Стремление к дости-
жению «ясности» языкового выражения — своеобразная регулятив-
ная идея для австрийского философа, а афоризм [4.116] можно даже
сопоставить со знаменитым первым правилом метода Декарта, хотя,
конечно, у Витгенштейна речь идет не о «ясности» классического ра-
ционализма. Критерий «ясности» для австрийского философа — это
жесткое, однозначное различение «смысла» и «бессмыслицы», осу-
ществляемое в его логике.
В то же время Витгенштейн признает, что анализ, прояснение
предложений не может быть бесконечным процессом: само это прояс-
нение по существу уже не может быть прояснено [4.121]. Поэтому-то
логическое прояснение в конце концов уже не состоит из осмыслен-
ных, а тем более истинных предложений. Философия, следовательно,
не есть система предложений, а потому якобы и не является наукой,
как естествознание [4.112]. «Слово "философия" должно означать
что-то стоящее над или под, но не наряду с естественными науками»
[4.111 ]. И любая, пусть даже самая широкая и всесторонняя естест-
веннонаучная теория (например, теория Дарвина — [4.1122]) не мо-
жет служить основанием для философии.
Те афоризмы «Трактата», которые посвящены предмету и методу
философии, служат постепенному раскрытию позиции Витгенштейна
по этому центральному вопросу. Так, он подчеркивает, что задача фи-
лософии заключается в том, чтобы освободить других от ошибки вы-
движения «метафизических» предложений (предложений, лишь по
видимости обладающих смыслом) и помочь им смотреть на мир «пра-
вильно», говорить только то, что может быть сказано «ясно». Увидев
мир таким образом, они, как надеялся Витгенштейн, поймут, что от
мира не следует требовать какого-либо вознаграждения, что его нель-
зя переделать к лучшему. Отсюда — упоминавшийся выше квиетизм
Витгенштейна и позиция своеобразной отрешенности по отношению
к миру. Смотреть на мир не так, как это диктуется его философией,
9* 131
ждать чего-то от мира фактов по существу «неморально». Учение
раннего Витгенштейна, как видим, достаточно жестко навязывает
свое экзистенциальное отношение к миру.
Философия, таким образом, не является одной из естественных
наук. Традиционные философские проблемы по своей сути и не эмпи-
ричны, и не логичны; они — попытки сказать то, что не может, со-
гласно витгенштейновским критериям, быть высказано [4.003]. Отсю-
да весьма категорическое заключение: «Правильным методом филосо-
фии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что может
быть сказано,— следовательно, кроме предложений естествознания,
то есть того, что не имеет ничего общего с философией,— и затем
всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто метафизическое, пока-
зать ему, что он не дал никакого значения некоторым знакам в своих
предложениях» [6.53].
Как раз приведенные афоризмы Витгенштейна оказали наиболь-
шее влияние на «антиметафизическую» программу неопозитивистов
Венского кружка, которые постарались превратить «Трактат» в на-
стоящую библию своего движения. Причем тот же Карнап дополнил
эту программу такими идеями, источник которых следует искать не
только в учении Фрейда о бессознательном, но и в иррационалистиче-
ских мотивах, присутствующих в самом «Трактате». В уже цитиро-
ванной нами статье Карнап, в частности, пишет: «Псевдопредложе-
ния метафизики служат не для изображения фактического поло-
жения дел: существующего (тогда это были бы истинные предложе-
ния) или несуществующего (тогда это, по крайней мере, были бы
ложные предложения); они служат для выражения чувства жиз-
ни»1. И далее: «Вероятно, музыка является абсолютным средством
выражения для чувства жизни, так как она в наибольшей степени сво-
бодна от всякой предметности... И когда метафизик высказывает свое
дуалистически-героическое чувство жизни в некоей дуалистической
системе, то не делает ли он это только потому, что лишен способности
Бетховена выразить это чувство жизни адекватным способом? Мета-
физики — эти музыканты без способностей к музыке»2.
В другой программной для венских логических позитивистов ста-
тье, принадлежащей М. Шлику, говорится: «Великий современный
1 Carnap R. Überwindung der Metaphysik... S. 238.
2 Ibid. S. 240.
132
поворотный пункт характеризуется тем фактом, что мы видим в фило-
софии не систему понятий, а систему действий; философия есть та
активность, благодаря которой приоткрывается или обосновывается
значение предложений... Одной из наиболее серьезных ошибок про-
шлых времен была вера в то, что актуальное значение и исходное со-
держание сами должны быть сформулированы в утверждениях и та-
ким образом представлены в понятиях... Поэтому метафизика терпит
крах не из-за того, что разрешение ее задач есть предприятие, для ко-
торого человеческий разум не подходит (как, например, думал Кант),
но потому, что вообще нет такой задачи. С раскрытием ошибочной
формулировки проблемы (проблемы «сущности» вещей.— А.Г.) по-
добным образом получает объяснение история метафизического кон-
фликта»1.
«Антиметафизическая» установка в дальнейшем распространи-
лась и в англосаксонских странах и оставалась преобладающей в нео-
позитивизме вплоть до 50-х годов. Особую роль в этом плане сыграла
книга английского последователя Витгенштейна А. Айера «Язык, ис-
тина и логика» (1936), в которой доктрина Венского кружка была
приспособлена к традиции британского субъективно-идеалистиче-
ского эмпиризма. Вот характерные высказывания из этой книги:
«Наше обвинение против метафизика касается не его попыток при-
менять рассудок в той области, где это не может быть прибыльным, а
выдвижения им предложений, не согласующихся с условиями, в силу
которых предложение только и может быть буквально значимым»2. И
затем: «Соответственно, мы можем определить метафизическое
предложение как предложение, стремящееся выражать подлинное
высказывание, но фактически не выражающее ни тавтологии, ни эм-
пирической гипотезы. А поскольку тавтологии и эмпирические гипо-
тезы составляют весь класс значимых предложений, мы имеем право
заключить, что все метафизические предложения являются бессмыс-
ленными»3.
Таким образом, именно в понимании предмета и метода филосо-
фии Витгенштейн занимает сходную с логическим позитивизмом по-
зицию.
1 Ayer AJ. (ed.). Logical Positivism. Glenoe, 1960. P. 56—57.
2 Ayer AJ. Language, Truth and Logic. Harmondswirth, 1980. P. 47.
3 Ibid. P. 56.
133
ТРАНСФОРМАЦИЯ УЧЕНИЯ
После опубликования «Трактата» Витгенштейн, как он призна-
вался в своих письмах, теряет интерес к философии. Впрочем, такая
ситуация может быть объяснена просто тем, что в этот период он вре-
менно исчерпал свои возможности. «Трактат» явился синтезом и
квинтэссенцией долгой подготовительной работы. В течение многих
лет эта книга была своеобразной «целевой причиной» всей философ-
ской деятельности Витгенштейна. После завершения «Трактата» его
автор, что совершенно понятно, почувствовал творческое опустоше-
ние1. К тому же известно, что Витгенштейн никогда не пытался
что-либо публиковать, если у него в тот или иной период не появля-
лись принципиально новые идеи.
С этим кризисом связано и то обстоятельство, что после войны
Витгенштейн некоторое время занимался достаточно случайной рабо-
той. Он был, например, привратником в отеле. Занятие такого рода
деятельностью не было экстравагантной причудой сына одного из бо-
гатейших людей Вены. На самом деле после своего отказа от отцов-
ского наследства Витгенштейн испытывал серьезные материальные
затруднения. Поэтому когда ему удалось, наконец, получить постоян-
ную работу в качестве школьного учителя, он с радостью и неподдель-
ным энтузиазмом включился в новый для него род деятельности. Эта
работа продолжалась в течение шести лет — до 1926 г.
Этот период биографии Витгенштейна считается одним из наибо-
лее загадочных. Известно, что он пытался творчески подходить к вос-
питанию своих учеников и поэтому очень тяготился сковывающими
установками министерства просвещения Австрийской республики. К
своему нескрываемому удивлению, Витгенштейн обнаружил большие
таланты у детей простых крестьян. Со многими из них он связывал
большие надежды, советуя им продолжать образование в городе. Од-
нако осуществление этого замысла столкнулось не только к косно-
стью австрийской системы образования, но и с патриархальным обра-
зом жизни, господствовавшим в деревне. Поэтому многим родителям
показалось опасным стремление Витгенштейна заинтересовать своих
учеников в получении дальнейшего образования. Жалобы на Витген-
штейна были причиной его конфликта с местными органами образо-
вания. Местные жители в качестве предлога приводили вымышлен-
ные примеры грубого обращения учителя со своими учениками. В
1 В 1924 г. Витгенштейн писал Кейнсу: «...все, что я и в самом деле мог сказать, я
уже сказал, и после этого родник иссяк» (Wittgenstein L Letters to Russell, Keynes and
Moore. Oxford, 1974. P. 114).
134
письмах к Расселу в Китай, где в то время ( 1921 ) находился англий-
ский философ, Витгенштейн отмечал, что он в плохих отношениях с
другими учителями, а также весьма мрачно настроен в отношении ме-
стной жизни. Он писал: «Я до сих пор в Траттенбахе, окруженный, как
всегда, одиозностью и испорченностью. Я знаю, что человеческие су-
щества в среднем мало чего стоят где бы то ни было, но здесь они зна-
чительно более непригодны к чему-либо и безответственны, чем
где-либо еще»1.
Все же годы, проведенные в глухих горных деревушках Нижней
Австрии, не прошли бесследно для Витгенштейна. Он здесь не только
учил, но и учился сам. Окружение его сильно отличалось от среды ра-
финированной венской интеллигенции и деятелей искусства, а также
замкнутой академической атмосферы привилегированного британ-
ского университета. В период учительства он окунулся в стихию про-
стой народной речи со всем ее лексическим богатством. Витгенштейн
даже составил специальный словарь для школьников2. Впоследствии
многие принципы, которыми он пользовался при составлении слова-
ря, были использованы им в его поздних рукописях, в частности в той
рукописи, которая озаглавлена сейчас как «Философская граммати-
ка». Подход к языку, разработанный в «Трактате», постепенно начи-
нает казаться его автору односторонним и недостаточным. И если
раньше он подчеркивал, что естественный язык скрывает мысли и
свою структуру, то сейчас он все больше убеждался в том, что сама не-
строгость и неоднозначность слов и выражений повседневного языка
и составляют отличительную особенность языка вообще.
Конечно, годы, проведенные Витгенштейном в Нижней Австрии,
не были годами полной изоляции от близких ему философов. Он, в ча-
стности, написал несколько писем Расселу и вел переписку с Рамсеем
по поводу английского перевода «Трактата». Известно, что Рамсей
даже посещал его и вел с ним продолжительные дискуссии. В поздней
философии Витгенштейна можно обнаружить следы определенного
влияния взглядов этого молодого кембриджского философа и матема-
тика. Позиции Рамсея были свойственны некоторые идеи, близкие
прагматизму. Анализируя «отрицание», Рамсей не просто присоеди-
нялся к мнению Витгенштейна о том, что связка «не» ничего не обо-
значает, но и в прагматистском духе утверждал, что это слово выража-
ет особое «чувство отрицания», отличное от «чувства утверждения»,
поскольку оба эти чувства влекут за собой разные практические след-
1 Russell В. Autobiography. P. 352.
2 См.: Wittgenstein L Wörterbuch für Volksschulen. Vienna, 1977.
135
ствия. В отличие от Витгенштейна, он не считал, что обоснование ин-
дукции есть дело только психологии, а полагал, что индукция обосно-
вывается практически. Общие предложения для Рамсея — это спо-
собы предвосхищения событий будущего. Но, разумеется, и влияние
Витгенштейна на него самого было значительным, несмотря на ука-
занные различия. Хотя позиция Рамсея за короткий срок претерпела
достаточно сильную эволюцию, он постоянно придерживался функ-
ционально-истинностной трактовки предложений в стиле Витген-
штейна. На основании этой идеи он стремился доказывать принципи-
альную возможность выводить математику из логики, не содержащей
никаких положений типа расселовских аксиомы сводимости и аксио-
мы бесконечности, и при этом не впадать в парадоксы1.
Оставив в конце концов преподавательскую работу в деревне,
Витгенштейн некоторое время был простым садовником в монастыре,
а затем в течение двух лет работал в качестве архитектора над проек-
том особняка в Вене для своей сестры. Это здание, сохранившееся до
наших дней, отличается удивительной простотой и пропорционально-
стью. Фон Вригт даже сравнивает красоту этого здания с точностью и
законченностью афоризмов «Трактата»2. В этот же период, работая в
студии скульптора Дробила, Витгенштейн изваял прекрасное скульп-
турное произведение — голову девушки. Свободное время он уделял
также игре на кларнете, которым владел с профессиональным мас-
терством.
Два венских профессора оказали в этот период решающее влия-
ние на возвращение Витгенштейна к философии.
Во-первых, это крупный психолог Карл Бюлер, которого, хотя и с
оговорками, относят к направлению гештальтпсихологии. Но более
важен тот факт, что Бюлер был одним из инициаторов школьной ре-
формы в Австрии. Подход Бюлера был близок позиции Витгенштейна
как педагога. Впрочем, и в собственно психологической теории Бюле-
ра были выдвинуты такие идеи, отголосок которых отчетливо просле-
живается в поздних текстах Витгенштейна. Он, в частности, придер-
живался теории безобразного мышления, критиковал психологиче-
ский атомизм и эссенциалистские объяснения психологических фено-
менов. Бюлер написал несколько работ, посвященных духовному
развитию ребенка, а также (и это существенно) работы по психологии
языка. Витгенштейну импонировали яркие критические выступления
Бюлера, писавшего о кризисе психологической науки своего времени,
2
См.: PassmoreJA. Hundred Years of Philosophy. Harmondsworth, 1978. P. 362.
См.: Malcolm N. Ludwig Wittgenstein. Oxford, 1959. P. 11.
136
которая, как он полагал, все больше распадается на ничем не связан-
ные части: психологию сознания, поведения и духа.
Во-вторых, это Мориц Шлик, профессор кафедры индуктивных
наук, созданной в Венском университете Э. Махом.
Вокруг Шлика в эти годы сложился влиятельный кружок ученых и
философов-позитивистов. С книгой Витгенштейна их впервые позна-
комил математик X. Хан. «Логико-философский трактат» стал рас-
сматриваться членами Венского кружка в качестве главного, про-
граммного текста. Тем не менее, находясь в Вене, Витгенштейн почти
никогда не беседовал на философские темы с кем-либо из членов
кружка, за исключением самого Шлика. Витгенштейн увидел в нем
умного и заинтересованного слушателя (он всегда ценил в людях это
свойство). Однако сам Шлик после их первой встречи в 1927 г. рас-
сказывал о своем впечатлении в следующих словах: «Каждый из нас
подумал, что другой, должно быть, сумасшедший»1.
Впрочем, Витгенштейн общался также и с молодым участником
кружка — Ф. Вайсманном, который впоследствии, переселившись в
Англию, стал одним из самых верных сторонников Витгенштейна. В
30-е годы Вайсманн занимался популяризацией взглядов Витген-
штейна на различных философских конференциях и конгрессах. По
заданию Шлика он в 1929 г. начал подготовку книги, в которой в сис-
тематической форме должен был изложить философию Витгенштей-
на. В этой работе ему помогал сам Витгенштейн, так что одно время
считалось, что у новой книги будет два автора. Однако в дальнейшем
их совместная работа нарушилась. Витгенштейн опасался, что Вайс-
манн будет трактовать его новую философию просто как усовершен-
ствование главных идей «Трактата». Книга Вайсманна была опубли-
кована лишь в 1965 г. после смерти автора2.
Вайсманн также издал записи своих беседе Витгенштейном, кото-
рые проливают свет на ряд идей «Трактата» и показывают, каким об-
разом происходила трансформация первоначальной позиции3. Вместе
с тем этот материал, а также написанная Витгенштейном уже в на-
чальный период пребывания в Кембридже (1929—1930) рукопись,
озаглавленная «Bemerkungen», показывают, что в это время он скло-
няется к некоторым субъективно-идеалистическим концепциям, про-
пагандировавшимся участниками Венского кружка. Так, в частности,
он выдвинул свой вариант принципа верификации и пытался приме-
1 Engelman P. Letters from Ludwig Wittgenstein. P. 118.
2 См.: Weismann F. The Principles of Linguistic Philosophy. L., 1965.
3Cm.: Weismann F. Wittgenstein und der Wiener Kreis. Oxford, 1967.
137
нять его к предложениям, выражающим вероятности. При этом он,
однако, считал, что в решающей верификации того или иного предло-
жения нет необходимости. Положительно он относился и к идее «фи-
зикалистского» языка. Кратковременное увлечение Витгенштейна
феноменалистической гносеологией Венского кружка объясняется
его поиском альтернативы своей ранней позиции.
В то же время в «Bemerkungen», с которыми Витгенштейн позна-
комил Рассела, содержалась любопытная критика расселовской тео-
рии языка. Витгенштейн критиковал Рассела за то, что тот игнориро-
вал такое свойство языка, как интенциональность1.
В 1929 г. Витгенштейн возвращается в Кембриджский универси-
тет. Здесь при поддержке Рассела и Мура он вскоре получает доктор-
скую степень и избирается членом Тринити-колледжа. Членство в
колледже он сохраняет до 1935 г., а после перерыва занимает в 1939 г.
профессорское кресло, которое до него принадлежало Муру. Во вре-
мя пребывания в этом старинном английском университете Витген-
штейн сильно тяготился своей академической карьерой и уже после
Второй мировой войны — в 1947 г.— с радостью распрощался с про-
фессорской должностью.
Приступив к работе в Кембриджском университете, Витгенштейн
вначале оказался в несколько двусмысленном положении. С одной
стороны, он удачно защитил докторскую диссертацию на основе сво-
его «Трактата». Эта книга принесла ему большую известность в Ве-
ликобритании, и от него ждали развития и усовершенствования ее ос-
новных положений. В этой стране Витгенштейн воспринимался как
оригинальный логик, сумевший в более совершенной и простой фор-
ме выразить идеи новой математической логики, развивавшейся здесь
Расселом и некоторыми другими учеными. Образ Витгенштейна, сло-
жившийся в академических кругах в начальный период его пребыва-
ния в Кембридже, как бы диктовал австрийскому философу дальней-
ший характер его деятельности.
С другой стороны, опыт преподавательской работы в начальной
школе, давший Витгенштейну возможность оценить роль естествен-
ного языка в человеческом общении, уже не позволял ему замыкаться
1 Об этой рукописи Рассел писал тогда следующее: «Теории, содержащиеся в этой
новой работе Витгенштейна, обладают новизной, очень оригинальны и, несомненно,
важны. Истинны ли они, этого я не знаю. Как логик, который любит простоту, я хотел
бы пожелать, чтобы они не были таковыми, но из того, что я прочитал, я с полной уве-
ренностью могу сказать, что он должен иметь возможность для их разработки, посколь-
ку в случае завершения вполне может оказаться, что они составляют целую новую фи-
лософию» (цит. по: Von Wright G.H. Wittgenstein. P. 26).
138
в сфере символического языка «Трактата». Витгенштейн сумел уви-
деть относительный характер этого языка. Его знакомство с брауэров-
ским математическим интуиционизмом и психологией Бюлера еще
более убедило философа в необходимости отказаться от некоторых
важнейших установок своей ранней философской доктрины.
Одним из результатов воздействия на Витгенштейна отмеченных
противоположных тенденций оказалась его небольшая работа под на-
званием «Некоторые замечания о логической форме» (1929). Исто-
рия ее такова. Уже находясь в Кембридже, Витгенштейн получил
предложение написать статью для материалов Аристотелевского об-
щества — наиболее престижного объединения британских филосо-
фов. Витгенштейн воспринял это предложение как испытание самого
себя: способен ли он еще получить какой-либо новый результат? Од-
нако написанная им статья полностью его разочаровала, и он даже
просил не публиковать ее. Все же Витгенштейн явился на заседание
общества, но выступил на другую тему: он говорил о понятии беско-
нечности1.
На первый взгляд, названная статья как бы продолжает рассмот-
рение одной из главных концепций «Трактата» — концепции логиче-
ской формы. Витгенштейн здесь пишет о логическом синтаксисе, по-
нимаемом как совокупность правил, позволяющих образовывать пра-
вильные высказывания. В согласии со своей ранней позицией он ука-
зывает на то, что синтаксис обыденного языка не запрещает
построение бессмысленных псевдопредложений типа «красное выше,
чем зеленое». Но теперь Витгенштейн говорит, что он вслед за Рассе-
лом принимает термин «атомарные высказывания». Их он называет
«ядром» любого более сложного высказывания, поскольку они пред-
ставляют исходные взаимосвязи терминов. Однако при этом он отме-
чает, что задача их поиска, а также задача понимания способа их кон-
струирования из слов или символов должна решаться уже теорией
познания. Теория познания призвана выразить в соответствующем
символизме то, что в обыденном языке ведет к недоразумениям.
Таким образом, указанная задача передается теории познания, ко-
торая в «Трактате» презрительно рассматривалась как дисциплина,
зараженная губительным психологизмом. Признавая в рассматривае-
мый период роль эмпиристской теории познания, Витгенштейн не
только приближался к позиции Рассела, который всегда стремился
поставить в соответствие элементам своей логической теории эле-
1 Основные положения витгенштейновской трактовки бесконечности изложены
Р. Риисом (см.: Rhees R. Discussions of Wittgenstein. L, 1970).
139
менты чувственного опыта, но и неосознанно расширял свой общий
подход к языку. Он писал: «И мы только тогда сможем поставить яс-
ный символизм на место неточного, когда станем исследовать те явле-
ния, которые хотим описать, пытаясь, таким образом, понять их логи-
ческое многообразие. Собственно говоря, мы можем прийти к пра-
вильному анализу только путем того, что можно назвать логическим
исследованием явлений самих по себе, то есть в определенном смысле
a posteriori, a не предполагая возможности a priori»1.
Логическая форма атомарных предложений не может быть пред-
видена заранее, и было бы странно, подчеркивает Витгенштейн, если
бы реальные явления не могли научить нас ничему другому, кроме са-
мой этой формы. Подлинный анализ демонстрирует, что логические
формы имеют лишь небольшое сходство с нормами нашего языка. На
примере зрительного восприятия Витгенштейн показывает, что в про-
цессе его анализа мы встречаемся с такими логическими формами,
которые отличны от того, что можно было бы ожидать, основываясь
на свойствах языка.
Витгенштейн также показывает ошибочность своего раннего ре-
шения проблемы «исключения цветов» [6.3751]. Невозможность
для двух цветов находиться одновременно в одном и том же месте те-
перь уже больше не оценивается им как логическая истина. Примеча-
тельно, что для него описания различных цветов в определенной сис-
теме координат (аналог атомарных высказываний) уже не являются
логически независимыми друг от друга. Их отношения имеют не функ-
ционально-истинностный характер, а скорее зависят от самой эмпи-
рической природы цветовых явлений. Так была разрушена одна из
главных догм «Трактата».
В статье «Некоторые замечания о логической форме» говорится
далее о том, что утверждение, которое приписывает степень како-
му-либо качеству, далее не может быть проанализировано. А отноше-
ние различия в степени есть внутреннее отношение между теми ут-
верждениями, которые приписывают различные степени качества.
Атомарное утверждение само должно быть столь же множественным,
как и степень, которую оно приписывает. После этого следует весьма
любопытное признание: «Взаимное исключение неанализируемыхут-
верждений степени противоречит мнению, которое было опубликова-
но мной несколько лет назад и которое с необходимостью обусловли-
вало, что атомарные утверждения не могут исключать друг друга. Я
здесь сознательно говорю "исключать", а не "противоречить", по-
1 Copi /., Beard R.W. (eds.). Essays on Wittgenstein. P. 32.
140
скольку между этими двумя понятиями существует различие, и ато-
марные высказывания, хотя они и не могут противоречить друг другу,
могут исключать друг друга»{. Здесь же Витгенштейн с помощью таб-
лиц истинности эксплицирует различие между указанными понятия-
ми.
Наметившиеся в этой крайне противоречивой и непоследователь-
ной работе2 тенденции в дальнейшем получили более полное разви-
тие. Допущение того, что атомарные высказывания могут определен-
ным образом соотноситься, по существу сводило на нет их собственно
«атомарный» и независимый характер. Теперь открывалась принци-
пиальная возможность демонстрации многообразных взаимодействий
исходных элементов и структур языка. А новый взгляд на роль теории
познания давал импульс более широкому подходу к лингвистическим
феноменам, включению их в сферу человеческой практики. В 1929 г.
Витгенштейн уже сомневается в том, всегда ли повествовательные
предложения являются совершенными образами (моделями). Нет у
него уверенности и в том, что кванторы могут получить объяснение с
точки зрения функциональной истинности. Возведенное им «навеч-
но» здание «Трактата» начинает постепенно разрушаться.
ВТОРОЙ СИНТЕЗ. ЯЗЫК И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Критика «традиционной» концепции значения
Развернутую критику своей ранней концепции значения Витген-
штейн впервые дал в «Голубой книге» (1933—1934)3. «Что такое
значение»? — спрашивает он в ней. Прежде чем ответить на этот во-
прос, нужно, по его мнению, показать, что такое «объяснение значе-
ния слова». Аналогичным образом вопрос: «как мы измеряем дли-
ну?» — помогает нам понять, «что такое длина?». Подобная «опера-
ционалистекая» переформулировка вопросов важна и для объясне-
ния других слов естественного языка. Вопросы типа: «что такое
1 Copi /., Beard R.W. (eds.). Essays on Wittgenstein. P. 35.
2 Так, по ней нельзя составить четкого представления о том, как же Витгенштейн в
тот период понимал соотношение идеального (символического) и повседневного языка.
3 Впрочем, не всегда критикуемая им концепция значения может быть безогово-
рочно отождествлена с его собственной концепцией в «Трактате». Иногда объектом
критики выступает некоторый симбиоз его ранней концепции с идеями Фреге и Рассе-
ла. Вообще же для позднего Витгенштейна довольно характерно создание «удобных»
для его критики объектов.
141
длина?, «что такое значение?» и т. п. — всегда вызывают у нас недо-
умение. Для ответа на них нам не на что указать, у нас нет соответст-
вующего предмета (денотата).
По Витгенштейну, объяснение значения слов традиционно сво-
дится, во-первых, к вербальным определениям. Но он считает, что
данный вид определений мало что дает. При нем мы лишь определяем
одни слова с помощью других слов, и так до бесконечности. Во-вто-
рых, объяснение сводится к остенсивным определениям. Поскольку
роль именно этих определений обстоятельно оценивается Витген-
штейном, необходимо подробнее остановиться на этом вопросе.
Речь идет о том типе определений, который описан, например, в
работе Д.П. Горского следующим образом: «Под остенсивными опре-
делениями понимаются определения значения слов и словосочетаний
путем непосредственного ознакомления обучаемого с предметами,
действиями и ситуациями, обозначаемыми этими словами и словосо-
четаниями»1. Витгенштейн, касаясь подобного рода определений, об-
ращает внимание на тот факт, что очень многие слова не могут быть
однозначно и точно определены таким путем (например, «один», «но-
мер», «не» и т. п.). Если, допустим, мы указываем на карандаш и про-
износим его название, то такое остенсивное определение карандаша
может быть проинтерпретировано обучаемым и так: «это является
круглым», «это является красным», «это является деревянным»,
«это в единственном числе», «это твердое» и т. д. Витгенштейн, как
обычно, приводит массу таких примеров.
Почему же, спрашивает он, остенсивные определения, вроде при-
веденного определения карандаша, мы в целом интерпретируем пра-
вильно? Потому ли, что у нас уже был в голове некий «образ» каран-
даша? Едва ли. Ведь если, к примеру, человеку укажут на банджо, ко-
торого он никогда раньше не видел, то он, вероятно, вспомнит слово
«гитара» или же «образ» гитары. В «Философских исследованиях» в
этой связи говорится: «А можно ли остенсивно обучиться словам
"там" и "это"? — Вообразите, как кто-либо, вероятно, сможет обу-
чить их использованию. Он станет указывать на места и вещи, но в
этом случае указывание происходит [именно] при использовании
слов, а не просто при обучении их использованию»2.
1 Горский Д.П. Определение. Мм 1974. С. 84.
2 Wittgenstein L Philosophical Investigations. Oxford, 1953. P. 6.
142
Что же скрывается за витгенштейновской настойчивой критикой
остенсивных определений?1 Атака на них понадобилась ему для опро-
вержения «традиционной» концепции значения (в том числе концеп-
ции самого «Трактата») и для разработки принципиально новой кон-
цепции. Я. Хинтикка по этому поводу замечает: «...остенсия оказыва-
ется наиболее подходящим соперником языковых игр как связующего
звена между языком и реальностью. Если бы остенсия была жизне-
способным звеном, то это привело бы к результату, совершенно от-
личному от идеи языковых игр»2.
Указанную «традиционную» концепцию значения Витгенштейн
также называет «августинианской». Дело в том, что «Философские
исследования» начинаются латинской цитатой из «Исповеди» Авгу-
стина, в которой тот вспоминает, как в детстве обучался словам род-
ного языка. Данное описание действительно очень похоже на процесс
остенсивного обучения языку. Оценивая это, Витгенштейн пишет:
«Эти слова, как мне кажется, дают определенную картину сущности
человеческого языка. Она такова: индивидуальные слова в языке обо-
значают объекты, предложения оказываются комбинациями подоб-
ных имен. В данной картине языка мы находим корни следующей идеи:
каждое слово имеет значение. Это значение скоррелировано со сло-
вом. Это тот объект, которому соответствует слово. Августин не гово-
рит о существовании какого-либо различия между видами слов. Если
вы описываете обучение языку подобным образом, то вы, я полагаю,
прежде всего думаете о существительных типа «стол», «стул»,
«хлеб», а также об именах людей, и только во вторую очередь об име-
нах определенных действий и свойств, а об остальных видах
слов — как о чем-то, что само позаботится о себе»3. Вот еще одна
оценка «августинианского» подхода: «Августин описывает обучение
человеческому языку, как если бы ребенок попал в неизвестную стра-
ну и не понимал языка этой страны, то есть он бы уже обладал некото-
рым языком, но только не этим. Или то же самое: как если бы он уже
мог мыслить, но только еще не мог говорить. А "мыслить" в данном
случае будет означать нечто вроде "говорить с самим собой"»4.
1 Витгенштейн, как правило, не проводит различия между «остенсивными опреде-
лениями», «остенсивными объяснениями» и «остенсивным обучением» языку. В це-
лом ряде случаев это обстоятельство затрудняет понимание его концепции.
2 HintikkaJ. (ed.). Essays on Wittgenstein in Honor of G.H. von Wright. Amsterdam,
1976. P. 112.
3 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 2.
4 Ibid. P. 15—16.
143
В своей критике Витгенштейн, однако, не учитывает многих суще-
ственных обстоятельств. К тому же неправильно, как это он делает,
целиком подчинять «остенсию» только одной определенной логи-
ко-лингвистической концепции значения. Здесь нужно прежде всего
подчеркнуть, что остенсивное обучение является совершенно необхо-
димым компонентом овладения родным языком. Об этом с основани-
ем пишет У. Куайн: «...указывание полезно, ибо оно усиливает отли-
чительный характер части поля зрения. Сначала это просто возлага-
ется на указывающий палец и его непосредственное окружение и со-
седство благодаря знакомому виду движения и контрасту. Даже в
таком примитивном действии имеется некоторое приобретение: из
внимания исключается большинство не относящихся к делу участков
сцены, а таким образом можно избежать многих трудоемких исключе-
ний с помощью индукции. Конечно, следует все же применять ограни-
ченную индукцию... еще до того, как субъекту удастся исключить ука-
зывающий палец в пользу той вещи или того свойства, для которого
предназначается слово. В дальнейшем мы перепрыгиваем даже через
эту ограниченную стадию неуверенного поиска, научившись обычаю
указывания...Мы видим, что указывание служит ускорению обучения
терминам, которым иначе можно было бы научиться лишь благодаря
долгому просеиванию сходств и различий всех переплетающихся ас-
пектов»1.
Как подчеркивает Д.П. Горский, процесс остенсивных определе-
ний развивает у ребенка навык к абстракции отождествления. Ребе-
нок овладевает остенсивно значениями не только отдельных слов, но и
целых словосочетаний, усваивая при этом стандарты родного языка2.
При остенсивном обучении слову «треугольник», отмечает A.A. Вет-
ров, обучающемуся показывают разные виды этой геометрической
фигуры. На основании этого у него складывается знание о несущест-
венности для треугольника некоторых признаков (величины углов,
длины сторон и т. п. ). Приобретение такого знания как раз и позволяет
выйти за границы единичного, осуществить обобщающую абстрак-
цию. «В филогенезе люди впервые познавали несущественность тех
или иных свойств предметов, используя эти предметы практически:
вещи, которые производили одно и то же действие, отождествлялись,
а различия между ними игнорировались»3.
1 Quine W.V.O. The Roots of Reference. La Salle, 1973. P. 44—45.
2 Горский Д.П. Определение. С. 84—85.
3 Практика и познание. М., 1973. С. 312—313.
144
Правда, в чисто семантическом плане критика Витгенштейном ос-
тенсивных определений кое в чем справедлива, поскольку они и в са-
мом деле неоднозначно указывают на предметы и свойства, обозна-
чаемые тем или иным словом. Однако в процессе речевой практики
людей (роль которой подчеркивает и сам Витгенштейн) этот недоста-
ток постепенно корректируется. «Все же сколь бы ни был совершенен
этот способ, он, несомненно, играет большую роль в познании, пред-
ставляя собой путь получения исходного словаря базовых терминов в
естественных языках, предпосылку введения (с помощью дескриптив-
ных, переквалифицирующих, семантических и т. д. определений) тер-
минов и понятий конкретных наук»1.
То, что при первоначальном обучении языку решающую роль иг-
рают слова, обозначающие реально существующие предметы, нельзя
оценивать как заблуждение. Такие слова свидетельствуют о том, что
процесс овладения родным языком неотделим от практического овла-
дения именно материальными предметами внешнего мира. Атакуя
«традиционную» теорию значения, Витгенштейн в сущности высту-
пает против изначально материалистического подхода к пониманию
языка. Заостряя внимание на лингвистической практике человека,
поздний Витгенштейн в то же время лишает такую практику предмет-
ности в самом прямом смысле этого слова, отгораживает язык от ре-
альности.
В «Голубой книге» Витгенштейн также отмечал, что в соответст-
вии с «общепринятым» подходом язык рассматривают состоящим как
бы из двух частей: ( 1 ) «неорганической», включающей материальные
знаки; (2) «органической». Здесь знаки получают интерпретацию, им
придается «значение». И все это якобы происходит в сознании. По-
этому принято считать, будто к «мертвым» знакам следует добавить
нечто нематериальное, чтобы «оживить» их. На самом деле, подчер-
кивает Витгенштейн, только использование знаков способно осуще-
ствить это. Если же значение есть некоторый образ в голове, которо-
му можно уподобить ту или иную картину или модель, то почему же
мертвый знак должен «оживать», если к нему прибавить такой образ?
Мы привыкли рассматривать значение знака как особую вещь, суще-
ствующую вместе со знаком. На самом деле отдельный знак (и пред-
ложение тоже) получает свое значение только в системе знаков, в
конкретном контексте, в языке в целом. Поэтому понять слово или
предложение — значит понимать язык, а понимать язык — значит
владеть техникой его правил, его «грамматикой» (в особом, витген-
штейновском истолковании этого термина).
1 Попа К. Теория определения. М., 1976. С. 37.
10-5739 145
По Витгенштейну, мы ошибочно полагаем, что значение есть не-
что субстанциальное. Это же является причиной типично философ-
ских заблуждений. Так, например, многие запутанные философские
проблемы времени вызваны пониманием его как чего-то субстанци-
ального, за чем будто бы стоит нечто непознаваемое и, возможно, бо-
жественное. Уже спрашивая: «Что такое время?» — мы усложняем
проблему. Августин, интересуясь вопросом о том, «как измерить вре-
мя», приходит к парадоксальному выводу, ибо он, с точки зрения Вит-
генштейна, на самом деле имеет в виду процесс измерения длины тел.
Значение, которое присуще словам, не является продуктом наше-
го мышления. Да и само мышление отнюдь не есть какой-то духовный
процесс, духовная деятельность. По мнению Витгенштейна, мышле-
ние есть прежде всего практическая активность оперирования со зна-
ками. Эта активность выполняется рукой при письме (то есть мы мыс-
лим при помощи письма); она выполняется ртом (когда мы мыслим
при говорении); а когда мы мыслим, воображая знаки или образы, то в
этом случае уже трудно назвать деятеля. Если сказать, что сознание
(ум, душа) мыслит, то это будет лишь запутывающей метафорой. Ко-
гда мы интересуемся локализацией мышления, то мы не имеем права
категорически утверждать, что оно имеет место в голове,— мы ведь
этого не видим. Правда, мы все же так говорим, но это рассуждение
построено на зыбкой аналогии. Наш повседневный язык в процессе
его функционирования сам вкладывает некоторый смысл в утвержде-
ние о том, будто мышление происходит «в голове».
Как видим, позиция позднего Витгенштейна близка бихевиориз-
му, хотя и не тождественна с ним. Витгенштейн сходится с бихевиори-
стами в критике представления о наличии внутренних духовных со-
стояний, в недоверии к понятию «сознания»1. Он крайне подозри-
тельно относился к тем или иным формам менталистских объяснений,
а также отрицал образный характер мышления. «Следует спрашивать
не о том, что такое образы или что происходит, когда кто-либо вообра-
жает нечто, но о том, как используется слово "воображение"»2.
1 В связи с этим нельзя не упомянуть о сильном влиянии на Витгенштейна прагма-
тизма Джеймса, который, в частности, в статье «Существует ли сознание?» писал: «Я
утверждаю, что раз «сознание» уже так значительно испарилось, то это значит, что оно
скоро совершенно исчезнет. Оно не обозначает какой-либо сущности и не принадлежит
к числу первых принципов. Приверженцы его ловят эхо, глухой гул, развеянный исче-
зающей "душой" в атмосфере философии» (см.: Новые идеи в философии. СПб., 1913.
Сб. 4. С. 103).
2 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 116.
146
Но, с другой стороны, тексты Витгенштейна содержат массу при-
меров, предполагающих интроспекцию. Он к тому же отнюдь не счи-
тал, что язык, описывающий внешние проявления, язык человеческо-
го поведения, достаточен для характеристики психического. Поэтому,
например, для него «грамматика» (то есть способ употребления) сло-
ва «боль» иная, нежели грамматика фразы «проявление боли». Он
пишет: «Итак, вы говорите, что слово "боль" в действительности оз-
начает стон? Наоборот, словесное выражение боли заменяет стон, а
не описывает его». И далее: «Нельзя сказать, что другие люди узнают
о моих ощущениях только по моему поведению. Ибо нельзя сказать,
что я сам узнаю по ним. Я имею их. Истина заключается в следующем.
Имеет смысл говорить о других людях, что они сомневаются в том,
больно ли мне. Но обо мне этого нельзя сказать»1. Витгенштейн ста-
вил иную по сравнению с психологами-бихевиористами цель: «Объ-
яснение действия языка в качестве психофизического механизма нас
не интересует... Мы нуждаемся в объяснении, которое является ча-
стью исчисления (то есть «грамматики».— АГ.)»2.
Своей критикой ментализма Витгенштейн стремился опроверг-
нуть принципиальную возможность существования «индивидуально-
го языка», языка, описывающего внутренние состояния человека
(вроде состояния боли) и являющегося сугубо личным. «Предложе-
ние "ощущения индивидуальны" сравнимо с предложением "некто иг-
рает в пасьянс с самим собой"»,— писал он3, то есть первое предло-
жение столь же излишне, как и второе, где говорится о карточной
игре, которая только и играется с самим собой.
Благодаря Витгенштейну в практику англо-американской анали-
тической философии прочно вошла дискуссия по проблеме «индиви-
дуального языка». Об этом к настоящему времени существует обшир-
ная литература. С присущей всем аналитикам скрупулезностью и до-
тошностью некоторые авторы доказывают возможность такого языка,
другие это опровергают, ссылаясь, как правило, на Витгенштейна и
используя его аргументы и метод «мысленных экспериментов». Что
же все-таки скрывается за этой необычной, на первый взгляд, поле-
микой?
Речь в ней идет о возможности передачи в языке внутреннего пси-
хического состояния субъекта. Можно ли надеяться на то, что знание
об этом состоянии окажется достоверным и будет разделяться разны-
1 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 89.
2 Wittgenstein L Philosohical Grammar. Oxford, 1974. P. 70.
3 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 90.
io» 147
ми людьми? Ведь от этого во многом зависит характер человеческого
общения. В отличие от соперничающих представителей интроспек-
тивной и поведенческой психологии, философы-аналитики ищут ре-
шение указанной проблемы исключительно в лингвистической сфере.
Одни из них аргументируют в пользу гипотетического «языка Робин-
зона», в котором субъект мог бы обозначить свои ощущения, воспри-
ятия и переживания только ему одному понятными знаками. Здесь
были бы возможны личные остенсивные определения слов. Другие
отрицают такой подход на том основании, что если имеется в виду
язык, то в нем обязательно должен быть критерий отличения пра-
вильных высказываний от неправильных, а таковой возможен исклю-
чительно в языковой системе с ее общепринятыми нормами и прави-
лами. «Язык Робинзона» подобного критерия не содержит1. При этом
они опираются на такие высказывания Витгенштейна: «„.думать,
что кто-либо подчиняется правилу, еще не означает и в самом деле
подчиняться правилу. Поэтому невозможно "индивидуально" подчи-
няться правилу. Иначе, думать, что кто-то подчиняется правилу, будет
то же самое, что и подчиняться ему»2; «Когда я подчиняюсь правилу, я
не выбираю. Я слепо подчиняюсь правилу»3.
С. Крипке в своих последних работах утвер>кдает, что, опровергая
«индивидуальный язык», Витгенштейн стремится также опроверг-
нуть «индивидуальную модель» следования правилу. Это было необ-
ходимо ему для ответа на сформулированный им «скептический пара-
докс», подвергающий сомнению постоянство значения используемых
нами понятий. Витгенштейн, пишет Крипке, считает, что в своих рас-
суждениях мы всегда достигаем такого уровня, на котором начинаем
действовать не сомневаясь, в согласии с тем или иным лингвистиче-
ским сообществом, и не стремясь рационально обосновать свои дей-
ствия. По мнению американского философа, этот же подход лежит в
основе витгенштейновского решения проблемы познания «других
сознаний». Всякое объяснение Витгенштейна упирается по существу
в инстинктивные формы лингвистического поведения4.
Безусловно, критики «индивидуального языка» правы, когда вы-
деляют некоторые общеобязательные лингвистические требования, а
также подчеркивают системный характер языка и тесное взаимодей-
1 См., например, Rhees R. Discussions of Wittgenstein.
2 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 81.
3 Ibid. P. 85.
4 См.: KripkeSA. Wittgenstein on Rulesand Private Language. Oxford, 1982.
148
ствие всех его частей. Совершенно «индивидуальный» язык, конечно,
невозможен. Однако подобный подход, по нашему мнению, еще не ре-
шает саму проблему возможности адекватного познания психических
явлений. Да и полемика со сторонниками «индивидуального языка»
на этом не прекращается, ибо последние продолжают придумывать
все новые гипотетические языки, обходящие грамматические ограни-
чения, установленные их критиками.
Рассмотренная проблема в сущности является гносеологической,
поэтому ту форму, в которой она ставится философами-аналитиками,
нельзя признать подходящей. Это вопрос о том, насколько истинны
наши знания о самих себе и о других. Ведь познание (как и самопозна-
ние) психических состояний имеет свою специфику, свое отличие от
познания внешнего мира, природы. И тем не менее ошибочно гово-
рить о невозможности такого знания. Оно может содержать в себе
элементы объективной истины даже несмотря на субъективную окра-
ску. В основе подобного оптимизма лежит научно обоснованное убеж-
дение в том, что психические проявления — это продукт длительной
биологической эволюции человека, что их основные характеристики
сформировались в ходе все более усложнявшейся социальной прак-
тики. Многие современные психологи рассматривают психические
явления и состояния как своеобразную интериоризацию внешней
предметной деятельности. Не лишая сферу психического присущих ей
особенностей, такой подход в принципе позволяет получать достовер-
ное и полезное знание. И естественный язык, тоже являющийся
результатом социальной практики людей, вполне приспособлен для
решения указанной задачи.
2. Философия как «деятельность»
И в поздний период Витгенштейн по-прежнему продолжает счи-
тать философию активностью особого рода, а не теорией. Эта ак-
тивность все так же направлена на достижение наибольшей ясности.
Если философия достигает искомой ясности, то она делает это не в
результате разрешения философских проблем, а путем их устранения,
«ибо ясность, к которой мы стремимся, и в самом деле есть полная яс-
ность. Но это просто означает, что философские проблемы должны
полностью исчезнуть»1. В «Трактате», как известно, тоже имела
место «антиметафизическая» тенденция. Но теперь ей предпосылает-
ся иное обоснование: «...трудности, которые занимают нас, появля-
1 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 51.
149
ются тогда, когда язык напоминает простаивающий, а не работающий
двигатель»1.
Философские вопросы для позднего Витгенштейна — это раздра-
жающие, мучительные вопросы, возникающие в результате непра-
вильного использования и понимания языка. «Когда мы занимаемся
философией,— писал он,— мы напоминаем дикарей, примитивных
людей, которые слышат выражения цивилизованных людей, дают им
ложную интерпретацию, а затем выводят из них странные заключе-
ния» . А в другой работе с иронией говорится: «Я сижу в саду с фило-
софом, который все время повторяет: "Я знаю, что это дерево", указы-
вая на дерево рядом с нами. Приходит некто и слышит это, и я ему го-
ворю: "Этот человек не сумасшедший; просто мы философствуем"»3.
Витгенштейн любил сравнивать проблемы философии с затрудне-
ниями человека, пытающегося выбраться из запертой комнаты. Зада-
ча философа, по его мнению, должна быть в некотором смысле тера-
певтической: «Не существует какого-либо [особого] философского
метода, хотя и в самом деле есть различные методы, подобные различ-
ным терапиям»4; «результатами философии оказываются показ тех
или иных порций откровенной чепухи, а также те синяки, которые по-
лучил наш рассудок, ударившись головой о пределы языка...»5 Вит-
генштейн полагал, что «философ — это человек, который, прежде
чем он доберется до понятий здравого смысла, должен вылечить мно-
гие интеллектуальные заболевания в самом себе»6.
Впоследствии ученики австрийского философа по Кембриджу —
Д. Уиздом, М. Лазеровиц и Э. Эмброуз — довели до абсурда подоб-
ную трактовку философской деятельности. Поэтому их версию лин-
гвистической философии даже стали называть «клинической». Они
также сблизили подобный подход с психоанализом Фрейда. Лазеро-
виц, например, пишет: «...в сущности философская теория является
бессознательно сконструированным семантическим обманом. Лин-
гвистический аналитик благодаря процессу, который может быть опи-
сан как семантическое размаскирование, освещает то, что философ
1 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 51
2 Ibid. P. 79.
3 Wittgenstein L On Certainty. Oxford, 1969. P. 61.
4 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 51.
5 Ibid. P. 48.
6 Wittgenstein L Culture and Value. P. 44.
150
делает с помощью слов, когда он провозглашает и аргументирует в
пользу своей теории»1. И далее: «...философ скрытым образом изме-
няет язык, находясь в иллюзии, что он приоткрывает нам содержание
космоса»2. С таких позиций лингвистические «терапевты» пытались
объяснить учения многих философов прошлого. К примеру, в книге
Уиздома, посвященной Беркли, многие идеи Клойнского епископа бу-
квально выводятся из приписываемых ему Уиздомом психических и
физиологических отклонений3.
Сопоставление позиций Витгенштейна и установок психоанализа
и в самом деле достаточно симптоматично. Уже при первом обраще-
нии к этому вопросу кажутся очевидными совпадения между взгляда-
ми Витгенштейна и основателя психоанализа. Однако взаимоотноше-
ние двух концепций в целом значительно сложнее.
Согласно биографическим свидетельствам, Витгенштейн позна-
комился с идеями Фрейда в 1919 г. и после этого в личных беседах час-
то даже называл себя учеником Фрейда4. В связи с этим обратим вни-
мание на его достаточно позднее знакомство с психанализом, который
к этому времени был уже одним из ведущих и наиболее обсуждаемых
явлений в венской, да и в европейской культуре вообще. В то же время
именно к 1919 г. Витгенштейн завершил первый синтез своего фило-
софского мировоззрения. Поэтому интерес к психоанализу был, оче-
видно, вызван у него не только какими-то личными мотивами, но и
близостью психоанализа к его собственному подходу к решению опре-
деленных проблем. Возможно, что психоанализ в какой-то степени
способствовал пересмотру Витгенштейном его ранней доктрины.
Отношение к Фрейду у позднего Витгенштейна не было однознач-
ным. В частности, достоинство психоанализа он видел в том, что, буду-
чи современной формой мифологии, психоанализ многое открывает
человеку о нем самом и при этом, однако, не является разновидностью
научного знания. Для психаналитического подхода все существенно и
все объяснимо. Психоанализ (и в этом, на взгляд Витгенштейна, за-
ключается его позитивный момент) в сущности чужд эксперименталь-
ному методу науки, применяемому для установления объективных
каузальных закономерностей. Фрейдизм, например, дает верное по-
1 Lazerowitz M. The Language of Philosophy. Freud and Wittgenstein. Dordrecht,
1977. P. XII.
2 Ibid. P. 16.
3 См.: Wisdom J. The Unconscious Origin of Berkeley's Philosophy. L, 1953.
4 См.: Kenny A., McGuinness B.F., Nyiri J.C. (eds.). Wittgenstein and His Times.
Oxford, 1982. P. 27.
151
нимание значения астрологии и магии как отражения определенных
жизненных форм. Витгенштейна, таким образом, заинтересовали
прежде всего иррационалистические аспекты учения его знаменитого
соотечественника. И, наоборот, он совершенно не приемлет некото-
рые научно обоснованные идеи этого учения, в частности концепцию
вытеснения бессознательного.
Витгенштейна особенно поразила концепция осмысленности сно-
видений. С учетом специфического отношения Витгенштейна к языку
можно понять, почему эта концепция трансформировалась в трактов-
ку им сновидений как особых языков, вызывающих у нас наиболее яр-
кие впечатления и переживания. Отсюда он делал вывод, который, од-
нако, по существу противоречил исходным намерениям самого Фрей-
да. Согласно Витгенштейну, поскольку имеется большое количество
различных сновидений, принципиально невозможно сконструировать
единый тип их объяснения. Каждое сновидение имеет свои уникаль-
ные «правила». Он сравнивал фрейдовскую идею о том, что все сно-
видения являются реализацией желаний, со своим старым (и уже от-
вергнутым им)тезисом о том, что каждое предложение является обра-
зом.
В то же время, как свидетельствует Ч. Хэнли, Витгенштейн при-
писывал Фрейду одностороннюю теорию обоснования всех психиче-
ских явлений и поведения лишь человеческой сексуальностью, что и
расценивал как своеобразную мифологию. Объяснение привлека-
тельности такой мифологии для людей он видел в том, что им якобы
всегда присуще стремление ко всему тому, что загадочно и противо-
стоит социальным запретам. В основе психоаналитического метода он
находил пережитки механистической физиологии и психологии XIX
века1.
То, что Фрейд представлял как описание бессознательного, Вит-
генштейн интерпретировал как попытку дать известным фактам новое
и необычное объяснение. Психоаналитические объяснения он срав-
нивал с «эстетическими объяснениями», которые существенно отли-
чаются от объяснений в каузальных терминах физиологических меха-
низмов. Отрицание возможности бессознательных мыслей Витген-
штейн отождествлял с отрицанием языкового выражения «бессозна-
тельное мышление». При этом он подчеркивал, что тот, кто отрицает
применимость данного выражения, не имеет права использовать и
противоположное ему выражение, которое в таком случае оказывает-
ся бесполезным. Таким образом, «бессознательное», а также идея
1 См.: Ambrose A. (ed.). Ludwig Wittgenstein. N. Y.,1972. P. 92.
152
реализации бессознательных мотивов для Витгенштейна оказывают-
ся особыми понятийными обозначениями, конституирующими специ-
фическую грамматику некоторой языковой практики. Подобные по-
нятия обязательно должны предполагать свою противоположность.
В своей поздней концепции Витгенштейн фактически призывал к
превращению скрытых, как бы подавленных философских заблужде-
ний в открытые, дабы их можно было отбросить. Его тексты дают
обильное подтверждение того факта, что он приписывает своей фило-
софии именно разрушительные функции. Такая философия обязана
прежде всего укреплять способность к противостоянию «интеллекту-
альным соблазнам», к борьбе с любыми философскими обобщениями
и «метафизическими» построениями.
Сообщают, что оксфордский философ Г. Райл в свое время спра-
шивал, имея в виду концепцию Витгенштейна: какова польза от фило-
софии, если она служит только против заблуждений других филосо-
фов? Ведь при последовательном проведении витгенштейновского
подхода действительно получается, что философия нужна лишь тем,
кто определенным образом «болен». Пытаясь защитить Витгенштей-
на от этого вполне справедливого упрека, Э. Кении по существу рас-
крывает иррационалистический мотив поздней позиции Витгенштей-
на. Он утверждает, что философия в таком ее понимании будто бы по-
лезна не только против других философов, но и против «философов в
нас самих». Философия для Кении является неизбежной формой че-
ловеческого существования, ибо она якобы изначально заложена в
нашем языке. «Согласно христианской доктрине,— пишет он,— мы
все рождены в состоянии греха; согласно же Витгенштейну, мы не ро-
ждены в состоянии философского греха, но воспринимаем его вместе
с языком»1.
3. «Языковые игры»
Для того чтобы исследовать использование лингвистических зна-
ков, Витгенштейн и вводит получившее большую известность понятие
«языковая игра». В ранний период он широко пользовался аналогией
с шахматной игрой. Позднее он продолжал пользоваться этой анало-
гией, но уже перестал считать правила шахматной игры наиболее ти-
пичными для всего класса игр. Такого «общего», с его точки зрения,
просто не может быть. В текстах Витгенштейна содержатся разные,
хотя и взаимосвязанные, понимания языковых игр.
1 Kenny A., McGuinnessB.F., NyirU.C. (eds.). Wittgenstein and His Times. P. 15.
153
Во-первых, «игры» — это предельно упрощенные по сравнению
с реальной практикой естественного языка модели употребления слов
и выражений. В языке, как отмечал Витгенштейн, играются самые
различные игры: отдача приказов, задавание вопросов и ответы на
них, рассказ истории или шутки, описание непосредственного опыта,
выдвижение гипотезы, предположения, приветствие и т. д. В «Корич-
невой книге» всего приводится 73 примера подобных языковых игр.
Например, самый примитивный язык ( 1 ) сводится к общению между
строителем А и его подручным ß. Словарный запас такого язы-
ка — слова «кирпич», «бревно», «плита». Л выкрикивает эти слова,
а В подает нужный предмет. Ребенок может научиться такому языку от
взрослых путем непосредственной тренировки. Язык (2) уже предпо-
лагает усложнение первого языка, ибо здесь подручный знает наи-
зусть серии слов от «одного» до «десяти». По приказу «пять плит!» он
отправляется к месту их хранения, произносит слова от одного до
пяти, беря в каждом случае плиту, и относит плиты строителю А, В
языковой игре (3) вводятся собственные имена для строительных
объектов, в игре (4) подручный уже способен выполнить команды:
«эту плиту;», «плиту туда!» В (5) и (6) языках задаются вопросы:
«сколько плит?» и «что это?», и т. д. вплоть до наиболее усложненных
языков. Витгенштейн указывает: «Наш метод является чисто деск-
риптивным; те описания, которые мы даем, не являются даже и на-
меком на объяснения»1. При этом «мы тем не менее рассматриваем
описываемые языковые игры не как незаконченные части языка, но
как языки, законченные сами по себе, как законченные системы чело-
веческой коммуникации»2.
Введение «игр» также связывается с сознательным отказом Вит-
генштейна от поиска сущности языка, его единства. Свою задачу он
видел в описании различных языковых игр и тех «форм жизни»3, кото-
рые они воплощают. Каждая игра — это самодостаточная и автоном-
ная активность. Как неоднократно отмечалось многими исследовате-
лями, лингвистическая философия в трактовке Витгенштейна стано-
вится своеобразной сравнительной антропологией лингвистических
систем. «Философия,— писал он,— ни в коей мере не должна вме-
шиваться в актуальное использование языка; она в конце концов мо-
жет только описывать его. Ибо она также не может дать ему ка-
1 Wittgenstein L The Blue and Brown Books. N. Y., 1958. P. 125.
2 Ibid. P. 81.
3 Данный термин, очевидно, заимствован Витгенштейном из книги немецкого фи-
лософа и психолога Э. Шпрангера «Формы жизни» (1914).
154
кое-либо основание. Она оставляет все так, как оно есть»1. Он сле-
дующим образом формулирует свой девиз: «Не думай, а смотри!».
Применяя выражение «формы жизни», Витгенштейн чаще всего
лишь стремился подчеркнуть, что каждый человек владеет каким-либо
языком, и в этом человеческие существа согласуются между собой2.
Одним словом, он просто констатировал этот факт относительно «че-
ловеческой природы». Употребление языка, участие в языковых играх
является для него главным «естественным» отличием людей от жи-
вотных.
Иногда Витгенштейн таким образом использует понятие языко-
вых игр, что под ними можно подразумевать те исходные формы язы-
ка, начиная с которых человек в действительности использует язык.
Изучение «игр» в этом смысле представляет собой изучение первона-
чальных языков и показ пути их усложнения в ходе жизни. Однако в
целом генетический подход к языку никогда не был у Витгенштейна
преобладающим и детально им не разрабатывался. «Та картина, кото-
рую мы имеем в отношении языка взрослого, представляет язык как
неопределенную массу, причем его первоначальный язык окружен
дискретными и более или менее ясно очерченными языковыми игра-
ми, техническими языками»,— писал он3.
Теперь Витгенштейн допускает свою раннюю теорию в качестве
одной (достаточно упрощенной) из огромного множества языковых
игр. И при этом она отнюдь не показывает какую-то «сущность» язы-
ка. Распространение же этой модели на весь язык оказывает сковы-
вающее воздействие. «Этот идеал (то есть ранняя концепция логики
языка.— А.Г.), как мы думаем о нем, постоянен. Вы никогда не смо-
жете выйти за его пределы, вы должны всегда возвращаться обратно.
Нет ничего внешнего: во вне вы не сможете дышать. Откуда пришла
эта идея? Она вроде очков у нас на носу, через которые мы видим все,
на что посмотрим. Нам никогда не приходит в голову снять их... Чем в
более узком плане мы исследуем действительный язык, тем острее
становится конфликт между ним и нашим требованием. (Ибо кри-
1 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 49.
2 Витгенштейн, например, писал: «Итак, вы говорите, что согласие людей решает,
что истинно и что ложно? — Истинно и ложно то, что говорят человеческие существа.
И они согласуются в том языке, который используют. Это есть согласие не во мнениях,
но — в форме жизни» (Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 88).
3 Wittgenstein L The Blue and Brown Books. P. 81.
155
стальная чистота логики была, конечно, результатом исследова-
ния; она была требованием.)»1.
В литературе, посвященной проблеме логического анализа есте-
ственного языка, имеется немало сопоставлений концепции языко-
вых игр и некоторых новейших логико-семантических идей. В частно-
сти, имеют место попытки сблизить теоретико-игровую семантику
(Я. Хинтикка и др.) с позицией позднего Витгенштейна. Конечно, не
исключено, что именно эта позиция послужила одним из эвристиче-
ских факторов для возникновения указанной плодотворной семанти-
ческой теории. Все же имеющиеся сходства не должны заслонять и
различие двух подходов, приводить к неправомерной модернизации
концепции Витгенштейна. На такое различие указывает, например,
А.Л. Блинов. Согласно Витгенштейну, по его мнению, предложения
получают свое значение в пределах конкретных языковых игр, причем
это происходит обязательно в контексте их употребления людьми. В
семантике же предполагается, что предложение имеет значение неза-
висимо от той или иной семантической игры. «Мы видим, таким обра-
зом, что характер связи между значением языкового выражения и
структурными особенностями соответствующей игры в некотором
смысле противоположен для двух рассмотренных видов игр, и это, на
наш взгляд, решающий аргумент против сближения философско-ме-
тодологических предпосылок теоретико-игровой семантики и доктри-
ны "языковых игр11»2.
Конечно, языковые игры в концепции самого Витгенштейна —
это своеобразная абстракция, выполняющая, помимо всего прочего,
определенную методологическую функцию при анализе лингвистиче-
ской деятельности. Многочисленные примеры различных игр высту-
пают реализацией излюбленного им метода «мысленных эксперимен-
тов». Однако некоторые последователи Витгенштейна абсолютизи-
ровали значение языковых игр, полагая, что каждая индивидуальная
или общественная активность, а именно право, история, наука, этика,
политика и религия, обязательно имеет свою особую «грамматику» и
что основная задача философа-аналитика состоит в том, чтобы опи-
сывать эти различные «грамматики» и следить, чтобы они не смеши-
вались3.
1 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 45—46.
2 См.: Логический анализ естественного языка. Вильнюс, 1982. С. 14.
3 Впрочем, тексты Витгенштейна дают обильную почву для подобного рода интер-
претаций. Например, он писал: «Грамматика говорит, какого вида объектом нечто яв-
ляется. (Теология как грамматика.)» (Wittgenstein L Philosophical Investigations.
P. 116).
156
Такой буквальный подход к витгенштейновской идее вызвал к
жизни целый жанр философско-аналитической литературы, не отли-
чающийся, однако, ни особой оригинальностью точек зрения, ни пло-
дотворностью решений.
Рассмотрению языка как совокупности отдельных игр мешает, по
мнению Витгенштейна, присущее нам стремление ко всему общему.
В науках, подчеркивал он, по существу повторяя известную концеп-
цию неокантианцев Баденской школы, мы привыкли генерализиро-
вать, сводить конкретное содержание различных явлений к общим за-
конам. Существует также тенденция к общему, коренящаяся в приня-
тых нами формах фиксации опыта. Если нам, скажем, показать раз-
личные листья, то мы обычно думаем, что после этого у нас остается
образ листа вообще. Эта тенденция и приводит к тому, полагал Вит-
генштейн, что мы часто смешиваем различные языковые игры. Тради-
ционная метафизика усугубляет эту тенденцию, превращает ее в спе-
цифическое «заболевание».
Позиция Витгенштейна по этому вопросу была в дальнейшем усо-
вершенствована лингвистическим аналитиком Райлом в его теории
«категориальных ошибок»1. Он приводил случаи «незаконного» пе-
реноса терминов, описывающих материальные проявления, на прояв-
ления «духа». Это, на его взгляд, было ошибочным прочтением тер-
минов одной языковой игры в терминах другой. «Различия между фи-
зическим и ментальным,— писал он,— были, таким образом, пред-
ставлены как различия в пределах общего каркаса категорий: "вещь",
"вещество", "атрибут", "состояние", "процесс", "изменение", "причи-
на" и "действие". Сознания являются вещами, но вещами, отличными
от тел; ментальные процессы являются причинами и действиями, но
иными, чем телесные движения. И так далее. Нечто вроде того, как
если бы иностранец ожидал, что университет представляет собой от-
дельное здание типа колледжа»2.
Витгенштейн и в поздний период своей деятельности остается но-
миналистом3.
1 См.: Ryle G. The Concept of Mind. Harmondsworth, 1978.
2 Ibid. P. 20—21. Имеется в виду тот факт, что старейший в Англии Оксфордский
университет представляет собой конфедерацию автономных колледжей, а нс особую
централизованную организацию, имеющую свое помещение.
3 Но традиционный номинализм его уже не совсем устраивает: «Номиналисты
ошибаются, интерпретируя все слова как имена, и поэтому они в действительности не
описывают их использование, а только дают, так сказать, эскиз подобного описания».
(Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 118).
157
Он признает только весьма специфическое общее для всех языко-
вых игр — «семейное сходство». Это сходство имеется и для самого
слова «игра». Поэтому-то шахматная игра и не может воплощать в
себе общие свойства всех игр. Не может этого делать и любая другая
игра. Витгенштейн говорит о «семейных сходствах» по аналогии со
сходством тех или иных черт внешности членов семьи. Некоторые из
них могут иметь одни общие черты, другие — иные общие черты, а
есть члены семьи, у которых вообще нет сходных черт. Такой подход он
применяет ко всем словам, и в частности к слову «число»: «Почему
мы нечто называем "числом"? Ну, вероятно, потому, что оно имеет не-
посредственное отношение к различным вещам, которые до этого на-
зывались "числом". И можно сказать, что это устанавливает косвен-
ное отношение к другим вещам, которые мы называем этим именем»1.
Идею «семейных сходств» наглядно поясняет схема, предложен-
ная американским философом Р. Фогелином2:
A
В
С
D
о2
В
С
D
Е
03
С
D
Е
F
о4
D
Е
F
А
05
Е
F
А
В
о6
F
А
В
С
От О| до О6 представлены объекты, свойства которых обозначены
различными буквами. Здесь каждый объект имеет три сходных свой-
ства с двумя объектами этой группы, однако общего всем этим объек-
там свойства нет. Но все данные объекты тем не менее суть члены од-
ной «семьи». Таким образом, в указанной схеме мы имеем дело с мно-
жеством не связанных тесно языковых игр. И поэтому, как это ни не-
ожиданно, вполне законно сопоставить такое понимание с
«атомизмом» фактов в «Логико-философском трактате».
С помощью концепции «семейного сходства» Витгенштейн недву-
смысленно выступил против классической («локковской»)теории об-
разования общих понятий. Объектом его критики были и гносеологи-
ческие основания математического реализма Фреге и раннего Рассе-
ла. Витгенштейн также полагал, что если бы Шпенглер в свое время
использовал нечто вроде принципа «семейных сходств», то его типо-
логия культур оказалась бы более удачной.
1 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 32.
2 См.: Fogelin RJ. Wittgenstein. L, 1976. P. 118.
158
В своих поздних текстах Витгенштейн постоянно и настойчиво
подчеркивает, что попытки искать общее, сущностное в применении
того или иного термина запутали философов и, естественно, вызвали у
них недооценку единичных, конкретных случаев. Он возмущается тем,
что когда Сократ в «Теэтете» спрашивает, что такое «знание», он при
этом с пренебрежением относится к перечислению отдельных случаев
знания. На самом же деле, полагает австрийский философ, существу-
ет множество («семья») случаев, к которым применимо слово «зна-
ние».
Общей теории значения, по мнению Витгенштейна, быть не мо-
жет, ибо слова имеют только те значения, которые мы им даем в про-
цессе их употребления. Они имеют много разных значений в зависи-
мости оттого, в какие «игры» мы с ними играем. В качестве примера
Витгенштейн любил приводить слово «точность», значение которого
меняется в зависимости от наших конкретных задач. Он говорил: «Что
обозначает слово "точность"? Подлинная ли это точность, если вас
ожидают к чаю в 4.30 и вы приходите, когда правильные часы отбива-
ют 4.30? Или же точностью будет, если вы начнете открывать дверь в
тот момент, когда часы начнут бить? Но как определить этот момент, а
также "начало открывания двери"? Верно ли будет сказать: "Трудно
выразить, что есть подлинная точность, ибо все, что мы знаем, есть
только грубое приближение".»1
Витгенштейн допускает, что и его понятие «игры» является рас-
плывчатым и нечетко очерченным. Но в этом он не видит никакого не-
достатка. Он не согласен с Фреге, который сравнивал то или иное по-
нятие с областью и говорил, что область с неопределенными граница-
ми уже не может называться областью. Витгенштейн пишет: «Но раз-
ве будет бессмысленно сказать: "Станьте приблизительно там"?
Предположим, что я стоял с кем-то на городской площади и сказал
это. Говоря это, я отнюдь не провожу какую-либо границу, но, вероят-
но, указываю своей рукой — как если бы я определял конкретное
место. И как раз таким образом можно объяснить кому-либо, чем яв-
ляется игра. Кто-либо предлагает примеры и надеется, что их поймут
определенным образом»2.
В текстах Витгенштейна подчеркивается, что само употребление
некоторого слова, а следовательно, его значение, может быть понято
только в соответствующем лингвистическом или «социальном» кон-
тексте. При этом квалификация слова (или предложения) в качестве
1 Wittgenstein L The Blue and Brown Books. P. 81.
2 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 34.
159
лишенного значения возможна опять-таки только в определенном
контексте. Но эта интересная идея австрийского философа им по су-
ществу лишь декларируется, ибо сама «социальность» контекста
употребления слов в его работах совершенно не раскрыта.
Отождествляя значение, осмысленность слов и выражений с их
употреблением, Витгенштейн имел в виду именно правильное, стан-
дартное для определенных языковых игр употребление. Однако, как
показали последующие исследования, подобное отождествление «де-
лает необъяснимыми как феномен усвоения языка, так и возможность
усвоения нового знания посредством языка, возможность осмыслен-
ного использования одного и того же языка в разных (новых) ситуаци-
ях и контекстах для выражения разных, в том числе несовместимых,
представлений носителей естественного языка о мире»1.
С понятием языковых игр связано и «доказательство от парадиг-
мы», а также «контрастная теория значения», которые были разрабо-
таны лингвистическими аналитиками 50-х годов на основе некоторых
витгенштейновских высказываний. В «Голубой книге», в частности,
использование слов без допущения возможности их антитезиса ква-
лифицируется как ошибочное и «метафизическое». Этот подход име-
ет место и в других текстах Витгенштейна. Например, он писал:
«Нельзя сказать, что я знаю о том, что у меня зубная боль, если нельзя
сказать, что я могу не знать о своей зубной боли»2.
В противоположность своей старой позиции, Витгенштейн в позд-
ний период считал неверным полагать, будто в философии мы рас-
сматриваем некий точный, по сравнению с обыденным, язык. Это соз-
дает иллюзию, что мы можем «улучшить» обыденный язык, а ведь с
ним на самом деле «все в порядке». Любые слова нужно рассматри-
вать как инструменты (ср. с прагматистским инструментализмом
Дж. Дьюи) и характеризовать их по их использованию. Слова обыден-
ного языка часто сравниваются Витгенштейном с различными инстру-
ментами, лежащими в корзине, а также с кранами в кабине локомоти-
ва. В обоих случаях необходимо умение, знание правил, чтобы пользо-
ваться этими предметами.
Все же само понятие «обыденный язык», несущее большую на-
грузку в поздних текстах Витгенштейна и особенно в работах его по-
следователей, на деле весьма противоречиво. Ведь обыденный язык
1 Павилёнис Р.И. Проблема смысла. М., 1983. С. 30.
2 Wittgenstein L Notes for Lectures on «Private Experience» and «Sense
Data»//The Philosophical Review, 1968. V. 11. N. 3. P. 319.
160
для них — это не просто обычное словоупотребление, которое часто
приводит к путанице. Иначе, как отмечает В.А. Лекторский, он не
обеспечивал бы критерий смысла1. Многозначность и неясность это-
го понятия вынужден был признать даже аналитик Райл в своей про-
граммной статье «Обыденный язык»2.
Витгенштейн мастерски показывает, что обучение (по существу
«тренировка») человека языку происходит с использованием всевоз-
можных наказаний, поощрений и прочих стимулов. Описывая такие
случаи, он использует оригинальный прием: рассматриваются вооб-
ражаемые племена, у которых язык сводится к той или иной конкрет-
ной языковой игре. Затем он показывает, что возможность перевода
слов таких племен на родной язык зависит от той роли, которую эти
слова играют в жизни племени. Однако при последовательном приме-
нении такого подхода мы приходим к точке зрения лингвистической
относительности: в случае несовпадения ролей перевод языка племе-
ни на наш язык оказывается принципиально невозможным. Как заме-
чал Витгенштейн, если бы львы могли говорить человеческим язы-
ком, мы все равно не были бы способны их понять.
С понятием языковых игр тесно связано у Витгенштейна веденное
им различение «глубинной» и «поверхностной» грамматики. Послед-
няя относится к способу употребления некоторого слова в образова-
нии определенного предложения в соответствии с установленными
правилами синтаксиса. Первая же относится к языковым играм или
«формам жизни», в которых это слово применяется. Хотя указанное
разделение напоминает известную концепцию «глубинных» и «по-
верхностных» структур Н. Хомского, совпадение тут чисто внешнее.
«Глубинная» грамматика Витгенштейна принципиально не может
быть формализована. Разделяющий позицию Хомского американский
лингвист Дж. Кац отмечает, что поздний Витгенштейн, критиковав-
ший логицистскую программу Фреге, «не отличал подобные попытки
построить логически совершенный искусственный язык от попыток
построить лингвистическую теорию естественного языка, которая
способна представить логическую структуру, находящуюся под по-
верхностной грамматикой его предложений»3.
1 Лекторский В.А. Аналитическая философия сегодня//Вопросы философии.
1971. №2. С. 95.
2 См.: Ryle G. Ordinary Language//Philosophy and Ordinary Language. Urbana,
1960.
3 Katz J. Linguistic Philosophy. L, 1972. P. 14.
11-5739 161
Одним из главных понятий «глубинной» грамматики оказывается
у Витгенштейна понятие «критерий». В «Голубой книге» он отличает
критерии от «симптомов». Здесь он пишет: «Если медицинская наука
называет ангину воспалением, вызванным определенной бациллой, и
мы в конкретном случае спрашиваем: "Почему вы говорите, что у это-
го человека ангина?", тогда ответ: "Я нашел бациллу того-то и того-то
в его крови" — даст нам критерий, или то, что мы можем назвать "оп-
ределяющим критерием" ангины. Если же, с другой стороны, ответ
был: "Его горло воспалено", то это могло бы дать нам симптом анги-
ны. Я называю "симптомом" феномен, в отношении которого опыт на-
учил нас, что он совпадает тем или иным образом с феноменом, яв-
ляющимся нашим определяющим критерием. Поэтому сказать: "У че-
ловека ангина, если у него обнаружена эта бацилла" — значит выра-
зить тавтологию или же дать неточное определение ангины. Но
сказать: "У человека ангина тогда, когда у него воспалено горло" —
значит выдвинуть гипотезу»1.
Таким образом, когда выражение типа «если jc, то у» является эм-
пирической истиной, то х есть симптом («гипотеза»), а не критерий.
Когда же «если jc, то у» истинно в силу чисто лингвистической конвен-
ции, то *уже будет критерием2. Критерии руководят суждениями, ут-
верждениями, повествовательными высказываниями, всем тем, что
может быть истинным или ложным, правильным или неправильным.
В то же время критерии не были бы применимы, скажем, в языке, со-
стоящем из одних повелений или приказов. Витгенштейновские кри-
терии не работают и в отношении целого ряда других языковых форм,
и поэтому абсолютизация роли этого понятия самим австрийским фи-
лософом и особенно некоторыми его последователями вступает в про-
тиворечие с его призывами к изучению всего многообразия использо-
вания слов и выражений.
Согласно Витгенштейну, критерий с помощью соглашения, дефи-
ниции или правила языка связан с той вещью или явлением, критери-
ем которых он оказывается. В работах западных исследователей отме-
чается, что критерии в поздней концепции Витгенштейна описывают
характер взаимоотношения языка и мира. Многие витгенштейнианцы
в последнее время даже утверждают, что с помощью понятия крите-
рия Витгенштейн будто бы хотел описать новый, неизвестный класси-
1 Wittgenstein L The Blue and Brown Books. P. 25.
2 См.: CanfieldJ. V. Wittgenstein. Language and World. Amherst, 1981. P. 32.
162
ческой логике вид логической связи. В соответствии сданной точкой
зрения, критериальные отношения занимают как бы промежуточное
положение между индукцией и дедукцией. Они сильнее простых ин-
дуктивных свидетельств, ибо в их основе лежат концептуальные
связи. В то же время критериальные отношения не обладают аподик-
тичностью дедуктивного вывода.
Отношение критерия и того, критерием чего он выступает, не яв-
ляется аналитическим. Не будет противоречием сказать, что в случае
присутствия критерия определяемого им явления может и не быть.
Витгенштейн пишет в «Голубой книге»: «Частью грамматики слова
"стул" является то, что это мы называем "сидеть на стуле" »{. Следова-
тельно, показать критерий какого-либо явления — это значит пока-
зать фрагмент грамматики этого явления. Понятие критерия вводится
Витгенштейном для того, чтобы продемонстрировать, какую роль иг-
рают языковые конвенции в процессе обучения значению слов. Этот
конвенционализм в определенном смысле и составляет его ответ тео-
рии остенсивного обучения.
Все же следует помнить, что, согласно позднему Витгенштейну,
когда мы говорим об использовании того или иного слова (а следова-
тельно, и о его значении), мы выбираем лишь одно из целой «семьи»
возможных использований. Это относится и к понятию критерия. Та-
кой подход затрудняет адекватную оценку витгенштейновских поня-
тий, делает их, казалось бы, неуловимыми для критики, создает вокруг
них «защитный пояс». Но на самом деле это достигается в результате
ослабления содержательности и точности многих центральных поня-
тий его концепции. Сказанное справедливо и в отношении такого по-
нятия, как «языковая игра». За всем этим скрывается абсурдная по
своей сути боязнь любого рода обобщений, накладывающая отпеча-
ток на всю позднюю деятельность Витгенштейна. С другой стороны,
весьма проблематично, чтобы с помощью понятия критерия австрий-
скому философу и в самом деле удалось показать тесную связь языка с
реальностью. Решение, предлагаемое Витгенштейном, не выводит
его за границы чисто лингвистической сферы: «Связь между "языком
и реальностью" осуществляется с помощью определений слов, а эти
определения принадлежат грамматике, так что язык остается изоли-
рованным и автономным»2.
1 Wittgenstein L The Blue and Brown Books. P. 24.
2 Wittgenstein L Philosophical Grammar. P. 97.
163
4. Проблема достоверности
Специальный интерес представляют материалы, которые были
подготовлены Витгенштейном в последние полтора года его жизни
(некоторые фрагменты были продиктованы им всего за несколько
дней до смерти1 ). Таким образом, в текстах, впоследствии получивших
название «О достоверности», мы имеем дело с «самым поздним» Вит-
генштейном. Однако эти тексты интересны не только тем, что они за-
вершают сложнейшую и противоречивую философскую эволюцию
Витгенштейна, но и рядом моментов, характеризующих некоторые
особенности современной философии в целом и аналитической тради-
ции в частности.
Непосредственным поводом для написания заметок послужила
статья Н. Малкольма «Защищая здравый смысл» (1949)2. В ней
Малкольм критиковал знаменитые статьи Дж.Э. Мура — «Защита
здравого смысла» и «Доказательство внешнего мира>А Витгенштейн
также давно вынашивал идею дать ответ на идеи Мура, сформулиро-
ванные в этих статьях. Поскольку в тексте Витгенштейна постоянно
ведется полемика с Муром и даже используются некоторые его при-
меры, имеет смысл кратко остановиться на концепции этого англий-
ского философа.
В указанных статьях Мур перечисляет ряд предложений, свое
знание которых он считает полностью достоверным (например, «в
настоящее время существует живое человеческое тело, которое явля-
ется моим телом»; «это тело родилось в определенное время в про-
шлом»; «ив тот момент, когда оно родилось, также существовало
много других вещей» и т. д.). Мур, однако, признавал, что данные
предложения весьма трудны для анализа, ибо они разлагаются на
фразы, описывающие «чувственные данные», в отношении интерпре-
тации которых нет единодушия. С другой стороны, каждый человек
знает с достоверностью, что и все другие люди знают перечисленные
предложения-трюизмы. И такое знание, по Муру, как раз и является
неопровержимым «здравым смыслом». Полемизируя со знаменитым
кантовским «Опровержением идеализма» и доказательством внеш-
них вещей, Мур предложил свой вариант такого доказательства. Он
утверждал, что указав на свои руки, он тем самым доказал существо-
1 Л. Витгенштейн умер в 1951 г. после тяжелой и продолжительной болезни.
2 См.: Malcolm N. Defending Common Sense//Philosophical Review. 1949. V. LVIII.
№ 3 (345).
3 См.: Moore G.E. Pholosophical Papers. L, 1959.
164
вание внешнего мира. В таком доказательстве, как он полагал, соблю-
дены следующие необходимые условия: 1 ) здесь посылка отлична от
заключения; 2) он знает, что то, о чем в ней говорится, имеет место;
3) заключение («существование внешнего мира») здесь якобы дейст-
вительно следует из посылки. Мур был уверен в том, что его позиция
полностью разбивает скептицизм в отношении существования внеш-
него мира1.
Другого мнения придерживался Витгенштейн. Он полагал, что
муровское «указание на руки» бессмысленно в полемике со скептика-
ми. С его точки зрения, утверждения скептиков (фактически речь идет
о субъективных идеалистах берклианского толка) носят чисто теоре-
тический характер и не затрагивают практическую сторону дела. По-
этому аргументы с позиции здравого смысла бьют мимо цели. Муру не
удалось доказать правоту реализма, равно как и скептикам не удалось
обосновать идеализм.Их спор есть спор логический (в широком смыс-
ле слова); поставленные ими проблемы не требуют какого-либо спе-
циального обоснования. Не существует такого способа проверки, ко-
торый удостоверял бы соответствие наших убеждений реальности. И
реализм, и идеализм отвечают на «псевдовопросы».
В рассматриваемой работе, как ни в каком другом позднем тексте
Витгенштейна, на первое место выходит принцип контекстуализма и
системности. Он считает, что сами эпистемологические понятия «со-
мнение» и «достоверность» могут возникать только в определенных
системах2. Но такими «системами» как раз и выступаютдля него язы-
ковые игры. Он, к примеру, пишет: «Вопрос идеалиста будет чем-то
вроде: "Какое право имею я не сомневаться в существовании моих
рук?"... Но тот, кто задает подобный вопрос, не замечает того факта,
что сомнение относительно существования работает только в языко-
вой игре. Поэтому мы должны сначала спросить следующее: каково
будет подобное сомнение?»3. Таким образом, перенося проблему
«сомнения-достоверности» из, так сказать,традиционного философ-
ского контекста в «практический», Витгенштейн (как, впрочем, и
неореалист Мур) по-прежнему остается в сугубо лингвистической
1 Кстати, малкольмовская критика Мура сводится к утверждению о том, что тот,
несмотря на свои заявления, использует фразу «я знаю» не в общепринятом значении и
не при обычных обстоятельствах. Здесь Мал кол ьм использовал характерный для лин-
гвистических философов «аргумент от парадигмы», и в этом он особенно близок своему
учителю Витгенштейну.
2 В текстах «О достоверности», между прочим, идет скрытая полемика и с картези-
анским «методологическим сомнением».
3 Wittgenstein L On Certainty. Oxford, 1969. P. 5.
165
сфере. И это обстоятельство необходимо иметь в виду, ибо современ-
ное витгенштейнианство усиленно старается подчеркнуть «практиче-
скую» направленность концепции позднего Витгенштейна, превозно-
сит ее отличие от других разновидностей неопозитивистских концеп-
ций.
У Витгенштейна действительно много говорится о всевозможных
«действиях». В указанной работе он даже с одобрением цитирует ге-
тевское «В начале было дело». Для осуществления же практических
действий необходимо овладение соответствующей «техникой». Знать
что-либо — значит уметь делать что-либо. Поэтому муровское «я
знаю» оказывается совершенно пустой, излишней во многих контек-
стах констатацией, своеобразным субъективным придатком. Сомне-
ние как разновидность практического действия тоже требует овладе-
ния «техникой» и «правилами»1. Языковая игра в сомнение возможна
только в случае наличия чего-то несомненного, достоверного. Сход-
ным образом можно ошибаться в какой-либо игре, если только в ней
мы способны что-то делать правильно: «Для того, чтобы ошибаться,
человек уже должен судить в согласии с человечеством»2. В против-
ном случае понятие ошибки окажется бессмысленным.
Что же служит «достоверным», опорным моментом в витгенштей-
новских языковых играх? Это группы предложений, в отношении ко-
торых не может быть сомнения. И философ, по Витгенштейну, дол-
жен быть пассивным регистратором предложений подобного рода.
«Можно представить,— пишет Витгенштейн,— что некоторые
предложения, имеющие форму предложений опыта, затвердели и ста-
ли функционировать в качестве канонов для таких предложений опы-
та, которые не затвердели, а остались текучими; и что это отношение
изменилось со временем, так что текучие предложения сами затверде-
ли, а твердые стали текучими»3. В то же время, «когда мы впервые на-
чинаем чему-либо верить, то этим является не отдельное предложе-
ние, а целая система предложений»4. «То есть вопросы, которые мы
ставим, и наши сомнения зависят от того, что определенные предло-
жения освобождены от сомнения, что они словно петли, на которых
вращаются эти вопросы и сомнения»5.
1 Речь идет о «правилах», относящихся к сфере «глубинной грамматики».
2 Wittgenstein L On Certainty. P. 23.
3 Ibid. P. 15.
4 Ibid. P. 21.
5 Ibid. P. 44.
166
Такие предложения, как и сами языковые игры, не нуждаются в
обосновании и не могут быть оценены рациональными средствами.
Они просто есть и входят в наши «формы жизни». Витгенштейн пи-
шет: «...я хочу рассматривать человека как животное, как примитив-
ное существо, наделенное инстинктом, а не рассудительностью. Как
существо, находящееся в примитивном состоянии. Тогда достаточно
любой логики в качестве простейшего средства общения»1. Никакое
отдельное событие не может опровергнуть такие парадигматические
предложения. В их число могут входить и муровские «трюизмы».
Только к ним уже не применимо выражение «я знаю»: «...способен ли
кто-нибудь перечислить, что он знает(подобно Муру)? Я полагаю, что
этого нельзя сделать сразу же подобным образом. Ибо иначе выраже-
ние "я знаю" окажется неправильно употребленным. И в силу такого
неправильного употребления кажется, что обнаруживается необыч-
ное и крайне важное духовное состояние». И далее: «Мы просто не
видим, насколько специфично использование "я знаю"»2.
Итак, Витгенштейн по существу возвращается к критикуемой им
позиции. «Практический» подход, оказывается, и не выводил его за
пределы языка3. Поэтому, создавая, так сказать, «лингвистическую
праксеологию», Витгенштейн очень далек от понимания подлинной
материально-практической деятельности людей и ее решающей роли
в познании. Достоверность (но не истинность!) наших знаний о внеш-
нем мире он сводит к вере в предложения, которые тесно вплетены в
ткань отдельных языковых игр и служат опорой для этих последних.
Именно такие предложения формируют, согласно Витгенштейну,
наше представление о реальности. Он пишет: «Предложения, описы-
вающие данную картину мира, могли бы относиться к некоторой раз-
новидности мифологии. И их роль близка к роли правил игры; и этой
игре можно обучиться чисто практически, не зная самих правил»4.
Отталкиваясь от этого, он и объявляет бессмысленным спор об их со-
ответствии реальности. Сами понятия истинности и ложности, пра-
вильности и неправильности растворяются в контексте бесчисленных
языковых игр. Все это придает позиции Витгенштейна релятивист-
скую, агностическую окраску, на что он и сам обращает внимание:
«Не трудно ли отличить те случаи, в которых я не могу ошибиться, и
те, в которых я едва ли ошибаюсь? Всегда ли ясно, к какому типу при-
1 Wittgenstein L On Certainty. P. 62.
2 Ibid. P. 2, 3.
3 «Слова и есть дела»,— признавался Витгенштейн (Wittgenstein L Culture and
Value. P. 46).
4 Wittgenstein L On Certainty. P. 15.
167
надлежит некоторый случай? Я думаю, нет»1. Такая философия со-
держит в себе источник своего собственного разрушения.
Радикальный лингвистический идеализм «самого позднего» Вит-
генштейна уничтожает характерные для логического позитивизма
границы между априорными аналитическими предложениями логи-
ки и математики и эмпирическими предложениями, приравнивает
предложения науки к предложениям здравого смысла. Не случайно
австрийский философ почувствовал некоторую близость своих воз-
зрений к прагматизму: «Итак, я хочу сказать нечто, звучащее как
прагматизм. Здесь я оказался лицом к лицу с некоторым мировоззре-
нием»2.
5. Философия математики
Новая концепция языка в поздний период отнюдь не привела Вит-
генштейна, как можно было бы ожидать, к отказу от исследования
проблем философии математики, начатого им еще в ранние годы. На-
оборот, определенным стимулом для него в этом отношении послужи-
ло знакомство с идеями интуиционистской математики. Немаловажен
здесь тот факт, что Витгенштейн в свое время получил инженерное
образование и специально занимался прикладной математикой. По-
этому ему импонировала конструктивистская тенденция в интуицио-
низме. В особенности повлияла на Витгенштейна наиболее радикаль-
ная версия интуиционизма, с которой он познакомился в Вене в
1928 г. на лекции Л. Брауэра «Математика, наука, язык». Предпола-
гают даже, что он беседовал с самим Брауэром. Витгенштейн воспри-
нял его критическое отношение к формализму Гильберта, а также к
любым попыткам разработки метаматематики. К тому же в 30-е годы
австрийский философ довольно низко оценивал значение знаменитой
гёделевской теоремы о неполноте3. В то же время у него не обнаружи-
1 Wittgenstein L On Certainty. P. 89.
2 Ibid. P. 54.
3 Б. Слейтер отмечает: «Логицисты считали, что математика в этом смысле своди-
ма к логике: если даны аксиомы и процедуры логики, а также определения математиче-
ских терминов, то тогда может быть дедуцирована вся математика. Поэтому витген-
штейновская атака на эту идею заключалась не в том, чтобы на манер Гёделя показать,
что эта программа не может быть доведена до конца, но в том, что в определенном смыс-
ле она даже не может быть начата. Ибо основанием, на котором, согласно расселовской
схеме, следовало обосновать математику, была нелогика, или же не только логика; она
в скрытом виде содержала центральные части самой математики — определения мате-
матических терминов» (Slater B.N. Wittgenstein's Later LogicZ/Philosophy. 1979. V. 54.
N. 208. P. 206).
168
вается какого-либо влияния иррационалистической «философии ин-
туиционизма».
Конечно, интуиционистские идеи в определенной степени были
созвучны и некоторым положениям, содержащимся в «Трактате».
Однако общее понимание математики Витгенштейном тогда еще зна-
чительно отличалось от его более поздней позиции. Трактовка мате-
матических предложений как обозначающих равенства, а математи-
ческого метода — как метода подстановки мало чем напоминает ин-
туиционистский подход. И тем не менее уместно вспомнить в целом
конструктивистскую идею «общей формы высказываний», а также
применение этой формы и понятия операции к проблеме порождения
натуральных чисел. Что же касается более широкого подхода к языку
в контексте деятельности, то этот новый взгляд Витгенштейна был до-
вольно близок интуиционистскому взгляду на математику как сферу
субъективного творчества ученого. Впрочем, справедливости ради
следует оговориться, что сам основатель интуиционизма Брауэр явно
недооценивал роль естественного языка. И делал он это на том осно-
вании, что язык будто бы построен исключительно на законах класси-
ческой логики.
В течение нескольких лет (с 1937 по 1945 г.) Витгенштейн вел не-
сколько тетрадей, посвященных философским проблемам математи-
ки. Это он делал параллельно с подготовкой своего главного труда
позднего периода — «Философских исследований». Извлечения из
пяти тетрадей были изданы в 1956 г. под названием «Заметки по осно-
ваниям математики». Сам Витгенштейн едва ли готовил эти материа-
лы к публикации. В 1976 г. вышла новая примечательная публикация
по витгенштейновской философии математики. На основе сохранив-
шихся записей четырех его учеников были более или менее адекватно
восстановлены тексты тридцати одной лекции, прочитанных Витген-
штейном в 1939 г. Этот материал проливает дополнительный свет на
основной замысел и мотивы его поздних исследований по философии
математики. Любопытно, что в тексте воспроизводится полемика
Витгенштейна с известным математиком A.M. Тьюрингом, присутст-
вовавшим на его лекциях в Кембридже.
Главной темой своих лекций Витгенштейн объявил основания
математики. При этом он с самого начала поставил вопрос о том,
правомерно ли заниматься этим предметом нематематику, философу.
Он считал, что многие из тех, кто философствует на данную тему,
обычно забегают вперед, стремятся делать всевозможные предсказа-
ния и рекомендации. Витгенштейн подчеркивал, что сознательно по-
старается избежать такого подхода и вообще не будет вмешиваться в
конкретные дела математиков, в особенности в их вычисления. Могут
169
подумать, продолжает он, что я предложу если и не новые вычисле-
ния, то новую интерпретацию математических вычислений. Но и это
не соответствует поставленной цели. «Я собираюсь говорить об ин-
терпретации математических символов, но я не предложу новой ин-
терпретации»1. Возможно все же, считал Витгенштейн, что будут вы-
двинуты какие-то новые интерпретации, но это будет сделано лишь
для того, чтобы поставить их радом со старыми интерпретациями и пу-
тем сравнения показать произвольный, конвенциональный характер и
тех, и других.
По мнению Витгенштейна, философ только в том случае имеет
право говорить о математике, если его занимают специфические про-
блемы, возникающие в связи с употреблением таких слов повседнев-
ного языка, как «доказательство», «число», «серия», «порядок» и
некоторые другие. Все эти трудности и головоломки могут быть про-
иллюстрированы на материале элементарной математики. Таким об-
разом, витгенштейновский «философ математики» должен в некото-
ром смысле разделять задачи «лингвистического философа». Витген-
штейн также предупреждает, что он в своем курсе отнюдь не собира-
ется говорить об «основаниях математики» как особом разделе
математической науки, разработанном, в частности, Расселом. Он бу-
дет говорить скорее о самом слове «основания» во фразе «основания
математики».
Какие же «неполадки» в языке математики имеет в виду Витген-
штейн? Те, которые появляются в результате смешения выражений,
выполняющих разные функции в языке. Это, например, происходит с
понятием «число», все употребления которого рассматриваются, как
правило, по одной схеме. «Поэтому,— указывает Витгенштейн,— я
сделаю ударение на различии между вещами там, где обычно делают
ударение на сходствах, хотя это также может вести к недоразумени-
ям»2. Исследование по философским проблемам математики должно,
по словам Витгенштейна, привлечь внимание к хорошо известным, а
иногда даже к тривиальным фактам, которые зачастую выпадают из
нашего поля зрения. Такие факты должны по своей сути быть бес-
спорными, а если в их отношении все же возникнет спор, то от них
придется отказываться.
1 Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics. Ithaca, 1976. P. 13.
2 Ibid. P. 15.
170
И наконец, Витгенштейн отмечает конструтивистскую сущность1
своего подхода к математическому знанию: «Говорят о математиче-
ских открытиях. Я снова и снова пытаюсь показать, что то, что называ-
ется математическим открытием, намного лучше было бы назвать ма-
тематическим изобретением»2.
Одной из проблем, которая занимала Витгенштейна в «Заметках
по основаниям математики», была проблема понимания особенно-
стей математического доказательства. В своих рассуждениях на эту
тему он сразу же уточняет, что под доказательством будет понимать
некоторую последовательность предложений. Математик с помощью
доказательств отнюдь не обязан определять сущность тех или иных
математических положений. Доказательство есть как бы образ кон-
кретного «математического эксперимента». Поэтому математикам
совершенно необходимо пользоваться наглядными схемами и диа-
граммами. Из своих ранних занятий механикой и инженерным делом
Витгенштейн вынес убеждение в важности наглядности и образности
математических построений. Фигуры, которые иллюстрируют те или
иные решения, по его мнению, как бы снимают нашу слепоту, демон-
стрируют новые измерения пространства. Это аналогично тому, «как
если бы мухе показали выход из бутылки».
Мы участвуем в производстве математических доказательств и
принимаем их результаты. И это, согласно Витгенштейну, следует
трактовать как некоторый обычай или ритуал, как факт нашей «есте-
ственной истории». То, что математические положения могут быть
истинными или ложными, теперь рассматривается Витгенштейном по
аналогии с шахматной игрой, в которой возможен как выигрыш, так и
поражение. Впрочем, он подчеркивает, что могут быть игры, похожие
на шахматы, но в которых правило выигрыша или поражения не имело
бы места.
Когда спорят о доказуемости или истинности какого-либо положе-
ния, то сразу же следует установить, в какой математической системе
это имеет место. Причем речь идет не об учете разных уровней или ти-
пов математических понятий, а о разграничении математических сис-
тем как по существу различных и тесно не связанных сфер деятельно-
сти математиков. В таком случае предполагается, что для каждой по-
1 Когда у нас речь идет о витгенштейновском «конструктивизме», то этим не пред-
полагается близость или знакомство австрийского философа с работами представите-
лей российской школы конструктивной математики.
2 Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics. P. 22.
171
добной сферы имеются свои специфические (и достаточно жесткие)
«правила игры».
Витгенштейн терпимо относится к противоречиям в математиче-
ских системах. Распространенный среди многих математиков (осо-
бенно формалистов) страх перед противоречиями он квалифицирует
как предрассудок. Он пишет: «Допустим, что я доказываю недоказуе-
мость (в расселовской системе) Р. Затем с помощью этого доказа-
тельства я доказал Р. Поэтому, если это доказательство принадлежит
расселовской системе, то в этом случае я сразу доказал, что оно одно-
временно принадлежит и не принадлежит расселовской системе. Вот
что получается в результате построения таких предложений.— Но
здесь же противоречие! Да, здесь противоречие. А разве оно приносит
здесь какой-либо вред?»1 Витгенштейн предупреждал, что ни в коем
случае нельзя рассматривать противоречия по аналогии с «непра-
вильными предложениями». Вполне возможно построить логическую
систему не на основе тавтологий, а на основе противоречий. Утвер-
ждая это, Витгенштейн в определенном смысле предвосхитил развер-
нувшуюся в последние годы разработку систем паранепротиворечи-
вой логики2.
Однако интересная идея о противоречиях ослабляется у Витген-
штейна психологизацией проблемы, его чисто антропологическим по-
ниманием роли противоречий: «Подобное противоречие интересно
только потому, что оно мучило людей, и потому, что это показывает,
сколь мучительные проблемы могут вырастать из языка, а также —
какие виды вещей способны мучить нас»3. Он, таким образом, недо-
оценил важную эвристическую функцию противоречий, возникающих
в математическом исследовании. Допустимость противоречий в его
концепции на деле сводится к допустимости некоторых «мучитель-
ных» для математиков «форм жизни», специфических языковых игр.
Доказательство, по Витгенштейну, само показывает, что именно
следует рассматривать в качестве критерия доказуемости. Оно всегда
есть часть определенной системы, определенной игры, в которой ис-
пользуется некоторое предложение. Неспособность математиков по-
нять это, неумение стать на более широкую точку зрения есть причина
1 BenaceraffP., Putnam H. (eds.). Philosophy of Mathematics. N. Y.f 1964. P. 433.
2 В письме к Муру (октябрь 1944 г.) он отмечал: «И это как раз показывает, что ло-
гика отнюдь не является столь простой, как кажется логикам, в частности, что противо-
речие не является, как полагают, уникальной вещью. Оно есть только одна из логиче-
ских недопустимых форм, которая при определенных обстоятельствах допустима
(Wittgenstein L Letters to Russell, Keynes and Moore. P. 177).
3 Benaceraff P.. Putnam H. (eds.). Philosophy of Mathematics. P. 434.
172
узости мышления многих из них. Прообразом такого математика для
Витгенштейна был Рамсей, которого он считал поэтому «буржуаз-
ным», как бы приверженцем существующего режима в математике1.
Сами доказательства, по мнению Витгенштейна, употребимы
только в том случае, если они имеют парадигматический характер. До-
казательство должно быть мерилом правильности; оно перестает
быть таковым, когда в нем начинают сомневаться. Оно есть нечто вро-
де кинематографического образа, показывающего, как что-либо про-
исходит2. Доказательство есть также модель, показывающая резуль-
тат конструктивной процедуры; это модель того, как некоторые опе-
рации порождают конкретный результат, причем доказательство
должно показывать свой результат с необходимостью. Принятие ре-
зультата доказательства есть свидетельство того, что мы убеждены в
нем, то есть «следуем правилу». Если доказанное математическое по-
ложение фиксирует какую-либо внешнюю ему реальность, это на са-
мом деле будет лишь показателем принятия нового мерила реально-
сти. «Предложение, доказанное с помощью доказательства, служит в
качестве правила — и, таким образом, в качестве парадигмы»3. Од-
нако слабым моментом философии математики Витгенштейна оказы-
вается его неумение показать, как же могут соотноситься друг с дру-
гом различные типы доказательств, а в особенности те, которые при-
водят к одинаковому результату.
Самое важное, на взгляд Витгенштейна, заключается в том, как
именно доказательство конструирует то или иное математическое
предложение. Оно заставляет одну структуру порождать другую. В
силу этого доказательство выступает как определенный инструмент
языка. Существует, по его мнению, полное соответствие правильных
выводов в математике и правильных переходов в музыке. Даже если
математику лишить всего ее конкретного содержания, то и тогда мож-
но будет конструировать одни знаки из других по определенным пра-
вилам. «Я хочу сказать, что принять предложение в качестве непоко-
лебимо очевидного — значит использовать его в качестве граммати-
ческого правила: это устраняет неопределенность в его отношении»4.
1 См.: Kenny A., McGuinness B.F., Nyiri J.C. (eds.). Wittgenstein and His Times.
P. 21.
2 Этой мысли Витгенштейн придает прагматистский оттенок: «Сложность не в
том, что мы не можем сформировать образ. Достаточно легко, например, сформировать
некоторый образ бесконечного ряда. Вопрос в том, какова польза от этого образа для
нас» (Benaceraff P., Putnam H. (eds.). Philosophy of Mathematics. P. 464).
3 Ibid. P. 446.
4 Ibid. P. 449.
173
Витгенштейновское понятие «следование правилу», разработанное
им прежде всего на материале математического доказательства, фи-
лософы-аналитики 70—80-х годов пытались использовать в качестве
универсального принципа объяснения различных аспектов философ-
ской деятельности1.
Витгенштейн настойчиво подчеркивал, что доказательства тво-
рят математические понятия. Конструктивное доказательство есть
принципиально новое построение, новый синтез. Оно должно быть
эксплицитным и ясным. Но язык расселовской системы не соответст-
вует этому требованию, в ней природа доказательства глубоко скрыта.
Поэтому Витгенштейн теперь отрицает, что логика может лежать в
основании математики, ибо убедительность логического доказатель-
ства для него полностью зависит от геометрической убедительности.
В математике, по его мнению, вполне возможно избавиться от собст-
венно логических доказательств. И хотя некоторые математические
положения могут быть доказаны в расселовской системе, все же эта
логическая теория плохо учит нас, как на практике строить правиль-
ные предложения той или иной формы.
В противоположность логицистам поздний Витгенштейн сильно
сомневался в том, что классический закон исключенного третьего су-
щественно важен для математики. По его мнению, использовать дан-
ный закон — это все равно, что предлагать нам выбирать между дву-
мя картинками. А что, если эти картинки в той или иной системе вооб-
ще неприменимы? Поэтому когда формулируют какую-либо альтер-
нативу, то на деле используют не закон исключенного третьего, а
просто «следуют правилу». Увлечение логическими законами и логи-
ческой техникой может только отучить от собственно математической
техники и математических правил. Логические законы — это только
правила, описывающие механизмы употребления символов. Напри-
мер, закон двойного отрицания объясняет, как должен использовать-
ся знак отрицания.
Логическое обозначение как бы подавляет внутреннюю структуру
языка, те языковые игры, в которых функционируют, «живут» мате-
матические предложения. Правила математических игр своеобразны
и не сводимы к правилам других игр. Например, здесь совершенно
специфическим образом общее сочетается с единичным. В математи-
ке также можно правильно применять доказательство и не знать, что
именно доказывается. Допустимо сформулировать грамматически
1 См.: Holtzman S.N., Leich C.V. (eds.). Wittgenstein: To follow a Rule. L, 1981;
Kripke S.A. Wittgenstein on Rules and Private Language. Oxford, 1982.
174
правильное математическое положение, не эксплицируя его значе-
ние. Понять доказательство в целом — значит уметь его применять.
Однако Витгенштейн все же был вынужден признать, что значи-
мость правилам математической игры придают именно факты повсе-
дневного опыта. В некоторых математических языковых играх мате-
матические положения играют роль правил описания. Исходным
предварительным условием такой игры оказывается согласие в пони-
мании того или иного доказательства разными математиками. «То, что
я говорю, сводится к тому, что математика нормативна. Но "норма"
не означает то же самое, что "идеал"»1.
Позиция Витгенштейна в рассматриваемый период очень далека
от какой-либо формы математического платонизма. Взгляд на про-
цесс вычисления как на экспериментальную процедуру, а на матема-
тические положения — как на высказывания относительно человече-
ской активности, безусловно, противостоял формалистским и логици-
стским установкам. Математическая языковая игра для Витгенштей-
на есть особая «форма жизни», которую можно понять, только
непосредственно участвуя в ней.
Витгенштейна раздражала мысль о том, что математика нуждает-
ся в каком-либо обосновании, особенно в логическом обосновании.
На самом деле, считал он, никакая языковая игра, в том числе и мате-
матическая, не нуждается в обосновании, ибо ее основание находится
в самой конкретной человеческой активности. Он осуждал искусст-
венно структурированные теории «чистой математики», которые
внутренне соотносятся лишь с другими частями математики, и вообще
не считал правильным традиционное деление на чистую и прикладную
математику. В витгенштейновской концепции также нет места даже
такому математическому понятию, как теорема.
Несмотря на некоторые правильные моменты, содержащиеся в
витгенштейновской критике логицизма, его стремление совершенно
отделить математику от логики оказалось, как это сейчас видно, бес-
перспективным.
По оценке М. Даммита2, Витгенштейн придерживался крайней
версии математического конвенционализма, ибо понимал логическую
необходимость того или иного математического утверждения как пря-
мое выражение лингвистической конвенции. Для него сущность мате-
матического утверждения сводится к тому, что оно рассматривается
именно как заключение доказательства. Вслед за интуиционистами он
1 Benaceraff P., Putnam H., (eds.). Philosophy of Mathematics. P. 480.
2 Ibid. P. 433.
175
полагал, что нельзя заранее предвидеть конкретные формы аргумен-
тации, которые могут применяться в математических доказательст-
вах. Когда Витгенштейн критиковал теорему Гёделя, он прежде всего
имел в виду всевозможные преувеличения ее значения, универсаль-
ное применение ее результата без учета специфики контекста рас-
смотрения. А критика Витгенштейном универсального использования
закона исключенного третьего в математике во многом объясняется
его отношением к логической необходимости как конвенции. За мате-
матическим законом в его концепции лежит простая эмпирическая
регулярность.
Как отмечает известный математик П. Бернайс, в своей филосо-
фии математики Витгенштейн совершенно отдалился от понимания
аналитического в духе концепции логических позитивистов Венского
кружка и обратился к идее формирования математических понятий в
почти неокантианском стиле. Г. Крайзел считает, что критика Витген-
штейном математического формализма затрагивает лишь наиболее
уязвимые и слабые формулировки, содержащиеся в произведениях
Д. Гильберта, и может быть легко отброшена в случае приведения бо-
лее адекватных и точных формулировок. Более того, сами витген-
штейновские рассуждения относительно доказательств оказываются
значительно слабее глубоких гильбертовских рассуждений на ту же
тему. Витгенштейн делает акцент на том, что доказательства либо соз-
дают, либо используют новые понятия. Однако он не учитывает того,
что предложения, имеющие отношение к этим понятиям, сами долж-
ны быть доказаны. «Пожалуй, стоит заметить,— пишет Край-
зел,— что витгенштейновская философия оставляет место для раз-
личных Lebensformen, или форм жизни... значительно меньше мес-
та — для различных форм мышления, и вообще едва ли какое-либо
место — для различных Seinsformen, то есть различных видов сущно-
стей, подобных тем, которые изучаются в математике»1. Крайзел так-
же обращает внимание на тот факт, что Витгенштейн полагал, будто
доказательства обязательно должны быть легко запоминаемыми и
зрительно представимыми. Но это, считает Крайзел, второстепенное
обстоятельство, ибо прежде всего нужно выяснить, на основании ка-
ких принципов строится доказательство.
Философско-математические рассуждения Витгенштейна выде-
ляются среди других рассуждений в этой области тем, что он приводит
многочисленные конкретные примеры для подтверждения своей по-
зиции. Многие из этих примеров, однако, неудовлетворительны с чис-
1 Hintikka J. (ed.). Essays on Wittgenstein... P. 170.
176
то математической точки зрения. Так, П. Бернайс, признавая в целом
оригинальный характер концепции Витгенштейна, в отношении одно-
го из его примеров пишет: «В частности, неудовлетворителен нередко
цитируемый пример создания противоречий путем деления нуля.
(Нужно только рассмотреть основание правила редукции для того,
чтобы увидеть, что это не применимо в случае фактора нуля. )»{.
Если отвлечься от всех приведенных выше конкретных достоинств
и недостатков позиции Витгенштейна, отмеченных известными мате-
матиками, то ее в целом можно рассматривать как своеобразный ко-
декс «лингвистического поведения» математиков. А в основе несогла-
сия с большинством разработанных к тому времени путей обоснова-
ния математического знания лежало его убеждение в порочности ис-
пользованной при этом «традиционной» концепции значения
языковых выражений. Витгенштейн в целом безуспешно пытался
привить математике свою «функциональную» концепцию значения,
превратить самих математиков в лингвистических философов.
Заключая рассмотрение философии математики Витгенштейна,
специально следует отметить, что некоторые его идеи в этой области в
последние годы стимулировали исследования по «конструктивист-
ской семантике». Возникновение данного направления связано с име-
нем профессора Оксфордского университета М. Даммита. Работы
философов «школы Даммита» в настоящее время составляют значи-
тельную часть публикаций британских аналитиков по вопросам фило-
софии языка, философии математики и даже эпистемологии. Интер-
претация этим английским философом идей Витгенштейна, а также
Фреге, выступает не просто как популярный сейчас на Западе ком-
ментарий к их идеям, но и как своеобразный эталон для тех филосо-
фов-аналитиков (а таковых большинство), которые осуществляют
свою деятельность в пределах установок витгенштейнианства и фре-
геанства.
Так, следуя Даммиту, конструктивистскую интерпретацию учения
позднего Витгенштейна дает Дж. Ричардсон. «Поздняя философия
Витгенштейна,— пишет он,— сводится к разработке теории значе-
ния, которая принадлежит к семье семантических теорий, называе-
мых "конструктивистскими". В соответствии с такими теориями зна-
чение предложения должно объясняться в терминах тех условий, ко-
торые рассматриваются как подходящие для его использования»2.
Близкой позиции придерживается и П. Хакер: «Мы рассматриваем
12-5739
1 Benaceraff P., Putnam H. (eds.). Philosophy of Mathematics. P. 522.
2 Richardson J. The Grammar of Justification. N. Y., 1976. P. 14.
177
позднюю философию Витгенштейна как обобщение интуиционист-
ской теории, и мы также рассматриваем его трансформацию от реали-
стической семантики к конструктивизму. Такая интерпретация Вит-
генштейна была впервые предложена М. Даммитом... В экзегетике
Витгенштейна нет более плодотворной задачи, чем разработка этой
интерпретации, и нет более важных занятий в области философской
логики, чем исследование природы и следствий конструктивистской
семантики»1.
Сторонником конструктивистской семантики, например, считает
себя К. Филлипс (он также прямо называет эту семантику «идеали-
стической»), который пишет: «Подобно верификационисту конструк-
тивист соединяет наше понимание высказываний со знанием тех про-
цедур, которые нужно использовать для определения инстинностного
значения этих высказываний. Но в отличие от верификациониста ему
нет необходимости отказывать в смысле тем высказываниям, которые
не могут быть окончательно верифицированы или фальсифицирова-
ны, предполагая, что их можно обоснованно утверждать»2. Посколь-
ку, доказывает Филлипс, метафизика основывается на логике, спор
реалистической и конструктивистской семантик отражает спор глав-
ных соперничающих концепций природы реальности. Таковыми, со-
гласно критическому учению Канта, были трансцендентальный реа-
лизм и трансцендентальный идеализм. Первый имеет свои корни в
реалистической (или классической) семантике, второй — в конст-
руктивистской. Конструктивизм ведет к выводу о том, что объекты и
чувственные впечатления логически взаимосвязаны. В то же время
трансцендентальный реалист ошибочно верит, что материальные
объекты существуют сами по себе и независимо от чувств, а это озна-
чает, что он полагает, будто наши высказывания о чувствах и внешнем
мире связаны случайно и потому логически независимы.
То, что чувства снабжают нас свидетельствами в пользу существо-
вания внешнего мира, есть, согласно Филлипсу, чистая конвенция.
Форма пространственно-временного мира понимается им как конвен-
циональная структура, накладываемая нами на ощущения. «Тем не
менее формообразующим механизмом является не индивидуальное
сознание, хотя бы и рассматриваемое в качестве чего-то трансценден-
тального, как полагал Кант, но общественное сознание, выражающее
Hacker P.M.S. Insight and Illusion. Oxford, 1975. P. 104. *
2 Phillips C. Constructivism and Epistemology//Philosophy. 1978. V. 53. № 203.
P. 55.
178
себя в обыденном языке»1. Естественно, что разговор об этом «обще-
ственном сознании» не мыслится британским аналитиком Филлипсом
иначе, как в терминах философии Витгенштейна, учения о языковых
играх как «формах жизни».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на более широкий и «либеральный» подход к языку, за-
ключающийся в снятии требования строгости и однозначности языко-
вых выражений, поздний Витгенштейн в своем учении о критериях и
глубинной грамматике остается верен своей старой установке на де-
монстрацию абсолютных пределов. Грамматические конвенции, ле-
жащие в основе языковых игр, жестко фиксируют пределы этих час-
тей языка. Если в его ранней концепции предел «мира фактического»
детерминировался тем, что выразимо в языке, но сам этот предел объ-
являлся неописуемым, то в поздней концепции уже допускается бес-
численное количество пределов, которые может и обязан описывать
«витгенштейновский философ».
В целом же концепция Витгенштейна 30—40-х годов есть во мно-
гом развитие его раннего взгляда на природу и задачи философии, но
метод и стиль позднего Витгенштейна в ряде аспектов отличается от
подхода «Логико-философского трактата». Раньше австрийский фи-
лософ доказывал, что язык должен быть семантической системой,
иметь некоторые обязательные структурные свойства для того, чтобы
оказалась возможной связь языка и мира. Другими словами, в свой
ранний творческий период Витгенштейн искал априорные условия для
существования языка как такового, искал абсолютные решения, ко-
торые были бы верны раз и навсегда. В поздний же период акцент де-
лается на актуальном использовании слов и выражений языка, кото-
рое придает им «значение». Правда, и в этом случае философ руково-
дствовался некоторой изначальной схемой исследования.
Особенности завершающего этапа философской эволюции Вит-
генштейна свидетельствуют о том, что он в конце концов попытался
перенести центр тяжести рассмотрения поставленных им проблем в
сферу определенным образом истолкованной деятельности. После
статичной и априористской философии «Трактата» справедливо, ка-
залось бы, говорить не только о существенном изменении первона-
чальной позиции, но и о значительном прогрессе, выразившемся в бо-
лее гибком и всестороннем отношении к языку. Однако можно ли счи-
1 Phillips С. Constructivism and Epistemology//Philosophy. 1978. V. 53. № 203.
P. 60.
12* 179
тать это окончательным выводом, полученным в результате нашего
историко-философского исследования? Удалось ли Витгенштейну
разрешить те противоречия, с которыми он столкнулся уже в ранний
период? И наконец, каким же все-таки можно представить образ это-
го философа?
Эволюция философского мировоззрения Витгенштейна не была
ни гладкой, ни непротиворечивой. И ее едва ли следует оценивать од-
нозначно как прогрессивное, поступательное интеллектуальное раз-
витие. Более того, модификация его подхода сопровождалась даже
усилением свойственных ему с самого начала глубоких теоретических
и мировоззренческих противоречий. Как ни странно, но определенное
единство развитию взглядов Витгенштейна придает именно наличие в
его учении характерных противоречий. Обоснование этого утвержде-
ния, как представляется, в некотором смысле снимает старую пробле-
му «двух Витгенштейнов».
Конечно, витгенштейновские тексты раннего и позднего периодов
содержат немало существенных различий. Но, думается, даже сугубо
методологические и стилистические особенности его взглядов в эти
периоды не следует отрывать друг от друга. Нелишне подчеркнуть и
то, что проблемы, стоявшие перед Витгенштейном, практически ос-
тались одними и теми же на протяжении всей его жизни. Образу это-
го философа присуща цельность, обусловленная несколькими фак-
торами.
Что же представляет собой тот постоянный «набор» противоре-
чий, который как бы придает единство всей его позиции? Прежде все-
го как философ, в чьем творчестве своеобразно преломились некото-
рые черты культуры западноевропейского общества первой половины
XX века, Витгенштейн стоял (хотя во многом и неосознанно) на опре-
деленной социально-политической и мировоззренческой позиции.
Для него был характерен довольно негативный взгляд на многие явле-
ния в западной культуре и искусстве, неприятие некоторых ценностей
общества и его институтов1. Это проявилось и в его сложных, подчас
конфликтных взаимоотношениях со многими философами, учеными и
деятелями искусства, «безболезненно» вписывавшимися в систему.
В этой среде Витгенштейн постоянно чувствовал себя чужим. В своих
1 «Я сознаю,— писал Витгенштейн в 1930 г.,— что исчезновение культуры еще
не означает исчезновения человеческой ценности, а означает только исчезновение оп-
ределенных средств выражения этой ценности. И тем не менее я все же не испытываю
симпатии к теперешней европейской цивилизации и не понимаю ее целей, если она та-
ковые имеет. Поэтому я в действительности пишу для друзей во всех уголках земного
шара» (Wittgenstein L Culture and Value. P. 6.).
180
письмах он часто подчеркивает, что ставит иные цели, нежели евро-
пейские ученые.
Под таким углом зрения его позицию следовало бы охарактеризо-
вать как позицию радикально настроенного представителя интелли-
генции, критически относящегося ко многим сторонам существующе-
го общества, но не способного обнаружить реальные пути выхода из
сложившейся ситуации. Поэтому многие его тексты пронизаны чувст-
вом растерянности. Поразительные зигзаги жизненного пути Витген-
штейна отразили его беспокойные духовые искания.
Однако радикализм Витгенштейна связан — ив этом-то состоит
основное противоречие его мировоззрения — с несвойственной ему,
на первый взгляд, консервативной тенденцией. Витгенштейн в своих
работах подчеркивает традиционные, постоянные и неизменные чер-
ты и формы человеческого общения. Главную свою задачу он видит не
в разрушении существующих в его обществе социальных различий
или осуждении неравенства1, а в более однозначном установлении
границ и пределов дискретных и фактически несвязанных сфер чело-
веческой жизни. При этом его философия (как в ранний, так и в позд-
ний период) ищет основание для резкого отграничения научного под-
хода к миру от морали, эстетических ценностей и религии. Такая «ав-
тономия» с самого начала достигается, однако, слишком дорогой це-
ной — ценой отрыва собственно мировоззренческих установок от
мира «фактического», философского отражения структурных свойств
действительности. В поздний период такой разрыв усиливается до
наибольшей степени, ибо Витгенштейн уже намеренно стремится
раздробить сферу человеческой деятельности на мельчайшие фраг-
менты и затем, подобно строгому правителю, установить для каждого
фрагмента свои границы и пределы. В его сознании эта процедура
фиксируется в форме реабилитации традиционного, «ритуального»
характера человеческих действий, их полного подчинения «прави-
лам» языковых игр. «Культура,— писал он,— есть некоторый риту-
ал»2. Неспособность увидеть границы разных «форм жизни» и поро-
ждает, по его мнению, «неподлинные» типы культуры и интеллекту-
альной деятельности, в том числе философские заблуждения.
Получается, таким образом, довольн(\ неоднозначная картина.
Следуя Витгенштейну, для выхода из кризиса западной культуры (а
1 В текстах Витгенштейна встречаются даже и такие слова: «Я полагаю, что плохое
ведение хозяйства в пределах государства вызывает плохое ведение хозяйства в семьях.
Рабочий, который всегда готов бастовать, также не будет способен воспитывать в своей
семье уважение к порядку» (Ibid. P. 63).
2 Ibid. P. 83.
181
потому и всего западного общества) необходимо просто приглядеться
к составляющим ее элементам, четко указать всему свое место и не
выходить за пределы сложившихся форм. Философ в таком случае
становится беспристрастным регистратором всевозможных преде-
лов. Поэтому метод Витгенштейна на всем протяжении его эволюции
постоянно оставался описательным. Его «критицизм» (в почти кан-
товском смысле слова) оказывается препятствием на пути дейст-
венной критики общества и культуры. Наделе «витгенштейновский
философ» совершенно не способен что-либо изменить в мире, осуще-
ствить какие-либо радикальные преобразования. Ведь его главное
оружие — это всего лишь логико-лингвистическая интуиция, непо-
стижимое умение видеть пределы и границы в мире сквозь его лин-
гвистическую оболочку. «Правильное видение мира», с помощью ко-
торого нам будто бы открывается «истина»: «все есть так, как оно
есть», не приводит ни к какому ощутимому результату, так как цели-
ком ориентирует на созерцательное отношение к действительности.
Даже «мир» позднего Витгенштейна справедливо может рассматри-
ваться как чуждый свободе человеческих действий и поступков. Ведь
неумолимые лингвистические конвенции жестко детерминируют этот
«мир», равно как и «логические строительные леса» детерминирова-
ли «мир фактического» в его ранней философии.
ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ, ЯЗЫКА
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ ПОСЛЕ ВИТГЕНШТЕЙНА
Лишь в относительно редкие периоды своего развития философия
оставалась нечувствительной к самим средствам философствования.
Как правило, это были периоды, отмеченные своеобразным высоко-
мерием философской мысли, не желавшей (или опасавшейся?) про-
демонстрировать, каким путем ею были получены те или иные «впе-
чатляющие» результаты. При этом в качестве субъекта и объекта фи-
лософствования признавалось чистое мышление, для которого будто
бы и не требовалось никакого внешнего посредника. Впрочем, такие
периоды «воспарения» философии были не столь уж продолжитель-
ными, и она в конце концов возвращалась на грешную землю. Даже во
времена наивысшего расцвета спекулятивного мышления отдельные
философы считали необходимым обратить свой взор на те средства, с
помощью которых достигался очередной «триумф» философской
мысли над повседневными представлениями и опытом. Но все же
очень долго эти средства оставались как бы анонимными или были
представлены лишь своими частными проявлениями. Всемогущие во-
площения и «органы» мысли (разум, рассудок, рефлексия, интрос-
пекция и даже интуиция) на деле зачастую оказывались лишь модифи-
кацией подручных средств самой будничной философской работы, по-
следовательно, хотя и с частыми отступлениями, приближавшей к по-
ниманию загадок микро- и макрокосма. Однако в целом философская
классика в лице ее лучших представителей до поры до времени до-
вольно успешно оберегала неприкосновенность своего «жилища».
В связи со сказанным должны быть отмечены два главных проры-
ва сквозь сферу философской видимости в современную эпоху. Пер-
вый — Марксова постановка вопроса о философии как практиче-
ски-критической деятельности, участвующей в изменении и целена-
правленном преобразовании мира в соответствии с принципами ра-
зумного общественного устройства и способствующей преодолению
ситуации отчуждения и заблуждений «ложного сознания». Вслед за
183
этим теоретическим выступлением понятие деятельности в его мате-
риалистической интерпретации постепенно начинает признаваться
законным, полноправным предметом философствования, включается
в социокультурный контекст. Дальнейшее развитие мировой филосо-
фии продемонстрировало огромное многообразие видов и форм кон-
структивной (и деструктивной) деятельности человека, доселе скры-
вавшихся под личиной отвлеченных философских категорий и абст-
ракций.
Во втором случае речь идет об откровенном признании, сделанном
рядом философов в начале XX столетия, что главным средством фило-
софствования является язык. К настоящему времени для многих школ
современной философии язык является и основным объектом иссле-
дования. Такое в общем единодушное признание, однако, не означает
одинакового понимания сущности языка и закономерностей его функ-
ционирования. Здесь оказались возможными самые различные, под-
час диаметрально противоположные варианты. При этом немаловаж-
но, что принципиальный вопрос о соотношении языка и деятельности
в зависимости от характера конкретного философского учения то вы-
двигается на первый план, то отходит на периферию.
Разумеется, и деятельность как таковая, и язык в большей или
меньшей степени входили в объяснительное поле философских уче-
ний прошлого. Но это обстоятельство обычно не осознавалось, не
становилось объектом пристального внимания, способным даже за-
слонить все остальное. Симптоматично, что такое практическое про-
явление языка, как речь, длительное время оставалось не в почете.
Сейчас мы знаем, что, именно исследуя речевую стихию, современная
наука о языке сумела отразить теснейшую взаимосвязь форм языко-
вого выражения и форм человеческой деятельности.
Иное дело письменное воплощение языка. Античный логос как
«разумное слово», постепенно и с большим трудом освобождаясь от
мифологической архаики, все больше выражался в записанном виде.
Отнюдь не случайна в этой связи знаменитая аристотелевская анало-
гия между демокритовскими атомами и начертаниями и положениями
букв греческого алфавита. Материальные структуры бытия как бы
воплощались в материальных структурах письменного языка или ма-
тематических формулах пифагорейцев. И эти структуры довольно
рано стали привлекать философов, которые вначале изобрели логику
как в определенном смысле металингвистическую дисциплину, а за-
тем филологическую грамматику (поздняя Античность). С этого начи-
нается период внешнего отчуждения языковой проблематики от про-
блематики собственной философской. Наука о языке становится спе-
циальной, а для спекулятивной философии — либо недоступной,
184
либо чересчур конкретной и чувственно представимой. Но в целом ис-
тория лингвистики, насчитывающая многие сотни лет, характеризует-
ся то сближением, то отдалением ее от философии.
Само по себе подробное описание их реального (или потенциаль-
ного) взаимоотношения может составить увлекательный предмет ис-
следования. При этом, думается, уместно будет обратить внимание на
одну любопытную деталь. Дело в том, что, как об этом свидетельству-
ют соответствующие фактические данные, даже в период наибольше-
го отчуждения друг от друга обе гуманитарные науки часто шли, так
сказать, параллельным курсом. Во второй половине XX века, когда
они начали заимствовать друг у друга конкретные проблемы и спосо-
бы их решения, это стало достаточно очевидным. Надо сказать, что со-
временная лингвистика уже не видит ничего необычного в том, чтобы
получать некоторые свои проблемы из «абстрактной» философии1.
Ну а противоположный процесс осмысления новейшей философией
ряда специфически языковедческих проблем хорошо известен.
Такое сближение объясняется, конечно, не только сходством от-
дельных изучаемых данными науками проблем, но и присутствием в
них общего методологического инварианта, что сделало возможным
их конструктивное взаимодействие в современную эпоху. Этим инва-
риантом, на наш взгляд, является философия языка, которая прежде
хотя и не выделялась в особую сферу исследования или дисциплину,
но имплицитно существовала в виде определенного теоретического
содержания, характеризующего различные лингвофилософские ас-
пекты языковой деятельности и обладающего своей объективной ло-
гикой развития. Это, так сказать, область пересечения кругов,' обо-
значающих соответственно философию, логику и лингвистику как
«место встречи» этих дисциплин. Философия языка имеет длитель-
ную историю своего имплицитного развития. Ее развитие становится
эксплицитным лишь с осознанием и откровенным признанием языка в
качестве главного средства философствования. Идеи ряда крупных
современных философов, в том числе и тех, кто, как считается, в своей
деятельности не имел прямого отношения к лингвофилософской про-
блематике (некоторых феноменологов или экзистенциалистов, к при-
меру), в основе, однако, предполагают принятие определенной пози-
ции в философии языка.
В самом деле, философия языка, как она выкристаллизовывается
в XX веке, являет собой синтетическую дисциплину, имеющую в то же
1 Можно, в частности, упомянуть теорию «речевых актов», первоначально разра-
ботанную философами-аналитиками, а затем освоенную лингвистами.
185
время свою специфику. В «чистом» виде ведущие концепции в этой
области исследования теперь представляют различные (в том числе и
альтернативные) научные программы. Правда, квалификация той
или иной философии языка как целостной научной программы может
быть лишь результатом кропотливой работы по реконструкции теоре-
тического содержания учений. В этом смысле особенно интересны, на
наш взгляд, попытки реконструкции одного влиятельного учения, в
котором со всей определенностью и бескомпромиссностью поставле-
на фундаментальная философская проблема взаимоотношения языка
и деятельности, указан оригинальный путь ее решения.
Такие реконструкции представляют собой очень непростую зада-
чу, ибо речь идет об учении австрийского философа Людвига Витген-
штейна (1889—1951), одного из самых «несистематических» фило-
софов XX века, который, как полагают многие его комментаторы,
прежде всего ставил цель развенчания путем анализа языка традици-
онных способов философствования, а не построения и обоснования
собственной позитивной концепции. Не вдаваясь сейчас в обсужде-
ние данной категоричной оценки, отметим, что это лишь одно из мно-
гих обстоятельств, существенно усложняющих адекватное понимание
витгенштейновской программы в области философии языка, лежа-
щей в основе его оригинального философского мировоззрения.
Положение этого философа в современной западной философии и
культуре уникально. Идеи Витгенштейна, вначале известные лишь
относительно узкому кругу специалистов (многие из которых, между
прочим, не одобряли его взглядов), в дальнейшем послужили стиму-
лом для новых разработок в области философии языка, получивших в
30—60-е годы преимущественное распространение в англосаксон-
ском философском мире. В 70-е годы позиция Витгенштейна все
больше начинает рассматриваться сама по себе, вне сложившихся на-
правлений и школ,— как оригинальная и целостная философская
концепция языковой деятельности, отнюдь не ответственная за ее по-
следующие интерпретации (и зачастую искажения). После опублико-
вания в 70—80-е годы новых материалов из обширного рукописного
наследия философа стали более явными общекультурные и мировоз-
зренческие импликации его учения. В этой связи само активное освое-
ние наследия Витгенштейна тоже представляет собой примечатель-
ное явление западной философской культуры нашего времени. Свя-
зав язык с деятельностью, Витгенштейн создал предпосылки для бо-
лее всестороннего понимания функциональной роли языка в
человеческом обществе, в системе социокультурных связей и отноше-
ний. Важно в этом плане заострить внимание на том факте, что для за-
падной философии последних лет практически потеряло значение ка-
186
кое-либо противопоставление теоретических реконструкций смысла
витгенштейновских текстов (так называемое витгенштейноведе-
ние) и позитивной разработки актуальных философско-лингвистиче-
ских проблем, базирующейся на идеях австрийского философа (так
называемое витгенштейнианство).
Среди главных тем, из которых складывается философская пози-
ция Витгенштейна, последовательно развивавшего учение о языке
как деятельности и оказавшего заметное влияние на ситуацию в со-
временной западной философии, можно выделить следующие.
1. Терапия слова. Речь идет об определенной трактовке целей и
задач философствования, которую можно реконструировать на осно-
ве как поздних, так и отчасти ранних витгенштейновских текстов. Уже
в начале XX века философы позитивистской ориентации признавали,
что многие знаменитые философские учения прошлого возникли в
результате сознательного (или бессознательного) использования не-
точностей и двусмысленностей форм языкового выражения. Такая
«анти-метафизическая» установка, как известно, оказалась состав-
ной частью радикальной программы соотечественников Витгенштей-
на — венских логических позитивистов (20—40-е годы). Правда, в
случае с самим Витгенштейном, которого, на наш взгляд, неверно
рассматривать лишь в контексте позитивистского движения, ситуа-
ция была несколько иной. Он считал, что источник заблуждений сле-
дует искать не в «злой воле» или в подавленных комплексах матефи-
зиков, а в самом инструменте философского рассуждения, в естест-
венном языке, поэтому именно в языке, в «логике» языка, необходи-
мо обнаружить условия, создающие возможность философского
злоупотребления. А это едва ли удастся сделать, если язык будет рас-
сматриваться статично, в отвлечении от его деятельностной стороны.
Исследоваться (точнее: описываться) должен именно функционирую-
щий, «живой» язык, который в силу каких-то непонятных на первый
взгляд причин иногда превращается, так сказать, в «неработающий
двигатель». Вот тогда-то и возникают сугубо философские заблужде-
ния (их Витгенштейн часто называет «головоломками», сбивающими
нас с толку).
2. Диспозициональность психики. Взаимозависимость между
психикой человека и его лингвистическими возможностями для мно-
гих сегодня является очевидным фактом. Даже Витгенштейн, зани-
мавший по ряду вопросов антименталистскую позицию, в поздний пе-
риод не смог исключить собственно психологические (в том числе ин-
троспекционистские) соображения из своего описания способов
функционирования естественного языка. Правда, некоторые распро-
страненные в те годы методы философского исследования психики в
187
контексте его оригинального подхода были им сознательно отброше-
ны. Язык-деятельность оказывался образцом для понимания психики
как тоже особого рода деятельности, обладающей своей внутренней
логикой. В силу принятия такой своеобразной установки уже ничто —
в том числе «дух» или кора головного мозга — не могло претендовать
на то, чтобы считаться субстанцией (или субъектом) психического. В
свете последовательного деятельностного подхода любая попытка он-
тологизации (реификации) психики неизбежно воспринималась как
метафизическое заблуждение. Вопрос о сущности (хотя, конечно, эс-
сенциалистские вопросы как таковые Витгенштейн отвергал) психи-
ческого переносился в плоскость того, как мы говорим о «внутреннем
мире» и наблюдаемом внешнем поведении человека, каким образом
координируем обе эти сферы деятельности.То, что он в принципе при-
знавал вполне правомерным разговор о внутреннем, свидетельству-
ет, что позиция Витгенштейна в данном вопросе отнюдь не вписыва-
ется в рамки одностороннего подхода поведенческой психологии, как
это зачастую представляют. Поэтому психика понималась им не как
«черный ящик», непостижимым образом перерабатывающий всевоз-
можную стимульную информацию, а как способность к определен-
ным видам действия, актуализируемая в ситуациях, вплетенных в со-
ответствующий контекст лингвистической и нелингвистической прак*
тики. Такую способность последователи Витгенштейна обозначили
термином «диспозициональность».
3. Логика психологических понятий. Диспозиционный подход
к психике и в целом антименталистская ориентация Витгенштейна не
исключают того, что в его работах можно найти детальное описание
способов употребления психологических понятий, обозначающих
внутренние состояния человека. В этой связи принципиально важной
оказалась оценка им самого понятия «внутренний процесс». Было
признано, что, как и многие другие понятия, оно имеет законное —
осмысленное — употребление лишь в определенных «игровых» кон-
текстах. Поэтому Витгенштейн не без основания считал в равной сте-
пени ошибочным как отбрасывать данное понятие, так и отождеств-
лять всю сферу психического с внутренними состояниями. Одной из
задач, поставленных австрийским философом, оказалось именно мак-
симально полное описание тончайших нюансов употребления в языке
психологических понятий. По его замыслу, такое описание должно
вскрыть специфическую логику этого вида понятий, чего не способна
достичь ни одна конкретная психологическая теория. Примененный
Витгенштейном к психологической сфере оригинальный вариант ме-
тода мысленного эксперимента был использован при рассмотрении
таких, например, вопросов, как вопросы о возможности «индивиду-
188
ального (личного) языка» и познания других сознаний, о тождестве
личности и свойственных ей психических функций, о характере интен-
циональных состояний психики, о так называемых пропозициональ-
ных установках. В этом плане Витгенштейн главное место отводит
описанию концептуальных взаимосвязей, присущих лингвистическо-
му выражению процессов психической деятельности.
4. Конструктивность. Теории значения, которые оказалось
возможным построить на принципах поздней витгенштейновской фи-
лософии языка, имеют достаточно динамичный и гибкий характер. Их
основы были разработаны в процессе критического осмысления раз-
личных вариантов номинативной теории значения. Эта критика ука-
зывала выход за пределы старых представлений о значении как неко-
тором именуемом, то есть обозначаемом знаками, отдельном объекте.
Если принять тезис о том, что язык представляет собой деятельность,
тогда следует признать, что значение его единиц — слов и выраже-
ний — тоже должно иметь процессуальный характер. При этом осо-
бую важность приобретает коммуникативный аспект языка, его бога-
тые прагматические возможности, которые трудно объяснить с пози-
ции «традиционного» статичного подхода к значению. Сведение зна-
чения к способу употребления слов и выражений потребовало
по-иному взглянуть и на некоторые понятия, характеризующие выра-
жение в естественном языке познавательного процесса. Одним из та-
ких понятий оказывается «классическое» понятие истины или его ло-
гико-семантический эквивалент — понятие «истинностных усло-
вий». В случае отказа от признания «верховенства» этой последней
характеристики остро встает проблема сочетания в теории значения
собственно семантических и прагматических подходов к языку.
В тесной связи с рядом положений учения позднего Витгенштейна
о языковом значении с начала 70-х годов в аналитической философии
получила широкое распространение тенденция трактовать язык как
конструктивную деятельность, при анализе которой понятие «истин-
ностных условий» предложения заменяется понятием «условий ут-
верждаемости» предложения. Сторонники такого подаода опираются,
в частности, на витгенштейновскую философию математики, которая
делает акцент на конструктивных возможностях творческой деятель-
ности математика, создающего свои объекты в процессе доказатель-
ства. Для самого австрийского философа принятие подобной позиции
означало разрыв с различными логицистскими представлениями о
природе математики, которые опирались на традиционную трактовку
значения. Поскольку Витгенштейн рассматривал свои работы по фи-
лософии математики как закономерное продолжение исследований по
философии языка, то некоторые его современные последователи пе-
189
реносят принцип конструктивности на формирование осмысленных
предложений естественного языка. Это придает аналитической фило-
софии языка принципиально новую ориентацию.
5. Концептуальность. Несмотря на известные призывы Вит-
генштейна к детальному описанию конкретных случаев употребления
слов и выражений, его позднюю философию языка едва ли уместно
будет характеризовать как плоский эмпиризм или чистый дескрипти-
визм. Ведь австрийского философа интересовала именно концепту-
альная сторона языковой практики. В этом плане он не случайно гово-
рил о «логике языка», подразумевая под этим уже отнюдь не априор-
ную логическую систему своего раннего учения. Речь идет о внутрен-
них смысловых отношениях, составляющих основу «глубинной
грамматики», то есть определенным образом координированных спо-
собов употребления слов и выражений естественного языка. Такая
ориентация, очевидно, не свидетельствует о каком-то возвращении
Витгенштейна на позиции отвергнутого им ранее эссенциализма, с ха-
рактерным для последа его поиском неизменных сущностей, скрытых
за конкретным употреблением слов в процессах коммуникации. Опи-
санию подлежит само многообразие контекстуально допустимых спо-
собов употребления, как бы .составляющих подвижную «концепту-
альную схему» языка и познания. В основе ее лежат определенные
лингвистические конвенции, для описания механизма действия кото-
рых отнюдь не всегда подходят традиционные логические средства
(дедуктивная и индуктивная логика). Одним из следствий той решаю-
щей роли, которая отводится в этом учении внутренним концептуаль-
ным связям, оказывается тезис об автономии «глубинной граммати-
ки», ее способности самой определять то, что в конкретном контексте
употребления слов следует считать «реальностью». Акцент на глу-
бинной концептуальное™ естественного языка оказывается оборот-
ной стороной отстаиваемого тезиса об изначальном и независимом ха-
рактере лингвистических связей, получающих приоритетное значение
в структуре практической деятельности. С этим обстоятельством свя-
заны призывы витгенштейнианцев к пересмотру не только традицион-
ных философско-семантических учений, но и программ современной
лингвистики.
6. Правилосообразность. Главной отличительной чертой язы-
ковой деятельности Витгенштейн считал ее ориентацию на те или
иные правила. При этом подчеркивалось, что правила не представля-
ют собой каких-то явных предписаний или норм, которые можно (и
нужно) предварительно изучать. Особенность правил заключается в
том, что их «знание» имеет имплицитный характер, а практическое
овладение ими осуществляется в процессе самой деятельности, в кон-
190
тексте некоторой языковой игры. Способность людей следовать пра-
вилам многие витгенштейнианцы оценивают как фундаментальное
свойство, в принципе создающее возможность для межличностной
коммуникации. Однако данное свойство таит в себе опасность того,
что вообще любые — лингвистические и нелигвистические — дейст-
вия могут оказаться согласующимися или несогласующимися с пра-
вилами. В таком случае может появиться серьезный повод для сомне-
ний в отношении нашей способности сохранять на практике постоян-
ным значение употребляемых слов. Ведь в противном случае многие
виды индивидуальной и совместной деятельности людей фактически
окажутся парализованными, человеческое общение примет иррацио-
нальный вид.
Хотя Витгенштейн и сам в достаточно острой форме ставит эту
проблему, он лишь намечает пути ее решения. В дальнейшем его по-
следователи продемонстрировали несостоятельность попыток разре-
шить данную проблему чисто логическими средствами. Оказалось,
что необходим более широкий и всесторонний подход к языковой дея-
тельности — включение ее в контекст многообразных взаимоотно-
шений и связей, складывающихся в том или ином сообществе.
7. Формы жизни. Систему лингвистических и нелингвистиче-
ских действий, составляющих определенное единство и потому обла-
дающих своими внутренними правилами, Витгенштейн иногда харак-
теризовал как «форму жизни». Причем его учение в принципе допус-
кает двоякое ее истолкование: натуралистическое и социоцентрист-
ское. Но наиболее примечательно то, что жизненные формы
рассматриваются как основание любой культуры, имеющей в сущно-
сти ритуальный характер, который складывается из действий, подчи-
няющихся определенным конвенционально принятым в сообществе
правилам. Это выдвигает в центр обсуждения проблему взаимодейст-
вия таких форм и возможности внешней критической оценки степени
их общечеловеческой рациональности. Вместе с тем сближение дан-
ного понятия с понятием языковой игры дает повод для перенесения
концепции жизненных форм на самые различные виды человеческой
деятельности, не ограничиваясь при этом только крупными сообщест-
вами или сложившимися культурами.
Проблема понимания «форм жизни» тесно связана с витгенштей-
новской концепцией необосновываемого, выражаемого в виде «дос-
товерных суждений» знания, составляющего ядро любой «игры». Но
эта же позиция вызывает острые вопросы в связи с проблемой позна-
ния «иных культур». Развернувшаяся в аналитической философии по
данному поводу дискуссия выявила различные взгляды на возмож-
ность и степень адекватности познания значительно различающихся
191
жизненных форм. Но в любом случае спорящие стороны исходят из
предпосылки, что необходимым условием для признания практики
того или иного сообщества рациональной является само наличие
языка, обладающего значением.
8. Понимание. Понимание оценивалось поздним Витгенштей-
ном как один из самых важных аспектов языковой деятельности. Но
при этом специально подчеркивалось, что оно отлично от простой ин-
терпретации лингвистических знаков. Способность понимания выяв-
ляется в процессе употребления слов и выражений, подчиняющихся
правилам определенной языковой игры. Эта установка дает основа-
ние для выдвижения гипотезы о том, что имеется целая «семья» зна-
чений термина «понимание», обусловленных многообразием упот-
ребления слов естественного языка. Таким образом, понимание у
Витгенштейна и в концепциях его последователей предстает как сам
процесс и результат правилосообразной лингвистической деятельно-
сти, а отнюдь не в качестве особой духовной процедуры, постигаемой с
помощью интроспеции или же когнитивного состояния, поддающего-
ся точному моделированию. Примечательно, что в последние годы
именно витгенштейнианство выполняет функцию своеобразного мос-
та между англоязычной и германоязычной традициями западной фи-
лософии XX века, включая философскую герменевтику, как, в сущно-
сти, теорию понимания.
9. Практика. Концепция языка-деятельности накладывает от-
печаток на истолкование понятия практики как таковой. Свои лингво-
философские принципы витгенштейнианцы, как правило, распро-
страняют на сознание и мышление, которые признаются проявления-
ми человеческой деятельности, имеющей социальное измерение. В
такой связи подвергается критике определенная эпистемологическая
традиция западноевропейской философии с ее явной или скрытой дуа-
листической тенденцией. Отталкиваясь от этой критики, ряд западных
философов в последнее время заявляют о принципиальном сходстве
витгенштейнианского подхода и марксистской диалектики. Акцент де-
лается на том обстоятельстве, что в языке описание состояний психи-
ки концептуально связано с конкретными видами практики, и свое
значение эти состояния приобретают лишь в контексте межличност-
ных взаимодействий в рамках соответствующих «форм жизни». В то
же время витгенштейнианцы рассматривают практику, подчиняю-
щуюся, по их мнению, правилам лингвистической деятельности, в ка-
честве универсальной категории, в которой растворяются такие поня-
тия «традиционной» философии, как «материальное» и «идеальное»,
«объективное» и «субъективное», «ценностное» и «фактическое» и
т. п. Все это, безусловно, делает актуальным сопоставление Марксо-
192
вой концепции материально-производственной и духовной практики и
«лингвистической праксеологии» витгенштейнианцев, подчеркивает
необходимость выявления их подлинного соотношения.
В настоящей работе ставится задача не только показать прямое
или косвенное влияние идей Витгенштейна на современную филосо-
фию, но и подробно обосновать закономерность такого влияния в кон-
тексте духовной ситуации эпохи. Сам австрийский философ проделал
эволюцию от своеобразного варианта философско-мировоззренче-
ского индивидуализма к не менее своеобразному социально окрашен-
ному лингвофилософскому учению. Аналогичные процессы мы стре-
мились выделить и в витгенштейнианских течениях, учитывая, так
сказать, параллелизм онтогенеза и филогенеза рассматриваемого яв-
ления.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПСИХОЛОГИИ
Вряд ли нужно специально доказывать, что претензии философии
на изучение и понимание сущности психических процессов имеют под
собой серьезное основание. Об этом определенно свидетельствует
богатейший историко-философский материал. Конечно, философия в
XX веке уже не обладает монополией на подобного рода проблемати-
ку, ибо психическое становится центральным объектом исследования
целого ряда научных дисциплин, которым присуще «человеческое из-
мерение» (включая современное компьютерное моделирование ин-
теллектуальных процессов). В связи с этим даже возникает вопрос о
возможности (или необходимости) в таких условиях сохранить специ-
фику собственно философского подхода, как-то воспрепятствовать
его растворению в многочисленных конкретно-научных подходах. И
это как раз тот вопрос, который в явной или неявной форме встал пе-
ред представителями аналитического направления в западной фило-
софии. В отношении разрабатывавшейся ими дисциплины — «фило-
софии психологии» — изначально сложилась довольно необычная
ситуация. Дело в том, что, несмотря на такое ее название, данная фи-
лософская дисциплина не имела прямой связи с основными психоло-
гическими школами первой половины XX века. Эта ситуация, кстати,
напоминает не менее характерную ситуацию с одной из разновидно-
стей аналитической философии — «лингвистической философией»,
долгое время развивавшейся, по существу, независимо от основных
тенденций лингвистической науки.
Предпосылки современной аналитической «философии психоло-
гии» были заложены еще в 30-е гг. Витгенштейном и его учениками
по Кембриджскому университету. Примечательно, что в результате их
активной деятельности исследования в данной области окончательно
13-5739 193
потеряли спиритуалистическую направленность, которая была свой-
ственна британским авторам предшествующего поколения. При этом
философское изучение психического оказалось тесно связанным с ма-
гистральной линией в развитии аналитическрй философии языка. По-
степенно превратившись в универсальную методологию исследова-
ния, философский анализ распространился на самые различные пред-
метные области, включая и сферу психических явлений. В конце кон-
цов содержание этой сферы перестали рассматривать как что-то
сугубо внутреннее невыразимое и для научного познания принципи-
ально недоступное. Выявилось, что «человеческое измерение» психи-
ки означает то, что она представляет собой одну из характеристик,
сторон человеческой деятельности. Поэтому, как и в отношении дру-
гих видов деятельности, в отношении психических процессов оказа-
лось возможным ставить вопросы об особенностях их обозначения и
выражения в языке. Аналитическая философия — витгенштейниан-
ство прежде всего — подняла некоторые темы, доселе неизвестные
теоретической психологии. Но одновременно ориентация аналитиков
исключительно на лингвофилософские аспекты ограничила проблем-
ное поле их исследований в данной области. Это принесло как пози-
тивные, так и негативные результаты.
У одной из групп последователей Витгенштейна занятая ими в фи-
лософии психологии позиция явилась отправным пунктом для наибо-
лее радикальной критики самого философского знания, для акценти-
рования чисто «терапевтической» функции философского анализа.
Другие пошли по пути раскрытия механизма психической деятельно-
сти и ее концептуального оформления, третьи включились в дискус-
сию по таким острым витгенштейновским вопросам, как, например,
возможность «индивидуального языка» и познания «других созна-
ний», решение которых потребовало от аналитиков определенного
учета роли социокультурного фактора. В конце концов закономерным
оказался выход на современные, имеющие большое практическое
значение философские вопросы моделирования форм психической
деятельности. При этом в своих исследованиях аналитики отталкива-
ются главным образом от особенностей функционирования «психоло-
гических понятий» в языке, от закономерностей их «глубинной грам-
матики». Думается, что уроки витгенштейновской философии психо-
логии в известном смысле могли бы быть полезны и для отечествен-
ной теоретической психологии, которая при все ее бесспорных
достижениях отнюдь не всегда уделяет должное внимание именно кон-
цептуальной стороне дела.
194
1. Метод лингвистической терапии
Среди разнообразных вопросов, поставленных поздней филосо-
фией Витгенштейна, можно выделить один важный вопрос, специаль-
ное рассмотрение которого способно вывести наше историко-фило-
софское исследование непосредственно на те явления в современной
западной философии, которые мы ранее обозначили как витген-
штейнианство. Речь идет об определенной тенденции в понимании
австрийским философом целей и задач философствования как тако-
вого. Помимо известной критической линии, связанной с показом не-
состоятельности многих распространенных философских точек зре-
ния и подходов, да и просто устойчивых теоретических предрассудков,
в текстах Витгенштейна прослеживается и, так сказать, позитивная
линия. Впрочем, и в позитивном плане философия для него сохраняет
критическую направленность, а именно в отношении заблуждений,
порождаемых самой логикой естественного языка и нашим неадекват-
ным пониманием этой логики. Если использовать кантовскую терми-
нологию, то можно, очевидно, сказать, что Витгенштейн стремится
вскрыть закономерно возникающую в языке «трансцендентальную
иллюзию».
Известная поздневитгенштейновская аналогия философской дея-
тельности с деятельностью терапевтической1 получила весьма свое-
образное воплощение в одной из ранних школ аналитической филосо-
фии. Следует отметить, что некоторые прямые ученики австрийского
философа восприняли эту аналогию буквально, разработав в связи с
ней концепцию лингвистической философии как языковой терапии.
Разумеется, с их стороны это не означало требования перенести фи-
лософские исследования... в клинику (кстати, противники этого на-
правления зачастую все же величали его «клиническим»). Скорее,
имелось в виду сходство подхода лингвистической философии и такой
влиятельной научной и философской доктрины, как психоанализ,
имеющей, что вполне естественно, терапевтическую направленность.
Создатели «терапевтической» философии даже увидели принципи-
альную возможность теоретического синтеза двух учений и дальней-
шей реализации его на практике. Это, как они считали, могло бы зна-
чительно усилить их критические позиции в отношении традиционных
(метафизических) толкований предмета философии. Из всех основ-
ных разновидностей лингвистической философии терапевтическому
1 Ср., например: «Нет собственно философского метода, хотя все же и есть мето-
ды, подобные различным терапиям» (Wittgenstein L Philosophical Investigations.
P. 51).
13* 195
анализу, на наш взгляд, в наибольшей степени присущи позитиви-
стские черты.
Однако все же насколько обоснованны заявления философов этой
группы относительно терапевтического характера самой витгенштей-
новской философии и ее близости психоанализу? Прежде чем попы-
таться ответить на это, обратим внимание на одно примечательное
обстоятельство. Так, известно, что о возможном влиянии идей Фрейда
на Витгенштейна в соответствующей литературе имеются самые раз-
норечивые свидетельства. При этом особенно удивляет сообщение о
довольно позднем знакомстве Витгенштейна с психоанализом, кото-
рое якобы состоялось в 1919 г., когда ему уже было тридцать (!) лет.
Кажется маловероятным, чтобы его духовное развитие могло проис-
ходить безотносительно кучению одного из крупнейших деятелей вен-
ской культуры той эпохи — подлинного властителя дум. Мы знаем
ведь, что даже такие позитивистски настроенные философы, как
представители Венского кружка, весьма положительно высказыва-
лись о психоанализе, активно использовали отдельные его идеи и
принципы, не отказывались от психоаналитического лечения.
Правда, важно учитывать, что отношение Витгенштейна к другим
учениям было строго избирательным и часто не согласующимся с пре-
обладающими в определенный момент оценками или модой. В этой
связи надо признать, что его видение психоанализа, пожалуй, не со-
поставимо ни с каким иным1. Специфичность витгенштейновского
подхода проявилась уже в выделении в качестве главной составляю-
щей психоанализа концепции осмысленности сновидений, которая,
по мнению Витгенштейна, открывала возможность для трактовки
сновидений как своеобразных языковых игр. Он при этом задумывал-
ся о факторе большой популярности и привлекательности учения
Фрейда. Данное обстоятельство он, в частности, объяснял присущим
всем людям стремлением к чему-то сверхъестественному ( вспомним в
этой связи ту роль, которую играло понятие «мистическое» в его ран-
ней философии), а также ко всему выходящему за рамки дозволенного
обществом.
Постепенно у Витгенштейна сложился свой образ психоанализа.
Он хотел бы видеть в нем такие объяснения психических феноменов,
1 Не исключено, что запоздалое изучение Витгенштейном психоанализа — если
только это соответствует действительности — было связано с изначальным влиянием
книги О. Вайнингера «Пол и характер» ( 1903), как бы заслонившей от него Фрейда. А
может быть, на него повлияла позиция идейного лидера венского «авангарда» К. Крау-
са, считавшего психоанализ характерной болезнью своего времени и потому способно-
го лишь на самолечение?
196
которые были бы близки по своему характеру эстетическим объясне-
ниям значимости произведений искусства, ибо эти последние объяс-
нения совсем не обязательно должны включать в себя описание ка-
ких-то внутренних или внешних причин, вероятно, вызвавших к жизни
сами произведения. Подлинные эстетические объяснения ничем не
походят на чисто научные объяснения. Для них важнее всего передача
того глубокого впечатления, которое создают у нас талантливые про-
изведения искусства, присущего им неповторимого жизненного смыс-
ла. Сугубо каузальный подход, зачастую навязываемый наукой, может
только разрушить их уникальную целостность, внутреннюю логику.
Именно как особая языковая игра психоанализ обладал для Вит-
генштейна немалыми суггестивными возможностями. И он настойчи-
во предупреждал, что не следует путать правила этой «игры» с прави-
лами научных «игр». Будучи новой мифологией, психоанализ отнюдь
не должен стремиться к универсальному, номотетическому объясне-
нию многообразных психических феноменов (тех же сновидений, к
примеру). Поэтому заявление Фрейда о том, будто все сновидения
суть реализации подавленных желаний, Витгенштейн сравнивал со
своей ранней (признанной им впоследствии ошибочной) теорией, со-
гласно которой все правильные предложения суть образы (модели)
фактов. Пансексуалистская тенденция во фрейдовском учении также
оценивалась им критически, ибо он ввдел в этом опасную универсали-
зацию одного конкретного принципа объяснения человеческих по-
ступков. Истоки этой тенденции Витгенштейн находил в привержен-
ности Фрейда детерминизму, принципу каузальности, воспринятому из
естествознания XIX века, в механическом подходе к отдельным психи-
ческим явлениям. Он, по существу, указывал на происходящее в психо-
анализе смешение правил «игр» с психологическими и физиологиче-
скими понятиями, приводящее к нежелательным последствиям.
Как это ни странно, но сам Витгенштейн нигде специально не под-
черкнул то обстоятельство, что психоанализ в практической своей
части есть именно терапия. Вероятно, здесь сказалась усвоенная им
еще в молодости установка Ф. Маутнера, в соответствии с которой
подлинные «разоблачающие» (и в этом смысле «терапевтические»)
процедуры признаются возможными лишь в сфере самого естествен-
ного языка. Оценка «болезней» своего общества понималась им как
критика распространенных в этом обществе типов лингвистического
выражения мыслей и чувств. Но неявно Витгенштейн все же ощущал
свою близость практике фрейдовского анализа психических явлений.
«Математик,— однажды написал он,— ужаснется моим математи-
ческим комментариям, ибо его всегда учили не потворствовать такого
рода мыслям и сомнениям, которые присущи мне. Он научился рас-
197
сматривать их как нечто презренное, и, если использовать аналогию
из психоанализа (а этот наш раздел напоминает о Фрейде), он приоб-
рел отвращение к ним как к чему-то инфантильному. То есть я обра-
щаю внимание на все те проблемы, которые образование именно по-
давляет, а не разрушает. Я говорю этим сомнениям: вы вполне обос-
нованны — продолжайте спрашивать, требуйте прояснения»1.
«Мифологизм» же учения Фрейда Витгенштейн увидел в том, что
для этого учения абсолютно все описываемые им явления психики
по-своему значимы. Он отмечал, что в отличие от многих современ-
ных ему ученых создатель психоанализа отнюдь не считал экспери-
ментальную проверку результатов исследований своей приоритетной
задачей. Для него важнее всего было то, что в процессе беседы с паци-
ентом психоаналитик именно воссоздает смысл бессознательных
явлений, а не находит их в готовом виде. Таким способом показывает-
ся, что смысловая характеристика неотделима от практического про-
цесса ее истолкования как целостной и самодостаточной языковой
игры с ее уникальными внутренними отношениями.
Витгенштейн, по-видимому, чувствовал, что проникновение
Фрейда в бессознательное чем-то напоминает его собственное стрем-
ление прорваться сквозь внешний слой «поверхностной грамматики»
(нечто вроде сверх-Я) к «глубинной грамматике» (так сказать, Оно)
языка. Скрытая бессмыслица отдельных синтаксически правильных
языковых конструкций2 должна стать явной с помощью детального
описания феноменов (тут даже можно было бы привести аналогию
между фрейдистским методом «свободных ассоциаций» и методом
фиксации «семейных сходств»). В особенности данная процедура
уместна для излечения от философской «бессмыслицы». При этом
Витгенштейн, как подметил английский философ Э. Кении, считал,
что подобная разрушительная тенденция в его философии опасна не
только для различных философских систем, но и для «внутренней фи-
лософии» каждого из нас, наличие которой есть необходимая черта
человеческого бытия3. А в экзистенциальном плане такая «филосо-
фия» может подчас вести к печальным результатам.
Свое общее отношение к психоанализу Витгенштейн, к сожале-
нию, так никогда и не выразил в систематической форме. Поэтому
возможна лишь реконструкция этого его отношения по отдельным со-
1 Wittgenstein L Philosophical Grammar. P. 381—382.
2 Подобных, например, парадоксальному предложению, приводившемуся
Дж. Э. Муром: «Идет дождь, но я в это не верю».
3 См.: Kenny A., McGuinness В. F., Nyiri J.C. (eds.) Wittgenstein and His Times.
Oxford, 1982. P. 13.
198
хранившимся фрагментам. Вместе с тем обращает на себя внимание
то, что именно под непосредственным воздействием его педагогиче-
ской деятельности в 30-е годы в Кембриджском университете появи-
лась группа философов, поставивших своей целью развитие «тера-
певтического» направления в лингвистическом анализе (Б. Феррел,
Д. Уиздом, Э. Эмброуз, М. Лазеровиц и некоторые другие). Для того
чтобы оценить эту линию витгенштейнианства, а также принципиаль-
ную возможность лингвофилософской терапии как таковой, мы обра-
тимся к отдельным работам Мориса Лазеровица разных лет, которые
в данном отношении наиболее показательны. Этот философ1 из всех
представителей «терапевтического» направления, возможно, зани-
мает самую радикальную позицию. Важно и то, что его работы по сво-
ему жанру представляют собой как метафилософское исследование,
так и размышления о психологической подоснове философских тео-
рий и изучаемых ими проблем.
Лазеровиц в недвусмысленной форме определяет свою главную
критическую установку: «Философская теория есть, в сущности, бес-
сознательно сконструированный семантический обман. Лингвистиче-
ский анализ, благодаря процессу, который может быть описан как се-
мантическая размаскировка, проясняет то, что философ делает со
словами, когда он выдвигает свою теорию и аргументирует в ее поль-
зу»2. Он считает, что каждый философ в той или иной степени строит
свою деятельность, исходя из сложившегося у него образа «всемогу-
щего мыслителя», которому стремится уподобиться. При этом фило-
софы имплицитно изменяют общепринятые языковые конструкции,
впадая в иллюзию, будто это способствует объяснению всего того, что
происходит в окружающем их мире. Они создают «мечты», которыми,
по их замыслу, можно было бы поделиться с другими людьми, но одно-
временно убеждают себя, будто занимаются наукой о самой реально-
сти. Поэтому многие из них имеют скорее всего искаженное представ-
ление о своей собственной деятельности.
Так называемый философский взгляд на вещи, настаивает Лазе-
ровиц, ес;ть чисто «грамматическое» изобретение, результат ничем не
ограничиваемого словотворчества. Поэтому важно учитывать то, что
именно Витгенштейн указал путь проникновения в структуру семан-
тической иллюзии, а Фрейд объяснил, почему нам так сложно от нее
1 Его преподавательская деятельность (как и деятельность Э. Эмброуз) проходила
в основном в США.
2 LazerowitzM. The Language of Philosophy: Freud and Wittgenstein. Boston, 1977.
P. XII.
199
избавиться. Причем первый фактически рассматривал философию
как разновидность невроза, нуждающегося в лечении.
У позднего Витгенштейна, согласно Лазеровицу, можно обнару-
жить обсуждение различных фрейдистских тем. Так, в частности, он
обращает внимание на то, что в текстах австрийского философа
встречается важное в методологическом отношении рассуждение по
поводу понятия «бессознательное мышление». По Витгенштейну, от-
каз отданного понятия, исключение его из словаря философской лек-
сики будет означать отказ от более привычного нам понятия «осоз-
нанное мышление». А это привело бы к тому, что философы уже боль-
ше не могли бы характеризовать любую свою мысль словом «осоз-
нанная», что, разумеется, абсурдно. На самом деле они неизбежно
участвуют в «играх» с обоими понятиями, лишь подавляя первое из
них и неограниченно применяя второе1.
В работах Лазеровица настойчиво проводится мысль о том, будто
некая таинственность предложений «традиционной» философии сра-
зу же исчезнет, если сами философы исследуют, каким образом «не-
обходимый» характер этих предложений может быть выражен в есте-
ственном языке. При этом окажется, что наличие у многих философ-
ских предложений свойства априорной необходимости на самом деле
свидетельствует о том, что, подобно логическим тавтологиям, они в
действительности ничего не говорят о мире и его структуре. Легко
убедиться, что отрицание содержания подобных предложений отнюдь
не равносильно негативному утверждению о том, какой не может быть
структура мира. Поэтому наиболее высоко ценимые в философии
«необходимые» предложения суть лишь правила «грамматики» упот-
ребления. Отсюда Лазеровиц делает вывод о несовместимости требо-
ваний необходимости и содержательности (в смысле обозначения са-
мой «реальности»).
Опасность философских теорий лингвистические «терапевты»
видят в онтологизации этими теориями отдельных языковых форм,
что, по их мнению, маскирует закономерности реальной языковой
практики. К примеру, платоновская теория идей оценивается предста-
вителями данного направления как закономерное следствие скрытой
иллюзии, будто осмысленное повествовательное предложение всегда
1 Данный пример взятЛазеровицем из «Голубой книги» (WittgensteinL The Blue
and Brown Books. P. 45—46, 56—58), где употребление слов без допущения возмож-
ности их антитезиса в принципе квалифицируется как ошибочное, способное порож-
дать метафизические заблуждения. Лингвистические философы в связи с этим даже го-
ворили о так называемой контрастной теории значения (фактически же речь шла об
одном из критериев осмысленности слов и словосочетаний).
200
о чем-то высказывается, обязательно имеет свой денотат. Из подоб-
ных «онтологизирующих» установок вытекает широко распростра-
ненный взгляд, будто все философские споры возникают именно по
поводу истинностного значения теорий, их соответствия или несоот-
ветствия реальности. А этот взгляд не согласуется с поздневитген-
штейновским функциональным подходом к языковому значению:
«Куда более вероятно, что философские утверждения не имеют ис-
тинностного значения, чем то, что они обладают таким значением, по
поводу которого сами философы, однако, никак не могут достичь со-
гласия»1.
Отличительной особенностью философских учений Лазеровиц
признает то, что внутренне присущие им противоречия и парадоксы
сохраняются подчас очень долго. Он пытается объяснить это обстоя-
тельство, используя вышеупомянутый принцип, в соответствии с ко-
торым осмысленное употребление некоторого термина языка обяза-
тельно связано с наличием другого — антитетического — термина.
Метафизическая иллюзия в философских учениях с этой точки зрения
возникает лишь в результате попыток исключить из употребления
одно из антитетических значений. Например, распространенный сре-
ди некоторых философов взгляд, согласно которому опыт каждого из
нас является сугубо личным и не доступен кому-либо другому, на са-
мом деле есть лишь маскировка противоречивого мнения, будто бес-
сознательное существует, и, однако, его содержание нами все же
как-то осознается2. Но в наличии такого мнения философы, естест-
венно, не признаются. Так что искусная маскировка скрывает их под-
линную сущность.
Повествовательному предложению, подчеркивает Лазеровиц,
только тогда присуще некоторое эмпирическое содержание, когда до-
пускается, что описываемая им ситуация может быть иной. История
философии свидетельствует о разной реакции философов на такую
антитетичность языка. Например, философы вроде Зенона Элейского
или Ф. Брэдли из факта самопротиворечивости наших понятий о явле-
ниях в пространстве и во времени делают категоричный вывод о нере-
альности вещей и процессов внешнего мира и наличии особой, абсо-
лютной реальности. А вот утверждения мистически настроенных фи-
лософов, обычно высказываемые ими в противоречивой форме, от-
нюдь не выражают какой-либо особый, не доступный другим людям
вид опыта. Просто мистики сознательно стремятся приводить проти-
1 Lazerowitz M. The Language of Philosophy: Freud and Wittgenstein. P. 65.
2 См.: Ibid. P. 69.
201
воположности к единству, и это свидетельствует о том, что они припи-
сывают одним и тем же словам антитетические смыслы. Именно та-
ким путем проявляется сильное желание мистиков выразить свои
внутренние — бессознательные — психические состояния, обла-
дающие немалой побудительной силой для других людей, внимаю-
щих им.
Иной вопрос, поднимаемый в данной связи Лазеровицем,— это
вопрос о соотношении «здравомыслия» и рационализированных
взглядов метафизиков. Он признает, что одни и те же вещи и явления
могут быть представлены в философии иначе, чем в непосредствен-
ном жизненном процессе и его отражении в повседневном психиче-
ском опыте людей. При этом Лазеровица крайне удивляет уверен-
ность отдельных философов в том, будто предлагаемые ими измене-
ния («усовершенствования») языка способны повлечь за собой ка-
кие-то изменения в мире. Изучая и корректируя обыденное
употребление слов и предложений, они надеются решать подлинные
философские проблемы, касающиеся самой реальности. Но такая
«лингвистическая философия», по оценке Лазеровица, мало чем от-
личается от собственно метафизической философии, полагающей,
что она описывает и объясняет реальность как таковую в своих апри-
орно необходимых предложениях. Как видим, его критические стрелы
были направлены и против иных — нетерапевтических — вариантов
философии лингвистического анализа, также не избежавших «мета-
физической иллюзии».
Онтология, традиционно занимающая центральное место в фило-
софском знании, для Лазеровица — та же языковая игра, все ходы в
которой делаются в форме специфического дискурса. «Если говорить
афористическим образом, то онтологию любого философа можно
представить как онтологически выраженную грамматику»1. Благода-
ря этим происходящим на глубинном уровне «играм» философы полу-
чают возможность формулировать свои странные и загадочные для
большинства других людей мысли. Но и за языковой игрой обязатель-
но стоит некоторая определяющая ее психологическая реальность,
которая, как правило, не осознается. Философы разных направлений
никак не могут освободиться от иллюзии, будто все их словесные спо-
ры и в самом деле касаются существования и природы вещей. Психо-
анализ обнаружил, что значительная часть философской работы про-
исходит в наименее «освещенной» части ума. Онтологическую иллю-
зию выражает придуманная философами семантика. На более глубо-
1 LazerowitzM. The Language of Philosophy: Freud and Wittgenstein. P. 125.
202
ком уровне лежат вытесненные мысли, которые выражены в
философских предложениях.
К примеру, грандиозная метафизическая система Спинозы, по Ла-
зеровицу, есть порождение воображаемого всемогущества нидер-
ландского мыслителя, и она в определенной мере служила ему ком-
пенсацией за пережитые им трудности. Лазеровиц также сравнивает
деятельность метафизика с деятельностью математика, якобы полу-
чающего скрытое удовлетворение от своих рассуждений об актуально
бесконечном. При этом идея такой бесконечности связывается им на
бессознательном уровне с идеей Бога как персонификацией беско-
нечного величия.
Саму иллюзию же лингвистические «терапевты» определяют как
такое убеждение, которое построено именно на неосознанном, подав-
ленном желании, а не на фактическом свидетельстве, доступном под-
тверждению или опровержению. При этом они специально подчерки-
вают, что философская иллюзия отличается от религиозной. Дело в
том, что религиозные верования, по их мнению, имеют прямое отно-
шение к реальности, а также к тому, чего мы можем от нее ожидать.
Философия же представляется как лингвистически измышленная ил-
люзия, отнюдь не обязательно фиксирующая свойства реальности.
«Едва ли будет преувеличением описать ее как бессознательное се-
мантическое мошенничество, с помощью которого обманывают само-
го мошенника»,— категорически заявляет Лазеровиц1.
По оценке «терапевтов», чисто концептуальный анализ, практи-
куемый отдельными философами, не приводит непосредственно к ве-
щам и явлениям, ибо в значениях слов можно найти лишь то, что мы
сами в них вложили в ходе их употребления. Поэтому наивно считать,
указывал Лазеровиц, будто мы способны получить фактическую ин-
формацию о вещах, изучая обозначающие их понятия. Это заблужде-
ние объявляется результатом бессознательной веры в фантастиче-
ское всемогущество понятийного мышления, веры, закрепившейся у
многих поколений философов. Когда с помощью словесных маневров
они создают онтологическую основу языкового выражения мысли, то
как бы ощущают себя «космологическими картографами». Но содер-
жание метафизической теории в буквальном смысле испарится, если
будет продемонстрировано, что предложения ее онтологии имеют ис-
ключительно вербальный характер. «Терапевты» призывают всех
лингвистических философов вслед за Витгенштейном смело разобла-
LazerowitzM. The Language of Philosophy: Freud and Wittgenstein. P. 163.
203
чать такой характер, скрытый за привлекательным «онтологическим
фасадом».
Одной из самых характерных черт философской иллюзии Лазеро-
виц, как мы знаем, считает идею необходимости, обычно связываемую
с идеей априорности. На его взгляд, объекты своих априорно-необхо-
димых суждений философы зачастую просто измышляют. Правда, не-
которые очевидные заблуждения относительно необходимости могут
временно уходить на второй план, но все же они никогда не исчезают
совсем. Это обстоятельство косвенно проявляется и в том факте, что
философские споры, как правило, не имеют конца. Мнение, будто фи-
лософия работает подобно конкретной науке, столь же далеко от ис-
тины, как и мнение, будто философии обязательно присуще какое-ли-
бо теоретическое содержание. Витгенштейн, замечает Лазеровиц, не
без основания намекал на то, что любая философская теория есть раз-
новидность невротического симптома. Но при этом не следует забы-
вать, что это такое заболевание, от которого сами философы отнюдь
не стремятся излечиться. «Философ является в равной степени порт-
ным и королем, обманщиком и обманутым»1.
Для осознания смысла подобной парадоксальной ситуации Лазе-
ровиц предлагает посмотреть на философию «извне», с метафило-
софских позиций. Тогда, как он надеется, станет очевидным, что фи-
лософские проблемы суть не просто головоломки, распутываемые с
помощью лингвистического анализа, но что они — особые языковые
игры, внутренние правила которых необходимо эксплицировать и по-
нять2. Учет данного обстоятельства очень важен для успешного осу-
ществления «терапии».
По свидетельству учившегося у Витгенштейна Лазеровица, тот в
лекциях 30-х годов якобы прямо признавал разрушительный характер
своей деятельности в отношении собственно философских теорий.
«Философская теория,— утверждает в этой связи Лазеровиц,— есть
ошибочно осуществленное введение некоторой измененной термино-
логии»3. Он уверен, что подобное резко критическое истолкование
предмета философии позволяет зафиксировать то обстоятельство,
что философы незаметным образом ревизуют общепринятые крите-
рии и нормы употребления выражений естественного языка. Пере-
фразируя известное высказывание Витгенштейна, Лазеровиц гово-
1 Apel K.O. Wittgenstein and the Problem of Hermeneutic Understanding//
L.Wittgenstein: Critical Assesments. L, 1982. V. IV. P. 200.
2 Lazerowitz M. Philosophy and Illusion. L, 1968. P. 58.
3 Ibid. P. 66.
204
рит, что терапевтический подход позволяет объяснить, почему «мухе
нельзя указать выход из бутылки». И все дело в том, что сама эта
«муха» не хочет покидать свой дом. «В фокусе оказывается образ фи-
лософа как того, как внимательно рассматривает запутанную карту
языка, но в отличие от грамматика или создателя тезауруса не удовле-
творяется знанием о правилах, запечатленных в языке, а различными
путями изменяет сами правила»1. В этой связи выдвинуть некоторую
философскую идею означает так использовать язык, чтобы возникла
иллюзия, будто на самом деле была сформулирована содержательная
теория относительно свойств реальности.
Раз за разом Лазеровиц напоминает своим читателям, что уже
Витгенштейн осознал важность для раскрытия специфики философии
ясного понимания природы составляющих ее базис «необходимых»
предложений. Упор на вербальный, конвенциональный характер по-
добных предложений был нужен ему для того, чтобы развеять распро-
страненное мнение, будто они — какие-то загадочные, не доступные
нашему пониманию сущности2.
Адекватная трактовка сути витгенштейновского конвенционализ-
ма, согласно Лазеровицу, также способствует осознанию того обстоя-
тельства, что если, к примеру, в математике наличие внутреннего про-
тиворечия элиминирует само содержащее его предложение3, то в фи-
лософии этого обычно не происходит. Философские предложения об-
ладают определенным запасом прочности, но это дается им слишком
дорогой ценой.
Итак, «терапевтическое» витгенштейнианство, о чем можно су-
дить по приведенному в этом разделе материалу, оказалось достаточ-
но бескомпромиссной (если не «экстремистской»!) доктриной, кото-
рая, по замыслу, должна нести разрушение прочному зданию фило-
софской традиции (включая даже работы других представителей ана-
литического направления, например сторонников концептуального
анализа). Думается, что к деятельности самих «терапевтов» можно
было бы подойти с их же собственной меркой, а именно рассматри-
вать данную позицию как завуалированный, бессознательный протест
1 Lazerowitz M. Philosophy and Illusion. P. 69.
2 Lazerowitz M.p Ambrose A. Necessity and Language. L., 1985. P. 22.
3 Лазеровиц в данном случае некорректен, ибо витгенштейновская философия ма-
тематики как раз подчеркивает конструктивную роль неэлиминируемых противоречий в
математических системах. Об этом см. нашу статью: Грязное А.Ф. Л. Витгенштейн о
методологических вопросах математического знания//Вестник Московского Универ-
ситета. Сер. Философия. 1987. № 4.
205
против сугубо академического, традиционалистского подхода к фило-
софской науке, зачастую обрекающего ее на вечное пребывание в ил-
люзии абстрактного системосозидания. Но если возможно лечение
этого заболевания, то каким в конце концов окажется здоровое ее со-
стояние? Напрасно было бы ожидать от представителей данного на-
правления ответа на этот вопрос.
Очевидно, что взгляды многих крупнейших философов прошлого
представлены тем же Лазеровицем в каком-то окарикатуренном виде,
как сплошные рационализации скрытых иллюзий и желаний. В таком
виде данная доктрина столь же несостоятельна, как и крайняя версия
«антиметафизической» программы Венского кружка логических по-
зитивистов. Эта наша оценка, разумеется, не зависит от отношения к
психоанализу как таковому. В конце концов не стоит забывать, что в
лице «терапевтов» мы имеем дело с определенной разновидностью
именно лингвистической философии. В связи с этим надо сказать,
что в целом витгенштейнианство не занимало такой враждебной пози-
ции в отношении традиционного философствования, как рассмотрен-
ное в данном разделе направление. В частности, аналитическая фило-
софия психологии не пошла по редукционистскому пути (сведению со-
держания теорий к психологической иллюзии), проложенному «тера-
певтами». Это позволяет нам в данном плане считать их доктрину
тупиковой. В дискуссиях последних лет практически невозможно
встретить ее сторонников.
И тем не менее взгляды представителей указанного направления
можно рассматривать как последовательную реализацию одной из на-
меченных в поздних тестах Витгенштейна тенденций истолкования
философской деятельности. Лингвистические «терапевты» как бы в
чистом ввде поставили свой оригинальный эксперимент по проверке
пригодности этого истолкования. При этом очевидная неприемле-
мость их методологии еще не означает, что вообще не имеет смысла
говорить о возможном «терапевтическом» эффекте философии. Ведь
когда философы рассуждают о ее «преобразующей силе», то они, как
правило, имеют в виду и самого человека, преобразующее воздейст-
вие на которого философии способно освободить его сознание от мно-
гих «идолов», излечить от ложных представлений, раскрепостив все
его творческие силы и моральный потенциал. Истоки такой позиции
совсем не обязательно искать в мнимой идее «всемогущества», будто
бы припрятанной в глубинах подсознания. В своей критической функ-
ции философия, как это было, например, показано еще на ранних эта-
пах становления марксистского учения, способна выполнять разру-
шительную (и одновременно конструктивную!) функцию в отношении
сложившихся видов «ложного сознания», идеологической мифологии
206
и абстрактного системосозидания. Необходимо осознать, что критика
языковых стереотипов и семантических иллюзий, не будучи самоце-
лью, играет в этом процессе далеко не последнюю роль. Если иметь в
виду собственно философские идеи, то расшифровка их содержания в
структурах индивидуальной и социальной деятельности должна стро-
иться с учетом понимания самого языка как одной из важнейших форм
человеческой деятельности. В этом контексте, между прочим, могут
более определенно выявиться позитивные аспекты Витгенштейнов -
ской функциональной концепции языкового значения.
2. Диспозициональная модель психики
Даже после того как в конце XIX века психология окончательно
конституировалась в самостоятельную науку, философия не переста-
ла заниматься теми проблемами истолкования сферы психического, с
которыми она имела дело на протяжении столетий. Другой вопрос, что
изменились угол зрения и сама методология философского исследова-
ния психики. Конечно, философия и психология продолжали взаимо-
действовать, между ними возникали сложные, во многом непредска-
зуемые теоретические отношения. Одним из наиболее распростра-
ненных направлений исследования стала философская интерпрета-
ция смысла новейших открытий психологической науки. Идя этим
путем, философия, однако, зачастую просто сливается с теоретиче-
ской психологией как таковой. Впрочем, похожая ситуация имеет
место (хотя и в разной степени) в философии физики, философии ма-
тематики, философии биологии и других дисциплинах подобного рода.
Наряду с отмеченной «посреднической» тенденцией в философии
XX века можно зафиксировать попытки чисто философского (по
крайней мере по замыслу) рассмотрения сферы психического. Любо-
пытно, что философское изучение отдельных сторон и уровней психи-
ки (например, сознания) нередко происходило под флагом антипсихо-
логизма (как это, в частности, имело место в ранних феноменологиче-
ских теориях) или антифеноменализма. Сторонники такого «пурист-
ского» направления исходили из мнения, что философия должна
оставаться философией, даже изучая особенности психической ре-
альности. За этим, разумеется, скрывались не просто «цеховые» ам-
биции отдельных воспитанных в немецкой трансценденталистской
традиции философов, но твердое убеждение в наличии собственно
философской проблематики и философских подходов в данной облас-
ти исследования.
Своеобразно отстаивали право на свой подход к этим вопросам
философы англосаксонской традиции. Особенности различных пси-
хических состояний («ментальных актов», по ставшему популярным
207
выражению английского философа П. Гича)1 рассматривались в пре-
делах основного для аналитической философии проблемного поля —
поддающихся описанию лингвистических явлений. Многим аналити-
кам показалась бесспорной связь лингвистического поведения людей
и их психических возможностей. Вопросы о свойствах и закономерно-
стях психического трансформировались у них в вопросы о том, как мы
говорим о психическом и как понимаем высказывания о нем. При
этом сам лингвистический отчет о психических процессах стал тракто-
ваться не как внешняя, случайная форма их проявления, но как важ-
нейшая и необходимая сторона психического. А для философов это и
единственно возможный путь к постижению психических закономер-
ностей. Было признано, что знание о психическом неразрывно связа-
но со всевозможными коммуникативными ситуациями.
Думается, что, даже принимая во внимание отмеченное обстоя-
тельство — приписывание центральной роли языку, не следует кате-
горически считать философов аналитического направления сторон-
никами «лингвистического идеализма» в этих вопросах. Важнее в
полной мере осознать, что в данном случае мы сталкиваемся с после-
довательными и настойчивыми попытками (удачными или неудачны-
ми — другой вопрос) осуществления собственно философского ана-
лиза психики человека. Очевидно, что философия может и должна об-
ращаться именно к концептуальной стороне наших знаний о психиче-
ском и в такой своей роли способна оказаться полезной
психологической науке, далеко не всегда чуткой к этой стороне иссле-
дуемого ею предмета.
Формирование аналитической философии психологии, а также
связанной с ней философии сознания, по времени совпадает с разра-
боткой основополагающих принципов логико-лингвистического ана-
лиза языка. В этом плане показательны опубликованные в 80-е годы
тексты Витгенштейна по философии психологии2. Правда, у тех, кто
ознакомится сданными текстами, может создаться впечатление, буд-
то подобная философия психологии принципиально не способна быть
систематической, а потому и научной. Но это впечатление, лишь от-
части верное в отношении витгенштейновских текстов, оказывается
весьма обманчивым в случае перенесения его на работы других отно-
сящихся к аналитической традиции философов, вслед за Витгенштей-
ном занимавшихся данной проблематикой.
1 См.: Geach P. Mental Acts. L, 1957.
2 См.: Wittgenstein L Remarks on the Philosophy of Psychology. Vols. 1 —2. Oxford,
1980; Wittgenstein L Last Writings on the Philosophy of Psychology. Chicago, 1982.
208
Среди наиболее характерных явлений в области философской
психологии следует назвать концепцию оксфордского аналитика Гил-
берта Райла, который в своей самой известной книге «Понятие созна-
ния» (1949)1 разработал, по его словам, «логическую географию»
знаний о явлениях психики. Не будучи, в отличие от Лазеровица, не-
посредственным учеником Витгенштейна, он, однако, близок ему в
целом ряде принципиальных вопросов, что дает основание рассматри-
вать Райла в качестве одного из ранних представителей витгенштей-
нианства. В ходе критики определенных тенденций в понимании пси-
хического он создает оригинальную диспозициональную модель пси-
хического. Как представляется, эта модель имеет парадигматический
характер: в случае ее принятия возможна коренная переоценка мно-
гих устоявшихся методологических подходов. Эта особенность делает
философско-психологический диспозиционализм объектом, заслу-
живающим специального рассмотрения в рамках исследования ос-
новных течений витгенштейнианства.
Необходимо сразу подчеркнуть, что Райл крайне негативно оцени-
вает все те понятия, с помощью которых философы, начиная с Декар-
та, описывали и объясняли психические явления. В учении о психиче-
ском, указывает он, постепенно создавался влиятельный миф, по-
строенный на представлении фактов, принадлежащих одной катего-
рии, в выражениях, связанных с другой категорией. Развеять же этот
миф способна лишь «логическая география» наших понятий о психи-
ческом.
Но о каких «категориях» говорит английский аналитик? Поясне-
ние, которое он дает данному термину, свидетельствует о своеобраз-
ном развитии им витгенштейновской идеи языковых игр: «Логический
тип, или категория, к которому принадлежит определенное понятие,
есть совокупность способов (употребления), благодаря которым ло-
гически правомерно оперировать данным понятием»2. Предполагая
именно такое понимание «категорий», философы, по Райлу, должны
показывать, почему во многих случаях употребления нами понятий о
1 Название книги («The Concept of Mind») можно было бы переводить и как «По-
нятие психического», а вот перевод «Понятие духа», думается, не соответствует замыс-
лу автора, воспитанного в британской эмпирической традиции. Кстати, Райл специаль-
но рассматривает понятие сознания (consciousness) в узком смысле слова, которое он
сопоставляет с фрейдистскими понятиями «бессознательное» и «подсознательное»,
отмечая их взаимозависимый характер.
2 Ryle G. The Concept of Mind. Harmondsworth, 1978. P. 10.
14-5739 209
психических процессах нарушаются установленные языковой практи-
кой логические границы1.
Что же касается самого «Декартова мифа», то, не вдаваясь в под-
робности его исторической реконструкции, отметим, что речь идет о
собственно дуалистической позиции, истоки которой Райл видит в
стремлении классической науки Нового времени объяснять любые
телесные явления механическими закономерностями. Поскольку эти
явления в основном поддаются наблюдению, то все, что ненаблюдае-
мо, а именно так называемые ментальные явления, объявлялось сугу-
бо индивидуальным и находящимся внутри субъекта. И если, как счи-
талось, между ментальными явлениями в разных сознаниях нельзя ус-
тановить прочные и познаваемые каузальные связи, аналогичные кау-
зальным связям в телесном мире, то в отношении своих внутренних
процессов субъект якобы обладает абсолютно достоверным знанием,
получаемым с помощью самонаблюдения. Райл называет это пред-
ставление «догмой призрака в машине» и подчеркивает, что оно по-
строено на характерной категориальной ошибке, когда все разно-
образные ментальные явления получают универсальную интерпрета-
цию в рамках одной категории.
Таким явлениям, утверждает он, по традиции приписывают те же
свойства, что и телесным, только, так сказать, со знаком минус. По-
этому гипотеза о существовании ментальной сферы оказывается как
бы «парамеханической» гипотезой. Полярное противопоставление
духа и материи основано на убеждении, будто они являются термина-
ми одного и того же логического типа (категории), хотя в действитель-
ности существование ментального и существование материально-
го — это совершенно различные виды существования, то есть раз-
личные способы употребления слова «существование» в естествен-
ном языке.
Те философы, которые занимались проблематикой духовного и
телесного, полагает Райл, необоснованно интеллектуализировали
психику, причем интеллектуальные способности, как правило, ото-
ждествлялись ими со способностью к теоретизированию. Эта послед-
няя способность же признается сугубо индивидуальной, внутренней.
Считается также, что любое разумное человеческое поведение обяза-
тельно сопровождается размышлением, происходящим «в голове».
Но именно данная метафорическая фраза приносит наибольший вред,
1 Как и у позднего Витгенштейна, содержание понятия логики у Райла не сводится
к .формальной, математической логике.
210
ибо приучает трактовать сознание как особого рода «место», насе-
ленное всевозможными фантазмами.
Английский философ далее подчеркивает, что сторонники интел-
лектуализации психики осуществляют незаконное сведение «знания
как» к теоретическому «знанию что», совершенно забывая при этом,
что первый вид знания мы обретаем непосредственно на практике, и
часто без какой-либо помощи «теории». Вместе с тем само «знание
как» не есть лишь устойчивая привычка, поскольку в процессе осмыс-
ленного поведения мы постоянно продолжаем учиться. Так что спо-
собности к определенному поведению представляют собой приобре-
тенные на практике предрасположенности — диспозиции.
Следует отметить, что в книге Райла впервые так обстоятельно
показано использование диспозициональных понятий для описания
динамики психических явлений, чего до него, пожалуй, никто из фило-
софов не делал1. В собственно логической литературе наибольшее
внимание уделяется разработке концепции диспозициональных пре-
дикатов. Этот вопрос исследуется в основном в связи с проблемой
соотношения теоретических и эмпирических терминов в научном по-
знании. Диспозициональные предикаты относят к числу теоретиче-
ских терминов, наиболее тесно связанных с эмпирией. Они фиксиру-
ют предрасположенность тел проявлять определенные свойства в не-
которой ситуации (например, свойство растворимости сахара в воде
является диспозициональным в этом смысле). Поэтому исследовате-
ли включают их в класс неявных свойств .
Разъясняя в типичной для себя манере особенности диспозицио-
нализма, Райл, в частности, писал: «Утверждение, приписывающее
диспозициональное свойство некоторой вещи, во многом, хотя и не во
всем, сходно с утверждением, подводящим эту вещь под какую-нибудь
закономерность. Обладать диспозициональным свойством — не то
же самое, что находиться в определенном состоянии или подвергаться
изменению. Это означает быть готовым (или предрасположенным) к
определенному состоянию (или изменению) в случае, если будет реа-
1 Он при этом развивал линию, намеченную Витгенштейном, кстати, указывавшим
на возможность неверной трактовки психических диспозиций: «Если говорят, что зна-
ние алфавита есть некоторое состояние ума, то имеют в виду состояние устройства ума
(вероятно, нашего мозга), с помощью которого мы объясняли проявление этого зна-
ния. Подобное состояние называют диспозицией. Но есть возражение против того, что-
бы говорить в данном случае о состоянии ума, поскольку для этого состояния должны
иметься два различных критерия: знание строения данного устройства отдельно от зна-
ния его действия» (Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 58).
2 См.: Никифоров А.Л. Определения диспозиционных предикатов//Логика и эм-
пирическое познание. М., 1972.
и- 211
лизовано некоторое условие. То же самое относится и к собственно
человеческим диспозициям вроде особенностей характера личности.
Из того, что я закоренелый курильщик, еще не вытекает, будто я и в
данный момент курю. Это свидетельствует лишь о моей постоянной
склонности курить тогда, когда я не ем, не сплю, не читаю лекцию или
не участвую в похоронах, а также если незадолго до этого не курил»1.
Неверно считать, будто диспозициональные утверждения служат со-
общениями о психических фактах определенного рода. На самом деле
такие утверждения не предназначены для сообщения ни о наблюдае-
мых, ни о ненаблюдаемых событиях. Они важнейшая часть самих этих
событий — к такому выводу пришел английский философ.
Специфика подхода Райла заключается в том, что он не ограничи-
вается приписыванием диспозициональных свойств материальным
объектам и применяет диспозициональную терминологию в сфере
психических явлений. Он при этом осознает, что сталкивается со зна-
чительно более сложными разновидностями диспозициональных от-
ношений, ибо возможные психические реакции людей на те или иные
ситуации бесконечно разнообразны. В то же время некоторые фило-
софы безосновательно, на его взгляд, стремятся унифицировать все
виды психологических диспозиций. Так, например, происходит с ин-
терпретацией употребления диспозициональных глаголов «знать» и
«верить». Это приводит к ошибочному пониманию данных явлений
как чисто интеллектуальных процессов, якобы протекающих «внут-
ри» субъекта.
По Райлу, употребление глагола «знать» в естественном языке
таково, что он означает именно способность, которая может быть реа-
лизована. А вот глаголом «верить» обозначается тенденция возмож-
ного поведения, и с ним концептуально не связана необходимость реа-
лизации этой способности. «Знание как» — это знание-умение, и оно
не требует для своей реализации наличия некоторого параллельного
психического процесса в голове. Однако очень часто подобные при-
зрачные процессы рассматриваются в качестве главного критерия ин-
теллектуальности поведения. «Сознание,— подчеркивает Райл,—
не есть название для некоего субъекта, работающего или проказни-
чающего за непроницаемым экраном; и это не название особого мес-
та, где осуществляется работа или играются игры; не является оно и
названием инструмента, с помощью которого осуществляется работа,
или же некоторым приспособлением для игры»2. Такое чисто негатив-
1 Ryle G. The Concept of Mind. P. 43.
2 Ibid. P. 50.
212
ное понимание сознания согласуется с общей антисубстанциалист-
ской позицией английского философа, безусловно следующего в этом
плане за Витгенштейном.
Важной стороной «знания как» является понимание. Но понима-
ние чьих-либо слов или поступков, по Райлу, тоже не представляет со-
бой «оккультный» процесс1. Как и многие другие психические спо-
собности человека, оно часто оказывается несовершенным. При этом
внешнее, наблюдаемое поведение людей не следует рассматривать
лишь как ключ к пониманию понимания: такое поведение и есть про-
явление понимания. Побочным продуктом «знания как» выступает
непонимание, ибо наши ошибки суть другая сторона нашей компе-
тентности в чем-либо. И наоборот, там, где имеет место неверное по-
нимание, там возможно и правильное понимание, специально указы-
вает Райл. Примечательно, что в данном случае он строит свои рассу-
ждения на знакомой нам контрастной теории значения, согласно кото-
рой термины лишь тогда значимы, когда в языке употребимы
противоположные им термины. Этот взгляд был особенно распро-
странен в 30—50-е годы среди британских представителей филосо-
фии «обыденного языка».
Приведенные рассуждения непосредственно выводят Райла на
проблему понимания (познания) других сознаний, которую он предла-
гает решать самым радикальным образом: «Обнаружить, что боль-
шинство людей (за исключением идиотов и грудных младенцев) обла-
дают сознанием, просто означает понять, что они способны делать
(курсив мой.— А.Г.)определенного рода вещи, и в этом нам помогает
наблюдение»2. А вот догма «призрака в машине» превращает другие
сознания в непроницаемые сущности. Приверженцы этой догмы, за-
мечает английский философ, чаще всего ссылаются на наличие у лю-
дей эмоций как на подтверждение существования внутреннего и сугу-
бо индивидуального опыта субъекта. Но если бы это было верно, то
люди оставались бы по отношению друг к другу абсолютной тайной и
не могли бы иметь между собой никаких общих дел. К тому же описа-
ние «эмоций» в естественном языке, с точки зрения Райла, сводимо к
1 Ср. у Витгенштейна: «Попытайся рассматривать понимание вообще не как «ду-
ховный процесс»! Ибо это то самое выражение, которое запутывает тебя. Но спроси
себя: в каких случаях, при каких обстоятельствах мы говорим: «Сейчас я знаю, как про-
должать дальше»... В том смысле, в каком есть процессы (включая духовные), для кото-
рых характерно понимание, само понимание не есть духовный процесс» ( Wittgenstein L
Philosophical Investigations. P. 61).
2 Ryle G. The Concept of Mind. P. 59.
213
описанию наших мотивов и намерений, являющихся составной частью
доступных наблюдению действий.
В рассматриваемой книге осуществлено детальное исследование
понятий, служащих для обозначения психических явлений. Оно начи-
нается с понятия воли. Это, по мнению Райла, «техническое» поня-
тие — нечто вроде понятий «животные духи» и «флогистон», кото-
рые вышли из употребления. В физике давно отброшено понятие
силы в смысле некоторой оккультной или антропоморфной способно-
сти тел, а вот в философии психологии еще предостаточно подобных
понятий. Он надеется, что после осуществленной им критики, в част-
ности, отпадет надобность в понятии воли (по крайней мере в его ме-
тафизическом употреблении). Дело в том, что представление об осо-
бых волевых процессах в психике рассматривается им как закономер-
ный результат принятия вышеупомянутой «догмы». Язык, на котором
описываются волевые процессы, является «парамеханическим», бук-
вально кишащим категориальными ошибками. Вообще доктрина «во-
ления» оценивается Райлом как каузальная гипотеза, возникшая по-
тому, что в свое время — в эпоху становления классической нау-
ки — неправильно истолковали вопрос: «Что заставляет некоторое
тело двигаться произвольно?» Сугубо каузальную трактовку данного
вопроса без изменения переносили в сферу человеческого поведения.
В дальнейшем из-за нарушения логики употребления ментальных по-
нятий возникла «псевдопроблема» свободы воли. Так понятие воли
получило неоправданно широкое истолкование.
Английский философ конкретизирует свое понимание психофизи-
ческого дуализм, подчеркивая, что этот дуализм имеет аналог в позна-
вательной сфере. Подобно тому как мы считаем внешние предметы
доступными нам во внешнем восприятии, мы измышляем еще и
внутреннее восприятие, якобы дающее нам достоверное знание о
том, что происходит в сознании. Только подчеркивается, что это не-
обычное — как бы утонченное — восприятие (у сознания-де имеется
привилегированный доступ к своим внутренним «объектам»). В то же
время все признают, что нам не присуще столь же безошибочное вос-
приятие внешних объектов, поскольку хорошо известны многочис-
ленные факты перцептуальных иллюзий.
Несколько неожиданным кажется на первый взгляд райловское
утверждение, будто подобное понимание сознания имело своим ис-
точником ту значительную роль, которая в XVII—XVIII веках отводи-
лась в механистических картинах процессов внешнего мира свету.
Особо важной в этом плане он считает локковскую философско-пси-
хологическую концепцию рефлексии (интроспекции), основная тер-
минология которой заимствована именно из оптики. Так что миф об
214
осознании умом своих внутренних объектов представляет собой обра-
зец «параоптики». Заблуждение заключалось не в признании того,
что мы и в самом деле осознаем нечто о самих себе, а в привлечении
для объяснения этого очевидного факта особой теории самонаблюде-
ния. Кроме того, интроспекцией зачастую подменяют такое характер-
ное явление, как ретроспеция, объектами которой оказываются фак-
ты автобиографии человека. Но сама по себе способность ретроспек-
ции еще не свидетельствует о каком-то привилегированном доступе к
фактам «внутренней жизни». Любой личный дневник есть свидетель-
ство не о призрачных эпизодах, а важный источник относительно дос-
товерной информации о характере самого автора дневника.
По Райлу, ставить вопросы о взаимоотношении личности и ее соз-
нания столь же неправомерно, как и вопросы о взаимоотношении лич-
ности и ее тела: и те и другие вопросы нарушают естественную логику
языка, «обычные» способы употребления слов. Фиксация менталь-
ных способностей есть для него индуктивный процесс выведения за-
коноподобных утверждений из наблюдаемых действий личности, ее
реакций. Полагая, что наше знание о самих себе и о других людях за-
висит от способности наблюдать свое и чужое поведение, английский
философ, как видно, сближается с позицией психологов-бихевиори-
стов. Мы еще вернемся к данному вопросу в связи с его собственными
высказываниями на этот счет.
В ходе критики представлений о решающей роли интроспектиции
Райл обращается к такому неуловимому, по его словам, понятию, как
понятие «я». Он считает, что в плане лингвистического употребления
данное понятие существенно отличается отличных местоимений «ты»
и «он». Особенность «я» заключается в том, что оно всегда указывает
«на меня и только на меня». Это как бы моя тень, которая, впрочем, не
является чем-то мистическим. Просто употребление в языке слова
«я» в некотором смысле аналогично употреблению слова «сейчас».
Непонимание естественной логики данного слова тоже служит одним
из источников представления о привилегированном доступе сознания
к своим внутренним объектам.
В качестве комментария следует заметить, что Райл в данном слу-
чае затрагивает дискуссионный вопрос о так называемых индексалах,
словах, значение которых исключительно контекстуально. Для того
чтобы знать характер их референции, необходимо знать, кто, когда и
где их произносит (или пишет). В этом плане индексалами оказывают-
ся личные местоимения, временные глаголы, слова типа «здесь»,
«сейчас», «теперь», «сегодня», «завтра», «вчера». Однако англий-
ский философ выступает против включения всех этих слов в одну об-
щую группу, подчеркивая уникальный характер употребления каждо-
215
го из них в естественном языке. В особенности это касается употреб-
ления слова «я», которое совершенно однозначно указывает на свой
объект. Цели райловского лингвистического анализа повседневного
употребления психологических понятий не совпадают в этом вопросе
с целями собственно формально-логического исследования индекса-
лов. Впрочем, эта ситуация достаточно характерна для его диспози-
ционального подхода, игнорирующего методы «строгой» логики.
В книге Райла специально выделен тот факт, что люди, как прави-
ло, описывают свои психические состояния в нейтральных терминах.
Таким терминам они учатся другу друга в процессе общения. В част-
ности, мы описываем наши собственные ощущения, указывая на того,
кто их наблюдает, и на то, что наблюдают. При этом, однако, в фи-
лософии психологии следует учитывать, что слова «ощущать» и «на-
блюдать» различаются категориально. Поскольку ощущения сами по
себе не являются объектами наблюдения, постольку нет смысла гово-
рить об особых объектах моего «привилегированного наблюдения» и
противопоставлять им объекты, доступные для наблюдения другими
людьми. Ошибочное разделение на публичный и сугубо индивиду-
альный опыт вытекает именно из этого противопоставления.
Строго говоря, продолжает Райл, наблюдать можно только вещи и
события, и не ощущения. Однако, рассуждая об ощущениях в теоре-
тическом плане, многие философы стремятся характеризовать их как
особые вещи или события, уникальным образом присущие отдельно-
му человеку. «Ощущать не означает следить за объектами или фикси-
ровать их; следить и фиксировать некоторые вещи и эпизоды не озна-
чает обладать ими в том смысле, в каком мы обладаем ощущениями»{.
Сближение понятий «ощущение» и «наблюдение» превращает каж-
дое из них в бессмысленное. Ведь ощущать — это совсем не то же са-
мое, что находиться в когнитивном отношении к объекту. Поэтому
Райл и указывает, что теория «чувственных данных» Дж.Э. Мура и
некоторых других британских философов, ставящая в центр внимания
непосредственно воспринимаемые «объекты чувств», безоснова-
тельно придает понятию ощущения те же самые функции, которыми в
естественном языке обладает понятие наблюдения. И нам, предупре-
ждает он, не следует возводить личные «театры», дабы предоставлять
сцену каким-то несуществующим объектам.
Все сказанное с необходимостью приводит Райла к оценке эписте-
мологии феноменализма. Это, на его взгляд, редукционистская пози-
ция, построенная на сведении предложений относительно внешних
1 Ryle G. The Concept of Mind. P. 200.
216
вещей к предложениям относительно «объектов чувств». Но послед-
няя фраза, как уже было показано, лишена смысла, ибо на деле мы не
можем описывать ощущения, не прибегая к словарю внешних вещей.
Сами же ощущения нельзя считать ни истинными, ни ошибочными. И
это также служит возражением мнению, будто самопознание дает аб-
солютно достоверное знание. К примеру, такое понятие, как «чувст-
венное впечатление», по Райлу, есть незаконная трансформация на-
шего обычного понимания осязательного восприятия.
Для райловской «логической географии» оказалось важным оце-
нить и понятие воображения, поскольку, по мнению английского фи-
лософа, это понятие часто рассматривают в качестве синонима поня-
тия ментального как такового. Хотя в наличии у человека способности
воображения и нельзя сомневаться, но реализация данной способно-
сти совсем не обязательно должна сопровождаться появлением мен-
тальных образов в голове. «Воображение, будучи одним из способов
использования знания, предполагает, что соответствующее знание
было получено и сохранено. Парамеханическая гипотеза следов (в го-
лове.— AT.) не более необходима для объяснения нашей ограничен-
ной способности видеть вещи глазами сознания, чем для объяснения
нашей способности переводить с французского на английский. Все,
что требуется, так это понять, что обучение урокам восприятия пред-
полагает само восприятие, что применение этих уроков предполагает,
что они и в самом деле были получены и что воображение есть один из
путей использования таких уроков»1.
Что же касается тех «внутренних» процедур, которые философы
традиционно приписывают человеческому интеллекту, то при их ин-
терпретации, на взгляд Райла, выявляются серьезные недоразумения.
Дело в том, что, вопреки распространенному мнению, понимать
что-либо отнюдь не означает выводить заключение относительно ка-
кой-то ненаблюдаемой причины. Если определенное выражение по-
нимают, это свидетельствует, что его значение нельзя приписывать
только одному субъекту. Наличие значения у выражения также не
дает основания считать, будто в голове каждого человека значению
соответствуют свои уникальные внутренние процессы. Неверно и ха-
рактеризовать мышление как «теневое» (или «закадровое») аргумен-
тирование, утверждение или именование. Мышление некоторой мыс-
ли есть не что иное, как произнесение чего-либо вслух или про себя.
Правильному истолкованию характера интеллектуальных операций
(например, теоретизирования) мешают аналогии этих операций с чув-
1 Ryle G. The Concept of Mind. P. 257.
217
ственным восприятием (особенно зрительным), относящимся в клас-
сификации Райла к совсем другой логической категории.
В качестве основного средства для передачи знания английский
философ рассматривает дидактический дискурс. Таковой, считает он,
предназначен прежде всего для инструктирования с целью осуществ-
ления той или иной деятельности на основе «знания как». Имеется
множество отличающихся друг от друга способов решения этой зада-
чи. Собственно интеллектуальная деятельность только потому и обла-
дает высоким статусом в культуре, что она непосредственно связана с
дидактическим дискурсом, убеждает Райл.
В ходе проводимого им исследования он сталкивается с вопросом:
если отказаться от внутренних объектов, обычно приписываемых соз-
нанию, то что же тогда остается на долю эпистемологических исследо-
ваний, занимающихся подобного рода объектами? По его мнению,
многие эпистемологи оказались в плену всевозможных парафизиоло-
гических гипотез, некритически допустили существование особых
когнитивных актов или процессов. Ненаблюдаемость этих процессов
рассматривалась как решающий аргумент в пользу их якобы внутрен-
него характера. Райл надеется, что после осуществленной в его книге
критики за эпистемологией могут сохраниться лишь два основных
значения, которые следует четко различать: эпистемология как тео-
рия науки и как теория обучения (своеобразная методология образо-
вания, то есть постижения лингвистического значения слов и слово-
сочетаний в процессе деятельности).
Другое дело психология. Отношение к ней английский аналитик
высказывает в заключительной главе книги. Свое собственное иссле-
дование он относит не к «научной», а к «философской» психологии,
описывающей логическое поведение различных понятий, обозначаю-
щих психические процессы. Это такие понятия, использование кото-
рых в психологии не отличается от их использования во многих других
областях человеческой деятельности. Райл в связи с этим обращает
внимание на то обстоятельство, что само слово «психология» возник-
ло тогда, когда легенда о «двух мирах» — духовном и телесном —
уже считалась непререкаемой истиной. Под психологией главным об-
разом понимали эмпирическое исследование ментальных явлений на
основе некоторых принципов. Это был определенного рода аналог
ньютонианского естествознания. Но в отличие от естествознания, од-
нако, считалось, что психология имеет дело прежде всего с тем мате-
риалом, который непосредственно не дан зрительному, слуховому или
осязательному восприятию, и потому-де эта наука обладает привиле-
гированным доступом к психике.
218
То, что человек в конце концов перестанет рассматриваться в ка-
честве «призрака в машине», совсем не будет означать, что он дегра-
дирует до уровня самой машины, подчеркивает Райл. Он уверен, что
безоговорочный отказ от легенды о «двух мирах» мог бы вернуть че-
ловеческим действиям и реакциям их действительный статус, и в даль-
нейшем им уже невозможно было бы приписывать эфемерный статус
«ментальных явлений». Психологи-практики перестали бы занимать-
ся описанием чего-то мистического, недоступного наблюдению. По-
степенно к ним пришло бы понимание того, что поскольку психология
не есть прямой аналог ньютонианской науки, то вряд ли можно гово-
рить о ней как о едином научном исследовании. Скорее это некоторая
«федерация» различных подходов и методов, ибо не существует уни-
кального поля ментальных феноменов как единственного объекта ис-
следования.
Психологическое исследование, по Райлу, никак нельзя прирав-
нивать к естественнонаучному поиску каузальных объяснений при-
родных феноменов. В то же время следует помнить, что оно не являет-
ся единственно возможным путем изучения человеческих способно-
стей и поведения. Сознание — не тот объект, который в принципе
возможно исследовать только с помощью специальной терминологии
психологической науки. Ведь и Англию, остроумно замечает философ,
можно исследовать не в одних лишь сейсмологических терминах.
Что же касается собственно бихевиористской психологии, сходст-
во с которой очевидно, то именно она, как признает сам Райл, была
для него важным источником подозрений в отношении мифа о «двух
мирах». В этом заключается позитивное эвристическое содержание
программы радикального психологического бихевиоризма. И Райл в
целом разделяет настроение ведущих представителей данного подхо-
да. Но свое собственное исследование он относит не по «ведомству»
этой психологической теории, ибо прежде всего стремится показать,
что указанный миф является сугубо философским (метафизическим),
поскольку именно философы наделяли ментальные понятия несвой-
ственным им логическим поведением, нарушали естественные «пра-
вила игры». Вся критическая работа, по его словам, была проведена
им в концептуальном измерении, никогда не превращаясь в чисто
эмпирическое исследование психических реакций человека.
Создание «логической географии» психологических понятий, о
чем возвестил в своей книге оксфордский аналитик, на наш взгляд,
оказалось далеко не бесполезным занятием. Им была предложена
оригинальная программа философско-психологического диспозицио-
нализма. Тема, лишь намеченная в витгенштейновских текстах, в дан-
ном случае прослежена вплоть до ее самых отдаленных и крайних
219
следствий. Этих двух философов роднит трактовка предмета филосо-
фии психологии как концептуального анализа употребления слов и
выражений, фиксирующих те или иные явления психики. Психиче-
ское для них есть определенный срез практики, важнейший элемент
которой составляет «игра» в психологические понятия по правилам,
складывающимся в процессах межличностной коммуникации. В этом
плане райловская «логическая категория» напоминает «форму жиз-
ни» позднего Витгенштейна, хотя английский философ специально не
выделяет ее социокультурную обусловленность.
Позиция, занятая Райлом, в одном отношении представляется бо-
лее радикальной. Если витгенштейновский подход к психическим яв-
лениям с «грамматической точки зрения», по существу, релятивизи-
рует соотношение между «внутренним» и «внешним» (парадокс за-
ключается в том, что его «глубинная грамматика», которую он отли-
чает от грамматики в традиционном смысле, как раз и есть то лежащее
на поверхности многообразие употреблений слов, которое мы зачас-
тую не способны видеть из-за наших философских предрассудков), то
у Райла «внешний» характер психических явлений, их операциональ-
ность и наблюдаемость, оказывается важнейшей чертой.
Следуя Витгенштейну, нужно признать законность языковых игр с
понятием «самонаблюдения», если только их границы не затвердева-
ют и не приобретают черты метафизической иллюзии, навязывающей
нам ложные образы. Для Райла же любое упоминание об интроспе-
кции есть свидетельство живучести «картезианского мифа», единст-
венным оружием против которого он считает последовательный дис-
позиционализм.
Несомненное достоинство подхода английского философа заклю-
чается в показе деятельностного характера человеческой психики.
Диспозиции, о чем свидетельствует райловский концептуальный ана-
лиз, отнюдь не скрытые качества, существующие в готовом виде. Об
их наличии узнают лишь по поведению (поступкам) субъекта. Диспо-
зициональные утверждения поэтому не приводят к дуалистическому
обособлению сферы психического.
Вместе с тем нужно учитывать одну из нежелательных тенденций в
психологическом диспозиционализме. Ведь возможное сведение дис-
позиций к одним лишь приспособительным реакциям на внешние сти-
мулы и воздействия (это характерно, например, для известной кон-
цепции американского аналитика У. Куайна1) таит в себе определен-
ную опасность, ибо в принципе закрывает путь для комплексного ис-
1 См.: Quine W. The Roots of Reference. La Salle, 1974.
220
следования психического («идеального» в широком смысле слова)
как особой реальности, обладающей своими собственными законо-
мерностями, функциональными и структурными особенностями.
Известно, что Райлу, независимо от того, стремился он к этому
или нет, не удалось повести за собой психологическую науку. Его «по-
нятие сознания», как мы видели, имеет в основном негативный харак-
тер. И все же уроки «логической географии», думается, не прошли
бесследно для философии психологии. Их результаты проявляются в
сегодняшних спорах и дискуссиях по поводу применимости тех или
иных психологических понятий. Предостережение Райла об опасно-
сти незаконной унификации таких понятий («категориальной ошиб-
ки» ) явно или неявно учитывается в современной философии психо-
логии. То, как мы говорим о психике, сейчас обоснованно признается
не менее важным, чем сами данные, получаемые с помощью наблю-
даемого и воспроизводимого психологического эксперимента. В кон-
це концов речь ведь идет о рационализации наших знаний о психиче-
ских явлениях, которая невозможна без конституирующей деятельно-
сти языка. Обстоятельный анализ этого процесса можно считать одним
из позитивных результатов, полученных английским философом-ана-
литиком в рамках витгенштейновской парадигмы.
3. Логика употребления психологических понятий
В ходе эволюции аналитической философии менялась проблема-
тика такой ее дисциплины, как «философия сознания». При этом, од-
нако, исследования в данной области всегда были достаточно тесно
связаны с эпистемологией. Вместе с тем аналитическая «философия
сознания» выделяется своим специфическим методом и используемы-
ми приемами аргументации, характерной целевой установкой на изу-
чение механизма фиксации процессов сознания в естественном язы-
ке, на выявление логики («грамматики»)употребления психологиче-
ских понятий.
Конституирование предмета данной дисциплины связано как с вы-
явлением ее глубоких историко-философских корней, так и с оценкой
ее отношения к наследию «классиков» аналитической традиции. Если
в первом случае возникновение современных подходов к сознанию
чаще всего связывают с философией Декарта (взглады которого при
этом, как правило, сильно модернизируются), то во втором в качестве
крупнейшей фигуры называется именно Витгенштейн. Конструктив-
но-критическое отношение к позиции австрийского философа по про-
блемам сознания (и в более широком плане — психики как таковой)
служит отправным пунктом для ряда новомодных философских кон-
221
цепций. Именно поэтому, как ранее уже отмечалось, резкое разграни-
чение витгенштейноведения и витгенштейнианства сейчас заведомо
окажется искусственным, не соответствующим сложившейся ситуа-
ции в западной философской науке. И это мы постараемся наглядно
продемонстрировать в данном разделе, приведя различные точки зре-
ния на указанную проблематику. Поскольку рассматриваемый здесь
материал и в самом деле весьма многообразен, то в нашей попытке его
освоения нельзя будет не заметить черты витгенштейновского метода
«семейных сходств».
В данном контексте обращает на себя внимание то, что одно из
обобщающих исследований современного положения в аналитиче-
ской «философии сознания» оказалось ориентированным именно на
новейшие прочтения Витгенштейна. По мнению автора этого иссле-
дования, американского философа Б. Страуда, «учение и произведе-
ния Людвига Витгенштейна во многом ответственны за то, что «фило-
софия сознания» в 50—60-е годы заняла центральную позицию в фи-
лософии англоговорящих стран»!. Что же касается работ 70-х и нача-
ла 80-х годов, то в них, полагает он, рассматриваются практически те
же проблемы, что и в витгенштейновских текстах, однако общая ори-
ентация «философии сознания» отличается заметной сциентистской
окраской, чуждой аутентичной позиции австрийского философа.
Оценка этой позиции, по мысли Страуда, не должна сводиться лишь к
разъяснению того, как же Витгенштейн на самом деле понимал при-
роду сознания (психики) и его место в мире нашего опыта. Скорее,
требуют объяснения современная роль и огромное влияние витген-
штейновского варианта «философии сознания».
Большим недостатком новейших работ по «философии сознания»
Страуд считает то, что их авторы не учитывают специфический харак-
тер витгенштейновских текстов, оценивая их в том же ключе, что и со-
временные систематизированные исследования в этой области. При
этом исчезает понимание главных целей, которые ставил себе авст-
рийский философ. Узостью подобного подхода объясняется и та враж-
дебность, с которой относятся к Витгенштейну некоторые его оппо-
ненты из среды сциентистски ориентированных философов. Другим
же типичным недостатком оказывается изучение витгенштейновской
«философии сознания» в отрыве от его «философии математики». На
самом деле Витгенштейн рассматривал данные направления исследо-
вания как тесным образом взаимосвязанные. Ведь математика — это
1 StroudB. Wittgenstein's Philosophy of Mind//Contemporary Philosophy. V. 3. The
Hague, 1983. P. 319.
222
такая сфера деятельности, в которой в наибольшей степени проявля-
ются конструктивные способности сознания, в ней моделируются
творческие возможности человека.
В центре дискуссий по «философии сознания» уже давно находит-
ся витгенштейновский аргумент против «индивидуального языка»,
языка, описывающего внутренние состояния субъекта (вроде боле-
вых состояний) и являющегося сугубо личным, понятным только са-
мому субъекту и никому более. Распространено мнение, что этот зна-
менитый аргумент имеет далеко идущие последствия для эпистемоло-
гии, способствуя опровержению феноменализма с заложенной в нем
опасной скептической (по существу, солипсистской) тенденцией.
Американский философ также обнаруживает согласие аналити-
ков во мнении, будто с помощью данного аргумента однозначно уста-
навливается невозможность «логически индивидуального языка», то
есть языка, которому ни в коем случае нельзя обучиться (а это, по
оценке Страуда, представляет собой сильную и плохо воспринимае-
мую с позиции здравого смысла идеализацию). Кроме того, почти еди-
нодушно считается, что аргумент против «индивидуального языка»
лишает ощущения статуса индивидуальных ментальных сущностей,
которые-де не обусловливаются никакими физическими событиями1.
Основываясь на этом, отдельные философы склоняются к точке зре-
ния, будто единственным критерием правильной предикации субъектам
тех или иных психических состояний служат формы внешнего, доступ-
ного наблюдению поведения. Очевидно, что подобная позиция не мо-
жет не импонировать бихевиористам и сторонникам физикализма.
В свете такой тенденции более приемлемой представляется
Страуду позиция Р. Фогелина2, усматривающего главный момент вит-
генштейновской «философии сознания» в демонстрации серьезных
недоразумений по отношению к статусу ощущений и восприятий, ко-
торые могут порождаться сугубо индивидуальным использованием
языка. Ведь в случае индивидуального следования правилам «личной»
языковой игры окажется невозможным объективное (независимое)
обоснование применения тех или иных слов. Тогда и обращение к па-
мяти как возможному критерию различения правильного и непра-
вильного (допустимого и недопустимого) в языке тоже ничем не помо-
жет. «Философия сознания» Витгенштейна как раз и предостерегает
от этой опасности. «Точное описание использования слов, обозна-
1 Stroud В. Wittgenstein's Philosophy of Mind//Contemporary Philosophy. V. 3.
P. 329.
2 См.: Fogelin RJ. Wittgenstein. L, 1976.
223
чающих ощущения, или же в целом психологических выражений, сво-
бодное от недоразумений, к которым мы обычно предрасположены, и
есть то, к чему, по мнению Витгенштейна, следует апеллировать с це-
лью достижения искомого понимания сознания»,— подчеркивает
Страуд1. Он считает, что австрийский философ в своих самых поздних
текстах обрисовал план критико-аналитического изучения многооб-
разия применения психологических понятий.
Условия применения этих понятий в значительной степени варьи-
руются. Ведь естественный язык представляет собой очень гибкую
знаковую систему и в нем зачастую оказывается возможным такое
приписывание ментальных характеристик, которое в иных контекстах
(«играх») было бы бессмысленным и потому способным порождать
заблуждения. «Для него (Витгенштейна.— AT.) природа ментально-
го (психического) проясняется не открытием или же изобретением
особого отношения ме>кду, так сказать, удивительными «ментальны-
ми» объектами и в целом непроблематичными для познания «физиче-
скими» вещами, что, казалось бы, должно было сблизить то и другое,
но скорее пониманием того, каковы же в действительности сами пси-
хологические понятия и как они работают»2. Витгенштейн считал
принципиально важным для понимания природы сознания факт нали-
чия асимметрии в использовании психологических понятий от первого
и третьего лица. Именно фиксация этой асимметрии непосредственно
выводит витгенштейнианцев на проблему познания «других созна-
ний», связанную с поиском неиндуктивных (концептуальных) крите-
риев приписывания субъектам тех или иных психических состояний.
Что же касается аргумента «индивидуального языка», рассмот-
ренного Страудом, то в ряде исследований последних лет все отчетли-
вее проявляется стремление аналитиков отказаться от ранее сложив-
шихся стереотипных его интерпретаций. Это заметно по работе друго-
го американского философа — Дж. Темкина, настаивающего на том,
что витгенштейновский аргумент следует рассматривать вне контек-
ста верификационистской теории значения, а также совершенно не-
зависимо от концептуального вопроса о надежности памяти. Данный
аргумент, утверждает он, является неотъемлемой составной частью
философии языка позднего Витгенштейна, его функциональной тео-
рии значения. Осуществляемый в «Философских исследованиях» не-
обычный мысленный эксперимент, когда с помощью произвольно вы-
бранного знака «S» субъект последовательно фиксирует в дневнике
1 Straud В. Wittgenstein's Philosophy of Mind. P. 337.
2 Ibid. P. 338.
224
все свои внутренние ощущения, должен оцениваться вкупе с критикой
Витгенштейном «традиционной» концепции значения как именова-
ния отдельного объекта. «Центральный вопрос заключается в том,
имеется ли различие между использованием ведущим дневник.знака
«5» в качестве имени ощущения и простой регулярностью таких отме-
ток в случае наличия ощущения. Витгенштейн заявляет, что исполь-
зование ведущим дневник знака «S» не происходит ни в каком (норма-
тивном.— А.Г.) измерении»1.
А ведь в соответствии с установкой австрийского философа лин-
гвистические правила употребления обязательно должны обладать
нормативным характером. Именно в силу данного обстоятельства,
подчеркиваетТемкин, гипотеза «индивидуального языка» оказывает-
ся логически несовместимой с важнейшим требованием нормативно-
сти. Сами по себе нормы не являются ни правильными, ни неправиль-
ными, что свидетельствует об автономии «глубинной грамматики»
(как системы конвенционально принимаемых норм, или правил, неко-
торой «игры»). Но это же, продолжает американский философ, кос-
венно свидетельствует о том, что и сама практика лингвистического
сообщества в целом не может оцениваться как правильная или непра-
вильная. С учетом данного обстоятельства становится понятным, по-
чему, согласно Витгенштейну, употребление ведущим дневник знака
«S» не происходит в нормативном измерении — ведь в таком случае
сам автор дневника и представляет все лингвистическое сообщество,
а его действия в принципе не могут быть подвергнуты оценке со сторо-
ны других. Он же выступает единственным критерием тождественно-
сти тех психических состояний, которые обозначаются этим знаком.
Эта идея автономии грамматики, считает Темкин, в конечном ито-
ге противостоит негибкой позиции «метафизического реализма».
Дело в том, что критическая установка Витгенштейна имеет отноше-
ние не столько в эпистемологии, сколько к его собственной метафизи-
ке как особой версии «трансцендентального идеализма». Согласно
этой версии, структура любого возможного мира является лингвисти-
чески зависимой. Правила грамматики определяют, какого рода вещи
(сущности) присутствуют в мире. «По Витгенштейну, грамматические
предложения отличаются от эмпирических тем, что если первые от-
нюдь не становятся истинными благодаря соответствию внелингвис-
тическим фактам, то с последними подобное происходит. Именно по-
этому он постоянно критикует традиционных метафизиков и считает,
1 Temkin JA. Private Language Argunent//The Southern Journal of Philosophy.
1986. V. 24. № l. R 110.
15-5739 225
что они интерпретируют подлинно грамматические предложения, как
если бы таковые были разновидностью эмпирических предложений,
то есть являлись утверждениями относительно необходимых свойств
какой-то внелингвистической реальности»1.
В отношении приведенной точки зрения американского философа
можно высказать следующее замечание. Правильно отмечая принци-
пиальную важность для позднего Витгенштейна идеи автономии грам-
матики, Темкин в своей по существу кантианской реконструкции
его взглядов все же в полной мере не учитывает то обстоятельство,
что приоритетная роль «глубинной грамматики» в опыте (позиция, не
без основания названная им трансцендентальным идеализмом) озна-
чает прежде всего приоритет социально узаконенных форм лингвис-
тической деятельности, а не какой-то априорной грамматической схе-
мы языка. Как раз в этой своей функции такая деятельность получает
нормативное измерение.
Среди части философов-аналитиков еще распространен взгляд,
будто в широко цитируемом § 258 «Философских исследований»2
Витгенштейн стремится продемонстрировать именно несостоятель-
ность своего гипотетического примера «индивидуального языка»3. В
соответствии с этим взглядом гипотеза подобного языка якобы заве-
домо трактовалась им как нечто невероятное. Но есть и иные мнения,
которые в последнее время приобретают все больший вес. Англий-
ский философ О. Ханфлинг, в частности, обращает внимание на то,
что реальной практике естественного языка вообще не свойственно
резкое разделение случаев, когда мы способны и когда не способны
говорить о правильном или неправильном употреблении знаков. От-
ношение между употреблениями знака «5» и теми или иными «нор-
мальными» формами языковой практики имеет, скорее, характер «се-
мейного сходства», чем разрыва4. Дополняя эту оценку Ханфлинга,
можно было бы сказать, что в одной непрерывной цепи таких форм
«индивидуальный язык» и, так сказать, социальные разновидности
1 Temkin JA. Private Language Argunent//The Southern Journal of Philosophy.
1986. V. 24. № 1. P. 119.
2 См.: Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 92.
3 Так, С. Кеналиш пишет: «Должно стать окончательно ясно, что не следует рас-
сматривать описание ведения дневника как описание возможного или даже, в сущно-
сти, понятного примера» (Candlish S. The Real Private Language
Argument/Philosophy. 1980. V. 55. №211. P. 87). Он опирается на мысль Витген-
штейна о том, что в эксперименте с дневником мы вообще не можем рассуждать о «пра-
вильности» его заполнения.
4 См.: Hänfling О. What Does the Private Language Argument Prove//The
Philosophical Quarterly., 1984. V. 34. № 137. P. 469.
226
языка (язык массовой пропаганды, например) представляют собой
взаимосвязанные крайние проявления одной и той же лингвистиче-
ской «семьи».
В языке и в самом деле можно зафиксировать множество переход-
ных случаев употребления психологических понятий, когда трудно го-
ворить о правильности или неправильности, которые обусловлены
некоторым строгим нормативным критерием, предполагающим соот-
ветствующие внешние условия (например, изменившееся давление
крови в случае боли или же фиксируемое приборами движение глаз,
сопровождающее сновидения). Описание таких переходных случаев,
как полагает Ханфлинг, очень важно именно для исследований по
«философии сознания». Если с психологическими понятиями не будут
играться соответствующие «языковые игры», то тогда эти понятия
как бы омертвеют, перестанут фиксировать динамику процессов пси-
хики. Каждое слово — и само слово «ощущение» в том числе — по-
лучает свое законное место лишь в некоторой функционирующей кон-
цептуальной системе. Поэтому изначально контекстуальный характер
значения психологических понятий должен приниматься во внимание
в ходе реконструкции витгенштейновского критического аргумента
«индивидуального языка».
На взгляд старейшего британского аналитика А. Айера, рассмот-
рение Витгенштейном концептуальных проблем психологии вообще
является самой характерной чертой позднего периода его философст-
вования1. Хотя в 1946—1948 гг. Витгенштейна занимали некоторые
конкретные психологические вопросы, он продолжал квалифициро-
вать свои мысленные эксперименты с психологическими понятиями
именно как «языковые игры». В текстах данного периода (которые
были впервые изданы лишь в 80-е годы) австрийский философ разра-
ботал стратегию будущего комплексного описания способов функ-
ционирования таких понятий. Эти тексты, по оценке Айера, дают ос-
нование рассматривать его как крупнейшую фигуру в области фило-
софии психологии, определившую направление всех дальнейших ис-
следований в этой области.
Витгенштейн, замечает далее Айер, не случайно акцентировал
важность отличия употребления глаголов в первом лице от всех иных
употреблений. Он отчетливо видел те заблуждения, к которым может
привести непонимание данного обстоятельства. Приписывая себе оп-
ределенное психическое состояние, субъект отнюдь не ставит истин-
ность или ложность своего утверждения в зависимость от возможно-
1 Ayer AJ. Wittgenstein. L, 1985. Р. 93.
15* 227
сти наблюдения его состояния другими. С помощью предложений от
первого лица фиксируется непосредственное «знание — знакомст-
во» (это термин Б. Рассела.— А.Г.) с психическим содержанием. На
этом и основывается «привилегированный доступ» сознания лично-
сти к своим собственным мыслям и ощущениям. В случае же утвер-
ждений о мыслях, верованиях, намерениях и ощущениях других людей
(третье лицо) мы подобного доступа не имеем.
Хотя в данном конкретном вопросе Айер, очевидно, расходится с
таким критиком идеи «привилегированного доступа», как Райл, пози-
цию Витгенштейна он также интерпретирует в рамках концептуалист-
ской философии психологии. При этом он выделяет преобладающую
антисциентистскую (антифизикалистскую) установку Витгенштейна,
поскольку тот считал проблематичным наличие какой-либо логиче-
ской связи между духовными и физическими процессами, да и выра-
жал скепсис относительно возможности существования психофизи-
ческих законов, которые, по его убеждению, не проясняют никаких
концептуальных проблем психики. «Вопрос о том, возможно ли фи-
зиологическое объяснение психики, относится к научному исследова-
нию. Витгенштейн же лишь стремится подорвать априорное допуще-
ние, будто у нас есть такое объяснение. Я не часто с ним соглашаюсь,
но здесь я симпатизирую его иконоборчеству»,— заявляет Айер1, фи-
лософская деятельность которого, как известно, больше вписывается
в расселовскую, нежели в витгенштейновскую, традицию в аналити-
ческой философии.
Включаясь в дискуссию по поводу проблематики философии пси-
хологии, ученик Витгенштейна Н. Малкольм в своей последней рабо-
те утверждает, что многие философские споры насчет природы созна-
ния вызываются ошибочным пониманием существительного «mind»
как обозначения отдельной вещи. И такое понимание (явное или не-
явное) присуще, по его мнению, не только англоязычным философам.
Подобное заблуждение сложилось давно и берет свое начало еще с
картезианской концепции души как «вещи мыслящей». В новейшей
аналитической «философии сознания» (прежде всего в американской
ее ветви) заметен переход от теории психофизического параллелизма
к различным вариантам теории тождества духовного и телесного (ней-
рофизиологического). В этом плане лишь оригинальный подход Вит-
генштейна позволяет выявить абсурдность применения таких чисто
психологических фраз, как «радостный», «испытывающий жажду»
или «визуальный опыт», к мозговым процессам. «То, что восприни-
мает, мыслит, воображает, не есть ни бестелесная сущность, "насе-
1 Ayer AJ. Wittgenstein. L, Р. 107.
228
ляющая тело, ни мозг, а — живое человеческое существо»,— спра-
ведливо замечает Малкольм1. Ведь подлинным агентом человеческой
деятельности, обладающей той или иной психической модальностью,
и в самом деле является личность как таковая, обязательно включен-
ная в некоторую «форму жизни».
Тот факт, что для аналитиков характерно расширительное толко-
вание понятия «ментальные состояния», нередко приводит, по мне-
нию того же Малкольма, к серьезным концептуальным заблуждени-
ям. Например, мысли, ощущения, эмоции, убеждения, намерения и
даже физическую боль — все эти различные вещи называют «мен-
тальными состояниями». Действительное же употребление данного
понятия в повседневном языке значительно уже. Так, если долгую де-
прессию, вероятно, и можно назвать «ментальным состоянием», то
вот боль в колене — нельзя. Запутывают философию психологии вы-
ражения типа «считать в голове», когда под фразой «в голове» подра-
зумевают: «в мозге». Распространенное представление, будто мыш-
ление, ощущения, намерения и прочее суть внутренние, «скрытые»
процессы, никак не подтверждается действительным контекстуаль-
ным употреблением слова «внутренний», которое весьма специфич-
но. «В современной "философии сознания",— пишет Малкольм,—
происходит нечто поистине необычное. Мнение, согласно которому
мысли и чувства являются "внутренними" лишь в метафорическом
смысле, трансформировалось в мнение, считающееся строгой науч-
ной теорией, а именно будто мысли и чувства и в самом деле находятся
в голове. Но это напоминает попытку основать философскую позицию
на игре слов: то, что вначале рассматривалось в качестве метафориче-
ски "внутреннего", теперь становится буквально "внутренним"2.
В витгенштейновских текстах по философии психологии Мал-
кольм обнаруживает два основных способа «подрыва» распростра-
ненного мнения о якобы скрытом характере психических процессов,
обозначаемых «языком ощущений». Во-первых, австрийский фило-
соф убедительно показал несостоятельность идеи единой «сущност-
ной» природы этих процессов, отвергнув на основе методологии ради-
кального номинализма (принцип «семейных сходств») любые унифи-
цирующие тенденции в данной области. И во-вторых, он подчеркивал
решающую роль внешнего фона, всего окружения человека в опреде-
лении значения употребляемых им слов. В том случае, когда мы за-
1 Malcolm N. Nothing is Hidden: Wittgenstein's Criticism of His Early Thought.
Oxford, 1986. P. 187.
2 Ibid. P. 191.
229
трудняемся в понимании природы психических явлений, Витгенштейн
призывал смотреть не «внутрь», а вовне, обращать внимание на то,
как различие в обстоятельствах изменяет значение того, что мы гово-
рим и делаем. Ошибочное мнение многих философов, будто психоло-
гические понятия обозначают какие-то эфемерные, трудноуловимые
внутренние явления, повинно в возникновении как дуалистической
концепции параллелизма, так и монистической концепции тождества
духовного и телесного. На взгляд Малкольма, вся разница между
ними заключается лишь в том, что первая признает наличие двух
структур, а вторая — одной. Таким образом, картезианство и новей-
ший «научный материализм» представляют собой для ортодоксаль-
ных последователей Витгенштейна две в равной мере неприемлемые
альтернативы.
В последние годы установки витгенштейновской философии пси-
хологии также рассматриваются некоторыми аналитиками как един-
ственная серьезная альтернатива влиятельной когнитивистской ме-
тодологии изучения психических процессов. При этом они специально
обращают внимание на то обстоятельство, что австрийский философ
в своих поздних текстах показывал абсурдность утверждений о мен-
тальных структурах как причинах поведения и что он был против пре-
вращения этих структур в гипотетические физические механизмы.
Так, по характеристике американского философа М. Уильямса,
когнитивизм в принципе представляет собой взгляд, согласно которо-
му организация поведения субъекта объясняется с помощью каузаль-
ного воздействия внутренней ментальной структуры. Когнитивисты
убеждены, что, только придерживаясь подобного взгляда, можно при-
дать психологии подлинно научный статус, обосновать ее автономию в
системе других наук. Но именно такой сциентистски ориентированной
психологии противостоят взгляды позднего Витгенштейна1.
В то же время Уильяме не соглашается с теми комментаторами,
которые утверждают, будто Витгенштейн, как и радикальные бихе-
виористы, вообще отрицает внутренние психические процессы. На
самом деле австрийский философ показывал, что понимание, убежде-
ние и намерение можно считать психическими состояниями личности
лишь в случае включения ее в практику некоторой «формы жизни».
Эта позиция далека от установок когнитивистов, для которых то же
понимание, к примеру, есть внутреннее, чаще всего бессознательное
состояние личности, рассматриваемой в полной изоляции от ее социо-
1 См.: Williams M. Wittgenstein's Rejection of Scientific Psychology//Journal for the
Theory of Social Behavior. 1985. V. 15. №2. P. 203.
230
культурного окружения. Создатели новейших когнитивистских тео-
рий ограничили область изучения психологической науки системами
ментальных репрезентаций и правильно построенных предложений о
психических состояниях. «В свете рассуждений Витгенштейна об интен-
циональности и контексте вычислительная модель (психики.— АГ.),
эта направляющая идея когнитивизма, может быть сохранена только
путем сужения сферы психологического объяснения до формально
характеризуемых сущностей и операций»,— отмечает Уильяме1.
Тем не менее, продолжает он, под влиянием критики со стороны
витгенштейнианцев некоторые ведущие когнитивисты постепенно
начинают ослаблять свой «фундаментализм», то есть мнение о том,
будто в психике имеется априорное основание каких-то «привилеги-
рованных» убеждений, которые могут быть идентифицированы со-
вершенно независимо от конкретного контекста исследования. «Фун-
даментализм» как таковой приписывает ментальной сфере набор пра-
вил вывода, позволяющих переходить от исходных данных ко все бо-
лее сложным убеждениям. К описанию структур, якобы лежащих в
фундаменте человеческой психики, когнитивистов подталкивает их
требование полной автономии, или радикального отделения, сферы
психического от внешних связей, включая связи, складывающиеся в
культуре того или иного сообщества. Теперь они стали признавать,
что формальный механизм такого описания еще не разработан. Но, по
оценке Уильямса, их позиция все же остается ошибочной, ибо в соот-
ветствии с ней психология может утратить свою специфику и оказать-
ся редуцированной к нейрофизиологии. В основе философской мето-
дологии когнитивизма — чисто сциентистский подход к проблемам
сознания, отождествление сознания с гомогенной вычислительной
системой. Но монистический научный реализм — это как раз та пози-
ция, которой со всей определенностью противостоит философия пси-
хологии Витгенштейна, констатирует он.
Вполне естественно, что многие современные программы искус-
ственного интеллекта (ИИ) опираются на определенные философ-
ские предпосылки. Эти предпосылки создают, так сказать, идеологи-
ческое обеспечение таких программ, стимулируют дальнейшие иссле-
дования возможностей электронного представления знаний. И нельзя
отрицать, что философам, занимающимся ИИ, как правило, свойст-
венны сциентистские настроения. С иных позиций, однако, подходят к
этому вопросу витгенштейнианцы, которые заведомо не ставят себе
1 См.: Williams M. Wittgenstein's Rejection of Scientific Psychology//Joumal for the
Theory of Social Behavior. 1985. V. 15. We 2. P. 208.
231
целью вселить оптимизм в головы специалистов. Свою задачу они ви-
дят в том, чтобы распутывать концептуальные заблуждения, порож-
даемые нарушением логических границ употребления понятий, обо-
значающих различные формы моделируемой интеллектуальной дея-
тельности.
Рассмотрим эти взгляды подробнее. В концентрированном виде
витгенштейнианский подход к ИИ выражен, например, в работе анг-
лийского философа С. Шенкера1. Он считает, что типичная «научная
проза» специалистов по ИИ изначально предполагает истинность
«механического тезиса», обосновывающего возможность «машинно-
го мышления». Гуманистически настроенные философы давно крити-
куют этот тезис, показывая его вероятные печальные последствия для
общества. Но этой критики, по его мнению, все же недостаточно. Ну-
жен концептуальный анализ самой программы ИИ. Необходимо так-
же оценить дескриптивные и метафорические средства, которые ис-
пользуют специалисты в данной области, да и выяснить, какую роль в
принципе играет их «научная проза». К примеру, почему при создании
программ употребляется антропоморфный термин «обучение», более
привычный в других контекстах употребления?
Шенкер различает два вида «научной прозы» — ту, что предна-
значена для общения специалистов и предназначенную для усвоения
неспециалистами. Эта последняя система взглядов обладает большим
научным потенциалом, но она же может быть причиной серьезных за-
блуждений. Например, в ней часто употребляется понятие перевода.
Однако, замечает английский философ, едва ли верно говорить о «пе-
реводе» с естественного языка на формализованный язык вычисли-
тельных машин. Перевод как таковой возможен только с одного есте-
ственного языка на другой, то есть там, где можно установить тожде-
ство значения слов и выражений. Машинные языки «высокого поряд-
ка» содержат лишь формальный аналог естественных языков. Но
трезвая оценка этого обстоятельства не согласуется с оптимистиче-
ской стратегией специалистов по ИИ. Они не учитывают, что важней-
ший витгенштейновский принцип «следования правилу» неприменим
в отношении машин, действия которых не являются нормативными
или интенциональными. Сами алгоритмы нельзя рассматривать в ка-
честве правил языка. Логическая грамматика механических операций
компьютера иная, нежели грамматика правилосообразных действий
людей в рамках конкретных «форм жизни».
1 См.: Shanker S. The Decline and Fall of the Mechanist Metaphor//Artificial
Intelligence. L, 1987.
232
В частности, как отмечает Шенкер, требует критической пере-
оценки «научная проза», связанная с возможностью компьютериза-
ции шахматной игры. Прежде всего неверно говорить, будто машина
играет шахматную партию против человека. Против него играет сам
составитель программы, создатель сложного алгоритма. Игра для
обеих сторон одна и та же, но техника игры ими используется различ-
ная. В целом «величайшим заблуждением... будет смешение интен-
ций программиста с механическими операциями, осуществляемыми
самой системой»1.
Понятиям «обучающейся программы» и «машинного обучения»
специалисты незаметно начинают приписывать черты, характерные
именно для человеческого обучения: способность понимания и убеж-
дения, интенциональность, овладение правилами и т. д. Если следо-
вать подобной логике рассуждения, то тогда станет возможным назы-
вать «обучением» весьма необычные вещи. На дележе, подчеркивает
Шенкер, «обучающиеся системы» суть лишь определенные транс-
формации исчисления, образованного путем повторения некоторого
алгоритма. Причины ограниченного, сугубо механистического виде-
ния специалистов по ИИ он предлагает искать на уровне самих про-
грамм (software), a не на уровне технического обеспечения компьюте-
ров (hardware). Развитие в последние годы экспертных систем, имею-
щих большое практическое применение, только укрепляет уверен-
ность специалистов в правильности своего подхода. Заблуждение
становится еще опаснее, когда они переходят от систем обработки
данных к системам обработки знаний. «Нам следует учитывать,— за-
ключает Шенкер,— что мы имеем дело не с созданием "искусствен-
ных форм интеллекта", а скорее, с неизбежным маршем вперед мате-
матической науки»2.
В таком же духе высказывается О. Нюмайер, отталкивающийся,
по его словам, от витгенштейновской методологии анализа психоло-
гических понятий3. Он в связи с этим напоминает, что хотя во времена
Витгенштейна еще не говорили об ИИ, но известно, что австрийский
философ, работая в Кембридже, продолжительное время общался с
А. Тьюрингом, стоявшим у истоков этой программы, так что его никак
нельзя считать дилетантом в данной области знания. Кроме того, Вит-
1 См.: Williams M. Wittgenstein's Rejection of Scientific Psychology//Joumal for the
Theory of Social Behavior. 1985. V. 15. №2. P. 125.
2 Ibid. p. 126.
3 См.: Neumair O.A. Wittgensteinian View of Artificial Intelligence/Artificial
Intelligence. L, 1987. P. 132.
233
генштейн хорошо знал теорему Гёделя о неполноте, которую рассмат-
ривают как один из возможных аргументов против ИИ.
В отличие от так называемых менталистов-дескриптивистов
(Хомского, Миллера и Бреснана), Витгенштейн, по оценке Нюмайе-
ра, был сторонником «объяснительного ментализма». Дело в том, что
психологические объяснения он считал чисто теоретическими конст-
рукциями, а отнюдь не описанием каких-то скрытых внутренних про-
цессов. При этом он также придерживался позиции «объяснительно-
го реализма», согласно которой ценность теории заключается в ее
способности объяснять факты. Эти достаточно тривиальные методо-
логические установки привели, однако, к далеко идущим последстви-
ям. С ними, в частности, связано использование такого важного поня-
тия, как понятие «критерий»1. Нюмайер подчеркивает, что «внутрен-
нее» отличается от «внешнего» своей критериальной логикой упот-
ребления относящихся к нему понятий. При этом значение
психологических терминов сводится к той роли, которую они играют в
плане объяснения человеческого поведения. Данное объяснение
предполагает, что внешнее наблюдаемое поведение концептуально
связано с внутренними процессами, которые недоступны описанию,
ибо у нас нет определяющего критерия для всего, что происходит
«внутри» сознания. Таким образом, психологические «языковые
игры» не могут быть дескриптивными. Если бы имело место обратное,
то в них просто не было бы смысла. Возможны лишь психологические
«игры» объяснительного характера, использующие психологические
понятия, которые служат объяснением доступного наблюдению пове-
дения личности (но не в качестве каузальных механизмов).
Витгенштейн исходил из убеждения в том, что человеческие суще-
ства только потому обладают привилегией на ментальные состояния
типа «мышления», «понимания», «переживания боли» и других, что
эти состояния вплетены в процессы жизнедеятельности. Все поведе-
ние субъекта, а не только его способность решать некоторую интел-
лектуальную задачу, служит критерием приписывания ему способно-
сти мышления. И мы, отмечает в этой связи Нюмайер, приписываем
людям внутренние процессы для объяснения их поведения, но нет ни-
какой необходимости в подобном приписывании для объяснения опе-
рации компьютера. Поэтому лишь в случае радикального изменения
нашей «формы жизни» витгенштейнианская методология могла бы
1 «Критерии,— поясняет американский автор,— суть конвенционально зафикси-
рованные и наблюдаемые при употреблении языка свидетельства, которые в ряде слу-
чаев могут быть просто симптомами и благодаря которым мы схватываем некоторые ас-
пекты значения выражений» (Ibid. P. 146).
234
допустить возможность создания ИИ в распространенном механисти-
ческом его толковании. Из того, что машины способны моделировать
отдельные операции человеческого ума, еще не следует, будто ис-
пользованные при этом программы имеют ментальный характер — их
основа остается математической.
Многие специалисты «вкладывают» в машины убеждения, зна-
ния, свободную волю и другие внутренние состояния. При этом им-
плицитно предполагается, будто речь идет о столь же известных и на-
блюдаемых свойствах, как вес, цвет или пространственная форма.
Так возникают менталистские заблуждения, аналогичные тем, кото-
рые настойчиво критиковал Витгенштейн в своей философии психо-
логии. Нюмайер убежден, что в действительности мы абсолютно не
способны на психологическом языке описывать, что происходит внут-
ри компьютера, моделирующего ИИ. Сами же программы, вопреки
мнению некоторых ученых, не могут служить объективным внешним
критерием процессов, происходящих в компьютерах. Теоретики ИИ,
подчеркивает Нюмайер, не осознают, что они используют психологи-
ческие термины необычным образом, расходящимся с естественным
употреблением.
Как видим, сциентистской «идеологии» теоретиков ИИ достается
от современных витгенштейнианцев почти так же, как в свое время
доставалось «метафизикам» от лингвистических позитивистов. При
всем разнообразии и непохожести рассмотренных в данном разделе
новейших позиций в сфере «философии сознания» все же достаточно
определенно выявляется основное проблемное поле этой аналитиче-
ской дисциплины, концептуальный анализ лингвистических средств,
используемых для обозначения и объяснения процессов сознания (и
психики в целом). На первый план выходят исследования, посвящен-
ные интенциональным характеристикам сознания (которые сейчас
интересуют англо-американских аналитиков ничуть не меньше, чем,
скажем, феноменологов), проблемам «индивидуального языка» и по-
знания «других сознаний», особенностям выражения в языке болевых
ощущений, всевозможным ситуациям полагания, воления, воображе-
ния и прочим психическим предрасположенностям к тому или иному
поведению. Об этом свидетельствуют те точки зрения, которые мы
приводили в данном разделе, взяв за отправной пункт исследование
Б. Страуда.
«Философия сознания» отстаивает правомерность своего собст-
венного предмета исследования, хотя сохранить ее специфическое по-
ложение среди других философских дисциплин становится все труд-
нее. В этой связи аналитики не случайно обращаются к витгенштей-
нианской парадигме концептуального анализа, позволяющей, как не
235
без основания считается, преодолевать крайности бихевиористского
и когнитивистского подходов к человеческой психике и тем самым не
терять философского взгляда на проблемы. Гуманистическая альтер-
натива «компьютеризированному» ментализму придает известный
динамизм современным дискуссиям по «философии сознания». В
концепции Витгенштейна многие находят сегодня методологическое
основание подхода, с помощью которого оказывается возможным из-
бегать как отождествления ментального и телесного, так и их дуали-
стического противопоставления. Вместе с тем она позволяет допол-
нить математическое моделирование моделированием логико-лин-
гвистическим.
Думается, правомерно говорить об общей антипозитивистской и
антисциентистской направленности указанной парадигмы, поскольку
она препятствует подмене широкой философско-методологической
проблематики проблематикой конкретной, превращению последней в
не подлежащий критике эталон научности. Очевидно при этом, что
витгенштейнианцы — не какие-то ретроградные противники про-
гресса в одной из самых передовых областей знания, а сторонники по-
вышения роли философской культуры в обсуждении подобных вопро-
сов. В конце концов они показали, что «научная проза» не должна за-
бывать о своей «глубинной грамматике».
ПРОБЛЕМАТИКА ЗНАЧЕНИЯ
Для каждого, кто хоть немного знаком с историей аналитического
движения в западной философской мысли, должно быть очевидным то
центральное место, которое занимает в нем исследование проблема-
тики языкового значения. Несколько упрощая реальное положение
дел, можно было бы сказать, что англо-американская аналитическая
философия как таковая представляет собой серию попыток эксплици-
ровать и сделать рациональным само понятие «значение». Нельзя,
конечно, отрицать того, что и до возникновения аналитической фило-
софии многие философы так или иначе говорили о проблеме значения
(или ее подразумевали). Однако, как правило, это интуитивно ясное
понятие не становилось объектом строгой философской рефлексии.
Например, вопрос о значении «значения» в начале XX века, то есть
почти одновременно с зарождением аналитической философии, по-
ставила гуссерлевская феноменология. Но в ней значение все же рас-
сматривалось как одна из характеристик обладающего предметной
направленностью «чистого сознания». Тесно связанная с процессом
становления новой логики, аналитическая философия впервые недву-
смысленно оценивает значение как фундаментальную характеристику
236
языка. Это обстоятельство, кстати, на протяжении довольно длитель-
ного периода времени поддерживало убеждение аналитиков в превос-
ходстве их подхода над подходом лингвистической науки, описывав-
шей лишь «поверхностные» синтаксические структуры.
Если на начальном этапе преобладает статичная трактовка значе-
ний как отдельных предметов (материальных, психических или объек-
тивно-идеальных), обозначаемых словами или словосочетаниями, то
в дальнейшем такая трактовка сменяется поздневитгенштейнианской
«динамикой». Значение осознается в качестве важнейшей черты язы-
ка-деятельности, языка-практики. Новая точка зрения в принципе не
допускает никакой субстанциализации, «овеществления» значения,
что, на взгляд витгенштейнианцев, было свойственно многим фило-
софским учениям прошлого. Но в таком случае существенно изменя-
ется подход к поставленной ранней аналитической философией
(включая и раннее учение самого Витгенштейна) проблеме отноше-
ния языка и реальности. Поскольку язык перестает рассматриваться в
качестве пассивного регистратора фактического содержания или
структуры реальности и включается в непосредственное практиче-
ское взаимодействие с ней, то и значение становится неотъемлемой
чертой этого взаимодействия. Одним словом, значение функциональ-
но, а это, между прочим, заметно усложняет его концептуальное отно-
шение к такой традиционно изучаемой философией характеристике
познавательного процесса, как истина.
В качестве прямого следствия функциональной трактовки значе-
ния можно рассматривать современную дискуссию сторонников реа-
лизма и антиреализма, в особенности по проблеме истины. И уже как
непосредственная реакция на формально-семантическую ориента-
цию главных участников этой дискуссии предстает позиция другого
крыла витгенштейнианцев, усматривающих наиболее верный путь не
в создании строгой, систематизированной теории значения, а непо-
средственно в практике концептуального анализа, способного проде-
монстрировать все богатство способов употребления значимых язы-
ковых форм. В связи с этим, однако, выяснилось, что новейшие трак-
товки значения, не будучи подкрепленными фундаментальным прин-
ципом социальности языковой деятельности, сталкиваются со
сложнейшей проблемой, способной, казалось бы, подорвать саму
возможность человеческой коммуникации. Острая постановка данной
проблемы служит серьезным стимулом для новых решений в рамках
аналитической концепции языкового значения, разрабатываемой в
философской традиции витгенштейнианства.
237
1. Программа антиреализма
Рассмотрение эволюции воззрений философов-витгенштейниан-
цев на проблему значения закономерно приводит к одной из централь-
ных фигур британской философии последних лет — Майклу Дамми-
ту. Его концепция получила широкое распространение в англоязыч-
ных странах Запада. Что же касается нынешней философской ситуа-
ции в самой Великобритании, то можно с основанием говорить о
«школе Даммита» как одном из наиболее влиятельных на сегодняш-
ний день течений в аналитической философии.
Взгляды Даммита до начала 70-х годов были известны относи-
тельно узкому кругу философов, поскольку были изложены в основ-
ном в журнальных статьях. Лишь в 1973 г. после выхода в свет фунда-
ментальной монографии, посвященной анализу учения Фреге, идеи
Даммита сразу привлекли к себе внимание широкой философской об-
щественности1. В своем идейном развитии он испытал определенное
влияние господствовавшей после войны в Великобритании «филосо-
фии обыденного языка». Однако правоверным сторонником этого на-
правления в лингвистической философии он все же не был. «Я не
верю,— писал Даммит в 1960 г. в статье «Оксфордская филосо-
фия»,— что они (будущие поколения философов.— AT.) станут рас-
сматривать 1945—1959 годы в Оксфорде как золотой век филосо-
фии, хотя я и полагаю, что философия в Оксфорде была тогда намного
здоровее, чем, скажем, в Париже»2. В этой же статье он указывал на
ошибочность причисления позднего Витгенштейна к основоположни-
кам «философии обыденного языка». Будущее «оксфордской фило-
софии», да и аналитической философии в целом, Даммит связывал с
развитием аутентичных идей австрийского философа.
Оспаривая общепринятую в те годы квалификацию Витгенштейна
как эталонного «лингвистического философа», Даммит прежде всего
стремился показать отличие витгенштейновской позиции от влия-
тельной позиции оксфордского аналитика Дж. Остина, создателя
«теории речевых актов». В витгенштейновской философии Даммит
выделял именно те идеи, которые не вписывались в остиновскую
«лингвистическую феноменологию», но зато согласовывались с его
собственной ранней позицией. Таким образом, его интерпретация
учения Витгенштейна имеет весьма избирательный характер.
1 Dummett M. Frege: The Philosophy of Language. Oxford, 1967.
2 Dummett M, Truth and Other Enigmas. L, 1978. P. 436.
238
Интерес к данному учению возник у Даммита в связи с углублен-
ным исследованием витгенштейновских текстов по философии мате-
матики, которые привлекли его оригинальными идеями в духе матема-
тического конструктивизма. Он был первым, кто обратил внимание на
эту сторону учения австрийского философа и постарался в дальней-
шем использовать его идеи при разработке программы в области фи-
лософии языка. Согласно Даммиту, Витгенштейн последовательно
придерживался своей версии конструктивизма, ибо считал характер-
ной чертой любого математического положения то, что оно может ут-
верждаться лишь в результате конструктивного процесса доказатель-
ства. И этот его конструктивизм даже более радикален,чем конструк-
тивизм математиков-интуиционистов. Кроме того, Витгенштейн в
своей философии математики выступал и как конвенционалист: для
него логическая необходимость того или иного утверждения всегда
оказывалась прямым выражением лингвистической конвенции. Та-
ким отношением к логической необходимости Даммит объясняет его
полное безразличие к действию закона исключенного третьего в мате-
матике. Более того, Витгенштейн даже критиковал математических
платонистов за то, что они опираются на этот закон. Как и интуицио-
нисты, он показывал невозможность заранее очертить все допусти-
мые формы аргументации, которые используются в математических
доказательствах. В основе математических законов австрийский фи-
лософ видел прежде всего эмпирическую повторяемость, следование
правилам математической деятельности. Поэтому главной, согласно
Даммиту, причиной того, что Витгенштейн отказывает математиче-
ским истинам в объективности, является отрицание им объектив-
но-необходимого характера самого математического доказательства.
Посмотрим теперь, как же английский аналитик разъясняет эту
свою оценку. Центральный тезис Даммита гласит, что самые сильные
аргументы в пользу конструктивистского подхода основываются на
идее о том, что определяющим фактором значимости математических
положений служит не утверждение условий их истинности, а утвер-
ждение условий их приемлемости. Между крайностями — плато-
нистской и интуиционистской картинами — следует, по его совету,
поместить некоторую промежуточную картину математических объ-
ектов, возникающих как ответ на наши научные запросы. Мы не соз-
даем подобные объекты, но должны принимать их такими, какими на-
ходим. При этом ни в коем случае не следует думать, будто до того, как
наши исследования вызвали их появление, они уже объективно детер-
минировали истинность или ложность наших утверждений о них. В
связи с этим ранний Даммит выражал уверенность, что его собствен-
239
ная концепция поможет преодолеть сложившуюся в философии мате-
матики резкую дихотомию платонизма и интуиционизма.
Дальнейшая эволюция взглядов на природу математики приводит
его к философскому переосмыслению традиционной позиции интуи-
ционизма. В этом он идет гораздо дальше самого Витгенштейна. «Ин-
туиционизм,— пишет Даммит,— не достигнет успеха в борьбе с со-
перничающими... формами математики, пока не выиграет философ-
ской битвы. В случае же проигрыша этой битвы как сама практика ин*
туиционистской математики, так и математическое исследование
интуиционистских систем превратятся в пустую трату времени»1.
Сердцевину философской полемики интуиционистов с их оппонента-
ми, по Даммиту, составляет спор относительно того, какой должна
быть теория значения для языка математики. Причем он считает,
что последовательные интуиционисты должны выступать противни-
ками «реализма».
Предложенное им еще в ранних статьях определение реализма до
сих пор вызывает споры, способствует поляризации позиций в анали-
тической философии. Реалистическую точку зрения он сводит к убеж-
дению в том, что в отношении каждого утверждения (и не только мате-
матического) должно быть нечто такое (некотораяреальность), бла-
годаря чему либо само утверждение, либо его отрицание истинно2.
Именно на основе подобного убеждения, подчеркивает он, реалисты
пытаются доказывать, будто общей формой объяснения значения лю-
бого предложения является установление его условий истинности.
Даммит, таким образом, связывает реализм в трактовке языково-
го значения с безусловным принятием логического принципа бива-
лентности. При этом английский аналитик, по его словам, не стремит-
ся, чтобы его собственное употребление термина «реализм» в точно-
сти соответствовало общепринятой философской практике, эписте-
мологической традиции прежде всего. Наоборот, такое нестандартное
истолкование должно привлечь внимание к тем важным логико-се-
мантическим проблемам, которые философы, рассуждая на «метафи-
зические» темы, оставляют без внимания.
1 Dummett M. Elements of Intuitionism. Oxford, 1977. P. VIII—IX.
2 К примеру, реализм в отношении событий прошлого времени будет тогда сво-
диться к следующему мнению: истинность утверждения о прошлом не зависит от того,
существуют ли в настоящем следы прошлого состояния, которые позволят нам при-
знать это утверждение истинным, верифицировать его. Если оно истинно, то истинно
лишь благодаря реальному положению дел в прошлом, а не благодаря современным от-
крытиям археологии, например. Такой «реализм», как видно, отводит субъекту позна-
ния роль пассивного наблюдателя.
240
В одной из своих работ1 Даммит приводит четыре возможные ком-
бинации основных философских точек зрения на проблему реализма.
Прежде всего он различает два варианта реализма — усовершенст-
вованный и наивный реализм. В обоих случаях принимается реали-
стический взгляд на определенный класс утверждений. Разница в том,
что в первом случае говорится о применимости к этому классу «редук-
ционного тезиса», а во втором такое применение отвергается. В соот-
ветствии с этим тезисом утверждение определенного класса не может
быть истинным, если не является истинным утверждение какого-либо
другого, редукционного класса. Например, можно придерживаться
позиции, согласно которой истинное описание чувственно-восприни-
маемых свойств (так называемых вторичных качеств) сводимо к опи-
санию их внутренних структурных характеристик (первичных ка-
честв). Но можно остановиться и на наивно-реалистической фикса-
ции внешних чувственных качеств, которая признается достоверной и
соответствующей самой реальности.
В то же время, продолжает Даммит, есть два способа отрицать
реалистическую позицию в отношении определенного класса утвер-
ждений: либо с помощью редукционного тезиса (требующего, к при-
меру, сведения утверждений о физических объектах к утверждениям о
ментальных сущностях, как это было у Беркли), либо считая данный
класс в принципе нередуцируемым. Сторонников первого способа он
называет редукционными антиреалистами, сторонников второго —
явными антиреалистами, к числу которых он относит и самого себя2.
Антиреализм последнего рода позволяет, по его мнению, распро-
странить на утверждения естественного языка те свойства, которые
интуиционисты обнаруживают у собственно математических утвер-
ждений. Следует исходить из того, что некоторое утверждение Я долж-
но быть либо истинным, либо ложным только в том случае, если мы в
конечное время или за конечное число действий способны поставить
себя в такое положение, когда сможем определенно подтвердить или
опровергнуть Р. Одним словом, Я должно быть эффективно разре-
шимым утверждением. «Мы,— пишет английский философ,— те-
перь уже не объясняем смысл предложения, устанавливая его значе-
ния истинности в терминах значений истинности конституентов, но
учитываем, что предложение утверждается в терминах тех условий,
при которых утверждаются его конституенты»3.
1 См.: Dummett M. Common Sense and Physics//Perception and Identity. L., 1979.
2 Ibid. P. 5.
3 Dummett M. Truth//Philosophical Logic. Oxford, 1967. P. 67.
16-5739 241
В соответствии со стратегическим замыслом Даммита антиреали-
стическая позиция должна стать альтернативной всем разновидно-
стям реализма, противостоять «догматической» убежденности фило-
софов-реалистов в независимом от познания существовании предме-
тов внешнего мира. При этом он полагает, что можно отказаться от
реализма, не впадая в субъективный идеализм и его крайнее проявле-
ние — солипсизм. Таким образом, несмотря на нетрадиционность
предложенного английским философом семантического истолкова-
ния реализма, он в конечном итоге противопоставляет свою концеп-
цию классической реалистической концепции в теории познания.
Развернувшаяся не без влияния Даммита в 70-е годы в Великобри-
тании дискуссия о реализме выдвинула в центр обсуждения новейшие
варианты «аналитического реализма» (например, «усовершенство-
ванный реализм» А. Айера, «непосредственный реализм» П. Стросона,
«научный реализм» Д. Маки и другие). Появление всех этих вариантов
реализма правомерно рассматривать как продолжение антипозитиви-
стского процесса реабилитации «метафизики», начавшегося в анали-
тической философии еще в 60-е годы. Негативная реакция Даммита и
его сторонников на это явление выражается в их попытках опроверг-
нуть концепции истины и значения, разделяемые сторонниками новых
форм реализма. Полемику с реализмом Даммит ведет на почве фило-
софии языка, почти не затрагивая при этом центральную для реали-
стов проблему восприятия. Что же касается проблемы истины, то она
выступает для него в логико-лингвистическом облачении.
Следует также иметь в виду, что реалистическое направление в
современной аналитической философии очень неоднородно: здесь, к
примеру, и продолжатели локковского материализма, и современные
сторонники юмовского «натурализма». Поэтому приведенная выше
даммитовская классификация основных форм реализма, построенная
на основе семантического критерия, не совпадает со сложившимися
на практике разновидностями аналитического реализма.
Философия математики Витгенштейна — не единственный тео-
ретический источник взглядов Даммита. Другой важный источник —
это логико-философские идеи Фреге. Как раз с даммитовских работ
началось возрождение интереса к Фреге среди философов-аналити-
ков. Именно во взглядах немецкого ученого Даммит находит ту теоре-
тическую основу, которая, как он надеется, позволит в будущем сбли-
зиться различным школам философского анализа. Так, в программ-
ной для него статье «Может ли аналитическая философия быть систе-
матической и должна ли она быть таковой?»1 он перечислил три
1 Dummett M. Truth//Philosophical Logic. P. 441.
242
главные причины, способствующие постепенному сближению тех
аналитических философов, которые стоят пока на разных позициях.
Во-первых, причиной такого сближения Даммит как раз и считает
широкое распространение в англоязычных странах идей Фреге. Сей-
час именно его, а отнюдь не Рассела, многие признают создателем
аналитической философии. «Можно принять следующую краткую де-
финицию: аналитическая философия есть постфрегеанская филосо-
фия»1. Главным достижением немецкого ученого, по мнению Дамми-
та, было изменение самой перспективы философских исследований,
замена эпистемологии, служившей, начиная с Декарта, исходным
пунктом всякого философствования, логикой. Под логикой же Фреге
понимал не только то, что обычно имеют в виду, то есть формальную
(математическую) логику, но также и философию языка.
Во-вторых, Даммит отмечает возросшее влияние на британскую
аналитическую философию работ американских аналитиков, в осо-
бенности занимающихся логической семантикой, проблематикой
языкового значения.
В-третьих, он обращает внимание на то, что в последние годы из-
менился главный предмет исследования философов-аналитиков.
Если в течение нескольких десятилетий процветающей ветвью была в
основном философская психология, то сейчас на первый план выдви-
нулась философия языка (которую следует отличать от господство-
вавшей в 50-е и в первой половине 60-х годов «лингвистической фи-
лософии»). На основе новых идей в философии языка происходит
слияние британской и американской школ анализа.
Даммит констатирует, что для Фреге, Витгенштейна и современ-
ных аналитиков философия языка потому составляет базис всех дру-
гих философских дисциплин, что только путем анализа употребления
слов и выражений мы можем по-настоящему изучать мышление и по-
знание. В плане философского объяснения изучение языка должно
предшествовать изучению мышления. Необходимо поэтому экспли-
цировать принципы, которые регулируют использование форм языка
и которые мы все уже имплицитно постигли в нашей лингвистической
практике. И если вообще существуют принципы, которые гарантиру-
ют значимость слов, то нет никаких особых препятствий к логико-фи-
лософскому прояснению этих принципов. Развернутая их эксплика-
ция и будет составлять полную теорию лингвистического значения.
«Я утверждаю,— пишет Даммит,— что мы сейчас достигли такого
1 Dummett M. Truth//Philosophical Logic. P. 441.
243
положения, когда поиск подобной теории значения может приобрести
подлинно научный характер»1.
Правда, сам английский философ, в определенной степени проти-
вореча себе, признается, что не знает, приобретут ли другие разделы
аналитической философии научный и систематический характер в
результате создания всеобъемлющей теории значения. Он уверен
лишь в том, что новая теория способна придать систематичность са-
мой философии языка. Поэтому коренная реформа философии, пред-
лагаемая им, на деле сводится к переориентации стратегии философ-
ского анализа языка, основу которого для него составляет теория зна-
чения. Другой подход к решению философских проблем, кроме как че-
рез философию языка, для Даммита просто немыслим. В этом плане
его можно рассматривать как одного из наиболее правоверных совре-
менных представителей аналитической традиции в философии.
Как уже отмечалось, он в целом высоко оценивает семантическую
теорию Фреге. Английский философ верно подметил, что для Фреге
семантическое понятие «смысл» несет важное эпистемологическое
содержание. Оно вводится для решения вопроса относительно позна-
вательной ценности, или информационного содержания, истинных ут-
верждений тождества. Понятие аналитичности и более широкое фи-
лософское понятие априорности тоже имеют у немецкого ученого
эпистемологический характер. В этом его несомненная заслуга, осо-
бенно если учесть, что Витгенштейн в «Логико-философском тракта-
те» оказался неспособным показать, что аналитическое предложение
как таковое может обладать познавательной ценностью.
Недостатком же теории Фреге признается то, что он не сумел в
должной степени отразить социальный характер языка. Эту важней-
шую черту, по мнению Даммита, в большей степени выразил в своих
поздних работах Витгенштейн. И именно понимание языка как соци-
ального явления — социолекта, а отнюдь не понятие идиолекта, сле-
дует считать исходным в аналитической теории значения. Мы, отмеча-
ет английский философ, конечно, не можем полностью избавиться от
последнего понятия, обозначающего ограниченное и зачастую оши-
бочное понимание индивидом своего языка, но все же содержание
понятия идиолекта должно быть разъяснено в терминах концепции
такого языка, который понятен человеческому сообществу, а не на-
оборот.
Свое стремление создать новую теорию значения английский фи-
лософ попытался реализовать в двух пространных статьях под одина-
1 Dummett M. Truth//Philosophical Logic. P. 454.
244
ковым названием «Что такое теория значения?»1. Конструктивист-
ская сущность его подхода, отмеченная нами выше, проявляется и в
том, что создание систематической теории значения он осуществляет
путем последовательного построения трех возможных типов такой
теории — неофрегеанской, верификационистской и фальсификацио-
нистской, каждая из которых признается более адекватной для реше-
ния задач, чем предыдущая. Однако и этот конструктивный процесс он
не может признать законченным, поистине солидаризируясь с неокан-
тианским лозунгом «движение — все».
Вообще понять значение слова или выражения, по Даммиту,—
это понять их роль в языке. Поэтому-то теория значения должна быть
теорией того, как функционирует язык. Причем логическая теория
истины окажется только частью более широкой теории значения. Эта
последняя будет в то же время теорией понимания: она призвана
разъяснить, что же в принципе известно каждому человеку, способно-
му воспринимать значение слов и выражений своего национального
языка. Она также покажет, к какому семантическому механизму сво-
дится обладание понятиями, которые выражаются средствами естест-
венного языка. И здесь Даммит указывает на две возможные позиции
«теоретиков значения». В соответствии с одной из них считается из-
лишним требовать от теории, чтобы она объясняла механизм понима-
ния значения новых понятий теми, кто ими еще не обладает. Все, что
можно требовать в подобном случае, так это дать объяснение способ-
ности понимания теми, кто уже обладает необходимыми понятиями.
Теорию значения, которая решает только эту последнюю задачу, Дам-
мит именует «скромной» теорией. Если же теория значения действи-
тельно объясняет изначальное усвоение понятий, то она будет «пол-
нокровной» теорией.
В качестве примера теории первого типа он приводит концепцию
американского аналитика Д. Дэвидсона, применяющего семантиче-
скую трактовку истины к естественному языку. Дело в том, что его
концепция, убедительно показывая, что означает прийти к интерпре-
тации одного языка через предварительное знание другого, не объяс-
няет, однако, что означает владеть родным языком вне зависимости от
знания какого-либо другого языка.
Искомая «полнокровная» теория значения должна быть, как
предполагает Даммит, строгой, достаточно богатой по своим объясни-
1 См.: Dummett M. What is a Theory of Meaning? (I)//Mind and Language. Oxford,
1975; What is a Theory of Meaning? (II)//Tuth and Meaning. Oxford, 1976.
245
тельным возможностям и основываться на атомарной (а еще луч-
ше — молекулярной, то есть берущей в качестве исходной значимой
единицы языка не отдельное слово, а целое предложение) модели
языка. Такая теория сумеет без отсылки к другому языку показать,
чем в принципе является способность владения родным языком. «Од-
ним из достоинств теории значения, которая представляет овладение
языком как знание не изолированных, а дедуктивно взаимосвязанных
высказываний, является подчеркивание ею того факта, что при пони-
мании предложения происходит процесс вывода (курсив мой.— А.Г.)
определенного рода»1.
Естественный язык в даммитовской трактовке представляет собой
многоэтажную структуру, в которой возможность введения в язык но-
вых выражений путем лингвистических разъяснений зависит от ис-
ходной постройки нижних этажей «здания». При этом лингвистиче-
ский холизм признается им теорией, неспособной реконструировать
процесс первоначального усвоения языка. Коренное различие между
холистской и молекулярной моделями состоит, по Даммиту, в том, что
если в соответствии с первой понимание любого предложения требует
знания всего языка, то в соответствии со второй для каждого предло-
жения имеется свой определенный фрагмент языка, знания которого
будет вполне достаточно для понимания этого конкретного предложе-
ния.
Английский философ предупреждает, что его концепция не долж-
на рассматриваться в качестве очередной психолингвистической ги-
потезы, ибо задачу систематической теории значения составляет
лишь анализ формальных аспектов тех умений и способностей, к ко-
торым сводится владение языком, процесс понимания слов и выраже-
ний. Поэтому новая теория не будет стремиться описывать какие-ли-
бо внутренние психологические механизмы, якобы объясняющие по-
добные способности. Этим уточнением он недвусмысленно подчеркнул
отличие своей программы от программы психологов-когнитивистов и
лингвистической школы Хомского.
Если иметь в виду вариант теории значения, для которого цен-
тральным является понятие истины, то, рассуждает Даммит, он мог
бы состоять из двух частей. Ядро такой теории составит собственно
концепция истины, то есть индуктивная спецификация условий истин-
ности предложений языка. Даммит рекомендует называть это ядро
теорией референции. Оно должно помещаться, так сказать, в «ра-
ковину», представляющую собой теорию смысла. И путем соотнесе-
1 Dummett M. What is a Theory of Meaning? (I). P. 112.
246
ния практических способностей говорящего с положениями теории
смысла можно будет показать, в чем заключается знание говорящим
того или иного аспекта референции.
Теория референции и теория смысла вместе составляют самую
важную часть систематической теории значения. Другой, дополни-
тельной частью является теория «силы», или «тональности». Даммит
в связи с этим напоминает, что Фреге в любом предложении выделял
смысл (конкретную мысль) и придаваемую ему силу как, например,
ассерторическую, интеррогативную или императивную силы. Извест-
но, что немецкий ученый трактовал силу как составную часть значе-
ния, менее важную, чем смысл. Различие между ними он оценивал в
терминах истинности и ложности: разница в силе не влияет на истин-
ностное значение предложения, а разница в смысле в целом влияет.
Прагматическая теория силы исследует связь между значениями
предложений, устанавливаемыми теорией референции и смысла, и
актуальной речевой практикой.
Перейдя затем к другому варианту построения теории значения,
Даммит вначале поясняет, что широко известный тезис, в соответст-
вии с которым значение предложения есть метод его верификации, от-
нюдь не исключает, что возможны различные способы употребления
предложений. Данный тезис, по сути дела, означает лишь утвержде-
ние о том, что имеются общие средства выведения конкретных осо-
бенностей использования предложения из какой-либо одной характе-
ристики, так что знание этой характеристики и есть то знание, которое
необходимо говорящему для постижения смысла предложения. В
этом случае знать смысл предложения — это знать условия его ис-
тинности, или, что то же самое, метод его верификации.
Английский философ признает, что не существует всеобщего и
безошибочного критерия для признания истинности того или иного
предложения. Однако он считает, что можно ввести достаточно четкий
критерий для признания говорящим выполнения того условия, кото-
рое устанавливает любое данное предложение как истинное. Знание
говорящим условия истинности предложения заключается в овладе-
нии им некоторой разрешающей процедурой, в его способности при
благоприятных обстоятельствах осуществлять эту процедуру и в
конце концов продемонстрировать свое понимание того, имеется не-
обходимое условие или нет. В то же время в естественном языке
встречается множество предложений, для которых не существует
эффективной процедуры определения того, выполнены или нет их
условия истинности. И это обстоятельство создает большие трудно-
сти для разработки теории значения в рамках аналитической филосо-
фии языка.
247
В понятии истины изначально заложен конфликт между семанти-
ческими и прагматическими признаками, несколько неожиданно заяв-
ляет Даммит. В данном случае английский философ имеет в виду сле-
дующее. Истина чаще всего трактуется как «объективное» свойство
того, что говорит человек, то есть как свойство, не зависящее от
имеющегося у него «фонового» значения или личностных мотивов
произнесения речи. Но на самом деле это мнение возникло из понятий
правильности или неправильности лингвистического акта утвержде-
ния, связанного с конкретной языковой практикой. Принцип соответ-
ствия утверждений определенным компонентам реальности, с точки
зрения Даммита, представляет собой лишь один аспект общей теории
истины, причем он играет в основном регулятивную роль. Семантиче-
ское понимание истины само оказывается исходным по отношению к
нашему определению того, что именно существует в реальности: у нас
вначале имеется соответствующее понятие истины для различных ти-
пов утверждений, и только впоследствии мы на его основании заклю-
чаем о характере реальности.
Положение о том, что сама концепция истины формирует пред-
ставление о реальности, в учении английского философа зачастую
прямо приравнивается к тезису о приоритете лингвистического опыта
по отношению к зависимой от него реальности. Он усиливает идеали-
стическую тенденцию, заключенную в отдельных утверждениях Вит-
генштейна об автономии «грамматики» языка. В конечном итоге у
него получается, что образ реальности формирует именно та теория
значения (включающая в себя определенное истолкование истины),
которую мы выбираем. Но такая позиция, надо сказать, противоречит
характерным для Даммита заверениям в том, что его точка зрения не
имеет ничего общего с субъективным идеализмом.
Мы, рассуждает английский философ, едва ли смогли бы понять,
что означает для некоторого утверждения быть истинным, если бы у
нас не было понимания того, как можно знать о его истинности. Но
«слепая приверженность» реалистов принципу бивалентности при-
водит к тому, что понятие истины получает у них трансцендентальные
черты. Отказ же отданного принципа, полагает он, приведет к отказу
от центральной роли классической двузначной логики. Новая конст-
руктивная теория значения будет стремиться к ревизии определенных
классических форм аргументации в языке. В связи с этим на повестке
дня окажется построение такой философии языка, которая уже не бу-
дет основываться на понятии объективно детерминированного истин-
ностного значения.
Прототипом желаемой конструктивной семантики для Даммита
как раз и служит интуиционистская трактовка математических утвер-
248
ждений. Его философия языка вполне допускает, что интуиционист-
ский подход может применяться и вне собственно математической об-
ласти. Только доказательству как главному средству установления ис-
тинности математических положений за пределами математики долж-
но ставиться в соответствие более общее понятие верификации.
Поэтому понимание некоторого утверждения естественного языка
сводится к способности уяснения того, что верифицирует его, то есть
устанавливает как истинное. И совсем не обязательно, чтобы у нас
были в наличии конкретные средства для принятия решения о том, ис-
тинно ли утверждение. Нужно лишь, чтобы мы были способны в прин-
ципе зафиксировать установление его истинности. Главным различи-
ем между языком математики и естественным языком в этом плане
будет то, что в первом разрешимость является его сущностной, обяза-
тельной характеристикой, тогда как разрешимость (в данном случае
верифицируемость) эмпирических утверждений естественного языка
отнюдь не всегда достижима, хотя и желательна.
Верификационистская теория значения — не единственная для
Даммита альтернатива традиционной теории значения, построенной
на понятии условий истинности. Другая реконструируемая им теория
берет за основу понятие акта утверждения как такого руководства для
воспринимающих речь, которое вызывает у них определенные экспек-
тации. Главной характеристикой, связанной с этим лингвистическим
актом, будет неправильность утверждения. А понятие правильности
утверждения должно уже выводиться из этой исходной характеристи-
ки. Дело в том, что, утверждая что-либо, говорящий всегда исключает
определенные возможности. Если утверждение недвусмысленно, то
сразу становится ясно, какие положения дел оно исключает, а какие
нет. Но почему же до сих пор не замечали, что в процессе объяснения
акта утверждения понятие неправильности предшествует понятию
правильности? — По мнению Даммита, это отчасти произошло в
силу распространенной тенденции уделять основное внимание лишь
разрешимым случаям, но главным образом — из-за реалистической
установки в пользу понятия условий истинности, якобы соответст-
вующей нашему здравому смыслу.
Такая альтернативная теория значения сохраняет положение ве-
рификационистской теории относительно желательности использо-
вания эффективно проверяемых предложений. Однако она заменяет
само понятие верификации понятием фальсификации (то есть мы
знаем значение предложения, когда знаем, как определить, что оно
может быть принципиально фальсифицировано). Эта теория значе-
ния потребует своей логики, которая, собственно говоря, не будет уже
ни классической, ни даже интуиционистской. «Так, когда централь-
249
ным понятием признается понятие истины, тогда референтом одноме-
стного предиката будет совокупность объектов (или функция от объ-
ектов к истинностным значениям); когда же центральным оказывает-
ся понятие верификации, тогда это будут эффективные средства опре-
деления для любого данного объекта решающего доказательства
применимости того или иного предиката к этому объекту; или же
(средства определения) неприменимости предиката, если централь-
ным будет понятие фальсификации». «Верификационистская теория
значения лучше, чем последовательно реалистическая, а фальсифи-
кационистская, вероятно, еще лучше»,— подытоживает свои рассу-
ждения относительно перспектив программы построения системати-
ческой теории значения Даммит1.
Представленная английским философом программа вызвала не-
мало критических публикаций, в ряде которых указывалось на недос-
таточную строгость и декларативность его трактовки языкового зна-
чения, фиксировались отдельные внутренние противоречия его кон-
цепции, отмечалась излишняя модернизация им логико-философско-
го наследия Фреге и Витгенштейна, выражалось серьезное опасение,
что путь развития, намеченный Даммитом для аналитической филосо-
фии, может лишь увести ее в сторону от решения многих фундамен-
тальных проблем. Критики особо подчеркивали тот факт, что он меха-
нически, не учитывая специфики философского знания, переносит на
него методы и принципы, выработанные конструктивистской матема-
тикой и интуиционистской логикой. Указывалось и на то, что стиль
философских работ Даммита создает такие трудности для их воспри-
ятия, что самому автору вряд ли удастся когда-либо адекватно и точно
передать суть своей систематической теории значения.
В отличие от Даммита некоторые известные аналитики, продол-
жая традиции «философии обыденного языка», по-прежнему придер-
живаются того мнения, что интерпретация лингвистического значе-
ния требует внимания прежде всего к основаниям философской пси-
хологии, то есть к исследованию аспектов речевой коммуникации и
человеческих интенций, а не к абстрактным положениям логической
семантики или философской логики. Одним из главных критиков фор-
мальной теории значения остается оксфордский аналитик П. Стросон,
который еще в 1968 г. в своей инаугурационной профессорской речи
специально подверг критике такое направление в трактовке значе-
ния2. Он стремился показать, что при расширительном толковании и
1 Dummett M. What is a Theory of Meaning? (II). P. 127, 137.
2 См.: Strawson P.F. MeaningandTruthZ/Philosophyasltis. Harmondsworth, 1979.
250
абсолютизации подобной теории она превращается в свою противо-
положность, а именно в теорию, согласно которой значение может
быть понятно только в процессе коммуникации, реального речевого
общения. «Мы,— говорил Стросон,— соединяем понятие значения
с истиной, а истину без труда признаем свойством предложений; пред-
ложения же принадлежат языку. Но как теоретики мы ничего не узна-
ем о человеческом языке, пока не станем понимать человеческую
речь»1.
Несмотря на серьезность критических выступлений подобного
рода, аналитическая философия в стиле Даммита продолжает пользо-
ваться большим влиянием. Работы философов его школы составляют
значительную часть публикаций по вопросам философии языка, фи-
лософии математики и эпистемологии. Следует все же осознавать, что
«систематическая теория значения» до сих пор находится в стадии
проекта. Даммитом пока предложена лишь общая стратегия построе-
ния такой теории. Но при этом ему удалось разработать терминологию
и некоторые новые концептуальные схемы, в рамках которых сейчас
активно работают многие философы-аналитики. Деятельность Дам-
мита в концентрированном виде воплощает последние тенденции в
англо-американской философии, усиление интереса аналитиков к фи-
лософии языка как основе философского знания.
Главной сферой исследования для Даммита, как ранее для Витген-
штейна и лингвистических философов, по-прежнему остается язык.
Только на базе теории языка (формальной теории языкового значе-
ния) считается возможным возведение всего здания философии. Се-
мантические принципы, определяющие функционирование языка, об-
ладают абсолютным приоритетом в его объяснительной схеме, что
ограничивает ее возможности.
Нельзя в то же время не признать, что привносимые Даммитом
элементы конструктивизма в определенной мере усиливают сего-
дняшний потенциал аналитической философии. Его позиция в этом
плане имеет более гибкий характер, чем позиция его непосредствен-
ных предшественников — лингвистических философов 40—60-х
годов. В свою философию языка он включил серьезные «метафизиче-
ские» проблемы. В сущности, философский спор реалистов и анти-
реалистов в формулировке Даммита заключается в противопоставле-
нии пассивным и статичным подходам к языку и знанию точки зрения,
1 Strawson P.F. Meaning and Tmth//Philosophy as It is. P. 539.
251
так или иначе учитывающей активную роль субъекта в его лингвисти-
ческой деятельности1.
Значительное распространение и весьма сложный характер тако-
го явления британской философской жизни последних лет, как дамми-
товская философия языка, делают критическое исследование этой
концепции важной и настоятельной задачей. Привлекает внимание
отнюдь не случайное использование Даммитом идей Фреге и позднего
Витгенштейна. Можно предположить, что антиреалистическая осно-
ва его логико-философских взглядов будет сказываться при попытке
окончательной реализации стратегического замысла построения
«систематической теории значения».
2. Философия как концептуальный анализ
В связи с рассмотрением антиреализма Даммита уже отмечалось,
что среди наиболее характерных в 70—80-е годы явлений в аналити-
ческой философии языка выделяются фрегеанство и витгенштейни-
анство. Речь в данном случае идет не о буквальном воспроизведении
учений Фреге и Витгенштейна, а о том, что дискуссии специалистов по
современным вопросам философии языка ведутся в основном в преде-
лах того проблемного поля, которое было очерчено этими учениями. В
то же время аналитики яростно оспаривают друг у друга право на аде-
кватное истолкование даже главных, принципиальных положений на-
званных учений.
Именно в этом контексте привлекает внимание концепция анг-
лийских философов Г. Бейкера и П. Хакера, разногласие которых с ус-
тановками антиреалистической философии (установками, которые
они, кстати, сами разделяли до начала 70-х годов) имеет достаточно
принципиальный характер. Одной из причин этого является иной по
сравнению с традиционным для аналитической философии взгляд на
1 Так, замена понятия «условия истинности» понятием «условия утверждаемое™»
приводит, по оценке последователя Даммита Л. Стивенсона, к существенным нововве-
дениям.«Утверждение не есть термин, заимствованный у физической науки; он непо-
средственно вовлекает нас в имплицитное приписывание говорящим знания, интенцио-
нальности и способности следовать правилам. Нельзя сделать ни единого утверждения,
если вы не включены в какую-либо правилосообразную практику. И поскольку условия
правильности утверждения должны быть известны говорящим на родном языке, то ста-
новится очевидным, что мы не сможем разработать для языка теорию значения, пока не
уделим внимание теории познания людей, говорящих на этом языке» (Stevenson L
Theory of Meaning or a Theory of Knowledge?//Philosophical Papers. 1987. V. XVI. № 1.
P. 5).
252
философское знание вообще. Это знание Бейкер и Хакер считают не-
возможным отделять от истории его возникновения и развития.
Свое кредо в данном вопросе они выразили в программной главе
«Метод в истории философии», открывающей их фундаментальное
исследование идей Фреге1. В ней авторы подчеркивают особую важ-
ность для аналитической философии таких историко-философских ис-
следований, в которых взгляды мыслителей прошлого рассматрива-
ются как специфические ответы на запросы своего времени и опреде-
ленного социокультурного контекста. «Мы не можем изучать фило-
софскую систему прошлого,— подчеркивают они,— не зная о ее
последующей судьбе; мы не можем исследовать ее, не сознавая, каким
образом мы сами воспринимаем те же философские проблемы, с ко-
торыми она имеет дело»2. Для исследователей важнее уметь показать
осмысленность философских учений, нежели просто констатировать
их истинность или ложность. Необходимо выделять присущие этим
учениям внутреннюю согласованность, поддерживающие их аргумен-
ты и неартикулированные конкретно-исторические предпосылки. То,
что у большинства аналитиков отсутствует историко-философское
самосознание, часто приводит их к необоснованной модернизации
учений прошлого.
В этом плане, отмечают английские философы, не следует преуве-
личивать философскую оригинальность Фреге, который прежде всего
был математиком платонистского толка, боровшимся с психологиз-
мом и математическим формализмом. Поэтому неверно, как это дела-
ют Даммит и его сторонники, рассматривать Фреге в качестве «отца»
аналитической философии, будто бы впервые сделавшего философию
языка центральной философской дисциплиной вместо эпистемоло-
гии. Надежда на то, что некоторый мыслитель прошлого будет спосо-
бен давать правильные ответы на все наши сугубо современные во-
просы, беспочвенна. Учитывая это, исследователи должны обратить
свое внимание также и на ошибки философов, на, казалось бы, необъ-
яснимые лакуны в их учениях, правильно подмечают Бейкер и Хакер.
Требование конкретно-исторического подхода к философским
учениям прошлого, критика попыток их модернизации — все это, ра-
зумеется, давно известные и хорошо усвоенные марксистской методо-
логией принципы исследования. Однако в рамках аналитической фи-
лософии (в особенности британской)до сих пор бытует догматическая
антиисторическая установка, навязывающая исследователям селек-
1 См.: Baker G.P., Hacker P.M.S. Frege: Logical Excavatins. Oxford, 1984.
2 Ibid. P. 4.
253
тивный подход к тем или иным учениям, которые рассматриваются ис-
ключительно в контексте и в терминах новейших дискуссий. Так, уже
давно созданы образы «аналитических» Аристотеля, Декарта, Канта,
не говоря уже о Локке, Юме и Дж. Ст. Милле, считающихся подлин-
ными «классиками» аналитического направления. Такая «история
философии» при этом довольно резко противопоставляется «истории
идей», задачу которой усматривают в максимально полном воспроиз-
ведении связей и отношений конкретного исторического контекста,
но без обращения к актуальной сегодня проблематике. Поэтому не-
удивительно, что проникнутая историческим духом теоретическая
книга Бейкера и Хакера, отнюдь не относящаяся к жанру «истории
идей», встретила весьма негативное, даже враждебное отношение ре-
цензентов из стана аналитиков.
Хотя упомянутая методологическая позиция представлена в не-
давней работе этих авторов о Фреге, более ранние публикации Хакера
(и частично Бейкера) были связаны прежде всего с оценкой и разви-
тием идей Витгенштейна. Хакер доказывал1, что во взглядах Витген-
штейна в целом просматривается эволюция от ранней приверженно-
сти реалистической теории значения к поздней радикальной инстру-
менталистской позиции. При этом австрийский философ, по его мне-
нию, никогда не ставил перед собой цель разработки какой-то
принципиально новой теории познания, ибо в основном занимался со-
вершенствованием теории значения. Если на рубеже 30-х годов в про-
цессе обдумывания своей новой позиции Витгенштейн на некоторое
время выдвигает своеобразный вариант верификационизма, то вско-
ре заменяет его принципиально новой семантической концепцией. В
ней показывается, что смысл предложения детерминируется теми ус-
ловиями, которые неиндуктивно (то есть неэмпирически — с помо-
щью «грамматических» конвенций) оправдывают употребление пред-
ложения. Главной задачей, поставленной Витгенштейном в поздний
период, Хакер признает детальное описание внутренних концептуаль-
ных связей в языке.
Этот взгляд на характер деятельности австрийского философа
Бейкер и Хакер в своих публикациях 80-х годов представляют в каче-
стве наиболее приемлемого метода философствования как такового.
По их убеждению, именно Витгенштейн предложил динамическую ин-
терпретацию концептуального каркаса естественного языка, разра-
ботал новый способ философского прояснения «грамматических»
структур. Особенно важно, что предложение как таковое есть для
1 См.: Hacker PMS. Insight and Illusion. Oxford, 1975.
254
Витгенштейна некоторая позиция в языковой игре, и именно с этим
связано его известное утверждение о том, что понимать предложение
означает понимать язык. Английские философы в данном случае име-
ют в виду то обстоятельство, что каждая языковая игра самодостаточ-
на, представляет собой законченную целостность.
Хакер придерживается того мнения, что «грамматика» языка, то
есть многообразие конвенциональных правил употребления слов и
выражений в рамках конкретных «игр», автономна и не нуждается в
каких-либо «метафизических» элементах, связывающих ее с миром.
Поэтому сама реальность признается зависимой от нашей концепту-
альной схемы. «Грамматику,— пишет он,— уместно сравнить с ме-
тодом измерения. Этот метод является предпосылкой утверждений о
длине. Абсурдность попыток обосновывать грамматику путем указа-
ния на свойства реальности (которые сами описываются с помощью
этой грамматики) можно продемонстрировать попыткой обосновать
наше применение метрического эталона путем указания на тот факт,
что километр и в самом деле содержит 1000 метров»1. Несмотря на то
что возможны альтернативные «грамматики», они не будут «противо-
речить реальности», ибо, в сущности, каждая из них может оказаться
доминирующей в нашем опыте и потому формирующей саму реаль-
ность. Совместный способ концептуализации опыта в процессе дея-
тельности членов некоторого сообщества и есть то, что Витгенштейн
понимал под «формой жизни», утверждает Хакер. Хотя он при этом
подчеркивает именно логическую (концептуальную) зависимость ре-
альности от «грамматики», нетрудно видеть, что такая позиция в
принципе может привести к далеко идущим выводам в духе лингвисти-
ческого идеализма.
В 80-е годы Бейкер и Хакер начинают публикацию не имеющих
прецедента фундаментальных текстологических исследований позд-
него учения Витгенштейна2. Хотя данные исследования можно отне-
сти к жанру философской экзегетики, авторы в своих комментариях
последовательно отстаивают истолкование этого учения как особого
рода концептуального анализа, противостоящего всем традицион-
ным подходам к языку, и прежде всего номинативной теории значения
(по выражению Витгенштейна, «августинианской» теории).
Такой взгляд на Витгенштейна был встречен многими аналитика-
ми не менее негативно, чем упомянутая выше трактовка идей Фреге.
1 Hacker P.M.S. Insight and Illusion. P. 163.
2 См.: Baker G.P., Hacker P.M.S. Wittgenstein: Understanding and Meaning. Oxford,
1980; Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity. Oxrford, 1985.
255
Надо сказать, что за их почти единодушным несогласием с разрабо-
танными Бейкером и Хакером интерпретациями скрывается не только
различие в собственно историко-философских оценках. Во всем этом
проявляется более широкая и принципиальная полемика о направле-
нии, по которому в дальнейшем должна пойти аналитическая филосо-
фия. А ситуация сейчас такова, что ведется данная полемика в форме
создания альтернативных синтетических моделей, в основном бази-
рующихся на логико-философских взглядах Фреге и Витгенштейна.
Но главное сражение с преобладающей тенденцией в аналитиче-
ской философии Бейкер и Хакер предпринимают, по существу, в обоб-
щающей все их идеи книге «Язык, смысл и бессмыслица». В ней значи-
тельно расширяется область рассматриваемой проблематики, а к об-
ширному историко-философскому материалу добавляется материал из
истории лингвистики. Позиции критикуемой стороны представлены в
максимально заостренной форме. «Мы,— пишут авторы,— пыта-
лись вскрывать на различия между соперничающими теориями, а со-
гласованные предпосылки, общие "идолы рынка" и соответствующие
им "идолы театра"»1.
Одной из таких предпосылок, по их мнению, является трактовка
языка как «исчисления правил» для использования символов. Данная
трактовка возникает на основе обобщения определенной философ-
ской интерпретации подхода математических логиков к языку и мыш-
лению, а также позиции, занимаемой в этом вопросе структурными
лингвистами. Господствующими ошибочными установками англий-
ские философы считают следующие: резкое различение смысла пред-
ложения и его прагматической силы; использование понятия истин-
ностных условий предложения в качестве единственной основы об-
щей теории значения; использование понятия «скрытой» системы
лингвистических правил, якобы лежащих в фундаменте языка и мыш-
ления; допущение «загадочной» способности понимания ранее неиз-
вестных нам предложений.
Теория значения, по образному выражению Бейкера и Хакера,
выполняет в аналитической философии языка роль «философского
камня». В соответствии с замыслом современных теоретиков значе-
ния она должна выявлять те имплицитные принципы и структуры язы-
ка, которые позволят носителю языка понимать и конструировать в
своей речевой практике бесконечное число осмысленных предложе-
ний. Похожий замысел обнаруживается и в современной лингвисти-
ке, принявшей за основу соссюровское различение диахронического и
1 Baker G.P., HackerP.M.S. Language, Sense and Nonsense. Oxford, 1984. P. VIII.
256
синхронического подходов к языку. Акценты науки о языке в конце
концов переместились из социоисторической сферы в сферу когни-
тивной психологии. Несмотря на то что сам факт совпадения устано-
вок философов языка и лингвистов может показаться удивительным,
в действительности за этим, по словам Бейкера и Хакера, можно об-
наружить общие тем и другим «концептуальные фокусы». Поэтому
необходимо установить в данных вопросах четкую границу осмыслен-
ных утверждений и бессмыслицы. Для этого нужно использовать уро-
ки истории философии и наши знания об эволюции понятий, обозна-
чающих различные виды языковой деятельности. Разоблачительный
пафос английских философов, продолжающих в этом плане соответ-
ствующую линию в творчестве Витгенштейна, направлен, таким об-
разом, уже не столько против традиционной «метафизики», сколько
против новой «метафизики» самой аналитической философии.
В своей историко-философской реконструкции Бейкер и Хакер
стремятся показать, что после Декарта большинство европейских фи-
лософов интересовались языком прежде всего как своеобразным
«безличным кодом» для передачи независимых от языка мыслей и
идей. Впоследствии создание первых формально-логических исчисле-
ний оказало такое же сильное влияние на возникновение аналитиче-
ской философии, как и классическая наука на просветительскую фи-
лософию XVIII века. Изначально творцы этих исчислений (например,
Дж. Буль) еще не ставили себе цель обнаружить «глубинную грамма-
тику» языка. Впервые именно Витгенштейн в своем «Трактате» по-
пытался путем логического анализа показать внутреннюю структуру
языка, создающую возможность отображения в нем определенного
содержания. Эта линия позднее получила развитие в классических ра-
ботах А. Тарского и Р. Карнапа. А за ними, по словам Бейкера и Хаке-
ра, уже целые «толпы» философов начинают разрабатывать теорию
значения, основываясь на трактовке значения предложения как его
условий истинности. Считается, что только с этих позиций можно объ-
яснить бесконечные семантические возможности языка при его огра-
ниченных исходных ресурсах.
В результате, указывают авторы книги, англо-американские фи-
лософы сознательно закрыли глаза на тот факт, что многие обладаю-
щие значением предложения лежат вне измерения с точки зрения ис-
тинности или ложности. Но впоследствии, когда уже нельзя было от-
страняться от данного факта, аналитики ухватились за различение
смысла предложения и его силы (как того, что не является носителем
истинностного значения). Это привело к своеобразному разделению
труда: логическая семантика «условий истинности» занималась спе-
цификацией таких сущностей, как смыслы, а все, что касалось
17-5739 257
«силы», отдавалось прагматике. Лингвисты же соответственно
трансформировали понятие силы в целую теорию перформативных
высказываний и положили его в основание особой иллокутивной ло-
гики. В своих теоретических построениях они стали высокомерно иг-
норировать все «эмпирическое» (вроде проблемы глагольных накло-
нений и прочих проблем такого рода).
Хотя Рассел и ранний Витгенштейн подготовили почву для совре-
менных концепций языка, главным их источником, по мнению Бейке-
ра и Хакера, послужили работы логических и лингвистических пози-
тивистов, объединенных в группы или целые школы. Популярная се-
годня трактовка семантической силы впервые встречается в работах
представителя «философии обыденного языка» Дж. Остина, посвя-
щенных теории «речевых актов». В сходном направлении проходила
деятельность Р. Хеара, осуществлявшего логико-лингвистический
анализ моральных высказываний. «Различие между смыслом и силой
сейчас широко эксплуатируется для демонстрации возможности пра-
вильного рассуждения и выработки базисных принципов "логики им-
перативов" и "логики вопросов"»1.
Сами Бейкер и Хакер убеждены, что большая часть предложений
естественного языка вообще ничего не описывает. Однако, по их мне-
нию, многие догматически утверждают, будто предложения, стоящие
в различных наклонениях,"могут иметь общее им всем дескриптивное
содержание. Но метод парафразы, используемый для подтверждения
того, что грамматическая форма предложения (как правило, стоящего
в изъявительном наклонении) лежит в основе разных «речевых ак-
тов» (которым-де присуща своя прагматическая сила), несостояте-
лен. Дело в том, что все виды предложения естественного языка спе-
цифичны в своем употреблении и не сводимы к каким-либо априор-
ным формам или глубинным структурам. Так, к примеру, императив-
ные предложения сопротивляются перефразировке, которая может
привести лишь к явным лингвистическим аномалиям. Да к тому же по-
лученные в результате подобной операции предложения зачастую не
являются синонимами перефразируемых предложений. Однако сто-
ронники данного подхода упорно доказывают, будто любые «речевые
акты» обязательно выражают некоторые объективные, независимые*
от условий произнесения «пропозиции».
Английские философы упоминают о еще одном встречающемся
способе обоснования различия между «объективным» смыслом и
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Language, Sense and Nonsense. P. 63.
258
прагматической силой. Так, считают, будто понимание предложения
заключается в особом психологическом умении выделять смыслопе-
редающие компоненты и «индикатор» силы, зафиксированный в гла-
голе, специфицирующем «речевой акт» («Он утвер>вдал (спросил,
обещал), что...»). Однако, резонно замечают Бейкер и Хакер, предло-
жениям могут быть присущи самые различные смыслы и прагматиче-
ские особенности. Причем отношения между этими двумя характери-
стиками тоже в свою очередь многообразны и в решающей степени
зависят от контекста употребления. Сторонники указанного подхода
смешивают эмпирико-психологическое исследование с концепту-
альным, а овладение тем или иным понятием отождествляют с психо-
логическим процессом узнавания или процессом вычисления. Для
теоретического объяснения таких процессов постулируются всевоз-
можные ментальные и лингвистические сущности. Философы-анали-
тики подобной ориентации напоминают Бейкеру и Хакеру дофрегев-
ских логиков, активно занимавшихся перефразированием различных
«отклоняющихся» типов предложений в стандартную субъектно-пре-
дикатную форму. «Кажущийся триумф логического анализа утвер-
ждений, вопросов и приказов как предложений-радикалов заключает-
ся в умении показывать, будто логика, кодифицирующая отношения
между предложениями-радикалами, едина, то есть что связки "не",
"если.., то", "или" должны безоговорочно интерпретироваться как
функционально-истинностные связки»1.
В противовес этой позиции Бейкер и Хакер отстаивают мнение,
что внутреннее отношение между, к примеру, приказом («Закрой
дверь!») и описанием его исполнения («X открыл дверь») является
продуктом грамматической конвенции, фиксируемой толковым сло-
варем. Такие конвенции складываются в процессе совместной языко-
вой деятельности людей. И потому нелепо трактовать подобные отно-
шения как внелингвистические «платоновские» сущности.
Английские философы также попытались определить общий зна-
менатель спора представителей реалистической и антиреалистиче-
ской тенденций, захватившего в последние годы аналитическую фило-
софию. С их точки зрения, многие при этом исходят из одного и того же
принципа, а именно, будто любая теория значения должна обязатель-
но предполагать спецификацию значения предложения с помощью
металингвистической формулировки его условий истинности. «Со-
временная логическая семантика для исчисления предикатов по-
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Language, Sense and Nonsense. P. 115.
17- 259
строена исключительно на базе "условий истинности"»1. Данное по-
нятие породило у философов и лингвистов необоснованные надежды
на возможность абсолютно точного объяснения закономерностей
функционирования языка. В результате выражениям естественного
языка стали приписывать характеристики искусственных логических
символов, «жизнь» которых существенно отличается от реальной
языковой практики людей.
Вторая линия интерпретации понятия «условий истинности» свя-
зывается Бейкером и Хакером с семантической теорией Тарского.
Ядро этой теории составляет обозначение в метаязыке условий истин-
ности для любого правильно сформулированного предложения объ-
ектного языка. Сам польский логик, как известно, относил свое иссле-
дование лишь к формализованным языкам. В дальнейшем же подход
аналитических философов к естественному языку как к строго норма-
тивному явлению стимулировал перенесение на него принципов фор-
мальной семантики. Следующим этапом расширения содержания
рассматриваемого понятия явилась разработка интенсиональной ло-
гики, в особенности той ее ветви, которая называется «семантикой
возможных миров».
Думается, справедливо наблюдение Бейкера и Хакера, которые
подмечают, что в своей основе многие новейшие аналитические тео-
рии значения одновременно являются теориями понимания, и вслед-
ствие этого понятие «условие истинности» связывается в них с анали-
зом успешной коммуникации. Эти теории начинают конкурировать с
теориями значения старого типа. Но «с расхождениями между альтер-
нативными семантическими "теориями" нельзя покончить при помо-
щи методов, пригодных для проверки и выбора между конкурирующи-
ми физическими теориями»2. А между тем именно в такой «сциентист-
ской» форме и происходит их столкновение. По резкой характеристи-
ке английских философов, «семантика условий истинности есть
влиятельный миф, скрывающийся под личиной научной теории»3.
Корни понятия «условия истинности» они усматривают в обще-
принятых определениях исходных символов формальной логики. Но
при этом Бейкер и Хакер указывают на распространенное среди ана-
литиков мнение, будто определения логических связок являются
идеализацией того, как реально используются связки в естественном
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Language, Sense and Nonsense. P. 129.
2 Ibid. P. 163.
3 Ibid. P. 166.
260
языке. Многим философам это мнение фактически служит оправда-
нием для отказа рассматривать сами случаи конкретного лингвистиче-
ского употребления слов и словосочетаний. Кроме того, при опреде-
лении логических связок с помощью таблиц истинности оставляют
без внимания тот момент, что способ применения таких таблиц сам
должен быть объяснен. Ведь таблицы истинности суть лишь особые
символы, дающие правила для перевода одной формы символизма в
другую. В этом плане они, конечно, важны для формальных исчисле-
ний, ибо представляют собой основания дедуктивных выводов. Но при
механическом переносе табличного метода на естественный язык мо-
жет возникнуть искаженное представление о его структуре. Ведь в ес-
тественном языке понятия «истинный» и «ложный» употребляются
отнюдь не в качестве теоретических терминов. Формальная семантика
приписывает «истинность» предложениям как некоторым абстракт-
ным сущностям («предложениям-типам»), забывая, например, об
«истинности» верований, убеждений, намерений, желаний, надежд и
т. д. Многие философы языка неявно предполагают, что инструмента-
ми коммуникации и носителями истины способны быть лишь вербаль-
ные символы. На самом же деле истина, подчеркивают Бейкер и Ха-
кер, не является только свойством предложений. «Без принципа, что
истина есть свойство предложений, проект построения любой версии
семантики условий истинности терпит крушение. И многие независи-
мые друг от друга аргументы показывают, что этот принцип совершен-
но не защищен (от критики)»1.
Но особую «угрозу» семантике условий истинности представля-
ют, с точки зрения Бейкера и Хакера, контекстуально зависимые
предложения, количественно преобладающие в европейских языках.
Исследование специфики подобных предложений доказывает необя-
зательность связи того, что имеет значение, с тем, что истинно или
ложно. Поэтому разработанные приемы включения контекстуально
зависимых предложений с индексалами в рамки семантики условий
истинности признаются английскими философами несостоятельны-
ми. К тому же абсолютная дифференциация истинности и ложности не
согласуется с таким лингвистическим явлением, как метафора. Ведь
метафоры особенно подчеркивают зависимость этого различения от
конкретных обстоятельств, при которых произносятся предложения.
Следуя учению позднего Витгенштейна, современные концепции
языка включают в свой инструментарий понятие лингвистического
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Language, Sense and Nonsense. P. 190.
261
правила. В связи с этим Бейкер и Хакер отмечают, что интуитивно яс-
ное, данное понятие в этих концепциях, однако, чрезвычайно запуты-
вается. Так, лингвисты-теоретики смело рассуждают о неких дейст-
вующих на бессознательном уровне конструктивных системах грам-
матических правил. «Здесь мышление философа и грамматика в рав-
ной мере испытывают влияние необычной мифологии. Поскольку мы
можем специфицировать правила преобразования, например, пове-
ствовательных предложений в вопросительные (или же изобретен-
ные нами глубинные структуры, соответствующие им), то отсюда за-
ключают, будто мы и в самом деле выводим одни из других, будто одни
формируются из других»1. Чтобы противопоставить этому свою соб-
ственную точку зрения, английские философы фиксируют те признаки
витгенштейновского понятия «правило», которые, на их взгляд, часто
игнорируются: 1 ) правила требуют регулярности того или иного пове-
дения; 2) мы обычно направляем наше поведение, ссылаясь на прави-
ла; 3) нормативное руководство поведением со стороны правила не
есть разновидность каузальности; 4) правила суть нормы (стандарты)
поведения; 5) правила возникают различными путями.
Развивая эти положения, они пишут: «Социальный мир, который
мы населяем, состоит из нормативных явлений. Сама его ткань сплете-
на из правил и правилозависимых (rule-dependent) обстоятельств»2.
Правила могут нарушаться, и обнаружение этого часто вызывает кри-
тические реакции со стороны участников некоторой совместной прак-
тики. Люди привыкают интерпретировать человеческие действия с
нормативной точки зрения, но при этом всегда имеется опасность пре-
вращения дискуссий о правилах в дискуссии о сущностях особого
рода. А ведь даже строгие правила формальной логики, указывают
Бейкер и Хакер, не есть метафизические сущности. Их «вневремен-
ность» объясняется тем, что они отчасти определяют то, что мы назы-
ваем «мышлением», «выводимостью», «рассуждением». Правила
обусловливают определенное лингвистическое поведение не каузаль-
ным, а концептуальным образом, на основе внутренних отношений.
«Представляя некоторую форму (связи) слов как выражающую
правило, мы ipso facto представляем некоторую иную форму как спе-
цификацию того, что считается согласием с таким образом выра-
женным правилом».3
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Language, Sense and Nonsense. P. 248.
2 Ibid. P. 256.
3 Ibid. P. 264.
262
В целом, по мнению Бейкера и Хакера, и лингвисты-структурали-
сты, и философы-аналитики некритически принимают ряд ошибочных
методологических установок, а именно: 1 ) резко различая диахрони-
ческое и синхроническое исследования языка, они уделяют основное
внимание лишь последнему; 2) они придают своим исследованиям
психологическое, когнитивное направление; 3) занимаются не столь-
ко реальной языковой практикой, сколько абстрактной «компетенци-
ей»; 4) приписывают последнюю «идеальному» говорящему или слу-
шающему.
Отдавая приоритет языку над речью, тот же Ф. Соссюр, на взгляд
английских философов, проигнорировал один важный фактор. «Толь-
ко потому, что он ошибочно посчитал, будто можно правильно охарак-
теризовать язык как систему ментально скоррелированных акустиче-
ских образов и понятий, Соссюр решил, что лингвист скорее нужда-
ется в "проникновении в ум говорящего", чем в исследовании актив-
ного и реактивного поведения говорящих, использования ими языка,
тех объяснений, которые они дают употребляемым или встречаемым
выражениям»1. Разумеется, Бейкер и Хакер критически оценивают
соссюрианскую программу исследования, ее философский смысл и
те настроения, которые она прививает лингвистам, а не конкретные
результаты проведенных исследований.
Лингвистическое сообщество, по выражению Бейкера и Хакера,
представляет собой богатый «склад» различных инструментов чело-
веческого мышления и поведения. Способность индивидуального ов-
ладения этими инструментами, конечно, имеет и свои пределы. Изуче-
ние языка как такового оказывается изучением целостной системы
коммуникации, включенной в практику сообщества и отнюдь не яв-
ляющейся внутренним «психическим объектом». В лексике как бы в
свернутом виде присутствует значительная часть человеческой исто-
рии и культуры. Вообще же в языке невозможно «действие на рас-
стоянии». Лингвистические правила функционируют лишь в процессе
их употребления. И ошибочно полагать, будто в ум говорящего вло-
жено скрытое знание грамматики или теории значения, которое лин-
гвист способен-де извлекать на свет.
Как и Витгенштейн, английские философы постоянно подчерки-
вают, что обучение языку не сводится ни к корреляции знаков и значе-
ний, ни к корреляции слов и способов их употребления. Знать язык оз-
начает уметь делать нечто, обладать способностями, связанными с
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Language, Sense and Nonsense. P. 270.
263
говорением и пониманием. Само знание воплощается в символах, ко-
торые мы употребляем. При этом к нему неприменимы характеристи-
ки, относимые к ментальным состояниям (например, человек не пере-
стает знать нечто, когда ложится спать). Неверна, на их взгляд, и по-
зиция Хомского, сближающего функционирование «языковой компе-
тенции» как якобы ментального состояния с деятельностью телесных
органов, изучаемой физиологией. Знаменитый американский лин-
гвист отдает приоритет изучению врожденного знания языка по срав-
нению с изучением конкретных речевых явлений, лингвистической
практики людей. «Компетенция» и есть для него ментальное, или ког-
нитивное, состояние, некоторый гипотетический резервуар, из кото-
рого якобы проистекают разнообразные лингвистические явления.
«Компетенция» представляет собой, так сказать, «каузальный меха-
низм, детерминирующий видимое движение машины»1.
Все это категорически оценивается Бейкером и Хакером как мис-
тифицированные представления о способности говорить и понимать
язык, который для них есть прежде всего социально закрепленная
практика использования знаков в соответствии с принятыми в сооб-
ществе правилами. Они указывают на то, что многие лингвисты сей-
час стали скорее психологами-когнитивистами, нежели социологами,
и стремятся описывать «идеальные» структуры языка на манер идеа-
лизированных моделей теоретической физики. При этом лингвисты
смешивают номологический и нормативный подходы к языку. «Иде-
альный Говорящий — это дегенерирующий потомок Кантовской
Доброй Воли, а не Галилеевской модели (науки)»2,— пишут англий-
ские философы, подчеркивая этим, что идеализированные закономер-
ности в науке о языке существенно отличны от идеализации естество-
знания.
Поэтому нормативные исследования языка наделе никогда не ста-
нут «физикой человеческих наук». «Картина, изображающая лин-
гвиста из МТИ (Массачусетский технологический институт.— AT,),
стоящего на мостике Корабля Науки и отдающего вниз приказания
своей команде неврологов и биологов, имеет определенный комиче-
ский шарм, но очень мало относится к реальности»3. Роль, выполняе-
мая мозговыми синапсами в мыслительных процессах, еще не объяс-
няет само действие правил. Такое объяснение возможно только с по-
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Language, Sense and Nonsense. P. 281.
2 Ibid. P. 286.
3 Ibid. P. 294.
264
мощью описания доступных наблюдению символов, включенных в
практику. В отличие от правила и соответствующему ему лингвисти-
ческого «хода», между которыми складывается внутреннее (концеп-
туальное) отношение, отношение между состоянием нервной системы
и соответствующим лингвистическим поведением, которое им якобы
вызывается, таковым не является. «Механический миф» тут ничего
не сможет объяснить, поскольку структуры нервной системы не игра-
ют нормативной роли.
В то же время Бейкер и Хакер признают ограниченную справедли-
вость позиции «платонистов», настаивающих на том, что понятия не
являются ментальными сущностями и что правила логики норматив-
ны, а не номологичны. Но при этом «платонисты» недопустимо онто-
логизируют свои представления. Так, они привыкли рассуждать о пра-
вилах, которые существуют объективно, но нам якобы неизвестны и
могут быть лишь «открыты». Получается, что такие правила никогда
не руководили конкретными действиями людей, а это противоречит
реальной человеческой практике. «Фундаментальным заблуждением
лингвистов-теоретиков оказывается их концепция лингвистических
правил, будь то семантических или синтаксических, как элементов
теории или, что еще хуже, как постулированных теоретических сущ-
ностей, обладающих объяснительной силой в контексте теории, смо-
делированной с физики»1.
Касаясь «генеративной теории понимания» (отвечающей на глав-
ный для нее вопрос: «Как мы можем понимать предложения, которые
никогда ранее не слышали?»), английские философы недвусмыслен-
но замечают, что эта теория есть просто «старая концепция, одетая в
современное платье». В начале XX века, пишут они, установки
посткартезианских философов языка получили подкрепление в трудах
Фреге и раннего Витгенштейна. Идея так называемого языкового
творчества уже витала в воздухе. Наконец, в 60-е годы зерна, посеян-
ные автором «Трактата», принесли свои плоды. Вначале об этой идее
заговорили лингвисты, а потом — философы. Так, многие аналитики
стали доказывать, будто человек понимает предложение только в том
случае, если может систематически ассоциировать с ним соответст-
вующий набор условий истинности. «Систематическая теория значе-
ния» должна, как считается, предоставлять средства для специфика-
ции смысла некоторого произвольного предложения, уточняя его ус-
ловия истинности с помощью аксиом и рекурсивных формул. Что же
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Language, Sense and Nonsense. P. 351.
265
касается сторонников «генеративной грамматики», то они на деле
просто игнорируют гибкие прагматические принципы, без которых
функционирование естественного языка невозможно. Сознание носи-
теля языка рассматривается представителями данного направления в
лингвистике по аналогии с компьютером. Свои аксиомы они подают
как правила порождения значений или же как семантические марке-
ры. «Полагать, будто правила лишь ожидают своего открытия лин-
гвистами-теоретиками, значит путать соответствующие формы объ-
яснения нормативных феноменов с теми формами объяснения, кото-
рые подходят только физическим наукам»{, — подчеркивают Бейкер
и Хакер. Правила вообще не могут служить механизмом для предска-
зания будущего лингвистического поведения. Ведь «языковое творче-
ство», в сущности, является практическим умением использовать
разнообразные комбинации предложений, которые заранее непред-
видимы, непредсказуемы.
Такое умение есть способность видеть аналогии, приспосабливать
язык к новым контекстам, накладывать новые «схемы» на содержа-
ние нашего опыта, отмечают английские философы. Они убе>кдены в
том, что аналитикам следует изучать само понятие «понимание», а не
создавать абстрактные и формализованные теории о тех скрытых про-
цессах, которые обязательно должны происходить, ибо иначе мы яко-
бы не сможем понимать. В содержание понятия «понимание» входит
то, что человек, понимающий некоторое выражение, способен, на-
пример, объяснить, что «это значит», оценить правильность или не-
правильность высказываемого, ответить на вопрос или поступить оп-
ределенным образом, переформулировать предложение, вызвать у
других соответствующую реакцию и т. п. Понимание как раз и прояв-
ляется в реализации таких способностей. Это дает каждому из нас
критерий, обосновывающий приписывание способности понимания
другим людям. «Если понимание родственно способности, то вопрос о
его возможности, очевидно, эквивалентен вопросу о том, как же чело-
век может делать все те вещи, которые свидетельствуют о понима-
нии»2. Основания для приписывания человеку способности понима-
ния нового для него предложения не отличаются от оснований в слу-
чае понимания им уже известного предложения. Как и любая способ-
ность, понимание очень пластично и не имеет предела, поэтому
бессмысленно формализовывать или «подсчитывать» его возможно-
1 Baker G.P., Hacker PM.S. Language, Sense and Nonsense. P. 334.
2 Ibid. P. 351.
266
сти. Сами конкретные проявления понимания совершенно независи-
мы от принципов теоретической лингвистики или «строгой» филосо-
фии языка.
Формальные теории значения, как полагают Бейкер и Хакер, вы-
растают из веры в то, что все языки обязательно являются система-
ми с четкой структурой. Такие теории предпочитают иметь дело с
«языком вообще», а не с конкретными национальными языками. К
тому же они отделяют метаязык от объектного языка. Подлинными
символами признаются только предложения, а жестам, образцам,
диаграммам, схемам, картинам и т. п. в этом заведомо отказывают.
Понимание же приравнивается к переработке информации или ма-
шинному переводу, и это рискованное сопоставление максимально
абсолютизируется. Так, по мнению английских философов, в совре-
менных условиях возрождаются те концептуальные заблуждения, ко-
торые впервые обнаружились еще в «Трактате», но затем были от-
брошены поздним Витгенштейном. Поэтому необходимы новое нача-
ло и создание критической философии языка.
Поздний Витгенштейн на многочисленных примерах показывал
наличие внутренней связи между объяснением слова и его употребле-
нием, которую он рассматривал как особый случай связи между пра-
вилом и его осуществлением. Сами подобные связи оказываются про-
дуктом лингвистических конвенций. Прояснение характера таковых и
есть, с точки зрения Бейкера и Хакера, философский концептуаль-
ный анализ. Попытки же искать какой-то более глубокий слой при-
водят к измышлению особой метафизической (или психологической)
«мифологии». Поскольку язык является важнейшей составной ча-
стью «формы жизни», то произнесение слов и предложений тесно пе-
реплетается со всеми человеческими действиями, включенными в
практику целостных коллективов. Различные символы как элементы
самого мира используются для его репрезентации. Но ничто не может
быть символом в изоляции от практики. «Метафизическая пропасть
между языком и реальностью является философской иллюзией»1. А
сознание как таковое не обладает магической способностью связы-
вать имена с объектами, констатируют английские философы.
Надо сказать, что раздраженный тон многочисленных рецензий и
откликов на работы Бейкера и Хакера вполне объясним, если учесть,
что им удалось приоткрыть завесу над многими принципами, негласно
(и зачастую некритически) принимаемыми в «благородном семейст-
1 Baker G.P., HackerP.M.S. Skepticism, Rules and Language. Oxford, 1984. P. 134.
267
ве» аналитиков и следующих за ними лингвистов. На наш взгляд, эти
книги интересны и как весьма информативные исследования актуаль-
ной философско-лингвистической проблематики, и как свидетельство
возникновения новой тенденции в самой аналитической философии.
Правомерно утверждать, что в них осуществлена своеобразная реф-
лексия по поводу преобладающего сейчас направления в области фи-
лософии языка. Заслуживает внимания то, что Бейкер и Хакер попы-
тались реконструировать методологические принципы, лежащие в ос-
нове данного направления, причем сделали это на огромном фактиче-
ском материале, который рассмотрели в развитии и в широком
историко-философском контексте. Отталкиваясь от идей позднего
Витгенштейна, они предельно заострили некоторые важные пробле-
мы философского изучения языка, еще ждущие своего решения.
Кроме того, концепция Бейкера и Хакера проливает свет на соот-
ношение (и взаимоотношение) аналитической философии и лингвис-
тики, показывает свойственные этим дисциплинам теоретические
противоречия. Можно также подчеркнуть, что хотя в настоящее вре-
мя еще нельзя говорить о наличии у этих английских философов мно-
гочисленных последователей и сторонников, и потому они представ-
ляют собой, скорее, исключение в аналитической философии, но сре-
ди западных лингвистов уже появились авторы, которые критикуют
господствующее направление с методологических позиций, близких к
рассмотренной1.
Занятую Бейкером и Хакером позицию не следует считать беспер-
спективной или романтической попыткой восстановить старые эмпи-
рические приемы изучения языка за счет современных строгих мето-
дов, имеющих, как известно, немаловажное значение для исследова-
ний в такой передовой области знания, как информатика. Не сводится
их позиция и к плоскому лингвистическому дескриптивизму. Скорее,
можно сравнить ее роль с той ролью, которую сыграла в свое время
«иконоборческая» позиция английского философа Э. Геллнера, в
пору безоговорочного господства в англоязычном мире «философии
обыденного языка» осмелившегося призвать к переоценке самих ис-
ходных принципов этой философии .
В конце концов пафос выступления двух авторов заключается в их
обоснованном призыве к достижению концептуальной ясности при
философско-лингвистическом исследовании свойств языка. Они на-
1 Имеются в виду прежде всего сторонники известного оксфордского лингвиста
Роя Харриса.
2 См.: Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962.
268
стойчиво выступают против превращения отдельных некритически
принимаемых принципов в господствующее учение. Таковым, в част-
ности, признается свойственная аналитической философии опора ис-
ключительно на методы функционально-истинностной семантики (что
особенно характерно для публикаций англо-американских авторов на
данную тему, вышедших в 70—80-е годы). Критическое отношение
Бейкера и Хакера к этому направлению и противопоставление ему
собственного понимания философии как концептуального анализа
языковой практики чем-то напоминает критическое отношение Вит-
генштейна к своему раннему учению. Разумеется, область критикуе-
мых английскими философами явлений уже, чем у Витгенштейна.
Верно подмечена ими и тенденция своеобразного лингвистическо-
го дуализма, проявляющаяся в выделении в естественном языке глу-
бинной сферы формализуемых отношений и ментальных структур,
якобы обусловливающих саму многообразную языковую практику как
нечто случайное, так сказать, эпифеноменальное. При принятии по-
добной позиции, что достаточно убедительно показано в работах Бей-
кера и Хакера, теряется единство такой практики, как, в сущности, со-
циального феномена.
В то же время нельзя не отметить, что рассмотренные в данном
разделе английские философы значительно сильнее в критике своих
оппонентов, нежели в разработке собственной позитивной концеп-
ции, которая к тому же в ряде моментов недостаточно последователь-
на. В силу известной односторонности их методологического подхода
они зачастую смешивают действительно имеющее место преувеличе-
ние роли отдельных логико-лингвистических принципов с реальными
достижениями «строгого» подхода к языку. В пылу полемики эти фи-
лософы делают крайние заявления в духе лингвистического идеализма
(что мы, в частности, видели на примере их трактовки «автономии
грамматики»). Правильно подчеркивая важность социокультурного
контекста для понимания норм функционирования языка, они так ни-
где и не исследовали структуру этого контекста, ограничиваясь ссыл-
ками на витгенштейновские «формы жизни». Впрочем, позиция Бей-
кера и Хакера находится в развитии и в дальнейшем можно ожидать ее
интересные и непредвиденные трансформации, выходящие за рамки
аналитической философской парадигмы. Кстати, при всех деклари-
руемых разногласиях исследовательской парадигме Бейкера — Ха-
кера и антиреализму Даммита присуще нечто общее: определенно вы-
раженное стремление внести элементы практического подхода в
философию языка. Думается, что именно в этом направлении будет в
дальнейшем происходить развитие философско-аналитических ис-
следований в данной проблемной области.
269
3. «Скептический парадокс» и его преодоление
Для исследователей творчества Витгенштейна одним из самых за-
гадочных аспектов его учения о языке и деятельности представляется
то серьезное возражение, которое он сам выдвигал в отношении своей
позиции. Разумеется, полемика с «внутренним оппонентом» является
характернейшей чертой всего его позднего философствования. Одна-
ко в одном из фрагментов «Философских исследований»1 он решается
на постановку необычного «решающего эксперимента», так сказать
на выживание своей доктрины. Впрочем, разрушительные последст-
вия этого контраргумента не только могли бы сказаться на его собст-
венном учении, но и поставить под вопрос саму возможность челове-
ческой коммуникации и различных форм разумной деятельности. Ко-
нечно, как и в случае с античными апориями движения, речь идет не о
буквальной невозможности некоторого очевидного явления, а о труд-
ности, может быть, даже и непреодолимой в философском истолкова-
нии парадоксальной ситуации, об отсутствии ее адекватного объясне-
ния. В данном случае испытанию подвергается основополагающая для
Витгенштейна трактовка естественного языка как осуществляемой по
установленным правилам деятельности, функциями которой оказыва-
ются значения слов и выражений. Выдвинутое возражение не являет-
ся каким-то внешним опровергающим свидетельством или «потенци-
альным фальсификатором». Оно вырастает из самой сути поздней
концепции языка и определенного подхода к лингвистическому значе-
нию. Это закономерный результат напряженных размышлений авст-
рийского философа о природе языковой деятельности.
Когда-то Рассел говорил, что правильность логической теории
(которая для него была равнозначна философии) проверяется ее спо-
собностью разрешать те или иные парадоксы2. Правда, нельзя ска-
зать, чтобы во время непосредственного творческого взаимодействия
с английским философом (в особенности в первый — довоенный —
кембриджский период) Витгенштейн в той или иной форме развивал
эту тему. Несмотря на всю необычность построения «Трактата», па-
радокс еще не стал той формой, в которой предельно заостряется ав-
торская позиция. Но в поздних витгенштейновских текстах акценти-
рование парадоксального смысла различных явлений становится едва
ли не нормой. Так, в частности, парадоксы интересовали австрийского
философа в связи с его занятиями философией математики. При этом
1 См.: Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 81.
2 См.: Russell В. On Denoting//Logic and Knowledge. L., 1956. P. 47.
270
парадоксальные ситуации типа описанного Расселом теоретико-мно-
жественного парадокса оценивались Витгенштейном как вполне до-
пустимые явления в сфере творческой деятельности математика, от-
нюдь не всегда приводящие к катастрофическим последствиям.
Однако в рассматриваемом нами случае речь идет о парадоксе со-
всем другого плана. На карту поставлена сама возможность осмыс-
ленного языка, а потому и разумность наших действий. Фактически
здесь появляется новый после «Трактата» вариант трансценденталь-
ной постановки вопроса о возможности такого языка. Ведь если мы не
решим этот вопрос, то придется отказаться от принципа относитель-
ного постоянства значения в рамках «игровых» контекстов.
Главной трудностью, возникающей в связи с интерпретацией вит-
генштейновского парадокса, оказывается его... простота. Вот как он
формулируется: «В этом наш парадокс: никакой способ действия не
может определяться правилом, ибо любой способ действия может со-
гласовываться с правилом. Ответом было бы: если все может быть
согласовано с правилом, то все может ему и противоречить. Поэтому
здесь не будет ни согласия, ни противоречия» (§ 201 ). И этот «наив-
ный» парадокс даже в большей степени, чем все замысловатые логи-
ко-математические парадоксы, никак не может оставаться без ответа,
ибо он делает проблематичным в человеческой жизни слишком мно-
гое1.
Как это часто происходит с философскими идеями Витгенштейна,
они получают в работах его последователей различные, подчас прямо
противоположные истолкования. Не является исключением в данном
отношении и «скептический парадокс». О нем специально заговорил
в конце 70-х годов Сол Крипке, предложивший это название. Вначале
стали доходить лаконичные сообщения о новой интерпретации, изло-
женной этим американским философом в своих выступлениях, а затем
появились и его публикации, в которых были представлены первона-
чальные варианты концепции парадокса2. И на'конец, в центре внима-
ния западных философов оказывается книга Крипке «Витгенштейн о
правилах и индивидуальном языке», в которой последовательно раз-
1 Приведем одну из самых ранних формулировок парадокса, относящуюся к
1930 г.: «Когда впервые обучаются языку, то речь связывается с действием, подобно
связи рычагов с самой машиной, и встает вопрос: а могут ли эти связи разорваться?
Если нет, то я вынужден буду принять любое действие в качестве правильного; с другой
стороны, если подобный разрыв возможен, то каким будет критерий для установления
этого? И вообще, какие у меня есть средства для сравнения исходной ситуации с после-
дующим действием?» (WittgensteinL Philosophical Remarks. Oxford, 1975. P. 64).
2 См.: Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary
Exposition//Perspectives on the Philosophy of Wittgenstein. Oxford, 1981.
271
вертывается авторская аргументация1. Надо сказать, что его изна-
чальной интенцией была не столько реконструкция идей Витгенштей-
на (того, что тот «действительно сказал»), сколько предельное заост-
рение важной лингвофилософской (и даже мировоззренческой) про-
блемы, настоятельно требующей своего решения. В этом смысле, как
признает и сам американский философ, речь идет, по существу, о па-
радоксе Витгенштейна — Крипке, о творческом развитии лишь наме-
ченной в витгенштейновских текстах тенденции.
Кратко ситуация, представленная Крипке, выглядит следующим
образом. По его мнению, Витгенштейн формулирует особый «скепти-
ческий парадокс», касающийся основополагающего понятия прави-
ла, а затем выдвигает то, что можно было бы назвать «скептическим
решением». Есть, казалось бы, две сферы, в которых наличие пара-
доксальной ситуации представляется совершенно невероятным,—
это сфера арифметики и сфера психологии внутренних состояний че-
ловека. Но именно в данном проблемном поле и развертывается раз-
рушительное действие «скептического парадокса». Ведь имеются в
виду правила лингвистического выражения математических операций
(например, сложения) и наших свидетельств о различных психических
состояниях. Более того, как не без основания подчеркивает Крипке,
Витгенштейн никогда не рассматривал эти сферы как отделенные не-
проходимой пропастью. В конце концов известно, что подготовка тек-
ста «Философских исследований» велась им почти одновременно с
подготовкой текстов и чтением лекций по философии математики.
Для того чтобы продемонстрировать возможные последствия
скептической аргументации, американский философ обращается к
простому арифметическому примеру. Он предлагает рассмотреть, как
мы обычно используем слово «плюс», обозначаемое символом « + ».
Оно применяется к математической операции сложения, определяе-
мой для любых пар целых положительных чисел. При этом считается,
что мы постигаем правило сложения благодаря его внешней символи-
ческой репрезентации, а также благодаря нашей способности к внут-
ренней ментальной репрезентации. Несмотря на конечное число сло-
жений, осуществленное в жизни каждым из нас, предполагается, что
это правило можно экстраполировать и на неограниченное число слу-
чаев в будущем.
Тогда, предлагает Крипке, представим, что, к примеру, вычисле-
ния «68 + 57» мы еще никогда не осуществляли. В результате сложе-
ния мы, естественно, получаем сумму «125», которая корректна в
1 См.: Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. Oxford, 1982.
272
чисто арифметическом смысле, а также соответствует металингви-
стическому смыслу знака «+». Но вот вообразим себе скептика, ко-
торый ставит под сомнение именно этот металингвистический смысл.
Он может заявить, что «плюс» нами прежде употреблялся таким об-
разом, что сумма двух указанных чисел должна была бы равняться
«5». Разумеется, предположение скептика покажется нам совершен-
но невероятным. Ему можно просто посоветовать вернуться в началь-
ную школу, чтобы заново изучить элементарные правила арифметики.
Но как философы, подчеркивает Крипке, мы должны прислушаться к
скептику, который ведь может сказать, что до сих пор он имел дело с
числами, не превышающими 57, и поэтому под «плюсом» (« + ») под-
разумевал совсем другую функцию, а именно некий «квус», который
можно, к примеру, обозначить символом ©. Эта функция определяет-
ся следующим образом:
х © у = х + уу если х, у < 57,
но =5 в противном случае.
Крипке, конечно, признает, что для здравого смысла данное утвер-
ждение может показаться чем-то диким. Но с собственно логической
точки зрения эта ситуация не представляется такой уж невероятной.
Если позиция скептика является фактически ложной, а это безуслов-
но так, то тогда должны быть какие-то факты, имеющие отношение к
прошлому употреблению «плюса», которые опровергали бы вызы-
вающее заявление*скептика.
Ситуация осложняется тем, что скептик не оспаривает общепри-
нятой трактовки сложения как подлинной арифметической функции.
Он лишь спрашивает, почему мы так уверены, что в прошлом под
«плюсом» понимали именно сложение, а не операцию с «квусом»? И
он, надо признать, обоснованно сомневается в том, что какие-то инст-
рукции, данные в прошлом, могут заставить нас с необходимостью по-
лучить результат « 125», а не «5». Ведь в нашем употреблении «плю-
са» могло произойти изменение. И нет такого прошлого факта, кото-
рый однозначно устанавливал бы, что ранее мы под «плюсом» никогда
не могли подразумевать «квус». Тогда получается, что, утверждая
сумму « 125», мы как бы совершаем ничем не обоснованный «прыжок
в темноту». Ничто в принципе не помешало бы привести иную сумму.
Здесь необходимо немного отвлечься от хода рассуждений амери-
канского философа для того, чтобы охарактеризовать используемый
им прием как таковой. Дело в том, что само по себе введение гипоте-
тического скептика, как бы проверяющего все сильные и слабые сто-
роны некоторой доктрины, является достаточно традиционным для за-
падной философской мысли. Истоки данной традиции прослеживают -
18-5739 273
ся с Декарта. При этом для новоевропейской философии — для ра-
ционалистической и эмпирической ее линий в равной мере —
скептическая аргументация никогда не была самоцелью, а выступала
в качестве средства обоснования и достижения достоверного знания,
формулирования правильного метода. В случае же с Крипке (впро-
чем, сказанное применимо и к Дж.Э. Муру с его «доказательством су-
ществования внешнего мира») речь идет о поиске логического, кон-
цептуального объяснения нашего знания некоторых очевидных явле-
ний. Поэтому любая теория этих явлений должна максимально заострить
возможные возражения против нее, которые и персонифицируются в
образе скептика.
На наш взгляд, парадоксальная постановка проблемы Крипке
была в некотором смысле предвосхищена американским философом
Н. Гудменом1. В одном из описанных им мысленных экспериментов он
ввел особый предикат «гру» (grue), образованный от слияния англий-
ских слов «green» и «blue». Далее было предположено, что данный
предикат применим к зеленому объекту, воспринятому до времени /,
или же к голубому объекту, не воспринимавшемуся до /. И если, ска-
жем, исходить из того, что все известные нам до времени / изумруды
зеленые, то тогда в равной степени окажутся обоснованными утвер-
ждения: «все изумруды зеленого цвета» и «все изумруды цвета гру».
Почему же в таком случае на основании свидетельств мы тем не менее
предполагаем, что после / изумруды будут зелеными? — спрашивал
Гудмен. Из этого парадокса им, в частности, делается вывод, что отно-
шение подтверждения не имеет строгого дедуктивного характера. Мы
предпочитаем переносить предикат «зеленый» на не входящие в наш
опыт случаи лишь потому, что в прошлом применяли его чаще и более
успешно, нежели предикат «гру». Независимо от целей и результата,
достигнутого этим американским философом прагматистской ориен-
тации, сам способ создания парадоксальной ситуации «подтвержде-
ния» предвосхищает сценарий постановки рассматриваемого нами
«скептического парадокса».
Крипке последовательно оценивает те ответы на возражение
скептика, которые можно было бы «вычитать» в работах аналитиче-
ских философов. И тут он прежде всего обращается к знакомой нам
диспозициональной трактовке психики в стиле Райла. Диспозициона-
листы, по его мнению, могли бы сказать, что весь спор со скептиком
концентрируется в вопросе о существовании или несуществовании
состояния, соответствующего употреблению знака « + ». Для них все
1 См.: Goodman N. Fact, Fiction and Forecast. N. Y., 1965.
274
сводится к утверждению о том, что если бы нас в прошлом спросили о
сумме «68 + 57», то мы ответили бы «125». Но даже если нас не
спросили об этом факте, то, согласно данной гипотезе, диспозиция
(предрасположенность) к правильному ответу тем не менее всегда су-
ществовала. Однако ясно, справедливо замечает Крипке, что сторон-
ники этой интерпретации упускают из виду самое главное, а именно
сомнения скептика относительно логико-эпистемологической обос-
нованности наших заявлений об употреблении «плюса».
Американский философ убежден в том, что Витгенштейн, несмот-
ря на имеющиеся в его позднем учении элементы диспозиционального
подхода, в целом занимал иную позицию. «Диспозициональная теория
стремится обойти проблему конечности нашего прошлого поведения
путем обращения к понятию диспозиции. Но, делая это, она игнориру-
ет очевидный факт: не только мое реальное поведение, но также и вся
совокупность моих диспозиций конечна (курсив мой.— АГ.)»1. Если
же начнут ссылаться на некие идеализированные диспозиции, якобы
преодолевающие указанную конечность, то такие диспозиции могут
стать определенными, только если уже известно, какая именно мате-
матическая функция подразумевалась в нашем вычислении. Кроме
того, с точки зрения диспозиционализма необъясним тот очевидный
факт, что даже среди людей, одинаково понимающих под символом
« + » сложение, всегда найдутся ошибающиеся в отношении тех или
иных сумм, которые они как будто бы должны были подразумевать.
В работе Крипке учтен и, так сказать, усовершенствованный ва-
риант диспозиционального подхода. В соответствии с ним сознание
рассматривают как своего рода вычислительную машину, которая на
выходе обязательно дает правильный результат. В данном случае по-
этому можно было бы сказать, что правило сложения воплощено в
машине, способной вычислять в согласии с этой функцией. Если мы
построим такую машину, то она всегда будет выдавать тот результат,
который от нее требуется. Однако, подчеркивает Крипке, как и в слу-
чае «чистого» диспозиционального подхода, скептик способен напра-
вить свои возражения против самой программы машины. Нужно пом-
нить, что операции машины конечны, а ее физическая конструкция
может начать неправильно функционировать из-за какой-нибудь по-
ломки. В целом же «диспозиционалист дает дескриптивную оценку
отношения: если « + » подразумевает сложение, тогда я отвечу « 125».
Но это не будет правильной оценкой данного отношения, которое ведь
1 См.: Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary
Exposition. P. 251.
275
нормативно, а не дескриптивно. Дело не в том, что если я подразуме-
вал сложение под « + », то я отвечу « 125», а в том, что если я намерен
согласовываться со своим прошлым значением « + », я должен отве-
чать « 125»... Само отношение значения и интенция к будущему дейст-
вию оказываются нормативными, а не дескриптивными»,— за-
ключает американский философ1.
Следует учитывать, что в глазах Крипке рассматриваемая пробле-
ма не является исключительно эпистемологической. Придуманный им
скептик просто утверждает несуществование такого факта, который
объяснял бы, что нами подразумевался именно плюс, а не квус. Аме-
риканский философ поэтому обращает внимание на то, что Витген-
штейн категорически отвергал один из возможных путей ответа на по-
добное утверждение. Речь идет о попытках интроспективного вы-
явления особого внутреннего опыта, который якобы означает: «под-
разумевать сложение под знаком "+"». В связи с этим Крипке
указывает на то, что витгенштейновская критика одностороннего ин-
троспекционизма и ментализма сама по себе настолько хорошо из-
вестна, что не заслуживает подробного разбора. Он же обращает вни-
мание лишь на конкретную деталь этой критики. Оказывается, что,
отвергая трактовку значения как некоторого психического процесса,
Витгенштейн не исходит из бихевиористских соображений, а сам при-
бегает к своеобразной интроспекции. Именно тщательное наблюде-
ние за нашей внутренней жизнью и тем, как мы говорим о ней, пока-
зывает австрийскому философу, что «значению» не соответствует ни-
какой особый внутренний опыт, вроде того опыта, который имеет
место при переживании боли или восприятии некоторого цвета. Кро-
ме того, Витгенштейн на многих примерах показал, что нет специфи-
ческого внутреннего опыта, соответствующего «следованию прави-
лу». Но при этом он и не допускал, что, например, в основе операции
сложения лежит определенная психическая диспозиция к действию.
Вообще наличие «закадровых» психических состояний (потенциаль-
ных или актуальных), якобы соответствующих таким операциям, он
считал логически невозможным, нарушающим естественную грамма-
тику употребления понятий.
Казалось бы, в данной связи союзниками Витгенштейна могли
стать математические реалисты («платонисты»), подчеркивающие
нементальный характер математических сущностей. То же сложение с
этой позиции оказывается независимой от отдельного субъекта объ-
ективной операцией, с необходимостью приводящей к правильному
Р. 257.
276
1 Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition.
результату. Но «для Витгенштейна,— пишет Крипке,— платонизм
во многом является бесполезной уверткой от проблемы, каким обра-
зом наши конечные сознания способны давать правила, которые, как
предполагается, применимы к бесконечному числу случаев. Платони-
стские объекты могут быть самостоятельно интерпретируемыми или
же могут вообще не нуждаться в интерпретации; но в конечном итоге
здесь все же должна затрагиваться некоторая ментальная сущность,
которая и породит скептическую проблему»1.
Как принципиально новую оценивает Крипке разновидность скеп-
тицизма, изобретенную, по его мнению, Витгенштейном. Вне зависи-
мости от характера предлагаемого скептику ответа немалое значение
имеет уже сама парадоксальная постановка вопроса. Для того чтобы
пояснить это, американский философ сравнивает витгенштейновский
скептицизм со скептицизмом Юма. Между ними отмечается опреде-
ленное сходство, поскольку оба ставят под сомнение связь между про-
шлым и будущим. Что касается Витгенштейна, то он (точнее, его
«скептик») ставит под сомнение связь между прошлыми интенциями
и значениями и настоящей практикой. Юм же, как известно, сомне-
вался в каузальной связи, благодаря которой прошлые события с не-
обходимостью вызывают будущие, а также в достоверности индуктив-
ного вывода от прошлого к будущему. Разумеется, констатирует
Крипке, это только аналогия, поскольку этих двух философов интере-
суют разные проблемы. Юмовский ответ был связан с признанием
того, что теоретические возражения скептика неопровержимы, одна-
ко наши практические убеждения и привычки показывают, что повсе-
дневная практика вполне обоснованна. Подобно тому как философия
Юма не допускает «индивидуальную каузальность», так же витген-
штейновское решение парадокса не позволяет говорить об отдельном,
абсолютно изолированном от всех индивиде, который-де «следует
правилам» (например, осуществляет операцию сложения).
Приведенная аргументация Крипке получает в дальнейшем инте-
ресное развитие. Так, он подчеркивает, что в отличие от своей ранней
философии Витгенштейн в поздний период основывает учение о языке
не на понятии истинностных условий, а на понятии условий утвер-
ждаемости, или условий оправдания правильности, наших высказы-
ваний. В этом плане трактовка американского философа созвучна
рассмотренным ранее трактовкам, предложенным в последние годы
Даммитом и некоторыми другими философами-аналитиками. Но аме-
риканский философ увязывает свой семантический подход именно с
1 Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition.
P. 265.
277
проблемой скептического сомнения. Поздний Витгенштейн, указыва-
ет он, сравнивает наши высказывания с ходами в «игре». И потому его
прежде всего интересует, какую роль в жизни играет «разрешение»
подобных ходов, а также то, что их оправдывает. Прежняя трактовка
значения в свете понятия истинностных условий оказалась неспособ-
ной противостоять разрушительному скептицизму в данном вопросе.
А вот в «Философских исследованиях» показан правильный ответ на
скептическое возражение. «Все, что необходимо для узаконивания ут-
верждения о том, что кто-то подразумевает нечто,— так это при-
близительно специфицировать обстоятельства, при которых это мож-
но утверждать законным образом, а также учитывать, что игра в ут-
верждение в подобном случае выполняет определенную функцию в
нашей жизни. И совсем не нужно предполагать, будто этим утвержде-
ниям "соответствуют факты"»1.
По оценке американского философа, Витгенштейна можно вклю-
чить в число сторонников «избыточной» теории истины, согласно ко-
торой для того чтобы подтвердить высказывание в качестве истинно-
го, нужно просто подтвердить само это высказывание и подчеркнуть,
что его отрицание не будет истинным. Дело в том, что применение по-
нятия истинностных условий к высказываниям рассматривается в
поздневитгенштейновском учении лишь как одна из наиболее элемен-
тарных языковых игр. Важно и то обстоятельство, что в «Исследова-
ниях» обсуждение понятия истины непосредственно предшествует
формулировке «скептического парадокса».
Думается, Крипке прав, связав критику Витгенштейном его ран-
ней трактовки истины с отрицанием им возможности индивидуального
следования правилу, например правилу сложения чисел. Ведь и в са-
мом деле трудно обнаружить такие условия истинности или особые
факты, благодаря которым будет иметь место согласие или несогласие
с прошлыми намерениями. И поэтому не без основания американский
философ утверждает, что аргумент «индивидуального языка» направ-
лен не столько против этого гипотетического языка, сколько против
«индивидуальной модели» следования правилу. В последнем случае
действия того человека, который якобы следует правилу, оцениваются
вне какого-либо указания на его принадлежность сообществу. «Кто-то
предпочел бы сказать,— отмечал Витгенштейн, — что правильно то,
что кажется мне таковым. Но это будет только означать, что в данном
случае мы вообще не сможем говорить о "правильном"»2.
1 Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition.
P. 276.
2 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 92.
278
В принципе иначе должна выглядеть ситуация, при которой такой
самостоятельно следующий правилу индивид будет включен во взаи-
модействие с другими людьми в рамках некоторого сообщества. Они
тогда будут оценивать, насколько верно он следует правилу. Очевид-
но, что при достаточном количестве совпадений намерений одного
субъекта с другим последний будет считать, что первый, к примеру, и в
самом деле следует правилу сложения. Тот, чьи результаты математи-
ческого сложения в значительном числе случаев совпадают с теми ре-
зультатами, которые приняты сообществом, допускается в него, как
пишет Крипке, в качестве «складывающего». При этом не страшны
отдельные ошибки, случающиеся в процессе сложения некоторых чи-
сел, например тех же 68 и 57. Просто индивиды, которые демонстри-
руют девиантное поведение, признаются не овладевшими понятием
сложения. Их пытаются поправлять, но если это ничего не дает, то они
неизбежно попадают в число аутсайдеров. Сообщество исключает та-
ких индивидов из наиболее важных межличностных взаимодействий,
как бы подчеркивая, что оно не желает полагаться на их поведение,
нарушающее сложившийся консенсус. Ведь мы уже не сможем ска-
зать о субъекте, который регулярно дает неправильный результат не-
которой суммы, что он подразумевает под знаком « + » именно сложе-
ние. Участвуя в «игре» в приписывание понятий индивидам, мы как
бы предварительно допускаем их в наше сообщество, но лишь до тех
пор, пока постоянное девиантное поведение не исключит их из него.
Впрочем, признает американский философ, на практике такое пове-
дение — по крайней мере в отношении операции сложения — встре-
чается редко. В данном случае речь идет у него, разумеется, о некото-
рой идеализированной ситуации, моделирующей лишь одну из сторон
взаимодействия индивида и сообщества.
Итак, для приписывания понятий другим людям Крипке полагает
существенно важным наличие согласия в ответах, которые дает сооб-
щество на проблемы вроде «68 + 57». «Совокупность ответов, в от-
ношении которых мы согласны, а также то, как они переплетаются с
нашими действиями, и есть наша "форма жизни". Те же существа, ко-
торые дают странные "квусообразные" ответы, разделяют иную фор-
му жизни»1. Согласие в употреблении правил, проверка способности
следовать правилам требуют наличия конвенционально установлен-
ных критериев. И когда Витгенштейн говорит, что «внутренний про-
цесс нуждается во внешнем критерии», он имеет в виду те наблюдае-
1 Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition.
P. 289.
279
мые особенности поведения индивида, которые заставят других людей
согласиться с его признаниями от первого лица (типа «мне больно!» ).
«Игра» в приписывание понятий другим людям зависит именно от
согласия, а не от какой-то априорной парадигмы, настойчиво повто-
ряет Крипке. Причем это согласие на практике не требует объясне-
ния: его лишь имплицитно принимают. Если, например, обратиться к
такой сфере человеческой деятельности, как математика, то можно
обнаружить, что в сложных случаях мы судим об овладении тем или
иным математическим понятием на основании доказательства. По-
этому сами доказательства, как и учил Витгенштейн, должны быть
легко обозреваемыми, чтобы можно было судить о наличии согласия в
их понимании.
В качестве своеобразного приложения к реконструкции витген-
штейновской «скептической аргументации» американский философ
рассматривает знаменитую проблему «других сознаний». Она, как из-
вестно, связана с поиском эпистемического обоснования убеждения в
существовании сознания у других людей, а также того, что их ощуще-
ния в целом сходны с нашими. Витгенштейн всегда подчеркивал, что
если мы будем решать эту проблему, отталкиваясь от своего собст-
венного случая, то осмысленность приписывания ощущений другим
людям станет крайне проблематичной. Скептик, к примеру, ставит
под сомнение саму возможность перенесения моего понятия боли на
других. Но этот пример лишь частный случай более общего вопроса о
возможности в принципе использовать то или иное понятие в новых
условиях и в ином контексте. В связи с этим Витгенштейн замечал, что
мы на практике ни в коем случае не стремимся давать указания, каким
должно быть будущее употребление некоторого понятия. Его интере-
совала концептуальная сторона такого, например, необычного вопро-
са: «В чем разница между случаем, когда моя боль присутствует в дру-
гом теле, и случаем, когда боль в другом теле является не моей?» Для
него были возможны и другие головоломки подобного рода. В целом,
по мнению Крипке, Витгенштейн ставил скептическую проблему,
аналогичную его основному «скептическому парадоксу». Он рассуж-
дал о невозможности представлять ментальную жизнь других, осно-
вываясь на нашей собственной. Раньше (в «Трактате») он удовлетво-
рялся пессимистическими и солипсистскими выводами, но в поздний
период приходит к пересмотру такой позиции.
Витгенштейн, замечает далее Крипке, считал неправильной саму
постановку вопроса о том, чем же является личность как таковая.
Вместо этого он призывал посмотреть на действительную роль, кото-
рую играет в нашей жизни приписывание другим людям различных
ментальных состояний и отношение к ним как к личностям. Только
280
на этом пути, по его мнению, и может быть обретено решение скепти-
ческой проблемы, связанной с возможностью познания «других соз-
наний». Важно, к примеру, изучить, при каких обстоятельствах упот-
ребляются выражения «мне больно» и «ему больно». Американский
философ поэтому пишет: «Если наша практика в самом деле требует
при определенных обстоятельствах, чтобы мы сказали: "Ему больно",
то это и будет определением того, что считать применением предиката
"больно" по отношению к другому так же, как и ко мне»1. В повсе-
дневной жизни приписывание ментальных предикатов в первом лице
возможно лишь в тесной связи с аналогичным приписыванием в
третьем лице, фиксирующим акт практического взаимодействия лю-
дей.
Крипке выражает несогласие с мнением, будто можно полностью
заменить приписывание субъекту тех или иных ментальных состояний
описанием соответствующего внешнего поведения. Дело в том, что
других людей мы воспринимаем не как физические системы, а именно
как человеческие существа. Он напоминает, что сам Витгенштейн
как-то заметил: «Мое отношение к другому есть отношение к душе.
При этом у меня нет никакого особо мнения о том, что у него имеется
душа»2. Но о том, что другой человек обладает сознанием и что, в ча-
стности, сейчас ему больно, все же судят по нашему поведению в от-
ношении него, а не наоборот, то есть отталкиваясь от факта наличия у
него ментальных состояний. Если же мы попытаемся обосновывать
наше поведение по отношению к другому в терминах ментальных со-
стояний, тогда опять-таки появится основание для скептических воз-
ражений по поводу возможности познания «других сознаний» и инди-
видуального следования правилам.
Нужно учитывать, что «скептический парадокс» в отношении по-
знания «других сознаний» утверждает бессмысленность представле-
ния о том, что могут существовать сознания, отличные от моего собст-
венного и обладающие своими ментальными характеристиками. Это
парадокс солипсизма. Витгенштейн, подчеркивает Крипке, не идет
по пути опровержения позиции скептика. Более того, он даже согла-
шается со скептиком в том, что невозможно представить ощущения
других по аналогии со своими собственными. Просто мы действуем
определенным образом по отношению к другим людям, и это дает ос-
нование для приписывания им тех или иных психических состояний.
«В "Исследованиях",— пишет американский философ,— сохраня-
1 Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. P. 135.
2 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 178.
281
ется представление об особом характере личности, которую нельзя
идентифицировать с какой-либо традиционным образом выбранной
сущностью, и это представление рассматривается как возникающее
из "грамматического" своеобразия местоимения первого лица, а не в
результате существования некоторой метафизической тайны»1.
Предложенная Крипке реконструкция «скептического аргумен-
та» не только вызвала критические замечания по поводу ее адекватно-
сти «подлинному» Витгенштейну, но и способствовала своеобразной
поляризации позиций аналитиков по некоторым фундаментальным
для них вопросам. Так, с развернутой антикрипкеанской программой
выступил английский философ К. Макгинн2. Его позиция интересна
прежде всего как натуралистическая реакция на социоцентристский
подход Крипке, хотя внешне разногласия, казалось бы, сводятся лишь
к различию в интерпретации известных витгенштейновских фрагмен-
тов, касающихся «следования правилу» и «индивидуального языка».
Обращаясь к парадоксу, Макгинн прежде всего уточняет, что же
имеет в виду Витгенштейн под «интерпретацией»3. В рассматривае-
мом плане, подчеркивает он, интерпретация — это ни больше ни
меньше как процесс перевода одного знака в другой. Но знаки могут
употребляться самым различным образом, и поэтому они сами по себе
неспособны диктовать, что является их правилосообразным употреб-
лением. В противовес интеллектуальной стороне использования зна-
ков (интерпретации) Витгенштейн стремился выделить особую роль в
этом процессе таких естественных факторов, как привычка и обычай.
И в этой связи он нейтрализует главный ход скептиков — от конста-
тации отсутствия рациональных мотивов и причин к утверждению не-
возможности достоверного знания как такового. Следование правилу
для него не есть какой-то скрытый процесс — оно наблюдаемо, когда
имеет место привычное поведение, связанное с использованием зна-
ков. Такое следование отнюдь не служит «объяснением» практики,
ибо оно не представляет собой чего-то помимо самой практики.
1 Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. P. 145.
2 См.: McGinn C. Wittgenstein on Meaning. Oxford, 1984.
3 Это объясняется тем, что в тексте «Исследований» после формулировки пара-
докса говорится, в частности, следующее: «Существует способ овладения правилом,
который, не будучи интерпретацией, в конкретных случаях проявляется в том, что
мы называем "следованием правилу" и "идти против правила". Возникает желание ска-
зать: любое действие в соответствии с правилом есть интерпретация. Но при этом мы
должны ограничить (значение) термина "интерпретация" заменой одного способа вы-
ражения правила другим» (Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 81).
282
Макгинн также сравнивает Витгенштейна с Юмом, отмечая, что
оба философа критиковали сугубо рационалистический подход к лич-
ности, с которым связана недооценка всего естественного и основан-
ного на привычках. Витгенштейн, по его характеристике, был эписте-
мологическим натуралистом1, который считал понимание ничем не
опосредствованной способностью к действию. Любые же интерпрета-
ции или объяснения действий признавались им достаточно чужерод-
ным элементом, прямо не связанным с самим действием. Макгинн,
как видим, использует Витгенштейна в качестве союзника в своей
критике попыток «интеллектуализации» всех форм человеческой
практики (подобно тому, как до него Райл критиковал интеллектуали-
зацию психической деятельности).
В свете сказанного становится понятным заключение английского
философа: «Под "формой жизни" он (Витгенштейн.— AT.) подразу-
мевает то, что формирует часть нашей человеческой природы, то, что
определяет, как мы осуществляем спонтанные реакции»2. Поэтому
«скептический парадокс» представляет собой опровержение именно
интерпретационной концепции правилосообразной деятельности. И
это опровержение осуществляется с помощью приема сведения к аб-
сурду. Витгенштейн возражал против трактовки понимания как, по
существу, ментальной операции перевода, но при этом в принципе не
отрицал, что само понимание сводится кфакту, а именно к факту на-
личия у нас способности практического использования знаков. Рас-
смотрение понятия «значение» идет в «Философских исследованиях»
параллельно рассмотрению целого набора психологических понятий
(«ощущение», «воображение», «мышление», «намерение» и т.д.).
Поэтому, подчеркивает Макгинн, если бы Крипке был прав, то ему
следовало бы провести свою линию аргументации и в отношении этих
многочисленных понятий, обозначающих некоторые факты психиче-
ской жизни.
Принципиально иной является позиция английского философа и в
том, что касается разрешения парадокса. Он полагает, что рассужде-
ния Витгенштейна о неизбежно правилосообразной деятельности ин-
дивида не распространяются на сообщество. Дело в том, что невоз-
можность рационального обоснования некоторого индивидуального
действия уже не является характерной чертой на уровне сообщества,
1 Ср. у П. Стросона: «Там, где Юм говорит о Природе, Витгенштейн говорит о язы-
ковых играх, которым мы обучаемся с детства, то есть о социальном контексте, поэтому
все это следует именовать не просто "натурализмом", а "социальным натурализмом"»
(Strawson P.F. Scepticism and Naturalism: Some Varieties. L, 1985. P. 24).
2 McGinn С Wittgenstein on Meaning. P. 55.
283
представляющего собой как бы новое качество. Макгинн, кроме того,
отмечает, что если постоянство значения представляет собой способ-
ность знака выражать одно и то же содержание в течение продолжи-
тельного времени, то постоянство понятия никак нельзя рассматри-
вать таким же образом.
Поэтому к недостаткам формулировки Крипке он относит включе-
ние вопроса об обладании понятием (понятием «плюс», например),
что, по его мнению, понадобилось Крипке для усиления «скептиче-
ского парадокса». Но имеющаяся асимметрия значений, трактуемых
как функции употребления слов, и понятий показывает ошибочность
сосредоточения исключительно на металингвистическом вопросе.
Интуитивно ясная формулировка парадокса в отношении постоянства
значения не имеет прямого отношения к понятиям, которые в логике
и лингвистике обычно рассматриваются как неязыковые, мыслитель-
ные сущности. В целом, считает английский философ, кажущаяся
привлекательность позиции крипкеанского скептика связана с тем,
что речь ведется о математических терминах, а математика в отличие
от обычного дискурса уже сама по себе является источником удиви-
тельных головоломок, поражающих наш здравый смысл.
Для того чтобы получить критерий наличия значения операции
сложения у знака «+», нет необходимости ссылаться на сообщество,
доказывает Макгинн. Он убежден в том, что значение как таковое есть
индивидуальный факт лингвистической практики каждой отдельной
личности. Крипке же приходит к ошибочному мнению, будто в принци-
пе нельзя представить себе кого-либо следующим правилу в изоляции
от других людей. Поэтому витгенштейновский аргумент против «инди-
видуального языка» не предполагает социоцентристского решения;
просто с его помощью доказывается, что семантические правила нуж-
даются в некотором публичном критерии. Но из этого отнюдь не выте-
кает, будто любой следующий правилу индивид должен быть членом
лингвистического сообщества. В контексте различения индивидуаль-
ного и социального Витгенштейн был индивидуалистом, полагаю-
щимся на свой здравый смысл, категорически заявляет Макгинн1.
1 С рассмотренной критической позицией перекликается позиция другого англий-
ского философа К. Райта, который уверен в том, что скептическая аргументация Крип-
ке противоречит нашему интуитивному пониманию интенциональности психики. Для
опровержения скептика, утверждает он, нужно всего лишь вспомнить свое прошлое на-
мерение, выступающее в таком контексте в качестве нормы правилосообразного пове-
дения (См.: Wright С. Kripke's Account of the Argument against Private Language//
Journal of Philosophy. 1984. V. 81. №12. P. 776.).
284
Своеобразной оказалась реакция на выступление Крипке Бейкера
и Хакера, не согласившихся с его постановкой вопроса. Они считают,
что в § 201 «Исследований» выражена позиция не скептицизма, а са-
моуничтожающего концептуального нигилизма. На их взгляд,
американский философ неоправданно перенес центр тяжести с про-
блемы соотношения правила и его употребления на проблему соотно-
шения прошлого и настоящего значений слов (при этом его «скепти-
ческое решение» основывается на том, что никакой прошлый опыт
или факт настоящего времени не может доказать соответствие ны-
нешнего и прошлого употреблений слова). Но реальный Витгенштейн
отнюдь не стремился апеллировать к сообществу как гаранту посто-
янства значения. В «Исследованиях» он просто указывал, что значе-
ние слова есть то, что объясняется при объяснении значения, что это
способ употребления слова, овладение техникой употребления знака
в соответствии с правилом. В основе языковых игр лежит практика
нормального, а отнюдь не приводящего к скептицизму поведения.
«Тезис относительно (определяющей) установки сообщества,— пи-
шут английские философы,— ошибочно соединяет понятие верного
следования правилу со статистическим понятием действия, совпадаю-
щего с тем, что большинство людей предрасположено делать в тех или
иных условиях»1. Согласие сообщества лишь в некотором ограничен-
ном смысле усиливает внутреннее отношение между правилом и его
выполнением. То, что в последовательности четных чисел 1002 следу-
ет за 1000, служит критерием для следования правилу в этой серии.
Объяснение значения слова или выражения само служит нормой пра-
вильного употребления. Внутренняя (грамматическая) связь правила
и его осуществления не требует обоснования путем отнесения к неко-
торой реальности. На этой связи и строятся языковые игры. Бейкер и
Хакер убеждены в том, что ошибка гипотетического скептика заклю-
чается именно в поиске такого обоснования. На самом деле правило и
его осуществление — это как бы две стороны одной и той же монеты.
Оценивая рассмотренную дискуссию, развернувшуюся в послед-
ние годы в аналитической философии, можно выделить несколько
примечательных обстоятельств. Прежде всего заметно, что содержа-
ние дискуссии выходит за рамки простого истолкования витгенштей-
новских текстов позднего периода. Думается, что в данном случае мы
имеем дело с довольно необычным развитием центральной для анали-
тической философии проблемы — проблемы значения. Новый под-
ход к проблеме ставит перед аналитиками задачу выяснения отноше-
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Scepticism, Sense and Nonsense. P. 71.
285
ния между лингвистической и нелингвистической практикой, поиска
«внешних» и «внутренних» критериев правилосообразного поведе-
ния. Достаточно четко определились противостоящие друг другу пози-
ции — социоцентризм и натурализм. Если говорить об их адекватно-
сти витгенштейновскому учению (а этот вопрос все же в данном слу-
чае является второстепенным), то тут приходится констатировать, что
амбивалентные в смысловом отношении тексты австрийского фило-
софа в принципе дают основания для обоих истолкований.
Другое дело, что подход Крипке оказывается в русле новейшей
тенденции, способной, на наш взгляд, в будущем значительно видоиз-
менить характер аналитической философии как таковой. Это своеоб-
разное логико-лингвистическое отражение социальной стороны че-
ловеческого познания, свидетельствующее об определенном преиму-
ществе данного подхода над аналитическим натурализмом, придержи-
вающимся в основном индивидуалистической позиции. При этом,
конечно, следует учитывать, что сам по себе консенсус сообщества
еще не устанавливает, что является значением некоторого выраже-
ния, и он не может полностью детерминировать способы его употреб-
ления. Это обстоятельство, к сожалению, не было отмечено амери-
канским философом.
В концепции Крипке человеческое сообщество представлено
лишь в одной из своих функций — функции установления критериев
«следования правилам», что должно гарантировать постоянство язы-
кового значения и, следовательно, логическую возможность межлич-
ностной коммуникации. Поэтому он и предпочитает говорить именно о
«лингвистическом сообществе», ставя данную абстракцию и свойст-
венную ей систему внутренних отношений на место реальных общест-
венных отношений и связей. Такой специфический подход, приводя-
щий к имплицитному признанию решающей нормативной роли соци-
ального фактора, вполне объясним, если учитывать общий «аналити-
ческий» контекст рассуждений американского философа, касающихся
именно концептуальной (логико-лингвистической) стороны проблемы
и потому отличающих его позицию от позиции «чистой» социологии
знания или собственно психологических исследований различных
форм деятельности. Отказ от жесткой привязанности к семантике
«условий истинности» и замена их понятием «условий утверждаемо -
сти» позволили Крипке акцентировать важные логические особенно-
сти коммуникативного процесса, порождающего значение слов. Если,
конечно, не абсолютизировать осуществленный американским фило-
софом мысленный эксперимент и его результат, то с методологиче-
ской точки зрения все это можно оценить как важное подтверждение
конструктивной роли сомнения в сфере логико-философского знания.
286
ИСТОЛКОВАНИЕ ПРАКТИКИ
Даже содержание большинства рассмотренных «чистых» теорий
значения свидетельствует о недостаточности трактовки значения как
сугубо индивидуальной характеристики лингвистической практики.
Обоснование постоянства значения потребовало от аналитиков поис-
ка твердого гаранта, которым, как оказалось, выступает само сообще-
ство взаимодействующих индивидов. В ходе совместной, осуществ-
ляемой по принятым правилам практической деятельности людей и
возникает такая ее характеристика, как значение. Если осознание
этого обстоятельства в рамках строгих аналитических теорий значе-
ния — дело относительно недавнего прошлого, то определенные по-
пытки целостного истолкования понятия практики с исходных витген-
штейнианских позиций делались и раньше. И совсем не случайно, что
пристальное внимание к особенностям функционирования естествен-
ного языка обусловило весьма специфическую трактовку аналитика-
ми логико-философского аспекта проблемы взаимопонимания раз-
личных культур. Методологической основой для нее послужило ис-
толкование языковых игр как «форм жизни». В центре рассмотрения
оказался вопрос о принципиальной «переводимости» одного язы-
ка-деятельности на другой. Процесс коммуникации и «обмена значе-
ниями» был рассмотрен, так сказать, на уровне, более высоком, не-
жели межличностное взаимодействие.
В результате применения витгенштейнианской парадигмы к об-
ласти социокультурного знания перед некоторыми философами зако-
номерно встала задача теоретического исследования самого понятия
«понимание», являющегося фундаментальным и для упомянутого во-
проса о «переводимости». В этом плане обнаружились довольно не-
ожиданные на первый взглад точки соприкосновения с иными фило-
софскими традициями (в том числе и национальными), например с
герменевтикой. Наиболее перспективные, по нашему мнению, на-
правления в витгенштейнианстве сейчас включают свое рассмотре-
ние языка в широкий контекст взаимосвязанных видов человеческой
деятельности. Появившиеся в последние годы сопоставительные ис-
следования витгенштейнианской и других (включая марксистскую)
концепций практики не только способствуют выявлению специфики и
более точной и полной характеристике «лингвистической праксеоло-
гии», но и позволяют обрисовать перспективу, взвесить возможности
новых синтетических реконструкций закономерностей лингвистиче-
ской и нелингвистической деятельности в рамках того или иного чело-
веческого коллектива или целой культуры. Деятельностная сущность
языка получает все более солидное философское обоснование, даже
287
несмотря на встречающиеся ходе этого процесса преувеличения, не-
адекватные истолкования и явно ошибочные оценки. Именно витген-
штейнианству среди всех ведущих направлений аналитической фило-
софии удалось наиболее всестороннее подключение и увязка социо-
культурной проблематики и проблематики лингвофилософской. Вме-
сте с тем это свидетельствует и о том, что данная философия как
таковая перестает быть мировоззренчески нейтральной, окончатель-
но теряет облик «академической забавы».
1. Методология социокультурного познания
Представим себе две самые обычные ситуации. Например, путе-
шественник вступает в контакт с представителями какой-то народно-
сти, достаточно владея ее языком, но одновременно сознавая, что
культура этих людей, их общественный строй, система их межлично-
стных отношений или отношений родства имеют мало общего с тем,
что ему привычно с самого детства в его собственном обществе и
культуре. Или же представим себе нашего современника, обративше-
гося к старинной рукописи, в которой описываются какие-то давние
исторические события. Язык рукописи ему знаком, а если он к тому же
специалист, то он, вероятно, знает подоплеку описываемых в ней со-
бытий. В обоих случаях «активная» сторона — путешественник, зна-
ток древности — надеется на успешный результат, на установление
понимания. А есть ли более или менее твердые основания у этой наде-
жды? Таковые, очевидно, должны быть, поскольку сама возможность
понимания в подобных ситуациях неосознанно воспринимается людь-
ми (и не только учеными) как некоторая интуиция здравого смысла.
При'всех бросающихся в глаза различиях культур — далеких в гео-
графическом, этнографическом, лингвистическом или временном от-
ношениях — общение с ними все же происходит. Но каковы те скры-
тые механизмы и необходимые условия, которые делают это возмож-
ным? И кто и как способен их выявлять?
Известно, что различные аспекты проблемы «переводимости» со-
держания какой-либо культурно-исторической общности на язык дру-
гой такой общности давно привлекали внимание философов и ученых.
Однако особый интерес к ней, пожалуй, заметен именно в последнее
время. И это вполне естественно, ибо речь идет, в сущности, о том, что
составляет основу сложнейшего процесса понимания «иных куль-
тур»1 в современном взаимосвязанном мире. В связи с этим особую
1 Само выражение «проблема иных (чужих) культур» стало устойчивым словосо-
четанием в зарубежной литературе, посвященной данному вопросу.
288
значимость приобретает лингвофилософская сторона данного про-
цесса — вопросы о том, насколько и каким образом естественный
язык может воплощать и передавать содержание той или иной куль-
туры, включая основные ценности ее жизни, и о том, является ли он
преградой или мостом для взаимопонимания. И как сочетаются в нем
специфические и универсальные закономерности человеческой прак-
тики? Принимая во внимание сложность подобного рода вопросов,
достаточно поучительным, в частности, может оказаться освещение
тех зарубежных концепций, в которых рассматриваемая проблемати-
ка выходит на первый план.
Разумеется, даже под таким углом зрения проблема «переводимо-
сти» и познания «иных культур» может быть исследована различным
образом, и это требует строгого отбора материала: придется отказать-
ся от рассмотрения многих альтернативных подходов и возможных ис-
толкований проблемы1. Мы обратимся к аналитической философии, в
особенности к тому ее направлению, деятельность которого стимули-
ровалась идеей Витгенштейна о естественном языке как воплощении
«формы жизни». Это понятие, хотя оно и не получило в учении авст-
рийского философа достаточно строгого определения, лежит в основе
его поздней позиции. В понятии «форма жизни» отражено взаимопе-
реплетение, относительно устойчивая система лингвистической и не-
лингвистической деятельности, понимание которой в его учении на-
кладывает свой отпечаток на характеристику всех других видов дея-
тельности. «Формы жизни» он называл «протофеноменами», «твер-
дой породой» любой культуры, подчеркивая тем самым, что они не
могут быть подвергнуты дальнейшему анализу или критической оцен-
ке. Их следует принимать как данное, как отправную точку исследова-
ния.
Не являясь специалистом в области социальной антропологии или
этнографии (не владея необходимым для этого фактическим материа-
лом и не принимая участия в полевых исследованиях2), Витгенштейн,
однако, оказался проницательным в отношении методологических ас-
пектов проблемы. Своеобразие его позиции в вопросе о познании
«иных культур» заключается именно в выделении концептуальной
1 В частности, об указанной проблеме можно было бы вести речь в контексте зна-
менитой гипотезы «лингвистической относительности», куайновского тезиса «неопре-
деленности перевода», хомскианского учения о врожденных лингвистических структу-
рах, сугубо герменевтической трактовки понимания какдуховного процесса, структура-
листских исследований «первобытной логики».
2 Все же отметим такой факт: находясь в 1935 г. в СССР, Витгенштейн всерьез ин-
тересовался возможностью получения работы в институте, изучающем народы Севера.
19-5739 289
стороны данного процесса, а также в показе всевозможных заблужде-
ний, возникающих в результате непонимания той роли, которую игра-
ет при этом естественный язык.
Свою установку Витгенштейн, в частности, реализует в заметках,
написанных под впечатлением знакомства с книгой Дж. Фрэзера «Зо-
лотая ветвь»1. Сама эта книга, на наш взгляд, служит ему лишь пово-
дом для того, чтобы оценить объяснительную модель древних и ар-
хаических культур как таковую, которую он считает сциентистской и
потому неспособной показывать их уникальные «формы жизни».
Кроме того, заметки могут рассматриваться и как имеющая собствен-
но методологическое значение полемика философа с позицией спе-
циалистов в конкретной области научного знания.
В противовес мнению знаменитого английского ученого Витген-
штейн стремится показать, что в основе такого явления, как магия,
лежат различные виды символизма (прежде всего лингвистического
символизма). В любом языке, подчеркивает он, заключена как бы це-
лая «мифология», и потому для понимания и толкования ритуалов,
имеющих для народов важный символический смысл, необходимо
«прокладывать свой путь» именно через язык.
Вообще в витгенштейновских текстах встречаются различные
приемы «раскодирования» смысла ритуалов далеких от нас культур.
Например, он считал важным прослеживать те цепочки, по которым
осуществляется перенос значения с одного объекта на другой, подоб-
но тому как это происходило в ситуации с так называемым «хлебным
волоком». Данной фразой крестьяне Северной Европы вначале назы-
вали нечто таинственное, скрывающееся в последнем сжатом снопе
пшеницы, затем так стали называть сам сноп, потом воз, на котором
сноп доставляют в деревню, и, наконец, человека, который связывает
последний сноп. В результате описания подобного переноса значения
возникает то, что Витгенштейн назвал «очевидным (наглядным) пред-
ставлением» (übersichtliche Darstellung), которое есть не что иное,
как четкое видение всех соединяющих звеньев цепочки. И это пред-
ставление будет служить не объяснением, а именно констатацией
того, что именно таковы переживаемые людьми события жизни в их
символической взаимосвязи. Собственно объяснения же Витген-
штейн трактует как «гипотезы», апеллирующие исключительно к зна-
нияд*, к предполагаемым причинам, а не к эмоционально-смысловой
стороне человеческой жизни. Сциентистские объяснения Фрэзера, по
1 См.: Wittgenstein L Notes on Frazer's «The Golden Bough »//Wittgenstein.
Sources and Perspectives. Hassosks, 1979.
290
его мнению, могут импонировать лишь тем, ко мыслит так же, как и
сам английский антрополог. Но представители этой дисциплины ни в
коем случае не должны навязывать правила своей собственной куль-
туры изучаемой иной культуре. Древние магические и религиозные
ритуалы чаще всего оцениваются Фрэзером как образцы неадекват-
ного каузального объяснения. Для него, сокрушался Витгенштейн,
совершенно недоступна жизнь, отличающаяся от жизни современных
ему европейцев1.
Сам же австрийский философ полагал, что древние ритуальные
действия отнюдь не строятся на вере в то, что они обязательно приве-
дут к какому-либо результату. В сущности, важно особое поведение
(сжигание чучел, целование чьего-то изображения и т. п.), которое
приносит людям сильное эмоциональное удовлетворение. Фрэзер же
рассуждает об участниках подобной практики таким образом, будто у
них имеются ложные (даже безумные) представления относительно
каузально обусловленных процессов природы. На самом деле им при-
суща лишь специфическая для их культуры интерпретация символи-
ческого смысла природных явлений.
Касаясь подробно описанного Фрэзером старинного обряда шот-
ландцев зажигать в мае ритуальные огни (огни Бельтана) , Витген-
штейн обращает внимание на то, что упоминание об этом обряде и се-
годня поражает нас, и для этого совсем не требуется выяснять причи-
ны и историю его возникновения. Просто в этом случае перед нами
уникальная «игра» (как «форма жизни») со своими внутренними пра-
1 Приведем в связи с этим пример одного из типичных фрэзеровских объяснений:
«На вопрос о том, почему считается, что дух зерна является в форме какого-нибудь од-
ного животного или многих различных животных, можно ответить, что простого появ-
ления животного или птицы среди хлебов для первобытного человека было достаточно,
чтобы допустить наличие между этим существом и хлебом некой таинственной связи. А
если к тому же вспомнить, что поля в старину не обносили оградами и по ним могли сво-
бодно разгуливать животные, то не покажется удивительным, что за хлебного духа при-
нимали даже таких крупных животных, как лошадь или корова» (Фрэзер Дж. Золотая
ветвь. М., 1984. С. 433—434).
2 «В народных обычаях, связанных с праздниками огня,— писал Фрэзер,— есть
черты, указывающие, по-видимому, на существование в прежние времена практики че-
ловеческих жертвоприношений. Теперь мы имеем все основания предположить, что в
Европе живые люди часто играли роль олицетворений духа дерева и духа хлеба и в этом
качестве предавались смерти. Да и почему бы не сжигать их, если таким путем предпо-
лагалось получить особые выгоды? Первобытные люди вовсе не принимали в сообра-
жение человеческое страдание» (там же. С. 508—509). Для объяснения Бельтановых
огней Фрэзер привлекал две теории: солярную, подчеркивающую веру древних в сози-
дательную силу огня, и очистительную, согласно которой огонь обладает способностью
разрушать все вредоносное. Обе эти теории, как видим, подполагают некоторую форму
каузальности.
19* 291
вилами, своей «грамматикой» и суггестивными возможностями. Во-
обще действиям древних людей, особенно их священным ритуалам,
присуща своеобразная системность, целостность. Но мы ощущаем
«глубокий и зловещий» характер обряда сжигания, основываясь на
нашем собственном жизненном опыте. Мысль о том, что огонь полно-
стью уничтожает предметы (в том числе и человеческие тела), а не
просто разрывает их на части, всегда должна была ужасать людей.
Она значима сама по себе, безотносительно к вопросу о механизме
осуществления реальных жертвоприношений в ту или иную эпоху.
Витгенштейн, в сущности, говорит о катарсическом эффекте древних
ритуалов.
Антисциентистский пафос рассуждений Витгенштейна во многом
связан с тем, что для него наука — лишь одна из существующих
«форм жизни», которая в принципе не может иметь каких-либо пре-
имуществ перед иными «формами», скажем, перед магией древних
народов или народов, находящихся, по нашим представлениям, на
примитивной стадии развития. Будучи языковой игрой, древняя магия
являет собой такую же коммуникативную целостность, как и развитые
в технологическом отношении культуры.
Позиция австрийского философа в отношении проблемы культур-
но-исторического понимания стала известна сравнительно недав-
но — после новых публикаций из его обширного рукописного насле-
дия. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что уже в 50-е
годы на основе одного лишь текста «Философских исследований» воз-
никает концепция, в которой эта позиция систематизируется и совер-
шенствуется. Мы имеем в виду концепцию английского витгенштейни-
анца П. Уинча, изложенную в его «Идее социальной науки»1.
Отправной точкой для любого представителя общественных дис-
циплин, по Уинчу, служит установление и описание регулярностей,
которые фиксируются в суждениях относительно тождества опреде-
ленных процессов и событий. Такие суждения всегда связаны с кон-
кретными формами правилосообразного человеческого поведения.
Для понимания же действий самого исследователя общественных яв-
лений необходимо учитывать его отношение как к объекту исследова-
ния, так и к своим коллегам. Именно последнее позволяет судить о
правилосообразном характере его собственных действий в рамках
сложившегося социокультурного контекста («формы жизни»), в ко-
тором вырабатываются специфические представления о регулярно-
сти и тождественности. Особенность позиции обществоведа в том,
1 См.: Winch P. The Idea of a Social Science. L, 1958.
292
что «его понимание социальных явлений более напоминает понима-
ние инженером действий своих коллег, нежели понимание инженером
тех механических систем, которые он изучает»1. Уинч, как ввдим, экс-
плицирует те предпосылки (и рамки) исследовательской деятельности
в гуманитарной области в целом, которые на интуитивном уровне по-
чувствовал Витгенштейн в связи с критикой подхода Фрэзера в сфере
социальной антропологии.
Если бы психоаналитик попытался объяснить возникновение нев-
розов у членов какого-либо изолированного от внешнего мира племе-
ни, то он, по предположению Уинча, должен был бы изменить свои по-
нятия (понятие отцовства, скажем), соответствующие именно прак-
тике цивилизованных европейцев. Когда не выполняется это требова-
ние, то есть имеет место неверная интерпретация отдельных видов
активности людей, тогда могут возникать серьезные концептуальные
заблу>кдения. Методология выявления таких заблуждений, согласно
Уинчу, и была предложена Витгенштейном. Он не случайно приводил
примеры воображаемых племен, у которых слегка изменены типич-
ные для нас способы общения и речевого взаимодействия. Это давало
ему возможность показывать, что в отношении таких экзотических
«лингвистических сообществ» традиционные оценки и стереотипные
объяснения уже не работают. Понимать значение слов «туземцев»
означает уметь прослеживать «цепочки» способов употребления этих
слов, описывать те совместные действия, в которых участвуют носи-
тели языка.
В своих ранних и более поздних работах английский философ до-
казывает, что внутренние концептуальные отношения высказываний
членов некоторого сообщества не только моделируют, но и определя-
ют многие другие виды отношений, складывающихся в сообществе.
Существует взаимосвязь сферы дискурсивного и недискурсивного, но
именно первое составляет основной материал для понимания «иных
культур». Социальные взаимодействия людей, по Уинчу, правильнее
сравнивать с обменом идеями (значениями, смыслами) в беседе, не-
жели с взаимодействием различных сил в физической системе. Анало-
гичным образом понимание прошлых событий истории «не есть при-
менение обобщений и теорий к конкретным примерам: это прослежи-
вание внутренних отношений. Оно, скорее, напоминает ту ситуацию,
когда владение языком используется для понимания содержания бе-
Wilson В. (ed.). Rationality. N. Y., 1970. P. 4.
293
седы, а не ту, когда используют знание законов механики для понима-
ния действия часов»1.
Уинч не беспокоится, что сравнения подобного рода могут напра-
вить исследователей по пути необоснованной интеллектуализации че-
ловеческой жизни. Он считает, что даже такие «неинтеллектуаль-
ные» события, как войны, предполагают свою систему конвенций, то
есть опять же систему внутренних отношений. В целом для его пози-
ции характерно признание приоритета лингвистических действий и
правил над нелингвистическими в процессе понимания культурно-ис-
торических феноменов.
Разработанную им методологию «социальной науки» Уинч кон-
кретизировал в работе, содержащей критику интерпретации антропо-
логом-структуралистом Э.Э. Эвансом-Причардом культуры южносу-
данских племен. Эта критика не может не напомнить нам критику Вит-
генштейном Фрэзера. Так, Уинч отмечает, что в качестве представи-
теля своего общества и своей эпохи Эванс-Причард, не колеблясь,
использует сугубо «научный» критерий рациональности в примене-
нии к народу Азанде, в результате чего магическая практика этого на-
рода, играющая в его жизни огромную роль, предстает как нечто со-
вершенно иррациональное или вообще «не соответствующее реаль-
ности». В основе такого подхода известного британского ученого ле-
жит бессознательное восхищение собственно научной парадигмой
объяснения, отождествление любых понятий с теоретическими сущ-
ностями. Однако, подчеркивает Уинч, многие понятия следует рас-
сматривать прежде всего в контексте сложившихся в конкретном об-
ществе культурных традиций и ритуалов. Тоже понятие «реальности»
в каждом случае принадлежит языку определенной «формы жизни» и
потому имеет относительный характер. Оно, вопреки мнению многих
философов, не выражает никаких постоянных эпистемологических
свойств восприятия людьми внешнего мира.
Уинч, надо сказать, исходит из убеждения в том, что магическая
система Азанде образует такой же когерентный дискурс, как и «запад-
ные» науки. Из допущения социокультурной относительности поня-
тий и оценок он делает вывод о неприменимости нашего логического
критерия противоречивости к действиям оракула. В контексте жизни
племени предсказания оракула отнюдь не подтверждают или опровер-
гают, подобно научным теориям,— им просто следуют. В этом и за-
ключается осмысленность словесных предсказаний оракула для чле-
нов данного племени. Если мы осознаем, что к «иным культурам»
1 Wilson В. (ed.). Rationality. N. Y., P. 15.
294
нельзя применять принятые у нас критерии правильности, то тогда у
нас не будет никаких оснований говорить о каком-то превосходстве
своей формы рациональности. Ученый-европеец, рассуждает Уинч,
совершает «категориальную ошибку», навязывая Азанде собствен-
ный критерий противоречивости1. Их система колдовства не имеет
ничего общего с теоретической системой, используемой для «квази-
научного» объяснения мира. Эванс-Причард «не принял всерьез
идею о том, что используемые примитивными народами понятия могут
интерпретироваться только в контексте жизни этих народов»2.
А вот для изучения иных образов жизни, следуя Уинчу, необходимо
как бы расширить пределы нашего собственного. Ключом для пони-
мания изучаемых культур он признает естественный язык: одного
только наличия языка уже достаточно для появления в любом типе об-
щества своего представления о рациональности. Поскольку это мы
стремимся понять смысл магической практики Азавде, но не наобо-
рот, то нам и следует «освободить место» для категорий данного наро-
да, а не оценивать магию с точки зрения догматической, позитивист-
ской демаркации науки и ненауки. При изучении примитивных культур
ни в коем случае нельзя игнорировать чувство значимости магии и
других ритуальных действий для жизни. Понимание прежде незнако-
мых культурных образований может многое дать не только в плане
восприятия (или заимствования) полезного нетрадиционного опыта.
Важнее само постижение отличающегося от нашего смысла жизни.
Например, урожай представителями Азанде воспринимается не толь-
ко в связи с получаемыми продуктами питания. Их жизнь, семейные
связи, взаимоотношения с соплеменниками и соседями в значитель-
ной степени зависят от отношения к урожаю. Вообще все их интенции,
желания, опасения и радости воплощаются в символизме магических
ритуалов, в том числе ритуалов, имеющих отношение к урожаю. По-
этому, «учась» у других культур, замечает Уинч, мы постигаем их кри-
терии доброго и злого, их мудрость. И полная невосприимчивость ха-
1 Интересно, что, как бы предвидя возможные некорректные истолкования своей
позиции, Эванс-Причард писал: «Нам пришлось часто ссылаться на принцип противо-
речия внутри системы. Однако, чтобы избежать недоразумения, мы должны заметить,
что противоречия, на которые мы ссылаемся, происходят на уровне абстрактных струк-
турных отношений и проистекают из систематизации ценностей путем социологическо-
го анализа. Не следует думать, что мы считаем то или иное поведение противоречивым
или что группы находятся в противоречии друг с другом. Именно отношения групп в
рамках системы образуют и иллюстрируют этот принцип. Иногда может существовать
конфликт ценностей и в сознании индивида, но мы имеем в виду конфликты на уровне
общественной структуры в целом» (Эванс-ПричардЭ. Нуэры. М., 1985. С. 230).
2 Winch P. Understanding a Primitive Society//Ethics and Action. L, 1972. P. 28.
295
рактерных черт так называемых примитивных образов жизни сви-
детельствует о недостатках и ограниченности нашей собственной
жизни.
Несмотря на то что английский философ вслед за Витгенштейном
делает ударение именно на различии культур как исходном факторе
процесса взаимопонимания, он все же в определенном противоречии
с этой главной установкой фиксирует наличие некоторых «предель-
ных понятий», характеризующих любую человеческую жизнь и нахо-
дящихся как бы в особом, этическом измерении,— «рождение»,
«смерть» и «сексуальные отношения». Данные понятия, с его точки
зрения, образуют принципиально важный механизм для проникнове-
ния в «иные культуры». Знание функций, выполняемых перечислен-
ными общечеловеческими понятиями, способствует постижению той
или иной конкретной «формы жизни». Хотя реальным денотатом этих
понятий выступают биологические в своей основе явления, в теории
Уинча внимание обращено на их нормативную (правилосообразную)
роль, закрепленную и выражаемую в осмысленных языковых конст-
рукциях. С помощью «предельных понятий» английский философ в
поздних своих работах стремится преодолеть односторонность пози-
ции социокультурной относительности, не отказываясь, впрочем, от
принципа внутренней концептуальной обусловленности «формы жиз-
ни», придающей каждой из них уникальный характер.
Однако многие виды магической практики Азанде, по Уинчу, вооб-
ще непереводимы, подобно тому как многие положения математики
непереводимы на какой-либо нематематический язык. Ситуация
здесь отлична от той, которая имеет место, скажем, при переводе с од-
ного европейского языка на другой1. Но из этого, предупреждает он,
еще не следует, будто практика европейца и практика представителя
Азанде исключают друг друга или же радикально несовместимы. Ут-
верждать так — значит навязывать всем наше «логизированное» по-
нятие рациональности. Дело в том, что понимание смысла практики
Азанде есть совсем другое понимание, нежели понимание смысла на-
учной практики европейского математика. Между этими видами по-
нимания нет никакого «субстанциального единства», а возможна
лишь нестрогая связь по типу витгенштейновского «семейного сход-
ства».
Безусловно, Уинч осознает, что современное индустриальное об-
щество в целом вытеснило практику и суждения «нецивилизованных»
1 Winch P. Language, Belief and Relativism//Contemporary British Philosophy. L,
1976. P. 327.
296
людей относительно колдунов, ведьм и прочих чудесных явлений. Но,
по его обоснованному мнению, это совсем не означает, будто вера в
такого рода вещи была нами опровергнута раз и навсегда. Исследо-
ватели различных культур должны занять «нешовинистическую» по-
зицию в этом вопросе и полнее учитывать социальную природу любо-
го языка, воплощающего соответствующую практику (в том числе и
магическую). Социальность языка основывается на том, что его носи-
тели следуют в совместной практике сложившимся правилам, что они
разделяют одни и те же понятия. Уинч указывает, что в методологиче-
ском плане данная установка должна подкрепляться известной вит-
генштейновской критикой «индивидуального языка». Та модель прак-
тики, в которой предполагается сугубо индивидуальное следование
правилам, даже не может быть разумным образом построена. Поэто-
му социальность и способность быть артикулированным представля-
ют собой две стороны одного и того же явления в жизни, считает анг-
лийский философ.
Позиция П. Уинча вызвала два основных критических замечания
оппонентов. Во-первых, отмечалось, что в соответствии с ней понятия
других народов не могут быть подвергнуты рациональной критике,
внешней по отношению к их «формам жизни». И во-вторых, многие
отмечали, что Уинч, несмотря ни на какие оговорки, стоит на позиции
крайнего социокультурного релятивизма, пользующегося, как из-
вестно, не слишком высокой научной репутацией.
В то же время последователями Уинча были выдвинуты опреде-
ленные аргументы с целью защиты и даже усиления данной позиции.
Для примера сошлемся на статью У. Брендона1. Этот английский ав-
тор полагает, что Уинчу наделе удалось избежать нежелательного ре-
лятивизма, поскольку он снял традиционную проблему соотношения
фактического и ценностного. И сделал он это путем радикальной эли-
минации метафизического противопоставления субъективного и объ-
ективного. У Уинча на первый план выходит принцип единства видов
человеческого опыта, который сочетается с признанием наличия раз-
нообразных автономных «форм жизни», обладающих своими крите-
риями рациональности. Социологический и эпистемологический под-
ходы для него тождественны там, где изучается «обмен значениями».
Понимание же сводится при этом к имплицитному уяснению внутрен-
ней, концептуальной стороны осмысленных действий. Причем сами
эти действия как бы заключают в себе свое объяснение. «Для того
1 См.: Brandon W.P. «Fact» and «Value» in the Thought of Peter Winch//Political
Theory. 1982. V. 10. N. 2.
297
чтобы обосновать то, что понимание значения некоторого действия
требует исследования концептуальных, или внутренних, отношений,
существующих между действием и его контекстом, Уинч полностью
опирается на замечания Витгенштейна в "Философских исследова-
ниях" по поводу понятия следования правилу»1.
Бревдон подчеркивает, что в своей совокупности правила дея-
тельности составляют ядро любой «формы жизни». Имеется внутрен-
няя взаимосвязь того, что мы делаем, с тем, что мы говорим. Само же
понятие «форм жизни» сближает «объективные» факты естество-
знания, истины логики и «субъективные» чувствования и установки
людей. Логика вырастает из способов жизнедеятельности и потому не
может служить средством для их оценки как таковых. Вообще всякий
вид знания, по Брендону, возникает как результат осмысленного взаи-
модействия в рамках «лингвистического сообщества». Именно соци-
альный характер языка и знания создает возможность межличностной
коммуникации. Концептуальные структуры «форм жизни» — это бо-
лее глубокий слой, нежели тот, на котором различаются «субъектив-
ное» и «объективное». На уровне этих структур определяется смысл
нашего опыта, причем различие лингвистического и нелингвистиче-
ского здесь теряет свое принципиальное значение. Рамки отдельных
«форм жизни» зависят от концептуальных отношений, которы%е свя-
зывают друг с другом людей, ситуации и действия. Допуская многооб-
разие «форм», эта концепция, как утверждает Брендон, в то же время
наиболее убедительно обосновывает единство человеческого опыта.
«Уинч говорит нам о пользе формальных аналогий, указывающих, на
что обращать внимание при исследовании другого общества и в каких
областях наши собственные понятия о возможном способны изме-
няться»2.
Для Уинча и некоторых других витгенштейнианцев весьма типич-
но привнесение в теорию понимания социокультурных феноменов
подходов, разработанных в логико-лингвистических теориях значе-
ния. Английский философ Дж. Скорупски, в частности, характеризует
их точку зрения как символизм, который отрицает инструменталь-
ность магических или религиозных действий, а также то, что различ-
ные верования и убеждения людей могут служить объяснениями для
такого рода действий. У витгенштейнианцев в символической форме
выражаются сами социокультурные структуры общества, его практи-
1 Brandon W.P. «Fact» and «Value» in the Thought of Peter Winch//Political Theory.
1982. V. 10. N. 2. P. 225.
2 Ibid. P. 237.
298
ка. Скорупски при этом отмечает один важный в контексте нашего ис-
следования факт. Оказывается, что своим тезисом о том, что не может
быть независимой от практики и «грамматики» языка реальности (ко-
торая обусловливала бы истинность или ложность наших утвержде-
ний), Уинч во многом предвосхитил концепцию антиреализма. Однако
такая «семантизация» методологии социального познания наделе су-
жает возможности этой социокультурной теории. «Социальные» сим-
волы Уинча фактически являются абстрактными логическими конст-
рукциями. «Но как в естествознании выбор геометрии зависит от вы-
бора физики, так и в науках о человеке выбор теории значения — се-
мантических принципов интерпретации — не является независимым
от психологии и социологии мышления»1.
Приведенные в этом разделе материалы свидетельствуют о том,
что философы-аналитики теперь в качестве первоочередных разраба-
тывают вопросы обоснования методологических принципов социаль-
ного познания, то есть именно те вопросы, отношение к которым на
начальных этапах становления аналитической философии было весь-
ма прохладным, если не враждебным. И в связи с этим предпринима-
ются попытки опереться на установки позднего Витгенштейна. Если
раньше само отношение австрийского философа к интерпретации со-
циальных вопросов считалось чем-то крайне сомнительным, то в
представлении отдельных авторов 80-х годов он выступает как под-
линный «социальный мыслитель», заложивший философское осно-
вание подхода к пониманию «иных культур».
Как мы видели, через все рассуждения Витгенштейна и его после-
дователей на темы культурно-исторического познания проходит до-
вольно резкое противопоставление описательно-понимающего и
объяснительного подходов. Несмотря на очевидную недиалектич-
ность подобной методологической позиции в целом, само по себе при-
влечение внимания к символизму явлений культуры справедливо под-
черкивает важность познания этого их аспекта. Не менее интересно и
тесное сопряжение культурологической проблематики с лингвистиче-
ской. Предпосылку для понимания символического смысла тех или
иных событий прошлого или далеких от нас культур и в самом деле от-
части создает выражение в естественном языке особенностей («пра-
вил») некоторой практики, «ритуального» поведения, сложившегося
на протяжении многих поколений. Правда, механизм подобного выра-
жения в витгенштейнианстве в известной степени мистифицирован,
1 ScorupskiJ. The Meaning of Another Culture's Beliefs//Action and Interpretation.
Cambridge, 1978. P. 106.
299
так как не объективные структуры человеческой практики, а «грам-
матические», концептуальные связи выступают здесь единственным
определяющим фактором. В результате изменяется и сам объект ис-
следования: это уже не социально-историческое целое со своими объ-
ективными закономерностями, а нерасчлененный совокупный опыт,
создающий собственный критерий реальности,— неуловимая и без-
условная «форма жизни».
В сущности, с помощью понятия «форм жизни» трудно более или
менее адекватно вскрыть и сами закономерности функционирования
языка в обществе, ибо эти «формы» по определению не могут быть
подвергнуты рациональной критике. Они лишь «показываются» в со-
ответствующих языковых контекстах. Да и понятие «форма» в выра-
жении «формы жизни» все же больше указывает на нечто застывшее,
неизменное, чем на динамичную, исторически изменяющуюся систему
социокультурных взаимоотношений. Изначальная данность «форм
жизни» получает у витгенштейнианцев лингвистическое истолкова-
ние, поскольку характер «данного» полностью определяется прави-
лами «глубинной грамматики» языка. Всемерно акцентируя внима-
ние на факте социокультурной относительности, философы этого на-
правления, однако, оказываются далекими от конкретного анализа
характерных черт «иных культур», поскольку каждая из культур пред-
стает в их теоретических построениях в идеализированном виде как
совокупность внутренних концептуальных отношений. Подлинная со-
циальность предполагает более широкую основу, формируемую мате-
риально-практической деятельностью людей, являющейся решаю-
щим объективным фактором взаимопонимания разных культур и на-
родов.
Но означает ли эта критика одной влиятельной на Западе лингво-
философской традиции, что естественный язык вообще не обладает
никаким собственным внутренним потенциалом для «наведения мос-
тов» между различными культурами? И что же — путешественник и
историк, упомянутые ранее, для понимания «иных культур», с кото-
рыми им пришлось столкнуться, должны предварительно изучить
свойственные этим культурам «базисные» отношения и структуры? А
как в таком случае быть с «человеком с улицы», которому в жизни
случается решать в принципе аналогичные задачи установления взаи-
мопонимания? Ведь очевидно, что культурно-историческое понима-
ние не обязательно должно быть теоретическим и предполагать вла-
дение особыми исследовательскими принципами. Все дело в том, что
естественный язык действительно содержит целую «мифологию», ак-
кумулирует знание (научное и ненаучное) реальных человеческих со-
обществ, опосредствованно отражающее глубинные структуры их со-
300
циального бытия. В языке это знание обретает свою уникальную сис-
темность и когерентность, что в конечном итоге обусловливает отно-
сительную самостоятельность его закономерностей, создающих
принципиальную возможность общения и понимания.
2. Понимание понимания: на пересечении двух традиций
В предыдущем разделе речь шла о том подходе к проблеме пони-
мания «иных культур», который возник в аналитической философии
под влиянием позднего учения Витгенштейна. Но там имелась в виду,
так сказать, практическая сторона этого процесса, рассматривались
конкретные попытки применить установки витгенштейнианства для
поиска решения указанной проблемы. В данной связи небезынтерес-
но теперь будет обратить внимание на то обстоятельство, что в запад-
ной философии давно сложилась традиция, в которой само понятие
понимания признается центральным объектом теоретического иссле-
дования. Мы имеем в виду, естественно, философскую герменевтику1.
Развиваясь практически в полной изоляции от традиции англо-амери-
канской философской мысли, герменевтика тем не менее в последние
годы обнаружила некоторые узловые пункты, которые лежат на оче-
видном для многих сейчас пересечении двух традиций. И неудивитель-
но, что своеобразным посредником между ними была признана фило-
софия Витгенштейна. В данном случае оказалось особенно важным
то, что изначальная философичность его родного немецкого языка
(факт, не вызывающий сомнения у представителей многих «нацио-
нальных» философий) получила реализацию и конкретное воплоще-
ние в контексте иной — англоязычной — «формы жизни». Тем са-
мым, как считают, была заложена основа для прямого диалога пред-
ставителей отмеченных традиций, а следовательно, для сближения
двух обширных философских регионов.
Надо признать, что более активной стороной в диалоге выступают
все же представители герменевтики. Обратное движение пока еще
1 Классик современной герменевтики Х.-Г. Гадамер, например, писал: «Проблема
языкового выражения есть проблема самого понимания. Всякое понимание — истол-
кование, а всякое истолкование развертывается в среде языка, который, с одной сторо-
ны, стремится выразить в словах сам предмет, с другой же — является языком самого
толкователя... Сущностная связь между языком и пониманием сказывается прежде все-
го в том, что само историческое предание существует в среде языка, так что предпочти-
тельный предмет истолкования сам имеет языковую природу» (Гадамер Х.-Г. Истина и
метод. М., 1988. С. 452—453).
301
является относительно слабым1. Примечательно, что именно в герме-
невтической среде появились философы, в принципе одинаково хоро-
шо освоившие герменевтический и аналитический подходы, их кон-
цептуальный аппарат и способы аргументации. И одним из первых в
этом отношении был западногерманский философ К.-О. Апель — ав-
тор многочисленных сопоставительных исследований, обладающий
немалым авторитетом у англо-американских философов. В своих пуб-
ликациях он не только фиксирует общие моменты двух подходов, но и
доказывает плодотворность их синтеза, приводящего к прогрессу фи-
лософского знания.
Прежде всего Апель сопоставляет позиции сторон по центрально-
му для них вопросу «понимания значения». К этому вопросу он подхо-
дит исторически, учитывая, что на протяжении духовного развития
Германии в последние два столетия герменевтика в основном имела
философско-теологическую направленность. И такая ее особенность
объясняет то, что она долгое время почти никак не соприкасалась с
аналитическими теориями значения2. Получив исходную подготовку в
рамках герменевтической традиции, Апель в дальнейшем не только
глубоко изучил иную — англоязычную — философскую традицию,
но и сумел как бы извне, с позиции «независимого» наблюдателя оце-
нить имеющиеся между ними сходство и различие. В этом плане его
опыт по-своему уникален, а также весьма полезен для нашего иссле-
дования, ибо известно, что способность к саморефлексии не является
характерной чертой философов-аналитиков.
1 Упомянем, в частности, аналитика Ч. Тэйлора, предложившего свой, близкий
герменевтическому вариант решения проблемы «иных культур». Он полагает, что
«адекватным языком для понимания какого-то другого общества не может служить ни
наш собственный язык понимания, ни язык самого этого общества. Скорее, это будет
тот, который можно было бы назвать языком «проницательного контраста». На нем мы
сумеем сформулировать особенности наших образов жизни как альтернативные воз-
можности по отношению к некоторым «человеческим константам». В этом языке наша
и чужая «формы жизни» были бы представлены как такие альтернативы. Подобный
язык контраста был бы способен, к примеру, показать, что их язык понимания искажен
или неадекватен в определенных отношениях; или что таков наш собственный язык (в
этом случае мы смогли бы обнаружить, что понимание их «формы жизни» ведет к появ-
лению альтернативы нашему самопониманию, а потому и альтернативы нашей «форме
жизни» — явление, хорошо известное в истории); или же контрастный язык покажет,
что таковы оба эти языка. Данное понятие языка «проницательного контраста», оче-
видно, очень близко гадамеровскому понятию «слияния горизонтов» и многим ему обя-
зано» (Taylor Ch. Understanding and Explanation in the Geisteswissenschaften//
Wittgenstein: to Follow a Rule. L, 1981. P. 205).
2 См.: Apel K.-O. Intentions, Conventions, and Reference to Things//Meaning and
Understanding. В.; N. Y., 1981. P. 80.
302
Апель как-то предположил, что такие крупные аналитики, как
У. Куайн и Д. Дэвидсон, вероятно, и не догадываются, что их знамени-
тые тезисы «неопределенности перевода», «радикального перевода»
и «радикальной интерпретации» имеют свой аналог в работах фило-
софов герменевтической ориентации. Это, правда, не означает, будто
в данных вопросах взгляды представителей этих течений вообще мо-
гут быть отождествлены. И дело не только в объективно существую-
щем различии национальных философских традиций, но и в сохраняю-
щемся пока различном понимании самих перспектив философского
развития, «ибо аналитическая философия значения развивалась в на-
правлении от логической семантики идеального языка как своей
отправной точки к семантике и прагматике естественного язы-
ка, тогда как современная герменевтика развивалась из методологии
историко-филологической интерпретации в направлении ква-
зитрансцендентальной философии коммуникативного понима-
ния»1. Но это отнюдь не исключает того, что проблемы, волнующие
представителей этих течений, оказываются во многом сходными. На-
блюдается и определенное сближение предлагаемых решений про-
блем. Такая ситуация представляет собой результат естественной ло-
гики развития, а не какой-то сознательно поставленной цели, подчер-
кивает немецкий философ.
В качестве одной из важнейших черт, характеризующих направле-
ние эволюции герменевтической философии, он указывает на то, что
современные герменевтики вслед за Хайдеггером и Гадамером посте-
пенно отошли от ранее практиковавшегося ими исследования особен-
ностей понимания субъективных намерений авторов текстов, начав
рассматривать сами тексты как автономных посредников в передаче
лингвистического значения, и даже как его (значения) источники. Но,
с другой стороны, важны и те новые явления, которые имели место в
поствитгенштейнианской философии языка. Так, в частности, теория
«речевых актов» до определенной степени преодолела односторонние
функционально-истинностные трактовки значения, поставив на их
место концепцию иллокуционной и перлокуционной силы утвержде-
ния, произносимого в рамках целостного процесса коммуникации2.
1 Apel K.-O. Intentions, Conventions, and Reference to Things//Meaning and
Understanding. P. 81.
2 Имеется в виду введенное Дж. Остином различение в рамках единого «речевого
акта» следующих его составляющих: локутивного акта (акта говорения самого по себе),
иллокутивного акта (осуществления одной из языковых функций — вопроса, оценки,
приказа и т. д.) и перлокутивного акта (вызывающего целенаправленный эффект воз-
действия на чувства и мысли воспринимающих речь). Прагматические возможности
двух последних актов он называл их «силой» (см.: Austin J.L How to Do Things with
Words. Oxford, 1962).
303
Этот «прагматический» поворот в аналитической философии напо-
минает Апелю аналогичный процесс, имевший место в герменевтике
XIX в. В то же время он сравнивает «квазиструктуралистский» пово-
рот в современной герменевтике с прежней тенденцией аналитиче-
ских теорий значения абстрагироваться от проблемы понимания че-
ловеческих интенций и их роли в межличностном общении.
Несколько упрощая приведенную оценку немецкого философа,
можно, пожалуй, сказать, что основа для сближения двух традиций
создается «субъективизацией» (гуманизацией) аналитических теорий
значения и «объективизацией» герменевтической методологии. И в
самом деле, как мы имели возможность убедиться, аналитические
теории 70—80-х годов все более учитывают основополагающую роль
человеческой практики в процессах формирования значения языко-
вых выражений.
Наиболее важное же отличие герменевтики от аналитических тео-
рий заключается, согласно Апелю, в том, что ее главной целью
по-прежнему остается понимание текстов исторического содержа-
ния. Отсюда он делает вывод о том, что даже поздневитгенштейнов-
ский прагматический подход к пониманию значения слов в контексте
языковых игр как «форм жизни» не может быть без существенных
оговорок отождествлен с собственно герменевтическим подходом к
проблеме понимания значения1. Тут немецкий философ фиксирует
действительно важное различие — так сказать, иную модальность
двух философских подходов. Понимание значения прошедших истори-
ческих эпох, древних культур и памятников письменности в соответст-
вии со стандартным аналитическим подходом принципиально не отли-
чается от понимания материала современной культуры, за которым
также, как правило, не предполагается исторического измерения, ус-
тойчивой и длительной духовной традиции. В то же время историче-
ский фон сохраняется (хотя зачастую и в «превращенном» виде) в са-
мых онтологизированных концепциях герменевтики.
Вместе с тем такие «философы-посредники», как сам Апель,
вполне допускают, что герменевтические теории могут быть обогаще-
ны за счет концептуального аппарата аналитических теорий значения.
Так, он, в частности, обращает внимание на три основных понятия, в
связи с которыми аналитики обычно обсуждают проблему значения.
Это понятия конвенции, интенциональности и референции (способа
логико-лингвистического указания на вещи). Присоединяясь к мне-
нию некоторых английских и американских авторов, Апель доказыва-
1 Apel K.'O. Intentions, Conventions, and Reference to Things. P. 84.
304
ет, что собственно аналитический вариант конвенционализма с само-
го начала был связан с витгенштейновским учением об употреблении
языка, с его трактовкой решающей роли лингвистических конвенций
в контексте социального взаимодействия членов того или иного «лин-
гвистического сообщества». После Витгенштейна же аналитики
осознали, что данный подход должен быть дополнен четким указанием
на интенции говорящих. Именно в интенциональной форме выража-
ются значения иллокуционных актов, которые не вписываются в рам-
ки обычного способа выражения значения в предложениях, согласую-
щихся с принятыми лингвистическими канонами и описывающих те
или иные фактические ситуации.
Правда, признает немецкий философ, в силу целого ряда обстоя-
тельств лингвистическое значение, которое в принципе должно быть
интерсубъективно постигаемым, нельзя полностью редуцировать к
личностным интенциям. Значение слов, произносимых говорящим,
только потому доступно нашему пониманию, что он разделяет с други-
ми людьми «общественные вневременные значения» различных ти-
пов лингвистических высказываний. И это зависит не от одних лишь
лингвистических конвенций, но и от объективных логических особен-
ностей способа референции.
Однако такого рода значение, по Апелю, отнюдь не является
чем-то застывшим — оно должно быть открыто для нового опыта,
включая научный, философский и даже поэтический опыт (который,
кстати, всегда представлял для герменевтики ценный объект исследо-
вания). При этом опыт отдельного субъекта может постоянно обога-
щаться живым творчеством говорящих и авторов текстов, понимани-
ем их индивидуальных интенций. «Таким образом,— пишет западно-
германский философ,— учитывая перспективу трансценденталь-
ной семиотики, которая включает в себя трансцендентальную
прагматику и герменевтику, можно прийти к заключению, что
ключевые понятия субъективной интенции, лингвистической
конвенции и референции к вещам (в широком смысле слова) в рав-
ной мере важны для понимания значения. Они дополняют друг друга
и одновременно ограничивают друг друга в качестве регулятивных
принципов исследования в контексте так называемого «герменевти-
ческого круга» обнаружения значения»1. В результате применения
данного логико-лингвистического инструментария возникает новая
установка и формируется синтетический способ аргументации. Эту
1 Apel K.-O. Intentions, Conventions, and Reference to Things. P. 110.
20-5739 305
искомую философскую позицию Апель обозначает как «трансценден-
тальный прагматизм»1.
В контексте нашего исследования оказывается существенным то,
что в другой своей работе Апель специально проводит сопоставление
позиции Витгенштейна и герменевтики по вопросу о значении. При-
мечательно, что подход немецкого философа оказывается близким
подходу новейшего англоязычного витгенштейнианства, предпочи-
тающего говорить уже не только о способах выражения значения в
языке, но и об особенностях понимания значения. Для адекватного
сопоставления, как считает Апель, необходимо прежде всего осоз-
нать, что ранний Витгенштейн совершенно по-иному трактовал сами
понятия «значение» и «понимание», нежели он это делал впоследст-
вии. Первое из них, в сущности, рассматривалось лишь как информа-
ционное содержание предложений. При этом исключался любой на-
мек на возможную связь значения с историческим подтекстом или с
сознательно-бессознательными намерениями автора текста, то есть
именно то, что до сих пор составляет главный объект герменевтиче-
ского исследования. Не согласуется с позицией герменевтики и оцен-
ка ранним Витгенштейном метафизики как якобы состоящей из бес-
смысленных предложений. К тому же собственно психологическую
проблематику понимания, так же как и «психологизированную» тео-
рию познания, он считал философски несущественной. И только уяс-
нив полную противоположность когнитивных интересов раннего Вит-
генштейна и герменевтики, можно, по мысли Апеля, правильно оце-
нить тот вклад в решение проблемы герменевтического понимания,
который был сделан им в поздний период его творчества2.
К отмеченному Апелем можно было бы добавить, что так называе-
мые предложения убеждения, или полагания (разновидность пропо-
зициональных установок, изучаемых современными интенсиональны-
ми логиками), редуцировались в «Трактате» к дескриптивным пред-
ложениям-образам, отражающим факты и потому обладающим ис-
тинностным значением (см., например, афоризмы 5.541—5.542).
Таким образом, в ранний период Витгенштейн свел психологическое
понимание различных интенциональных значений к семантическому
пониманию значения идеализированных повествовательных предло-
жений. И все же, несмотря на такую редукционистскую установку,
едва ли продуктивно столь резко противопоставлять его раннюю по-
. 1 Частые упоминания Апеля о семиотике и прагматизме объясняются его увлече-
нием идеями американского философа Ч.С. Пирса.
2 См.: Apel К.О. Wittgenstein and the Problem of Hermeneutic Understanding//!..
Wittgenstein: Critical Assessments. L, 1988. V. IV. P. 75.
306
зицию герменевтике, как это делает Апель. Поставленная в «Тракта-
те» задача поиска в самом языке критериев отделения сферы осмыс-
ленно-выразимого от бессмысленно-невыразимого (но экзистенци-
ально, мировоззренчески значимого!), на наш взгляд, вполне вписы-
вается в собственно герменевтический подход к интерпретации
смысла текстов.
Развивая свою точку зрения, немецкий философ выделяет и то
обстоятельство, что в соответствии с канонами логики «условий ис-
тинности» ранний Витгенштейн отстаивал тезис экстенсионально-
сти, сводя значение сложных предложений к значению элементарных
предложений. В основе подобного редукционизма лежало отождеств-
ление значения, принадлежащего отдельному субъекту, с логически
возможным значением в языке как априорной семантической систе-
ме. Но именно такая позиция, замечает Апель, чужда герменевтике,
поскольку в герменевтических исследованиях ведущую тему состав-
ляет процесс развития личностного значения в континууме целостно-
го взаимодействия людей.
Хотя эта апелевская трактовка и не во всем справедлива (ибо у
раннего Витгенштейна имеются элементы интенсионализма), не сле-
дует забывать, что прагматический, коммуникативный аспект значе-
ния в «Трактате» как бы вынесен за скобки, оттеснен в невыразимую
сферу «мистического». В качестве методологического приема для вы-
членения номинативной функции языка это имело подсобой основа-
ние, но в случае превращения в законченную доктрину подобное «от-
теснение» неизбежно закрывало путь для всестороннего изучения
языковой деятельности, лишало ее «человеческого измерения». В
конце 20-х годов австрийский философ в полной мере осознал опас-
ность такой тенденции: «Мы встали на скользкий лед, где нет трения и
где в некотором смысле имеются идеальные условия, но именно по-
этому-то мы и не способны ходить. Мы хотим ходить: поэтому нам
нужно трение. Снова на неровную почву!»1.
В позднем учении Витгенштейна, констатирует Апель, о «лин-
гвистическом употреблении» говорится не просто в смысле включен-
ности слов в конкретную языковую игру, но и в смысле, подразуме-
вающем психические явления и всевозможные действия, которые как
бы пересекаются с собственно лингвистическими «ходами». Таким
образом, в этом учении речь идет практически обо всех видах челове-
ческого поведения, включая способность понимания значения. Дан-
ная позиция и создает хорошую основу для сопоставления поздних
1 Wittgenstein L Philosophical Investigations. P. 46.
20* 307
взглядов Витгенштейна с герменевтикой. По существу, само понима-
ние субъективных интенций здесь является герменевтическим, сводя-
щимся к непосредственному пониманию мира и различных жизненных
ситуаций («игр»).
Если не трактовать метод языковых игр как сугубо бихевиорист-
ский1, то тогда, рассуждает немецкий философ, неизбежно возникнет
вопрос, на который сам Витгенштейн, к сожалению, не дал ответа.
Имеется в виду вопрос о структурных особенностях тех «игр», кото-
рые относятся к другим «играм» с помощью своего специфического
способа описания лингвистических «ходов». Примером в этом плане
может служить «игра», в которой осуществляется определенная кри-
тика самого языка, распространенных в нем форм выражения. Из-
вестно, что «игры» подобного рода представляют для герменевтики
наибольший интерес, поскольку их описание в качестве единиц лин-
гвистической практики некоторой «формы жизни» рассматривается
как то, что способствует герменевтическому пониманию языковых
значений. Поэтому принципиально важно уяснить, чем эти герменев-
тические «игры» отличаются от обычных дескриптивных «игр», на-
пример «игр», описывающих природу, не вовлеченную в процесс че-
ловеческой жизнедеятельности.
Апелевское замечание относительно, так сказать, метаигр, вы-
полняющих в языке важную «смыслоуказываюшую» роль, но специ-
ально не выделенных в позднем витгенштейнианском учении, имеет
объяснение. Будучи в одной из своих функций методологией гумани-
тарного знания и изучения смысла явлений культуры, герменевтика,
естественно, фиксирует именно те языковые механизмы, которые
привносят в процессы понимания и истолкования нормативный ас-
пект, создают основу для взаимодействия различных смысловых кон-
текстов. Для философии лингвистического анализа же все такие кон-
тексты («игры») в принципе равноправны и не стоят в критиче-
ски-оценочном отношении друг к другу: они лишь плавно соединяются
по принципу «семейного сходства».
Данный вопрос существенно важен еще и потому, что историче-
ские науки имеют дело с ситуационными контекстами, воплощающи-
ми те «игры», которые принадлежат прошлому и еще должны быть
реконструированы в целостном виде. Поэтому «специфической функ-
цией герменевтической языковой игры должно быть посредничество
1 Апель, между прочим, убежден в том, что такая трактовка была бы ошибкой. Вит-
генштейн, по его мнению, не является бихевиористом уже хотя бы потому, что ему в
принципе были чужды любые универсальные теоретические построения или однона-
правленные исследовательские программы.
308
между интерпретацией мира человеком и соответствующим описани-
ем всего существующего в континууме дискурса, или, если эту мысль
представить в витгенштейновских терминах, посредничество между
одной "формой жизни" и другой»1. Именно к такому выводу приходит
немецкий философ, прямо указывая на перспективу сближения гер-
меневтического и аналитического, витгенштейнианского прежде все-
го, подходов к проблеме «понимания значения».
Такая перспектива начинает осознаваться и некоторыми предста-
вителями нового поколения аналитических философов. Так, напри-
мер, английский философ С. Шенкер подчеркивает, что «в опреде-
ленном смысле поздний Витгенштейн столь же близок Дильтею, как
Фреге и Расселу»2. По его мнению, несмотря на имеющиеся разли-
чия, герменевтическая и аналитическая традиции близки друг другу в
стремлении сконструировать некую «каноническую» методологию
для разъяснения того, как функционируют в языке сами понятия «зна-
чение» и «понимание». В частности, Шенкер отмечает, что еще со
времен Шлейермахера в герменевтике можно обнаружить предвосхи-
щение того принципа, который впоследствии стали называть «кон-
текстуальным принципом Фреге» и связывать в основном с логи-
ко-аналитической традицией. Согласно данному принципу, слово
имеет значение только в контексте предложения. В герменевтических
теориях же этому соответствует холистский принцип: слово значимо
только в контексте того «горизонта значения», к которому оно отно-
сится.
Касаясь непосредственно программы Апеля, Шенкер замечает,
что понятие «трансцендентальный», активно применяемое немецким
философом в его синтетической концепции понимания — «трансцен-
дентальном прагматизме», сходно с понятием «метаязык», применяе-
мым в аналитических теориях значения. С его помощью он переходит
от конкретной задачи интерпретации некоторого текста к прояснению
того, в чем же заключается интерпретация текста как таковая и что в
принципе делает возможным понимание смысла текста. При этом
Апелю, по оценке Шенкера, удалось подметить один существенный
недостаток концепции Витгенштейна. Дело в том, что последний в
силу свойственной ему «аналитической слепоты» так и не сумел уви-
деть трансцендентальные импликации своего тезиса, согласно кото-
рому для успешной коммуникации и установления взаимопонимания
1 ApelK.-O. Wittgenstein and the Problem of Hermeneutic Understanding. P. 93.
2 ShankerS. Wittgenstein's Solution of the «Hermeneutic Problem»// L. Wittgenstein:
Critical Assessments. P. 104.
309
участники должны быть обязательно включены в одну и ту же языко-
вую игру. В поздних витгенштейновских текстах бесполезно искать
четкий критерий принадлежности коммуникантов к одной «игре» как
условие возможности понимания.
К достоинствам же герменевтики английский философ относит
то, что она подходит к этому вопросу с помощью понятия герменевти-
ческого круга, устанавливающего тесную связь между априорным
правилом и объективированным значением конкретных «форм жиз-
ни». Так, Апель подчеркивает важность «герменевтического а
priori»1 как глубинной структуры, делающей возможным понимание
смысла действий других людей. По существу, речь идет о предструк-
туре интерсубъективного взаимопонимания членов некоторого че-
ловеческого сообщества, находящихся во взаимодействии2. Витген-
штейн несколько приблизился к такой позиции лишь в своей самой
поздней работе — «О достоверности».
Констатация факта сближения и взаимопризнания двух подходов в
отношении к проблеме понимания — не единственный результат
проведенного нами в данном разделе исследования. Отмеченное
обстоятельство в принципе подчеркивает закономерность обращения
современных западных философов, придерживающихся различной
ориентации, к понятию понимания и признания ими проблемы «пони-
мания значения» одной из фундаментальных проблем человеческой
культуры вообще. Отличительная особенность именно философского
подхода к проблеме — в его всесторонности, в поиске объективных
(в данном случае всеобщих и необходимых) условий понимания. Не-
мецкоязычная герменевтическая традиция, как отмечалось, насчиты-
вает уже длительную историю. Изначально она представляла собой
своеобразную методологию интерпретации текстов определенного
рода. Типы герменевтик отличались друг от друга в зависимости от
дисциплинарного объекта текстологического исследования (теологи-
ческие, исторические, юридические, политические, художественные и
т. д. тексты). Однако новейшие герменевтические методологии уже не
столь жестко привязаны к той или иной конкретной сфере значения
или духовного опыта; и это также, по-видимому, создает основу для
сближения с «нейтральной» аналитической методологией, активно
использующей достижения современной логики и семиотики.
1 Ю. Хабермас для этих целей использует понятие «коммуникативного a priori»
(см.: Habermas J. Knowledge and Human Interests. L., 1972).
2 См.: Apel K.-O. Transformation der Philosophie. Frankfurt a. M., 1973.
310
В центре внимания представителей обеих философских традиций
теперь оказываются в основном одни и те же понятия, составляющие
как бы окружение главного понятия — понятия «понимание». Это
прежде всего «интерпретация», «интенциональность», «смысл» и
«значение». Немецкий герменевтик В. Штрубе, осуществивший со-
поставительное концептуальное исследование, следующим образом
резюмирует свою точку зрения поданному вопросу: «I) Слово «пони-
мать» имеет различные значения, которые уместно специфицировать
в соответствии с конкретным аспектом языка или же самого акта го-
ворения: можно понимать предложение, можно понимать, что дела-
ет кто-то, произнося нечто, и т. д. II) Отсюда следует, что "понимать"
является словом, "систематически вводящим в заблуждение"1. III)
Философы, определяющие понятие понимания, обращают внимание
либо на одно, либо на другое значение слова. И в силу этого они опре-
деляют его лишь частично. IV) Следовательно, в споре они зачастую
не понимают друг друга. V) Но фактически различные определения
понятия "понимание" не конкурируют друг с другом. Имеется много
языковых игр, в которые допустимо играть со словом "понимать". В
соответствии с этой "либеральной" концепцией оказывается возмож-
ным установление контакта ме>кду континентальной и англосаксон-
ской философией. Сторонники герменевтики и "психологии наук о
духе" представили такие определения понятия "понимание", которые
в любом случае необходимо принимать во внимание. Сторонники лин-
гвистической философии открыли методы, с помощью которых можно
прояснить различия между этими определениями»2.
И герменевтики, и аналитики (например, тот же Уинч) в свое вре-
мя прошли через сопоставление (а иногда и противопоставление)
процессов понимания и объяснения. В самом общем виде это было
связано с вопросом о специфике гуманитарных и естественных наук.
Современные герменевтические теории все чаще имеют дело с интер-
претацией естественнонаучных текстов, а логико-аналитические тео-
рии распространяют свой подход и на сферу социального бытия, куль-
туры, как можно было убедиться на материале, рассмотренном в пре-
дыдущем разделе. Апель в данной связи пишет: «В этом контексте не-
овитгенштейнианским ключом к решению (или снятию) сложнейших
проблем спора "объяснение — понимание" будет различение языко-
вой игры в всщи и события, предполагающей каузальные объясне-
1 Это выражение принадлежит Г. Райлу.
2 Stube W. Analyse des Verstehensbegriffs//Zeitschrift für Allgemeine
Wissenschaftstheorie. Bd. 16. H. 2. Stuttgart, 1985. S. 315.
311
ния естествознания, и языковой игры личностей, или мотивацион-
но-телеологические объяснения гуманитарных наук»1.
Примечательно и то, что обнаружение герменевтикой принципи-
ального различия в понимании смысла действий изолированного ин-
дивида и индивида как члена определенного сообщества, принадлежа-
щего своей эпохе (осознание данного различия во многом способство-
вало отмеченной выше переориентации герменевтики с индивидуаль-
но-психологических методов на «объективные»), имеет нечто общее с
постановкой проблемы «индивидуального языка» и познания «чужих
сознаний» в англосаксонском философском анализе. Полезно уяс-
нить также, что отход от чистого психологизма (имеется в виду метод
вчувствования, сопереживания, распространенный в герменевтике
XIX века) был связан с трактовкой проблемы «чужого Я» как пробле-
мы автора текста, духовность которого необходимо понять. Обще-
ственно значимый текст при этом выступает как проекция структур
человеческой ментальности, сочетающей индивидуальные и всеобщие
черты. Правда, в отличие от аналитической философии, в основном
связывающей проблему понимания с речевыми ситуациями перфома-
тивного плана2, герменевтика все же больше ориентируется на пись-
менные знаки. Но многие герменевтики при этом подчеркивают внут-
реннюю диалогичность (а, следовательно, в некотором смысле и пер-
формативность) письменных текстов, служащих объектом интерпре-
тации.
Историзм герменевтики, видимо, нельзя оценивать как такую спе-
цифическую черту, которая отделяет ее от всех иных методологий и
способов смысловой интерпретации. Так, скажем, герменевтическая
точка зрения беспредпосылочности в понимании исторических тек-
стов имеет очевидный аналог в витгенштейновском учении о «форме
жизни» как безусловном, не поддающемся оценке извне основании и
необходимом контексте понимания смысла человеческих действий.
Некоторые разновидности витгенштейнианства и герменевтики в
равной мере противостоят односторонним механистическим и натура-
листическим концепциям познания, растворяющим «понимание» в
1 Apel К.-О. Casual Explanation, Motivational Explanation and Hermeneutical
Understanding//Contemporary Aspects of Philosophy. L; Boston, 1976. P. 161 —162.
2 Впрочем, и в этом отношении в аналитической философии в последнее время на-
метились определенные изменения, свидетельством чего является, в частности, то рас-
пространение, которое получила среди англо-американских «постмодернистов»
(Р. Рорти, К. Норрис, Д. Марголис) концепция «деконструкции» французского фило-
софа Ж. Деррида, обосновывающего приоритет письма над речью в контексте герме-
невтической ситуации в культуре.
312
сугубо научном объяснении явлений. Тут заметна общность их в це-
лом антипозитивистских настроений. Новейшие варианты герменев-
тической и аналитической философии представлены в работах лучших
авторов как весьма гибкие методологические концепции, способные к
освоению самого разнообразного научного и социокультурного мате-
риала.
В пределах указанных философских традиций также достаточно
четко обнаруживаются два основных уровня изучения проблематики
понимания: теоретический и практический. Интегративные процессы
в западной философии последнего десятилетия высветили точки со-
прикосновения прежде всего теоретических подходов в этой области.
Всесторонний синтез практических подходов, по-видимому, еще толь-
ко намечается1.
3. Витгенштейнианство и марксизм о понятии практики
Приведенный выше материал дает возможность увидеть и оце-
нить, в каких именно направлениях различные ответвления витген-
штейнианства развивали те или иные предпосылки, заложенные в
учении австрийского философа. При этом все же проблематика, свя-
занная с раскрытием содержания самого понятия практической дея-
тельности, думается, не была представлена ни в одном из исследован-
ных вариантов витгенштейнианства в качестве центральной. Так что
специальное рассмотрение данной проблематики потребует обраще-
ния к теме под несколько иным углом зрения.
При характеристике попыток освоения праксеологической про-
блематики философами-аналитиками выявляется то обстоятельство,
что она наиболее полно представлена именно в работах, сопостав-
1 В качестве примера одной из попыток такого рода можно было бы сослаться на
выступление «Человек как предмет философии» французского герменевтика
П. Рикёра на XVIII Всемирном философском конгрессе. Он, в частности, сказал: «На-
мерение охарактеризовать философию через осуществляемый в ее рамках дискурс не
просто отражает обычное для большинства современных философов внимание к лин-
гвистической стороне дела. Оно основывается еще и на факте родства философии с ее
предметом, ибо использование языка в дискурсивной артикуляции является наиболее
яркой и общепризнанной отличительной чертой человека. Философский дискурс возни-
кает поэтому в том же пространстве рефлексии, которое открывается нашими разнооб-
разными высказываниями о мире, о себе и о других людях. То обстоятельство, что реф-
лексивность свойственна всякому дискурсу, позволяет, таким образом, связывать фи-
лософию с ее предметом, когда этот предмет— человек... Я собираюсь осуществить по-
следовательное косвенное конструирование значения термина "Я", используя при этом
средства аналитической философии, феноменологии и герменевтики...» (Вопросы фи-
лософии. 1989. №2. С. 41).
313
ляющих взгляды Маркса и Витгенштейна. Такие сопоставительные
исследования, на наш взгляд, важны и для получения более объектив-
ной и точной оценки самой витгенштейновской философии, концеп-
ции языковой деятельности. Разумеется, марксистское философское
учение является более разносторонним и систематическим, затраги-
вающим многообразные аспекты познания и социальной практики
людей, а также ее преобразующее воздействие на природу.
Вместе с тем нельзя не учитывать того, что изучение некоторого
явления культуры в свете другого, более известного и развитого, слу-
жит весьма полезным исследовательским приемом. Возьмем на себя
смелость утверждать, что витгенштейновское понимание практики,
может быть, как никакое иное требует своего сопоставления с соот-
ветствующим марксистским пониманием. Этот момент, надо сказать,
осознается в последние годы некоторыми нетрадиционно мыслящими
философами на Западе. Все более типичными становятся попытки
осуществить синтез двух учений, что, как полагают, будет способство-
вать прогрессу не только философии, но и общественных наук в це-
лом.
Одна из наиболее серьезных попыток реализации такого рода ус-
тановки была, в частности, осуществлена американским философом
Д. Рубинстайном1. В своей вызвавшей разноречивые отклики работе
он поставил цель доказать совпадение (!) позиций Маркса и Витген-
штейна в следующем: 1 ) оба мыслителя, по его мнению, рассматрива-
ют проявления сознания как одну из сторон поведения человеческих
существ; 2) идеальное (mind) оценивается ими как характеристика са-
мого действия, а отнюдь не субъективной сферы; 3) ими доказывает-
ся, что понимание смысла человеческих действий и идей требует ана-
лиза всего социального контекста;4) они утверждают, что разумное
человеческое существо способно возникнуть и существовать лишь в
обществе.
Нетрудно заметить, что американским автором в самом деле по-
ставлены вопросы принципиально важные и выходящие за рамки
того, что обсуждалось рассмотренными нами ранее представителями
аналитической философии и герменевтики (кстати, в книге Рубин-
стайна в явной и неявной формах ведется полемика с обоими этими
направлениями). Отметим также, что Рубинстайн обнаруживает
сходство позиций Маркса и Витгенштейна и в том, что они трактуют
знание как результат взаимодействия социального субъекта и объек-
та, считая это взаимодействие принципиально важным, в отличие от
1 Rubinstein D. Marx and Wittgenstein. Social Praxis and Social Explanation. L., 1981.
314
философов школы Уинча. К тому же оба мыслителя, подчеркивает он,
в ходе критики некоторых распространенных точек зрения, а также
теоретических и иных предрассудков развили свои собственные и во
многом близкие концепции философской деятельности. Поэтому само
исследование этих совпадений должно носить «метатеоретический»
характер.
Не только логику Маркса (что вполне естественно), но и логику
позднего Витгенштейна американский философ однозначно квалифи-
цирует как «диалектическую». Но после этого заявления ход его рас-
суждений принимает несколько неожиданное направление. Дело в
том, что свое понимание диалектики он ограничивает так называемой
логикой внутренних отношений. Рубинстайн напоминает, что разли-
чение внешних и внутренних отношений как таковое было впервые
введено в философию Юмом. Так, известно, что отношения между
«идеями» шотландский скептик рассматривал как сугубо внутренние,
имеющие априорный характер. В отличие от внешних отношений ме-
жду «впечатлениями» отношения между «идеями» не являются кау-
зальными. Сфера их действия у Юма ограничена аналитическим зна-
нием — логикой и математикой. Диалектика же, полагает Рубин-
стайн, устраняет эти искусственные ограничения, демонстрируя внут-
ренний, логический характер взаимоотношений самих вещей. «Я
намерен показать,— пишет он,— что Маркс и Витгенштейн едины в
мнении о том, что факты, в частности социальные факты, связаны
внутренним образом, то есть концептуально. И я постараюсь также
показать, что некоторые из наиболее головоломных и, на первый
взгляд, противоречивых позиций Витгенштейна могут примиряться
именно в рамках диалектики»1.
В своей книге Рубинстайн настаивает на том, что когда говорят о
«континентальных» источниках учения Витгенштейна, в качестве его
предшественника должен упоминаться не один лишь Кант, но также
Гегель и Маркс, то есть философы, разработавшие систематическую
теорию диалектики. Аучет этого исторического обстоятельства даст,
как он предполагает, основание в дальнейшем проводить параллели
между герменевтическим учением Дильтея и учением Витгенштейна,
фиксируя определенное преимущество подхода последнего. «В проти-
воположность взглядам Дильтея, а также некоторым другим проявле-
ниям гегельянства, Марксов способ анализа отнюдь не сводится к
герменевтической интерпретации Zeitgeist»2. И хотя взгляды Витген-
1 Rubinstein D. Marx and Wittgenstein. Social Praxis and Social Explanation. P. 3.
315
2 Ibid. P. 199.
штейна в целом оказались сформулированы не столь четко, как взгля-
ды Маркса, все же австрийский философ достаточно ясно выразил
мнение, что основные черты и цели социальной организации должны
идентифицироваться именно при интерпретации действий, осуществ-
ляемых в рамках «форм жизни». Подобно Марксу, Витгенштейн оп-
ределяет общественную жизнь как вид практики, а не только как сово-
купность убеждений и мнений людей. Именно поэтому для обоих мыс-
лителей объяснение общественной жизни не может ограничиваться
чисто герменевтическим ее истолкованием. Дело в том, отмечает Ру-
бинстайн, что структуры социальной организации следует интерпре-
тировать независимо от распространенных убеждений «здравого
смысла», да и сами эти убеждения поддаются интерпретации лишь с
помощью учета таких объективных факторов, которые детерминиру-
ют конкретные проявления духовной культуры общества. Таким обра-
зом, герменевтический подход «наук о духе» признается Рубинстай-
ном явно недостаточным в качестве методологического основания об-
ществоведения. И это происходит потому, что в герменевтике дильте-
евского типа, как он считает, социальное действие, по существу,
растворяется в различных формах духовной практики, общественной
психологии.
Одновременно американский философ предупреждает, что осу-
ществленное им сопоставительное исследование требует расширения
еще бытующего образа Маркса как мыслителя преимущественно со-
циально-политического плана и как экономиста, то есть следует пом-
нить, что Маркс создал систематическое философское учение, разви-
вавшееся в общем русле мировой философской мысли. Если же обра-
титься к новейшей западной философии, то окажется, что взгляды
Маркса на практику в наибольшей степени вписываются в современ-
ные дискуссии по «философии действия» — одной из самых популяр-
ных сейчас у англо-американских философов дисциплин.
Прежде чем очертить перспективы развития общественных наук
на основе предпосылок, разработанных Марксом и Витгенштейном,
Рубинстайн дает развернутую критику того, что он называет объекти-
вистской (позитивистской) и субъективистской тенденциями в этой
области. Он убежден в том, что обе эти разнонаправленные ошибоч-
ные тенденции проистекают тем не менее из одного и того же кор-
ня — дуалистической концепции сознания как некоторого внутрен-
него и потому недоступного для наблюдения извне «актера». С пози-
ции дуализма любые идеи обычно рассматриваются в качестве эле-
ментов индивидуального сознания, а значит, и в изоляции от форм
коллективной практики людей. Объективизму и субъективизму чуждо
понятие интерсубъективного значения, складывающегося в процессе
316
социального взаимодействия. Дуализм, отмечает Рубинстайн, также
препятствует поиску оснований той или иной культуры в особенностях
социальной организации. Как видим, знакомый нам райловский анти-
дуалистический мотив получает в концепции американского филосо-
фа принципиально новое звучание.
Если подходить к сознанию как к одной из характеристик деятель-
ности, а к лингвистическому значению — как к характеристике опре-
деленного социального контекста, то, указывает далее Рубинстайн,
может возникнуть серьезная альтернатива дуализму, появится уни-
кальное социологическое средство для понимания смысла человече-
ских действий и идей. Подобное понимание в принципе возможно
лишь в рамках конкретных систем социальной практики. Важно, что
оба мыслителя — Маркс и Витгенштейн — умело избегают в этом
вопросе позиций индивидуализма и психологизма. Их подход позволя-
ет опираться на социальную структуру и в то же время не допускать ее
реификации, что свойственно концепциям многих современных
структуралистов, также обращающихся к данной проблематике. Идеи
и действия получают адекватное объяснение в контексте их сущност-
ных взаимоотношений с динамичными системами практики человече-
ских коллективов.
Отнюдь не случайно Рубинстайн обращает внимание читателей
своей книги на тот факт, что объективизм ищет решение известной
проблемы познания «других сознаний» на пути радикального бихе-
виоризма, полностью исключающего из своего лексикона какие-либо
ментальные предикаты. Американский философ считает, что этот
санкционированный изначальной дуалистической установкой подход
не соответствует реальным требованиям социальных наук, обычно
учитывающих важную роль идей, выдвигаемых «социальными акте-
рами»1. Данные о ментальных состояниях не сводятся к описаниям
наблюдаемого поведения, к стимулам и реакциям. Поэтому, констати-
рует Рубинстайн, такой объективистский редукционизм плохо со-
вместим с подлинными целями наук об обществе и человеке.
В противовес объективистам-позитивистам «Маркс и Витген-
штейн показывают, что отчуждение, счастье, удовлетворенность сво-
ей работой и т. д., в сущности, не являются сугубо личными состоя-
ниями сознания, ибо эти состояния концептуальным образом связаны
с конкретными видами практики и различными обстоятельствами»2.
1 См.: Rubinstein D. Marx and Wittgenstein. Social Praxis and Social Explanation.
P. 181.
2 Ibid. P. 182.
317
Именно включение индивидуальных действий (и даже таких, как, на-
пример, возглас «я счастлив!») в достаточно широкий социальный
контекст, по мнению Рубинстайна, способствует адекватному пони-
манию их смысла. Более того, рассмотрение сознания как одной из
разновидностей человеческой деятельности позволяет обществове-
дам использовать такое важное теоретическое понятие, как «ложное
сознание», а также находить в любом обществе «скрытую культуру»,
те нормы, или правила, которым следуют на практике, но которые
явно не артикулированы в сознании. В то же время опора субъективи-
стов на распространенные убеждения «здравого смысл», якобы всег-
да соответствующие социально-психологической реальности, в прин-
ципе закрывала для них возможность использовать понятие «ложное
сознание». Субъективизм как таковой психологизирует социальную
науку, искажая тем самым ее объективное содержание, подчеркивает
Рубинстайн.
К главным особенностям позиции Маркса и Витгенштейна амери-
канский философ относит то, что они оба в той или иной форме гово-
рили о наличии концептуальных связей между вещами, а не только
между идеями, и таким образом значительно расширили рамки аргу-
ментации с точки зрения логики внутренних отношений. При этом они
разными путями показали наличие тесной связи между человеческим
сознанием и человеческим телом: одно с необходимостью предполага-
ет другое. Отсюда следует, что ментальным состояниям необходимо
соответствуют определенные виды поведения. И человеческий язык,
и сами индивиды вплетены в социальный контекст, в историю своего
общества.
Говоря о концептуальной связи телесного и психического, Рубин-
стайн имеет в виду не столько онтологическую сторону этого имеюще-
го длительную историю вопроса (так называемая психофизиологиче-
ская проблема), сколько то обстоятельство, что в праксеологическом
контексте адекватное понимание форм деятельности (в том числе и
духовной) требует, чтобы понятия телесного и психического (включая
сознание) составляли целостную систему, каковой, по нашему убеж-
дению, и является личность.
Американский философ, конечно, осознает, что квалификация
Витгенштейна в качестве диалектика не столь привычна как соответ-
ствующая характеристика Маркса. И поэтому для обоснования своей
точки зрения он, в частности, ссылается на поздневитгенштейновский
концептуальный анализ особенностей психологического опыта субъ-
екта. Дело в том, что внутренние ощущения и переживания, вроде
страха, гнева, любви и т. д., Витгенштейн определяет контекстуально,
с помощью описания того, что окружает человека и во взаимодейст-
318
вие с чем он включен. При таком подходе печаль, например, уже нель-
зя рассматривать как какое-то изолированное ментальное событие,
происходящее внутри субъекта. Подобные события выступают диа-
лектическими моментами определенной социокультурной тотально-
сти, «формы жизни». Взаимоотношение состояния печали и той си-
туации, в которой оно имеет место, носит внутренний, сущностный ха-
рактер. Это, так сказать, реляционный феномен, концептуально свя-
занный с различными ситуационными факторами, обычно считающи-
мися очевидными или привычными для членов некоторого сообщества.
Насколько возможно судить по его текстам, Витгенштейн был против
гипостазирования переживаний в качестве логически независимых
сущностей, которые-де могут быть изъяты из своего естественного
контекста и описаны совершенно независимо от него.
Согласно Рубинстайну, подобный взгляд позднего Витгенштейна
существенно отличается от его ранней недиалектической позиции, в
частности, от его положения о логической независимости элементар-
ных фактов, а также элементарных предложений. Раннюю логику
внешних отношений заменила оригинальная логика внутренних отно-
шений, а атомистический подход был вытеснен холистским1. Австрий-
ский философ разработал логику взаимозависимых концептуальных
систем, в которых любые элементы реальности рассматриваются как
внутренне связанные целостности.
Позитивистский идеал науки, стремящейся описывать макси-
мально широкие и постоянные социальные законы-обобщения, кото-
рые не зависели бы от конкретных исторических обстоятельств, был
подвергнут критике не только Марксом, но и поздним Витгенштей-
ном, делавшим акцент на вариабельности контекстов. С помощью
своих остроумных мысленных экспериментов он показывал, что в раз-
личных «формах жизни» возможны различные виды практики, а сле-
довательно, различные правила и закономерности. Кроме того, и
1 Рубинстайн, однако, не учитывает, что факты и соответствующие им предложе-
ния-образы имеют в «Трактате» общую «логическую форму», характеризующую их
внутреннюю связь. Поэтому категорическое причисление раннего Витгенштейна к
«экстерналистам» ошибочно. Выделим в связи с этим одну деталь методологического
плана. Философы вроде Рубинстайна (а также Апель и некоторые другие) в целом иначе
смотрят на проблему соотношения раннего и позднего учения Витгенштейна, нежели
философы аналитической ориентации. Для первых развитие идей австрийского фило-
софа однозначно представляется как радикальная трансформация, отказ от прежней
ошибочной позиции в пользу принципиально новой и более верной. Аналитики же в ос-
новном рассматривают это развитие как плавную эволюцию, совершенствование зало-
женных в ранний период предпосылок, приводящее в конце концов к потенциально бо-
лее богатой трактовке значения. При этом обращается внимание на различные проме-
жуточные этапы данного процесса, представляющие самостоятельную ценность.
319
Маркс, и Витгенштейн в равной степени отвергали позитивистское
понятие «чистых данных», ибо трактовали чувственные восприятия
как результат взаимодействия социального субъекта и объекта1. Ос-
новой для интерпретации восприятия, по их мнению, служит именно
система действий, а не какая-то базисная субструктура, независи-
мая от интенции и убеждений человеческих существ. Можно поэтому
сказать, заключает Рубинстайн, что «форма жизни» и есть тот интен-
циональный контекст, который прежде всего должен быть понят
представителями общественных наук.
Но далее размышления американского философа приобретают
любопытный оборот. Так, он утверждает, что учения Маркса и Вит-
генштейна никак не вписываются в дихотомию материализма и идеа-
лизма, ибо эти философы ликвидировали разрыв между социальной
психологией и социальной организацией, столь характерный для
взглядов многих других философов, придерживавшихся более тради-
ционной позиции. А вслед за этим из их учений исчезли, казалось бы,
фундаментальные различия между (объективно) существующим и
сознанием, субструктурами и надстройками, микро- и макроуровнями
анализа. С помощью понятия социальной практики ими была показа-
на взаимозависимость значений (на абсолютной «индивидуальности»
которых настаивает субъективизм) и социальных структур (на кото-
рые полностью опирается объективизм). В соответствии с таким син-
тетическим подходом «субъективное» уже больше не считается свой-
ством индивидуального суждения, а «объективное» рассматривается
в контексте интенциональных действий, смысл которых подлежит ин-
терпретации.
В позднем учении Витгенштейна показано, что не бывает каких-то
единственно допустимых способов употребления слов (различные
употребления связаны лишь по принципу «семейного сходства»). И
это, полагает Рубинстайн, послужило обоснованием возможности
приписывать ментальные предикаты не только индивидам, но и целым
коллективам, в которых приняты определенные социально санкцио-
нированные конвенции. Без теоретического осмысления закономер-
ностей коллективной практики невозможно адекватное понимание
событий общественной жизни, поведения отдельных членов общест-
ва. Причем, замечает американский философ, при всех очевидных
сходствах Марксов анализ коллективной практики обладает одним
важным преимуществом перед подходом Витгенштейна. Известно,
1 См.: Rubinstein D. Marx and Wittgenstein. Social Praxis and Social Explanation.
P. 191.
320
что последний использует понятие «формы жизни» для того, чтобы
подчеркнуть решающую роль целостной системы взаимосвязей в при-
дании смысла индивидуальным видам поведения. Однако это витген-
штейновское понятие все же очень неопределенно: оно скрывает, ка-
кие именно черты социального контекста являются решающими.
Маркс же четко фиксирует главный момент любой социальной орга-
низации — способ производства, но при этом он умело избегает
опасности редукционизма — чисто экономической интерпретации
социального порядка.
И в самом деле, развивает свою мысль Рубинстайн, хотя социаль-
ная система как таковая должна описываться в терминах доминирую-
щих в ней социальных институтов, нельзя a priori знать, какие именно
институты доминируют в системе. В одном контексте можно опреде-
лять доминирующую «форму жизни» в экономических терминах, в
другом — в религиозных терминах и т. д. «Ключом к социологии
Маркса и Витгенштейна служит отрицание ими дуализма. Оно было
осуществлено с помощью интерпретации сознания как свойства дей-
ствующих личностей, а значения — как черты интерсубъективного
контекста. Именно данное их прозрение показывает взаимопроникно-
вение индивидуального и социального порядков и как следствие это-
го — необходимость самой социальной науки»1.
Примечательно, что в одном из первых откликов на книгу Рубин-
стайна, принадлежащем английскому философу С. Бёрнсу2, говорит-
ся, что хотя изложенный в книге проект синтеза воззрений Маркса и
Витгенштейна имеет в известной мере социологическую направлен-
ность, но для него важнее чисто философские предпосылки, связан-
ные, например, с оппозицией обоих философов дуализму. В тоже вре-
мя Берне считает, что отдельные верно подмеченные совпадения не
могут дать основания для категорических утверждений о влиянии фи-
лософских идей Маркса на Витгенштейна. Разумную — осторож-
ную — позицию, на его взгляд, занимает такой марксистский иссле-
дователь, как Ф. Росси-Ланди3, который в данном вопросе опирается
на твердо установленный факт — частые контакты Витгенштейна с его
коллегой по Кембриджскому университету итальянским экономистом
П. Зраффа, который был марксистом и, кстати, другом А. Грамши.
См.: Rubinstein D. Marx and Wittgenstein. Social Praxis and Social Explanation.
P. 207.
2 Canadian Journal of Philosophy. 1985. V. 15. №1.
3 Rossi-Landi F. Towards a Marxian Use of Wittgenstein//Austrian Philosophy:
Studies and Texts. Munich, 1981.
21-5739 321
Нам, правда, представляется, что рассуждения Бёрнса о фактиче-
ских свидетельствах в пользу возможности прямого воздействия мар-
ксистских идей на Витгенштейна имеют второстепенное значение1.
Важнее, видимо, структурное — так сказать, «синхроническое» со-
поставление самих учений в стиле Рубинстайна. А вот обращение
Бёрнса к вопросу о том, как витгенштейновская философия использо-
валась радикальными движениями Запада последнего двадцатилетия,
думается, в этом контексте уместно. Он, в частности, отмечает, что
впервые попытались рассматривать Витгенштейна как радикального
философа представители новых левых (60-е годы). Они увидели в нем
бескомпромиссного критика буржуазного истеблишмента, индиви-
дуалистической жизненной позиции и еще влиятельной тогда филосо-
фии логического позитивизма, ассоциировавшейся с господствовав-
шей идеологией. Такой американский леворадикальный деятель и фи-
лософ-витгенштейнианец, как К.И. Фанн, например, заявлял, что
мышление Витгенштейна, будучи первоначально метафизическим,
стало затем в подлинном смысле критически-диалектическим2. Его
социальная диалектика в этом плане рассматривалась новыми левы-
ми как философская основа позиции социального активизма3.
Главное отличие подхода левых авторов 60-х годов от подхода ав-
торов 80-х годов (того же Рубинстайна, к примеру) Бёрнсу видится в
том, что если первые замечали недостаточность теоретической кри-
тики буржуазной философии и идеологии и прямо призывали к осуще-
ствлению в западных странах социальной революции, то последние
стремятся лишь к преодолению теоретического различия материаль-
ного и духовного, что, как им представляется, наконец-то демистифи-
цирует господствующую дуалистическую традицию в философии, све-
1 Упомянем все же факт, приведенный недавно в книге английского философа
Ф. Керра. Оказывается, на проходившем в Лондоне в 1931 г. 2-м Международном кон-
грессе по истории науки и технологии выступал Н.И. Бухарин, который в своем докладе,
помимо всего прочего, подверг критике «Трактат» за исключение из рассмотрения
«подлинного субъекта, то есть социального и исторического человека» (Kerr F.
Theology after Wittgenstein. Oxford, 1986. P. 67). Витгенштейн вполне мог знать об этой
критике. Также известно, что на него в 30-е годы оказывал влияние преподаватель ан-
тичной литературы Кембриджского университета Н. Бахтин ( 1895—1975), брат знаме-
нитого М.М. Бахтина, культурологическое учение которого в последнее время все чаще
сравнивают с поздним учением Витгенштейна.
2 FannK.T. Wittgenstein and Bourgeous Philosophy//Radical Philosophy. 1974. V. 8.
3 В тот период освоения учения Витгенштейна понятие «формы жизни» еще не по-
пало в центр внимания философов, а ведь с ним связан известный консервативный мо-
тив данного учения, ибо такие «формы» по определению не могут быть подвергнуты
«внешней» критике.
322
дет ее к определенной социологической теории, поддающейся адек-
ватной критической оценке. И для этого уже не потребуется осущест-
влять радикальное преобразование общества. Философия в таком
случае как бы смоделирует себя на социологию, изучит свою общест-
венную роль с социологической точки зрения.
Но при этом, согласно Бёрнсу, авторы типа Рубинстайна смазыва-
ют одно важное различие между Марксом и Витгенштейном. С пози-
ции своего «интеракционизма» они доказывают, будто базис и над-
стройка в обществе в равной степени детерминируют друг друга, а это
в свою очередь снимает необходимость решения проблемы соотноше-
ния материалистического и идеалистического подходов в понимании
общественных явлений. Маркс же четко отличал материальные про-
изводительные силы от сил социальных, отношения производства от
разновидностей общественного сознания. Поэтому его позицию в
данном вопросе трудно согласовать с позицией витгенштейнианцев,
не без основания указывает Берне. В заключение же он язвительно
замечает: «Я удивлюсь, если он (Рубинстайн.— AT.) когда-нибудь
убедит верного витгенштейнианца в том, что аргумент против "инди-
видуального языка" должен подвигнуть его на народную борьбу для
свержения капитализма. Или если он когда-либо убедит верного мар-
ксиста, что "никто не знает законы, по которым развивается общест-
во"»1.
К сказанному Бёрнсом можно, на наш взгляд, добавить, что пози-
ция Рубинстайна в данном вопросе представляется близкой рассмот-
ренной позиции сторонников Уинча, доказывающих, что в витген-
штейновской трактовке практики понятия материального и идеально-
го, бытийного и сознательного уже более не противостоят друг другу.
Такая установка идейно сближает Рубинстайна (независимо от его
личных предпочтений) с направлением, которое он сам квалифициру-
ет как «субъективизм».
Как и Рубинстайн, немецкий философ Р. Циммерман отстаивает
мнение, что взгляды Маркса и позднего Витгенштейна, заключающие
в себе много общего, в будущем получат развитие в виде различных
( синтетических доктрин2. Марксово учение об общественном созна-
,нии, указывает он, предполагает определенную теорию языка, по-
скольку признается очевидным, что сознание как таковое невозможно
языка. И именно в данном плане оказывается полезным всемер-
1 Canadian Journal of Philosophy. 1985. V. 15. N 1. P. 21. В последней фразе цитиру-
ются слова Витгенштейна.
! 2 Zimmerman R. Later Wittgenstein and Historical Materialism//Wittgenstein and
His Impact on Contemporary Thought. Dordrecht, 1978.
21* 323
ное сближение марксистской позиции с соответствующей позицией
Витгенштейна. Циммерман в связи с этим стремится показать, что
оба философа противостояли преобладающим метафизическим тен-
денциям в эпистемологии, настаивая на приоритете практики по отно-
шению к «чистому» познанию. Для понимания сути взглядов Витген-
штейна на соотношение языка и реальности важно, по мнению немец-
кого исследователя, учитывать одну из возможных трактовок «форм
жизни», а именно как не вызывающего сомнения «согласия в сужде-
ниях». Употребление подобных суждений лежит в основе процесса
коммуникации, в ходе которого они связывают язык и реальность. Со-
гласию в суждениях соответствует сочетание тех фактов реальности,
которые в рамках конкретной «формы жизни» не могут вызывать со-
мнения в своей достоверности у участников определенной совместной
деятельности.
То, что люди имеют дело с одними и теми же фактами, отчетливо
проявляется в их деятельности — как лингвистической, так и нелин-
гвистической. Но каким же образом взаимосвязаны эти типы деятель-
ности и почему их основание лежит в самих фактах жизни? Дело в том,
поясняет Циммерман, что очевидным для всех фактам общество при-
дает нормативную функцию. Они суть как бы системы координат
для любых возможных видов опыта, в том числе и для практической
способности высказывать суждения. В так называемых «грамматиче-
ских предложениях» (типа «зеленый и голубой цвета не могут быть в
одном месте одновременно»), особо выделенных поздним Витген-
штейном, воплощены общие правила подобной практики, некая апри-
орная основа нашего согласия в суждениях, контролирующего меж-
человеческую коммуникацию1. Их отрицание неизбежно повлечет за
собой коренное изменение всей сложившейся практики. Так что
«грамматические предложения» отражают те нормы, которые регу-
лируют отношение людей к фактам в процессе лингвистической и не-
лингвистической деятельности. В результате усвоения людьми несо-
мненных фактов они начинают понимать, какая именно реальность
лежит в основе их опыта2. В рамках конкретных «форм жизни» такие
факты находятся в согласии с практикой употребления суждений. По
Витгенштейну, это согласие и есть все самое необходимое нам в жиз-
ни, и потому не существует никакой иной, более глубокой и фундамен-
1 Ср. с понятиями «герменевтического a priori» и «коммуникативного a priori»,
упоминавшимися в предыдущем разделе.
2 См.: Zimmerman R. Later Wittgenstein and Historical Materialism. P. 63.
324
тальной реальности, помимо данной в опыте, в той или иной языковой
игре.
Для Маркса же, указывает Циммерман, общественное производ-
ство как своего рода «форма жизни» и есть то, что дано объективно,
что принципиально необходимо для обнаружения подлинного харак-
тера реальности. Реальность открывается в тех фактах, с которыми
люди имеют дело в своей совместной производственной деятельности.
При этом немецкий философ утверждает, что у Маркса не было раз-
вернутой теории языка, а следовательно, его учение должно быть до-
полнено витгенштейновским учением о языковой деятельности. В
свою очередь, ввиду отсутствия у Витгенштейна систематической тео-
рии нелингвистических действий (производственной практики прежде
всего) его учение должно быть дополнено соответствующей теорией
Маркса.
Дальнейшее развитие учения, построенного в результате синтеза
двух указанных позиций, предполагает Циммерман, пойдет по сле-
дующим основным направлениям. Во-первых, перед новым учением
встанет задача проанализировать, какие именно «грамматические
предложения», выступающие в качестве правил нашего опыта, явля-
ются организующими принципами «форм жизни», которые соответ-
ствуют определенным общественным фактам. Это будет как бы фено-
менологией общественного сознания, для создания которой вполне
пригоден концептуальный аппарат позднего Витгенштейна. И,
во-вторых, витгенштейнианцам будет важно в полной мере усвоить
Марксову критику «идеологии». Эта критика необходима для того,
чтобы осуществлять правильный анализ связи между фундаменталь-
ными фактами жизни, формами деятельности людей и общественным
сознанием. А ведь очевидно, добавляет Циммерман, что такая связь
может искажаться по причине наличия разнонаправленных субъек-
тивных интересов («ложное сознание») членов того или иного чело-
веческого сообщества.
В истории философской и общественной мысли XX века попытки
дополнить марксизм с помощью какого-либо иного учения делались,
как известно, неоднократно. При всех имеющихся натяжках в концеп-
( циях рассмотренных в данном параграфе западных авторов все же не
следует спешить с категорическим выводом о полном отличии или
даже принципиальной несоизмеримости учений Маркса и Витген-
штейна; хотя вряд ли обоснованно будет характеризовать само отно-
шение между ними как взаимную дополнительность, учитывая их раз-
ный статус и объяснительные возможности, о чем говорилось ранее.
Несмотря на то, что речь идет об учениях, которые разделяет почти
столетие, позднюю философию Витгенштейна уместно оценить как
325
некоторое несистематическое, осуществляемое в основном на интуи-
тивном уровне, приближение к отдельным фундаментальным положе-
ниям марксистской социальной диалектики и теории практической
деятельности. Тут можно было бы также отметить прозорливые вы-
сказывания Витгенштейна относительно допустимости противоречий
в математических системах. Но важнее все же то, что в результате
проницательного рассмотрения одной из конкретных разновидностей
человеческой практики — лингвистической деятельности — авст-
рийскому философу удалось выразить некоторые ее глубокие диалек-
тические характеристики.
Но одновременно эта же особенность ограничила возможности
его учения в качестве основы для разработки более или менее всесто-
ронней концепции диалектики общественных процессов, да и реше-
ния многих философско-мировоззренческих вопросов. Сфера языка
оказалась той органично присущей самому Витгенштейну «формой
жизни», правилам которой он постоянно следовал в своей философ-
ской деятельности и за пределы которой он так и не вышел, как бы
подтверждая буквальное толкование своего старого тезиса: «Грани-
цы моего языка означают границы моего мира»' или же пессимисти-
ческое заключение публичной кембриджской лекции 1930 г.: «Мое
основное стремление, да и стремление всех, кто когда-либо пытался
писать и говорить об этике и религии,— вырваться за пределы языка.
Но этот прорыв сквозь решетку нашей клетки абсолютно безнаде-
жен»2.
1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 80.
2 Wittgenstein L Lecture on Ethics//The Philosophical Review. 1965. V. 74. № 1.
P. 12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За длительную историю развития мировой философской мысли
было выдвинуто не так уж много главных философских альтерна-
тив. Мы имеем в виду те действительно оригинальные учения, основ-
ное идейно-теоретическое содержание которых в принципе нередуци-
руемо к содержанию других философских учений. Они по праву зани-
мают свое место (если использовать попперовскую терминологию) в
«третьем мире» — мире объективного содержания философского
знания, обладающего собственной, относительно независимой логи-
кой развития. К таким учениям, на наш взгляд, можно отнести и уче-
ние австрийского философа Людвига Витгенштейна. Новизна и эври-
стическая ценность его подхода не в последнюю очередь заключалась
в том предпочтении, которое он отдавал исследованию философских
вопросов по сравнению с исследованием философских ответов. Раз-
работанные им идеи и понятия живут теперь своей жизнью в филосо-
фии и культуре, выполняют регулятивную функцию в отношении по-
стоянно возникающих новых концепций. Оказалось, таким образом,
что его философия несла в себе не только разрушительный потен-
циал.
Одним из наиболее характерных приемов нашей критической реф-
лексии над учениями современных западных философов был до недав-
него времени упрек в абсолютизации ими тех или иных (зачастую вер-
ных) идей и положений. Не отказываясь от возможности использова-
ния в отдельных случаях такого приема, в то же время подчеркнем одно
немаловажное обстоятельство методологического плана. Дело в том,
что все значительные философские учения прошлого — и прежде все-
го представляющие собой оригинальные альтернативы — были, в
сущности, абсолютизациями различных тенденций, закономерностей
и оценок. Размышляя над проблемами, любой серьезный философ
просто не может не отвлекаться от каких-то связей и взаимодействий
изучаемых им объектов, концентрируясь на самом главном и принци-
пиальном. Все учитывается и гармонично согласуется только в фило-
софских учебниках, но история философии ведь складывается не из
них, а изучений, которым присуща своя неповторимая односторон-
ность, заключающая в себе немалый эвристический потенциал и
327
ориентирующая на бескомпромиссное отношение к поставленным
проблемам. К тому же объективная логика концептуального развития
нередко формулирует ту или иную философскую позицию в виде само-
стоятельной альтернативы даже независимо от субъективных намере-
ний ее создателя.
Мысленный эксперимент, как известно, служит важнейшим
приемом не только естественнонаучного, но и гуманитарного, фило-
софского исследования. По отношению к Витгенштейну, активно ис-
пользовавшему данный прием, в этом плане можно было бы заметить
следующее. В первый период его творческой эволюции им был прове-
ден оригинальный мысленный эксперимент (явная «абсолютиза-
ция»!) по установлению логической возможности одной из главных
функций языка — функции обозначения фактического содержания, а
также самой связи языка с миром. Однако в соответствии со своей
трансценденталистской установкой ранний Витгенштейн тогда полно-
стью элиминировал «человеческий фактор» из рассмотрения сущно-
сти языка (в качестве примера можно сослаться на элиминацию пси-
хологического подхода, а также самого субъекта из «мира фактов»,
моделируемого с помощью предложений-образов). Впоследствии
осознание им ограниченности трактовки языка лишь как семантиче-
ской системы, обладающей жесткой внутренней структурой, послу-
жило стимулом для разработки иной философской парадигмы, учиты-
вающей многофункциональность и социальные параметры языка, что
и привело в результате к «абсолютизации» его деятельностной при-
роды. А это в свою очередь придало философско-лингвистическому
исследованию человеческое измерение. Поздняя философия Витген-
штейна приобрела немалое число сторонников и последователей.
Наиболее примечательные явления в витгенштейнианстве оказались
связанными, во-первых, с разработкой вопросов философии психоло-
гии, во-вторых, с обсуждением стратегии построения новой теории
значения и, в-третьих, с теми концепциями практики и социокультур-
ного знания, в которых принимается во внимание языковая проблема-
тика. Несмотря на неоднородность витгенштейнианства и внутренние
противоречия между взглядами представителей данного направления,
они разделяют в определенной мере близкие методологические уста-
новки и принципы.
Именно две главные витгенштейновские парадигмы, о которых
шла речь в этой работе, отчетливо просматриваются сегодня в ряде
концепций представителей западной философии (аналитической ее
традиции прежде всего). Но, как мы пытались показать, рассматривая
самый разнообразный материал, новейшая ситуация характеризуется
известным сближением упомянутых парадигм, образованием всевоз-
328
можных синтетических концепций, нарастанием интеграционных тен-
денций. Возникнет ли в результате этого принципиально новая фило-
софская альтернатива, конечно, покажет будущее. Но очевидно, что
этот процесс будет столь же сложным и противоречивым, как и про-
цесс вызревания и осмысления философами понятия языковой дея-
тельности. При этом, думается, идеи Витгенштейна еще долго будут
оставаться существенным компонентом западной философской куль-
туры и привлекать к себе внимание исследователей.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
В КОНЦЕ XX века
В конце XX столетия аналитическая философия представляет со-
бой сочетание новых методов и подходов с теми, которые можно назы-
вать «классическими» и которые сформировались еще в начале сто-
летия. Премечательно, что именно в последнее десятилетие среди фи-
лософов-аналитиков наиболее часто возникали споры относительно
истоков самой аналитической традиции и ее типических характери-
стик. Идет интенсивное переосмысление классического наследия —
наследия Б. Рассела, Л. Витгенштейна и Дж. Э. Мура, прежде все-
го — и уточнение его значения для современного состояния филосо-
фии. Отошли в прошлое заявления о «революции в философии», же-
сткие программы и широковещательные манифесты, призванные ра-
дикально переориентировать деятельность философов и организовать
совместные исследования (такой характер носили, например, про-
граммы логического позитивизма, философии «обычного языка», на-
турализированной эпистемологии и пр.). В центре внимания оказыва-
ется способность аналитической философии гибко и непредвзято рас-
сматривать фундаментальные проблемы, в какой бы области научно-
го, обыденного или философского знания они ни возникали. Несмотря
на заявления отдельных англо-американских философов, в том числе
и разделявших в свое время установки анализа (например, Ричарда
Рорти или Николаса Решера), о «смерти» аналитической философии
в конце XX века, данное философское направление остается одним из
немногих, сохранивших свой потенциал и доказавших способность^
совершенствованию. Это проявляется как в возникновении новых
проблем и постановок вопросов, так и в сохраняющейся тесной связи
с исходными принципами, заложенными в начале века представителя-
ми классического философского анализа.
В этом плане особую актуальность для современных аналитиков
представляют не только формально-методологические особенности
тех или иных учений, но их метафизические основания. «Метафизи-
ка», представленная, разумеется, как «строгая наука», считается од-
ной из главных аналитических дисциплин, наряду, скажем, с эписте-
330
мологией и философией языка. Симптоматично, что вопрос о статусе
и роли последних в корпусе аналитических дисциплин получил свое-
образное освещение в одной из дискуссий последних десятилетий,
принявшей форму прямого вопроса: Философия языка или эписте-
мология?
* * *
Данный вопрос рассматривается в рамках более широкой пробле-
матики оценки классического наследия аналитической философии.
Он, к примеру, обсуждается в работах оксфордского философа Майк-
ла Даммита, автора широко известных книг о Готлобе Фреге1. Оста-
новимся, в частности, на его статье «Может ли аналитическая фило-
софия быть систематической и должна ли она быть таковой?»2. В ней
Даммит определяет аналитическую философию отнюдь не как особую
школу, а как «группу школ, разделяющих определенные базисные
предпосылки и отличающихся друг от друга во всем остальном»3. Не-
смотря на многочисленные различия, новейшая аналитическая фило-
софия представляется ему сегодня более целостной, чем прежде. В
качестве причины этого он называет три обстоятельства.
Во-первых, это широкое и повсеместное изучение в Великобри-
тании и США произведений Фреге, которые кладутся в основу фило-
софского образования. Теперь зачинателем аналитической филосо-
фии многими признается именно немецкий логик, а не Рассел или
Витгенштейн. Самое краткое определение аналитической филосо-
фии, по Даммиту, это определение ее как постфрегеанской филосо-
фии. Во-вторых, если говорить о Великобритании, то в ней еще ни-
когда не было так сильно влияние американской ветви аналитической
философии. И наконец, в-третьих, изменился основной акцент в
деятельности аналитиков. Если в течение нескольких десятилетий
наиболее сильной ветвью философии в Великобритании была фило-
софия психологии, изучавшая такие явления, как мотивация, наме-
рение, удовольствие и прочее, то теперь ее место заняла философия
я^ыка. Последнюю рассматривают и как основу всех других дисцип-
лин, и как наиболее плодотворный объект самостоятельного исследо-
1 Dumett M. Frege: Philosophy of Language. L, 1973; The Interpretation of Frege's
Philosophy. L, 1981; Frege and Other Philosophers Oxford, 1991; Frege, Philosophy of
Mathematics. L, 1991.
. ; . 2 См. в книге: Dummett M. Truth and Other Enigmas. L, 1978.
3 Ibid. P. 437.
331
вания. Кроме того, именно на «поле» этой дисциплины происходит
сближение британской и американской школ анализа.
Раскрывая свой тезис относительно взглядов Фреге, Даммит от-
мечает главное достижение немецкого ученого: замену эпистемоло-
гии в качестве главной философской дисциплины «логикой». Под
последней же он понимал не только то, что традиционно обозначают
данным словом, но и философию языка. Аналитики после Фреге проч-
но усвоили, что только с помощью анализа языка можно анализиро-
вать мышление, а для этого необходимо эксплицировать имплицитно
усваиваемые нами правила употребления языка. Такая экспликация,
согласно Даммиту, будет полной (систематической) теорией значения
для языка.
Л. Витгенштейн в поздний период также отводил центральное
место в своих исследованиях философии языка. Разница в позициях
Фреге и Витгенштейна, по Даммиту, заключалась в том, что первый
считал язык автономным, а второй подчеркивал взаимопереплетение
языка и нелингвистической деятельности. Однако, отмечает он, вит-
генштейновские «языковые игры» в силу ряда причин не могут слу-
жить удачной моделью для систематического объяснения функциони-
рования языка. В отличие от взглядов Фреге, взгляды Витгенштейна
не станут прочным фундаментом для будущей работы в философии.
Это работа предполагает прежде всего создание формальной тео-
рии значения, которая должна объяснить функционирование языка,
не оставляя без объяснения ни одно из семантических понятий, в том
числе и таких, как «истина» и «утверждение». Создание строгой тео-
рии значения придаст философии языка систематический характер.
Итак, убеждает Даммит, поворотный пункт в современной (глав-
ным образом, англо-американской) философии — это осознание под-
линной роли Фреге, понимание его действительного вклада в филосо-
фию. «Только после Фреге был твердо установлен предмет филосо-
фии, а именно, что, во-первых, целью философии является анализ
структуры мысли; во-вторых, что изучение мысли следует четко отли-
чать от изучения психологического процесса мышления; и наконец,
что наиболее правильный метод для анализа мысли заключается в
анализе языка»1. ■ «
Самыми известными оппонентами Даммита являются его коллеги
по Оксфордскому университету Гордон Бейкер и Питер Хакер, кото-
рые до последнего времени, как правило, выступали с совместными
публикациями. Они оспаривают даммитовскую оценку Фреге как за-
1 Dummett M. Truth and Other Enigmas. P. 458.
332
чинателя аналитической традиции и создателя современной филосо-
фии языка. Даммит, считают они, смотрит на Фреге через «очки» вто-
рой половины XX века. Да и с историко-философской точки зрения
его подход некорректен, ибо ранние произведения он рассматривает в
свете поздних, а не наоборот. Что же касается тезиса о том, будто
именно философия языка лежит в основе всякой философии, то с ним,
на взгляд Бейкера и Хакера, не согласились бы ни Витгенштейн, ни
Райл, ни Остин, ни Грайс, ни другие ведущие аналитики прошлого.
Идея о том, что мысль обладает уникальной структурой, которая
внутренним образом соотносится (изоморфна) со структурой предло-
жения, выражающего ее, была нововведением раннего Витгенштейна,
а не Фреге, подчеркивают Бейкер и Хакер. Немецкий логик же считал,
что одна и та же мысль может быть выражена с помощью разных пред-
ложений. Законы логики для Фреге выражают природу объективных,
вневременных мыслей, а не человеческого мышления, схватываемого в
законах обычной грамматики. Фрегевский платонизм несовместим с
принадлежащей позднему Витгенштейну идеей, что смысл слова связан
с его употреблением. «Концепция значения как употребления враж-
дебна позиции платонизма в отношении смысла»1.
Собственное исследование Бейкера и Хакера «Фреге: логические
раскопки»2 помимо всего прочего содержит методологические рассу-
ждения по поводу роли историко-философского подхода в аналитиче-
ской философии. Что же касается взгладов самого Фреге, то, как не без
юмора пишут авторы, «мы должны остерегаться считать Фреге отсутст-
вующим коллегой, современным членом Тринити колледжа, находящим-
ся в продолжительном творческом отпуске»3. Необходимо учитывать ре-
альные проблемы, которым были адресованы произведения мыслителя,
как он сам интерпретировал свои основные понятия. Важно учитывать
не только то, что знал тот или иной мыслитель прошлого, но и то, что ему
было неизвестно. Не следует надеяться на то, что у великого мыслителя
прошлого мы обязательно найдем ответы на вопросы, которые в настоя-
щее время занимают нас, замечают Бейкер и Хакер.
, Они подчеркивают, что, математик по образованию, Фреге весьма
слабо знал философию и его взгляды стимулировались в первую оче-
редь работами логиков и математиков-алгебраистов. В этом плане
главными объектами критики для него были психологизм и матема-
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Dummett's Frege Through a Looking-Glass
Dark!y//Mind. 1983. V.XCII. № 366. P. 244.
2 Baker G.P., Hacker P.M.S. Frege: Logical Excavations. Oxford., 1984.
3 Ibid. P. 4.
333
тический формализм. Его мышление, безусловно, носит математи-
ческий характер. Для него понятия столь же объективны, как и числа,
в чем сказывается его догматическая приверженность платонизму.
Фреге, на взклад Бейкера и Хакера, был типичным системосозидате-
лем, зачинателем мифологии нового пифагореизма. Три его главные
идеи следующие. Во-первых, категории математики суть изначальные
категории реальности. Во-вторых, исходные категории мышления яв-
ляются математическими. В-третьих, язык обладает структурой,
предполагающей логические функции и аргументы. «Какие же стран-
ные движения мысли в Zeitgeist внезапно трансформировали этого
скромного немецкого логика в мессианскую фигуру предполагаемого
возрождения философии и превратили его recherche-доктрины в оче-
видные основания новой науки? Ответ на данный вопрос, вероятно,
скажет больше о нас самих, чем о нем. Когда мы всматриваемся в про-
изведения Фреге, мы слишком часто пропускаем его мысли, ибо нас
отвлекают наши собственные размышления»1.
Сам Фреге, показывают Бейкер и Хакер, никогда и не мечтал о том,
что философия станет представлять собой иерархию теорий, в основа-
нии которой будет лежать философия языка. Тем не менее ему был бли-
зок сциентистский подаод к философии, который в последние годы сно-
ва стал популярным. Однако, в отличие от современных фрегеанцев, он
не стремился создать формальную теорию значения для естественного
языка. В основе неофрегеанства, которое мифологизирует и модерни-
зирует фигуру Фреге, лежит модель языка как исчисления.
В дискуссии о Фреге и истоках аналитической философии Бейкер
и Хакер преодолевают характерное для аналитической философии
резкое разделение на исследовательский подход «истории идей» и
подход «истории философии». Они не считают, что история филосо-
фии должна рассматривать взгляды мыслителя прошлого лишь в свя-
зи с современной логико-семантической проблематикой, полностью
абстрагируясь от историко-культурного контекста и модернизируя
рассматриваемые взгляды. Наоборот, максимально точное воспроиз-
ведение этих взглядов окажется и наиболее полезным для современ-
ных исследований.
Проблема сознания в новом контексте ]
В конце 80-х — 90-е годы споры по поводу философии языка и ее
месте среди других аналитических дисциплин, бывшие характерной
чертой аналитической философии 70-х — начала 80-х годов, посте-
1 Baker G.P., Hacker P.M.S. Frege: Logical Excavations. P. 25.
334
пенно ослабевают. Язык все более начинает рассматриваться как
средство анализа процессов сознания. В этом плане, несмотря на ут-
верждения неофрегеанцев, на первое место выходят такие дисципли-
ны, как философия сознания и философия психологии. Позиции
участников дискуссии по поводу сознания различаются весьма сильно:
от откровенно сциентистских, делающих акцент на новейших исследо-
ваниях в области нейронауки и искусственного интеллекта, до чисто
концептуальных исследований, продолжающих традиции райловского
«логического бихевиоризма». Некоторые из этих позиций и будут рас-
смотрены далее.
Новые аргументы элиминативизма
Наиболее ярким представителем нового поколения сторонников
элиминативизма является американский философ Пол Черчленд(по-
зиции элиминативизма в свое время придерживались П. Фейерабенд,
Р. Рорти и У. Куайн). Характерной для него является работа «Элими-
нативный материализм и пропозициональные установки»1. В ней
Черчленд определяет элиминативный материализм как тезис о
принципиальной неполноценности концепции психического,
свойственной здравому смыслу, которая выступает ложной теори-
ей и которую со временем полностью вытеснит нейронаука. Новая
теория окажется значительно сильнее теории здравого смысла. Эмо-
ции, субъективные качества, «сырые переживания» уже не будут для
нее камнем преткновения. Правда, признает американский философ,
противники нейронауки ссылаются на такие явления, как интенцио-
нальность и пропозициональные установки, как на нередуцируемые к
нейрофизиологии феномены. Поэтому элиминативисту необходимо
ответить на подобные возражения.
Черчленд подчеркивает, что для сторонников психологии здра-
вого смысла («народной психологии» — НП) с ее менталистским
словарем семантика основных терминов не отличатся от семантики
теоретических терминов, в которой значение термина конституирует-
ся сетью законов. Ядро ментальных состояний составляют пропози-
циональные установки («Я надеюсь, что...», «Я верю, что...» и пр.).
Как раз в этом и проявляется, на взгляд Черчленда, завуалированная
близость НП к физическим теориям. Дело в том, что отношения меж-
ду пропозициональными установками носят законоподобный харак-
1 Впервые опубликована в: The Journal of Philiosophy. V. LXXVIII. № 2. 1981. Мы
цитируем по изданию: The Nature of Mind. Ed. by D.M. Rosenthal. Oxford, 1991.
335
тер. Такие законы предполагают возможность квантификации над
пропозициями, подобно тому, как физические закономерности допус-
кают квантификацию над числовыми параметрами. В формально-ло-
гическом плане мало различаются физическая формула и формула
пропозициональной установки.
На взгляд Черчленда, сходство НП с теорией очевидно и потому
удивляет, что только в конце нашего столетия философы осознали это
обстоятельство. Теперь классическая проблема «сознание — тело»
становится проблемой соотношения онтологии одной теории (НП) с
онтологией другой теории (постепенно совершенствующейся нейро-
науки). При этом, подчеркивает Черчленд, элиминативист пессими-
стически смотрит на возможность сведения одной к другой: НП будет
просто заменена лучшей теорией. Причина же этого в том, что на-
родная психология практически не развивалась с древности, а наобо-
рот, переживала длительный период стагнации: «В терминах Имре
Лакатоша НП является загнивающей или дегенерирующей исследо-
вательской программой, и она была таковой тысячелетия»1. Катего-
рии НП не смогут вписаться в структуру нейронауки. Отношение ме-
жду ними — это отношение, аналогичное отношению алхимии и со-
временной химической науки. До сих пор НП удерживается за счет
того, что она составляет центральную часть нашего «жизненного
мира» и лежит в основе межличностного взаимодействия. Однако, ут-
верждает Черчленд, элиминативный материализм отнюдь не исклю-
чает нормативный аспект, а считает, что следует пересмотреть роль
нормативных понятий в свете зрелой нейронауки.
Американский философ описывает три возможных сценария
того, что может произойти в результате элиминации НП. Во-первых,
представим себе, что исследование структуры и активности мозга дос-
тигнет такого уровня, когда будет создана новая кинематика и динами-
ка когнитивной активности. Тогда не исключено, что значительная
часть населения овладеет словарем, с помощью которого описывают-
ся состояния мозга и законы взаимодействия. После этого даже на
рынках и в других общественных местах использование НП будет на-
всегда исключено, а ее онтология попросту уничтожена.
Во-вторых, можно представить еще более радикальный сцена-
рий, учитывающий то обстоятельство, что люди изучат иной, нежели
естественный, язык. Его синтаксис и семантика будут существенно
отличаться от соответствующих структур естественного языка и в то
же время соответствовать нашим врожденным концептуальным сис-
1 The Nature of Mind. Ed. by D.M. Rosenthal. P. 604.
336
темам. Это значительно улучшит коммуникацию и обмен информаци-
ей между мозгами разных людей. Возникнет более сильная комбина-
торная грамматика элементов, формирующих новые языковые ком-
бинации с экзотическими свойствами.
Еще более неожиданным сценарием, по Черчленду, оказывается
третий. Будет возможно с помощью специальных имплантирован-
ных приборов устанавливать каналы взаимодействия между мозгами
разных людей, подобно тому, как взаимодействуют полушарии одного
мозга. Тогда люди научатся обмениваться информацией и координи-
ровать свое поведение с той же виртуозностью, как это делают полу-
шария одного и того же мозга. Разговорный язык при этом может про-
сто исчезнуть, а наши библиотеки будут содержать не книги, а записи
примеров нейральной активности.
Эти, пока еще очень далекие от осуществления фантастические
сценарии Черчленда призваны показать то, что в принципе поможет
людям заменить формы общения, которые базируются на ментальном
словаре НП, и опровергнуть точку зрения здравого смысла на созна-
ние и психическое.
«Интенциональная позиция» Д. Деннета
Элиминативизм был критически встречен не только теми филосо-
фами, которые, будучи далеки от экспериментальных исследований и
подходов современной науки, считали исследование сознания чисто
концептуальным, но и теми, кто владел современной научной пробле-
матикой и стремился при этом создать материалистическую теорию
сознания. К числу таких философов-ученых относится Дэниел Ден-
нет, который сделал «сознание» одной из главных тем своего интен-
сивно развивающегося учения.
В противовес Черчленду он считает, что во внимание должны быть
приняты интуиции НП, особенно важные в аспекте межличностной
коммуникации, когда мы находимся в интенциональной позиции.
Суть ее в том, что «к объекту, чье поведение вы хотите предсказать,
следует относиться как к рациональному агенту со своими верования-
ми и желаниями и другими ментальными состояниями, проявляющи-
ми то, что Брентано и другие называют интенциональностью»1. Мы
приписываем людям наиболее важные желания и устремления: вы-
живания, отсутствия боли, доступности пищи и т. д. Они постоянно
придерживаются подобной стратегии, которая дает им предсказа-
1 Dennett D.C. The Intentional Stance. Cambridge. Mass., 1989. P. 15.
22-5739 337
тельные возможности (хотя выбор интенциональной позиции совер-
шенно свободен). По Деннету, сами человеческие существа являются
наиболее сложными интенциональными системами. Мы наделяем
внутренними репрезентациями те объекты, для которых работает ин-
тенциональная стратегия.
Аналогично, продолжает Деннет, мы рассуждаем и тогда,когда пе-
ред нами стоит проблема приписывания некоторых убеждений
(beliefs), скажем, термостату. Но разница в степени столь велика, что
на основе знания организации простой интенциональной системы
типа термостата еще нельзя сделать выводов относительно таких
сложных систем, как человеческие существа. «Сегодня никто не наде-
ется формулировать психологию будущего с помощью словаря ней-
ропсихолога, не говоря уже о словаре физика»1. Как видим, Деннет
даже не допускает возможности тех сценариев, о которых пишет
Черчленд. Он согласен, однако, с тем, что НП представляет собой
теорию, необходимую для объяснения и предсказания поведения
людей как рациональных агентов (хотя мы далеко не всегда ведем
себя рационально). «Миф» о рациональности структурирует и орга-
низует приписывание нами убеждений и желаний другим и регулирует
наши собственные мысли. НП в этом отношении — идеализирован-
ная нормативная система: она предсказывает убеждения и желания,
определяя то, во что мы должны верить и чего должны желать.
Деннет специально отмечает, что рациональность он отнюдь не
трактует как логическую непротиворечивость. Однако, если организм
оказался продуктом естественного отбора, мы можем допустить, что
большинство его формирующих убеждения стратегий будут рацио-
нальными. Так, понятие рациональности получает интерпретацию в
эволюционном контексте: иногда бывает рационально вести себя про-
тиворечиво. В этом смысле понятие рациональности оказывается до-
теоретическим. С интенциональной позиции можно рассматривать и
поведение животных.
Теорию НП, убежден Деннет, нельзя элиминировать и нечем за-
менить. Использование нами ее понятий ничуть не страдает от того,
что мы далеко не все знаем о процессах мозга. НП — это инструмен-
талистский метод интерпретации, «который эволюционировал, пото-
му что он работает, и работает потому, что мы эволюционировали».
Но эту теорию следует интерпретировать в терминах философской
теории интенциональных систем.
1 Dennett D.C. The Intentional Stance. Cambridge. P. 45.
338
Одним из главных оппонентов Деннета в последние годы выступа-
ет Джон Сёрл. Полемика американских философов привлекает к себе
все «аналитическое сообщество». На взгляд Деннета, они сходятся в
том, что считают компьютер синтаксическим устройством, но Сёрл
при этом полагает, что мозг, в отличие от компьютера, является и се-
мантическим устройством. И хотя для Сёрла теория интенциональ-
ных систем представляется бихевиористской, на самом деле, подчер-
кивает Деннет, она скорее является теорией «компетенции» (в смысле
Н. Хомского), нежели вариантом бихевиористского «черного ящика».
Кроме того, Деннет иначе, чем Сёрл, понимает интенциональность.
Общепринято, отмечает Деннет, что убеждения (верования) иден-
тифицируются в качестве пропозициональных установок. На сегодня,
как считают многие философы, это единственный способ идентифика-
ции убеждений, ибо мы еще не можем идентифицировать их нейрофи-
зиологически. Однако наиболее перспективны в этом отношении, на
взгляд Деннета, понятийные объекты, которые суть интенциональ-
ные объекты. Причем имеется разница данной позиции и позиции
феноменологии: «Традиция Брентано и ГусСёрля является автофено-
менологией; я же предлагаю гетерофеноменологию»1. Понятийный
мир — это потенциальная модель внутренних репрезентаций созна-
ния, созданная на основе нашего настоящего диспозиционального со-
стояния и наблюдения с позиции третьего лица (отсюда и необыч-
ный термин «гетерофеноменология»).
Деннет так описывает наилучшую объяснительную систему про-
цессов сознания: «Во-первых, там будет наш старый, надежный
друг — НП и, во-вторых, ее самосознательная абстрактная идеализа-
ция — теория интенциональной системы. Наконец, будет хорошо
обоснованная теория на уровне между НП и чистой биологией — суб-
личностная когнитивная психология»2. Проблемы интерпретации в
психологии те же, считает он, что и в биологии. Адаптационистская
стратегия в биологии ищет ответы на вопрос «почему?» точно также,
как и интенционалистская стратегия в психологии. Свою позицию по
вопросу об эволюции Деннет изложил в последней книге «Опасная
идея Дарвина. Эволюция и значение жизни»3, расширившей круг уча-
стников дискуссии о сознании.
1 Dennett D.C. The Intentional Stance. Cambridge. P. 153.
2 Ibid. P. 235.
3 Dennett D.C. Darwin's Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life. N. Y.
1995.
22* 339
«Переоткрытие сознания» Дж. Сёрлом
Упоминавшийся оппонент Деннета Джон Сёрл долгие годы рабо-
тал над проблемами философии языка, усовершенствовав теорию ре-
чевых актов Дж. Остина и вслед за П. Прайсом применив идею интен-
циональности к проблеме значения. В 80-е годы он стал подчерки-
вать, что философия языка является ветвью философии сознания, ба-
зирующейся на биологической по своей основе врожденной
интенциональности1 (ее он часто обозначает словом с заглавной бук-
вы, дабы отличить от интенциональности как «намерения»). Книга
Сёрла «Открывая сознание заново» развивает позицию «биологиче-
ского натурализма», противостоящего материализму и дуализму в во-
просе о сущности сознания и его отношения к мозгу2.
Что же касается конкретно позиции Деннета (явно отличающейся
от позиции сторонников тождества ментального и телесного, элими-
нативистов и дуалистов), то ее Сёрл оценивает как инструментали-
стскую, в которой слова из словаря НП не обозначают никаких субъ-
ективных ментальных явлений, но выступают лишь как определенная
манера говорить, служащая предсказанию рационального поведения.
Та интенциональность, которую Деннет приписывает неживым пред-
метам, не есть врожденная интенциональность биологических су-
ществ. Это лишь метафорическая, а не реальная, интенциональ-
ность — интенциональность «как если бы». Если не различать эти
два понимания интенциональности, то мы придем к абсурдному при-
писыванию интенциональности всему во вселенной, то есть фактиче-
ски к признанию всего ментальным, заявляет Сёрл.
Ментальное состояние сознания, по Сёрлу, есть биологическая
(физическая) характеристика мозга. Именно те философы, рас-
суждает он, которые не хотели признавать это обстоятельство, и не
допускали существование сознания. «Мозг причинно обусловливает
"ментальные" явления типа сознательных ментальных состояний, ко-
торые суть лишь характеристики высшего уровня мозга»3. Созна-
ние — ментальное, и потому физическое свойство мозга в том же
смысле, в каком, к примеру, жидкое состояние вещества является
свойством молекулярной системы. Перефразируя Декарта, Сёрл го-
ворит: «Я мыслящее существо, следовательно, я физическое сущест-
1 SearleJ.R. Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge, 1983.
2 SearleJ.R. The Rediscovery of the Mind. Cambridge. Mass., 1992. Перевод на рус-
ский.— M., 2002.
3 Ibid. P. 14.
340
во». Однако ментальным состояниям при этом присуща не сводимая
ни к чему иному субъективная онтология.
Убеждения, желания и прочее, поясняет Сёрл, всегда чьи-то
(даже тогда, когда их сознают). Наши представления о бессознатель-
ных ментальных состояниях основаны на представлениях о сознатель-
ных ментальных состояниях. Правда, если сознание (подобно Денне-
ту) начинают рассматривать с точки зрения третьего лица, его воспри-
нимают как нечто сугубо внутреннее и реально не существующее.
Дело в том, продолжает Сёрл, что онтология ментального — это, в
сущности, онтология первого лица. К тому же связь ментальных со-
стояний с данным в наблюдении поведением не является необходи-
мой. «Говоря онтологически, поведение, функциональная роль и кау-
зальные отношения безотносительны к существованию сознательных
ментальных явлений»1.
Материалисты, на взгляд Сёрла, противоречиво отрицают суще-
ствование ментальных свойств, не отрицая при этом реальности тех
феноменов, которые лежат в основе использования менталистского
словаря. Но при этом они исходят из того, что допущение субъектив-
ного по своей сути сознания будет несовместимо с их материалистиче-
ским представлением о мире. Сёрл категорически не согласен с мне-
нием Черчленда о том, что «верования» и «желания» имеют в теории
НП-статус, аналогичный тому, который «флогистон» и «теплород»
имели когда-то в физике. Дело в том, что верования и желания отнюдь
не были постулированы как элементы особой теории, их просто вос-
принимали как часть нашей ментальной жизни.
Тем не менее Сёрл ставит своей задачей локализовать сознание в
рамках «научной» концепции мира. Это, считает он, такой же биоло-
гический феномен, как языковая способность. Сознание причинно
обусловлено нейробиологическими процессами, возникшими эволю-
ционным путем. Оно дало людям немало преимуществ типа большей
гибкости, чувствительности и креативности. Однако привычная для
нас дуалистическая лексика до сих пор не позволяет считать, что мен-
тальный характер сознания дает ему возможность быть при этом «фи-
зическим» свойством. Если бы мы обладали полной информацией о
деятельности мозга, мы могли бы знать, что некоторое нейрохимиче-
ское состояние мозга означает определенное состояние сознания.
Но от других естественных феноменов сознание в концепции
Сёрла отличает субъективность — субъективность в онтологиче-
ском, а не эпистемологическом смысле. Он доказывает, что в отноше-
1 Searle J.R. The Rediscovery of the Mind. Cambridge. P. 69.
341
нии сознательной субъективности нельзя использовать общераспро-
страненную модель «наблюдающий — наблюдаемое». Речь идет о не-
редуцируемой онтологии первого лица. Самая совершенная наука о
мозге не приведет к онтологической редукции сознания вроде того,
как современная наука может редуцировать тепло, твердость, цвет
или звук к атомно-молекулярным процессам. «Итак, почему же мы
считаем тепло редуцируемым, а боль нет? Ответ заключается в том,
что то, что интересует нас в отношении тепла, есть не субъективное
проявление, а обусловливающие физические причины»*. В случае с
сознанием явление и есть сама реальность.
Сёрл отмечает обстоятельство, которое он, по его словам, до поры
до времени оставлял в стороне: систематическая теория интенциональ-
ности требует объяснения феномена сознания. Подобное объяснение в
целом должно учитывать такие черты, как темпоральность, социаль-
ность, единство, интенциональность, субъективность и структуриро-
ванность сознания. Однако в последние годы, сокрушается Сёрл, дела-
лись попытки совершенно отделить сознание от интенциональности (не
только в философии, но и в лингвистике и в когнитивной науке). Дело в
том, что многие хотят создать теорию психического (mind), не затраги-
вая такой труднообъяснимый феномен, как сознание. Отсюда и жела-
ние рассматривать интенциональность исключительно «объективно»,
вне связи с субъективным сознанием, с позиции третьего лица.
Сёрл подчеркивает, что интенциональные феномены типа значе-
ний, понимания, интерпретаций, убеждений, желаний и прочих имеют
место только в пределах фоновых способностей (background
capacities), которые сами не являются интенциональными. Таким об-
разом, интенциональные состояния функционируют не автономно, а в
рамках некоторой сети других состояний. Но даже подобная сеть не-
возможна без поддержки фоновых способностей, о которых так много
писал поздний Витгенштейн. Среди таких способностей есть способ-
ности, порождающие другие состояния сознания. Это биологические
и культурные факты относительно человеческих существ.
Если ранее с помощью своего знаменитого мысленного экспери-
мента «Китайской комнаты» Сёрл стремился показать, что семантика
не является внутренне присущей синтаксису в случае имитации неко-
торой интеллектуальной деятельности (знания китайского языка)2, то
1 Searle J.R. The Rediscovery of the Mind. Cambridge. P. 120.
2 Изложение данного мысленного эксперимента см. в книге Сёрла «Сознание,
мозг и наука», опубликованной в русском переводе в журнале «Путь» (№ 4. 1993.
С. 19—20).
342
теперь он подчеркивает, что синтаксис не присущ «физике». Таким
образом, проблематична даже синтаксическая характеристика мате-
риальной стороны компьютерного устройства (hardware). «Будучи
примененной к вычислительной модели в целом, характеристика не-
которого процесса как вычислительного является характеристикой
физической модели извне. А идентификация такого процесса как вы-
числительного не означает идентификацию некоторой внутренне при-
сущей "физике" черты. Это является, в сущности, зависимой от на-
блюдателя характеристикой»1.
Мозг, пишет Сёрл, представляет собой чисто физический меха-
низм. Наличие «вычислительных» процессов в мозге можно будет за-
подозрить только в том случае, если признать в нем присутствие го-
мункулуса. Ошибочно полагать, будто мозг, подобно компьютерам,
перерабатывает информацию. Утверждая это, теряют связь с биоло-
гической реальностью интенциональности. Рассуждая о внутренних
ментальных феноменах, когнитивисты базируются на додарвиновской
концепции функционирования мозга и антроморфизируют его. Как и
любой другой орган, мозг обладает определенным функциональным
уровнем (или уровнями), который, конечно, можно описывать как
«переработку информации». Но подлинно специфической чертой
мозга является его способность вызывать сознательные мысли, дей-
ствия, воспоминания и прочее. Для понимания этой способности не-
обходимо выявить социальный характер психики, что Сёрл, по его
словам, и собирается делать в дальнейшем.
Концептуальный анализ сознания Э. Кении
Спустя сорок лет после опубликования книги Г. Райла «Понятие
сознания» в Великобритании вышла книга Энтони Кении «Метафи-
зика сознания», оглавление которой в основном повторяет оглавле-
ние книги Райла2. Сделал это автор новой книги не случайно. Ее со-
держание наглядно показывает, что и в новейшей аналитической фи-
лософии сохранились сторонники концептуального подхода к про-
блеме сознания. Как и в свое время Райл, Кении считает наследие
Декарта главным препятствием к адекватному пониманию сознания и
психики, в особенности, если учитывать широкое распространение в
последние годы неокартезианства (в частности, после «менталист-
1 Сёрл Дж. Сознание, мозг и наука//Путь. 1993. № 4. С. 210—211.
2 Kenny A. The Metaphysics of Mind. Oxford, 1992.
343
ской революции» Хомского в 70-е годы). До сих пор многие философы
и психологи отождествляют сферу психического с сознанием
(consciousness), данным нам в интроспекции. Декартова теория соз-
нания намного пережила его теорию материи.
Английский философ подчеркивает, что написал свою книгу с по-
зиции аналитической философии, а его метод был лингвистическим.
Это, однако, не исключает опору в ряде случаев на понятия и идеи бо-
лее ранних течений в философии, например на средневековый аристо-
телизм1.
Кенни напоминает, что главную оппозицию картезианскому дуа-
лизму в XX веке составил бихевиоризм. К счастью, в современной
философии имеется альтернатива этим крайним позициям: такую аль-
тернативу представил поздний Витгенштейн. В отличие от бихевиори-
стов он считал, что ментальные состояния не сводимы к их телесному
выражению; в отличие от дуалистов он не считал, что эти состояния
отделимы от телесного выражения. Внешнее выражение некоторого
ментального процесса служит критерием этого процесса, а не его при-
чиной. Необходимой чертой ментального процесса оказывается то,
что он должен определенным образом проявляться. Критерии, по
Витгенштейну, следует отличать от симптомов. Так, некоторые ней-
ральные события или состояния в мозгу могут быть симптомами мен-
тальных состояний, но не могут быть критериями, как некоторые виды
поведения человека. Например, рассуждает Кенни, не исключено, что
в один прекрасный день те или иные мозговые процессы конкретного
человека можно будет рассматривать как эмпирическое свидетельст-
во знания этим человеком английского языка, но готовность человека
воспользоваться своим английским является не просто симптомом, а
необходимым концептуальным критерием знания им английского.
Менталистские понятия (желание, верование, намерение, мотив,
повод и др.) не могут быть поняты вне их роли в объяснении и разум-
ном представлении поведения других людей. «Само сознание может
быть определено как способность к поведению сложного и символи-
ческого вида, которое конституирует лингвистическую, социальную,
моральную, экономическую, научную, культурную и другие характер-
ные активности человеческих существ в обществе»2. В этом первич-
ном смысле сознание (mind) есть способность (предрасположен-
ность) овладевать интеллектуальными навыками, например умением
1 Kenny A. The Metaphysics of Mind. P. IX.
344
2 Ibid. P. 7.
говорить. Сознание является как волевой, так и когнитивной способ-
ностью, констатирует Кении.
Интеллект, продолжает английский философ, есть способность
исключительно человеческих существ подводить данные чувственного
опыта под универсальные понятия и высказывать о них объективные
суждения. Это способность обладать теми состояниями сознания, ко-
торые проявляют сложную интенциональность, получающую выра-
жение в артикулированном языке. Знаки и жесты становятся симво-
лами благодаря нашему участию в правилосообразной активности
языка, просходящей в процессе взаимодействия с другими людьми.
Поскольку сознание — это совокупность способностей, то ему
нельзя найти определенное местонахождение в теле, например в моз-
ге, указывает Кении. Подчеркивание того, что сознание не является
физическим объектом, не есть дань спиритуализму и признание карте-
зианского «призрачного духа» (понятие, введенное Райлом. — AT.).
Наше поведение — поведение всего тела. Связь сознания и поведе-
ния, в чем проявляется ментальность, концептуальная (необходимая,
критериальная) связь между мозгом и сознанием — не необходимая,
открываемая в эмпирическом исследовании.
Способности, как и другие диспозициональные свойства, пре-
дупреждает Кении, не следует гипостазировать, превращать в подо-
бие субстанций. Структура сознания формируется отношениями меж-
ду способностями. Его главные способности — это способность суж-
дения, волевая способность и интеллект, или способность понимания.
С помощью интеллекта мы схватываем значение слов и предложений,
которые применяем в суждении и волении. Понятие «диспозиция»
обозначает середину пути между способностью и самим действием,
между чистой потенциальностью и полной актуальностью, если ис-
пользовать эти схоластические термины.
В основе многих философских теорий человеческой самости, пи-
шет Кении, лежит грамматическая ошибка — неверное понимание
рефлексивного английского местоимения «self». Очень трудно дать
объяснение логики употребления этого слова (как и слова «я»). Оно
не является указывающим выражением, как это зачастую представ-
ляется. А вот картезианское «эго», утверждает английский философ,
берет начало из смешения способности интеллекта с воображением.
Отождествляя себя с содержанием своего сознания (которое на языке
схоластов называется «фантасмами»), Декарт отождествлял себя со
своим воображением, а не с интеллектом. «Самость» философов
была изобретена отчасти для того, чтобы быть носителем или наблю-
дателем этих секретных мыслей и страстей. Самопознание в соответ-
23-5739 345
ствии с философией самости служит для контроля этой внутренней
жизни1.
В конце книги Кении, как и Райл, рассматривает логику употреб-
ления понятия «знание». Знание, пишет он, есть способность особо-
го рода, а не состояние. Не всякое знание проявляется в поведении.
Зная что-либо, мы способны разнообразными путями модифициро-
вать наше поведение в соответствии с поставленными целями. Обла-
дание знанием категориально отличается от понятия «хранение ин-
формации» (в смысле теории коммуникации). Структура может хра-
нить некоторую информацию, не имея никакого знания. Содержать
информацию — значит быть в определенном состоянии, но не обла-
дать диспозициональным свойством.
Кении в целом удалось сохранить и подкрепить антисциентист-
скую установку Райла на разработку «логической географии» наших
знаний о психических процессах. Он убежден, что именно концепту-
альный анализ того, как мы употребляем слова ментального словаря,
способствует преодолению всевозможных заблуждений и недоразу-
мений, которые появились в последние годы в связи с бурным разви-
тием ряда научных дисциплин, связанных с объяснением процессов
знания, понимания, памяти, принятия рациональных решений, моде-
лирования интеллектуальной деятельности и пр. Причем это отнюдь
не делает устаревшей длящуюся многие десятилетия полемику анг-
лоязычных философов с Декартовой моделью сознания и ее более со-
временными интерпретациями.
Философский анализ и метафизика
Позитивное отношение к метафизической проблематике, сложив-
шееся в аналитической философии еще в конце 50-х годов, продолжа-
ет оставаться характерным и для философии наших дней, о чем свиде-
тельствуют хотя бы вышеприведенные споры о сознании. Один из
пионеров реабилитации метафизики Питер Стросон в своей книге
«Анализ и метафизика»2 обобщает идеи, высказанные им в предыду-
щих произведениях, и более четко формулирует свою линию в рамках
общего аналитического подхода. Он исходит из того, что фило-
соф-аналитик занимается собственно концептуальным анализом и не
1 Kenny A. The Metaphysics of Mind. P. 95.
2 Strawson P.F. Analysis and Metaphysics. An Introduction to Philosophy. Oxford,
1992.
346
предлагает принципиально нового видения проблем, как это делали
ведущие континентальные философы на протяжении XX века. Прав-
да, отмечает Стросон, сложился и другой образ аналитика как «тера-
певта», якобы лечащего различные интеллектуальные заболевания.
Но это односторонний подход, не реализующий главную цель фило-
софского анализа. Ведь неполадки возникают лишь тогда, когда поня-
тия отрываются от их действительного употребления. «Философ
стремится разработать систематическое объяснение общей концеп-
туальной структуры, которой, как показывает наша повседневная
практика, мы неявно и бессознательно владеем»1. Таким образом, за-
дача, стоящая перед аналитиком, как ее понимает Стросон, является
прежде всего конструктивной, а не разрушительной.
Подобно тому, как ранее Стросон отверг редукционную версию
философского натурализма2, он в «Анализе и метафизике» критиче-
ски рассмотрел редукционную (атомистическую) модель анализа, до
сих пор популярную среди англо-американских философов. Такая мо-
дель предполагает разложение чего-то сложного на элементарные со-
ставляющие и показ того, как эти элементы относятся к целому. Более
же плодотворна, на взгляд английского философа, связующая
(connective) модель анализа: она прослеживает связи в системе, а не
сводит сложное к простому.
Постижение значения теоретических понятий наук, указывает
Стросон, предполагает владение дотеоретическими понятиями обы-
денной жизни, имеющими диспозициональный характер. «Поэтому
наши понятия типов индивидуальных вещей или субстанций суть поня-
тия с характерными диспозициями к действию или реагированию опре-
деленным образом при определенных видах обстоятельств»3.
Структура, конституирующая каркас обычного мышления и речи, со-
стоит из общих, всепроникающих и несводимых к чему-то другому по-
нятий-типов, то есть имеются такие структурные черты нашего
опытаг которые существенно необходимы для понимания содержания
этого опыта. Три плана описания базисной структуры будут включать
общую теорию бытия (онтологию), общую теорию познания
(эпистемологию) и общую теорию предложения, то есть того, что
может быть истинным или ложным (логика).
1 Strawson P.F. Analysis and Metaphysics. An Introduction to Philosophy. P. 7.
2 Strawson P.F. Skepticism and Naturalism: Some Varieties. N. Y., 1985.
3 Strawson P.F. Analysis and Metaphysics. P. 121.
23* 347
В эпистемологии, по Стросону, главный вопрос звучит так: как
употребляющий понятия человек формирует свои убеждения относи-
тельно реальности? Базисное понятие истины служит связующим
звеном между теорией познания и теорией лингвистического значе-
ния. Другое важное связующее звено — понятие понимания пред-
ложений, схватывания их «истинностных условий» (ситуаций, при
которых они либо истинны, либо ложны).
Есть и множество онтологических вопросов, которые имеют отно-
шение к основополагающим логическим понятиям. Так, согласно
Стросону, первейшая цель аналитического исследования — связать
понятия пространственности и временности с логическим понятием
индивидуального объекта. Эта связь — базисная черта нашей врож-
денной концептуальной структуры. Начиная со своих ранних произве-
дений, английский философ подчеркивает, что пространственно-вре-
менные объекты («партикулярности») являются в своей основе ис-
ходными объектами референции или субъектами предикации. Ис-
пользующий понятия человек всегда осознает себя в мире в
определенной точке пространства и в какой-то момент времени. По-
нятие о таком пространственно-временном опыте и есть, согласно
Стросону, наиболее общая форма понятия чувственного воспри-
ятия.
Наш перцептуальный опыт насыщен понятиями, употребляемы-
ми в суждениях об объективном мире1. Одни и те же понятия необхо-
димы как для описания опыта, так и для описания внешнего мира.
Концептуальная схема служит основой для приписывания простран-
ственно-временным объектам (телам) чувственных качеств. Фунда-
ментальный характер этих «индивидов» отражен в языке, ибо они яв-
ляются исходными референтами существительных и производных от
них фраз.
В психике любого рационального существа, полагает Стросон,
связаны элементы верования, оценки (или желания) и интенциональ-
ного действия. Обучение людей природе вещей в процессе опыта —
это обучение возможности действовать с вещами. Связь когнитивно-
го, концептуального и поведенческого обязательно имеет место в том
или ином социальном контексте. Складывание у каждого из нас сово-
купности верований или индивидуальной картины мира есть результат
нашей открытости и взаимодействия с миром, включающего и те «ин-
струкции», которые мы получаем от других членов сообщества в про-
цессе жизнедеятельности.
1 Strawson P.F. Analysis and Metaphysics. P. 62.
348
Стросон делает радикальный для аналитика вывод, заявляя, что
британская эмпиристская традиция в философии, основанная на уста-
новках редукционизма, «атомизма» и феноменализма (теории «чис-
того опыта», «чувственных данных», «перцептов» и пр.), ошибочна.
При этом он отвергает две крайние формы философствования: ин-
тернализм (классический эмпиризм) он называет «ментализмом без
поводьев», а экстернализм — «физикализмом без поводьев». Фи-
лософия, по его мнению, должна опираться на понятие базисных ин-
дивидов, которым можно приписывать как материальные (М-преди-
каты), так и личностные предикаты (Я-предикаты).
В целом позиция Стросона в настоящее время складывается из
следующих составляющих. Во-первых, речь ведется о наличии у лю-
дей врожденной концептуальной схемы, структурирующей весь наш
опыт. При этом английского философа не интересуют вопросы, свя-
занные с генезисом этой схемы или с ее физиологическим механиз-
мом, которые он передает психологам и психофизиологам. Такая схе-
ма есть то, что делает возможным наш опыт (вариант кантианской
трансцендентальной аргументации). Во-вторых, главными понятия-
ми этой схемы являются базисные понятия материальных тел и лично-
стей, с необходимостью находящихся в пространственно-временном
измерении и служащих основой идентификации нами объектов разно-
го рода и языковой референции. В-третьих, (квази)априористский и
иннативистский подход сочетается у Стросона со стремлением учиты-
вать деятельностную сторону бытия людей, их включенность в прави-
лосообразную практику того или иного сообщества, коммуникатив-
но- интенциональные аспекты языка, придающие нашим словам и
предложениям значение. В плане понимания различных сторон чело-
веческой культуры и ее продуктов это открывает перспективный путь
объяснения способов воплощения в культуре как ее универсальных и
неизменных характеристик, так и конкретных проявлений культурных
универсалий в рамках тех или иных «жизненных форм». Именно в та-
ком плане можно говорить о связи последних вариантов стросонов-
ской концепции философского анализа с более широкими вопросами
культуры и мировоззрения.
Философский анализ: классика и современность
Американский философ Берри Страуд в своих работах показыва-
ет, что в конце XX века аналитическая философия в метафизических
вопросах в основном возвращается к истокам. «Я полагаю, — пишет
Страуд, — что аналитическая философия сегодня во многих важных
отношениях ближе к своим корням в первом десятилетии (или около
349
того) нашего [XX. — Ред.]) столетия, чем она была тридцать, сорок
или даже пятьдесят лет назад»1. Сейчас уместно вспомнить, отмечает
он, что Рассел, несмотря на в целом критическое отношение к тради-
ционной метафизике, не отказывался от полного объяснения мира и
достижения «изначальной метафизической истины». Анализ в его по-
нимании означал открытие реальной логической формы вещей или же
вскрытие формы фактов, которые делают истинными наши утвержде-
ния. Философия в таком понимании является тесно связанной с нау-
кой или во всяком случае трудно отличимой от нее. Теперь филосо-
фия, считает Страуд, разделяет подобное понимание. Но эта связь
была восстановлена относительно недавно. Периоды господства идей
Витгенштейна, логического позитивизма и лингвистической филосо-
фии ослабили связь философии и науки.
Новейшая аналитическая философия, заявляет Страуд, безогово-
рочно является метафизической. Она уже не пытается избегать онто-
логических утверждений о том, в чем мы убеждены. Современные фи-
лософы последовательно противостоят пустой, чисто формальной фи-
лософии. Для таких философов, как, например, Уиллард Куайн,
смысл, интенсионал и пропозициональные установки всех видов уже
не составляют часть реальности, они, по его словам, не являются на-
учно респектабельными. Даже те, кто не согласен с Куайном во мно-
гих вопросах, придерживаются расселовского изначального проекта.
Сейчас поиск реальной формы за искусственными грамматическими
структурами ограничен потребностями научной теории. Многое за-
висит от теории, которая лучше всего представляет и объясняет зна-
чения произносимых говорящими предложений. «Метафизикой, —
свидетельствует Страуд, — занимаются снова, со всей силой. Для
Рассела искомой наукой была логика. Он осуществлял эксплицитные
редукции, адекватность которых была лишь вопросом логики. Ны-
нешние "аналитические" философы ищут такую общую теорию языка,
которая наилучшим образом объяснит понимание нами всего, что мы
говорим и думаем о мире в науке и за ее пределами»2.
1 Stroud В. Analytic Philosophy and Metaphysics//Wo steht die Analytische
Philosophie heute? Wien, 1986. P. 58.
2 Ibid. P. 74.
ПРОБЛЕМА МЕНТАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ
В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ПСИХОЛОГИИ
Вопросы, рассматриваемые в настоящей статье, возникли не се-
годня. В той или иной форме их ставили философы и психологи преж-
них поколений. Но именно в наше время сложилась ситуация, когда
оказалось возможным и необходимым всесторонне обсудить статус
понятий и соответствующих им'слов, с помощью которых фиксируют-
ся различные психические (ментальные)1 процессы и состояния, в том
числе состояния сознания.
Широкие дискуссии на эту тему развернулись в западной филосо-
фии психологии в последние 10—15 лет, но, предваряя знакомство с
их итогами, обсудим само выражение «философия психологии». Оно
редко употребляется в нашей психологической и философской лите-
ратуре, хотя само сочетание входящих в него слов, разумеется, вполне
допустимо и, на первый взгляд, мало чем отличается от таких сочета-
ний, как «философия физики» или «философия биологии», ставших
привычными. Кстати, рассматриваемое сочетание сложилось в запад-
ной литературе сравнительно недавно, причиной чему особое, «ин-
тимное» отношение, которое существует между этими дисциплинами.
Вероятно, именно в силу этого обстоятельства философия долгое вре-
мя не могла найти корректного и адекватного подхода к тем исследова-
ниям ментальной сферы, которые со второй половины XIX века про-
водились под эгидой «психологии».
Философия психологии какдисциплина в современном ее понима-
нии наиболее тесно связана с аналитической традицией в западной
философии XX века; она — «кабинетная» дисциплина, занимающая-
ся концептуальными проблемами (например, проблемой познания
«чужих сознаний»), прояснением значения ментальных терминов, са-
мой логикой употребления понятий о психическом, способами аргу-
1 Понятия «психическое» и «ментальное» рассматриваются здесь каксинонимы.
351
ментации в этой области1. Философия психологии при этом относи-
тельно независима от экспериментальных исследований в собственно
психологии. Она не ставит цель дать интерпретацию таких исследова-
ний и уж тем более давать профессиональным психологам рекоменда-
ции по постановке экспериментов и их теоретическому обобщению.
Философия психологии не стремится быть «метафизикой психоло-
гии».
Поскольку математика — ближайшая к философии научная дис-
циплина, примыкающая к ней, так сказать, на другом фланге, будет
уместно провести следующую аналогию. Дело в том, что философия
математики относится к собственно математической практике не не-
посредственно, а обращаясь к содержанию такого ее теоретического
раздела, как основания математики. Именно в последнем наибо-
лее часто происходили кризисы (например, связанный с обнаружени-
ем в начале XX века парадоксов в формализованных системах матема-
тики), требовавшие своего концептуального осмысления и пересмотра
сложившихся подходов. Аналогично и философия психологии относит-
ся к научной практике психологов (включая постановку эксперимен-
тов) через основания психологии2, предполагающие теоретическое
осмысление этой практики и выработку исследовательских ориенти-
ров. Некоторые из кризисов в основаниях психологии (они, естест-
венно, отличаются по своему характеру от кризисов в основаниях ма-
тематики), на наш взгляд, в явной или скрытой форме были связаны с
накоплением противоречий и переоценкой точек зрения по фундамен-
тальной психофизической (психофизиологической) проблеме. Отго-
лоски разных конкурирующих подходов к проблеме улавливаются и в
упоминавшейся современной дискуссии.
У этой дискуссии есть своя предыстория, отдельные примечатель-
ные факты которой хотелось бы выделить. Во-первых, следует
вспомнить знаменитый спор о том, принадлежит ли психология к есте-
ственным или к гуманитарным наукам. Появление во второй половине
XX века новых подходов и методов исследования (психофизика, экс-
1 В этой связи парадигматическими для философов-аналитиков оказались те концеп-
туальные исследования, которые в 40-е годы вел Л. Витгенштейн (см.: Wittgenstein L Last
Writings on the Philosophy of Psychology. V. 1. Oxford, 1980; Wittgenstein L Notebooks
1914—1916. Oxford, 1979). Его идеям в философии психологии посвящена книга
И. Шульте (Schulte J. Experience and Expression. Wittgenstein's Philosophy of
Psychology. Oxford, 1993). Фрагменты соответствующих витгенштейновских текстов в
русском переводе см.: Витгенштейн Л. Заметки о философии психологии//Логос.
No 6. M., 1995.
2 Предмет оснований психологии, однако, пока не столь точно определен, как пред-
мет оснований математики.
352
периментальная психология), казалось бы, давало основание для от-
несения психологии к «объясняющему» естествознанию, что, однако,
было трудно согласовать с интересом психологии к индивидуальным и
неповторимым явлениям, выраженным в ментальных, а не в психофи-
зических терминах. Одни участники спора, приняв методологический
(формальный) критерий разделения, подчеркивали «генерализирую-
щий» характер современной им психологии, сближающий ее с естест-
вознанием, а не с «науками о культуре» (неокантианцы Баденской
школы). Другие (как, например, В. Дильтей и его сторонники), приняв
предметный критерий разделения, видели в «духе» подлинный пред-
мет «описательной психологии», подход которой («понимание»)
принципиально отличен от естественнонаучного объяснения, сводя-
щегося к выявлению каузальных закономерностей и ассоциативных
связей. Надо заметить, что участники спора о предмете психологии
еще опирались на традиционные понятия «духа» и «природы». Одна-
ко наступал «антиметафизический» век, который внес в спор свои
коррективы.
В этой связи в качестве второго исторического примера можно
привести ту концепцию, которую развивал в 20-е годы Б. Рассел1. Это
была решительная попытка преодолеть само противопоставление ис-
следований сфер психического и материального2. Английский фило-
соф исходил из того тезиса, что Вселенная состоит из единого «веще-
ства» (так называемая теория нейтрального монизма). Физическое и
психическое в этом плане различаются лишь особенностями дейст-
вующих в них каузальных закономерностей. Современная физика
(физика пространственно-временных событий), по его мнению, дема-
териализует материю, а современная психология (в основном бихе-
виористская), показывающая зависимость ментального от физиоло-
гии и внешнего поведения, становится все более материалистической
и подлинно научной.
Позиция Рассела, однако, заключала в себе противоречие. В силу
того, что и физика, и психология, как рассуждал он, имеют дело с груп-
пами ощущений и логическими конструкциями из них, психологиче-
ское описание реальности оказывается более фундаментальным. Но
поскольку это описание осуществляется, согласно Расселу, исключи-
тельно в терминах наблюдаемых действий, то в основе оказывается
опять-таки физическая терминология (пусть и «наивной физики»
1 См.: Rüssel В. Analysis of Mind. L, 1920.
2 Справедливости ради следует отметить, что еще до Рассела подобные попытки
предпринимались Э. Махом, У. Джеймсом и американскими неореалистами.
353
здравого смысла, а не теории атомной физики). Таким образом, в тен-
денции теория нейтрального монизма, несмотря на заявления ее сто-
ронников, вела к исключению менталистской терминологии и замене
ее физической. Увлечение философов и психологов этой — отнюдь не
нейтральной — теорией довольно быстро прошло.
В-третьих, одна из наиболее удачных, по нашему мнению, по-
пыток решения проблемы сочетания менталистского и «научного»
подходов была осуществлена в классической работе Г. Райла «Поня-
тие сознания»1. Свою позицию он обозначил как «логический бихе-
виоризм». Эта позиция была направлена на сохранение всего много-
образия менталистского словаря, что, по замыслу Райла, не должно
было вступать в противоречие с преобладавшим тогда «научным» —
бихевиористским — подходом в психологии. Ментальные термины у
Райла переводятся в гипотетические предложения о поведении, ибо
ментальный феномен как таковой сводится им не к актуальному пове-
дению, а к диспозиции (предрасположенности) к некоторому поведе-
нию, реализуемой в определенной ситуации при наличии ряда усло-
вий. К диспозиционной трактовке психики Райл шел через критику
картезианского субстанциального дуализма и субъективно-интрос-
пекционистской модели сознания, в основе которых он видел «катего-
риальную ошибку»2, исправляемую с помощью детального анализа
логики употребления ментальных понятий, учета их специфики.
Вместе с тем, по Райлу, психологическая наука не обладает моно-
полией на постижение психического — таковое доступно каждому,
кто обучился употреблению ментальных понятий, то есть усвоил
практическое «знание — как», а не только теоретическое «знание —
что».
Когда бихевиоризм в психологии начал сдавать свои позиции, это
явилось одним из обстоятельств, не позволивших «логическому бихе-
виоризму», несмотря на все его рациональные моменты, возобладать
в философии психологии. Дело в том, что бихевиористский антимен-
тализм в своей основе предполагал позитивистскую теорию значения
терминов: значимо лишь то, что непосредственно наблюдаемо, что ве-
рифицируется в чувственном опыте субъекта. Райл же продолжил ли-
нию позднего Витгенштейна, связавшего значение слов (в том числе и
1 Ryle G. The Concept of Mind. L, 1949.
2 Согласно Райлу, «дуалистический миф» основывается на мнении, будто понятия
«духовное» и «телесное» принадлежат одной и той же категории (логическому типу), то
есть что они одинаково употребляются. При этом духовному приписываются те же
свойства, что и телесному, только, так сказать, со знаком минус.
354
слов ментального словаря) со способами их употребления в контек-
стах языковой коммуникации, а не позитивистский верификационизм.
Поэтому, строго говоря, кризис бихевиоризма в психологии не дол-
жен был сказаться на его логическом варианте.
В 60-е годы в связи с ослаблением влияния бихевиоризма делают-
ся первые попытки восстановить доверие к ментализму и его термино-
логии. Впоследствии в 80-е годы — сферу ментального и фиксирую-
щих ее слов стали относить к так называемой народной (или обиход-
ной, популярной, folk) психологии. За последние 15 лет конфронтация
«народного» и «научного» подходов обострилась и приобрела новые
черты. В нашей литературе эта ситуация пока еще не получила долж-
ного освещения и оценки.
Под «народной психологией» обычно подразумеваются взгляды и
представления тех, кто использует такие слова из словаря «здравого
смысла», как убеждение, верование, желание, надежда, страх, ожи-
дание, намерение, предпочтение, воспоминание и другие1. В специ-
альной литературе по отношению к этим ментальным словам также
применяется термин, введенный Расселом, — «пропозициональные
установки», но он более характерен для исследования логической
формы наших высказываний о ментальных состояниях («Л полагает,
что...», «ß надеется, что...» и т. п.). В целом «народная психоло-
гия» — тот уровень фиксации ментальных состояний, который досту-
пен любому человеку (в особенности авторам художественных произ-
ведений, выражающим тончайшие нюансы этих состояний), а не толь-
ко психологам. Аналогичного мнения, как мы отмечали, придержи-
вался и Райл.
Возникшая в 70-е годы когнитивная наука (одной из составных
частей которой является когнитивная психология) среди прочих своих
целей указала сохранение и новое обоснование менталистского сло-
варя. Ранние когнитивисты справедливо полагали, что это могло бы
вернуть единство объяснению психического, нарушенное бихевио-
ризмом. Ведь все сферы нашей психологической жизни тесно связаны
с концептуальным каркасом «народной психологии».
Радикальное изменение позиции западных исследователей в пси-
хологии и ее философском обосновании можно наглядно представить
в следующих схемах2 (рис. 1, а, б).
1 См.: Stich S. From Folk Psychology to Cognitive Science. Cambridge, Mass., 1983.
2 Мы несколько модифицировали и дополнили схемы, приводимые Д. Деннетом
(Dennett D. The Intentional Stance. Cambridge, Mass., 1987. P. 64).
355
а б
Рис. 1. Пример бихевиористской модели: черный ящик — прозрачный
мир (а); пример когнитивной модели: черный мир — прозрачный ящик (6)
С точки зрения последовательного когнитивизма, у ментальных
понятий — ментальная, а не поведенческая основа. Некоторые ког-
нитивисты (например, Дж. Фодор)даже говорят, что субъект исполь-
зует lingua mentis (язык ума, мысли), представляющий собой неарти-
кулированный язык ментальных репрезентаций1. Говорящий кодиру-
ет последний в слова естественного языка и с его помощью передает
свои мысли слушающему, который их раскодирует. При этом процес-
сы мышления рассматриваются как процессы переработки информа-
ции. Представители так называемого функционализма (ранний
X. Патнэм и др.) в 60-е годы сформулировали «компьютерную мета-
фору», в соответствии с которой мозг рассматривается как своеобраз-
ное компьютерное устройство (hardware), а психические состояния —
как программы (software)2. С этим направлением тесно связаны ис-
следования в области искусственного интеллекта.
В 90-е годы сверхоптимизм когнитивистов был поставлен под со-
мнение радом авторов. Так, Дж. Сёрл3 полагает, что когнитивистское
«открытие» ментальных процессов на самом деле сводится к обнару-
жению малых «черных ящиков» внутри большого «прозрачного ящи-
ка» (рис. 2).
Когнитивизм, по мнению Сёрла и других критиков, оставляет без
объяснения субъективный характер сознания и психики в целом, ее
интенциональность (как понятие «народаой психологии»), содержа-
тельную сторону мышления — его семантику. Одним словом, когни-
1 См.: Fodor J. The Language of Thought. Cambridge, Mass., 1975; Fodor J.
Representations. Cambridge, Mass., 1981.
2 См.: Putnam H. Psychological Predicate//Art, Mind and Religion. Pittsburgh, 1967.
Впоследствии Патнэм подверг критике свое «изобретение», а также гипотезу lingua
mentis (см.: Putnam H. Why Functionalism Didn't Work//Words and Life. Cambridge,
Mass., 1994).
3 См.: Searle J. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, Mass., 1992.
356
тивистский подход — это не лучшая поддержка мен-
тализма и распространенных представлений здраво-
го смысла о психической жизни.
Кроме того, среди самих когнитивистов есть ан-
тименталистски и сциентистски настроенные авто-
ры. Они подчеркивают научность и строгость когни- д ис°ёрла. ^
тивистского подхода, противопоставляемого нена- ящики» внутри
учной «народной психологии». С. Стич в своих ра- «прозрачного»
ботах доказывает, например, что когнитивные
процессы психики имеют не содержательный (се-
мантический), а сугубо синтаксический характер. Каузальные отно-
шения когнитивных состояний отражают формальные отношения аб-
страктных синтаксических объектов. Культурные же истоки «"народ-
ной психологии", — категорично заявляет Стич, — в прошлом; у нее
нет будущего»1.
В еще большей степени антименталистская ориентация свойст-
венна тем подчеркивающим свою научность подходам, в основе кото-
рых лежит принципиально иная по сравнению с когнитивизмом иссле-
довательская установка. При этом следует учитывать, что сам «крите-
рий научности» того или иного методологического подхода — фактор,
подверженный изменениям в исторической перспективе.
Во-первых, это различные редукционистские теории психоло-
гического. В самом общем виде любой вариант редукционизма пред-
ставляет собой попытку «переложить ответственность» на другого (в
XX в. таким «другим» чаще всего оказывалась физика и ее интерсубъ-
ективный язык). Редукционисты, в частности, сводят ментальное опи-
сание к физическому (в широком смысле слова). Они исходят, напри-
мер, из того, что «народная психология» будет постепенно вытеснена
бурно прогрессирующей нейронаукой. Наиболее известная версия
редукционизма — теория тождества ментальных состояний с состоя-
ниями центральной нервной системы2. В этом плане имеются две
главные трактовки «тождества». Одна из них предполагает радикаль-
ное тождество по принципу «тип — тип» (type — type): любая серия
ментальных состояний полностью сводится к серии физических собы-
тий (процессов в мозге, скажем). Другая трактовка предполагает час-
тичное тождество по принципу «отдельное — отдельное» («token —
1 Stich S. From Folk Psychology to Cognitive Science. Cambridge., Mass., 1983.
P. 229.
2 См.: например, книгу К. Кембел (Campbell К. Boby and Mind. N. Y., 1984). Пер-
вые версии теории тождества появились в 60-е годах в работах представителей «авст-
ралийского материализма» (Ю. Плейс, Д. Смарт, Д. Армстронг).
357
token»): тождество отдельных ментальных событий личностной исто-
рии отдельным событиям телесной истории организма.
Во-вторых, довольно широко известна точка зрения так называе-
мого элиминативного материализма1. Она представляет собой
своеобразное reductio ad absurdum (сведение к абсурду) сциентист-
ского подхода в объяснении психического. В то же время — это и от-
чаянный эксперимент, призванный показать, что ментальных со-
стояний вообще не существует. Интересна тактика одного из наи-
более влиятельных сейчас элиминативистов — американца Пола
Черчленда2. Он исходит из того, что ментализм здравого смысла за-
ключает в себе теорию. В качестве доказательства Черчленд приводит
тот факт, что отношения пропозициональных установок имеют зако-
ноподобный характер. Например, можно с помощью формально-ло-
гической символики выразить такую связь:
(х)(р) [(х боится, что р)=э(х желает, чтобы ~р)], или:
{х) (р) [((х надеется, что р) & (х обнаруживает, что р)) з (х дово-
лен, что р)].
Речь, разумеется, не идет о закономерностях, позволяющих одно-
значно предсказывать и объяснять ментальные явления. Как показал
Д.Дэвидсон3, в отличие от физических ментальные явления аномаль-
ны, т. е. не подчиняются жестким детерминистским законам.
Менталистская теория, заявляет Черчленд, не развивалась на
протяжении тысячелетий: ее современный вариант ничем не лучше
«народной психологии», представленной в драматургии Софокла. Это
плохая теория и дегенерирующая исследовательская программа (тер-
мин методолога науки И. Лакатоша) наподобие алхимии.
В отличие от сторонников тождества духовного и телесного Черч-
ленд не верит в возможность сведения теории «народной психологии»
к нейрофизиологии: первая будет просто элиминирована. В связи с
этим он описывает три возможных сценария подобной элиминации
общеупотребительных категорий естественного языка. И хотя эти
сценарии больше напоминают рискованные сюжеты научной фанта-
стики, само обсуждение экстремальных прогнозов интересно с фило-
софской точки зрения.
1 В разное время ее придерживались Р. Рорти, П. Фейерабенд и У. Куайн.
2 См.: Churchland P.M. Eliminative Materialism and the Propositonal Attitudes//The
Journal of Philosophy. V. LXXVIII. № 2. 1981.
3 См.: Davidson D. Actions and Events. Oxford, 1980.
358
1. Значительная часть людей обучится кинематике и динамике ак-
тивности мозга1. В результате этого любые варианты «народаой пси-
хологии» станут одиозными даже в обыденной жизни.
2. Будет широко освоен «мозговой язык» переработки перцепту-
альной информации. Он намного богаче языка «народной психоло-
гии» и потому способен занять место менталистских терминов в на-
шем здравом смысле. Подобный язык изменит также систему меж-
личностной коммуникации, сделает обмен информацией более эф-
фективным.
3. Общение людей (по существу — мозгов) будет протекать ана-
логично взаимодействию двух полушариев мозга. Это будет непропо-
зициональная коммуникация: нужда в словах и словосочетаниях есте-
ственного языка вообще отпадет. В библиотеках книги будут замене-
ны сообщениями примеров нервной активности мозга.
Разумеется, широкая (в некотором смысле, скандальная) извест-
ность доктрины элиминативного материализма еще не означает, что у
нее много сторонников. Скорее она стимулировала дискуссию о прин-
ципиальной возможности (или невозможности) подобных сценариев.
В ходе дискуссии были сделаны новые попытки оправдать «народную
психологию» и показать ее совместимость с научным подходом (или,
по крайней мере, отсутствие между ними неразрешимого противоре-
чия). Д. Деннет, к примеру, подчеркивает взаимопереплетение и сис-
темность ментальных понятий, составляющих важный элемент наше-
го «жизненного мира». Многие из таких понятий имеют нормативный
характер и связаны с осознанием нами самих себя как личностей и мо-
ральных агентов. «Народную психологию» этот американский фило-
соф и психолог рассматривает как инструментальное исчисление мен-
тальных понятий, имеющих предсказательное значение для субъекта,
находящегося в той или иной «интенциональной позиции»2. При
этом Деннет считает, что ментальные понятия не соответствуют ни-
1 В данной статье нет необходимости детально раскрывать содержание научной
программы, разрабатываемой исследовательской группой Черчленда в Калифорний-
ском университете г. Сан-Диего. Обратим внимание на такую любопытную аналогию: в
30-е годы радикальная образовательная программа венских логических позитивистов
(М. Шлик, О. Нейрат и другие) предполагала, что процесс обучения нового поколения
должен начинаться и основываться на «протокольных предположениях», фиксирую-
щих непосредственный чувственный опыт субъекта. Судьба этого педагогического про-
екта хорошо известна — он не осуществился.
2 См.: Dennett D. Three Kinds of Intentional Psychology//Reduction, Time and
Reality. Cambridge, 1975; Dennett D. The Intentional Stance. Cambridge, Mass., 1987;
Dennett D. Consciousness Explained. Boston, 1991.
359
какому актуальному физическому или функциональному состоянию
организма.
Нетрудно заметить, что за спасение «народной психологии» от
сциентистской критики пришлось дорого заплатить. Не случайно оп-
поненты Деннета приравняли ментальные понятия в его инструмента -
листской интерпретации к лишенным денотата понятиям типа «фло-
гистон», а сами его рассуждения — к печально известному разъясне-
нию Осиандером коперниканской теории как сугубо условного по-
строения1.
Представляется поэтому разумным попытаться наметить иную
стратегию в решении проблемы соотношения «народного» и «науч-
ного» подходов, противостоящую как дуализму, так и редукционист-
скому физикализму. Речь идет именно о концептуальном решении
концептуальной проблемы, а не о выработке конкретной программы
психологических исследований, хотя такое решение в известном
смысле затрагивает теоретические принципы оснований психологии.
Такая стратегия будет основываться на некоторых идеях филосо-
фии психологии позднего Витгенштейна, в частности, на логике «сим-
птомов» и «критериев»2. В соответствии с ней ментальные состояния
несводимы к доступным внешнему наблюдению телесным процессам,
но при этом не могут быть и совершенно отделены от последних. Кон-
цептуальная, а не каузальная связь ментального и телесного закреп-
ляется в естественном языке с помощью лингвистических конвенций,
складывающихся в процессе совместной практики членов того или
иного сообщества.
Критерий — явление, служащее внешним выражением менталь-
ного процесса и позволяющее прояснить его значение. Внутренний
процесс, говорил Витгенштейн, нуждается во внешнем критерии. Так,
понять значение слова «боль» означает понять его концептуальную
1 Stick S. From Folk Psychology to Cognitive Science. Cambridge, Mass., 1983.
P. 245—246.
2 В «Голубой книге» Витгенштейна (1934) есть следующее рассуждение, которое
мы приводим полностью: «Давайте введем два антитетических термина, чтобы избе-
жать элементарной путаницы. На вопрос: "Откуда ты знаешь, что то-то и то-то имеет
место?" мы иногда отвечаем, давая "критерии", а иногда — "симптомы". Если меди-
цинская наука называет ангину воспалением, вызванным определенной бациллой, и мы
в конкретном случае спрашиваем: "Почему ты говоришь, что у этого человека ангина?",
тогда ответ: "Я нашел бациллу того-то и того-то в его крови" дает нам критерий, или то,
что мы можем назвать "определяющим критерием" ангины. Если же, с другой стороны,
ответ был: "Его горло воспалено", то это могло бы дать нам симптомы ангины. Я назы-
ваю "симптомом" феномен, в отношении которого опыт научил нас, что он совпадает
тем или иным образом с феноменом, являющимся нашим определяющим критерием»
(Wittgenstein L The Blue and Brown Books. N. Y., 1958. P. 24—25).
360
связь с определенным телесным выражением состояния человека (на-
пример, поднесение руки к щеке может служить критерием наличия
зубной боли). Постижение этой связи не требует специального эмпи-
рического исследования, скажем, бихевиористской фиксации соот-
ветствующих стимулов и реакций1. Она доступна каждому, владею-
щему ментальным словом «боль», следующему правилам определен-
ной «языковой игры» с этим словом. Любая такая «игра» представляет
собой сложное переплетение лингвистических и нелингвистических
действий субъектов.
С логической точки зрения, критериальная связь внешних и внут-
ренних процессов не является необходимо аналитической — скорее,
это нечто вроде аналитического a posteriori, то есть это достаточно
жестокая связь явлений, которая, однако, может нарушаться в случае
постоянного отклонения от следования правилам той или иной «язы-
ковой игры»2. «Мой метод, — писал Витгенштейн, — не в том, чтобы
отделять твердое от мягкого, но .в том, чтобы увидеть твердое в мяг-
ком»3.
Эмпирически наблюдаемая, но не закрепленная лингвистически-
ми конвенциями связь дает лишь симптомы. В применении к рассмат-
риваемой в данной статье проблематике можно сказать, что мозговые
явления способны быть симптомами ментальных состояний, но не их
критериями, а это, в свою очередь, служит аргументом против теорий
полного или частичного тождества ментального и телесного. Скажем,
нейрофизиологические процессы могут быть симптомами владения
тем или иным иностранным языком, но сама способность пользовать-
ся этим языком — определяющий критерий знания языка, то есть
ментальное понятие «знание языка» нельзя определить без ссылки на
определенное поведение, служащее критерием такого знания, но
1 Вопреки довольно распространенному мнению, Витгенштейн не был бихевиори-
стом. Для него «грамматика» (так он называл способ употребления любого слова) сло-
ва «боль» все же иная, нежели «грамматика» фразы «внешнее выражение боли». Он
допускал возможность говорить в определенных контекстах о «внутреннем» и менталь-
ном, но был против представлений психологов и философов об особых духовных про-
цессах, якобы сопровождающих все человеческие действия.
2 Подчеркивая фундаментальный характер «игр», поздний Витгенштейн называл
их «формами жизни» (термин, вероятно, заимствован у Э. Шпрангера). О понимании
связи языковой и иных форм деятельности в концепциях витгенштеинианцев см. главу
«Проблемы сознания, языка и деятельности в аналитической философии после Витген-
штейна» настоящей книги. В этих концепциях на основе реконструкции смысла отры-
вочных высказываний Витгенштейна по психологическим вопросам обосновывается
новая исследовательская парадигма, альтернативная редукционизму.
3 Wittgenstein L Notebooks 1914—1916. Oxford, 1979. P. 44.
24-5739 361
можно определить без указания на те или иные процессы в мозге1.
При этом ментальное событие не сводится к своему критерию.
С учетом сказанного можно прийти к заключению, что «народ-
ный» и «научный» подходы к психическому в методологическом плане
способны дополнять друг друга, представляя, так сказать, теорию
макро- и микроуровней, которые в равной степени фундаментальны.
Это позволит преодолеть наметившуюся в последние годы конфрон-
тацию названных подходов. Из прагматических соображений допусти-
мо делать акцент либо на одной теории, либо на другой. На каждом из
этих двух уровней действует своя уникальная логика употребления по-
нятий. Так, на «народном» уровне находит применение интенсиональ-
ная (смысловая) логика употребления интенциональных понятий2. На
«научном» уровне — каузальная логика нейрофизиологических по-
нятий. Но при взаимодействии двух теоретических уровней уместно
применять именно витгенштейновскую логику критериев, что позво-
лит избежать ошибочных решений психофизиологической проблемы
и других связанных с ней проблем. Сказанное также свидетельствует,
что современная философия психологии должна быть связана с фило-
софией языка и пользоваться логическим аппаратом. И для собствен-
но психологической науки не менее важно то, как мы говорим о психи-
ческих процессах, в каких терминах их фиксируем и описываем.
На основе экспликации логической грамматики указанных теорий
в принципе возможен как перевод ментальных терминов в нейрофи-
зиологические, так и обратный перевод. Взаимодополняющий харак-
тер этих терминов позволяет избегать крайностей редукционизма, ибо
уже не будет необходимости перекладывать ответственность на «дру-
гого». Сохраняется вся палитра ментальных понятий, на основе кото-
рых осуществляется межличностное взаимодействие. Исследования
на том и другом уровне могут идти параллельно. Интроспектив-
но-субъективное описание «душевной жизни» и строго «научное»
объяснение сущности психических процессов более не конкурируют и
вместе углубляют познания человека о самом себе.
1 См.: Kenny A. The Metaphysic of Mind. Oxford, 1989. P. 5.
2 См.: Searle J. Intentionality. Cambridge, 1983.
«ПОСТМОДЕРНИЗМ ВЗБОДРИЛ
АНАЛИТИЧЕСКУЮ ФИЛОСОФИЮ...»
ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ с ЛОГОС» (1999)
«Логос»: Александр Феодосиевич, расскажите, что Вы закан-
чивали, у кого учились.
Александр Грязнов: Сразу после окончания философского фа-
культета МГУ, в 71 -м году, я остался работать здесь, на кафедре исто-
рии зарубежной философии. На учителей мне везло: у нас преподава-
ли В.Ф. Асмус, Ю.К. Мельвиль, И.С. Нарский, А.М. Каримский. Не-
посредственным же своим учителем я считаю Алексея Сергеевича Бо-
гомолова.
— Каковы Ваши историко-философские интересы?
— Во-первых — это история англо-американской философии
XVIII—XX вв. В 70—80-е годах я участвовал в издании текстов Берк-
ли, Юма, Рида, британских философов-моралистов XVIII века, Уайт-
хеда. Тогда же вышла моя небольшая монография по философии
Шотландской школы. Другой период моей деятельности связан с ув-
лечением идеями Людвига Витгенштейна. Пик этого моего интереса
пришелся на конец 80-х годов: были написаны ряд статей, две моно-
графии, учебное пособие. В последние годы занимаюсь проблемой
сознания в современной философии. По своим интересам все более
отдаляюсь от «чистой» истории философии. Осваиваю проблематику
когнитивной науки, искусственного интеллекта. Это не только акту-
ально и увлекательно, но и, как оказалось, способствует выработке
новых подходов к традиционным проблемам классической эпистемо-
логии.
— Ваше мнение о так называемой философии постмодерниз-
ма?
— Прежде всего следует отметить наше отставание в плане изда-
ния и перевода литературы, связываемой с этим направлением. Ведь
многое из того, что у нас сейчас воспринимается как новинки, было
написано в 60—70-е годы. Основополагающие произведения Дерри-
24* 363
да, к примеру, были написаны еще в середине 70-х; Фуко, который
сейчас активно переводится, умер в 84-м.
Вообще же я замечаю две тенденции отношения к этой филосо-
фии: и у нас, и на Западе. Первое — просто нежелание воспринимать
постмодерн как нечто, составляющее конкуренцию серьезной акаде-
мической философии (а таковой в англосаксонских странах считается,
конечно, аналитическая традиция). Второй тип отношения — по-
пытки все-таки найти какие-то точки соприкосновения философского
постмодернизма и «старых» школ. Американцы, например, начали
осваивать постмодернистские тенденции значительно раньше нас — с
70-х годов. Хотя процесс этот в целом происходил у них достаточно бо-
лезненно.
— Как бы Вы определили само понятие «постмодернизм»?
— Я бы не стал здесь впрямую давать какого-либо определения,
тем более строгого. В этом вопросе мне близка идея Дильтея о том,
что за всеми сменами философских мод и парадигм стоят такие про-
стые и, казалось бы, мимолетные вещи, как настроения. И в основе
постмодернизма лежат определенные умонастроения, которые специ-
фическим образом рационализируются и концептуализируются.
— Но тогда как Вы охарактеризуете эти умонастроения?
— Как еще один вариант философского поворота к языку.
Классическая философия, как известно, недооценивает значение язы-
ка для философии. Этот ее недостаток осознается лишь в XX веке. В
этом веке не случайно появляются лингвистически ориентированные
варианты герменевтики, аналитическая философия. И для этих тече-
ний характерно пристальное внимание к языку, понимание его осно-
вополагающей роли в культуре, а не только как средства передачи
«идей». И даже феноменология, в своем традиционном виде не уде-
лявшая большого значения языковой проблематике, — будучи при-
витой на американской почве, мало чем отличается от преобладающе-
го в США концептуального анализа. В городе Баффало, например,
есть журнал «Философия и феноменологические исследования», ко-
торый начинал издавать ученик Гуссерля Марвин Фарбер. Этот жур-
нал стилистически не отличается от аналитических изданий, хотя в те-
матике, пожалуй, еще сохраняются некоторые отличия.
Но постмодернизм идет еще дальше в освоении этой проблемати-
ки. Если в первой половине XX века главным был все-таки предмет-
но-объектный уровень исследования (а язык при этом понимался
как значимое средство анализа), то теперь осуществляется рефлек-
сия над самими приемами анализа объектов. Постмодернизм уже за-
дается вопросом: а может быть язык обладает еще большей автоно-
мией, может быть, это сфера, которая сама навязывает предмету его
структуру?
364
Кроме того, положительную сторону постмодернизма я склонен
видеть в том, что он напоминает о гуманитарных корнях филосо-
фии, о литературном дискурсе, о нарративе, диалоге, риторических
тропах и пр. Очень важным оказываются процессы чтения, раскоди-
рования знаков, идеи о том, что читатель может понимать произведе-
ние возможно даже лучше автора ( кстати, это еще дил ьтеевская идея ).
Как в свое время Куайн, Гудмен, У. Селларс и другие показали гибкую
связь и взаимопереходы между философией и специальными (прежде
всего естественными) науками, так теперь постмодернисты указыва-
ют и на литературную грань философии.
Однако я бы выделил и две негативные, на мой взгляд, тенденции
современной, постмодернистски «настроенной» философии. Во-пер-
вых, это стремление в любой позитивной философской концепции ви-
деть только скрытые идеологемы и мифологемы. Это напоминает то,
что когда-то делал фрейдизм. И как невозможна была дискуссия с
фрейдистами (поскольку они тут же «разоблачали» своих оппонен-
тов, обнаруживая у них скрытые комплексы), так и сейчас весьма за-
труднена даскуссия академической философии с постмодернизмом.
Во-вторых, если видеть весь мир только как текст (а на это прямо ука-
зывает тот же Деррида), то утрачивается специфика философии. То-
гда мы получим просто ликвидацию традиционных философских про-
блем, сродни подходу позитивистов.
— Странным образом постмодернизм у Вас оказывается очень
близок к позитивизму...
— Ничего странного. Именно: рефлексия по поводу способов ана-
лиза философских проблем может затмить все и привести к некоему
новому варианту позитивизма (что-то вроде метаметапозитивизма).
— А как эти проблемы решаются в контексте близкой Вам ана-
литической философии?
— Как раз концептуальный анализ, на мой взгляд, занимаясь ис-
следованием средств выражения в философии, вместе с тем сохраняет
традиционную (метафизическую) проблематику философии. Это
лишь в относительно короткий позитивистский период аналитической
философии (Венский логический позитивизм и пр. ) главным ее лозун-
гом была борьба с метафизикой. Современный же концептуальный
анализ не имеет ничего общего с таким радикальным позитивизмом.
Межау прочим, во всех англосаксонских университетах метафизика
преподается как отдельная дисциплина. Только теперь традиционные
проблемы ставятся в тесной связи с современными приемами логи-
ко-семантического анализа. Поэтому аналитическая философия по
своей сути ни в коем случае не антиметафизична.
Кстати, у самих аналитиков существуют два разных взгляда на
судьбу аналитической философии. Одни (Рорти, Решер) считают, что,
365
зародившись в начале XX века, аналитическая философия заканчива-
ется в конце этого века. Другие же — их абсолютное большинство —
считают, что это философию будущего.
К упущениям аналитической философии я бы отнес отсутствие у
нее историко-философской рефлексии. Дело в том, что аналитиче-
ская философия не может дать развернутую и адекватную оценку сво-
ей собственной истории развития. За аналитиков эту задачу зачастую
выполняют представители других течений.
— Какими же Вам представляются нынешние взаимоотноше-
ния аналитической философии и постмодернизма?
— Применительно к англосаксонским странам здесь еще рано го-
ворить о широкомасштабной дискуссии между академической и
не-академической философией (постмодернизм локализован вне ака-
демической сферы, по крайней мере, вне большинства философских
отделений университетов). В США, насколько я знаю, существует
один-единственный аналитик, который последовательно ведет эту
дискуссию, — Джон Сёрл из Калифорнийского университета в городе
Беркли (автор книги «Сознание, мозг и наука», опубликованной в
моем переводе в 1993 году). В целом же такая дискуссия почти отсут-
ствует. В Англии, например, около 90% философов ориентируются на
концептуальный анализ. В США, правда, ситуация более плюрали-
стичная. Но и там примерно 70% философов близки аналитической
традиции. Хотя один из центральных американских университетов в
Беркли — знаменитый политическим и культурным радикализмом
студентов и еще большим радикализмом преподавателей — хранит
теплые воспоминания о Мишеле Фуко, который в 1983 году читал там
свой последний курс лекций. Нередкий гость там и Жак Деррида. А
вот, например, на отделении философии в университете Детройта с
гордостью говорят, что у них нет ни одного постмодерниста. И боль-
шинство преподавателей американских отделений философии на-
строено именно таким образом.
Вообще же имеет место ситуация, которую Кант в свое время на-
звал «спором факультетов». Только теперь спор идет между факуль-
тетами философии и английского языка. Дело в том, что постмодерн
обосновался именно на отделениях английского языка и литературо-
ведения. Когда в университете Беркли попросили прокомментировать
эту ситуацию Жака Деррида, он произнес скандальную фразу: «По-
скольку у вас сейчас философствуют на отделениях английского язы-
ка, то я не вижу необходимости в существовании особого философ-
ского отделения». Подобные факты свидетельствуют, что на аналити-
ческую философию идет довольно широкое наступление извне, как со
стороны нефилософских гуманитарных факультетов, так и просто из
не-академической среды. Это внешне напоминает тенденцию XIX
366
века, когда, например, Милль или Спенсер, будучи «властителями
дум» широкой либеральной интеллигенции, сами никогда не препода-
вали в университетах.
— То есть университетская философия сейчас находится в пла-
чевном состоянии?
— Ну, я бы так не сказал. Как показывают ежегодные конферен-
ции АРА (Американской Философской Ассоциации), и сами аналити-
ки постепенно покидают ту башню из слоновой кости, в которой они
долгое время находились. Они сейчас осваивают новые проблемные
области. Если раньше лидирующими дисциплинами в философском
анализе в разное время были философия логики, эпистемология, фи-
лософия языка (не путать с лингвистической философией), то в по-
следние годы на передний план выходит философия сознания. Она
захватывает и проблемы когнитивной науки (включая и когнитивную
психологию), и новомодную тему искусственного интеллекта, и лин-
гвистику; некоторыми гранями аналитическая философия соприкаса-
ется с информатикой, которая сейчас стала неотъемлемой частью на-
шей жизни.
Вообще же, я думаю, взаимоотношения постмодернистски ориен-
тированной философии и аналитической традиции далеко не одно-
значны. Конечно, на институциональном уровне налицо явная кон-
фронтация. И конечно, при приеме на работу в американский универ-
ситет того, кто способен осуществлять концептуальный анализ реаль-
ной проблемы, предпочтут тому, кто способен только разоблачать и
деконструировать. Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что по-
стмодернизм в некотором смысле взбодрил аналитическую филосо-
фию. Я полагаю, что согласие и заинтересованный диалог этих двух
направлений — в будущем, но не думаю, что это будет очень скоро...
Впрочем, уже сейчас можно упомянуть ряд содержательных ра-
бот, посвященных сближению этих двух позиций. Например, есть две
книги, одна из которых называется «Витгенштейн и Деррида», дру-
гая — «Деррида и Витгенштейн». Автор первой из них — америка-
нец Стейтен, который идет именно от литературной теории, автор вто-
рой — философ из университета в Баффало Ньютон Гарвер.
— Какие мыслители, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влия-
ние на современную западную философию?
— Здесь я сошлюсь на статью философа из Питтсбурга Николаса
Решера, опубликованную в моем переводе, — «Американская фило-
софия сегодня». Решер говорит о том, что за пределами академиче-
ской среды в США чистый концептуальный анализ стал очень многих
радражать. Он приводит поразительную статистику на 1993 год, со-
гласно которой из отечественных философов в американской литера-
туре наиболее часто упоминается Рорти (684 раза), а Куайн или Пат-
367
нэм — соответственно 502 и 461 раз. Из «континентальных» фило-
софов на первом месте Деррида (более 1982 упоминаний), затем Ха-
бермас ( 1124). Влияние последнего в англоязычном мире вообще не
подвержено колебаниям. Третьим идет Рикёр (703). Как видим, нали-
цо явный количественный перевес западноевропейских авторов.
Лично мне любопытно следить за философской эволюцией взгля-
дов Ричарда Рорти. Дело в том, что у нас Рорти сейчас популярен вне
учета его положения в американской философии. Но ведь интересно и
то, как он воспринимается у себя в стране. Начинал Рорти как один из
ведущих — и наиболее «жестких» — философов-аналитиков: среди
прочего издал антологию «Лингвистический поворот», которая поды-
тожила развитие аналитической философии к концу 60-х. Но к сере-
дине 70-х, впитав веяния континентальной философии, Рорти стано-
вится одним из самых яростных критиков анализа и вообще академи-
ческой философии. В результате он был буквально «изгнан» из акаде-
мического философского сообщества: сейчас работает на отделении
гуманитарных наук Вирджинского университета...
— То есть Вы усматриваете некий «двойной стандарт» в фило-
софских пристрастиях Рорти?
— Нет-нет, речь идет о естественной эволюции его философских
взглядов. И я думаю, это связано с тем, что Рорти в свое время очень
хорошо увидел тот мировоззренческий вакуум, который образовался
вокруг академической философии. Кроме того, ему были свойственны
и некоторые крайние точки зрения: одно время он был сторонником
такого течения, как элиминативизм. Согласно этой точке зрения, не
существует никаких ментальных, духовных явлений, — есть только
нейрофизиологические явления. Но позднее он от этого совершенно
отошел и начал говорить о философии как о «голосе в разговоре чело-
вечества», его заинтересовал диалог, воспитательное значение фило-
софии...
— Вы лично встречались с Рорти. Как он сам объясняет такое
разнообразие своих философских увлечений?
— Когда я его об этом спрашивал, он назвал элиминативизм
ошибкой молодости, а относительно термина «воспитательная фило-
софия» сказал, что им теперь не пользуется. В настоящий момент он
уже прошел этап увлечения постмодерном и Хайдеггером. Теперь он
говорит о возвращении к национальной философской традиции праг-
матизма и проповедует это за пределами академической сферы.
Поэтому относительно Рорти всегда надо уточнять, «Рорти» како-
го периода имеется в виду: он очень быстро эволюционирует. И нужно
учитывать двойственность отношения к нему в США: с одной сторо-
ны, огромный интерес людей, не принадлежащих академической тра-
368
диции, с другой — резкие и обидные для него памфлеты в аналитиче-
ских журналах...
— Давайте вернемся сюда, в Россию, даже раньше: в СССР...
Можно ли сказать, что 70 лет коммунистической власти являются
потерянными временем для философии в нашей стране?
— Ни в коем случае. Ведь абсолютный идеологический контроль
над умами невозможен. Конечно, уже к середине 30-х со школами, за-
рождавшимися в 20-е, было покончено. Отечественная философия
приняла однобокий характер. Официальная философская традиция
была крайне усредненной и выражалась в очень обтекаемых формах.
Говоря языком Поппера, публиковавшиеся работы были нефальси-
фицируемы. Причем даже идеи классиков марксизма были предельно
упрощены. Это, так сказать, традиция учебника. Интересно, что отно-
шение к неортодоксальному марксизму (так называемые ревизиони-
стские течения) было еще более жестким, чем к остальной «буржуаз-
ной философии». Я имею в виду философию группы «Праксиса»,
позднего Сартра и т.д.
С другой стороны, в 70-х годах (я не говорю сейчас о тяжелых 40-х
и 50-х) существовали две не совсем ортодоксальные продуктивные
тенденции. Правда, между ними тогда сформировалась совершенно
не нужная, на мой взгляд, оппозиция. Речь идет о линии в философии
науки (которую на Западе не совсем верно называют «советским ки-
бернетизмом») и о, так сказать, псевдогегельянском течении («иль-
енковцы» и пр.). В философии науки в то время была наибольшая
свобода мнений, была возможность воспринимать новые идеи зару-
бежной философии. В этой области мы тогда были на уровне совре-
менных западных исследований.
Но с усилением влияния постмодернизма в последние годы эта
традиция начала ослабевать, а ведь в ней содержатся важные элемен-
ты философской рациональности, которые нужно обязательно сохра-
нять. Конечно, рациональность — это иногда и сокрытие некоторых
моментов, и постмодернизм разоблачает это сокрытие. Но рацио-
нальность не должна быть уничтожена, а традиционная философия
забыта. И, кстати, у самого-то Делеза, например, я часто нахожу точ-
ное знание и осмысление фактов истории философии. А Деррида пре-
красно знает и классическую литературу, и классическую филологию.
Так что сами отцы постмодернизма прекрасно усвоили традицию...
— Возможна ли, на Ваш взгляд, философия в России сейчас?
Согласитесь ли Вы с квалификацией современной философской си-
туации в нашей стране как ситуации кризиса?
— Нет, я бы не давал столь трагической оценки. Все-таки здесь
ситуация значительно лучше, чем в экономике. И не только потому,
369
что количество переводов и комментариев рано или поздно перейдет в
новое качество философии (я, однако, не думаю, что это будет очень
скоро). Дело в том, что и в мировой философии наблюдается переход-
ная ситуацияю Сейчас не время отдельных гениальных интуиции, аб-
солютно новых идей, не время великих «учителей» философии. Сей-
час время кропотливой работы по сохранению уже сделанного. Нужен
перевод традиционных проблем на новый язык. Но не через отказ от
традиции! Ведь сейчас, например, снова на первый план выходят про-
блемы сознания, психофизиологического дуализма, монизма, эволю-
ционные идеи. Упомянутые, казалось бы, уже давно пройденные темы
сейчас снова возвращаются. И это именно творческая работа, а не ка-
кая-то второсортная переработка уже созданного.
— Итак, если подытожить тему «современная философия и
строгий анализ»...
— Конечно, концептуальный анализ более строг и точен, более
внимателен к значению понятий, к структуре аргументации. У анали-
тической философии громадный потенциал, она восприимчива к са-
мой широкой проблематике. Анализ ни в коем случае не должен быть
отброшен. Но нельзя и просто выносить за скобки новейшие тенден-
ции: дескать, свихнулись, ну и Бог с ними. Подобные тенденции надо
знать и вести с ними конструктивную полемику. Ведь очевидно, что
эти идеи захватывают все большее число людей. Об этом свидетельст-
вует уже такой внешний показатель, как западный книжный рынок:
постмодернистские книжки с яркими обложками просто теснят более
скромные аналитические издания, их объективно больше.
Так что строгий концептуальный анализ, будучи дополнен разум-
ной постмодернистской рефлексией, может, я надеюсь, дать новый
положительный результат в следующем столетии. Но нужно остере-
гаться как экстремистских веяний и течений в постмодернистской фи-
лософии, так и методологического консерватизма в философии ана-
лиза. Данный вывод относится не только к зарубежной философии, но
и к философии отечественной, которая, хотелось бы это кому-то или
нет, всё более подключается к мировому философскому процессу.
Интервью провел
Игорь Ефременков
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин Блаженный 62, 143, 146
Айер А. 133, 227—228, 242
Апель К.О. 23, 302—312, 319
Аристотель 21, 110, 254
Армстронг Д. 357
Асмус В.Ф. 363
Бахтин М.М. 322
Бахтин Н.М. 322
Бейкер Г. 252—269, 332—334
Берг А. 66
БерклиДж. 16,21,52,67,151,241,363
Бернайс П. 176—177
Берне С. 321-323
Блинов А.Л. 156
Богомолов A.C. 363
Бозанкет Б. 48, 79
Больцано Б. 71
Больцман Л. 68, 69
Брамс И. 62
Брауэр Л. 168
Брендон У. 297—298
Бреснан 234
Брэдли Ф. 34, 48, 50, 51, 79, 201
Буль Дж. 71, 257
Бухарин Н.И. 322
Бэкон Ф. 16, 130
Бюлер К. 136
Вагнер Р. 64
Вайсманн Ф. 137
Веберн А. 66
Вригт Г. фон 124, 136
Вульф В. 48
Гадамер Х.-Г. 301, 303
Гарвер Н. 367
Гегель Г.В.Ф. 315
Герц Г. 68, 69
Гёдель К. 41, 168, 234
Гильберт Д. 168
Гич П. 208
Гоббс Т. 16
Горский Д.П. 142, 144
Гофмансталь Г. фон 66
Грайс П. 333, 340
Грин Т.Х. 48
Гудмен Н. 25, 274, 365
Гуссерль Э. 22, 72, 78
Ддммит М. 21,175, 177— 178,238—253,
331-332
Данто А. 21
Декарт Р. 17, 21, 131, 209—210, 221,
243, 254, 274, 340, 344, 346
Делез Ж. 369
Деннет Д. 337—340, 359
Деррида Ж. 312, 363, 365, 366, 368
Джеймс У. 44, 146
Дильтей В. 315, 353, 364
Достоевский Ф.М. 95, 97—98
Дуне Скот И. 16
Дэвидсон Д. 21, 245, 303, 358
Зенон Элейский 201
Зигварт X. 47
Зрафф П. 321
Иоахим Г. 79
Казальс П. 62
Кант И. 17, 21,32,37, 67, 71, 73,81, 103,
107, 178, 315, 366
Кантор Г. 84
Каримский A.M. 363
Карнап Р. 130, 257
Кассирер Э. 67
Кафка Ф. 66
Кац Дж. 161
Кейнс Дж.М. 48, 79, 98
Кендлиш С. 226
Кении Э. 153, 198, 343—346
371
Керр Ф. 322
Ко кошка 69
Крайзел Г. 176
Краус К. 64—67, 107
Крипке С. 148, 271—286
Куайн У. 25, 144, 220, 303,335, 358, 365,
368
Кутюра Л. 17, 31, 38
Кь.еркегор С. 70
Лазеровиц М. 23, 150, 199—206
Лакатош И. 336, 358
Лейбниц Г. 17, 21, 31, 71, 77
Лекторский В.А. 161
Лихтенберг Г. 70, 103
Локк Дж. 16, 33, 254
Лоос А. 65, 66
Лосев А.Ф. 115
Лотце Р.Г. 71
Льюис К.И. 25
Макгинн К. 282—284
Маки Д. 242
Мактаггарт Дж. 31, 47, 48, 54, 79
Малер Г. 62
Малкольм Н. 164—165, 228—230
Марголис Д. 312
Маркс К. 314-326
Маутнер Ф. 67, 68, 107, 197
Мах Э. 67, 68, 137
Мейнонг А. 38, 82, 83
Мельвиль Ю.К. 363
Миллер 234
Милль Дж.Ст. 17, 31, 254, 367
Морэн Дж. 127
Музиль Р. 66
Нарский И.С. 363
Нейгел Т. 21
Нейрат О. 359
Ницше 58
Новалис 58
Норрис К. 312
Нюмайер О. 233—235
Огден Ч. 99
Оккам У. 16
Оствальд В. 69, 98
Остин Дж. 26,50,238,258,303,333,340
372
Патнэм X. 21, 356, 368
Пеано Дж. 72
Платон 19
Плейс Ю. 357
Поппер К. 15, 369
Райл Г. 17, 50, 153, 157, 209—221, 228,
283, 311, 333, 343, 345—346,
354—355
Райт К. 284
Рамсей Ф. 99, 135—136, 173
Раутли Р. 38
Решер Н. 330, 366—367
Рид Т. 49, 363
Риис Р. 58, 139
Рикёр П. 23, 313, 368
Рильке P.M. 66, 69
Ричардсон Дж. 177
Рорти Р. 25, 312,330,335, 358, 366, 368,
369
Росси-Ланди Ф. 321
Рубинстайн Д. 314—323
Селларс У. 365
Сёрл Дж. 21, 339—343, 356, 366
Сиджуик Г. 47
Скорупски Дж. 298—299
Слейтер Б. 168
Смарт Д. 357
Сократ 49, 159
Соссюр Ф. де 263
Софокл 358
Спенсер Г. 129, 367
Спиноза Б. 62, 95, 99, 203
Стивенсон Л. 252
Стич С. 357
Страуд Б. 222—224, 235, 349—350
Стросон П. 20, 21, 242, 250—251, 283,
346—349
Тарский А. 257, 260
Темкин Дж. 224—225
Тракль Г. 66, 69
Тьюринг А.М. 169, 233
Тэйлор Ч. 302
Толстой Л.Н. 97
Уайтхед А.Н. 40, 83, 363
Уиздом Д. 23, 150, 151, 199
Уильяме Б. 21
Уильяме М. 230—231
Уинч П. 23, 292—299, 311
Уэйлер Г. 67
Фанн К.И. 322
Фарбер М. 22, 364
Фейерабенд П. 335, 358
Феррел Б. 199
Фикер Л. фон 69, 103
Филлипс К. 178—179
Финч Г. 104
Фогелин Р. 117, 158, 223
Фодор Дж. 356
Фреге Дж. 20, 36, 40, 70, 72—83, 89, 91,
98, 101, 102, ПО, 121, 158, 159, 161,
238, 242—244, 309, 331—334
ФрейдЗ.65,132,151,152,196—199
Фрэзер Дж. 290—291
Фуко М. 363, 366
Хабермас Ю. 310, 368
Хайдеггер М. 107, 126, 303, 368
Хакер П. 177, 252—269, 332—334
Хан X. 137
Ханфлинг О. 226—227
Хеар Р. 258
Хекер Т. 70
Хинтикка Я. 143, 156
Хомский Н. 19, 161, 234, 339, 344
Хэнли Ч. 152
Црейг С. 66
Циммерман Р. 323—325
Черч А. 117
Черчленд П. 335—338, 341, 358, 359
Чизолм Р. 22
Шенкер С. 232—233, 309
Шёнберг А. 66
Шлегель Э. 58
Шлик М. 132, 137, 359
Шопенгауэр А. 19, 62, 64,66, 67,95, 122,
124, 126, 127
Шпенглер О. 60, 158
Шпрангер Э. 361
Штрубе В. 311
Эванс-Причард Э.Э. 294—295
Эмброуз Э. 23, 150, 199
Энском Э. 58, 101
ЮмД. 16,17,35,37,67,88,128,254,277,
283, 315, 363
Ясперс К. 126
ОГЛАВЛЕНИЕ
Об авторе и его книге (В. Васильев) 5
Аналитическая философия и ее место в культере XX века 13
Поиск знания в философии Бертрана Рассела 29
Джордж Мур и становление аналитической философии 47
Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна 56
Становление взглядов 61
/. Витгенштейн и венская культура начала XX века 61
2. Влияние Фреге 70
3. Влияние Рассела 79
4. Подготовительные материалы 88
Первый синтез. Философия «Трактата» 96
1. История создания и замысел книги 96
2. Анализ основных понятий 104
3. Предложения как «образы» 111
4. Математика, естествознание, € мистическое» 120
5. Понимание философии 130
Трансформация учения 134
Второй синтез. Язык и деятельность 141
1. Критика «традиционной» концепции значения 141
2. Философия как «деятельность» 149
3. «Языковые игры» 153
4. Проблема достоверности 164
5. Философия математики 168
Заключение 179
Проблемы сознания, языка и деятельности в аналитической философии по-
сле Витгенштейна 183
Аналитическая философия психологии 193
1. Метод лингвистической терапии 195
2. Диспозициональная модель психики 207
3. Логика употребления психологических понятий 221
Проблематика значения 236
374
/. Программа антиреализма 238
2. Философия как концептуальный анализ 252
3. € Скептический парадокс» и его преодоление 270
Истолкование практики 287
1. Методология социокультурного познания 288
2. Понимание понимания: на пересечении двух традиций 301
3. Витгенштейнианство и марксизм о понятии практики ... 313
Заключение 327
Аналитическая философия в конце XX века 330
Проблема ментальных понятий в западной философии психологии. . . 351
«Постмодернизм взбодрил аналитическую философию...» 363
Интервью журналу «Логос» 363
Указатель имен 371
Научное издание
Грязное Александр Феодосиевич
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Редактор Л.Б. Комиссарова
Художник В.Н. Хомяков
Художественный редактор А.Ю. Войткевич
Технический редактор ИМ. Тростянская
Компьютерная верстка С.Н. Луговая
Корректоры ТД. Бенедиктова, Г.Н. Петрова
Оператор М.Н. Паскарь
Лицензия Ид №06236 от 09.11.01.
Изд. №РИФ-291. Подл, в чечать 24.10.05. Формат 60х88'/16.
Бум. офсетная. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Объем 23, 03 усл. печ. л., 25,03 усл. кр.-отт.
Тираж 3000 экз. Зак. № 5739.
ФГУП «Издательство «Высшая школа»,
127994, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., 29/14.
Тел.: (095) 200-04-56, http://www.vshkola.ru E-mail: info_vshkola@mail.ru
Отдел реализации: (095) 200-07-69, 200-31-47, факс: (095) 200-34-86.
E-mail: sales_vshkola@mail.ru
Отпечатано в ОАО ордена «Знак Почета»
Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр-т. им. Ю. Гагарина, 2.