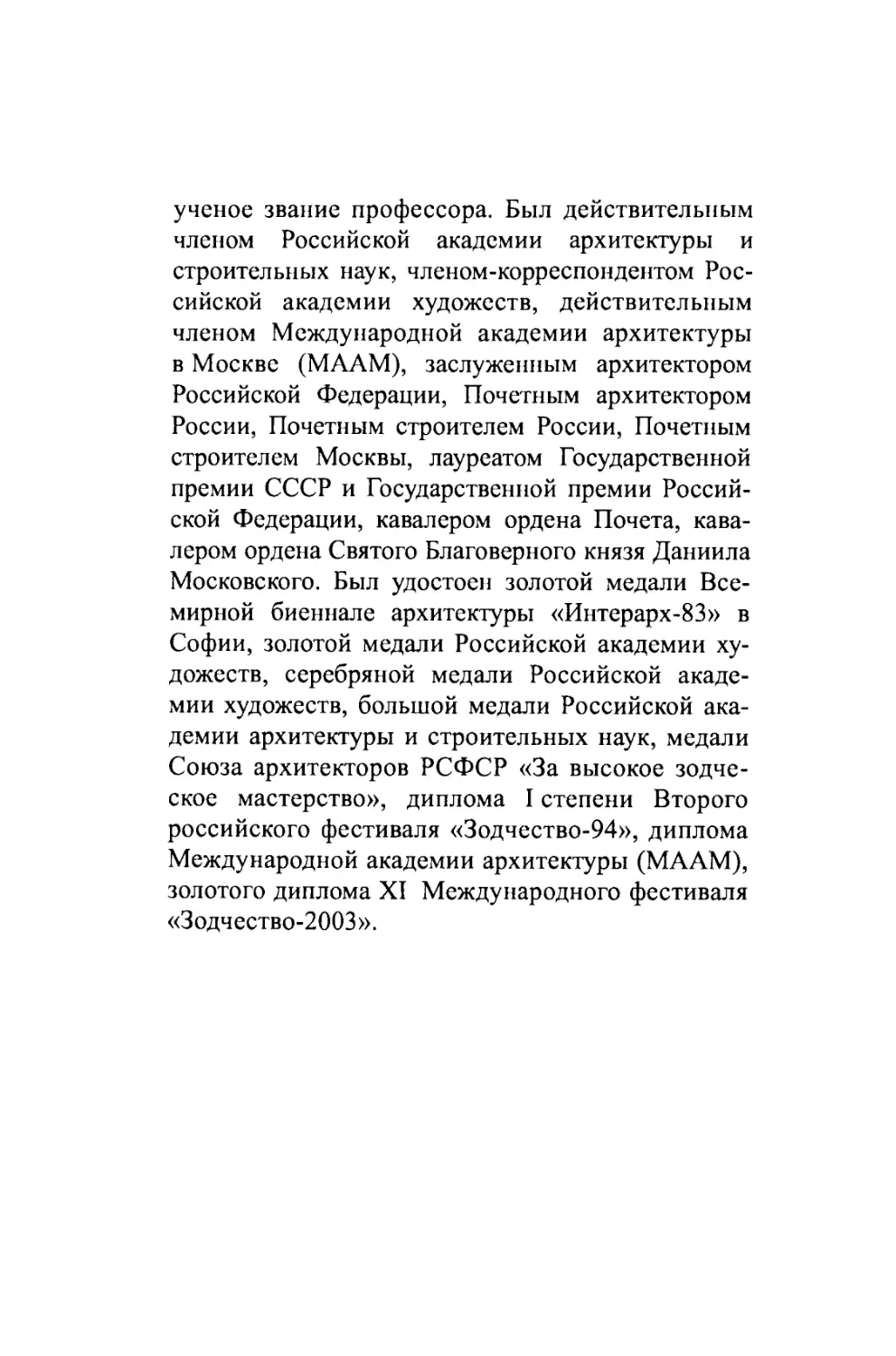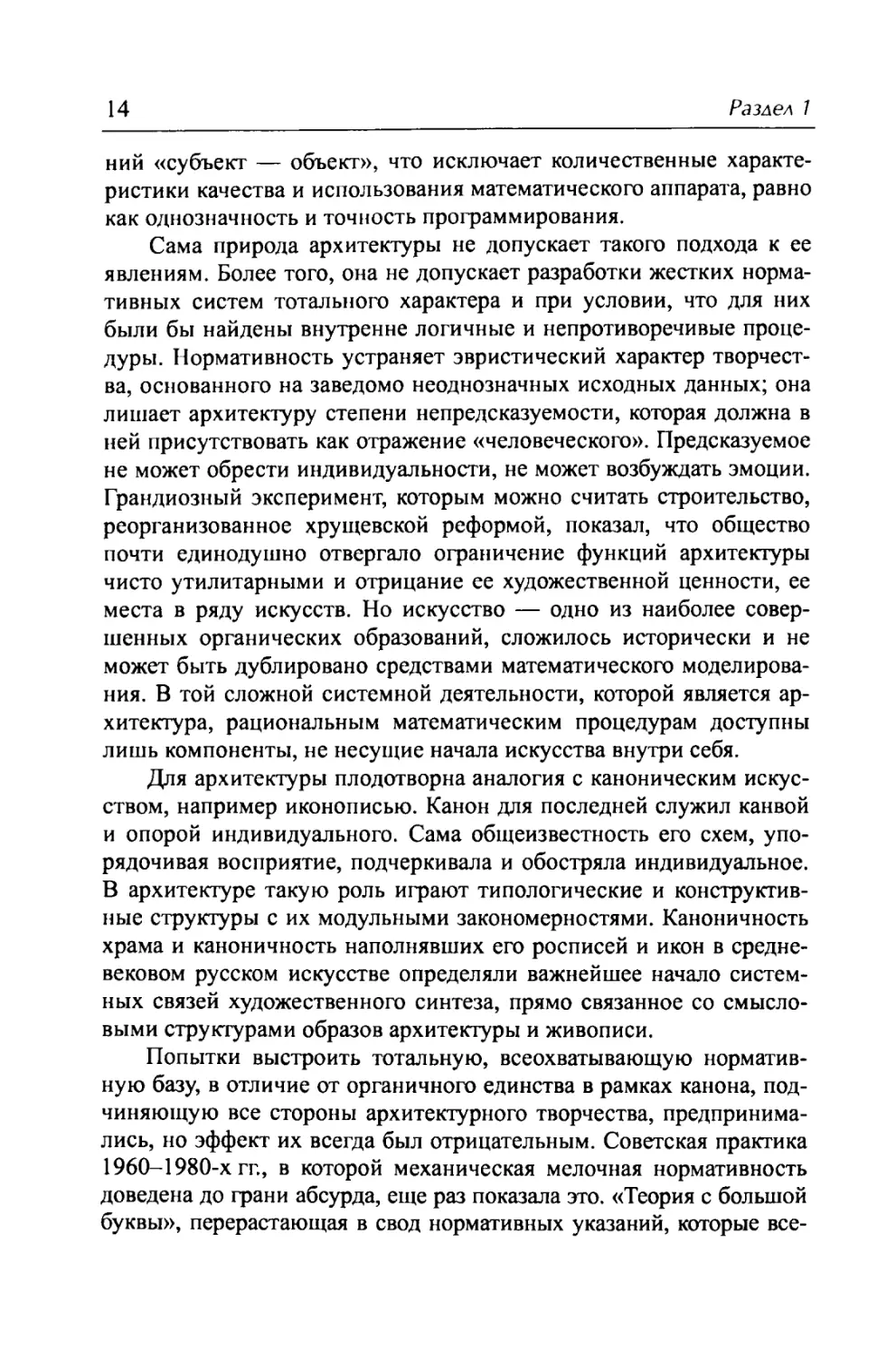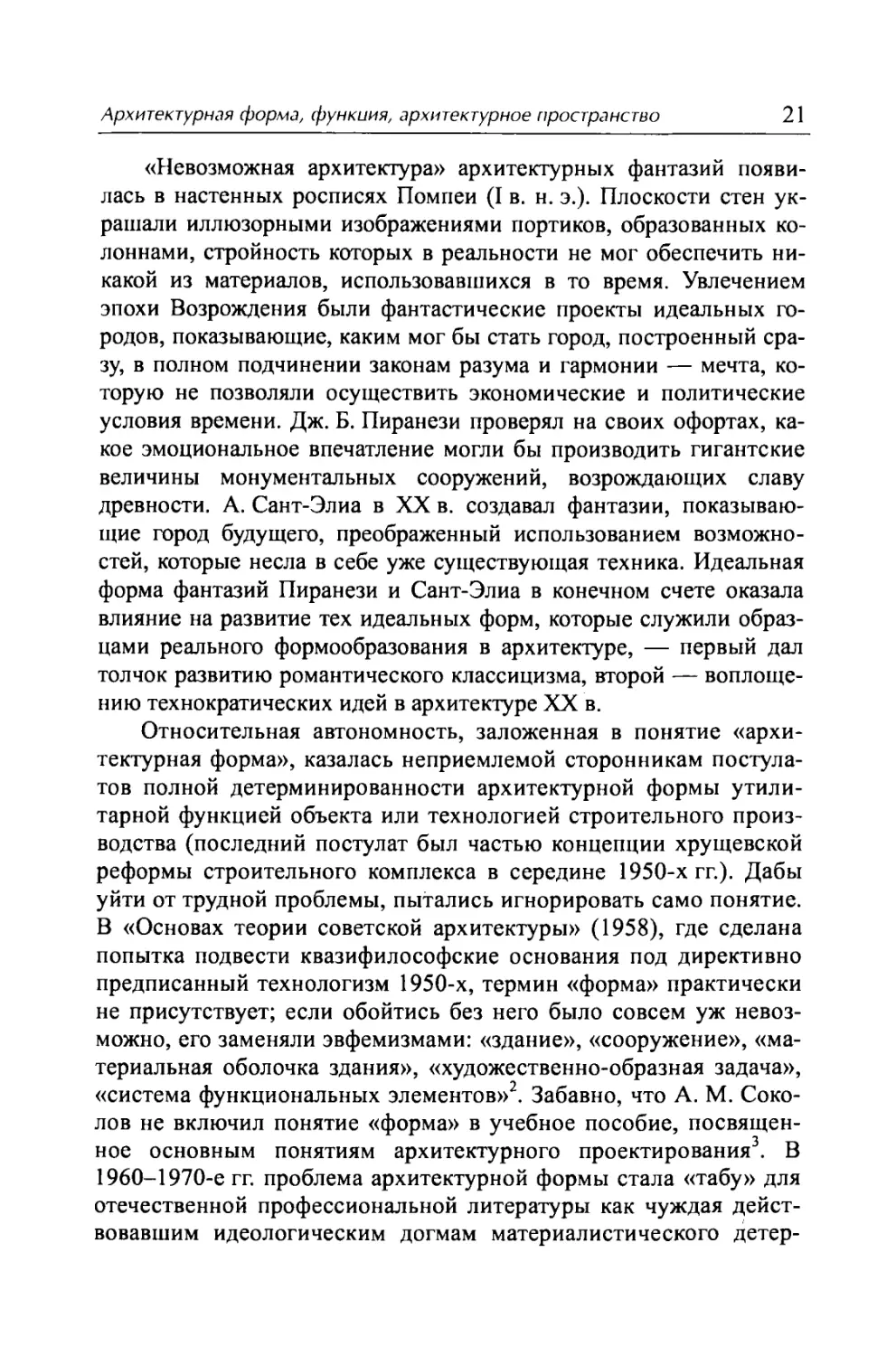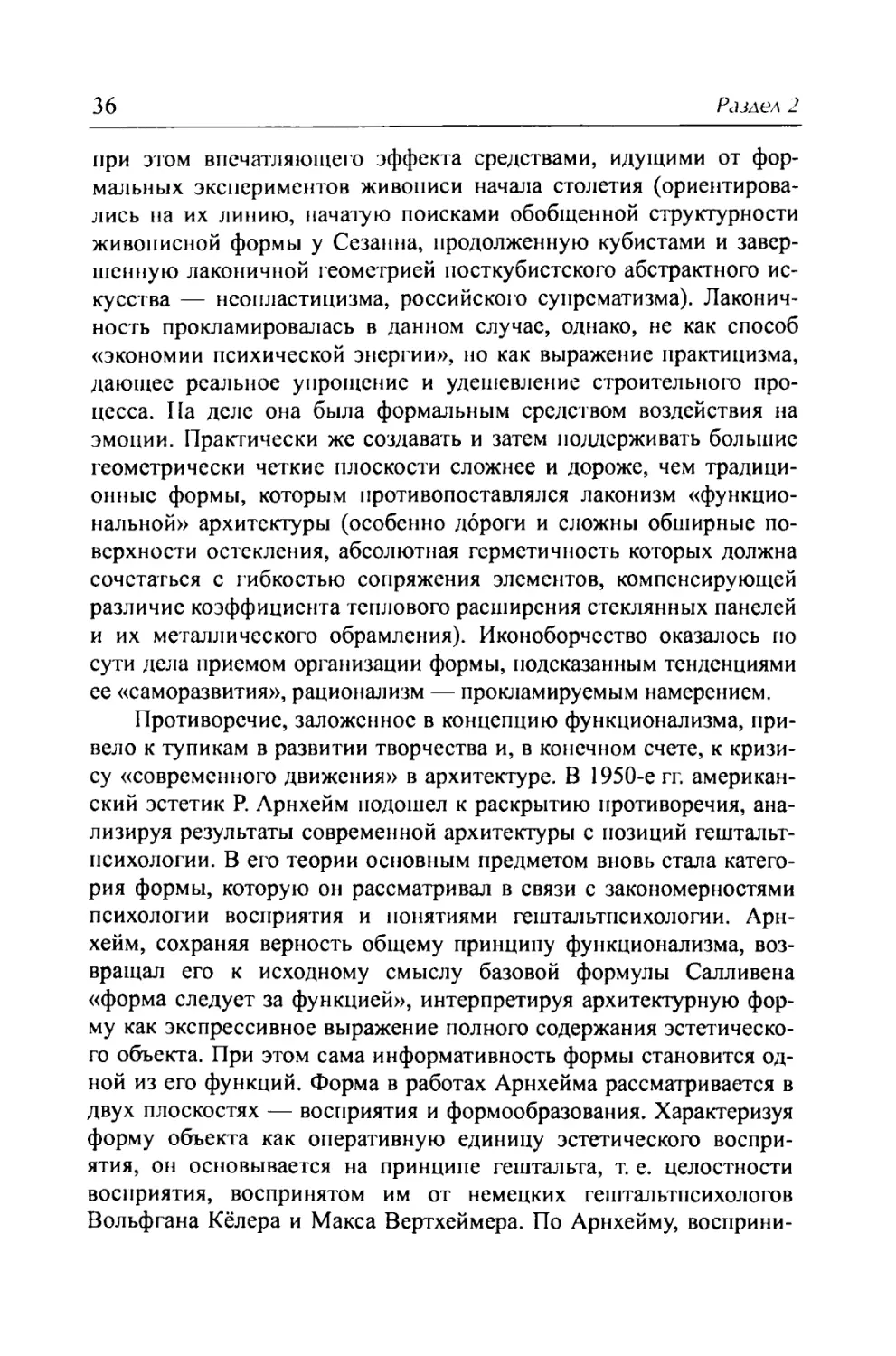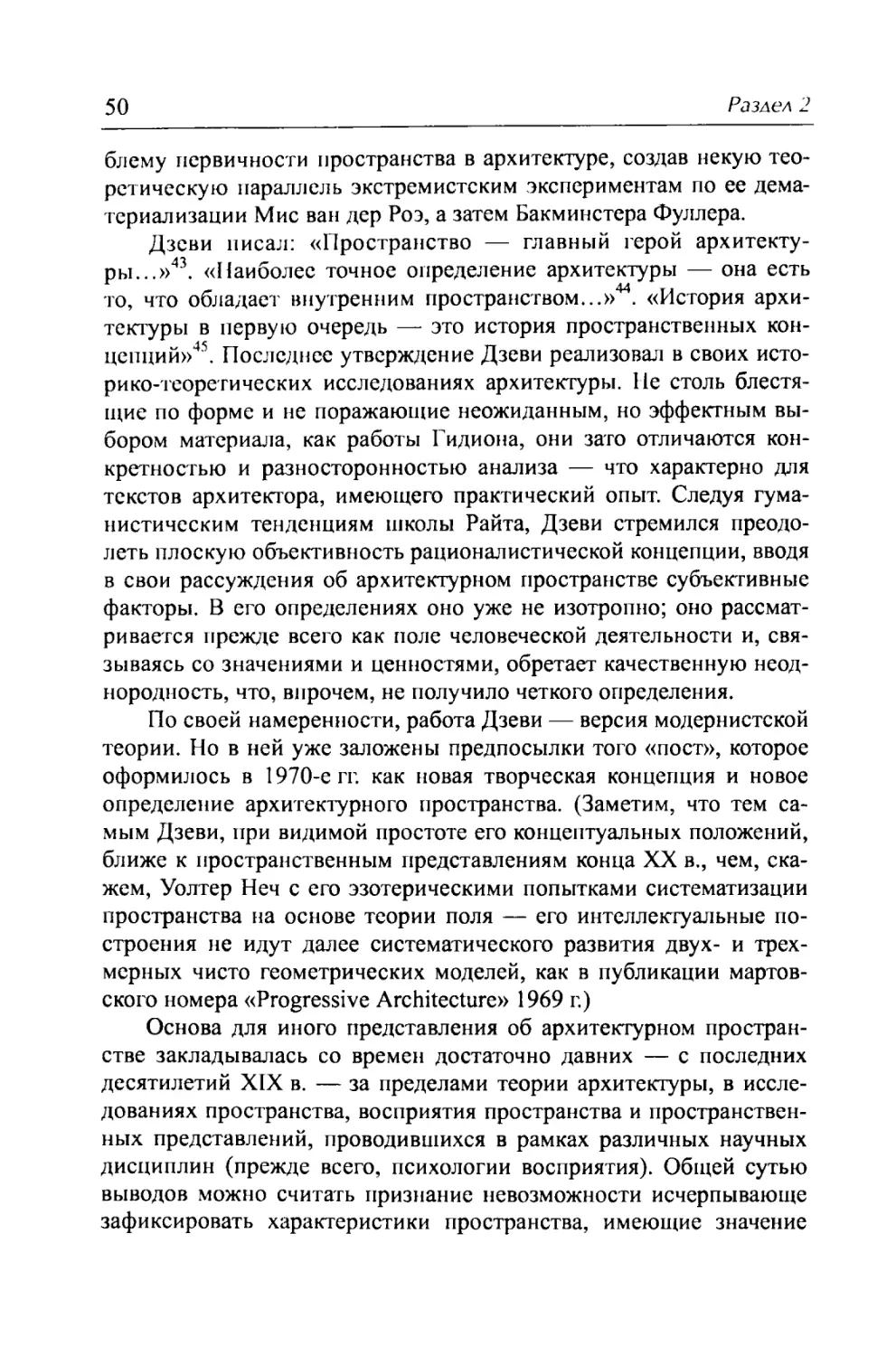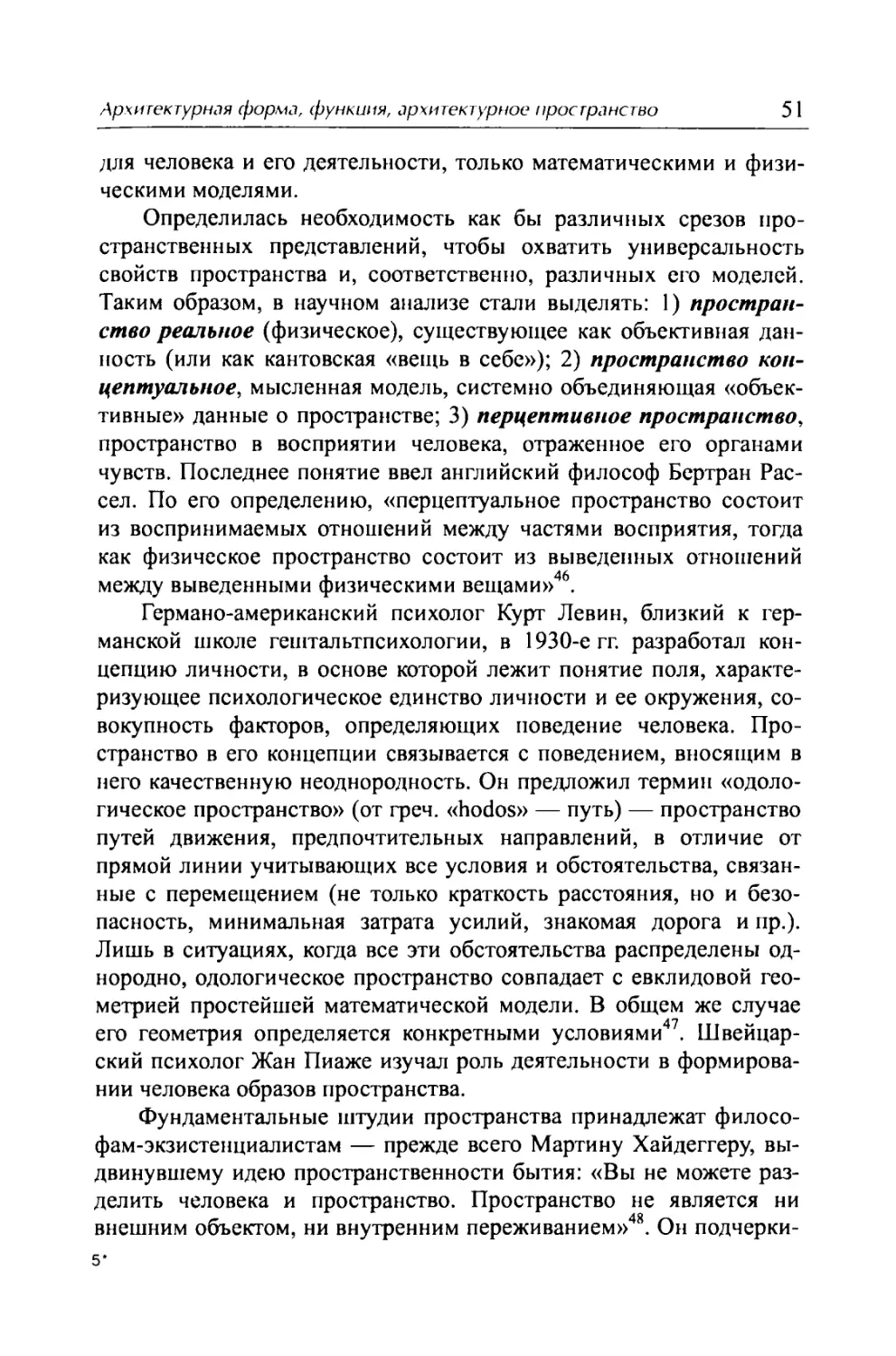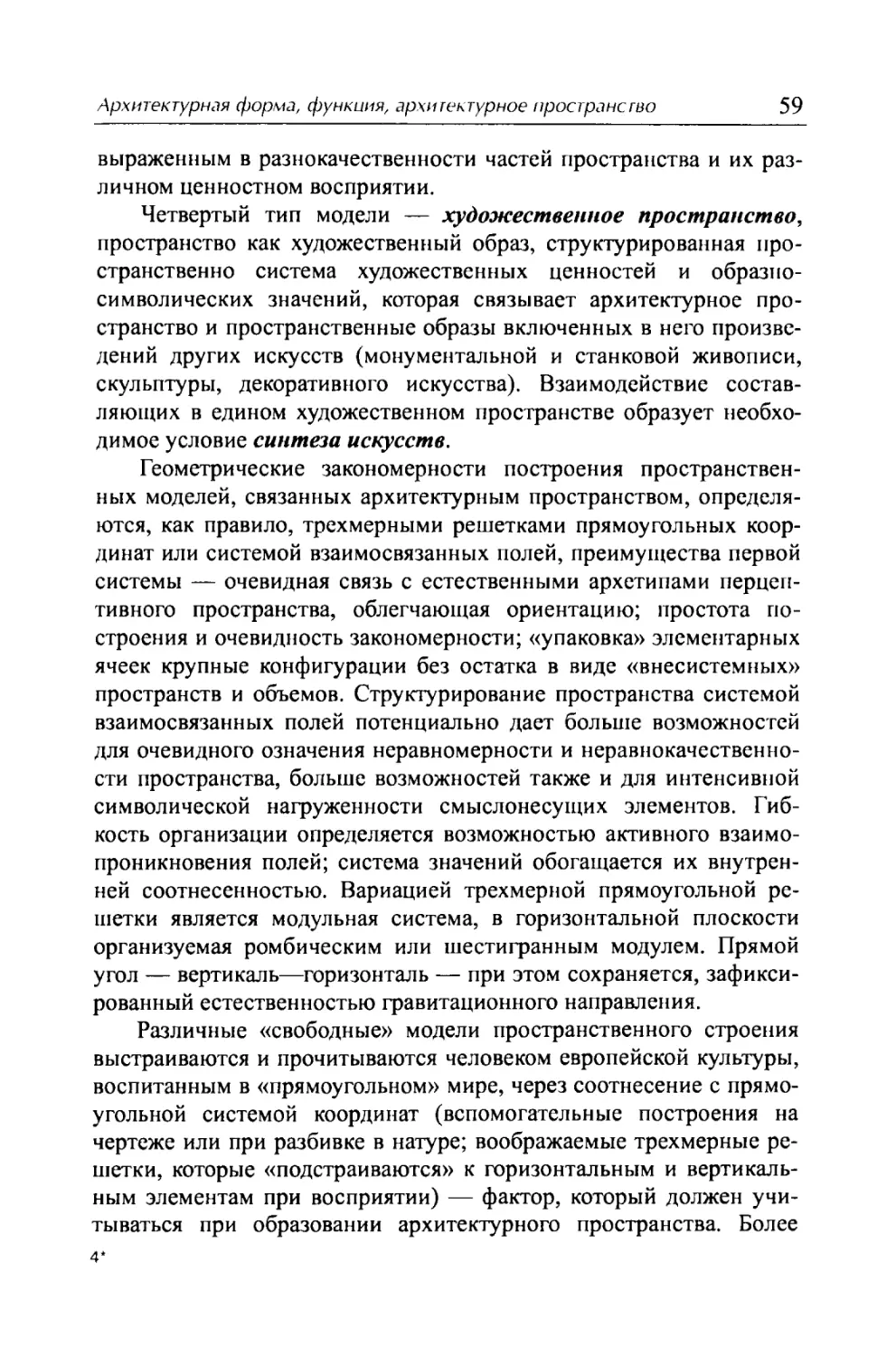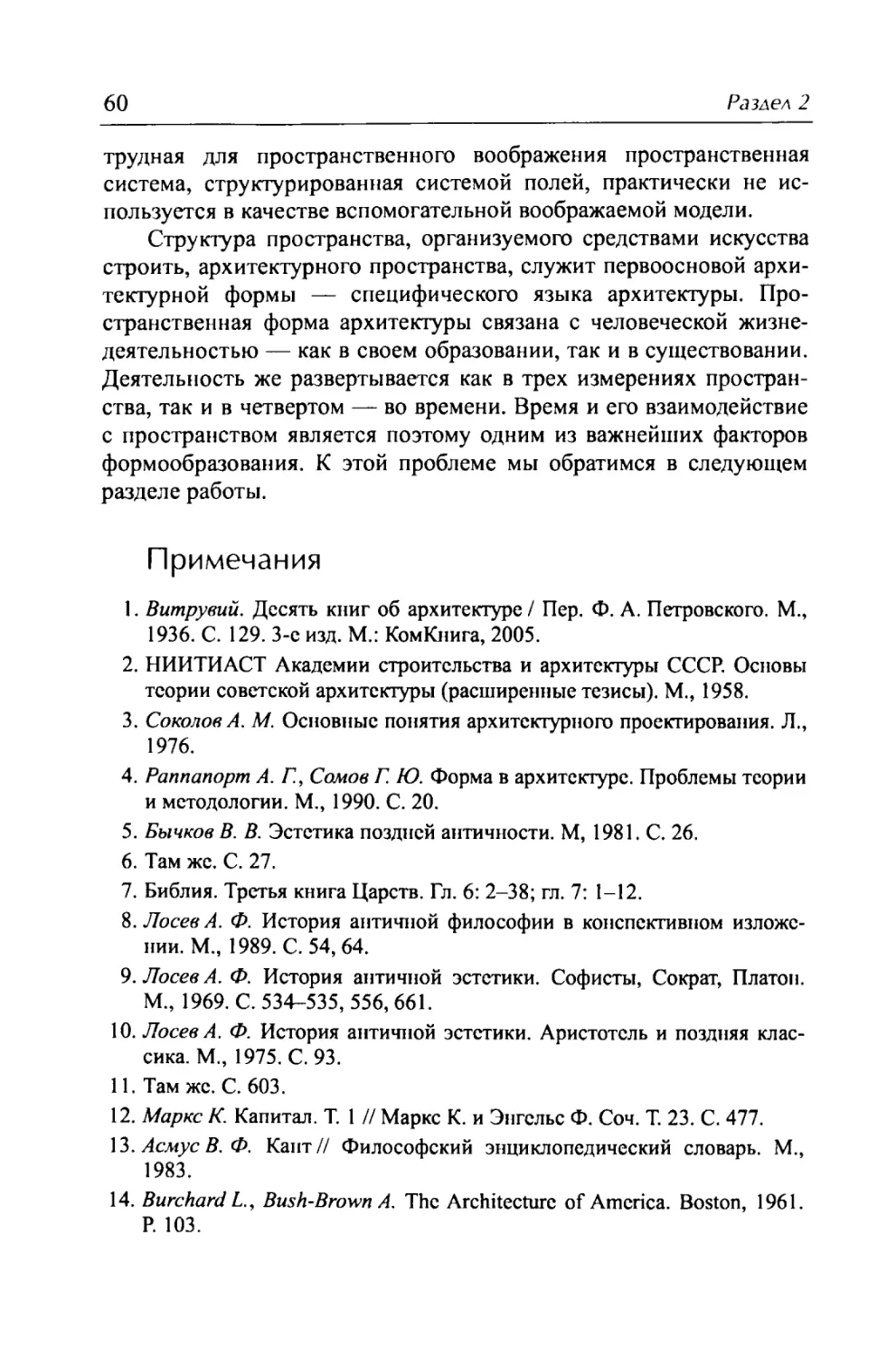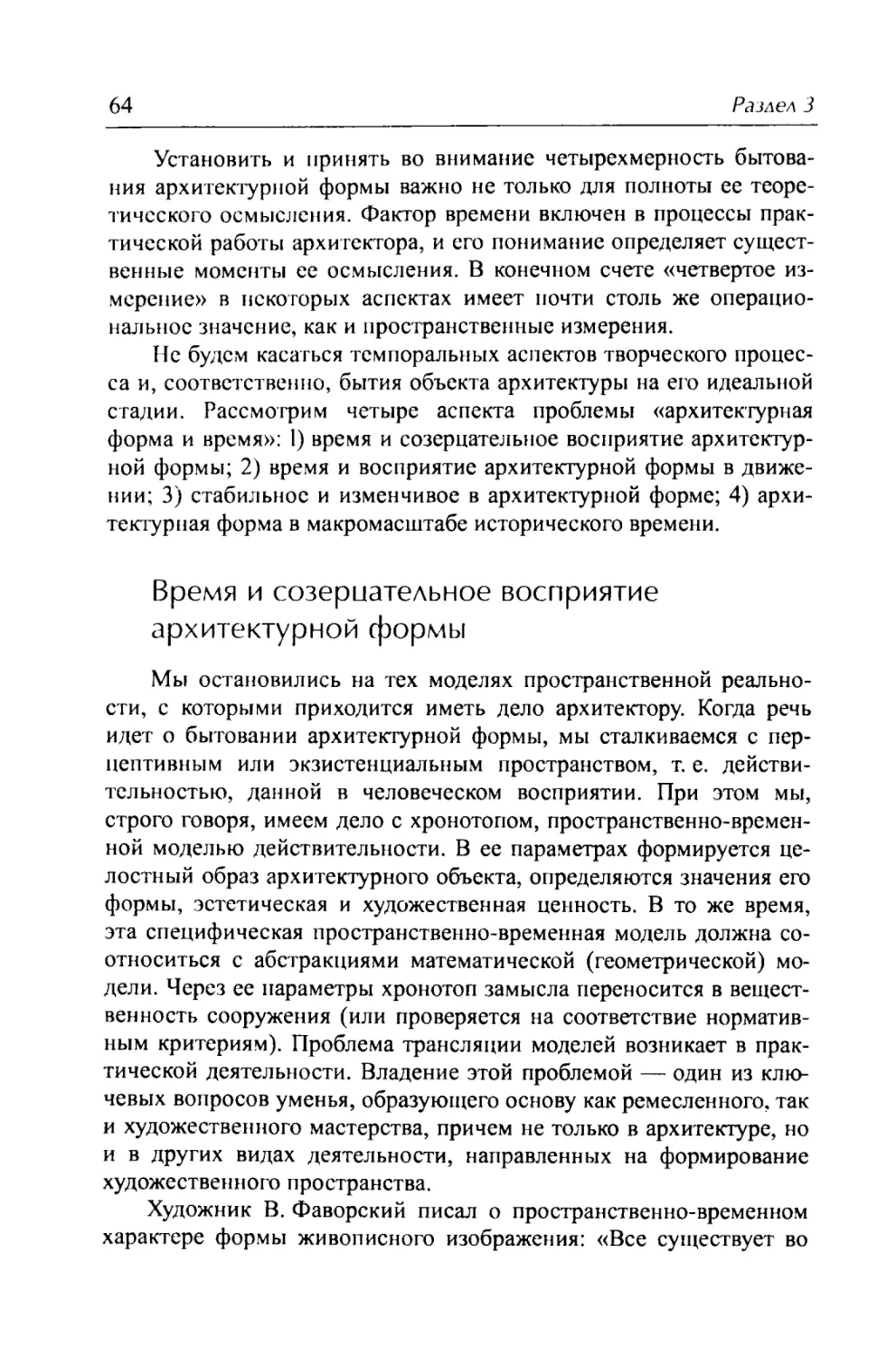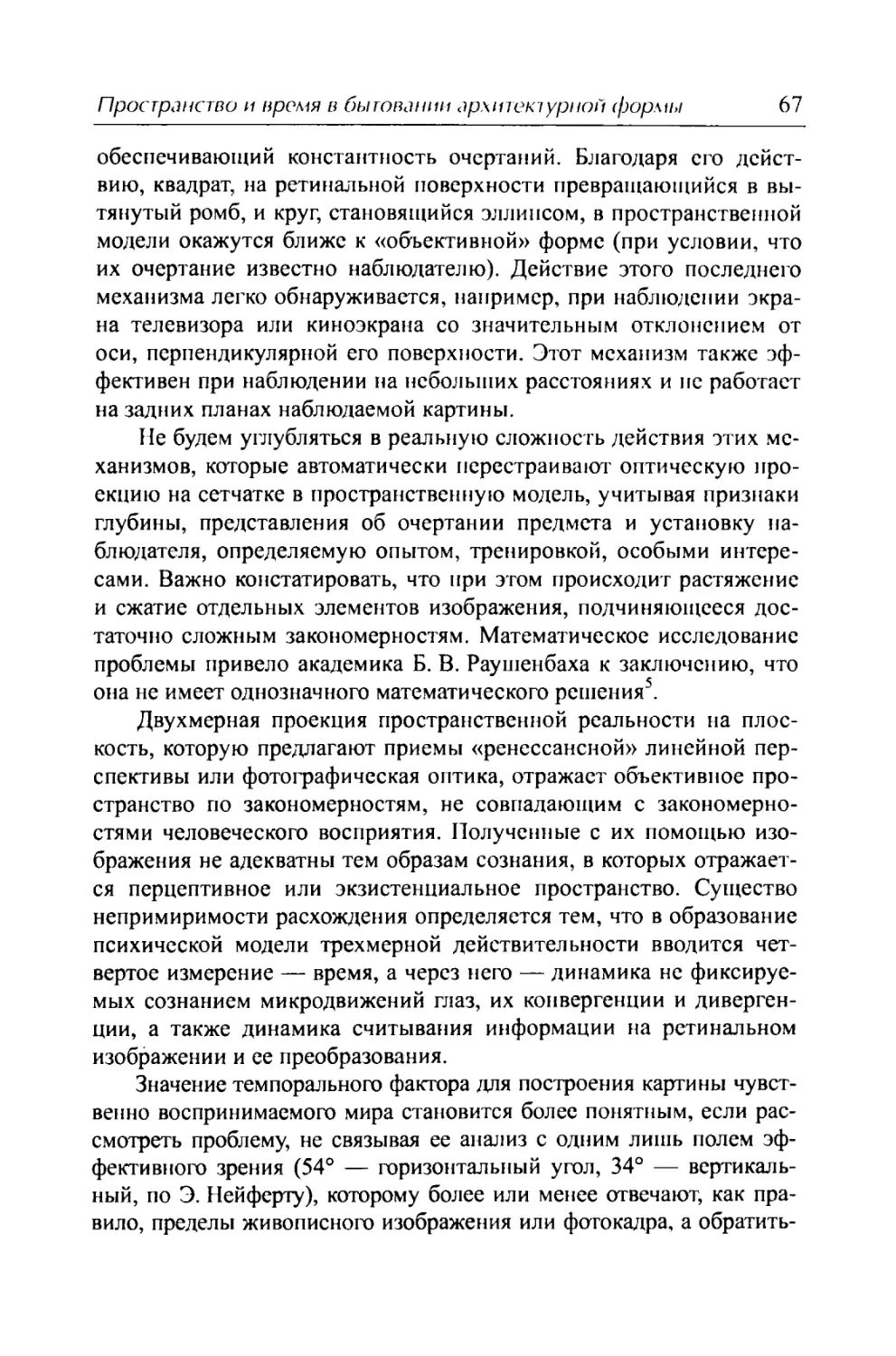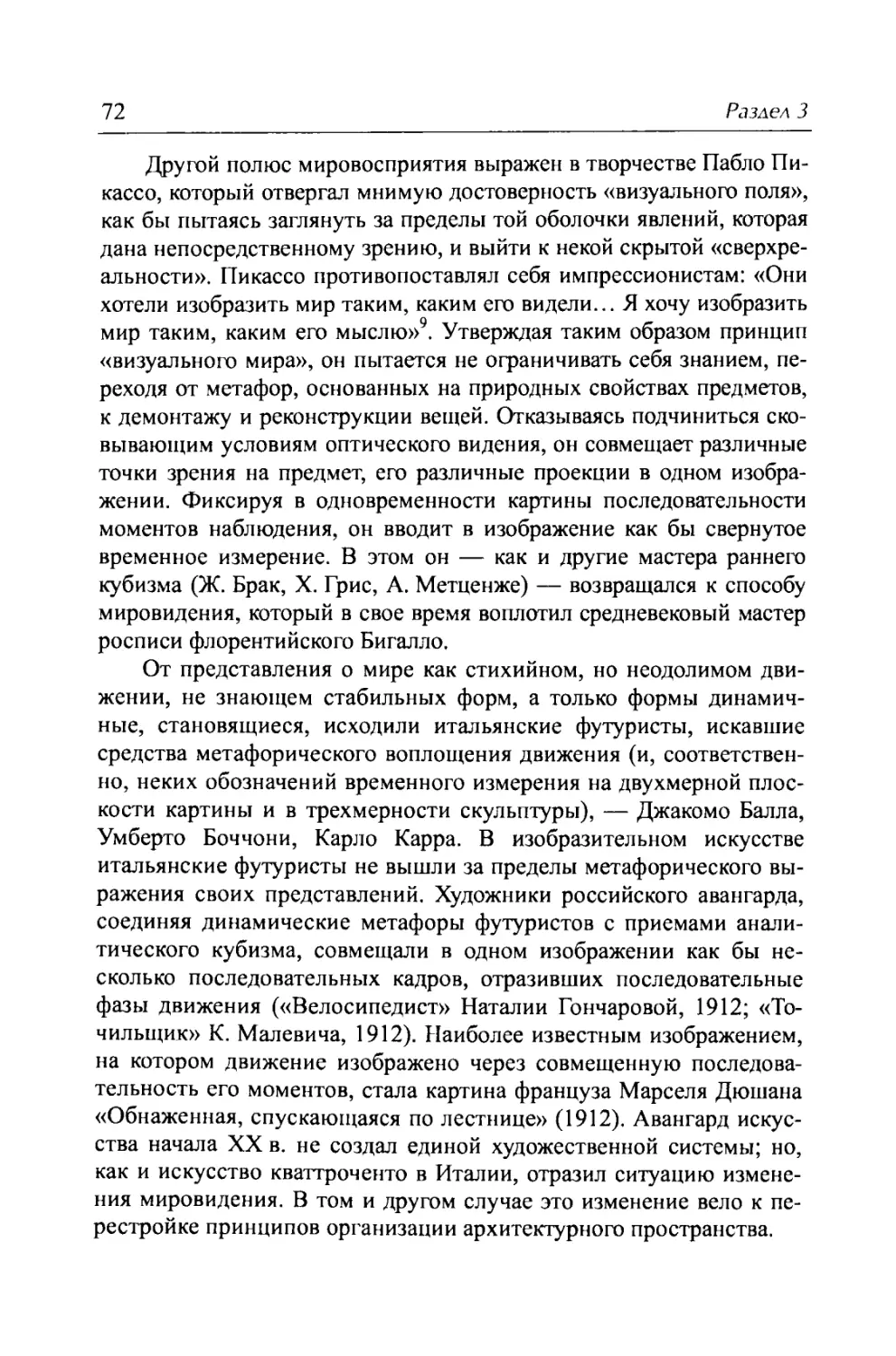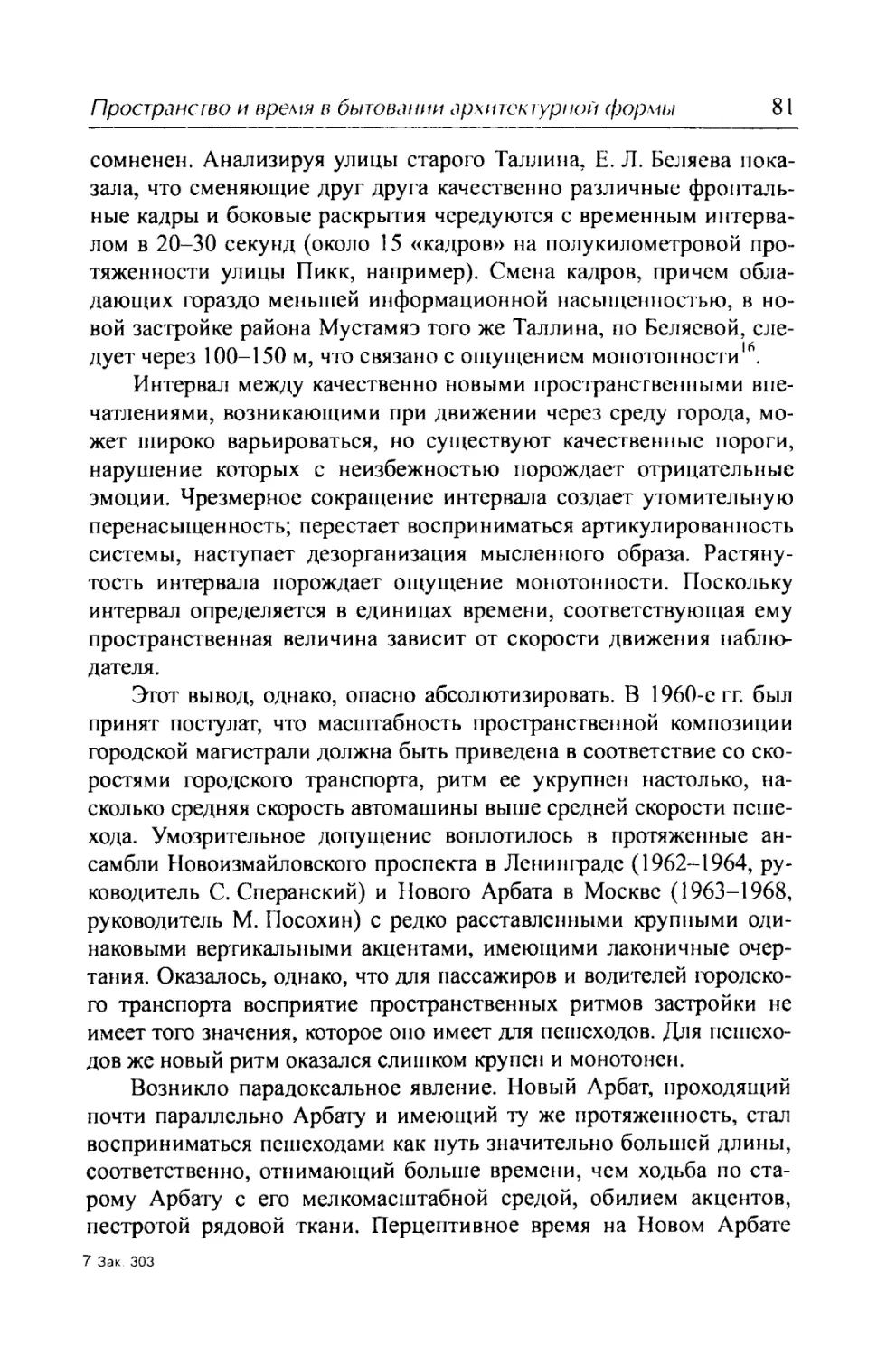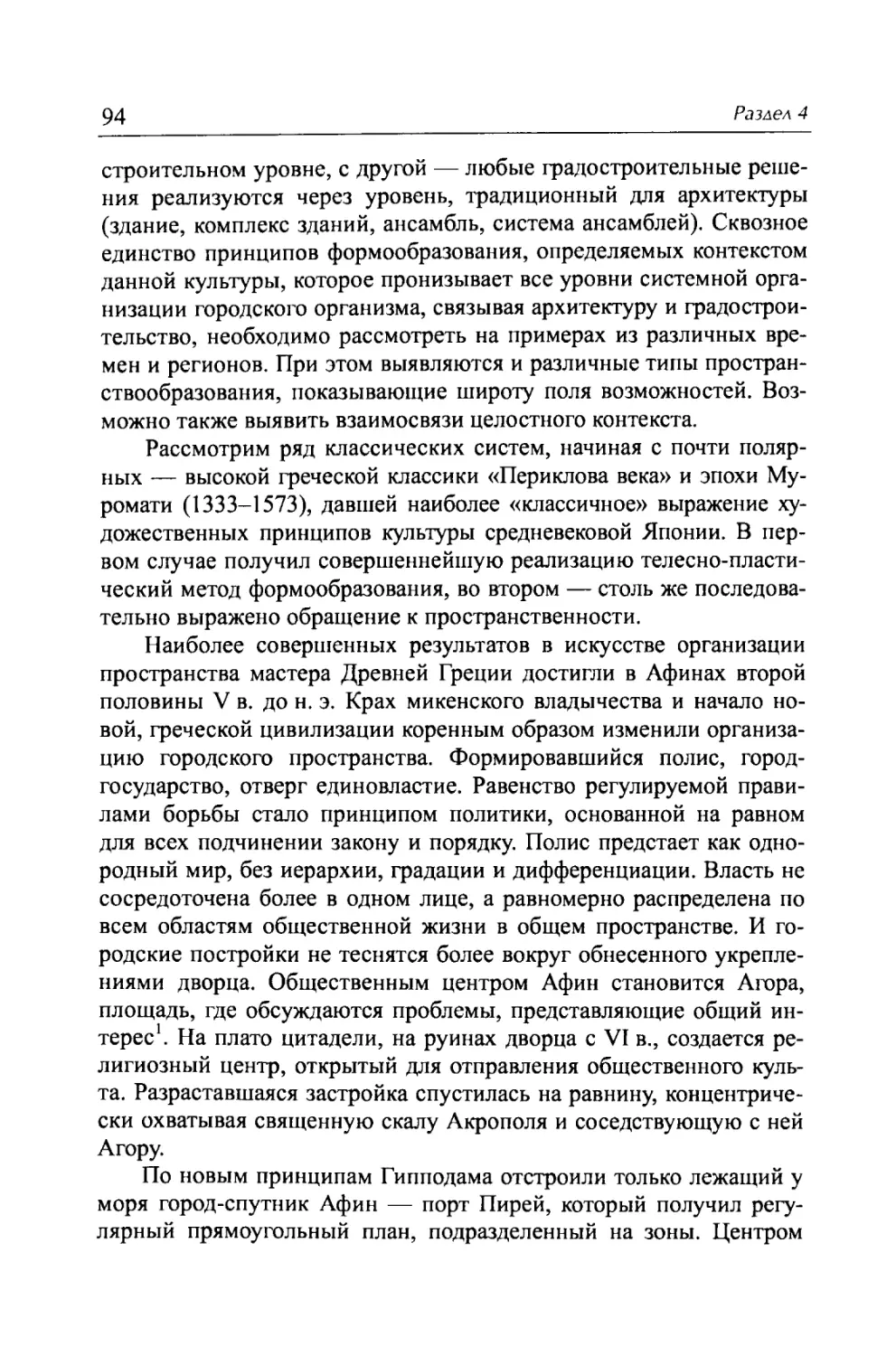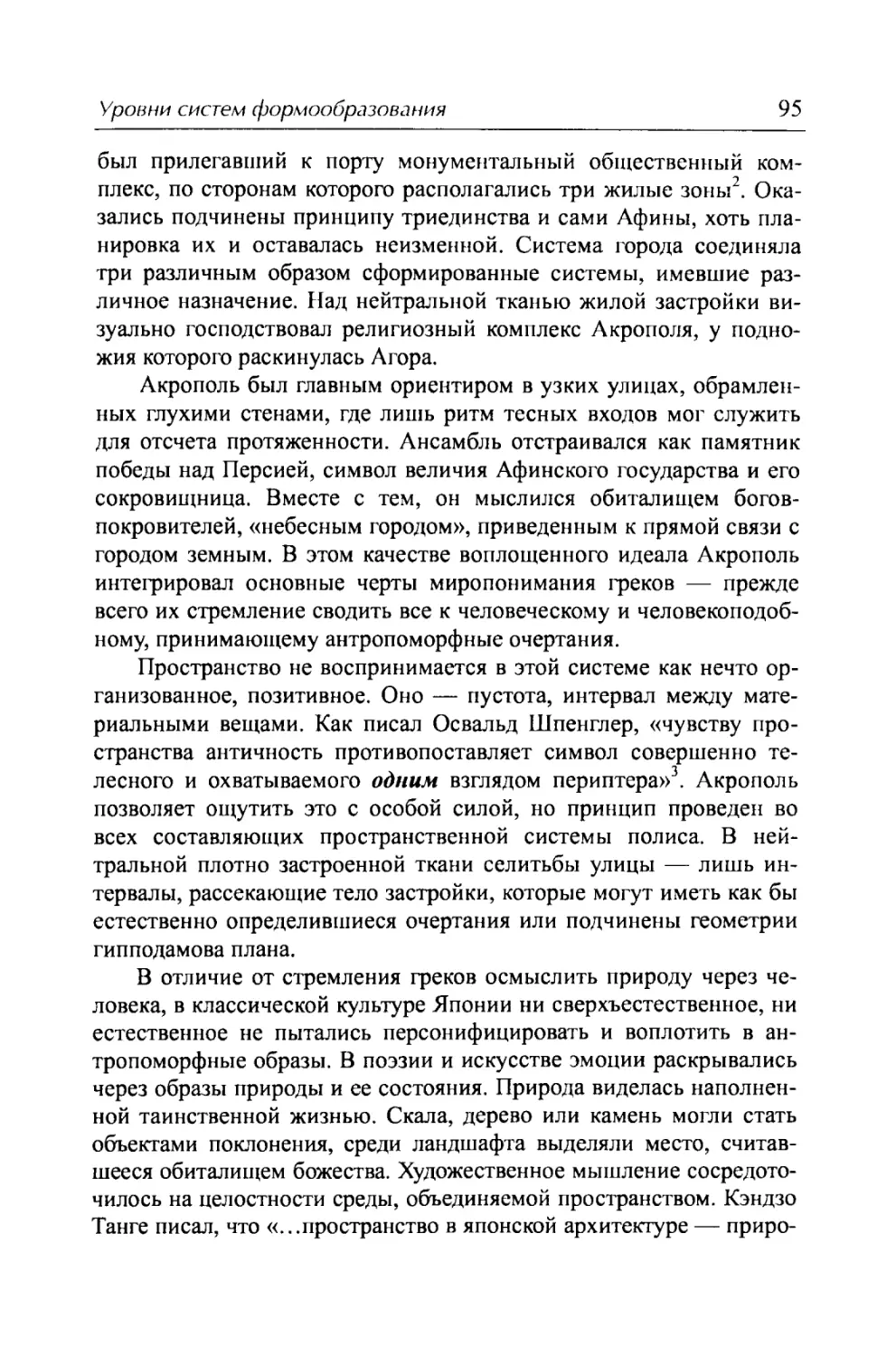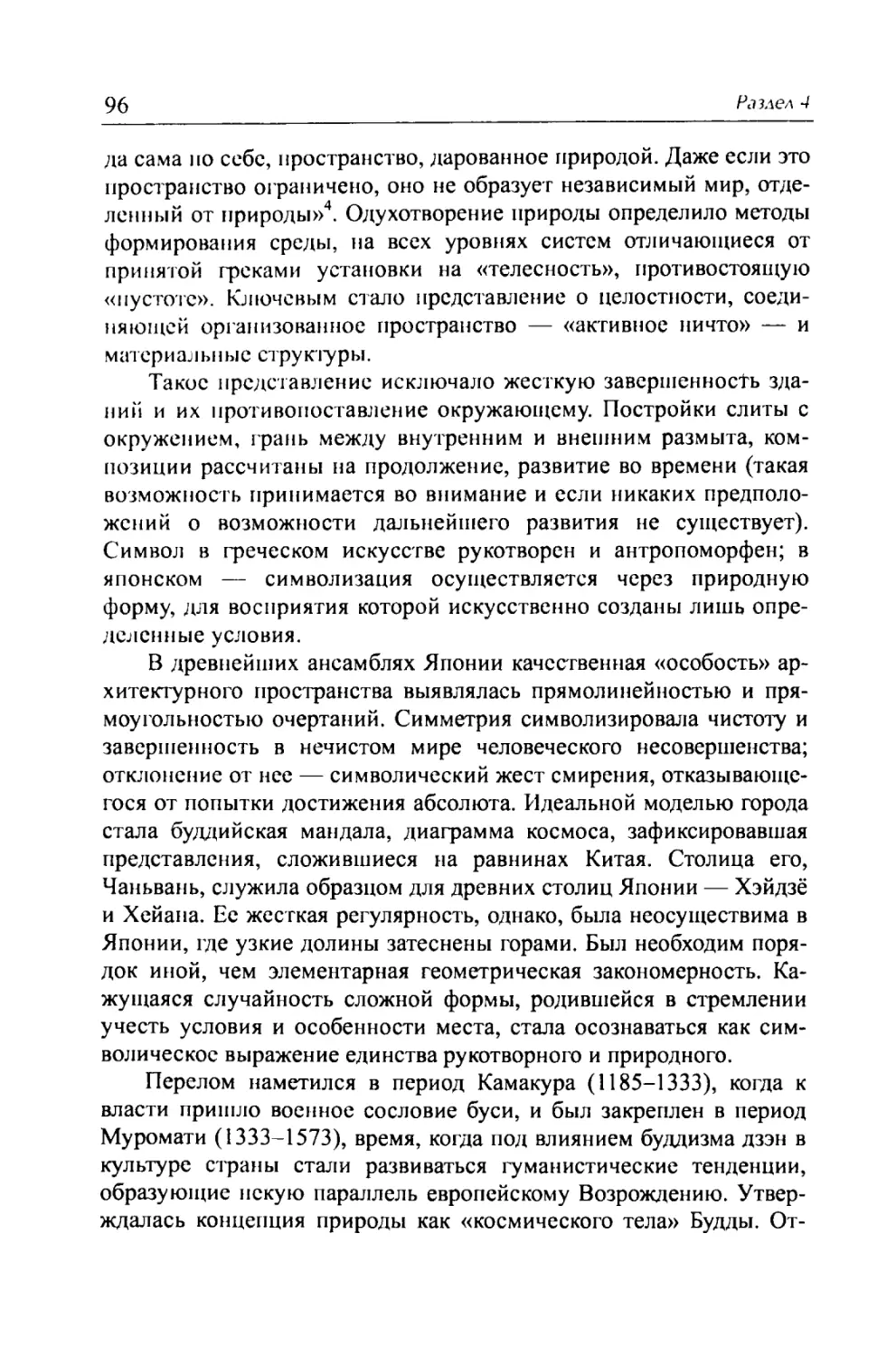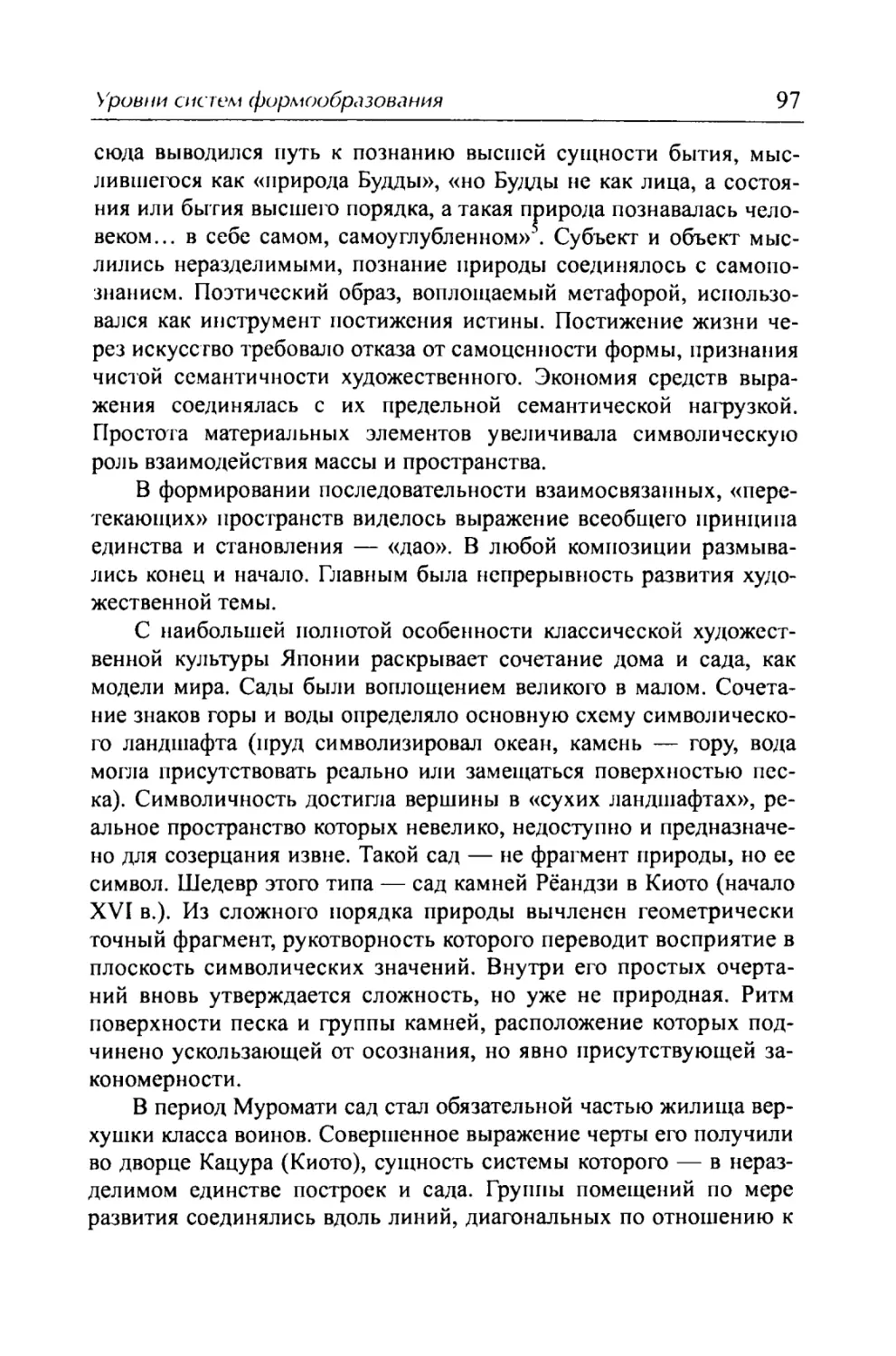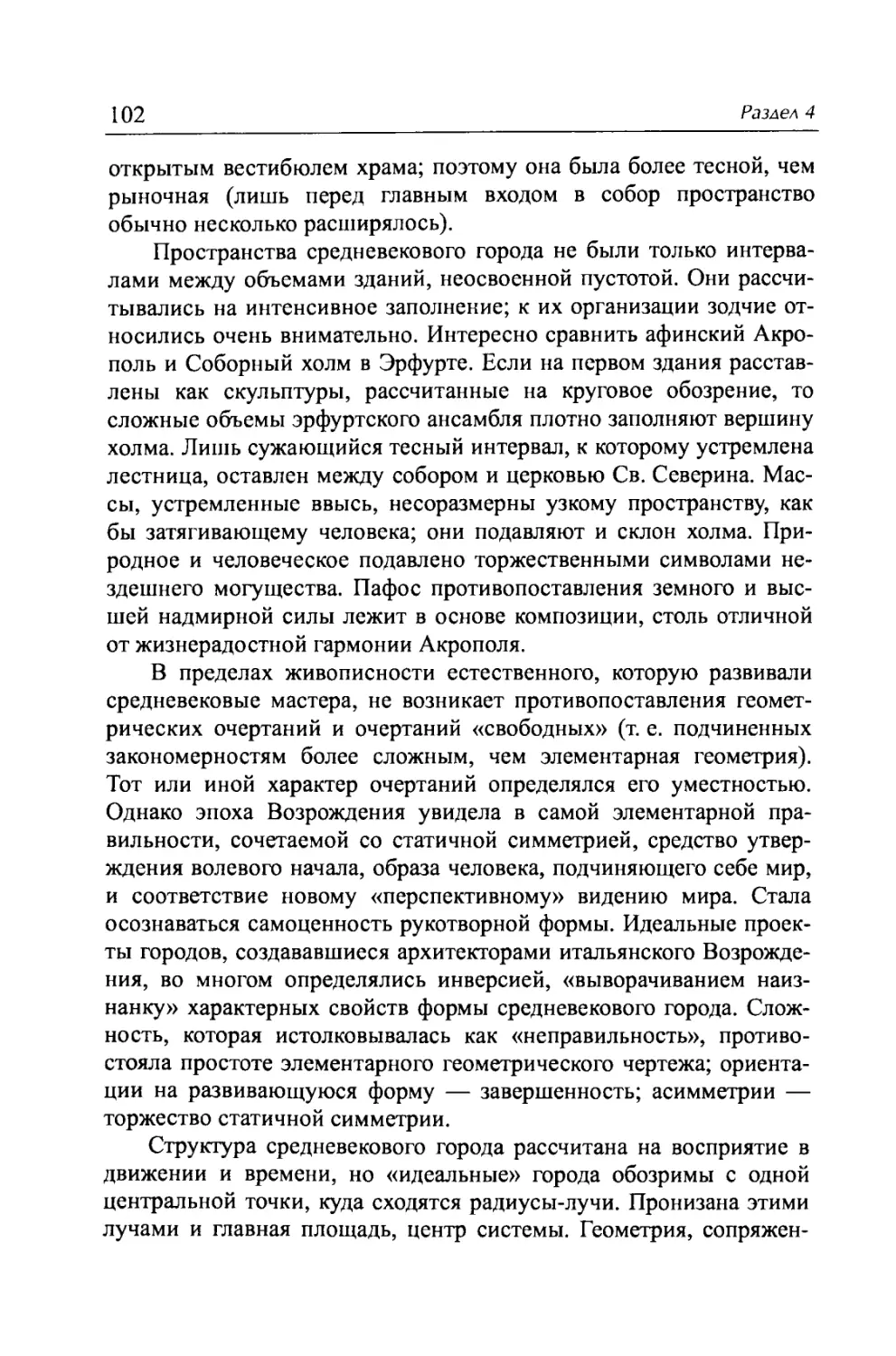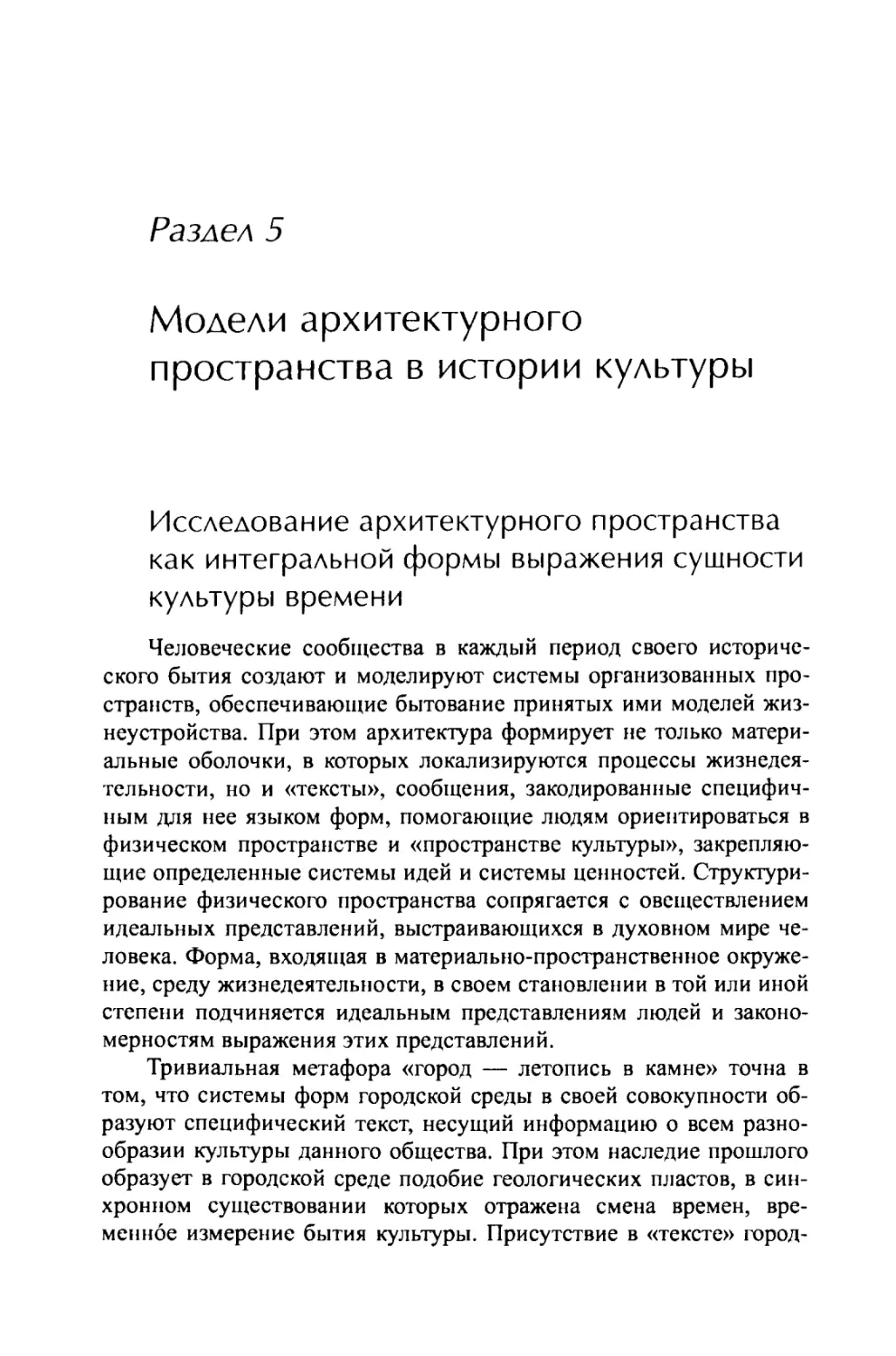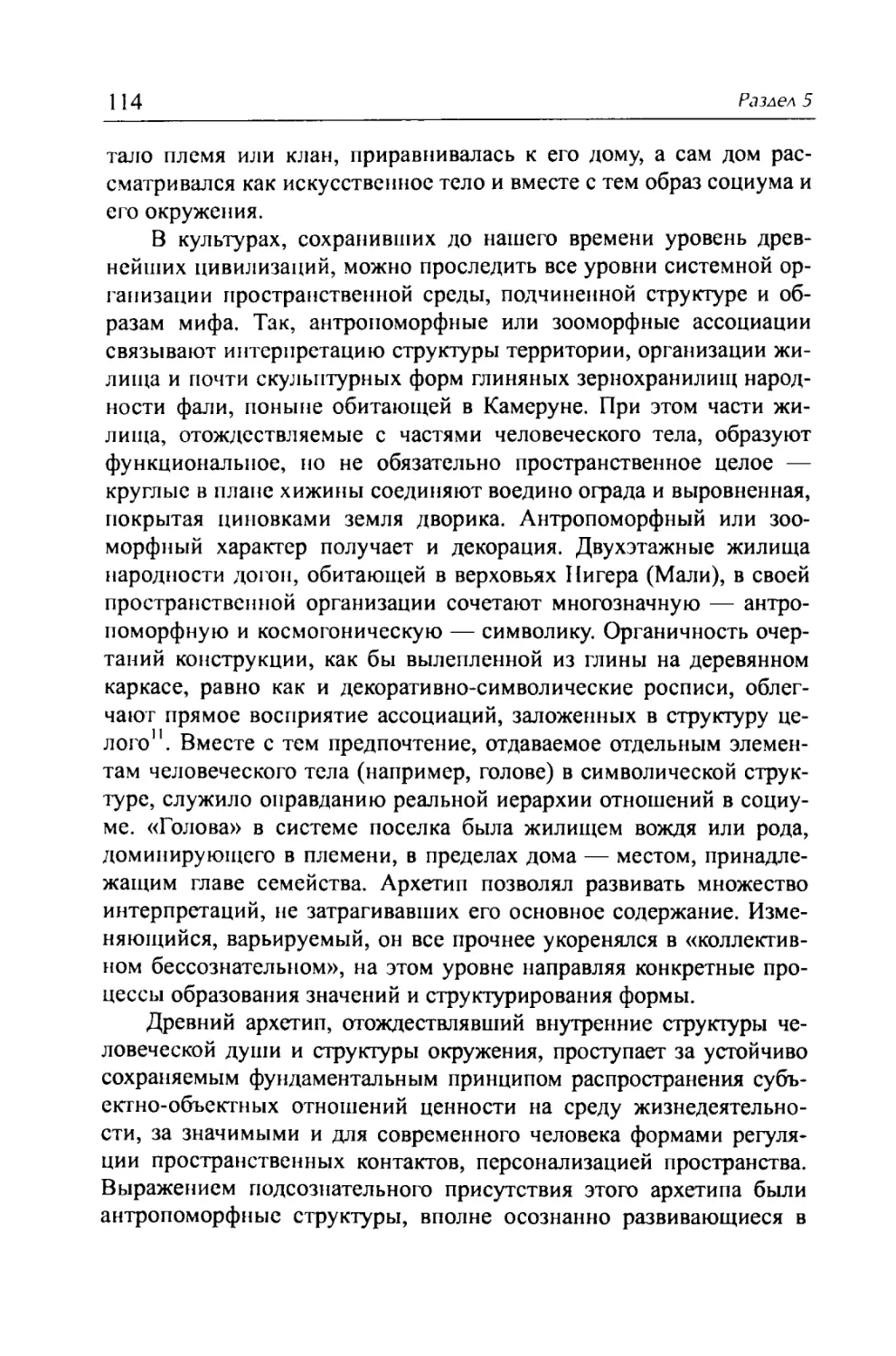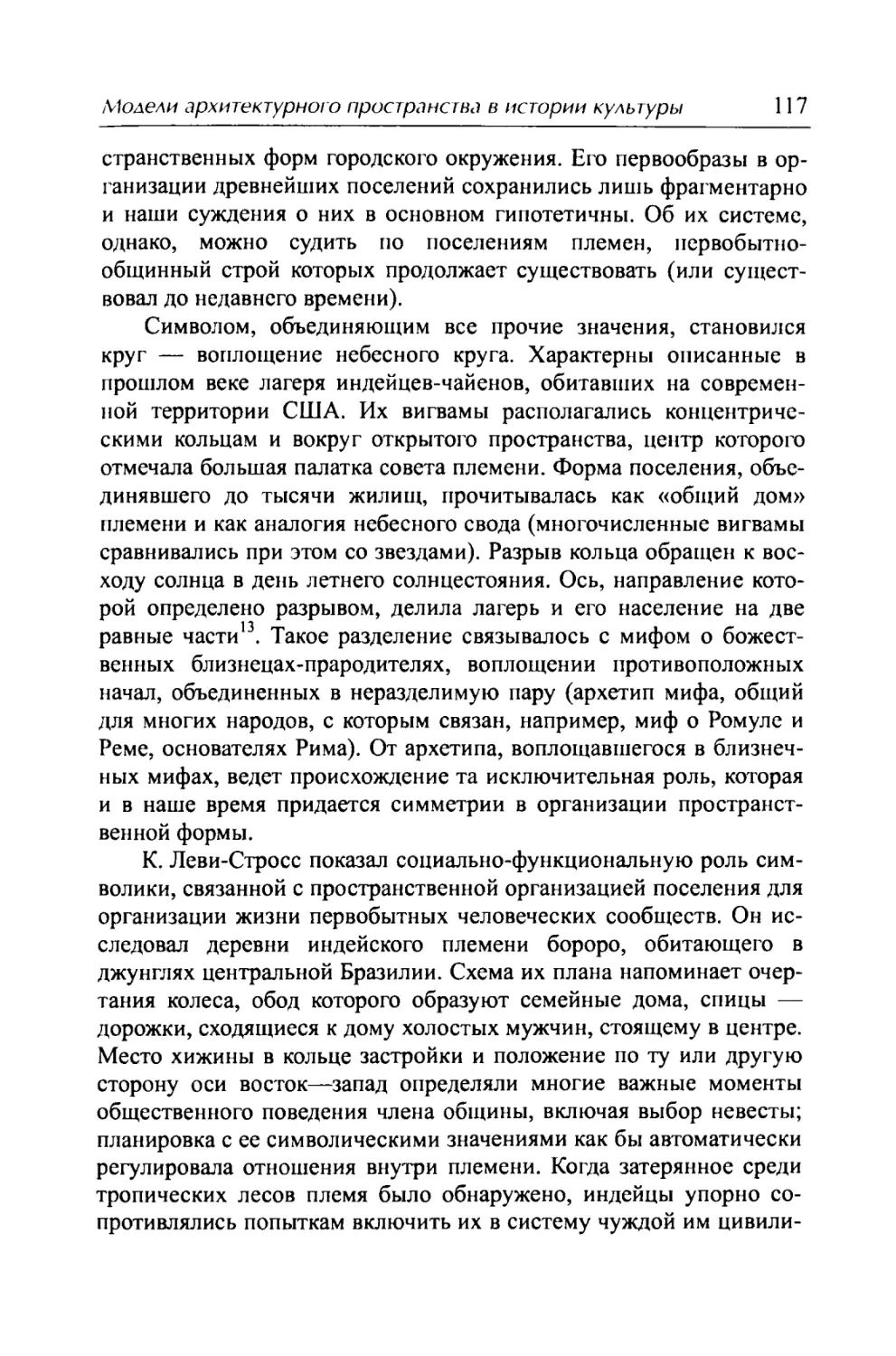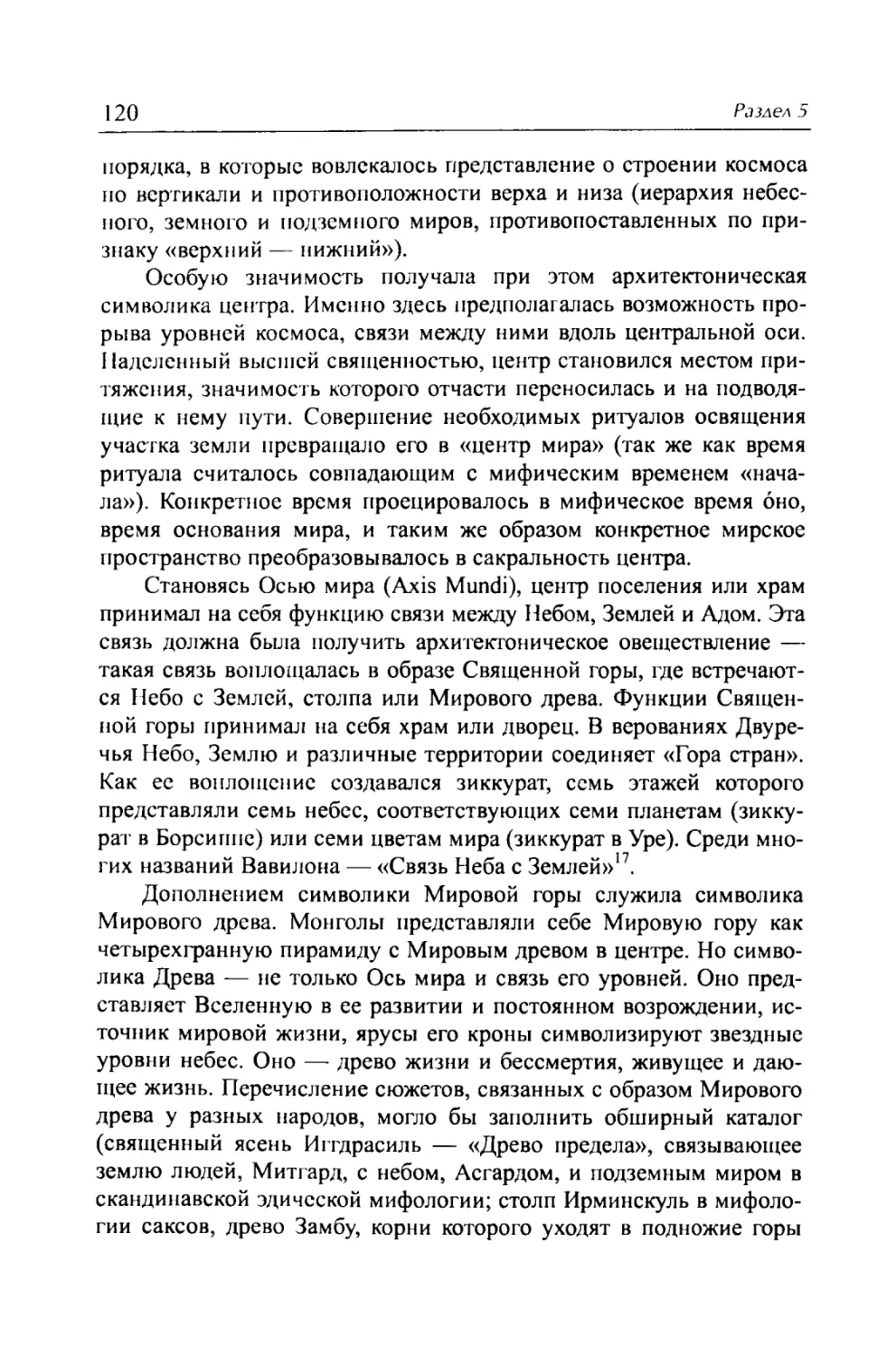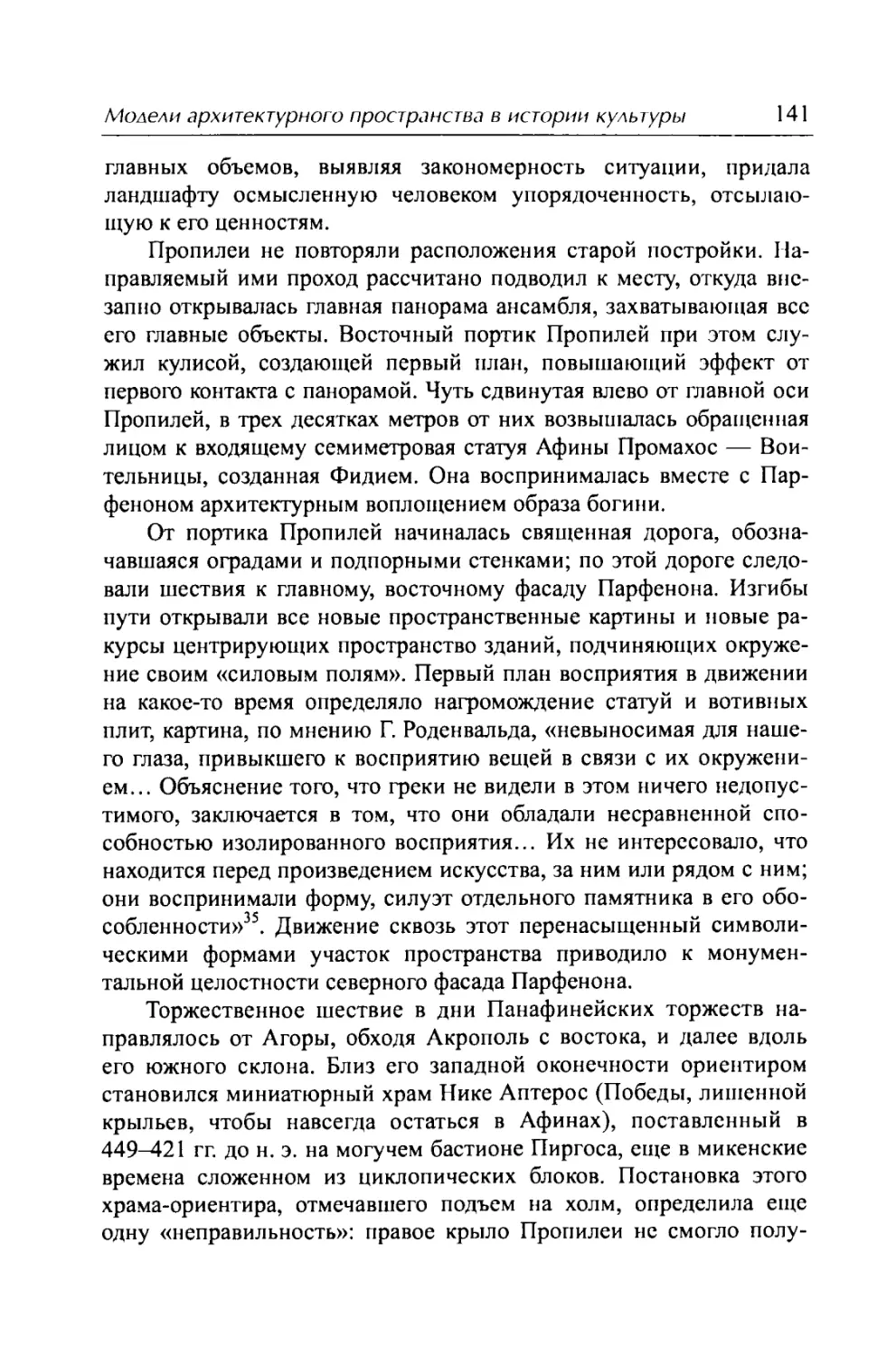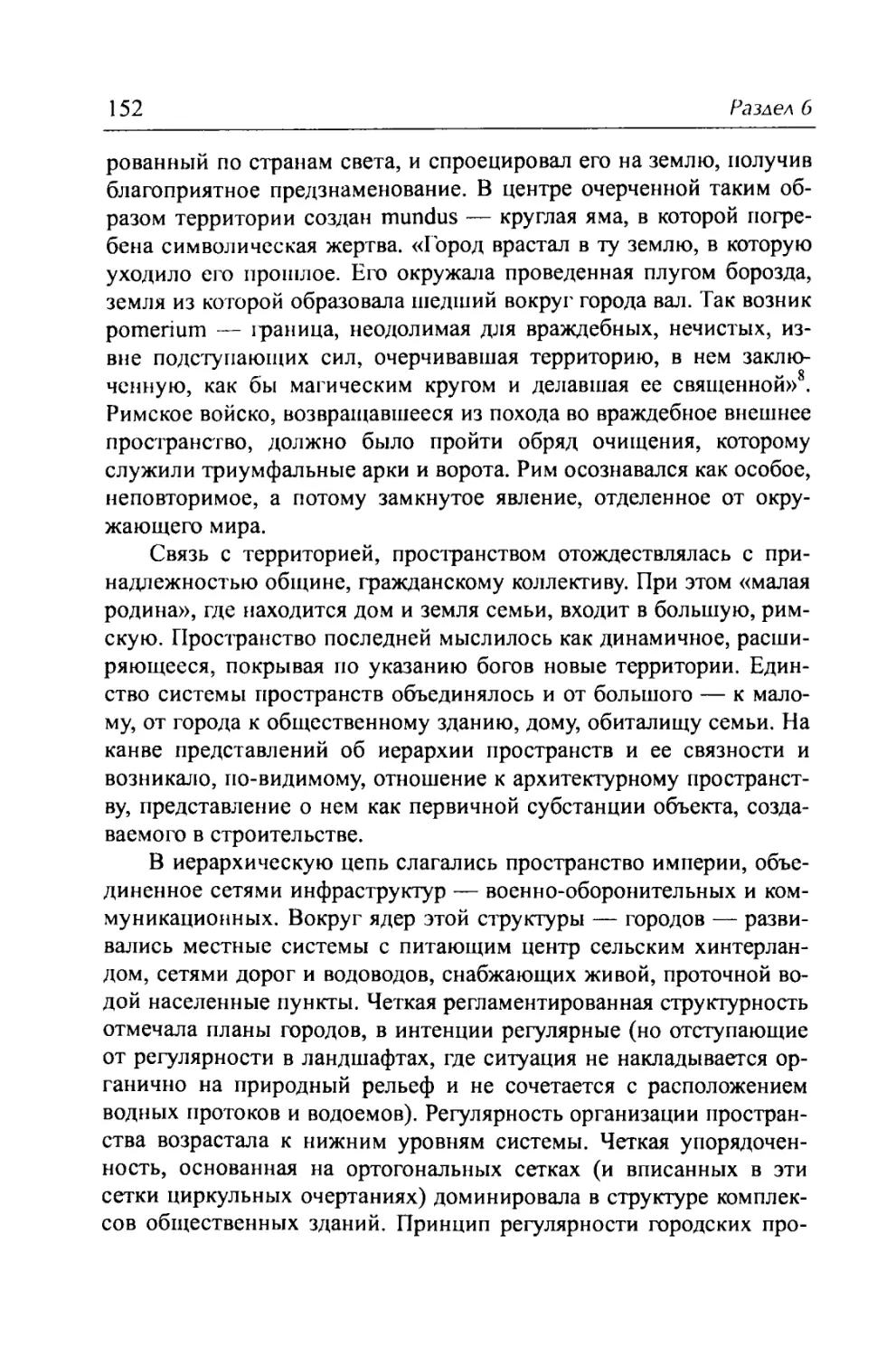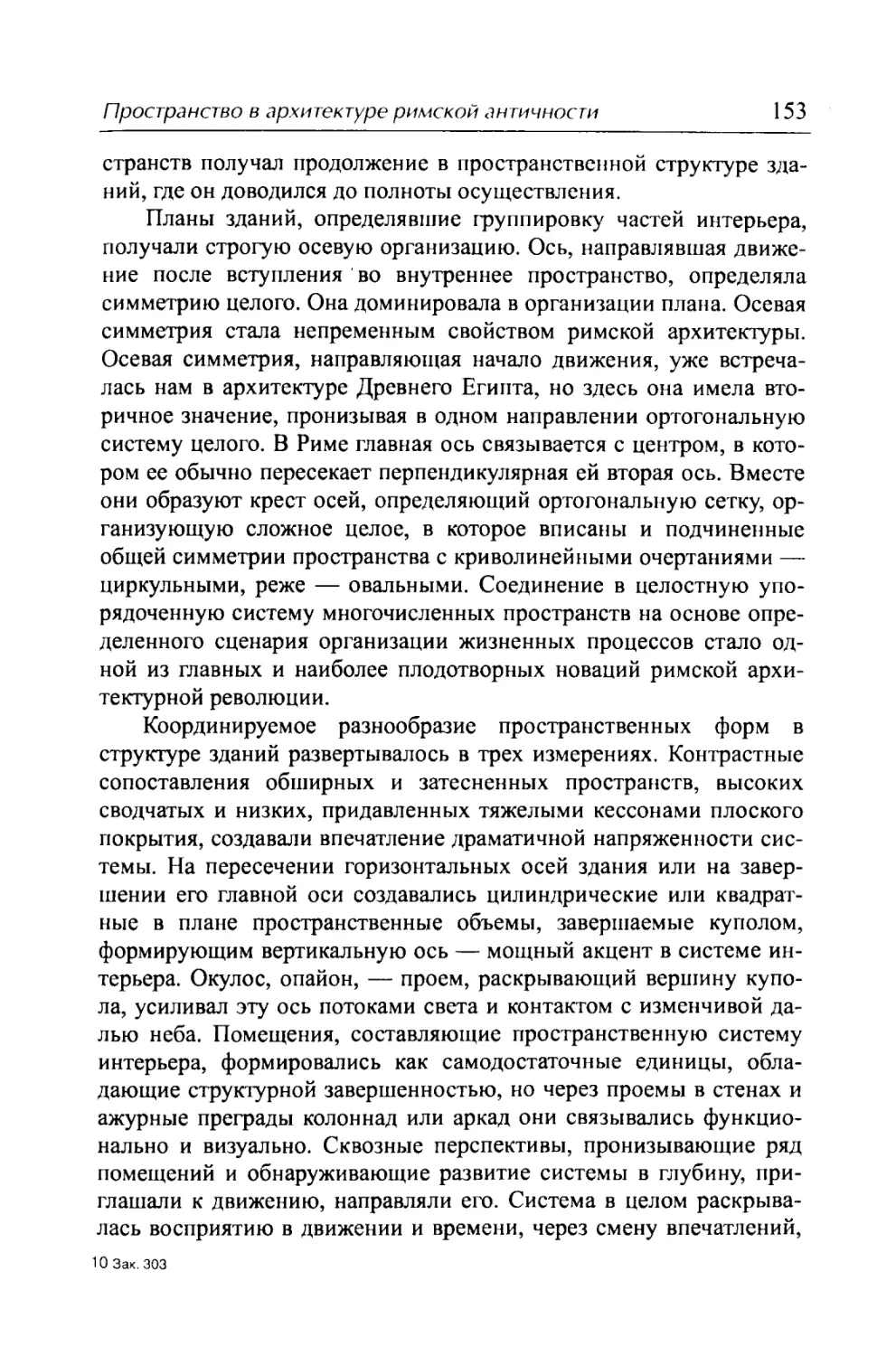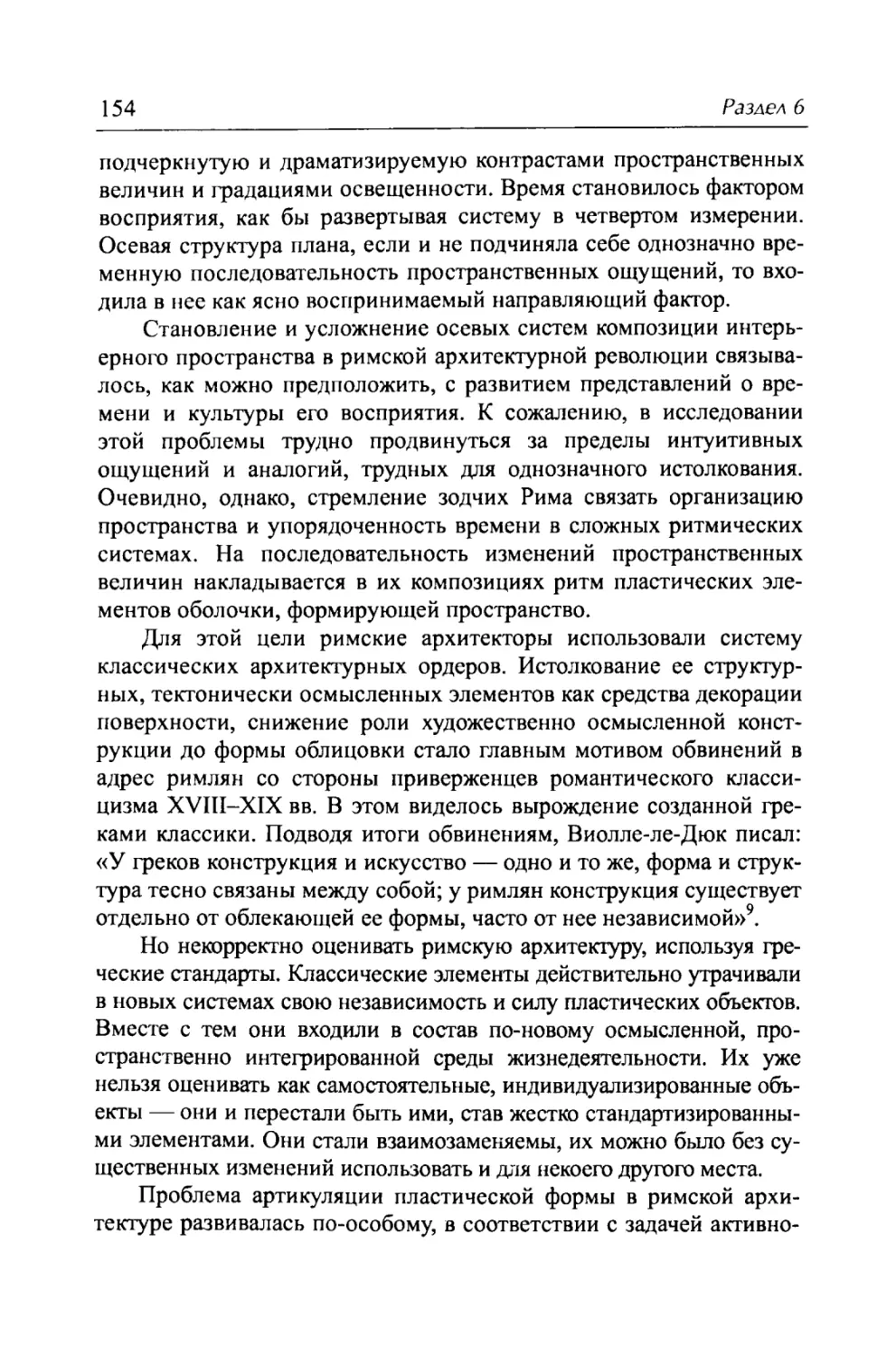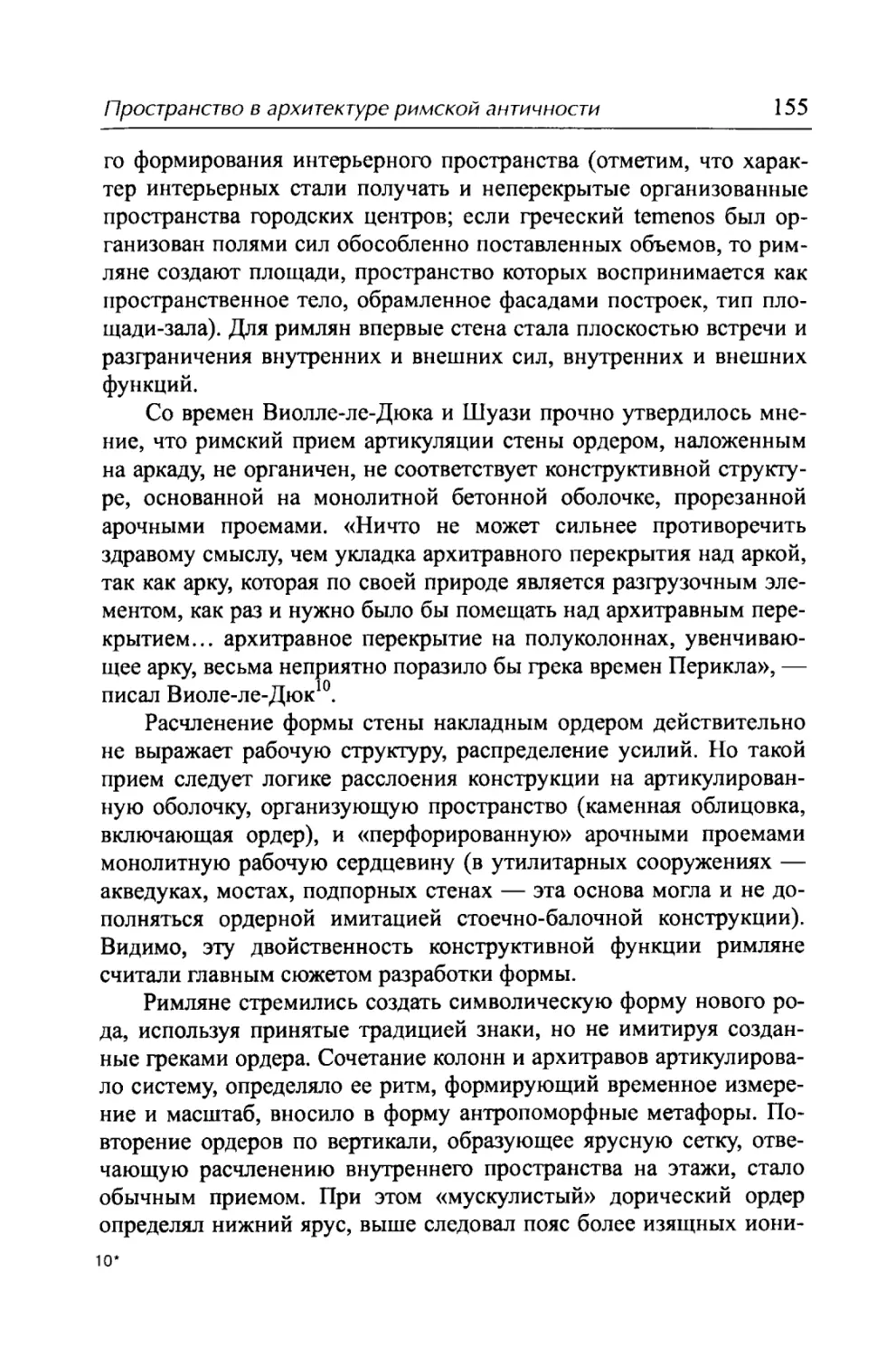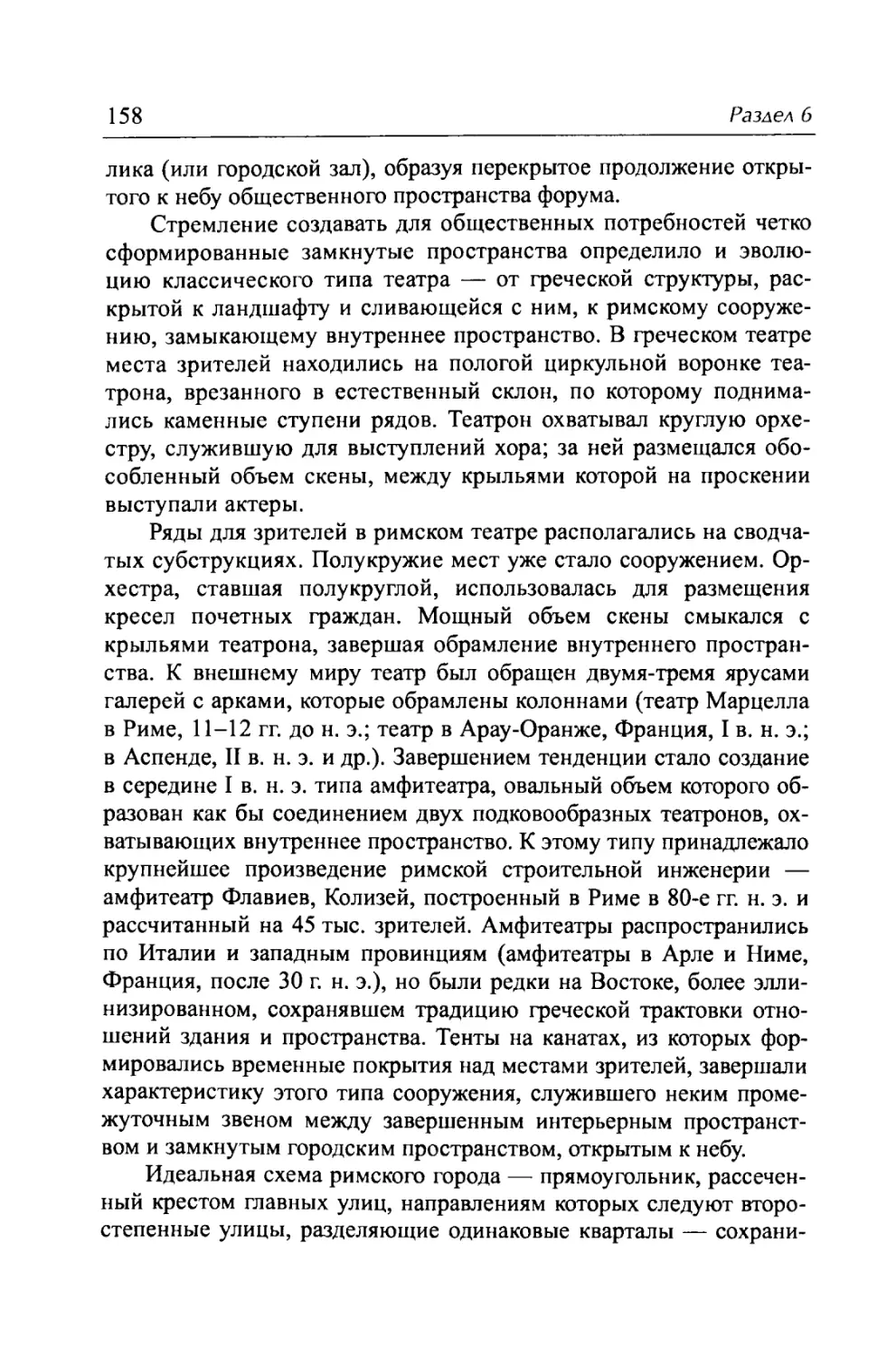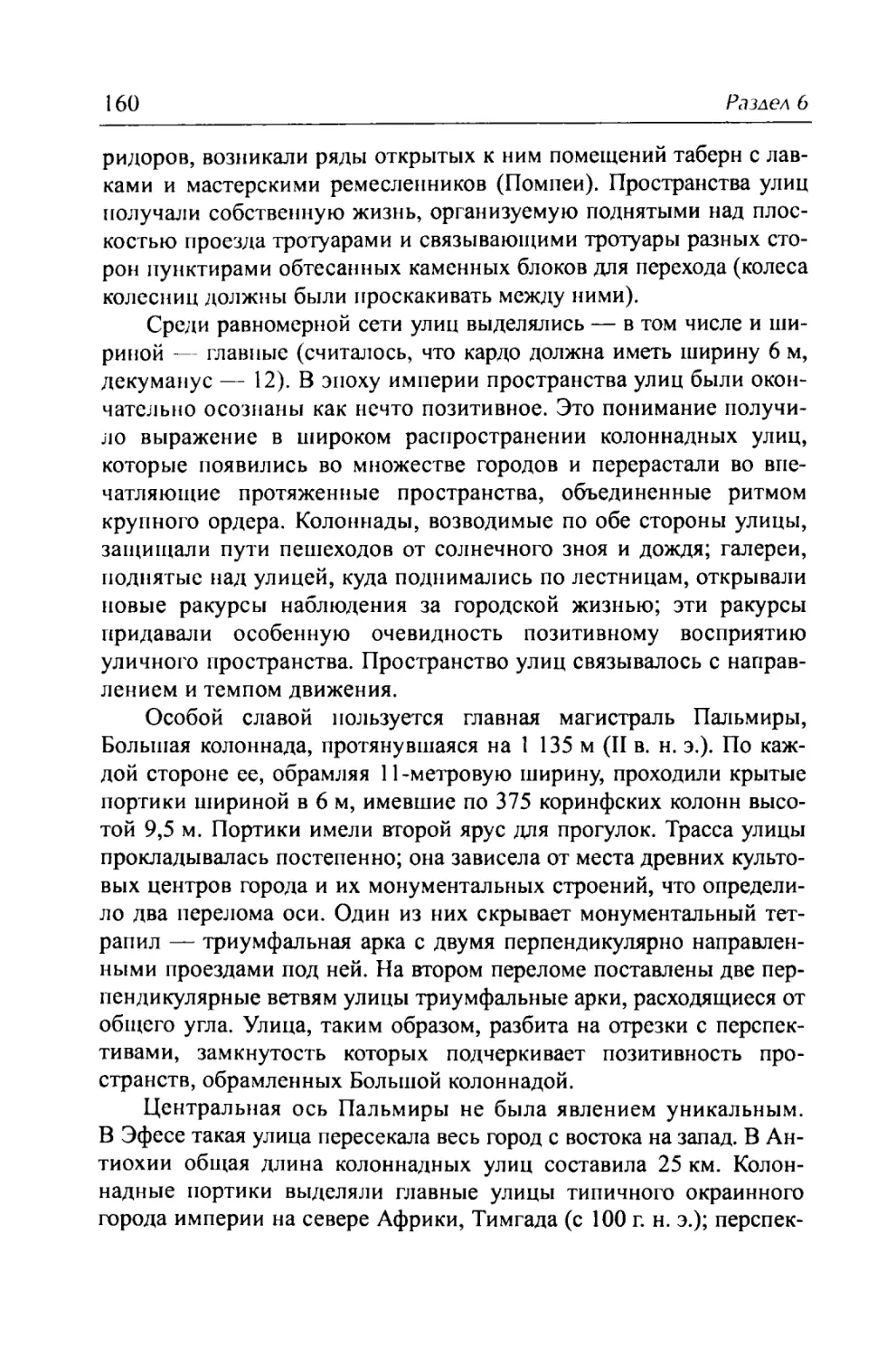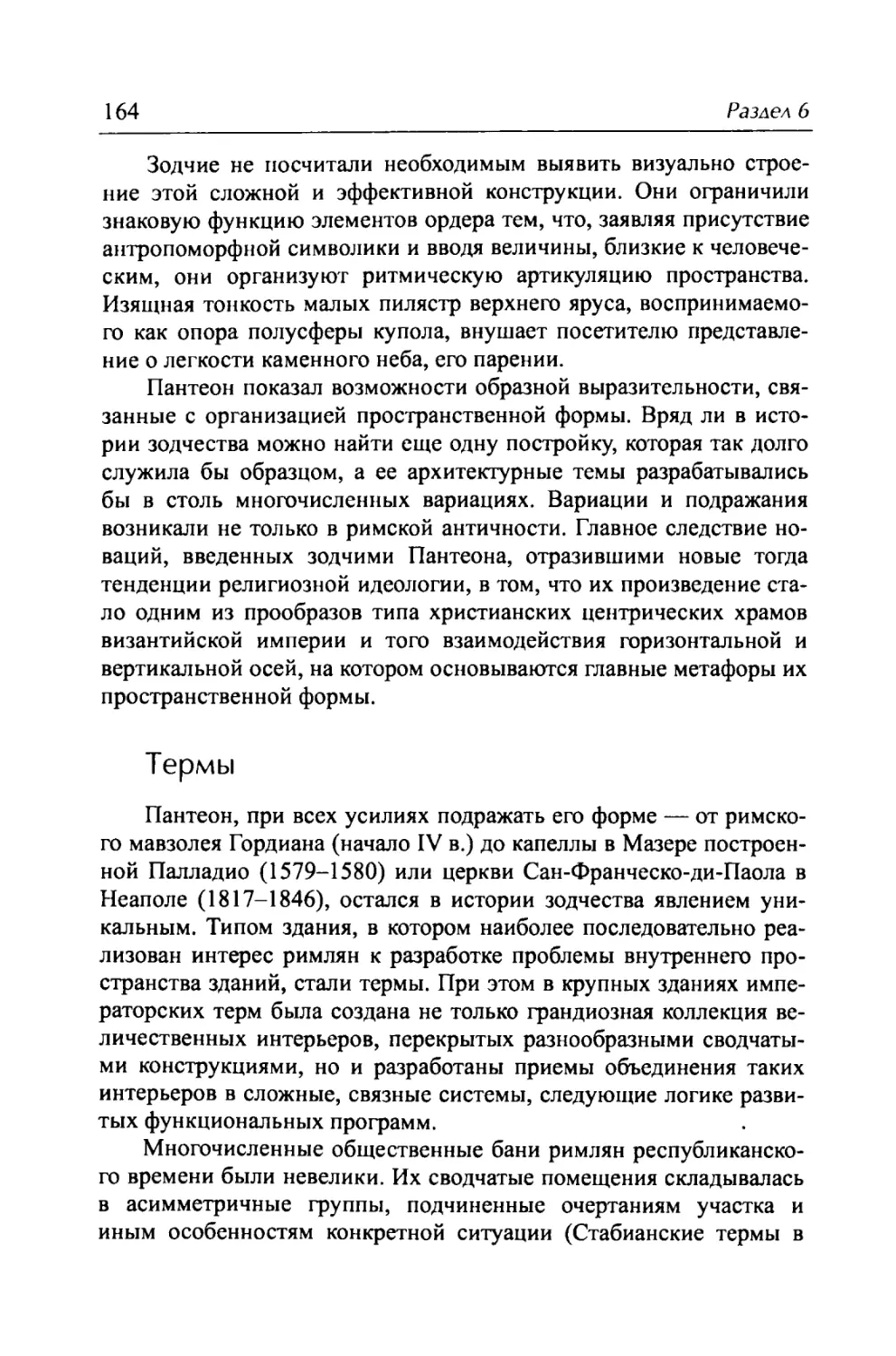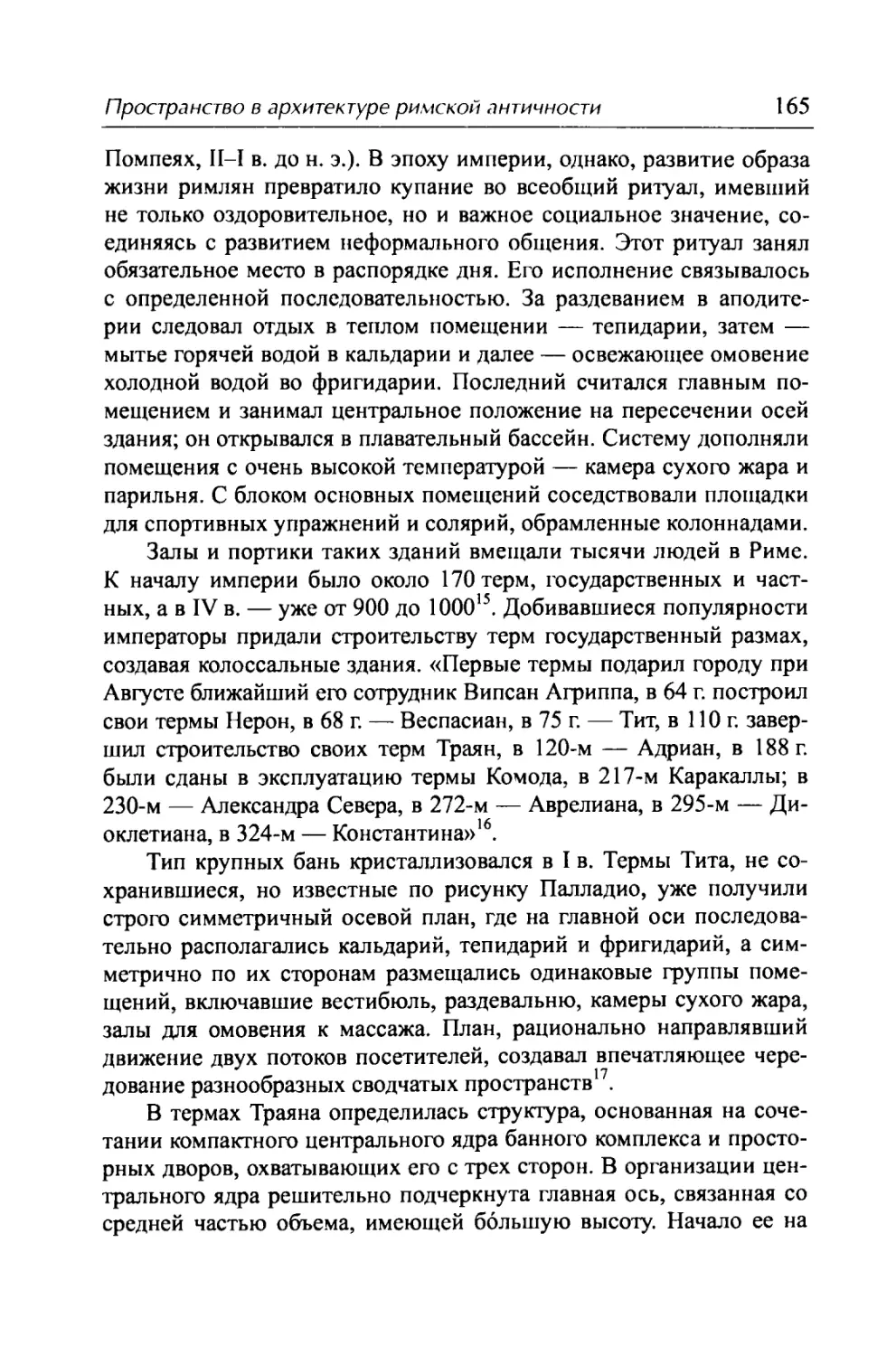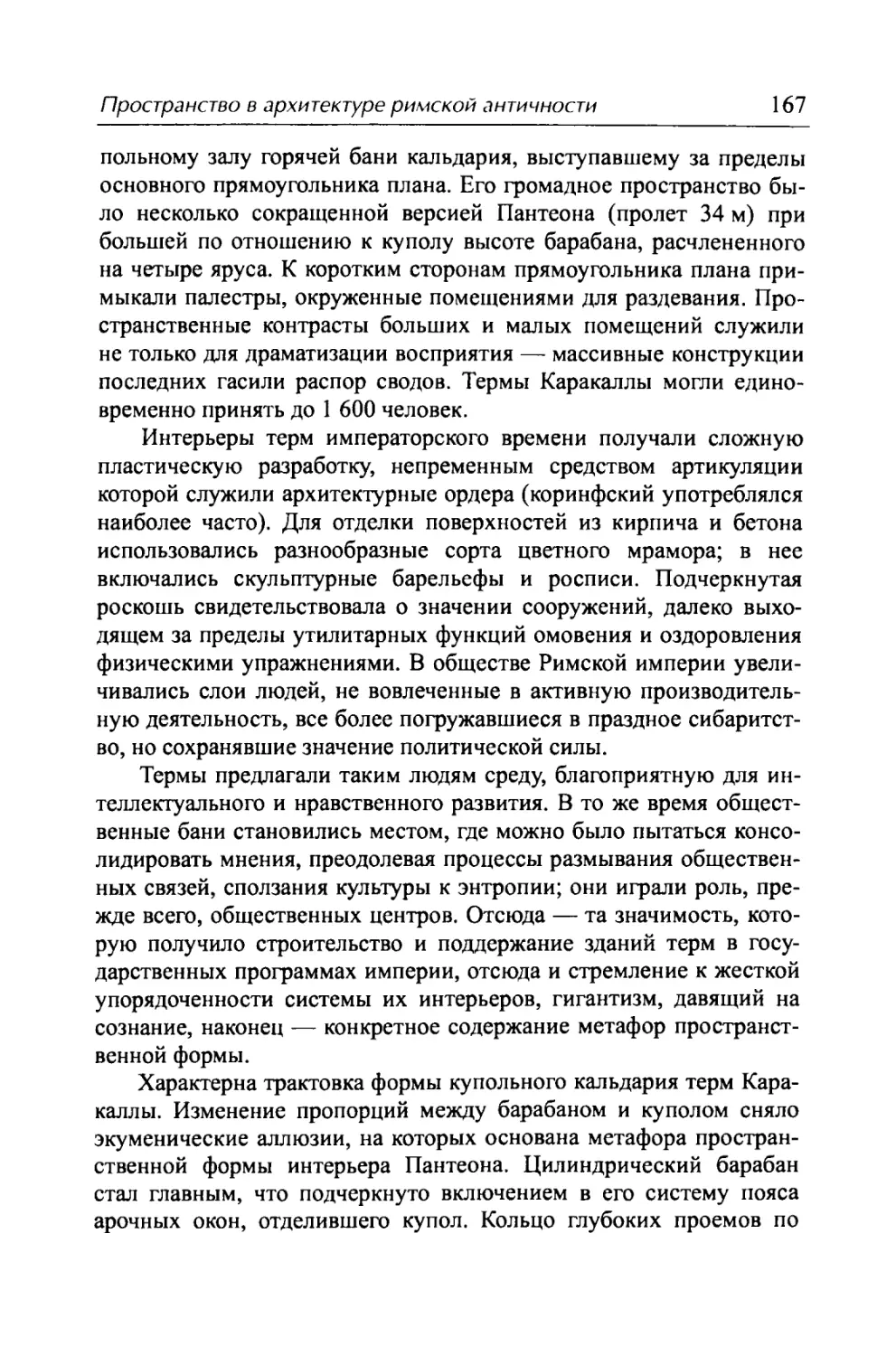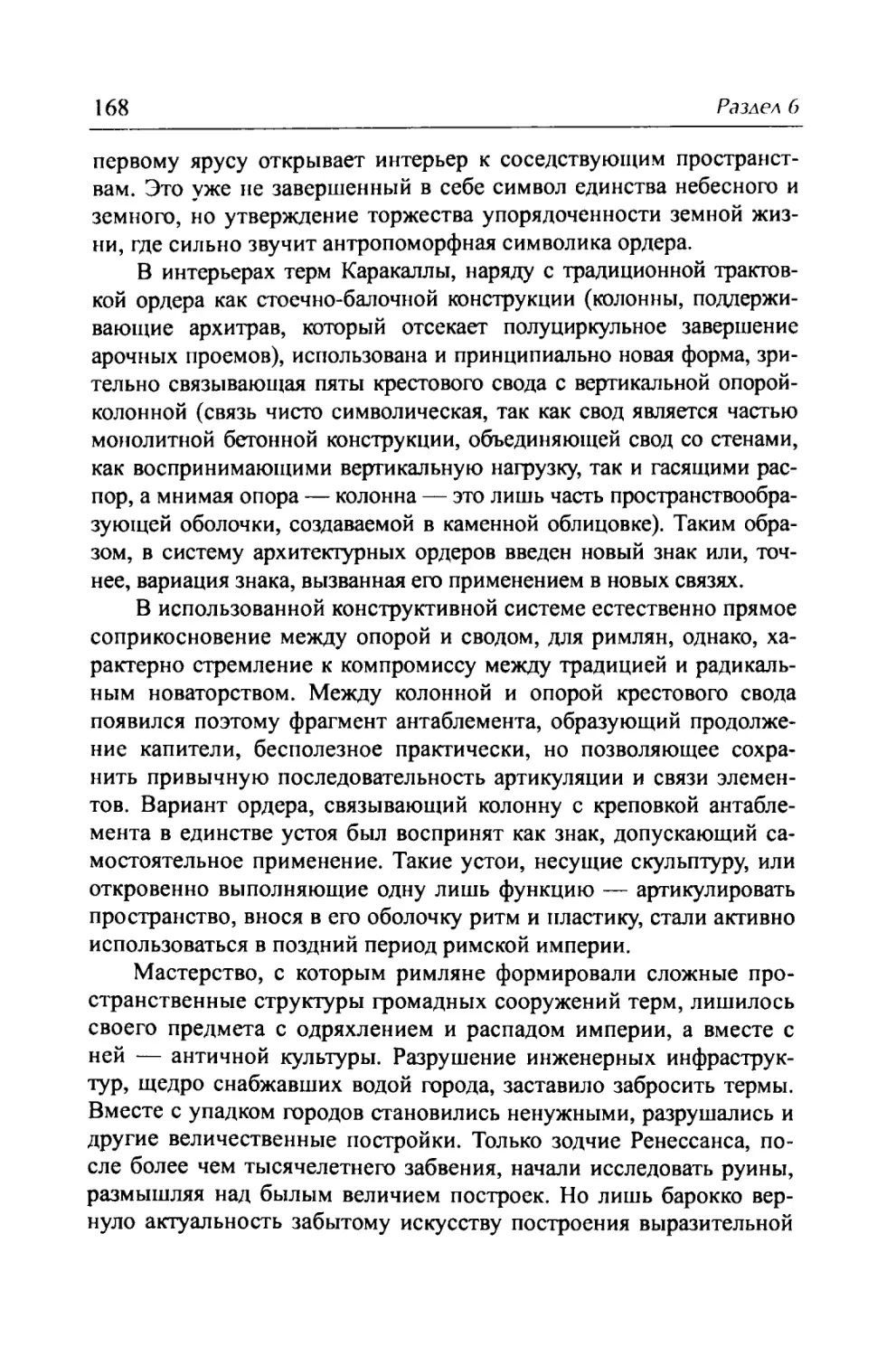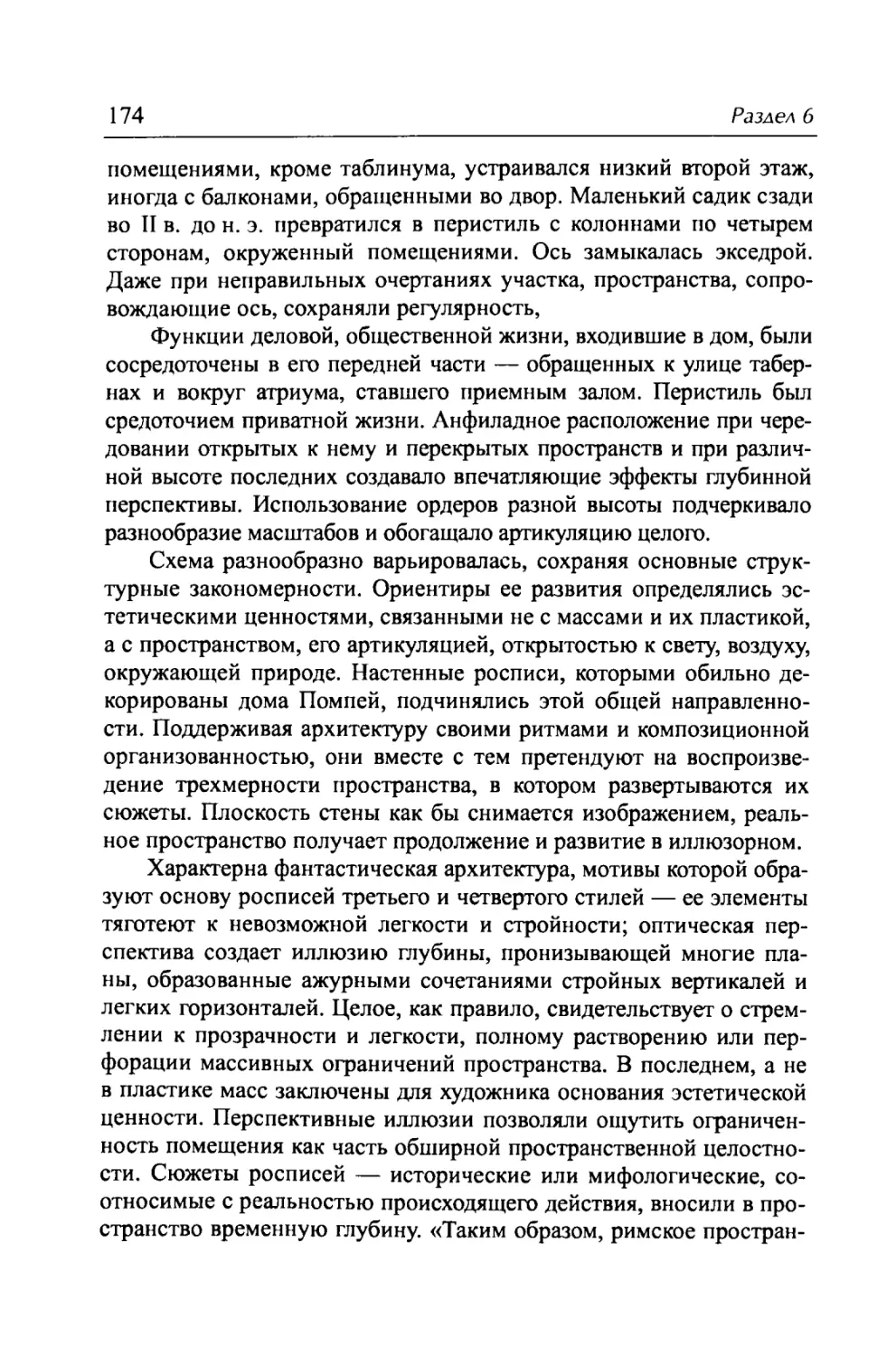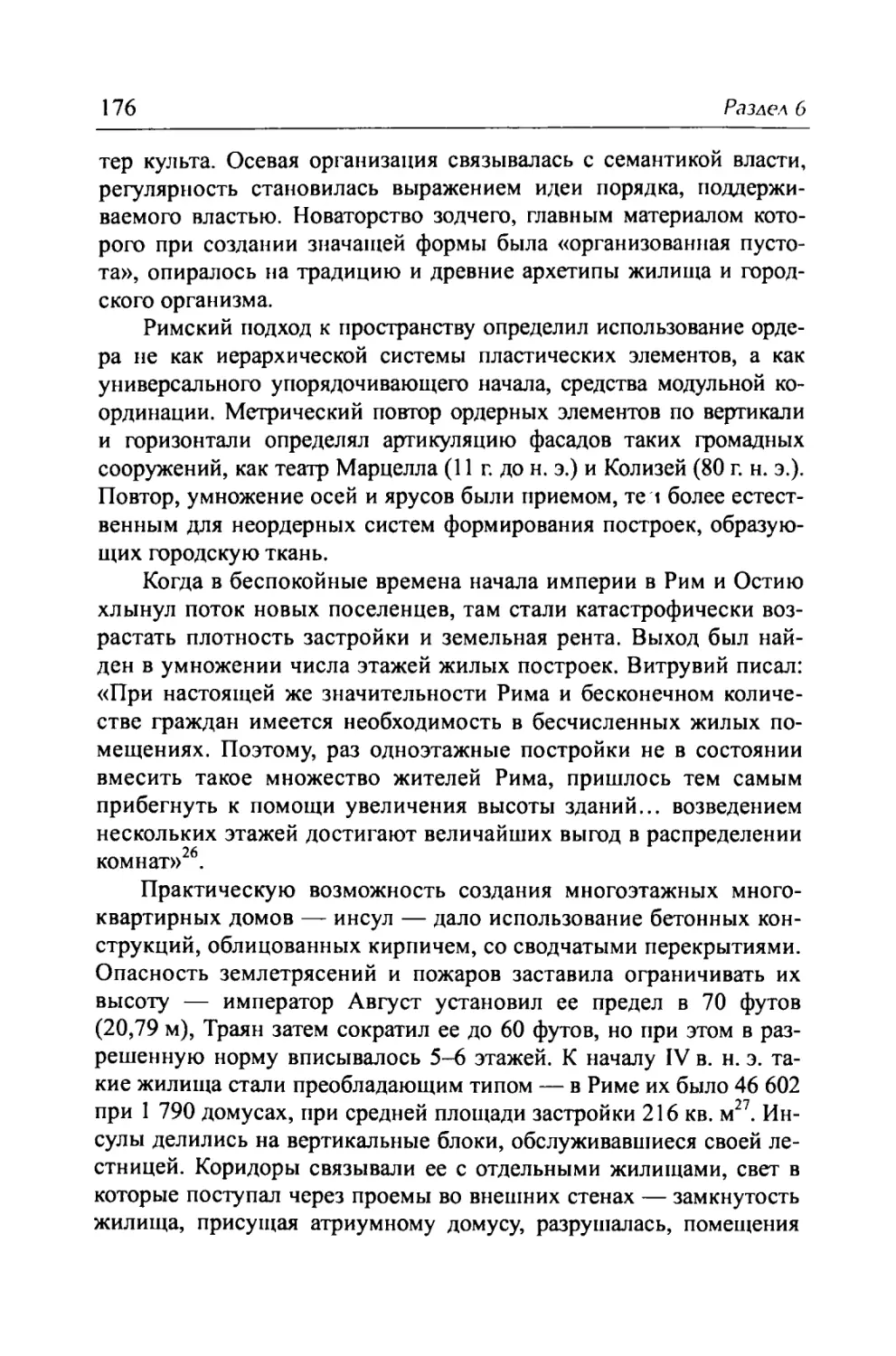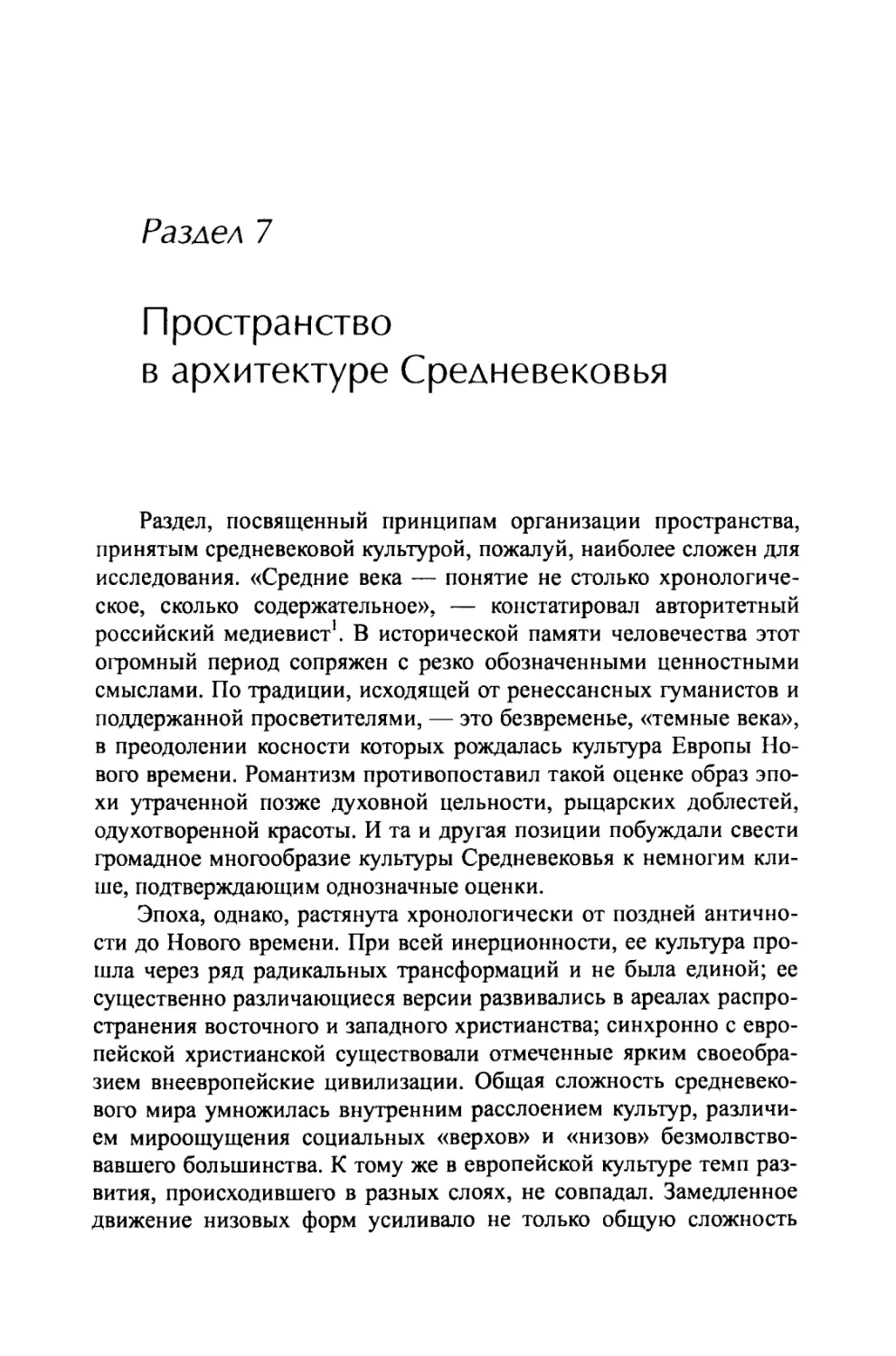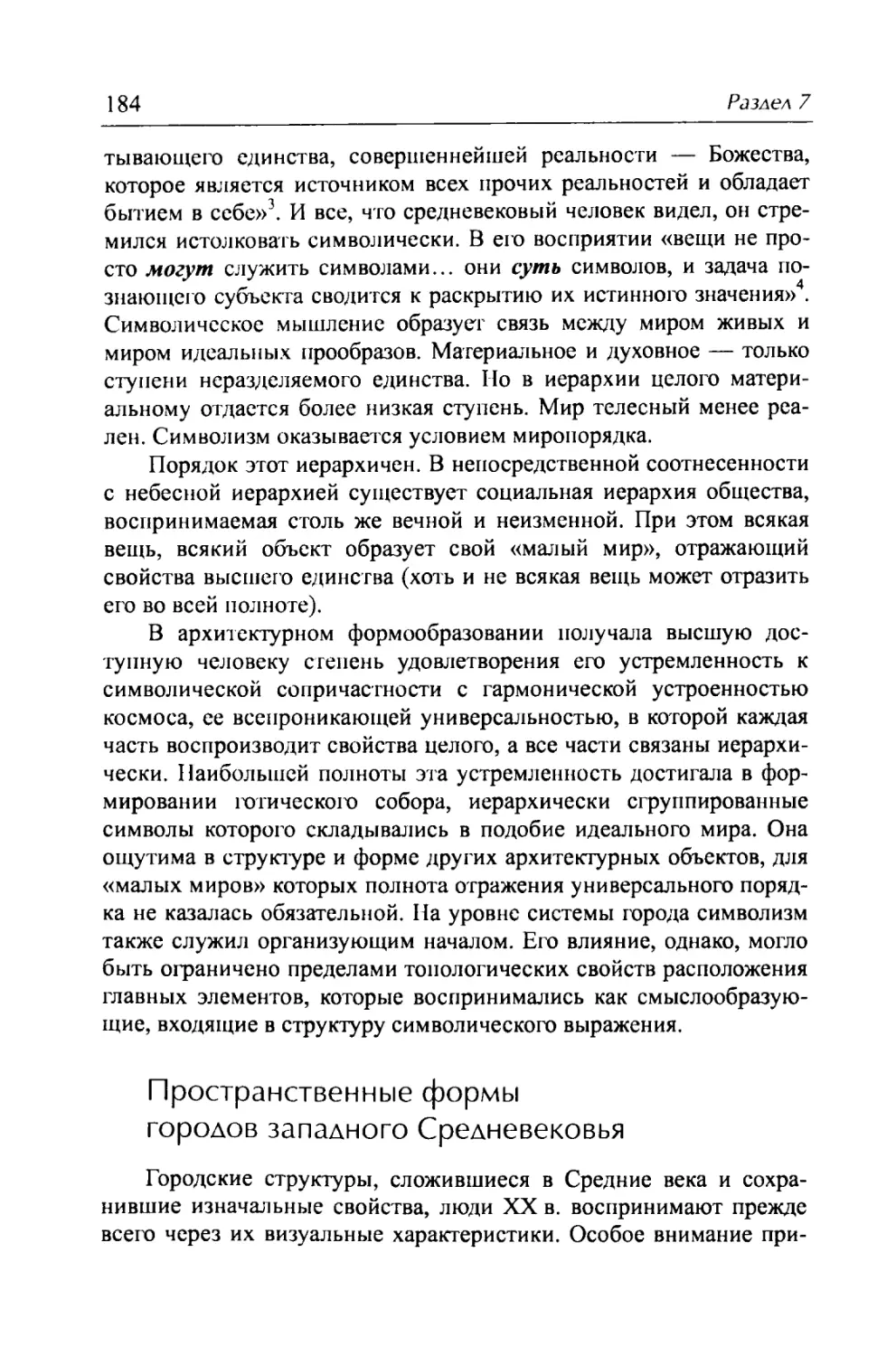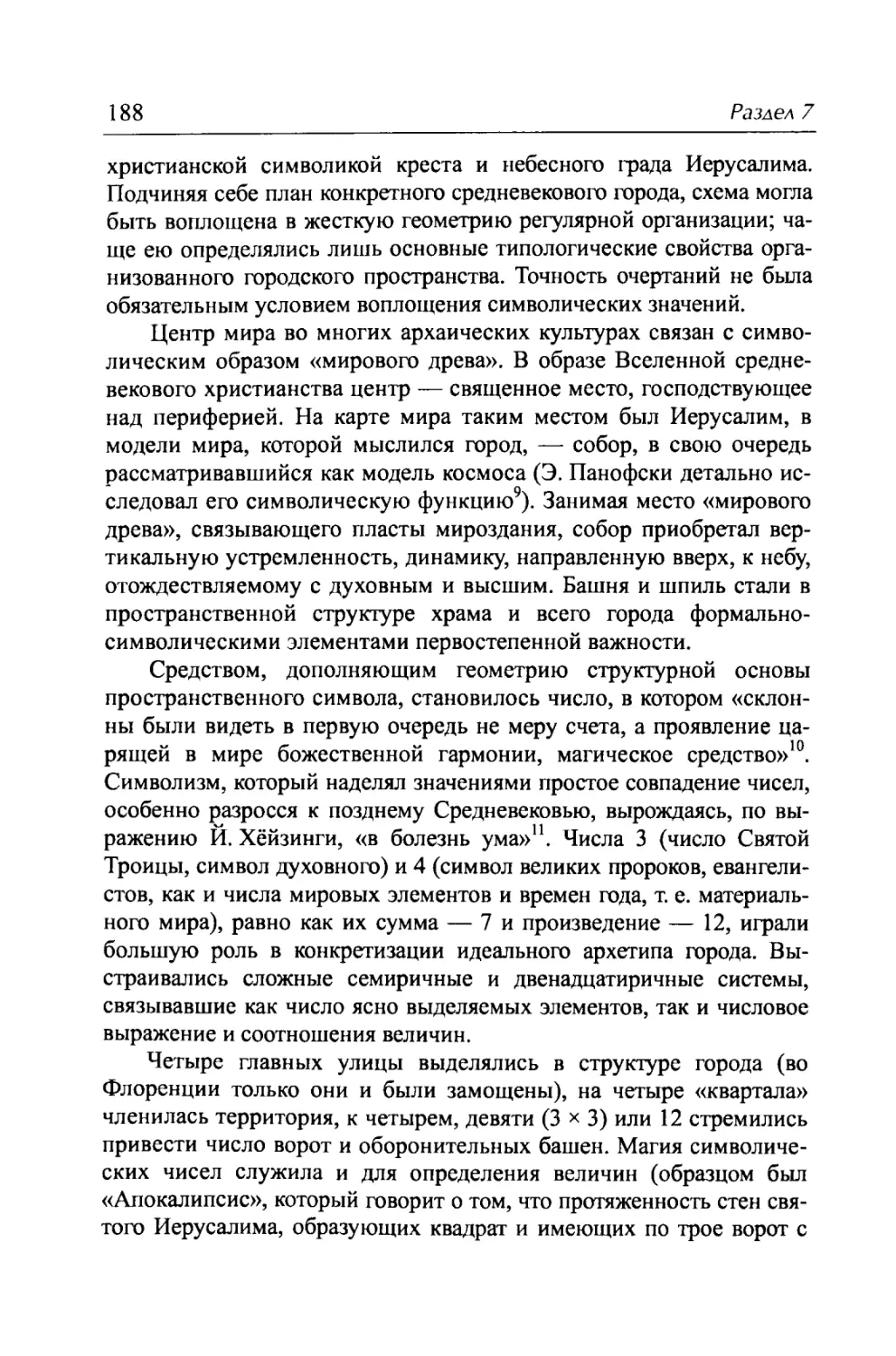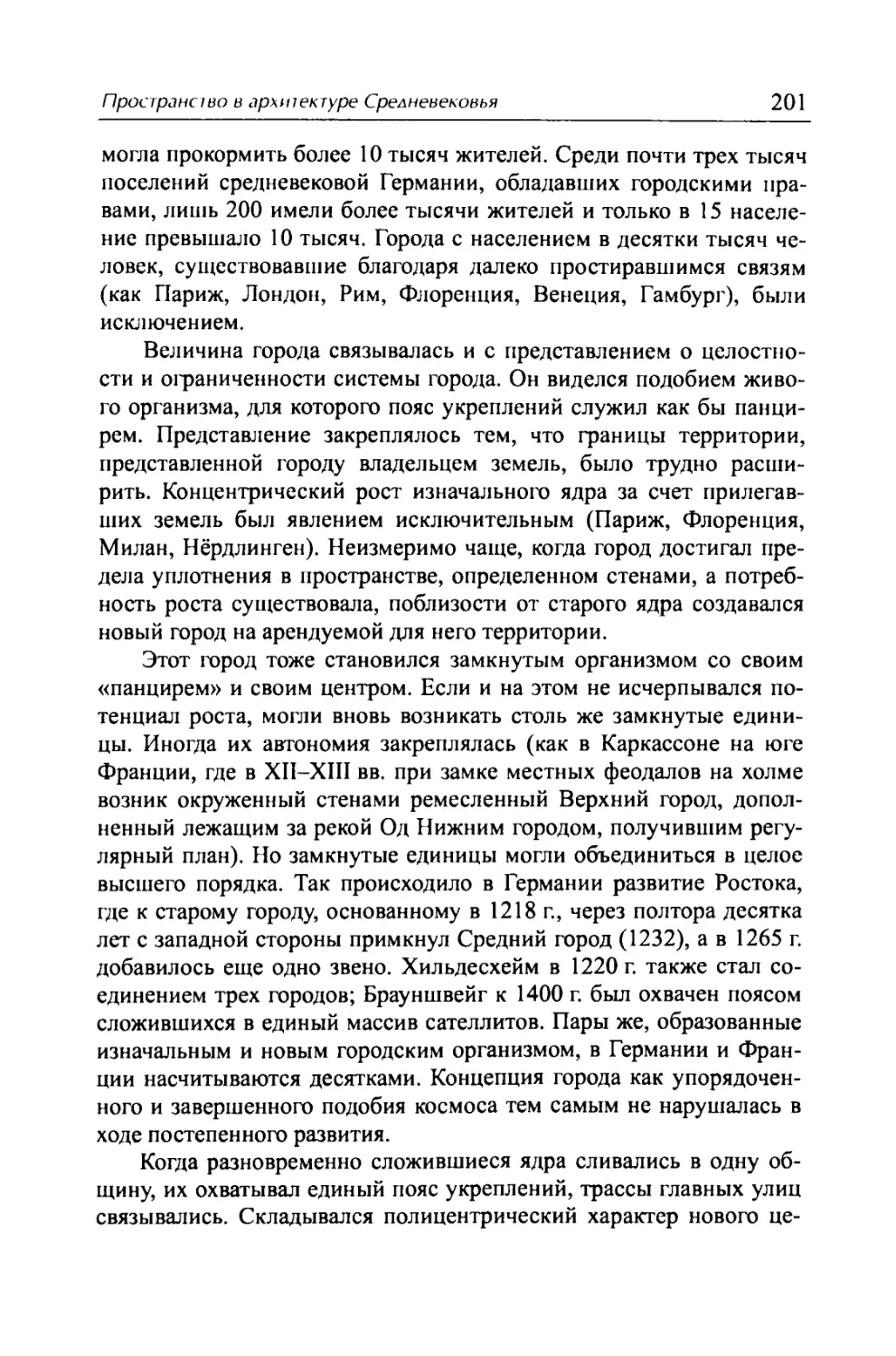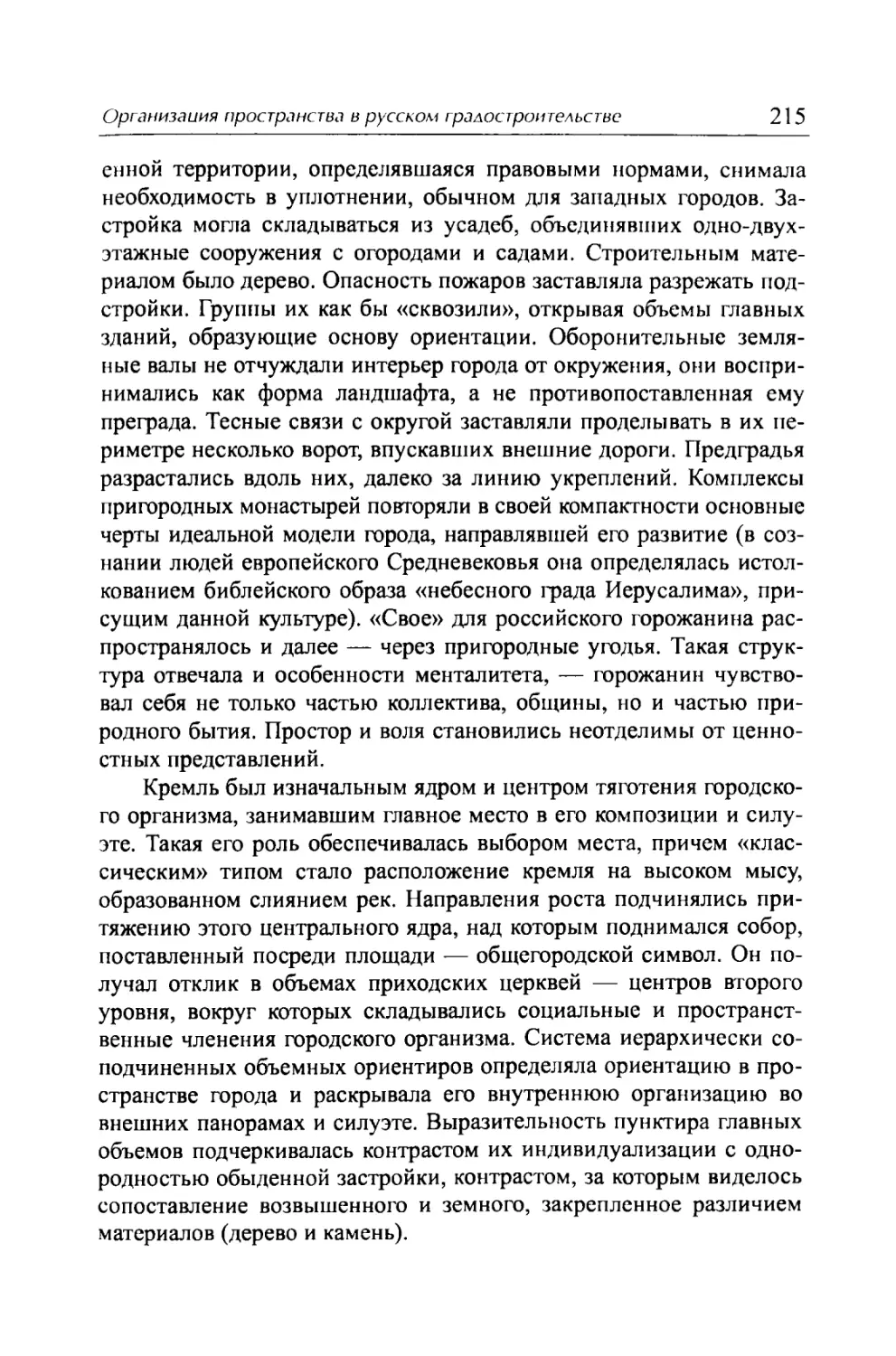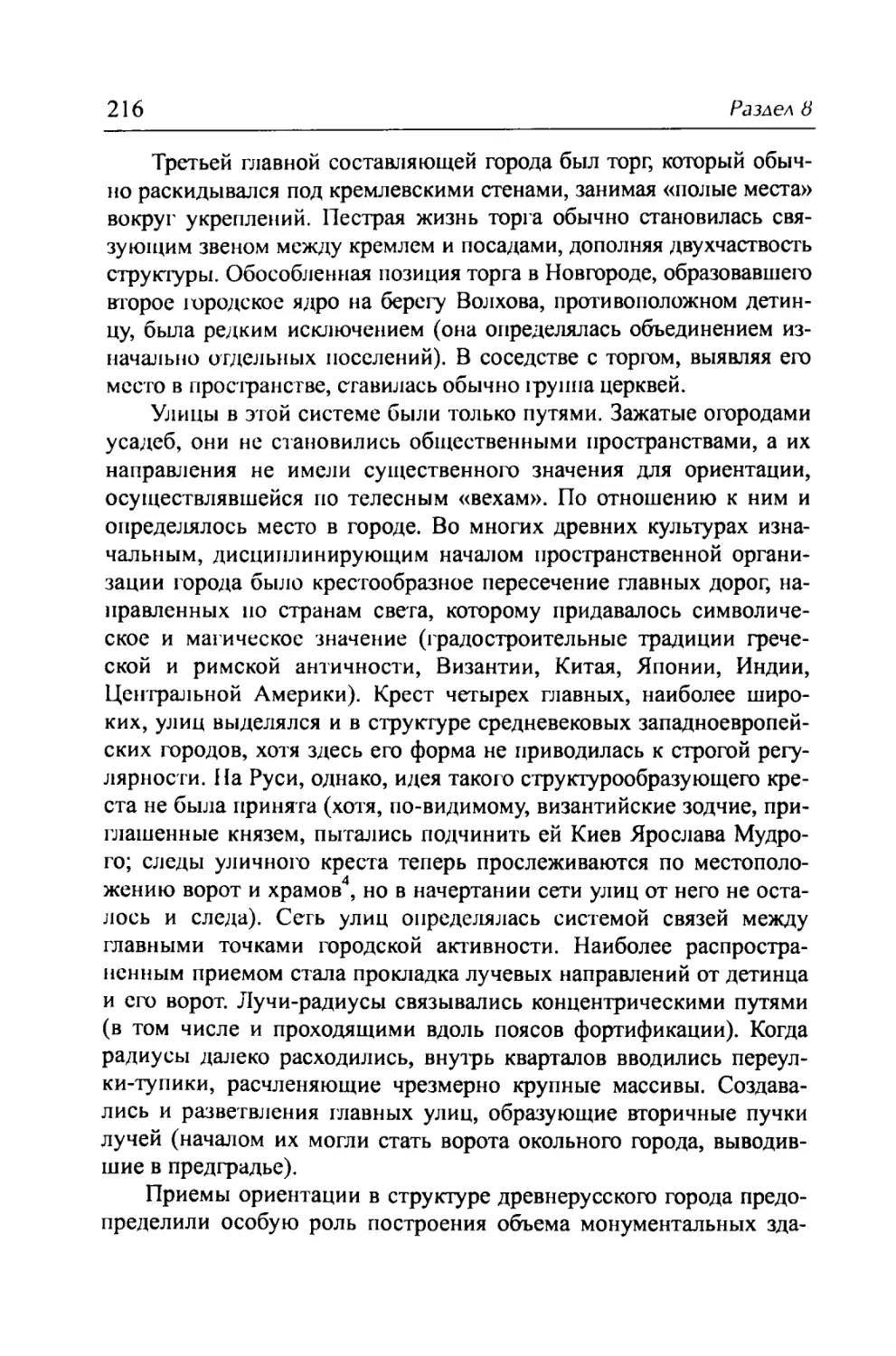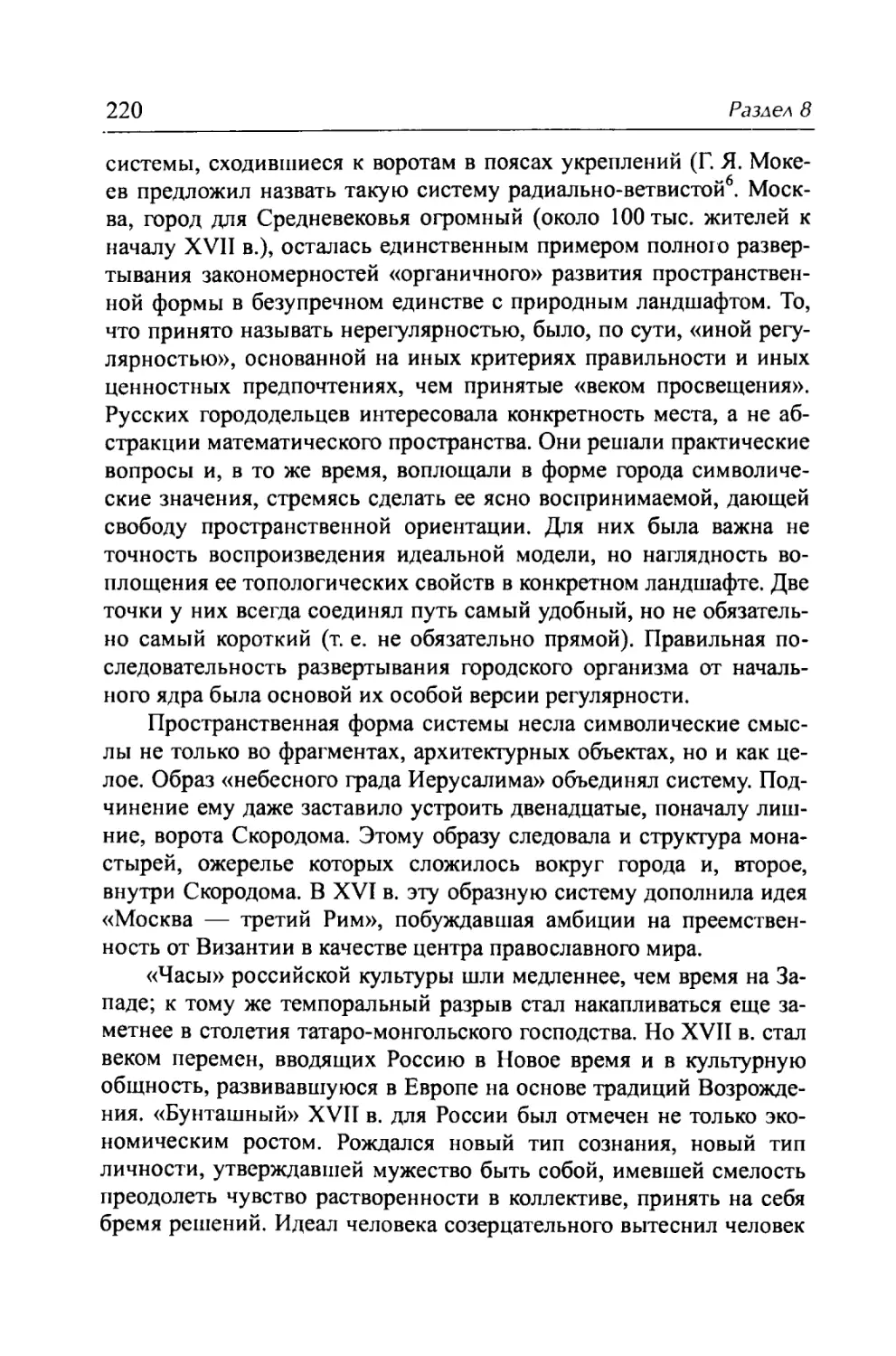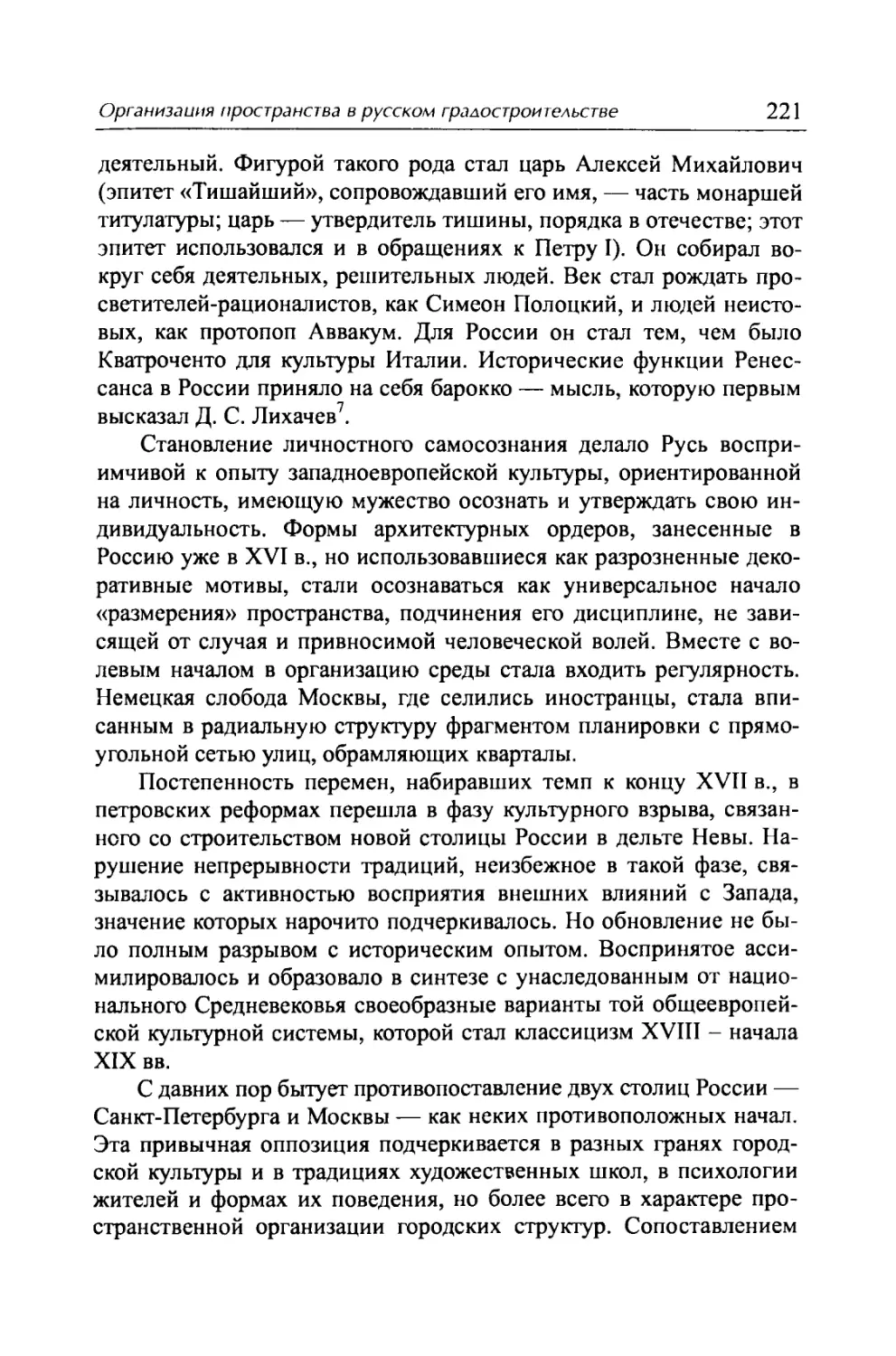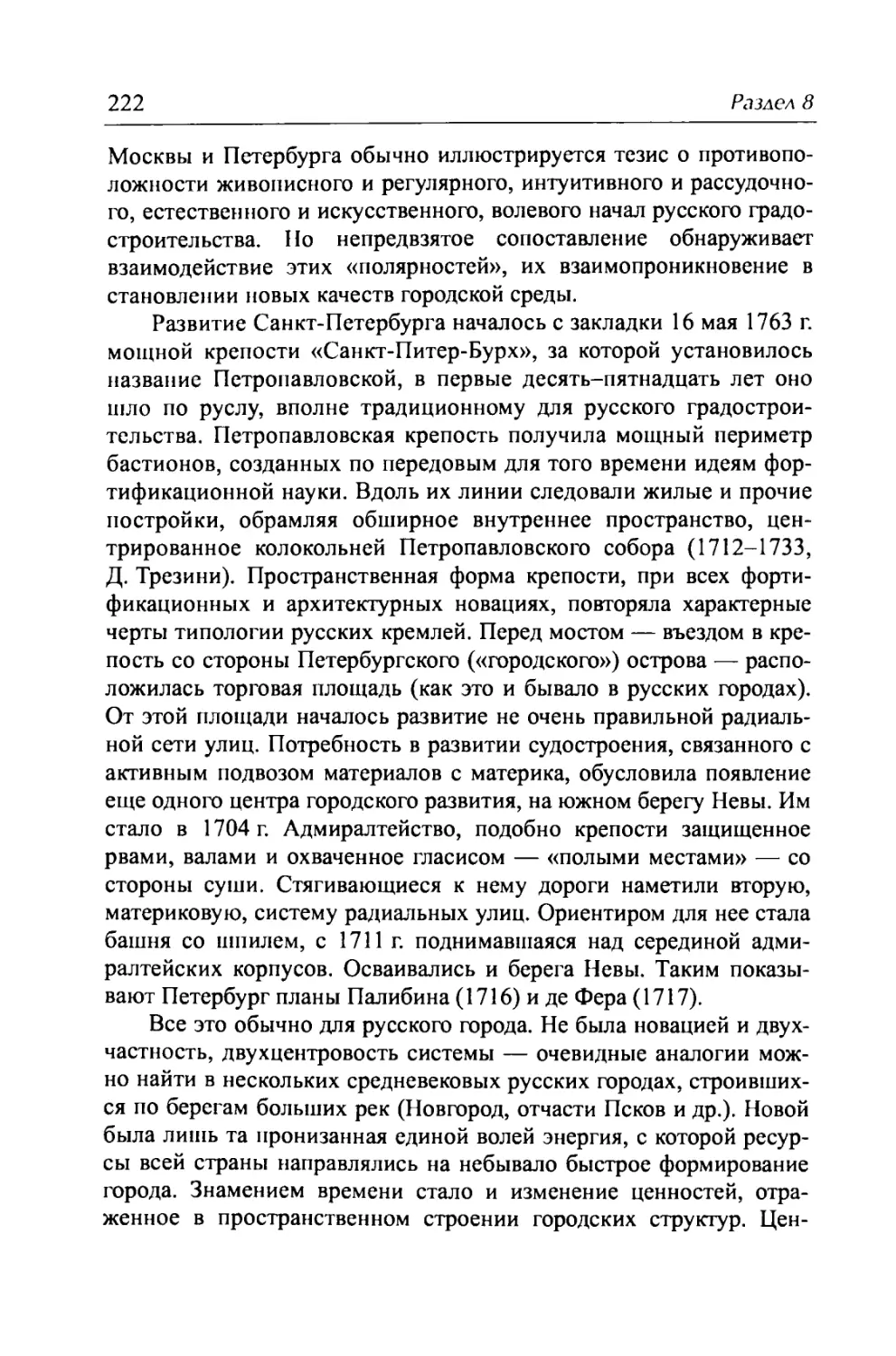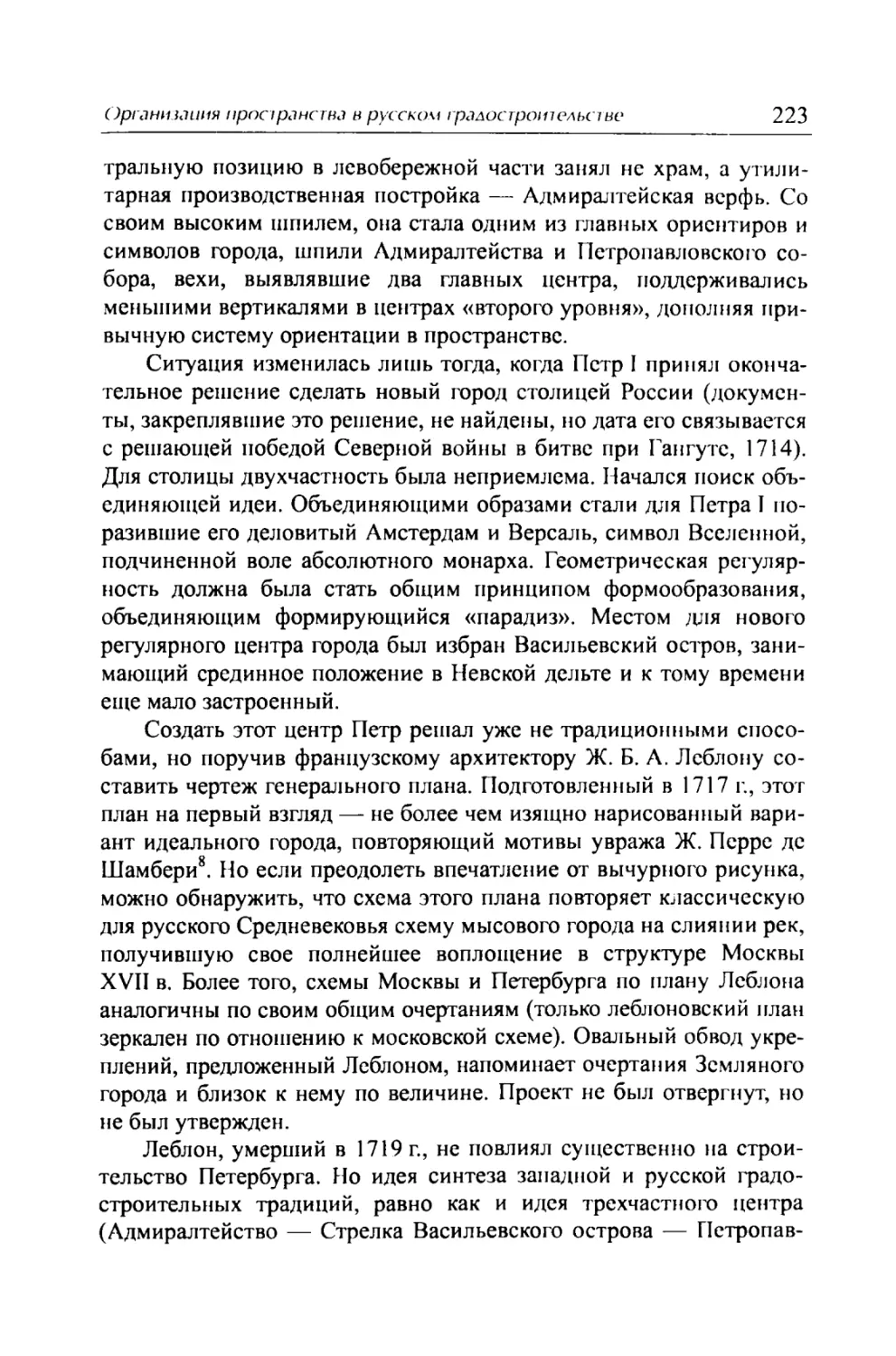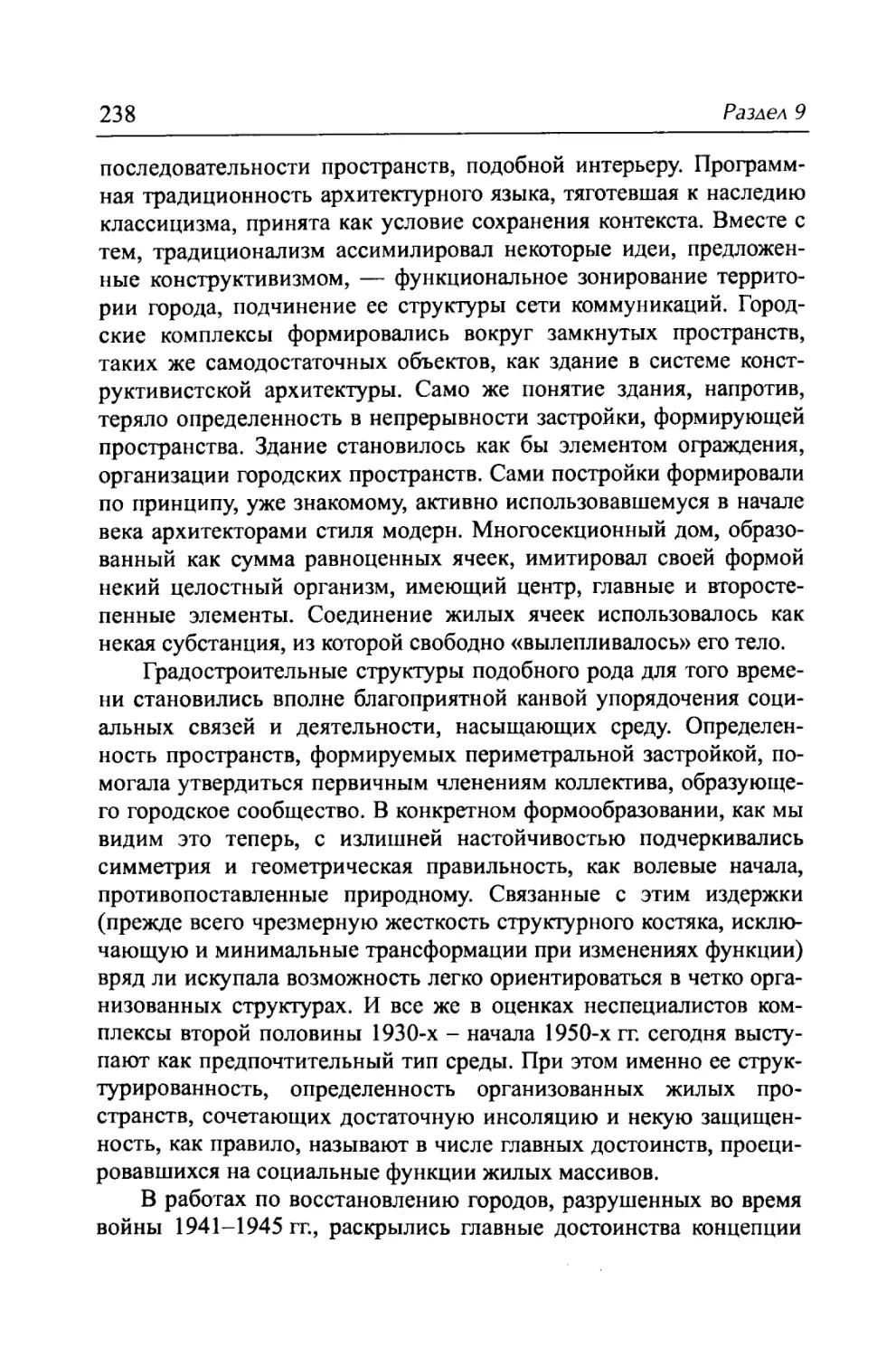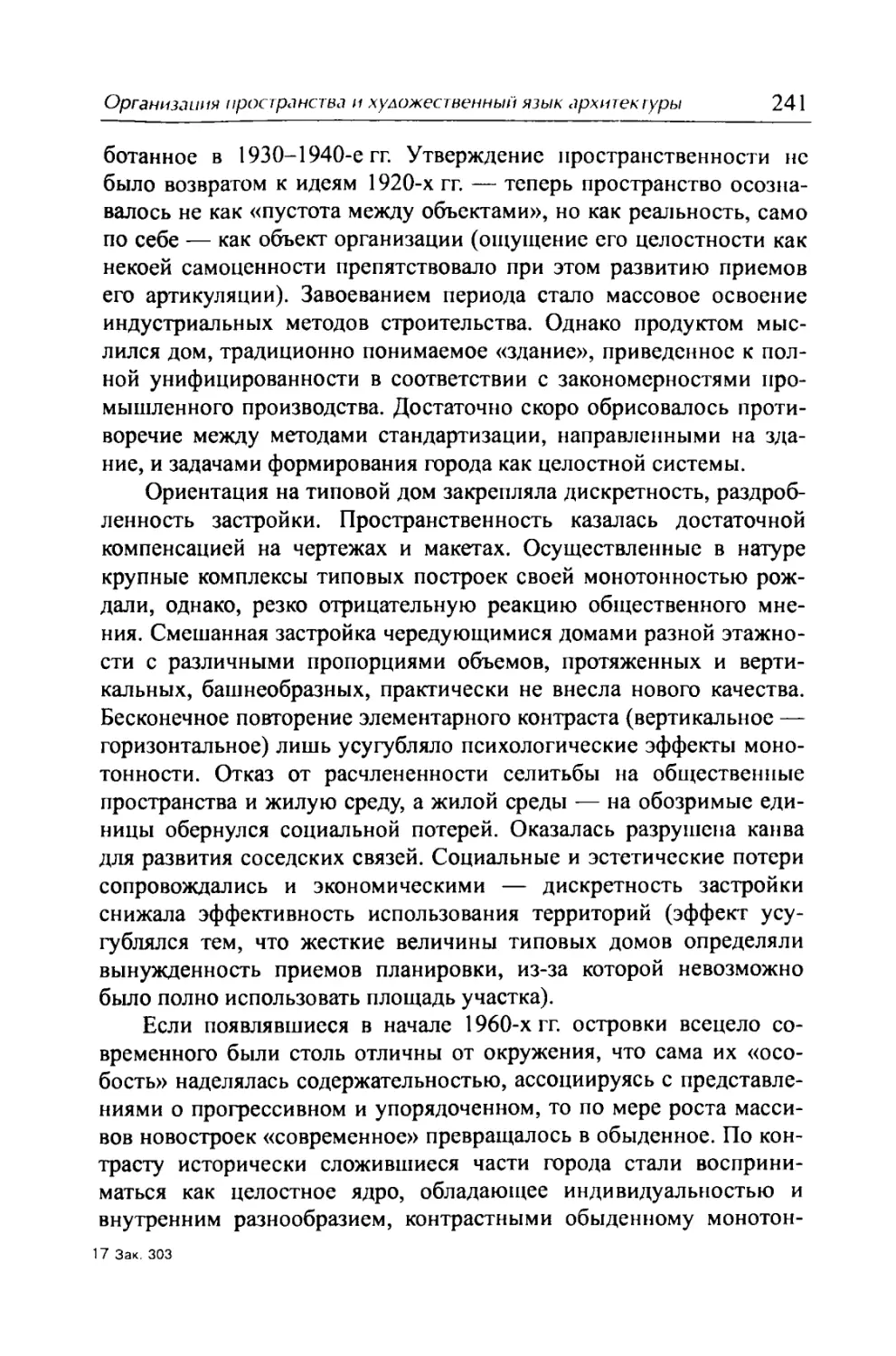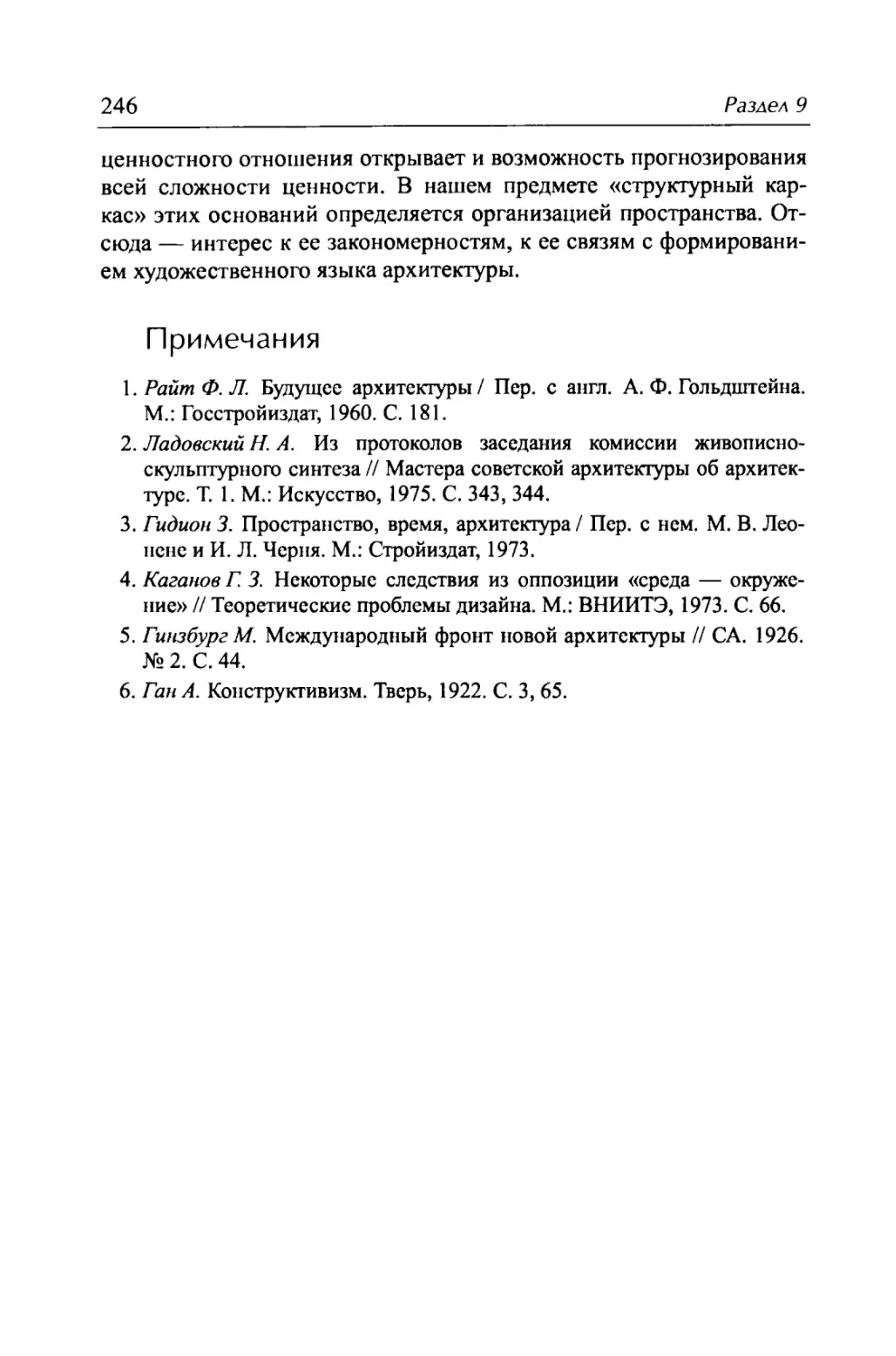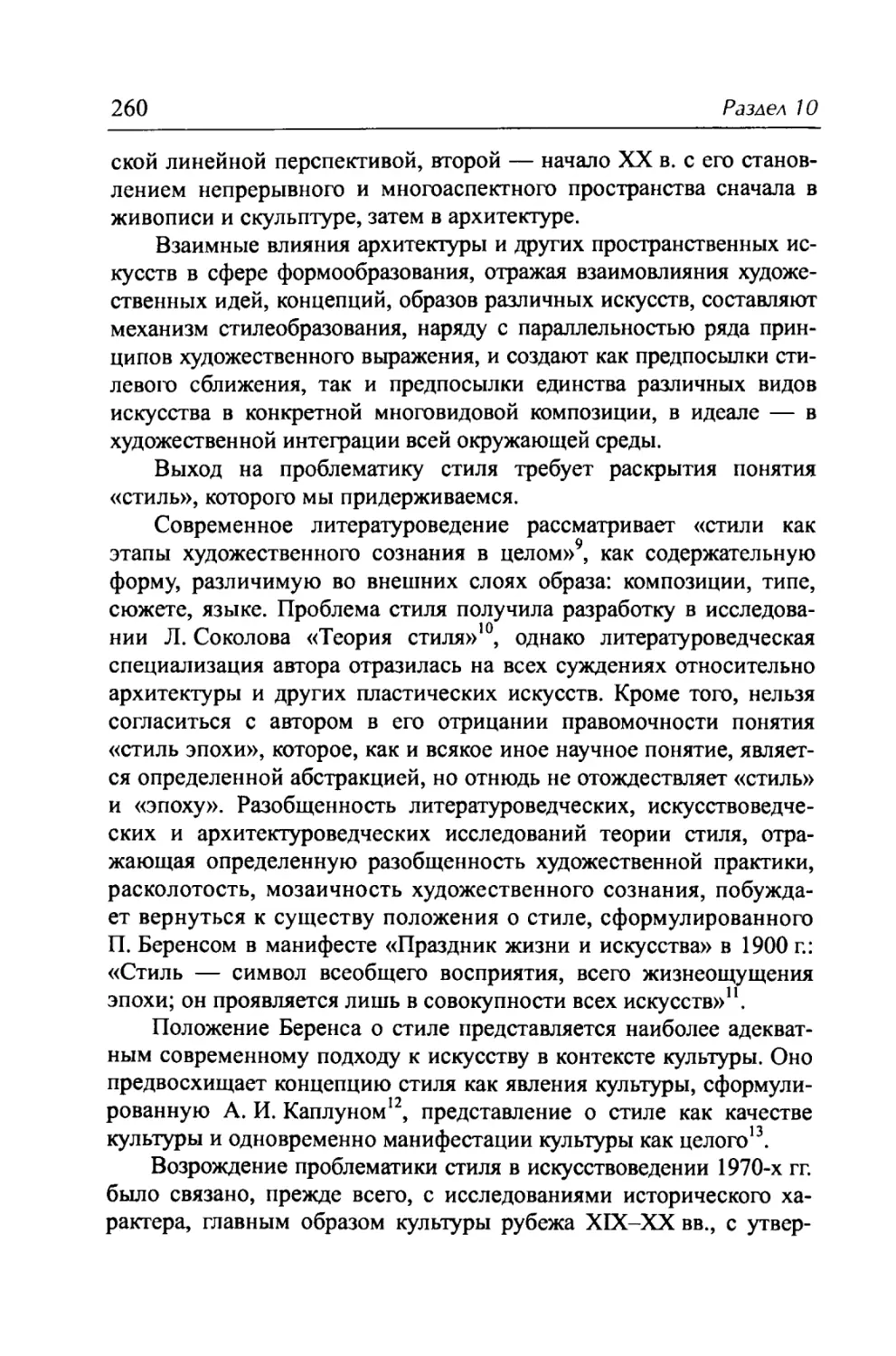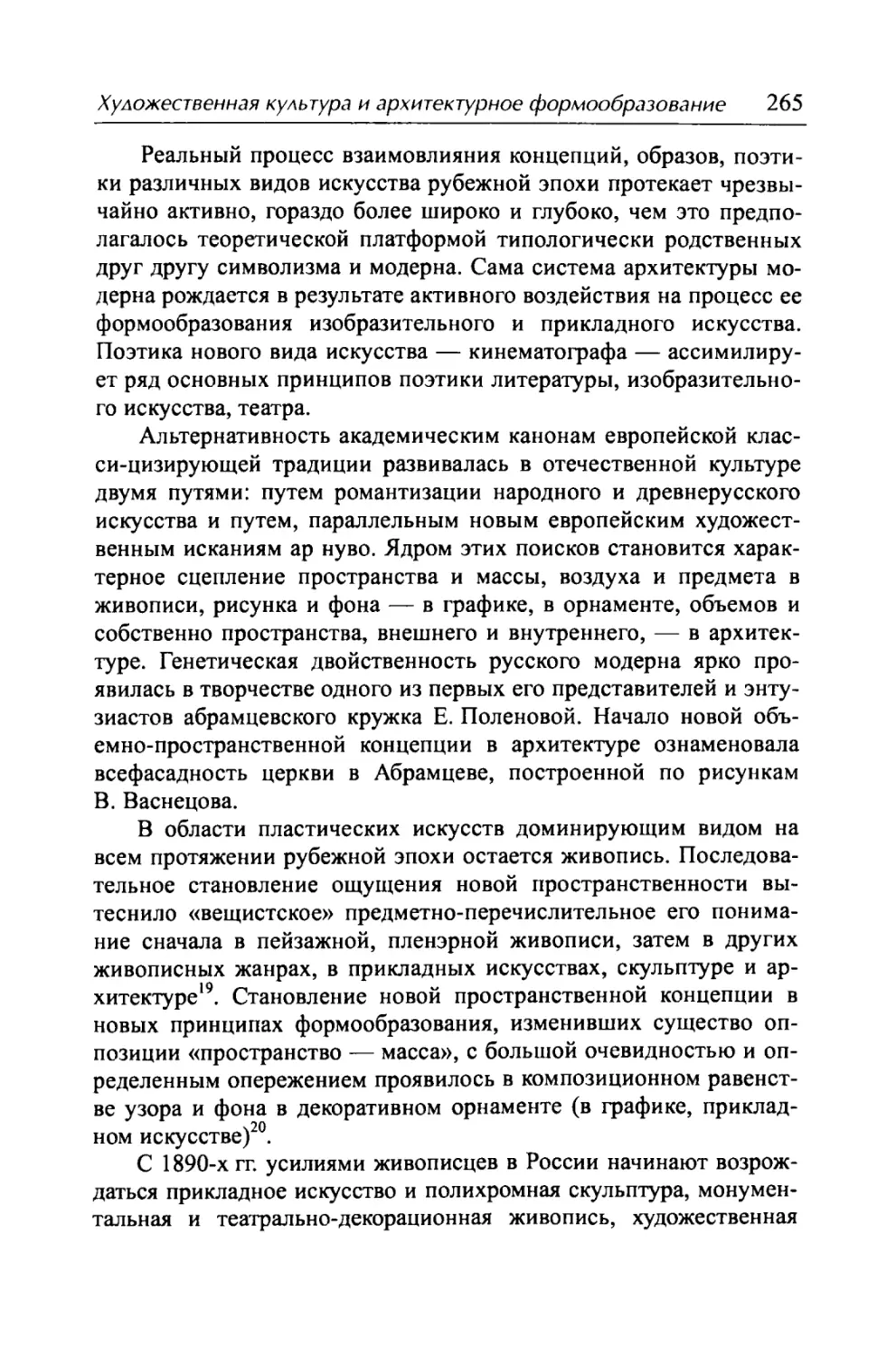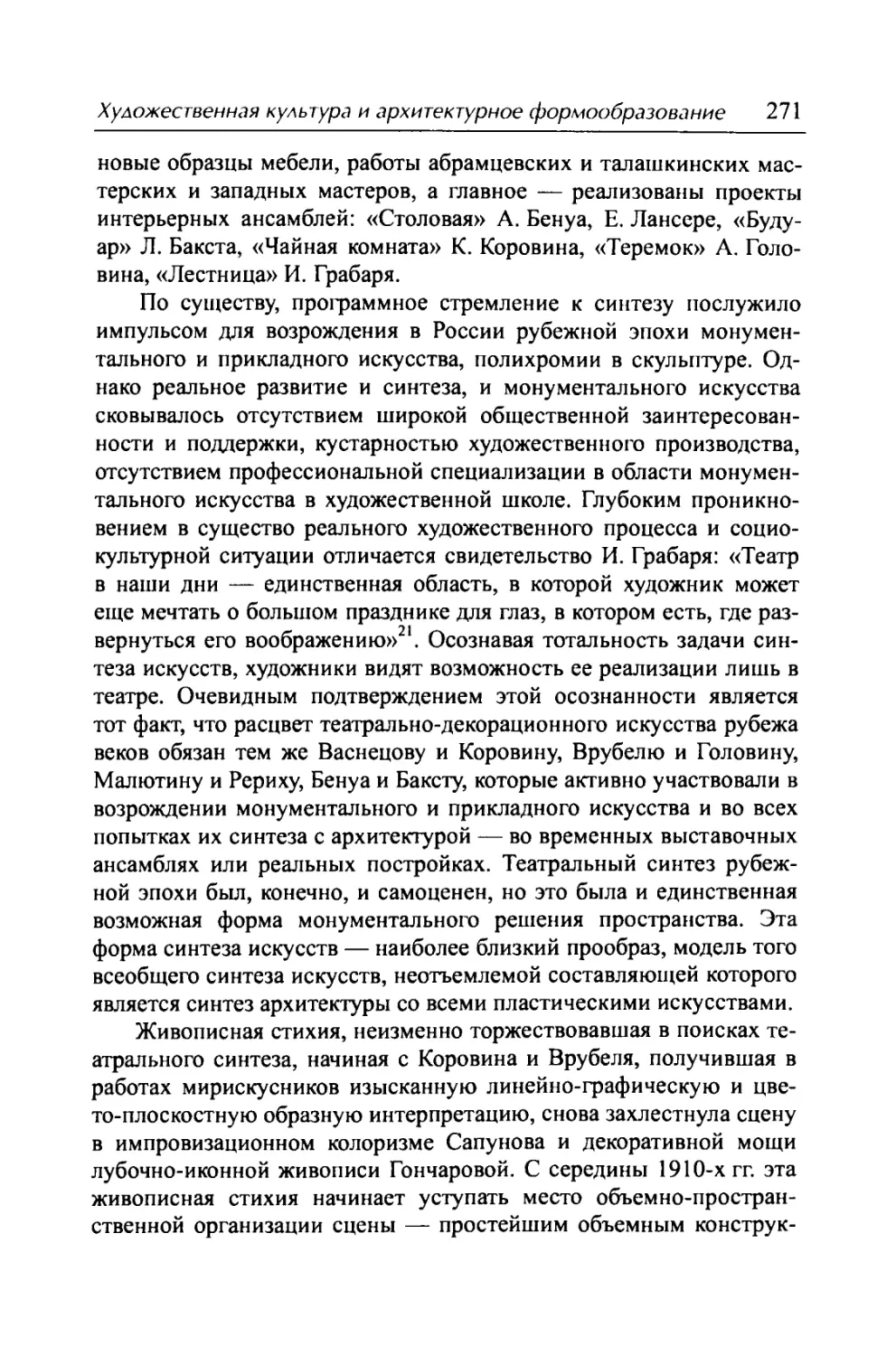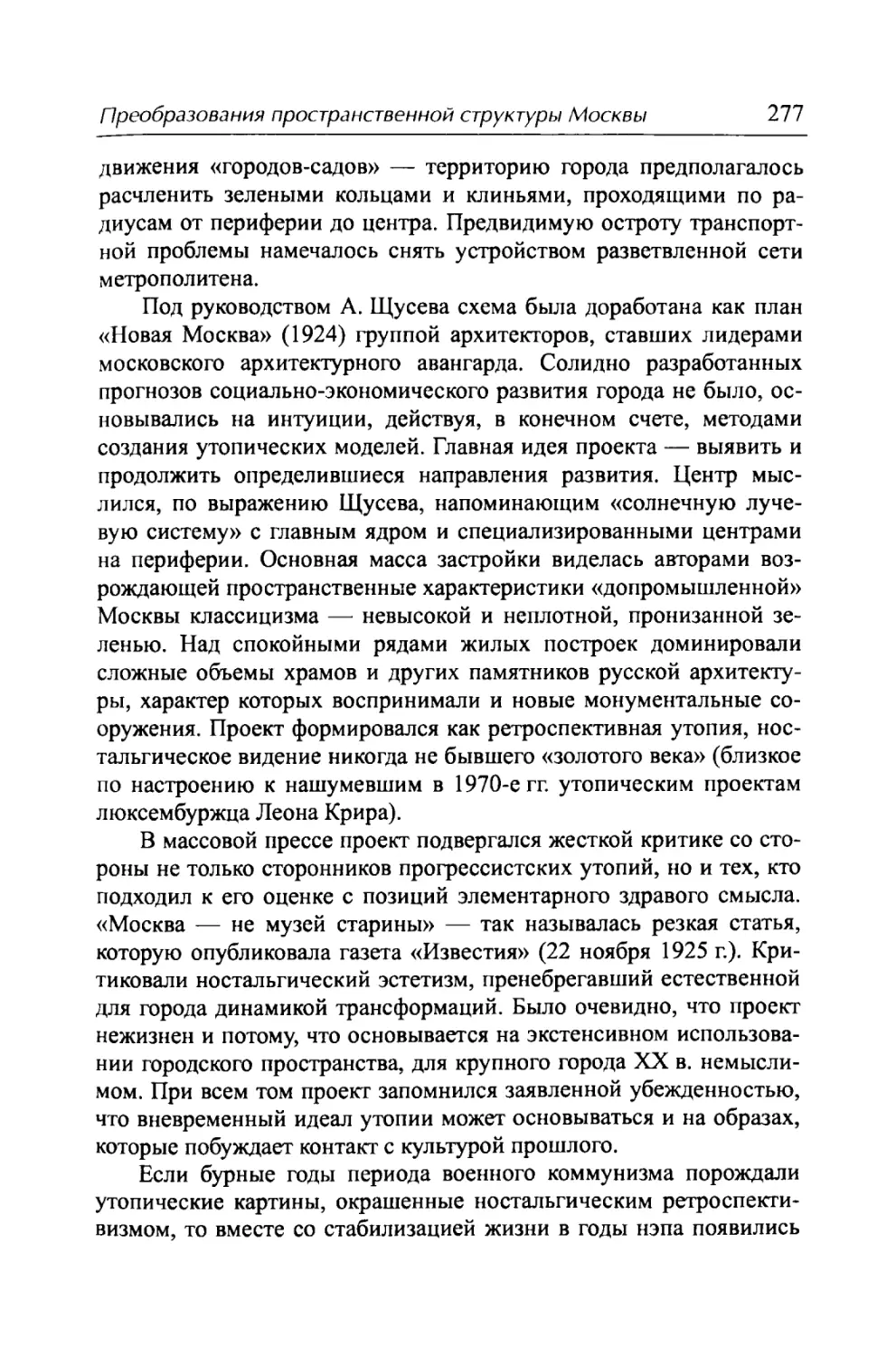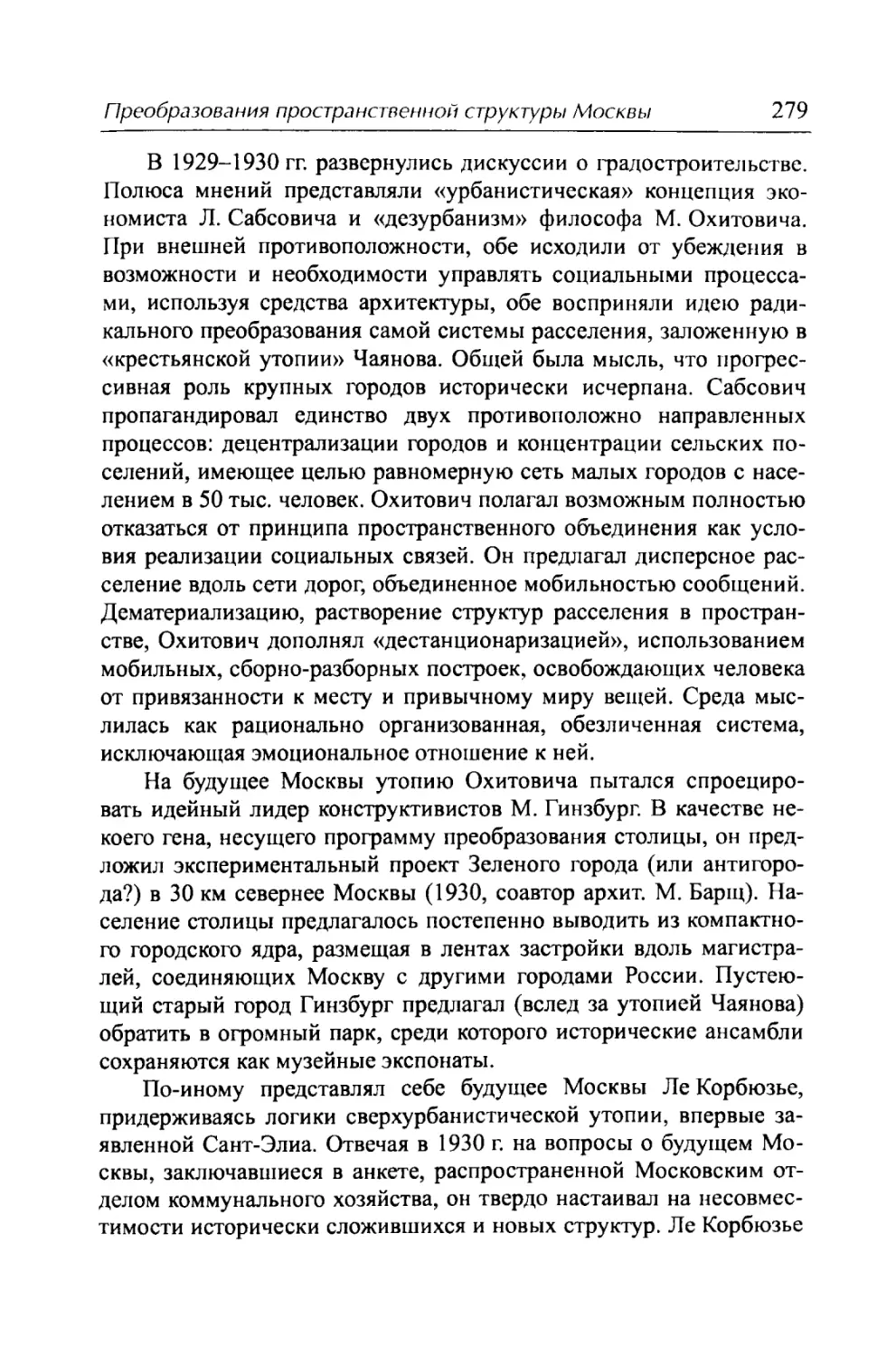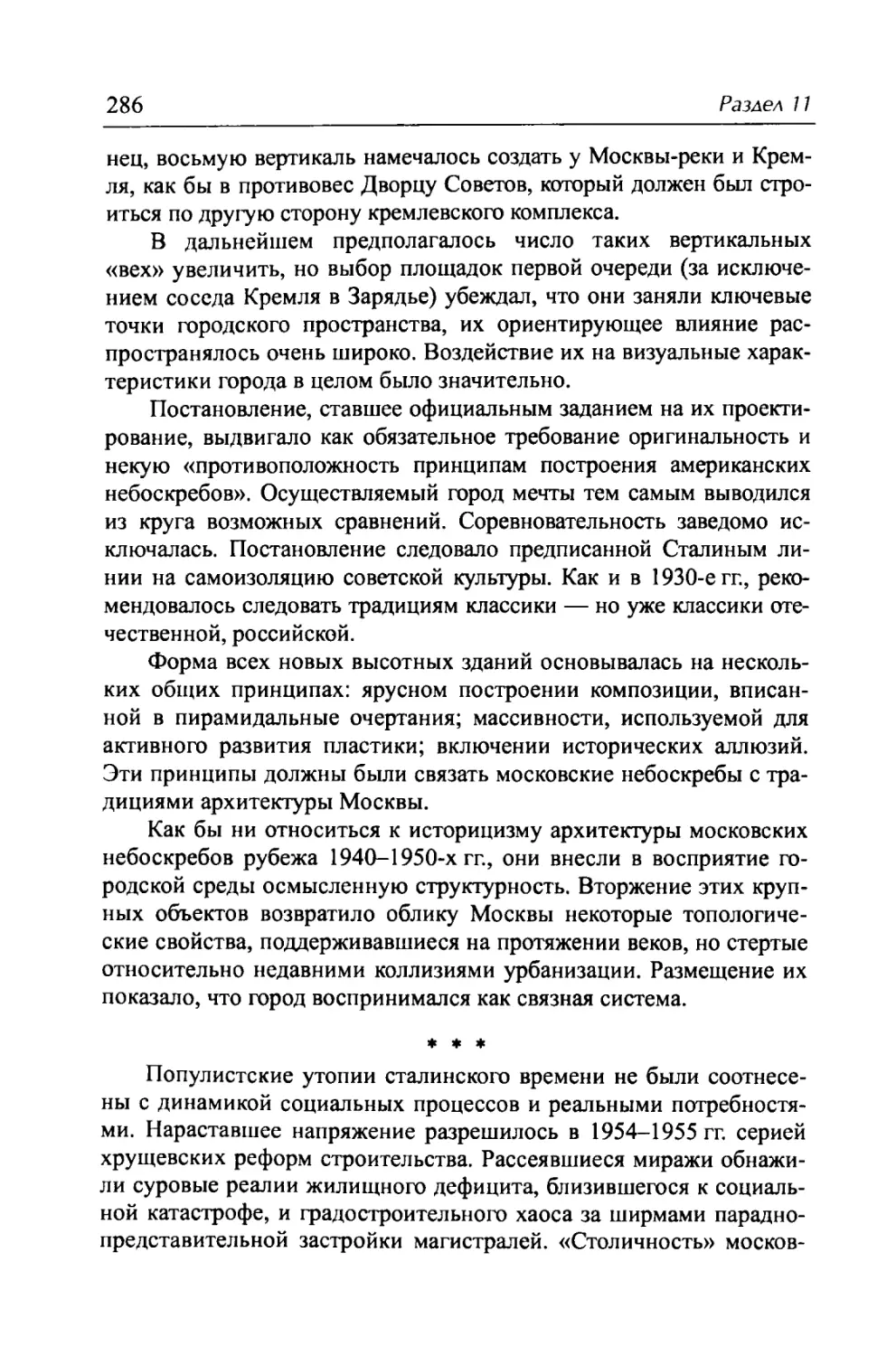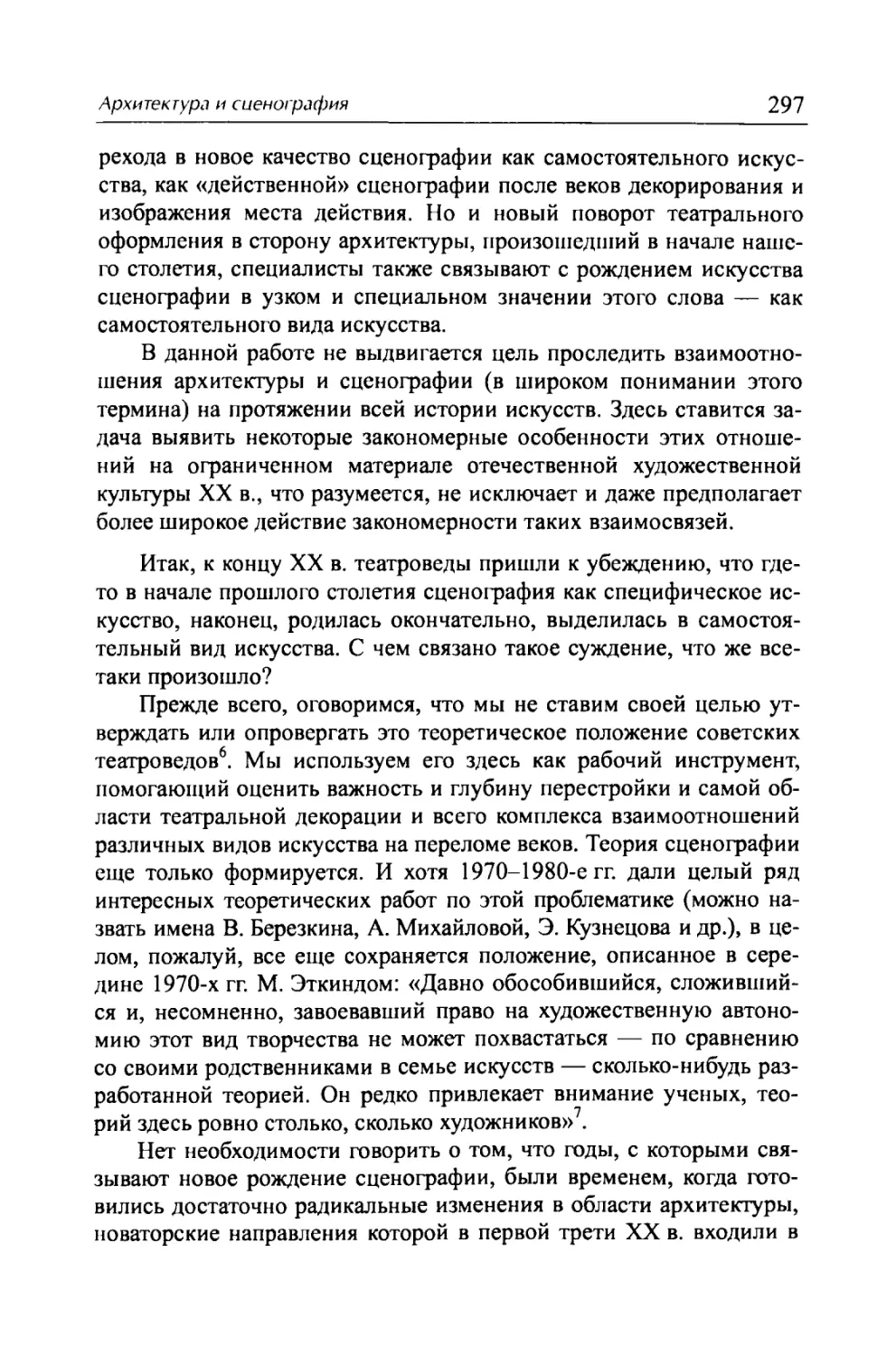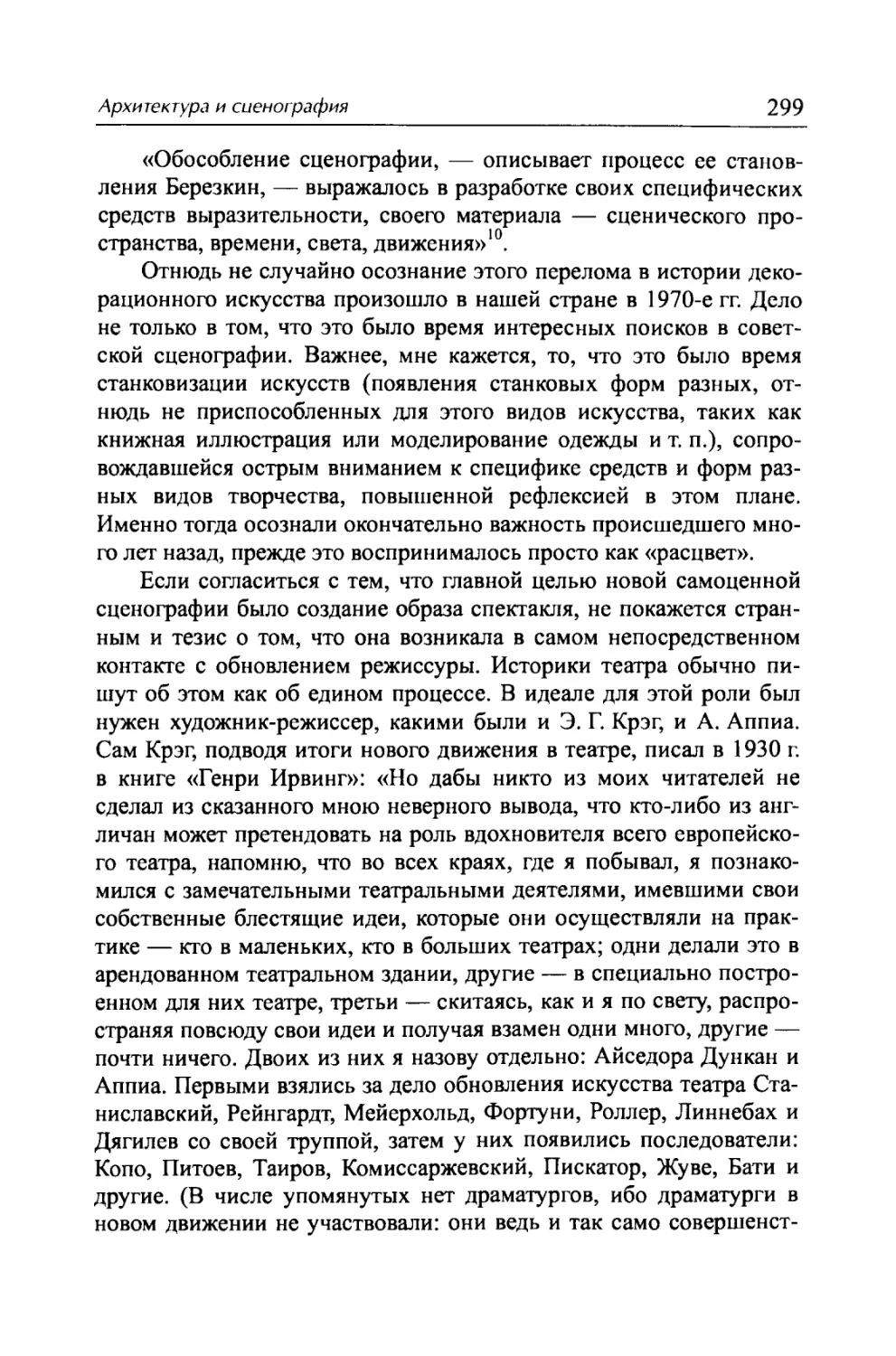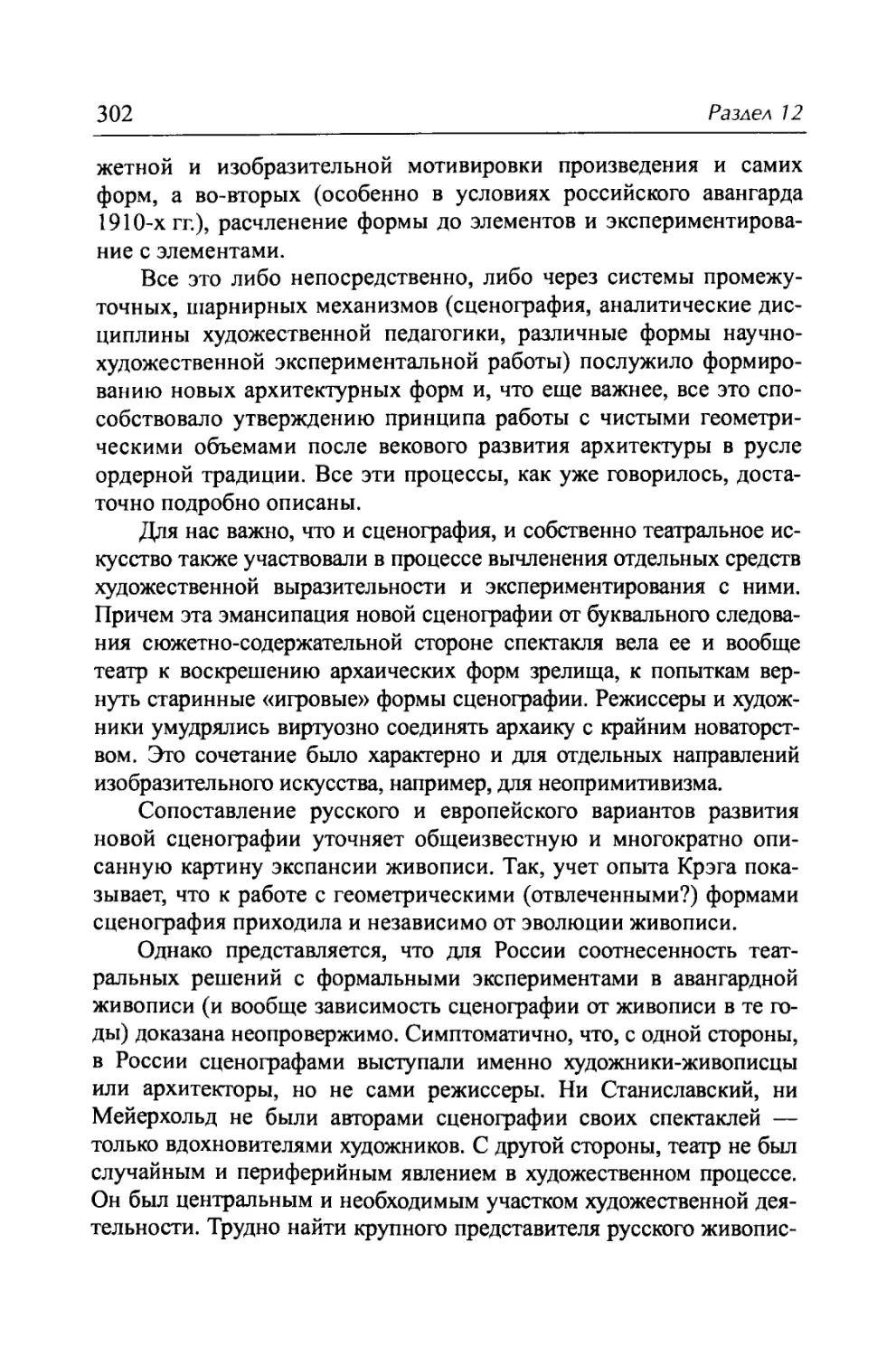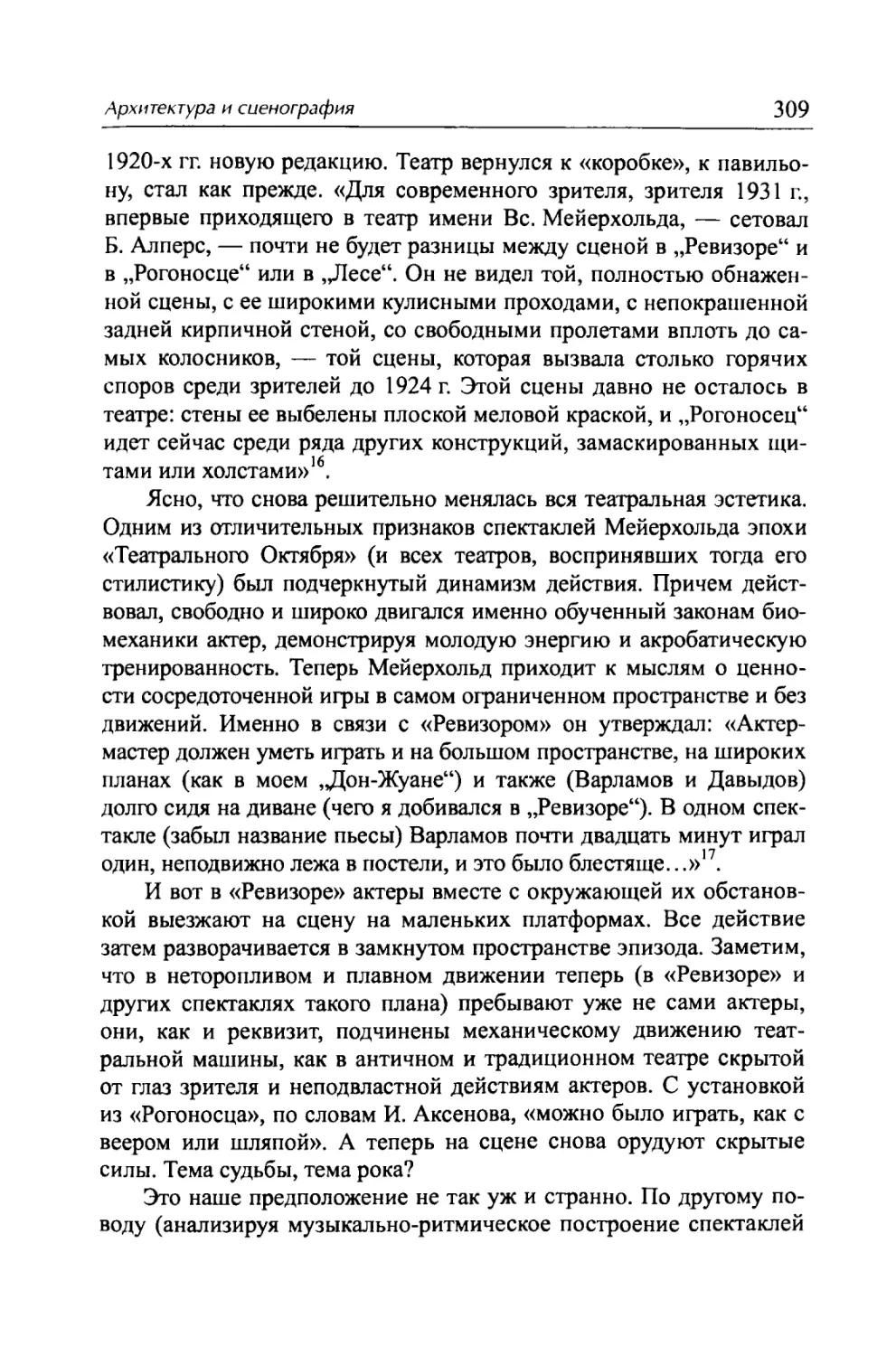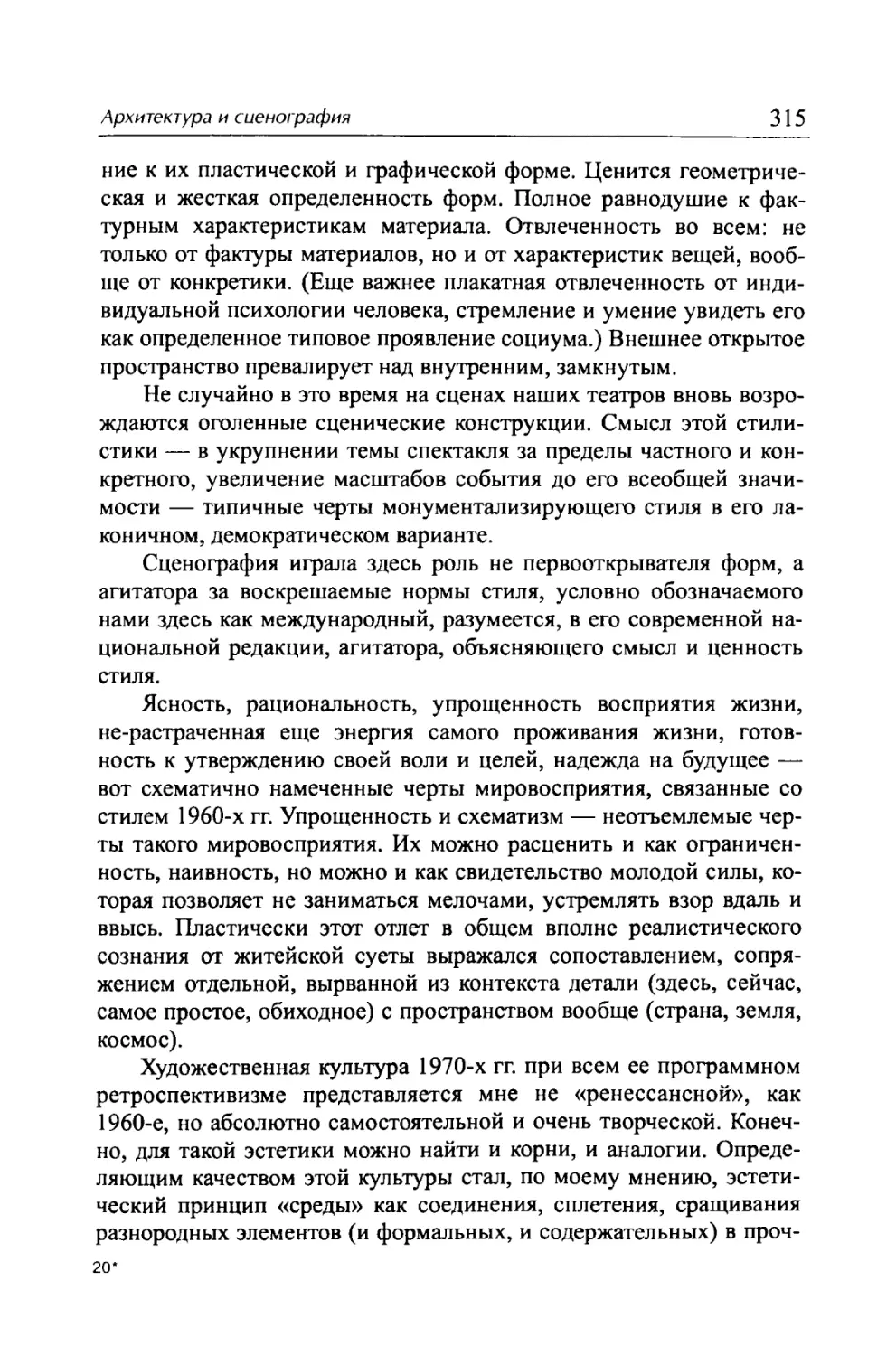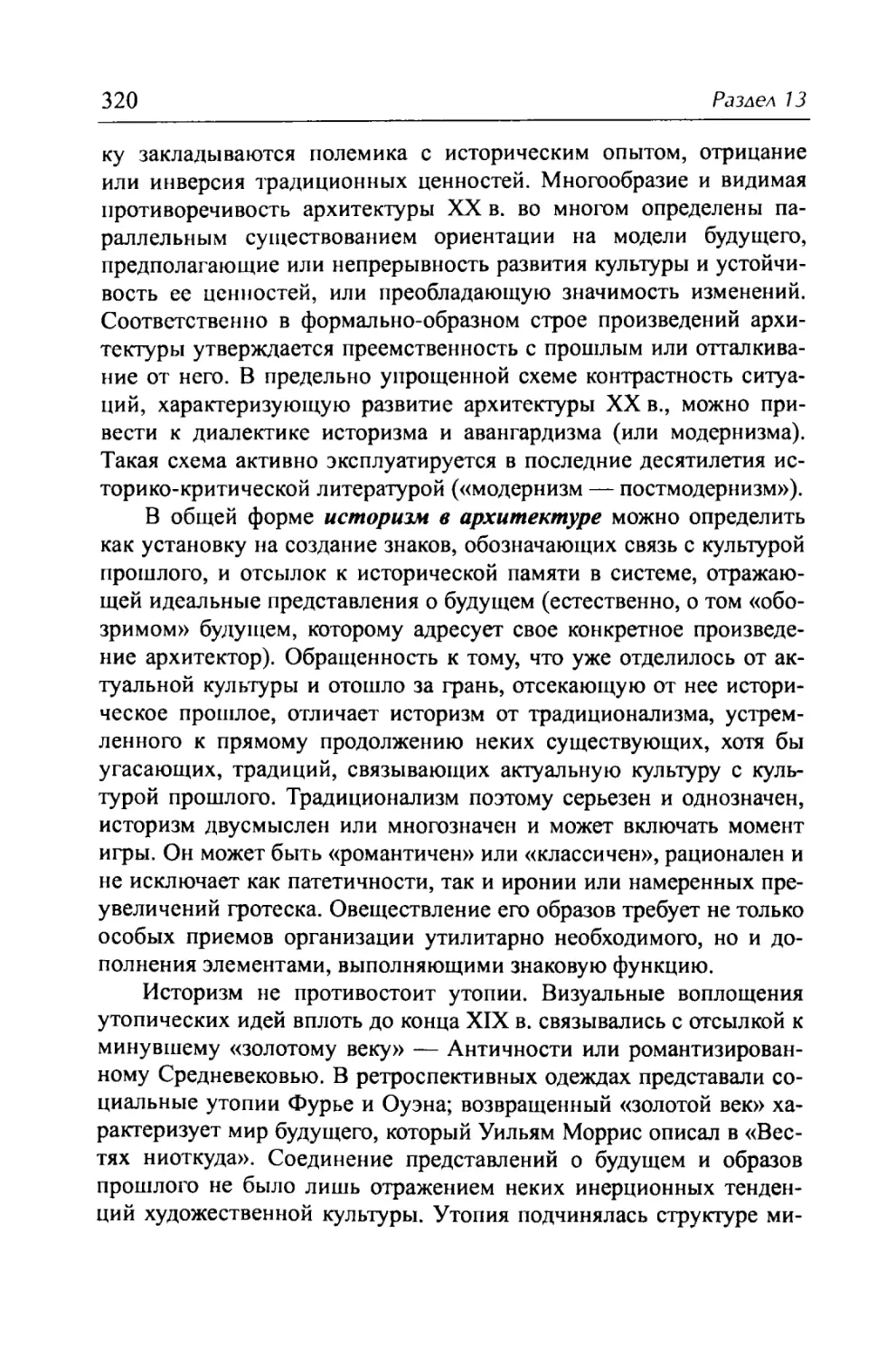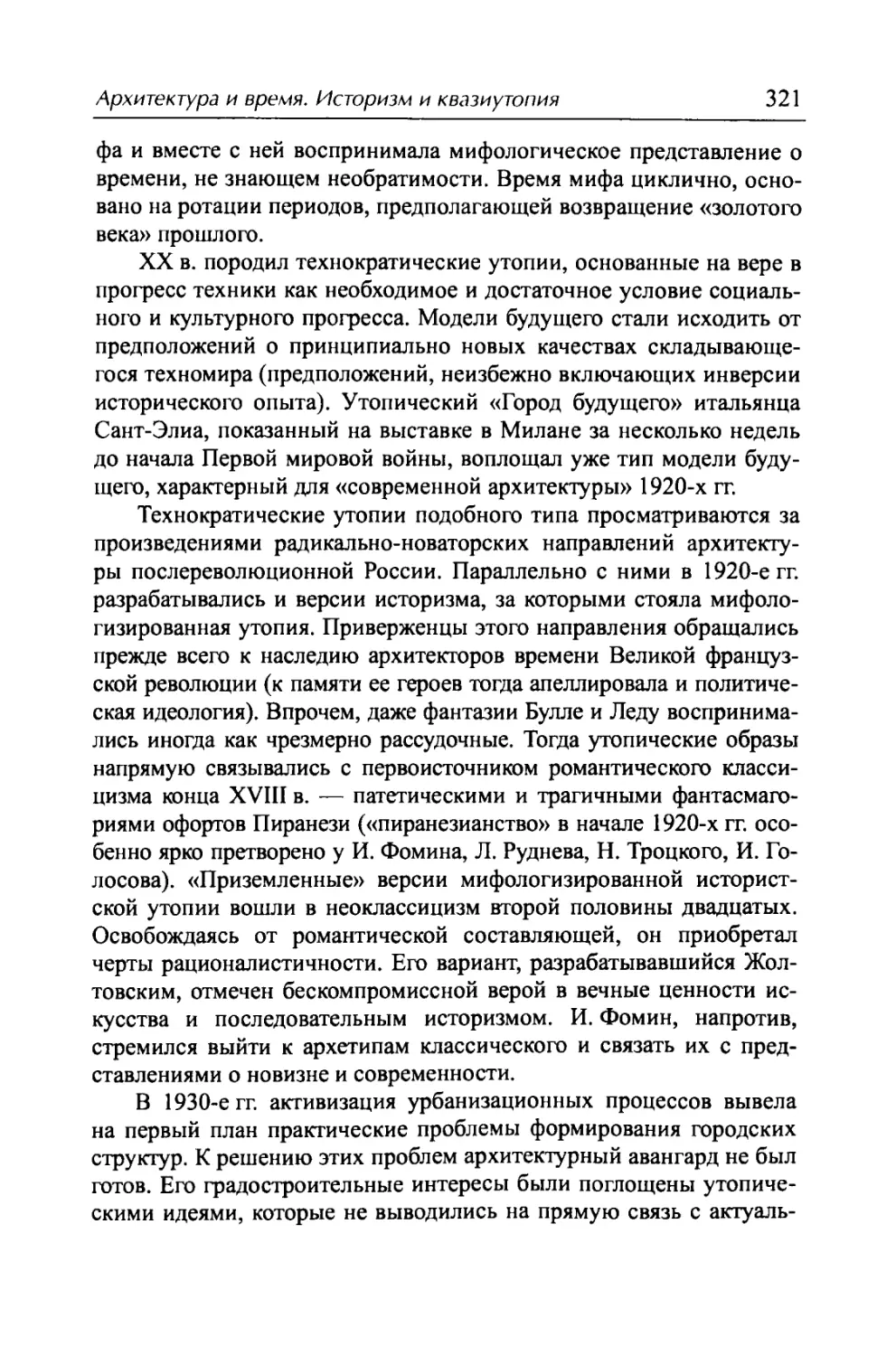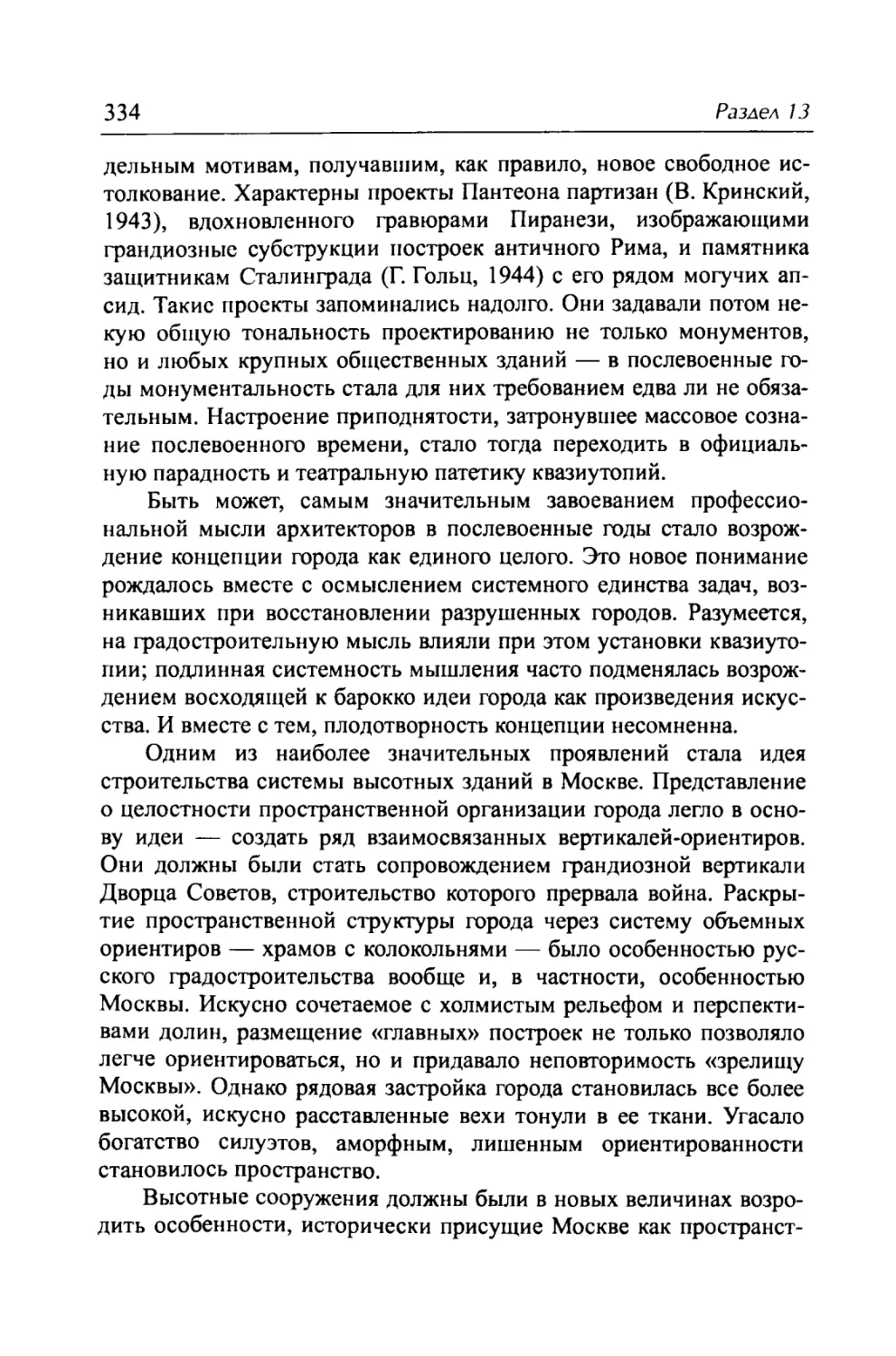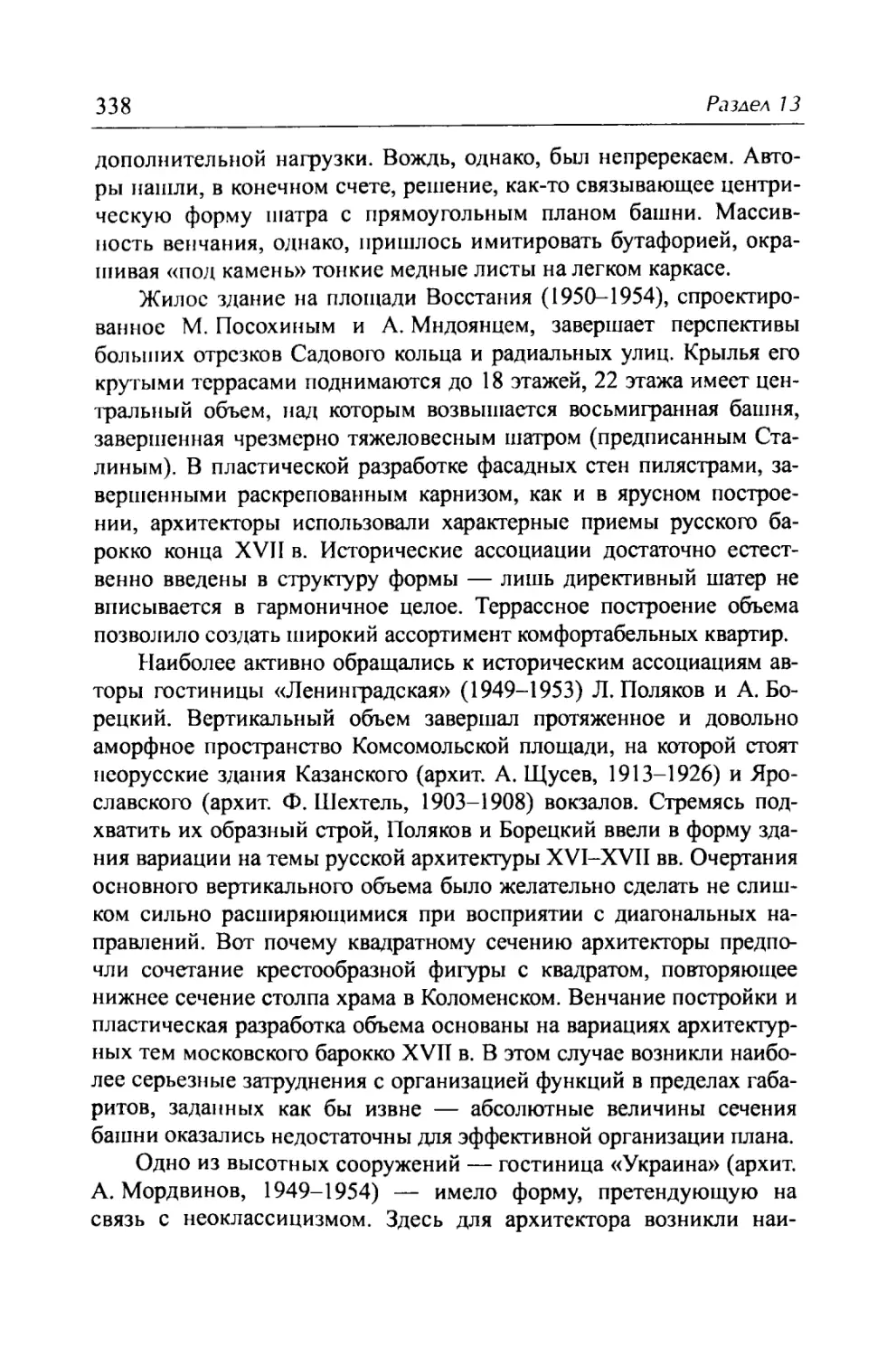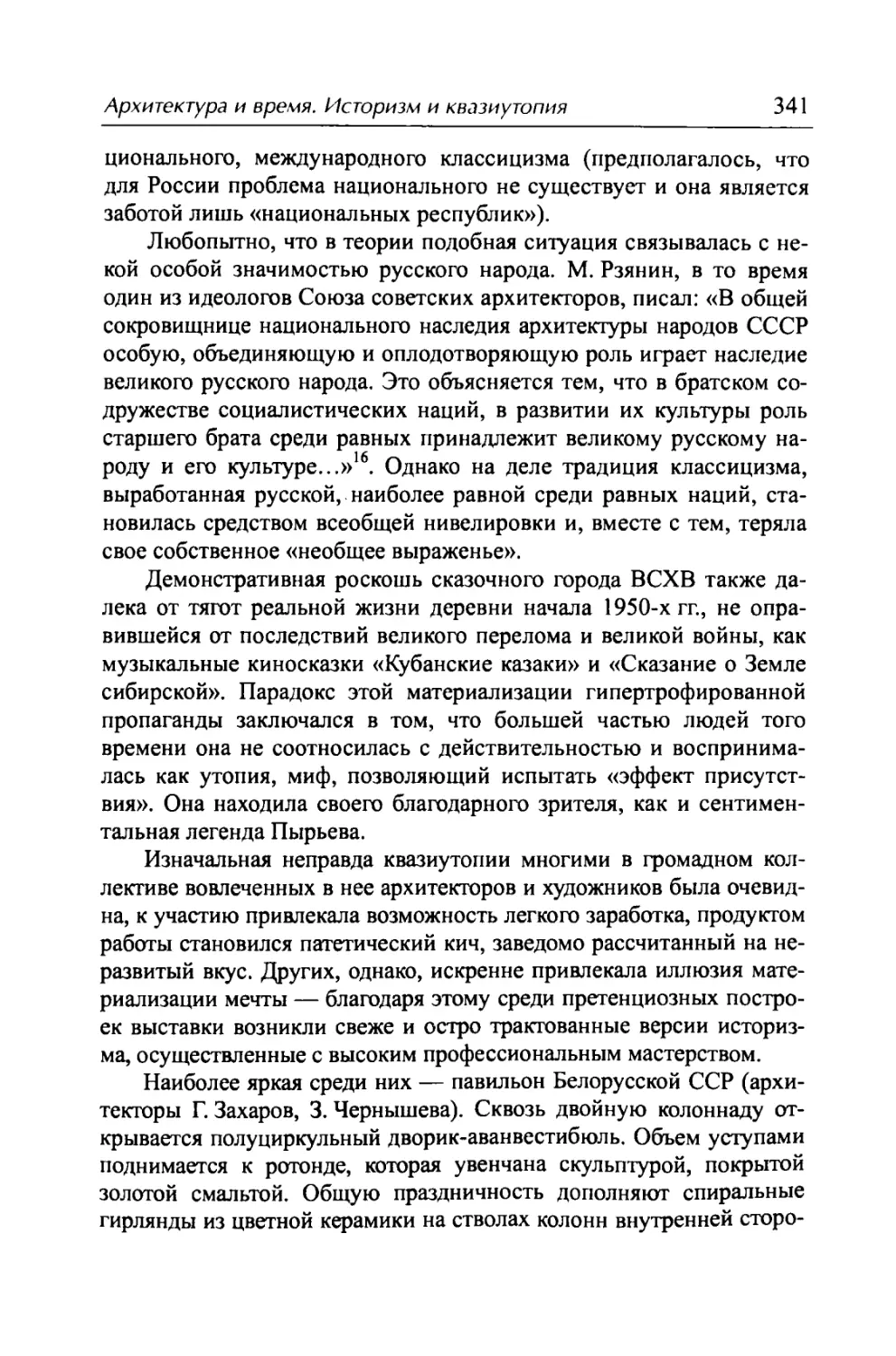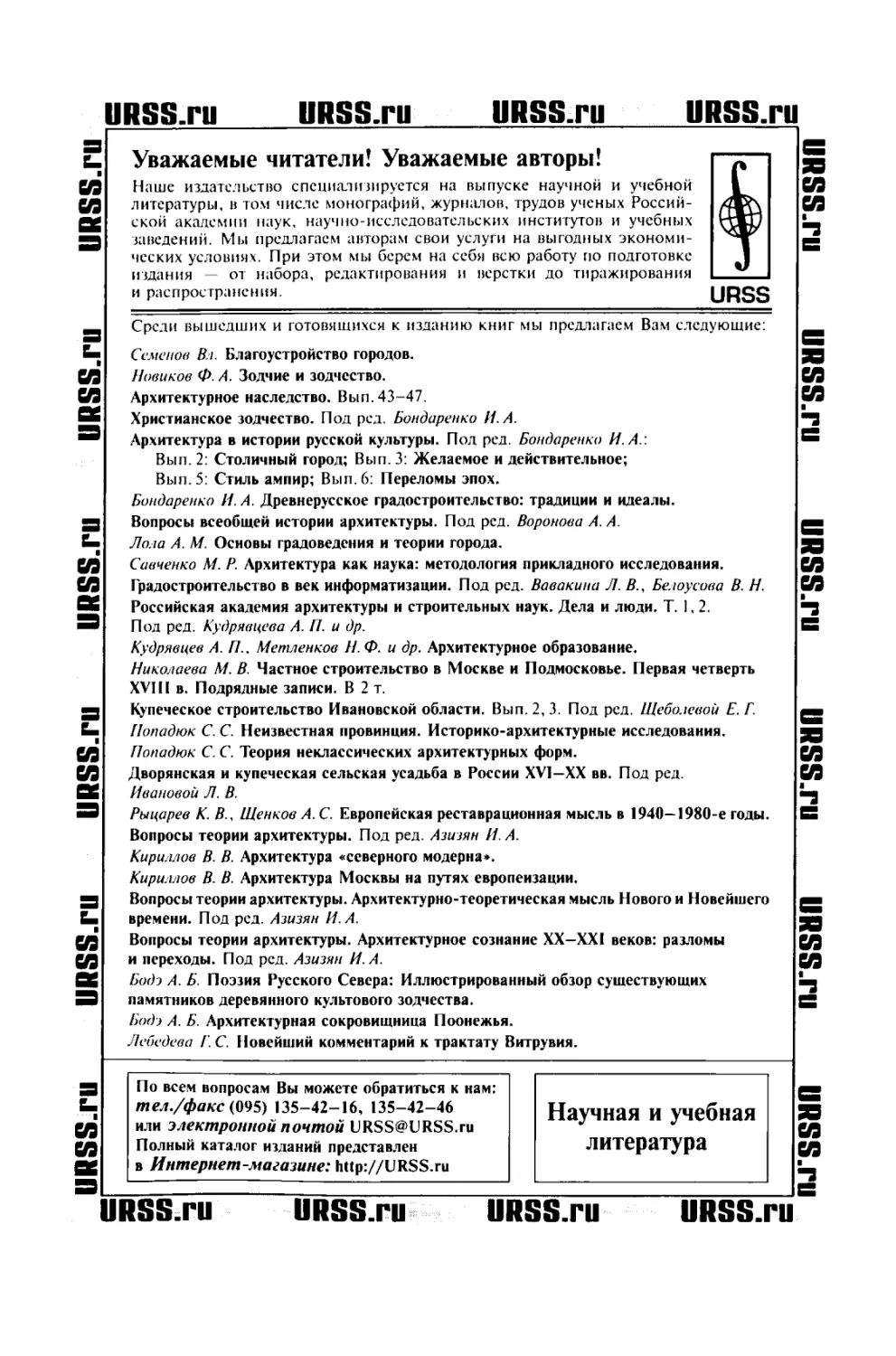Автор: Иконников А.В.
Теги: архитектура архитектура зданий градостроительство жилищная архитектура
ISBN: 5-484-00424-1
Год: 2006
Текст
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИКОННИКОВ
(1926-2001)
Андрей Владимирович Иконников — уникаль-
ная творческая личность. Почти полвека он был
лидером российской архитектурной науки. Разно-
сторонность интересов, энциклопедические зна-
ния, эрудиция, новизна и оригинальность концеп-
ций снискали его работам широчайшую извест-
ность как в родной стране, так и за рубежом. Он
был всесторонне одарен и достигал блестящих ре-
зультатов во всем, чем занимался, будь то студен-
ческие обмеры памятников древнерусского зодче-
ства, проектирование и преподавание, собственные
диссертации и подготовка аспирантов, статьи в
журналах и разделы в коллективных работах, со-
ставление и титульное редактирование трудов, пе-
реводы с английского и немецкого языков, участие
в работе по созданию английского 36-томного сло-
варя искусств, яркие выступления по радио, в кино
и по телевидению, глубокие публичные лекции по
проблемам архитектуры с показом авторского ил-
люстративного материала, его увлекательнейшие
вечера «Диалоги» в Доме архитекторов, многолет-
няя общественная работа в Комиссии по Государ-
ственным премиям и в Комиссии по художествен-
ному воссозданию храма Христа Спасителя и, на-
конец, его книги, получившие поистине всеобщее
признание.
Им опубликовано 570 научных работ; среди них
более 50 книг, в которых рассматривается обшир-
ный круг проблем архитектуры и градостроитель-
ства. Имел ученую степень доктора архитектуры,
ученое звание профессора. Был действительным
членом Российской академии архитектуры и
строительных наук, членом-корреспондентом Рос-
сийской академии художеств, действительным
членом Международной академии архитектуры
в Москве (МААМ), заслуженным архитектором
Российской Федерации, Почетным архитектором
России, Почетным строителем России, Почетным
строителем Москвы, лауреатом Государственной
премии СССР и Государственной премии Россий-
ской Федерации, кавалером ордена Почета, кава-
лером ордена Святого Благоверного князя Даниила
Московского. Был удостоен золотой медали Все-
мирной биеннале архитектуры «Интерарх-83» в
Софии, золотой медали Российской академии ху-
дожеств, серебряной медали Российской акаде-
мии художеств, большой медали Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук, медали
Союза архитекторов РСФСР «За высокое зодче-
ское мастерство», диплома I степени Второго
российского фестиваля «Зодчество-94», диплома
Международной академии архитектуры (МААМ),
золотого диплома XI Международного фестиваля
«Зодчество-2003».
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
А. В. Иконников
ПРОСТРАНСТВО
И ФОРМА
В АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
URSS
МОСКВА
ББК 85.118
Иконников Андрей Владимирович
Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. — М.: Ком Книга,
2006. - 352 с.
ISBN 5-484-00424-1
Монография посвящена многоплановому историко-теоретическому анали-
зу проблем пространственной организации и формообразования архитектурных
и градостроительных объектов. Большое внимание уделяется коммуникативным
и аксиологическим аспектам языка архитектурно-пространственных форм. Ис-
следуются закономерности и особенности формотворчества на отдельных этапах
мировой и отечественной истории архитектуры, а также в новейшее время. Фор-
мулируется авторская теоретическая концепция перспективного развития профес-
сиональной культуры и мастерства.
Книга адресована архитекторам — как исследователям, так и практикам,
а также искусствоведам, культурологам, педагогам и учащимся.
Печатается по решению Ученого совета НИИТАГ
Благодарим за финансовую помощь Москомархитектуры, Моей рое кт-4,
Союз московских архитекторов и лично: А. В. Бокова, А. Г. Векслера, Р. Г. Каманина,
В. В. Колосницина, И. А. Корбута, А. В. Кузьмина, В. Н. Логвинова, А. Д. Меерсона,
А. А. Скокана, Д. С. Солопова, С. А. Тимофеева
Издательство «КомКнига». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.
Подписано к печати 26.12.2005 г. Формат 60x90/16. Печ.л. 22. Зак. № 303
Отпечатано в ГП «Облиздат». 248640, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.
ISBN 5—484—00424—1
© А. В. Иконников, 2006
© НИИТАГ РААСН, 2006
© КомКнига, оформление, 2006
НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
"jT"| E-mail: URSS@URSS.ru
Каталог изданий в Интернете:
W http://URSS.ru
J Тел./факс: 7 (095) 135^42-16
URSS Тел./факс: 7 (095) 135^2-46
Содержание
Предисловие........................................... 8
Раздел 1. Проблемная ситуация и задачи исследования. 11
Раздел 2. Архитектурная форма, функция,
архитектурное пространство: содержание
и развитие понятий.................................. 19
Архитектурная форма и функция............... 19
Архитектурное пространство.................. 41
Раздел 3. Пространство и время в бытовании
архитектурной формы................................. 63
Время в созерцательном восприятии
архитектурной формы......................... 64
Время и восприятие архитектурной формы
в движении.................................. 75
Стабильное и изменчивое в архитектурной
форме....................................... 82
Архитектурная форма и переживание
исторического времени....................... 88
Раздел 4. Архитектура и градостроительство как уровни
систем формообразования............................. 92
Раздел 5. Модели архитектурного пространства
в истории культуры..........................104
Исследование архитектурного пространства
как интегральной формы выражения сущности
культуры времени............................104
6
Солержание
Организация пространства в древнейших
культурах................................ 110
Пространство в зодчестве древнейших
высоких цивилизаций.......................126
Пространство в архитектуре греческой
античности...............................1 31
Раздел 6. Пространство в архитектуре римской
античности........................................146
Ландшафт и поселение......................157
Пантеон...................................161
Термы.....................................164
Базилики..................................169
Жилые постройки..........................1 72
Генезис и значения пространственной формы
в римской архитектуре....................1 77
Раздел 7. Пространство в архитектуре Средневековья.181
Пространственные формы городов западного
Средневековья.............................184
Пространственные формы городов
средневековой Руси........................205
Раздел 8. Организация пространства в русском
градостроительстве................................211
Раздел 9. Организация пространства и художественный
язык архитектуры............................227
Раздел 10. Художественная культура и архитектурное
формообразование...........................247
Объективные и субъективные факторы
взаимодействия искусств в художественной
культуре; образно-стилевые
и формообразующие взаимные влияния
искусств в культуре.......................251
Содержание
7
Раздел 11. Преобразования пространственной структуры
Москвы..............................................274
Раздел 1 2. Архитектура и сценография.
Средообразуюшая и образоформируюшая
роль сценографии в художественной культуре
XX века...................................293
Сценография как лаборатория архитектуры...301
Художественный аспект. Моделирование
пластической формы.................... 301
Эстетический аспект. Моделирование
эстетических установок и ценностей.... 306
Сшлистический аспект. От формулирования
мировосприятия к стилистике формы..... 313
Раздел 13. Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
(к истории архитектуры конца 1940-х - начала
1950-х годов).......................................319
Раздел 10. Художественная культура и архитектурное формообразо-
вание написан И. А. Азизян.
Раздел 12. Архитектура и сценография. Средообразуюшая и образо-
формируюшая роль сценографии в художественной культуре XX века
написан Н. Л. Адаскиной в рамках выполнения плановой темы «Прост-
ранство и форма в архитектуре и градостроительстве» под руководством
А. В. Иконникова в 1992 г. во ВНИИТАГе.
Предисловие
Представляемая вашему вниманию монография — плод много-
летней работы Л. В. Иконникова над темой. Она писалась долго, по
частям, которые по мере готовности обсуждались на заседаниях
Ученого совета НИИТАГ. Но она так и осталась, к сожалению, не
вполне завершенной. Андрей Владимирович приступил к исследо-
ванию, как только стали ощущаться признаки изживания средового
подхода, затмившего на время такие классические архитектурные
категории, как форма и пространство. Вновь эти категории оказа-
лись интересны и нужны для развития профессиональной культуры
и мастерства: мы видим сегодня, что А. В. Иконников чрезвычайно
чутко улавливал новейшие тенденции и векторы развития, он шел,
словно обгоняя реальный архитектурный процесс.
Обосновывая избранную тему, он отмечал, что «отказываясь от
классического кода и не вырабатывая новых устойчивых структур
языка формы, архитектура теряет качество „говорящей44. Вместе с
угасанием коммуникативной функции ослабевает ее социально-
ориентирующая роль, сокращаются возможности интеграции сре-
ды. Профессия вместе с тем теряет ценностные ориентиры, на-
правляющие ее внутреннее развитие». Предостережением и напут-
ствием для нас служат слова А. В. Иконникова о том, что нужно
заботиться о воспроизводстве профессии и, соответственно, крите-
риях качества, контролирующих профессиональную деятельность.
Л эти критерии размываются в условиях все большей индивидуа-
лизации творческого процесса, заставляющей каждую конкретную
задачу решать как беспрецедентную. А. В. Иконников счел возмож-
ным назвать это «подрывом профессионализма», который необхо-
дим потому, что «только он позволяет уверенно решать все время
возникающие нестереотипные задачи, надежно сохраняя ровный
высокий уровень качества, распространяющийся на все компонен-
ты среды. Акцент должен делаться именно на внутрипрофессио-
нальных проблемах формы, ее значения и эстетической ценности,
Предисловие
9
словаря и синтаксиса формального языка». Ситуация развернулась
так, что именно в эти «внутренние» проблемы упирается сейчас
выполнение архитектурой ее социального назначения; от их реше-
ния зависит эффективность воздействия архитектуры на простран-
ственную организацию жизнедеятельности общества.
При этом Л. В. Иконников предостерегает от разработки жест-
ких нормативных систем тотального характера, так как они устра-
няют эвристическое содержание творчества, основанного на «заве-
домо неоднозначных исходных данных». Архитектура должна за-
ключать в себе определенную «степень непредсказуемости» как
отражение «человеческого». Поэтому «для архитектуры плодотвор-
на аналогия с каноническим искусством, например иконописью.
Канон для последней служил канвой и опорой индивидуальности.
Сама общедоступность его схем, упорядочивая восприятие, под-
черкивала и обостряла индивидуальное. В архитектуре такую роль
играют типологические и конструктивные структуры с их модуль-
ными закономерностями... Попытки выстроить тотальную, всеох-
ватывающую нормативную базу, в отличие от органического един-
ства в рамках канона, подчиняющую все стороны архитектурного
творчества, предпринимались, но эффект их всегда был отрица-
тельным. ...Архитектуре необходима теория особого типа — не
связывающая эвристический поиск, но позволяющая уверенно вы-
брать его направление и сокращающаяся затраты времени и энер-
гии на рутинные процедуры».
Вот основные исходные положения и задачи того фундамен-
тального историко-теоретического труда, который предпринял в
последние годы своей жизни А. В. Иконников. Близкие задачи вы-
двигались Андреем Владимировичем и в других работах, которые в
своей совокупности позволяют глубже понять и по достоинству
оценить его идеи.
Лейтмотивом многих книг, статей и выступлений А. В. Иконни-
кова было разоблачение социальных утопий, наложивших значи-
тельный отпечаток на архитектуру и градостроительство XX века и
породивших кризисные явления в их развитии. В данной книге то-
же говорится об утопиях и пагубной утопичности профессиональ-
ного мышления.
За что же ратует автор? — Очевидно, за восстановление есте-
ственных законов развития, практической целесообразности и уме-
стности принимаемых решений, за реалистическое жизнестрои-
10 Предисловие
тельство без опасных идеологических заморочек и метаний. С этим
нельзя не согласиться. Это то, чего нам недостает, что так нужно
сегодня.
Андрей Владимирович не упрощает роль архитектуры и нс
сводит все к примитивному прагматизму, напротив, он верит в вы-
сокую культурную, гуманитарную миссию архитектуры как искус-
ства со всей ее многозначностью, с наличием в ней сложных субъ-
ектно-объектных отношений. Он верит и в то, что все эти сложные
отношения могут и должны направляться в разумное русло, будучи
предметом теоретического осмысления. Важнейшая функция архи-
тектуры — коммуникативная. Поэтому одной из главных целей
теории является «органическое» образование специфического язы-
ка архитектуры. «Теория должна при этом, — пишет А. В. Иконни-
ков, — обеспечить последовательное, преемственное наращивание
свода синтаксических правил и словаря архитектурного языка».
«В теории архитектуры, наконец, должны аккумулироваться
осмысленные и оцененные результаты коллективного опыта про-
фессии. Сверка с банком информации такого рода исключит заве-
домо тупиковые направления поиска и возврата к решениям, уже
показавшим неэффективность».
Таково научное кредо Андрея Владимировича Иконникова, так
конструктивно смотрел он на жизнь и закономерно встроенный в
нее архитектурный процесс. Он верил в науку, в разум, в знание. Он
горячо любил теорию и историю архитектуры и был безусловным
лидером в этой области.
Пространство и форма — это вечные архитектурные категории,
лежащие в самых первых началах профессии. Знаменательно и
символично обращение к ним Андрея Владимировича в его по-
следнем монографическом труде. Он искал корни современных яв-
лений и находил их, восстанавливая историческую преемствен-
ность, раскрывая глубинную логику архитектурно-градостроитель-
ных процессов. И мы сегодня все более отчетливо осознаем, читая
эту, как и другие книги А. В. Иконникова, что будущее, действи-
тельно, укоренено в прошлом, зарождается, зреет в нем, а значит
успешное историческое развитие нуждается в устойчивом теорети-
ческом фундаменте.
И. А. Бондаренко
Раздел 1
Проблемная ситуация
и задачи исследования
Архитекторы конца XX в. расстались с утопическими претен-
зиями на роль пророков-жизнестроителей. Ушли в прошлое завы-
шенные представления об активном влиянии архитектуры на обще-
ство и исторический процесс. Но и реальная роль ее, если не в
жизнестроении, то в пространственном устроении жизни, весьма
значительна. Профессия сохраняет специфическое место в системе
культуры — как бы в плоскости касания ее материальной и духов-
ной составляющих, образуя мост между ними. И по-прежнему она
должна создавать модели разумно и гармонично организованной
среды, в которых овеществляются принятые обществом ценности.
При этом эстетическая и коммуникативная функции архитектуры
столь же реальны и значимы, как функции прагматические. В усло-
виях социальных, экономических и идейных кризисов нашего вре-
мени объект, возбуждающий чувства и воспоминания, овеществ-
ляющий социально ориентирующую информацию, оказывается не
менее нужен людям, чем в «благополучных» ситуациях экономиче-
ского процветания и социальной уравновешенности.
Архитектура первой половины века, претендовавшая на роль
оруэлловского «Старшего брата», который «знает лучше», осозна-
валась вовлеченной в широко расходящиеся круги социальных,
экономических, этических и политических проблем; она была ак-
тивно идеологизирована. Когда, однако, осела пена утопических
увлечений, открылось, что в заботах о жизнеустройстве и миропо-
рядке остались нерешенными внутрипрофессиональные проблемы.
Глобальные программы, устремленные к далекому будущему, от-
тесняли на задний план вопросы мастерства, умения, эстетической
12
Ра злел I
ценности. Проблемы формы, в рамках советской идеологии легко
отождествлявшиеся с «формализмом», оказались особенно запу-
щенными.
В то же время смещения во всей системе цивилизации, вызван-
ные революциями в познании и производстве, не только изменили
внешние связи профессии и ее место в обществе, но и отозвались
ее внутренней рассогласованностью. Роль архитектуры как средст-
ва коммуникации, подорванная вхождением в «галактику Гутенбер-
га», в XX в. сократилась еще более. Однако и с той информацией,
за фиксацию и передачу которой архитектура сохранила ответст-
венность, она справляется все хуже. Оказались размыты и потеряли
значимость прямые преемственные связи с традицией, на основе
которых только и мог устойчиво бытовать и развиваться, оставаясь
общепонятным, специфический язык архитектуры. Полтора столе-
тия дерзаний протоавангарда, авангарда и поставангарда, при всей
щедрости индивидуальных результатов, не были связаны последо-
вательностью, которая могла бы привести к созданию систематизи-
рованных устойчивых кодов.
Единственным строго кодифицированным и признанным за
пределами профессии языком архитектуры по-прежнему остается
классический ордер. Средства выражения, выработанные архитек-
турой за последние полтора столетия, связаны с общепонятными
значениями через ассоциации с внеархитектурными явлениями или
через соотнесение с языком архитектурной классики (трансляция
классического языка в «неклассические» структуры, переструкту-
рирование, цитата, аллюзии, инверсии и пр.).
Отказываясь от классицистического кода и не вырабатывая но-
вых устойчивых структур языка формы, архитектура теряет качест-
во «говорящей». Вместе с угасанием коммуникативной функции,
ослабевает ее социально-ориентирующая роль, сокращаются воз-
можности интеграции среды. Профессия вместе с тем теряет цен-
ностные ориентиры, направляющие ее внутреннее развитие. Раз-
мываются критерии качества, контролирующие деятельность и
воспроизводство профессии. Ослабевает преемственность. Инди-
видуализация творческого процесса, заставляющая каждую кон-
кретную задачу решать как беспрецедентную, способствуя появле-
нию произведений редкостно-уникальных, вместе с тем подрывает
профессионализм. Последний же в ситуации «конца столетия» ост-
ро необходим, ибо только он позволяет уверенно решать все время
Проблемная ситуаиия и задачи исследования
13
возникающие нестереотипные задачи, надежно сохраняя ровный
высокий уровень качества, распространяющийся на все компонен-
ты среды.
Консолидация профессии, укрепление основ мастерства, со-
вершенствование профессиональной подготовки стали актуаль-
нейшей задачей. Среди прочего необходимым их условием явля-
ется разработка концептуальных основ архитектурной деятельно-
сти. И здесь на первый план выходят не столько аспекты «служения
обществу», социальной ответственности профессии (в недавнем
прошлом легко перераставшие в жизнестроительные утопии с от-
четливой идеологической окраской), сколько аспекты внутрипро-
фессиональные — форма, ее значение и эстетическая ценность,
словарь и синтаксис формального языка. Ситуация развернулась
так, что именно в эти «внутренние» проблемы упирается сейчас
выполнение архитектурой ее социального назначения; от их реше-
ния зависит эффективность воздействия архитектуры на простран-
ственную организацию жизнедеятельности общества.
В 1960-1980-е гг. очевидную неполноценность архитектурной
деятельности, скованной бюрократической регламентацией и под-
чинением несовершенству примитивной индустриальной техноло-
гии, прагматично настроенное руководство списывало на отсутст-
вие необходимой теоретической базы. Предполагалось, что исполь-
зуя чисто рациональные процедуры и математический аппарат,
можно точно «вычислить» всесторонне оптимальное решение лю-
бой конкретной проблемы архитектуры. Концептуальные ходы, не
ведущие к однозначному «оптимальному» решению, квалифициро-
вались как излишние.
На архитектуру проецировались классические критерии науко-
ведения. Еще Роджер Бекон назвал математику «воротами и клю-
чом к познанию». Иммануил Кант сказал о химии своего времени,
что это просто наука, но не Наука с большой буквы, так как не мо-
жет излагать свои данные, используя строгий язык чисел. Теория «с
большой буквы» — если использовать определение Канта — рас-
крывает качественные характеристики и причинные связи явлений
языком математики, однозначно моделируя и оценивая результаты,
которые должно давать взаимодействие определенных факторов.
Результат при этом должен подтверждаться экспериментом. Архи-
тектура, однако, основывает свою деятельность на ценностных
ориентирах и заведомой неоднозначности и непостоянства отноше-
14
Раздел 1
ний «субъект — объект», что исключает количественные характе-
ристики качества и использования математического аппарата, равно
как однозначность и точность программирования.
Сама природа архитектуры не допускает такого подхода к ее
явлениям. Более того, она не допускает разработки жестких норма-
тивных систем тотального характера и при условии, что для них
были бы найдены внутренне логичные и непротиворечивые проце-
дуры. Нормативность устраняет эвристический характер творчест-
ва, основанного на заведомо неоднозначных исходных данных; она
лишает архитектуру степени непредсказуемости, которая должна в
ней присутствовать как отражение «человеческого». Предсказуемое
не может обрести индивидуальности, не может возбуждать эмоции.
Грандиозный эксперимент, которым можно считать строительство,
реорганизованное хрущевской реформой, показал, что общество
почти единодушно отвергало ограничение функций архитектуры
чисто утилитарными и отрицание ее художественной ценности, ее
места в ряду искусств. Но искусство — одно из наиболее совер-
шенных органических образований, сложилось исторически и не
может быть дублировано средствами математического моделирова-
ния. В той сложной системной деятельности, которой является ар-
хитектура, рациональным математическим процедурам доступны
лишь компоненты, не несущие начала искусства внутри себя.
Для архитектуры плодотворна аналогия с каноническим искус-
ством, например иконописью. Канон для последней служил канвой
и опорой индивидуального. Сама общеизвестность его схем, упо-
рядочивая восприятие, подчеркивала и обостряла индивидуальное.
В архитектуре такую роль играют типологические и конструктив-
ные структуры с их модульными закономерностями. Каноничность
храма и каноничность наполнявших его росписей и икон в средне-
вековом русском искусстве определяли важнейшее начало систем-
ных связей художественного синтеза, прямо связанное со смысло-
выми структурами образов архитектуры и живописи.
Попытки выстроить тотальную, всеохватывающую норматив-
ную базу, в отличие от органичного единства в рамках канона, под-
чиняющую все стороны архитектурного творчества, предпринима-
лись, но эффект их всегда был отрицательным. Советская практика
1960-1980-х гг., в которой механическая мелочная нормативность
доведена до грани абсурда, еще раз показала это. «Теория с большой
буквы», перерастающая в свод нормативных указаний, которые все-
Проблемная ситуаиия и задачи исследования
15
цело регулируют деятельность архитектора и исключают непредска-
зуемость творчества, — мечта Госгражданстроя 1960-1970-х гг. —
если бы создать ее было возможно, стала бы смертью архитектуры.
Архитектуре необходима теория особого типа — нс связывающая
эвристический поиск, но позволяющая уверенно выбрать его на-
правление и сокращающая затраты времени и энергии на рутинные
процедуры. Одна из главных целей теории архитектуры — в том,
чтобы обеспечить процесс «органического» образования ее специ-
фического языка. Сложность этой задачи в том, что общепонятный
язык должен иметь строго кодифицированную основу, на которой
создаются индивидуальные произведения, несущие свои, особые
значения (закономерность канонического искусства).
Теория должна при этом обеспечить последовательное, преем-
ственное наращивание свода синтаксических правил и словаря ар-
хитектурного языка. Помогая включить архитектуру в процессы
коммуникации, теория раскрывает, осмысляет, систематизирует
связи между формами-знаками и их значениями (связи эти отнюдь
не самоочевидны), способствует устойчивому закреплению, коди-
фикации таких связей. Образование систематизированного обще-
понятного языка требует согласованных усилий практически фор-
мообразующей и осмысляющей деятельности. Такая работа не мо-
жет быть замкнута во внутрипрофессиональной сфере — ее целе-
направленность обязывает к междисциплинарным взаимодействи-
ям. Лишь на их основе возможно найти решение проблем, имею-
щих общекультурное значение, а именно к таким проблемам отно-
сится коммуникативная функция архитектуры.
На междисциплинарные исследования ориентирована и аксио-
логическая составляющая теории архитектуры. Системы ценностей
не замыкаются в самодостаточный мир; они исходят от человека,
его интересов и стремлений, оценивающего сознания, сопостав-
ляющего реальное с идеальным. Приобретая ценность для челове-
ка, действительность «очеловечивается». Аксиологическая эстетика
исходит от субъектно-объектных отношений. Спроецированная на
проблемы предметно-пространственной среды, она направляет це-
леполагание средоформирующей деятельности, основываясь на
человеческих потребностях и предпочтениях.
В теории архитектуры, наконец, должны аккумулироваться ос-
мысленные и оцененные результаты коллективного опыта профес-
сии. Сверка с банком информации такого рода исключит заведомо
16
Ра злел /
тупиковые направления поиска и возврата к решениям, уже пока-
завшим неэффективность.
Ле Корбюзье в книге «Модулор-1» привел отзыв Альберта
Эйнштейна об этой системе. Его формулировку можно использо-
вать, определяя цель специфической теории архитектуры вообще:
«Это гамма пропорций, облегчающая создание хороших вещей и
затрудняющая появление плохих»1. Действительно, теория архи-
тектуры должна и может способствовать творческому поиску, не
притязая на его подмену. Она должна развиваться как открытая
система, не имеющая иерархической структуры и неподвижных
дефиниций. Осмысление результатов текущей архитектурной прак-
тики, эксперимента и интеллектуальные построения внутри самой
теории и соотнесения с историческим опытом должны в идеале
обеспечить постоянно пополняемый и структурируемый корпус
знаний, «облегчающих создание хороших вещей и затрудняющих
создание плохих».
В исторической ситуации конца XX в. на второй план отходят
приоритеты, ориентированные на социально-экономические срезы
теоретического знания; в архитектуре исключается его насильст-
венная идеологизация. Приоритетны на ближайшее время пробле-
мы внутрипрофессиональные, прямо выходящие на практическое
умение, мастерство, в том числе проблемы морфологии, формооб-
разования. Вторым приоритетом становится проблема языка архи-
тектуры (не выходящая, впрочем, за пределы специфики архитек-
турного языка и не становящаяся «игрой в бисер» по правилам
структурной лингвистики, далеко не всегда эту специфику учиты-
вающим). Третий приоритет — взаимодействие архитектуры как
искусства с прочими видами художественной культуры. Четвертое
приоритетное, на наш взгляд, направление — аксиологические ас-
пекты архитектуры (включая художественную ценность как инте-
гральный критерий качества).
Основываясь на таких приоритетах, мы предлагаем как перво-
очередные следующие темы: исследование структуры архитектур-
ного пространства, подготавливающее и работу над проблемами
специфического языка архитектуры; исследование взаимосвязей
архитектурного формообразования с художественной культурой.
Этот второй срез теоретической проблематики тоже выводит на
формирование языка архитектуры, но уже с иной стороны, в иной
плоскости.
Проблемная сшуаиия и задачи исследования
17
В науке об архитектуре и творческой идеологии архитектуры
недавних лет как ключевое понятие выдвигалась среда. Средовой
подход, при всей противоречивости его теоретических концепций и
компромиссности практических реализаций, оставил существенные
достижения, изменив к лучшему структуру и облик множества го-
родов (на территории бывшего СССР его результаты особенно зна-
чительны в Эстонии, Литве и Грузии). Он вызвал и решительные
изменения в профессиональной идеологии, заставляя смешать ак-
центы в сторону ценностей культуры, заключенных в сложившихся
контекстах города. Вместе со средовым подходом в пределы архи-
тектурной деятельности активно вошла экологическая проблематика.
«Человеческое» стало теснить возобладавшие было техницистские и
технократические тенденции. Средовой подход оказался связан с
ценностями, актуальными для современного массового сознания.
При несомненной его плодотворности, средовой подход как бы
внутри себя несет многие ограничения. Его концепции основыва-
ются на отношениях субъекта и объекта, рассматриваемых как бы
изнутри системы. Вне сферы внимания остаются при этом многие
понятия и представления, инструментальные для проектного мыш-
ления. Для последнего необходимо соотнесение представлений,
основанных на восприятии проектируемой системы как изнутри,
так и извне, в том числе и взгляд с внешней позиции на субъектно-
объектные отношения. Это, однако, уже выходит за пределы орто-
доксальности средового мышления.
Ключевое понятие — «среда» — предполагает взаимодействие
некой системы объектов, предметно-пространственного окружения,
и субъекта, который актуализирует такую систему. Субъектом при
этом могут выступать индивид, семейная ячейка, некий коллектив,
социальная группа, наконец «макросоциумы» — городское сооб-
щество, нация — вплоть до человечества в целом (соответственно
мы имеем дело со средой индивида, семьи, коллектива, социальной
группы, городского сообщества, нации, человечества). Как можно
видеть, содержание, стоящее за термином «среда», не только слож-
но, но также и подвижно, неоднозначно. Его трудно использовать в
поиске тех инвариантов, которые необходимы как опора для по-
строения специфического языка архитектуры. Такое понятие само
требует сложного аналитического исследования.
Вот почему мы сочли целесообразным вновь обратиться к
ключевому понятию «пространство», сыгравшему решающую
3 Зак. 303
18
Раздел /
роль при становлении концепций «современного движения» в ар-
хитектуре XX в., «modem architecture». Ниже мы остановимся на
том, почему эта роль в середине века показалась исчерпанной.
Опыт практики последующих десятилетий, переосмысление исто-
рического материала и те импульсы, которые дал в свое время
«средовой подход», позволяют по-новому поставить исследование
проблем архитектурного пространства и его структур (что, кстати,
может дать материал для новых версий средовой концепции).
Примечание
1. Le Corbuzier. Modulor. Boulogne, 1948. P. 54.
Раздел 2
Архитектурная форма, функция,
архитектурное пространство:
содержание и развитие понятий
Архитектурная форма и функиия
На уровне обыденного сознания представление о том, что есть
форма, кажется самоочевидным, не требующим особых дефини-
ций, тем более, если речь идет не о философской категории, а о по-
нятии, связанном с конкретной предметностью — об архитектур-
ной форме, произведении архитектуры. На таком уровне сознание
принимает формы предметно-пространственного окружения как
принадлежащие самой его вещественности, как данность, обла-
дающую совокупностью свойств, которую надо понять, оценить и
приспособить к ней, в меру их пластичности, определенные про-
цессы жизнедеятельности (или преобразовать эту данность, если
она уже не удовлетворяет потребности). Но архитектурная форма
не только структура, строение некой «вещи в себе», существующей
независимо от нас. Представление о форме складывается в воспри-
ятии, в комплексе субъектно-объектных отношений. Оно связыва-
ется с ценностными представлениями, эстетической и художест-
венной ценностью, в которых субъект как бы подводит итог отно-
шениям с объектом и его свойствами. Но и этим не исчерпывается
содержание понятия. Форма существует и вне вещественности, су-
ществует идеально — в представлении, знании, целеполагании дея-
тельности.
Для деятельности зодчего представление об архитектурной
форме изначально. Известна сентенция К. Маркса: и самого плохо-
го архитектора от самой лучшей пчелы отличает тот факт, что пре-
з*
20
Раздел 2
жде чем строить ячейку из воска, он построил бы ее в своей голове,
идеально. Мысль, близкую к этой, восемнадцатью веками ранее
высказал Витрувий: «...между обывателем и архитектором та раз-
ница, что обыватель не в состоянии судить о работе иначе, как видя
ее оконченной, архитектор же ясно представляет себе и ее красоту,
и удобство, и благообразие, как только он ее обдумал, и до того, как
он приступил к ее исполнению»1. И Витрувий, и Маркс говорят о
форме, возникновение которой происходит в сфере мышления, о
форме, принимаемой как основание в целеполагании деятельности
зодчего. Возникая идеально, она отражает представления, сложив-
шиеся в данной культуре, о закономерностях строения объекта —
природных и отвечающих потребностям общества. Транслируемые
через личность архитектора-автора, эти представления обретают
конкретность в его индивидуальной трактовке. Принятые с разви-
тием зодчества формальные системы вводятся в построение иде-
альных моделей. При этом они могут переосмысливаться; архитек-
тор стремится выявить их внутреннюю логику и в соответствии с
ней строить новые модели. Происходит как бы саморазвитие фор-
мы, развертывание ее собственных закономерностей в идеальном
бытии, направляющем формообразование в материале.
Автономность идеальной формы, существующей в представле-
нии, открывает и возможность мысленного эксперимента. В ее об-
разование могут быть введены некие мнимые факторы, не присут-
ствующие в реальности, и, напротив, воздействие неких реалий
может быть условно опущено. Такая умозрительная модель может
быть овеществлена, зафиксирована, не в объекте, но в изображе-
нии. Проектная деятельность, обособившаяся в Новое время от
строительства, включила в свои возможности и фиксацию форм, не
переводимых в натуру, в материальные структуры. Наряду с вари-
антами проекта, представляющими в системных моделях результа-
ты различных подходов к практическому решению конкретной за-
дачи, с тем чтобы мотивированно избрать наиболее эффективное
решение, возможны и проектные модели, заведомо неосуществи-
мые в натуре, — архитектурные фантазии. Фиксируя представле-
ния, основанные на произвольных допущениях, фантазии могут
быть не только результатом свободной и самодельной игры ума, но
и исследованием неких еще не существующих возможностей, фик-
сацией предвидения, равно как и экспериментом, предметно рас-
крывающим роль определенных связей в системе.
Архитектурная форма, фу н кии я, архитектурное пространство
21
«Невозможная архитектура» архитектурных фантазий появи-
лась в настенных росписях Помпеи (I в. н. э.). Плоскости стен ук-
рашали иллюзорными изображениями портиков, образованных ко-
лоннами, стройность которых в реальности не мог обеспечить ни-
какой из материалов, использовавшихся в то время. Увлечением
эпохи Возрождения были фантастические проекты идеальных го-
родов, показывающие, каким мог бы стать город, построенный сра-
зу, в полном подчинении законам разума и гармонии — мечта, ко-
торую не позволяли осуществить экономические и политические
условия времени. Дж. Б. Пиранези проверял на своих офортах, ка-
кое эмоциональное впечатление могли бы производить гигантские
величины монументальных сооружений, возрождающих славу
древности. А. Сант-Элиа в XX в. создавал фантазии, показываю-
щие город будущего, преображенный использованием возможно-
стей, которые несла в себе уже существующая техника. Идеальная
форма фантазий Пиранези и Сант-Элиа в конечном счете оказала
влияние на развитие тех идеальных форм, которые служили образ-
цами реального формообразования в архитектуре, — первый дал
толчок развитию романтического классицизма, второй — воплоще-
нию технократических идей в архитектуре XX в.
Относительная автономность, заложенная в понятие «архи-
тектурная форма», казалась неприемлемой сторонникам постула-
тов полной детерминированности архитектурной формы утили-
тарной функцией объекта или технологией строительного произ-
водства (последний постулат был частью концепции хрущевской
реформы строительного комплекса в середине 1950-х гг.). Дабы
уйти от трудной проблемы, пытались игнорировать само понятие.
В «Основах теории советской архитектуры» (1958), где сделана
попытка подвести квазифилософские основания под директивно
предписанный технологизм 1950-х, термин «форма» практически
не присутствует; если обойтись без него было совсем уж невоз-
можно, его заменяли эвфемизмами: «здание», «сооружение», «ма-
териальная оболочка здания», «художественно-образная задача»,
«система функциональных элементов»2. Забавно, что А. М. Соко-
лов не включил понятие «форма» в учебное пособие, посвящен-
ное основным понятиям архитектурного проектирования3. В
1960-1970-е гг. проблема архитектурной формы стала «табу» для
отечественной профессиональной литературы как чуждая дейст-
вовавшим идеологическим догмам материалистического детер-
22
Раздел 2
минизма, что отнюдь не снимало ее действительной актуально-
сти.
Понятие архитектурная «форма» в современной профессио-
нальной культуре стало ключевым для творческих концепций и пе-
дагогической практики. Через него транслируются на язык профес-
сии данные, привносимые извне, из таких областей знания, как со-
циология, психология, культурология, семиотика, инженерные дис-
циплины, питающие развитие творческой мысли. Но главное —
понятие «форма», подобно замковому камню арки, объединяет ра-
ционально-практические аспекты архитектурной деятельности и
создание художественно-эстетических ценностей, научное знание и
искусство, принадлежащее техномиру, и человеческое.
В прошлом, предшествовавшем промышленной революции,
архитектура была вполне органичным соединением высокоразвито-
го ремесла и искусства. В Новейшее время в архитектурную дея-
тельность все шире входит научное мышление с его теоретически-
ми представлениями и систематизированной информационной ба-
зой, вводящее архитектуру в контекст промышленной цивилизации.
Оно, однако, не может вытеснить и заменить навыки, интуицию и
талант архитектора, которые позволяют объединить сложную, син-
тетическую деятельность созданием художественных и эстетиче-
ских ценностей, удовлетворяющих специфически человеческую
потребность в красоте окружения и его смысловой содержательно-
сти, духовности. Не стоит сетовать, что архитектуре не удается
«придать вид научной деятельности», отказавшись от усвоения
практического мастерства, в котором ведущей фигурой является не
ученый, а «мастер, не столько рассказывающий, сколько показы-
вающий то, что требует понимание и усвоение учеником», как то
делает А. Раппапорт4.
Архитектура отличается от науки, как практическая способ-
ность от теоретической, по принципу: не только знать, но и мочь.
Она предполагает делание, причем не ограниченное воспроизведе-
нием знания, но направляемое свободным воображением, не только
развивающим логику существующего и известного, но и отыски-
вающим новые логики. Важна и специфика архитектуры, опреде-
ляющая ее место на стыке материальной и духовной культур, тех-
ники и искусства. И осуществляется эта специфика через формооб-
разующие аспекты архитектурной деятельности. Отказ от нее озна-
чал бы капитуляцию перед экспансией техномира, развивающегося
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
23
по своим внутренним законам; более того, он был бы отречением от
тех человеческих ценностей, которые определяют грань между
homo sapiens и тем искусственным разумом, который формирует
кибернетика.
Идея формы всегда присутствовала в архитектурной деятель-
ности — начиная с той примитивной хижины, от которой, по мне-
нию аббата Ложье, теоретика французского Просвещения, проис-
ходит архитектура (т. е. начиная с уровня сложности, который не
превосходит сложности задачи пчелы-строителя). Но строя в пред-
ставлении идеальную форму, древнейший зодчий не отделял ее от
содержания задачи. В. Бычков отмечал: «В Ветхом Завете не суще-
ствовало ни понятия, ни термина, соответствующего греческой
„форме“; форма здесь практически неотделима от содержания.
Важно и значимо лишь само явление в целом, свойства этого явле-
ния или предмета, а не его пластическая реализация»5. Точнее,
вещь и ее предназначение в древнейших культурах не разделялись в
представлении. Архитектурная форма и наполняющие ее процессы,
смыслы, знаком которых она становилась, осознавались в синкре-
тическом единстве. В описании объектов не создавались некие рас-
членения признаков, обособлявшие форму.
Структура описательных текстов следовала последовательно-
сти формирующей деятельности. «Древнего еврея не интересовал
статический внешний вид предмета, человека, сооружения, и в
Ветхом Завете практически нет ни одного описания... внешнего
вида. В описаниях различных построек, сооружений, одежд у авто-
ров Библии выступал на первый план жизненный практицизм. При
подходе к любому сооружению их прежде всего интересовал во-
прос: как это сделано? В Ветхом Завете даются описания не собст-
венно вида Ноева ковчега, скинии, „ковчега завета“, храма и дворца
Соломона, одежд священнослужителей, а изображается точная, го-
воря современным языком, технология изготовления этих предме-
тов и сооружений. Внешний вид неподвижных предметов как бы
расчленяется во времени, наполняется динамикой и движением
процесса их изготовления»6.
Характерны приведенные в Библии довольно пространные
описания храма и дома Соломона7. В них не выстраивается статич-
ное отображение зданий, но под характерный зачин «И сделал...»
читателю предлагается как бы взгляд на процесс их создания, пере-
ход от представления к его овеществлению в материальном объек-
24
Раздел 2
те. Динамичность описаний не случайна: форма оставалась откры-
той, динамичной, не выпадающей в статичный осадок из потока
деятельности, а существующей в этом потоке. Любое здание —
/ижина, дом, дворец, храм — не замыкалось в некую «вещь в се-
бе», внутренне завершенную, неизменяемую; оно было частью
жизни в ее динамичном развертывании. Строительная деятель-
ность, формировавшая здание, могла приостановиться, но как толь-
ко возникали новые потребности, требовавшие оформления в про-
странстве, она возобновлялась. Здание беспрерывно трансформи-
ровалось — изменялось, наращивалось пристройками, наконец,
уничтожалось.
Через подобный этап развития проходили все культуры. Впро-
чем, и за его пределами открытая форма, оттесняемая на перифе-
рию культуры представлениями о завершенности («совершенстве»)
формы, сохраняла свое бытование. Вспомним историю император-
ских дворцов Петербурга и его пригородов, проходивших через по-
лувековой период непрерывных весьма решительных трансформа-
ций, остановленных лишь на перестройках Растрелли, завершив-
шего переход российской архитектуры от Средневековья к Новому
времени. Разраставшимся комплексом оставалось русское кресть-
янское жилище (до тех пор, впрочем, пока крестьянство России со-
храняло свою социальную динамичность и свою культуру). Пред-
ставление о форме в архитектуре как процессе развития, который
длится, приостанавливаясь на определенных этапах, и возобновля-
ется вновь, процессе, который допускает повторения, подобные
повторению формы танца, сохранила поныне японская культура.
Открытость формы к дальнейшему развитию в ее представлениях
естественна. И почти полтора тысячелетия длится процесс возоб-
новления и повторяющегося ритуального уничтожения (через ка-
ждые два десятилетия) главных святынь религии синто — храмов
в Исэ.
Типу сознания, познающего действительность не в созерцании,
но изнутри самой жизни, эллинский мир противопоставил логиче-
ское мышление как основу интеллектуального познания, созерцаю-
щего жизнь как бы извне. От ее потока отделяется постоянное, ус-
тойчивое. Деятельность направляется неким первообразом, парадиг-
мой, оставляя результат, покоящийся в своей материальности. В ан-
тичной диалектике чувственно-материального космоса материя бы-
ла становлением и несла множественность, форма — устойчивой
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
25
категорией, вносящей в материю единство. Формообразующая
идея, которая организует материю, стала принципом зрелой клас-
сики8. Категория формы толковалась в контекстах деятельности. В
ней укреплялась нормативная природа.
У Платона материя — «начало внелогическое, впеэйдетичс-
ское, сплошь текучее и непостоянное, в полном смысле иррацио-
нальное». Идею Платон начинает мыслить как образец для реаль-
ных вещей и существ; в совокупности с материей идея оказывается
порождающей моделью. Единая логическая конструкция идеи мо-
жет проявляться в различных формах («морфе»)9. Форма у Платона
восходит к идее, трансцедентной вещи, пребывающей независимо
от нее в мире идей. Трудная для постижения, всплывающая и то-
нущая во многословии диалогов, мысль Платона вместе с тем от-
ражает реалии ремесленного труда, в котором ремесленник органи-
зует косную материю и создает вещь, руководствуясь каноном, ко-
торый несет традиция — бытующая в сознании, передаваемая от
мастера к мастеру, или закрепленная в неких моделях — описани-
ях, рисунках, образцах.
В своем учении о форме (которую он обозначал как «эйдос») за
Платоном следовал Аристотель, также использовавший термины и
понятия ремесленной деятельности, дополняя их понятиями, исхо-
дящими от представлений о живом, органическом мире. «Материя
без эйдоса есть только пустая возможность, абстрактная возмож-
ность существования чего-нибудь. Эйдос же без материи есть толь-
ко умственный или логический принцип, хотя и данный в уме ин-
туитивно. Но еще никак не существующий материально...» Эйдос
понимался и как причина самой вещи, и как ее цель10. По Аристо-
телю, этот принцип действовал как в природе, так и в искусстве, с
той разницей, что в природе она и есть действующая сила, в искус-
стве же действующая причина — художник — вне создаваемого,
вне материи — «план дома находится не в камне, кирпиче или де-
реве, а в голове архитектора, и лишь потом этот чисто идеальный
план воплощается в материале»11. В современные европейские язы-
ки и в философию Нового времени слово «форма» (близкое к гре-
ческому «морфе») вошло через латынь, где оно уже в I в. до н. э.
встречается у Цицерона. В латинском языке среди его многочис-
ленных значений утвердились и те, что важны для образования
смыслов философской категории и для понятия «архитектурная
форма», вошедшего как в теорию архитектуры, так и в профессио-
2 Зак. 303
26
Раздел 2
нальное мышление. Латынь, впрочем, это слово для обозначения
архитектурных форм не использовала (что показывает текст тракта-
та Витрувия). В образование современного термина вошло также
значение греческого синонима «эйдос», что расширило сферу его
значений, определив пересечение со значениями понятия «идея».
Античное представление о форме выросло из ремесленного
производства и связанной с ним деятельности. Возникновение про-
мышленности означало появление деятельности иного качества и,
соответственно, иного восприятия мира. Уже в мануфактурном
производстве связь функций «частичных работников», как бы об-
ращенных в детали потенциального механизма, отделяется от них
самих, противостоит им в виде программы, алгоритма производст-
венного процесса. Образ этого процесса, определяющий его целе-
сообразную последовательность, получает метрическую основу в
стадиях планирования и оценки результатов. Маркс говорит о
принципе машинного производства разлагать процесс на его со-
ставные фазы и разрешать возникающие задачи средствами естест-
венных наук12. Структура человеческой деятельности приобретает
характер математической абстракции. Для ее осмысления стали
необходимы новые категории мышления, иные, чем те, что исполь-
зовала античная мысль, отталкивавшаяся от «эйдоса», тяготевшего
к зримой конкретности, или мысль средневековых схоластов с ее
культурой слова, речи.
Декарт предлагает новую теорию, основная идея которой —
измерение движения посредством измерения пространства. Он ввел
в геометрию координатные неизменные прямые — картезианскую
систему координат, позволяющую определить пространственное
положение любой точки через координаты ее местоположения, а
через последовательность точек — любую линию (и далее, через
систему образующих линий — поверхности, через объемлющие
поверхности — тела). Время тоже предстает как одна из простран-
ственных характеристик движения, отрезок прямой в прямоуголь-
ной системе координат. Богатство действительности оказалось све-
дено к протяженности и ее свойствам, характеризующей гигант-
ский механизм мира.
Тем самым Декарт создал универсальный инструмент для фик-
сации формы, возникающей идеально, в представлении, для опера-
ций с идеальными образами, их преобразования и развития. Форма,
воспроизведенная в системе декартовых координат, точно фиксиру-
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
27
ется на плоскости чертежей и может быть точно перенесена в на-
турные измерения, определяя формирование объектов. В наше вре-
мя эта математизированная система дала возможность подключить
ЭВМ к операциям по преобразованиям и фиксации идеальных мо-
делей.
Метод обрел и некую самоценность, внося в системы форм
возможность саморазвития на основе картезианской логики. Орто-
гональность стала специфическим свойством систем архитектур-
ной формы, поощряемым этой логикой. Особенно ярким проявле-
нием ее стали «картезианские» формы конструктивизма и раннего
функционализма в европейской архитектуре 1920-х гг. Захватывая в
пределы своего интеллектуального влияния организацию и расчле-
нение процессов деятельности, картезианский рационализм того
времени создавал впечатление некоего единства принципов про-
странственной организации зданий и процессов деятельности, для
которых они предназначены.
Декарт строил свою рационалистическую систему в интеллек-
туальной абстракции, чистом мышлении, принимаемом за самодос-
товерное, отвлеченном от беспорядочности чувственных образов.
Кант полагал, что философское исследование может иметь своим
предметом только мышление. Формы созерцания пространства и
времени, лежащие в основе математики, «перестают быть у Канта
формами существования самих вещей и становятся только априор-
ными формами чувственности»13. Материальное замыкается в не-
познаваемости «вещей в себе», форма становится принципом упо-
рядочения материи в ее чувственно данном разнообразии. Неиз-
менности форм, пребывающих во вневременном мире идей, соот-
ветствовала ориентированная на канон практика античного ремесла
и античного искусства. Кант отнес форму к области знания, пред-
ставления о вещах и их существовании. Открылся путь к размыш-
лению об изменчивости форм.
Гегель в концепции становления видел синтез неизменности и
изменчивости. История в системе его взглядов оказалась становле-
нием, саморазвертыванием творческой силы «мирового разума».
Стремясь к адекватному выражению сущности отношений между
формой и «материей», Гегель ввел категорию «содержания», кото-
рая включает форму и «материю» как снятые элементы. Диалектика
формы и содержания становится в его представлении движущей
силой развития. Дарвинизм и марксизм сняли ту фатальную предо-
2*
28
Раздел 2
предсленность неким генетически заложенным сценарием, который
виделся Гегелю. Форма представала как результат развития процес-
сов изменчивости, направляемых сложными взаимодействиями.
В профессиональном сознании архитекторов форма в XIX в.
обрела свою диалектическую пару. Этой парой стала категория
функции, введенная в научный оборот еще Лейбницем (1646-1716).
Термин, происходящий от латинского functio (исполнение, совер-
шение) указывал на отношение двух объектов, в котором изменения
одного влекут за собой изменения другого. Свою четкую формули-
ровку отношения архитектурной формы и функции получили у
американского архитектора Луиса Салливена (1858-1924), практика
и теоретика, считающегося идеологом Чикагской школы 1880-х гг.
Проблемная ситуация, отраженная в этой паре понятий, опре-
делялась «типологическим взрывом» — стремительным нарастани-
ем числа типов архитектурных объектов, которое началось в XIX в.
под влиянием промышленной революции и урбанизационных про-
цессов. Стихийно множившиеся типы зданий и сооружений с неус-
тоявшимися характеристиками формы затрудняли ориентацию в
городской среде, делали ее семантически неупорядоченной, аморф-
ной. Проблема ориентации связывалась с потребностью символи-
ческого выражения тех новых видов назначения, для которых эти
типы создавались.
Подобная линия мысли с наибольшей последовательностью
развивалась в США. В соответствии со специфическим культурным
климатом страны, где энергичное развитие промышленности рож-
дало острый интерес к технике и естественным наукам, она обрела
прагматические акценты. Особое значение для нее имела эволюци-
онная теория, воспринятая как всеобщий принцип постижения раз-
нообразных форм жизни и законов их органической целесообраз-
ности. Идеал стали искать в строении живого организма или ра-
зумно сконструированной машины. Он определялся как принцип
«прекрасно-целесообразного», получивший не только эстетическое,
но и этическое значение; с ним связывался пуританский этический
императив «правдивости».
Идея функциональности архитектурной формы начала кри-
сталлизоваться вне профессионального круга архитекторов. Пер-
вые ее формулировки исходили от ученых и инженеров, поэтов и
художников. Для первых был характерен практицизм, связывавший
форму вещи с ее утилитарным предназначением. В 1846 г. корабле-
Архитектурная форма, функция, архи тектурное пространство
29
строитель Джон Уиллитс Гриффит, строивший быстроходные па-
русники, в лекциях о корабельной архитектуре определял прекрас-
ную форму как внешнее проявление целесообразности14. За обра-
зом парусного корабля, движение которого зависит от сил природы,
стояло убеждение, что сама природа требует функциональности
форм и может рассматриваться как фактор их отбора в данной сре-
де — идея, которая сформулирована Дарвином как закон, опреде-
ляющий эволюцию, в «Происхождении видов», опубликованном
в 1859 г. Популярность этой идеи у людей того времени поддержи-
валась успехами описательной биологии, достигшей своей верши-
ны. Природа предстала как сокровищница примеров совершенства
в адаптации формы.
Идея из области теоретического мышления переходила на
практику, воплощалась в конкретные эксперименты с формой. Джо-
зеф Пекстон, создатель «Хрустального дворца» для Всемирной вы-
ставки 1851 г. в Лондоне, за образец своей небывалой металлостек-
лянной конструкции принял строение листа амазонской водяной
лилии «Виктория Региа». Он писал: «Природа была здесь инжене-
ром. Природа обеспечила лист поддерживающими его продольны-
ми и поперечными ребрами; заимствуя это, я использовал подоб-
ную идею в своем здании»15. Основываясь на таких примерах, аме-
риканский поэт Ральф Уолдо Эмерсон (1803-1882) писал о природе
как источнике форм, создаваемых инженерами. Он утверждал, что
сама природа предоставляет критерии целесообразной формы, за-
ставляя отбирать то, что наилучшим образом отвечает назначению
в данной среде. Она, по его мнению, должна служить для архитек-
туры источником образцов воплощения законов, по которым осу-
ществляются естественные процессы. Эстетическую ценность «ес-
тественного» подчеркивал Г. Д. Торо, один из наиболее ярких ро-
мантиков в американской литературе. В поэтичной книге «Уолден,
или Жизнь в лесах» (1854) он воспевал лишенное претензий жи-
лище, которое человек строит «как птица свое гнездо». Торо счи-
тал, что все прекрасное в архитектуре «постепенно выросло изнут-
ри, из нужд и характера обитателей... из некоей бессознательной
правдивости и благородства, не помышлявшего о внешнем»16.
Эта линия мысли достигла определенности в эстетической
концепции скульптора Хорешио Грину (1805-1852), который систе-
матизировал интерпретации механических и биологических функ-
ций как факторов, детерминирующих форму, и связал их с принци-
30
Раздел 2
пами архитектурной деятельности. Как и Эмерсон, Грину считал
источником всех законов формообразования природу: «В природе
не существует ни произвольных пропорций, ни жестких формаль-
ных систем... Шея лебедя и шея орла, различные по пропорциям,
одинаково чаруют глаз и удовлетворяют разум... В естественных
объектах наш взор привлекают последовательность и гармония со-
четающихся частей, подчинение деталей и масс целому. Закон при-
способления — фундаментальный закон природы в любой структу-
ре», — писал он17. Стоит отметить, что высказывания Грину, впол-
не совпадающие с духом эволюционной теории, были сформулиро-
ваны задолго до публикации «Происхождения видов». Сформули-
ровав «Закон соответствия формы и функции», Грину перенес его
на рукотворные объекты, с восторгом указывая на корабль как при-
мер его воплощения. «Посмотрите на корабль в море!.. Если бы
можно было возложить на наших архитекторов ту же ответствен-
ность, какую несут кораблестроители, у нас давно уже были бы
здания, настолько же превосходящие своим великолепием Парфе-
нон, насколько „Конституция44 и „Пенсильвания44 превосходят гале-
18
ры аргонавтов» .
Грину определяет красоту как обещание функции, а действие —
как осуществление функции. Красота для него — стадия, через ко-
торую намерение должно приходить к исполнению, а функция —
не только ее оправдание, но и условие существования. Вне связи с
функцией возможна не красота, но лишь декорация, украшение,
даже «украшательство». Совершенство, а не красота должно быть
целью творчества19. Грину призывал: «Вместо того, чтобы втиски-
вать функции здания любого типа в одну и ту же форму, подчиняя
внешнюю оболочку заранее заданному облику или ассоциациям,
без связи с внутренним расположением, давайте начнем изнутри, от
сердца, от ядра — наружу... Тогда банк будет иметь характер банка,
церковь выглядела бы как церковь, а бильярдная и часовня не могли
бы быть одеты в одну и ту же униформу из колонн и пьедеста-
лов...» И если Грину считал здания-монументы обращенными
прежде всего к идеям и вкусам людей, то «органические», сфор-
мированные в соответствии с обыденными потребностями и же-
ланиями тех, кто ими пользуется, он называл «машинами» (пред-
восхитив метафору Ле Корбюзье) и выдвигал требование, чтобы
каждая из таких «машин» была сформирована в соответствии с
особенностями своего типа20. Отметим, что Грину в своем рассу-
Архитектурная форма, функция, архитектурное прос транен но
31
ждении о форме и функции говорит нс только об утилитарной це-
лесообразности формы в связи с осуществлением практического
назначения, но и о символизации функции визуально восприни-
маемой формой. Именно последняя грань проблемы привлекала к
себе особое внимание архитекторов после первой трети XIX в. На
эту задачу особо указывал и российский профессор А. К. Красов-
ский, принадлежавший к числу первых теоретиков рационалисти-
ческой архитектуры: «Архитектура должна иметь целью обнару-
жить внешним представлением внутренний смысл, значение и
цель здания»21.
Исследование проблемы связи архитектурной формы и функ-
ции, инициированное идеями Гегеля, развертывалось уже не на
уровне философских категорий, а на уровне понятий теории ар-
хитектуры (или теории архитектурной деятельности). Само по
себе это свидетельствовало об изменениях профессии, в систему
которой все шире входило научное знание. И если в век Просве-
щения, XVIII в., оно служило лишь систематизации и осмысле-
нию традиции, то быстро меняющиеся ситуации, порождавшие-
ся динамизмом промышленной цивилизации, потребовали более
активного развития профессионального сознания, формирующе-
го теперь идеальные модели не только конкретных объектов, но
и самого метода их создания, метода деятельности. Канон и ре-
месленническая традиция не давали опоры в меняющейся дейст-
вительности. За принципом диалектики формы и функции стоял
поиск детерминант формы, главного объекта профессиональной
деятельности. Этот поиск был проявлением коллективной воли к
тому, чтобы сделать процесс становления архитектуры управ-
ляемым.
В последнем десятилетии XIX в. американская «протофунк-
ционалистическая» концепция была завершена Луисом Салли ве-
ном. Его система идей формировалась в духовной среде, испытав-
шей влияние философии прагматизма, что и определило ее специ-
фические акценты. Вместе с тем, ее изложение получило характер
не теории или философии, но, скорее, некоего религиозно-
мистического учения. Метафоричные тексты Салливена соприка-
саются с поэзией. Первые формулировки своего кредо Салливен
предложил в статье «Высотные административные здания, рассмат-
риваемые с художественной точки зрения» (1893), в их числе — за-
кон, которому он придавал универсальное и абсолютное значение:
32
Раздел 2
«Будь i’o орел в своем стремительном полете, яблоня в цвету, ломо-
вая лошадь, везущая груз, журчащий ручей, плывущие в небе обла-
ка и над всем этим вечное движение солнца, — всюду и всегда
форма следует за функцией»22.
Салливен как будто и не оригинален — подобные мысли ранее
высказывали Эмерсон, Грину, Красовский. Но у Салливена «закон»
был развит в пределах последовательно развивавшейся творческой
концепции, положения которой конкретизировались и раскрыва-
лись в практических экспериментах. В формуле «форма следует за
функцией» он имел в виду, прежде всего, не детерминированность
формы утилитарной целью, но метафорическое выражение всего
разнообразия проявлений жизни, связанных с объектом, которое и
отождествлял с гегелевской категорией содержания. Прагматиче-
ское в его концепции отступало на второй план, в утилитарном он
видел лишь часть задачи, причем не ту, которая преобладает в ме-
тафоре. Рационалистический идеал «прекрасно-целесообразного» у
него прочно соединен с этическими мотивировками. Логика детер-
минизма, однако, была заложена. Механистические и биологиче-
ские аналогии, заложенные в концепцию, несли в себе соблазн за-
местить противоречивые реалии человеческих отношений, замы-
кавшихся на архитектуре, «объективными» факторами утилитарно-
го и технико-конструктивного.
В ментальности 1920-х гг., следовавших за потрясениями Пер-
вой мировой войны и волнами порожденных ею революций, имен-
но утилитаристские и технократические истолкования диалектики
архитектурной формы и функции возобладали в европейской куль-
туре. В вербальных формулах провозглашалась чистая рационали-
стичность утилитарно детерминированного формообразования. Как
основной принцип «современного движения» в архитектуре при-
нималась формула Луиса Салливена, утверждавшего, что форма
следует за функцией. В эту зависимость подставлялись, однако,
существенно иные значения. Функция была истолкована как типи-
зированная, приведенная к наиболее рациональному способу осу-
ществления, устойчивая совокупность процессов жизнедеятельно-
сти, детерминированная социальными и производственными отно-
шениями. Специализация функций, определяемая «научной» орга-
низацией деятельности, принципом которой было тогда макси-
мальное расчленение процессов на операции и четкая артикуляция
их частей (система Тейлора), становилась и формообразующим
Архи тек турн а я форма, функция, архитек турное и рос i ра / /с г но
33
принципом. Принцип детерминированности архитектурной формы
перерастал в ее однозначную изоморфность функции.
Вальтер Гропиус, олицетворявший в 1920-е гг. «главную ли-
нию» развития рационалистических идей «современного движе-
ния», писал: «Растет сознание того, что живой творческий импульс,
который исходит от социальной жизни и объединяет в едином уст-
ремлении все отрасли формотворчества, получает свое начало и
завершение в архитектуре.
Следствием изменившихся и углубившихся воззрений и ис-
пользуемых технических средств явился облик здания, который
создается не как самостоятельная ценность, а возникает из самой
сути здания и функции, которую оно должно выполнять.
Минувшая эпоха формализма извратила естественное положе-
ние вещей, при котором существо здания определяет технику его
создания, а та, в свою очередь, — его облик»23. Обратим внимание
на последнюю часть высказывания. Из совокупности свойств фор-
мы извлекается техника ее создания, как промежуточная детерми-
нанта, как бы транслирующая устремленность социальной задачи в
строение формы. Технократические идеи, получившие широкое
распространение в идеологическом климате 1920-х, предполагали и
присутствие «техногенных составляющих» в самой социальной
задаче. Человеческое, таким образом, оттеснялось на второй план
техникой, выраставшей в представлениях профессионального соз-
нания до самодовлеющей судьбоносной силы.
Понятие «архитектурная форма» в этой системе мысли оказа-
лось почти элиминированным; форма была лишь материальным
условием эффективного осуществления функции, прямо подчинен-
ным структуре ее организации. Логика функционализма в своем
развитии с неизбежностью выходила на экстремистские крайности
утилитаризма, идеи которого четко формулировал швейцарец Хан-
нес Мейер (1889-1954) в своей антиэстетической иконоборческой
концепции. Он утверждал: «Все вещи на земле являются произве-
дением от перемножения функции на экономичность... Все прояв-
ления жизни являются функциями и, следственно, нехудожествен-
ны... Зодчество не является процессом эстетического порядка.
Создаваемый новый жилой дом будет... биологическим устройст-
вом для удовлетворения духовных и физических запросов». Мейер
считал архитектуру анонимной деятельностью, направленной на
формирование жизненных процессов: «Строить — это всего только
34
Ра злел 2
организация: организация социальная, техническая, экономическая
и психологическая»24. В этой модели понятие «архитектурная фор-
ма» оказалось излишним. У Мейера оно не возникает.
Подобным образом складывалась и концепция российского
конструктивизма. Стержнем ее была социальная организация жиз-
ни в той модели общества, которую строила Россия. М. Я. Гинзбург,
идеолог направления, писал о программе функционального творче-
ства, задача которого — «изобретательство новых типов архитекту-
ры, долженствующих оформить социалистический быт»25. Он вы-
делял в архитектурном творчестве момент изобретательский, ото-
ждествляя его с творчеством инженерным, но обращенным на ре-
шение социальных задач. Техника мыслилась при этом как обоб-
щенный прообраз целесообразного, радикального и однозначного
решения любых проблем, а значит, и проблем социальных, челове-
ческих. Первоистоком архитектуры объявлялось «конструирова-
ние» самой жизни, здание же выступало как оболочка ее рацио-
нально организованных форм. Отсюда — призыв развертывать за-
мысел изнутри — наружу.
Конструктивисты игнорировали форму как категорию, имею-
щую некое собственное бытие, самоценность и специфические за-
кономерности образования и строения. Даже И. И. Леонидов, во-
шедший в историю архитектуры, прежде всего как мастер органи-
зации формы, утверждал: «...для нас же форма — результат орга-
низации и функциональных зависимостей рабочих и конструктив-
ных моментов»26. С их позиций казалась неприемлемой концепция
группировки архитекторов-рационалистов АСНОВА, полагавших
необходимым полнее отразить чисто человеческие грани социаль-
ных потребностей, а следовательно, работать не только над струк-
турой объекта, но и над организацией всех сторон субъектно-
объектных отношений, в том числе — чувственного восприятия
объекта.
В соответствии с такой установкой в центре внимания рацио-
налистов оказалась форма как кантовская категория — принцип
упорядочения материи в ее чувственно данном разнообразии.
Н. А. Ладовский, идеолог группы, принял эту категорию за отправ-
ное начало в своем конспекте теории архитектуры. Рационалисты
испытали влияние теории супрематизма Казимира Малевича. Его
призыв — сделать экономию мерой ценности искусства — они
претворяли в принцип экономии психической энергии. Ладовский
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
35
видел в нем главный критерий формообразования, контролируемо-
го «психотехникой» (данными экспериментальной психологии).
Как и у конструктивистов, концепция рационалистов основывалась
на постулате детерминированности формы. Они, однако, не прини-
мали функцию как нечто однозначное, рассматривая сложную диа-
лектику формообразующих факторов. Возможность «растворения»
формы, ее элиминирования структурой функции тем самым исклю-
чалась. Оппоненты — конструктивисты и «пролетарские архитек-
торы» (группа ВОПРА) — называли это формализмом (термин, ко-
торый получил негативное значение) и доказывали идеологическую
несовместимость такового с марксистскими убеждениями. Критика
переводилась во внетеоретическую плоскость, доводы ее принима-
ли тональность политического доноса.
Этический импульс, заложенный в теорию функционализма,
трансформировался в принцип унификации: «Большинство людей
имеет одинаковые потребности. Поэтому вполне логично... попы-
таться удовлетворить такие одинаковые потребности одинаковыми
средствами»27. Идеал уравнительной утопии оказался созвучен тре-
бованиям стандартизации и типизации, выдвигаемым индустри-
альной техникой строительства. Казалось, что унификация форм
предметного окружения может дать матрицу новой демократиче-
ской организации общества. Обеспечивая эффективность массового
производства, она выступала и как условие справедливого решения
социальных задач, связывалась тем самым с этическими ценностя-
ми. Этические предпосылки побуждали к унификации, иногда и не
обусловленной технологией, системы форм среды, в которой виде-
лись воплощения социальной утопии (жилые поселки на перифе-
рии промышленных городов Германии, «соцгорода» России конца
1920-х гг.). В принципе технократической организации оказывалась
по-своему снятой диалектика формы и функции. Его экстремаль-
ным проявлением стал технологизм хрущевского времени, в равной
мере подчинивший категории формы и функции технологическому
прагматизму, разрушительному для той и для другой.
Антиформализм, ориентированный на утилитарную функцио-
нальность, опровергал свои теоретические постулаты собственной
практикой. Чтобы зримо утвердить их, обращались к «иконоборче-
ству», стремясь к некоему «нулю формы», ее предельному лако-
низму, вытесняющему традиционную меру детализации и пластич-
ности элементарными геометрическими очертаниями. Добивались
36
Раздел 2
при этом впечатляющего эффекта средствами, идущими от фор-
мальных экспериментов живописи начала столетия (ориентирова-
лись на их линию, начатую поисками обобщенной структурности
живописной формы у Сезанна, продолженную кубистами и завер-
шенную лаконичной геометрией посткубистского абстрактного ис-
кусства — нсопластицизма, российского супрематизма). Лаконич-
ность прокламировалась в данном случае, однако, не как способ
«экономии психической энергии», но как выражение практицизма,
дающее реальное упрощение и удешевление строительного про-
цесса. На деле она была формальным средством воздействия на
эмоции. Практически же создавать и затем поддерживать большие
геометрически четкие плоскости сложнее и дороже, чем традици-
онные формы, которым противопоставлялся лаконизм «функцио-
нальной» архитектуры (особенно дороги и сложны обширные по-
верхности остекления, абсолютная герметичность которых должна
сочетаться с гибкостью сопряжения элементов, компенсирующей
различие коэффициента теплового расширения стеклянных панелей
и их металлического обрамления). Иконоборчество оказалось по
сути дела приемом организации формы, подсказанным тенденциями
ее «саморазвития», рационализм — прокламируемым намерением.
Противоречие, заложенное в концепцию функционализма, при-
вело к тупикам в развитии творчества и, в конечном счете, к кризи-
су «современного движения» в архитектуре. В 1950-е гг. американ-
ский эстетик Р. Арнхейм подошел к раскрытию противоречия, ана-
лизируя результаты современной архитектуры с позиций гештальт-
психологии. В его теории основным предметом вновь стала катего-
рия формы, которую он рассматривал в связи с закономерностями
психологии восприятия и понятиями гештальтпсихологии. Арн-
хейм, сохраняя верность общему принципу функционализма, воз-
вращал его к исходному смыслу базовой формулы Салливена
«форма следует за функцией», интерпретируя архитектурную фор-
му как экспрессивное выражение полного содержания эстетическо-
го объекта. При этом сама информативность формы становится од-
ной из его функций. Форма в работах Арнхейма рассматривается в
двух плоскостях — восприятия и формообразования. Характеризуя
форму объекта как оперативную единицу эстетического воспри-
ятия, он основывается на принципе гештальта, т. е. целостности
восприятия, воспринятом им от немецких гештальтпсихологов
Вольфгана Кёлера и Макса Вертхеймера. По Арнхейму, восприни-
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
37
маемая форма «кроме себя самой всегда указывает и на что-то
еще», т. е. несет в себе информацию, которой раскрывается назна-
чение объекта («предмет должен сам показать, для каких целей соз-
дан и как им управлять»); кроме того, форма отражает внутренние
и внешние процессы, повлиявшие на ее развитие, образование и
рост28. Арнхейм обращает внимание только на ту информацию, за-
ключенную в форме, которая обращена к самому объекту, не выхо-
дя на его культурные контексты. Однако направление характерно.
Постфункционалистские теории архитектуры и концепции ар-
хитектурной формы развивают прежде всего различные аспекты
значения формы, рассматривая его в различных плоскостях, раз-
личных средах. К проблеме значений формы подводили феномено-
логические исследования философов-экзистенциалистов (в частно-
сти, О. Ф. Болнова); они акцентируются в книге норвежского теоре-
тика архитектуры К. Нурберг-Щульца, исследовавшего феномено-
логические аспекты теории архитектуры29. Однако наиболее энер-
гично к значению форм предметно-пространственной среды обра-
тились в 1960-е гг. во французской философии структурализма (Ро-
лан Барт), инициировав их изучение средствами семиотики. Швед-
ский структуралист Свен Хессельгрен опубликовал фундаменталь-
ное исследование «Язык архитектуры», где сделал попытку по-
строить теоретическую концепцию значащей архитектурной фор-
мы, используя методы, как семиотики, так и гештальтпсихологии.
Среди множества объемных публикаций по семиотике архитектур-
ной формы выделялась статья Франсуазы Шоэ о семиотических
аспектах городской среды, основанная на историко-культурном
анализе значений и трансформации их в связи со значащими эле-
ментами и структурами. На первый план в этих работах был вы-
двинут семантико-синтаксический аспект понятия «форма».
Вряд ли есть основания преувеличивать значимость этих втор-
жений методов структурной лингвистики в сферу архитектуры.
Пределы корректного использования ее понятий при исследовании
архитектурной проблематики оказались достаточно узкими; выво-
ды, к которым удавалось придти в результате сложнейших логиче-
ских построений, как правило, были тривиальны. При всем том,
«архитектурная семиотика» способствовала изменению ментально-
сти профессионального сознания, которую воспитал функциона-
лизм. Преодолевалось прагматическое отношение к проблеме фор-
мы, ее отождествление со структурой функций. Оказалось возмож-
38
Раздел 2
ным раскрыть некоторые закономерности формообразования, ус-
кользавшие от внимания (значение как одна из детерминант формы
связи между формой, значением и функционированием объекта,
отношения ценностей нового и традиционного).
В 1970-е гг. для исследования семиотики архитектурной формы
был даже использован проектный эксперимент. Нью-йоркский ар-
хитектор Петер Эйзенман попытался осуществить в структуре не-
скольких небольших объектов — индивидуальных домов — прин-
ципы синтаксических структур, сформулированные в сфере иссле-
дования языка американским лингвистом Н. Хомским. Экспери-
менты с трансляцией структуры языка в материальные объекты вы-
лились в странную игру с абстрактными расчленениями их форм.
Результаты как-то приспосабливаются к практическому использо-
ванию, обживаются (хоть и не без трудностей) — адаптационная
способность человека для этого достаточно широка. Однако эти
попытки материализовать «чистый синтаксис», отрешившись от
сознательно планируемой функциональности архитектурной фор-
мы принадлежат к очевидному абсурду. Форма вне конкретных
функций, связанных с ней, не становится архитектурной формой.
Приспособленная под жилище, она стала экстравагантным домом,
неудобным для обыденного быта, демонстрируя несовпадение за-
кономерностей синтаксических и функциональных структур (по-
следнее — наиболее очевидный результат эксперимента, который,
впрочем, можно было предсказать и умозрительно).
И все же семиотические исследования восстановили отноше-
ние к форме архитектуры как носителю культурных значений, при-
чем не связанных лишь с формированием, существованием и ис-
пользованием объекта. Реабилитация формы, принятая системой
профессионального сознания, стала условием формирования твор-
ческих концепций 1970-1980-х гг. Идея «говорящей архитектуры»,
форма которой не только активно воздействует на восприятие, но и
несет слои культурных значений, имела ключевое значение для
концепций постмодернизма и стиля хай-тек. Проблемы формы ока-
зались в центре внимания и такого «постпостмодернистского» на-
правления, как деконструктивизм.
Форма, как и функция в архитектуре, принадлежат, как можно
видеть из приведенного выше генетического анализа, к понятиям
изменчивым, меняющим свое содержание вместе с развитием архи-
тектурной деятельности, контекстами культуры, мировоззрения,
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
39
идеологии, в которые эта деятельность включена. И поэтому нельзя
предложить дефиниции этих понятий, пригодные на все времена, в
любых обстоятельствах. Подводя итоги сказанному выше, попыта-
емся сформулировать определения формы и функции в архитекту-
ре, отражающие наши представления и используемые в дальней-
ших рассуждениях о проблемах формообразования и архитектур-
ной композиции.
Функция — комплекс задач, решаемых созданием архитектур-
ного объекта, чтобы обеспечить материальные условия для осуще-
ствления определенной группы процессов жизнедеятельности и
символическое выражение связанных с ними значений — практи-
чески ориентирующих, ценностных, историко-культурных, мифо-
логических. Функция определяет цель создания объекта и содержа-
ние, которое несет его форма. Конкретность функции задается ме-
стом объекта в контекстах культуры и систем жизнедеятельности
общества. Как и эти контексты, функция неустойчива, изменчива,
многообразна в своих проявлениях. Вместе с тем, в ее структуре
есть относительно стабильный слой типического, обусловленный
константами биологических потребностей человека, устойчивыми
категориями социального и бытового назначения, архетипами сим-
волических значений, а также преемственностью культуры, ее тра-
дициями и обычаями.
Архитектурная форма — организация пространства и мате-
риальных структур объекта (здание, сооружение, группа построек),
обеспечивающая необходимые физические качества окружения и
целесообразную упорядоченность определенного комплекса про-
цессов жизнедеятельности, символически выражающая при этом
информацию об этих процессах и связанные с ними значения. Со-
относимая с функцией объекта как способ ее осуществления (фор-
ма для данного содержания), она должна выражать ее, но отнюдь не
обязательно следовать в своих физических параметрах ее про-
странственной артикуляции (требование, которое пытался ввести
как догму ортодоксальный функционализм; изменчивость функций
при этом вела к моральному устареванию формы, опережающему
физическую амортизацию материальных структур).
Архитектурная форма не только структура, строение «вещи в
себе»; она возникает прежде всего в сознании, представлении,
т. е. идеально, отражая комплекс субъектно-объектных отношений,
идеальные модели и ценности, присущие данной культуре. В ней
40
Ра злел 2
конкретизируется целеполагание строительной деятельности. Иде-
альная форма может получить промежуточную фиксацию в мате-
риальных моделях проекта (или архитектурной фантазии) — вер-
бальных описаниях условных изображениях на плоскости, объем-
ных макетах. Ее окончательное воплощение в организации мате-
риала, конструкциях, требующее значительных затрат материаль-
ных ресурсов и труда, осознается как акция настолько значитель-
ная, что становится предметом символического выражения в форме
(таким образом могут раскрываться морфология конструкции, дей-
ствующие в ней напряжения, свойства материала и методы осуще-
ствления формы).
Заметим, что на понимание и восприятие архитектурной формы
наложило отпечаток обыденное словоупотребление, сложившееся в
русском языке. Слово «форма» привычно используется, чтобы оха-
рактеризовать геометрические свойства объекта, отвлеченные от его
материальности, структурности, его (объекта) вовлеченности в жиз-
недеятельности и его значений. Мы говорим о форме шара и форме
круга, о кубической и квадратной форме. Этот второй смысл, кото-
рому соответствует термин «очертание», не включает сущностные
аспекты понятия «архитектурная форма», не соотносится с его со-
держанием. Быть может стремление отграничиться от этой абстрак-
ции объясняет столь популярные в недавние десятилетия утвержде-
ния о внешней детерминированности архитектурной формы.
Но функция может полноценно реализоваться только через це-
лостность гармонично организованной, выразительной формы. Са-
ма форма функциональна. Она обладает и некой мерой самоценно-
сти. И процесс архитектурного творчества, независимо от принятой
концепции, никогда не развертывается в одном лишь направле-
нии — от функции к форме как конечному результату. Практически
форма закономерностями упорядоченности своих структур подска-
зывает новые «ходы» в организации функции, ее уточнении и со-
вершенствовании, рождая встречное движение мысли — от формы
к функции.
К тому же формы живут дольше функций и материально, и
идеально. Здание может утратить первоначальную практическую
предназначенность и значения, заложенные в его символику. Фор-
ма, сохранившая свою морфологию, осваивается новой функцией; к
ней адаптируются иные процессы жизнедеятельности, ее символи-
ка наполняется новыми смыслами, а упорядоченность соотносится
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
41
с новой системой эстетических ценностей. Форма памятника архи-
тектуры обретает новое качество, отвечающее потребностям и цен-
ностным установкам людей иного времени (Парфенон, функция
которого сводится теперь к символическому воплощению историко-
культурных и мифологических значений и демонстрации самоцен-
ной гармонии формы; императорские дворцы Санкт-Петербурга и
его окрестностей, превращенные в историко-культурные и художе-
ственные музеи; руины терм Диоклетиана в Риме, превращенные в
католический храм; городская усадьба Пашкова в Москве, ставшая
частью Российской государственной библиотеки и пр.).
Представление о форме имеет фундаментальное значение для
эстетической ценности и эстетической оценки. Вместе с тем в архи-
тектуре оно не ограничено уровнем эстетического и художественно-
го, с которым связано неразделимо. Эстетически и художественно
значимый способ упорядочения материальной структуры, обра-
щающий ее в архитектурную форму, оказывается и способом осуще-
ствления социального назначения; он связан (хоть и неоднозначно) и
с технико-конструктивной упорядоченностью. Через форму осуще-
ствляется функция. На нее, прежде всего, направлена профессио-
нальная деятельность зодчего, преобразующего аморфную материю
по законам природы, социальной целесообразности и красоты.
В соответствии с приоритетами, определяемыми преобладаю-
щими тенденциями развития архитектуры конца XX в., в центре
исследований архитектурной формы становятся проблемы ее мор-
фологии и художественного языка. Для этих проблем ключевым
понятием является пространство. Далее мы и обращаемся к этому
понятию.
Архитектурное пространство
Начнем с предварительного рабочего определения, основыва-
ясь на дефинициях, закрепившихся в архитектурной науке послед-
них десятилетий и творческих концепциях второй половины XX в.
В первом приближении архитектурное пространство — часть
пространственной непрерывности мира, выделенная и сформиро-
ванная материальными элементами, которая вмещает человека,
воспринимается им и обеспечивает условия жизнедеятельности;
морфологическое строение архитектурного пространства опреде-
ляет локализацию функций, разделяет и изолирует их или связы-
42
Раздел 2
васт в целесообразной последовательности; его гармоничная уст-
роенность — необходимое условие эстетической ценности произ-
ведения архитектуры. Конвенциональные значения пространствен-
ных форм и принципы их сочетания складываются в основу специ-
фического языка архитектуры, несущего художественно-образную
информацию. Жизпеустроитсльное назначение архитектурного
пространства обеспечивается не только разграничением и целесо-
образно организованными связями его частей, но также информа-
цией, которую несут пространственные формы, поддерживая соци-
ально санкционированную направленность поведения.
Для функционирования и эмоционального восприятия архитек-
турного пространства изначальны отношения качественно выде-
ленного внутреннего и внешнего пространств. В пределах единич-
ного объекта, здания их определяют сочетания материальных эле-
ментов — конструктивных, несущих нагрузки, и ограждающих
(последние могут как обладать материальной непрерывностью и
непроницаемостью, так и быть прозрачными и проницаемыми, но
определяющими рубеж между внутренним и внешним: стеклянное
ограждение, решетка, балюстрада, ряд колонн, терраса, перепад
уровней горизонтальной плоскости и пр.). Оболочка, заключающая
в своих пределах внутреннее пространство здания, извне воспри-
нимается как объем; группировка объемов вычленяет и формирует
пространство комплекса застройки — замкнутое, где визуально от-
крыто лишь направление вверх, или раскрытое, где разомкнутость
периметра оставляет свободными одно или несколько направлений
по горизонтали.
Иерархию уровней системы архитектурных пространств за-
вершает пространство поселения (интерьер помещения — внут-
реннее пространство здания — комплекс застройки — поселение).
Пространственные структуры более высоких уровней организа-
ции выходят за пределы чувственного восприятия человека и, ут-
ратив прямой контакт с ним, не несут символических значений и
не являются пространством архитектурным («архитектурность»
пространства поселения необходимо рассмотреть особо — оно
недоступно прямому чувственному восприятию, но остается
предметом образного представления, развернутого в пространстве
и времени — об этом ниже).
Предложенное рабочее определение соотнесено с общим поня-
тием «пространство». На житейском уровне содержание последне-
Ар\и i ек турная форма, функш 1я, архи те кт ур ное i ipoci ра нет во
43
го кажется самоочевидным, но только на этом уровне оно общепо-
нятно, элементарно и несомненно. На уровне же философском оно
относится к тем фундаментальным представлениям, по которым
«консенсус» не был и не будет достигнут. Для Иммануила Канта
пространство — априорная форма нашей чувственности; оно «во-
все не представляет свойства каких-либо вещей в себе... не есть
определение, которое принадлежало бы самим предметам и остава-
лось бы даже в том случае, если отвлечься от всех субъективных
условий созерцания»30. Кантовское пространство антропоцентрич-
но. «Только с точки зрения человека, — утверждает он, — можем
мы говорить о пространстве, о протяженности и т. п. Если отвлечь-
ся от субъективного условия... то представление о пространстве не
означает ровно ничего»31. В марксистской философии утверждение
первичности материи приводит к выводу, что пространство есть
форма существования материи32. С точки зрения Фридриха Энгель-
са пространство не существует самостоятельно и независимо от
материи, не может быть отделено от протяженности вещей и их
взаимного расположения.
Для наших целей нет нужды включаться в вековечную дискус-
сию на этом уровне абстракции. Содержание понятия «архитектур-
ное пространство» зависит от представлений на том уровне миро-
понимания, на котором формируются ценности, символические об-
разы, значения и синтаксические структуры специфического языка,
концепции деятельности и рисунок поведения. Специфичность
представлений о пространстве на этом уровне входит в менталь-
ность культуры и может использоваться в числе признаков иденти-
фикации стадий ее исторического развития или национального ха-
рактера. Подобные представления направляют целеполагание тех
видов деятельности, которые определяют пространственное уст-
роение жизни и, тем самым, морфологию архитектурного про-
странства.
Пространственные представления трудны для рефлексии. В ар-
хитектуре, тысячелетиями занимавшейся устроением пространства,
оно долго не становилось предметом специального осмысления.
Тем более не делались попытки осознать воздействие на архитек-
туру представлений о пространстве, входивших в систему миропо-
нимания. До середины XVIII в. само слово «пространство» не упо-
мянуто ни в одном трактате об архитектуре. Да и к концу этого века
оно лишь изредка возникало в сочинениях о композиции ланд-
44
Раздел 2
шафтных садов и пару раз вскользь использовано в курсе лекций
Ж.-Ф. Блонделя, 1771-1777 гг.33. Лишь в начале XIX в. слово «про-
странство» в связи с архитектурой стало употребляться в смысле
трехмерной реальности германоязычными эстетиками, как, напри-
мер, Гегелем в его «Эстетике», основанной на лекциях, читавшихся
в 1820-е гг.
Но к исследованию пространственных форм как основы худо-
жественного языка архитектуры искусствознание и архитектурове-
дение обратились лишь на рубеже XIX и XX вв., примерно в то же
время, когда Ф. Л. Райт в Америке начал свои интуитивные поиски
новой пространственности в практическом проектировании. Прие-
мы анализа пространственной формы начал развивать Генрих
Вёльфлин, а вслед за ним — его школа формального искусствозна-
ния. Пауль Франкль в 1914 г. предложил схему основных этапов
(или фаз, как он их называл) европейской архитектуры после Ре-
нессанса, в основу которой положил развитие пространственной
формы наряду с массой, светом и назначением построек34.
Принципам школы Вёльфлина следовал крупнейший герман-
ский историк архитектуры и градостроительства первой половины
XX в. Альбрехт Бринкман, который считал первоосновой, опреде-
ляющей архитектурную форму, «чувство пространства», как интер-
претацию присущего человеку «чувства бытия». В книге 1908 г.,
принесшей ему широкую известность, «Площадь и монумент как
проблема художественной формы»35 он утверждал: «Первоосновой
всякой архитектонической формы является чувство пространства,
которое, в свою очередь, коренится в ощущении человеком собст-
венного тела и, таким образом, носит психофизический харак-
тер»36. Далее он говорил о чувстве пространства, свойственном оп-
ределенной эпохе и национальной культуре. Позднее в ряде фунда-
ментальных работ Брикман показал возможность и плодотворность
изучения истории градостроительства и архитектуры как реализации
пространственных представлений общества37. Переработав гранди-
озные массы материала, Бринкман показал возможности нового ме-
тода изучения архитектуры, основанного на исследовании простран-
ственной формы и «чувства пространства». Подчиненность нацио-
налистическим приоритетам придавала работам Бринкмана ощути-
мый провинциализм.
Но, главное, традиции вёльфлиновской школы формального
анализа ограничивали возможность разностороннего изучения ар-
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
45
хитектурного пространства. Они были связаны истолкованием ар-
хитектуры на основе «теории вчувствования» Теодора Липпса и
Вильгельма Воррингера, опиравшейся на «телесность» архитек-
турных объектов (аналогии между ощущением человеком собст-
венного тела и восприятием архитектуры). «Вчувствование» было
естественным в системе понятий, выработанных ордерной архитек-
турой классицизма, но не могло служить столь же корректно как
средство анализа организации пространства в иных стилистиче-
ских системах (что обнаруживается, например, в работах Августа
Шмарзова, посвященных готике).
Создать специфический аппарат анализа архитектурного про-
странства стремились архитектуроведы венской группы, ставившей
задачу изучения внутренней структуры художественных явлений.
Ганс Янтцен в 1927 г. предложил понятие «структура пространст-
ва» и использовал его для установления основных принципов по-
строения готического храма38. Тогда же в Германии была опублико-
вана работа Эрвина Панофского «Перспектива как символическая
форма»39, которая положила начало конкретному изучению того,
как способ видения, отвечающий новому типу мировосприятия,
влиял на изменения в формировании архитектурного пространства.
В искусствоведении 1920-х гг. содержание этого понятия расширя-
лось путем вовлечения в анализ субъективных факторов — про-
странственных представлений и способов восприятия пространст-
ва. В этой связи необходимо также упомянуть о влиянии венца
Макса Дворжака с его акцентом на «духовном содержании» худо-
жественных явлений как специфическом выражении мировоззре-
ния; такой подход он, в частности, использовал для анализа про-
- 40
странства готической архитектуры .
Середина 1920-х гг. стала ключевым, критическим временем
для развития концепций архитектурного пространства. К этому
времени кристаллизовались идеи «новой архитектуры», ассимили-
ровавшие приемы художественного авангарда (и прежде всего та-
ких направлении посткубизма, как супрематизм, неопластицизм,
пуризм). Проблема пространства (архитектурного пространства,
которое, строго говоря, рассматривалось как пространство художе-
ственное, чистое воплощение «художественной воли») вышла на
первый план. Характерный для авангарда метод мышления, кон-
центрировавшегося на «главном» с точки зрения принятой концеп-
ции и отсекавшего второстепенное для нее, получил выражение в
46
Раздел 2
гипертрофированной пространственности архитектуры, пренебре-
жении массой и ее пластическими свойствами при построении спе-
цифического архитектурного языка. Непримиримость противопос-
тавления авангардного и традиционного требовала вербально
сформулированной мотивировки. Она была необходима для четкого
определения приоритетов авангарда и его консолидации в борьбе за
«место под солнцем» (плюрализм для 1920-х гг. еще не стал все-
примиряющим понятием — в политике звучали жесткие формулы
типа «кто не с нами, тот против нас»).
Авангард 1920-х гг. не был молчалив — наряду с поразитель-
ным обилием концептуальных текстов Ле Корбюзье, в Западной
Европе появлялись яркие эссе Вальтера Гропиуса, Людвига Мис
ван дер Роэ, Людвига Хильберзаймера, Бруно Таута, Ласло Могой-
Надя, Тео ван Дусбурга; в Америке энергично заявляли свои взгля-
ды Франк Ллойд Райт, Рихард Нейтра, в России — Моисей Гинз-
бург, братья Веснины. Тексты творческих лидеров были, однако,
неотделимы от их личных убеждений, отнюдь не совпадавших.
Никто не мог претендовать на создание некой общей платформы.
В 1930-е гг., когда стремительно распространившаяся «новая архи-
тектура» стала ощущать опасность внутреннего кризиса, а общая
ситуация в мире говорила о приближении кризиса всеобщего, соз-
дать объединяющую движение книгу-манифест взялся Зигфрид
Гидион — швейцарский архитектуровед, генеральный секретарь
СТАМ, международной организации архитектурного авангарда.
В 1941 г., когда в Европе все шире разгоралась Вторая мировая
война, он опубликовал в США книгу «Пространство, время, архи-
тектура»41. Несмотря на то, что выход ее запоздал и время было ма-
лоподходящим для теоретических рассуждений, книга стала са-
мым популярным сочинением об архитектуре среди созданных в
XX в. (к 1965 г. она только в США переиздавалась 15 раз; переве-
дена на все основные языки мира и даже в переводе на русский
язык выходила дважды — в 1973 и 1977 гг.). В качестве парадигмы
«новой архитектуры» Гидион предложил систему взаимоперете-
кающих внутренних пространств, визуально раскрытую к окруже-
нию. Система пространств, которую автор связал с идеей «про-
странства-времени», выступала как главный признак «современно-
сти» и главное средство решения практических проблем и создания
художественных ценностей архитектуры. Подкупающая ясность
концепции, поставленной в прямую связь не только с убедитель-
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
47
ными достижениями архитектуры XX в., но и с «вечными ценно-
стями» зодчества, помогла в послевоенный период консолидиро-
вать распадавшееся «современное движение» и продлить его
жизнь. Пространство в той специфической трактовке, которую дал
ему Гидион, стало на полтора-два послевоенных десятилетия объ-
единяющим началом, ключевым понятием множества творческих
концепций и курсов в учебных заведениях. Для развития идей ар-
хитектурного пространства книга Гидиона стала принципиально
важной вехой.
Гидион называл себя учеником Генриха Вёльфлина, продолжа-
телем его традиций формального анализа. Но принцип построения
его книги восходит к иному источнику — трудам австрийца Алоиза
Ригля (1858-1905), его идее художественной воли и его методу
«конструирования истории», подчиненному саморазвитию одной из
проблем. Используя тот «исключающий» метод мышления, кото-
рый сделал «новую архитектуру» столь эффективной и мобильной
на недолгий срок, а затем породил ее кризис, Гидион построил схе-
му истории архитектуры как прямой путь продвижения к завер-
шающему финалу, которым является сформулированная им кон-
цепция пространства-времени. То, что не ложилось в эту схему, —
факты, идеи, направления — осталось за гранью (метод, близкий по
своему принципу к тому, которым создавалась схема истории ис-
кусств, показывавшей неуклонность прогресса от смутных пости-
жений реальности древними к лучезарным высотам социалистиче-
ского реализма). Могучая эрудиция Гидиона и его талант аналитика
позволили насытить достаточно произвольную схему мозаикой не-
тривиально подобранных и эффектно препарированных фактов.
Искусно выстроенное историческое повествование подводит к глав-
ному в книге — концепции пространства-времени и ее обоснованию.
Лучшие части книги — те, где Гидион показывает эксперимен-
ты «новой архитектуры» с организацией пространства, показывает,
как, уходя от здания — суммы замкнутых «ящиков», архитекторы
трактуют здание как выделенную, но не изолированную часть ми-
рового пространства и организуют его внутреннее «течение». Убе-
дительно вырисовывается связь этих экспериментов с искусством
футуризма, кубизма и посткубизма (причем не связь даже — един-
ство художественного процесса). Но... подчинение структуры по-
строек «художественной воле» противоречит декларациям лидеров
«новой архитектуры», неизменно утверждавших прагматическую
48 Раздел 2
ориентированность своих решений, детерминирующую роль функ-
ции и конструктивных структур.
Гидион видит разрешение противоречия в объединении рацио-
нального и внерационального идеей пространства-времени, к кото-
рой ведут пути, как со стороны научного знания, так и со стороны
эмоционально-интуитивного постижения мира. Первый путь, по
Гидиону, связан с теорией относительности Альберта Эйнштейна—
Германа Минковского, утверждением Минковского, что «„время44
само по себе и „пространство44 само по себе перестают существо-
вать и только объединение этих двух представлений сохранит неза-
висимую реальность»42. Второй путь связан с поиском художника-
ми-кубистами и футуристами средств выражения, расширяющих
пределы оптического видения. Уничтожая перспективный метод
видения, они рассматривают объекты как бы с нескольких точек
зрения одновременно. В этом Гидион видит художественный экви-
валент непрерывности «пространства-времени» и даже реализацию
того «четвертого измерения», концептуальную модель которого
предлагал Минковский.
Очевидно, впрочем, что претензии на прямое родство с тео-
риями Эйнштейна—Минковского не имеют серьезных оснований.
По природе своей их идеи не поддаются визуализации. Их появле-
ние воздействовало на общую ментальность пространственных
представлений и могло опосредованно подтолкнуть к неким худо-
жественным поискам. Но говорить о том, что «неевклидова геомет-
рия» кубизма прямо обусловлена появлением теории относитель-
ности, некорректно (к тому же кубизм как художественная концеп-
ция определился раньше, чем появились доступные публикации
идей Минковского, и был подготовлен тенденциями искусства кон-
ца XIX в., генетическая связь с которыми бесспорна).
«Четвертое измерение», время, входит в архитектуру как по-
следовательность моментов восприятия объекта при перемещении
зрителя. Об этом, как и Гидион, писал Ле Корбюзье. Последний,
однако, не утверждал на этом основании родства своих идей с тео-
рией относительности (он, кстати, не считал «четвертое измерение»
атрибутом только «новой архитектуры», обращая внимание, напри-
мер, на постепенность развертывания впечатлений от комплексов
арабского народного жилища).
Среди источников концепции 3. Гидиона была, по-видимому,
знаменитая книга Освальда Шпенглера «Закат Европы». Некоторые
Архитектурная форма. функция. ар\шек1урнос iipocipanciHO 49
пассажи философа по поводу пространственности, присущей за-
падной культуре, и «фаустовского духа», рвущегося сквозь стены в
беспредельное пространство Вселенной, который делает интерьер
и экстерьер взаимодополняющими образами, имеют почти полные
аналогии в тексте Гидиопа. Возможно, что влиянием Шпенглера
можно объяснить почти сюрреалистические совмещения жесткой
рациональности и заведомо иррационального, которые встречаются
в «Пространстве, времени и архитектуре».
При всей своей противоречивости книга обозначила позицию,
способствовавшую консолидации рационалистической ветви «но-
вой архитектуры» после 1945 г, В центр концепций поставлен при-
оритет пространственности перед свойствами массы, конструкции.
Пространство мыслилось как равномерно развертывающаяся не-
прерывная и однородная субстанция, «течение» которой направля-
ют материальные элементы сооружения. Они качественно выделя-
ют архитектурное пространство, но не замыкают его, не изолируют
от непрерывности пространства мира. Архитектурное пространст-
во в такой трактовке с достаточной полнотой характеризуется ма-
тематической моделью, причем восприятие его структур в движе-
нии, постепенном развертывании, может характеризоваться как
«четвертое измерение» такой модели. Прокламируемая связь с тео-
рией Эйнштейна—Минковского должна была связать историко-
художественную по существу концепцию с научным мировоззрени-
ем и мышлением. Пространство принималось как объективное на-
чало, субъективность его восприятия и отношения к нему не при-
нимались во внимание.
Таким образом, было обозначено понятие архитектурного про-
странства как ключевое звено рационалистической (или в термино-
логии конца XX в. — модернистской) архитектуры.
В 1950-е гг. появились варианты концепции «архитектуры как
пространства», созданные итальянцем Бруно Дзеви. Последователь
органической архитектуры, совмещавший архитсктуроведчсскую
деятельность с архитектурной практикой, он попытался освободить
систему идей от интеллектуальных излишеств, которыми се нагру-
зил Гидион, и вернуть, насколько это было возможно в середине
века, к первозданности, в которой она кристаллизовалась у Райта в
1900-е гг. Отказавшись от некорректных терминов типа «простран-
ство-время» и формальных аналогий между «новой архитектурой»
и искусством авангарда, он постарался еще острее поставить про-
5 Зак. 303
50
Раздел 2
блему первичности пространства в архитектуре, создав некую тео-
ретическую параллель экстремистским экспериментам по ее дема-
териализации Мис ван дер Роэ, а затем Бакминстера Фуллера.
Дзсви писал: «Пространство — главный герой архитекту-
ры...» . «Наиоолес точное определение архитектуры — она есть
то, что обладает внутренним пространством...» . «История архи-
тектуры в первую очередь — это история пространственных кон-
цепций»45. Последнее утверждение Дзеви реализовал в своих исто-
рико-теоретических исследованиях архитектуры. Не столь блестя-
щие по форме и не поражающие неожиданным, но эффектным вы-
бором материала, как работы Гидиона, они зато отличаются кон-
кретностью и разносторонностью анализа — что характерно для
текстов архитектора, имеющего практический опыт. Следуя гума-
нистическим тенденциям школы Райта, Дзеви стремился преодо-
леть плоскую объективность рационалистической концепции, вводя
в свои рассуждения об архитектурном пространстве субъективные
факторы. В его определениях оно уже не изотропно; оно рассмат-
ривается прежде всего как поле человеческой деятельности и, свя-
зываясь со значениями и ценностями, обретает качественную неод-
нородность, что, впрочем, не получило четкого определения.
По своей намеренности, работа Дзеви — версия модернистской
теории. Но в ней уже заложены предпосылки того «пост», которое
оформилось в 1970-е гг. как новая творческая концепция и новое
определение архитектурного пространства. (Заметим, что тем са-
мым Дзеви, при видимой простоте его концептуальных положений,
ближе к пространственным представлениям конца XX в., чем, ска-
жем, Уолтер Неч с его эзотерическими попытками систематизации
пространства на основе теории поля — его интеллектуальные по-
строения не идут далее систематического развития двух- и трех-
мерных чисто геометрических моделей, как в публикации мартов-
ского номера «Progressive Architecture» 1969 г.)
Основа для иного представления об архитектурном простран-
стве закладывалась со времен достаточно давних — с последних
десятилетий XIX в. — за пределами теории архитектуры, в иссле-
дованиях пространства, восприятия пространства и пространствен-
ных представлений, проводившихся в рамках различных научных
дисциплин (прежде всего, психологии восприятия). Общей сутью
выводов можно считать признание невозможности исчерпывающе
зафиксировать характеристики пространства, имеющие значение
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
51
для человека и его деятельности, только математическими и физи-
ческими моделями.
Определилась необходимость как бы различных срезов про-
странственных представлений, чтобы охватить универсальность
свойств пространства и, соответственно, различных его моделей.
Таким образом, в научном анализе стали выделять: 1) простран-
ство реальное (физическое), существующее как объективная дан-
ность (или как кантовская «вещь в себе»); 2) пространство кон-
цептуальное, мысленная модель, системно объединяющая «объек-
тивные» данные о пространстве; 3) перцептивное пространство,
пространство в восприятии человека, отраженное его органами
чувств. Последнее понятие ввел английский философ Бертран Рас-
сел. По его определению, «перцептуальное пространство состоит
из воспринимаемых отношений между частями восприятия, тогда
как физическое пространство состоит из выведенных отношений
между выведенными физическими вещами»46.
Германо-американский психолог Курт Левин, близкий к гер-
манской школе гештальтпсихологии, в 1930-е гг. разработал кон-
цепцию личности, в основе которой лежит понятие поля, характе-
ризующее психологическое единство личности и ее окружения, со-
вокупность факторов, определяющих поведение человека. Про-
странство в его концепции связывается с поведением, вносящим в
него качественную неоднородность. Он предложил термин «одоло-
гическое пространство» (от греч. «hodos» — путь) — пространство
путей движения, предпочтительных направлений, в отличие от
прямой линии учитывающих все условия и обстоятельства, связан-
ные с перемещением (не только краткость расстояния, но и безо-
пасность, минимальная затрата усилий, знакомая дорога и пр.).
Лишь в ситуациях, когда все эти обстоятельства распределены од-
нородно, одологическое пространство совпадает с евклидовой гео-
метрией простейшей математической модели. В общем же случае
его геометрия определяется конкретными условиями47. Швейцар-
ский психолог Жан Пиаже изучал роль деятельности в формирова-
нии человека образов пространства.
Фундаментальные штудии пространства принадлежат филосо-
фам-экзистенциалистам — прежде всего Мартину Хайдеггеру, вы-
двинувшему идею пространственности бытия: «Вы не можете раз-
делить человека и пространство. Пространство не является ни
внешним объектом, ни внутренним переживанием»48. Он подчерки-
5*
52
Раздел 2
вал экзистенциальный характер человеческого пространства, кото-
рое интерпретировал в соответствии с повседневным бытием, кон-
кретностью мест. Исходя из этого, он выделял роль жилища: «Связь
человека с местом и через место с пространством заключена в жи-
лище»49. Развивая идеи Хайдеггера, теорию экзистенциального
пространства предложил германский философ Оно Фридрих Бол-
нов, который вплотную подошел к анализу специфических проблем
архитектурного пространства. Он подчеркивал различия между не-
однородностью пространства человеческого бытия и гомогенно-
стью математического пространства, внимательно исследуя уста-
навливающиеся в нем системы осей, центров, качественные разли-
чия направлений, значение путей движения, особо выделяя роль
жилища50. Наблюдения Болнова дали обширный материал для ос-
мысления семантики пространственных форм и трактовки их как
знаков.
В конце 1940-х гг. австрийский историк искусства Дагобер
Фрай использовал для описания пространственных структур поня-
тия «путь» и «цель» как «архетипальные мотивы мира ощущений».
Перебрасывая мост между экзистенциальным и архитектурным
пространствами, он писал, что «вся архитектура является структу-
рированием пространства посредством цели или пути»51. Америка-
нец Кевин Линч расширил набор основных структурирующих эле-
ментов пространства, использовав его для анализа систем ориента-
ции в структуре современных городов и формирования обобщен-
ных мысленных картин, образов городского окружения52. Пред-
ставление о пространстве бытия как системе полей было допол-
нено антропоцентрическими аспектами в исследованиях англий-
ского антрополога и психолога Эдварда Холла, посвященных
«персональному пространству» — существованию некой зоны
или поля, которое человек ощущает как продолжение собственно-
го «Я»53.
За всем разнообразием этих исследований вырисовывался об-
щий принцип — «человекосообразность» как критерий организо-
ванного окружения. Чистая объективность факторов, выведенных
из свойств объекта, замещалась при этом сложностью субъектно-
объектных отношений. Последнее противоречило установкам ра-
ционалистической ортодоксии, господствовавшей в «новой архи-
тектуре» до середины 1960-х гг. Это время, однако, стало кризис-
ным. «Исключающий подход» модернистских концепций стал от-
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
53
торгаться вместе с утопическими социальными претензиями. Пере-
лом в профессиональной идеологии, начиная с которого можно го-
ворить о консолидации альтернативных идей постмодернизма, от-
мечен появлением в 1966 г. книги американского архитектора Ро-
берта Вентури «Сложность и противоречия в архитектуре».
Американский историк Винсент Скалли назвал сс «наиболее
значительным текстом, посвященным тому, как делать архитектуру,
со времени выхода в 1923 г. книги Ле Корбюзье „К архитектуре"»54.
Действительно, как Корбюзье сумел заложить основное концепту-
альное ядро того, что было отнесено к «новой архитектуре», «мо-
дернизму», так Вентури создал фундамент системы идей постмо-
дернизма (или, точнее, тех достаточно разнообразных направлений,
которые объединяются этим обобщающим термином). В книге Вен-
тури протест против схематизации отражения жизни получил по-
следовательное выражение и поддержан аргументацией, перерас-
тающей в достаточно стройную, альтернативную идеологии модер-
низма, систему мысли. Вентури выступал за архитектуру, которая
основывается не на порядке, навязанном жизни (строится ли он на
евклидовой или неевклидовой геометрии — безразлично), а на
сложности и противоречивости самой жизни. Он призывал доби-
ваться целостности, не отсекая живые ветви, не исключая элементы
реальности, а обобщая их, приводя к сложному и многогранному
единству.
Составной частью концепции Вентури стало принципиально
новое представление об архитектурном пространстве. Если у Ги-
диона и Дзеви оно предстает как часть однородной непрерывности,
дисциплинированная материальными элементами в соответствии с
геометрической моделью, то у Вентури оно — «трудный порядок»,
позволяющий ввести новые жизненные процессы в сложившийся
контекст; оно неотделимо от окружающей среды и в то же время
является развитием этой среды, изменяя своим существованием
всю систему, как и наше восприятие этой системы. Пространствен-
ная связность по Вентури не предполагает аморфного растекания
пространства. «Основное назначение интерьеров зданий скорее за-
ключается в том, чтобы ограничивать пространство, а не направ-
лять его, и отделять внутреннее пространство от наружного...
Функция дома — защищать и обеспечивать интимность, психоло-
гическую, так же, как и физическую», — писал он55. При этом
внутреннее пространство должно быть противоречивым, основан-
54
Раздел 2
ным на контрапунктных сочетаниях. «Действенная архитектура
несет многоплановость значений и комбинаций фокусных точек: ее
пространства и ее элементы могут восприниматься и будут рабо-
тать в нескольких направлениях одновременно»56. Здесь представ-
ление о пространстве сближается с концепцией К. Левина и пред-
ставлением о сложном поле, образованном взаимодействием мно-
гих полюсов.
Концепция «сложности и противоречий», как-то сразу полу-
чившая признание, сняла привычные «табу» рационализма. Кон-
цептуальные блоки, ранее наработанные как в самой архитектуре,
так и в смежных дисциплинах, включались в новую систему про-
фессиональной идеологии. «Контекстуальность» стала ключевым
понятием, определившим подходы к архитектурному пространству
как в новых теоретических концепциях, так и в практике архитекту-
ры. «Постмодернистское» определение архитектурного пространства
одним из первых дал норвежский архитектор и архитектуровед
Кристиан Нурберг-Шульц в книге «Бытие, пространство и архитек-
тура» (1971). Оно может показаться открыто эклектичным, так как
возникает в мозаике цитат, связанных авторским текстом, но после-
довательность целого не вызывает сомнений, а цитаты в его кон-
тексте обретают новые слои значений. Книгу можно считать ран-
ним опытом постмодернистского научного текста, отягощенного
компьютеризованной эрудицией; очевидны в нем не только новые
позиции, но и свой стиль мышления.
Нурберг-Щульц пишет: «До сих пор в обсуждении архитектур-
ного пространства преобладал наивный реализм, маскируемый или
под изучение „архитектурного восприятия46, или под трехмерную
геометрию. В том и другом случае основная проблема пространства
как измерения человеческого существования опускается, что делает
само понятие пространства устарелым и даже излишним. На осно-
ве теории экзистенциального пространства я развиваю идею, что
архитектурное пространство может быть понято как конкретизация
средовых систем или образов, которые образуют необходимую
часть общей ориентации человека или „бытия в мире64. В этом он
видит «простой ключ к архитектурной тотальности»57. Нурберг-
Щульц отталкивается в своих рассуждениях от того, что большин-
ство человеческих действий заключает в себе пространственный
аспект, и чтобы осуществить свои намерения, человек должен по-
нять пространственные связи, объединив их в «пространственном
Арх и гек ту pt ы я форма, функш 1я, ар\/1 1 о к i урное f iрост ране ню
55
представлении». Пространственные схемы окружения, выстраи-
ваемые сознанием, соединяются в экзистенциальное простран-
ство, стабильный образ окружения. Но человек нс только воспри-
нимает, но и формирует, осмысленно приспосабливая окружение к
своим нуждам, переводя экзистенциальные образы в реальность
архитектурного пространства. При этом Нурберг-Шульц подчерки-
вает, что экзистенциальное пространство основано не на перемен-
чивой основе непосредственных ощущений, как перцептивное про-
странство, но на устойчивых схемах сознания; поэтому человек не
может всегда рассматриваться как центр архитектурного простран-
ства — оно существует независимо от случайного наблюдателя и
имеет свои собственные центры и направления. По структурирова-
ние архитектурного пространства осуществляется на основе путей
и целей, намеченных в экзистенциальном пространстве.
Пространство конкретизируется в понятии место, связанном
с определенной локализацией некоего действа, в качественном
тотальном феномене, который не может быть описан средствами
аналитических научных понятий. Место имеет свою особую иден-
тичность — «дух». Этому более конкретному и вместе с тем инте-
гральному феномену Нурберг-Щульц посвятил более поздний
труд — «Genius loci — к феноменологии архитектуры» (1980),
связанный с практикой «средового подхода», реализацией «кон-
текстуальное™». В его концепции архитектурное пространство
еще полнее вовлекается в человеческие представления, отноше-
58
ния, ценности .
В работах Нурберг-Щульца откристаллизовалась одна из наи-
более распространенных в 1980-1990-е гг. версий содержания по-
нятия архитектурного пространства. С ней соприкасается индиви-
дуальная по своей природе версия итальянского архитектора Паоло
Портогези, сформировавшаяся в его творчестве, — новаторских
экспериментах, заключающих в себе отсылки к историческому
опыту архитектуры (Портогези соединил высокую продуктивность
архитектора-практика с деятельностью историка-архитектуроведа,
автора значительных трудов, посвященных Ренессансу, барокко,
стилю модерн). Он полагает, что любая архитектура выводится из
какой-то другой (точнее — каких-то других) в намеренных сопос-
тавлениях серий прецедентов, комбинируемых в воображении, в
диалогах, но не внутреннем монологе. Стержень творческого мето-
да Портогези видит в поиске среди поля культурных значений ана-
Раздел 2
логий — далеких, а иногда и неожиданных, — позволяющих найти
генетический код архитектуры, эффективно решающей современ-
ные задачи. Такой метод, чуждый принципам «новой архитектуры»
и естественно вливающийся в общее русло постмодернизма, фено-
менологичеи, основан на поиске возможностей, как бы предначер-
танных в структуре сознания.
Архитектурное пространство Портогези воспринимает в его
синтетической конкретности как интегральное единство мест, каж-
дое из которых обладает своим особым характером и человечески-
ми значениями. Практический метод его организации Портогези
ищет в гипотезе пространственных полей, выведенной из исследо-
ваний пространственных структур барокко. Пространственная не-
прерывность в этой системе может соединяться с качественной
прерывностью (сумма «мест», открытых одно к другому, но обла-
дающих своей предназначенностью в системе жизненных процес-
сов и своим характером). Портогези разработал и приемы геомет-
рии плана, позволяющие реализовать идею архитектурного про-
странства как системы взаимодействия внутренних и внешних по-
лей. Центры этих полей — фокусные точки организации плана —
не произвольно размещенные точки, но места, качественно опреде-
ленные окружающим ландшафтом и организацией функций. «Каж-
дый центр образует пространственное поле, которое интегрирует
59
внешние и внутренние силы» .
Архитектурное пространство в трактовке Портогези оказалось
почти точным воплощением общего определения пространства,
которое Альберт Эйнштейн дал в одной из своих поздних работ
(1953): «Понятие материального предмета — этого основного по-
нятия физики — постепенно заменялось основным понятием по-
ля... вся физическая реальность, вероятно, может быть представле-
на как поле, компоненты которого зависят от четырех пространст-
венно-временных параметров... То, что образует пространственный
характер реальности, представляет собой в этом случае просто че-
тырехмерность поля»60.
Приведенный выше анализ развития представлений об архи-
тектурном пространстве показывает их ключевое положение в
формировании концепций архитектурного творчества. Они прямо
связаны с фундаментальными категориями мировоззрения и, в то
же время, получают конкретизацию в целевых установках архитек-
турной деятельности. Четко определяются принципиальные пози-
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
57
ции: объективистская, основание «новой архитектуры» рационали-
стического толка, и субъектно-объектная, на которую опираются
контекстуализм (средовой подход) и различные версии постмодер-
низма. Преимущество первой — однозначность исходных устано-
вок, позволяющая использовать математическое моделирование;
преимущество второй — широкий охват взаимодействующих фак-
торов формообразования, гибкость, ориентация на «человекосооб-
разность» пространственных структур. Первая экстравертна и от-
вечает техницистской, технократической ментальности, утратив-
шей свою привлекательность для многих вскоре после того, как век
перевалил за свою середину; вторая интравертна и предполагает со-
ответствие гуманным ценностям; число ее сторонников возрастает.
Наше рабочее определение не догматично — мы видим, как
практика и развитие познания в своем движении разрушают чрез-
мерно жесткие дефиниции. Но в основе своей оно отвечает уста-
новке на субъектно-объектные отношения, определяемой принци-
пами целеполагания архитектуры конца века. Установка на безус-
ловность утопических идеалов изжита; соответственно операцион-
ным полем становится не абстрагированная от человеческого вос-
приятия и отношения идеальная математическая трехмерность, а
противоречивая сложность конкретного пространства бытия, места
или системы мест.
Для чистоты анализа конкретных мест, идей и ситуаций необ-
ходимо дополнить исходное определение архитектурного про-
странства четким различением моделей, используемых при изуче-
нии и анализе свойств реального, «физического» пространства.
Первый тип модели — это концептуальное пространство, мыс-
ленная (в частности, математическая) модель, связывающая в сис-
тему объективные данные о пространстве (наиболее распростра-
ненный тип математической модели основывается на трехмерной
решетке декартовых прямоугольных координат; он служит для фик-
сации объекта или замысла объекта на чертежах проекта и для пе-
ренесения задуманного образа в натуру). Второй тип модели —
перцептивное пространство — модель, соединяющая отражение
реального пространства органами чувств, приведенное к инте-
гральному представлению, в котором чувственная информация
упорядочивается на основе опыта общества и личности. На пер-
цептивное пространство, в котором произведение архитектуры вы-
ступает как художественный образ, архитектор ориентируется при
4 Зак. 303
58
Раздел 2
формировании замысла. В отличие от математических моделей
концептуального пространства, оно неоднородно; между его на-
правлениями устанавливаются качественные различия, определяе-
мые отношением человека.
Среди них первична заданная гравитацией противоположность
верха и низа, на которой основываются древнейшие архетипы цен-
ностных характеристик (посвященный светлым небесным силам
верх, инфернальный, отдаваемый силам зла, низ) и символических
значений. Нарастание формы снизу вверх и подчеркивание ее вен-
чания в классической архитектуре — одно из следствий неравного
отношения к верху и низу. Сочетание вертикальной оси и горизон-
тальной плоскости образует первичную схему обитаемого про-
странства. Движение солнца задало направления по странам света;
с ними с древнейших времен связаны смысловые значения; им сле-
довали главные оси городских пространств и сети улиц во многих
культурах. Наряду с объективно заданными, человек, принадлежа-
щий к европейской культуре, выделяет направления, определяемые
положением его тела — вперед, назад, вправо, влево, — неравно-
ценность которых также существенна для наполнения архитек-
турного пространства смысловыми значениями и организации по-
ведения в его пределах (представления о таких направлениях, ос-
нованные на антроноцентричности восприятия, укоренились, од-
нако, не во всех культурах; они, например, не воспринимаются
японцами).
Установление соотношений между перцептивным пространст-
вом образа и концептуальным пространством математической мо-
дели — один из критических вопросов архитектурного мастерства,
им определяется точность переноса замысленного образа в натуру.
Соотношения эти зависят от механизмов восприятия пространства
и формирования перцептивных образов, равно как и от условий
восприятия.
Третий тип модели — экзистенциальное, или переживаемое,
пространство, стабильный образ окружения, основанный на вос-
приятии пространства как поля деятельности, вносящей в него свои
качественные характеристики. Структурирование пространства в
такой модели осуществляется на основе положения целей, путей к
ним и непроницаемых для движения границ. Модель переживаемо-
го пространства более операциональна, чем перцептивная модель,
для объектов и систем со сложным функциональным наполнением,
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
59
выраженным в разнокачественное™ частей пространства и их раз-
личном ценностном восприятии.
Четвертый тип модели — художественное пространство,
пространство как художественный образ, структурированная про-
странственно система художественных ценностей и образно-
символических значений, которая связывает архитектурное про-
странство и пространственные образы включенных в него произве-
дений других искусств (монументальной и станковой живописи,
скульптуры, декоративного искусства). Взаимодействие состав-
ляющих в едином художественном пространстве образует необхо-
димое условие синтеза искусств.
Геометрические закономерности построения пространствен-
ных моделей, связанных архитектурным пространством, определя-
ются, как правило, трехмерными решетками прямоугольных коор-
динат или системой взаимосвязанных полей, преимущества первой
системы — очевидная связь с естественными архетипами перцеп-
тивного пространства, облегчающая ориентацию; простота по-
строения и очевидность закономерности; «упаковка» элементарных
ячеек крупные конфигурации без остатка в виде «внесистемных»
пространств и объемов. Структурирование пространства системой
взаимосвязанных полей потенциально дает больше возможностей
для очевидного означения неравномерности и неравнокачественно-
сти пространства, больше возможностей также и для интенсивной
символической нагруженное™ смыслонесущих элементов. Гиб-
кость организации определяется возможностью активного взаимо-
проникновения полей; система значений обогащается их внутрен-
ней соотнесенностью. Вариацией трехмерной прямоугольной ре-
шетки является модульная система, в горизонтальной плоскости
организуемая ромбическим или шестигранным модулем. Прямой
угол — вертикаль—горизонталь — при этом сохраняется, зафикси-
рованный естественностью гравитационного направления.
Различные «свободные» модели пространственного строения
выстраиваются и прочитываются человеком европейской культуры,
воспитанным в «прямоугольном» мире, через соотнесение с прямо-
угольной системой координат (вспомогательные построения на
чертеже или при разбивке в натуре; воображаемые трехмерные ре-
шетки, которые «подстраиваются» к горизонтальным и вертикаль-
ным элементам при восприятии) — фактор, который должен учи-
тываться при образовании архитектурного пространства. Более
4*
60
Раздел 2
трудная для пространственного воображения пространственная
система, структурированная системой полей, практически не ис-
пользуется в качестве вспомогательной воображаемой модели.
Структура пространства, организуемого средствами искусства
строить, архитектурного пространства, служит первоосновой архи-
тектурной формы — специфического языка архитектуры. Про-
странственная форма архитектуры связана с человеческой жизне-
деятельностью — как в своем образовании, так и в существовании.
Деятельность же развертывается как в трех измерениях простран-
ства, так и в четвертом — во времени. Время и его взаимодействие
с пространством является поэтому одним из важнейших факторов
формообразования. К этой проблеме мы обратимся в следующем
разделе работы.
Примечания
1. Витрувий. Десять книг об архитектуре / Пер. Ф. А. Петровского. М.,
1936. С. 129. 3-с изд. М.: КомКнига, 2005.
2. НИИТИАСТ Академии строительства и архитектуры СССР. Основы
теории советской архитектуры (расширенные тезисы). М., 1958.
3. Соколов А. М. Основные понятия архитектурного проектирования. Л.,
1976.
4. Раппопорт А. Г., Сомов Г. Ю. Форма в архитектуре. Проблемы теории
и методологии. М., 1990. С. 20.
5. Бычков В. В. Эстетика поздней античности. М, 1981. С. 26.
6. Там же. С. 27.
7. Библия. Третья книга Царств. Гл. 6: 2-38; гл. 7: 1-12.
8. Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложе-
нии. М„ 1989. С. 54, 64.
9. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты, Сократ, Платон.
М., 1969. С. 534-535, 556, 661.
10. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя клас-
сика. М., 1975. С. 93.
11. Там же. С. 603.
12. Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 477.
13. Асмус В. Ф. Кант// Философский энциклопедический словарь. М.,
1983.
14. Burchard L., Bush-Brown A. The Architecture of America. Boston, 1961.
P. 103.
Архитектурная форма, функция, архитектурное пространство
61
15. Ibid. Р. 104.
16. Торо Г. Д. Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1979. С. 57.
17. Grenough Н. American Architecture// Roots of contemporary American
Architecture. N. Y., 1959. P. 35.
18. Ibid. P. 36, 37.
19. Grenough H. Relative and Independent Beauty // Roots... P. 41.
20. Grenough H, American Architecture. P. 37, 38.
21. Красовский А. К Гражданская архитектура. СПб, 1851. С. 3.
22. Салливен Л. Высотные административные здания, рассматриваемые
с художественной точки зрения // Мастера архитектуры об архи-
тектуре. М., 1972. С. 44-45.
23. Гропиус В. Интернациональная архитектура // Мастера архитектуры
об архитектуре. М., 1972. С. 332.
24. МейерX. Строить // Мастера архитектуры об архитектуре. С. 359-362.
25. Гинзбург М. Я. Международный фронт архитектуры // СА. 1926. № 2.
С. 44.
26. СА. 1929. №3. С. III.
27. Гропиус В. Последовательность подготовительных работ для рацио-
нального осуществления жилищного строительства // Мастера архи-
тектуры об архитектуре. С. 334.
28. Arncheim R. Art visual perception. N. Y., 1968. P. 42, 201.
29. Norberg-Schulz Ch. Intensions in Architecture. Oslo, 1962.
30. Кант И. Соч.: В 6 т. T. 3. М„ 1964. С. 132-133.
31. Там же. С. 133.
32. Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 560.
33. Collins Р Changing Ideals in Modem Architecture. L., 1965. P. 285.
34. Frankl P Die Entwicklungsphasen dcr neucrcn Baukunst. Leipzig; Berlin,
1914.
35. Рус. пер.: Бринкман А. Э. Площадь и монумент как проблема художе-
ственной формы. М., 1935.
36. Там же. С. 151.
37. Brinkmann А. Е. Stadtbaukunst. Berlin-Neubabesberg. 1920; Deutshc
Stadtbaukunst in der Vergangenheit. Frankfurt am M., 1921.
38. Янтцен Г Структура пространства готических храмов / Пер. с нем. //
История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935. С. 218-227.
39. Panofsky Е. Perspective als Sympolische Form // Bibliothek Wartburg
Vortrage, 1924-1925. Leipzig, 1927.
40. Дворжак M. Очерки по искусству Средневековья. Л., 1934.
41. Giedion S. Space, Time and Architecture. Cambridge, Mass., 1941.
62
Раздел 2
42. Гидион 3. Пространство, время, архитектура / Пер. с нем. М., 1973.
43. Zevi В. Architecture as a Space. How to look at Architecture. N. Y., 1957.
P. 22.
44. Ibid. P. 28.
45. Ibid. P. 32.
46. Рассел Б. Человеческое познание, его сферы и границы. М., 1957.
С. 244.
47. Lewin К. Principles of Topological Psychology. N. Y, 1936.
48. Heidegger M. Bauen, Wohncn, Denken. Frankfurt am M., 1954. S. 31.
49. Ibid. S. 32.
50. Bollnow O. F. Mensch und Raum. Stuttgart, 1963.
51. FreyD. Crundlcgung zu eincr vcrglcichendcn Kunstwissenschaft. Wien;
Innsbruck, 1949. S. 6.
52. Lynch K. Image of the City. Cambridge, Mass., 1960.
53. Hall E. T The Silent Language. N. Y, 1959.
54. Scully V. Introduction // Venturi R. Complexity and Contradictions in
Architecture. N. Y, 1966. P. 11.
55. Вентури P Сложность и противоречия в архитектуре // Мастера ар-
хитектуры об архитектуре. М., 1972. С. 552.
56. Там же. С. 543.
57. Norberg-Schulz Ch. Existence, Space and Architecture. L., 1971. P. 7.
58. Norberg-Schulz Ch. Genius Loci. N. Y, 1980.
59. Norberg-Schulz Ch. Architcttere di P. Rortoqhesi e V. Giliotti. Roma, 1982.
P.40.
60. Эйнштейн А. О понятии пространства // Вопросы философии. 1957.
№3. С. 126.
Раздел 3
Пространство и время
в бытовании архитектурной формы
Цель архитектурной профессии в самом общем виде — создание
упорядоченных пространственных систем материальных объектов,
которые обеспечивают условия для жизнедеятельности. Формы и
системы форм, которые создает архитектор, казалось бы, исчерпы-
вающе описываются в понятиях, относящихся к пространству, про-
странственным отношениям и материалу. Фактически, однако, чисто
пространственные характеристики оказываются недостаточными,
если речь идет об архитектуре. Архитектурный объект всегда соот-
несен с человеком и включен в человеческую жизнедеятельность,
развертывающуюся во времени, и как объект идеальных преобразо-
ваний в мысленной модели, замысле и процессе проектирования, и
как материальный объект в процессе материального созидания,
строительства, равно как бы в восприятии его реального бытия. Да и
само бытие архитектурного объекта, связанное с диалектикой под-
вижности форм жизнедеятельности и относительной стабильности
материальных структур, проходит в процессах не только постепенной
амортизации и старения, но и постоянных изменений в отношениях
деятельностного и материально-вещественного, соответственной пе-
реоценки и адаптации. В макромасштабе исторического времени ар-
хитектура, фиксируя определенные стадии развития общества, его
истории, становится овеществленной формой коллективной памяти, в
синхронном существовании которой отражены различные этапы про-
цесса. Фактор времени, таким образом, присутствует во многих ас-
пектах бытия архитектуры, определяя его четырсхмерность (или,
если воспользоваться термином, введенным физиологом А. А. Ух-
томским, хронотоп — пространственно-временное единство).
64
Раздел 3
Установить и принять во внимание четырехмерность бытова-
ния архитектурной формы важно не только для полноты ее теоре-
тического осмысления. Фактор времени включен в процессы прак-
тической работы архитектора, и его понимание определяет сущест-
венные моменты ее осмысления. В конечном счете «четвертое из-
мерение» в некоторых аспектах имеет почти столь же операцио-
нальное значение, как и пространственные измерения.
Нс будем касаться темпоральных аспектов творческого процес-
са и, соответственно, бытия объекта архитектуры на его идеальной
стадии. Рассмогрим четыре аспекта проблемы «архитектурная
форма и время»: 1) время и созерцательное восприятие архитектур-
ной формы; 2) время и восприятие архитектурной формы в движе-
нии; 3) стабильное и изменчивое в архитектурной форме; 4) архи-
тектурная форма в макромасштабе исторического времени.
Время и созериательное восприятие
архитектурной формы
Мы остановились на тех моделях пространственной реально-
сти, с которыми приходится иметь дело архитектору. Когда речь
идет о бытовании архитектурной формы, мы сталкиваемся с пер-
цептивным или экзистенциальным пространством, т. е. действи-
тельностью, данной в человеческом восприятии. При этом мы,
строго говоря, имеем дело с хронотопом, пространственно-времен-
ной моделью действительности. В ее параметрах формируется це-
лостный образ архитектурного объекта, определяются значения его
формы, эстетическая и художественная ценность. В то же время,
эта специфическая пространственно-временная модель должна со-
относиться с абстракциями математической (геометрической) мо-
дели. Через ее параметры хронотоп замысла переносится в вещест-
венность сооружения (или проверяется на соответствие норматив-
ным критериям). Проблема трансляции моделей возникает в прак-
тической деятельности. Владение этой проблемой — один из клю-
чевых вопросов уменья, образующего основу как ремесленного, так
и художественного мастерства, причем не только в архитектуре, но
и в других видах деятельности, направленных на формирование
художественного пространства.
Художник В. Фаворский писал о пространственно-временном
характере формы живописного изображения: «Все существует во
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
65
времени. И все нами воспринимается во времени... Если художник
передает пространство, то в силу того, что он изображает обычно
болыпе того, что он может одновременно увидеть, передавая в изо-
бражении точку зрения, а точку зрения важно передать правдиво,
он невольно встретится с боковыми областями и принужден соеди-
нить разновременное... Композиция — это и есть соединение раз-
новременного в изображении. Но если мы остановим модели и са-
ми остановимся, то все равно будет время в нашем восприятии, так
как мы обладаем двумя глазами — бинокулярностью»... Далее Фа-
ворский описывает процесс «считывания» многопланового про-
странства, требующий перестройки конвергенции глаз для каждого
плана: «Значит, в бинокулярности заключено время в очень сжатом
виде»1.
Пространственная модель объекта строится на основе, прежде
всего, зрительных образов. Однако зрительное восприятие отнюдь не
сводится к оптике прямого зеркального отражения. В упрощенной
схеме зрительное восприятие — процесс двухступенчатый. Первая
ступень его — образование оптического изображения пространства
на сетчатке глаза, вторая — преобразование двухмерного изображе-
ния на сетчатке глаза («ретинального образа») в пространственный
психический образ. Такое восприятие включает в себя активную
деятельность созерцающего мир человека. «Теоретический анализ
экспериментально выявленных характеристик перцептивного об-
раза — его целостности, константности, метрической инвариантно-
сти и др. — с достаточной определенностью показывает, что по-
строение психического изображения пространственных свойств объ-
ектов не может осуществляться по принципам статической, „чисто“
пространственной геометрии образа...»2. Глаз снабжает мозг инфор-
мацией, которая кодируется в нервную активность — цепь электри-
ческих импульсов — с помощью своего кода воспроизводящую
предмет в представлении. В процесс этот вовлекаются дополнитель-
ные источники информации, исходящие от других ощущений, а
главное, опыт активной деятельности всей предшествующей жизни.
Сознание на основе этого опыта перестраивает и корректирует ин-
формацию ретинального образа, создавая свою модель внешнего ми-
ра, приобретающую трехмерность. Роль опыта в интерпретации зри-
тельных ощущений показывает популярный эксперимент с двусмыс-
ленными рисунками, в которых, в зависимости от принимаемого
значения, как бы меняются местами фигура и фон.
66
Ра злел 3
Логическим началом трехмерной интерпретации двухмерного
изображения является распределение его составляющих по степени
удаления. О. Шпенглер выделял значимость этого момента, полагая
в нем момент предустановления символического содержания не-
коего порядка, связанного с определенной культурой. Он полагал,
что переживание, связанное с феноменом глубины-дали или отда-
ленности, и есть «столь же совершенно непроизвольный и необхо-
димый, сколь и совершенно творческий акт, посредством которого
„Я“ получает... свой мир»3.
Признаки, по которым части двухмерного изображения распре-
деляются в глубинном направлении, можно условно расчленить на
монокулярные, доступные оптике одного глаза (наложение близко-
го предмета на более отдаленный; сокращение размеров по мере
удаления предметов; воздушная перспектива; сближение границ
«пятна» удаленного предмета с линией горизонта; светотень и др.),
и бинокулярные, выявляемые совместной работой глаз (конверген-
ция — схождение оптических осей глаз к наблюдаемому предмету;
диспаратность — несовпадение изображений на сетчатке правого и
левого глаз)4. Бинокулярные признаки раскрываются благодаря то-
му, что глаза находятся в непрерывном сложном движении, обеспе-
чивающем пространственно-временную развертку изображения, в
которой последовательно-временной ряд преобразуется в одновре-
менную пространственную структуру.
Глубинного размещения предметов, находящихся в оптическом
поле зрения, однако, еще недостаточно для построения пространст-
венной модели. Оптика глаза показывает близко расположенное
чрезмерно большим в сравнении с удаленным при объективном ра-
венстве величин, что могло бы вести к ошибкам в поведении. По-
этому при интерпретации двухмерного изображения в трехмерную
модель его геометрические соотношения изменяются, причем такая
корректировка тем сильнее, чем ближе к наблюдателю созерцаемая
часть пространства. Механизмы таких корректур в психологии зри-
тельного восприятия именуются механизмами константности. Ме-
ханизм константности величины компенсирует резкость сокраще-
ния видимых размеров предмета по мере его удаления, позволяя
сохранить верное представление о его истинной величине. Меха-
низм этот, как показали исследования, не подчиняется простой и
универсальной зависимости — он не влияет на восприятие сильно
удаленных предметов. Можно выделить и еще один механизм,
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
67
обеспечивающий константность очертаний. Благодаря его дейст-
вию, квадрат, на ретинальной поверхности превращающийся в вы-
тянутый ромб, и круг, становящийся эллипсом, в пространственной
модели окажутся ближе к «обьективной» форме (при условии, что
их очертание известно наблюдателю). Действие этого последнего
механизма легко обнаруживается, например, при наблюдении экра-
на телевизора или киноэкрана со значительным отклонением от
оси, перпендикулярной его поверхности. Этот механизм также эф-
фективен при наблюдении на небольших расстояниях и нс работает
на задних планах наблюдаемой картины.
Не будем углубляться в реальную сложность действия этих ме-
ханизмов, которые автоматически перестраивают оптическую про-
екцию на сетчатке в пространственную модель, учитывая признаки
глубины, представления об очертании предмета и установку на-
блюдателя, определяемую опытом, тренировкой, особыми интере-
сами. Важно констатировать, что при этом происходит растяжение
и сжатие отдельных элементов изображения, подчиняющееся дос-
таточно сложным закономерностям. Математическое исследование
проблемы привело академика Б. В. Раушенбаха к заключению, что
она не имеет однозначного математического решения5.
Двухмерная проекция пространственной реальности на плос-
кость, которую предлагают приемы «ренессансной» линейной пер-
спективы или фотографическая оптика, отражает объективное про-
странство по закономерностям, не совпадающим с закономерно-
стями человеческого восприятия. Полученные с их помощью изо-
бражения не адекватны тем образам сознания, в которых отражает-
ся перцептивное или экзистенциальное пространство. Существо
непримиримости расхождения определяется тем, что в образование
психической модели трехмерной действительности вводится чет-
вертое измерение — время, а через него — динамика не фиксируе-
мых сознанием микродвижений глаз, их конвергенции и диверген-
ции, а также динамика считывания информации на ретинальном
изображении и ее преобразования.
Значение темпорального фактора для построения картины чувст-
венно воспринимаемого мира становится более понятным, если рас-
смотреть проблему, не связывая ее анализ с одним лишь полем эф-
фективного зрения (54° — горизонтальный угол, 34° — вертикаль-
ный, по Э. Нейферту), которому более или менее отвечают, как пра-
вило, пределы живописного изображения или фотокадра, а обратить-
68
Раздел 3
ся к обыденному восприятию. Нс совершая сознательных движений
глаз, мы воспринимаем пространство перед собой, охватываемое го-
ризонтальным углом, приближающимся к 180°. В то же время, мате-
риал для построения пространственного образа действительности в
психике поставляет взгляд, сконцентрированный на предмете гораздо
более плотно, обеспечивающий более точную и детальную информа-
цию. К тому же в нашем сознании формируется и более обширное
представление о пространстве, накапливаемое в движении.
По сути дела это представление образовано из ряда дискретных
изображений, каждое из которых отвечает оптике наблюдения под
углом на порядок меньшим, чем охватывающий все поле зрения
(вряд ли возможно этот угол какими-то приемами зафиксировать
точно, тем более, что он может быть величиной непостоянной, зави-
сящей от условий наблюдения и индивидуальности наблюдателя).
Эти оптически дискретные изображения «сшиты» воедино в психи-
ческом образе пространства, построенном как модель четырехмер-
ного хронотопа. Создать аналог этой модели на двухмерной плоско-
сти так же, как создается оптическая проекция реального трехмерно-
го пространства в ренессансной перспективе, невозможно.
Проверить это утверждение позволяют попытки достоверного
изображения интерьерного пространства, если в его очертаниях не
преобладает глубинное измерение. Классическим примером может
быть Пантеон в Риме, служивший моделью для многих больших
художников (в их числе Дж. Б. Пиранези и П. Паннини). В натуре
посетитель храма без особого напряжения ощущает спокойную
гармонию объемлющего пространства, увенчанного полусферой с
«окулосом» наверху. Однако изображения этого пространства фраг-
ментарны или, при попытке охватить целое, сильно искажают форму.
На знаменитой картине Паннини точка зрения расположена как
бы вне пределов здания, центрический интерьер превратился в ги-
гантскую экседру; циркульные очертания плана стали овальными,
причем овал на уровне пола имеет очертания иные, чем овал карни-
за над ордером, а последний не вполне совпадает с очертанием ос-
нования купола, который выглядит несимметричным и придавлен-
ным, не достигающим высоты полусферы.
Пиранези на одной из гравюр показал интерьер Пантеона как
бы через колонны, ограждающие одну из эдикул с воображаемой
удаленной точки. Такой прием позволил более правдоподобно, чем
это сделал Паннини, изобразить цилиндр стен, однако деформация
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
69
купола еще более очевидна, а впечатление целостности простран-
ства не передано. На другом листе Пиранези пытается передать
восприятие главного пространства с точки в его пределах. В этом
случае не удалось и убедительное изображение стены; пропорции
«пространственного тела» очень далеки от натуры, деформации
разрушают восприятие его симметричности.
Очевидно, что наиболее радикальный метод воспроизведения
«перцептивного пространства» должен включать имитацию чет-
вертого измерения хронотопа. Таким методом является кинопро-
екция, развертывающая пространственную модель во временной
последовательности, связывающей изображения, фрагментарность
которых обусловлена углом эффективного зрения. Другим спосо-
бом может быть создание последовательного ряда дискретных
фрагментарных изображений, которые могут совмещаться уже в
сознании наблюдателя.
Остается, однако, проблема имитации «четырехмерности» пер-
цептивного пространства и развернутой в нем архитектурной фор-
мы в условном двухмерном изображении. Не решаемая математи-
чески, она решается образно-символическими средствами искусст-
ва. Характер ее решения зависит от способа мировидения, устано-
вившегося в данной культуре. Изменения в понимании и видении
мира, связанные с развитием культуры, отмечаются появлением
новых типов двухмерного изображения. Примеры, позволяющие
раскрыть содержание самой проблемы, дает переход от Средневе-
ковья к Новому времени, отраженный созданием метода ренессанс-
ной линейной перспективы.
В европейском Ренессансе сложилась личность, осознавшая
свою ценность и внутреннюю свободу, преодолев присущую Сред-
невековью ориентированность на внешние императивы, идущие от
религии, обычаев, коллективного опыта. Человек осознал, что мо-
жет сформировать себя и свой мир. Устремление к интенсивным
формам деятельности имело следствием осознание времени, кото-
рое стало особой категорией мировосприятия.
Новая система видения, получившая наиболее конкретное,
программное воплощение в живописи, распространялась на все
области культуры. Люди по-новому увидели свои города, иначе
стали осознавать географическое пространство. Именно изменения
в изображении городов очень наглядно показывают перелом в ха-
рактере мировидения. Так, средневековое по духу изображение
70
Раздел 3
Флоренции на фреске в лоджии дель Бигалло (1352) не связано с
какой-то определенной точкой зрения. Художник фиксировал изо-
бражением не так, как видел, а так, как знал, стремясь наиболее
полно зафиксировать структуру каждого объекта, показывая их с
различных сторон сразу, но не подчиняя какой-то общей точке зре-
ния. На большой гравюре, известной как «Карта с замком» (око-
ло 1480 г.) и принадлежащей ренессансной культуре, визуальное
пространство подчинено единообразной системе линейных коор-
динат, связанной с позицией художника, от которой зависит точка
схода линий, уходящих в глубину (хотя эта точка зрения, высоко
поднятая над землей, скорее мыслима, чем реальна).
Изменение характера изображения очевидно. И дело не в том,
что автор гравюры освоил оптические закономерности линейной
перспективы, еще не известные автору фрески (теоретические ис-
следования ее оптических закономерностей в Средневековье прово-
дились очень серьезно; Ренессанс добавил к ним немногое, но смог
перенести отвлеченные знания в сферу практической деятельности).
Современные психологи (Дж. Гибсон) связывают различные типы
изображения с различными типами мировосприятия — ориентиро-
ванным на «визуальный мир» и «визуальное поле». «Визуальный
мир» — знание целостной трехмерной формы объекта, который мы
наблюдаем с различных точек зрения по мере движения вокруг
(или — если объект небольшой — вращаем его в руках); «визуаль-
ное поле», напротив, основывается на том, что воспринимается не-
посредственно, когда фиксирован взгляд с определенной позиции, и
формы вещей, постоянные для «визуального мира», трансформиру-
ются перспективой. В жизни современного человека эти два ряда
взаимно дополнительны: первый дает больше информации о приро-
де отдельных вещей, зато второй более информативен в отношении
их взаимного положения и относительной величины6.
Художник треченто, расписывавший лоджию Бигалло, был
ориентирован на фиксацию «визуального мира», включавшего как
бы развертку объектов в четвертом измерении, их хронотоп, в то
время как мастер кваттроченто отдал предпочтение мгновенности
запечатленного с одной позиции «визуального поля». Для первого
важно знание, являющееся общим достоянием, для второго — фик-
сация личной точки зрения и открывающейся с нее особой картины
взаимных зависимостей, специфически субъективное для него бо-
лее важно, чем неизменные свойства отдельных объектов.
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
71
Распространение перспективных изображений, отвечающих
восприятию, ориентированному на «визуальное поле», было свиде-
тельством сдвигов в общественном сознании, на которое оказывал
влияние тип активной личности, готовой мгновенно реагировать на
непредсказуемые изменения ситуации. Такой тенденции сопротив-
лялась не только религиозная ортодоксия, стремившаяся сохранить
традиционные типы видения и изображения, но и люди с типом
мышления, для которого более существенны устойчивые черты
«визуального мира». Так, иллюстрации трактатов и учебников по
геометрии еще в XVI в. (а иногда и столетием позже) изображали
цилиндр с двумя торцами, видимыми сразу. Для ученых-геометров,
конечно же, знакомых с теорией ренессансной перспективы и прак-
тикой искусства своего времени, несомненным свойством реально-
сти цилиндра оставалось сочетание протяженного тела с двумя
дисками на концах7.
Со времени Ренессанса до последнего десятилетия XIX в. ев-
ропейское искусство пережило смену множества школ и направле-
ний; однако при любых изменениях способ видения и изображения
мира, ориентированный на визуальное поле, оставался основой, нс
вызывавшей сомнений. И лишь на рубеже XIX и XX вв. доверие к
этой традиции — как и всякой традиции — было утрачено. Время
было связано с тотальным пересмотром фундаментальных пред-
ставлений о Вселенной, с возникновением новых взглядов на уни-
версальные закономерности мира и попытками универсально ос-
мыслить мир и искусство. Оно, однако, уже не стремится к единст-
ву метода, единству мировидения. Расходящиеся в разные стороны
творческие направления и мастера, основываясь на различных,
подчас несовместимых мировоззренческих позициях, конструиру-
ют различные художественные языки.
Анри Матисс, придерживаясь системы видения, где преоблада-
ет «визуальное поле», переходит от ренессансной оптической пер-
спективы к «перспективе чувства, перспективе, продиктованной
чувством»8. В его трактовке мира торжествует самоценное мгнове-
ние, которому, как будто, ничто не предшествовало и за которым
ничто не следует. В этой мгновенности нет места коллизиям бытия,
как нет и конфликта между глубинностью мира и плоскостностью
изображения. Образ, переведенный в идеальный пространственно-
временной план, совмещается с картинной плоскостью, доминиру-
ет живописно-пластическая декоративная целостность.
72
Раздел 3
Другой полюс мировосприятия выражен в творчестве Пабло Пи-
кассо, который отвергал мнимую достоверность «визуального поля»,
как бы пытаясь заглянуть за пределы той оболочки явлений, которая
дана непосредственному зрению, и выйти к некой скрытой «сверхре-
альности». Пикассо противопоставлял себя импрессионистам: «Они
хотели изобразить мир таким, каким его видели... Я хочу изобразить
мир таким, каким его мыслю»9. Утверждая таким образом принцип
«визуального мира», он пытается не ограничивать себя знанием, пе-
реходя от метафор, основанных на природных свойствах предметов,
к демонтажу и реконструкции вещей. Отказываясь подчиниться ско-
вывающим условиям оптического видения, он совмещает различные
точки зрения на предмет, его различные проекции в одном изобра-
жении. Фиксируя в одновременности картины последовательности
моментов наблюдения, он вводит в изображение как бы свернутое
временное измерение. В этом он — как и другие мастера раннего
кубизма (Ж. Брак, X. Грис, А. Метценже) — возвращался к способу
мировидения, который в свое время воплотил средневековый мастер
росписи флорентийского Бигалло.
От представления о мире как стихийном, но неодолимом дви-
жении, не знающем стабильных форм, а только формы динамич-
ные, становящиеся, исходили итальянские футуристы, искавшие
средства метафорического воплощения движения (и, соответствен-
но, неких обозначений временного измерения на двухмерной плос-
кости картины и в трехмерности скульптуры), — Джакомо Балла,
Умберто Боччони, Карло Карра. В изобразительном искусстве
итальянские футуристы не вышли за пределы метафорического вы-
ражения своих представлений. Художники российского авангарда,
соединяя динамические метафоры футуристов с приемами анали-
тического кубизма, совмещали в одном изображении как бы не-
сколько последовательных кадров, отразивших последовательные
фазы движения («Велосипедист» Наталии Гончаровой, 1912; «То-
чильщик» К. Малевича, 1912). Наиболее известным изображением,
на котором движение изображено через совмещенную последова-
тельность его моментов, стала картина француза Марселя Дюшана
«Обнаженная, спускающаяся по лестнице» (1912). Авангард искус-
ства начала XX в. не создал единой художественной системы; но,
как и искусство кваттроченто в Италии, отразил ситуацию измене-
ния мировидения. В том и другом случае это изменение вело к пе-
рестройке принципов организации архитектурного пространства.
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
73
Хронотопу «визуального мира» отвечали пространственные
построения средневековых зодчих. Свернутое временное измере-
ние последовательности процессов бытового уклада определяло
пространственную организацию жилища средневекового бюргера,
закономерность его упорядоченности, далекую от рассудочных за-
кономерностей симметрии. Последовательность пространств сле-
довала как бы сценарию процессов; через нее раскрывается логика
плана. Символом и воплощением земного пути Христа и, вместе с
тем, пути к истине, было развернутое вдоль оси запад — восток
протяженное пространство романского или готического храма.
Временной последовательности библейских текстов подчинен ка-
нон, в соответствии с которым в архитектурном пространстве хра-
ма размещались изображения. Организацией пространства управ-
ляла идея, не отделявшая се от временной последовательности.
Также в последовательности картин открывалась наблюдателю сис-
тема сложных пространственных отношений центра средневеково-
го западноевропейского города, отражающая диалектику сакраль-
ного и профанного, церковной и светской власти.
Переход к мировидению, в котором преобладали представления
визуального поля, побуждал к образованию пространственных сис-
тем, закономерность которых открывается с одной точки наблюдения,
дана единовременному чувственному восприятию и не требует рас-
шифровки через воспоминание о временной последовательности
впечатлений. Соответственно живописную сложность пространст-
венной организации средневекового аристократического дворца или
богатого бюргерского дома сменила ясность симметричной про-
странственной организации ренессансного палаццо, подчиненной
центральному ядру двора с элементарными геометрическими очерта-
ниями плана (прямоугольник, квадрат, реже — круг или восьмигран-
ник). Идеалом ренессансного храма — вопреки требованиям канона и
удобству литургии — стала купольная ротонда; статичная, внутренне
уравновешенная, гармоничное строение которой открывается с пер-
вого взгляда. Прямая перспектива четко обрамленного пространства
регулярно застроенной улицы и прямоугольная площадь-зал с непре-
рывной обстройкой периметра зданиями одной высоты определили
парадигму формирования городских пространств, также связанную с
принципом «визуального поля» и одномоментностью восприятия.
Эта ренессансная парадигма в принципе устояла от «искуше-
ний» барокко, связавшего ее с усложнениями, которые шли от ре-
74
Ра злел 3
цидивов средневекового принципа «визуального мира», до конца
XIX в. И лишь в это время новое мировидение, проявлявшееся, но
так и не утвердившее себя в живописи, дает импульс принципиаль-
ному изменению представлений об архитектурном пространстве.
«Хрустальный дворец» в Лондоне (Дж. Пекстон, 1851) стал опере-
дившим массовое сознание эпохи экспериментом, в котором разру-
шение визуального разграничения интерьера и экстерьера привело к
симультанности, одновременности восприятия «кадров», которые в
ренессансной традиции несовместимы, а в доренессансной — явля-
ются различными звеньями последовательной цепи впечатлений.
Можно полагать, что эффект этот был ненамеренным следствием
чисто рационального конструктивного замысла. Но именно этот эф-
фект был замечен и дал импульс дальнейшему развитию. Кульмина-
цией стала ажурная пространственная металлическая структура Эй-
фелевой башни в Париже (1889), по отношению к которой понятия
пространства — «внутреннее» и «внешнее» — теряли смысл.
Когда угасли скандалы вокруг этого сооружения, поднятые во-
инственными поборниками традиционализма, его своеобразный
интерьер, открывавший стремительно сменявшиеся причудливые
картины пространственных переплетений элементов металличе-
ской конструкции при подъеме на лифте, стал источником впечат-
лений, оказавших несомненное влияние на массовое сознание. Это
влияние не только облегчило эстетическое освоение металлических
конструкций, но и способствовало изменениям в восприятии и
осознании пространственной формы вообще. Весьма правдопо-
добна гипотеза, связывающая с впечатлениями от башни появле-
ние симультанных изображений у Пабло Пикассо (тем более что
в 1910-1920-х гг. башня стала сюжетом серии полотен Робера Де-
лоне, в которых он ставил эксперименты с подобным приемом ор-
ганизации живописного пространства).
Дискретности ренессансно-классицистических систем органи-
зации внутренних пространств зданий «современное движение» в
архитектуре противопоставило связно развертывающие системы
«перетекающих» пространств, концепцию которых последователь-
но с 1903 г. развивал Ф. Л. Райт. Парадоксально одностороннее ис-
толкование связности Мис ван дер Роэ, который увидел только одну
составляющую — единство, создало противоположный полюс про-
странственных концепций, исключавший временную составляю-
щую формообразования и восприятия (некую аналогию «самоцен-
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
75
ного мгновения» Матисса). В конечном счете, это возвращение к
принципу «визуального поля» вело к парадоксальному результату —
поиск, устремленный к радикальным новаторским решениям, при-
вел к возрождению неоклассицизма во второй половине XX в.
В гибкой психике современного человека оказалось возможным
совмещение различных типов мировидения — чувственной конкрет-
ности визуального поля и основанного на знании и временной раз-
вертке последовательных впечатлений визуального мира. Такие со-
вмещения стоят не только за плюрализмом современных вкусов, но и
за сложнейшими пространственными структурами некоторых произ-
ведений зодчества конца XX в. — таких, например, как постройки
парижанина Поля Шеметова или чикагца Хельмута Яна.
Время и восприятие архитектурной формы
в движении
Трехмерная пространственная форма во всей полноте свойств
своей организации раскрывается человеку только в последователь-
ности зрительных ощущений при наблюдении с различных точек
зрения. Картина, открывающаяся с каждой из них, — лишь част-
ный аспект, наполняющийся новым содержанием в связях с прочи-
ми аспектами. Это очевидно уже по отношению к свободно стоя-
щей скульптуре, которую необходимо осмотреть с различных сто-
рон, чтобы составить представление о ней. Видимый извне «объ-
ем» здания показывает внешние очертания оболочки, в которую
«упакована» система внутренних пространств. Чтобы полно вос-
принять форму здания, человеку необходимо не только обойти его,
чтобы увидеть с разных точек, но и проникнуть внутрь, уясняя
внутреннюю структуру. Роль последовательности в процессе вос-
приятия формы соответственно возрастает, а представление скла-
дывается в пространственно-временной развертке, объединяющей
разнородные впечатления.
Роль движения и времени в познании и оценке пространствен-
ной формы возрастает вместе с ее масштабом и сложностью строе-
ния. Впечатления, возникающие при наблюдении здания извне, из
окружающего пространства, с трудом связываются в осознанную
последовательность с впечатлениями от внутренних пространств,
объемлющих наблюдателя. Интерьер даже современного здания с
его относительно тонкими ограждениями, отделяющими внутрен-
76
Раздел 3
нес от внешнего, легкими перегородками-мембранами и относи-
тельно несложным планом, трудно соотнести с воспринятым извне
объемом. Можно знать об этой реальности, но не ощущать ее непо-
средственно. Германский философ О. Ф. Болнов писал, что «пер-
цептуальное внутреннее пространство здания и сегодня такое же,
как пещера в rope... Для конкретного ощущения не играет роли,
чел и кн или мала толщина „не-пространства“ между соседними по-
' ешениями. Абстрактная геометрическая мысль, что на плане ком-
наты дома почти без остатка занимают его, отвечает чертежу архи-
тектора, но не ощущению обитателя»10. Трудности, с которыми
сталкивается неподготовленный человек, пытаясь воспроизвести
план собственного жилища, наглядно обнаруживают несовпадение
осознаваемого пространства с физическим. Преимуществом клас-
сического ордера как языка архитектурной формы была возмож-
ность единого принципа формообразования в интерьере и экстерь-
ере. Единый комплексный образ легче выстраивался в своей про-
странственно-временной целостности.
Суть, однако, нс в семантическом единстве формы, не в повто-
рении характерных тектонико-пластических знаков. Главным сред-
ством объединения последовательно развертывающихся простран-
ственных систем является ритм, организуемый ордером четче и,
вместе с тем, разнообразнее, чем какой-либо другой системой орга-
низации архитектурной формы.
Ритм — средство, позволяющее преобразовать временную по-
следовательность в пространственную и — в обратном направле-
нии — упорядочить восприятие пространственной формы во вре-
мени. Немецкий философ Ф. В. Шеллинг писал, что «ритм принад-
лежит к удивительнейшим тайнам природы и искусства»11. По сути
дела нет общепринятого и удовлетворительного универсального
определения ритма. Музыковед К. Закс насчитал более 50 различ-
ных дефиниций, хотя сам феномен, казалось бы, очевиден и подда-
ется изучению точными методами. Дело в том, что ритм, присутст-
вующий в перцептивном пространстве — а тем более в простран-
стве художественном — в закономерностях своей организации за-
висит от сложно познаваемых субъективных факторов.
Как закономерное повторение и чередование соразмерных эле-
ментов ритм — свойство, присущее многим явлениям природы и
жизни человека. Чередование дня и ночи, времен года, биологиче-
ские циклы различных форм жизни развертываются во времени.
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
77
Они оставляют след в пространственной организации материаль-
ных форм — чередовании годовых колец на срезе древесного ство-
ла, строении ветвей и т. п. Временная последовательность преобра-
зуется в закономерную упорядоченность пространственной формы.
Ритмичность, повторяемость движений, присущая процессам
труда, также находит отражение в организации формы его произве-
дений. Как отражение закономерностей реального мира ритм вошел
во все виды искусства в качестве необходимого средства организа-
ции художественной формы. В архитектуре — как и в других про-
странственных искусствах — ощущение ритма создается чередова-
нием в пространстве. Это ритм статичный, где время заменено про-
тяженностью, а закономерная последовательность во времени —
закономерной последовательностью в пространстве. Правильная
повторность ряда форм облегчает его восприятие по сравнению с
неупорядоченным множеством. Соотнесение закономерностей рит-
мической организации не воспринимаемых единовременно частей
пространственной системы связывает полученные от них впечатле-
ния в единую временную последовательность. Мысленный образ
на основе перцептивного времени и перцептивного пространства
складывается как хронотоп.
Для архитектуры ритм — средство выражения динамики про-
цессов, которые организованы с ее помощью, и средство выраже-
ния динамических закономерностей образования самой формы (си-
лы, уравновешенные в конструктивной системе, последователь-
ность операций строительного процесса). Но не только: ритм еще и
средство организации эмоций потребителя архитектуры и ее на-
блюдателя. В этом последнем качестве ритм используется как
структурная основа языка архитектурной формы, организующая
взаимодействие ее знаков. Отсюда и сложность образования ритма,
его подчиненность как «внешним» детерминантам, так и синтакси-
су архитектурного языка, связывающему объективные закономер-
ности строения формы с субъективностью ее восприятия. Мы ос-
тановимся лишь на его общих принципах, связанных с преобразо-
ваниями, определяющими хронотоп мысленного образа.
Первооснова ритма в архитектуре — чередование пространств
и масс, организующих и расчленяющих эти пространства, их по-
следовательность, подчиненная определенному направлению раз-
вития — аналогу темпоральной направленности. Проявляется
ритм через последовательное закономерное изменение свойств
78
Раздел 3
ряда сопоставляемых элементов. Пульсация пространственных
величин определяет ритм главной оси Парижа — восток — запад;
сокращение частей объема — вертикальный ритм ступенчатых
пирамид Египта и Мезоамерики, зиккуратов Вавилонии; повторе-
ние башен, высота которых возрастает к центру вместе с сокра-
щением расстояния между ними — пространственный ритм ком-
плекса Московского университета на Воробьевых горах. Про-
стейшая закономерность ритма — повторение одинаковых эле-
ментов, разделенных равными интервалами, метр. Примеры ис-
пользования метра: колоннады периптеров, охватывающие объем
храма; повторение одинаковых секций и одинаковых панелей, из
которых складывается современный дом — продукт индустриаль-
ного крупноэлементного домостроения; повторение расположен-
ных на равных интервалах одинаковых корпусов в строчной за-
стройке; повторение одинаковых кварталов, образуемых прямо-
угольной уличной сетью («гипподамова» планировка эллинисти-
ческих поселений; равномерные прямоугольные уличные сетки
американских городов).
М. С. Каган обратил внимание на процесс дифференциации на-
чальных синкретических форм художественной деятельности: «...у
истоков художественного развития человечества искусство высту-
пало двумя относительно самостоятельными комплексами, один из
которых можно назвать муическим искусством, а другой — искус-
ством пластическим. К первому относились все способы творче-
ства, материалы которых человек находил в себе самом — в жесте,
звучании своего голоса, в речи; ко второму — те способы творчест-
ва, в которых использовались внешние человеку материалы, най-
денные в природе... или полученные в процессе материального
производства»12. Ритм оставался связующим началом, принципи-
альные различия между пространственными и временными ритма-
ми определялись тем, что первые воплощаются в форме, жестко
закрепленной материалом, но могут восприниматься в различной
последовательности или единовременно, последовательность вос-
приятия вторых, напротив, закреплена, форма же может варьиро-
ваться при воспроизведении.
В древнейшей монументальной архитектуре, которая создава-
лась в Древнем Египте, делались попытки преодолеть различия в
восприятии ритмической организации пространственных и вре-
менных систем, связывая пространства храма жесткой линейной
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
79
последовательностью, подчиненной главной оси, как бы следуя
движению и временному ритму мистериальных действ и религиоз-
ных церемоний. Созданный в эпоху Нового царства фараонами
Аменхотепом III и Рамзесом II храм в Луксоре — один из наиболее
впечатляющих примеров ритма, направленно развертывающегося
вдоль главной оси. После протяженной аллеи сфинксов, обрамлен-
ной метрическими рядами одинаковых изваяний, мощные пилоны
отмечают начало растянутого на 190 м пульсирующего чередования
обрамленных мощными колоннадами дворов и гипостильных зал.
Оно приводит к святилищу, доступному только для посвященных.
И в последовательности его пространств также продолжено движе-
ние вдоль главной оси — через первое и второе преддверия, зал для
священной ладьи и третье преддверие к сокровенному помещению
статуи божества. Пульсирующий ритм пространств сопровождают
метрические ряды колоннад.
Направленность пространства, жестко ограничивающая пове-
дение и ведущая в определенном направлении, производит сильный
эмоциональный эффект, подчиняющий и подавляющий. Не случай-
но подобная форма организации пространства, сопряженная с ор-
ганизацией ритуала, вновь и вновь возникала в истории архитекту-
ры, сопутствуя установлению в обществе подавляющей автократи-
ческой власти. Регламентация пространственных форм, соединен-
ная с предписанностью временного ритма, становилась основой
образа всесильного господства над всеми сторонами жизни. При-
мерами такого рода были осевые композиции анфилад дворцов аб-
солютизма (в Европе XVI 1-Х VIII вв. — Версальский дворец, пере-
строенный В. Растрелли Екатерининский дворец в Царском Селе
под Санкт-Петербургом, подмосковный Останкинский дворец,
Шёнбрунн под Веной и т. п.). Пытаясь воплотить претензии наци-
стской «третьей империи» на величие, А. Шпеер, придворный ар-
хитектор Гитлера, растянул на четверть километра узкое крыло
Рейхсканцелярии в Берлине (1938), разместив в нем анфиладу, под-
водящую к главным парадным помещениям. Напротив, установка
на свободу выбора форм поведения неизменно связывалась с воз-
можностью произвольного порядка восприятий ритмических сис-
тем и свободой выбора направления при пространственных пере-
мещениях (Акрополь в Афинах).
На установлении пространственно-временной связи между
структурными элементами городского организма основывается
80
Раздел 3
композиционная роль улиц. Важность этих элементов для форми-
рования образа населенного места и практической ориентации в его
пределах подтверждена не только психологическими и социологи-
ческими исследованиями, но и практикой. Концепция уничтожения
«улиц-коридоров», выдвинутая сторонниками «современной архи-
тектуры» на рубеже 1920 и 1930-х гг., при попытках воплощения
приводила к неодолимой аморфности и обезличенности городских
пространств. Резко выраженная отрицательная реакция населения
опровергла концепцию, подтвердив значимость линейно-протяжен-
ного, ритмически организованного пространства улицы как необхо-
димого структурообразующего элемента городского организма.
Восприятие улицы как целостной протяженной системы связа-
но с движением — пешеходным, на средствах транспорта — и раз-
вертывается во времени. Постепенная смена «кадров» и ориентиров
движения определяют плотность информационной загрузки воспри-
ятия. Проблема оптимальной насыщенности пространственной
формы протяженного уличного ансамбля поставлена в 1940-е гг.
Л. М. Тверским в исследовании, лишь фрагментарно опубликован-
ном почти через два десятилетия13. В 1960-е гг. психологические
аспекты восприятия окружения с движущегося транспорта исследо-
вались в США под руководством Кевина Линча14. В начале 1970-х гг.
пространственно-временные характеристики восприятия городской
среды с путей движения — транспортных магистралей и пешеход-
ных дорог — изучала Е. Л. Беляева15.
В этих работах делались попытки установить желательные па-
раметры пространственных ритмов, обеспечивающие наибольшую
психологическую комфортность восприятия. Основываясь на эм-
пирических наблюдениях, Л. М. Тверской как оптимальный пример
пульсации уличного пространства, расчленяемого кулисами и
фронтальными акцентами, разделенными интервалами нейтраль-
ной городской ткани, называл Невский проспект в Санкт-Петербур-
ге. Е. Л. Беляева, выделяя в восприятии улицы качественно разли-
чающиеся кадры, писала о некоем оптимальном времени его «экс-
позиции», т. е. вынужденного преобладания в поле зрения человека,
передвигающегося по улице. Такое время, естественно, не совпада-
ет с фактическим — привести скорость движения пешехода по
улице к некой средней величине возможно лишь сугубо условно.
И все же смысл в исследовании зависимости между напряженно-
стью ритма изменения «кадров» и комфортностью восприятия не-
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
81
сомненен. Анализируя улицы старого Таллина. Е. Л. Беляева пока-
зала, что сменяющие друг друга качественно различные фронталь-
ные кадры и боковые раскрытия чередуются с временным интерва-
лом в 20-30 секунд (около 15 «кадров» на полукилометровой про-
тяженности улицы Пикк, например). Смена кадров, причем обла-
дающих гораздо меньшей информационной насыщенностью, в но-
вой застройке района Мустамяэ того же Таллина, по Беляевой, сле-
дует через 100-150 м, что связано с ощущением монотонности16.
Интервал между качественно новыми пространственными впе-
чатлениями, возникающими при движении через среду города, мо-
жет широко варьироваться, но существуют качественные пороги,
нарушение которых с неизбежностью порождает отрицательные
эмоции. Чрезмерное сокращение интервала создает утомительную
перенасыщенность; перестает восприниматься артикулированное™
системы, наступает дезорганизация мысленного образа. Растяну-
тость интервала порождает ощущение монотонности. Поскольку
интервал определяется в единицах времени, соответствующая ему
пространственная величина зависит от скорости движения наблю-
дателя.
Этот вывод, однако, опасно абсолютизировать. В 1960-е гг. был
принят постулат, что масштабность пространственной композиции
городской магистрали должна быть приведена в соответствие со ско-
ростями городского транспорта, ритм ее укрупнен настолько, на-
сколько средняя скорость автомашины выше средней скорости пеше-
хода. Умозрительное допущение воплотилось в протяженные ан-
самбли Новоизмайловского проспекта в Ленинграде (1962-1964, ру-
ководитель С. Сперанский) и Нового Арбата в Москве (1963-1968,
руководитель М. Посохин) с редко расставленными крупными оди-
наковыми вертикальными акцентами, имеющими лаконичные очер-
тания. Оказалось, однако, что для пассажиров и водителей городско-
го транспорта восприятие пространственных ритмов застройки не
имеет того значения, которое оно имеет для пешеходов. Для пешехо-
дов же новый ритм оказался слишком крупен и монотонен.
Возникло парадоксальное явление. Новый Арбат, проходящий
почти параллельно Арбату и имеющий ту же протяженность, стал
восприниматься пешеходами как путь значительно большей длины,
соответственно, отнимающий больше времени, чем ходьба по ста-
рому Арбату с его мелкомасштабной средой, обилием акцентов,
пестротой рядовой ткани. Перцептивное время на Новом Арбате
7 Зак 303
82
Раздел 3
оказалось растянуто, оно ощущается как текущее более медленно,
чем в окружении старой улицы с ее разнообразием ситуаций, пест-
ротой сменяющихся «кадров». Подобный эффект описан в художе-
ственной литературе. Способность времени растягиваться и сжи-
маться отмечал Марсель Пруст. Томас Манн в романе «Волшебная
гора», который сам он называл исследованием времени, писал о
том, что для восприятия временной длительности ее структура не
менее важна, чем для восприятия пространственных дистанций.
Активная взаимосвязь восприятия пространства и времени в
архитектуре рождает сомнения в принятой ныне системе морфо-
логии искусств, которая, в соответствии с мнениями Аристотеля,
Г.-Э. Лессинга, Р. Ингардена, относит архитектуру к категории ис-
кусств пространственных. Такая классификация безусловна лишь
при условии, что принимает во внимание только способ бытия
произведения архитектуры, физическое пространство, в котором
оно существует. Если же перейти от физического и концептуально-
го к перцептивному пространству и времени, в котором нам только
и дано реально ощущать архитектуру и переживать контакт с ней,
следует отнести ее к искусствам пространственно-временным.
Стабильное и изменчивое
в архитектурной форме
Понятие «форма» в текстах, посвященных архитектуре, в соот-
ветствии с европейской классической традицией включает обычно
представление о стабильности. Связь эта, однако, не безусловна.
Классическая архитектура Японии не связывала форму своих про-
изведений с конкретностью материальной субстанции. Здесь в само
содержание формы вошло древнее представление о необходимости
и неизбежности обновления всего — в том числе и рукотворных
сооружений. До того, как с 794 г. столица страны закрепилась в
Киото, существовал обычай переносить ее на новое место по смер-
ти каждого правителя. Древнейшее синтоистское святилище в Исэ,
восходящее к III в., начиная с VII в. каждые 20 лет воссоздается за-
ново на «месте возобновления» рядом с существующим храмом. По
завершении нового, старое здание сжигается, а его участок стано-
вится местом возобновления для следующего цикла. Форма во всех
структурных признаках сохраняется; проходя периодические циклы
обновления, она возникает вновь и вновь, как форма танца при по-
Пространство и время в бытовании архитектурной формы 83
вторном исполнении. Стихийные бедствия — тайфуны, землетря-
сения — привели к тому, что основная часть произведений древне-
го японского зодчества, главным материалом которого было дерево,
существует в форме, неоднократно воспроизводившейся.
Однако и сама структура зданий не рассматривалась как нечто
данное раз и навсегда — если речь не шла о канонизированных
святынях. Она принималась как заключающая в себе потенции раз-
вития. Жилища, дворцы и храмы постоянно пополнялись новыми
объемами, продолжающими изначальную систему, их образ обога-
щали зримые следы развития во времени. Классическим образом
подобной структуры, открытой для развития, стал летний дворец
Кацура в окрестностях Киото, начатый в 1590 г. и создававшийся в
несколько этапов до середины XVII в. Кэндзо Танге охарактеризо-
вал его структуру как «длящееся течение пространства от точки к
точке»17. Единство такой структуры определяется не свойствами
модели конечного состояния, но постоянством закономерностей
роста. В данном случае — это закономерности «природосообразно-
го» освоения места для постепенно развивавшейся потребности,
сопряженные с логикой модульной каркасной конструкции.
Традиционная для японской культуры идея развивающейся
архитектурной формы во второй половине XX в. продолжена кон-
цепцией метаболизма, которую в 1960 г. заявила группа молодых
архитекторов, объединившаяся вокруг Кисё Курокава и критика
Нобуру Кавадзое. Метаболисты говорили о необходимости мыс-
лить представлениями динамичного, варьируемого пространства и
изменяющегося назначения. Метаболистов интересовало не обо-
собленное, завершенное в себе здание, но «групповая форма»,
служащая структурным каркасом, которому не может повредить
изменение заполняющих ее элементов, уменьшение или пополне-
ние их числа. Закрытым, завершенным системам европейской ар-
хитектуры противопоставлялись открытые к дальнейшему разви-
тию и росту. Аналогии с живым организмом противопоставлялись
излюбленным европейскими архитекторами-рационалистами ана-
логиями с машиной. Метаболизм предполагал закономерность
сосуществования разнородных начал в меняющихся системах в
соответствии с буддийской концепцией преходящего характера
всех вещей.
Наиболее демонстративно принципы метаболизма воплотил
попавший под его влияние Кэндзо Танге. В 1962-1967 гг. по его
7*
84
Раздел 3
проекту в Кофу построено здание, объединившее различные сред-
ства массовой коммуникации — редакции газет, радио- и телесту-
дии, типографии. Сама принципиальная незавершенность открытой
системы, полемически противопоставленная европейской тради-
ции, наделена здесь символическим значением. Стабильную основу
сооружения образует куст из 16 «ядер обслуживания» — могучих
цилиндрических бетонных шахт, в которых собраны вертикальные
коммуникации всех видов (лифты, лестницы, каналы инженерного
оборудования). Шахты несут перекрытия этажей, на плоскости ко-
торых группировка помещений легко может изменяться. Метафора
здания неотделима от его символической незаконченности. Не все
пространства между стволами коммуникаций использованы — пус-
тоты сохранены, как заявлено, в качестве резерва расширения рабо-
чих площадей. Контраст пустот и заполненных пространственных
ячеек, разная высота круглых шахт, как бы говорящая о длящемся
росте, драматически свидетельствуют о возможности изменений, о
том, что массивная структура может откликаться на динамичность
связанной с ней жизни. Однако, если дальнейший рост фактически
осуществится, пустоты заполнятся, выразительность формы исчез-
нет. Открытость системы чисто символична — реализация ее по-
тенции может осуществиться лишь через уничтожение метафоры.
Японская традиция связала диалектику стабильного и измен-
чивого в архитектуре с проблемой изменчивости, развития, роста
структуры объекта. В европейской культурной традиции внимание
привлекает зависимость стабильной оболочки от жизнедеятельно-
сти, для которой она создается, переводящая свойства, существую-
щие во времени, в свойства пространственной структуры. На этом
принципе строилась последовательность концепций протофунк-
ционализма, определившихся на рубеже XVIII и XIX вв., функцио-
нализма и конструктивизма, постфункционалистских тенденций.
Лишь малая часть этих концепций основывалась на постулате изо-
морфности расчленения и пространственной организации процесса
пространственной формы оболочки (ортодоксальный функциона-
лизм). Преобладающим же принципом было формирование про-
странственных структур, обладающих некоей мерой универсализ-
ма, приспособляемости, позволявшей структуре процессов изме-
няться в пределах неизменной оболочки. Процесс диктовал содер-
жание метафоры, которую несет форма. Не ограниченное означе-
нием функции, это содержание, однако, развивалось в ассоциатив-
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
85
ной связи с исходной темой, которую она задавала, и теми эмоция-
ми, которые она несла. «Режиссура» жизненных процессов, опре-
деляющая их пространственное развертывание, ритмику, эмоцио-
нальную тональность, определяет первый этап процесса формооб-
разования.
Одним из приемов изначальной «сортировки» процессов жиз-
недеятельности, влияющей на организацию формы, стало вычлене-
ние коммуникационных связей, объединяющих систему процессов.
В классическом зодчестве коммуникации пространственно не вы-
членялись. Только вход в здание, их общее начало и место, где со-
прикасались внутреннее и внешнее и где человек переживал мо-
мент смены пространственного окружения, акцентировался в
структуре формы и наделялся особыми символическими значения-
ми. Обрамление входа иногда разрасталось до особого сооружения,
которое могло подняться выше основного объема — как гигантские
порталы трех медресе, обрамляющих площадь Регистан в Самар-
канде, или порталы дворца Ширваншахов в Баку. В гражданской
архитектуре трансальпийского Ренессанса — французской, герман-
ской — самостоятельная пространствообразующая и символиче-
ская роль отводилась иногда лестницам. Врезанная в фасад замка
Блуа (Франция, XVI в.) ажурная ротонда с пологой спиралью па-
радной лестницы — один из наиболее впечатляющих примеров по-
добного рода.
Асимметрия построек эклектизма следовала за конкретными
обстоятельствами организации процессов жизнедеятельности. Сле-
дуя правилу рационального метода Декарта — «делить каждое из
исследуемых мною затруднений на столько частей, сколько это
возможно»18, создавали стабильную схему пространственно-вре-
менной организации процессов жизнедеятельности, своего рода
«остановленное мгновение». Принцип этот был доведен до пре-
дельной выраженности функционализмом, применившим к формо-
образованию в архитектуре метод построения механизмов, устрой-
ство которых задано последовательностью рабочего процесса. Зда-
ние, подобно машине, расчленялось в соответствии с детально раз-
работанным графиком организации жизненных процессов. Шедев-
ром формообразования по такому принципу стало здание Баухауза
в Дессау (1926, В. Гропиус).
Составляющей метода «сортировки» функций как основы
формообразования стало вычленение коммуникационных связей,
86
Раздел 3
объединяющих здание. Связанный с футуристами итальянский ар-
хитектор Сант-Элиа придал выявлению коммуникационных струк-
тур символическое значение. В утопическом проекте «Нового горо-
да», показанном в 1914 г. на выставке в Милане, он подчеркивал
элементы, связанные с движением: многоярусные транспортные
магистрали, эскалаторы, выделенные из тела зданий башни лифтов,
мостики, соединяющие над улицами верхние ярусы зданий. Его
мечтой был «город, похожий на просторную шумную стройку, каж-
дый участок которой гибок, подвижен, динамичен, и... футурист-
ский дом, напоминающий гигантскую машину»19. На листах проек-
та Сант-Элиа трехмерная сеть коммуникационных связей с дина-
мично вздымающимися лифтовыми башнями, сквозь остекление
которых видны движущиеся кабины, и ажурными конструкциями
мостов вводила подвижные элементы в визуальную систему и под-
нимала движение и путь на уровень символов.
Футуристическая поэтика движения в первой половине века
имела лишь единичные реализации. Особенно близок к идеям
Сант-Элиа жилой комплекс Слюссен в Стокгольме (1935, К. Акинг,
Э. Сундал, О. Тунстрем и К. Одеен). Над набережной со сложной
транспортной развязкой поднимается восьмиэтажный дом, расчле-
ненный на пять вертикальных объемов-секций. Верхний этаж дома
бетонной эстакадой соединен с поднимающимся по одну его сторо-
ну скальным плато; по другую сторону остекленный мостик над
магистралью ведет к ажурной башне лифта, связывающего верх-
нюю часть города с набережной. Суховато рациональная архитек-
тура эффектно дополняется графичной ажурной структурой башни,
в которой движется кабина.
Крупное здание Госпрома в Харькове (1925—1928, С. Серафи-
мов, М. Фельгер, С. Кравец) объединено пространственной решет-
кой коммуникаций, крытые переходы на разных уровнях перебро-
шены над улицами, рассекающими дугообразный в плане корпус.
Театр в Ростове-на-Дону (1930-1936, В. Щуко, В. Гельфрейх) имеет
концертный зал, расположенный над фойе главного зала. Стена его
выступает гладкой плоскостью на фронтальном фасаде. Со своим
вестибюлем, расположенным в стилобате, малый зал сообщается
через башни с лифтами и лестницами, выдвинутыми перед плоско-
стью фасада. Остекленные мостики связывают эти башни с фойе
малого зала. Вряд ли такой сложный прием организации оптимален
функционально и экономически. Однако его символическая образ-
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
87
ность несомненна и прием имеет оправдание прежде всего в ори-
гинальности и силе выразительности символа, значения которого
связаны не только с общей идеей динамичности, отнесенной ко
времени и стране, но и с конкретностью становления индустриаль-
ного города, в то время одного из главных центров развития рос-
сийской промышленности.
Включение в архитектуру подвижных элементов стало популяр-
ным приемом для коммерческих зданий в 1970-е гг., когда американ-
ский архитектор Джон Портмен создал театрализованные простран-
ственные эффекты гигантских холлов, вокруг которых объединяются
пространства зданий. Один из эффектных примеров — отель «Рид-
женси-Хайат» в Сан-Франциско (1973), 70 этажей которого уступами
нависают над пространством треугольного в плане гигантского хол-
ла. Стеклянные фонарики лифтов открыто скользят в этом простран-
стве вверх и вниз, внося в интерьер элемент постоянного движения.
Подобный мотив в магазинах нового торгового центра Кёльна стал
главной темой организации более компактных интерьеров.
Движение и время определяли главное содержание гигантского
символа, которым должен был стать памятник III Интернационалу,
задуманный В. Татлиным (1919-1920). Основу башни высотой в
400 м составляли две спирали, пересекающиеся на каждом витке с
наклонной металлической мачтой. Внутри этого каркаса подвешены
три объема — куб, пирамида и цилиндр, которые должны были мед-
ленно вращаться вокруг вертикальной оси. Различные скорости —
один оборот в год, месяц и день — не создавали бы эффекта кине-
тической структуры с непосредственно воспринимаемым движени-
ем, но непрерывно изменяли бы комбинацию основных геометри-
ческих объемов. Абстрактный неподвижный символ динамики раз-
вития соединялся бы с воплощением постоянства изменчивости. Не
будем здесь обсуждать вопросы, связанные с этим утопическим
замыслом, для нас важна теоретическая возможность заявленного
здесь приема символического формообразования.
«Башня Татлина», по-видимому, связана со сценографическими
идеями конструктивистской сценографии, подвижными машинопо-
добными пространственными конструкциями, включающими дви-
жущиеся элементы, «сценическими установками», которые созда-
вали А. Веснин и Л. Попова в 1921-1922 гг. Их совместный проект
массового действия «Борьба и победа» в честь III конгресса Комин-
терна в мае 1921 г. на Ходынском поле в Москве включал декора-
88
Раздел J
ции двух символических городов — «цитадели капитализма» и
«города будущего». В их символике будущее отождествлялось с
кинетической техноморфной конструкцией. В 1922 г. А. Веснин
создал макет сценической установки к спектаклю Г. Честертона
«Человек, который был Четвергом», поставленному в камерном
театре А. Таировым. Ажурные каркасы, лестницы, мостики скла-
дывались в целое, совмещающее динамику и пространственность.
«Техноморфность» должна была воплотить образ урбанизирован-
ного мира. Похожую структуру Л. Попова создала для спектакля
В. Мейерхольда «Великодушный рогоносец». Сложное переплете-
ние конструкций в том и другом случае несло ряд сценических
площадок, сочетание которых вводило театральное действо в трех-
мерность. Сценографические конструкции начала 1920-х были ла-
бораторными экспериментами формирования архитектурного про-
странства. А. Веснин перешел от них к поискам образов архитекту-
ры конструктивизма. Прямая связь между сценографией, искусст-
вом пространственно-временным по существующим классифика-
циям архитектурой была установлена практически.
Архитектурная форма
и переживание исторического времени
Осознание времени как одного из параметров бытия, необра-
тимости его течения — характерная черта культуры XX в. Точный
отсчет объективного времени, времени «вне нас», стал как бы
внешней силой, подчиняющей жизненные ритмы. Время прямо
связано с производством материальных благ; оно — важнейший
фактор решения жизненных задач. Ушло представление о «само-
ценности» и обширности настоящего. Для современного человека
оно — непрерывно продвигающийся рубеж между прошлым и бу-
дущим. Информация о прошлом не только раскрывает настоящее,
но и служит для суждений о будущем. Современная культура исто-
рична, пронизана представлениями о временной динамике.
Концепция времени, сложившаяся в культуре XX в., определяет
мироощущение современного человека, восприятие им произведе-
ний искусства. Под ее воздействием определилась доминирующая
роль временных искусств, число которых возросло с появлением
кинематографа, а затем и телевидения. Процесс затронул и те ис-
кусства, которые традиционно относятся к чисто пространствен-
Пространство и время в бытовании архитектурной формы 89
ным. Изменились их функции в системе культуры, а вместе с тем и
характер восприятия их произведений. Особенно сильно такие из-
менения затронули пространственные искусства, формирующие
среду обитания человеческого общества.
В формировании городской среды воплощается преемствен-
ность, непрерывность развития культуры. Новые элементы возни-
кают здесь в сложившихся контекстах, дополняя и изменяя их. Го-
род, развиваясь вместе с обществом, развивается и преобразуется
не весь сразу, совмещая в своем единстве новое и старое — резуль-
таты духовного производства разных эпох. Но и старое в его систе-
ме переосмысляется и служит новому. В форме, воспринимаемой
нашими чувствами, город воплощает связь прошлого, настоящего и
будущего. Создание нового определяет один ряд проблем формиро-
вания среды; другой их ряд определяется отбором сохраняющего
ценность в исторически сложившемся окружении, его переосмыс-
лением и использованием в новой системе среды и актуальной
культуры.
Связь старого и нового, сегодняшнего и уходящего корнями в
глубокое прошлое, во временные пласты, придает комплексу сре-
ды в нашем восприятии четырехмерность, где четвертое измере-
ние — время. Среда, хранящая информацию о прошлом, запечат-
левшая следы движения времени, обладает особой ценностью в
представлениях современного человека, удовлетворяя тягу к вре-
менной перспективе, которая привита ему историчностью культу-
ры XX в. Вещественные следы исторической судьбы определяют
особый образ данного города, данного места. Отсюда уникальная
роль древних городов, обладающих особой сложностью и много-
слойностью облика.
Мощный потенциал современной техники открыл возможность
быстрого роста и преобразования городской среды. Родилась и меч-
та о городах, не отягощенных прошлым, монолитная «современ-
ность» которых противопоставлена калейдоскопической разноха-
рактерности исторически сложившихся. Их система виделась все-
цело подчиненной рациональному практицизму и чистой красоте
элементарных геометрических тел. Мечту о городах, создаваемых
как бы вне времени, на поверхности чистого листа, с наибольшей
законченностью выразил Ле Корбюзье. В его представлении город —
гигантский механизм, создаваемый однажды и навсегда, сущест-
вующий неизменно в стерильной чистоте форм, точных как форму-
6 Зак. 303
90
Раздел 3
лы. Привычным ценностям городской среды были противопостав-
лены новые, обращенные уже не к эмоциям, а к рассудку. Предпо-
лагалось, что грядет новая красота, которой и быть истинной. Ло-
зунгом стало противостояние порядка хаосу. Хаос виделся в слож-
ности исторических городов, порядок отождествлялся с «божест-
венной геометрией» плоскостей и прямых углов, законченностью
формы, подчиненной единому замыслу.
Немногословная ясность усиливала выразительность отдель-
ной постройки за счет противопоставления запутанной сложно-
сти окружения. Но простота и единообразие, перенесенные на
части города как определяющие качества его системы, оказывают
уже иное воздействие. Восприятие не получает объема информа-
ции, который дает среда исторического города, и возникает ощу-
щение монотонности. Возникает противоречие между унифици-
рованной средой и изменчивостью требований человека к своему
окружению.
Столкновение «естественности» исторически сложившихся
частей и рассудочного унифицированного порядка новых массивов
стало общей чертой активно живущих городов. Происходит их
«раздвоение», разрушающее непрерывность материальной памяти,
которая в них заключена. Явление это вызвало стихийную реакцию.
Одна из ее форм — мода на стилизации «ретро», которые дают
мнимую компенсацию дефицита культурных ценностей. Под при-
крытием «ретро» оживился и кич, получивший псевдоисторические
очертания.
Только единство статичного и подвижного, связанного с про-
шлым и открытого к будущему, делает среду и отражением процес-
са развития, и опорой культуры. Условия такого единства, во-
первых, сохранение целостности и основных закономерностей
структуры при любых изменениях, связанных с развитием и рос-
том, во-вторых, сохранение информации о прошлом, следов време-
ни, обогащение ими действующей, «сегодняшней», системы. Под-
ключение к такой системе исторически сложившейся среды дает
новую жизнь культурному наследию прошлого. Для новых ком-
плексов соединение устойчивого и подвижного открывает возмож-
ность со временем приобрести многослойность и богатство значе-
ний формы, постепенно притирающейся к сложности жизни —
свойство, которое определяет психологическое предрасположение
людей к обжитому.
Пространство и время в бытовании архитектурной формы
91
Примечания
1. Фаворский В. Время в искусстве// Декоративное искусство СССР.
1965. №2. С. 2.
2. Беккер Л. М. О пространственной геометрии психического изображе-
ния И Восприятие пространства и времени. Л., 1969. С. 104.
3. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. Т. I. С. 330.
4. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
С. 44.
5. Там же. С. 14.
6. Gibson I. L The Perception of Visual World. Boston, 1950.
7. Edgerton S. The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective. N. Y.,
1975. P. 25.
8. MamuccA. Сборник статей о творчестве. М., 1958. С. 50.
9. Цит. по очерку И. Эренбурга: Графика Пикассо. М., 1967. С. 15.
10. Bollnow О. Е Mensch und Raum. Stuttgart, 1963. S. 153.
11. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С. 196.
12. Каган М. С. Пространство и время в искусстве как проблема эстети-
ческой науки И Ритм, пространство и время в литературе и искусстве.
М., 1974. С. 29.
13. Тверской Л. М. Композиция городских улиц и дорог. Л., 1962; Он же.
Вопросы городского ансамбля. Л., 1990.
14. Линч К Образ города. Пер. с англ. М., 1982.
15. Беляева Е. Л. Архитектурно-пространственная среда города как объ-
ект зрительного восприятия. М., 1977.
16. Там же. С. 80, 100.
17. Танге К Архитектура Японии. Традиция и современность. М., 1975.
С. 61.
18. Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 272.
19. Сант-Элиа А. Город будущего// Мастера архитектуры об архитекту-
ре. М., 1972. С. 165.
6
Раздел 4
Архитектура
и градостроительство
как уровни систем
формообразования
В системе культуры архитектура занимает место на стыке ма-
териальной и духовной культур или на стыке материальной, духов-
ной и художественной культур, если структурно выделять послед-
нюю. Архитектура входит в каждую из них — она удовлетворяет
как материальные, так и духовные потребности общества и челове-
ка; в то же время как деятельность она обладает интегрирующим,
синтетическим характером, который специфичен для художествен-
ной деятельности и художественной культуры.
Главный признак произведения архитектуры — пространст-
во, целесообразно организованное для социально значимой цели,
вмещающее человека и воспринимаемое им зрительно. При этом
речь идет не только о пространстве, со всех сторон ограниченном,
как в интерьере здания, но и о пространстве внешнем, организо-
ванном объемами зданий и сооружений, благоустройством земной
поверхности и зелеными насаждениями. Таким образом, в понятие
«архитектура» вместе со зданиями входят комплексы застройки и
населенные места в целом. Входят в него и сооружения, не имею-
щие внутреннего пространства, но служащие для организации
внешних пространств (ограды, террасы, набережные, мосты, эста-
кады, развязки автомагистралей, монументы и т. п.).
Другой существенный признак архитектуры, отделяющий ее от
видов строительной деятельности, которыми решаются узкопрак-
тические задачи (создание подземных коллекторов, перегонных
Уровни систем формообразования
93
тоннелей метрополитена, временных складских или военно-оборо-
нительных сооружений), — заранее программируемая информа-
ция, которая закладывается в ее произведения. Эта информация
несет общекультурное, эмоционально-эстетическое и художествен-
ное содержание, важное как для практической ориентации людей,
так и для формирования их психологических и ценностных устано-
вок, воспитания личности. Архитектура служит организации жиз-
недеятельности не только своими материальными структурами,
обеспечивающими необходимые условия осуществления процес-
сов, но и той информацией, которую она несет. Ее произведения
обладают как материально-практической полезностью, так и ин-
формационно-эстетической ценностью.
Наконец, третий признак архитектуры — системность. Фор-
мируя определенную часть пространства, архитектура вместе с тем
входит в систему объектов — здание образует элемент комплекса
сооружений; комплекс, в свою очередь, является элементом населен-
ного места в целом. При этом архитектурные объекты складываются
в структурную основу предметно-пространственной среды — то-
го предметно-пространственного окружения, которое взаимодейст-
вует с субъектом и актуализуется его поведением (в качестве субъек-
та может при этом выступать индивид, некая группа людей, город-
ское общество или даже народ и человечество — субъектом опре-
деляется тот уровень системной организации, на котором рассмат-
ривается среда).
Разные уровни системной организации среды воплощаются в
различных категориях объектов. Уровень элементарный, связанный
с обеспечением отдельных процессов, опредмечивается в вещи или
в группе вещей — это сфера дизайна. Сложные, составные функ-
ции, требующие для своей организации устойчивых объемлющих
структур, определяют сферу архитектуры. Архитектурное творче-
ство, направленное на высшие уровни системной организации, —
город, расселение на территории региона — связывается уже с про-
блемами принципиально иными, чем возникающие в связи с ло-
кальным объектом — зданием или группой зданий. Результатом
расширения сферы системных задач формирования среды стало
обособление градостроительства — теории и практики организа-
ции расселения и населенных мест, хотя граница между градо-
строительством и архитектурой достаточно условна. С одной сто-
роны, решение проблем архитектуры должно начинаться на градо-
94
Раздел 4
строительном уровне, с другой — любые градостроительные реше-
ния реализуются через уровень, традиционный для архитектуры
(здание, комплекс зданий, ансамбль, система ансамблей). Сквозное
единство принципов формообразования, определяемых контекстом
данной культуры, которое пронизывает все уровни системной орга-
низации городского организма, связывая архитектуру и градострои-
тельство, необходимо рассмотреть на примерах из различных вре-
мен и регионов. При этом выявляются и различные типы простран-
ствообразования, показывающие широту поля возможностей. Воз-
можно также выявить взаимосвязи целостного контекста.
Рассмотрим ряд классических систем, начиная с почти поляр-
ных — высокой греческой классики «Периклова века» и эпохи Му-
рома™ (1333-1573), давшей наиболее «классичное» выражение ху-
дожественных принципов культуры средневековой Японии. В пер-
вом случае получил совершеннейшую реализацию телесно-пласти-
ческий метод формообразования, во втором — столь же последова-
тельно выражено обращение к пространственности.
Наиболее совершенных результатов в искусстве организации
пространства мастера Древней Греции достигли в Афинах второй
половины V в. до н. э. Крах микенского владычества и начало но-
вой, греческой цивилизации коренным образом изменили организа-
цию городского пространства. Формировавшийся полис, город-
государство, отверг единовластие. Равенство регулируемой прави-
лами борьбы стало принципом политики, основанной на равном
для всех подчинении закону и порядку. Полис предстает как одно-
родный мир, без иерархии, градации и дифференциации. Власть не
сосредоточена более в одном лице, а равномерно распределена по
всем областям общественной жизни в общем пространстве. И го-
родские постройки не теснятся более вокруг обнесенного укрепле-
ниями дворца. Общественным центром Афин становится Агора,
площадь, где обсуждаются проблемы, представляющие общий ин-
терес1. На плато цитадели, на руинах дворца с VI в., создается ре-
лигиозный центр, открытый для отправления общественного куль-
та. Разраставшаяся застройка спустилась на равнину, концентриче-
ски охватывая священную скалу Акрополя и соседствующую с ней
Агору.
По новым принципам Гипподама отстроили только лежащий у
моря город-спутник Афин — порт Пирей, который получил регу-
лярный прямоугольный план, подразделенный на зоны. Центром
Уровни систем формообразования
95
был прилегавший к порту монументальный общественный ком-
плекс, по сторонам которого располагались три жилые зоны2. Ока-
зались подчинены принципу триединства и сами Афины, хоть пла-
нировка их и оставалась неизменной. Система города соединяла
три различным образом сформированные системы, имевшие раз-
личное назначение. Над нейтральной тканью жилой застройки ви-
зуально господствовал религиозный комплекс Акрополя, у подно-
жия которого раскинулась Агора.
Акрополь был главным ориентиром в узких улицах, обрамлен-
ных глухими стенами, где лишь ритм тесных входов мог служить
для отсчета протяженности. Ансамбль отстраивался как памятник
победы над Персией, символ величия Афинского государства и его
сокровищница. Вместе с тем, он мыслился обиталищем богов-
покровителей, «небесным городом», приведенным к прямой связи с
городом земным. В этом качестве воплощенного идеала Акрополь
интегрировал основные черты миропонимания греков — прежде
всего их стремление сводить все к человеческому и человекоподоб-
ному, принимающему антропоморфные очертания.
Пространство не воспринимается в этой системе как нечто ор-
ганизованное, позитивное. Оно — пустота, интервал между мате-
риальными вещами. Как писал Освальд Шпенглер, «чувству про-
странства античность противопоставляет символ совершенно те-
лесного и охватываемого одним взглядом периптера»3. Акрополь
позволяет ощутить это с особой силой, но принцип проведен во
всех составляющих пространственной системы полиса. В ней-
тральной плотно застроенной ткани селитьбы улицы — лишь ин-
тервалы, рассекающие тело застройки, которые могут иметь как бы
естественно определившиеся очертания или подчинены геометрии
гипподамова плана.
В отличие от стремления греков осмыслить природу через че-
ловека, в классической культуре Японии ни сверхъестественное, ни
естественное не пытались персонифицировать и воплотить в ан-
тропоморфные образы. В поэзии и искусстве эмоции раскрывались
через образы природы и ее состояния. Природа виделась наполнен-
ной таинственной жизнью. Скала, дерево или камень могли стать
объектами поклонения, среди ландшафта выделяли место, считав-
шееся обиталищем божества. Художественное мышление сосредото-
чилось на целостности среды, объединяемой пространством. Кэндзо
Танге писал, что «...пространство в японской архитектуре — приро-
96
Ра злел 4
да сама по себе, пространство, дарованное природой. Даже если это
пространство ограничено, оно не образует независимый мир, отде-
ленный от природы»4. Одухотворение природы определило методы
формирования среды, на всех уровнях систем отличающиеся от
принятой греками установки на «телесность», противостоящую
«пустоте». Ключевым стало представление о целостности, соеди-
няющей организованное пространство — «активное ничто» — и
м а тер и aj । ьн ы е стру Kiy р ы.
Такое представление исключало жесткую завершенность зда-
ний и их противопоставление окружающему. Постройки слиты с
окружением, грань между внутренним и внешним размыта, ком-
позиции рассчитаны на продолжение, развитие во времени (такая
возможность принимается во внимание и если никаких предполо-
жений о возможности дальнейшего развития не существует).
Символ в греческом искусстве рукотворен и антропоморфен; в
японском — символизация осуществляется через природную
форму, для восприятия которой искусственно созданы лишь опре-
деленные условия.
В древнейших ансамблях Японии качественная «особость» ар-
хитектурного пространства выявлялась прямолинейностью и пря-
моугольностью очертаний. Симметрия символизировала чистоту и
завершенность в нечистом мире человеческого несовершенства;
отклонение от нее — символический жест смирения, отказывающе-
гося от попытки достижения абсолюта. Идеальной моделью города
стала буддийская мандала, диаграмма космоса, зафиксировавшая
представления, сложившиеся на равнинах Китая. Столица его,
Чаньвань, служила образцом для древних столиц Японии — Хэйдзё
и Хейана. Ее жесткая регулярность, однако, была неосуществима в
Японии, где узкие долины затеснены горами. Был необходим поря-
док иной, чем элементарная геометрическая закономерность. Ка-
жущаяся случайность сложной формы, родившейся в стремлении
учесть условия и особенности места, стала осознаваться как сим-
волическое выражение единства рукотворного и природного.
Перелом наметился в период Камакура (1185-1333), когда к
власти пришло военное сословие буси, и был закреплен в период
Муромати (1333-1573), время, когда под влиянием буддизма дзэн в
культуре страны стали развиваться гуманистические тенденции,
образующие некую параллель европейскому Возрождению. Утвер-
ждалась концепция природы как «космического тела» Будды. От-
Уровни систем формообразования
97
сюда выводился путь к познанию высшей сущности бытия, мыс-
лившегося как «природа Будды», «но Будды не как лица, а состоя-
ния или бытия высшего порядка, а такая природа познавалась чело-
веком... в себе самом, самоуглубленном»5. Субъект и объект мыс-
лились неразделимыми, познание природы соединялось с самопо-
знанием. Поэтический образ, воплощаемый метафорой, использо-
вался как инструмент постижения истины. Постижение жизни че-
рез искусство требовало отказа от самоценности формы, признания
чистой семантичности художественного. Экономия средств выра-
жения соединялась с их предельной семантической нагрузкой.
Простота материальных элементов увеличивала символическую
роль взаимодействия массы и пространства.
В формировании последовательности взаимосвязанных, «пере-
текающих» пространств виделось выражение всеобщего принципа
единства и становления — «дао». В любой композиции размыва-
лись конец и начало. Главным была непрерывность развития худо-
жественной темы.
С наибольшей полнотой особенности классической художест-
венной культуры Японии раскрывает сочетание дома и сада, как
модели мира. Сады были воплощением великого в малом. Сочета-
ние знаков горы и воды определяло основную схему символическо-
го ландшафта (пруд символизировал океан, камень — гору, вода
могла присутствовать реально или замещаться поверхностью пес-
ка). Символичность достигла вершины в «сухих ландшафтах», ре-
альное пространство которых невелико, недоступно и предназначе-
но для созерцания извне. Такой сад — не фрагмент природы, но ее
символ. Шедевр этого типа — сад камней Рёандзи в Киото (начало
XVI в.). Из сложного порядка природы вычленен геометрически
точный фрагмент, рукотворность которого переводит восприятие в
плоскость символических значений. Внутри его простых очерта-
ний вновь утверждается сложность, но уже не природная. Ритм
поверхности песка и группы камней, расположение которых под-
чинено ускользающей от осознания, но явно присутствующей за-
кономерности.
В период Муромати сад стал обязательной частью жилища вер-
хушки класса воинов. Совершенное выражение черты его получили
во дворце Кацура (Киото), сущность системы которого — в нераз-
делимом единстве построек и сада. Группы помещений по мере
развития соединялись вдоль линий, диагональных по отношению к
98
Раздел 4
главным направлениям. Система в любой момент выглядела завер-
шенной, так же, как кажется законченной форма дерева на любой
стадии роста. Это принципиально отличает японскую классику от
античной с ее формулой «ни убавить, ни прибавить». Нет и намека
на противостояние постройки и окружения — интерьеры раствори-
лись в ландшафте, их структура создавалась с учетом перспектив,
направленных вовне, связывалась с приметными особенностями
пейзажа. Главным символом жилища была высокая кровля. Трудно
утверждать, что именно определяло границу между внутренним и
внешним — карниз тяжелой кровли, край поднятого над землей
помоста-галереи или скрытые глубокой тенью стойки деревянного
каркаса с легкими, раздвигающимися или поднимающимися пане-
лями заполнения между ними. Край размыт, разграничение неопре-
деленно. Дворец не складывался в пластическое целое, не обладал
качествами телесного символа, подобного произведениям античной
архитектуры. Пространственность системы определила тип про-
порционального строя, основанного на повторяющемся модуле. Во
дворце Кацура последний определен расстоянием между стойками
каркаса. Позже модулем стал служить стандартный размер циновки
(татами), которыми выстилался пол. Их размерам подчиняли не
только план, но и величины по вертикали.
Прямоугольность матов подхватывалась системой столбов и
балок, решетками стен и перегородок, затянутых рисовой бумагой.
Принципиальное различие методов формообразования пред-
метно-пространственной среды, развившихся в античной Греции
и средневековой Японии, основано на столь же существенном
различии миропонимания. В корне его — несходство ролей, кото-
рые отводились человеку и человеческому в представлениях о
природе и мире.
В рассуждениях нашего столетия о методах пространствооб-
разования часто возникала дихотомия регулярного и живописно-
го. Как прообраз живописных приемов формообразования неиз-
менно выдвигались города Средневековья, регулярность связыва-
лась с художественными концепциями Ренессанса и классицизма,
как и с теми городскими ансамблями, которые были созданы на
их основе.
Развитие западноевропейского города с его живописностью
часто описывается как процесс спонтанный, подобный биологиче-
скому. Но не стоит списывать разнообразие и сложность форм
Уровни систем формообразования
99
средневекового градостроительства на счет стихии и хаоса. Прин-
ципы пространствообразования, стоящие за ними, требуют внима-
тельной реконструкции.
Дифференцированность и очевидная иерархичность строения
пространственных форм средневекового города определялись их
содержательным наполнением. Геометрическая правильность, под-
чинение прямому углу и плоскости не исключались, но и не цени-
лись сами по себе. Между двумя точками искали не самую корот-
кую, но самую удобную связь. Любые очертания стремились сде-
лать естественными в данных конкретных условиях, а не выведен-
ными из тех или иных формальных правил. Чуждо Средневековью
и представление о ценности открытых перспективных видов и зри-
тельной связи между главными узлами города. Предпочтительные
при восприятии в понятиях визуального поля, они безразличны для
восприятия в понятиях визуального мира, принимавшихся Средне-
вековьем. Поэтому даже и главные улицы не стремились превра-
тить в прямые сквозные перспективы. Они вели к цели по наиболее
удобному направлению, сообразуясь с топографией и специфиче-
скими особенностями мира. План города в равной степени мог
быть строго прямоуголен и прямолинеен, а мог быть и прихотли-
вым сплетением кривых и ломаных очертаний — это зависело от
конкретных обстоятельств, а конкретное не представлялось суще-
ственным. Для культуры эпохи было важно фундаментальное сход-
ство с идеальным представлением, которое опиралось на топологи-
ческие свойства пространственной структуры.
Фундаментальным свойством средневекового города была цело-
стность, обеспеченная замкнутостью периметра внешних укрепле-
ний и ясной выявленностью центра, которому подчинялась про-
странственная структура. Не столь существенным казалось, округ-
лым или составленным из прямых линий будет очертание этого пе-
риметра, и, тем не менее, существенно — точны ли прямые углы че-
тырехугольника и равны ли его парные стороны. Уличная сеть долж-
на была связывать центр и главные ворота, но не делалось принци-
пиального различия между дорогами, которые шли напрямую — ес-
ли не было препятствий для этого — и путями, трассированными в
зависимости от условий участка. При этом не видели принципиаль-
ного различия между городами с радиальной уличной сетью, где все
улицы ведут прямо в центр, и городами, где второстепенные проезды
присоединяются к главным, которые только и выводятся к центру
100
Раздел 4
(т. е. с прямоугольной планировкой и близкими к ней планами типа
«рыбья кость»). Представление об идеальной форме было достаточ-
но обобщенным для того, чтобы допускать различия в конкретном.
Очертаниям одного объекта не подчиняли другой, если этого не
требовали удобства сочетания. Внутри округлого периметра оборо-
нительных стен, заданного топографией или фортификационной
техникой, могла сложиться четкая прямоугольная уличная сеть, ес-
ли ничто не заставляло отступать от «идеального» приема органи-
зации (примерами могут служить Варшава, Краков, Торунь, Росток,
Лейпциг). При развитии средневекового города на основе антично-
го поселения с его прямоугольной планировкой значение старых
главных осей сохранялось, но при дальнейшем росте они уже не
диктовали направление новых улиц (Болонья, Флоренция). Все это
свидетельствует о равнодушии к геометрическим свойствам фор-
мы, не несущим смысловых значений, но не о стихийности градо-
формирования.
Тому, что города, строившиеся заново, часто включали элемен-
ты геометрической планировки, а иногда получали жестко геомет-
рический план, напоминающий шахматную доску, историки дают
рациональное объяснение — «удобство разбивки земляных наде-
лов». Вернее предположить, что в подходящих ландшафтных усло-
виях зодчие стремились к наиболее простым средствам воплоще-
ния абстрактной символической модели — четырехчастность, крест
главных осей, пересекающихся в центре, закрепленном собором и
ратушей (тем более, что в большей части средневековых городов
прямоугольность уличной сети была неточна и не могла облегчить
труд землемеров).
Детали замысла вряд ли фиксировались проектом. Однако,
однажды намеченная система проводилась в жизнь с большой на-
стойчивостью в преемственности труда нескольких поколений.
Идею уточняли и трансформировали в соответствии с обстоятель-
ствами, но не отступали от нее в главном. Элементы, заложенные
изначально, оставались опорой ориентации, закрепляя исходную
закономерность. Благодаря ощущаемой логике строения в ткани
средневекового города легко ориентироваться и людям нашего
времени.
Системы пространств, складывавшиеся внутри средневековых
городов, нельзя охватить взглядом с какой-то одной точки зрения.
Их нужно пройти насквозь, интегрируя меняющиеся впечатления.
Уровни систем формообразования
101
Фактор времени участвует в восприятии, развертывающемся как
связное чередование замкнутых перспектив. Вместе с тем, замкну-
тость не означает завершенности — мы чувствуем, что система
продолжается за пределами обозримого. Связность основывается
на асимметрии, отвечающей динамике жизненных процессов и
ритмической организации. Асимметрия внутреннего пространства
здания, определяемая организацией процессов жизнедеятельности,
получала выражение в построении объемов. Динамика композиции
отдельного здания вливалась в общее течение пространственной
системы. Асимметрия была всеобщим принципом построения. Жи-
вописность достигала наибольшего развития в городах на сложном
рельефе, где искусственные особенности срастались с природными.
Для жизни средневекового города особое значение имел рынок:
к рыночным отношениям восходили правовые институты Средне-
вековья. В раннее Средневековье рынок располагался вне город-
ских стен; введенный внутрь, он стал главным узлом общественной
жизни, для которого создавалось обширное пространство главной
площади, к которой стягивались улицы. В близком соседстве с ры-
ночной площадью (но обычно в обособлении от нее) ставился со-
бор. По мере становления самоуправления городов, на рыночных
площадях появлялись ратуши. Все вместе было оживленным про-
странством человеческого общения.
Рыночной площади обеспечивалась замкнутость. Обстройка ее
была плотна и непрерывна. Улицы вводились в ее пространство
через углы, по касательным направлениям — тем самым обеспечи-
вался эффект неожиданности раскрытия пространства площади.
Это обеспечивало и безопасность при обороне от ворвавшегося в
город врага. Если улиц, ведущих к площади, было много, перед вы-
ходом к ней они собирались в пучки. С соборной площадью ры-
ночная часто соприкасалась одним из углов. Такой прием обычен в
Германии и Франции (Дрезден, Мейсен, Пирна, Наумбург, Монпа-
зье, Монтобан и др.). При этом массы собора включались в органи-
зацию асимметричной системы рыночной площади. Собственной
ее доминантой была ратуша, обычно увенчанная башней или вы-
сокой ажурной короной (Сина, Флоренция, Любек и пр.). Особое
значение ратуши могло подчеркиваться островным ее расположе-
нием — у одной из сторон площади, как в Таллине, или посредине,
как в Пирне. «Островком» обычно возвышалось и самое крупное
здание города — собор. Соборная площадь служила своеобразным
102
Раздел 4
открытым вестибюлем храма; поэтому она была более тесной, чем
рыночная (лишь перед главным входом в собор пространство
обычно несколько расширялось).
Пространства средневекового города не были только интерва-
лами между объемами зданий, неосвоенной пустотой. Они рассчи-
тывались на интенсивное заполнение; к их организации зодчие от-
носились очень внимательно. Интересно сравнить афинский Акро-
поль и Соборный холм в Эрфурте. Если на первом здания расстав-
лены как скульптуры, рассчитанные на круговое обозрение, то
сложные объемы эрфуртского ансамбля плотно заполняют вершину
холма. Лишь сужающийся тесный интервал, к которому устремлена
лестница, оставлен между собором и церковью Св. Северина. Мас-
сы, устремленные ввысь, несоразмерны узкому пространству, как
бы затягивающему человека; они подавляют и склон холма. При-
родное и человеческое подавлено торжественными символами не-
здешнего могущества. Пафос противопоставления земного и выс-
шей надмирной силы лежит в основе композиции, столь отличной
от жизнерадостной гармонии Акрополя.
В пределах живописности естественного, которую развивали
средневековые мастера, не возникает противопоставления геомет-
рических очертаний и очертаний «свободных» (т. е. подчиненных
закономерностям более сложным, чем элементарная геометрия).
Тот или иной характер очертаний определялся его уместностью.
Однако эпоха Возрождения увидела в самой элементарной пра-
вильности, сочетаемой со статичной симметрией, средство утвер-
ждения волевого начала, образа человека, подчиняющего себе мир,
и соответствие новому «перспективному» видению мира. Стала
осознаваться самоценность рукотворной формы. Идеальные проек-
ты городов, создававшиеся архитекторами итальянского Возрожде-
ния, во многом определялись инверсией, «выворачиванием наиз-
нанку» характерных свойств формы средневекового города. Слож-
ность, которая истолковывалась как «неправильность», противо-
стояла простоте элементарного геометрического чертежа; ориента-
ции на развивающуюся форму — завершенность; асимметрии —
торжество статичной симметрии.
Структура средневекового города рассчитана на восприятие в
движении и времени, но «идеальные» города обозримы с одной
центральной точки, куда сходятся радиусы-лучи. Пронизана этими
лучами и главная площадь, центр системы. Геометрия, сопряжен-
Уровни систем формообразования
103
ная с эстетическими пристрастиями, сопрягалась с геометрией
фортификаций. Форма, потерявшая символичность, требовала ре-
альных обоснований.
Европейский романтизм второй половины XIX в. включил в
свои притязания возврат к красоте городского окружения, угасав-
шей в торопливом механическом разрастании безликой ткани, ко-
торым сопровождался ранний этап урбанизации в европейских
странах. Рутине планировки, основанной на механическом исполь-
зовании геометрии прямого угла, романтики противопоставляли
естественность ткани средневековых городов. Оппозицию сводили
к формальным понятиям, противоположности «регулярного» и
«живописного». В упрощающихся противопоставлениях стирались
подлинная сложность и богатство «живописного», а регулярность
отождествлялась с механистической выхолощенностью, рутиной,
чуждой живой красоте. Противопоставление надолго закрепилось в
сознании, соединяясь с различными дополнительными мотивами, в
частности, связываемыми с идеями национального характера куль-
тур. В числе производных от него конкретных оппозиций было со-
поставление пространственных структур Санкт-Петербурга и Мо-
сквы и тех образов, которые они несут.
Примечания
1. ВернанЖ. П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. С. 67.
2. Lloyd S., Miller Н. W, Martin R. Ancient Arhcitccturc. N. Y., 1974. P. 331.
3. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. Т. 1. С. 347.
4. Танге К. Архитектура Японии. Традиции и современность. М., 1976.
С. 29.
5. Конрад Н. И. Очерк культуры средневековой Японии VII-ХVI веков.
М., 1980. С. 119.
Раздел 5
Модели архитектурного
пространства в истории культуры
Исследование архитектурного пространства
как интегральной формы выражения сущности
культуры времени
Человеческие сообщества в каждый период своего историче-
ского бытия создают и моделируют системы организованных про-
странств, обеспечивающие бытование принятых ими моделей жиз-
неустройства. При этом архитектура формирует не только матери-
альные оболочки, в которых локализируются процессы жизнедея-
тельности, но и «тексты», сообщения, закодированные специфич-
ным для нее языком форм, помогающие людям ориентироваться в
физическом пространстве и «пространстве культуры», закрепляю-
щие определенные системы идей и системы ценностей. Структури-
рование физического пространства сопрягается с овеществлением
идеальных представлений, выстраивающихся в духовном мире че-
ловека. Форма, входящая в материально-пространственное окруже-
ние, среду жизнедеятельности, в своем становлении в той или иной
степени подчиняется идеальным представлениям людей и законо-
мерностям выражения этих представлений.
Тривиальная метафора «город — летопись в камне» точна в
том, что системы форм городской среды в своей совокупности об-
разуют специфический текст, несущий информацию о всем разно-
образии культуры данного общества. При этом наследие прошлого
образует в городской среде подобие геологических пластов, в син-
хронном существовании которых отражена смена времен, вре-
менное измерение бытия культуры. Присутствие в «тексте» город-
Модели архитектурного пространства в истории культуры
105
ской среды пластов, связанных с различными периодами историче-
ского времени, делает его воплощением непрерывности человече-
ской культуры, а связь прошлого, настоящего и будущего — одной
из главных тем.
Вместе с развитием, продолжением текста этой летописи, на-
ращивается ее общая сложность; интерпретация содержания в це-
лом также меняется, поскольку зависит от актуальной культуры,
принятых ею ценностей, идей, которые в ней функционируют, ее
мифов. Интерпретации многослойного и многомерного «текста»
городской среды проецируются на ее составляющие, возникавшие в
конкретных исторических условиях, несущие свои культурные зна-
чения, подчиненные своим особым закономерностям построения
художественного текста. По сути дела текст «каменной летописи»
города складывается в сочетании живого языка актуальной культу-
ры и мертвых языков, структуры которых наполняются новыми
значениями; последние подчас непросто отделить от изначальных и
сопоставить с ними.
Трудность восприятия смысловой нагрузки пространственной
архитектурной формы определяется и тем, что ее «знаки» неотде-
лимы от элементов, практически организующих процессы жизне-
деятельности. Включенность в эти процессы, органически впле-
тенные в повседневность, как бы растворяет значения архитектур-
ной формы в обширных жизненных контекстах. Уже поэтому адек-
ватный перевод этих значений в иные коды (и, в частности, созда-
ние их эквивалентов средствами естественного языка) весьма за-
труднителен. Тем самым побуждается стремление интерпретиро-
вать значения архитектурно-пространственных форм среды с по-
мощью методов и понятийного аппарата точных наук — математи-
ки, струкгурной лингвистики, семиотики, теории информации.
Отправной точкой развития семиотических методов иссле-
дования моделей архитектурного пространства стала метафора,
использованная швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром, осно-
воположником семиотики, для пояснения одной из своих идей. Он
писал, что каждый элемент языка подобен ^олонне в античном
храме; эта колонна, с одной стороны, соотносится с другим час-
тями здания, как, например, с архитравом, который поддерживает;
с другой стороны, если это колонна дорическая, она вызывает
сравнение с другими архитектурными ордерами, например, иони-
ческим или коринфским, которые не присутствуют в данном про-
106
Раздел 5
странстве. Первое отношение в сфере языка — синтагматическое,
второе — ассоциативное, или, как стали называть позднее, пара-
дигматическое1.
В 1960-е гг. французский антрополог К. Леви-Стросс, как бы
переворачивая мысль де Соссюра, стал пытаться раскрыть содер-
жательность пространственных форм среды и закономерности их
организации через аналогии с естественным языком, проецируя на
них понятия лингвистики. Предметно-пространственная среда рас-
сматривалась при этом как система знаков, существующих син-
хронно и воспринимаемых вне фиксированной временной последо-
вательности. Принципы, предложенные Леви-Строссом, получили
развитие в исследованиях архитектурной формы Дж. Бродбентом,
Ф. Шоэ, У. Эко2. Ф. Шоэ использовала семиотические методы для
анализа исторического материала в труде, освещающем историю
градостроительства XIX в.3, У. Эко выступил с серией статей, по-
священных анализу формы ключевых произведений архитектуры
итальянского Ренессанса, отыскивая новые грани в хорошо из-
вестном.
Надежды на то, что методы семиотики, внедрявшиеся в исто-
рико-архитектурные исследования, откроют некие тайны формооб-
разования, не оправдались. Сложные логические процедуры завер-
шались тривиальными выводами, которые могли быть достигнуты
и чисто традиционными рассуждениями. Несомненно, что про-
странственные структуры, создаваемые архитектурой, можно рас-
сматривать как особую систему знаков — специфический язык,
имеющий свою семиотику и свой синтаксис. Аналогии с естест-
венным языком имеют, однако, свои жестко ограниченные пределы.
Языку пространственных форм присущи и принципиальные отли-
чия от естественного языка. Прежде всего, значения форм среды
(«знаков» языка архитектуры) зависят от их взаимодействий в сис-
теме — причем не только объекта, произведения архитектуры, но и
более широкого контекста, включающего системы жизнедеятельно-
сти, культуры, субъектно-объектных (ценностных) отношений. Од-
ни и те же пространственные очертания могут быть связаны с раз-
личными значениями в зависимости от места в связях пространст-
венной структуры, системе жизненных процессов и эмоциях, кото-
рые им сопутствуют. Так, крестовый свод мог восприниматься ме-
тафорой неба в системе готического храма, но не в перекрытии
подвалов под купеческим домом.
Модели архитектурного пространства в истории культуры
107
Ч. Дженкс показал различие между элементами архитектуры,
ее знаками, и словами естественного языка на примере такого
элемента, как колонна. «Колонна в колоннаде здания — одно, ко-
лонна Нельсона на Трафальгарской площади — другое, колонны
дымовых труб электространции Беттерси в Лондоне — третье, а
проект А. Лооса на конкурсе „Чикаго трибюн“ (небоскреб в очер-
таниях дорической колонны. — А. И.) — четвертое... Если колон-
на — слово, то слово может стать фразой, сентенцией и даже не-
« 4
лои повестью» .
Использованный Дженксом пример не случаен — колонна
принадлежит наиболее устойчиво бытующим элементам архитек-
турного языка; она служит одной из конституирующих частей ар-
хитектурного ордера, наиболее устойчивой среди знаковых систем
архитектуры. По отношению к ней аналогия со словом естествен-
ного языка наиболее оправданна (не случайно именно колонну из-
брал Ф. де Соссюр, стремясь пояснить через аналогию лингвисти-
ческие понятия). Ордер — система абстрагированная, отвлеченная
от конкретности места и функционального назначения, казалось
бы, замкнутая в своих канонизированных внутренних соотношени-
ях. Но и она принимает на себя метафорические значения, завися-
щие как от строения формы произведения в целом, так и от его
культурного контекста.
Значения пространственных форм архитектуры допускают и
различные интерпретации, зависящие от культурной и социальной
принадлежности воспринимающего индивида в диапазоне несрав-
ненно более широком, чем это возможно для слов естественного
языка. На эти значения влияют также особенности личности этого
индивида и установка восприятия, определяемая ситуацией, — что
и вообще исключено для «единиц» естественного языка. Они, на-
конец, зависят и от деятельности, с которой связаны архитектурные
объекты, равно как и могут складываться или изменяться конвен-
ционально, по некоему соглашению между людьми, в соответствии
с общей для них установкой. При этом могут одновременно суще-
ствовать значения одной и той же формы, различные для разных
общественных групп. Так, заставы Парижа, кольцо которых в
1782 г. начал возводить К-Н. Леду, в представлении самого зодчего
были «пропилеями города», воплощающими его особый дух и
внушающими его приезжему. В глазах дворянства они были овеще-
ствлением начал порядка, символами абсолютистской государст-
108
Раздел 5
венности. Но «третье сословие» видело в них символы обремени-
тельных и несправедливых экономических ограничений, введенных
монархией (что и стало причиной уничтожения основной части
этих построек в годы Великой французской революции).
Будучи качественной тотальностью сложной природы, отме-
ченной экзистенциальной вовлеченностью в человеческие ситуа-
ции, пространственная форма в архитектуре не может быть описана
средствами аналитических «научных» понятий, сводимых в ней-
тральность «объективного» значения.
Несомненно, что вторжение в архитектуроведение методов
семиотики помогло дисциплинировать ее традиционные методики
и послужило стимулом к поиску новых, нетрадиционных. Но, по-
жалуй, не более того. Для реального продвижения в исследовании
проблем архитектурной формы, архитектурного пространства в их
сущностной специфике и генезисе, необходимо развитие метода,
отвечающее характеру предмета. Одно из направлений такого раз-
вития может дать феноменология, освобождающая от установки
на жесткое расчленение субъекта и объекта и позволяющая вклю-
чить в изучение проблем архитектурной формы, архитектурного
пространства, рефлексию творческого и воспринимающего созна-
ния, равно как и исследование структур человеческого существо-
вания. В отличие от рассудочных конструкций, тяготеющих к аб-
стракции, феноменология возвращает к объектам на их месте в
человеческом бытии; она позволяет увидеть их не только в само-
довлеющем физическом существовании, но и как предметы, мыс-
лимые в сознании5.
Экзистенциальная феноменология разрабатывает методики,
расширяющие спектр возможностей изучения предметно-простран-
ственной среды как составляющей ситуаций, в которые вовлекают-
ся люди в процессах жизнедеятельности. Позиция соучастия, пред-
лагаемая при этом, позволяет увидеть явления в ракурсах, наиболее
существенных для понимания их «человеческого» смысла. Таким
лишь образом можно увидеть отношения, устанавливающиеся ме-
жду человеком и миром материальных объектов, который он вокруг
себя создает и наполняет смыслом. Пространственные структуры
окружения в своей системности при осмыслении под таким углом
обнаруживают их обусловленность той формой «мужества быть
собой», которую они принимают и которая становится определяю-
щим началом в их образе действий6.
Модели архитектурного пространства в истории культуры
109
Для адекватного раскрытия содержания и «человеческого из-
мерения» формы памятников архитектуры прошлого, их простран-
ственных структур, полезным инструментом могут послужить ме-
тоды герменевтики, искусства понимания и истолкования текстов.
Эти методы могут дать основу для перевода смыслов произведений
зодчества прошлого на живой язык понятий актуальной культуры.
При этом они позволяют раскрыть не только предметное содержа-
ние конкретного произведения таким, каким оно виделось его соз-
дателям и современникам, но и свойства тех смыслообразующих
структур, которые были использованы7. Методы герменевтики от-
крывают возможность выявить синтаксические структуры специ-
фического языка архитектурно-пространственной формы, не навя-
зывая ему надуманные аналогии с естественным языком, как то де-
лает семиотика.
Какие бы приемы анализа архитектурной композиции и фор-
мирования архитектурного пространства не использовались, необ-
ходимой составной частью исследования остается историко-генети-
ческий метод. Выявление интегральной сущности архитектурно-
пространственной формы требует не только аналитического подхо-
да, но и рассмотрения ее в системе произведения и контекстах жиз-
ненных ситуаций, среды, культуры, исторического времени. Теоре-
тическому исследованию должно сопутствовать историческое, рас-
крывающее системно-ситуационные, экзистенциальные качества
архитектурно-пространственных структур.
Используем этот прием и мы в предлагаемой работе. Да, само
по себе его использование не представляет собою какой-то нова-
ции. Однако лишь теперь, после разрушения тиранического господ-
ства догм советской версии марксизма-ленинизма, стало возможно
для нас развитие исторического анализа, свободного от идеологи-
ческих клише и подчинения «священным текстам», предписанным
как истина в конечной инстанции. Только теперь мы можем исполь-
зовать всю широту методик, предложенных и опробованных науч-
ной мыслью, не замыкаясь на уровне догматизированных постула-
тов, заявленных в конце XIX в.
Рассмотрение некоторых моделей архитектурного пространст-
ва, связанных с ключевыми моментами истории зодчества, которое
мы приводим ниже, присутствовало как бы «за текстом» предшест-
вовавших разделов, образуя системное основание частных направ-
лений исследования. Здесь мы предлагаем его в системной целост-
но
Раздел 5
ности, используя методологические предпосылки, которым посвя-
щено начало данного раздела. Методика не претендует на завер-
шенность. Теоретические постулаты исследования определили мо-
дификацию подходов, традиционных для архитектуроведческого
анализа. Однако последовательное осознание генетических законо-
мерностей формирования архитектурного пространства еще оста-
ется целью на будущее. Оно требует не только изучения больших
массивов фактического материала, но и освоения тех мощных пла-
стов философской мысли, которые еще недавно были для нас не-
доступны.
Организация пространства
в древнейших культурах
Утверждение, что для понимания основных принципов формо-
образующей деятельности среди материала, предоставляемого ис-
торией, наиболее актуально изучение древнейших, «доисториче-
ских» культур, может показаться кокетливым парадоксом. Между
тем это действительно так. Конец XX в. — более чем какой-либо
другой период в развитии культуры — стал качественным рубежом,
на котором происходит пересмотр глубинных основ архитектурного
формообразования. Профессиональная культура, уже в начале века
расколотая столкновениями академизма и авангардизма, историзма
и «новой архитектуры», эклектики и модерна и рационализма, за-
мешанного на эстетике посткубизма, продолжала развиваться по
модели «расширяющейся Вселенной». Ее осколки разлетаются все
далее, «плюрализм» стал необратим. В то же время воспроизводст-
во профессии по-прежнему связано с ренессансно-академическими
концепциями композиции, принципы которой имеют за собой мощ-
ную традиционную основу, но несовместимы с реалиями актуаль-
ной культуры. Архитектор XX в. в развитии своей творческой ин-
дивидуальности вынужден повторять схему исторического процес-
са трансформации профессии на протяжении Нового времени. Тео-
рия архитектуры, чтобы обеспечить этот процесс, должна обра-
титься к первоосновам зодчества, к тем его началам, которые пред-
шествуют созданию языковых систем и стилей архитектуры Нового
времени.
На протяжении тех двух-трех миллионов лет, которые предше-
ствуют сложению рефлектирующих «исторических» культур, фик-
Модели архитектурного пространства в истории культуры 111
сировавших этапы своего развития письменностью, человечество
накопило мощные слои коллективного бессознательного, наследуе-
мого и не зависящего от личного опыта. Идентичное у всех людей
оно основывается на системе архетипов, древнейших всеобщих
образов. Их бессознательное содержание может непосредственно
проявляться лишь в сновидениях. Архетипы сами по себе остаются
гипотетическими недоступными для созерцания образами. Но
проникая в слои индивидуального сознания, они оказывают значи-
тельное, хоть и трудно поддающееся рефлексии, влияние на фор-
мирование ценностных предпочтений и языковых структур8. Сис-
тема архетипов определяет не только фундаментальную основу
любых архитектурных языков, но и образование ценностных пред-
почтений, в большой мере направляя субъективную составляющую
субъектно-объектного отношения, в котором возникают специфи-
ческие свойства архитектуры.
Древнейшие культуры доклассовых сообществ (как и совре-
менные нам культуры некоторых племен, не вошедших в орбиту
мировой цивилизации) в неспешном темпе своего развития не
только накапливали психические данности коллективного бессоз-
нательного, но и предлагали их интерпретацию в образах мифов и
пространственных структур рукотворной среды. Бессознательное
содержание в деятельности древнейших культур воплощалось, та-
ким образом, с относительной непосредственностью, его измене-
ния под влиянием индивидуального опыта не заходили далеко. Уже
это определяет для нас интерес и актуальность обращения к насле-
дию древнейших культур. Интересно и то, что было на самых ран-
них этапах формирования рукотворной среды обитания и становле-
ния архитектуры. Принципиальная важность для нее субъектно-
объектных отношений выступала с особенной очевидностью (заме-
тим, что известные суждения классиков марксизма о том, что уст-
ремление к неким духовным началам в деятельности людей воз-
можно лишь после удовлетворения их чисто утилитарных потреб-
ностей, не подтверждаются историческим материалом).
Пространственные формы окружения на ранних стадиях разви-
тия цивилизации принадлежали к главным средствам закрепления
и передачи информации, позволяющей человеку ориентироваться в
мире, выбирать типы поведения и деятельности. Сообщения, зако-
дированные средствами языка архитектуры, в древнейших цивили-
зациях обладали особой значимостью, поскольку не дублировались
112
Раздел 5
другими каналами коммуникации. Соответственно, чистоте приме-
нения правил кодирования уделялось особое внимание.
Таким образом, обращение к самым ранним стадиям развития
систем архитектурной формы позволяет осмыслить многие ее со-
держательные аспекты, бытующие и поныне, но как бы стершиеся,
потерявшие отчетливость в сфере сознания и рефлексии. Реконст-
рукция образов-архетипов позволила бы расшифровать, казалось
бы, немотивированные, но вполне отчетливые предпочтения, фик-
сируемые психологией восприятия и аксиологией. «Реликтовые
значения», которые несут пространственные формы среды, зани-
мают и сегодня немалое место в нашем сознании. К тому же, их
расшифровка приблизила бы и к пониманию общих механизмов
кодирования культурных значений языком архитектуры. Жаль, од-
нако, что возможность такого «прочтения» весьма ограничена,
«тексты» сохранились отрывочно, неполно, вне тех содержатель-
ных систем, в которых они бытовали. «Дописьменные» культуры не
оставили нам и материалов, косвенно помогающих расшифровке и
пониманию. И все же наметим некоторые общие характеристики
древнейших структур языка пространственной формы, связанные с
миропониманием и деятельностью людей древнейших цивилизаций.
Язык среды, язык пространственных форм складывался для
них на многих уровнях организации пространства — от территории
обитания в целом и устройства поселений до структуры отдельных
построек, их декорации и вещного наполнения. Мы можем судить о
самых общих закономерностях его структурной организации не
только по немногим (как правило, разрозненным) следам древней-
ших поселений, но и по культуре народов, сохранивших до нашего
времени доклассовую общественную структуру при достаточно
высокой степени экономической и социальной независимости по
отношению к другим обществам. Таковы отдельные племена ин-
дейцев Южной (а еще в прошлом столетии — и Северной) Амери-
ки, народы Океании, некоторые африканские племена, а отчасти и
аборигены Австралии, Новой Зеландии.
Искусственные элементы, вводившиеся людьми древнейших
культур в природное окружение, количественно были несопостави-
мы с последним. Однако организация жизни человеческих сооб-
ществ требовала точного определения каких-то мест в пространст-
ве и закрепления в памяти отношений между ними (например, мест
удачной охоты, источников воды и путей, ведущих к таким местам).
Мололи архитектурного пространства в истории культуры 113
Инструментом для этого становился миф. Ио мифы, как подчерки-
вал К. Г. Юнг, были формой выражения архетипов коллективного
бессознательного8. Прежде всего, они выражали глубинную суть
человеческой души, к движениям которой люди приспосабливали
свой опыт. «Все мифологизированные естественные процессы, та-
кие как лето и зима, новолуние, дождливое время года и г. д. не
столько аллегория самих объективных явлений, сколько символи-
ческое выражение внутренней и бессознательной драмы души. Она
улавливается человеческим сознанием через проекции, т. с. будучи
отраженной в зеркале природных событий. Такое проецирование
лежит у самых оснований, потому потребовалось несколько тыся-
челетий истории культуры, чтобы хоть как-то отделить проекцию
от внешнего объекта»9.
Миф, выступавший как основной способ понимания мира, по-
лучал при этом мнемоническую функцию. Он должен был не толь-
ко напоминать о задачах наступающего периода при смене сезонов,
но и закреплять в сознании структуру территории, на которой оби-
тала группа людей. Конкретные приемы запоминания облекались в
форму антропоморфных мифических моделей окружения — от
территории в целом до организации жилища. Охотники и собирате-
ли стремились визуализировать территорию, соединяя ее с образом
героев-созидателей и древнейших предшественников, наделяя ее
распознаваемые части человеческими значениями. «Иногда это
космический создатель, который связывает вместе землю и небо, и
части его тела идентифицируются с выделяющимися особенностя-
ми ландшафта — холмами, реками, скалами — которые могут быть
осознаны примитивным умом как взаимодействующие... В симво-
лической конструкции, создаваемой племенем, кланом, социальное
целое представало в облике предшественника данной культуры.
Населенный архипелаг интерпретировался как части тела изна-
чального гиганта. При этом причинная связь заменяла органиче-
ское единство», — так реконструировал древнейшие образы про-
странства Э. Гуидони10.
Антропоморфная метафора помогала дать некое объяснение
связи между природным и обжитым, «человеческим» пространст-
вом. Она служила и для того, чтобы увязать между собой на основе
символических терминов все структурные составляющие, которые
социум вводил в среду своего обитания, — поселения, жилые и хо-
зяйственные постройки, ограждения. Территория, на которой оби-
9 Зак. 303
114
Раздел 5
тало племя или клан, приравнивалась к его дому, а сам дом рас-
сматривался как искусственное тело и вместе с тем образ социума и
его окружения.
В культурах, сохранивших до нашего времени уровень древ-
нейших цивилизаций, можно проследить все уровни системной ор-
ганизации пространственной среды, подчиненной структуре и об-
разам мифа. Так, антропоморфные или зооморфные ассоциации
связывают интерпретацию структуры территории, организации жи-
лища и почти скульптурных форм глиняных зернохранилищ народ-
ности фали, поныне обитающей в Камеруне. При этом части жи-
лища, отождествляемые с частями человеческого тела, образуют
функциональное, но не обязательно пространственное целое —
круглые в плане хижины соединяют воедино ограда и выровненная,
покрытая циновками земля дворика. Антропоморфный или зоо-
морфный характер получает и декорация. Двухэтажные жилища
народности догоп, обитающей в верховьях Нигера (Мали), в своей
пространственной организации сочетают многозначную — антро-
поморфную и космогоническую — символику. Органичность очер-
таний конструкции, как бы вылепленной из глины на деревянном
каркасе, равно как и декоративно-символические росписи, облег-
чают прямое восприятие ассоциаций, заложенных в структуру це-
лого11. Вместе с тем предпочтение, отдаваемое отдельным элемен-
там человеческого тела (например, голове) в символической струк-
туре, служило оправданию реальной иерархии отношений в социу-
ме. «Голова» в системе поселка была жилищем вождя или рода,
доминирующего в племени, в пределах дома — местом, принадле-
жащим главе семейства. Архетип позволял развивать множество
интерпретаций, не затрагивавших его основное содержание. Изме-
няющийся, варьируемый, он все прочнее укоренялся в «коллектив-
ном бессознательном», на этом уровне направляя конкретные про-
цессы образования значений и структурирования формы.
Древний архетип, отождествлявший внутренние структуры че-
ловеческой души и структуры окружения, проступает за устойчиво
сохраняемым фундаментальным принципом распространения субъ-
ектно-объектных отношений ценности на среду жизнедеятельно-
сти, за значимыми и для современного человека формами регуля-
ции пространственных контактов, персонализацией пространства.
Выражением подсознательного присутствия этого архетипа были
антропоморфные структуры, вполне осознанно развивающиеся в
Модели архитектурного пространства в истории культуры
115
архитектурной античности. Они продолжали бытовать в европей-
ской культуре Средневековья (при более высокой степени абстра-
гированное™ их формы). В Новое время они также сохранялись,
хотя и воспринимались уже как некие приемы гармонизации, вос-
ходящие к античности, а их знаковая функция оказалась забытой.
Люди древних культур непосредственно воспринимали изобра-
зительно-символические двухмерные формы очень крупного мас-
штаба, расположенные на обширной территории и не охватывае-
мые глазом с каких-то реально существующих точек зрения. Это
показывают громадные символические рисунки и чертежи, нане-
сенные на поверхность земли, которые сохранились в различных
частях планеты. В нашем веке увидеть и воспринять их в целом
стало возможно с летательных аппаратов — наблюдатель на уровне
земли воспринимает лишь несвязанные лишенные значений фраг-
менты формы. Функция этих гигантских символов неясна. Наи-
большей известностью среди таких рисунков пользуется «Белая
лошадь из Уффингдона» (Великобритания, Беркшир, I в. до н. э.).
Условный, вытянутый силуэт длиной около 150 м образован на
склоне мелового холма путем удаления растительного слоя. Много-
численные абстрактные геометрические фигуры и схематические
изображения величиною в десятки и сотни метров сохранились на
бесплодной поверхности не знающего дождей каменистого плато
близ южного побережья Перу. Они принадлежат исчезнувшей куль-
туре Наска, расцвет которой приходился на I—VIII в. н. э. Идео-
граммы животных, птиц, растений, образованные рядами камней и
заглубленными бороздами, схожи по стилю с миниатюрными ри-
сунками на керамике, принадлежащей той же культуре. Подобные
сверхчеловечески крупные символы в 1980 г. обнаружены на плато
Устюрт в Каракалпакии; их предположительно относят к VII—VIII вв.
Люди в то время могли как-то воспринимать форму, которую не
могли увидеть как целое и осознавать ее символическое значение,
суммируя фрагментарно увиденное или основываясь на двигатель-
ных ощущениях (стремление восстановить такую способность у
современного человека утверждается как один из мотивов привер-
женцами так называемого искусства среды).
Можно полагать, что прямое восприятие очертаний, недоступ-
ных в целом для единовременного визуального наблюдения, было
связано с дифференцированностью пространственных представле-
ний. Ближнее пространство, находящееся в зоне прямых чувствен-
9*
116
Ра злел 5
пых контактов, воспринималось и осознавалось как трехмерное, но
далее оно мыслилось простирающимся только в двух измерениях.
Оно познавалось, прежде всего, через преодоление путей, проло-
женных по поверхности земли, с двухмерностью которой связана
организация жизни человека. Двухмерность представления об уда-
ленных пространственных зонах присуща и сознанию современно-
го человека, но уже стертой, рефлексируемой с некоторым напря-
жением. В символике изображений, дошедших от древнейших
культур, это свойство выступает с полной очевидностью. В средне-
вековой живописи стремление зафиксировать трехмерность ближ-
них, «объектных», планов сочеталось с плоскостной трактовкой
дальних планов и обширных панорам.
По мере развития земледелия и усложнения общественных
структур символическое соотнесение форм окружения со структу-
рами человеческого духа и мифологией сменялось космологиче-
скими значениями. М. Элиаде приводит пространный перечень
«небесных архетипов» территорий, городов и храмов в архаическом
сознании. «На горе Синай Иегова показывает Моисею „образец44
святилища, которое тот должен для него построить: „Все, как Я по-
казываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и
сделайте44 (Исход, XXV, 8-9). „Смотри, сделай их по тому образцу,
какой показан тебе на горе44 (Исход, XXV, 40). И когда Давид дает
своему сыну Соломону план постройки храма, скинии и всех со-
судов ее, он заверяет его, что „все сие в писании от Господа...44
(Кн. Паралипоменон, 1, XXVIII, 19)»12. По Библии Бог сотворил
небесный Иерусалим до того, как город Иерусалим построен рука-
ми человека (прекраснейшее описание небесного Иерусалима со-
держит Апокалипсис — XXI, 2 и сл.). В созвездиях находили архе-
типы вавилонских городов, по плану, «определенному расположе-
нием звезд на небе», строилась Ниневия. По мифическому образцу
небесного города, где в «золотом веке» обитал Владыка Вселенной,
строились индийские города. Мир, окультуренный человеком, об-
ладал ценностью лишь благодаря внеземному прототипу, послу-
жившему моделью.
Территория, занятая и обживаемая, предварительно превраща-
лась из «хаоса» в «космос», ритуалом придавались ей сакральность
и некая форма, не только отражавшая представление о космическом
архетипе, но и заключавшая в себе программы жизнедеятельности.
Отсюда берет свое начало линия, развивавшаяся в символизме про-
Модели архитектурного пространства в истории культуры
117
странственных форм городского окружения. Его первообразы в ор-
ганизации древнейших поселений сохранились лишь фрагментарно
и наши суждения о них в основном гипотетичны. Об их системе,
однако, можно судить по поселениям племен, первобытно-
общинный строй которых продолжает существовать (или сущест-
вовал до недавнего времени).
Символом, объединяющим все прочие значения, становился
круг — воплощение небесного круга. Характерны описанные в
прошлом веке лагеря индейцев-чайенов, обитавших на современ-
ной территории США. Их вигвамы располагались концентриче-
скими кольцам и вокруг открытого пространства, центр которого
отмечала большая палатка совета племени. Форма поселения, объе-
динявшего до тысячи жилищ, прочитывалась как «общий дом»
племени и как аналогия небесного свода (многочисленные вигвамы
сравнивались при этом со звездами). Разрыв кольца обращен к вос-
ходу солнца в день летнего солнцестояния. Ось, направление кото-
рой определено разрывом, делила лагерь и его население на две
равные части13. Такое разделение связывалось с мифом о божест-
венных близнецах-прародителях, воплощении противоположных
начал, объединенных в неразделимую пару (архетип мифа, общий
для многих народов, с которым связан, например, миф о Ромуле и
Реме, основателях Рима). От архетипа, воплощавшегося в близнеч-
ных мифах, ведет происхождение та исключительная роль, которая
и в наше время придается симметрии в организации пространст-
венной формы.
К. Леви-Стросс показал социально-функциональную роль сим-
волики, связанной с пространственной организацией поселения для
организации жизни первобытных человеческих сообществ. Он ис-
следовал деревни индейского племени бороро, обитающего в
джунглях центральной Бразилии. Схема их плана напоминает очер-
тания колеса, обод которого образуют семейные дома, спицы —
дорожки, сходящиеся к дому холостых мужчин, стоящему в центре.
Место хижины в кольце застройки и положение по ту или другую
сторону оси восток—запад определяли многие важные моменты
общественного поведения члена общины, включая выбор невесты;
планировка с ее символическими значениями как бы автоматически
регулировала отношения внутри племени. Когда затерянное среди
тропических лесов племя было обнаружено, индейцы упорно со-
противлялись попыткам включить их в систему чуждой им цивили-
118
Раздел 5
зации. Они, однако, стали легко поддаваться ассимиляции, будучи
переселены в деревни с иной планировкой. Племя при этом лиша-
лось материальной памяти, хранившей информацию о традицион-
ных формах поведения и внутренних отношений14.
Вряд ли чем-то иным, кроме социокультурной функции симво-
лической формы, можно объяснить устойчивость традиции кольце-
вой планировки, которой придерживались протославянские племе-
на Восточной Европы и к которой обратились славяне. Сложившая-
ся в древнейших земледельческих поселениях региона, она стала
затем своего рода генетическим кодом пространственной организа-
ции городского плана и первообразом центральной площади древ-
нерусского города.
Древнейший этап развития этой традиции связан с культурой
земледельцев эпохи энеолита начала III — первой четверти II ты-
сячелетия до н. э., так называемой трипольской культурой, кото-
рая распространялась между Карпатами и Днепром, вписываясь в
пределы вероятной прародины славян. Трипольская культура ос-
тавила следы множества поселков с кольцевым планом, распола-
гавшихся на высоких плато. В 1930-е гг. изучено трипольское се-
ление на Киевщине, названное «Коломийщина-1». Его площадка
охвачена почти правильным кругом с диаметром 160-170 м, по
которому расположено 30 жилищ. Внутри группа домов намечала
еще один круг. Свободная площадка посередине служила для за-
гона скота и совершения ритуалов. Первоначальное ядро таких
поселений разрасталось концентрически — самый крупный посе-
лок трипольской культуры у села Владимировка в бассейне Юж-
ного Буга имел пять концентрических кругов застройки при диа-
метре внешнего кольца около 900 метров15. На позднем этапе три-
польской культуры (2100-1700 до н. э) периметр поселений за-
щищали рвом и валом.
Можно полагать, что центрическое очертание трипольского се-
ления с его ритуальным ядром отражало модель Вселенной в пред-
ставлении обитателей. Космогонические мифы трипольцев нам не-
известны, но предположение подтверждается орнаментами на ке-
рамике с характерными солярными символами и идеограммами.
Когда в XVII-XV вв. до н. э. между Днепром и Одером праславяне
обособились от общего индоевропейского массива, они, как полагает
Б. А. Рыбаков, «могли и должны были впитать ряд земледельческих
аграрно-магических представлений трипольских племен»16. Тради-
Модели архитектурного пространства в истории культуры
119
ция при этом воспроизводилась не через прямое следование образцу,
а через мифопоэтический образ. Следуя этой традиции, получали
основные черты древней центрической модели и укрепленные по-
селения славян. Ее символическую значимость подкрепляет рас-
пространенность круга там, где символичность формы не вызывает
сомнений: в очертаниях площадок ритуальных костров, жертвенни-
ков, святилищ. Круговые очертания имели древние славянские ка-
лендари, круг служил основой солярных знаков.
О конкретной форме древнейших поселений, определившей
традицию, устойчиво сохранявшуюся и повлиявшую на форму
средневекового города, у нас нет достаточно полной информации.
Однако вместе с традициями общинной организации крестьян тип
центрического плана унаследовали русские села — центры групп
земледельческих поселений, складывавшихся в Волго-Окском меж-
дуречье в XVI-XVII вв. Они выделялись среди малых рядовых по-
селений — деревень, обычно имевших линейную планировку, — нс
только величиной, но и пространственной структурой, организо-
ванной вокруг внутреннего пространственного ядра, символа един-
ства крестьянской общины. И не случайно в конце XVIII в. в Рос-
сии, после крестьянской войны, возглавленной Пугачевым, госу-
дарственная администрация осуществила последовательную пере-
планировку сел с кольцевым планом, уничтожая древний простран-
ственный символ.
Отражение кольцевых очертаний древнейших поселений про-
сматривается уже в Средние века в структуре кремлей некоторых
русских городов — как, например, Переславля-Залесского или
Юрьева-Польского. Им определена и характерная структура специ-
фических площадей с главным зданием, которое стоит «островом»
посреди открытого пространства. Влиянием древнего архетипа ока-
залась определена и особая символическая роль крупного открыто-
го пространства (позднее такую роль стали отождествлять с пре-
стижностью).
Возникновение древнейших городов и городской культуры вы-
вело на новый уровень проблемы формирования пространства и
искусственной среды; вместе с ним возникли и новые ряды симво-
лов, связанных с космогоническими представлениями. Воспроизве-
дение в структуре среды структуры Вселенной казалось залогом
участия высших сил в судьбах города, их покровительства. При
этом создавались уже трехмерные схемы мыслимого космического
120
Раздел 5
порядка, в которые вовлекалось представление о строении космоса
но вертикали и противоположности верха и низа (иерархия небес-
ного, земного и подземного миров, противопоставленных по при-
знаку «верхний — нижний»).
Особую значимость получала при этом архитектоническая
символика центра. Именно здесь предполагалась возможность про-
рыва уровней космоса, связи между ними вдоль центральной оси.
Наделенный высшей священностью, центр становился местом при-
тяжения, значимость которого отчасти переносилась и на подводя-
щие к нему пути. Совершение необходимых ритуалов освящения
участка земли превращало его в «центр мира» (так же как время
ритуала считалось совпадающим с мифическим временем «нача-
ла»). Конкретное время проецировалось в мифическое время оно,
время основания мира, и таким же образом конкретное мирское
пространство преобразовывалось в сакральность центра.
Становясь Осью мира (Axis Mundi), центр поселения или храм
принимал на себя функцию связи между Небом, Землей и Адом. Эта
связь должна была получить архитектоническое овеществление —
такая связь воплощалась в образе Священной горы, где встречают-
ся Небо с Землей, столпа или Мирового древа. Функции Священ-
ной горы принимал на себя храм или дворец. В верованиях Двуре-
чья Небо, Землю и различные территории соединяет «Гора стран».
Как ее воплощение создавался зиккурат, семь этажей которого
представляли семь небес, соответствующих семи планетам (зикку-
рат в Борсиппс) или семи цветам мира (зиккурат в Уре). Среди мно-
гих названий Вавилона — «Связь Неба с Землей»17.
Дополнением символики Мировой горы служила символика
Мирового древа. Монголы представляли себе Мировую гору как
четырехгранную пирамиду с Мировым древом в центре. Но симво-
лика Древа — не только Ось мира и связь его уровней. Оно пред-
ставляет Вселенную в ее развитии и постоянном возрождении, ис-
точник мировой жизни, ярусы его кроны символизируют звездные
уровни небес. Оно — древо жизни и бессмертия, живущее и даю-
щее жизнь. Перечисление сюжетов, связанных с образом Мирового
древа у разных народов, могло бы заполнить обширный каталог
(священный ясень Иггдрасиль — «Древо предела», связывающее
землю людей, Митгард, с небом, Асгардом, и подземным миром в
скандинавской эдичсской мифологии; столп Ирминскуль в мифоло-
гии саксов, древо Замбу, корни которого уходят в подножие горы
Модели архитектурною пространства в истории культуры
121
Сумер, а крона раскинулась над сс вершиной — в монгольском
эпосе, древо Сакаки в японском мифе, райское дерево Вырий, бере-
за, дуб, сосна в славянском фольклоре — перечень можно было бы
продолжать очень долго).
С идеей Axis Mundi связывалась основная схема упорядочения
пространства древнейших городов. От этой оси по четырем на-
правлениям — странам света, определяемым движением солнца,
луны и светил небосвода, — брали начало ветви креста главных
горизонтальных осей. Особое значение, придававшееся этому кре-
сту, побуждало подчинить направлениям его ветвей всю систему
расчленения пространства. Таким образом, складывалась прямо-
угольная сетка планировки улиц. Общность фундаментальных ар-
хетипов вела к тому, что прямоугольные сетки, расчленяющие тер-
риторию, возникали в поселениях многих культур. Причем общ-
ность приема не определялась переносом образца; аналогичные
структуры возникали и в культурах, разделенных как пространст-
вом, так и временем, не имевших контактов между собой. Прямо-
угольные планировочные сетки складывались в городах Древнего
Египта, Месопотамии, долины Инда, равно как и в городах Цен-
тральной Америки доколумбовых времен, вне каких-либо связей с
культурами Старого Света. Независимо сложившаяся в Китае, идея
была занесена в Корею и Японию. Ее разработка в античной Гре-
ции, а затем в Римской республике и империи положили начало не-
прерывной традиции регулярного градостроительства на Европей-
ском континенте.
До нашего времени дошла и традиция, основанная на архетипе
Мирового древа, изначально получившем архитектоническое во-
площение в вертикальных объемах, акцентирующих как центр, так
и другие ключевые позиции пространственной организации город-
ских организмов. К сооружению высокому, форма которого создает
впечатление динамичного устремления по вертикали, и современ-
ные люди, подчиняясь импульсу коллективного бессознательного,
относятся по-особому, видя в нем знак исключительности места, с
которым оно связано, и его исключительной социальной роли.
Вполне естественным был во время конкурса на Дворец Советов в
Москве (1932-1934) выбор некомпетентного жюри. Для утвержде-
ния утопической системы идей форма, динамично устремленная по
вертикали, психологически несомненно могла стать более действен-
ной, чем статичные объемы, не драматизирующие вертикальную ось.
8 Зак. 303
122 Раздел 5
В древнейших кулыурах символическая функция пространст-
венной формы реализовалась, прежде всего, в организации макро-
пространств территории жизнедеятельности племени и террито-
рии поселения. Но, как и антропоморфная символика, космологи-
ческие символы вошли в организацию микромира жилищ. Струк-
турообразующую роль играла символика оси, центра мира. Она
связывалась с архетипами антропоцентрического восприятия, ста-
новясь для человека нулевой точкой отсчета в переживаемом, экзи-
стенциальном пространстве. Образ дома как центра мира стал од-
ним из наиболее устойчивых (его роль в сознании современного
человека исследовали Бол нов и Башляр).
Элементом, отмечающим эту ось, мог стать столб, опора цен-
трической формы шатра, получивший сакральное значение — как в
жилищах гувинцсв, устраивавших каменный жертвенник у его под-
ножия. Подобное отношение к центральной опоре шатра М. Элиаде
считал характерным для народов арктической зоны, аборигенов
Северной Америки, кочевников-скотоводов Центральной Азии18.
У последних, однако, вместе с переходом от конических шатров к
юрте с куполом сферического очертания мифическая функция
«столпа» перешла к отверстию в зените, через которое выходит на-
ружу дым очага. Очаг принимал на себя роль символизации центра
в древних формах восточно-славянского жилища. Осью микрокос-
ма жилища присредизсмноморского типа, иптравертная модель ко-
торого определилась к концу III тысячелетия до н, э. в Месопота-
мии и долине Пила, стал замкнутый внутренний дворик, куда об-
ращены помещения.
Жилище в древнейших культурах формировалось простейши-
ми оболочками. Значения пространственных форм связывались с их
экзистенциальным наполнением и простейшими ассоциациями с
мифопоэтическим текстом, иногда конкретизировались знаками,
входившими в систему декора. Осмысление возможностей архитек-
тонической организации пространственной формы выражения
смысловых значений связывалось с сооружениями, объединявшими
вокруг себя социум поселения — святилищами, погребальными
монументами.
Значения, выходившие за пределы прямых практических по-
требностей, овеществлялись в устойчивых массах материала, ста-
бильность которых обеспечивалась самой их громадной тяжестью.
Первоосновой архитектонической символики — и собственно ар-
Модел и архи тек i урн ого прост ранет на в и с i ори и кул ь / уры 12 3
хитектуры — было развитие чувства порядка. Его фундаменталь-
ные начала — вертикаль в ее отношении с горизонтальными плос-
костями, а также взаимосвязи соседствующих масс. Эмоциональ-
ное восприятие отношений материальных элементов и организуе-
мого ими пространства, развитие символических значений, связан-
ных с отношениями «масса — пространство», было уже следую-
щей, более высокой ступенью развития восприимчивости и знако-
вых функций пространственной формы.
Зигфрид Гидион выделил гри основных концепции архитектур-
ного пространства, основанных на организованных соотношениях
горизонтали и вертикали, масс и интервалов между ними: ^архи-
тектура как объем, от которого исходит некая радиация (иначе —
массы, формирующие вокруг себя пространственные ноля); 2) ар-
хитектура как интерьер, пространство, ограниченное организован-
ными массами; 3) архитектура как взаимодействие объема и ин-
терьерного пространства19. Было бы некорректным упрощение (на
которое идут, однако, некоторые исследователи) пытаться выстро-
ить схему развития архитектуры, основываясь на предположении о
последовательном чередовании этих концепций. Несомненно, что
первая из них имела преобладающее значение на ранних этанах
развития зодчества — начиная от древнейших культур и до грече-
ской античности, где она получила свое наиболее совершенное во-
площение. Вторая концепция получила широкое распространение и
последовательное развитие в архитектуре Рима и европейской тра-
диции, которой дала начало римская античность (впрочем, господ-
ство ее не было абсолютным; точнее говорить о се преобладании
при сохранении и первой концепции). Третья концепция, полно-
ценно реализованная лишь на рубеже XIX и XX вв., развивалась, не
подавляя первых двух. Если же принимать во внимание «исключе-
ния», не становившиеся распространенными, картина еще сложнее
(можно, например, отметить явления, отвечающие «второй концеп-
ции», возникшие в зодчестве древнейших цивилизаций, а также
некие явления переходного характера и гибриды). И совсем не по-
лучается последовательной смены концепций, если рассматривать
процесс исторического развития архитектуры не на одном лишь
европейском материале (так, архитектура Японии уже в XVII в.
создавала объекты, свойства которых совпадают с признаками
третьей концепции архитектурного пространства по Гидиону).
Впрочем, если не строить предвзятых схем, выделение трех кон-
8*
124
Раздел 5
цепций по Гидиону дает полезные ориентиры для анализа архитек-
турной формы.
Древнейшие монументальные «знаки» архитектурной формы,
несущие информационную и эмоциональную нагрузку — насып-
ные холмы-курганы и мегалитические сооружения из грубо около-
тых или необработанных огромных каменных глыб, создавались
людьми эпохи неолита и «бронзового века». Простейшие каменные
монолиты, менгиры, в некоторых случаях выстраивались в протя-
женные правильные ряды («Каменные аллеи» в Карнаке, Бретань,
где одна только группа Менек состоит из 1 099 камней, соединен-
ных в 11 рядов длиной более километра). Вертикальные монолиты
дольменов и кромлехов были соединены вертикально установлен-
ными блоками и плитами, перекрывающими пролет между ними.
Содержание, которое овеществлялось в форме этих монументов,
неизвестно. Очевидно, что оно представлялось достаточно значи-
тельным для того, чтобы затрачивать на установку очень большую
часть материальных и трудовых ресурсов племени.
Крупнейшее мегалитическое сооружение — кромлех Стоун-
хендж в Англии близ города Солсбери — возводилось около 300 лет
(1900-1600 гг. до н. э.). Вес его монолитов достигает 50 тонн. По
расчетам археологов, люди, пользовавшиеся только деревянными
катками, рычагами и кожаными канатами, должны были затратить
не менее 1,5 млн человекодней тяжелейшего труда. Они жертвовали
на это сооружение существенно большую долю общественного
труда, чем его поглощали самые претенциозные замыслы после-
дующей истории.
Сооружение с полной очевидностью не выполняло утилитар-
ных функций. По наиболее аргументированной современной вер-
сии, оно служило храмом, в форме которого овеществлялись астро-
номические знания. Использовался Стоунхендж, по этой версии, не
только как календарь, но, быть может, и как инструмент для пред-
сказания таких событий, как солнечные и лунные затмения20. Ли-
нии, соединяющие просветы между его пилонами, фиксировали
направления, связанные с особыми положениями солнца и луны,
позволяющими членить год на сезоны. Особый «визир» — наклон-
ный камень за пределом колец пилонов — отмечал направление на
восход солнца в день летнего противостояния. Сокровенное знание
наделяло могуществом тех, кто им владел, и астрономический ин-
струмент был превращен в монументальное сооружение.
Модели архитектурного пространства в истории культуры
125
Перемычки, соединявшие каменные опоры, вводили в мегали-
тическое сооружение некое пространство, с которым связано текто-
ническое напряжение конструкции. Но площадка, окруженная ка-
менными монолитами, вряд ли осознавалась как «пространное те-
ло», форма которого наделена значением и провоцирует определен-
ные эмоции. Значащими были сами камни, одиночные и трилиты —
попарно связанные перемычками вертикальные блоки. Информа-
цию несли их взаимные отношения в пространстве. Подобным об-
разом значащим элементом становился отдельный менгир — моно-
лит, установленный вертикально, образуя ориентир в пространстве
(и во времени, поскольку сама его установка была событием). Про-
странство вокруг таких каменных монолитов ощущалось как под-
чиненное полю сил, «излучаемых» массой.
Такая концепция пространства не была, однако, абсолютно
единственной на начальной стадии образования зодчества. В культу-
рах, использовавших естественные пустоты — пещеры в скалах, —
складывалось отношение к пространственным объемам как к пози-
тивным единицам, «пространственным телам». Наиболее яркий
пример — храмы Мальты, созданные культурой, относимой к не-
олиту и «бронзовому веку» (II тысячелетие до н. э.). Система их
складывалась из пар обращенных друг к другу апсид; несколько
таких пар объединялись осевым проходом. Древнейшие — как
«Гипогеум» в Хал Сафлиени — созданы как система искусствен-
ных пещер, выдолбленных в скале. Идея пространственного тела
как объекта-цели, закрепленная в сознании подобным образом дей-
ствий, была перенесена на магические постройки, где системы ап-
сидальных зал, соединенных переходами, формировалась громад-
ными каменными монолитами. Над их экседрами выкладывались
ложные своды, переходы покрывались плоскими перекрытиями из
плит (храмы Хаджар Ким, Таршин). В этих системах очевидно
стремление к упорядоченности, закономерной последовательности
и связности пространственных элементов, но организованные объ-
емы не складываются. Соотношения между соседствующими груп-
пами случайны, интервалы между ними просто «погашены», зава-
лены случайными обломками. Лишь перед главными входами соз-
даны подобия фасадов — обширные вогнутые поверхности, как бы
открытые экседры, с порталом в центре.
Мальтийская версия, однако, была для ранней стадии развития
зодчества почти уникальным исключением (можно добавить к ней
126 Раздел 5
перекрытые ложными сводами подземные толосы микенской куль-
туры, как «Сокровищница Атрея» в Микенах, XIV в. до н. э., и ту-
мулусы этрусских некрополей, I тысячелетие до н. э.).
Пространство в зодчестве
древнейших высоких иивидизаыий
Принципиально нового качества формирование архитектурного
пространства достигает в высокоорганизованных обществах с же-
сткой иерархической структурой, сложившихся в Месопотамии и
Египте. Первая пространственная концепция (по 3. Гидиону), бе-
рущая начало от мегалитических сооружений, приводится здесь к
закономерно развивающимся связным системам (особенно в куль-
туре Египта, создавшей первую в истории систему специфического
языка со сложным и вместе с тем устойчивым словарем форм и
развитым синтаксисом; на примере египетской культуры мы и рас-
смотрим проблемы этого этапа развития зодчества и его простран-
ственных структур).
Деспотичность природных условий, с жестким ритмом чередо-
вания сезонов и подчинением линейной структуре долины Нила,
определила не только характер экономики, на которой основыва-
лось возведение монументов, наиболее впечатляющих во всей ис-
тории архитектуры, но и развитие абстрактной мысли, поднявшей
на новый качественный уровень идею упорядоченности. Хозяйство,
дисциплинируемое строгой периодичностью фаз водного режима
Нила, требовало точнейших астрономических наблюдений, контро-
лирующих течение времени. Строгая регулярность членения терри-
тории была необходимостью на орошаемых землях. Практические
задачи, связанные с измерением и вычислением, давали материал
для развития абстракций геометрии, дисциплинировавших мысль и
приучавших ее оперировать отвлеченными понятиями.
Деспотизм природы и социальная деспотия определяли мента-
литет, в котором господствовала идея абсолютного порядка, рас-
пространившегося на всю тотальность бытия. В этой тотальности
общество и природа были единым целым. Фараон, занимавший
вершину общественной иерархии, — скорее символ абсолютного и
постоянного характера этой системы, чем тираническая личность.
На культуру возлагалась охранительная задача — защитить упоря-
доченную тотальность мира от изменений, подчеркивающих ее аб-
Мололи apxnicKiypHoi о ирос грине ни н исюрии к\ \t,i\ры 127
солюты. Но изменения — функция времени. И целью становилось
преодоление его необратимой динамики. Время трактовалось как
вечный ритм повторяющихся фаз неизменного порядка. Этот ритм
визуализировался в структуре пространства как ортогональный по-
рядок, основанный на повторении равноценных единиц, символи-
зирующих бессмертность жизни. Практицизм соединялся с мифо-
логическим истолкованием бытия.
Применение геометрических знаний к практике строительства,
так же как к землеустройству и ирригации, связало общую идею
порядка с ортогональными системами и представлениями об иде-
альной прямой и плоскости. Развивались геометрические способы
соизмерения, служившие для переноса в натуру задуманной иде-
альной формы. Наделяемые самоценностью как высшие проявле-
ния мысли и сокровенного знания, пропорциональные системы ка-
зались гарантией покровительства «высших сил».
Пирамиды Древнего Египта стали овеществленными посла-
ниями архетипической значимости. Их форма соединила элемен-
тарную силу мегалитов с вневременными математическими абст-
ракциями, созданными человеческим духом. В мифологическом
сознании этот символ высшей упорядоченности соединял образ
Мировой горы с лучезарным солнцем (геометризованный монолит
венчала вызолоченная верхушка), представляя фараона как сына
бога Ра. Как и погребальный курган, пирамида в своем массиве за-
ключала пространство погребальной камеры, которое никак не
влияло па геометрию внешних очертаний, да и ничтожно в сравне-
нии с гигантской монолитной массой. Именно масса пирамиды в
человеческом восприятии господствует над окружающим ландшаф-
том, захватывая пространство вокруг полем сил (в них кажется ак-
кумулированной энергия, затраченная на возведение монолита).
Геометрические очертания массы символизируют и некий идеаль-
ный центр, указывая на него вертикальной осью, отмечавшейся
сверкающим золоченым венчанием. Целеполагание, направлявшее
создание пирамиды, определялось тем же типом пространственно-
тектонического мышления, который обнаруживает себя в постанов-
ке менгиров, но поднятым на новую ступень, воплощенную в мате-
матизированную форму, возможную только для неприродного объ-
екта. Артикулирующие детали и декорация отброшены, чтобы уси-
лить эффект гладких поверхностей и элементарных стереометриче-
ских очертаний.
128
Раздел 5
Группа гробниц фараонов четвертой династии (2723-2563 гг.
до н. э.) в Гизе — Хеопса, Хефрена и Микерина — показывает тему
пирамиды в се полном развитии21. Пирамида Хеопса остается
крупнейшей массой камня среди созданных человеком (230 х 233 м
в основании при высоте 146,6 м). Положение гигантских моноли-
тов в пространстве четко скоординировано; их стороны параллель-
ны и расположены почти точно по странам света, углы основания
касаются одной диагонали. В соотношениях величин и интервалов
обнаруживаются математические зависимости, основанные на
кратных отношениях22. Связи ансамбля всецело основаны на коор-
динации масс. Организации ритуалов служат микропространства
заупокойных храмов и «города мертвых», образующие приземный
слой, как бы стилобат для поднимающихся над ним элементарных
объемов.
Нил, протекающий с юга на север и сопровождаемый по обе
стороны неширокими полосами оазисов, за которыми лежат пус-
тыни, воспринимался как высшее проявление естественного по-
рядка природы. В пределах этой общей схемы располагались зо-
ны, где общее дополнялось особым, индивидуальным характером
места, находящегося под покровительством малых божеств, иг-
равших второстепенную роль в мифологии египтян. Эта схема
стала основой формирования монументальных храмов, откры-
вающего принципиально новое направление развития первой кон-
цепции пространства. Ей был подчинен и принцип организации
плана поселений.
В символике храма, как и пирамиды, доминирует идея вечно-
сти жизненного порядка, жизни, продолжающейся и после смерти.
Храм в своей пространственной организации повторил осевую ор-
ганизацию ландшафта Египта и ортогональную структуру его об-
водненных оросительными каналами оазисов. Все в здании подчи-
нено главной оси — как природа страны подчинена руслу Нила;
вдоль нее развивается последовательное чередование тем, допол-
няющих основную. Пластические, вещественные элементы опре-
деляют эти темы — в соответствии с первой пространственной
концепцией (хотя храм и не имеет единого, обращенного вовне
объема, образующего вокруг себя пространственное поле). Но сис-
тема элементов, несущая образную нагрузку, образована ритмом
массивных столбов и колонн, перекрытых каменными монолитами
балок. Систему объединяет ось символического пути, ведущего к
Модели архигек!урното пространства в истории культуры
129
определенной, но недоступной в конечном счете цели. Массы пре-
обладают над пространством, перекрывают его сталкивающимися
полями сил.
Ритм каменных монолитов, направляющий путь, напоминает
ритм рядов менгиров — «каменных аллей» на полях Бретани (ана-
логия особенно очевидна, если распространить ее на аллею сфин-
ксов, образующую подход к храму, начало символического органи-
зованного пути). Тектонический принцип рядов колонн, объеди-
ненных балками, развивает основную схему таких мегалитических
сооружений, как кромлехи. Но развитая способность абстрактного
мышления позволила выявить в членениях формы символическую
антропоморфность, соединяемую с символическим выражением
работы стоечно-балочной конструкции. Основные темы разнооб-
разно аранжированы артикулирующими членениями и декором.
Рубеж между зоной приближения к храму (где его ось уже при-
сутствует как аллея сфинксов) и собственно храмом отмечен мону-
ментальными массивами пилонов, обрамляющими портал, мощ-
ными башнями, стенам которых придан ощутимый уклон внутрь.
Символизация перехода от земного к небесному требовала драма-
тизма — его обеспечивала разработка пилонов и портала. При ори-
ентации храмов на восток восходящее солнце открывалось между
ними и портал становился «дверью в небо», через которую явля-
лись божество — солнце — и представляющий его на земле фара-
он. Основную схему членений храма определяла последователь-
ность двора, обрамленного колоннадами, гипостильного зала и свя-
тилища, расположенных вдоль оси. В больших храмах могло быть
два двора и несколько зал. Чередование пространств символично.
После залитого светом двора следовал полумрак зала с базиликаль-
ным разрезом и верхнебоковым светом, сокращенным каменными
решетками. Замкнутое темное святилище замыкала ложная дверь-
ниша в западной стене, образующей завершение оси. Масса везде
преобладала над пространством, подавляя его. По мере приближе-
ния к сокровенности святилища преобладание статичной массы
становится все более ощутимым; поднимается уровень пола; опус-
каются панели потолка, расписанного золотыми звездами по сине-
му фону, сгущается полумрак, число же тех, кому разрешено даль-
нейшее проникновение, сокращается. Движение вдоль оси симво-
лизирует жизненный путь; завершает его не торжественный аккорд,
а глухая дверь — знак возвращения к истоку.
130
R? 5
Пространство храма, плотно заполненное телами колонн (на-
столько плотно, что глубина его открывается только при взгляде по
оси между рядами), воспринимается как негативное — выемка в
массе, тоннель, вырубленный в скале. Там, где храмовые залы и
действительно вырубались в камне (Большой храм в Лбу-Симбеле)
как рукотворные пещеры, стереотипы в основе своей не менялись.
Артикуляция формы развивала символику упорядоченного
космоса, заложенную в структурной организации. В декор входили
отражения органической и человеческой жизни — как частей этого
космоса. Они нс индивидуализированы, но идеализированы, при-
ведены к неким нормативным ситуациям абсолютного божествен-
ного порядка. Рельефы подчинены массиву материала, они как бы
извлекаются из него, не выступая за пределы плоскости, опреде-
ляющей общее ограничение формы.
Характер изображений — рельефов и росписей, входящих в
систему декора египетских монументальных построек, соответст-
вует менталитету древних египтян. Их рационализм определил
приемы воспроизведения трехмерного пространства на двухмер-
ности поверхностей стен и опор. Эта задача не имеет однозначно-
го математически корректного решения23. Необходимо выбирать
между соответствием чувственным образам зрительного воспри-
ятия и объективным знанием о форме и взаимном расположении
предметов видимого мира. Рассудочный практицизм египтян,
склонных к математической абстракции, привел их к приемам ус-
ловной фиксации геометрии объективного пространства, близким
к методу ортогональных проекций. При этом каждый объект фик-
сировался в наиболее характерном ракурсе — спереди, в профиль
или сверху. Чтобы сократить потери информации, связанные с
фиксацией лишь одного ракурса предмета, применялся прием ус-
ловных поворотов плоскости изображения.
Так, человеческая фигура ниже пояса изображалась в профиль,
торс, плечи и руки разворачивались в фас, на профиле головы в фас
показаны глаз и бровь. При профильном изображении быка его рога
разворачивались, как при виде спереди, и т. п. Водоем изображался
в плане, но окружающие его деревья как бы разворачивались под
прямым углом и показывались с вершинами, направляющими от
края водоема. Отметим, что при этом информативность определя-
лась изображением предметов, пространство оставалось лишь ин-
тервалом, промежутком между изображениями. Последние подчи-
Модели архитекгурного /ipocipaec/на в исторт 1 кулыуры 13 I
нялись плоскости стены или колонны, подчеркивая ее реальную
предметность. Пространственные отношения в группе изображен-
ных предметов фиксировались через соблюдение правил взаимного
расположения на плоскости (впереди — в нижней части плоскости
изображения, удаленное — расположенное выше).
Структура ландшафта, подчиненная природной оси — Нилу, и
ортогональной сети оросительных каналов, получила идеализиро-
ванное отражение в прямоугольных планировочных сетках поселе-
ний. Кварталы складывались как сумма прилегающих один к дру-
гому домов, интерьерное пространство которых, обращенное к
замкнутому внутреннему дворику, интравертно. Оно сообщалось с
общественным миром, которому принадлежала улица, лишь через
узкий проем. Поселение извне воспринималось как плоский массив
некой субстанции, сеть улиц — как интервалы между частями этого
массива. Точно так же обитатели поселения оставались обезличен-
ными составляющими социума, подчиненного иерархической пи-
рамиде власти. Только внутренний замкнутый дворик жилого дома
оставался обособленным пространством личного бытия, не вклю-
ченного в общественные процессы.
Зодчество Древнего Египта в своих однородных на всех уров-
нях пространственных системах создало безупречно последова-
тельное и целостное выражение общественных структур, мировос-
приятия и экзистенциального знания своего времени. Впервые бы-
ли материализованы построения абстрактного мышления. Средства
организации жизнедеятельности и выражения значении связыва-
лись с формированием материальной субстанции, массой. Про-
странство оставалось негативным началом, пустотой, ограничи-
вающей оформленную материю, интервалом между вещественны-
ми объектами.
Пространство в архитектуре
греческой античности
Возможности первой концепции пространства, послужившей
для создания мрачного великолепия пирамид и гипостильных хра-
мов Египта, зиккуратов и укрепленных дворов Месопотамии, не
были исчерпаны этими высокими цивилизациями. Самые высокие
достижения архитектуры, осмысленной пластически, создало зод-
чество античной Греции. Греческая архитектура стала первым вы-
132
Раздел 5
ражением возникшей в Элладе традиции демократической мысли.
На смену «человеческим машинам» восточных деспотий, в иерар-
хических структурах которых только правитель, занимавший место
на вершине, обладал правом решать и выбирать, возникло общест-
во, где каждый свободный гражданин претендовал на участие в
управлении и законотворчестве. Пирамиды и Парфенон схожи в
том, что возвышаются как пластические массы, обтекаемые про-
странством. Но греческий зодчий искал в своем произведении вы-
ражение нового значения человека. Отвергнута фундаментальная
установка культур деспотических обществ на стабильность однаж-
ды установленного порядка и унификацию жизненных ситуаций.
В миропредставлении греков важное место занял образ реки —
текущей, беспрерывно в чем-то меняющейся и в то же время со-
храняющей характер берегов и направление потока, такого «нечто»,
которое всегда равно и в то же время не равно себе — «в одну и ту
же реку нельзя воити дважды» . «В новом социальном пространст-
ве, которое ориентировано на центр, власть, господство (kratos,
arche, dynasteia) не располагаются более на вершине социальной
лестницы, а помещены в центре (es messon), в середине человече-
ской группы... По отношению к центру все индивиды и группы
занимают симметричное положение. Агора образует центр общего
для всех пространства... Центрированное пространство, простран-
ство общее, уравнивающее и симметричное и вместе с тем свет-
ское, предназначенное для столкновения мнений, дебатов и аргу-
ментации, противопоставляется религиозному пространству, сим-
волизируемому Акрополем»25.
Представление о пространстве в миропонимании Древней Гре-
ции ушло от абстрактности египетских геометрических моделей,
но пространство не стало четко определенным понятием. Грече-
ский язык не имел слова, точно соответствующего содержанию со-
временного термина «пространство». Для Платона это «начало, на-
значение которого состоит в том, чтобы во всем своем объеме вос-
принимать отпечатки всех вечно сущих вещей», само же оно
«должно быть по природе своей чуждо каким бы то ни было фор-
мам»26. Аристотель связывал пространство и «topos» — место, за-
нятое чем-то, границу, объемлющую тело. Он сравнивал его с сосу-
дом, не имеющим ничего общего с содержащимся в нем предметом,
но существующим вместе с ним так, как границы существуют вме-
сте с тем, что они ограничивают27. О пространстве в таком понима-
Модели архитектурного пространства в истории культуры
133
нии можно говорить лишь как о том, что отделяет одно от другого.
Оно конечно, обозримо, простирается не далее, чем ограничиваю-
щее его вещи. Характер его зависит от взаимоотношений и артику-
ляции этих ограничивающих его элементов.
На развивающиеся греками представления о пространстве
влияло природное окружение. Египтяне жили среди однообразных
ландшафтов искусственно орошаемой плоской долины Нила, к гра-
ницам которой лишь местами приближались невысокие горные це-
пи. Греки, напротив, жили среди изрезанного ландшафта с боль-
шим разнообразием участков, контрастных по своему характеру.
Плодородные долины и плато, служившие для расселения, были
малы и ограждены горными массивами, скалами и заливами, глубо-
ко внедряющимися в сушу. Неоднородность ландшафта, индивиду-
альный характер конкретных ландшафтных ситуаций дополняли
ряд факторов, побуждавших плюрализм в истолковании и реализа-
ции концепции архитектурного пространства. Предопределенное
природой разнообразие пространственного характера мест облека-
лось мифопоэтическими значениями, связанными с персонифика-
цией многочисленных богов.
Четко выделились три типа организации пространственной
формы, связанные с различными уровнями формирования систем
среды: 1) ортогональные геометрически упорядоченные структуры
храмов, выразительность которых основана на свойствах объема,
воспринимаемого извне; 2) свободная от геометрической условно-
сти организация групп таких объемов на священных участках
(temenos), подчиненная индивидуальным особенностям ландшафт-
ной ситуации и ее мифопоэтическому истолкованию; 3) равномер-
ное ортогональное расчленение территории на кварталы, а кварта-
лов — на участки для жилищ при планировке городов.
Наиболее характерные и совершенные результаты развития про-
странственной концепции достигнуты мастерами классического пе-
риода греческой античности в Афинах второй половины V в. до п. э.,
в период высшего развития рабовладельческой демократии. Именно
здесь и в это время происходила системная реализация направле-
ний художественной традиции, ранее разрозненно развивавшихся и
проявлявшихся во многих центрах греческий культуры.
Афины лежат на безлесной Аттической равнине, между горами
и морями с архипелагами скалистых островов. Несколько обособ-
ленных обрывистых холмов разнообразят ландшафт. Срединное
134
Раздел 5
положение занимает скала Акрополя; венчающее ее плато возвы-
шается на 70-80 м над подножием. Уже во II тысячелетии до н. э.
на нем существовала цитадель, укрепленная циклопическими сте-
нами. Искусственно выровненное плато вытянуто с запада на вос-
ток примерно на 300 м. Возникшее здесь поселение спустилось на
равнину, и в VI в. до н. э. Акрополь превратился в религиозный
центр, место культа Афины. На запад и северо-запад от него сло-
жился второй, общественно-политический, центр города — Агора,
а на вершинах меньших холмов — Ареопага и Пникса — собира-
лись совет старейшин знатных родов и народное собрание. Вокруг
концентрически разрасталась ткань жилых кварталов.
Восстановление Афин, разрушенных в 480 г. до н. э. персами,
заставило осмыслить не только практические задачи, но и общие
принципы развития города и его структуры, приводя к ясным фор-
мулам третий тип организации пространственной формы (струк-
турные принципы формирования плана города). В этом, по-видимо-
му, сыграл значительную роль Гипподам, которому Аристотель
приписал изобретение регулярной планировки28. Этот полулеген-
дарный герой, более философ, чем зодчий, сформулировал правила
градостроительства, согласно которым в городе должны выделяться
три главные части: религиозная, общественная и отданная жили-
щам, частной жизни, в которых располагаются здания соответст-
вующего назначения. Не исключено, что схема как-то связывалась с
триединством космоса. Жилая часть, в отличие от индивидуального
характера первых двух, подчинялась абстрактному принципу гео-
метрической организации. Ее территория рассекалась прямоуголь-
ной сетью улиц одинаковой ширины, не зависящей от рельефа и
общей конфигурации. Стандартные кварталы разделялись на стан-
дартные участки для интравертных жилищ, организованных вокруг
замкнутого внутреннего дворика.
Целеустремленно подчиняясь принципам Гипподама, в Афинах
отстроили только лежащий у моря Пирей — город-порт, «спутник»
Афин в современной терминологии, соединенный с метрополией
шестикилометровым укрепленным коридором «Длинных стен»,
защищавших жизненно важную коммуникацию. Пирей получил
равномерную ортогональную сетку улиц. Территория его подразде-
лялась на зоны (о чем свидетельствуют найденные при раскопках
пограничные знаки). Ценгром Пирея был прилегавший к гавани
монументальный общественный комплекс, по сторонам которого
Модели лрхигек! урною npocip<MiciHJ в истории культуры
135
лежали три зоны, отведенные для жилищ29. Сами Афины, хотя их
традиционно сложившийся план остался неизменным, были подчи-
нены идее триединства, соединяя различным образом сформиро-
ванные системы, предназначенные для различных функций. Над
нейтральной тканью жилых зон, пласт которой рассекала сеть улиц,
господствовал поднятый на скалистое плато комплекс Акрополя, а
близ его подножия просторно раскинулась общественная зона Аго-
ры.
Гипподамова система была осуществлена также в колонии
Афин — городе Фурий, основанном по инициативе Перикла в Ве-
ликой Греции (446 -445 до н. э.). По сведениям Страбона Гипподам
участвовал также в планировке Родоса (408 до и. э.). Главным ис-
точником сведений о регулярных планировках классической Гре-
ции является Милет (с 479 до н. э.), занимавший около 90 га на по-
луострове, выступающем в Эгейское море. К тому же времени от-
носится регулярная планировка Книда. Сведения об организация
жилищ в пределах стандартных участков дали раскопки Олинфа,
разрушенного в 348 до н. э. Именно их материал показывает, как с
абстрактной обезличенностью ортогональной сетки участков скла-
дывалось закрытое извне индивидуальное построение каждого жи-
лища вокруг центрального пространства.
И греческий храм, и жилище произошли от одного древнейше-
го типа сооружения — мсгарона. Развитие дома следовало линии
обезличенной функциональной дифференциации его частей.
Структура его усложнялась и расчленялась, но черты типа получа-
ли все большее преобладание над особыми, индивидуальными чер-
тами каждой постройки (господство типа привело к подчинению
общих очертаний каждого дома абстрактности ортогональной сетки
участков в системе «гипподамовой» планировки). В храме, напро-
тив, развитие общей идеи связывалось с ее индивидуализацией,
становившейся все более тонкой.
Общая идея греческого храма исходила из развитого античной
культурой художественного понимания космоса как абсолюта и
«наилучшего, совершеннейшего произведения искусства», тела,
абсолютного и абсолютизированного, которое само для себя опре-
деляет свои законы — следуя формулировке, данной А. Ф. Лосе-
вым30. Основываясь на этой формуле, Лосев полагал, что «античная
культура не только скульптурна вообще, она любит симметрию,
гармонию, ритмику, „метрон“ (,,меру“) — т. е. все то, что касается
136
Раздел 5
тела, его положения, его состояния»31. Эта мысль, основанная на
обобщении огромного массива текстов, дает ключ к происхожде-
нию и содержанию главного ядра греческой концепции пространст-
ва, основанной на торжестве телесности, противостоящей пустоте.
Неточным, однако, кажется вывод из этой мысли, отнесенный к
греческому искусству самим Лосевым, утверждавшим, что главное
воплощение принципа телесности — скульптура.
Храм классической эпохи дает воплощение этого принципа бо-
лее разностороннее, соединяющее чувственно воспринимаемую
конкретность с воплощением всеобщих, абстрактных принципов
гармонии, ритма и меры космоса. В его архитектуре присутствует
двойственность миропонимания, отраженная философией Платона,
идеализм которого признавал объективное существование идей,
извечных Сущностей, несовершенным отражением которых явля-
ются предметы, данные нам в чувственном восприятии. Храм, со-
ответственно, следовал идеальной схеме, но таким образом, чтобы
математизированный абстрактный идеал представал в нашем несо-
вершенном восприятии, обретая в нем изначальную чистоту вопре-
ки искажениям видимого. Чтобы достичь такой цели, были изучены
механизмы визуального восприятия, выявлены возникающие в них
оптические ошибки и иллюзии. На основе такого изучения в арти-
куляцию формы вносились поправки, приводящие ее восприни-
маемый образ к соответствию с идеальной моделью.
Таким образом, чтобы колонны периптера воспринимались
безупречно одинаковыми, каждая из них получала индивидуальную
форму в соответствии с условиями восприятия (увеличивалось се-
чение угловых колонн, воспринимаемых на фоне неба; эти колонны
получали легкий уклон внутрь по диагонали плана; несколько уве-
личивался интервал между колоннами, обрамляющими средний
пролет; поверхности стилобата и балок архитрава получали легкий
выгиб вверх по направлению к середине и пр.). Коррективы, подав-
ляющие зрительные иллюзии, приводили воспринимаемое и пере-
живаемое пространство к идеальной модели, представляемой в по-
нятиях объективного пространства. Идея — в соответствии с фило-
софским постулатом — обретала свое бытие во мнимости, в кажу-
щемся, отличном от измеримой физической данности.
Ортогональную структуру, где горизонталям основания и по-
крытия противопоставлены вертикали опор, можно интерпретиро-
вать как выражение упорядочивающей деятельности человека и его
Модели архитектурного пространства в истории культуры
137
интеллекта. Именно этот аспект подчеркивали египтяне, отмечая
чисто геометрические сопоставления и их статичность, устойчи-
вость. Греки за математической абстракцией видели человеческое
начало, ассоциации с упругим, вибрирующим равновесием живых
сил напряженного мускулистого тела. Артикуляция каменных масс
храма основывалась на антропоморфных ассоциациях. В нее вно-
сились очертания, изображающие напряженный выгиб упругого
материала под нагрузкой (профили стволов колонн, эхины дориче-
ских капителей и пр.). Эмоциональное воздействие рассчитывалось
на психический резонанс, возбуждаемый такой формой («вчувство-
вание», по террмину В. Воррингера). Напряжения, которые воспро-
изводились телесной формой, казались порождающими исходящее
от нее пространственное поле.
Колонны птерона, со всех сторон охватывающего целлу храма
(деревянные столбы, окружившие целлу, появились уже к 800 г.
до н. э. в первом Герайоне на о. Самосе), несли отчетливые антро-
поморфные ассоциации. Одинаковость колонн в ряду поначалу не
была правилом. При постепенной замене изначальных деревянных
опор каменными казалось естественным сосуществование тех и
других, равно как и стилевых отличий между разновременно уста-
новленными колоннами (храм Геры, Герайон в Олимпии, конец VII -
начало VI в. до н. э.). Видимо, индивидуальный характер в преде-
лах объединяющей закономерности не входил в противоречие со
вкусами архаического периода. В духовном мире полиса, однако,
укреплялось убеждение, что при всех различиях происхождения,
общественного положения и занятий, его граждане в чем-то по-
добны друг другу. Чувство подобия и солидарности укреплялось
по мере развития военной доктрины, в которой все большую роль
играла тяжело вооруженная пехота — гоплиты, а вместе с тем,
утрачивали значение индивидуальные поединки. Исход боя реша-
ли организованные общие действия сплоченных рядов фаланги32.
Такое изменение установок поведения повлияло на образ храма —
колонны птерона становились аналогом гоплитов, образовавших
фалангу. Единство ряда связывалось с новым конкретным содер-
жанием.
В пределах утверждавшегося единства типов храма развива-
лась тонкая индивидуализация, связывающая храм с ситуацией
места и характером олицетворяющего это место антропоморфного
божества, через который на явления внешнего мира проецирова-
138
Раздел 5
лось человеческое. Телесность храма и его обособленное бытие в
окружении собственного «силового поля», аналога персонального
пространства, были необходимы как для воплощения идеи гармо-
нии космоса, так и для антропоморфного образа, передающего
предполагаемый характер божества и проявление этого характера в
определенной ситуации и в связи с определенными функциями. Не
случайны двусложные названия многих греческих храмов — имя
божества сопровождается в них уточняющим определением. Так,
были в Элладе храмы Афины Парфенос — Афины Девы, Афины
Полиады — Афины Городской, Афины Эрганы — Афины Работни-
цы, Афины Пронайи — Афины Провидящей, Афины Промахос —
Афины Воительницы, Афины Никофоры — Афины Победоносной,
Афины Лемнии — Афины Миротворицы. Аполлон почитался как
Простат — Заступник, Эпикурий — Попечитель, Патрос — Покро-
витель, Алексикакос — Отвратитель зла, Акесий — Целитель, и,
особо, как Аполлон Пифейский, юный победитель змея Пифона.
Греческий храм, воплощавший космические и человеческие
значения в скульптурно осмысленной «телесной» форме, не имел
доступного людям интерьера. В праздничные дни верующие тол-
пились вокруг, ожидая, когда приоткроются тяжелые двери, пока-
зывая монументальную статую божества. К формированию сокро-
венного пространства целлы не проявляли особого внимания. Для
адептов «третьей концепции» архитектурного пространства, свя-
занной с понятиями, выдвинутыми «современным движением» в
архитектуре первой половины XX в., придерживавшихся мысли,
что «пространство, а не камень — материал архитектуры», грече-
ский храм — «ужасный пример не-архитектуры», как написал
Бруно Дзеви33. «Скульптурность» его, однако, входила в свобод-
ную от геометрических зависимостей систему теменоса, вносив-
шую осмысленную упорядоченность в неповторимость природ-
ной ситуации.
Поистине классическим примером ее может служить Акрополь
в Афинах. Совершенство композиции интуитивно ощущается здесь
с первого взгляда, но кажущаяся произвольность ее может озадачи-
вать. Особенно смущала она сторонников рационализма в конце
XIX - начале XX вв. Каждое здание на Акрополе суверенно и ин-
дивидуально по своей образной характеристике и формальной
структуре. Здесь нет ни объединяющей ортогональности, ни под-
чиняющих целое осей (если не считать оси Пропилеев, которая
Молели архитектурного пространства в истории культуры 139
имеет значение лишь для ориентации посетителей, поднимаю-
щихся вдоль западного, самого пологого склона холма). Нет здесь
и направлений, объединяющих расположение построек. При всем
том гармония целого кажется очевидностью, не требующей дока-
зательств.
Математическое объяснение, однако, пытался предложить
К. Доксиадис в диссертации, которую он выполнил в 1930-е гг. По
его версии, упорядоченность пространства афинского Акрополя
определяется согласованностью угловых величин, определяемых
направлениями на главные элементы панорамы, открывающейся от
входа на главную площадку Акрополя (точка на оси восточного
портика Пропилеев)34. Однако равенство или кратность таких углов
легко ощутить на чертеже плана, но не в реальном пространстве,
где эти углы сопрягаются не с равноценными точками чертежа, а с
объектами, имеющими различную массу и высоту, расположенны-
ми на разных уровнях. Доксиадис не принял во внимание и многие
составляющие ансамбля, не существующие ныне: высокие камен-
ные ограды и подпорные стены, лестницы, соединяющие площад-
ки, разделенные перепадами, малые храмы и множество статуй —
на членение и восприятие общей картины они оказывали ощути-
мое влияние. Трудно поверить и в то, что организация обширного
ансамбля могла быть подчинена виду с единственной главной
точки, на которой нельзя даже задержаться, поскольку она лежит
на оси главного входа. Утверждение Доксиадиса, что специфика
восприятия мира у древних греков определяла фиксацию впечат-
ления с первой позиции, с которой ансамбль становился доступен
наблюдению, не кажется убедительным — автор его ничем не
подтвердил.
Многое, напротив, объясняет ситуация. Ансамблем времен Пе-
рикла заменен комплекс, созданный столетием ранее и разрушен-
ный персами. В этом старом комплексе храм Гекатомпедон («Сто-
футовый» — здание, посвященное Афине Полиаде и Посейдону) и
старый Парфенон бесхитростно стояли рядом на самом широком
месте плато; их западные фасады выходили на одну линию. Эти
однотипные постройки воспринимались как суверенные «тела», не
зависящие одно от другого. Обособленным объектом были и старые
Пропилеи, открывавшие доступ на священный участок. По отно-
шению к храмам они располагались под случайным углом — его
определил последний поворот тропы, поднимавшейся по западному
140
Раздел 5
склону, извилистой, как и положено подходу к крепостным воро-
там. Размещение зданий всецело подчинялось топографии места, а
их взаимная независимость свидетельствовала, что предполагалось
последовательное созерцание отдельных объектов.
Ансамбль, который начали возводить по инициативе Перикла
после разрушения старого, придал связи построек с природной си-
туацией новое качество. Ее осмыслили содержательно и формаль-
но, превратив в канву комплексного образа гармоничного космоса.
Новый Парфенон, храм Афины Девы, покровительницы города,
главное здание комплекса (447-438 гг. до н. э.), поставили на самую
высокую точку скалы близ ее южного края, где стоял и разрушен-
ный персами храм. Сохранить это место за почитаемым и крупным
зданием — самое разумное решение, однако второе святилище не
было возрождено на старом месте. Заменивший его Эрехтейон, по-
священный Афине и Посейдону (421—406 гг. дон. э.), решительно
отодвинут к крутому северному склону, что уравновесило в ланд-
шафте асимметричное положение Парфенона на плато Акрополя.
Храм этот не повторил тип периптера, но получил расчлененный
асимметричный объем — решение тоже естественное, поскольку
здание связало несколько святилищ, да и участок, перепад уровней
на котором достигает четырех метров, почти исключал иные воз-
можности. В то же время сложность артикулированного объема по-
зволила небольшому Эрехтейону за счет иного качества стать про-
тивовесом мощной глыбе Парфенона, хоть он и не вступает с ним в
прямое соперничество.
Третьим элементом системы, равноценным главным храмам,
стала группа сооружений на западной оконечности плато, обра-
зующей подобие заостренного мыса, куда ведет единственный бо-
лее-менее удобный подъем. Здесь вместо традиционного скромного
обрамления прохода на священный участок созданы Пропилеи
(437-432 гг. до н. э.) — крупный двойной портик, по обе стороны
обрамленный крыльями, замыкающими торжественный открытый
дворик, встречающий посетителей и, вместе с тем, организующий
площадку для наблюдения величественного ландшафта, откры-
вающегося от плато к морскому побережью. На это место была на-
целена и ось укрепленного коридора из Пирея — Длинных стен.
Завершение пропилеями придало скале Акрополя направленность.
Как стрелка посреди равнины, обрамленной пунктирной дугой
холмов, она указывает направление к морским далям. Группировка
Модели архитектурного пространства в истории культуры
141
главных объемов, выявляя закономерность ситуации, придала
ландшафту осмысленную человеком упорядоченность, отсылаю-
щую к его ценностям.
Пропилеи не повторяли расположения старой постройки. На-
правляемый ими проход рассчитано подводил к месту, откуда вне-
запно открывалась главная панорама ансамбля, захватывающая все
его главные объекты. Восточный портик Пропилей при этом слу-
жил кулисой, создающей первый план, повышающий эффект от
первого контакта с панорамой. Чуть сдвинутая влево от главной оси
Пропилей, в трех десятках метров от них возвышалась обращенная
лицом к входящему семиметровая статуя Афины Промахос — Вои-
тельницы, созданная Фидием. Она воспринималась вместе с Пар-
феноном архитектурным воплощением образа богини.
От портика Пропилей начиналась священная дорога, обозна-
чавшаяся оградами и подпорными стенками; по этой дороге следо-
вали шествия к главному, восточному фасаду Парфенона. Изгибы
пути открывали все новые пространственные картины и новые ра-
курсы центрирующих пространство зданий, подчиняющих окруже-
ние своим «силовым полям». Первый план восприятия в движении
на какое-то время определяло нагромождение статуй и вотивных
плит, картина, по мнению Г. Роденвальда, «невыносимая для наше-
го глаза, привыкшего к восприятию вещей в связи с их окружени-
ем... Объяснение того, что греки не видели в этом ничего недопус-
тимого, заключается в том, что они обладали несравненной спо-
собностью изолированного восприятия... Их не интересовало, что
находится перед произведением искусства, за ним или рядом с ним;
они воспринимали форму, силуэт отдельного памятника в его обо-
собленности»35. Движение сквозь этот перенасыщенный символи-
ческими формами участок пространства приводило к монумен-
тальной целостности северного фасада Парфенона.
Торжественное шествие в дни Панафинейских торжеств на-
правлялось от Агоры, обходя Акрополь с востока, и далее вдоль
его южного склона. Близ его западной оконечности ориентиром
становился миниатюрный храм Нике Аптерос (Победы, лишенной
крыльев, чтобы навсегда остаться в Афинах), поставленный в
449—421 гг. до н. э. на могучем бастионе Пиргоса, еще в микенские
времена сложенном из циклопических блоков. Постановка этого
храма-ориентира, отмечавшего подъем на холм, определила еще
одну «неправильность»: правое крыло Пропилеи нс смогло полу-
142
Раздел 5
чить такое же развитие, как левое, и композиция здания, при доми-
нировании оси прохода, предполагающем, как будто, симметрич-
ность, оказалась асимметричной. Зрительное равновесие и ощуще-
ние гармонии, однако, установились во всей ситуации, включаю-
щей массив Пиргоса и венчающий его тонко моделированный объ-
ем храма Ники.
Пространственная целостность западного фасада Пропилей
достигнута за счет «неправильностей», отступлений от однажды
принятой закономерности упорядочения в пользу ответа на инди-
видуальные особенности ситуации. Тот же принцип, использован-
ный в артикуляции формы, проходит через весь ансамбль, утвер-
ждая целостность пространственной системы и активизируя ее
восприятие. Одно из его главных проявлений — отказ от стилисти-
ческого единства системы, гибридность, смешение дорического и
ионического стилей (не только ордеров, но именно стилей, захва-
тывающих трактовку внеордерных элементов). Проявления его на-
чинаются уже в композиции Пропилей. Проход между западным и
восточным дорическими портиками сооружения обрамлен иониче-
скими колоннами. Колонны прохода перекликаются с портиком ио-
нического храма Нике Аптерос. Но и сами дорические ордера Про-
пилей и Парфенона восприняли дух чисто ионической стройной
легкости. Их колонны необычно стройны для дорики, необычно
легки лежащие на них антаблементы. «Гибридность» дополняют
введенные в дорический ордер детали, обычные для ионического
ордера, как барельефный фриз с изображением панафинейского
шествия, охватывающий фасады целлы Парфенона. Но и в иониче-
ский ордер вошли признаки дорики — портики Эрехтейона полу-
чили антаблементы, высота которых близка к дорическому канону;
по-дорически приземисты, крепки колонны храма Нике Аптерос,
которые дополнены в этой постройке и деталями, характерными
для дорики.
Синтез особенности двух ордеров — мужской силы и женской
грации — способствует восприятию единства пространственной
системы. Он наделен и несколькими слоями смысловых значений,
утверждая связи и на уровне содержания. Во-первых, такое соеди-
нение начал воплощает черты характера, приписывавшегося боги-
не-покровительнице Афин, сочетавшей девичью красоту с грозным
могуществом и мудростью (она считалась покровительницей «ра-
зумной» войны, подчиненной полководческому расчету и воинской
Модели архитектурного пространства в истории культуры
143
этике, в противовес буйству Ареса). Во-вторых, синтез ордеров сим-
волизировал соединение материковой дорической культуры с ионий-
ской культурой островов Эгейского моря. В-третьих, в двойственно-
сти архитектуры виделся отзвук сложности природной ситуации.
Сквозной темой для пространства ансамбля Акрополя стал ор-
ганизованный переход от косной материи скалы к упорядоченности
рукотворной формы. Тема эта была воплощением символа вневре-
менного значения. Человек утверждал свое место в природе, позна-
вая себя, ноне теряя связи со своей землей. В этом именно увидели
главную ценность Акрополя вновь открывшие его красоту люди
конца XIX - начала XX вв. «Перенести Акрополь в другое место, в
другой пейзаж, и следа не останется от его красоты: здесь полная,
никогда уже не повторявшаяся гармония между творениями рук
человеческих и природного: величайшее примирение этих двух, от
вечности враждующих начал, — творчества людей и творчества
божественного. Согласно с природою! Вот основа и вдохновение
всей греческой архитектуры», — писал Д. Мережковский36.
Промежуточное звено перехода от природного к архитектурно-
му пространству образовано субструкциями, которыми выровнены
вершины скал и расширено плато. Искусственное введено в при-
родное геометрией горизонтальных плоскостей. Архитектура в
этом сопоставлении несет в себе гармонию между весомостью и
устремлением ввысь. Синтез признаков двух ордеров развивал эту
гармонию, наделенную символическим значением. Связь найденного
на Акрополе взаимопроникновения дорического и ионического с ин-
дивидуальным характером места, ландшафтной ситуации, показала
попытка повторить специфическую «устройненную» дорику Парфе-
нона в другом храме — Гефестейоне (440-430 гг. до н. э.) близ афин-
ской агоры. Необычные пропорции, не мотивированные содержани-
ем образа и не поддержанные особенностями ландшафта, не дали и
соответствующего воздействия на восприятие.
Соотнесенность с природой определила целостность простран-
ственной системы, в которой каждый элемент создавался как осо-
бый суверенный объект. Объектом, ощущаемым как единство, была
и скала Акрополя, увенчанная священным участком с его зданиями,
главный элемент триединства города. К структуре этого объекта
приспосабливалось все, что создавалось в связи с ним. В конечном
счете, сложилась иерархия пластических тел, дисциплинирующая и
объединяющая пространство. Ее связывает четкая иерархия про-
144
Раздел 5
странственных тел, суверенность которых на каждом уровне объеди-
нена системой более высокого уровня: колонна — храм — Акрополь.
Художественная система реализована с неукоснительной по-
следовательностью, основанной как на эстетической конструктив-
ности, так и на содержательности формы. Телесность антропо-
морфных символов присутствовала в системе среды, зданиях и их
деталях. Возможности первой концепции пространства использо-
ваны с высокой полнотой. В отличие от архитектуры Древнего
Египта, устремленной к утверждению абстрагированной от ситуа-
ций универсальности формы, греки развивали ситуативную гиб-
кость концепции, что сделало ее влияние особенно длительным,
эффективным в различных исторических условиях.
Примечания
1. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 121-122. 2-с изд.
М: УРСС, 2003.
2. ChoayF Scmiologie ct urbanisme // L’Architecture d’aujourd’hui. 1967.
№ 132; Meaning in Architecture. N. Y., 1969 ; Sign. Symbols and Archi-
tecture. N. Y., 1980.
3. Choay F. The Modem City: Planning in the 19th century. N. Y, 1969.
4. Jencks Ch. The Language of Post-modem Architecture. N. Y, 1977. P. 52.
5. Heidegger M. Bauen, Wohnen, Denken // Vortrage und Aufsatzc. II..
Pfullingen, 1954; Bollnow O. F. Mensch und Raum. Stuttgart, 1963;
Merlau-Ponty M. The Phenomenology of Perception. L., 1962; Bache-
lard G The Poetic of Space. N. Y, 1964; Kruse L. Raumliche Umwelt.
Berlin, 1974.
6. Tillich P The Courage to be. N. Y, 1952.
7. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Пер. с нем. М., 1958.
8. Юне К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Архетип и
символ. Пер. с нем. М., 1991.
9. Там же. С. 99-100.
10. Guidoni Е. Primitive Architecture. N. Y, 1978.
11. Там же.
12. Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С. 34-35.
13. Guidoni Е. Primitive Architecture. Р. 62-66.
14. Levi-Stzauss Cl. Tristes tropiques. Paris, 1951. P. 248-250.
15. Пасек T. С. Периодизация трипольских поселений (II—III тысячелетия
до п. э.) // МИА. Вып. 10. М.; Л., 1949.
Молели архитектурного пространств в истории культуры
145
16. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, М., 1981, С. 249.
17. Элиаде М. Космос и история. С. 41.
18. Там же. С. 147-149.
19. Giedioy 5. Architecture and Phenomena of Transition. The three space
conceptions in architecture. Cambrige Mass., 1971. P. 3-5.
20. Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхеджа. М., 1973.
2\. LloydS., Muller H.W., Martin R. Ancient architecture. Mesopotamia,
Egipt, Crete, Greece. N. Y, 1974. P. 89-94; Edwards E. S. The Piramid of
Egypt. Harmon ds worth, 1961.
22. Владимиров В. П. Пропорции в египетской архитектуре // Всеобщая
история архитектуры. Т. 1. М., 1970. С. 144-147.
23. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
С. 14.
24. Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. М., 1972. С. 195.
25. ВернанЖ. П. Происхождение древнегреческой мысли. Пер. с франц.
М, 1988. С. 151-152.
26. Платон. Тимей И Платон. Собр. соч. Т. 3. М., 1994. С. 454.
27. Аристотель. Физика. М., 1936. С. 60, 65.
28. Аристотель, Политика. II, 5, 11.
29. LloydS, МйИег Н. W, Martin R. Ancient architecture. Р. 338-339.
30. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего разви-
тия. Кн. 1.М., 1992. С. 317.
31. Там же.
32. ВернанЖ. П. Происхождение древнегреческой мысли. С. 82-83.
33. Zevi В. Architecture as a Space. N. Y., 1957. P. 76.
34. Doxiadis K. Raumordnung in gricchischen Stadtebau Heidelberg. Berlin,
1937.
35. Роденвальд Г. О форме Эрехтсйона. Пер. с нем. // История архитекту-
ры в избранных отрывках. М., 1935. С. 112.
36. Мережковский Д. Акрополь И Вечные спутники. СПб., 1910. С. 11.
1 1 Зак. 303
Раздел 6
Пространство в архитектуре
римской античности
Наследие римской античности столетиями оставалось основой
«почвенного слоя», на котором развивалась европейская культура.
Римская архитектура служила фондом образцов для построения
идеальных моделей архитектуры Ренессанса и классицизма. Но
представление о ней долго оставалось в сущности неопределен-
ным. «Римское» не отделяли от «греческого». Связь того и другого
с одним и тем же типом общественного устройства объединила их в
общей категории античности, в пределах которой «греческое» вос-
принималось как исторически предшествующее.
Немецкий историк Иоганн Иоахим Винкельман (1717-1768),
ощутивший принципиальную разницу между греческим и римским,
как и следовавшие за ним ученые, стал рассматривать второе не
столько продолжением, сколько вырождением первого. Такую уста-
новку, по сути дела, закрепляли неогреческие увлечения XIX в., ос-
нованные на представлении о несравненно более высокой сложности
и художественности греческого в сравнении с приземленностью,
практицизмом и эстетической элементарностью римского. В исто-
рию архитектуры прочно вошло представление о прагматичных ин-
женерах-римлянах: приспосабливая выработанные в Греции прин-
ципы искусства архитектуры к целям могучей государственной ма-
шины, они добивались результатов, характеризуемых громадными,
многократно возросшими количественными показателями за счет
утраты эстетических ценностей гуманизированной формы, основан-
ной на тонких нюансах индивидуализации произведений.
Однако исследованиями XX в. были разрушены предвзятые
схемы. Стало очевидно, что, хотя римские мастера и продолжали
Пространство в архитектуре римской античности
147
традиции эллинских, искусство и архитектура античного Рима —
явления самостоятельные, полные внутреннего своеобразия, опре-
делявшиеся историческими судьбами, условиями жизни и тем осо-
бым взглядом на мир, который эти условия формировали. Качест-
венно иное, чем греческое, римское искусство должно оцениваться
иной шкалой ценностей. Справедливое для системы культуры в
целом, такое утверждение имеет особую значимость для римской
архитектуры.
Для ранних этапов ее развития главным был синтез внешних
влияний, исходивших прежде всего от греческих колоний на ита-
лийском полуострове и от культуры этрусков. Но в конце респуб-
ликанской эпохи и раннем периоде империи (годы правленая Ав-
густа, Юлиев—Клавдиев и Флавиев) развертывается последова-
тельность явлений, которую можно назвать «римской архитектур-
ной революцией». В результате ее зодчество, сохраняя видимую
преемственность с греческой традицией, обрело принципиально
новые качества, которые в Новое время окажутся связанными с
понятием «классики».
Главным качественным изменением стало утверждение новой
концепции пространства, повлекшее за собой практически полную
перестройку методов формообразования. В отличие от экстраверт-
ности пластической концепции, преобладавшей в зодчестве древ-
нейших высоких цивилизаций и античной Греции, складывались
принципы архитектуры интравертной, где формообразование на-
правлено прежде всего на организацию внутренних пространств,
обладающих той или иной степенью самоценности и выделенное™
среди пространственного континуума.
Развивая интерьерные системы и тем самым утверждая качест-
венно новый подход к архитектурному пространству в сравнении с
греческой традицией, римляне, однако, сохранили и активное от-
ношение к внешней оболочке сооружений, их объемам. Сохраня-
лись, благодаря этому, и предпосылки продолжения греческой тра-
диции (тем самым становление второй, по 3. Гидиону, концепции
архитектурного пространства не исключило бытования первой,
отошедшей на второй план).
Римская архитектура впервые в истории зодчества стала созда-
вать крупные, сложно сформированные пространства и системы
пространств, разнообразие которых подчинено упорядоченной по-
следовательности. Такие системы связывались с программами ор-
11*
148
Раздел 6
типизации жизни, развернутыми во времени, и служили их закреп-
лению. Пространство само становилось формируемой и артикули-
руемой субстанцией, служащей закреплению культурных значений
и образных метафор, а не тем нейтральным промежутком, интерва-
лом между пластическими массами, телами, каким оно было для
зодчества греческой античности. Из негативного оно стало пози-
тивным. Его формирование стало первичной задачей, напрямую
связанной с целеполаганием строительной деятельности.
Новое отношение к пространству изменило и отношение к
формирующим его материальным структурам. Стоечно-балочные
системы древнейших цивилизаций, включая египетскую, как и ан-
тичной Греции, основаны на упорядоченной группировке массив-
ных, телесных элементов. Римская концепция пространства для
своей реализации требует использования материальных оболочек,
которые формируют внутреннее пространство. Масса, телесность
элементов, образующих сооружение, утратила самоценность и роль
первичного фактора формообразования.
Новая пространственная концепция потребовала соответст-
вующих средств воплощения, конструктивных структур, отвечаю-
щих ее характеру. Естественным средством образования пластично-
го «тела» греческого храма было сложение, как бы суммирование,
элементов-объектов, обработанных каменных монолитов. В соору-
жениях римлян главной задачей стало формирование организован-
ного, артикулированного пространства. Формирующая его масса
воспринималась уже как интегрированная, монолитная оболочка.
Ее поверхности, определяющие характер формы, всецело подчи-
нялись главной цели — организации пространства. Между по-
верхностями, обращенными вовне и к интерьерному пространст-
ву, создавалась работающая основа, которая воспринимала и рас-
пределяла нагрузки, обеспечивая устойчивость целого. Внешние
слои — облицовка — выполнялись из тесаного камня. Вместе они
служили опалубкой, которая заполнялась известковым бетоном
(opus caementicum), образующим монолитную сердцевину — ра-
ботающую основу. Схватывающийся бетон связывал оболочку,
формирующую пространство, в монолитную целостность.
Эта целостность лишала конструктивного смысла стоечно-
балочную структуру, основанную на противопоставлении опор и ба-
лок, перекрывающих пролеты между ними. Естественным решением
становилось единство опор, связывающего их свода и пространства,
Пространство в архитектуре римской античности
149
формируемого материальными элементами. Взаимодействия, возни-
кающие в сводчатой структуре, определяли эффективность исполь-
зования материала, более высокую, чем в стоечно-балочной конст-
рукции. Открывались вместе с тем неизмеримо более разнообразные
возможности образования пространственной формы.
В технико-конструктивном смысле соединение опор клинчатой
аркой или цилиндрическим сводом, которое стала использовать ар-
хитектура Рима, не было новацией. Примитивные варианты клинча-
того свода появились уже в древнем Египте, где использовались в
разгрузочных системах, сокращающих давление гигантского камен-
ного массива пирамид на перекрытие внутренних пустот или отвер-
стие входа1. В безлесном Двуречье древнейшие клинчатые каменные
своды открыты в царских гробницах Ура (XXVI в. до н. э.); они
применялись и в постройках из сырцового кирпича. Арки и своды
использовались во дворце ассирийского царя Саргона в Дур-
Шаррукине (712-707 гг. до н. э.). В южном дворце Навуходоносора
(VI в. до н. э.) мощные кирпичине своды служили не только суб-
струкции висячих садов Семирамиды, причислявшихся к семи чу-
десам света, но и перекрытием тронного зала с пролетом в 15 мет-
ров2. Сложенные из клинчатых камней арки встречались и в архи-
тектуре античной Греции классического периода — правда, лишь в
погребальных камерах склепов и перекрытиях крепостных ворот3.
Клинчатые арки уже с IV—III вв. до н. э. этруски использовали для
инженерных сооружений — мостов, ворот в мощных оборонитель-
4
ных стенах .
Отношение к пространству как позитивной субстанции позво-
лило осознать арочные и сводчатые конструкции как триединство
опор и соединившего их пролетного строения, формирующее «про-
странственное тело». Развитие социальных процессов в римском
обществе побуждало к созданию сложных пространственных сис-
тем, организующих и фиксирующих социальные программы. По-
требность в их развитии побуждала разработку сводчатых конст-
рукций, инженерная мысль, в свою очередь, открывала новые воз-
можности формирования архитектурного пространства.
Развертывание и углубление римской архитектурной револю-
ции побуждалось процессами урбанизации, активно изменявшими
качество жизни античного полиса. Происходили не только количе-
ственные изменения, в которых нарастало число людей, вовлекае-
мых в общественные функции, но и качественные, определяемые
150
Раздел 6
развитием полиса как civitas, гражданской общины. При этом в го-
родском сообществе не только возникали новые функциональные
процессы и трансформировались, усложнялись традиционные, но
менялся и тот идеальный образ мира, который скреплял общину,
служил основой ее обычаев и правовых норм. Архитектура при
этом должна была создавать системы пространств со все возрас-
тающей сложностью и все более крупными величинами.
Процессы эти начинались и получили наиболее полное выра-
жение в самом Риме, но в той или иной степени опирались на все
пространство, вовлеченное в систему римской государственности с
его инфраструктурами и иерархией поселений. Интенсивность го-
родской жизни («городская теснота», по формулировке Г. С. Кнабе)
была важным фактором развития концепции архитектурного про-
странства, созданной римской культурой.
«...В конце республики и начале империи, т. е. в I в. до н. э. и
особенно в середине I в. н. э., в Риме было очень тесно и очень
шумно. Население города составляло к этому времени не менее од-
ного миллиона человек. Большинство свободных мужчин в возрас-
те от шестнадцати лет и многие женщины, равно как большинство
приезжих, т. е. в совокупности от 200 до 300 тысяч человек, про-
водили утренние и дневные часы, по выражению поэта Марциала,
„в храмах, портиках, лавках, на перекрестках44, преимущественно в
тех, что были сосредоточены в историческом центре города. Этот
исторический центр представлял собой прямоугольник со сторона-
ми, очень приблизительно говоря, 1 км (от излучины Тибра у театра
Марцелла до Виминальского холма) на 2 км (от Марсова поля до
холма Целия)... Несоответствие крайне ограниченной территории
исторического центра и огромного количества тех, кто стремился
не только попасть на нее, но здесь расположиться... и приводила к
невыносимой тесноте... Скученность царила не только на улицах,
но и в общественных зданиях»5. Процитированный нами автор от-
мечает также, что «публичность существования и его живая пута-
ница были типичны не только для улиц и общественных зданий,
они царили и в жилых домах — домусах и инсулах, т. е. были ха-
рактерны для Рима в целом»6.
Интенсивность процессов городской жизни, переполнявших от-
крытые пространства города, требовала все возрастающих величин
(в конечном счете, перекрытия в римской архитектуре достигли не
просто рекордных пролетов, но и максимально возможных для ис-
Пространство в архитектуре римской античности
151
пользованной категории строительных материалов и типа конструк-
ции). Но не только. Она побуждала, внося начала порядка в спонтан-
ное взаимопроникновение процессов городской жизни, вычленять се
главные составляющие и создавать для них особые пространства и
специализированные типы зданий. На этой основе складывалась раз-
ветвленная множественность системы типов зданий.
«Римскую архитектуру нельзя ассоциировать с каким-то одним
особым типом зданий — как греческую архитектуру с типом храма,
периптером. Вместо этого существовала множественность типов
зданий, часть которых была неизвестна до римских времен, как,
например, грандиозные структуры терм, базилик, амфитеатров и
цирков. Эта множественность характеризует более высокую слож-
ность социальных функций и структур, как и расширенный с ее
посредством ряд экзистенциальных значений», — отметил К. Нур-
берг-Шульц7.
В разветвленной системе типов зданий и сооружений возника-
ли разнообразные требования к организации архитектурного про-
странства, степени его изолированности, способам связи его частей
между собой и с внешним миром. Функциональные перегрузки
сделали особенно настоятельной потребность в естественном ос-
вещении и проветривании помещений, вмещающих большие массы
людей. Одной из проблем римской архитектуры стало создание
проемов в массивной стене, окон, которыми греки обычно пренеб-
регали. Вырабатывались приемы верхнего и верхне-бокового осве-
щения. Они задавали специфическое строение «пространственного
тела» и особый характер артикуляции интерьерного пространства
светом. Свет и текущая вода, обильно подававшаяся в частные дома
и общественные сооружения римлян, определяли не только физи-
ческие свойства пространства. Они связывались с символическими
значениями, входившими в состав метафор архитектурной формы,
дополняя их и придавая им особую эмоциональную окраску.
Практичные и деятельные римляне не углублялись в рефлек-
сию. Они не оставили текстов, раскрывающих причины их пред-
почтений, направлявших сложение концепции архитектурного про-
странства. Но уже на ранних стадиях развития римской культуры в
ней развивались воззрения, жестко противопоставляющие свое
пространство, свой город, место которого предопределено богами и
священно, Вселенной вне его. Миф описывал, как при основании
Рима Ромул жреческим посохом очертил в небе квадрат, ориенти-
152
Раздел 6
рованный по странам света, и спроецировал его на землю, получив
благоприятное предзнаменование. В центре очерченной таким об-
разом территории создан mundus — круглая яма, в которой погре-
бена символическая жертва. «Город врастал в ту землю, в которую
уходило его прошлое. Его окружала проведенная плугом борозда,
земля из которой образовала шедший вокруг города вал. Так возник
pomerium — граница, неодолимая для враждебных, нечистых, из-
вне подступающих сил, очерчивавшая территорию, в нем заклю-
ченную, как бы магическим кругом и делавшая ее священной»8.
Римское войско, возвращавшееся из похода во враждебное внешнее
пространство, должно было пройти обряд очищения, которому
служили триумфальные арки и ворота. Рим осознавался как особое,
неповторимое, а потому замкнутое явление, отделенное от окру-
жающего мира.
Связь с территорией, пространством отождествлялась с при-
надлежностью общине, гражданскому коллективу. При этом «малая
родина», где находится дом и земля семьи, входит в большую, рим-
скую. Пространство последней мыслилось как динамичное, расши-
ряющееся, покрывая по указанию богов новые территории. Един-
ство системы пространств объединялось и от большого — к мало-
му, от города к общественному зданию, дому, обиталищу семьи. На
канве представлений об иерархии пространств и ее связности и
возникало, по-видимому, отношение к архитектурному пространст-
ву, представление о нем как первичной субстанции объекта, созда-
ваемого в строительстве.
В иерархическую цепь слагались пространство империи, объе-
диненное сетями инфраструктур — военно-оборонительных и ком-
муникационных. Вокруг ядер этой структуры — городов — разви-
вались местные системы с питающим центр сельским хинтерлан-
дом, сетями дорог и водоводов, снабжающих живой, проточной во-
дой населенные пункты. Четкая регламентированная структурность
отмечала планы городов, в интенции регулярные (но отступающие
от регулярности в ландшафтах, где ситуация не накладывается ор-
ганично на природный рельеф и не сочетается с расположением
водных протоков и водоемов). Регулярность организации простран-
ства возрастала к нижним уровням системы. Четкая упорядочен-
ность, основанная на ортогональных сетках (и вписанных в эти
сетки циркульных очертаниях) доминировала в структуре комплек-
сов общественных зданий. Принцип регулярности городских про-
Пространство в архитектуре римской античности
153
странств получал продолжение в пространственной структуре зда-
ний, где он доводился до полноты осуществления.
Планы зданий, определявшие группировку частей интерьера,
получали строгую осевую организацию. Ось, направлявшая движе-
ние после вступления во внутреннее пространство, определяла
симметрию целого. Она доминировала в организации плана. Осевая
симметрия стала непременным свойством римской архитектуры.
Осевая симметрия, направляющая начало движения, уже встреча-
лась нам в архитектуре Древнего Египта, но здесь она имела вто-
ричное значение, пронизывая в одном направлении ортогональную
систему целого. В Риме главная ось связывается с центром, в кото-
ром ее обычно пересекает перпендикулярная ей вторая ось. Вместе
они образуют крест осей, определяющий ортогональную сетку, ор-
ганизующую сложное целое, в которое вписаны и подчиненные
общей симметрии пространства с криволинейными очертаниями —
циркульными, реже — овальными. Соединение в целостную упо-
рядоченную систему многочисленных пространств на основе опре-
деленного сценария организации жизненных процессов стало од-
ной из главных и наиболее плодотворных новаций римской архи-
тектурной революции.
Координируемое разнообразие пространственных форм в
структуре зданий развертывалось в трех измерениях. Контрастные
сопоставления обширных и затесненных пространств, высоких
сводчатых и низких, придавленных тяжелыми кессонами плоского
покрытия, создавали впечатление драматичной напряженности сис-
темы. На пересечении горизонтальных осей здания или на завер-
шении его главной оси создавались цилиндрические или квадрат-
ные в плане пространственные объемы, завершаемые куполом,
формирующим вертикальную ось — мощный акцент в системе ин-
терьера. Окулос, опайон, — проем, раскрывающий вершину купо-
ла, усиливал эту ось потоками света и контактом с изменчивой да-
лью неба. Помещения, составляющие пространственную систему
интерьера, формировались как самодостаточные единицы, обла-
дающие структурной завершенностью, но через проемы в стенах и
ажурные преграды колоннад или аркад они связывались функцио-
нально и визуально. Сквозные перспективы, пронизывающие ряд
помещений и обнаруживающие развитие системы в глубину, при-
глашали к движению, направляли его. Система в целом раскрыва-
лась восприятию в движении и времени, через смену впечатлений,
Ю Зак. 303
154
Раздел 6
подчеркнутую и драматизируемую контрастами пространственных
величин и градациями освещенности. Время становилось фактором
восприятия, как бы развертывая систему в четвертом измерении.
Осевая структура плана, если и не подчиняла себе однозначно вре-
менную последовательность пространственных ощущений, то вхо-
дила в нее как ясно воспринимаемый направляющий фактор.
Становление и усложнение осевых систем композиции интерь-
ерного пространства в римской архитектурной революции связыва-
лось, как можно предположить, с развитием представлений о вре-
мени и культуры его восприятия. К сожалению, в исследовании
этой проблемы трудно продвинуться за пределы интуитивных
ощущений и аналогий, трудных для однозначного истолкования.
Очевидно, однако, стремление зодчих Рима связать организацию
пространства и упорядоченность времени в сложных ритмических
системах. На последовательность изменений пространственных
величин накладывается в их композициях ритм пластических эле-
ментов оболочки, формирующей пространство.
Для этой цели римские архитекторы использовали систему
классических архитектурных ордеров. Истолкование ее структур-
ных, тектонически осмысленных элементов как средства декорации
поверхности, снижение роли художественно осмысленной конст-
рукции до формы облицовки стало главным мотивом обвинений в
адрес римлян со стороны приверженцев романтического класси-
цизма XVIII-XIX вв. В этом виделось вырождение созданной гре-
ками классики. Подводя итоги обвинениям, Виолле-ле-Дюк писал:
«У греков конструкция и искусство — одно и то же, форма и струк-
тура тесно связаны между собой; у римлян конструкция существует
отдельно от облекающей ее формы, часто от нее независимой»9.
Но некорректно оценивать римскую архитектуру, используя гре-
ческие стандарты. Классические элементы действительно утрачивали
в новых системах свою независимость и силу пластических объектов.
Вместе с тем они входили в состав по-новому осмысленной, про-
странственно интегрированной среды жизнедеятельности. Их уже
нельзя оценивать как самостоятельные, индивидуализированные объ-
екты — они и перестали быть ими, став жестко стандартизированны-
ми элементами. Они стали взаимозаменяемы, их можно было без су-
щественных изменений использовать и доя некоего другого места.
Проблема артикуляции пластической формы в римской архи-
тектуре развивалась по-особому, в соответствии с задачей активно-
Пространство в архитектуре римской античности
155
го формирования интерьерного пространства (отметим, что харак-
тер интерьерных стали получать и неперекрытые организованные
пространства городских центров; если греческий temenos был ор-
ганизован полями сил обособленно поставленных объемов, то рим-
ляне создают площади, пространство которых воспринимается как
пространственное тело, обрамленное фасадами построек, тип пло-
щади-зала). Для римлян впервые стена стала плоскостью встречи и
разграничения внутренних и внешних сил, внутренних и внешних
функций.
Со времен Виолле-ле-Дюка и Шуази прочно утвердилось мне-
ние, что римский прием артикуляции стены ордером, наложенным
на аркаду, не органичен, не соответствует конструктивной структу-
ре, основанной на монолитной бетонной оболочке, прорезанной
арочными проемами. «Ничто не может сильнее противоречить
здравому смыслу, чем укладка архитравного перекрытия над аркой,
так как арку, которая по своей природе является разгрузочным эле-
ментом, как раз и нужно было бы помещать над архитравным пере-
крытием... архитравное перекрытие на полуколоннах, увенчиваю-
щее арку, весьма неприятно поразило бы грека времен Перикла», —
писал Виоле-ле-Дюк10.
Расчленение формы стены накладным ордером действительно
не выражает рабочую структуру, распределение усилий. Но такой
прием следует логике расслоения конструкции на артикулирован-
ную оболочку, организующую пространство (каменная облицовка,
включающая ордер), и «перфорированную» арочными проемами
монолитную рабочую сердцевину (в утилитарных сооружениях —
акведуках, мостах, подпорных стенах — эта основа могла и не до-
полняться ордерной имитацией стоечно-балочной конструкции).
Видимо, эту двойственность конструктивной функции римляне
считали главным сюжетом разработки формы.
Римляне стремились создать символическую форму нового ро-
да, используя принятые традицией знаки, но не имитируя создан-
ные греками ордера. Сочетание колонн и архитравов артикулирова-
ло систему, определяло ее ритм, формирующий временное измере-
ние и масштаб, вносило в форму антропоморфные метафоры. По-
вторение ордеров по вертикали, образующее ярусную сетку, отве-
чающую расчленению внутреннего пространства на этажи, стало
обычным приемом. При этом «мускулистый» дорический ордер
определял нижний ярус, выше следовал пояс более изящных иони-
10*
156
Раздел 6
ческих колонн, а над ним располагались наиболее стройные ко-
ринфские. Выражение игры сил в облегчающейся кверху конструк-
ции создавало визуальную связь между частями здания по вертика-
ли. Все они воспринимались не как индивидуализированные эле-
менты греческого храма, но как части системы, каждая из которых
подчинена общей идее.
Римская цивилизация в период, когда совершалась архитектур-
ная революция, стала цивилизацией массовой. И в ее системе вели-
чина переставала быть чисто количественной характеристикой. Ин-
тенсивность и теснота городской жизни требовали достаточно об-
ширных пространств и пропорциональных им крупных масс. Но ве-
личина, чем дальше развивалась культура, становилась особым каче-
ством предметного мира, связанным не только с практической по-
требностью, но и с метафорическими значениями и представления-
ми о престиже, ценностными предпочтениями. Описывая гигантские
храмы Баальбека, строившиеся во время правления Нерона,
М. Уилер обращает внимание на каменный блок длиной 18 м и весом
1 500 тонн — «красноречие римского этоса. Грандиозность здесь
нечто большее, чем тоннаж. Она выражает особый принцип творче-
ского мышления»11. Ею отмечены не только храмы, театры и термы,
но и городские кварталы и инженерные инфраструктуры. Длина од-
ного лишь из водопроводов, питавших водою Рим, — Марциева (с
140г. дон. э.)— превышала 90 км, до тысячи арок входило в его
субструкции там, где его канал поднимался над землей. Аркады ак-
ведука Клавдия (52 г. н. э.) местами имели высоту 31 м, акведук в
Сеговии — до 28 м, в Немаусе (Ниме) на юге Франции — 48 м.
Грандиозность драматизировалась в пространственных систе-
мах городских центров, их форумах, рынках, храмах, театрах и ба-
нях. Она определяла общую тональность их восприятия. Стремле-
ние к ней побуждало поиски радикальных конструктивных реше-
ний, связанных, прежде всего, с разнообразными типами сводов.
В отличие от египетской или греческой архитектур, римская не
связана с определенным типом ландшафта. Распространяясь на
громадные пространства империи, она становилась явлением ин-
тернациональным, не отнесенным к определенной географической
ситуации. Организация пространств связывалась со строгой регла-
ментацией — как в масштабе поселений, так и в пределах типов
зданий. Структура их почти не зависела от расположения в том или
ином регионе империи (как не зависела от места в структуре со-
Пространство в архитектуре римской античности
157
оружения форма архитектурного элемента). Вместе с тем система
типов была обширной и не было какого-то одного, на примере ко-
торого принципы формообразования, выработанные римской архи-
тектурой, можно было бы характеризовать так же полно, как прин-
ципы греческой на примере храма-периптера.
Ландшафт и поселение
Иерархия организации пространств в римской культуре охва-
тывала всю территорию империи, непрерывно расширявшуюся за-
воевательными войнами. Мир греческой культуры оставался рос-
сыпью множества независимых городов-государств. В отличие от
него римский мир с самого начала подчинен единому центру, одной
столице, Риму, который воспринимался как caput mundi — вершина
мира, к которой ведут пути централизованной сети дорог империи,
начало отсчета всех расстояний (нулевой точкой была для них ко-
лонна, поставленная у основания Капитолийского холма). Сеть до-
рог была структурной основой освоенного пространства.
Освящение места связывалось с выбором центра, где пересека-
лись две ориентированные по странам света главные оси. Они чле-
нили пространство на четыре домена, простиравшиеся до горизонта.
Таким образом, создавалась основа пространственного порядка, свя-
зывавшая в представлении римлян земное и космическое. На этой
модели основывалась и планировка городов, территория которых,
очерченная прямоугольником, расчленялась на четыре части двумя
главными улицами — кардо и декуманус, пересекавшимися под
прямым углом. В этой структуре кардо, ведущая с севера на юг,
представляла ось мира, декуманус мыслилась проекцией дневного
пути солнца с востока на запад. У выхода этих осей к укрепленному
периметру города располагались ворота. С греческой гипподамовой
системой римскую роднит только ортогональность сети улиц. Но
греки не подчиняли систему символическому кресту главных осей, а
сеть их улиц заполняла очертания, определяемые структурой при-
родного ландшафта и не претендующие на регулярность.
В городах римлян главные оси диктовали и положение фору-
ма — центра деловой и общественной жизни. Ко времени установ-
ления империи определился его идеальный тип: симметричное
прямоугольное пространство, обрамленное по периметру. Три сто-
роны его обычно охватывали колоннады, четвертую замыкала бази-
158
Раздел 6
лика (или городской зал), образуя перекрытое продолжение откры-
того к небу общественного пространства форума.
Стремление создавать для общественных потребностей четко
сформированные замкнутые пространства определило и эволю-
цию классического типа театра — от греческой структуры, рас-
крытой к ландшафту и сливающейся с ним, к римскому сооруже-
нию, замыкающему внутреннее пространство. В греческом театре
места зрителей находились на пологой циркульной воронке теа-
трона, врезанного в естественный склон, по которому поднима-
лись каменные ступени рядов. Театрон охватывал круглую орхе-
стру, служившую для выступлений хора; за ней размещался обо-
собленный объем скены, между крыльями которой на проскении
выступали актеры.
Ряды для зрителей в римском театре располагались на сводча-
тых субструкциях. Полукружие мест уже стало сооружением. Ор-
хестра, ставшая полукруглой, использовалась для размещения
кресел почетных граждан. Мощный объем скены смыкался с
крыльями театрона, завершая обрамление внутреннего простран-
ства. К внешнему миру театр был обращен двумя-тремя ярусами
галерей с арками, которые обрамлены колоннами (театр Марцелла
в Риме, 11-12 гг. до н. э.; театр в Арау-Оранже, Франция, I в. н. э.;
в Аспенде, II в. н. э. и др.). Завершением тенденции стало создание
в середине I в. н. э. типа амфитеатра, овальный объем которого об-
разован как бы соединением двух подковообразных театронов, ох-
ватывающих внутреннее пространство. К этому типу принадлежало
крупнейшее произведение римской строительной инженерии —
амфитеатр Флавиев, Колизей, построенный в Риме в 80-е гг. н. э. и
рассчитанный на 45 тыс. зрителей. Амфитеатры распространились
по Италии и западным провинциям (амфитеатры в Арле и Ниме,
Франция, после 30 г. н. э.), но были редки на Востоке, более элли-
низированном, сохранявшем традицию греческой трактовки отно-
шений здания и пространства. Тенты на канатах, из которых фор-
мировались временные покрытия над местами зрителей, завершали
характеристику этого типа сооружения, служившего неким проме-
жуточным звеном между завершенным интерьерным пространст-
вом и замкнутым городским пространством, открытым к небу.
Идеальная схема римского города — прямоугольник, рассечен-
ный крестом главных улиц, направлениям которых следуют второ-
степенные улицы, разделяющие одинаковые кварталы — сохрани-
Пространство в архитектуре римской античности
159
лась в своей чистоте лишь в немногих случаях (Тимгад в Ливии).
Чаще же, если город развивался, система, теряя изначальную чис-
тоту, разрасталась и усложнялась. Сохранялись, однако, первичные
принципы формообразования — ортогональная регулярность внут-
ренней организации фрагментов застройки (а если позволяла
ландшафтная ситуация — и их сочетаний) и превращение откры-
тых пространств, имеющих общегородские функции, в подобие зал
под открытым небом.
Конгломерат пространств, обращенных колоннадами, в который
превратились императорские форумы Рима, был наиболее грандиоз-
ным примером. Каждый из форумов образован как самодостаточное
завершенное целое, связи между ними не стали началом объедине-
ния пространственной системы, но координация осевых направле-
ний соблюдалась, за исключением тех небольших участков на пери-
ферии территории, где заставляли отойти от нее отроги холмов —
Квиринальского, Капитолийского и Палатинского. В целом плани-
ровка системы форумов напоминала план гигантского здания сим-
метричной осевой организацией групп пространств, подчеркнутой
сочетанием прямоугольных площадей и полуциркульных в плане
огромных экседр, контрастными сопоставлениями пространствен-
ных величин, намечающейся ритмичностью их чередования. Целое
«не уложилось» в безупречное единство, но сбой системы план по-
казывает, вероятно, гораздо яснее, чем это было доступно натурно-
му восприятию. Крупнейшая же составляющая комплекса — гро-
мадный форум Траяна, к которому присоединен рынок с его кры-
тыми галереями, стал наиболее совершенным осуществлением вы-
работанного в Риме принципа упорядочения системы интерьерных
и полуинтерьерных пространств.
Сеть улиц в гипподамовой традиции регулярной планировки
оставалась структурой негативной — как упорядоченная сеть раз-
ломов городской ткани, промежутков, разделяющих ее непрерыв-
ность на замкнутые единицы. По улице греческого регулярного го-
рода следовали к некой цели между замкнутыми кварталами —
позитивными единицами, организующими жизнь. По ним выходи-
ли в открытое пространство — пустоту, в котором пребывали глав-
ные объемы.
Со временем, однако, возрастающая интенсивность общест-
венных контактов стала «выдавливать» некоторые функции за пре-
делы компактных центров. По сторонам улиц — нейтральных ко-
160
Раздел 6
ридоров, возникали ряды открытых к ним помещений таберн с лав-
ками и мастерскими ремесленников (Помпеи). Пространства улиц
получали собственную жизнь, организуемую поднятыми над плос-
костью проезда тротуарами и связывающими тротуары разных сто-
рон пунктирами обтесанных каменных блоков для перехода (колеса
колесниц должны были проскакивать между ними).
Среди равномерной сети улиц выделялись — в том числе и ши-
риной — главные (считалось, что кардо должна иметь ширину 6 м,
декуманус — 12). В эпоху империи пространства улиц были окон-
чательно осознаны как нечто позитивное. Это понимание получи-
ло выражение в широком распространении колоннадных улиц,
которые появились во множестве городов и перерастали во впе-
чатляющие протяженные пространства, объединенные ритмом
крупного ордера. Колоннады, возводимые по обе стороны улицы,
защищали пути пешеходов от солнечного зноя и дождя; галереи,
поднятые над улицей, куда поднимались по лестницам, открывали
новые ракурсы наблюдения за городской жизнью; эти ракурсы
придавали особенную очевидность позитивному восприятию
уличного пространства. Пространство улиц связывалось с направ-
лением и темпом движения.
Особой славой пользуется главная магистраль Пальмиры,
Большая колоннада, протянувшаяся на 1 135 м (II в. н. э.). По каж-
дой стороне ее, обрамляя И-метровую ширину, проходили крытые
портики шириной в 6 м, имевшие по 375 коринфских колонн высо-
той 9,5 м. Портики имели второй ярус для прогулок. Трасса улицы
прокладывалась постепенно; она зависела от места древних культо-
вых центров города и их монументальных строений, что определи-
ло два перелома оси. Один из них скрывает монументальный тет-
рапил — триумфальная арка с двумя перпендикулярно направлен-
ными проездами под ней. На втором переломе поставлены две пер-
пендикулярные ветвям улицы триумфальные арки, расходящиеся от
общего угла. Улица, таким образом, разбита на отрезки с перспек-
тивами, замкнутость которых подчеркивает позитивность про-
странств, обрамленных Большой колоннадой.
Центральная ось Пальмиры не была явлением уникальным.
В Эфесе такая улица пересекала весь город с востока на запад. В Ан-
тиохии общая длина колоннадных улиц составила 25 км. Колон-
надные портики выделяли главные улицы типичного окраинного
города империи на севере Африки, Тимгада (с 100 г. н. э.); перепек-
Пространство в архитектуре римской античности
161
тиву декумануса здесь завершали триумфальные арки. Во времена
династий Северов (III в. н. э.) монументальную главную улицу, об-
рамленную колоннами, получил африканский город Лептис Магна.
Несколько колоннадных улиц было и в самом Риме.
Пантеон
Мы уже упоминали о том, что римская концепция пространства
в ее полноте раскрывается только через знакомство со всей систе-
мой типов зданий. Но основной смысл ее, противостоящий эллин-
ской телесности восприятия, может представить одно здание —
Пантеон императора Адриана в Риме (118-128), предлагающий од-
ну из наиболее выразительных метафор, когда-либо созданных ар-
хитектурой. «Вместе со строительством Пантеона... архитектурное
мышление обратилось внутрь и изнутри вовне; тем самым понятие
интерьерного пространства стало общепринятой частью художест-
венного утверждения главной идеи»12.
Здание, существующее ныне, построено в правление императо-
ра Адриана на месте более старого, созданного приближенным им-
ператора Августа, Агриппой. Оно посвящено всем богам. Историк
III в. Дио Кассий писал: «Здание названо Пантеоном потому, что
среди изображений, которые его украшают, есть статуи многих бо-
гов, включая Марса и Венеру; но, по моему мнению, оно получило
свое имя по купольной кровле, напоминающей небо»13.
Время Высокой империи стало поворотным в истории культу-
ры, когда старые верования приходили к упадку, неколебимость их
установлений ослабевала, ритуалы еще соблюдались, но их преоб-
разование стало мыслимым делом; к нему побуждало влияние не-
традиционных религий. Пантеон отразил эти тенденции, предло-
жив принципиально новую модель сакрального здания. Этот храм
уже не был домом божества, куда открыт свободный доступ лишь
посвященным, а массы молящихся могут только созерцать его из-
вне как сокровенный объект. Пантеон, напротив, принимал моля-
щихся в свое сакральное пространство — объемлющее верующих,
оно объединяло их прямой причастностью к божественному.
Пантеон образован из трех элементов: перекрытой бетонным
куполом ротонды с внутренним диаметром 43 м, мощного восьми-
колонного портика, увенчанного фронтоном, и нейтрального со-
единительного тела, связавшего объемы с криволинейной (ротонда
162
Раздел 6
и купол) и ортогональной (портик) структурой. Восприятие экс-
терьера в принципе не отличалось от традиционного восприятия
античного храма как обособленно существующего пластического
тела, хотя, как стало принято в Риме, к портику примыкали низкие
крылья колоннад, обрамлявших прямоугольный вымощенный дво-
рик-вестибюль перед входом. Впрочем, за пределами этого тради-
ционно организованного пространства лаконичный объем ротонды
воспринимается не как самостоятельное тело, подобно греческим
толосам, а как целла — мощная оболочка интерьера, заявляя о но-
вом принципе формирования среды.
Портик, традиционный знак входа в античной архитектуре, со-
единен с цилиндрической оболочкой, ставшей революционным ре-
шением, через нейтральную массу прямоугольных очертаний, на
которой гасятся несовпадающие по высоте горизонтальные пояса и
антаблементы основных объемов. Портик и артикулированный
туннель, пронизывающий массив промежуточного объема, намеча-
ет традиционную для храма продольную ось, завершаемую обрам-
ленной колоннами апсидой на противоположной входу стороне ци-
линдра. Ось, впрочем, дает лишь начальный импульс входящему.
За бронзовыми дверьми она растворяется в целостности про-
странства, над которым доминирует полусферический купол. Впе-
чатление целостности усиливается соотношением величин — внут-
ренний диаметр ротонды равен общей высоте пространства, кото-
рая делится пополам между полусферическим куполом и цилинд-
рическим основанием. Пять ярусов сокращающихся кверху кессо-
нов усиливают восприятие подъема полусферы, ее высоты. Сече-
ние кессонов подчинено не центру сферической конструкции, но
взгляду идеального наблюдателя, стоящего в центре здания — на-
правление их нижних граней следует прямой, соединяющей его
глаза с кромкой кессона — восприятие пространства, таким обра-
зом, принято как объективный фактор формообразования. Верти-
кальную ось подчеркивает круглый проем, опайон, в вершине ку-
пола, диаметром около 7 м, через который во внутреннее простран-
ство ниспадает мощный цилиндрический столб света. Сакральная
ось, устремленная к нему, получила в нем свое физическое вопло-
щение. Лучи солнца движутся в пространстве Пантеона, вводя в
интерьер зримое восприятие времени.
В уравновешенном объемлющем пространстве традиционная
глубинная ось объединена в некую значащую целостность с верти-
Пространство в архитектуре римской античности
163
кальной, образованной куполом. Сегодня невозможно восстановить
точный смысл метафоры, воплощенной в здании современниками
Адриана. Очевидно, что этим смыслом утверждается единство не-
бесного и земного, космического порядка и живой истории. Марга-
рет Юрсенар предложила свое прочтение в воображаемых записках
императора: «Я пожелал, чтобы это святилище всех богов воспро-
извело сходство земного шара и звездной сферы, шара, в котором
заключены истоки вечного огня и полой сферы, объемлющей все
сущее. Такой была и форма хижин наших предков... Купол... об-
щался с небом через большое отверстие в центре, голубое днем,
черное ночью. Этот храм, открытый и вместе с тем сокровенно
замкнутый, задуман как солнечные часы. Время совершает свой
круг по кессонированному своду, столь заботливо отполированному
греческими мастерами; диск дневного света висит на нем как золо-
той щит; дождь образует на каменных плитах пола чистый бассейн;
молитвы будут подниматься как дым к пустоте, в которую мы по-
местили богов»14.
Можно полагать, что метафора пространства Пантеона имела в
своей основе древний образ человека в центре космоса, причем
очертание пространства как точной сферы связывалось с образом
круга горизонта империи под куполом небесного свода. Ортого-
нальная сетка рисунка пола несла в себе намек на прием устроения
земель, план города, созданного римлянами. При такой версии ис-
толкования темой могло быть единство богов и государства, что
подтверждают сведения о статуях цезарей, стоявших под портиком
Пантеона.
Версии толкования метафоры Пантеона различны; отметим, од-
нако, что они основываются на восприятии пространственного тела
интерьера и его артикуляции. Вместе с тем поверхность барабана
ротонды, расчлененная на два яруса, организована элементами клас-
сического ордера, с крупными коринфскими колоннами и пилястра-
ми внизу, поясом малых пилястр на верхнем ярусе. Вместе с кессо-
нами, покрывающими купол, они образуют оболочку, формирующую
пространство, но скрывающую сложную и совершенную структуру
работающего бетонного массива (конструкция его, обеспечивающая
рациональное распределение усилий, настолько совершенна, что ги-
гантское сооружение почти 19 столетий без значительных поврежде-
ний существует в сейсмостасной зоне, а свободный его пролет оста-
вался абсолютным рекордом до последней трети XIX в.
164
Раздел 6
Зодчие не посчитали необходимым выявить визуально строе-
ние этой сложной и эффективной конструкции. Они ограничили
знаковую функцию элементов ордера тем, что, заявляя присутствие
антропоморфной символики и вводя величины, близкие к человече-
ским, они организуют ритмическую артикуляцию пространства.
Изящная тонкость малых пилястр верхнего яруса, воспринимаемо-
го как опора полусферы купола, внушает посетителю представле-
ние о легкости каменного неба, его парении.
Пантеон показал возможности образной выразительности, свя-
занные с организацией пространственной формы. Вряд ли в исто-
рии зодчества можно найти еще одну постройку, которая так долго
служила бы образцом, а ее архитектурные темы разрабатывались
бы в столь многочисленных вариациях. Вариации и подражания
возникали не только в римской античности. Главное следствие но-
ваций, введенных зодчими Пантеона, отразившими новые тогда
тенденции религиозной идеологии, в том, что их произведение ста-
ло одним из прообразов типа христианских центрических храмов
византийской империи и того взаимодействия горизонтальной и
вертикальной осей, на котором основываются главные метафоры их
пространственной формы.
Термы
Пантеон, при всех усилиях подражать его форме — от римско-
го мавзолея Гордиана (начало IV в.) до капеллы в Мазере построен-
ной Палладио (1579-1580) или церкви Сан-Франческо-ди-Паола в
Неаполе (1817-1846), остался в истории зодчества явлением уни-
кальным. Типом здания, в котором наиболее последовательно реа-
лизован интерес римлян к разработке проблемы внутреннего про-
странства зданий, стали термы. При этом в крупных зданиях импе-
раторских терм была создана не только грандиозная коллекция ве-
личественных интерьеров, перекрытых разнообразными сводчаты-
ми конструкциями, но и разработаны приемы объединения таких
интерьеров в сложные, связные системы, следующие логике разви-
тых функциональных программ.
Многочисленные общественные бани римлян республиканско-
го времени были невелики. Их сводчатые помещения складывалась
в асимметричные группы, подчиненные очертаниям участка и
иным особенностям конкретной ситуации (Стабианские термы в
Пространство в архитектуре римской античности
165
Помпеях, II—I в. до н. э.). В эпоху империи, однако, развитие образа
жизни римлян превратило купание во всеобщий ритуал, имевший
не только оздоровительное, но и важное социальное значение, со-
единяясь с развитием неформального общения. Этот ритуал занял
обязательное место в распорядке дня. Его исполнение связывалось
с определенной последовательностью. За раздеванием в аподите-
рии следовал отдых в теплом помещении — тепидарии, затем —
мытье горячей водой в кальдарии и далее — освежающее омовение
холодной водой во фригидарии. Последний считался главным по-
мещением и занимал центральное положение на пересечении осей
здания; он открывался в плавательный бассейн. Систему дополняли
помещения с очень высокой температурой — камера сухого жара и
парильня. С блоком основных помещений соседствовали площадки
для спортивных упражнений и солярий, обрамленные колоннадами.
Залы и портики таких зданий вмещали тысячи людей в Риме.
К началу империи было около 170 терм, государственных и част-
ных, а в IV в. — уже от 900 до 1 00015. Добивавшиеся популярности
императоры придали строительству терм государственный размах,
создавая колоссальные здания. «Первые термы подарил городу при
Августе ближайший его сотрудник Випсан Агриппа, в 64 г. построил
свои термы Нерон, в 68 г. — Веспасиан, в 75 г. — Тит, в 110 г. завер-
шил строительство своих терм Траян, в 120-м — Адриан, в 188 г.
были сданы в эксплуатацию термы Комода, в 217-м Каракаллы; в
230-м — Александра Севера, в 272-м — Аврелиана, в 295-м — Ди-
оклетиана, в 324-м — Константина»16.
Тип крупных бань кристаллизовался в I в. Термы Тита, не со-
хранившиеся, но известные по рисунку Палладио, уже получили
строго симметричный осевой план, где на главной оси последова-
тельно располагались кальдарий, тепидарий и фригидарий, а сим-
метрично по их сторонам размещались одинаковые группы поме-
щений, включавшие вестибюль, раздевальню, камеры сухого жара,
залы для омовения к массажа. План, рационально направлявший
движение двух потоков посетителей, создавал впечатляющее чере-
дование разнообразных сводчатых пространств17.
В термах Траяна определилась структура, основанная на соче-
тании компактного центрального ядра банного комплекса и просто-
рных дворов, охватывающих его с трех сторон. В организации цен-
трального ядра решительно подчеркнута главная ось, связанная со
средней частью объема, имеющей большую высоту. Начало ее на
166
Раздел 6
фасаде обозначено креповкой, в которой заключены вестибюли, а в
глубине здания — выступающим объемом кальдария, которому по
другую сторону двора отвечает экседра ограды. Система интерье-
ров этого здания отличалась контрастами величин соседствующих
пространств. Крестообразная центрическая структура фригидария
создавала акцент, подчеркнутый раскрытием к поперечной оси,
концы которой замыкали экседры.
Разнообразие сводчатых, перекрытых куполами и открытых к
небу интерьерных пространств этих зданий, как и соединение по-
мещений в сложные группы, связывалось со сложностью функцио-
нальной программы, но не определялось только ей. Очевидна некая
связь между организацией плана императорских терм и канонизи-
рованной правилами разбивки военного лагеря (castrum) парадиг-
мой градоустройства на основе пересечения кардо и декуманус,
главной и вторичной осей. В этой основной структуре были заклю-
чены магические смыслы, которые казалось важным закрепить на
разных уровнях пространственных систем. Крест осей наделялся
той же многосложностью значений, которую обнаруживает про-
странственная метафора Пантеона. С наибольшей очевидностью
символика пространства, соединяющая космическое и земное, ис-
пользована в комплексах терм Каракаллы и Диоклетиана.
В термах Каракаллы достигнутые римлянами технические воз-
можности создания разнообразных сводов из бетона — цилиндри-
ческих, крестовых, сферических — использованы с наибольшей
полнотой. План блока банных помещений здесь основан на прямо-
угольнике 110 x214 м; блок стоял «островом» посреди обрамлен-
ного низкими корпусами квадратного двора со стороной 450 м,
имея с ним общую ось север — юг. Блок смещен к южной стороне
двора; северную его часть занимало пространство с полями для
спортивных соревнований, восточно-западную ось которого закре-
пляли экседр с перистилями. Пространства внутри главного блока
соединены в четко упорядоченную систему, подчиненную кресту
осей. Они пересекались в помещении, образующем пространствен-
ное ядро здания — зале фригидария, перекрытом тремя крестовы-
ми сводами с пролетом 19 м.
Обширные окна в люнетах сводов, поднимающихся над более
низкими частями объема, освещали пространство зала. Южная сто-
рона его главной оси раскрывалась к открытому сверху плаватель-
ному бассейну, северная через компактный тепидарий вела к ку-
Пространство в архитектуре римской античности
167
польному залу горячей бани кальдария, выступавшему за пределы
основного прямоугольника плана. Его громадное пространство бы-
ло несколько сокращенной версией Пантеона (пролет 34 м) при
большей по отношению к куполу высоте барабана, расчлененного
на четыре яруса. К коротким сторонам прямоугольника плана при-
мыкали палестры, окруженные помещениями для раздевания. Про-
странственные контрасты больших и малых помещений служили
не только для драматизации восприятия — массивные конструкции
последних гасили распор сводов. Термы Каракаллы могли едино-
временно принять до 1 600 человек.
Интерьеры терм императорского времени получали сложную
пластическую разработку, непременным средством артикуляции
которой служили архитектурные ордера (коринфский употреблялся
наиболее часто). Для отделки поверхностей из кирпича и бетона
использовались разнообразные сорта цветного мрамора; в нее
включались скульптурные барельефы и росписи. Подчеркнутая
роскошь свидетельствовала о значении сооружений, далеко выхо-
дящем за пределы утилитарных функций омовения и оздоровления
физическими упражнениями. В обществе Римской империи увели-
чивались слои людей, не вовлеченные в активную производитель-
ную деятельность, все более погружавшиеся в праздное сибаритст-
во, но сохранявшие значение политической силы.
Термы предлагали таким людям среду, благоприятную для ин-
теллектуального и нравственного развития. В то же время общест-
венные бани становились местом, где можно было пытаться консо-
лидировать мнения, преодолевая процессы размывания обществен-
ных связей, сползания культуры к энтропии; они играли роль, пре-
жде всего, общественных центров. Отсюда — та значимость, кото-
рую получило строительство и поддержание зданий терм в госу-
дарственных программах империи, отсюда и стремление к жесткой
упорядоченности системы их интерьеров, гигантизм, давящий на
сознание, наконец — конкретное содержание метафор пространст-
венной формы.
Характерна трактовка формы купольного кальдария терм Кара-
каллы. Изменение пропорций между барабаном и куполом сняло
экуменические аллюзии, на которых основана метафора простран-
ственной формы интерьера Пантеона. Цилиндрический барабан
стал главным, что подчеркнуто включением в его систему пояса
арочных окон, отделившего купол. Кольцо глубоких проемов по
168
Разлел 6
первому ярусу открывает интерьер к соседствующим пространст-
вам. Это уже не завершенный в себе символ единства небесного и
земного, но утверждение торжества упорядоченности земной жиз-
ни, где сильно звучит антропоморфная символика ордера.
В интерьерах терм Каракаллы, наряду с традиционной трактов-
кой ордера как стоечно-балочной конструкции (колонны, поддержи-
вающие архитрав, который отсекает полуциркульное завершение
арочных проемов), использована и принципиально новая форма, зри-
тельно связывающая пяты крестового свода с вертикальной опорой-
колонной (связь чисто символическая, так как свод является частью
монолитной бетонной конструкции, объединяющей свод со стенами,
как воспринимающими вертикальную нагрузку, так и гасящими рас-
пор, а мнимая опора — колонна — это лишь часть пространствообра-
зующей оболочки, создаваемой в каменной облицовке). Таким обра-
зом, в систему архитектурных ордеров введен новый знак или, точ-
нее, вариация знака, вызванная его применением в новых связях.
В использованной конструктивной системе естественно прямое
соприкосновение между опорой и сводом, для римлян, однако, ха-
рактерно стремление к компромиссу между традицией и радикаль-
ным новаторством. Между колонной и опорой крестового свода
появился поэтому фрагмент антаблемента, образующий продолже-
ние капители, бесполезное практически, но позволяющее сохра-
нить привычную последовательность артикуляции и связи элемен-
тов. Вариант ордера, связывающий колонну с креповкой антабле-
мента в единстве устоя был воспринят как знак, допускающий са-
мостоятельное применение. Такие устои, несущие скульптуру, или
откровенно выполняющие одну лишь функцию — артикулировать
пространство, внося в его оболочку ритм и пластику, стали активно
использоваться в поздний период римской империи.
Мастерство, с которым римляне формировали сложные про-
странственные структуры громадных сооружений терм, лишилось
своего предмета с одряхлением и распадом империи, а вместе с
ней — античной культуры. Разрушение инженерных инфраструк-
тур, щедро снабжавших водой города, заставило забросить термы.
Вместе с упадком городов становились ненужными, разрушались и
другие величественные постройки. Только зодчие Ренессанса, по-
сле более чем тысячелетнего забвения, начали исследовать руины,
размышляя над былым величием построек. Но лишь барокко вер-
нуло актуальность забытому искусству построения выразительной
Пространство в архитектуре римской античности
169
связной последовательности интерьерных пространств. В XVIII в.
термы римлян становятся предметом особого интереса археологов
и архитекторов (в числе их исследователей был Чарлз Камерон).
Ими вдохновлены многие архитектурные фантазии Дж. Е. Пиране-
зи, давшие толчок развитию романтического классицизма, как и
визионерские образы Булле. Предметом особенно внимательного
изучения и подражания термы стали для парижской Школы изящ-
ных искусств. В XIX в. вариации на тему их пространственной
композиции были положены в основу многочисленных проектов,
претендовавших на Большой римский приз этой школы. Можно
сказать, что на них воспитывалась профессиональная культура
позднего классицизма и «стиля второй империи» (проекты римских
лауреатов М.-Ж. Пейра, 1786; Ж.-Л. Дюрана, 1780; Ш. Персье,
1786; А.-Л.-Т. Водуайе, 1783; Л.-А. Дюбю, 1797; Ж.-Н. Юйо, 1811;
Ф. Дюбана, 1823; Л. Дюка, 1825; Л. Водуайе, 1824 и др.)18.
Базилики
При всей значительности лаконичной метафоры Пантеона и
впечатляюще сложного развития римской концепции архитектурно-
го пространства в зданиях терм императорского времени, имевших
непреходящее значение для европейской культуры зодчества, типом
здания, оказавшим наиболее глубокое и непосредственное влияние,
стала базилика — зал с колоннадой. Тип этого главного граждан-
ского здания городов римской античности, где оглашались поста-
новления властей, осуществлялись как судопроизводство и бирже-
вые операции, так и свободное общение, восходит к эллинистиче-
ской стое. Генезис его, однако, неясен. Сложился он в центральной
Италии времен республики, откуда распространился по провинци-
ям римского Запада. Муниципальные базилики располагались в
связи с рыночной площадью и обычно кроме зала с внутренней ко-
лоннадой включали группы дополнительных помещений.
Наиболее ранние известные примеры восходят ко II в. до н. э.,
когда складывались основания новации, определившие характер
новой эры в архитектурном мышлении. Распространилось, в част-
ности, использование бетона для разнообразных сводчатых покры-
тий. Ранние базилики с их высокой центральной колоннадой, об-
рамляющей среднюю часть обширного более низкого зала, имели
деревянное покрытие. А. Ригль объяснял это тем, что «рыночные
170
Раздел 6
базилики происходят, очевидно, от открытого двора, перекрытого
из практических соображений кровлей» .
Базилики — здания протяженные. «Базилики должны быть в
ширину не меньше трети и не больше половины своей длины, если
только этому не препятствуют условия места и не заставляют как-
нибудь изменять их соразмерность» — утверждает Витрувий, не
считая нужным подтвердить какими-либо доводами то, что каза-
лось, видимо, твердо установившимся20. Ригль полагал, что именно
- 21
продольное здание создано для движения людей внутри него и,
следовательно, сама динамичность функций предполагала как на-
правленность пространства, так и растворение в нем ограничи-
вающих тактильных структур.
В начале II в. до н. э. в Риме построена базилика Эмилия —
продолговатый зал с внутренней четырехсторонней колоннадой,
получившей верхнебоковое освещение обрамленного ею простран-
ства через окна, которые расположены над пониженными обрам-
ляющими частями. Одна из длинных внешних сторон здания, об-
ращенная к форуму, была раскрыта колоннадой. Похожую схему
разработал Витрувий для построенной им базилики в Фано, кото-
22
рую он описал в трактате .
В этой схеме с продольной осью, поддержанной трибуналом —
возвышением для магистрата — и входом в другой узкой стороне,
соперничала сильная поперечная ось открывающейся вовне колон-
нады. В базилике Ульпия, длинная сторона которой была равна сто-
роне огромной площади форума Траяна в Риме, последнего и само-
го крупного из императорских форумов, зодчий усилил продольную
ось двухъярусной внутренней колоннады экседрами, расположен-
ными на ее торцах. От главного пространства экседры отделяла
двойная одноярусная колоннада (110-113 гг. н. э.).
В III в. схема базилики Ульпия использована для огромной, с
плоским потолком, поднятым на 30 м, и двухъярусной внутренней
колоннадой, базилики на форуме Северов в Лептис Магна (Сев. Аф-
рика). Экседры здесь прямо открывались в колоннаду среднего нефа,
а боковые нефы были разделены на два яруса, чем подчеркивалось
главенство высокого центрального нефа с его верхним ярусом окон.
Экседра на одной из длинных сторон, торжественно обрамляющая
главный вход от форума, входила в его композицию и не влияла на
интерьер, где преобладала продольная ось. И все же противоречие,
присущее витрувианскому варианту типа, сохранялась. К тому же
Пространство в архитектуре римской античности
171
одинаковость экседр лишала пространство главного нефа направ-
ленности, ориентированности на возвышение трибунала.
Этого недостатка не имел другой вариант типа, представлен-
ный базиликой в Помпеях (78 г. до н. э.). Вытянутый прямоуголь-
ник ее плана обращен к форуму одной из коротких сторон; здесь
расположен главный вход; двухъярусный трибунал на противопо-
ложной стороне завершал продольную ось, ставшую главной визу-
ально и функционально. Организация естественного освещения
главного нефа окнами над пониженными боковыми подчеркнула
логику глубинного построения пространства.
Соревнование двух приемов организации пространства было
завершено их соединением в грандиозной базилике, начатой импе-
ратором Максенцием на Римском форуме и завершенной Констан-
тином (307 - после 313 гг.). Для ее зала использована система пере-
крытия прямоугольного в плане пространства крестовыми бетон-
ными сводами, разработанная при строительстве монументальных
императорских терм. Здесь она получила еще более крупный мас-
штаб (центральный неф высотой 35 м перекрыт тремя ячейками
крестового свода с пролетом 25 м). Распор массивной конструкции
воспринимали мощные столбы, поддержанные поперечными сте-
нами, которые соединены цилиндрическими сводами. Пологие
контрфорсы над этими стенами, расчленявшими боковые нефы,
укрепляли возвышающуюся часть среднего нефа, ограждение кото-
рой прорезано огромными арочными окнами.
Ритм поперечных стен, расчленяющих боковые нефы, подчер-
кивал значение центрального и его оси, направленной от входа к
экседре с трибуналом. Главенство этой оси очевидно и неоспоримо;
визуальные связи, объединяющие боковые нефы, ограничены
сквозными перспективами сквозь арочные проемы в поперечных
стенах. Поперечное направление цилиндрических сводов гасит эти
вторичные оси, параллельные главной. Но при этом возникли попе-
речные оси, связанные с расчленением интерьерного пространства.
Они определены не только конфигурацией сводчатого покрытия, но
и широкими проемам, прорезающими наружные стены (последним,
по сути дела, придана каркасная структура). Роль света в организа-
ции пространства усложнилась, создавая в ней некую двойствен-
ность. Возникла активная взаимосвязь внутреннего и внешнего
пространств, определяющая визуальные характеристики здания как
объема, воспринимаемого извне.
172
Раздел 6
Три поперечных оси связаны с одинаковыми пространствами;
они композиционно равноправны и подчинены главной продольной
оси. Но уже возникла напряженность взаимодействия продольных
и поперечных направлений развертывания интерьерного простран-
ства, дополненная движением по вертикали, — к сводам и верхне-
му ярусу проемов центрального нефа.
Здание базилики Максенция—Константина стало не только
вершиной развития римской архитектуры монументальных сводча-
тых пространств. Оно уже заключало в себе гены архитектурных
тем грядущих исторических периодов. Намеченное в нем взаимо-
действие продольного и поперечных направлений получило логи-
ческое развитие ранее всего в крестово-купольной системе визан-
тийских храмов. В нем прослеживается и начало генезиса про-
странства храмов западного христианства с их более жестким под-
чинением глубинному развитию от главного портала к алтарю. За-
крепился, обрел завершенную форму тип интерьера, пространство
которого целостно и, вместе с тем, четко артикулировано распреде-
лением света благодаря «базиликальному» разрезу с повышенным
средним и пониженными боковыми нефами. Началось и развитие
той схемы распределения нагрузок в конструкции, которая впо-
следствии определила характернейшие черты средневековой ро-
манской архитектуры и более поздней готики (передача распора
сводов на поперечные стены и контрфорсы).
Новый словарь архитектурных форм определился в своих фи-
зических очертаниях. При развитии христианства он наполнялся
новыми значениями. Стремление более полно и адекватно выразить
эти значения стало причиной дальнейших циклов трансформации
языка формы, в том числе и языка организованного пространства.
Непрерывности процесса способствовало то, что для церквей хри-
стианства, ставшего государственной религией, приспосабливались
существовавшие здания базилик, а затем строились храмы, сле-
дующие их модели.
Жилые постройки
Жилые постройки — область архитектуры, связанная с повсе-
дневным бытом, наиболее консервативной составляющей культуры.
В Риме, однако, развитие гражданской общины было настолько ди-
намичным, что захватило в сферу трансформаций не только жизнь
Пространство в архитектуре римской античности
173
городских пространств и общественных зданий, но и приватный
быт. Римская архитектурная революция, связанная с массовостью
общества, интенсивностью городской жизни и публичностью су-
ществования, вызвала глубокие преобразования в организации жи-
лищ. Стержнем этих преобразований становилось понимание об-
житого пространства как реальной субстанции, организующей в
данном случае быт и служащей средством выразительности.
От республиканского Рима ведет начало ветвь жилой архитекту-
ры, основанная на понятии «домуса», обособленной резиденции од-
ной семьи, образующей автономное целое и имеющей самостоятель-
ный выход к общественному пространству улицы. Домус был про-
должением древнейшей традиции формирования жилища в присре-
диземноморском регионе, с помещениями, окружающими внутрен-
ний замкнутый дворик и обращенными к нему. Замыкающая целое
оболочка раскрыта вовне лишь проемом входа. Италийское жилище
изначально сложилось как непосредственное развитие архетипа атри-
умного дома этрусков, близкого к общераспространенному в грече-
ской античности классического периода и не отличавшегося по своим
топологическим характеристикам от жилищ древнего Египта и Дву-
речья. Домус оставался в представлениях не только местом обитания,
но и символом единства семьи, началом всех путей для ее членов.
Уже в классической Греции пространство атриума воспринима-
лось не только как пустота, интервал между организованными мас-
сами, но и как связь внутреннего мира жилища, его «малой вселен-
ной», с космосом, светом и ритмами дня и ночи. На это пространст-
во, однако, не были направлены особые формирующие усилия. Оно
было нерегулярным и изолированным от городской жизни.
Развитие пространственной структуры домуса определялось
типом организации действительности, в котором приватное размы-
валось публичностью каждодневного существования. Он осозна-
вался как часть обширной пространственной системы, что получи-
ло выражение в его осевой структуре, подчинении внутренней ор-
ганизации оси, направленной в глубину от входа с улицы, перпен-
дикулярно последней. Уже в наиболее старых домах Помпей, вос-
ходящих к 300 г. до н. э., очевидна четкая симметричная упорядо-
ченность атриума и расположенных вокруг помещений. В глубине
его на оси лежало главное помещение дома — таблинум; по сторо-
нам его — «крылья», открывающие доступ в задние комнаты. Ме-
жду крыльями и фронтом — помещения членов семьи. Над всеми
174
Раздел 6
помещениями, кроме таблинума, устраивался низкий второй этаж,
иногда с балконами, обращенными во двор. Маленький садик сзади
во II в. до н. э. превратился в перистиль с колоннами по четырем
сторонам, окруженный помещениями. Ось замыкалась экседрой.
Даже при неправильных очертаниях участка, пространства, сопро-
вождающие ось, сохраняли регулярность,
Функции деловой, общественной жизни, входившие в дом, были
сосредоточены в его передней части — обращенных к улице табер-
нах и вокруг атриума, ставшего приемным залом. Перистиль был
средоточием приватной жизни. Анфиладное расположение при чере-
довании открытых к нему и перекрытых пространств и при различ-
ной высоте последних создавало впечатляющие эффекты глубинной
перспективы. Использование ордеров разной высоты подчеркивало
разнообразие масштабов и обогащало артикуляцию целого.
Схема разнообразно варьировалась, сохраняя основные струк-
турные закономерности. Ориентиры ее развития определялись эс-
тетическими ценностями, связанными не с массами и их пластикой,
а с пространством, его артикуляцией, открытостью к свету, воздуху,
окружающей природе. Настенные росписи, которыми обильно де-
корированы дома Помпей, подчинялись этой общей направленно-
сти. Поддерживая архитектуру своими ритмами и композиционной
организованностью, они вместе с тем претендуют на воспроизве-
дение трехмерности пространства, в котором развертываются их
сюжеты. Плоскость стены как бы снимается изображением, реаль-
ное пространство получает продолжение и развитие в иллюзорном.
Характерна фантастическая архитектура, мотивы которой обра-
зуют основу росписей третьего и четвертого стилей — ее элементы
тяготеют к невозможной легкости и стройности; оптическая пер-
спектива создает иллюзию глубины, пронизывающей многие пла-
ны, образованные ажурными сочетаниями стройных вертикалей и
легких горизонталей. Целое, как правило, свидетельствует о стрем-
лении к прозрачности и легкости, полному растворению или пер-
форации массивных ограничений пространства. В последнем, а не
в пластике масс заключены для художника основания эстетической
ценности. Перспективные иллюзии позволяли ощутить ограничен-
ность помещения как часть обширной пространственной целостно-
сти. Сюжеты росписей — исторические или мифологические, со-
относимые с реальностью происходящего действия, вносили в про-
странство временную глубину. «Таким образом, римское простран-
Пространство в архитектуре римской античности
175
ство характеризовало измерение времени не как вечный, статичный
порядок, подобно ортогональному пространству египтян, но как
измерение действия»24. Значение этого типа для общего прогресса
римской архитектуры подчеркивает в своей книге о ней Дж. Уорд-
Перкинс. Он полагает, что «первым главным монументом, в кото-
ром проявилось ясное осознание новых революционных возможно-
стей архитектуры, был Domus Aurea, Золотой дом в Риме, роскош-
ная вилла, которую Нерон построил прямо в сердце Рима после
грандиозного пожара 64 г. н. э., экспроприировав 120-140 га среди
того, что было старым городом»25.
Золотой дом, поставленный на расчлененном террасами склоне
Эсквилинского холма над искусственным озером (место последнего
позднее использовано для строительства Колизея) имел в целом тра-
диционную схему прибрежной виллы с бетонными сводами — раз-
росшуюся и преувеличенную. Но в середину его правого крыла
включена группа помещений, собранная вокруг октогона, перекры-
того куполом (пролет 13,5 м) с опайоном шестиметрового диаметра.
Раскрытые в центральное пространство прямоугольные камеры изо-
бретательно освещены непрямым светом через окна, выведенные в
открытые пазухи между вертикальными толщами малых сводов и
наклонной поверхностью купола. Здесь впервые, за полвека до
строительства Пантеона, зодчий использовал новые возможности,
которые предоставлял бетон, для формирования «пространственного
тела» интерьера, обладающего собственной выразительностью.
Новации, примененные в Золотом доме, заброшенном и частич-
но уничтоженном Флавиями, с дерзким размахом использовал зод-
чий Рабирий, построивший императорскую резиденцию, известную
как Домус Аутустиана, на Палатине (завершена в 92 г.). Громадный
комплекс занял седловину неправильных очертаний между отрогами
Палатинского холма, рельеф которой породил множество проблем
(и, в частности, асимметричность фасадов). Сооружения разделены
на группу, предназначенную для представительства, и приватную
резиденцию. Каждая из частей получила осевую регулярную органи-
зацию вокруг обширного перистиля. Поперечная ось связывает эти
торжественные дворы. С восточной стороны к резиденции примыкал
сад, расположенный на более низких отметках («Стадион»).
Чередование закрытых и открытых пространств, объединенных
анфиладно, стало основой архитектурной метафоры, отразившей
представление об императорской власти, которое приобрело харак-
176
Раздел 6
тер культа. Осевая организация связывалась с семантикой власти,
регулярность становилась выражением идеи порядка, поддержи-
ваемого властью. Новаторство зодчего, главным материалом кото-
рого при создании значащей формы была «организованная пусто-
та», опиралось на традицию и древние архетипы жилища и город-
ского организма.
Римский подход к пространству определил использование орде-
ра не как иерархической системы пластических элементов, а как
универсального упорядочивающего начала, средства модульной ко-
ординации. Метрический повтор ордерных элементов по вертикали
и горизонтали определял артикуляцию фасадов таких громадных
сооружений, как театр Марцелла (11 г. до н. э.) и Колизей (80 г. н. э.).
Повтор, умножение осей и ярусов были приемом, те i более естест-
венным для неордерных систем формирования построек, образую-
щих городскую ткань.
Когда в беспокойные времена начала империи в Рим и Остию
хлынул поток новых поселенцев, там стали катастрофически воз-
растать плотность застройки и земельная рента. Выход был най-
ден в умножении числа этажей жилых построек. Витрувий писал:
«При настоящей же значительности Рима и бесконечном количе-
стве граждан имеется необходимость в бесчисленных жилых по-
мещениях. Поэтому, раз одноэтажные постройки не в состоянии
вмесить такое множество жителей Рима, пришлось тем самым
прибегнуть к помощи увеличения высоты зданий... возведением
нескольких этажей достигают величайших выгод в распределении
комнат»26.
Практическую возможность создания многоэтажных много-
квартирных домов — инсул — дало использование бетонных кон-
струкций, облицованных кирпичем, со сводчатыми перекрытиями.
Опасность землетрясений и пожаров заставила ограничивать их
высоту — император Август установил ее предел в 70 футов
(20,79 м), Траян затем сократил ее до 60 футов, но при этом в раз-
решенную норму вписывалось 5-6 этажей. К началу IV в. н. э. та-
кие жилища стали преобладающим типом — в Риме их было 46 602
при 1 790 домусах, при средней площади застройки 216 кв. м27. Ин-
сулы делились на вертикальные блоки, обслуживавшиеся своей ле-
стницей. Коридоры связывали ее с отдельными жилищами, свет в
которые поступал через проемы во внешних стенах — замкнутость
жилища, присущая атриумному домусу, разрушалась, помещения
Пространство в архи тектуре римской а н гич/юс г и 177
получали прямой контакт с окружающей средой. В то же время ин-
сулы, сливающиеся в квартальные массивы, воспринимались извне
не как объемы, но как обрамление уличного пространства.
Генезис и значения пространственной формы
в римской архитектуре
Заметим прежде всего — приводившиеся выше примеры, как и
более широкий материал, использованный для обобщающих суж-
дений, показывают определенность основных тенденций римской
архитектурной революции, устойчивое обращение к одному и тому
же представлению о пространстве, образу пространства. Но это ха-
рактерное и устойчивое нельзя считать исчерпывающей характери-
стикой практики.
Бок о бок с экспериментальной практикой и постройками, под-
хватывавшими те ее результаты, в которых утверждалось «римское»,
те же императоры строили и в консервативной манере, без особой
органичности соединявшей разнородное. Особенно устойчивой в
своем консерватизме была официальная религиозная архитектура,
среди которой Пантеон остался одиноким исключением (хотя и его
гениальные зодчие отдали дань консерватизму, спрятав новаторски
решенную ротонду за традиционным прямоугольным портиком под
фронтоном; сопряжение последнего с цилиндром свидетельствует не
только об их изобретательности и мастерстве, но и о том, что они
посчитали необходимым компромисс). Еще более амбивалентны и
компромиссны решения, обычные для театральных зданий.
Мы стремились выявить ту тенденцию формообразования, ко-
торая устойчиво утверждалась и не только определяла динамичную
составляющую самой римской архитектуры, но и подготовила
принципы развития на других этапах истории.
За главным направлением развития, определившего то новое,
что внесла римская архитектурная революция, стоит устойчивый
образ пространства, представление о мировом порядке, абстраги-
рованное от конкретности природных явлений. Образ этот связан с
идеей целостности обжитого, окультуренного мира. Центр его,
caput mundi, Рим, к которому ведут все дороги, центр системы пу-
тей и провинций, объединяющих территории. Столь же целостным
микрокосмом представлялся город с его четкой структурой; модель
эта распространила свое влияние и на формообразование построек.
13 Зак. 303
178
Раздел 6
Представление о вселенском единстве поддерживала философия
стоиков, утверждавшая, что благодаря причастности всех людей к
логосу они являются гражданами единого мирового Космополиса.
Римская архитектура, основываясь на такой предпосылке, тяго-
тела к системности. Развивая ее, она отказалась от плюрализма гре-
ческой архитектуры, ее стремления к сквозной индивидуализации,
распространяемой как на произведения архитектуры в целом, так и
на их элементы. Римское представление о системности предполага-
ло, что части в своем качестве определены целым, неким объем-
лющим образом. Индивидуальные элементы греков замещало по-
нятие организованного взаимодействия. В то же время римляне бы-
ли практичны и стремились к архитектуре функциональной, рабо-
тающей. Поэтому на универсальной основе они изобретательно
создавали множество разнообразных пространственных структур,
пространственных комбинаций, величин. Индивидуальная органи-
зация пространства примиряла стремление к универсализованной
системности с многообразием ситуаций.
«Пространство стало трактоваться как raison d’etre для оболоч-
ки, которая его формирует», — отметил Уорд-Перкинс28. Для осу-
ществления такой концепции бетонные своды, с их прочностью и
многообразием возможностей формообразования, были средством
почти идеальным. Но неверно считать римлян лишь прагматичны-
ми инженерами с талантом четких организаторов. Их практицизм
имел под собой религиозную и философскую основу. В нем виде-
лось, прежде всего, подчинение высшему порядку. Жизнь на земле
в сознании римлян была проявлением божественной воли. Их боги,
в отличие от греческих, не были воплощением природных сил в
антропоморфных образах. Они рассматривались как движители
исторического процесса, были скорее силами, чем персонами.
Для римлян была важна не только (и не столько) целесообраз-
ность. Важен был и ее образ, создаваемый средствами, которые не
всегда совпадали с практически необходимым. В этом лежит объ-
яснение их отхода от тектоничности в ее греческом понимании, ос-
нованной на раскрытии и подчеркивании элементарных фактов
формирования конструкции, с горизонтальными архитравами и пе-
рекрытиями, открыто покоящимися на вертикалях опор.
Римские зодчие от артикулированного сопряжения горизон-
тального и вертикального перешли к сводчатым и арочным конст-
рукциям, где криволинейное очертание плавно объединяет верти-
Пространство в архитектуре римской античности
179
кали, расположенные по разным сторонам пролета (в позднейшей
христианской символике арка выступала в числе воплощений един-
ства Троицы). В римской ордерной ячейке прямое выражение кон-
струкции уступило место уклончивому, амбивалентному визуаль-
ному эффекту.
Со времени Виолле-ле-Дюка и Шуази этот тип формообразова-
ния характеризуется этически как «неправда». Но для архитекторов
времени римской архитектурной революции прием открывал заман-
чиво разнообразные возможности, всецело отвечающие их пред-
ставлениям о мире и этичности образа действий.
И если отойти от схоластической этики рассуждений о «прав-
де» или «неправде» в организации элементарных звеньев компози-
ции, можно, как это сделал Уорд-Перкинс, сопоставить совершен-
ство формы, коренящееся в Парфеноне или храмах Пестума, с тем,
что исходит от интерьеров Пантеона и базилики Максенция — Свя-
той Софией в Константинополе, великими готическими соборами.
Становится очевидным, что римская архитектурная революция бы-
ла одной из наиболее значительных поворотных точек мировой ис-
тории архитектуры.
Стоит отметить, что в некоторых ее тенденциях прослежива-
ются аналогии с той архитектурной революцией, которая происхо-
дила уже в XX в. Можно видеть их в том стремлении к системно-
сти, которая входит в основу представлений об архитектуре и полу-
чает отражение в особом внимании к организации пространства,
равно как и в некой двойственности отношения к форме, в которой
стремление к целесообразности и функциональности сталкивается
со стремлением к символичности, наполненности значениями.
Можно видеть аналогии и в массовости культуры, интенсивности
ее процессов, что в равной мере относится к культуре Рима и мира
XX в. Есть аналогии и в том разнообразии пространственных
структур, которое генерировали культуры I-IV и XX вв., стремясь
ответить на разнообразие конкретных ситуаций.
Примечания
1. Шуази О. История архитектуры. Т. 1. М., 1935. С. 20.
2. Всеобщая история архитектуры. Т. 1. С. 199,204, 209, 219.
3. Там же. Т. 2. С. 142.
4. Там же. С. 398,400-403.
13*
180
Раздел 6
5. Кнабе Г. С. Древний Рим — история и повседневность. М., 1986.
С. 153-156.
6. Там же. С. 156.
7. Norberg-Schulz Ch, Meaning in Western Architecture. N. Y., 1976. P. 82.
8. Кнабе Г С. Представления римлян о пространстве и времени И Куль-
тура древнего Рима. Т. 2. М., 1985. С. ПО.
9. Виолле-ле-Дюк. Беседы об архитектуре. Т. 1. М., 1937. С. 93.
10. Там же. С. 85.
11. Wheeler М. Roman Art and Architecture. L., 1976. P. 2.
12. Boethius A., Ward-Perkins J. В. Etruscan and Roman Architecture.
Harmondsworth, 1970. P. 256.
13. Цит. no: MacDonald W L. The Pantheon. L., 1976.
14. Юрсенар M. Воспоминания Адриана. M., 1884. С. 128.
15. Сергеенко М. Е. Жизнь древнего Рима. Очерки быта. М.; Л., 1964.
С. 145.
16. Кнабе Г, С. Представления римлян о пространстве и времени. С. 47.
17. Всеобщая история архитектуры. Т. 2. С. 564.
18. Lanten D. van. Architectural Composition of Ecole des Beaux-Arts from
Charles Percicr to Charles Gamier // The Architecture of Ecole des Beaux-
Arts/Ed. by A. Drexler. L., 1977.
19. Риглъ А. Значение позднеримской архитектуры // История архитекту-
ры в избранных отрывках. М., 1935. С. 146.
20. Витрувий. Кн. V. 1,4.
21. Риглъ А. Значение позднеримской архитектуры.
22. Витрувий. Кн. V. 1, 6-10.
23. Norberg-Schulz Ch. Meaning in Western Architecture. P. 89.
24. Ibid. P. 96.
25. Ward-Perkins J. B. Roman Architecture. N. Y, 1977. P. 103. Заметим, что
эта оценка основывается на определении римской архитектурной ре-
волюции как развитии новой концепции пространства при использо-
вании бетонных сводов.
26. Витрувий. Кн. II, VIII, 17.
27. Всеобщая история архитектуры. Т. 11. С. 619.
28. Ward-Perkins J. В. Roman Architecture. Р. 103.
Разлел 7
Пространство
в архитектуре Средневековья
Раздел, посвященный принципам организации пространства,
принятым средневековой культурой, пожалуй, наиболее сложен для
исследования. «Средние века — понятие не столько хронологиче-
ское, сколько содержательное», — констатировал авторитетный
российский медиевист1. В исторической памяти человечества этот
огромный период сопряжен с резко обозначенными ценностными
смыслами. По традиции, исходящей от ренессансных гуманистов и
поддержанной просветителями, — это безвременье, «темные века»,
в преодолении косности которых рождалась культура Европы Но-
вого времени. Романтизм противопоставил такой оценке образ эпо-
хи утраченной позже духовной цельности, рыцарских доблестей,
одухотворенной красоты. И та и другая позиции побуждали свести
громадное многообразие культуры Средневековья к немногим кли-
ше, подтверждающим однозначные оценки.
Эпоха, однако, растянута хронологически от поздней антично-
сти до Нового времени. При всей инерционности, ее культура про-
шла через ряд радикальных трансформаций и не была единой; ее
существенно различающиеся версии развивались в ареалах распро-
странения восточного и западного христианства; синхронно с евро-
пейской христианской существовали отмеченные ярким своеобра-
зием внеевропейские цивилизации. Общая сложность средневеко-
вого мира умножилась внутренним расслоением культур, различи-
ем мироощущения социальных «верхов» и «низов» безмолвство-
вавшего большинства. К тому же в европейской культуре темп раз-
вития, происходившего в разных слоях, не совпадал. Замедленное
движение низовых форм усиливало не только общую сложность
182
Раздел 7
культурных контекстов эпохи, но и размытость ее верхней хроноло-
гической границы. Традиции, укорененные в ментальности средне-
вековых «низов», продолжали бытовать в послесредневековой куль-
туре, образуя ее скрытые «придонные» слои, порождавшие некие
аномалии в обычаях и культуре Нового времени вплоть до XIX в.,
вопреки утверждавшемуся рационализму. Как писал А. Я. Гуревич,
«какие-то черты народных верований и представлений о мире со-
хранялись в толще народа столетия после того, как „официально4*
Средневековье завершилось»2.
При всем том, Средние века отнюдь не были всего лишь разры-
вом последовательности в развитии культуры, ориентированной на
идеалы классики. В эту эпоху, имевшую свои шкалы предпочтений,
созданы ценности непреходящего значения, к которым необходимо
применять адекватные критерии. И когда Новое время обратилось к
возрождению «классического», отрицая ценности, наработанные
Средневековьем (для Андреа Палладио «готическое», «средневеко-
вое» — всего лишь синонимы варварского), противопоставленные
им «вечные» ценности классики были восприняты и истолкованы
уже по-новому. Трактовки классического, которые предлагались со
времени Возрождения, складывались под влиянием как опыта, на-
копленного в Средневековье, так и полемики с ним.
В решении проблем архитектуры — в том числе связанных с
формированием пространства — мастера Средневековья исходили от
радикально трансформированной античной традиции, развивая прин-
ципы, отмеченные глубоким своеобразием. Язык архитектурной фор-
мы, обогащенный иерархией символов и аллегорий, воплощающий в
своих метафорах сложные культурные смыслы, стал общедоступным
средством коммуникации, активно использовавшимся для консолида-
ции общества. Закладывались принципы «говорящей» архитектуры,
унаследованные современной цивилизацией. Средневековая культура
стремилась выработать устойчивые каноны формообразования, в пре-
делах которых развивалось широкое разнообразие региональных, на-
циональных и местных вариантов, создавались произведения, обла-
давшие глубоко индивидуальным характером. В конкретности по-
следних частное, неповторимое кажется преобладающим над струк-
турной основой, задаваемой каноном и культурной традицией.
Анализ пространственных структур, адекватный разнообразию и
богатству наследия эпохи, требует специального обширного иссле-
дования. Мы здесь ограничимся выявлением самых общих принци-
Пространство в архитектуре Срелневековья
183
пов, имеющих значение для исторического генезиса проблемы архи-
тектурного пространства в европейской культуре. В соответствии с
такой целью мы рассмотрим их развитие в западноевропейском
Средневековье, Византии и на Руси, концентрируя внимание на вто-
рой половине средневекового тысячелетия. Не пытаясь охватить бо-
гатство внеевропейских цивилизаций, мы, однако, покажем специ-
фические подходы к проблеме архитектурного пространства, выра-
ботанные в средневековой Японии, развивавшиеся вне связи с евро-
пейскими культурами, но оказавшие значительное влияние на куль-
туру XX в. Их сопоставление с европейской традицией, кроме того,
высвечивает некоторые аспекты проблемы в целом.
* * *
Картина мира, какой она виделась людям европейского Сред-
невековья, определялась в своих главных, специфических очерта-
ниях всеобщим распространением христианской религиозности.
Ею определялись основные постулаты, на которых строились сис-
тема миропонимания и нравственное сознание. Бог был высшей
истиной, вокруг которой группировались все представления и идеи,
с которой соотносились любые ценности. В средневековой картине
Вселенной мир телесный менее реален, чем мир духовный; он
лишь тень истины, но не сама истина. В таком восприятии «объек-
тивность» математического пространства — не более, чем фикция,
образуемая абстрагированием свойств воспринимаемого и пережи-
ваемого пространства. Но и последнее — лишь неполное и несо-
вершенное отражение истины.
Средневековый мастер — как и любой человек его эпохи — не
различал четко мир земной и мир сверхчувственный. Оба сущест-
вовали для него в живом взаимодействии. Концепция «реализма»,
выдвинутая средневековой философией, утверждала реальное и
независимое от сознания существования универсалий. По Фоме
Аквинскому, они существуют трояко: «до вещей» — в божествен-
ном разуме как их идеи, идеальные прообразы; «в вещах» как их
сущности, «после вещей» — в абстракциях разума как понятия.
Слово, идея в системе средневекового сознания обладали той же
реальностью, как предметный мир. Их «равноправие» служило ис-
ходным постулатом архитектурного формообразования.
Мир живых — в своей совокупности, как и в отдельных объек-
тах, «служит символом высочайшего предельного объекта, всеохва-
184
Раздел 7
тывающего единства, совершеннейшей реальности — Божества,
которое является источником всех прочих реальностей и обладает
бытием в себе»3. И все, что средневековый человек видел, он стре-
мился истолковать символически. В его восприятии «вещи не про-
сто могут служить символами... они суть символов, и задача по-
знающего субъекта сводится к раскрытию их истинного значения»4.
Символическое мышление образусг связь между миром живых и
миром идеальных прообразов. Материальное и духовное — только
ступени неразделяемого единства. Но в иерархии целого матери-
альному отдается более низкая ступень. Мир телесный менее реа-
лен. Символизм оказывается условием миропорядка.
Порядок этот иерархичен. В непосредственной соотнесенности
с небесной иерархией существует социальная иерархия общества,
воспринимаемая столь же вечной и неизменной. При этом всякая
вещь, всякий объект образует свой «малый мир», отражающий
свойства высшего единства (хоть и не всякая вещь может отразить
его во всей полноте).
В архитектурном формообразовании получала высшую дос-
тупную человеку степень удовлетворения его устремленность к
символической сопричастности с гармонической устроенностью
космоса, ее всепроникающей универсальностью, в которой каждая
часть воспроизводит свойства целого, а все части связаны иерархи-
чески. Наибольшей полноты эта устремленность достигала в фор-
мировании готического собора, иерархически сгруппированные
символы которого складывались в подобие идеального мира. Она
ощутима в структуре и форме других архитектурных объектов, для
«малых миров» которых полнота отражения универсального поряд-
ка не казалась обязательной. Па уровне системы города символизм
также служил организующим началом. Его влияние, однако, могло
быть ограничено пределами топологических свойств расположения
главных элементов, которые воспринимались как смыслообразую-
щие, входящие в структуру символического выражения.
Пространственные формы
городов западного Средневековья
Городские структуры, сложившиеся в Средние века и сохра-
нившие изначальные свойства, люди XX в. воспринимают прежде
всего через их визуальные характеристики. Особое внимание при-
Пространство в архитектуре Средневековья
185
влекают признаки индивидуальности, уникальности — качества,
для новых структур ставшего остродефицитным под давлением
стандартов массового производства, усредняющего характер всех
составляющих предметно-пространственной среды. Пространст-
венные формы средневекового градостроительства не поддаются
классификации на основе современных категорий. Чтобы преодо-
леть эту сложность, историки архитектуры говорят о «стихийно-
сти» их образования и «хаотичности» структур, унаследованных
как от западноевропейского, так и русского Средневековья.
Развитие средневекового города часто описывается как процесс
спонтанный, подобный биологическим процессам («большинство
городов средневековья застраивалось и росло в основном стихийно,
сетка улиц возникала в них под влиянием различных, часто случай-
ных, обстоятельств»5; «планы средневековых городов в подавляю-
щем большинстве случаев развивались естественным путем»6). Од-
нако и самый плохой архитектор от лучшей пчелы отличается, как
известно, наличием замысла, изначально определяющего его дей-
ствия, а замысел любого строительного начинания должен быть
соотнесен с пространственным контекстом, в который вводится со-
оружение — если не с планом, зафиксированным на чертеже, то с
принятой идеей развития, закрепленной традицией. Целесообразно
поэтому не списывать сложное разнообразие форм средневековых
городов на счет стихии и хаоса, но реконструировать стоящие за
ним принципы формообразования, отличающиеся от принятых ар-
хитектурой и градостроительством Нового времени.
Различие между восприятием города современными людьми и
людьми Средневековья обнаруживает анализ текстов некоторых
хроник, на что обратил внимание В. Браунфелз7. В этих хрониках
говорится, например, о похожести Флоренции и Рима или Пистойи,
Ареццо, Лукки и Флоренции — городов, которые по критериям на-
шего времени имеют различные пространственные структуры и
существенно различающиеся характеристики облика. Для средне-
вековых хронистов, однако, существенны не визуальные признаки,
которыми мы оперируем, а иные связи и зависимости, лежащие в
плоскости символических значений пространственной формы и
отношений между значениями. План Рима, входящий в число ил-
люстраций к «Часослову герцога Беррийского», выполненных
братьями Лимбург (1415-1416), изображает замки и храмы в кольце
стен, русло Тибра и некоторые монументы, но не показывает улиц,
12 Зак. 303
186
Раздел 7
которые на современном плане служат структурной основой ориен-
тации. По мнению Браунфелза, представление о городской структу-
ре опиралось на отношения между церквями и чтимыми в них свя-
тыми и их расположение по отношению к стенам, опоясывающим
город, т. е. на символы и отношения в системе символов.
Средневековье выработало свои специфические представления
об идеальном городе, определявшие ту умозрительную структур-
ную модель, которой подчиняли развитие материальных структур.
Присутствие немногих вариантов таких моделей, стоящих за бес-
конечным разнообразием конкретных воплощений, несомненно, но
трудно улавливается нами из-за несовпадения плоскостей, в кото-
рых развертываются представления о городе.
В отличие от моделей «идеальных городов» Нового времени,
где мысль развивалась в плоскости организации пространственной
формы и направлялась — едва ли не прежде всего — эстетически-
ми предпочтениями, средневековый идеал определялся организа-
цией содержания системы символов, а модель, выраставшая на его
основе, была упорядоченным воплощением внутренних содержа-
тельных связей. В этом Средневековье следовало античной концеп-
ции, сформулированной Платоном. В диалогах «Тимей» и «Кри-
тий» он описал как идеальную модель столицу легендарной Атлан-
тиды — город с круглой цитаделью посредине, окруженной чере-
дующимися кольцами воды и суши. Эта абстрактная концепция об-
ращена не на пространственную форму, а на государственно-
правовой аспект город а-государства, его «идею».
Наследуя платоновскую абстракцию, европейское Средневеко-
вье заменяет идею города-государства идеей «божественного горо-
да», «небесного града Иерусалима», описанного в Библии8. Отсюда
и равнодушие средневековых хронистов к столь милой нам живо-
писной неповторимости; хронисты сквозь признаки конкретного
различали единственно существенные для них черты абстрактной
модели. На этих чертах основывались описания и изображения ма-
нускриптов — как идеального града Иерусалима, так и конкретных
городов, например, Милана в Ватиканском городском кодексе или
Камбрэ в жизнеописании Хильдегарды из Бингена (XIV в.). Изо-
бражения не воспроизводят архитектурных реальностей, фиксируя
внимание на системе символов — городских стенах с башнями и
воротами (символ отречения божественного града от того, что вне
его), соборе, церквях.
Пространство в архитектуре Средневековья
187
Но и сам город мыслился символом Вселенной. Уподобить по-
селение космосу, подчиняя его построение представлениям о зако-
номерностях высших и общих, — отрешение, определявшееся не
только популярной в Средние века идеей подобия микрокосма и
макрокосма, но и более древней традицией уподобления образу
высших сил, вверявшего поселение под их охрану. К этой архаиче-
ской традиции восходили устойчивые архетипы символики про-
странственных форм. К архетипам космогонического происхожде-
ния добавлялись и восходившие к древним этноцентрическим
представлениям. Иллюзия превосходства своего этноса, своей куль-
туры, необходимая для самоутверждения и выживания, перераба-
тывалась в идею господствующего значения и особой ценности
центра. Из нее естественно вытекало представление о круглой Все-
ленной — поскольку круг, более чем что-либо другое, предполагает
господствующее положение центра. Круг связывался с символиче-
ским обозначением Бога, мира, совершенства.
В Средние века популярной эмблемой мира стала обрамлен-
ная водами дискообразная земля, расчлененная в одном направле-
нии Средиземным морем и перпендикулярно ему — Танаисом и
Нилом, образующими как бы вторую «ось мира». Иерусалим по-
мещался в его центре. Этот топографический символ держался
вопреки накоплению точной географической информации о «де-
талях» устройства мира, которая поставлялась мореплавателями и
торговцами, до XIV в.
Особые значения несли направления по странам света, в кото-
рых виделась первичная структурирующая основа организации
пространства, позволяющая соотнести строение чувственно вос-
принимаемого материального мира и мира сущностей, мира идей.
С этими направлениями связывали крест главных осей, которые,
проходя через центр, рассекают круг на четыре равных сектора.
Особое значение главных осей могло быть подчеркнуто преобразо-
ванием круга (который есть многоугольник с бесконечным числом
сторон) в прямоугольник, стороны которого сопряжены с осями и
соответствуют странам света. Эта фигура — едва ли не древней-
ший и наиболее устойчивый символ города. Он принимался раз-
личными архаическими культурами, использовавшими его как знак,
соотносимый с архетипом топологической основы организованного
городского пространства. Средневековье воспринимало эту схему
от римских городов, созданных по модели каструма, связывая ее с
12*
188
Раздел 7
христианской символикой креста и небесного града Иерусалима.
Подчиняя себе план конкретного средневекового города, схема могла
быть воплощена в жесткую геометрию регулярной организации; ча-
ще ею определялись лишь основные типологические свойства орга-
низованного городского пространства. Точность очертаний не была
обязательным условием воплощения символических значений.
Центр мира во многих архаических культурах связан с симво-
лическим образом «мирового древа». В образе Вселенной средне-
векового христианства центр — священное место, господствующее
над периферией. На карте мира таким местом был Иерусалим, в
модели мира, которой мыслился город, — собор, в свою очередь
рассматривавшийся как модель космоса (Э. Панофски детально ис-
следовал его символическую функцию9). Занимая место «мирового
древа», связывающего пласты мироздания, собор приобретал вер-
тикальную устремленность, динамику, направленную вверх, к небу,
отождествляемому с духовным и высшим. Башня и шпиль стали в
пространственной структуре храма и всего города формально-
символическими элементами первостепенной важности.
Средством, дополняющим геометрию структурной основы
пространственного символа, становилось число, в котором «склон-
ны были видеть в первую очередь не меру счета, а проявление ца-
рящей в мире божественной гармонии, магическое средство»10.
Символизм, который наделял значениями простое совпадение чисел,
особенно разросся к позднему Средневековью, вырождаясь, по вы-
ражению И. Хёйзинги, «в болезнь ума»11. Числа 3 (число Святой
Троицы, символ духовного) и 4 (символ великих пророков, евангели-
стов, как и числа мировых элементов и времен года, т. е. материаль-
ного мира), равно как их сумма — 7 и произведение — 12, играли
большую роль в конкретизации идеального архетипа города. Вы-
страивались сложные семиричные и двенадцатиричные системы,
связывавшие как число ясно выделяемых элементов, так и числовое
выражение и соотношения величин.
Четыре главных улицы выделялись в структуре города (во
Флоренции только они и были замощены), на четыре «квартала»
членилась территория, к четырем, девяти (3 х 3) или 12 стремились
привести число ворот и оборонительных башен. Магия символиче-
ских чисел служила и для определения величин (образцом был
«Апокалипсис», который говорит о том, что протяженность стен свя-
того Иерусалима, образующих квадрат и имеющих по трое ворот с
Пространство в архитектуре Средневековья
189
каждой стороны, 12 тысяч стадий, а высота их — 144 локтя. И если
12x12 локтей — величина, приличествующая небесному граду, но
чрезмерная для земного, то 12 локтей (около 5 м) близки к высоте
укреплений, встречавшейся достаточно часто). Связь с мистикой
чисел должна была сделать более надежной защиту города. Число 3
играло важную роль в композиции, определяя трехчастность рас-
членения пространства или плоскости, троичность многих элемен-
тов, системы равносторонних треугольников, которым подчинялось
определение размерности главных элементов структуры (на сохра-
нившемся чертеже 1391 г. изображен разрез Миланского собора,
вписанный в треугольную сетку).
Мистико-религиозное содержание космической символики
пространства города накладывалось на жизненные реалии соци-
альных отношений, вбирая новые, дополнительные слои значений.
Само различие разграниченных поясом укреплений внешнего и
внутреннего городского пространства было отражением различия
между относительной свободой горожан, обеспеченной городскими
привилегиями (германская пословица гласила: «Воздух города де-
лает свободным»), и несвободой жителей окружающих деревень,
находившихся в крепостной зависимости. Отсюда — многознач-
ность символа, которым был пояс оборонительных стен и башен
города, защищающих городские свободы. Замкнутость — одно из
древнейших значащих свойств организованного пространства.
Обеспеченная стенами, она становилась символом части простран-
ства, где господствуют право, порядок и безопасность.
О важности этого символа для людей Средневековья свиде-
тельствует место, которое занимает его отражение в искусстве эпо-
хи. Стена и башни — непременный знак города и отделенности его
пространства от негородского окружения в средневековой живопи-
си (распятие начала XIII в. музея в Пизе; чудо св. Антония, напи-
санное Витале ди Болонья (1320), находящееся в Национальной
пинакотеке Болоньи; росписи школы Джотто в храме св. Франци-
ска, Ассизи (около 1305), миниатюры «Часослова герцога Беррий-
ского» и многое другое). Стены четко обозначают пределы город-
ского пространства на фреске Амброджо Лоренцетти «Последствия
доброго правления» в сиенском палаццо Пубблико (1337-1339).
Характерны аллегорические изображения Справедливости и
Несправедливости, противопоставленные одна другой, в нижнем
поясе росписей капеллы Скровеньи в Падуе, выполненные Джотто.
190
Раздел 7
Несправедливость в образе свирепого тирана, сопровождаемая сце-
нами разбоя, изображена среди условных атрибутов «дикого» пей-
зажа — скал и деревьев — на фоне городской стены, т. е. вне горо-
да. Величественная Справедливость восседает в окружении харак-
терных мотивов городской архитектуры — т. е. внутри города,
внутри стен, отделяющих пространство права от царства произво-
ла. «Высокие стены» и «грозные башни» обозначают город и в
средневековой литературе, предельно скупо обрисовывающей ме-
сто действия.
По мере развития и поляризации социальных сил, действовав-
ших в средневековом городе, каждая из них создавала устойчивые
типы зданий, служившие не только своему прямому функциональ-
ному назначению, но и символическому обозначению определенного
места в городском обществе. Массивность, выделяющая здания сре-
ди окружения, устремленная ввысь динамичность композиции да и
сама высота, в чем-то повторяющие средства символического языка,
выработанные в архитектуре собора, стали общей для них чертой.
Коллектив горожан в его борьбе за самоуправление и ограни-
чение экономических повинностей противостоял феодальному
сеньору. В пространственных формах города это противостояние
выражалось материально — поясу городских стен, над которым
поднимались башни и шпили собора, противостоял массив замка
(замка феодала или рыцарского ордена). Его высокий грузный мас-
сив часто поднимался на вершине холма или скалы, у подножья
которой на равнине располагался город (как, например, в Таллине,
Праге, Кракове, Торуни, Мейсене, Вюрцбурге, Айзенахе, Кведлин-
бурге). Если замок и город вместе стояли на равнине или занимали
вершину холма, укрепления замка прорывали периметр городских
стен, угрожая как внешнему врагу, так и городу (Милан, Феррара,
Парма, Кремона, Авиньон, Каркассон, Нанси, Антверпен, Вена,
Дрезден, Лейпциг, Веймар, Гота, Баутцен, Лондонское Сити и др.).
Леон-Баттиста Альберти в своем трактате «Десять книг о зод-
честве» (1450-е гг.) полагал уже, что последний вариант присущ
городу, которым управляют тираны, «тирану же, поскольку свои
ему ничуть не менее враги, чем чужие, следует укреплять город на
обе стороны: против чужих и против своих»12.
В Италии перемещение аристократических семейств в города
Тосканы привело к появлению внутри их стен укрепленных рези-
денцией, увенчанных энергично тянувшимися вверх башнями, явно
Пространство в архитектуре Средневековья
191
имевшими не столько оборонное, сколько престижно-символическое
значение. Множество этих tom, возводившихся в порыве самоутвер-
ждения, изменяло облик городов, их силуэт (так же как появление в
городе их владельцев меняло социальную структуру). Во Флоренции
в XIII-XIV вв. было более 180 таких башен, в Падуе и Сполето —
более 10013. Множество башен поднималось над Сиеной и Кремо-
ной. Соперничество соседствовавших вертикалей, которые наращи-
вались владельцами, зримо воплощало атмосферу политического
хаоса, рожденного раздорами аристократических родов.
Рыцарский образ «города тысячи башен» терял смысл вместе с
укреплением купечества, растворявшего в себе городское дворян-
ство. Во Флоренции и Генуе распоряжением городского управления
в конце XIV в. родовые башни были уменьшены до высоты в пять-
десят локтей максимум, в Модене — разобраны до основания. Сно-
сились они и в других городах, лишь Вольтерра и Сан Джиминьяно
сохранили их отчасти (последний — пять шестых первоначального
числа).
Пространственные формы городов позднего Средневековья от-
разили нарастающий разрыв между христианской устремленно-
стью к идеальному, потустороннему, и привязанностью к реалиям
земного бытия, равно как и напряжения между духовной и светской
властью. Физическим выражением развивающейся бюргерской
культуры, ее символом, становится ратуша. Вокруг нее складывает-
ся особый узел пространственной структуры, второй полюс город-
ской жизни, если и не противопоставленный собору, то не зависи-
мый от него.
Стремление дать достойный противовес мощному символу —
собору — определило развитие ратуши как ведущего типа здания в
зодчестве позднего Средневековья. Ратуша тоже притязает на до-
минирующее положение в городском пространстве, на место в си-
луэте и панорамах, на значение одной из главных составляющих
идеальной модели города. Вертикализм композиции, непременное
условие для этого, в городах Тосканы воплощали высокие, строй-
ные башни, растущие над тяжелыми кубическими массивами твер-
дынь городского самоуправления (палаццо Веккио во Флоренции,
палаццо Пубблико в Сиене, созданные на рубеже XIII и XIV вв.).
Соединение здания городского совета и «бефруа», городской набат-
ной башни, дало тип ратуши, характерный для городов французско-
го Средневековья (ратуши в Компьене и Аррасе, XVI в.). В Герма-
192
Раздел 7
нии небольшие, чисто утилитарные постройки бюргерского само-
управления по мере укрепления и расцвета городов получили пыш-
ные фасады, несущие чисто символическую функцию. Расчленен-
ные ритмом мощных вертикалей с гигантскими щипцами, высота
которых превышает основной массив постройки (ратуши в Мюн-
стере, Стендале, Гриммене) и подчас увеличивается введенной в
композицию башней (ратуша в Брауншвейге) они уже реально про-
тивостоят собору в общей картине города. В Любеке торцы двух
стоящих по соседству невзрачных двухэтажных построек в 1308 г.
объединены громадным кирпичным фасадом ратуши, причем верх-
няя часть его, составляющая по высоте примерно три пятых, была
декорацией, в проемы которой светило небо. Далее это здание полу-
чило протяженное крыло, захватывающее большую часть рыночной
площади, которое по сути дела тоже не имело назначения иного, чем
утверждение престижа городского самоуправления. В Штральзунде
над двумя «функциональными» этажами ратуши в 1316 г. поднялись
четыре этажа «символического» фасада, обеспечивающего желае-
мую соразмерность с массивом собора. Ратуши маленьких городков
получали курьезно высокие кровли над фасадами, фланкированны-
ми башенками со шпилями (Михельштадт, Вернигероде). Вместе с
ратушей рыночную площадь обрамляли монументальные и проч-
ные дома богатейших купеческих семей, заменявшие старые лавки.
Собор и рыночная площадь с ратушей обычно находились в
прямом соседстве. Двухполюсность города открывалась в преде-
лах ограниченного пространства центра. Если собор и ратуша
оказывались пространственно разделены, принимались специаль-
ные меры для очевидного раскрытия «двухполюсности» город-
ской жизни — как это было во Флоренции (реконструкция виа
Кальцайуоли, соединяющей площади перед собором и палаццо
Веккио, начатая в 1390 г.).
Кольцо стен, собор, ратуша, замок в своем значении отнесены к
целостности пространства города. Целостность эта имела свое
внутреннее расчленение — разделению городских жителей на со-
циальные группы отвечало расчленение городского массива на час-
ти, связанные с определенными цехами и, таким образом, с различ-
ными видами торговли или ремесла. При этом, как и в древнейших
поселениях, более высокому положению в социальной иерархии
отвечала и большая близость к городскому центру — в соответст-
вии с ценностными характеристиками неоднородности пространст-
Пространство в архитектуре Средневековья
193
на. Еще и сейчас улицы близ центра в Бремене называют Obern-
strasse — «улицы верхов», а в Наумбурге — Herrenstrasse — «гос-
подские улицы»14. Социальное расчленение города получало свое
зримое выражение благодаря образованию на территории города
сети местных центров с приходскими церквями, башни и шпили
которых становились вертикальными акцентами панорамы города.
Выделенные ими вторичные центры, объединявшие части город-
ской структуры, входили в структурную модель средневекового го-
рода и его визуальный образ.
План города четко дифференцирован, структура его иерархич-
на. Четко выделенный среди окружающего пространства, обособ-
ленный от него, средневековый город во внешних панорамах вос-
принимался как целостный, законченный в себе объект (такое вос-
приятие фиксируют изображения городов еще и в атласе Мериана,
урбанистической энциклопедии XVII в.). Но системы пространств
в пределах города не охватывались взглядом с какой-то одной точки
зрения. Идея формирования этих систем раскрывалась наблюдате-
лю постепенно, по мере движения сквозь их пространства. Пред-
ставление о системе основывалось не только на визуальной инфор-
мации (имевшей преобладающее значение для представления о
пространственных структурах античного города), но на информа-
ции, поставляемой всеми чувствами. Особую значимость получило
при этом тактильное восприятие.
Канонизированную структуру римского каструма, воспринятую
в натуре, было легко соотнести с параметрами математического
пространства. Средневековый город для его обитателей существо-
вал всецело в переживаемом пространстве, которое «прочитыва-
лось» во времени. Устанавливалась неразрывная связь пространст-
венных и временных отношений, которая может быть прослежена и
в других составляющих средневековой культуры. Рассматривая ее
на материале литературы, М. М. Бахтин обозначил ее термином
«хронотоп» («время — пространство»)15.
В пространственно-временной целостности хронотопа геомет-
рическая правильность организации пространственных структур
теряла свою очевидность и комфортабельную легкость восприятия.
Она уже не побуждала эстетических предпочтений и утратила са-
моценность. Пространства не приводились к симметрии лишь для
того, чтобы поддержать эту правильность. Они формировались ча-
ще всего асимметрично, в связи с логикой развертывания процес-
194
Раздел 7
сов городской жизни в пространстве и времени. Отступления от
прямолинейности очертания элементов и ортогональности их сис-
темы принимались как естественные, если их провоцировали осо-
бенности места или обстоятельства, связанные с развитием поселе-
ния. При этом «свободное» и «живописное» порождались особен-
ностями ситуации, а не вкусовыми предпочтениями (что отличает
произведения средневековых градостроителей от романтических
стилизаций Нового времени).
Приемы регулярной организации при этом не отвергались, но и
не принимались a priori. Они избирались, если к этому побуждали
обстоятельства — прежде всего при одновременном строительстве
поселения по единому замыслу. Регулярность облегчала разбивку
территории и позволяла простейшим образом нарезать равные уча-
стки для поселенцев (если, конечно, этому не препятствовали осо-
бенности топографии места). Случалось это в связи с колонизацией
завоеванных земель, срочным созданием опорных пунктов для защи-
ты границ или при возрождении территорий разрушенных войнами.
Во Франции таким образом в XIII-XIV вв. застроено довольно
много городов. Наиболее близка к идеалу регулярности планировка
Монпазье (основан в 1284 г.). В сетку его одинаковых прямых улиц,
делящих территорию на плотно застроенные кварталы, включена
рыночная площадь — за счет одного из кварталов. Соприкасаю-
щаяся с ней по диагонали соборная площадь занимает половину
такого модуля. Планировку, близкую к идеальной схеме, осуществ-
ленной в Монпазье, получил Эг-Морт (ХШ в.). В Вианне, Кадийя-
ке, Монреале, Монфланкене, Совете-де-Гиенне (все — XIII в.) ре-
гулярная сетка улиц вписана в свободные очертания территории
города, определенные топографией.
В Германии подобный тип плана характерен для городов вос-
точных земель, колонизированных рыцарскими орденами, которые
вытесняли славян. Старейший из них — Торн, ныне Торунь, Поль-
ша (основан в 1230 г.). План его основан на квадрате, расчлененном
прямоугольной сеткой улиц. В перекрестие главных улиц с северо-
западной стороны включена квадратная рыночная площадь, иде-
альная схема деформирована подчинением топографии участка и
как бы обрезана его линиями, но топологический характер исход-
ной схемы сохранен. Центр выделен монументальнейшей среди
ратуш Средневековья; к ее углам примыкают комплексы франци-
сканского монастыря и приходской церкви. Четкая регулярность
Пространство в архитектуре Срелневековья
195
определяет план Эльбинга (основан в 1237 г.), где выделена широ-
кая главная улица с рынком, рассекающая прямоугольник плана по
его наибольшему измерению (север — юг). Маленький Фридлянд
(основан в 1330 г.) образован прямоугольной группой регулярных
кварталов, охватывающей большую квадратную рыночную пло-
щадь. Между ними и стенами, периметр которых продиктован то-
пографией, оставалось свободное пространство. Монументальный
-16
храм введен в систему укреплении .
Для бюргерских городов хребтом экономического развития
становился рынок. Уже с IX в. на перекрестках крупнейших дорог и
их пересечениях с реками стали возникать постоянные места пе-
риодических ярмарок. В X-XI вв. рыночная площадь становится
элементом городской структуры — пространством, обрамленным
по периметру домами торговцев и ремесленников, которые смыка-
лись в непрерывные ряды. Роль рынка, структурообразующая для
города, особенно очевидна в тех вариантах, где его протяженное
пространство, обрамленное рядами домов и замкнутое укреплен-
ными воротами, образует главную ось. Характерен Берн, Швейца-
рия (основан в 1191 г.), где рыночная площадь проложена по слегка
изогнутому гребню скалистого полуострова, охваченного крутой
излучиной реки Ааре. Главный пространственный стержень сопро-
вождают две малые улицы, сходящиеся с главной у восточных во-
рот. Собор, прорывая южную линию кварталов, открыт к реке, но
не связан с улицей-рынком.
Рыночная улица, подводящая к мощному имперскому замку,
была хребтом плана Фридберга, Германия, прикрывавшего с севера
путь к Франкфурту-на-Майне, и Штраубинга на Дунае, в Баварии.
Улица-рынок обычно слегка изгибалась, следуя характеру рельефа;
ее ширина как бы вибрировала, поскольку ряды обрамляющих по-
строек не были строго параллельны. Единообразная высота домов
по сторонам и четкий ритм их узких фасадов, определяемый пар-
целляцией, вносили некоторую упорядоченность в хронотоп, доми-
нирующей составляющей которого была подвижная пестрота тор-
жища. Мощные укрепления ворот замыкалй перспективы вдоль
главного направления, подчеркивая организующее начало целост-
ной структуры.
Закрепленный в исходной ситуации характер старой дорожной
трассы мог усложнить очертания пространства улицы-рынка. Так, в
Гиссене, Германия, развилка первоначальных дорог определила
196
Раздел 7
очертание рыночного пространства как вытянутого треугольника.
Некоторые же города возникали на пересечении дорог. Так, Фрей-
бург-им-Брейсгау, Германия (основан в 1118 г.), сложился на пере-
сечении двух дорог у подножья горы, увенчанной замком. При этом
улица, расчленяющая территорию в направлении север — юг, раз-
вивалась как рыночная, образуя основной функциональный и про-
странственный стержень города. Старая дорога, идущая с запада на
восток и сохранившая сложное начертание, продиктованное кром-
кой береговой террасы, задала направление поперечных улиц, оп-
ределивших основу расчленения территории. По сторонам рыноч-
ной оси расположились окруженная домами соборная площадь и
один из монастырских комплексов.
Перекрестье направлений, которое основатели Фрейбурга по-
ложили в основу городского плана, еще более четко выступает в
планировке германских городов Роттвайля и Виллингена (вторая
половина XII в.). Здесь эта схема возникла не на основе старого пе-
рекрестка полевых дорог, а как специально задуманная форма орга-
низации пространства (быть может, подсказанная античной тради-
цией). Роттвайль лежит на склоне, поднимающемся от реки Неккар
(разница в отметках, на которых расположены его восточные и за-
падные ворота, более 30 м). Примерно посредине поднимающейся
по склону рыночной улицы лежит расположенная строго по гори-
зонтали вторая, более широкая (около 25 м) улица-рынок. Посреди
рыночных пространств «островками» поставлены протяженные
щипцовые объемы общественных зданий. Крестообразный рынок
поделил город на четыре «квартала». Приходские церкви поставле-
ны посреди северо-западного и юго-восточного. Диагональное на-
правление, намеченное их высокими объемами, смягчает воспри-
ятие структуры — хоть и не жестко ортогональной, но подчиненной
двум главным направлениям. В плане Виллингена, вписанном в не-
правильный овал оборонительных стен, ветви крестообразного рын-
ка имеют равную ширину. Отклонение от прямоугольное™ их пере-
сечения внесло в организацию планировки некую напряженность.
К наиболее значительным памятникам средневекового бюргер-
ского градостроительства принадлежат ганзейские города Балтики,
среди которых выделяется Любек. Стержень его пространственной
организации образован рынком, который основан в 1158 г. на гряде
холмов, протянувшейся с севера на юг вдоль полуострова между
реками Траве и Вакенитц. Замок защищает ведущую к нему через
Пространство в архитектуре Срелневековья
197
перешеек дорогу. Параллельно рынку, на расстоянии 90-120 м про-
ложена улица, образующая вместе с ним хребет городской структу-
ры. С этой осью связано расположение главных общественных зда-
ний и площадей (в том числе расположенного примерно на середи-
не ее протяженности церковно-гражданского центра с церковью
среди обращенного лавками двора, ратушей и рыночной площа-
дью). От главного стержня плана к корабельным пристаням на реке
Траве и берегу Вакенитца спускаются многочисленные поперечные
улицы, связывающие рынок с жизнью порта, образуя схему «хребта
и ребер». Бюргерская Мариенкирхе в центре на холме господствует
в городской панораме. Она выше не только других приходских
церквей, но и епископского собора, оттесненного на южную око-
нечность полуострова — построение силуэта символизировало со-
отношение социальных сил в городе.
Типом пространственной структуры, наиболее полно отвечаю-
щим устремлению к иерархическому порядку, подчиненному цен-
тру, был радиально-кольцевой план. Редким примером его «чисто-
го» воплощения стал баварский город Нёрдлинген. Очертания, за-
крепленные поясом его крепостных стен XIV в., близки к правиль-
ному кругу. Они следуют рельефу пологого холма, на котором раз-
расталось поселение. Внутреннее кольцо улиц следует периметру
первоначального городского ядра, относящегося к XIII в. и допол-
ненного внешним поясом застройки. Начертание сети улиц на чер-
теже кажется прихотливо произвольным. Центростремительные
направления, однако, четко выражены. Среди них выделены четыре
радиуса, соединяющих ворота укреплений с центром, который
включает рыночную площадь, собор и ратушу. Наиболее крупная
среди четырех частей, выделенных неправильным крестом главных
радиусов, имеет свой радиальный стержень. Внутренняя организа-
ция трех остальных частей тяготеет к отрезкам уличного кольца.
Все улицы членятся на отрезки, длина которых редко превышает
100 м; их перспективы замкнуты. Площади раскрываются идущему
человеку, лишь когда он входит в их пространство из узкого ущелья
улицы (это определялось не только логикой хронотопа, но и требо-
ваниями обороны от врага, прорвавшегося через внешний пояс ук-
реплений).
Для средневекового градостроительства возможно сочетание
частей, организованных в соответствии с различными геометриче-
скими закономерностями. В Италии города, развивавшиеся на ос-
198
Разлел 7
нове поселений античности, организованных по модели каструма с
его прямоугольной планировкой и выделенным перекрестьем «кар-
до» и «декуманус», за пределами старого ядра часто получали ра-
диальную структуру внешних зон. Старые главные оси продолжа-
лись там, но с ними уже не координировались направления новых
улиц. Последние устремлялись от периферии к старому ядру — его
центру или местам старых ворот (на пересечении его периметра
главными осями). Такое сочетание радиальной и прямоугольной
систем особенно четко сложилось в Болонье, а также во Флорен-
ции, Брешии, Лукке, Парме. В нем проявилось равнодушие средне-
вековых градостроителей к единству геометрии плана, если оно не
наделялось смысловыми значениями.
Стремление развить возможности пассивной обороны поселе-
ний заставляло использовать для них места с сильным рельефом —
террасированные горные склоны, вершины холмов, скалистые
гребни. Приспосабливая такие места для организации жизни и за-
щиты от нападений, средневековые зодчие приходили к неповтори-
мо индивидуальным решениям, сохраняя при этом основные прин-
ципы построения городских структур своего времени — целост-
ность, противопоставленность внешнему пространству, иерархиче-
ское соподчинение частей, взаимодействие в пространстве системы
символов, воплощенных в форму главных общественных и оборони-
тельных сооружений. Для последней цели активно использовалась
пластика рельефа. Таких городов особенно много в Италии (Сан
Джиминьяно, Ассизи, Урбино, Фрозиноне, Губбио, Капрарола и др.).
Во Франции примечателен Мон-сан-Мишель, город, охватив-
ший подковой крутые склоны острова-скалы, поднимающегося над
бухтой Ла-Манша. Плоскую вершину над городом занимает мощ-
ный массив собора и аббатства (IX-XV вв.). В XIV-XV вв. город со
стороны моря защищен каменными стенами. Постройки и природ-
ные формы объединены в целостную пластическую массу с пира-
мидальным силуэтом, увенчанную башней со шпилем, которая под-
нимается над средокрестием собора. Улица, образующая стержень
застройки, поднимается от единственных ворот, открывающих дос-
туп с южной стороны, к северной стороне верхнего плато, занятого
аббатством, развертываясь по спирали. Ансамбль сложился как экс-
травертный символ, обращенный в окружающее пространство.
Подобная экстравертность отличает итальянские города, лежа-
щие на террасированных крутых склонах (как Губбио). Трассы улиц
Пространство в архитектуре Средневековья
199
последнего повторяют очертания террас, следующих пластике скло-
на. Напротив, замкнутость отличает центрическую систему Лючинь-
яно, занимающего плато на вершине холма. Жилые кварталы объе-
динены двумя кольцевыми проездами. Сердцевину плана образует
пространство, вытянутое по длинной оси овала, среди которого под-
нимается компактная группа, объединившая собор с клуатром и
примыкающую к последнему ратушу. Систему центра завершает от-
дельно стоящая сторожевая башня. Противоположной стороной цен-
тральное общественное пространство выходит к замку, который с
юга вклинился в периметр городских стен. Композиция интраверт-
на — пространство с «телесной», массивной группой объемов зда-
ний имеет характер почти интерьерный, подобно теменосу эллинско-
го акрополя. Символика силуэта города, поднятого над прилегающей
равниной, открывается лишь со значительного расстояния.
В средневековых городах на сложном рельефе то качество ви-
зуально воспринимаемой формы, которое со времени романтиков
XIX в. стали называть живописностью, достигло наивысшего раз-
вития. Искусственное в них тесно срасталось с природным, подчи-
няясь его очертаниям. Благодаря этому сложный на чертеже рису-
нок плана в натуре оказывался удобным для ориентации и переме-
щения. Любые очертания стремились сделать естественными в
данной ситуации, а не выведенными из абстрактных правил по-
строения формы. Между двумя точками искали не самой короткой,
а самой удобной связи.
Чужды Средневековью и представления о ценности организо-
ванных перспективных видов, и требование прямой зрительной свя-
зи между главными узлами города. Поэтому даже и важнейшие ули-
цы, включая крест главных осей, не стремились обязательно превра-
тить в абсолютно прямые перспективы. Они вели к цели — это было
главным. План города мог быть строго регулярен или выглядеть как
прихотливое сплетение кривых и ломаных очертаний — это зависело
от конкретных обстоятельств, а конкретное, индивидуальное пред-
ставлялось несущественным. Для культуры эпохи важны были фун-
даментальные аналогии с идеальным представлением, которое опи-
ралось на топологические свойства пространственной структуры.
Целостность — фундаментальное качество западноевропейско-
го средневекового города; оно обеспечивалось замкнутым перимет-
ром внешних укреплений и доминирующей ролью центра в про-
странственной структуре. Не столь существенно — округлым или
200
Ра злел 7
составленным из прямых отрезков было очертание этого перимет-
ра, и тем менее существенно — точны ли прямые углы четырех-
угольника и равны ли его противолежащие стороны, подчинена
разбивка точному кругу или овалу, следующему природным очер-
таниям. Не делалось принципиального различия между дорогами,
которые идут напрямую, — если нет препятствий для этого, — и
путями сложно трассированными в соответствии с характером то-
пографии. Большого различия между городами с радиальной улич-
ной сетью и с прямоугольной сеткой улиц тогда не ощущали. Пред-
ставление об идеальной форме было достаточно обобщенным, что-
бы допускать различия в конкретном.
Закономерность построения одного элемента не считали нуж-
ным переносить на другой, если этого не требовали удобства их
сочетания. Поэтому внутри округлого периметра оборонительных
стен могла сложиться относительно четкая прямоугольная уличная
сеть, если ничто не заставляло отступить от такого приема (приме-
рами могут служить Варшава, Краков, Росток, Лейпциг, Нойбран-
денбург, Ческе, Будеёвице, Ванс и др.).
Но пояс внешних укреплений всегда был продуманной единой
системой. О существовании четкого предварительного замысла
свидетельствует обычная последовательность строительства вновь
заложенных городов. Внутри укрепленного периметра строитель-
ство велось вдоль улиц, шедших к главным городским воротам, и в
центре, постепенно заполняя защищенное пространство. Распро-
страненность планов, где выделены главные перпендикулярные
оси, как можно предположить, объясняется стремлением наиболее
простыми средствами воплотить основные элементы символиче-
ской модели — четырехчастность, крест главных осей, пересекаю-
щихся в центре, закрепленном рынком, собором, ратушей.
Создававшиеся прежде всего главные формирующие элементы
городского плана предопределяли дальнейшее развитие простран-
ственной структуры. Детали замысла вряд ли заранее фиксирова-
лись проектом, однако этот замысел последовательно осуществлял-
ся в преемственности труда нескольких поколений. Его уточняли и
изменяли в соответствии с менявшимися обстоятельствами, но от
него не отступали в главном. Элементы, заложенные изначально,
оставались дисциплинирующим началом и опорой ориентации.
Средневековые города Западной Европы были, как правило,
невелики. Тяготевшая к городу сельскохозяйственная территория не
Пространство в архшектуре Средневековья
201
могла прокормить более 10 тысяч жителей. Среди почти трех тысяч
поселений средневековой Германии, обладавших городскими нра-
вами, лишь 200 имели более тысячи жителей и только в 15 населе-
ние превышало 10 тысяч. Города с населением в десятки тысяч че-
ловек, существовавшие благодаря далеко простиравшимся связям
(как Париж, Лондон, Рим, Флоренция, Венеция, Гамбург), были
исключением.
Величина города связывалась и с представлением о целостно-
сти и ограниченности системы города. Он виделся подобием живо-
го организма, для которого пояс укреплений служил как бы панци-
рем. Представление закреплялось тем, что границы территории,
представленной городу владельцем земель, было трудно расши-
рить. Концентрический рост изначального ядра за счет прилегав-
ших земель был явлением исключительным (Париж, Флоренция,
Милан, Нёрдлинген). Неизмеримо чаще, когда город достигал пре-
дела уплотнения в пространстве, определенном стенами, а потреб-
ность роста существовала, поблизости от старого ядра создавался
новый город на арендуемой для него территории.
Этот город тоже становился замкнутым организмом со своим
«панцирем» и своим центром. Если и на этом не исчерпывался по-
тенциал роста, могли вновь возникать столь же замкнутые едини-
цы. Иногда их автономия закреплялась (как в Каркассоне на юге
Франции, где в ХП-ХШ вв. при замке местных феодалов на холме
возник окруженный стенами ремесленный Верхний город, допол-
ненный лежащим за рекой Од Нижним городом, получившим регу-
лярный план). Но замкнутые единицы могли объединиться в целое
высшего порядка. Так происходило в Германии развитие Ростока,
где к старому городу, основанному в 1218 г., через полтора десятка
лет с западной стороны примкнул Средний город (1232), а в 1265 г.
добавилось еще одно звено. Хильдесхейм в 1220 г. также стал со-
единением трех городов; Брауншвейг к 1400 г. был охвачен поясом
сложившихся в единый массив сателлитов. Пары же, образованные
изначальным и новым городским организмом, в Германии и Фран-
ции насчитываются десятками. Концепция города как упорядочен-
ного и завершенного подобия космоса тем самым не нарушалась в
ходе постепенного развития.
Когда разновременно сложившиеся ядра сливались в одну об-
щину, их охватывал единый пояс укреплений, трассы главных улиц
связывались. Складывался полицентрический характер нового це-
202
Раздел 7
лого — городская жизнь дифференцировалась, каждый из старых
центров получал особую роль. Усложнившаяся система получала
выражение в пространственной организации и силуэте — как в
Ростоке с его четырьмя главными акцентами: колокольнями храмов
в главных очагах общественной жизни города, множеством малых
вертикалей, отмечающих ее второстепенные узлы, и зубчатым
очертанием семибашенной ратуши. Структуру исторического ядра
Эрфурта, развивавшегося с XII в., стало определять взаимодейст-
вие нескольких центров, среди которых выделяется подобие акро-
поля — Соборный холм. Его вершину увенчала группа, образован-
ная собором и церковью св. Северина; силуэт группы высокой ко-
роной поднят над городом. В составных городских организмах про-
странственное целое формировалось в соответствии с новой систе-
мой, причем интеграция не подавляла сложности целого и вошед-
ших в него частей, хронотоп средневекового города связывал про-
странство не только с временем восприятия индивида, но и с исто-
рическим временем, в котором происходила трансформация про-
странственной структуры.
* * *
Для жизни средневекового города особое значение имел рынок,
где сбывалась продукция местного ремесла и происходил обмен
товарами между городом и деревней. К отношениям, формируемым
рынком, восходили правовые институты Средневековья; из рыноч-
ного права выросло городское право, рыночный суд превратился в
городской. В раннем Средневековье рынок располагался вне город-
ских стен; введенный внутрь, он формировал обширное протяжен-
ное пространство — линейный хребет городской структуры — или
площадь, главный узел жизни города. В непосредственном соседст-
ве с последней ставился собор, со времени укрепления городов на
их рыночных площадях появились ратуши. Рыночной площади,
месту не только торговли, но и общения, обеспечивалась замкну-
тость. Обстройка ее была плотной и непрерывной. Улицы вводи-
лись в ее пространство через углы, по направлениям, касательным
сторонам, что обеспечивало эффект внезапного раскрытия обшир-
ного пространства, заполненного активной жизнью. Центр его не
просматривался издали, что способствовало обороне при вторже-
нии врага. К тому же это направляло движение вдоль зданий, со-
храняя «сердцевину» площади для ее главных функций. Если улиц,
Пространство в архитектуре Средневековья
203
устремленных к площади, было слишком много, перед выходом к
ее пространству они объединялись в пучки.
С площадью вокруг собора рыночная часто соприкасалась од-
ним из углов — такой прием обычен в городах Германии и Фран-
ции (из многочисленных примеров назовем Дрезден, Мейсен, Пир-
ну, Наумбург, Росток в Германии, Монпазье и Монтобан во Фран-
ции). Возникала эффектная связка городских пространств, а массы
собора включались в ритмическую систему асимметричного про-
странства рыночной площади. Ее собственным главным зданием
была ратуша, обычно увенчанная башней или высокой ажурной
короной. Она не растворялась в ряду застройки, занимая целую
сторону площади или выступая между улицами по боковым сторо-
нам (как палаццо Пубблико в Сиене, Италия); в иных случаях оно
открывалось в пространство двумя сторонами (при этом высту-
пающий угол акцентировала башня — как на Староместской рату-
ше в Праге). Особое значение ратуши могло подчеркиваться и ост-
ровным расположением — у одной из сторон площади, как в Тал-
лине, или посредине, как в Пирне. При этом здание могло делить
площадь на части, имевшие особое назначение. Так, в Лейпциге
Старая ратуша отчленила от Главного рынка площадь Задний ры-
нок со зданием биржи; в Баутцене ратуша делит сложно очерченное
пространство на Главный рынок и Мясной рынок.
«Островком», как правило, возвышалось и здание собора. Со-
борная площадь не вмещала столь разнообразных проявлений
жизнедеятельности, как рыночная, — она служила открытым ку-
луаром для выходящих из собора (в Средние века он мог вмещать
все население города) и местом для организации шествий, обхо-
дящих здание. Пространство этой площади очень плотно заполня-
лось массой собора. В отличие от ратуши, обозримой в своей це-
лостности на обширном пространстве рынка, соборы восприни-
мались «в упор», фрагментарно, в резких ракурсах,/ которые дра-
матизировали верти кал изм храмовой архитектур^, достигший
апогея в поздней готике, и грузную мощь конструкций, вынесен-
ных за пределы интерьера.
Лишь перед главным входом пространство чуть расступалось,
позволяя охватить взглядом торжественные порталы с их назида-
тельной аллегорической скульптурой (площади, которые раскрыва-
ли перед готическими соборами градостроители XIX в. — как пе-
ред Нотр-Дам в Париже — решительно изменили характер их вое-
204
Раздел 7
приятия и снизили рассчитанную силу образного воздействия).
Масса здания в целом, с завершающими его высокими кровлями и
башнями, воспринималась лишь издали, в панорамах города.
Пространства средневекового города не были только интер-
валами между массами зданий. Они рассчитывались на опреде-
ленное жизненное наполнение и использовались очень интенсив-
но. Если на афинском Акрополе объемы храмов, омываемые воз-
духом, расставлены свободно, как скульптуры, предназначенные
для кругового обозрения, то сложные объемы на Соборном холме
в Эрфурте плотно заполняют плато на его вершине. Обход вокруг
собора обеспечивают лишь узкие террасы, опоры которых под-
нимаются от подножья склона. Торжественная лестница устрем-
лена к порталу, выступающему из объема собора. Лишь сужаю-
щийся в глубину тесный интервал, зажатый по сторонам мощны-
ми вертикалями контрфорсов, оставлен между собором и церко-
вью св. Северина. Символический образ ансамбля строится на
драматизации контрастов. Архитектурные массы, устремленные
ввысь, несоразмерно огромны по отношению к холму и затеснен-
ному пространству между храмами. Природное и человеческое
подавлены торжественными символами нездешнего могущества.
Пафос противопоставления земного и высшей надмирной силы
лежит в основе композиции, столь отличной от жизнерадостной
гармонии природного и человеческого, утверждавшейся творца-
ми Акрополя.
Города Средневековья имели в своей основе идеальную мо-
дель, основанную на сочетании символов и объединенную содер-
жательно, а не формально. Переход к идеальным представлениям о
городе, основанным на визуально воспринимаемой целостности и
эстетических предпочтениях стал одним из аспектов культуры Ре-
нессанса. Эстетические интерпретации структуры западноевропей-
ского средневекового города, возникавшие с XV по XX вв., от Аль-
берти до Зитте, Бринкмана, Рауды, давали его истолкование с пози-
ций иного времени, иной культуры. Содержательное в этих интер-
претациях отодвигалось на задний план формальным, закономер-
ности формирования системы города оставались неясными. Еще
менее отвечают характеру предмета «рационалистические» истол-
кования, игнорирующие содержательные, символические аспекты
градостроительного искусства. Его понимание и изучение возмож-
ны только в общем контексте средневековой культуры.
Пространство в архитектуре Средневековья
205
Пространственные формы
городов средневековой Руси23
Модели организации городского пространства, которые созда-
вались в Средние века на западе Европы и на Руси, в равной мере
имели основанием мировосприятие, воспитанное христианством, и
символическое мышление, через которое постигался миропорядок.
Очевидны аналогии между архетипами символики, наполнявшей
городские структуры. Но еще более очевидны принципиальные
различия между свойствами физических структур городов востока
и запада Европы — следствие не только разных природно-геогра-
фических условий регионов и их конкретных исторических судеб,
но и различного истолкования идеальных схем восточным и запад-
ным христианством.
Полнота осуществления идеальной модели формирования го-
родов Руси достигнута лишь в развитии Москвы — явление исклю-
чительное. Примеры же частичного осуществления, остановивше-
гося на одной из фаз, многочисленны. Различных промежуточных
фаз перерастания веерной структуры мысового города в радиально-
кольцевую достигли, например, Верея, Вязьма, Курск, Старица,
Серпухов, Ярославль, что показывают их планы, снятые до пере-
стройки в конце XVIII - начале XIX вв. Реконструкция планировки
Твери конца XVII в., выполненная А. С. Щенковым, показывает
центрическую структуру, наметившуюся вокруг кремля. Посады
перешли не только за малую реку Тмаку, но и за Волгу. Однако веер-
ная система улиц, направленных на торговую площадь и кремль, не
продолжена в Затмацком посаде. Здесь преобладают улицы, направ-
ления которых следуют берегам Волги и круто изгибающейся Тмаки.
Причина в том, что Тверь, по-видимому, сложилась из нескольких
поселений, сохранив следы особенностей развития каждого.
Планировки, определявшиеся притяжением главного линейно-
го элемента, проходящего через всю территорию (подобные схеме
«рыбья кость», определившей план Любека), на Руси были редки.
Своеобразная вариация подобного типа сложилась во втором после
Киева городе Киевской Руси — Новгороде. Основным элементом,
формирующим его структуру, была не улица-рынок, как в Любеке,
но река Волхов. Город сложился в слиянии нескольких поселений.
В X в. на возвышенном левом берегу Волхова лежали поселки Лю-
дин и Неревский, на правом — самый крупный Славненский. Меж-
206
Раздел 7
ду первыми двумя, объединяя систему, поставлен детинец, обеспе-
чивавший безопасность общих святынь и органов вечевого управ-
ления (поначалу только он и назывался Новгород). Поселения по-
степенно превращались в «концы» — части целостного города.
В 1045 г. князь Владимир Ярославович заложил каменный храм
Софии на самой высокой точке левобережной части, создав симво-
лический центр Новгородской земли. В XIII в. всю Софийскую
сторону охватил новый пояс укреплений. Ее планировку определи-
ли параллельная берегу улица и многочисленные параллельные пе-
реулки, сбегавшие к Волхову. Лишь западнее детинца притяжение
его ворот обусловило появление фрагмента радиальной планировки
в части Загородья, отделенной от реки.
В 1116г. кольцо стен детинца сильно продвинулось в южном
направлении, образовав овал, вытянутый вдоль Волхова, — эту
конфигурацию в XIV в. закрепили каменные стены, сменившие де-
ревянные укрепления. Через детинец на месте старой южной стены
прошла его первая поперечная улица. Против нее соорудили Вели-
кий мост через Волхов, упоминаемый летописью с 1134 г.17.
Мост вел к укрепленному Ярославову дворищу, княжеской ре-
зиденции, у которой раскинулся торг с многочисленными церквя-
ми. Когда в XII в. князья переселились на загородное Рюриково го-
родище, близ княжеского Николо-Дворищенского собора возникла
вечевая площадь (совсем небольшая, по мнению В. Л. Янина, вме-
щавшая 400-500 человек). Основу плана правобережной Торговой
стороны и здесь определяло сочетание улицы, параллельной реке, и
многочисленных пересекавших ее направлений от берега в сторону
поля18. Волхов для жизни города был важен настолько, что тяго-
тевшие к нему улицы первоначальных поселений сохранились в
организации поглотившего их крупного городского центра (Новго-
род насчитывал около 5 тыс. дворов при населении до 30 тыс. чело-
век). Характерно, что валы Окольного города охватывали не только
застроенный массив, но и земли, предназначенные для дальнейше-
го роста. До конца XVI в. не все они были использованы.
Раскопки 1950-1960-х гг. показали характер былых улиц. Вели-
кая, имевшая двухсаженную ширину (4,4 м), была замощена плахами
по бревенчатым лагам. Уличное пространство уже в XI в. ограничи-
валось деревянными частоколами. Ритм, определяемый усадьбами
рядовых горожан, протяженностью по фронту около 15 м с домом и
двумя-тремя хозяйственными постройками, перебивался боярскими
Пространство в архитектуре Средневековья
207
усадьбами, имевшими до полутора десятков строений, с большими
домами, площадью в 130-140 кв. м. Деревянная застройка менялась,
в то время как усадьбы устойчиво сохраняли свои границы; создава-
лись они как замкнутые миры со зданиями, обращенными к про-
странству двора. К уличному фронту были обращены обычно хозяй-
ственные постройки. Дома, в два, иногда и три этажа, располагались
в глубине. Над боярскими дворами поднимались еще более высокие
башни теремов и повалуш. Не исключено, что в Новгороде, аристо-
кратической республике, такие башни были весьма многочисленны.
Аналогия с итальянскими средневековыми городами, воплощавши-
ми рыцарский образ «города тысячи башен», возможна уже потому,
что перемещение аристократических семейств в города Тосканы
имело некую параллель с социальной ситуацией Новгорода XIII в.
Археологический материал свидетельствует о высоких кровлях
сложной конфигурации — куполов, бочек, шатров, которыми, види-
мо, венчали крыльца, шатры и повалу ши. Над монотонной линией
частоколов поднимались разнообразно организованные группы по-
строек, в просветах между которыми просматривались далекие объ-
емы зданий-ориентиров.
Пространственная организация городов средневековой Руси со-
хранила следы архетипов, восходящих не только к дохристианскому
периоду развития славянства, но и в глубокую праславянскую древ-
ность. К древнейшим архетипам относятся кольцевые планы сел, где
усадьбы и постройки образуют кольцо или ряды, формирующие
замкнутый многоугольный периметр. Внутри его — обширное от-
крытое пространство, служившее практическим нуждам общины и, в
то же время, символически воплощавшее ее единство. Здесь находи-
лись пруд, общинный выгон, площадка для торга. Посредине выси-
лась церковь, приход которой составляли жители села и тяготевшей к
нему группы деревень (последние получали простейшую линейную
организацию). Ее положение генетически связывалось с образом
древнего мифа — о «мировом древе». Б. А. Рыбаков отметил лин-
гвистическую связь между солярной символикой круга и кругом как
социальным символом в мифо-поэтическом образе, на котором осно-
вывался такой прием организации пространства19. После «пугачев-
ского бунта» администрация осуществляла неукоснительную пере-
планировку сел с кольцевым планом, переводя их в линейную схему.
Вместе с подавлением остатков сельской общины, вокруг которых
могло происходить сплочение крестьян, уничтожалась ее простран-
208
Раздел 7
ственная символика. Лишь единичные села в глубинке донесли до
нашего времени центрическую схему планировки, удивляя просто-
рностью и необычной выразительностью20.
Черты этой древней модели, несомненно, повлияли на плани-
ровку небольших пограничных городков Киевской Руси, как Коло-
дяжин или Райковецкое городище. В последующем развитии они
определили характерную форму площадей — с невысокой обрам-
ляющей застройкой и главным зданием (или группой главных зда-
ний) посредине. Значение «главного», его символическая роль под-
черкивались вертикальной устремленностью формы, сложным си-
луэтом и островным положением среди обширного открытого про-
странства. Подобный композиционный тип площади получил мно-
жество версий в зодчестве средневековой Руси; след его традиции
стал впоследствии существенным фактором своеобразия некоторых
ансамблей российского классицизма.
Элементы регулярности в современном понимании градо-
строительство средневековой Руси восприняло лишь в конце XV в.
при создании систем городских укреплений. В 1492 г. Иван III при-
казал построить на реке Нарве против ливонского замка города
Нарвы каменную крепость «во свое имя». Правильный квадрат ее,
имевший площадь всего в 1 600 кв. м, напоминал своими формами
миланский замок Сфорца. Создавший его зодчий был, видимо, зна-
ком с крепостями Северной Италии и трактатами Филарете и Аль-
берти21. Через четыре года изначальная крепость дополнена значи-
тельно более крупным Бояршим городом, план которого близок к
прямоугольнику с соотношением сторон 1:2; сложилась регулярная
симметричная композиция, длинную ось которой замыкал с одной
стороны квадрат первоначальных укреплений, с другой — проезд-
ная башня. Строгая прямизна стен не была порождением эстетиче-
ского предпочтения к «правильности», но вызвана тактикой оборо-
ны, основанной на фланговом огне с выступавших башен. В XVI в.
появились крепости, где регулярность плана осуществлена еще бо-
лее последовательно — Тула (1514-1521) и Зарайск (1531). Регу-
лярный тип крепостей получил широкое распространение. Но регу-
лярность не стала свойством формы, которая связывалась бы с оп-
ределенными символическими значениями. Ее приемы ценились
утилитарно и привносились извне, со стороны Западной Европы, в
результате ускорения темпа развития культуры уже вошедшей в
иную стадию исторического развития.
Пространство в архитектуре Средневековья
209
Наиболее очевидные черты своеобразия русского средневеко-
вого градостроительства связаны с отношением к пространству,
выработанным в национальной культуре. Д. С. Лихачев писал: «Для
русских природа всегда была волей, привольем... Широкое про-
странство владело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и
представления, которых нет в других языках... Восторг перед про
странствами присутствует уже и в древнерусской литературе — в
летописи, в „Слове о полку Игореве“, „Слове о погибели русской
земли“, в житии Александра Невского, да почти в каждом произве-
дении древнейшего периода Х-ХШ вв. Всюду события охватывают
огромные пространства, как в „Слове о полку Игореве“, либо про-
исходят среди огромных пространств... Издавна русская культура
считала волю и простор величайшим эстетическим и этическим
благом для человека»22. Просторность стала наиболее общей осо-
бенностью русских поселений — просторность, прозрачность
структур, пронизанность их пространством, прорывы из ткани за-
стройки к шири рек, озер, полей и лесов.
Второй фактор своеобразия — отражение особенностей нацио-
нального менталитета в языке символических форм. Молодые госу-
дарственные структуры Руси не могли так же бесповоротно изменить
мироощущение, идущее от славянской древности, как это сделали на
Западе Европы столетия распространения христианства. Сохранялось
пантеистическое отношение к природе, как источнику всего прекрас-
ного, созвучное языческому, хотя и не тождественное ему. Оно ушло в
глубины народной памяти и не только по-особому окрасило «внести-
левое» искусство крестьян, но и влияло на городскую культуру.
Примечания
1. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего боль-
шинства. М., 1990. С. 7.
2. Там же. С. 11.
3. Бицилли 77. М. Элементы средневековой культуры. СПб, 1995. С. 14.
4. Там же. С. 15.
5. Всеобщая история архитектуры. Т. 4. Л.; М., 1966. С. 328.
6. Бунин А. В. История градостроительного искусства. Т. 2. М., 1979.
С. 145.
7. Braunfels Mittelaltcrischc Stadtbaukunst in Toscana. Berlin, 1953.
S. 131 u. w.
15 Зак. 303
210
Раздел 7
8. Библия. Откровение 21: 2-23.
9. Panofsky Е. Gotic Architecture and Scholasticism. N. Y, 1957.
10. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. M., 1972. С. 51.
11. Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 227.
12. Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве / В пер. В. П. Зубова. Т. 1. М.,
1935. С. 134.
13. Fanelli G. Firenze, Architcttura е citta. Firenze, 1973. P. 30; Hiorns F
Town-building in History. L., 1956. P. 84.
14. Pahl J. Die Stadt im Aufbruch der pcrspcktivischcn Welt. Berlin; Wien,
1963. S. 33.
15. Бахтин M. M. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 234-407.
16. Gruber К. Die Gestalt der dcutschen Stadt. 3 ed. Munchen, 1976. S. 76-81.
17. Янин В. Л. Социально-политическая структура Новгорода в свете ар-
хеологических исследований И Новгородский исторический сборник.
№ 1 (11). Л., 1982.
18. Засурцев П. И. Новгород, открытый археологами. М., 1967. С. 68.
19. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 432.
20. Иконников А. В. Планировочные традиции в народном зодчестве И
Архитектурное наследство. Вып. 14. М., 1962.
21. Булкин В. А. Итальянизмы в древнерусском зодчестве XVI в. Авторе-
ферат. Л., 1975. С. 9.
22. Лихачев Д. С. Заметки о русском. М., 1994. С. 20,41.
23. Подробнее см. раздел «Организация пространства в русском градо-
строительстве».
Разлел 8
Организация пространства
в русском градостроительстве
Стержневая проблема градостроительного искусства — фор-
мирование организованного гармоничного пространства, образую-
щего структурный каркас среды жизнедеятельности человеческих
сообществ. Его строение определяет формы-архетипы, несущие
культурные значения, отражавшие ценностные установки людей,
их экзистенциальную позицию. Пространственная структура среды
задает основу той специфичности визуальных образов, которая
воспринимается как национальная характерность. При этом систе-
мы среды динамичны, открыты к развитию; они разрастаются и
меняются качественно в ответ на изменения потребностей, пред-
ставлений, ценностей общества, оставаясь теми же системами, са-
мими собой (как Москва осталась Москвой, вырастая от затерянно-
го в лесах поселения на Боровицком холме до мегаполиса, распро-
странившегося на десятки километров). Системы среды живут не
только по законам внутреннего развитая — они включены в слож-
ные связи, как синхронные, так и распространяющиеся во времен-
ном измерении, в историческом времени.
Процессы развития культуры протекают неравномерно. Мо-
менты предсказуемой постепенности сменяются «взрывом» (по
выражению Ю. М. Лотмана) качественных преобразований. В не-
предсказуемости взрывных процессов механизмы формирования и
бытования средовых систем вскрываются, обнаруживая противоре-
чивую сложность, не замечаемую на этапах эволюционного про-
цесса. Открытость к внешним влияниям, при активной переработке
заимствованного в «свое», характерна для таких моментов. В исто-
рии российского градостроительства наиболее яркой вспышкой бы-
15*
212
Раздел 8
ло создание Санкт-Петербурга, которым отмечено завершение пе-
рехода от Средневековья к Новому времени.
Процесс развития русского градостроительства, как и русской
архитектуры, не был отмечен симметричностью векторов внеш-
них влияний. Восточное направление не просматривается на всей
протяженности их истории, доступной нашему знанию. Византия
оказала громадное влияние на изначальном этапе становления ар-
хитектуры; ее культура отразилась в становлении форм городской
жизни и специфического городского поведения. Но «Восточная
Римская империя» не была Востоком для Руси. Она восходила к
тем же античным корням, которые вскормили культуру европей-
ского Запада, и оказала на этот Запад активное влияние. «Восточ-
ные аналогии» русского зодчества не затрагивали его пространст-
венных структур; не ощутимы они и в организации среды поселе-
ний. И даже орнаментальные мотивы, восходящие к влияниям
Востока, которые можно выделить в декоре владимирских храмов
(причем более в сюжетах, чем в разработке формы), заносились не
через прямые контакты, а через романскую архитектуру Западной
Европы. П. Н. Милюков полагал, что русско-восточные контакты
исключались «борьбой леса со степью», составлявшей основное
содержание русской истории1. Л. Н. Гумилев, правда, такое проти-
востояние отрицал2.
Но асимметрия контактов несомненна. Д. С. Лихачев указывал
на нее и в связи с развитием древнерусской литературы: «Смею ут-
верждать, что среди всех остальных европейских литератур древ-
нерусская литература имеет наименьшие связи с Востоком»3. Ре-
шающее значение имела асинхронность развития кулыур. В странах
Западной, Центральной и Южной Европы социальное и культурное
развитие в той или иной степени опиралось на наследие антично-
сти и созданную Римской империей инфраструктуру, обеспечив-
шую концентрацию населения в городах — важнейший фактор ус-
корения культурных процессов. Здесь, к тому же, климат и плодо-
родие почв обеспечивали высокую среднюю плотность населения
— условие экономической и социальной активности, необходимое
для успешного функционирования государственности. Восточнее,
за пределом, который Л. Н. Гумилев связывает с положительной
изотермой января, где начинался евразийский территориальный
массив, населенный славянами, время культурного развития проте-
кало более замедленно, что определялось не только отсутствием
Организаиия пространства в русском градостроительстве
213
наследия древних высоких культур, на которое можно было бы
опереться, но и низкой плотностью населения, предопределявшей и
меньшую в среднем его концентрацию в городах (хотя Киев в XI в.
и был третьим городом Европы — после Константинополя и Кор-
довы). Еще более замедленным было течение времени культурного
развития в полосе степей и пустынь, где среди девственных ланд-
шафтов мигрировали кочевые племена.
Степняки, все более отстававшие от славян, не могли предло-
жить им культурные образцы, привлекательные для подражания.
В то же время обширный ареал их обитания отделил Русь от вы-
соких культур азиатских суперэтносов, пояс которых сложился
южнее — от Аравии до Японии. Здесь ранее, чем где-либо, склады-
вались высокоразвитые городские культуры, но путь к ним был
слишком труден для переноса культурных образцов. Опережающий
темп экономического и культурного развития на Западе создавал
барьер, сдерживавший взаимодействие средневековых культур, что
определило высокую степень самобытности русского градострои-
тельства и своеобразие русских городов. Однако диффузия запад-
ных влияний все же происходила, хотя отношения на западных ру-
бежах Руси не были более мирными, чем на границе со степью.
Уже на самых ранних этапах образования городских поселений
(на Руси это X в.) определялись архетипы значащей формы, прочно
оседавшие на уровне подсознания и влиявшие на процессы градо-
формирования многие столетия, когда их изначальное конкретное
содержание уже ускользало от рассудочного анализа (как, напри-
мер, мы не можем объяснить себе, почему вертикальность объема
навязывает восприятию представление об особой значимости объ-
екта, равно как и центральность позиции в некоем обозначенном
пространстве). Закладывались и формы поведения, вышедшие на
уровень автоматизма (так, позднеантичные авторы обращали вни-
мание на обычай германцев совершать омовение рук в общем тазу,
безошибочно отделявший их от славян, умывавшихся под струей, —
различие, сохранившееся и через полтора тысячелетия, в XX в.).
Города во всех культурах формировались под влиянием космо-
гонических представлений, идеальной картины мира. Их обозримая
конечность, формируемая как отвечающая этой картине модель
Вселенной, служила промежуточным звеном, связывающим чело-
века с необозримостью мира. Структура среды определялась и эк-
зистенциальной позицией людей; их осознанной вовлеченностью в
214
Раздел 8
ситуацию, формой «мужества быть», которую они принимали. Для
средневекового горожанина — это мужество осознавать и утвер-
ждать себя частью городского сообщества.
Городские центры средневековой Руси, складывавшиеся за
пределами былой античной ойкумены, на землях, ранее не знавших
городов и отношений рабовладения, несли память о земледельче-
ском прошлом и «золотом веке» общинного устройства. Русь не
знала и жестко закрепленного юридически различия форм владения
землей в городе и за его пределами, подобного зафиксированного в
Западной Европе с XIII в. Магдебургским правом. Все это вылива-
лось в характеристики пространственной формы, которую прини-
мали города, и в представления, связанные с этой формой.
Феодальные города Западной Европы двухчастны (chateau-ville;
Burg-Stadt, castle-town); замкнутый в своем поясе укреплений соб-
ственно город со своим общественным ядром враждебно противо-
стоял врезавшемуся в этот пояс феодальному замку с еще более
мощным укрепленным периметром. Двухчастность русского города
совершенно иного порядка. Детинец-кремль — его внутренняя ци-
тадель, место обитания аристократического населения и, вместе с
тем, — средоточие города, вместилище его главных святынь и го-
родской казны, прибежище для всего населения в период военной
опасности. В западном Средневековье город виделся целостным и
конечным, однажды и навсегда заключенным в недвижный панцирь
своих укреплений. Когда плотность внутри него достигала предела,
а потребность роста сохранялась, городская община приобретала
землю для строительства нового города, который тоже становился
замкнутым организмом. Ограниченность территории, предполагае-
мая западной моделью, имела следствием высокую плотность за-
стройки, дома смыкались в непрерывные ряды, тесня дворы и сады
позади, число этажей могло достигать 6-7. Город с его стенами и
башнями противостоял природному ландшафту, как массивное ис-
кусственное тело. Изолированность его от всего негородского по-
лучала символическое значение. Каменная стена в искусстве и ли-
тературе стала постоянной метафорой города. Замкнутыми, завер-
шенными были перспективы городских пространств.
Для городов Руси, напротив, обычна открытость системы, рас-
пространявшейся образованием предградий, лишь со временем
прикрывавшихся новыми поясами укреплений — обычно менее
капитальных, чем кремлевские. Возможность наращивания застро-
Организация пространства в русском градостроительстве
215
енной территории, определявшаяся правовыми нормами, снимала
необходимость в уплотнении, обычном для западных городов. За-
стройка могла складываться из усадеб, объединявших одно-двух-
этажные сооружения с огородами и садами. Строительным мате-
риалом было дерево. Опасность пожаров заставляла разрежать под-
стройки. Группы их как бы «сквозили», открывая объемы главных
зданий, образующие основу ориентации. Оборонительные земля-
ные валы не отчуждали интерьер города от окружения, они воспри-
нимались как форма ландшафта, а не противопоставленная ему
преграда. Тесные связи с округой заставляли проделывать в их пе-
риметре несколько ворот, впускавших внешние дороги. Предградья
разрастались вдоль них, далеко за линию укреплений. Комплексы
пригородных монастырей повторяли в своей компактности основные
черты идеальной модели города, направлявшей его развитие (в соз-
нании людей европейского Средневековья она определялась истол-
кованием библейского образа «небесного града Иерусалима», при-
сущим данной культуре). «Свое» для российского горожанина рас-
пространялось и далее — через пригородные угодья. Такая струк-
тура отвечала и особенности менталитета, — горожанин чувство-
вал себя не только частью коллектива, общины, но и частью при-
родного бытия. Простор и воля становились неотделимы от ценно-
стных представлений.
Кремль был изначальным ядром и центром тяготения городско-
го организма, занимавшим главное место в его композиции и силу-
эте. Такая его роль обеспечивалась выбором места, причем «клас-
сическим» типом стало расположение кремля на высоком мысу,
образованном слиянием рек. Направления роста подчинялись при-
тяжению этого центрального ядра, над которым поднимался собор,
поставленный посреди площади — общегородской символ. Он по-
лучал отклик в объемах приходских церквей — центров второго
уровня, вокруг которых складывались социальные и пространст-
венные членения городского организма. Система иерархически со-
подчиненных объемных ориентиров определяла ориентацию в про-
странстве города и раскрывала его внутреннюю организацию во
внешних панорамах и силуэте. Выразительность пунктира главных
объемов подчеркивалась контрастом их индивидуализации с одно-
родностью обыденной застройки, контрастом, за которым виделось
сопоставление возвышенного и земного, закрепленное различием
материалов (дерево и камень).
216
Раздел 8
Третьей главной составляющей города был торг, который обыч-
но раскидывался под кремлевскими стенами, занимая «полые места»
вокруг укреплений. Пестрая жизнь торга обычно становилась свя-
зующим звеном между кремлем и посадами, дополняя двухчаствость
структуры. Обособленная позиция торга в Новгороде, образовавшего
второе городское ядро на берегу Волхова, противоположном детин-
цу, была редким исключением (она определялась объединением из-
начально отдельных поселений). В соседстве с торгом, выявляя его
место в пространстве, сгавилась обычно ipynna церквей.
Улицы в этой системе были только путями. Зажатые огородами
усадеб, они не становились общественными пространствами, а их
направления не имели существенного значения для ориентации,
осуществлявшейся по телесным «вехам». По отношению к ним и
определялось место в городе. Во многих древних культурах изна-
чальным, дисциплинирующим началом пространственной органи-
зации города было крестообразное пересечение главных дорог, на-
правленных по странам света, которому придавалось символиче-
ское и магическое значение (градостроительные традиции грече-
ской и римской античности, Византии, Китая, Японии, Индии,
Центральной Америки). Крест четырех главных, наиболее широ-
ких, улиц выделялся и в структуре средневековых западноевропей-
ских городов, хотя здесь его форма не приводилась к строгой регу-
лярности. Па Руси, однако, идея такого структурообразующего кре-
ста не была принята (хотя, по-видимому, византийские зодчие, при-
глашенные князем, пытались подчинить ей Киев Ярослава Мудро-
го; следы уличного креста теперь прослеживаются по местополо-
жению ворот и храмов4, но в начертании сети улиц от него не оста-
лось и следа). Сегь улиц определялась системой связей между
главными точками городской активности. Наиболее распростра-
ненным приемом стала прокладка лучевых направлений от детинца
и его ворот. Лучи-радиусы связывались концентрическими путями
(в том числе и проходящими вдоль поясов фортификации). Когда
радиусы далеко расходились, внутрь кварталов вводились переул-
ки-тупики, расчленяющие чрезмерно крупные массивы. Создава-
лись и разветвления главных улиц, образующие вторичные пучки
лучей (началом их могли стать ворота окольного города, выводив-
шие в предградье).
Приемы ориентации в структуре древнерусского города предо-
пределили особую роль построения объема монументальных зда-
Организаиия пространства в русском i ралостроительстве
217
ний-ориентиров. Свободно стоящие в пространстве, они восприни-
мались как громадные скульптуры, что сближало — видимо не
случайно — зодчество средневековой Руси с эллинской традицией,
также связывавшей и ориентацию в пространстве, и художествен-
ные эффекты ансамблей с пластической разработкой обособленных
объемов и телесностью восприятия масс. При этом для русских
зодчих решающим, по-видимому, было отношение между этими
массами и природными формами, а не формальные правила ориен-
тации по странам света и подчинения элементарным закономерно-
стям параллельности и прямого угла. Это позволило с особой пол-
нотой выявить скульптурность объемов и органичность их связи с
природной ситуацией. Каноническое правило обращенности алтаря
храма на восток (равно как и «красного угла» горницы) восприни-
малось весьма условно. По наблюдениям Р. Гаряева, отклонения
оси алтаря от восточной ориентации в некоторых случаях достига-
ли 90°, что нельзя объяснить направлением на восход солнца в ка-
кой-то определенный день5.
«Воля к форме», которая развивалась в организации структуры
русских городов, не связывалась с тяготением к ортогональности, и
это вошло, видимо, в систему архетипов восприятия, прочно отло-
жившихся в подсознании. Уже в начале XX в. голландский неопла-
стицизм и российский супрематизм в своих экспериментах претен-
довали на интуитивное постижение основных, изначальных зако-
номерностей бытия. Пит Мондриан связывал их символическое
выражение с жесткой ортогональностью, Казимир Малевич — с
напряженностью трудно уловимых глазом отклонений в очертаниях
своего знаменитого «Черного квадрата» от чистоты очертаний,
предполагаемых геометрией.
«Неортогональность» пространственных структур средневеко-
вого русского города оценивалась некоторыми историками градо-
строительства (А. В. Бунин, В. А. Шквариков и др.) как следствие
стихийности — и даже хаотичности — их формирования. Однако
мы имеем дело с проявлением иной, трудно постижимой для нас
ментальности, в которой личность осознает себя частью целого, и
порожденных этой ментальностью форм организованной деятель-
ности. Не строя детализированных завершенных моделей предпо-
лагаемого результата (подобных, например, генеральным планам
городов XX в.), коллективная воля градодельцев разумно и после-
довательно направляла процессы роста городских организмов, чут-
14 Зак. 303
218
Раздел 8
ко реагируя на непредвиденные изменения ситуации. Результатом
становилась органичная, как бы «выращенная» форма, естественно
включенная в систему ландшафта (что не удавалось «плановому»
градостроительству XX в., создававшему детально разработанные
модели предлагаемого конечного состояния города — генеральные
планы, но не овладевшего искусством управления реальными про-
цессами городского развития; как правило, реальность имела мало
общего с намеченным).
Классическим типом средневекового русского города был го-
род мысовой, основанный на мысу, образованном слиянием рек.
Такие города довольно многочисленны благодаря преимуществам,
которые давало подобное расположение, для создания системы ук-
реплений. Они развивалась, как бы руководствуясь общим сценари-
ем. От изначального укрепленного ядра в междуречье устремлялся
веер лучевых направлений — дорог, вдоль которых начинался
рост посадов и нредградий. Когда удаление вдоль радиусов от ци-
тадели — кремля, становилось опасно значительным, разрастаю-
щаяся структура перебрасывалась через водные протоки, где на-
чинали формироваться лучевые структуры заречий. В идеальной
модели развитие должно было прийти к радиально-кольцевой
структуре. Такой результат оказался достигнут в некоторых малых
городах.
Среди крупных юродов Псков достиг очертаний, топологически
близких к половине круга, диаметр которого расположился вдоль
берега реки Великой. Однако Завеличье, отрезанное широкой и мно-
говодной рекой, складывалось без органичной связи с правобереж-
ным массивом. Полного развития радиально-кольцевая модель дос-
тигла в структуре Москвы. Знакомство с ее развитием в XII—XVII вв.
обнаруживает четкую логику процессов {радоформирования, кате-
горически опровергающую мнение об их «стихийности» (заметим,
что важнейшим следствием татаро-монгольского нашествия на
Русь стала стагнация роста населения и урбанизационных процес-
сов. Как бы ни доказывал Л. Н. Гумилев, что роковые последствия
«ига» — лишь исторический миф, фактом было сокращение числа
городов, замедление их роста, полное прекращение каменного
строительства почти на пол века всюду, кроме Новгорода и Пскова.
Поэтому Москва осталась единичным образцом).
История развития структуры Москвы достаточно широко из-
вестна и не нуждается в подробном пересказе. Но обратим внима-
Орган и за и ия пространства в русском градостроительстве
219
ние на последовательность процесса. Укрепленный городок распо-
ложился на Боровицком холме на слиянии рек Москвы и Неглин-
ной. Посад поначалу развивался на узком подоле холма вдоль бере-
га Москвы-реки в сторону Яузы, образуя линейную систему, под-
чиненную реке. Чтобы избежать затопления в весенние разливы,
застройка повернула в гору, распространяясь в междуречье Москвы
и Неглинной. Образовавшийся посад прорезали три улицы, веером
расходящиеся от проездных башен Кремля. Первоначальная ли-
нейная структура была преобразована в веерную. В то же время
посад стал расти и за Неглинной. Веерная система начала распро-
страняться на Занеглименье. Главный торг при этом расположился на
«полых местах» (гласисе) под «приступной стеной» Кремля между
реками. Он энергично притягивал к себе дороги. Веер улиц допол-
нялся новыми ручьями в Занеглименье и Замоскворечье. К 1538 г.
«Великий посад» в междуречье охватила мощная стена — Китай-
город. Далее веерная структура стала преобразовываться в центри-
ческую. В 1586-1593 гг. уплотнившийся массив посадов левобере-
жья Москвы-реки охватила стена Царь-города (Белого города), под-
кова которого уперлась в высокие берега. Застроенные земли на
периферии Занеглименья, в Заяузье и Замоскворечье охватила еще
одна линия укреплений — Скородом, описавшая уже полный круг с
периметром в 16 км.
Очертание Царь-города вписывается в окружность с центром на
современной Красной площади, но сильно отклоняется от идеальной
геометрии, следуя природным линиям. Оно не замкнуто, не выходя в
Замоскворечье. Напротив, Скородом жестко подчинен идеальному
замыслу. Замечательна последовательность, с которой совершился
переход от веерного плана к радиально-концентрической форме. Из-
лучина Москвы-реки, пересекающая окружность Скородома, связана
с ней подковой Белого города. Ее незамкнутая окружность стала пе-
реходным элементом между асимметричными очертаниями древ-
нейшего ядра и правильным геометрически внешним кольцом. Ра-
диусы, устремленные к центру, были связаны концентрическими до-
рогами, трасса которых следовала очертаниям поясов укреплений.
На периферии массива радиальные улицы, идущие от центра,
уже не могли обеспечить плотность уличной сети, необходимую
для того, чтобы обеспечить подъезд ко всем усадьбам. Их дополня-
ли не только переулки, дробившие территорию чрезмерно крупных
кварталов, но и разветвления радиусов, как бы вторичные веерные
14*
220
Раздел 8
системы, сходившиеся к воротам в поясах укреплений (Г. Я. Моке-
ев предложил назвать такую систему радиально-ветвистой6. Моск-
ва, город для Средневековья огромный (около 100 тыс. жителей к
началу XVII в.), осталась единственным примером полного развер-
тывания закономерностей «органичного» развития пространствен-
ной формы в безупречном единстве с природным ландшафтом. То,
что принято называть нерегулярностью, было, по сути, «иной регу-
лярностью», основанной на иных критериях правильности и иных
ценностных предпочтениях, чем принятые «веком просвещения».
Русских горододельцев интересовала конкретность места, а не аб-
стракции математического пространства. Они решали практические
вопросы и, в то же время, воплощали в форме города символиче-
ские значения, стремясь сделать ее ясно воспринимаемой, дающей
свободу пространственной ориентации. Для них была важна не
точность воспроизведения идеальной модели, но наглядность во-
площения ее топологических свойств в конкретном ландшафте. Две
точки у них всегда соединял путь самый удобный, но не обязатель-
но самый короткий (т. е. не обязательно прямой). Правильная по-
следовательность развертывания городского организма от началь-
ного ядра была основой их особой версии регулярности.
Пространственная форма системы несла символические смыс-
лы не только во фрагментах, архитектурных объектах, но и как це-
лое. Образ «небесного града Иерусалима» объединял систему. Под-
чинение ему даже заставило устроить двенадцатые, поначалу лиш-
ние, ворота Скородома. Этому образу следовала и структура мона-
стырей, ожерелье которых сложилось вокруг города и, второе,
внутри Скородома. В XVI в. эту образную систему дополнила идея
«Москва — третий Рим», побуждавшая амбиции на преемствен-
ность от Византии в качестве центра православного мира.
«Часы» российской культуры шли медленнее, чем время на За-
паде; к тому же темпоральный разрыв стал накапливаться еще за-
метнее в столетия татаро-монгольского господства. Но XVII в. стал
веком перемен, вводящих Россию в Новое время и в культурную
общность, развивавшуюся в Европе на основе традиций Возрожде-
ния. «Бунташный» XVII в. для России был отмечен не только эко-
номическим ростом. Рождался новый тип сознания, новый тип
личности, утверждавшей мужество быть собой, имевшей смелость
преодолеть чувство растворенное™ в коллективе, принять на себя
бремя решений. Идеал человека созерцательного вытеснил человек
Организация пространства в русском градостроительстве
221
деятельный. Фигурой такого рода стал царь Алексей Михайлович
(эпитет «Тишайший», сопровождавший его имя, — часть монаршей
титулатуры; царь — утвердитель тишины, порядка в отечестве; этот
эпитет использовался и в обращениях к Петру I). Он собирал во-
круг себя деятельных, решительных людей. Век стал рождать про-
светителей-рационалистов, как Симеон Полоцкий, и людей неисто-
вых, как протопоп Аввакум. Для России он стал тем, чем было
Кватроченто для культуры Италии. Исторические функции Ренес-
санса в России приняло на себя барокко — мысль, которую первым
высказал Д. С. Лихачев7.
Становление личностного самосознания делало Русь воспри-
имчивой к опыту западноевропейской культуры, ориентированной
на личность, имеющую мужество осознать и утверждать свою ин-
дивидуальность. Формы архитектурных ордеров, занесенные в
Россию уже в XVI в., но использовавшиеся как разрозненные деко-
ративные мотивы, стали осознаваться как универсальное начало
«размерения» пространства, подчинения его дисциплине, не зави-
сящей от случая и привносимой человеческой волей. Вместе с во-
левым началом в организацию среды стала входить регулярность.
Немецкая слобода Москвы, где селились иностранцы, стала впи-
санным в радиальную структуру фрагментом планировки с прямо-
угольной сетью улиц, обрамляющих кварталы.
Постепенность перемен, набиравших темп к концу XVII в., в
петровских реформах перешла в фазу культурного взрыва, связан-
ного со строительством новой столицы России в дельте Невы. На-
рушение непрерывности традиций, неизбежное в такой фазе, свя-
зывалось с активностью восприятия внешних влияний с Запада,
значение которых нарочито подчеркивалось. Но обновление не бы-
ло полным разрывом с историческим опытом. Воспринятое асси-
милировалось и образовало в синтезе с унаследованным от нацио-
нального Средневековья своеобразные варианты той общеевропей-
ской культурной системы, которой стал классицизм XVIII - начала
XIX вв.
С давних пор бытует противопоставление двух столиц России —
Санкт-Петербурга и Москвы — как неких противоположных начал.
Эта привычная оппозиция подчеркивается в разных гранях город-
ской культуры и в традициях художественных школ, в психологии
жителей и формах их поведения, но более всего в характере про-
странственной организации городских структур. Сопоставлением
222
Раздел 8
Москвы и Петербурга обычно иллюстрируется тезис о противопо-
ложности живописного и регулярного, интуитивного и рассудочно-
го, естественного и искусственного, волевого начал русского градо-
строительства. По непредвзятое сопоставление обнаруживает
взаимодействие этих «полярностей», их взаимопроникновение в
становлении новых качеств городской среды.
Развитие Санкт-Петербурга началось с закладки 16 мая 1763 г.
мощной крепости «Санкт-Питер-Бурх», за которой установилось
название Петропавловской, в первые десять-пятнадцать лет оно
шло по руслу, вполне традиционному для русского градострои-
тельства. Петропавловская крепость получила мощный периметр
бастионов, созданных по передовым для того времени идеям фор-
тификационной науки. Вдоль их линии следовали жилые и прочие
постройки, обрамляя обширное внутреннее пространство, цен-
трированное колокольней Петропавловского собора (1712-1733,
Д. Трезини). Пространственная форма крепости, при всех форти-
фикационных и архитектурных новациях, повторяла характерные
черты типологии русских кремлей. Перед мостом — въездом в кре-
пость со стороны Петербургского («городского») острова — распо-
ложилась торговая площадь (как это и бывало в русских городах).
От этой площади началось развитие не очень правильной радиаль-
ной сети улиц. Потребность в развитии судостроения, связанного с
активным подвозом материалов с материка, обусловила появление
еще одного центра городского развития, на южном берегу Невы. Им
стало в 1704 г. Адмиралтейство, подобно крепости защищенное
рвами, валами и охваченное гласисом — «полыми местами» — со
стороны суши. Стягивающиеся к нему дороги наметили вторую,
материковую, систему радиальных улиц. Ориентиром для нее стала
башня со шпилем, с 1711 г. поднимавшаяся над серединой адми-
ралтейских корпусов. Осваивались и берега Невы. Таким показы-
вают Петербург планы Палибина (1716) и де Фера (1717).
Все это обычно для русского города. Не была новацией и двух-
частность, двухцентровость системы — очевидные аналогии мож-
но найти в нескольких средневековых русских городах, строивших-
ся по берегам больших рек (Новгород, отчасти Псков и др.). Новой
была лишь та пронизанная единой волей энергия, с которой ресур-
сы всей страны направлялись на небывало быстрое формирование
города. Знамением времени стало и изменение ценностей, отра-
женное в пространственном строении городских структур. Цен-
Организация пространства в русском градос троит ельст не
223
тральную позицию в левобережной части занял не храм, а утили-
тарная производственная постройка — Адмиралтейская верфь. Со
своим высоким шпилем, она стала одним из главных ориентиров и
символов города, шпили Адмиралтейства и Петропавловского со-
бора, вехи, выявлявшие два главных центра, поддерживались
меныпими вертикалями в центрах «второго уровня», дополняя при-
вычную систему ориентации в пространстве.
Ситуация изменилась лишь тогда, когда Петр I принял оконча-
тельное решение сделать новый город столицей России (докумен-
ты, закреплявшие это решение, не найдены, но дата его связывается
с решающей победой Северной войны в битве при Гангутс, 1714).
Для столицы двухчастность была неприемлема. Начался поиск объ-
единяющей идеи. Объединяющими образами стали для Петра I по-
разившие его деловитый Амстердам и Версаль, символ Вселенной,
подчиненной воле абсолютного монарха. Геометрическая регуляр-
ность должна была стать общим принципом формообразования,
объединяющим формирующийся «парадиз». Местом для нового
регулярного центра города был избран Васильевский остров, зани-
мающий срединное положение в Невской дельте и к тому времени
еще мало застроенный.
Создать этот центр Петр решал уже не традиционными спосо-
бами, но поручив французскому архитектору Ж. Б. А. Леблону со-
ставить чертеж генерального плана. Подготовленный в 1717 г., этот
план на первый взгляд — не более чем изящно нарисованный вари-
ант идеального города, повторяющий мотивы увража Ж. Перре дс
Шамбери8. Но если преодолеть впечатление от вычурного рисунка,
можно обнаружить, что схема этого плана повторяет классическую
для русского Средневековья схему мысового города на слиянии рек,
получившую свое полнейшее воплощение в структуре Москвы
XVII в. Более того, схемы Москвы и Петербурга по плану Леблона
аналогичны по своим общим очертаниям (только леблоновский план
зеркален по отношению к московской схеме). Овальный обвод укре-
плений, предложенный Леблоном, напоминает очертания Земляного
города и близок к нему по величине. Проект не был отвергнут, но
не был утвержден.
Леблон, умерший в 1719 г., не повлиял существенно на строи-
тельство Петербурга. Но идея синтеза западной и русской градо-
строительных традиций, равно как и идея трехчастного центра
(Адмиралтейство — Стрелка Васильевского острова — Петропав-
224
Раздел 8
ловская крепость) определили дальнейшее развитие новой столи-
цы. Не важно, родились они у самого Леблона или предписаны ему
Петром I. Важно, что ими направлялся в дальнейшем синтез градо-
строительных традиций, определивший лицо Петербурга, а затем и
направленность фадостроительных идей русского классицизма
(именно специфической русской версии международного стиля, а
не просто «классицизма в России»). Утверждение регулярности
планировки связывалось с созданием непрерывной фронтальной
застройки — направления улиц становились основой системы ори-
ентации, дополнявшейся традиционной ориентацией по вертика-
лям, объемным ориентирам. Системы ордеров стали задавать зако-
номерность построения отдельных объектов.
Новации, связанные со строительством Санкт-Петербурга, не
были перенесением на российскую землю чужеземной моды. Об-
ращение к ренессансной традиции определялось потребностью
сформировавшейся в России личности человека Нового времени.
Его сознание, принимая свою конечность и ответственность за ре-
зультаты своей деятельности, вместе с тем искало формы утвер-
ждения своей суверенности, мужества быть собой. Градостроение
воспринималось уже не как органический процесс, но как сумма
усилий, направляемых осознанной волей. Их объединению в по-
следовательность, обеспечивающую пространственный порядок и
организованность бытия, служили теперь внешнее императивы.
Компенсацию естественного единства искали в эстетической цен-
ности. Регулярность же, основанная на простейших геометриче-
ских закономерностях, использовалась как средство установления
эстетизированного порядка. В сложных ситуациях, определяемых
природным ландшафтом или антропогенными структурами, ряд
закономерностей дополнялся уравновешенной асимметрией и соче-
таниями разнонаправленных фрагментов ортогональных и ради-
ально-лучевых схем. Порядок, основанный на геометрических аб-
стракциях, отчуждался от конкретной реальности. Его идеальные
очертания получали предварительное овеществление в проектной
модели, наделявшейся эстетической самоценностью.
Среди участников строительной деятельности, ранее объеди-
нявшейся артелью, стала выделяться фигура автора, определяю-
щего целеполагание и принимающего на себя ответственность за
результат. Первым автором, чья личность определяла градострои-
тельные решения, был Петр Г, направлявший начальный этап соз-
Организация пространства в русском градостроительстве
225
дания Санкт-Петербурга. В его время установилась и практика
конкретного авторства архитектурных объектов (но авторское
право еще не закрепилось — за каждым крупным объектом тянет-
ся длинный шлейф имен сменявшихся авторов). Синтез традици-
онного российского и ренессансного начал определил характер
новой столицы.
Своеобразие Петербурга, его несоответствие международным
стереотипам классицизма, остро ощутил и описал в воспоминаниях
(1839) маркиз де Кюстин. В необычности Петербурга ему увиде-
лось нечто враждебное и тем острее он на нее реагировал. Он под-
черкивал просторность города, решительно отличающую его от
привычной плотности западных городов. Он отметил и незнакомую
ему активность вертикальных акцентов над ровными прямыми ря-
дами относительно невысоких домов. В иных пространственных
отношениях и знакомые формы классицизма казались ему теряю-
щими свой характер. Выводом было: «Московия более сродни
Азии, чем Европе. Дух Востока царит над Россией»9. Желчный
маркиз точно воспроизвел ощущения, возникавшие в соприкосно-
вении с Петербургом у человека, воспитанного культурой западно-
европейского классицизма.
Неклассическая пространственная основа города выпирала
сквозь униформу классицизма даже и во время наибольшего распро-
странения этого стиля в застройке Петербурга. Вместе с регулярно-
стью утверждалась ориентация на земные идеалы и образцы — Вер-
саль, Париж и Амстердам вставали рядом с «небесным Иерусали-
мом». Естественность, органичность формирования среды заменя-
лась театральностью. В этом театре, при всей ригористичности
классицизма, сочетание его образов со средневековыми отзвуками
Иерусалима воспринималось вполне естественно, как то показала
Москва, — воспринявшая в свою систему «петербургскую» регу-
лярность. Но смена жизненной подлинности жизнью-театром при-
ближала к новому кризису. Теряла свою глубинную значимость
символика пространственной формы. Забывались, уходили из соз-
нания значения форм-архетипов. Создаваемая человеком среда на-
чинала отчуждаться от него и его внутренней жизни. Процесс этот
завершился к концу XIX в.
XX в. стал временем нового культурного взрыва, подчиненного
идеалам и ценностям, утверждаемым вместе с социальной утопией.
Угасший к последней четверти века, он окончательно разрушил
226
Раздел 8
связи между внутренним миром человека и формами его среды.
Мир лишился значений и смысловой ориентированности. Задачи
обновления городов, возникающие на рубеже XXI в., включают
разрешение и этой проблемы. Восстановить прерванные нити куль-
турной преемственности при этом необходимо. Отсюда — актуаль-
ность обращения к национальным традициям, в том числе и градо-
строительным. К ним влечет не только ностальгия, но и потреб-
ность культурного возрождения.
Примечания
1. Милюков 77. И. Очерки по истории русской культуры. Т. 1. М., 1994.
С. 334.
2. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.
3. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971. С. 12.
4. Иконников А, В. Тысяча лет русской архитектуры. М., 1991. С. 42.
5. Гаряев Р. М. Особенности постановки доминант в древнерусском гра-
достроительстве // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды па-
мятников истории и культуры. Вып. IV. М., 1976.
6. Мокеев Г Я. Москва — памятник древнерусского градостроительства //
Наука и жизнь. 1969. № 9.
7. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи и
стили. Л., 1973. С. 207.
8. Perret J. Е Les fortifications et artifices d’architecture et perspective.
Paris, 1601.
9. Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника
маркиза де Кюстина. М., 1910. С. 26-28.
Раздел 9
Организация пространства
и художественный язык архитектуры
Архитектура переживает трудное время. Дело не только в эко-
номических ограничениях — по самой своей природе она всегда
следует общественной целесообразности, организуя жизненный
материал, чтобы превратить его в искусство. Так было, так будет.
Богатство или скупая сдержанность средств зависят от поставлен-
ной цели и реальных возможностей, и не степень того или другого
определяет художественную ценность. Искусством делает архитек-
туру образное выражение культурных смыслов, порождаемых оп-
ределенным обществом в определенное время. Ее функции прежде
всего интегративны. В своих конкретных произведениях она со-
единяет процессы жизнедеятельности в пространственно организо-
ванные системы, а как вид деятельности связывает духовную и ма-
териальную культуру, воплощая практически, в явлениях «второй
природы», глубинные связи бытия, познанные человеком. Она об-
разует мост между художественным и не-художественным. И в
идеале именно в архитектуре может с особой полнотой осущест-
виться способность искусства целостно воспроизводить человече-
скую деятельность.
Сегодняшние трудности архитектуры исходят прежде всего от
ослабления ее интегративной функции. В середине XX в. архитек-
торы утратили контроль над ситуацией, которую стремительно из-
менял научно-технический прогресс. Думали о том, как ввести но-
вую технику в сложившиеся схемы деятельности. Техника же на-
ступила со своими схемами, не учитывающими многогранной куль-
турной значимости предметно-пространственной среды, но позво-
лившими быстро и радикально удовлетворить наиболее неотлож-
228
Раздел 9
ные тогда социальные потребности. Количественные возможности
индустриального домостроения потеснили архитектуру с присуще-
го ей места в системе культуры, а попытки вписать ее в самодов-
леющую технику привели к внутреннему рассогласованию архи-
тектурной деятельности. Подчиняясь техническим стандартам, она
теряла образность — качество искусства, а вместе с ним и возмож-
ность служить началом интеграции.
Следствием стало перерождение городского окружения, уско-
ренное высокой динамичностью техники, подменившей архитектуру.
Еще в начале 1960-х гг. бурный рост новых городских массивов впе-
чатлял. Однако уже вскоре была замечена подавляющая монотон-
ность, отторгающая их от живой, естественной среды исторически
сложившихся центров. Затем и сами центры стали подвергаться эро-
зии. Новая техника чужда их сложной природе, у нее нет средств,
пригодных для того, чтобы их поддерживать. Города теряют целост-
ность, а с нею — индивидуальность, «лицо», неповторимостью ко-
торого гордились горожане. Слабеет воспитательная, ценностно-
ориентирующая роль предметно-пространственного окружения.
Проблема обострилась, приобрела политическое значение.
Ни косметическими, ни чисто инженерными средствами про-
блему не решить. Архитектура должна вновь занять свое место ин-
тегрирующего начала в городе и в системе культуры. Технические
структуры массового строительства должны быть переосмыслены и
подчинены закономерностям художественного формообразования.
Чтобы достичь такой цели, нужно многое пересмотреть во всей
системе градоформирования, сегодня парадоксально ориентиро-
ванной не на человека, а на служащую ему технику. Многое нужно
решить и в пределах самой архитектурной профессии. И настояще-
го эффекта можно достичь только решениями, обращенными на
всю систему формообразования, а не частными находками; только
такие решения помогут возвращению интегративной функции ар-
хитектуры. Чтобы вновь стать полноценным искусством, архитек-
туре нужно создать художественный язык, способный выразить
разнообразие смыслов современной культуры и, вместе с тем, при-
вести к гармоничной системе технические средства строительства.
Язык этот должен, выражая современные смыслы, принадлежать и
определенной линии культурной преемственности. Иначе нельзя
сохранить осмысленную связность «текстов», в которые складыва-
ется городская среда.
Организаиия пространства и художественный язык архитектуры
229
На какой опыт можно опереться при построении подобного
нового языка? Формообразование в современном массовом строи-
тельстве подчинено, прежде всего, технологической эффективно-
сти; оно оставляет в стороне вопросы семантики, художественной
образности, гармонии (эстетические претензии в этой сфере не
вышли за пределы поисков разнообразия в том, что однообразно
по своей природе). Но именно массовое строительство, образуя
ткань города, несло в себе начала типического, объединявшие
языкотворческую стихию. Художественные поиски, не выходящие
за пределы отдельных уникальных объектов, оказались теперь вне
среды, которая могла бы их ассимилировать. Они подчас доста-
точно ярки, но в пестроте их форм и приемов трудно выделить
общие начала, которые могли бы послужить для построения сис-
темы художественного языка.
Чтобы выйти к таким началам, нужно попытаться за разнооб-
разием индивидуальных явлений увидеть некие инварианты, общие
для определенного времени и культуры. Наиболее развитые и ус-
тойчивые системы художественного языка основывались на текто-
ническом осмыслении материальных структур («классические»
языки архитектурного ордера, готическая система травей и пр.).
Однако, эти системы складывались и существовали лишь при ус-
тойчивой ориентации на определенный тип конструктивной струк-
туры (визуальное выражение закономерностей каменной стоечно-
балочной конструкции сохраняли и архитектурные ордера класси-
цизма, фактически осуществлявшиеся из кирпича или дерева). Та-
кая архитектура предъявлялась жизни как универсальная модель
порядка, а это возможно лишь при относительной несложности
взаимосвязей между оболочкой здания и наполняющими ее жиз-
ненными процессами.
В нашем веке универсальности ордерных языков архитектуры
противопоставлена идея пространственной структуры как прямо-
го отражения организации конкретных жизненных процессов. Ин-
вариантами формообразования становятся при этом не ячейки
ордера, воспроизводящие первичную тектоническую закономер-
ность, а типы структурной организации пространства. Одним из
первых идею пространства как первоосновы архитектуры сфор-
мулировал Ф. Л. Райт (по словам самого Райта, первым ее созна-
тельным выражением был Унитарный храм в Ок-парке, построен-
ный в 1904 г.). Для словесной формулировки идеи Райт использо-
230
Раздел 9
вал цитату из Лао Цзы: «Реальность здания — не стены и крыша,
а внутреннее пространство, в котором живут»1. В советской архи-
тектуре 1920-х гг. подобную концепцию утверждал Н. Ладовский.
По его определению, архитектура — «искусство, оперирующее
пространством... Пространство, а не камень — материал архи-
2
тектуры» .
Швейцарский теоретик архитектуры 3. Гидион в широко из-
вестной книге «Пространство, время, архитектура» (первое издание
вышло в 1941 г.) доказывал, что идея связной непрерывности орга-
низованных пространств образует стержень не только всех концеп-
ций так называемого «современного движения» в архитектуре, но и
некое связующее начало художественной культуры века. Он усмат-
ривал в ней и аналогию принципа «пространства-времени» Эйн-
штейна—Минковского. Всю историю архитектуры Гидион изобра-
зил как восхождение к ней3.
В конце 1960-х гг. интерес к проблеме архитектурного про-
странства упал. Прямолинейный рационализм более не привлекал;
казались сомнительными и принципы, на которых основывались
предложенные им идеи. Техницистским акцентам «современной
архитектуры» был противопоставлен человеческий фактор. С ним
связывалось представление о среде, вытесняющее идею организо-
ванного пространства как первоосновы архитектуры. Среда стала
для художественной культуры 1970-1980-х гг. понятием столь же
существенным, как понятие «пространство» для предшествующего
десятилетия. Обращение к нему привлекло внимание к активному
взаимодействию жизни и ее материальной оболочки, напомнило,
что только в этом взаимодействии определяются реальные ценно-
сти. Средовой подход учил рассматривать любой объект в тех кон-
текстах, в которые он включен — в контекстах культуры, деятель-
ности, предметно-пространственного окружения. Он существенно
обогатил профессиональное сознание архитекторов.
Среда — предмет специфичный. Поскольку понятие среды ох-
ватывает не только материальные элементы и их пространственные
связи, но и осуществляемые с их помощью поведенческие акты и
способы жизнедеятельности, в его содержание входит сам человек.
Центральные проблемы отношения к среде — деятельностное ос-
воение человеком различных пространственных ситуаций и влия-
ние этих ситуаций на поведение и деятельность. Человек не только
определенным образом ведет себя в соответствующей среде, но и
Ортанизаиия пространства и художественный язык архитектуры
231
активно переживает и оценивает ее, вырабатывая к ней эмоцио-
нальное отношение, любит или не любит ее, наделяет ее ассоциа-
тивными и символическими значениями.
Любое описание среды субъективно, ее отражение в сознании
всегда эмоционально окрашено, зависит от позиции субъекта, его
потребностей и предпочтений. Г. Каганов, талантливый исследова-
тель средовой проблематики, полагает, что в описании и моделиро-
вании среды внешние слои субъекта неизбежно проецируются на
объект, размывая субъектно-объектную границу4. Такой тип вос-
приятия преобладает в нашем обыденном отношении к среде. Од-
нако, его прямое моделирование в творческом процессе, направ-
ленном на формирование предметно-пространственного окруже-
ния, затруднительно и вряд ли продуктивно.
Точка зрения как бы изнутри системы при проектировании во
всяком случае не может быть единственной. Архитектор, художник,
дизайнер должны видеть субъектно-объектные связи среды и как
бы извне. Представляя функционирование объекта, вовлеченного в
определенную деятельность, они задают точные параметры самого
объекта, его материальных структур. Поэтому представление о
пространстве и пространственной структуре объекта сохраняет
свою методологическую ценность. Средовой подход показал его
«не-замкнутость», необходимость воспринимать объект и его
структуру как часть системы среды, включающей субъект и его
деятельность. Однако анализ пространственных свойств остается
основой композиции. Именно через него открывается практическая
возможность соотнести материальное и деятельностное.
Можно заключить, что понятие «пространство» не потеряло
своей значимости, что и в пределах средового подхода плодотворно
изучение организации пространства как первоосновы художествен-
ного языка архитектуры. Мы обратились к опыту советского зодче-
ства, чтобы показать, как за пестротой конкретных явлений выри-
совываются немногие инварианты формирования пространствен-
ных структур и как изменяется их система вместе с динамикой сис-
темы видения, принадлежащей культуре в целом.
* * *
Новое утверждается, отвергая старое. Утверждение архитек-
туры нового социалистического общества после Октябрьской
революции в России во многом определялось полемикой со ста-
232
Раздел 9
рым и привычным, стремлением противопоставить ему иное,
иногда нарочитой противоположностью неких признаков заяв-
ляющее о своей новизне. Реальный материал для вспышки новых
идей, для их становления давал мощный пласт культуры, сло-
жившийся в предреволюционные десятилетия. Поиски конкрет-
ных форм основывались на структурных принципах, определив-
шихся в этом слое.
При всей пестроте стилистических вариантов, архитектура
предреволюционных лет разрабатывала два основных структур-
ных принципа организации пространства: принцип суммирова-
ния равноценных ячеек и противостоящий ему принцип «зда-
ние-организм».
Первый из них определился уже в середине XIX в. в типах со-
оружений, получивших массовое распространение, которое стало
влиять на характер всей городской ткани — в доходном жилом доме
и административном здании. Равные и независимые одна от другой
ячейки доходного дома заменили в условиях энергичной урбаниза-
ции и растущей плотности застройки жилище как обособленный
организм, продолжаемый своим участком и прямо связанный с го-
родским коммуникациями. На основе обезличенных первичных
ячеек складывалась и организация учреждений разраставшейся
системы управления. Художественное осмысление принципа сум-
мирования связывалось с преодолением норм классицизма, его ак-
центов на упорядочивающей роли симметрии, иерархическом со-
подчинении главных и второстепенных осей внутренней завершен-
ности целого, заставляющей противопоставлять объект и фон, зда-
ние и его окружение.
Ячейковый характер функции доходного дома и «присутствен-
ных мест» исключал появление в пространственной структуре
главного ядра, которое могло бы стать центром и требовало бы ви-
зуального акцента в материальной оболочке. Стремление эффек-
тивно использовать городские земли заставляло умножать число
этажей. Все они были в принципе равны по своему значению (если
не считать качественного различения по социальному признаку,
нередко влиявшего на структуру доходного дома — считавшийся
наиболее удобным второй этаж отводился для семей с более высо-
ким доходом).
Структура пространства определяла однородную ритмиче-
скую ткань стены, в которой доминировала сетка оконных про-
Ортанизаиия пространства и художественный язык архитектуры
233
емов. В ранних примерах основной ритм подчеркивался исполь-
зованием классического ордера. Повторение его одинаковых эле-
ментов на фасаде не следовало буквально расчленению простран-
ственной структуры, но символически раскрывало его качествен-
ную равномерность. Таково, например, здание Министерства го-
сударственных имуществ на Исаакиевской площади в Петербурге
(архит. И. Ефимов, 1844-1853). С развитием эклектизма декора-
ция, размещенная на фасадах, получает свой ритм, развернутый
на стене, воспринимаемой как нейтральная поверхность. Для
ячейковой структуры органична каркасная конструкция, распро-
странившаяся на рубеже XIX и XX вв. Она связывает ритм внут-
реннего пространства и его оболочки. Вариант ячейковой струк-
туры торгово-административного здания — цельное внутреннее
пространство, членения которого намечены конструктивными
элементами и могут быть закреплены в легких постоянных или
временных перегородках. Пример такого рода — дом Московско-
го купеческого общества на Новой площади в Москве (архит.
Ф. Шехтель, 1909).
Второй принцип — «здание-организм» — наиболее четко
сформулирован в начале века в российской версии «стиля модерн»
(архит. Ф. Шехтель, Л. Кекушев, А. Эрихсон, А. Зеленко, А. Гоген,
Р. Мельцер и др.). Эстетическая утопия жизнестроения, облагоро-
женного красотой, претворялась в идею упорядоченной целостно-
сти, способной противостоять внешнему хаосу. Микрокосм здания
развивается изнутри — вовне, от некоего ядра к периферии, очер-
тания которой выражают только динамику внутренних сил; на
структурной основе как бы «прорастают» символические и декора-
тивные формы, вносящие дополнительные смысловые нюансы в
сложную, не допускающую расчленения метафору, к которой сво-
дится образ целого. Принцип этот восходит к типу организации
крупного особняка ХЕХ в., особенно широко разработанному в «по-
слепожарной» Москве. Классицистический особняк отличала двой-
ственность формы — цельность его объема, воспринимаемого из-
вне, подчинена симметрии и регулярности ордерного декора клас-
сицизма, цельность внутреннего пространства следует асиммет-
рично развернутой последовательности функциональных процес-
сов. Модерн привел структуру особняка к органическому единству
на основе подчинения внешнего — внутреннему, оболочки — про-
странству. С особым мастерством развивал принцип здания-орга-
234
Раздел 9
низма Ф. Шехтель (особняки Рябушинского, 1900—1903, и Деро-
жинской, 1901, в Москве).
Принцип суммирования как бы естественно проистекал из
аналитического видения мира, характерного для XIX в. Здание-
организм отвечало уже иным тенденциям мировосприятия и его
отражения художественной культурой. Стремление увидеть общие
тенденции времени за пестротой конкретных явлений, увидеть
структуру под оболочкой и символически выразить сложные,
обобщающие смыслы развивалось в изобразительных искусствах.
Наука переходила от систематизации фактов к построению обоб-
щающих концепций. Поэтому здание-организм в начале века ста-
ло восприниматься как ценностный эталон эстетического, ячеи-
стая структура — как практическая необходимость. Из такой по-
сылки вырастали попытки распространить принцип органичной
целостности на сооружения, по своей природе формируемые сум-
мированием ячеек — доходные дома, учреждения — которые ста-
ли формировать как монолиты некоего аморфного вещества, не
отражающие в форме, обращенной вовне, внутренней ячеистости
(постройки архитекторов А. Эрихсона, Г. Макаева, Э. Вирриха,
М. Эйзенштейна).
Октябрьская революция поставила перед архитекторами не
утопические, а действительные жизнестроительные цели. Наибо-
лее последовательной программой в начале 1920-х гг. ответила
группа конструктивистов. В центре ее — программа функцио-
нального творчества. М. Гинзбург, теоретик конструктивизма, на-
зывал главной задачей «изобретательство новых типов архитекту-
ры, долженствующих оформить и кристаллизовать социалистиче-
ский быт»5. Творческие направления архитектуры предреволюци-
онных лет с их утопическими претензиями, эстетизмом и тяготе-
нием к смутным образам «рубежа эпох» безоговорочно отверга-
лись. Конструктивисты провозглашали: «Мы объявляем неприми-
римую войну искусству!.. Настало время социально-целесообраз-
ному... Ничего случайного, безучетного, ничего от слепого вкуса
и эстетического произвола. Все должно быть осмыслено техниче-
ски и функционально»6. Разработка новых типов сооружений
осознавалась как задача изобретательская, направленная на ра-
циональную организацию новой жизни, устремленная к «зданию
как социальному конденсатору эпохи», в котором и виделось
средство жизнестроения.
Организаиия пространства и художественный язык архитектуры
235
Поскольку для конструктивистов архитектура начиналась с
разработки целесообразных форм организации самой жизни, зда-
ние мыслилось как оболочка для них. Характерный для времени
тип рационального миропонимания основывался на анализе и рас-
членении сложных систем. Соответственно жесткой классифика-
ции подвергались функции городского организма, сортировавшиеся
по пространственно обособленным зонам; выделялась и четко ог-
раничивалась функциональная нагрузка отдельного объекта — зда-
ния, мыслившегося как оболочка для них. Расщепляя функцию на
элементарные процессы, отыскивая оптимальные пространствен-
ные отношения между ними, конструктивисты призывали развер-
тывать здание изнутри — наружу, от системы процессов к обоб-
щающей ее оболочке. В этом они фактически повторяли стержне-
вую идею, направлявшую разработку пространственных систем
стилем модерн. Но ее детализация и воплощение в визуальных
формах следовали уже иной системе видения, воспитанной экспе-
риментами искусства 1910-х гг. — поисками конструктивной живо-
писи, которые вели «московские сезаннисты» из группы «Бубновый
валет», аналитической формой кубо-футуристов, художественным
осмыслением фактур различных материалов в «контррельефах»
В. Татлина и Л. Поповой и супрематизма К. Малевича, говорившего
о выходе на «нуль формы», за которым начинается новое творчест-
во. Утверждение Малевичем экономии как меры оценки и опреде-
ления современности, распространяемой на все творческие приоб-
ретения как систем, техники, машин, сооружений, так и искусств,
оказало, по-видимому, особенно сильное воздействие на художест-
венное сознание конструктивистов (независимо от деклараций, ко-
торыми они отмежевывались от Малевича).
Пространство конструктивистского здания жестко дифферен-
цировано в соответствии с организацией функционального процес-
са. Части раскрываются одна к другой; где-то возникают и перели-
вающиеся пространства. Интерьер в каких-то звеньях визуально
раскрывается окружению; навесы, террасы, балконы как будто
«разрыхляют» четкость разграничения внутреннего и внешнего.
Здание растет от некоего внутреннего центра, не прорывая оболоч-
ку, оставаясь «объектом», противопоставленным фону, требует обо-
собления от других таких же объектов. Открытое городское про-
странство между ними — прежде всего интервал. Особенно ярко
эта тенденция проявилась в утопических проектах И. Леонидова —
236
Раздел 9
функциональные звенья его комплексов замыкаются в жесткие
очертания элементарных геометрических тел. Пространство вокруг
(какие бы рациональные мотивировки оно ни получало) — лишь
пустота, в которой взаимодействуют «силовые поля» геометриче-
ских тел. В этой героизированной геометрии супрематизм К. Мале-
вича и Н. Розановой приведен к патетическому звучанию.
Впрочем, советский конструктивизм в любых экспериментах
основывался на принципе социального реализма, на утверждении
эффективного и реалистического подхода к социальным задачам.
Реализм этот часто основывался не на подлинном знании, а на
утопических представлениях, интуиции и эмоциях, иногда он
становился по сути дела иллюзорным — как в творчестве
И. Леонидова. Первичность социальной мотивировки, пусть ино-
гда и получавшей характер утопии, была этической необходимо-
стью для конструктивистов. Поэтому их работы не приобретали
характера самодовлеющих экспериментов с абстрактными зада-
чами на организацию пространственной формы, оцениваемых
лишь эстетически (к чему тяготели голландские конструктивисты
группы «Стиль», а вслед за ними — Л. Мис ван дер Роэ и его по-
следователи). Социальная функция исследовалась модными в
1920-е гг. методами анализа «по Тейлору», расчленяющего ее на
элементарные составляющие. От этих методов шло стремление к
четкой артикуляции пространственной структуры, преобладавшее
над формальным идеалом пространственности, текучей непре-
рывности пространств, которым увлекались западноевропейские
конструктивисты.
В рамки конструктивистского метода не укладывались практи-
ческие задачи крупномасштабного развития городов, которые стали
основными для советской архитектуры вместе с началом индуст-
риализации страны в годы первых пятилеток и стремительной ур-
банизацией 1930-х гг. Искали ответ, суммируя множества отчетливо
раздельных объектов в крупные единообразно сформированные
пространственные единицы, которые вновь суммировались на бо-
лее высоком уровне организации. Практически такой принцип вы-
ливался в строчную застройку, покрывавшую большие территории
(Магнитогорск, Кузнецк, Автозаводский район Горького). Про-
странство, «протекавшее» между одинаковыми дискретными объе-
мами, оставалось аморфным, не получало качеств, необходимых
для объединения системы.
Организаиия пространства и художественный язык архитектуры
237
Новый структурный принцип предложил ленинградский ар-
хитектор С. Серафимов — расчленение внутреннего пространства
зданий на зоны, определяемые системой коммуникации, охваты-
вающей комплекс построек и развернутой в трех измерениях.
Идея была реализована в комплексе зданий Госпрома (Харьков,
1925-1929). Вертикальные стволы коммуникационной системы на
разных уровнях соединены горизонтальными коммуникациями —
пронизывающими объемы или проходящими над пересекающими
комплекс городскими магистралями как «улицы в воздухе», мос-
тики-коридоры. Возникала структура, открытая к развитию и про-
должению, в которой снималось само представление о здании как
изолированном объекте. Пространственная решетка коммуника-
ций, вертикальных и горизонтальных, была ее основой. Радикаль-
ность идеи в конце 1920-х гг. казалась чрезмерной. В то время она
получила продолжение лишь в пределах объекта, структурная ор-
ганизация которого основывается на пространственной решетке
коммуникаций. Такой вариант системы, построенной по принципу
«изнутри — вовне», особенно эффектно реализовали В. Щуко и
В. Гельфрейх (здание театра в Ростове-на-Дону, 1930-1935).
Конструктивизм не сумел использовать подобные идеи для
системного преобразования городского контекста. В условиях ши-
рокой реконструкции и строительства новых городов казалась бо-
лее реальной альтернатива, предлагавшаяся сторонниками тради-
ционности, исходившими от принципов градостроительства рус-
ского классицизма. Она привлекала уже тем, что основывалась на
идее пространственной целостности города и ценностях его сло-
жившегося контекста. Новаторские постройки конструктивистов
противостояли сложившемуся окружению как ориентиры преобра-
зования; лишь в идеале предполагалось продолжение влияния,
идущего изнутри, от ядра пространственной структуры зданий, и
его распространение на всю городскую ткань. Для традиционали-
стов же формообразований объекта начиналось с осмысления кон-
текста, его пространственных закономерностей. Метод осмысления
задачи и структурирования объекта претерпевал инверсию. Утвер-
ждался метод «извне — вовнутрь», от общего — к частному, от го-
рода — к комплексу зданий и зданию.
Городское пространство в этой системе мысли выступало как
нечто позитивное, как связующее начало, которому подчинено
формирование объемов зданий. Утверждалось восприятие города в
238
Раздел 9
последовательности пространств, подобной интерьеру. Программ-
ная традиционность архитектурного языка, тяготевшая к наследию
классицизма, принята как условие сохранения контекста. Вместе с
тем, традиционализм ассимилировал некоторые идеи, предложен-
ные конструктивизмом, — функциональное зонирование террито-
рии города, подчинение ее структуры сети коммуникаций. Город-
ские комплексы формировались вокруг замкнутых пространств,
таких же самодостаточных объектов, как здание в системе конст-
руктивистской архитектуры. Само же понятие здания, напротив,
теряло определенность в непрерывности застройки, формирующей
пространства. Здание становилось как бы элементом ограждения,
организации городских пространств. Сами постройки формировали
по принципу, уже знакомому, активно использовавшемуся в начале
века архитекторами стиля модерн. Многосекционный дом, образо-
ванный как сумма равноценных ячеек, имитировал своей формой
некий целостный организм, имеющий центр, главные и второсте-
пенные элементы. Соединение жилых ячеек использовалось как
некая субстанция, из которой свободно «вылепливалось» его тело.
Градостроительные структуры подобного рода для того време-
ни становились вполне благоприятной канвой упорядочения соци-
альных связей и деятельности, насыщающих среду. Определен-
ность пространств, формируемых периметральной застройкой, по-
могала утвердиться первичным членениям коллектива, образующе-
го городское сообщество. В конкретном формообразовании, как мы
видим это теперь, с излишней настойчивостью подчеркивались
симметрия и геометрическая правильность, как волевые начала,
противопоставленные природному. Связанные с этим издержки
(прежде всего чрезмерную жесткость структурного костяка, исклю-
чающую и минимальные трансформации при изменениях функции)
вряд ли искупала возможность легко ориентироваться в четко орга-
низованных структурах. И все же в оценках неспециалистов ком-
плексы второй половины 1930-х - начала 1950-х гг. сегодня высту-
пают как предпочтительный тип среды. При этом именно ее струк-
турированность, определенность организованных жилых про-
странств, сочетающих достаточную инсоляцию и некую защищен-
ность, как правило, называют в числе главных достоинств, проеци-
ровавшихся на социальные функции жилых массивов.
В работах по восстановлению городов, разрушенных во время
войны 1941-1945 гг., раскрылись главные достоинства концепции
Организация пространства и художественный язык архитектуры
239
городского пространства, сложившейся в советской архитектуре
второй половины 1930-х гг. Осознание города как пространст-
венной и структурной целостности помогло не только совершен-
ствовать системы возрождаемых городов, но и четко планировать
восстановительную деятельность. Четкий костяк инфраструкту-
ры дисциплинировал городскую ткань, складывающуюся из завер-
шенных единиц кварталов. Структурная идея легла в основу эф-
фективной тактики возрождения городов. Новую ценность обрета-
ло и традиционное начало — концепция 1930-х гг. В исторической
ситуации первых послевоенных лет она показала себя жизненной и
плодотворной.
Однако метод «снаружи — внутрь» основан на предположении,
что здание — лишь часть целостной структуры, подчиненной орга-
низации городского организма, в то время как практические методы
строительства и психология строителей оставались ориентированы
на «объект», да и сами здания компоновались как «объекты», «ор-
ганизмы», завершенные в себе, имеющие центр и четко обозначен-
ные края. Противоречие обострялось несовместимостью норм тра-
диционалистского языка архитектуры со стандартизацией, неотде-
лимой от индивидуального производства. Вместе с постановкой на
конвейер типового дома (а только законченным объектом и мыс-
лился продукт домостроительной индустрии) установка на объект
окончательно утверждалась. Крайнее опрощение формы, сводимой
к обнаженности простейшей, почти примитивной конструкции,
было внешним выражением заявлявшегося при этом возвращения к
рационалистическим принципам архитектуры.
Целостность города и его структур — вопреки всему — хоте-
лось сохранить. Но изменились представления и о ней, и о средст-
вах ее достижения. В 1960-е гг. техника индустриального домо-
строения, казалось, сама задает новый сюжет идеального образа
города, городской среды и пространственных структур, заложенных
в ее основу. Виделся город ясной и точной геометрии стандартных
форм, громадных плоскостей — мерцающих стеклянных и бетон-
ных, разбитых на прямоугольники панелей. «Пространственность»
стала принципом его построения. Целостное пространство со всех
сторон обтекало изолированные одинаковые объемы типовых домов.
Отдельное здание — жесткий элементарный параллелепипед — как
бы растворилось в пространственной непрерывности, рассекаемой
и направляемой, но не разделенной на замкнутости. Стерильная
240
Раздел 9
пустота целостных «взаимно перетекающих» общественных ин-
терьеров с низкой мебелью, воспринимаемой как принадлежность
пола, через эфемерные стены из стекла переливалась в городское
окружение. Говорили о возрождении традиции 1920-х гг. И в город-
ских структурах аморфная раздробленность строчной застройки
была сохранена, но четкая артикуляция пространств и объемов,
становившаяся основой выразительности композиций зданий-
организмов, формируемых «изнутри — наружу», оказалась утеря-
на. Пространственность, подчиненная прямоугольной геометрии
стандартных модулей, объединяла все.
Идеал этот самим принципом структурного построения был
отчужден от географической и национальной определенности. Его
местом было «завтра», завтра вообще, завтра повсюду, на любых
меридианах и широтах, в любых регионах. Универсальная красота
материализованной пространственности должна была пройти
сквозь все элементы системы города — от комнаты малогабаритной
квартиры до планировочного района. Выведенный из общих тен-
денций НТР, этот идеал обещал, так, по крайней мере, тогда каза-
лось, бескомпромиссно чистое выражение интернациональных на-
чал современности.
Воплощением идеи пространственности стали структурно
очень близкие комплексы застройки, где бруски типовых домов,
поставленных торцами к улицам, редким пунктиром обрамляли
квартальные сады. Эти первые реализации оценивались поначалу
почти восторженно — за ними виделись черты идеала, на пути к
которому они мыслились лишь этапом. Тем самым они обретали и
символическую ценность. Громадность пространства становилась
потребностью мироощущения. Пространственность, растворяю-
щая «объекты», ассоциировалась с духом эпохи, когда началось
практическое освоение космоса, совершился действительный
прорыв в бесконечность. Она выступала как универсальная пара-
дигма и широко вошла в «языки» разных сфер художественной
культуры: в живопись — высокими горизонталями и устремлен-
ностью к ним (Г. Нисский был здесь одним из первых); размахом
индустриальных ландшафтов и лаконизмом «сурового стиля»; в
поэзию — образами единства земного и космического (Э. Меже-
лайтис, А. Вознесенский).
В концепциях конца 1950-х - начала 1960-х гг. сохранено пред-
ставление о структурной целостности городского организма, выра-
Организаиия пространства и художественный язык архитек гуры
241
ботанное в 1930-1940-е гг. Утверждение пространственности не
было возвратом к идеям 1920-х гг. — теперь пространство осозна-
валось не как «пустота между объектами», но как реальность, само
по себе — как объект организации (ощущение его целостности как
некоей самоценности препятствовало при этом развитию приемов
его артикуляции). Завоеванием периода стало массовое освоение
индустриальных методов строительства. Однако продуктом мыс-
лился дом, традиционно понимаемое «здание», приведенное к пол-
ной унифицированности в соответствии с закономерностями про-
мышленного производства. Достаточно скоро обрисовалось проти-
воречие между методами стандартизации, направленными на зда-
ние, и задачами формирования города как целостной системы.
Ориентация на типовой дом закрепляла дискретность, раздроб-
ленность застройки. Пространственность казалась достаточной
компенсацией на чертежах и макетах. Осуществленные в натуре
крупные комплексы типовых построек своей монотонностью рож-
дали, однако, резко отрицательную реакцию общественного мне-
ния. Смешанная застройка чередующимися домами разной этажно-
сти с различными пропорциями объемов, протяженных и верти-
кальных, башнеобразных, практически не внесла нового качества.
Бесконечное повторение элементарного контраста (вертикальное —
горизонтальное) лишь усугубляло психологические эффекты моно-
тонности. Отказ от расчлененности селитьбы на общественные
пространства и жилую среду, а жилой среды — на обозримые еди-
ницы обернулся социальной потерей. Оказалась разрушена канва
для развития соседских связей. Социальные и эстетические потери
сопровождались и экономическими — дискретность застройки
снижала эффективность использования территорий (эффект усу-
гублялся тем, что жесткие величины типовых домов определяли
вынужденность приемов планировки, из-за которой невозможно
было полно использовать площадь участка).
Если появлявшиеся в начале 1960-х гг. островки всецело со-
временного были столь отличны от окружения, что сама их «осо-
бость» наделялась содержательностью, ассоциируясь с представле-
ниями о прогрессивном и упорядоченном, то по мере роста масси-
вов новостроек «современное» превращалось в обыденное. По кон-
трасту исторически сложившиеся части города стали восприни-
маться как целостное ядро, обладающее индивидуальностью и
внутренним разнообразием, контрастными обыденному монотон-
17 Зак. 303
242
Раздел 9
ному окружению. Структурные различия дополнялись функцио-
нальными: «старый город» концентрировал в себе широкое разно-
образие культурных функций в противовес «многофункционально-
сти» новых комплексов. Разнообразие пространственных структур,
спонтанно соединившихся в комплексе центра, стало ассоцииро-
ваться с богатством культурного содержания.
Виток спирали развития, на котором начался поиск возможно-
стей преодолеть эти противоречия, связан с 1970-1980-ми гг. Меж-
ду архитектурой 1960-х и этих десятилетий как будто не было чет-
кого рубежа. Новое качество накапливалось постепенно, полно и
отчетливо выступив к последнему десятилетию, отмеченному
стремлением к активному взаимодействию формы, функции и тех-
нологии в достижении социально значимых целей архитектуры.
Можно сказать, что 1970-е гг. стали временем поисков синтеза,
приводящего к единству идеи, в предшествовавшие периоды разви-
тия советской архитектуры обособленные и даже противопостав-
лявшиеся. Но уж если сделать попытку выделить идею, характер-
ную именно для семидесятых, и привести ее к некой формуле, та-
кой формулой должно быть нечто типа: «форму в архитектуре оп-
ределяет контекст». Для этого времени стало как никогда сущест-
венно увидеть каждую задачу в ее связях с системами жизнедея-
тельности общества, предметно-пространственной среды и культу-
ры, образующими многомерный контекст. «Контекстуальность»
побуждала к пересмотру языка форм, постепенно обращавшемуся
«вглубь», к их структурно-пространственной основе.
Парадигма творческих концепций — уже не пространство, но
среда, единство предметно-пространственного окружения, взаимо-
действующее с определенной социальной общностью (среда горо-
да, городского комплекса, жилой или производственной ячейки
и пр.). Новый тип восприятия, видения мира, лежащий в основе, с
некоторым опережением реализовался в литературе, станковой жи-
вописи, монументальном искусстве.
Уже к началу 1970-х появились полотна В. Попкова и О. Субби,
где нет героев и сцены, есть среда события, вовлеченная в деятель-
ность, есть выражение причастности художника к происходящему.
Среда во всей сложности, соединяющей романтическое и обыден-
ное, стала сюжетом «нового документализма», заявленного живо-
писцами Москвы и Таллина в середине 1970-х гг. (А. Кескюла,
А. Пылдроос, Е. Амаспюр и др.). Восприятие средовой целостно-
Орга низания пространства и художественный язык архитектуры
243
сти А. Волков переводит в нейтральную широту панорам, А. Пет-
ров, напротив, ищет активного осмысления среды, фиксируя взгляд
обрамлением окна, отражением, иногда сложной игрой встречных
отражений, вглядываясь в упор. В. Калинин ищет объединяющее
начало в собственной эмоциональности, заостряя субъектную со-
ставляющую восприятия среды. М. Ромадин вглядывается в окру-
жение с ровным напряженным вниманием, активизируя жизнь
множества его элементов. И. Лубенников объединяет среду стихией
цвета... В монументальном искусстве И. Лаврова, И. Пчельников
дерзко переступают привычные границы «сфер ответственности»
разных видов художественной деятельности, причудливо сочетая
реальное пространство и театрализованное, игровое, которое соз-
дают своими раскрашенными рельефами; иллюзорное «действо»
вторгается в реальное окружение зрителя. Словом, художники, овла-
девая средовым видением, средовым подходом, развернули широкий
веер поисков. Очевидные параллели возникают и в литературе — в
прозе Ю. Трифонова, произведениях Ф. Абрамова, В. Астафьева,
В. Распутина.
В архитектуре движение к средовому подходу определилось,
прежде всего, в развитии центров исторических городов, в поисках
утверждения единства старого и нового, основывающегося не на
формальном подобии, а на целостной структуре деятельности, от-
раженной в последовательности пространств, в общности образно-
го выражения и единстве соразмерности человеку, общем масштаб-
ном ключе. Сочетание нового и сохраняемых элементов старого
определило структурную склонность пространственных систем,
сочетающих компоненты, различающиеся по величине и масштабу
членений, ритму, степени замкнутости. Среди наиболее успешных
реализаций подобного рода — драматический театр в Вильнюсе
(архит. А. и В. Насвитисы), вросший в дворовое пространство ста-
рого квартала.
Самой крупной манифестацией контекстуальное™ стал Дворец
спорта в Таллине (архит. Р. Карп, Р. Алтмяэ), где тщеславному са-
моутверждению обособленного объекта, его монументальности,
полемически противопоставлено растворение объекта в окружаю-
щем ландшафте, стирание границ здания и «не-здания». Здание с
его пирамидальным силуэтом не просто вросло в сложившийся
ландшафт — оно стало и своеобразной коммуникацией, откры-
вающей путь от городского центра к морю. Растворенность в окру-
17*
244
Раздел 9
жении, родство с ним, виделись архитекторам главными ценностя-
ми. Основное внутреннее пространство здания, объединяющее
большой универсальный зал-амфитеатр и охватившее его плавное
фойе, трактовано как цельное «пространственное» тело. Противо-
поставление пространства и массы в такой системе попросту лиша-
ется смысла.
Главным полем борьбы за реализацию средового подхода ос-
таются крупные новые жилые комплексы. Принципиальное значе-
ние имеет при этом перестройка методов индустриального домо-
строения, с тем чтобы его конечным продуктом становился не ти-
повой дом, а жилой комплекс, индивидуально сформированный в
соответствии с конкретной ситуацией из стандартных элементов,
предусмотренных каталогом, или сочетанием различных форм мо-
нолитного железобетона и сборных изделий. Трудности — техно-
логические, организационные и психологические, с которыми свя-
зана эта задача, выявлены, поняты. Отыскиваются средства их пре-
одоления. Определенные результаты достигнуты и с помощью ком-
промиссных методов, использования блок-секций и композицион-
ных объемно-планировочных элементов (жилой комплекс Ворон-
цово в Москве, архит. А. Рочегов, М. Былинкин), и в прямом ис-
пользовании каталожных изделий для индивидуальных систем
(жилой комплекс Тропарево в Москве, архит. А. Самсонов и др.;
квартал в Сестрорецке, архит. Н. Матусевич и др.).
Впрочем, было бы преждевременно торжествовать по поводу
успешного преодоления механистической подмены архитектурного
формообразования городской ткани. Достигнутые результаты час-
тичны; они свидетельствуют о нащупываемой методике, о неких
потенциях, но пока еще не достигли полноценной системности вы-
разительной формы, выходящей на уровень пространственного ис-
кусства. Да и говорить о них можно лишь в связи с отдельными
объектами, обычно имеющими особый статус экспериментальных.
Инерция механистичности обычной массовой застройки пока не
преодолена. Реальным достижением стало то, что некие идеальные
представления о пространственной структуре нового городского
комплекса и здания приобретают конкретные очертания.
Прежде всего ясно, что жилой комплекс, объединяющий
внутренне связанные системы однородных процессов, должен
иметь пространственную целостность, не сводимую к сумме дис-
кретных объемов. Не группы домов, а некий «рисунок» сложной
Организация пространства и художественный язык архитектуры 245
объемной формы, очерчивающей пространство, сложность струк-
туры которого адекватна сложности социальной функции. Этот
пространственный организм должен строиться как результат
взаимодействия сил, направленных извне — внутрь и изнутри —
наружу, образуя диалектическое единство открытого и замкнуто-
го, связей и разграничений, целостности и внутренней артикуля-
ции. Неоднородность среды определяет и качественную неодно-
родность пространственных элементов такой системы — дворов,
внутренних коммуникаций, улиц, ядер общественных функций,
включаемых в жилую среду.
То же равновесие между воздействиями извне и изнутри вы-
ступает как принципиальное требование к пространственной
структуре здания-организма (прежде всего это относится ко всем
типам построек общественного назначения). Средовый подход нау-
чил вниманию к развертыванию разнообразных форм деятельности
и освоению сложностей конкретной ситуации как жизненного ма-
териала художественной выразительности. Его уроки должны реа-
лизоваться в дифференцированности, сложности пространственных
структур. Они должны быть, вместе с тем, свободны от жесткой
скованности, учитывая изменчивость систем деятельности и из-
вестную размытость границ между их составляющими. Постройки
недавних лет, где сочетается старое и новое (как здание театра на
Таганке в Москве, архит. А. Анисимов, Ю. Гнедовский), могут
служить эталоном сложности, отвечающей реальным характери-
стикам жизненных ситуаций.
Развитие тенденции происходит как бы раздельными потоками.
Осмысление ее в целом должно помочь слиянию русел, опреде-
ляющему переход от суммирования к интеграции в любых типах и
любом масштабе решения архитектурных и градостроительных
задач. Комплексное развитие городской среды и управление ею,
включая управление ее трансформациями во времени, определяет
стержневой принцип формирования городских структур.
Среда в ее реальном бытии неотделима от деятельности и эмо-
ционального восприятия. Она рождает ценностное отношение и
характеризуется определенным ансамблем ценностей. Ценности,
однако, категория трудная для оперативного анализа, для построе-
ния четких ориентиров профессиональной деятельности. Послед-
ние опираются на объективные основания ценности, ценностной
оценки. Соотнесение этих двух оснований с закономерностями
246
Раздел 9
ценностного отношения открывает и возможность прогнозирования
всей сложности ценности. В нашем предмете «структурный кар-
кас» этих оснований определяется организацией пространства. От-
сюда — интерес к ее закономерностям, к ее связям с формировани-
ем художественного языка архитектуры.
Примечания
1. Райт Ф. Л. Будущее архитектуры / Пер. с англ. А. Ф. Гольдштейна.
М.: Госстройиздат, 1960. С. 181.
2. Ладовский II. А. Из протоколов заседания комиссии живописно-
скульптурного синтеза // Мастера советской архитектуры об архитек-
туре. Т. 1. М.: Искусство, 1975. С. 343, 344.
3. Гидион 3. Пространство, время, архитектура / Пер. с нем. М. В. Лео-
псне и И. Л. Черня. М.: Стройиздат, 1973.
4. Каганов Г 3. Некоторые следствия из оппозиции «среда — окруже-
ние» // Теоретические проблемы дизайна. М.: ВНИИТЭ, 1973. С. 66.
5. Гинзбург М. Международный фронт новой архитектуры // СА. 1926.
№ 2. С. 44.
6. Ган А. Конструктивизм. Тверь, 1922. С. 3, 65.
Раздел 10
Художественная культура
и архитектурное формообразование
Архитектура существует не только в пространстве, но и во
времени. Ее бытие в измерении исторического времени связано с
процессами развития всей системы художественной культуры, оп-
ределяющей как формирование материального окружения челове-
ческой деятельности, так и развитие сферы человеческого духа.
Морфологически сложная система искусств — основа худо-
жественной культуры — обладает имманентными ей закономер-
ностями существования и развития. Одной из таких закономерно-
стей является взаимодействие видов и жанров искусства друг с
другом. Непосредственные и опосредованные, прямые и косвен-
ные связи, возникающие между различными видами и жанрами
искусства единой художественной культуры, влияют на развитие
каждого из видов, на их образные представления и структуры,
формообразование и выразительный язык, на их стилевое сбли-
жение и формирование стиля, сложение новых синтетических ви-
дов и жанров искусства. Взаимодействие искусств в системе куль-
туры объясняет многие сложные повороты на путях развития ар-
хитектуры. Изучение закономерностей, определяющих такие про-
цессы взаимодействия, открывает возможность осознать процессы
развития системы ценностей, тенденции этих процессов, ценно-
стные предпочтения и ориентации, ключевые для архитектурного
творчества.
Исследование архитектуры в пространстве художественной
культуры, утверждая статус архитектуры как искусства, неотъем-
лемой и закономерной части художественной культуры, требует
широкого сопоставительного (сравнительного) изучения разных
248
Раздел 10
видов искусства и целостного взгляда на их одновременное разви-
тие в культуре.
Принадлежа теории каждого из искусств в отдельности, в том
числе и теории архитектуры, проблема взаимодействия искусств
междисциплинарна. Как и в других областях знания, междисцип-
линарные исследования обладают особой эвристической ценно-
стью, позволяя выявить закономерности, недоступные для обнару-
жения в замкнутом поле монодисциплинарного изучения.
Проблема взаимодействия искусств имеет свою историю, кото-
рая берет начало в середине XVIII в. с исследования Ш. Батте
«Изящные искусства, сведенные к единому принципу». Широкое
распространение в эстетике классицизма идеи тождества принци-
пов поэзии и живописи связано с самим ядром художественных
идеалов классицизма, ибо поэты и художники этой эпохи ставили
своей целью изображение мира приукрашенной и облагороженной
природы, мира гармонии и симметрии. «Лаокоон» Лессинга проти-
вопоставил этому тождеству поэтики живописи и поэзии концеп-
цию о различии законов этих видов искусства. В то же время Лес-
синг полагал границы между видами искусства не абсолютными, а
относительными: «Живопись и поэзия не так уж далеко расходятся
между собой»1.
Проблема взаимодействия видов искусства становится одной
из специфических и ключевых проблем эстетики романтизма.
Шеллинговская система искусств, классическая «пятерка», кото-
рую мы найдем впоследствии у Гегеля, разворачивается из едино-
го основания, по Шеллингу, поэзии и ее высшей формы — драмы.
Диалектическое понимание романтиками общего и особенного
приводит к тому, что впервые в истории эстетической мысли спе-
цифические особенности отдельных искусств приобретают значе-
ние художественных категорий, свойственных в той или иной сте-
пени и другим видам и характеризующих искусство целой эпохи.
Таким образом, определение специфики видов искусства ведет в
романтической эстетике не только к выделению каждого вида из
мира искусств, но и к сближению его с другими видами. В основе
родства искусств и всеобщности художественных категорий (пла-
стичности, живописности, музыкальности и др.), проявляющихся
в отдельных видах искусства, лежит, в понимании романтиков,
родство чувственных восприятий человека. А потому для наибо-
лее полного отражения действительности искусства, на основании
Художественная культура и архитектурное формообразование 249
существующей между ними близости, могут и должны питать и
одухотворять друг друга.
Непреходящее значение для понимания проблем взаимодейст-
вия искусств и динамики процессов художественной культуры име-
ет эстетика Гегеля и открытое им явление неравномерности разви-
тия видов и жанров искусства. Положение Гегеля о доминирующем
виде искусства, выведенное из исторического и структурного ис-
следования мирового художественного процесса, нашло подтвер-
ждение и в развитии художественной культуры второй половины
XIX и XX вв. Исторический подход к искусству, столь полно реали-
зованный Гегелем, обогащается во второй половине XIX в. генети-
ческим подходом благодаря множеству фактов, открытых археоло-
гией, этнографией, лингвистикой. Концепция Л. II. Веселовского о
первоначальном синкретизме мусического комплекса искусств бы-
ла дополнена В. Вундтом в «Психологии народов» указанием на
две основные формы художественной деятельности, изначально
взаимосвязанные и взаимодействующие.
Продолжая традиции романтиков, О. Шпенглер ставит во главу
угла своей теории культуры принцип целостности культуры, утра-
ченной западным миром, а потому страстно желанной. Принцип
целостности конкретных, самобытных форм культуры, по Шпенг-
леру, уникальных форм «переживания» и «космически-жизненного
устремления»2, несет в себе плодотворное начало для дальнейшего
исследования типов культур, бытия и взаимодействия различных
искусств в рамках своей культуры и сформированных ею типов
восприятия. Вопреки принципу дискретности и замкнутости ло-
кальных культур и пафосу их неминуемой гибели, Шпенглер, ис-
толковывая первофеномены прошлых культур, тем самым доказы-
вает единство, связь и преемственность культурной истории, воз-
можность преемственности форм бытия и взаимодействия искусств
от одного типа культуры к другому.
Большое методологическое значение для исследования интере-
сующей нас проблемы имеют работы ученых венской школы ис-
кусствознания. Так, на материале истории европейского искусства
О. Бенеш установил связи художественных концепций с научными,
выявил ряд параллелей между ними.
В отечественной науке первой трети XX в. определенный
вклад в развитие проблемы вносят исследования синкретизма
древних форм искусства, проводимые А. Веселовским, Н. Мар-
16 Зак. 303
250
Раздел 10
ром, О. Фрейденберг, изучение неравномерности развития искус-
ства, проводимое Ф. Шмитом, Н. Берковским, В. Фриче, а также
исследования целостности художественной культуры и стилеобра-
зующих влияний тех или иных видов в работах И. Иоффе и
А. Федорова-Давыдова.
Проблема межвидового взаимодействия искусств поставлена в
работах ряда современных отечественных литературоведов, искус-
ствоведов, архитектуроведов (Н. Харджиева, Д. Лихачева, В. Таса-
лова, А. Стригалева). Формообразующие и стилеформирующие
влияния изобразительного искусства, дизайна и архитектуры ис-
следовались на материале отечественного художественного аван-
гарда 1910-1920-х гг. Н. Адаскиной, Л. Жадовой, А. Стригалевым,
С. Хан-Магомедовым.
В зарубежной науке последних десятилетий наметилась тен-
денция более целостного взгляда на проблемы художественной
культуры. Исследуются параллели между различными видами ис-
кусства, анализируются конкретные факты влияния одного вида
на другой. Тем не менее, несмотря на то, что проблема целостного
развития художественной культуры волнует многих ученых-
гуманитариев, нет систематического теоретического исследования
ни закономерностей взаимных влияний искусств в целом, ни их
специфического преломления в отношении архитектуры, ее фор-
мообразования и языка выразительности. А потому цель настоя-
щего раздела исследования архитектурной формы — выявить
опорные моменты взаимодействия архитектуры с другими видами
искусства, связи архитектурного формообразования с художест-
венной культурой в целом, с ее системами ценностей, художест-
венными концепциями, принципами формообразования и средст-
вами выразительного языка, разрабатываемыми другими видами
искусства.
В связи с поставленной целью метод исследования круга про-
блем взаимодействия архитектуры с другими видами искусства ос-
новывается на комплексном подходе к явлениям искусства и куль-
туры. Вместе с тем изучение взаимодействия искусств требует ис-
торического подхода, анализа сложения и развития тех или иных
явлений сложной динамики системы искусств в пределах опреде-
ленного этапа и типа культуры.
Методологическим основанием исследования служит закон не-
равномерности развития видов и жанров искусства, открытый Геге-
Художественная культура и архитектурное формообразование 251
лем. Центр тяжести исследования — влияния на архитектуру и ее
формообразование иных видов искусства, особенно если не архи-
тектура является доминирующим видом искусства в какой-либо
исторический период. Выявление влияний искусств в пределах оп-
ределенной исторической целостности культуры требует сравни-
тельного, сопоставительного метода изучения разных видов искус-
ства, определения аналогий и различий, сближений и расхождений
путем сличения фактов и явлений искусства.
Объективные и субъективные факторы
взаимодействия искусств
в художественной культуре;
образно-стилевые и формообразующие
взаимные влияния искусств в культуре
В разветвленной типологии взаимодействия искусств мы со-
средоточиваем свое внимание на общих, межвидовых взаимодей-
ствиях пространственных видов искусства, к семье которых отно-
сится архитектура, представляя эти последние в виде своей раз-
ветвленной многоуровневой системы. Основанием единства и
взаимосвязанности системы межвидовых взаимодействий являет-
ся морфологическое единство видов искусства и уникальная осо-
бенность искусства в целом быть своеобразной моделью типа
культуры как целого.
Процесс взаимодействия искусств протекает в конкретно-
исторической культуре как на уровне видов искусства в целом,
его отдельных школ и направлений, так и между отдельными
произведениями, относящимися к одному или разным классам
морфологической системы искусств. Взаимодействие на уровне
видов происходит в сфере сложения художественных концепций
и в сфере формообразования. Через сложный механизм художе-
ственной жизни и культурного быта идеи, концепции и принци-
пы формообразования одних видов воздействуют на развитие
иных, родственных или неродственных видов искусства в грани-
цах школ, художественных направлений, художественных эпох
или их этапов.
Наиболее общие и принципиальные идейно-образные и фор-
мообразующие взаимные влияния видов искусства воплощаются в
16*
252
Раздел 10
стилевые особенности и, таким образом, становятся стилеобра-
зующими влияниями. Эти взаимные воздействия происходят на
уровне видов искусства в целом. Как правило, они носят опосредо-
ванный характер. Однако образно-концепционные и формообра-
зующие влияния произведений одних видов на другие могут быть
прямыми и непосредственными, аккумулируясь в поэтике конкрет-
ных произведений и не распространяясь на другие произведения.
Наконец, в конкретной композиции, где участвует ряд разных видов
искусства, имеет место непосредственное композиционное воздей-
ствие этих видов друг на друга, в результате рождается художест-
венный ансамбль или произведение синтеза искусств. Таким обра-
зом, выявляются три типа или уровня влияний пространственных
искусств друг на друга или их взаимодействия с искусствами не-
пространственными в контексте единой художественной культуры.
Это, во-первых, влияния на уровне «духа эпохи», ее основных
идейно-художественных позиций, и образных концепций. Это, во-
вторых, формообразующие и стилеформирующие влияния и, на-
конец, непосредственные композиционные. Последние могут быть
и образными и формообразующими, но они не выходят за рамки
конкретной многовидовой композиции, не становятся стилеобра-
зующими.
Выявление трех основных уровней воздействия пространст-
венных видов, родов и жанров искусства на другие виды, роды и
жанры искусства в контексте целостности культуры определяет
многослойность взаимосвязей архитектуры с другими видами ис-
кусства.
Архитектура взаимодействует со всеми, а не только простран-
ственными видами искусства своей эпохи, усваивая ведущие идеи и
образные концепции, откристаллизовавшиеся в иных видах искус-
ства. В свою очередь, определенные черты художественного созна-
ния, получившие наиболее яркое воплощение в архитектуре, рас-
пространяются под ее воздействием на другие виды искусства в
пределах целостности историко-культурной эпохи. Так, например,
монументальный характер и ансамблевость древнерусской архи-
тектуры влияли на формирование этих черт не только в монумен-
тальной живописи, но и в литературе.
Влияния архитектуры и воздействия на нее иных видов искус-
ства, складываясь из множества фактов, воплощаются в стилевые
черты эпохи и характеризуют отношения видов искусства одного
Художественная культура и архитектурное формообразование 253
или разных классов в целом (архитектуры и живописи, архитекту-
ры и литературы и т. д.).
Историко-художественный процесс показывает относительную
стабильность архитектуры на переломных этапах развития культу-
ры, ее меньшую подвижность, гибкость, быстроту реагирования на
изменения системы ценностей и образных представлений по срав-
нению с другими видами искусства. Этим архитектура обязана бо-
лее сложной природе познания и воплощения идей, канонической
устойчивости структурных стереотипов пространства, а также не-
посредственным материальным и временным параметрам вопло-
щения замысла в структуре и форме архитектурного сооружения,
ансамбля, города.
В пределах пространственных искусств выявляется законо-
мерность последовательности выработки новых принципов фор-
мообразования от изобразительного искусства и прикладных ви-
дов творчества, при их непосредственном и косвенном влиянии, к
архитектуре. Эта последовательность обычно характеризует исто-
рико-художественный процесс на его переломных этапах. Она
имеет свой прообраз или модель в творческом движении универ-
сальной художественной личности от изобразительного искусства
к архитектуре. Это подтверждает творческая судьба таких класси-
ческих художников, как Джотто, Брунеллески, Мантенья, Рафаэль,
Микеланджело.
Историко-художественный процесс переломных эпох и твор-
ческий путь многих универсальных мастеров показывает, что в
сфере изобразительного искусства может быть выработан и обоб-
щенный образ, и в какой-то мере выразительный язык архитекту-
ры, и «проектный» язык ее формообразования (рисунков, моде-
лей, чертежей). Так, зрительный, пластический подход Возрожде-
ния — антитеза умозрительной и пространственной доминанте
Средневековья — берет свое начало в живописи Джотто. В ней же
начинает осуществляться оптическая революция, отразившая ду-
ховную революцию: переход от коллективного, многоаспектного
видения Средневековья к индивидуально-личностному ренес-
сансному видению, для которого характерной стала одна статич-
ная точка зрения. Непрерывное бесконечное пространство средне-
вековой живописи замкнулось у Джотто в ряд сюжетно завершен-
ных картин, изображающих один законченный момент действия с
определенной точки зрения.
254
Раздел 10
Хронологическое опережение джоттовских начал искусства
Возрождения в тосканском инкрустационном стиле не умаляет до-
минирующего влияния в культуре ренессансной живописи. Ибо
изменения в архитектуре были не архитектоническими, а живопис-
но-пластическими. Внимание зодчих сосредоточилось на разработ-
ке стены, трактовавшейся как определенный вид здания с одной
зрительской позиции. От этого картинного первоначального фор-
мообразования проторенессанской архитектуры, поддержанного
открытиями Джотто, от его утверждения трехмерного моделирова-
ния живописных образов — прямой шаг к «Троице» и капелле
Бранкаччи Мазаччо, к открытиям Брунеллески, к воплощению пер-
спективы в живописи, скульптурном рельефе и архитектуре. Ста-
диальные изменения в архитектуре Возрождения, совершавшиеся
под влиянием новых художественных закономерностей, вырабо-
танных в изобразительном искусстве, были подготовлены архитек-
турным процессом. Именно поэтому архитектура и усвоила влия-
ние изобразительного искусства.
Подобное явление имело место и в другую переломную эпоху.
Художественная система архитектуры модерна рождается в резуль-
тате активного воздействия на архитектурное формообразование
поэтики изобразительного и прикладного искусства. Впоследствии
стилистика живописного кубизма, неопластицизма, пуризма и су-
прематизма оказала активное воздействие на становление стилевых
особенностей архитектуры XX в. Факт этот всегда признавался
пионерами «современного движения», ныне он получил признание
и современной науки. Закономерность влияний изобразительного
искусства на становление архитектурного языка подтверждает пе-
реход от живописи, графики и прикладного искусства таких масте-
ров начала XX в., как Ван де Вельде, Дусбург, Ле Корбюзье, Мале-
вич, Татлин. Несмотря на усилившуюся тенденцию разделения
труда в архитектурной деятельности с середины XX в., крупнейшие
мастера архитектуры включают изобразительное творчество в свою
профессиональную деятельность в поисках образной концепции и
принципов формообразования, как А. Аалто, или в качестве рабоче-
го метода творчества, как П. Солери.
Влияние форм, в том числе основной концепции формы одно-
го из видов искусства на формообразующий процесс другого вида,
прослеживается в истории культуры как закономерное явление
художественного процесса. При общности мировоззренческой ос-
Художественная культура и архитектурное формообразование 255
новы и идейной близости искусств реальной предпосылкой фор-
мообразующих влияний и аналогий у архитектуры, скульптуры,
живописи и других пластических искусств и видов художествен-
ной деятельности является общность трех основных категорий
художественной формы, которыми все эти искусства оперируют:
пространственной, пластической и цветовой. Каждой из этих трех
визуальных художественных форм соответствует вид пластиче-
ского искусства, для которого она служит основной формой. Так,
пространство — основная форма и одновременно предмет архи-
тектурного творчества, пластический объем — для скульптуры,
цвет — для живописи. Однако, все три категории формы, взаимо-
действуя между собой, имеют место в каждом из этих видов и
связывают их в морфологическую общность класса пространст-
венных или пластических искусств.
Взаимные формообразующие влияния различных пространст-
венных видов фиксируются в содержательной художественной
форме архитектуры, скульптуры, живописи и иных видов и могут
быть выявлены, «считаны» только с нее. В связи с этим для иссле-
дования формообразующих влияний принимается категориальный
формальный анализ, абстрагированный в исследовательских це-
лях от семантического аспекта и применяемый в сочетании со
сравнительным анализом структурных особенностей формы раз-
ных видов искусства единой художественной культуры. Традици-
онность методики формального анализа, обогащенной категорией
цвета, не является результатом развития в чистом виде классиче-
ского формального метода, ибо все категории формы пространст-
венных искусств — пространство, пластика, цвет, — связываются
с их многоплановым историко-культурным осознанием. Тем не
менее, категориальный формальный анализ формообразующих
влияний пространственных искусств на архитектуру опирается
на классиков аналитического искусствознания Г. Вёльфлина,
А. Бринкмана и др.
Впервые определение архитектуры как искусства формирова-
ния пространства дает представитель формальной школы искусст-
вознания А. Шмарзов. Пластику и пространство как основные
формы художественного выражения для всех пластических ис-
кусств утверждает А. Бринкман. «Архитектура — искусство, опе-
рирующее пространством», «пространство, а не камень — матери-
ал архитектуры»3 — эти положения, выдвинутые Н. Ладовским в
256
Раздел 10
1919-1920-х гг., сегодня уже не подвергаются сомнению. Однако и
любой скульптурный пластический объем занимает определенное
пространство, художественно организует окружающую простран-
ственную среду, а подчас имеет и собственное внутреннее про-
странство скульптуры. Представители скульптурного авангарда
XX в. Н. Габо и А. Певзнер в своем «Реалистическом манифесте»
1920 г. провозглашают пространство материалом скульптуры. Про-
странственные характеристики скульптуры, интерпретация формы
ее пустот равно значительными с объемной массой или полностью
вытесняющими эту массу, непрерывно развиваются в скульптуре на
протяжении всего XX в., достигая классической чистоты, ясности и
одновременно напряженности в творчестве Генри Мура, образуя
целое направление «обитаемой скульптуры», возглавляемое Андре
Блоком.
Гениально раскрыл природу пространства в живописи Гегель:
«живопись стягивает воедино пространственную полноту трех из-
мерений, живопись оставляет пространство еще в силе и уничтожа-
ет только одно из трех измерений, превращая поверхность в эле-
мент своего изображения. Это сведение трех измерений к плоско-
сти является основой процесса одухотворения, который может в
пространственной сфере осуществиться как нечто внутреннее лишь
тем, что он не оставляет в силе полноту внешнего выражения, а ее
ограничивает»4.
Перед живописцем во все времена стояла и стоит задача пере-
дачи трехмерного пространства на двумерной плоскости картины.
Совокупность приемов этой передачи, делающих изображение аде-
кватным изображаемому (эта адекватность зависит от многоплано-
вого комплекса историко-кульгурных и социально-психологических
факторов), составляет пространственный язык живописного произ-
ведения.
Категория пространства в живописи, также как в архитектуре и
скульптуре, наиболее тесно связана с противоположной ей категори-
ей материальности, массивности, объемности. Чем меньше глубина
пространственного слоя, чем «площе» объемы и пространства в жи-
вописном произведении, тем больше возрастает их материальность.
Взаимосвязанность категорий пространства и массы (масса,
объем, пластика в нашем тексте — это близкие оттенки одной сущ-
ности, обозначаемой одной категорией, рядоположной пространст-
ву и цвету) как универсальных категорий пространственных ис-
Художественная культура и архитектурное формообразование 257
кусств утверждается в работах А. Габричевского: «Пространство и
масса являются не только эстетическими категориями, но стихий-
ной основой всякого художественного формообразования»5.
Собственно говоря, тот факт, что категория пространства, не-
разрывно связанная с категорией времени, — универсальная кате-
гория культуры, отражающая и воплощающая мироощущение че-
ловека любой эпохи, не может не проявиться в определенной, ис-
торически и художественно обусловленной форме в любом виде
искусства.
Что касается категории цвета, то не только живопись связана с
этой категорией — в истории искусства известна прекрасная поли-
хромная скульптура, многоцветная архитектура; прикладное искус-
ство и традиционное народное — исключительно цветное. Во вся-
ком случае, стихийно или сознательно, любое произведение, отно-
сящееся к классу пластических искусств, плоскостное, объемное
или пространственное, обладает цветом. «Полихромность архитек-
туры соответствует полному расцвету жизни», «цвет вносит жизнь
в скульптуру и архитектуру»6, — в этих словах Ле Корбюзье за-
ключено глубокое понимание цвета как неотъемлемой формы всех
пластических искусств, в том числе архитектуры.
Утверждение неотъемлемости и существенности содержатель-
но-формальной категории цвета для всех пространственных ис-
кусств — одно из важнейших завоеваний искусствознания и теории
архитектуры последних десятилетий. Ибо классическое искусство-
знание XIX - начала XX вв., как и советское, до самого последнего
времени обходилось в выявлении стилевых различий и построении
теории стилей пространственных искусств без категории цвета.
Цвет был прерогативой живописи, в основном у великих колори-
стов прошлого, ибо в академической живописи он выполнял роль
иллюминирования рисунка, который считался основой всех основ.
Для всех иных видов искусства и областей художественной дея-
тельности цвет считался дополнительным средством художествен-
ной выразительности. Теория архитектуры допускала бытие цвета в
архитектуре как цвета материала (наряду с фактурой), отводя глав-
ную роль пространству, объему, пропорциям, масштабности, текто-
ничности. А. Гильдебранд, обосновывавший необходимость цвет-
ности скульптуры тем, что в природном красочном окружении она
«не должна представлять какой-то прорыв, но должна существовать
и как красочное впечатление»7, в то же время предостерегал от рас-
258
Раздел 10
крашенности скульптуры, допуская лишь тонирование камня и па-
тинирование бронзы. Это естественно для представителя аналити-
ческого искусствознания, находящего опору своим суждениям
главным образом в искусстве Ренессанса, считающего цвет «специ-
альным уделом живописного опыта», да и в самой живописи отво-
дящего цвету служебную роль по «отношению к пространственно-
му представлению»8.
Рождение художественной культуры новейшего времени на ру-
беже XIX-XX вв. снова превратило цвет в одну из могучих реалий
культуры, противопоставив его огромные выразительные возмож-
ности в построении художественного образа и суггестивную силу
воздействия выхолощенное™ академического иллюминирования
рисунка и живописи, монохромное™ классицизирующей архитек-
туры и скульптуры. Свое теоретическое обоснование как важней-
шая для пространственных искусств категория, обладающая само-
стоятельной образной выразительностью, цвет впервые получает в
докладе В. Кандинского «О духовном в искусстве», зачитанном на
Всероссийском съезде художников в 1911 г. В 1915 г., к последней
футуристической выставке «0,10», где Малевич впервые выставля-
ет перед широкой публикой 49 супрематических работ, в том числе
знаменитый «Черный квадрат» — манифест супрематизма, он под-
готавливает брошюру о супрематизме как новой системе живописи,
утверждая первичность цвета над всеми остальными категориями
формы. После этих первых концептуальных теоретических высту-
плений и Кандинский, и Малевич неоднократно обращаются к тео-
ретическому развитию своих положений, утверждению нового ху-
дожественного мировоззрения, где феномену цвета отводилась пер-
востепенная роль. Об этом говорит и само определение супрема-
тизма, данное Малевичем: супрематизм — определенная система,
по которой происходило движение цвета через долгий путь своей
культуры.
В. Кандинский, а затем К. Малевич обобщили не только свой
собственный опыт видения живописцев, но коллективный опыт
художников рубежной эпохи и начала XX в., не скованных ака-
демическими предрассудками, наследующих среди ближайших
предшественников импрессионизму и постипрессионизму, а также
всему доклассическому, архаическому, средневековому и народно-
му искусству, где цвет был осмыслен, символичен, а подчас и мати-
чен, ритуализован. Как неотъемлемая содержательная категория
Художественная культура и архитектурное формообразование 259
формы всех пространственных искусств цвет получает свое утвер-
ждение в отечественной художественной культуре 1920-х гг., благо-
даря созданию Л. Поповой и А. Весниным пропедевтической дисци-
плины «Цвет» на Основном отделении ВХУТЕМАСА, на Западе —
благодаря пропедевтике цвета в Баухаузе, развиваемой И. Иттеном,
В. Кандинским, П. Клее.
Цветовая форма в реальном художественном процессе и в каж-
дом отдельном произведении неразрывно связана с пространствен-
ной и пластической формой. Так же, как и эти категории формы,
она поддается аналитическому вычленению и исследованию, может
быть описана в своей специфике не только для отдельного произве-
дения или вида искусства, но и для определенной эпохи культуры,
ее стилевой фазы или направления.
Изучение эволюции пространственной, пластической и цвето-
вой формы в архитектуре, скульптуре, живописи в рамках европей-
ского художественного процесса выявляет фокусные моменты кар-
динальных изменений каждого из категориальных аспектов формы
и влияние доминирующего в культуре вида искусства на становле-
ние концепций пространства, пластики и цвета в других видах. При
этом под понятием «доминантный вид искусства» подразумевается
не просто самый широко распространенный или наиболее автори-
тетный. Доминантный вид искусства — это тот вид, где впервые и
наиболее остро вырабатываются новые для данной культуры смыс-
лы. Именно поэтому доминирующий вид искусства, опережающий
в смысловом и формальном развитии другие виды, оказывает на
них заметное влияние. Влияние это распространяется и на сложе-
ние общей образной концепции, и на выбор сюжетов, тем, прототи-
пов, основные принципы формообразования и характер самой
формы. Так, пластический антропометризм античной культуры по-
родил доминантность ее скульптуры среди пространственных ви-
дов искусства и важную роль ваяния в культуре в целом. Влияния
скульптуры выразились и в скульптурной пластичности античной
архитектуры.
В области художественного формирования пространства, наи-
более тесно связанной с мировоззренческими параметрами культу-
ры, обозначаются два переломных момента, когда живопись как
доминирующий вид искусства выполняет роль лаборатории новых
принципов формообразования для всего класса пространственных
искусств. Первый из них — начало Возрождения с его классиче-
260
Раздел 10
ской линейной перспективой, второй — начало XX в. с его станов-
лением непрерывного и многоаспектного пространства сначала в
живописи и скульптуре, затем в архитектуре.
Взаимные влияния архитектуры и других пространственных ис-
кусств в сфере формообразования, отражая взаимовлияния художе-
ственных идей, концепций, образов различных искусств, составляют
механизм стилеобразования, наряду с параллельностью ряда прин-
ципов художественного выражения, и создают как предпосылки сти-
левого сближения, так и предпосылки единства различных видов
искусства в конкретной многовидовой композиции, в идеале — в
художественной интеграции всей окружающей среды.
Выход на проблематику стиля требует раскрытия понятия
«стиль», которого мы придерживаемся.
Современное литературоведение рассматривает «стили как
этапы художественного сознания в целом»9, как содержательную
форму, различимую во внешних слоях образа: композиции, типе,
сюжете, языке. Проблема стиля получила разработку в исследова-
нии Л. Соколова «Теория стиля»10, однако литературоведческая
специализация автора отразилась на всех суждениях относительно
архитектуры и других пластических искусств. Кроме того, нельзя
согласиться с автором в его отрицании правомочности понятия
«стиль эпохи», которое, как и всякое иное научное понятие, являет-
ся определенной абстракцией, но отнюдь не отождествляет «стиль»
и «эпоху». Разобщенность литературоведческих, искусствоведче-
ских и архитектуроведческих исследований теории стиля, отра-
жающая определенную разобщенность художественной практики,
расколотость, мозаичность художественного сознания, побужда-
ет вернуться к существу положения о стиле, сформулированного
П. Беренсом в манифесте «Праздник жизни и искусства» в 1900 г.:
«Стиль — символ всеобщего восприятия, всего жизнеощущения
эпохи; он проявляется лишь в совокупности всех искусств»11.
Положение Беренса о стиле представляется наиболее адекват-
ным современному подходу к искусству в контексте культуры. Оно
предвосхищает концепцию стиля как явления культуры, сформули-
рованную А. И. Каплуном12, представление о стиле как качестве
культуры и одновременно манифестации культуры как целого13.
Возрождение проблематики стиля в искусствоведении 1970-х гг.
было связано, прежде всего, с исследованиями исторического ха-
рактера, главным образом культуры рубежа XIX-XX вв., с утвер-
Художественная культура и архитектурное формообразование 261
ждением модерна в статусе стиля, а также с осознанием культурно-
исторической исчерпанности функционально-конструктивного сти-
ля международного «современного движения», зародившегося в
1920-е гг., реабилитированного и расцветшего в послевоенные
1940-1950-е — на Западе, в 1960-е — в отечественной архитектуре.
В 1970-1980-е гг. возрастает интерес к проблемам стиля и
стилеобразования применительно к современному художествен-
ному процессу. После радикальной перестройки всей отечествен-
ной художественной культуры во второй половине 1950-х - начале
1960-х гг. впервые проблема стиля применительно к пространст-
венным искусствам начинает анализироваться не только в истори-
ческом, но и в проблемно-теоретическом плане. Это говорит о
том, что стилевая проблематика назрела в творческой практике,
особенно в связи с осуществлением крупных, многосоставных,
многовидовых и многожанровых объектов — архитектурно-
градостроительных жилых, промышленных и общественных ком-
плексов, в связи с массовой застройкой новых районов, в том чис-
ле в исторических городах.
Естественно, что стиль как явление культуры претерпевает
в XX в. изменения, усложняется множественность стилевых поис-
ков, относительной кратковременностью существования стилей и
стилевых тенденций, однако, в каждой из своих модификаций
продолжает охватывать все или многие виды искусства и творче-
ской деятельности. Подобное понимание стиля защищал в своих
разработках к теории стиля Б. Р. Виппер: «Понятие стиля в его
полном и законченном смысле можно относить только к тому, что
мы называем стилем эпохи, стилем определенного исторического
периода»14. Кроме этого принципиального положения о содержа-
нии понятия «стиль», координирующегося с концепцией Беренса,
из тезисов Б. Р. Виппера о стиле чрезвычайно важны для даль-
нейшего исследования взаимоотношений явления стиля с явлени-
ем взаимодействия искусств следующие положения: первое — о
наиболее ясном и красноречивом выражении стиля эпохи именно
в архитектуре — «искусстве, теснее всего связанном с жизнью, с
социальными условиями, бытом и жизненными потребностями
человека»15; второе — о разной степени участия различных ис-
кусств в эволюции стиля. Это последнее положение — несомнен-
ное следствие гегелевского закона неравномерности развития ви-
дов и жанров искусства.
262
Раздел 10
Активизация понятия стиля как понятия, характеризующего всю
совокупность видов искусств или их ряд, распространяющегося и на
другие стороны культуры (науку, быт), — отнюдь не противоречит
утвердившейся в отечественном литературоведении 1970-х гг. кон-
цепции постепенного убыстрения в развитии стилей, осознанию
множественности их одновременного развития16. Однако, все эти
представления о стиле относятся к теории исторического развития
стилей; вопрос о соотношении взаимодействия пространственных
искусств и стиля — предмета настоящего раздела исследования, от-
носится по существу к теоретической проблеме стилеобразования.
Триединство основных форм визуального художественного вы-
ражения (пространство-пластика-цвет), воспринимаемое в любом
пластическом произведении и являющееся конкретным «носите-
лем» стилевых черт искусства своей эпохи, направления, так же как
индивидуального стиля определенного мастера, не может не прояв-
ляться в стилевой близости или единстве форм различных про-
странственных искусств. Аналогично тому, как в отношении от-
дельного произведения класса пространственных искусств (архи-
тектуры, скульптуры, живописи, графики, сценографии и др.) мы
вычленяем и анализируем различные аспекты его содержательной
формы — пространство, пластику, цвет, — так и отношение стиля
как образующейся художественной структуры, суммирующей в не-
коем зримом единстве исторически конкретную специфику поэтики
архитектуры и других пространственных искусств, представляется
возможным различать основные, визуально воспринимаемые слои
формального единства стиля: пространственный, пластический,
колористический.
Анализ влияния одного из искусств на другое в аспекте изме-
нения пространственной, пластической и колористической формы,
композиции, при обобщении этих влияний в пределах всех про-
странственных искусств конкретной историко-культурной эпохи,
региона, выводит не просто на нерасчлененное понятие какого-
либо определенного стиля (если таковой складывается), но на три
его существенные стороны: 1) пространственный язык форм раз-
личных искусств (в котором, несомненно, отражается пространст-
венное видение как один из первофеноменов мироощущения, а
также художественные концепции пространства каждого из ис-
кусств в отдельности); 2) пластический язык или пластическая
культура; 3) общность цветоформирования или цветовая культура.
Художественная культура и архитектурное формообразование 263
Применение понятий «пластическая культура» (широко упот-
ребимого в художественной критике, рефлексии художников, под-
час заменяющего все другие критерии стиля) и «цветовая культура»
(менее распространенного, а потому нуждающегося в отдельном
обосновании) выявляет намерение охватить этими понятиями по
возможности все виды творчества, неотъемлемой составляющей
которых является работа над пластической формой и колоритом,
или цветовыми гармониями. Естественно, что в исследовании ар-
хитектурной формы невозможно проследить исторически конкрет-
ное бытие, проявление и развитие цветовой и пластической культу-
ры не только в архитектуре, но в изобразительном искусстве, теат-
ральном и кинематографическом синтезе, прикладных и монумен-
тальных видах искусства, однако, представляется, что на все эти
области художественной культуры понятия пластической и цвето-
вой культуры распространяются как закономерные.
Рассмотрим типологию взаимных влияний искусств и факторов
такого взаимодействия в отечественной художественной культуре
рубежа XIX-XX вв.
Перелом в культуре, в том числе архитектуре, на рубеже XIX -
начала XX вв. по своей радикальности сравним с переломом от ан-
тичности к Средневековью или от Средневековья к Новому време-
ни. Это перелом стадиальный, кардинальное изменение мировиде-
ния и мироощущения во всех основных параметрах, отлившихся в
искусстве в новую художественную систему. Черты нового отно-
шения к миру наметились во второй половине XIX в. в естествен-
ных науках. «Все застывшее стало текучим, все неподвижное стало
подвижным, все то особое, которое считалось вечным, оказалось
преходящим, было доказано, что вся природа движется в вечном
потоке и круговороте»17. Не только природа осознается единой,
подвижной, изменчивой, казуально обусловленной. Формируется
ощущение истории как непрерывного движения, личность неотвра-
тимо втянута в круговорот истории. Новое сознание личности, но-
вую картину мира утверждает теория относительности Эйнштейна,
концепция непрерывности пространства и времени Минковского.
В философии, науке, искусстве на первый план выступают не раз-
личия замкнутых структур, но их внутренние сцепления.
Художественная культура России рубежа XIX и XX вв. приоб-
щается к общим процессам, происходящим в европейской и миро-
вой культуре. Развитие ее одухотворяется символистским движени-
264
Раздел 10
ем в поэзии и новым движением в отечественной философской
мысли, сливающимся в личности философа и поэта Владимира Со-
ловьева, идеолога русского символизма.
Идеи Достоевского, Толстого, Соловьева о целях и смысле жиз-
непреобразующей миссии искусства, понимаемой как новая рели-
гия, всезначимая, внеклассовая, внесословная, несмотря на все раз-
личия и противоречивость их конкретной разработки, находят свое
общее концентрированное выражение в понятии «соборность».
Понятие это становится популярным для отечественной философии
и эстетики всей рубежной эпохи. Наиболее яркую интерпретацию
идея соборности получила в статьях Вяч. Иванова. Идея соборного
искусства — это идея большого синтетического искусства, осно-
ванного на союзе всех муз. Тесное единство искусств в их всена-
родном служении и жизнепреображении мыслилось символистами
не как единство автономных, параллельно развивающихся, замкну-
тых в себе современных видов искусства и, тем более, не как рес-
таврация каких-либо исторических форм такого единства, но как
живой процесс взаимопроникновения и взаимообогащения раз-
личных видов. Эстетика символизма и в особенности эстетиче-
ские идеи второго поколения символистов (А. Белый, А. Блок,
Вяч. Иванов и др.), выросшего на идейной почве «соловьевства»,
с его проповедью «соборной общности» и грядущего обновления
мира, чуткостью к трагедиям и предчувствиями грандиозных ка-
таклизмов, начинают выступать как философская и эстетическая
программа всех видов искусства.
Синтез трагедийности и мистицизма символистов первого по-
коления и программная «теургичность» и «соборность» синтетиче-
ского искусства символистов второго поколения становятся осно-
вой творческой концепции Скрябина. Концепцию теургической,
мессианской роли музыки он хотел воплотить в «Мистерии» —
произведении синтеза музыки, света, пластики. Скрябинская идея
синтеза искусств как определенной религии, перерастающей эсте-
тические границы, в конечном счете развивает тезис вдохновителя
литературного символизма Влад. Соловьева: «Совершенное искус-
ство в своей окончательной задаче должно воплотить абсолютный
идеал не в одном воображении, айв самом деле — должно одухо-
творить, пресуществить действительную жизнь. Если скажут, что
такая задача выходит за пределы искусства, то спрашивается, кто
установил эти пределы?»18.
Художественная культура и архитектурное формообразование 265
Реальный процесс взаимовлияния концепций, образов, поэти-
ки различных видов искусства рубежной эпохи протекает чрезвы-
чайно активно, гораздо более широко и глубоко, чем это предпо-
лагалось теоретической платформой типологически родственных
друг другу символизма и модерна. Сама система архитектуры мо-
дерна рождается в результате активного воздействия на процесс ее
формообразования изобразительного и прикладного искусства.
Поэтика нового вида искусства — кинематографа — ассимилиру-
ет ряд основных принципов поэтики литературы, изобразительно-
го искусства, театра.
Альтернативность академическим канонам европейской клас-
си-цизирующей традиции развивалась в отечественной культуре
двумя путями: путем романтизации народного и древнерусского
искусства и путем, параллельным новым европейским художест-
венным исканиям ар нуво. Ядром этих поисков становится харак-
терное сцепление пространства и массы, воздуха и предмета в
живописи, рисунка и фона — в графике, в орнаменте, объемов и
собственно пространства, внешнего и внутреннего, — в архитек-
туре. Генетическая двойственность русского модерна ярко про-
явилась в творчестве одного из первых его представителей и энту-
зиастов абрамцевского кружка Е. Поленовой. Начало новой объ-
емно-пространственной концепции в архитектуре ознаменовала
всефасадность церкви в Абрамцеве, построенной по рисункам
В. Васнецова.
В области пластических искусств доминирующим видом на
всем протяжении рубежной эпохи остается живопись. Последова-
тельное становление ощущения новой пространственности вы-
теснило «вещистское» предметно-перечислительное его понима-
ние сначала в пейзажной, пленэрной живописи, затем в других
живописных жанрах, в прикладных искусствах, скульптуре и ар-
хитектуре19. Становление новой пространственной концепции в
новых принципах формообразования, изменивших существо оп-
позиции «пространство — масса», с большой очевидностью и оп-
ределенным опережением проявилось в композиционном равенст-
ве узора и фона в декоративном орнаменте (в графике, приклад-
ном искусстве)20.
С 1890-х гг. усилиями живописцев в России начинают возрож-
даться прикладное искусство и полихромная скульптура, монумен-
тальная и театрально-декорационная живопись, художественная
266
Раздел 10
промышленность. Цвет из второстепенного прежде средства архи-
тектурной композиции становится важным формообразующим
элементом архитектуры модерна, ее характерной особенностью,
что также объясняется влиянием доминирующей в художественной
культуре живописи. Рождается новый тип художника-универсала.
Ряд живописцев выступает плодотворно не только в различных
видах и жанрах изобразительного искусства, но и в предметном
творчестве, и в зодчестве (М. Врубель, К. Коровин, В. Васнецов,
С. Малютин). В свою очередь ряд архитекторов приходит к зодче-
ству после нескольких лет плодотворной работы в графике, теат-
ральной декорации, проектировании мебели и оформлении ин-
терьеров (Ф. Шехтель, И. Фомин). Явление это было характерно и
для перелома искусства от Средневековья к Новому времени.
Творчество универсальной художественной личности как бы
персонифицирует в себе процесс взаимодействий и взаимовлияний
различных видов искусства и художественной деятельности.
Врубель — не только ярчайшая в пластических искусствах, но
и глубочайшая в художественной культуре в целом фигура. Через
его творчество и в самом этом творчестве народно-фольклорные
основы сливаются с характерными для символистов романтиче-
скими идеями пересоздания мира творчеством. Творчество Врубеля
охватывает различные пластические виды и жанры, самые разно-
образные материалы — акварель, масло, фреску, майолику, бронзу,
художественную ткань, различные материалы театральных декора-
ций и костюмов. Его работа цветом на плоскости, в объеме и про-
странстве говорит об универсальности художника, в которой, как и
в универсальности мастеров Возрождения, концентрировался,
осуществлялся и моделировался процесс многопланового взаимо-
действия и взаимовлияний различных видов и жанров искусства.
Доминирующим влиянием в этом сложном процессе было влияние
живописи и ее основного выразительного начала — цвета, что и
проявилось в театральном синтезе и живописности его полихром-
ной скульптуры.
Говоря о Врубеле, нельзя отвлечься от той углубленной духов-
ности, которую несло его искусство, духовности, роднившей его с
Блоком и концентрировавшей в себе всю напряженность, а подчас и
трагедийность духовных исканий рубежной эпохи. Мифологич-
ность, космическая символичность и монументальность его обра-
зов, принимающая в «Поверженном» характер монументальной
Художественная культура и архитектурное формообразование 267
трагедии, смелость его фантазии и решительное преобладание ху-
дожественного вымысла не могли вместиться ни в рамки жизнепо-
добной передвижнической формы, ни в границы изысканной деко-
ративной стилизации мирискусников, которым Врубель отдал оп-
ределенную дань. Его обобщение натуры было неведомо для живо-
писи Нового времени. Конструирование формы изнутри путем се
ограничения плоскостями, самоценность цветового пятна, всей
фактурно-цветовой поверхности живописного слоя стали методом
построения нового живописного мира — в станковой картине и
монументальном панно, каминных и печных майоликах, поли-
хромной скульптуре, мире цвета на сцене и в реальном интерьере
со всем его предметным убранством, театральным плафоном или
занавесом. Новаторство Врубеля в области формы, несомненно,
связано и с его глубочайшими духовными устремлениями, и с са-
мим процессом многостороннего, универсального пластического
творчества.
С именем Врубеля связана деятельность Абрамцевского и Та-
лашкинского кружков, занимавших важное место в русской культу-
ре рубежа веков. Тенденция к народности, былинности творчества
вдохновляла Васнецова и Поленову, Врубеля и Римского-Корсакова
по-разному. Очарованные неисчерпаемым материалом собственных
этнографических экспедиций, сформировавших настоящий музей
национального прикладного искусства, Васнецов и Поленова целе-
направленно следуют народной традиции, сознательно отбирая те
или иные мотивы и формы, воспроизводя орнамент, предметы и
изображения в живописи и графике, рисунках для вышивки, дере-
вянной резьбы. Врубель пытается постигнуть синтетичность на-
родного искусства, человечески художественную цельность ано-
нимных авторов-творцов. Вдохновленный цельностью народного
мастера, Врубель персонифицирует в себе тип художника, разры-
вающего путы специализации. Это стало характерным для многих
художников, работавших в мастерских Абрамцева и Талашкина, и
воплощало в себе высший тип художника, сформулированный сим-
волистской эстетикой, наследующей в этом вопросе эстетике ро-
мантизма.
Многозначна роль мастерских Абрамцева и Талашкина, руко-
водимых Поленовой, Врубелем и Малютиным, в развитии взаимо-
действия искусств в художественной культуре рубежной эпохи. Тут
произошел подрыв того пренебрежительного отношения к при-
268
Разлел 10
кладному искусству как искусству «второго сорта», которое было
порождено и культивировалось Академией художеств. Здесь наме-
тились и некоторые реальные пути возрождения различных видов и
жанров декоративного искусства. В непосредственном дружеском
творческом контакте здесь консолидировались художественные си-
лы России в лице Репина и Васнецова, Полено’а и Серова, Врубеля
и Коровина, Поленовой, Малютина, Сомова, Головина, Рериха.
Плодотворность обращения к прикладному искусству ряда
крупнейших живописцев сказалась не только в том могучем им-
пульсе, который получили от живописи декоративно-прикладное и
монументальное искусство. Взаимно плодотворно было и обогаще-
ние живописи, главным образом театральной и монументальной,
декоративностью цвета и композиции, остротой и глубиной пости-
жения целостности народного искусства, архитектоничности его
построения.
Общий, чрезвычайно насыщенный процесс взаимного влияния
искусств рубежа веков включил в свою сферу и архитектуру. Модерн
в его национально-романтическом преломлении 1890-х гг. испыты-
вает влияние уже обновлявшегося с 1880-х гт. изобразительного и
прикладного искусства, непосредственно — художников «Мамонтов-
ского» кружка. Ведущий представитель русского модерна Ф. Шех-
тель прямо называет В. Васнецова своим учителем. С первого своего
этапного произведения — особняка 3. Г. Морозовой на Спиридо-
новке (1893), Шехтель выступает в сотрудничестве с Врубелем, ко-
торый пишет серию панно, создает скульптуру, витраж. Еще три
года Врубель остается неизвестным России (до Нижегородской вы-
ставки 1896 г.), а Шехтель работает в непосредственном контакте с
художником, творчество которого стало самым ярким и самым глу-
боким пластическим воплощением драматической противоречиво-
сти, рубежности эпохи и ее духовных поисков.
Врубелевские произведения не могли жить в бесцветном или
колористически хаотичном, неорганизованном пространстве. Ан-
самблевая цель, задача художественного синтеза заставляет зодчего
решать все пространствоформирующие элементы в цвете, прида-
вать важное значение соотношению фактур различных поверхно-
стей в одном или различных материалах. Чувство материала, кото-
рое столь любовно возрождают мамонтовцы и талашкинцы в при-
кладном искусстве и мирискусники — в графике, переходит в архи-
тектуру. Таким образом, цветоформирование в архитектуре, став-
Художественная культура и архитектурное формообразование 269
шее отличительной особенностью стиля модерн, стимулируется и
инициируется с двух сторон: со стороны изобразительного искусст-
ва и со стороны прикладного. Влияние этих двух различных родов,
включающих ряд видов и множество жанров пластических ис-
кусств, на архитектуру происходит на двух различных уровнях: во-
первых, формообразования и стилеобразования, во-вторых, созда-
ния многовидовой композиции.
Желание строить, создавать, а не только отображать и изобра-
жать, руководимое общим для модерна и символизма стремлением
к пересозданию жизни, толкало многих живописцев рубежной эпо-
хи не только к театрально-декорационному, монументальному и
прикладном искусству, но и к проектированию для художественной
промышленности и непосредственно к архитектуре. Ведущие ма-
монтовцы и талашкинцы — В. Васнецов, В. Поленов, К. Коровин,
С. Малютин, М. Врубель — известны и своими архитектурными
проектами, и их реализацией. Множественное участие одних и тех
же художников в самых разных областях художественной культуры
и предметно-пространственного творчества способствовало стиле-
вому сближению искусств, стилеобразованию модерна. И потому
при всей кратковременности этого стиля он ярко проявился и в та-
ких синтетических произведениях, как особняки Шехтеля или де-
корации Головина, и в отдельных книжных или журнальных за-
ставках, светильнике, фарфоровой чашке или вазе.
Тенденция к мистифицированное™, скрытости реального сю-
жета, смысла и значения вещи, явления, образа, характерная для
поэзии символистов, будучи опрокинута на пластическое творчест-
во, приводит к своеобразной нечеткости пластических жанров, к
полифункциональности жанров и полижанровости предметов утва-
ри, оборудования, архитектурно-скульптурного и живописного де-
кора здания. Корни этих жанровых трансформаций и перевоплоще-
ний лежат в народном и средневековом искусстве, ставших для мо-
дерна историческим прообразом искомой целостности полезного и
прекрасного, функционально-конструктивного и содержательно-
формального, прообразом искомого «соборного» синтеза всех ис-
кусств. Символистская по своей природе, скульптурная мистифи-
цированное™ утилитарных предметов раннего модерна — вазы,
настольной лампы, бра, торшера или чернильницы, являющиеся то
цветком, то человеческой фигурой, птицей или зверем, полная ин-
теграция конструктивных архитектурных элементов со скульптур-
270
Раздел 10
ным рельефом или живописью, уступает к 1910-м гг. выявлению и
подчеркиванию конструкции, ее простоты и ясности.
Исследователи отечественной архитектуры конца XIX - начала
XX вв. выделяют проблему синтеза архитектуры с изобразитель-
ным искусством как одну из важнейших и характерных именно для
этого исторического этапа. Проблема синтеза традиционно связы-
вается с композиционными проблемами архитектуры, конкретно —
с ролью цвета и фактуры как композиционных средств, с принци-
пами тектонической и ритмической взаимосвязи монументально-
декоративной живописи и скульптуры со стеной, объемом, про-
странством. Процесс стилеобразования, становления системы ар-
хитектуры модерна соотносится с проблемой синтеза как с карди-
нальным аспектом идейно-художественной программы, однако ме-
ханизм перехода от программности к художественной реальности
не выясняется, не анализируется. Поэтому представляется возмож-
ным и необходимым уточнить особую функцию синтеза архитекту-
ры и пластических искусств в художественной культуре рубежной
эпохи. Синтез искусств как программная цель архитектуры модер-
на, эстетики символизма, побуждая художников и архитекторов к
многосторонней творческой деятельности тотального преображе-
ния красотой жизненного окружения во всех его компонентах, тем
самым инициировал процесс взаимного влияния искусств друг на
друга и, следовательно, процесс стилеобразования.
Лабораторией композиционного и стилистического единения
всех пластических искусств, в процессе которого создавался вре-
менный образец художественно сформированной среды, своего ро-
да идеал синтеза, стали многовидовые, многожанровые выставки
журнала «Мир искусства», и в особенности «Выставка архитекту-
ры и художественной промышленности нового стиля» в декабре
1902 - январе 1903 гг. в Москве и выставка «Современное искусст-
во» в 1903 г. в Петербурге. Уже в первых выставках «Мира искусст-
ва», отличающихся от академических и передвижнических не толь-
ко представительностью самых разнообразных пластических видов
и жанров, но самой экспозицией — ее пространственной компози-
цией, цветом, ритмом, освещением, драпировками, — производя-
щей впечатление гармонической целостности, задавался эталон,
образец новой поэтики интерьера. На выставках 1902 и 1903 гг.,
организованных по образцу венского, мюнхенского и берлинского
Сецессионов и Дармштадтской выставки 1901 г., были показаны
Художественная культура и архитектурное формообразование 271
новые образцы мебели, работы абрамцевских и талашкинских мас-
терских и западных мастеров, а главное — реализованы проекты
интерьерных ансамблей: «Столовая» А. Бенуа, Е. Лансере, «Буду-
ар» Л. Бакста, «Чайная комната» К. Коровина, «Теремок» А. Голо-
вина, «Лестница» И. Грабаря.
По существу, программное стремление к синтезу послужило
импульсом для возрождения в России рубежной эпохи монумен-
тального и прикладного искусства, полихромии в скульптуре. Од-
нако реальное развитие и синтеза, и монументального искусства
сковывалось отсутствием широкой общественной заинтересован-
ности и поддержки, кустарностью художественного производства,
отсутствием профессиональной специализации в области монумен-
тального искусства в художественной школе. Глубоким проникно-
вением в существо реального художественного процесса и социо-
культурной ситуации отличается свидетельство И. Грабаря: «Театр
в наши дни — единственная область, в которой художник может
еще мечтать о большом празднике для глаз, в котором есть, где раз-
вернуться его воображению»21. Осознавая тотальность задачи син-
теза искусств, художники видят возможность ее реализации лишь в
театре. Очевидным подтверждением этой осознанности является
тот факт, что расцвет театрально-декорационного искусства рубежа
веков обязан тем же Васнецову и Коровину, Врубелю и Головину,
Малютину и Рериху, Бенуа и Баксту, которые активно участвовали в
возрождении монументального и прикладного искусства и во всех
попытках их синтеза с архитектурой — во временных выставочных
ансамблях или реальных постройках. Театральный синтез рубеж-
ной эпохи был, конечно, и самоценен, но это была и единственная
возможная форма монументального решения пространства. Эта
форма синтеза искусств — наиболее близкий прообраз, модель того
всеобщего синтеза искусств, неотъемлемой составляющей которого
является синтез архитектуры со всеми пластическими искусствами.
Живописная стихия, неизменно торжествовавшая в поисках те-
атрального синтеза, начиная с Коровина и Врубеля, получившая в
работах мирискусников изысканную линейно-графическую и цве-
то-плоскостную образную интерпретацию, снова захлестнула сцену
в импровизационном колоризме Сапунова и декоративной мощи
лубочно-иконной живописи Гончаровой. С середины 1910-х гг. эта
живописная стихия начинает уступать место объемно-простран-
ственной организации сцены — простейшим объемным конструк-
272
Раздел 10
циям, соотносимым с объемно-скульптурными качествами челове-
ческого тела, пространственностью сцены.
Процесс архитектурализации театральной декорации, обнаже-
ния ее конструктивного скелета, при определенной отодвинутости
проблем цвета на второй план, подчинения их объемной и про-
странственной форме, отвечал не только изменившимся потребно-
стям театральной режиссуры. Немалое влияние на изменение до-
минанты театрального синтеза оказало и развитие архитектуры,
усиление в ней рационального начала, обнажение конструктивного
и функционального смысла объемной формы, ее последовательное
вытеснение чистой пространственностью благодаря каркасным
конструкциям и большепролетным металлическим фермам, круп-
ным проемам и распространению фонарей верхнего света, полу-
чившим развитие в архитектуре рубежа веков.
Театрально-живописный синтез 1910-х гг., при повороте к ар-
хи-тектоничности, конструктивности, начинает воплощать не толь-
ко несбывшиеся мечтания художников о фресках, но потребность
непосредственно строить, лепить трехмерную полихромную среду.
Десятилетие спустя, пройдя через аскезу уничтожения цветофор-
мы, эта модель новой объемно-пространственной среды воплотится
в проектах и постройках конструктивистов и рационалистов, в пер-
вых дизайнерских проектах формирования целостного предметного
окружения.
Примечания
1. Лессинг Г, Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
С. 437.
2. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1923.
3. Мастера советской архитектуры об архитектуре. Т. 1. М., 1975.
С.343-344.
4. Гегель Г В, Ф. Сочинения. М., 1940-1958. Т. 14. С. 21.
5. Габричевский А. Г Пространство и масса в архитектуре И Искусство.
1923. № 1.С. 293.
6. Мастера архитектуры об архитектуре. М., 1972. С. 258, 262.
1. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М.,
1914. С. 41.
8. Там же. С. 43.
9. Теория литературы. Литературное развитие. М., 1965. С. 9.
Художественная культура и архитектурное формообразование 273
10. СоколовА. Н. Теория стиля. М., 1968.
11. Мастера архитектуры об архитектуре. М., 1972. С. 134.
12. Каплун А. И. Стиль и архитектура. М., 1985.
13. Борее Ю. Б. Эстетика. М., 1980.
14. Виппер Б. Р. Несколько тезисов к проблеме стиля // Творчество. 1962.
№9.
15. Там же.
16. Эта концепция раскрыта Д. С. Лихачевым в книге «Развитие русской
литературы X-XVII веков (эпохи и стили)» (Л., 1973).
17. Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Поли. собр.
соч. Т. 20. С. 354.
18. Соловьев Вл. Общий смысл искусства // Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Мысль,
1990. С. 404.
19. Федоров-Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капита-
лизма. М.: ГАХН, 1929.
20. Монахова Л. П. Становление эстетического стереотипа предметных
форм в период модерна // Материалы по истории художественного
конструирования. М.: ВНИИТЭ, 1972.
21. Грабарь Н. Э. Театр и художник // Весы. 1908. № 4.
19 Зак. 303
Раздел 11
Преобразования
пространственной
структуры Москвы
Метафорическое сравнение города с организмом предполагает не
только системную взаимосвязанность его частей (она присуща и ме-
ханическому устройству). Важно, что, подобно живому, город растет,
меняется, оставаясь все той же системой — самим собой. Точнее, так
было, пока могло спонтанно поддерживаться равновесие в системе
процессов градообразования. Их ускорение под влиянием промыш-
ленной революции не было равномерным. Возникли дисбалансы.
Но та же промышленная революция, нарушившая естествен-
ность роста городов, внушала и веру во всемогущество воли и ра-
зума, вооруженных новой техникой. Поиск новой, искусственно
учреждаемой гармонии породил всплеск утопической мысли. Ранее
она не выходила за пределы игры ума, теперь же стала влиять на
целеполагание, приводящее в действие значительные силы. Утопии
в XX в. оказались осуществимы. Попытки их реализации, однако,
несли новые опасности и противоречия.
В основе утопий лежит установка на вольное конструирование
идеала. Их логика произвольна, состав элементов беден, поскольку
каждый автор допускает в свою «страну Утопию» лишь то, что укла-
дывается в очертания сконструированной им идеальной схемы, иг-
норируя внутреннюю сложность и многозначность, всегда присущие
естественному городу. К тому же утопический идеал есть нечто вне-
временное, не предполагающее стадий становления и развития, как и
трансформаций за пределами однажды достигнутого желаемого со-
стояния. Все это, противореча законам естественного существования
городского организма, могло порождать лишь новые катаклизмы.
Преобразования пространственной структуры Москвы 275
Неукоснительную сверхупорядоченность, к которой тяготели
градостроительные утопии нашего века, трудно осуществить в
крупном масштабе — хотя бы потому, что необходимо время, пре-
вышающее период, пока идеальная цель еще сохраняет привлека-
тельность. Однако самые жесткие утопические модели 1920-х гг,
такие как «Современный город на 3 млн жителей» и «План Вуазен»
Ле Корбюзье или «Город высоких домов» Л. Хильберзаймера, воз-
действовали на ценностные установки. Принципы утопии стали
транслироваться на грешную и неупорядоченную землю, материали-
зуясь островками жесткой элементарной «сверхупорядоченности».
Кристаллическая геометрия массивов новой застройки понача-
лу могла увлекать самой непохожестью на запутанные структуры
исторических городов. Достаточно быстро, однако, она обернулась
обыденностью, в сравнении с мертвой механистичностью которой
воспринимается как ценность сложная противоречивость спонтан-
ной структуры старых, постепенно складывавшихся кварталов. Со-
ответственно и установка на самоценность нового перерождалась в
свою противоположность, в антиценность, которой стали противо-
поставляться ценности исторического, «естественного».
Но именно естественности, органичности города противопока-
заны любые абсолюты — в том числе и абсолюты аитиутопического
охранительства. Стремление оберечь любые существующие струк-
туры, принимая их за историческую ценность, омертвляет город,
провоцируя конфликты между жизнью и ее материальным окруже-
нием. Парадокс в том, что оно, так же, как утопическая ориентация
на всецело новое, город, возникающий как бы сразу, на поверхности
чистого листа, противостоит органике города, предполагающей не-
прерывность развития. Трудности современных городов лишь воз-
растают от попыток утвердить любую из крайних позиций.
Поиску взвешенных решений, не нарушающих органичности
сложившегося города, его структур и его ткани, помогает анализ
проб и ошибок, через которые прошло градостроительство. Боль-
шой материал для осмысления предоставляет практика развития
Москвы в советский период.
* * *
Октябрьская революция 1917 г. была не просто сменой власти в
России. Народ ее дерзнул на себе поставить социальный экспери-
мент невиданного масштаба. В извечно неблагополучной стране
19*
276
Раздел /7
убеждение, что так дальше жить нельзя, питало левый радикализм.
Когда революция стала совершившимся фактом, люди, внутренне
готовые к нечеловеческому напряжению сил и самопожертвованию,
пренебрегали возможностями практического совершенствования
существующих экономических механизмов. Верх взяла эмоцио-
нальная вера в светлое будущее, грядущее царство свободы и спра-
ведливости, для построения которого необходимо пожертвовать
прошлым и настоящим. Завышенные социальные ожидания и идеа-
лизация будущего обретали черты утопии. Утопические модели
влияли на практику государственного строительства первых после-
революционных лет, врастали как в государственную идеологию,
так и в массовое сознание. При этом популярными становились же-
сткие варианты утопии, основанные на аксиологичном противопос-
тавлении прошлого и «светлых далей».
Градостроительный утопизм в такой ситуации воспринимался
как явление естественное. Впрочем, первые его послереволюцион-
ные варианты следовали вчерашней мечте о «городе-саде». Такие
модели предлагали мастера, связанные с традицией «серебряного
века» русской культуры, 1900-х гг. Утопическое мышление было
свойственно и этому времени, ретроспективные утопии которого
основывались на обращении реалий жизни в стилизованную игру,
театр в неоклассических декорациях. Возвращение к подобной
ментальности в условиях еще не завершившейся гражданской вой-
ны может казаться парадоксом.
Но ее побуждала именно трагическая ситуация сдвига времен.
Люди чувствовали себя перемещенными как бы в иное измерение,
в страну Утопию. И они поступали так же, как первые колонисты,
осваивавшие Новый Свет. Те, чтобы отделить себя от чуждого и
неизвестного, пытались строить на незнакомых берегах дома и по-
селки, традиционные для оставленной родины. И архитекторы
1918-1924 гг. мечтали создать в новой Москве среду, свидетельст-
вующую о преемственности культур, в которой наследие прошлого
не только сохранено, но и очищено от случайных наслоений.
В 1918 г. архитектурная мастерская при строительном отделе
Московского городского совета подготовила первую схему пере-
планировки Москвы (один из участников работы — архит. И. Жол-
товский). Основная ее идея — сохранить структуру исторически
сложившегося радиально-кольцевого плана. Она трансформирована
в соответствии с моделями, предлагавшимися последователями
Преобразования пространственной структуры Москвы
277
движения «городов-садов» — территорию города предполагалось
расчленить зелеными кольцами и клиньями, проходящими по ра-
диусам от периферии до центра. Предвидимую остроту транспорт-
ной проблемы намечалось снять устройством разветвленной сети
метрополитена.
Под руководством А. Щусева схема была доработана как план
«Новая Москва» (1924) группой архитекторов, ставших лидерами
московского архитектурного авангарда. Солидно разработанных
прогнозов социально-экономического развития города не было, ос-
новывались на интуиции, действуя, в конечном счете, методами
создания утопических моделей. Главная идея проекта — выявить и
продолжить определившиеся направления развития. Центр мыс-
лился, по выражению Щусева, напоминающим «солнечную луче-
вую систему» с главным ядром и специализированными центрами
на периферии. Основная масса застройки виделась авторами воз-
рождающей пространственные характеристики «допромышленной»
Москвы классицизма — невысокой и неплотной, пронизанной зе-
ленью. Над спокойными рядами жилых построек доминировали
сложные объемы храмов и других памятников русской архитекту-
ры, характер которых воспринимали и новые монументальные со-
оружения. Проект формировался как ретроспективная утопия, нос-
тальгическое видение никогда не бывшего «золотого века» (близкое
по настроению к нашумевшим в 1970-е гг. утопическим проектам
люксембуржца Леона Крира).
В массовой прессе проект подвергался жесткой критике со сто-
роны не только сторонников прогрессистских утопий, но и тех, кто
подходил к его оценке с позиций элементарного здравого смысла.
«Москва — не музей старины» — так называлась резкая статья,
которую опубликовала газета «Известия» (22 ноября 1925 г.). Кри-
тиковали ностальгический эстетизм, пренебрегавший естественной
для города динамикой трансформаций. Было очевидно, что проект
нежизнен и потому, что основывается на экстенсивном использова-
нии городского пространства, для крупного города XX в. немысли-
мом. При всем том проект запомнился заявленной убежденностью,
что вневременный идеал утопии может основываться и на образах,
которые побуждает контакт с культурой прошлого.
Если бурные годы периода военного коммунизма порождали
утопические картины, окрашенные ностальгическим ретроспекти-
визмом, то вместе со стабилизацией жизни в годы нэпа появились
278
Раздел 11
прогрессистские утопии экстремального характера. Их крайности
побуждались общественными настроениями — многими установ-
ление нэпа виделось досадным замедлением на пути к «светлым
далям». В профессиональном плане они стали реакцией на охрани-
тельную тенденцию, заявленную в проекте «Новой Москвы».
Образы новой Москвы во второй половине 1920-х гг. стали по-
являться в литературе. М. Кольцов описывал гигантский сверхгород,
в который срастутся две российские столицы — Москва и Ленин-
град. А. Толстой соединил давнюю мечту о городе-саде с урбанисти-
ческой атрибутикой в духе Г. Уэллса и А. Сант-Элиа (повесть «Голу-
бые города», 1925). Полярной крайностью стала утопия ученого-
аграрника А. Чаянова — ироничная проекция на прогнозы развития
Москвы крестьянского видения будущего. По Чаянову, Москва са-
краментального 1984 г. — центр страны, обратившейся в гигантский
сельскохозяйственный комплекс, население которой равномерно
распределено по территории. Там, где были города, оставлены лишь
культурные центры, места для временных социальных контактов.
Лишь Москва сохранила стотысячное население, но ее многоэтаж-
ные дома недавней постройки разобраны, а бережно реставрирован-
ные памятники средневекового зодчества разрозненно возвышаются
среди садов и парков, образуя систему ориентиров в аморфном про-
странстве (Ив. Кремнев (А. Чаянов). Путешествие моего брата Алек-
сея в страну крестьянской утопии. М., 1926).
В 1920-е гг. крупномасштабные преобразования города еще не
были проблемой практической. Объемы реального строительства
оставались невелики и легко распределялись по выморочным уча-
сткам. В эйфории обновления казалось, что гармоничное упорядо-
чение городов станет автоматическим следствием социальных пре-
образований — нужно лишь измыслить для него соответствующую
форму. Социальный оптимизм тех лет внушал веру в осуществи-
мость любых замыслов, даже самых радикальных.
В конце десятилетия ситуация, однако, решительно измени-
лась. Первый пятилетний план развития народного хозяйства стра-
ны, разработанный в 1929 г., утвердил принцип централизованного
управления экономикой. План был направлен на форсированную
индустриализацию. Решительно ускорялись урбанизационные про-
цессы. Каким быть городу, какой быть Москве — вопросы эти воз-
никли уже не в плоскости теоретических размышлений, а практи-
ческих решений.
Преобразования пространственной структуры Москвы
279
В 1929-1930 гг. развернулись дискуссии о 1фадостроительсгвс.
Полюса мнений представляли «урбанистическая» концепция эко-
номиста Л. Сабсовича и «дезурбанизм» философа М. Охитовича.
При внешней противоположности, обе исходили от убеждения в
возможности и необходимости управлять социальными процесса-
ми, используя средства архитектуры, обе восприняли идею ради-
кального преобразования самой системы расселения, заложенную в
«крестьянской утопии» Чаянова. Общей была мысль, что прогрес-
сивная роль крупных городов исторически исчерпана. Сабсович
пропагандировал единство двух противоположно направленных
процессов: децентрализации городов и концентрации сельских по-
селений, имеющее целью равномерную сеть малых городов с насе-
лением в 50 тыс. человек. Охитович полагал возможным полностью
отказаться от принципа пространственного объединения как усло-
вия реализации социальных связей. Он предлагал дисперсное рас-
селение вдоль сети дорог, объединенное мобильностью сообщений.
Дематериализацию, растворение структур расселения в простран-
стве, Охитович дополнял «дестанционаризацией», использованием
мобильных, сборно-разборных построек, освобождающих человека
от привязанности к месту и привычному миру вещей. Среда мыс-
лилась как рационально организованная, обезличенная система,
исключающая эмоциональное отношение к ней.
На будущее Москвы утопию Охитовича пытался спроециро-
вать идейный лидер конструктивистов М. Гинзбург. В качестве не-
коего гена, несущего программу преобразования столицы, он пред-
ложил экспериментальный проект Зеленого города (или антигоро-
да?) в 30 км севернее Москвы (1930, соавтор архит. М. Барщ). На-
селение столицы предлагалось постепенно выводить из компактно-
го городского ядра, размещая в лентах застройки вдоль магистра-
лей, соединяющих Москву с другими городами России. Пустею-
щий старый город Гинзбург предлагал (вслед за утопией Чаянова)
обратить в огромный парк, среди которого исторические ансамбли
сохраняются как музейные экспонаты.
По-иному представлял себе будущее Москвы Ле Корбюзье,
придерживаясь логики сверхурбанистической утопии, впервые за-
явленной Сант-Элиа. Отвечая в 1930 г. на вопросы о будущем Мо-
сквы, заключавшиеся в анкете, распространенной Московским от-
делом коммунального хозяйства, он твердо настаивал на несовмес-
тимости исторически сложившихся и новых структур. Ле Корбюзье
280
Раздел 11
полагал, что нужно постепенно очистить территорию, которую за-
нимает существующий город, и соорудить как бы на новом месте
город-сад с регулярно-геометрической планировкой, правильными
рядами небоскребов центра, меандрами протяженных жилых кор-
пусов. Эскиз, приложенный Ле Корбюзье к его соображениям по
Москве, был им позднее использован для проекта «Ville Radieuse»
(1931), одной из наиболее известных его утопий. Это — модель го-
рода вне времени, без прошлого и будущего.
В 1932 г. прошел конкурс на идею проекта реконструкции Мо-
сквы, в котором кроме московских архитекторов приняли участие
работавшие тогда в России Ханнес Мейер и германские архитекто-
ры Эрнст Май и Курт Майер. Проекты конкурса предлагали едва ли
не все мыслимые варианты организации столицы. Все они, однако,
проектировались как новый город на незастроенном месте. Брига-
ды Э. Мая, X. Мейера и К. Майера в той или иной степени учиты-
вали радиальную структуру дорог, сходящихся к Москве и продол-
женных ее уличной сетью. Май в большей степени, чем другие,
следовал принципу дезурбанизации, предлагал размещать дисперс-
ные жилые комплексы вдоль радиусов. Ханнес Мейер был сторон-
ником более крупных элементов «созвездия». Курт Майер видел в
развитии лучевой структуры не только продолжение градострои-
тельной традиции, но и некий символ демократического центра-
лизма. Идею города-звезды еще более четко выразил москвич Геор-
гий Красин. В бригадах В. Кратюка и Н. Ладовского разрабатыва-
лись динамичные структуры, где преобладало развитие в одном
направлении. С предложением Ле Корбюзье перекликался проект
бригады ВОПРА (Всесоюзного общества пролетарских архитекто-
ров), также основанный на использовании ортогональных структур.
Здесь, однако, город мыслился не как единый массив, но как систе-
ма из пяти параллельных полос жилых районов, объединенных
сквозным поперечным «стержнем» линейного центра.
Ле Корбюзье точно определил скрытую ментальность этого
этапа проектирования Москвы. Он увидел за демонстративным
прагматизмом, «рационалистической» и «функционалистической»
терминологией, романтическую энергию русской художественной
души, силы, которые основываются на эстетике. Проекты рубежа
1920-1930-х гг. привлекают абсолютной концентрацией мысли на
том, что определено как главное. «Второстепенное» и казавшееся
случайным бескомпромиссно исключено. Мысленный эксперимент
Преобразования пространственной структуры Москвы
281
доведен до лабораторной чистоты. Подобный подход был тогда об-
щей чертой мышления и творчества архитектурного авангарда во
всем мире. В сознании проектировщиков исчезала грань между же-
лаемым и действительным. Все определялось волением.
Сама безудержность размаха прогрессистских идей авангарда
изолировала их в сфере утопии. Живой город не допускал произ-
вольного вмешательства такого размаха. Чем более тотальное пере-
устройство предлагалось авангардом, тем настойчивее его стрем-
лению противопоставлялось требование связи нового со старым.
Поначалу сам принцип их взаимодействия безоговорочно отвергал-
ся радикалами. Москва в начале 1930-х гг. потеряла множество
древних храмов. Их уничтожали не только под влиянием агрессив-
ной атеистической пропаганды. Храмы были наиболее характер-
ными и индивидуализированными зданиями в городском ландшаф-
те. По старой русской традиции они воспринимались как ориенти-
ры, объединяющие вокруг себя массивы застройки. И в сносе или
перестройке храмов виделся наиболее доступный способ радикаль-
но изменить город — если не путем введения нового, то за счет
обезличения, ослабления старого. И все же представление о непре-
рывности, преемственности культуры постепенно возрождалось и
утверждалось. Утверждалась и идея единства города и городской
ткани, противостоявшая представлению о самоценности каждой
постройки, утверждавшемуся авангардом.
Опытный градостроитель Владимир Семенов, перед революци-
ей — лидер российской ветви движения городов-садов, выступил
в 1932 г. с предложением не рассматривать более радикальные схемы
перестройки города и принять принцип совершенствования истори-
чески сложившейся структуры. Эта идея дала в то время единствен-
ную реальную возможность упорядочить энергичное развитие горо-
да. Вновь организованные архитектурно-планировочные мастерские
(1933) под руководством В. Семенова и С. Чернышева стали на ос-
нове идеи преемственности разрабатывать генеральный план Моск-
вы. В 1934 г. работа над ним обсуждалась на совещании, где высту-
пил Сталин. Он свел воедино стереотипы массового сознания и при-
дал их системе характер официального заказа. По пересказу Черны-
шева, Сталин «наметил пути роста прекрасного города — Москвы,
создание широких улиц, красивых площадей, мощных зеленых мас-
сивов, полноводных рек и хорошо благоустроенных домов»1. Гово-
рилось о превращении всего города в единый громадный архитек-
18 Зак. 303
282
Раздел //
турный ансамбль. Таким образом, была вновь выдвинута утопиче-
ская идея города — произведения искусства, восходящая к барокко.
Любые проблемы городской жизни воспринимались как вторичные
по отношению к эстетической утопии. Утопия эта многое восприня-
ла от популистской риторики тех лет и популистского обращения к
массовым вкусам, склонным к консерватизму и предпочитающим
привычные стереотипы поискам новых формальных языков.
Генеральный план реконструкции Москвы, разработанный в со-
ответствии с этими установками, был утвержден 10 июля 1935 г.
План создан как детально разработанная идеальная модель, фикси-
рующая состояние, которого город должен достичь за 25 лет. Ориен-
тация на конечный вневременный идеал предполагала принцип
ограничения роста территории и населения (численность его с 1925
по 1935 гг. выросла вдвое и достигла 3,6 млн; предполагалось, однако,
что за следующие 20 лет она подойдет к 5 млн и стабилизируется).
Границы компактного застроенного массива, величину которого оп-
ределяла запланированная численность населения, должен был за-
крепить лесопарковый пояс. Освоение высокого плато на юго-западе
города создавало строгую уравновешенность фигуры плана по отно-
шению к Кремлю, принятому как символический центр столицы
Установка на сохранение исторически сложившейся радиаль-
но-кольцевой структуры Москвы проведена В. Семеновым с высо-
ким профессионализмом. Ее жизнеспособность должны были
обеспечить дополнительные кольцевые магистрали, снимающие
нагрузку с центра. На основе существующих радиусов создавались
сквозные диаметры. Главным пространственным ориентиром горо-
да должно было стать здание Дворца Советов, задуманное как са-
мое высокое в мире (480 м вместе с венчающей 80-метровой фигу-
рой Ленина). Соразмерно ему гигантскими проектировались приле-
гающие центральные площади, на здание были направлены огром-
ной ширины эспланады. Гигантизм был в духе того времени; об-
ширность открытых пространств следовала давней российской
традиции. Магия больших величин служила созданию образа пред-
ставительной «столичности». Радиально-кольцевая структура под-
чинена единому символическому центру, которым становилась со-
пряженная пара Дворец Советов — Кремль. Полицентричность ис-
ключалась, поскольку уводила бы от выражения сложившейся к
тому времени пирамиды государственного устройства. Моноцен-
тричсский план идеален как форма-символ. Он традиционен, по-
Преобразования пространственной структуры Москвы
283
зволяя максимально использовать материальное наследие прошло-
го. В то же время, традиционные ценности закреплялись и перево-
дились в новый масштаб величин, отвечающий изменившейся си-
туации. Кремль с его главной вертикалью — колокольней Ивана
Великого — держал как главный ориентир территорию в пределах
Земляного вала. Теперь пределы города возросли многократно.
Консервация величин Кремля и центра вела бы к тому, что старые
доминанты и ориентиры потеряли бы свою пространствооргани-
зующую функцию. Дополнение исторического ядра города верти-
калью, величина которой откликается на возросшие расстояния,
следовало логике идеи «город — произведение искусства».
Семенов понимал ценность наследия прошлого. Полемизируя с
Ле Корбюзье, требовавшим от реконструкции решительной хирур-
гии, он писал: «Когда нужен хирург, не приглашают палача»2. Се-
менов, однако, отвергал отношение к наследию, заложенное в нос-
тальгическую утопию «Плана Новой Москвы». Его план тоже оп-
ределялся утопическим идеалом, но уже не ретроспективным, а
вневременным. Предлагался город, идеальный навсегда, предпола-
гаемое совершенство которого должно включить в себя ценности
прошлого как следы на пути к высшим ценностям.
Такое отношение к прошлому заключало в себе опасный пара-
докс. Старому как бы отдавалось должное в исторической перспек-
тиве — оно отмечало ступени роста, направленного к нетленному
совершенству. Но как ценность принимались традиции, а не их ма-
териальные носители. Ими, казалось, можно и пренебречь ради
ценностей более высоких. Иногда замена старого новым получала
значение символического жеста — не случайно для Дворца Советов
было избрано место, занятое самым видным зданием старой Моск-
вы — храмом Христа Спасителя, построенным К. Тоном во второй
половине XIX в.
Для Сталина и Л. Кагановича, через которого осуществлялись
его установки по реконструкции Москвы, на первом плане стояли
идеологические приоритеты. «Щадящая хирургия» Семенова каза-
лась им недостаточно эффективной; он был освобожден от обязан-
ностей главного архитектора Москвы, руководящего реализацией
Генерального плана. Разработка его оказалась передана людям, не
рисковавшим излишне настойчиво отстаивать исторические и куль-
турные ценности. Для осуществления идеала «столичности» каза-
лось необходимым спрямление и решительное расширение главных
18*
284
Раздел 7 7
улиц. Для этого без колебаний сносили множество построек, под-
час — ценных памятников зодчества.
В конечном счете возникали крупные комплексы новой за-
стройки, объединенные единством историцистского характера и
крупным «столичным» масштабом. Эти комплексы были связаны с
главными структурообразующими элементами плана города — его
главными радиальными и кольцевыми магистралями и централь-
ным ядром. Подобная стратегия реконструкции позволила в корот-
кий срок создать впечатление полной трансформации столицы, при
осуществлении которой четко выдержаны единые принципы фор-
мирования пространства и стилеобразования.
При этом большие межмагистральные территории сохранили в
основном исторически сложившуюся застройку и характер старой
Москвы. В одном городе как бы соединились, переплетаясь, два
разных. Историзм архитектуры 1930-1940-х гг. нес ассоциации со
старой Москвой; сохранялась структура ее плана. Новые жилые
комплексы по-прежнему получали периметральную застройку, а
улицы обрамлялись непрерывными рядами зданий. Однако резко
различались масштабы старого и нового; обыденности рядовой
жилой ткани старых кварталов противостояла парадная монумен-
тальность новых массивов. Город как бы раздваивался, но в этой
раздвоенности он был единым.
Осуществление плана 1935 г. обеспечивалось средствами цен-
трализованного бюрократического управления и централизованно-
го планирования инвестиций. По официальным оценкам цели пла-
на реализованы почти точно в расчетный срок, ко второй половине
1950-х гг., несмотря на четыре года, потерянные из-за разрушитель-
ной войны. Городской массив за два десятилетия почти точно впи-
сался в намеченные границы. Численность населения (4 847 тыс. в
1956 г.) также была близка к запланированной. Хоть и пунктирно,
наметились в натуре очертания «города мечты», мечты 1930-х гг.
Не удалось, однако, соорудить символический центр — Дворец Со-
ветов, — который должен был визуально центрировать громадные
пространства города своей вертикальной массой. Не были созданы
и тяготеющие к Дворцу гигантские площади и эспланады.
♦ * *
При всей остроте проблем нормализации городской жизни и
жилищного кризиса, в годы после Второй мировой войны особое
внимание было уделено формированию центра. Начатое в 1935 г.
Преобразования пространственной структуры Москвы
285
строительство Дворца Советов было приостановлено в 1941 г., а
стальной каркас, частично смонтированный к этому времени, разо-
бран. Тем не менее, необходимость его создания тогда не подверга-
лась сомнению. В 1947 г. было решено поддержать эту будущую
вертикаль восемью высотными зданиями в узловых точках плана
по внешней стороне центрального ядра. Намечалась тем самым ие-
рархия высотных ориентиров, покрывающих своими зонами влия-
ния почти всю городскую территорию. Изначальная идея единого
центра была отвергнута. И именно создание вертикалей, поддержи-
вающих главную, было определено как первоочередная задача.
Введением их возрождалась традиционная силуэтность старой
Москвы с ее множеством храмов и колоколен, образующих слож-
ную иерархию ориентиров. Увеличившаяся средняя этажность за-
стройки поглотила малые вертикали, ослабила силу главных. К то-
му же, многие здания, определявшие силуэт старой Москвы, были
снесены в начале 1930-х гг. Высотные здания возвращали про-
странствам города ориентированность и контрастность — традици-
онные свойства, которые требовали в разросшемся городе новых
крупных величин. Идея возникла почти спонтанно. Проекты круп-
ных объемов, в том числе и вертикальных, «небоскребов», предла-
гались еще в конце 1930-х гг. многими архитекторами, но лишь как
локальные объекты. Уже после войны Д. Чечулин, тогда главный
архитектор Москвы, предложил объединить 8-10-этажные жилые
корпуса квартала у слияния рек Москвы и Яузы угловой башней
в 24 этажа. Защищая проект, Чечулин стал связывать его с возмож-
ностью создать продуманно размещенную систему вертикальных
ориентиров. В 1947 г. о проектировании такой системы было при-
нято решение правительства, не без поспешности намечены точки
размещения восьми подобных зданий, проведены конкурсы на их
проекты.
Четыре здания — у Красных ворот, на Котельнической набереж-
ной, на Смоленской площади и площади Восстания отметили узло-
вые точки Садового кольца, охватывающего историческое ядро Мо-
сквы. Комплекс зданий Государственного университета, поднятый на
высокое плато Ленинских (Воробьевых) гор, отметил уходящее на
юго-запад направление крутой излучины Москвы-реки. На другой,
меньшей излучине поставлена гостиница «Украина». Площадь трех
вокзалов, Комсомольскую, главный транспортный узел близ север-
ной границы центра, отметила гостиница «Ленинградская»3. Нако-
286
Раздел 11
нец, восьмую вертикаль намечалось создать у Москвы-реки и Крем-
ля, как бы в противовес Дворцу Советов, который должен был стро-
иться по другую сторону кремлевского комплекса.
В дальнейшем предполагалось число таких вертикальных
«вех» увеличить, но выбор площадок первой очереди (за исключе-
нием соседа Кремля в Зарядье) убеждал, что они заняли ключевые
точки городского пространства, их ориентирующее влияние рас-
пространялось очень широко. Воздействие их на визуальные харак-
теристики города в целом было значительно.
Постановление, ставшее официальным заданием на их проекти-
рование, выдвигало как обязательное требование оригинальность и
некую «противоположность принципам построения американских
небоскребов». Осуществляемый город мечты тем самым выводился
из круга возможных сравнений. Соревновательность заведомо ис-
ключалась. Постановление следовало предписанной Сталиным ли-
нии на самоизоляцию советской культуры. Как и в 1930-е гг., реко-
мендовалось следовать традициям классики — но уже классики оте-
чественной, российской.
Форма всех новых высотных зданий основывалась на несколь-
ких общих принципах: ярусном построении композиции, вписан-
ной в пирамидальные очертания; массивности, используемой для
активного развития пластики; включении исторических аллюзий.
Эти принципы должны были связать московские небоскребы с тра-
дициями архитектуры Москвы.
Как бы ни относиться к историцизму архитектуры московских
небоскребов рубежа 1940-1950-х гг., они внесли в восприятие го-
родской среды осмысленную структурность. Вторжение этих круп-
ных объектов возвратило облику Москвы некоторые топологиче-
ские свойства, поддерживавшиеся на протяжении веков, но стертые
относительно недавними коллизиями урбанизации. Размещение их
показало, что город воспринимался как связная система.
♦ ♦ *
Популистские утопии сталинского времени не были соотнесе-
ны с динамикой социальных процессов и реальными потребностя-
ми. Нараставшее напряжение разрешилось в 1954-1955 гг. серией
хрущевских реформ строительства. Рассеявшиеся миражи обнажи-
ли суровые реалии жилищного дефицита, близившегося к социаль-
ной катастрофе, и градостроительного хаоса за ширмами парадно-
представительной застройки магистралей. «Столичность» москов-
[ ]реобразования пространственной структуры Москвы
287
ской архитектуры 1930-1940-х гг. оказалась соседствующей во
временном измерении с лагерями Воркуты и Колымы. Этические
импульсы разоблачений, начатых Хрущевым, вызвали эмоциональ-
ное отторжение утопии, ассоциировавшейся со сталинщиной.
Хрущев, разогнавший миражи, не смог преодолеть метастазы
сталинщины в себе самом. Его нетерпеливая уверенность в том, что
Вождь знает лучше, обратилась и на архитектуру. Последовал
стремительный обвал решительных, но поспешных мер, направ-
ленных на подчинение архитектуры строительной технологии.
Цель подчинялась наличным средствам. Директивно учрежденный
технологизм не был следствием чистой практичности, как не был и
сознательной инверсией утопий сталинизма. Его жесткость отрази-
ла черты собственной утопии Хрущева — победа коммунизма
к 1980 г., модель которого следовала суровому уравнительству то ли
ранних социальных утопий (Т. Мор, Т. Кампанелла), то ли утопий
военного коммунизма.
Унификация проектной деятельности и всего строительного
комплекса диктовалась требованиями эффективности; неукосни-
тельно проводимая на всем пространстве страны — от Бреста до
Находки и от Кушки до Норильска, — она порождала множество
несообразностей и требовала ненужных затрат. Она, однако, делала
реальностью образ людей-винтиков, которым теперь всюду предос-
тавлялись одинаковые «гнезда». Простейший порядок единообраз-
ных типовых прямоугольных плашек из стандартных панелей, ров-
ными рядами расставленных на огромных пространствах, возвра-
щал ко вчерашней угрюмой мечте. «Оттепель» не обещала весны
архитектуре.
Новые технологии были абсолютно неприемлемы для строи-
тельства на ограниченных участках среди существующей город-
ской ткани. Сборные постройки нельзя было гибко приспосабли-
вать к сложным, всегда индивидуальным условиям. Новое требова-
ло экстенсивного распространения на обширных незастроенных
территориях. Вокруг городов с их многообразной постепенно сло-
жившейся тканью стали разрастаться пояса, состоящие из крупных
жилых комплексов с единообразной стандартной застройкой.
Особенно широкий размах создание таких обезличенных мас-
сивов приняло в Москве. Пестроватая и живописная, открывающая
на каждом шагу возможности выбора, она оказалась охвачена мас-
сивами обезличенных построек, одинаково серых, одинаково пло-
288
Раздел 11
ских, как бы лишенных кровель. Их бескомпромиссная простота
увлекала, когда они были единичны. В сравнении с ним историче-
ские кварталы казались поначалу хаотичными и старомодными.
Лишь по мере их умножения раскрывалась стерильная будничность
стандартной простоты, ее искусственность, противостоящая есте-
ственности постепенно складывавшихся образований.
Новые городские структуры были прямой проекцией на среду
эгалитаристской утопии. Обезличенные, лишенные индивидуаль-
ности объекты не могли нести семантической нагрузки. Смысловое
наполнение уходило даже из структур-архетипов. Вертикаль с
древнейших времен служила знаком особой социальной функции,
но в московских жилых комплексах 1960-х многоквартирный дом-
башня свидетельствовал лишь о существовании варианта организа-
ции жилищ (причем не имеющего принципиально важных особен-
ностей). Чередование горизонтальных и вертикальных объемов в
системе застройки стало чисто механическим. Семантика вертика-
ли аннигилировалась.
Механические ритмы стандартных элементов как символ вре-
мени вводились в формообразование крупных уникальных обще-
ственных зданий, в строительстве которых индустриальные тех-
нологии не применялась и не была нужна стандартизация. Выра-
жением современности казалась сама механистичность техноген-
ной формы. Подобные стилизации под машинный продукт стали
внедряться в комплексы исторической застройки — вплоть до
Кремля. В его пределах построен Дворец съездов (архит. М. Посо-
хин, А. Мндоянц, Е. Стамо, П. Штеллер, 1959-1961) с его элемен-
тарным объемом и монотонным ритмом облицованных мрамором
пилонов. Возникло агрессивное противопоставление нового ста-
рому, поначалу воспринимавшееся как инверсия ретроспективиз-
ма сталинистской утопии и благодаря этому спокойно восприня-
тое общественным мнением.
Противопоставление было развернуто в масштабе городских
структур при прокладке Нового Арбата, еще одного проспекта,
соединившего центральное ядро с Садовым кольцом, проходящим
по периферии исторически сложившегося центра. Сама по себе
застройка этой магистрали, крупномасштабная и, в духе времени,
жестко геометричная, целостна и выразительна (архит. М. Посо-
хин, А. Мндоянц и др., 1963-1969). Однако она программно проти-
вопоставлена сложности окружающей исторической городской
Преобразования пространственной структуры Москвы
289
ткани, через которую и проложена. При этом уничтожена застройка
кварталов середины и второй половины XIX в., не включавшая
объектов-памятников, но формировавшая целостный и характер-
ный фрагмент среды. Широко раскинутые крылья четырех крупных
25-этажных офисов, имеющих очертание раскрытой книги, активно
вторглись в силуэт города. Их почти километровый ряд гасит силу-
этность центра, чужд его структуре (в просторечии его стали назы-
вать «вставной челюстью»).
Столь массивное противостояние нового и старого вызвало
резко отрицательную реакцию общественного мнения. В 1970-е гг.
усиливалась кампания против вторжения новой архитектуры в час-
ти города, обладающие хоть какой-то историей. Охранительство, в
развитии которого лидирующую роль захватили некоторые худож-
ники (И. Глазунов) и литераторы (О. Волков, В. Кожинов, В. Солоу-
хин и др.), пришло к крайностям настолько радикальным, что стало
препятствовать и минимальным реконструктивным мероприятиям,
подчас жизненно необходимым для функционирования города.
Городские власти приняли ряд жестких решений, конкретность
которых не предполагала исключений. В числе их — категориче-
ский запрет в пределах Садового кольца поднимать какие-либо но-
вые сооружения выше среднего уровня сложившейся застройки. В
запрещающий документ попали и площади на пересечении Садово-
го кольца и главных радиальных магистралей, хотя три из них на
рубеже 1940-х и 1950-х гг. получили убедительную пространствен-
ную организацию именно благодаря строительству высотных со-
оружений (Смоленская, Восстания и Лермонтовская площади).
В результате этого запрета огромная Октябрьская площадь, в
которую вписана транспортная развязка, сложилась как аморфное
пространство, которому несоразмерны невысокие объемы примы-
кающих зданий (первоначальный проект предлагал — причем дос-
таточно убедительно — два вертикальных акцента, которые могли
бы не только внести необходимую упорядоченность в саму пло-
щадь, но и создать ориентиры, способствующие организации при-
легавших пространств). Была приостановлена реконструкция пло-
щади у Курского вокзала, где вертикальный акцент необходим для
завершения композиции обширного пространства с распластанной
застройкой. Административно предписанные ограничения привели
к дезорганизации проектирования и других ответственных узлов
плана, где новое было необходимо для завершения системы, не у г-
290
Раздел / /
рожая каким-либо историческим памятникам или исторической
среде. Реакция на шок от вторжения в город застройки Нового Ар-
бата вызвала движение маятника к противоположной крайности —
омертвлению города и его градостроительной традиции.
Не будем затрагивать судьбу генерального плана развития
Москвы 1971 г. Основанный на неверной оценке социально-эконо-
мических факторов развития, этот план остался, по сути дела,
мертвым документом. Надежды на его реализацию были связаны
с методами централизованного административного регулирова-
ния. В 1970—1980-е гг. такие методы становились, однако, все ме-
нее действенными.
Но среди предложений этого плана по развитию сети транс-
портных коммуникаций было создание еще одного, третьего кон-
центрического кольца автомагистралей, на судьбе которого стоит
остановиться. Кольцо могло существенно сократить нагрузку на
внутренние зоны города и стать важным фактором их сохранения
от эрозии. Трасса его была осуществлена, за исключением завер-
шающего отрезка в северо-восточной части города. Если прокладка
остальных отрезков кольца не наносила ущерба сложившейся сре-
де, то этот последний был намечен неудачно — в опасной близости
от ценных исторических построек Лефортова. Общественность оп-
ротестовала действительно непродуманное решение. Были предло-
жены радикальные альтернативы — в числе их тоннель почти ки-
лометровой длины. Охранительская психология, однако, блокиро-
вала такие поиски — любое вторжение в существующее вызывало
резкую реакцию, прежде всего эмоциональную.
За градостроительным консерватизмом нередко скрываются
эгоистические интересы местных групп населения, противопос-
тавленные интересам города в целом. Так, почти анекдотичный
характер получили дискуссии о размещении нового московского
зоопарка. Бушевали митинги, участники которых, подчеркивая
необходимость его создания, требовали вновь и вновь перемес-
тить его в какое-то иное место. Как правило, за самыми разнооб-
разными доводами стояло лишь опасение, что притягательный для
многих объект увеличит нагрузку общественного транспорта в
«нашем» направлении.
За 1970-1980-е гг. многое изменилось в профессиональном соз-
нании архитекторов. Ушло представление о самоценности нового.
Широкое распространение получил «средовой подход», при котором
Преобразования пространственной структуры Москвы 291
архитектурный объект рассматривается не как самодостаточное не-
что, но как интегральная часть комплексной среды, отмечающая оп-
ределенную стадию в последовательности развития. Примером по-
добного рода стало здание Театра на Таганке (1974-1981, архит.
А. Анисимов, Ю. Гнедовский, Б. Таранцев). Здесь, собственно, не
строился новый объект. Крупное здание как бы постепенно выра-
щивалось, кристаллизовалось по мере последовательной реконст-
рукции старого квартала. При этом не прерывалась работа теат-
рального коллектива под руководством Ю. Любимова, создание ко-
торого было связано с этим местом (первоначально театр использо-
вал старый кинозал, расположенный в квартале). Здание органично
включило в себя старые фрагменты. Его драматичный образ стро-
ится на их сочетании и взаимодействии с новым. Парадоксально,
что ортодоксы охранительства пытались препятствовать реализа-
ции и этого объекта, хотя вполне заурядные постройки начала сто-
летия, включенные в его систему, стали частью композиции, не
только обладающей высокой эстетической ценностью, но и несу-
щей сложные пласты культурных значений.
♦ ♦ ♦
Опыт развития Москвы в советский период показал, с одной
стороны, опасности безоглядного «прогрессизма» в градострои-
тельстве, с другой — потери, которые может понести город в
стремлении обратить его в недвижное окружение, не отвечающее
динамике жизненных процессов. Качание маятника от прогрессиз-
ма к охранительству и обратно имело свои причины. Но сокраще-
ние до минимума амплитуды колебаний необходимо для здорового
городского организма. Одним из интересных эпизодов истории
строительства Москвы стало создание высотных зданий-ориенти-
ров на рубеже 1940-х и 1950-х гг. Новые крупные объекты были
введены в город для того, чтобы возродить утраченные качества его
системы.
Принцип поддержания традиционных качеств городской среды
и индивидуальности города введением соответствующим образом
сформированных и размещенных новых элементов имеет универ-
сальное значение. В Москве 1940-х гг. он был применен в надле-
жащее время и в соответствующих местах. И как бы ни относиться
к концептуальному историзму, определившему облик этих небо-
скребов, их воздействие на пространственную систему Москвы
292
Раздел 11
было значительным и благотворным. Принцип этот может и должен
использоваться далее. Сейчас проектируются новые крупные объ-
екты, которые должны помочь упорядочению хаотичной среды
площадей у Курского и Павелецкого вокзалов. Возможно, следова-
ло бы вернуться к тому, что делалось в конце 1940-х гг. и рассмот-
реть варианты расширения связной системы высотных ориентиров,
выявления ими всей трассы Садового кольца и структурирования
периферийных зон. Принцип растущего дерева, сохраняющего ин-
дивидуальность на каждом этапе роста, безусловно, плодотворен и
универсален. Он помог решению проблем Москвы в 1940-е гг.
Трансформированный в соответствии с изменившейся ситуацией,
он может быть плодотворен и в дальнейшем.
Примечания
1. Строительство Москвы. 1935. № 7-8. С. 11.
2. Строительство Москвы. 1932. № 8-9. С. 9.
3. Подробнее см. в разделе «Историзм и квазиутопия».
Раздел 12
Архитектура и сценография.
Средообразуюшая
и образоформируюшая роль
сценографии в художественной
культуре XX века
Вопрос о взаимодействии архитектуры и сценографии внешне
выглядит простым и едва ли не очевидным в силу вековой соприча-
стности друг другу этих видов творчества. Действительно, ведь уже
сам термин «сценография» в истоках своей этимологии происходит
от греческого «скена» — названия маленького здания, расположен-
ного за орхестрой, в котором переодевались актеры древнегрече-
ского театра и на фоне которого они играли свои спектакли.
По-видимому, именно с эпохи древнегреческого театра стано-
вится актуальным специальное стабильное материальное оформле-
ние сценического пространства в отличие от чисто символического
его обозначения в более ранних театральных системах, непосредст-
венно связанных с древними ритуалами, с широким использовани-
ем «играющих» атрибутов. В самых древних формах театра, еще не
отделившихся от ритуала, сценическое пространство символически
обозначалось как, например, круг или просто располагалось на
площадке среди жилищ, на рынке, во дворе храма, позднее — на
городских площадях.
Круглая форма орхестры в древнегреческом театре сохраняет
связь с магической ритуальной формой круга, но становится уже са-
мостоятельной архитектурной формой — важнейшим элементом
театра, с его уже выявившимся и утвердившимся разделением наро-
294
Раздел 12
да на актеров (включая хор) и зрителей. Все архитектурные формы и
элементы сценического пространства получали свое постоянное
символическое значение, в основе которого лежали древние мифоло-
гические представления о «правом» и «левом», «внутреннем» и
«внешнем», «сакральном» и т. п. В театре, уже отделившемся от ри-
туала и становящимся искусством, символические значения элемен-
тов сценического пространства постепенно становятся чисто худо-
жественными условностями. Так, пароды — проходы для хоревтов и
персонажей между скеной и зрителями — в зависимости от их рас-
положения справа или слева от зрителей осмысливаются как движе-
ние либо внутрь изображаемого в представлении города, страны,
либо — вовне. «Кажется возможным высказать предположение, —
пишет по этому поводу Вяч. Вс. Иванов, — что и самая простран-
ственная форма театрального комплекса, образованная орхестрой
(и находившимся на ней алтарем) и скеной, изображавшей обычно
фасад здания, или проскением, явилась результатом позднейшего
„понятийного“ преобразования древних структур, унаследованных
от пространственной образности мифопоэтической эпохи»1.
Заметную структурализацию театрального пространства истори-
ки связывают с появлением в начале V в. до н. э. трагедий Эсхила: с
введением второго актера, свободным движением их по сцене, сменой
эпизодов, сопровождавшейся переменой костюмов и пр. В это время
«алтарь постепенно теряет значение центра, организующего вокруг
себя все действие, и заменяется в каждом отдельном случае сооруже-
нием, всего лишь атрибутирующим место происходящего (гробница
Дария в ,Лерсах“, надгробие Агамемнона в „Хозфорах“, кумир Афи-
ны в „Эвменидах46 и т. д.). Центром пространственного тяготения ока-
зывается здание скены, стена которого получает декоративное оформ-
ление из колонн и портиков, обрамляющих один или три входа.
...Скена, возникшая как принципиально замкнутое для зрите-
ля, казалось бы, вспомогательное сооружение, интенсивно форми-
рует вокруг себя пространство действия»2.
Здание скены и трактовалось в спектаклях именно как здание и
соответственно декорировалось как важное для представления зда-
ние: храм, дворец, жилище семьи... Возможно, именно от теат-
ральной декорации происходит и античный жанр архитектурного
изображения вообще: «Скенография есть рисунок фасада и картина
внешнего вида будущего здания, сделанного с надлежащим соблю-
дением его пропорций»3.
Архитектура и сценография
295
С декорированием скены (по-видимому, живописными панно
«пиноками») связано и легендарное свидетельство о первом в исто-
рии перспективном изображении архитектуры (одновременно яв-
лявшимся и решением собственно архитектурного пространства
просцениума), также восходящее к трактату Витрувия «Об архи-
тектуре». Без анализа текста Витрувия, дающего некоторое пред-
ставление о декорации, устроенной Агатархом для постановки од-
ной из трагедий Эсхила, которая таким образом изображала здания
на плоских фасадах скены, что они воспринимались уходящими в
глубину, не обходится, вероятно, ни одна работа по истории пер-
спективы. Причем, для позднейших исследователей существенным
оказался и факт «рождения» перспективы именно в сценографии, в
театре, а не в живописи, например.
Так, обсуждая в работе «Обратная перспектива» версию про-
исхождения перспективы, представленную в трактате Витрувия,
П. А. Флоренский писал: «Корень перспективы — театр, не по той
только историко-технической причине, что театру впервые по-
требовалась перспектива, но и в силу побуждения более глубоко-
го: театральности перспективного изображения мира»4. О рассу-
ждениях Флоренского по поводу иллюзорности театра и связи с
этим перспективного изображения пространства скажем ниже,
здесь же вернемся к теме взаимоотношений архитектуры и сце-
нографии.
Мы можем констатировать, что уже с эсхиловских времен род-
ство архитектуры и сценографии — рождение второй из первой —
очевидно и неоспоримо. В дальнейшем их взаимоотношения не
всегда складывались так ясно и просто. Искусство театрального
оформления не всегда существовало в столь наглядной близости к
архитектуре. Известно, что если рассматривать взаимоотношения
архитектуры и сценографии в течение веков развития, рисунок их
взаимопритяжений и взаиморасхождений постоянно менялся. То
начинало превалировать архитектурное (конструктивное, простран-
ственное) мышление, то на передний план выступало чисто зри-
тельное решение зрелища (цветовое, декоративное оформление
действия). В средневековых системах ведущим началом было сим-
волическое осмысление пространства театрального зрелища: на-
пример, символика вертикали «рай — ад». Отголоски такого отно-
шения сохранялись и позднее, например, в пространственной орга-
низации шекспировского «Глобуса».
296
Раздел 12
Во Флоренции XV в. театральное пространство заново рожда-
лось как специфическое пространство театрального зрелища вме-
сте с отделением театра на сей раз уже не от языческого ритуала, а
от церковного священного представления. «Я повторяю, „театраль-
ное пространство*4, а не „история театров44», — писал В. Франкетти
Пардо по поводу выставки «Театральное пространство во Флорен-
ции XV-XVI веков», устроенной профессором Дзордзи, — «по-
скольку именно вокруг флорентийских спектаклей от Брунеллески
до Альфонсо и Джулио Париджи возникает само понятие „театраль-
ного пространства44 как постоянного типологического признака ар-
хитектурного сооружения; возникает в результате процесса, которым
Дзордзи считает специфическим вкладом флорентийской культуры в
сложение представления о „Театре44 как специфическом здании;
представления, утвердившегося в последующие столетия, просуще-
ствовавшего до начала XX в. и сохранившего свое значение (хотя и с
некоторыми оговорками) вплоть до сегодняшнего дня»5.
Мы знаем, что и тип театрального здания, и еще больше свой-
ственный ренессансному театру способ восприятия и трактовки
пространства существенно влияли на архитектуру Ренессанса (на
планировку зданий и на образ и структуру города), а также на
принципы изобразительности той эпохи. Именно на это время
пришлась кульминация перспективного способа изображения, за-
родившегося много веков назад в античном театре. Как наследие
Ренессанса — как традиции классицизма — это влияние прошло
через европейскую культуру последующих столетий.
Уже с эпохи Ренессанса, хотя возможно лишь на ее перепаде к
маньеризму, началось движение театрального оформления в сторо-
ну декоративности и иллюзорности, создаваемыми целиком средст-
вами живописи или приемами архитектурной декорировки, органи-
зованной по принципу живописной иллюзорности, что, в свою оче-
редь, отражалось на эволюции архитектурных форм. Само же теат-
ральное оформление в послеренессансный период все чаще и за-
метнее эмансипировалось от воздействия архитектуры, сближалось
с живописью в принципах и средствах создания сценического про-
странства. Кульминация этой тенденции, по-видимому, пришлась
на конец XIX - начало XX в. — в отечественной культуре на пери-
од «Мира искусства».
Как ни парадоксально, кульминация живописности пришлась
на пору уже начавшейся новой революции в сценографии — ее пе-
Архитектура и сценография
297
рехода в новое качество сценографии как самостоятельного искус-
ства, как «действенной» сценографии после веков декорирования и
изображения места действия. Но и новый поворот театрального
оформления в сторону архитектуры, произошедший в начале наше-
го столетия, специалисты также связывают с рождением искусства
сценографии в узком и специальном значении этого слова — как
самостоятельного вида искусства.
В данной работе не выдвигается цель проследить взаимоотно-
шения архитектуры и сценографии (в широком понимании этого
термина) на протяжении всей истории искусств. Здесь ставится за-
дача выявить некоторые закономерные особенности этих отноше-
ний на ограниченном материале отечественной художественной
культуры XX в., что разумеется, не исключает и даже предполагает
более широкое действие закономерности таких взаимосвязей.
Итак, к концу XX в. театроведы пришли к убеждению, что где-
то в начале прошлого столетия сценография как специфическое ис-
кусство, наконец, родилась окончательно, выделилась в самостоя-
тельный вид искусства. С чем связано такое суждение, что же все-
таки произошло?
Прежде всего, оговоримся, что мы не ставим своей целью ут-
верждать или опровергать это теоретическое положение советских
театроведов6. Мы используем его здесь как рабочий инструмент,
помогающий оценить важность и глубину перестройки и самой об-
ласти театральной декорации и всего комплекса взаимоотношений
различных видов искусства на переломе веков. Теория сценографии
еще только формируется. И хотя 1970-1980-е гг. дали целый ряд
интересных теоретических работ по этой проблематике (можно на-
звать имена В. Березкина, А. Михайловой, Э. Кузнецова и др.), в це-
лом, пожалуй, все еще сохраняется положение, описанное в сере-
дине 1970-х гг. М. Эткиндом: «Давно обособившийся, сложивший-
ся и, несомненно, завоевавший право на художественную автоно-
мию этот вид творчества не может похвастаться — по сравнению
со своими родственниками в семье искусств — сколько-нибудь раз-
работанной теорией. Он редко привлекает внимание ученых, тео-
рий здесь ровно столько, сколько художников»7.
Нет необходимости говорить о том, что годы, с которыми свя-
зывают новое рождение сценографии, были временем, когда гото-
вились достаточно радикальные изменения в области архитектуры,
новаторские направления которой в первой трети XX в. входили в
298
Раздел 12
историю с прочно утвердившимся эпитетом «новая архитектура».
Процесс подготовки новых качеств архитектуры в лоне других ви-
дов искусства, прежде всего в живописи (но и в сценографии), не-
однократно описан и проанализирован в литературе.
Задачей таких анализов, как правило, было показать накопле-
ние и кристаллизацию новых качеств архитектуры. Попробуем
здесь восстановить справедливость и посмотреть на сценографию
той поры как на самостоятельный вид искусства, решавший свои
собственные проблемы, не сводимые лишь к «вынашиванию» но-
вой архитектуры. Ведь именно в силу решения собственных задач
сценография (так же, кстати, как и живопись) и оказалась в состоя-
нии снова влиять на движение архитектуры.
Сценография стала сценографией (в узком значении этого сло-
ва) благодаря тому, что изменилась ее задача и ее место в спектакле.
В это время, несомненно, возросла функция пространственной ор-
ганизации действия (не забудем, что предыдущий этап — условно
безразличное обозначение либо натуралистически тщательное изо-
бражение места действия). Значение этой функции было замечено
еще тогда — в начале века. Так, например, Г. Лукомский, определяя
сценографию «как живописное украшение сцены», вводит и термин
«архитектография» для обозначения архитектурных аспектов теат-
рального оформления8.
Однако само по себе это качество, столь важное с архитектур-
ной точки зрения, вовсе не главное с позиций развития театра и те-
атрального оформления. С этой позиции важнее то, что вместо соз-
дания традиционного «места действия» целью сценографии стано-
вится создание образа спектакля — раскрытие смысла сценическо-
го действия. В. Березкин называет эту новую сценографию «дейст-
венной сценографией»9. Действенной сценографии понадобились
новые художественные средства. Причем для достижения вырази-
тельности как раз не важно, будет ли спектакль решен чисто живо-
писными приемами и плоскостно или через разработку простран-
ства и формирование реальных объемов, важно соответствие реше-
ния образу целого. Если принять это, то становится ясно, почему
современники приветствовали самые разные по приемам и сцено-
графической стилистике спектакли как новаторские и выдающиеся
произведения. Все дело было в осознании и демонстрации художе-
ственных приемов — характернейшей черты формального метода в
искусстве.
Архитектура и сценография 299
«Обособление сценографии, — описывает процесс ее станов-
ления Березкин, — выражалось в разработке своих специфических
средств выразительности, своего материала — сценического про-
ю
странства, времени, света, движения» .
Отнюдь не случайно осознание этого перелома в истории деко-
рационного искусства произошло в нашей стране в 1970-е гг. Дело
не только в том, что это было время интересных поисков в совет-
ской сценографии. Важнее, мне кажется, то, что это было время
станковизации искусств (появления станковых форм разных, от-
нюдь не приспособленных для этого видов искусства, таких как
книжная иллюстрация или моделирование одежды и т. п.), сопро-
вождавшейся острым вниманием к специфике средств и форм раз-
ных видов творчества, повышенной рефлексией в этом плане.
Именно тогда осознали окончательно важность происшедшего мно-
го лет назад, прежде это воспринималось просто как «расцвет».
Если согласиться с тем, что главной целью новой самоценной
сценографии было создание образа спектакля, не покажется стран-
ным и тезис о том, что она возникала в самом непосредственном
контакте с обновлением режиссуры. Историки театра обычно пи-
шут об этом как об едином процессе. В идеале для этой роли был
нужен художник-режиссер, какими были и Э. Г. Крэг, и А. Аппиа.
Сам Крэг, подводя итоги нового движения в театре, писал в 1930 г.
в книге «Генри Ирвинг»: «Но дабы никто из моих читателей не
сделал из сказанного мною неверного вывода, что кто-либо из анг-
личан может претендовать на роль вдохновителя всего европейско-
го театра, напомню, что во всех краях, где я побывал, я познако-
мился с замечательными театральными деятелями, имевшими свои
собственные блестящие идеи, которые они осуществляли на прак-
тике — кто в маленьких, кто в больших театрах; одни делали это в
арендованном театральном здании, другие — в специально постро-
енном для них театре, третьи — скитаясь, как и я по свету, распро-
страняя повсюду свои идеи и получая взамен одни много, другие —
почти ничего. Двоих из них я назову отдельно: Айседора Дункан и
Аппиа. Первыми взялись за дело обновления искусства театра Ста-
ниславский, Рейнгардт, Мейерхольд, Фортуни, Роллер, Линнебах и
Дягилев со своей труппой, затем у них появились последователи:
Копо, Питоев, Таиров, Комиссаржевский, Пискатор, Жуве, Бати и
другие. (В числе упомянутых нет драматургов, ибо драматурги в
новом движении не участвовали: они ведь и так само совершенст-
300
Раздел 12
во! — Примеч. авт.) Среди них один мог быть актером, другой —
художником-декоратором, третий — режиссером, четвертый — им-
пресарио... Но все они великие и малые, стремились сказать новое
слово в драматическом искусстве»11.
Роль самого Крэга и упомянутого им одним из первых А. Аппиа
была особенно велика. Оба выступали и как режиссеры, и как сцено-
графы. И хотя русский театр тех лет имел свою собственную логику
развития и свои неоспоримые достижения, важно подчеркнуть, что
работы Крэга и Аппиа были достаточно хорошо известны в России.
Для убедительности наших рассуждений о театральной реформе
начала века попытаемся самым кратким образом (и с неизбежными
потерями) изложить суть новаций Э. Г. Крэга. Самым главным, по-
видимому, был переход от работы со сценографией как средством
изображения и обозначения к использованию ее как средства выра-
жения эмоций, символики и философии спектакля. Разумеется, мо-
мент выразительности и суггестии всегда присутствует в художест-
венном произведении, и чем оно талантливее, тем сильнее это при-
сутствие. Разговор идет именно о приоритетах и акцентах, о созна-
тельности такой работы. И у Крэга, и у многих других мастеров это
проявилось в новом понимании пространства — в переходе от его
натурального (натуралистического) восприятия к сознательному, об-
разному его использованию как материала, как формы, как языка.
В ранних спектаклях Крэга (1891-1906) еще присутствуют ре-
альные образы вещей — элементы архитектуры и мебели, хотя они
и погружены в общую атмосферу, созданную контрастами и игрой
света. В зрелых его работах 1910-х гг. и далее декорации уже бес-
предметны: он работает с геометрическими объемами, с помощью
света строя из них экспрессию пространства. Как правило, это вы-
тянутое вверх пространство (беспредметная готика?). Сценография
Крэга воспринималась эмоционально и иррационально в духе сим-
волистской эстетики.
Для нашей темы интересно отметить, что одним из источников
реформаторской сценографии Крэга был театр Ренессанса и, в ча-
стности, «Трактат об архитектуре» С. Серлио, где он мог увидеть
воспроизведения итальянской архитектуры и театральных декора-
ций, изображавших городские пейзажи. Первое, что он после этого
ввел в свою сценографию, был пол, расчерченный сокращающими-
ся по законам перспективы квадратами. «Вытянутые квадраты на-
вели Крэга на мысль о формировании пространства при помощи
Архитектура и сценография
301
поднимающихся снизу объемных параллелепипедов. Поднятые на
разную высоту, они создают пластически выразительный рельеф
сцены и архитектурные декорации, служащие опорными точками
для актеров; опущенные вниз, образуют глубокие колодцы в план-
шете сцены»12.
Постепенно Крэг все больше и больше увлекался идеями дина-
мики сценического пространства — иллюзорной (с помощью свето-
вых эффектов) и реальной (с помощью механизмов). Целью, как мы
уже говорили, было полное слияние всех элементов спектакля.
Обновленный театр начала XX в. сыграл важную роль в общем
процессе художественного развития. К. Рудницкий в этой связи гово-
рил о «театральной экспансии»13. Эта роль оставалась за ним и в
дальнейшем, хотя с десятилетиями менялись аспекты и формы взаи-
модействий искусств. Попытаемся определить важнейшие из них.
Сценография
как лаборатория архитектуры
Художественный аспект.
Моделирование пластической формы
Уже разговор о сценографии Крэга подвел нас к рассмотрению
формотворческого аспекта взаимодействия сценографии и других
искусств. В самых общих чертах можно следующим образом опи-
сать состояние этой проблемы применительно к отечественной ху-
дожественной культуре. Как историческая она уже разработана на
материале русского искусства начала XX в. Многочисленные ис-
следования показывают, что в рамках авангардных направлений
живописи, в ходе ее эмансипации от сюжетно-повествовательных и
изобразительных задач — в процессе формирования ее как бес-
предметного искусства, — т. е. в русле формотворческой деятель-
ности авангарда были отработаны пластические формы, средства
их подачи, композиционные схемы, общие для разных видов ис-
кусств. Что еще важнее, было найдено образное выражение этого
творчества «чистой» пластики. Общим методологическим основа-
нием формотворчества для всех направлений авангарда был фор-
мальный или, точнее, формально-аналитический метод, предпола-
гавший, во-первых, приоритет выразительных возможностей и са-
моценной пластической содержательности форм над задачами сю-
302
Раздел 12
жетной и изобразительной мотивировки произведения и самих
форм, а во-вторых (особенно в условиях российского авангарда
1910-х гг.), расчленение формы до элементов и экспериментирова-
ние с элементами.
Все это либо непосредственно, либо через системы промежу-
точных, шарнирных механизмов (сценография, аналитические дис-
циплины художественной педагогики, различные формы научно-
художественной экспериментальной работы) послужило формиро-
ванию новых архитектурных форм и, что еще важнее, все это спо-
собствовало утверждению принципа работы с чистыми геометри-
ческими объемами после векового развития архитектуры в русле
ордерной традиции. Все эти процессы, как уже говорилось, доста-
точно подробно описаны.
Для нас важно, что и сценография, и собственно театральное ис-
кусство также участвовали в процессе вычленения отдельных средств
художественной выразительности и экспериментирования с ними.
Причем эта эмансипация новой сценографии от буквального следова-
ния сюжетно-содержательной стороне спектакля вела ее и вообще
театр к воскрешению архаических форм зрелища, к попыткам вер-
нуть старинные «игровые» формы сценографии. Режиссеры и худож-
ники умудрялись виртуозно соединять архаику с крайним новаторст-
вом. Это сочетание было характерно и для отдельных направлений
изобразительного искусства, например, для неопримитивизма.
Сопоставление русского и европейского вариантов развития
новой сценографии уточняет общеизвестную и многократно опи-
санную картину экспансии живописи. Так, учет опыта Крэга пока-
зывает, что к работе с геометрическими (отвлеченными?) формами
сценография приходила и независимо от эволюции живописи.
Однако представляется, что для России соотнесенность теат-
ральных решений с формальными экспериментами в авангардной
живописи (и вообще зависимость сценографии от живописи в те го-
ды) доказана неопровержимо. Симптоматично, что, с одной стороны,
в России сценографами выступали именно художники-живописцы
или архитекторы, но не сами режиссеры. Ни Станиславский, ни
Мейерхольд не были авторами сценографии своих спектаклей —
только вдохновителями художников. С другой стороны, театр не был
случайным и периферийным явлением в художественном процессе.
Он был центральным и необходимым участком художественной дея-
тельности. Трудно найти крупного представителя русского живопис-
Архитектура и сценография
303
ного авангарда, не участвовавшего в театральных постановках. Мно-
гие художники-живописцы по праву считаются и крупнейшими те-
атральными художниками тех лет — Я. Головин, Г. Якулов, А. Экс-
тер, А. Веснин и многие другие. И беспредметную сценографию в
русском театре создали именно живописцы. Логика развития про-
слеживается по нескольким линиям: от «Победы над солнцем»
1913 г. (сценография Малевича к постановке оперы М. Матюшина
по либретто А. Крученых с прологом В. Хлебникова) к «Зорям»
1920 г. (постановка В. Мейерхольдом пьесы Верхарна, сценография
В. Дмитриева) и далее к конструктивистским спектаклям Мейер-
хольда—Поповой; параллельно можно наметить линию таировских
спектаклей Камерного театра, где сценографами выступали Экстер,
Веснин, братья Стенберги. Можно проследить и другие линии на-
растания тех же качеств. Причем развитие театра и особенно сцено-
графии хорошо согласуется с эволюцией самой живописи.
В силу общекультурных причин главным итогом театрального
эксперимента 1910-1920-х гг. (прежде всего в области сценографии)
оказалось сложение конструктивизма как общехудожественного на-
правления, главными областями его действия стали архитектура и
производственное искусство. На материале внутритеатрального раз-
вития конструктивизма всего нагляднее можно проследить формо-
творческий аспект взаимоотношений сценографии и архитектуры.
Не повторяя полностью уже сказанного ранее14, ограничимся
здесь лишь схематическим изложением проблемы в существенном
для данной работы плане. Многочисленные исследования показали,
что так же, как и в живописи, на смену кубизму и кубофутуризму
(через его алогичную стадию) пришли супрематизм и конструкти-
визм, и в авангардной сценографии через кубистические и кубофу-
туристические (по структуре форм) решения Экстер («Фамира Ки-
фаред» Анненского в постановке А. Таирова) и Веснина («Благо-
вещенье» Клоделя, «Федра» Расина — оба в постановке Таирова),
В. Дмитриева («Зори» Э. Верхарна в постановке Мейерхольда), со-
вместный проект Поповой и Веснина оформления массового дейст-
ва («Борьба и победа», постановка Мейерхольда) пришли к форме и
стилистике конструктивизма: «Великодушный рогоносец» Поповой
(пьеса Кроммелинка, постановка Мейерхольда), «Человек, который
был Четвергом» Веснина (пьеса Честертона, постановка Таирова),
«Озеро Люль» В. Шестакова (пьеса А. Файко, постановка Мейер-
хольда) и многие другие.
304
Раздел 12
Как в произведениях живописи (в том числе и в полотнах на-
званных выше художников) вырабатывались нормы строгого гео-
метризма, рациональной выверенное™ композиций, как правило,
не равновесных, асимметричных, с острым чувством динамики, так
выкристаллизовывались приемы оперирования не массой, а четко
ограниченными объемами, напряженными структурами или даже
энергетически заряженной линией — т. е. пространственной графи-
кой. Иногда эти процессы шли параллельно, чаще сценография в
реальном пространстве и материале разворачивала намеченное ра-
нее живописью. Общими усилиями был создан язык конструкти-
визма, который был языком всего стилевого направления.
Но помимо языка (хотя это возможно главное для авангарда,
развивавшегося на основе формального подхода), существенным
фактором была и выработка новой конструктивистской образности,
новых, характерных для этого направления метафорических ходов.
Для конструктивизма главным было образное освоение техники.
Оно происходило через уподобление сценических установок рабо-
тающим механизмам (не случайно возник и термин «станок»).
Мельница, представшая в спектакле Поповой в виде конструкции —
мобиля, может служить эмблемой такого освоения.
Технические, машинные образы-аллюзии пришли в архитекту-
ру уже позднее в снятом, отработанном в сценографии виде. Игро-
вая стихия театра, полная отрешенность новой сценографии от ве-
кового груза традиций (это освобождение произошло в живописи и
сценографии раньше, чем в архитектуре) дали сценографии воз-
можность отрабатывать и обыгрывать конструктивные формы,
ритмические и визуальные нормы, а также образные решения и ме-
тафоры для будущих архитектурных сооружений.
И если установка Поповой была первой реализацией в театре
опыта образной подачи элементов строительных конструкций, на-
копленного в станковых произведениях, то сценография Веснина
была уже развернутой и сложной разработкой темы.
Действительно, в станковых работах, главным образом на
плоскости, и самой Поповой, и Экстер, и многих других художни-
ков к 1921 г. были уже многократно освоены, опробованы компо-
зиции из линейных элементов (элементов, напоминающих лучи,
канаты, проволоку, рейки, балки и т. п.). На выставках ОБМОХУ
А. Родченко, Стенбергами, Иогансоном уже были показаны объекты-
конструкции, непосредственно переносящие в станковое творчество
Архитектура и сценография
305
образы и формы строительных конструкций (узлы, фермы и пр.).
Попова перенесла эту тему на сцену, реализовав ее в объемном со-
оружении, соразмерном человеческой фигуре. Никогда ранее не
присутствовавшая в театре тема технического индустриального
объекта была задана.
Веснин в своей работе укрупнил эту тему до масштабов совре-
менного индустриального города. Мотив фермы или ажурной кре-
стовой (фахверковой) конструкции, введенный Поповой, был ис-
пользован Весниным при возведении стройного компактного со-
оружения, представляющего собой одновременно единство и мно-
жество, дом и город, уже знакомый по интерпретациям в культуре
тип-образ «капиталистического города» и непривычный, неведо-
мый мир новой, еще не существовавшей архитектуры.
И разговор о стилистике конструктивизма, и некоторые момен-
ты конструктивистской образности выводят нас уже к следующему
аспекту взаимодействия сценографии и архитектуры — аспекту
эстетическому.
Но прежде несколько слов о соотношении исследовательских
концепций и реальности. Дело в том, что выделенная с позиций
истории новаторских течений в архитектуре 1910-1920-х гг. логика
сценографической эволюции тех лет абсолютно верна, но отнюдь
не охватывает всей полноты даже ее формальных и структурных
открытий. И здесь надо учитывать несколько моментов:
• Многообразие самого русского художественного авангарда.
В качестве иллюстрации можно напомнить о двух театральных
образах — замысел постановки Кандинским по его либретто
балета «Желтый звук» (1914) и уже упоминавшуюся сценогра-
фию Малевича для оперы «Победа над солнцем» (1913). За
контрастной стилистикой — острая, подчеркнуто геометрич-
ная, дробящаяся, контрастная в цвете форма Малевича и лью-
щаяся, извивающаяся, представляющая череду гармоничных
цветовых тем, «органическая» у Кандинского — обнаружива-
ется принципиальное родство, решение общей стадиальной за-
дачи: абстрагирование форм от изобразительности, полное
включение человеческих фигур в пластику спектакля как еди-
ного целого.
• Сценографией того времени были накоплены такие качества,
которые не были востребованы архитектурой последующих лет
и вследствие этого выпали из поля внимания архитектуроведов
21 Зак. 303
306
Раздел 12
(хотя они отмечены историей театра). Исследование сценогра-
фических решений, «побочных» с точки зрения магистрально-
го развития архитектуры 1920-х гг. — очередная задача в рам-
ках настоящей темы.
• Если анализировать сценографическую форму в ее самоценно-
сти (а нс с точки зрения взаимовлияний искусств), то наглядно
выступает ее способность к органичному соединению разно-
стильных разнокачественных начал, трудно достижимое дру-
гими видами искусства. Собственно это и есть высококачест-
венная стилизация, изначально присущая театру (и сценогра-
фии) и развитая всей историей его существования. Архитектор
А. Веснин предстает перед публикой в двух самостоятельных
ипостасях: неоклассика и конструктивиста. Но он же — поста-
новщик «Федры» — неоклассик и авангардист в одном лице.
«Высокий цилиндр справа и несколько объемных прямоуголь-
ников слева держали равновесие на концах просторных площа-
док, стекающих двумя потоками вниз, навстречу друг другу.
Цилиндр интерпретировал классическую колонну. Композиция
объемов давала схему античной архаики. Цветовые полотнища,
опускавшиеся между ними к острому приподнятому углу верх-
ней площадки и пересеченные двумя толстыми тросами, созда-
вали абрисы парусов, канатов и носа греческого корабля», —
описывал сценографию Веснина А. Эфрос. «Это была, в самом
деле, неоклассика кубизма», — утверждал он15.
Оба начала абсолютно гармонично сосуществовали в этом
спектакле: исследователи архитектуры авангарда числят его по раз-
ряду авангардистских, исследователи театральной неоклассики вос-
принимают как свой материал. Гибкость сценографии как вида ис-
кусства демонстрирует воочию — на уровне структуры и формы —
подозреваемое многими исследователями глубинное родство аван-
гарда и неоклассики, родство, которое по вполне понятным причи-
нам становится все более очевидным в эпоху постмодерна.
Эстетический аспект
Моделирование эстетических установок и ценностей
Формотворческий аспект, вероятно, в силу своей очевидности,
буквальности чаще других выходит на поверхность при исследова-
нии процессов взаимодействия искусств и художественной эволю-
Архитектура и сиенография
307
ции в целом. Особенно, когда речь идет об архитектуре. И особенно
эта буквальность хорошо работает при исследовании авангардных
направлений в искусстве, где все стягивается к форме.
Однако мне представляется, что еще более важной функцией
сценографии XX в. является моделирование эстетических норм и
установок. Действительно, когда мы говорим об образном освое-
нии техники в искусстве конструктивистов, мы затрагиваем лишь
видимый край эстетической проблемы — эстетического отноше-
ния к технике и индустрии, эстетического освоения технической
реальности.
Когда мы отмечаем новое, непривычное отношение к материа-
лу и рабочему приему — обнажение приема, так характерное для
стилистики авангарда и особенно конструктивизма, за этим тоже
стоят вопросы эстетики: отношение к правде и иллюзии, к декора-
тивности, к труду. Все это, в свою очередь, восходит к проблеме
эстетизации новых социальных отношений, порожденных и новы-
ми формами цивилизации (индустриализация, урбанизм), и специ-
фическими социальными отношениями послереволюционной Рос-
сии (программный демократизм, милитаризм, культ физической
культуры, физического труда и т. д.).
Все эти моменты порознь хорошо описаны в истории искусст-
ва: в истории театра, архитектуры, производственного искусства.
Поэтому для демонстрации теоретических положений хотелось бы
обратиться к сравнительно малоисследованному с этих позиций
материалу художественной культуры конца 1920-х, подготавли-
вающих эстетику 1930-х гг. Попытаемся показать некоторые при-
меры аккумуляции театром проблем, заданных общественным раз-
витием, и формулирование в ответ эстетических решений. Через
сценографию и стилистику спектаклей эти решения приходили к
зрителю, усваивались им в качестве эстетических ценностей и
норм. Превращаясь в общекультурные, эти ценности в дальнейшем
воплощались и в архитектуре. Временное отставание архитектуры
от сценографии (так же, как от проектирования предметной быто-
вой среды и ряда других видов творчества) очевидно в силу боль-
шей сложности и длительности процессов реализации архитектур-
ных произведений.
Сразу же следует подчеркнуть, что эти эстетические ориентиры
вовсе не всегда воспринимались положительно и пропагандирова-
лись их авторами (теми, кто их уловил и сформулировал). Их скорее
21*
308
Раздел 12
можно определить как «дух эпохи», как неизбежное вхождение в
жизнь и утверждение в ней некоторых представлений, мимо которых
не может пройти художник. Для творческого человека это улавлива-
ние носящегося в воздухе и претворение в художественный образ
чаще (а может быть всегда?) происходит как необъяснимая потреб-
ность, без заметных внешних толчков, почти иррационально.
Так, при анализе режиссерских работ Мейерхольда странным и
неподготовленным выглядит появление нового качества в его по-
становке «Ревизора» в декабре 1926 г. В холодном, но и роскошном,
блестящем (столичном, а не провинциальном) образе николаевской
(Николая I) России, возможно, непонятным и для самого режиссера
образом стал лепиться стереотип будущего советского чиновничье-
го официоза с его державностью, сословной респектабельностью и
снобизмом, недосягаемостью для обывателя.
Мы не случайно выбрали для иллюстрации этой темы творче-
ство Мейерхольда. Прежде всего потому, что у самого Мейерхольда
ничего не делалось случайно, без рефлексии, по инерции. Глубин-
ные мотивы появления тех или иных образов могли быть туманны
для самого мастера, но однажды возникший образ он претворял в
жизнь абсолютно четко и сознательно, случайные обстоятельства
не могли увести его от желанного решения.
И вот разительное отличие «Ревизора» от совсем недавних нова-
торских и экстравагантных постановок Мейерхольдом классики —
«Леса» (1924), «Доходного места» (1923), «Смерти Тарелкина»
(1922) — доказывает не просто эволюционное движение, но глубо-
кий слом восприятия действительности и появления новой (неконст-
руктивистской и неавангардной) эстетики. Как продолжение старой
стилистики еще и дальше возникали конструктивистские работы
(«Клоп», «Командарм-2», 1929; «Баня», 1930), но активно стали на-
капливаться новые черты. Как всегда, этот мастер раньше и острее
других почувствовал изменение общественной атмосферы, полнее и
цельнее выразил новые, еще только складывающиеся эстетические
отношения в обществе, один из первых участвовал своими спектак-
лями в формировании новых эстетических норм и ориентиров.
Итак, каковы же стали эти нормы? Дадим слово очевидцу —
критику, оценивавшему театральную эволюцию Мейерхольда на
рубеже 1920-1930-х гг. Прежде всего, в это время публику удивля-
ло общее изменение этого театра в целом, в том числе облик и ат-
мосфера его старых спектаклей, получивших во второй половине
Архитектура и сиенография
309
1920-х гг. новую редакцию. Театр вернулся к «коробке», к павильо-
ну, стал как прежде. «Для современного зрителя, зрителя 1931 г.,
впервые приходящего в театр имени Вс. Мейерхольда, — сетовал
Б. Алперс, — почти не будет разницы между сценой в „Ревизоре14 и
в „Рогоносце44 или в „Лесе44. Он не видел той, полностью обнажен-
ной сцены, с ее широкими кулисными проходами, с непокрашенной
задней кирпичной стеной, со свободными пролетами вплоть до са-
мых колосников, — той сцены, которая вызвала столько горячих
споров среди зрителей до 1924 г. Этой сцены давно не осталось в
театре: стены ее выбелены плоской меловой краской, и „Рогоносец44
идет сейчас среди ряда других конструкций, замаскированных щи-
тами или холстами»16.
Ясно, что снова решительно менялась вся театральная эстетика.
Одним из отличительных признаков спектаклей Мейерхольда эпохи
«Театрального Октября» (и всех театров, воспринявших тогда его
стилистику) был подчеркнутый динамизм действия. Причем дейст-
вовал, свободно и широко двигался именно обученный законам био-
механики актер, демонстрируя молодую энергию и акробатическую
тренированность. Теперь Мейерхольд приходит к мыслям о ценно-
сти сосредоточенной игры в самом ограниченном пространстве и без
движений. Именно в связи с «Ревизором» он утверждал: «Актер-
мастер должен уметь играть и на большом пространстве, на широких
планах (как в моем ,Дон-Жуане44) и также (Варламов и Давыдов)
долго сидя на диване (чего я добивался в „Ревизоре44). В одном спек-
такле (забыл название пьесы) Варламов почти двадцать минут играл
один, неподвижно лежа в постели, и это было блестяще.. .»17.
И вот в «Ревизоре» актеры вместе с окружающей их обстанов-
кой выезжают на сцену на маленьких платформах. Все действие
затем разворачивается в замкнутом пространстве эпизода. Заметим,
что в неторопливом и плавном движении теперь (в «Ревизоре» и
других спектаклях такого плана) пребывают уже не сами актеры,
они, как и реквизит, подчинены механическому движению теат-
ральной машины, как в античном и традиционном театре скрытой
от глаз зрителя и неподвластной действиям актеров. С установкой
из «Рогоносца», по словам И. Аксенова, «можно было играть, как с
веером или шляпой». А теперь на сцене снова орудуют скрытые
силы. Тема судьбы, тема рока?
Это наше предположение не так уж и странно. По другому по-
воду (анализируя музыкально-ритмическое построение спектаклей
310
Раздел 12
этого времени) Алперс замечает: театр Мейерхольда «становится
патетическим в своих выступлениях. В его голосе начинают преоб-
ладать трагические тона»18. Он же констатировал как общее впе-
чатление от целого ряда спектаклей: со сцены мейерхольдовского
театра «исчезла борьба»19.
Исчезла борьба, уходит динамика действия. На место публич-
ности, массовости, лозунговости, эстетике митинга и плаката при-
ходят созерцательность, сосредоточенная интимность, психология.
Но одновременно нарастает и зрелищность, картинность сценогра-
фии и спектаклей в целом. А актер, утративший динамику своих
проявлений, со всем арсеналом тонкой психологической игры
включается в общую картину, как ее, возможно, важнейшая, но все-
таки деталь. В этих новых спектаклях, где «зрелище преобладает
над действием», как замечает Алперс, «актер должен уметь в каж-
дый данный момент вкомпоновывать себя в ансамбль обстановки
как ее необходимая рассчитанная часть, деталь»20.
Мы обнаруживаем, что в этой новой театральной эстетике, воз-
вратившей спектакль в рамки сценической коробки, утихомирившей
митинговую экспрессию действия и безудержный динамизм актера-
гимнаста, чрезвычайно повышается роль сценографии, представ-
ляющей обстановку, среду, быт. Декорации, реквизит, еще недавно
здесь (и все еще во многих других театрах) свернутые и уплощен-
ные, доведенные до скелета, до схемы сценической установки, в те-
атре Мейерхольда конца 1920-х гг. начинают свое новое торжество.
В «Ревизоре» это был целый материальный мир, историческая
картина, воссозданная на сцене в стилистике П. Федотова. Вот опи-
сание Алперсом сценографии «Ревизора», по замыслу и плану Мей-
ерхольда выполненной В. П. Киселевым (а с этим описанием согла-
суются все свидетельства о спектакле): «Они (персонажи. — Н, А.)
появляются на этой площадке среди вещей своей эпохи — громозд-
кой великолепной мебели, играющей разноцветной штофной обив-
кой, глянцем красного дерева, среди превосходных стильных кос-
тюмов, граненого хрусталя и других деталей обстановки барских
усадеб и петербургских светских гостиных. Каждая вещь этой об-
становки подана со сцены как музейная редкость, как экспонат для
обозрения публики»21. В описаниях спектаклей появляются слова:
витринность, антиквариат.
В спектаклях, построенных по законам этой «новой» эстетики,
продемонстрирован, декларирован интерес к быту не как к поводу
Архитектура и сиенотрафия
311
для гротеска, но как возможность самоценной интерпретации жи-
лой среды средствами сценографии, как возможность создавать об-
разы вещей, любоваться ими — как повод для эстетизации пред-
метной бытовой среды. Среды исторической, стильной, но не толь-
ко. Это особенно заметно при сравнении трактовки «буржуазного»
быта в более ранних спектаклях как темы отрицания буржуазных
нравов, темы гибели буржуазного общества. Кульминация нового
отношения к изображению быта у Мейерхольда приходится, по-
видимому, на спектакль «Дама с камелиями» 1934 г. (план Мейер-
хольда, разработка сценографии И. И. Лейстикова), один из самых
красивых и элегантных того времени.
Итак, что же все-таки внес мастер эстетикой своих спектаклей,
поданной в большой степени через их сценографию, в художест-
венную культуру? Внес, но сначала аккумулировал нарождающееся
в обществе, а затем образно воплотил, сформулировал вполне узна-
ваемые по зрелым 1930-м гг. черты. Вместо футуристического отка-
за от прошлого со всеми его укладами и стилями — ретроспекти-
визм, возникающий как тема и образность и через саму демонстра-
цию возвращения к традиционным формам и ценностям театра.
Вместо эстетики меняющихся кадров, форсированной динамики
действия, острых, контрастных композиций торжествует статиче-
ская картинность, зрелищность. Вместо программного отрицания
быта, желания одолеть его, превратить бытовую среду в систему
функциональных установок утверждается ценность и красота
традиционной бытовой среды, ансамбля вещей, стильной обста-
новки. Этот ряд можно продолжить.
Нет необходимости доказывать, что все эти эстетические уста-
новки и принципы органично входили и в архитектурную идеоло-
гию 1930-х гг., что они оказались вполне адекватными зрелищной,
ансамблевой, парадной архитектуре 30-х, вполне согласуются с
принципами ее идеологии. Совпадают даже отдельные, казалось
бы, специфические для каждого из искусств черты. Так, представ-
ляется, что тенденция к интимизации спектаклей имела своей па-
раллелью интерес архитекторов к камерному жанру санаторных
зданий, парковых павильонов и других с характерным вниманием к
деталям, декоративной отделке и т. п.
Интереснее обсудить другое: как соотносится мейерхольдов-
ская ревизия «Театрального Октября» и конструктивистской эсте-
тики с его восприятием советской действительности второй поло-
312
Раздел 12
вины 1920-1930-х гг. Ответ на этот вопрос представляется мне
клубком противоречивых мотивов. Вынуждено кратко я бы описал
их следующим образом.
• Первый, Естественная склонность мастера к смене исчерпав-
шей себя в его глазах стилистике. Ощущение и осознание огра-
ниченности ее возможностей.
• Второй, Осознанная или бессознательная потребность в вос-
становлении единства, продолженности культурной традиции,
волевым усилием прерванной «Театральным Октябрем». Эта
потребность выглядит абсолютно естественной для мастера,
ориентированного на мировую культуру и исторические корни
театра, каким мы знаем Мейерхольда.
• Третий. Действительно менявшаяся в стране обстановка и об-
щественная атмосфера. Набирал силу класс управленцев, об-
раставший собственной субкультурой. Партийная, наркомпрос-
совская и прочая бюрократия могла порой раздражать, но могла
в целом восприниматься и достаточно спокойно как знак укре-
пления и стабилизации общества и государства.
• Четвертый. Параллельно этому, как результат уже окрепшего
нэпа, для некоторых слоев населения (в том числе и для таких
крупных деятелей искусства, как сам Мейерхольд) приходило
заметное улучшение бытовых условий, возможности органи-
зации личного быта, обретения комфорта. Со стороны идеоло-
гов начиналась (уже в самом конце 1920-х гг.) агитация за
красоту быта, модную одежду и пр. В этих условиях другими
глазами (менее контрастно) теперь воспринимались реалии
зарубежного быта и соответственно их интерпретация в спек-
таклях. Развитие этих настроений вело к сложению особого
качества культуры 1930-х гг. — ее «гедонизма», или, по выра-
жению одного из исследователей, потребности в «цветах на
22
столе» .
• Пятый. При огромной моральной силе, высокой самооценке,
свойственной таким лидерам русского революционного аван-
гарда, как Маяковский и Мейерхольд, именно им, мнившим се-
бя среди «первых» людей нового строя, особенно неприятны и
болезненны были знаки пренебрежения со стороны руково-
дства партией и страной, осознание, что их отодвигают на роль
обычных деятелей искусства, едва ли не в попутчики. Все это
Архитектура и сценография
313
гипертрофирует естественный интеллигентский скептицизм к
действиям и образу властей, к этому с годами добавляется и
более глубокое разочарование в действительности. Отсюда и та
мрачность, трагизм, который заметил Алперс (который можно
убедительно продемонстрировать на целом ряде спектаклей) и
та интимизация, тенденция к тонкой психологичности — к то-
му, что главным спектаклем 1930-х гг. стала «Дама с камелия-
ми». Характерно, что описанная тенденция отчуждения от
официоза, ухода в «чистое» творчество и т. п. сочеталась со
стремлением сохранить имидж официального художника рево-
люции, высказываться как государственный человек, знающий,
какое искусство нужно народу.
Этот список мотивов и отношений можно продолжить и даль-
ше, распутывая психологический клубок, но в этом нет необходи-
мости. Смысл этих упражнений мне видится в поисках общей для
многих мастеров той эпохи почвы сложения и эволюции творче-
ских концепций.
Стилистический аспект От формулирования
мировосприятия к стилистике формы
Как и другие виды искусства, сценография, создавая свои ху-
дожественные образы по нормам определенной эстетики, а следо-
вательно, участвуя в сложении стилистики времени, выходит на
самый общий философский уровень моделирования мировидения.
То есть через образы сценографии (как и других искусств) мы по-
лучаем возможность воспринять собственные смутные эмоции
мироощущения в так или иначе оформленном и сформулирован-
ном виде. Кодом понимания искусства служит его стилистика,
синтезирующая эстетические и формально-структурные аспекты
и мировосприятие. Можно предположить, что в силу ряда обстоя-
тельств (прежде всего благодаря мощному идейно-сюжетному
обеспечению своих образов всем комплексом театрального спек-
такля) современная сценография ярче и убедительнее, чем другие
искусства, лепит образы мировидения, нагляднее проясняет смут-
ные импульсы мироощущения, переживаемые, но трудно опреде-
ляемые людьми.
Представляется, что в зависимости от типа художественной
культуры и само сложение стиля происходит по-разному, с прева-
20 Зак. 303
314
Раздел 12
пированием разных слагающих его начал и сторон. В авангардной
культуре 1910-1920-х гг. ведущим началом стилевой общности был
язык форм.
При ясно ощущаемой стилистической цельности художест-
венной культуры 1930-х гг., подходы к которой мы пытались пока-
зать на анализе переходных работ Мейерхольда, главным, по-
видимому, становится уже не сама конкретная форма, а ее подача
по законам традиционного искусства. Главным становится уже не
изобретение композиционных схем, а умелое использование уже
существующего в истории искусства и мастерство в соединении
нового материала (во всех смыслах этого слова) с традиционными
формами его обработки и подачи. Ведущим началом формирова-
ния собственной стилистики становится, по-видимому, процесс
эстетического присвоения старой культуры, понятой, как мы
знаем, очень широко. Парадокс художественной культуры 1930-х,
на мой взгляд, в том, что при явной многостильности источников
вдохновения, она не выглядит эклектичной. Душою этой стили-
стики была не любознательность каталогизатора и не атмосфера
игры, а высокопарный пафос создателя последней высшей ступе-
ни в истории культуры.
Если продолжить беглый пунктирный очерк отечественной
сценографии в контексте художественной культуры, то каждый
новый стилевой этап обнаружит свои собственные особенности
сложения стилевой общности. В советской художественной куль-
туре 1960-х гг., озабоченной созданием собственного монумен-
тального стиля, ведущим началом снова была форма. Но в отли-
чие от авангарда начала века, это было не простое и естественное
развитие формальных принципов, но сознательное и программное
насаждение, внедрение уже готовых норм, наработанных в искус-
стве, условно говоря, международного стиля. (Мы здесь говорим о
внутрихудожественной ситуации, а не о политике государства.)
Это был очень своеобразный «ренессанс» или, может быть точнее,
«неоклассика» авангарда. И дело не меняет ограниченность и не-
полнота воспринятого.
Для сценографии 1960-х гг. характерно самое широкое исполь-
зование архитектурных форм и способов раскрытия идей, пришед-
ших главным образом из новаторской архитектуры нашего века.
Характерно: освобождение сцены — демонстративное выявление
ее пространства, сокращение числа играющих предметов, внима-
Архитектура и сценография
315
ние к их пластической и графической форме. Ценится геометриче-
ская и жесткая определенность форм. Полное равнодушие к фак-
турным характеристикам материала. Отвлеченность во всем: не
только от фактуры материалов, но и от характеристик вещей, вооб-
ще от конкретики. (Еще важнее плакатная отвлеченность от инди-
видуальной психологии человека, стремление и умение увидеть его
как определенное типовое проявление социума.) Внешнее открытое
пространство превалирует над внутренним, замкнутым.
Не случайно в это время на сценах наших театров вновь возро-
ждаются оголенные сценические конструкции. Смысл этой стили-
стики — в укрупнении темы спектакля за пределы частного и кон-
кретного, увеличение масштабов события до его всеобщей значи-
мости — типичные черты монументализирующего стиля в его ла-
коничном, демократическом варианте.
Сценография играла здесь роль не первооткрывателя форм, а
агитатора за воскрешаемые нормы стиля, условно обозначаемого
нами здесь как международный, разумеется, в его современной на-
циональной редакции, агитатора, объясняющего смысл и ценность
стиля.
Ясность, рациональность, упрощенность восприятия жизни,
не-растраченная еще энергия самого проживания жизни, готов-
ность к утверждению своей воли и целей, надежда на будущее —
вот схематично намеченные черты мировосприятия, связанные со
стилем 1960-х гг. Упрощенность и схематизм — неотъемлемые чер-
ты такого мировосприятия. Их можно расценить и как ограничен-
ность, наивность, но можно и как свидетельство молодой силы, ко-
торая позволяет не заниматься мелочами, устремлять взор вдаль и
ввысь. Пластически этот отлет в общем вполне реалистического
сознания от житейской суеты выражался сопоставлением, сопря-
жением отдельной, вырванной из контекста детали (здесь, сейчас,
самое простое, обиходное) с пространством вообще (страна, земля,
космос).
Художественная культура 1970-х гг. при всем ее программном
ретроспективизме представляется мне не «ренессансной», как
1960-е, но абсолютно самостоятельной и очень творческой. Конеч-
но, для такой эстетики можно найти и корни, и аналогии. Опреде-
ляющим качеством этой культуры стал, по моему мнению, эстети-
ческий принцип «среды» как соединения, сплетения, сращивания
разнородных элементов (и формальных, и содержательных) в проч-
20*
316
Раздел 12
ные конгломераты и, главное, срощенность всего внешнего окру-
жения с психологией индивида (или, вернее, пропущенность внеш-
него окружения через оценки индивида).
Принцип «среды» был обеспечен собственным вариантом фор-
мального строя и заметным повышением семантической значимо-
сти форм23.
1970-е гг. внесли очень много перемен в художественную куль-
туру, в ее визуальные стереотипы. Важным источником и провод-
ником новых идей и форм стала сценография. Теперь она уже была
фактурной. В нее вернулась плоть вещей и их характерность. Вме-
сто отдельных предметов на сценах 1970-х стали возникать целые
семейства вещей, цельные интерьеры. Но даже самые подробные и
тщательные воспроизведения красивых вещей в сценографии 1970-х
нельзя было воспринять как «витрину» (в духе мейерхольдовского
«Ревизора») — настолько снизилась роль отдельной детали в
пользу общего. Однако среда не была и простым повторением бы-
товой реальности, но была ее поэтическим метафорическим обра-
зом, а потому именно сценография оказалась таким ярким и убе-
дительным средством приобщения общества к новым подходам и
ценностям.
В эти годы в театральных спектаклях картины жизни не раз-
вертывались в анализе, а стягивались в компактный поэтический
образ-метафору, где все в одном, внешнее во внутреннем, общее в
частном. Будущее туманно и неинтересно, важно настоящее в его
течении и деталях. Все строится теперь на мягком материале ткани
(или кожи, или рогожи, соломы и т. п.), работает фактура затянутых
драпировками стен, складки занавесов и пр. Мир очень приблизил-
ся, стал домашним, теплым, тесным, подчас запутанным и обреме-
ненным массой деталей. Внутреннее, замкнутое пространство те-
перь главенствует над внешним, втягивает его в себя. В восприятии
и интерпретации жизни нарастает иррациональность. Пафос ясного
знания, характерный для 1960-х, сменяется чередой смутных зага-
док и неразрешимых вопросов, элементами фантастики и мистики.
На смену четкости общественно-социальных критериев пришла
запутанная психология индивидов.
Симптоматично, что новое мироощущение, выраженное в этой
сценографии, не несло в себе никакого открытого протеста против
стилистики недавнего прошлого. Как будто те же самые конструк-
ции и ширмы, те же стены и кулисы незаметно обросли плотью и
Архитектура и сиенография
317
бахромой деталей и подробностей, затянулись паутиной бытовых
мелочей, и за всем этим не стало видно широких просторов, шум
ближнего окружения отгородил слух от гулкой тишины космоса.
У автора был большой соблазн продолжить очерк на материа-
ле 1980-х гг. и, в частности, рассмотреть проблематику постмо-
дерна и театральности в архитектуре и некоторые другие. Однако
в силу недостаточной проработанности этого материала (и лично
автором, и критикой в целом) сделать это сейчас в обобщенной
форме невозможно.
Хотелось бы подчеркнуть два момента, непосредственно выте-
кающие из изложенного выше.
• Первое, Характер взаимодействия архитектуры и сценографии,
хотя и имеет некоторые общие, мало зависящие от времени
нормы, в целом существенно зависит от типа и характера ху-
дожественной культуры каждого временного этапа.
• Второе, Мы не останавливались отдельно на проблеме жизне-
строения. Однако представляется, что именно жизнестроитель-
ные амбиции являются важнейшим основанием для взаимодей-
ствия и взаимовлияния архитектуры и сценографии. На первый
взгляд претензии архитектуры выглядят более реалистически-
ми и действенными, сценография кажется несерьезным и от-
влеченным упражнением на эту тему. На деле же игровые и ил-
люзорные образы, осуществленные сценографией и подкреп-
ленные мощной энергией идейно-содержательного наполнения
спектаклей в целом, оказывают огромное внушающее и воспи-
тывающее воздействие на публику. Тем самым они облегчают
вхождение в жизнь новых жизнестроительных моделей, стиле-
вых стереотипов, эстетических представлений и норм. Архи-
тектура, как правило, использует уже подготовленную почву
для утверждения в сознании и в жизненной практике совре-
менников своих идей и образов.
Амбиции целостного жизнестроения архитектуре успешнее
удается осуществлять в искусственно ограниченных рамках худо-
жественного эксперимента — т. е., приближаясь к нормам своеоб-
разной сценографии жизни, игры в другую жизнь. И тогда, в усло-
виях выставки, музейного заповедника, художественной колонии,
экспериментального района архитектура начинает широко пользо-
ваться приемами театрализации и сценографии.
318
Раздел 12
Примечания
1. Иванов Вяч. Вс. Пространственные структуры раннего театра и асим-
метрия сценического пространства // Театральное пространство. Ма-
териалы научной конференции (1978). М., 1979. С. 17.
2. Лебедева Г. С. Декорации Агатарха и открытие театрального простран-
ства в европейском искусстве И Театральное пространство. С. 64—65.
3. М. Витрувий Полион. Десять книг об архитектуре. М., 1936. С. 26.
4. Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990. С. 53-54.
5. Франкетти Пардо В. Город и театр во Флоренции XXV-XVI веков //
Театральное пространство. С. 145.
6. Основными проповедниками этой теории в нашем театроведении вы-
ступают В. Березкин, Э. Кузнецов, И. Уварова.
7. Эткинд М. Г. О диапазоне пространственно-временных решений в
искусстве театральной декорации (опыт анализа творческого насле-
дия советской театральной декорации) И Ритм, пространство и время
в литературе и искусстве. Л., 1974. С. 211.
8. Лукомский Г. К. Старинные театры. СПб., 1913. Т. 1. С. 129.
9. Березкин В. Н. Сценографическая критика и искусствознание в СССР
(обзор) // Сценическая техника и технология. 1981. № 3. С. 8.
10. Березкин В. Театр Иозефа Свободы. М., 1973. С. 11.
11. Крэг Эдвард Гордон. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988. С. 143.
12. Базанов В. В. Эффект движения Г. Крэга// Сценическая техника и
технология. 1983. № 6. С. 19.
13. Зоркая Н. Легкое дыхание // Театр. 1989. № 12. С. 100.
14. На эту тему нами была написана статья в 1990 г. для сборника
ВНИИТАГ.
15. ЭфросА. Камерный театр и его художники. М., 1934. С. 34.
16. Алперс Б. Театр социальной маски. М.; Л., 1931. С. 57.
17. Гладков А. Мейерхольд говорит // Новый мир. 1961. № 8. С. 217.
18. Алперс Б. Театр социальной маски. С. 48.
19. Там же. С. 50.
20. Там же. С. 56.
21. Там же. С. 52.
22. Об этом см.: Адаскина Н. 30-е годы: контрасты и парадоксы советской
художественной культуры // Советское искусствознание. Вып. 25. М.,
1989.
23. См.: Адаскина Н. Художник и среда // Советское искусствознание. 83.
Вып. 1(18). М., 1984.
Раздел 13
Архитектура и время.
Историзм и квазиутопия
(к истории архитектуры
конца 1940-х - начала 1950-х годов)
Архитектура XX в. состоит в сложных отношениях со време-
нем. По природе деятельности архитектор должен мысленно выхо-
дить в некое идеальное будущее, организуя еще не существующие
жизненные процессы и утверждая ценности, которые отвечают мо-
дели этого будущего. В традиционных культурах проблема не име-
ла практической значимости; она стала принципиальной в Новое
время, когда темпы социального и научно-технического прогресса
ускорились. Гипотетическая модель будущего оказалась изначаль-
ной для подхода к любой нетривиальной и значительной строи-
тельной задаче. В конечном счете, историю архитектуры за послед-
ние полторы сотни лет можно написать как историю форм утопиче-
ского мышления, определяющих ориентиры профессии.
Сознание человека Нового времени, постоянно сталкивающе-
гося с проблемой прогнозирования, исторично. Проекция прошлого
на настоящее питает как отношение к нему, так и целеполагание,
обращенное в будущее. Сложность в том, что само историческое
прошлое доступно не как объективная данность, но лишь как пред-
ставление, условная модель, всегда основанная на неполной ин-
формации, отобранной под влиянием ценностных установок на-
стоящего. Мертвые живут той жизнью, которую дают им живые, —
заметил Анатоль Франс.
Ценности идеального будущего соотносятся с моделями про-
шлого, созданными данной культурой, даже тогда, когда в установ-
320
Раздел 13
ку закладываются полемика с историческим опытом, отрицание
или инверсия традиционных ценностей. Многообразие и видимая
противоречивость архитектуры XX в. во многом определены па-
раллельным существованием ориентации на модели будущего,
предполагающие или непрерывность развития культуры и устойчи-
вость ее ценностей, или преобладающую значимость изменений.
Соответственно в формально-образном строе произведений архи-
тектуры утверждается преемственность с прошлым или отталкива-
ние от него. В предельно упрощенной схеме контрастность ситуа-
ций, характеризующую развитие архитектуры XX в., можно при-
вести к диалектике историзма и авангардизма (или модернизма).
Такая схема активно эксплуатируется в последние десятилетия ис-
торико-критической литературой («модернизм — постмодернизм»).
В общей форме историзм в архитектуре можно определить
как установку на создание знаков, обозначающих связь с культурой
прошлого, и отсылок к исторической памяти в системе, отражаю-
щей идеальные представления о будущем (естественно, о том «обо-
зримом» будущем, которому адресует свое конкретное произведе-
ние архитектор). Обращенность к тому, что уже отделилось от ак-
туальной культуры и отошло за грань, отсекающую от нее истори-
ческое прошлое, отличает историзм от традиционализма, устрем-
ленного к прямому продолжению неких существующих, хотя бы
угасающих, традиций, связывающих актуальную культуру с куль-
турой прошлого. Традиционализм поэтому серьезен и однозначен,
историзм двусмыслен или многозначен и может включать момент
игры. Он может быть «романтичен» или «классичен», рационален и
не исключает как патетичности, так и иронии или намеренных пре-
увеличений гротеска. Овеществление его образов требует не только
особых приемов организации утилитарно необходимого, но и до-
полнения элементами, выполняющими знаковую функцию.
Историзм не противостоит утопии. Визуальные воплощения
утопических идей вплоть до конца XIX в. связывались с отсылкой к
минувшему «золотому веку» — Античности или романтизирован-
ному Средневековью. В ретроспективных одеждах представали со-
циальные утопии Фурье и Оуэна; возвращенный «золотой век» ха-
рактеризует мир будущего, который Уильям Моррис описал в «Вес-
тях ниоткуда». Соединение представлений о будущем и образов
прошлого не было лишь отражением неких инерционных тенден-
ций художественной культуры. Утопия подчинялась структуре ми-
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
321
фа и вместе с ней воспринимала мифологическое представление о
времени, не знающем необратимости. Время мифа циклично, осно-
вано на ротации периодов, предполагающей возвращение «золотого
века» прошлого.
XX в. породил технократические утопии, основанные на вере в
прогресс техники как необходимое и достаточное условие социаль-
ного и культурного прогресса. Модели будущего стали исходить от
предположений о принципиально новых качествах складывающе-
гося техномира (предположений, неизбежно включающих инверсии
исторического опыта). Утопический «Город будущего» итальянца
Сант-Элиа, показанный на выставке в Милане за несколько недель
до начала Первой мировой войны, воплощал уже тип модели буду-
щего, характерный для «современной архитектуры» 1920-х гг.
Технократические утопии подобного типа просматриваются за
произведениями радикально-новаторских направлений архитекту-
ры послереволюционной России. Параллельно с ними в 1920-е гг.
разрабатывались и версии историзма, за которыми стояла мифоло-
гизированная утопия. Приверженцы этого направления обращались
прежде всего к наследию архитекторов времени Великой француз-
ской революции (к памяти ее героев тогда апеллировала и политиче-
ская идеология). Впрочем, даже фантазии Булле и Леду воспринима-
лись иногда как чрезмерно рассудочные. Тогда утопические образы
напрямую связывались с первоисточником романтического класси-
цизма конца XVIII в. — патетическими и трагичными фантасмаго-
риями офортов Пиранези («пиранезианство» в начале 1920-х гг. осо-
бенно ярко претворено у И. Фомина, Л. Руднева, Н. Троцкого, И. Го-
лосова). «Приземленные» версии мифологизированной историст-
ской утопии вошли в неоклассицизм второй половины двадцатых.
Освобождаясь от романтической составляющей, он приобретал
черты рационалистичности. Его вариант, разрабатывавшийся Жол-
товским, отмечен бескомпромиссной верой в вечные ценности ис-
кусства и последовательным историзмом. И. Фомин, напротив,
стремился выйти к архетипам классического и связать их с пред-
ставлениями о новизне и современности.
В 1930-е гг. активизация урбанизационных процессов вывела
на первый план практические проблемы формирования городских
структур. К решению этих проблем архитектурный авангард не был
готов. Его градостроительные интересы были поглощены утопиче-
скими идеями, которые не выводились на прямую связь с актуаль-
322
Раздел 13
ной современностью. Однако процессы массового строительства
развертывались, задачи их упорядочения и управления ими стали
неотложными. Приверженцы же историзма предлагали схемы, ко-
торые можно было использовать немедленно, перерабатывая в со-
ответствии с новыми представлениями о функциях городского ор-
ганизма модель города русского классицизма.
Архитектура прошлого к концу 1920-х гг. уже не воспринима-
лась как материальная основа и символическое воплощение соци-
альных сил, враждебных новому обществу. Массовое сознание стало
ассимилировать символические структуры, созданные архитектурой
прошлого (например, «дворец», который истолковывался как символ
торжества нового общественного строя). В городах — при всем тра-
гизме положения, к которому была приведена деревня в результате
«великого перелома» — уровень жизни постепенно поднимался, и
это побуждало настроения оптимизма, которые настойчиво стимули-
ровались официальной пропагандой. В этом изменившемся психоло-
гическом климате рассудочность и символический аскетизм фор-
мального языка архитектуры ортодоксального конструктивизма уже
воспринимались как нечто анахронистическое, получали значение
антиценностей. Напротив, казалось, что сложная пластическая раз-
работка и торжественная монументальность стереотипов неокласси-
цизма отражают успехи страны и новый уровень ее развития. В их
противопоставленности техницистскому характеру «новой архитек-
туры» виделись гуманистические ноты. Поворот массовых вкусов в
сторону неоклассицизма в немалой степени определялся и притоком
в города громадных масс населения, выброшенных разоренной де-
ревней и вовлеченной в процессы урбанизации. Для горожан первого
поколения сохраняли значимость стереотипы сельской культуры,
ориентированной на традиционное и привычное.
Ситуация была должным образом оценена аппаратом админи-
стративно-бюрократической системы, активно поддержавшей тен-
денции историзма и неоклассики. Дело не в том, что аппарат стре-
мился поддержать отвечавшее «демократическим» вкусам (хотя по
всей вероятности эти вкусы разделялись подавляющим большинст-
вом его функционеров). Главной для него была возможность актив-
но использовать неоклассицизм в массовой пропаганде как средст-
во овеществления мифов, внедряемых в сознание.
Событием, в котором наметилась вовлеченность историзма в
сферу пропагандистской деятельности, стал конкурс на Дворец Со-
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
323
ветов в Москве, объявленный в 1931 г. Первый его тур послужил
для уточнения программы, в которой как в фокусе сошлись пробле-
мы, вставшие перед советской архитектурой к началу 1930-х гг. —
единства структуры города, архитектурного ансамбля, идеологиза-
ции образа сооружения. Второй тур конкурса (среди 160 проектов
24 подано архитекторами других стран) предложил широчайший
диапазон подходов к задаче — от авангардистских до ретроспек-
тивных, от ортодоксального рационализма до романтического сим-
волизма. Высшими премиями были отмечены неоклассический
проект И. Жолтовского и близкие к ар-деко проекты Б. Иофана и
американского архитектора Г. Гамильтона. Совет строительства
Дворца Советов, который возглавлял В. Молотов, в решении о
дальнейших работах над проектом отметил, что «поиски должны
быть направлены к использованию как новых, так и лучших прие-
мов классической архитектуры»1. Эта установка была воспринята
как программная для развития всей советской архитектуры.
Для ее внедрения не использовались средства внешнего давле-
ния. Принцип был принят большей частью архитекторов. На его
реализацию в проектной практике была нацелена деятельность еди-
ного Союза советских архитекторов, созданного в 1932 гг., после
роспуска творческих организаций, придерживавшихся различных
программ. Все более бюрократизировавшаяся организация, где ос-
новную роль играли функционеры, наделявшиеся авторитетом, не-
соизмеримым с их творческим потенциалом, успешно выполняла
роль, определенную для нее в командно-административной системе.
В 1932 г. основой творческого метода советской литературы
был назван социалистический реализм. На I Всесоюзном съезде
советских писателей (1934) этот метод определен как правдивое,
исторически конкретное изображение действительности в ее рево-
люционном развитии, изображение не пассивно фактографическое,
но связанное с задачей воспитания в духе социализма2. Метод был
предписан как основа эстетической программы для всех видов ху-
дожественной деятельности. Его расплывчатое определение стало
средством выравнивания, нивелировки художественных тенденций
в литературе и искусстве.
Определение метода социалистического реализма вошло в устав,
принятый Союзом советских архитекторов, но в применении к архи-
тектуре до второй половины 1940-х гг. оставалось не более, чем на-
поминанием о необходимости соблюдать принцип социальной целе-
324
Раздел 13
сообразности. В нем рационалистическое отношение к социально-
функциональным и техническим проблемам соединялось с требова-
нием художественной содержательности, «идейности» и правдиво-
сти образа, который несет архитектурная форма. Реализм предпола-
гал естественность ответа на социальные требования, выражая эту
естественность в художественном образе, как подчеркивали в своих
высказываниях на I съезде советских архитекторов лидеры ССА
К. Алабян и А. Мордвинов, участвовавшие в разработке определе-
ния. Стремление сделать архитектуру идеологически ангажирован-
ной предполагало развитие необходимых средств ее языка.
Обращение к культурному наследию прошлого стало при этом
рассматриваться как источник, где можно почерпнуть необходимые
средства выражения, — на чем, по сути дела, сходились все. Споры
развертывались вокруг того, что именно должно послужить кон-
кретным источником средств выражения и насколько активной
должна стать переработка первичных импульсов, исходящих от
прототипа, в соответствии с требованиями современности. Если
И. Жолтовский считал, что «вечная» основа такого языка уже зало-
жена античностью и итальянским Ренессансом, то братья Веснины
и М. Гинзбург придерживались мнения, что речь должна идти об
усвоении художественной культуры зодчества, воспитываемой всем
богатством его наследия, с тем, чтобы проникнуть в механизм фор-
мирования образа. И. Фомин напоминал о необходимости ввести в
фонд наследия и опыт, накопленный советской архитектурой. Вос-
становление преемственности в той форме, в которой оно пропа-
гандировалось в 1930-е гг., не связывалось с полным отрицанием
достигнутого авангардом. Критик А. Михайлов писал, что «конст-
руктивизм требует преодоления в той мере, в какой он уничтожает
архитектуру как искусство»3.
В архитектурной практике установка на повышение художест-
венной выразительности архитектуры выражалась в разнообразных
формах. Общей чертой было, по замечанию Л. Лисицкого, качание
стилевого маятника в сторону, противоположную функционализму4.
И. Леонидов и К. Мельников, сохраняя дух авангардистских утопий
1920-х г., предлагали варианты экспрессивно-символической архи-
тектуры, не повторяющей какие-либо прообразы, но по силе вырази-
тельности соизмеримой с произведениями классики. Братья Весни-
ны искали путь в повышении эмоционального потенциала конструк-
тивистской архитектуры, «конструктивистском маньеризме». Однако
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
325
различные варианты историзма численно преобладали в плюрали-
стической картине.
Наибольшей поддержкой «сверху» пользовались варианты кон-
цепции «здания-монумента», заявленной в утвержденном проекте
Дворца Советов (Б. Иофан, В. Щуко, В. Гельфрейх, 1934). Стилисти-
чески они основывались на схематизации художественных средств
классицизма, в той или иной степени дополненной декоративным
арсеналом ар-деко. Ответвлением этого официально признанного
направления стал «стиль Лубянки», эталоном которого послужили
постройки И. Лангмана. Его преувеличенно монументальную вер-
сию развивал в Ленинграде Н. Троцкий, дополнивший жесткие схе-
мы крупной пластикой массивных форм, идущей от П. Беренса.
Символическая образность, окрашенная романтическим восприяти-
ем мира, характерна для работ Л. Руднева; пластическая разработка
целого основывалась у него на широком обращении к опыту исто-
рии. А. Таманян и А. Щусев использовали классицистические схемы
в сочетании с традиционной народной орнаментикой для разработки
«неонациональных» стилей. Д. Чечулин, используя в неоклассиче-
ских контекстах изобразительные аллегории и эмблематику, стре-
мился к прямому воплощению стереотипных метафор официальной
пропаганды. Мыслимой крайности в соединении архитектурной фор-
мы с аллегорической эмблематикой достигли К. Алабян и В. Сим-
бирцев в здании театра Красной армии (1934-1940).
Признание благотворности опыта прошлого укрепило авторитет
И. Жолтовского, за которым следовал ряд архитекторов, обращав-
шихся к переосмыслению наследия итальянского Ренессанса. Среди
тех, кто испытал влияние этого мастера, многие обращались к во-
площению мотивов фантастической архитектуры, изображенной в
росписях Помпеи так называемого «четвертого стиля» (Г. Гольц,
А. Власов, И. Соболев и др.). По сути дела той же формой игры, ут-
верждавшей внешнюю позицию архитектора по отношению к ис-
пользованным мотивам исторической архитектуры, стала гротескная
трактовка классического ордера у И. Фомина (здание НКВД в Киеве,
1934-1938). Напротив, с абсолютной серьезностью относились к ис-
торическим прототипам — прежде всего к петербургскому класси-
цизму — архитекторы, вышедшие из ленинградской школы, осно-
ванной Ив. Фоминым (Л. Поляков, И. Рожин, П. Абросимов и др.).
Более активную позицию в рамках историзма заняли ленинградцы
Е. Левинсон и Иг. Фомин, искавшие в совместной работе приложе-
326
Раздел 13
ние неоклассических схем, отвечающее тектонике железобетонной
конструкции (что определило аналогии с творчеством О. Перре и
А. Люрса во Франции). Своеобразие работ А. Бурова выросло из
бескомпромиссного отношения к «честности» выражения структур-
ной логики современного жилого дома при поиске ассоциаций с
классикой в его ритмико-пластической разработке.
Перечисление концепций и творческих направлений, состав-
ляющих пеструю мозаику историцистской архитектуры 1930-х гг.,
можно бы и продолжить. Здесь важна, однако, не исчерпывающая
полнота, но общая характеристика плюралистического (если ис-
пользовать расхожее слово 1980-х) разнообразия. Мучительные по-
иски определения социалистического реализма в архитектуре, ко-
торые велись в руководстве Союза советских архитекторов и Все-
союзной академии архитектуры, не выливались в четкие критерии,
которыми можно было бы сдержать разраставшееся многообразие
(правда, и тогда уже профессиональная общественность легко
сплачивалась в осуждении явлений наиболее неординарных, как то
было с творчеством К. Мельникова).
В своих поисках сопряжения рационализма новаторских на-
правлений и историзма (прежде всего — в неоклассической версии)
советская архитектура 1930-х гг. была не одинока в мировой куль-
туре того времени. Ее внешние связи не были широкими и сходство
профессиональных явлений было следствием скорее схожих обще-
культурных процессов, чем прямых влияний. Но многочисленные
аналогии с архитектурой того времени во Франции, Англии, США,
где почти столь же сильны были тенденции историзма, несомнен-
ны, хотя западные архитектуроведы по неким своим причинам
предпочитают их не замечать. На Западе настойчиво акцентируется
иная аналогия — между некоторыми произведениями советской
архитектуры и архитектурой гитлеровского «Третьего рейха».
В конце 1930-х гг. широкую известность получила карикатура
О. Ланкастера, опубликованная в Architectural Review, где соседст-
вуют подобия мюнхенского Дома искусств и некоего дома со столь
же протяженной колоннадой. Различия между ними сводятся к се-
чению колонн — в полкруга или полквадрата, и к эмблеме на цен-
тральной оси — свастике или пятиконечной звезде. Да, такое сход-
ство было — если из всего многообразия творческих поисков со-
ветской архитектуры тридцатых отфильтровать «стиль Лубянки» —
московские произведения Лангмана, так называемый «Большой
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
327
дом» в Ленинграде, здание управления НКВД в Горьком. Однако
значительного места в общей картине такие постройки не занима-
ли. Если же расширить фронт сопоставлений, выяснится, что ана-
логии не столь уж велики — даже аналогии чисто формальные.
Главное различие определяется тем, что в советской архитек-
туре обращение к историзму было следствием достаточно слож-
ных внутрикультурных процессов (о чем говорилось выше), его не
инспирировали, но лишь поддержали «сверху». В нем воплоти-
лись настроения времени, тот не знающий сомнений оптимизм,
который был порожден внутри массовой культуры и лишь экс-
плуатировался сталинистской пропагандой, но не был побужден
ею. В историзме 1930-х гг. жила богатая и сложная гуманистиче-
ская традиция, прямо унаследованная от «серебрянного века»
российской культуры начала столетия — еще продолжали актив-
ную творческую деятельность создатели и активные носители
этой традиции — И. Жолтовский, А. Щусев, И. Фомин, Н. Лансе-
ре, В. Семенов, Л. Ильин. Реальное несходство определялось и
живым многообразием советской архитектуры как целого, развер-
нувшимся очень широко. Архитектура «рейха», напротив, была
жестко однообразной, регламентированной, исходящей от точно
заданных образцов, которые по указаниям самого «фюрера» раз-
рабатывал его придворный архитектор А. Шпеер. Эта архитектура
эксплуатировала композиционные схемы неоклассицизма, из ко-
торых удалялось все, кроме самой схемы; гуманизм классики, от-
раженно воспринятый неоклассицизмом, был из нее изгнан. Она
создавалась как декорация новых мифов, которые настойчиво и
активно внедрялись в массовое сознание пропагандистским аппа-
ратом. Нет, 1930-е гг. не дают оснований для утверждения анало-
гии, которая долгие годы была стереотипом — скорее не архитек-
туроведческим, но политико-пропагандистским.
1930-е гг. для советской архитектуры оказались замкнутым, хоть
и не завершившимся, не реализовавшим своих потенций периодом.
Развернувшиеся в ней процессы, которые казались многообещаю-
щими, были прерваны Великой Отечественной войной. В послево-
енные годы архитектура возрождалась в новой ситуации. Новые
формы принял в ней и историзм; он приобрел в конце сороковых -
начале пятидесятых годов особое качество, исключающее истори-
чески корректное объединение советской архитектуры от начала
1930-х до середины 1950-х гг. в один период.
328
Раздел 13
Ко второй половине тридцатых, однако, относятся два взаимо-
связанных явления, которыми были предвосхищены (если не пре-
допределены) принципиально важные черты архитектурного исто-
ризма послевоенных лет — как в плоскости целеполагания и со-
держания, так и в плоскости формальных структур. Эти явления —
разработка окончательного проекта Дворца Советов в Москве и
конкретизация ее Генерального плана, утвержденного в 1935 г.
Дворец проектировался не только как крупнейшее обществен-
ное сооружение, «главное здание» столицы, видимый повсюду ори-
ентир, визуально объединяющий структуру Москвы, но и как зда-
ние-символ. А. Луначарский, в начале тридцатых годов еще оста-
вавшийся одним из лидеров культурной политики, в завершении
здания фигурой В. И. Ленина видел прямое выражение мысли: со-
циализм ставит человека над всем5. Форму окончательного вариан-
та проекта (Б. Иофан, В. Щуко, В. Гельфрейх, 1934) определила
идея здания-пьедестала гигантской статуи, поднимающегося сту-
пенчатыми ярусами над громадным объемом перекрытого куполом
главного зала. В 1937 г. началось строительство.
В Москве и во всех городах страны 1930-е гг. были временем
острейшего жилищного кризиса. Рост объемов строительства от-
ставал от роста потребностей, побуждаемого урбанизационными
процессами. На этом фоне строительство гигантского престижного
здания-монумента, отвлекающее отнюдь не избыточные ресурсы от
острейших социальных нужд, обосновать рациональными мотива-
ми было невозможно. Однако возможность такого строительства
должна была вселить в умы веру в силу нового общественного
строя, а само сооружение — представлять в реальной действитель-
ности то светлое будущее, которое оправдает любое напряжение
сил и любые лишения сегодня. Словом, Дворец Советов задумы-
вался как осуществленная утопия, воплощение сталинистского ми-
фа, который настойчивыми усилиями пропагандистского аппарата
внедрялся в массовое сознание. В такой постановке цели возникала
общность с тоталитарной идеологией; она, как следствие, порожда-
ла установку на монументальность и самоценность поражающих
сознание гигантских величин. Той установке на торжество челове-
ка, о которой говорил Луначарский, это уже прямо противоречило.
Для Генерального плана Москвы 1935 г. градостроитель В. Се-
менов предложил весьма рациональное решение, позволившее со-
единить сохранение исторических ценностей с развитием совре-
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
329
менных функций столицы и крупнейшего центра производства и
культуры. Уникальная исторически сложившаяся радиально-коль-
цевая структура города по предложению В. Семенова должна была
сохраняться. Однако монументальная утопия Дворца Советов, вво-
димого в эту структуру в качестве вехи для главных магистралей,
радиально сходящихся к центру, продиктовала пространственный
масштаб всех элементов целого. В конкретной разработке схем
появились сверхгигантские эспланады и чудовищной ширины ма-
гистрали. По сути дела проекты реконструкции частей города, ко-
торые должны были конкретизировать генплан, складывались в
единую мифологизированную утопию. В преувеличенности этой
утопии, следовавшей формальным принципам построения ансамб-
лей классицизма, для подлинной классики не оставалось места.
Принцип сохранения исторических ценностей был отброшен, нача-
лось их массовое уничтожение. В. Семенов, мысливший реальными
категориями, был отстранен от руководства разработкой генерально-
го плана. Ее официальным вдохновителем стал Л. Каганович (ссыл-
ки его на верховное руководство работой, которое якобы осуществ-
лял сам Сталин, скорее всего были просто риторической фигурой).
Вовлечение архитектуры в некое утопическое жизнетворение, в
«сказку, сделанную былью», определило существенные особенно-
сти ее развития в первое послевоенное десятилетие. Именно при-
сутствие неких двух слоев в ее целеполагании и значениях — ре-
ально-жизненного и утопического — определило особый характер
ее историзма, заставляло говорить о новом этапе развития.
Опьяняющая радость Победы рождала веру, что самое трудное
осталось там, за порогом конца войны. Восстановление начинали с
энтузиазмом, заставляющим забыть о лишениях и усталости; цель
виделась не в возвращении к довоенному, но в рывке к новому,
лучшему и светлому. Как и после кампании 1812-1814 гг., люди
возвращались домой другими; столкнувшись с иной жизнью, иным
опытом, они осмысляли и сравнивали. Критическая мысль развива-
лась во всех слоях общества, но, прежде всего, в интеллигентской
среде. Однако подлинное обновление несло в себе угрозу укрепив-
шейся за годы войны административно-командной системе, и сис-
тема привела в действие свои защитные механизмы.
Уже в первый послевоенный год были предприняты меры по
подавлению творческой интеллигенции; первое звено ее — Поста-
новление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах«3везда» и
330
Раздел 13
«Ленинград», подготовленное А. А. Ждановым по инициативе Ста-
лина. Волна разоблачений распространилась потом на области ки-
но, музыки, театрального искусства. В 1948 г. было развязано кро-
вавое «ленинградское дело», готовился удар по Московской партор-
ганизации. Среди мер, направленных против критической мысли,
была и кампания «борьбы с космополитизмом», открытая в 1948 г.
редакционными статьями газет «Правда» и «Культура и жизнь».
Внешний слой этой кампании составляли филиппики против «низ-
копоклонства перед Западом», в жертву которому якобы приноси-
лось все русское и вообще советское, и утверждение «отечествен-
ных приоритетов» во всех сферах техники, науки и культуры. Под-
линной целью, однако, была культурная самоизоляция страны.
Устраняя и запрещая, сталинская машина пропаганды вместе с
тем стремилась внедрить в массовое сознание некий вид коллек-
тивной эйфории. Трудности и неустроенность жизни не исчезли с
окончанием войны, но людям средствами всех искусств предъявля-
лись образцы идеализированного бытия, подаваемого как истинное,
существующее в реальности. Благополучное, нарядное, изжившее
конфликты (кроме разве конфликта лучшего с хорошим) общество
изображали романы, фильмы, пьесы конца сороковых - начала пя-
тидесятых годов (такие, как роман С. Бабаевского «Кавалер Золо-
той звезды», фильмы И. Пырьева «Сказание о Земле сибирской»,
«Кубанские казаки» и пр.), сложилась «извращенная форма уто-
пизма»6.
На архитектуру сталинистская система возложила задачу —
создать промежуточное звено между утопией и реальностью,
предъявить человеку — хотя бы как зрителю — частичные реали-
зации идеала, позволяющие сказать, что идеальное есть, все шире
входит в жизнь и в некоем «завтра» станет всеобщим бытием. Пе-
ред построением декораций «извращенной утопии», как бы опро-
вергающих основное свойство утопического — его «нездешность»,
отступали действительные социальные функции и экономика
строительства. В то же время, декорация, для создания которой не
могли быть использованы некие невиданные и необычные средст-
ва, как бы выводилась из потока времени. Историзм должен был
соединить вчера, сегодня и ожидаемое завтра во вневременно иде-
альной целостности. Метод квазиутопического архитектурного
творчества был уже отработан при проектировании Дворца Советов
в Москве и создании Генерального плана столицы 1935 г. — здания,
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
331
начатый каркас которого демонтирован в 1942 г., и ансамблей, осу-
ществление которых было вообще немыслимо.
Парадоксально, что квазиутопии конца 1940-х гг., с их задан-
ной романтичностью по-прежнему связывались с категорией со-
циалистического реализма. К. Алабян и А. Мордвинов, в предвоен-
ные годы вырабатывавшие соответствующие определения, в кото-
рых на первый план вынесены чисто рациональные категории, как
бы и не замечали назревшего противоречия между старыми и но-
выми дефинициями. В докладе «Социалистический реализм в ар-
хитектуре», сделанном на VIII сессии Всесоюзной академии архи-
тектуры, в конце 1947 г., А. Г. Мордвинов, в то время ее вице-прези-
дент, утверждал: «Советская архитектура в своих лучших произве-
дениях несет те же характерные черты, которые мы отметили в от-
ношении литературы: партийность, народность, слияние реализма
и революционной романтики, новаторство содержания и формы,
критическое освоение наследия прошлого как основа высокого ху-
дожественного мастерства, простота, ясность художественных
форм. Требование сочетания высокого идейно-художественного
содержания с высоким мастерством целиком относится и к архи-
тектуре социалистического реализма»7. Нетрудно заметить реши-
тельный сдвиг акцентов в этой дефиниции в сторону от рациона-
лизма по сравнению с принятыми десятилетием ранее.
Новую версию концепции социализма в архитектуре такие тео-
ретики, как М. Цапенко, связывали со стереотипами официальной
пропаганды тех лет, не очень заботясь о логической последователь-
ности текстов, их доказательности и соотнесенности с реалиями
практики8. На архитектуру при этом стали переносить критерии,
выработанные в литературе, фигуративной живописи и скульптуре,
предписывать ей требования, вытекающие из догматического тол-
кования социалистического реализма, пренебрегавшего ее специ-
фикой. «Правдивость» архитектуры — критерий реализма — ока-
залась в таких концепциях связана более с символизацией идей
чисто иллюстративными или ассоциативными средствами и вос-
произведением внешних признаков «классического», чем с удовле-
творением комплекса социальных потребностей (что выступало на
первый план в концепциях 1930-х гг.).
Относительная терпимость, с которой в тридцатые годы сосуще-
ствовали различные творческие направления, сменилась настойчи-
вым стремлением к унификации, которое, впрочем, скорее предпи-
332
Раздел 13
сывалось «сверху», чем исходило изнутри самой профессии. Исто-
ризм (прежде всего в его неоклассической версии) лучше других на-
правлений отвечал задачам мифологизации жизни — он и был ото-
ждествлен с «социалистическим реализмом» в архитектуре. Офици-
альной критикой ему априорно выдавались высокие оценки — «со-
циалистическая по своему содержанию и национальная по форме,
советская архитектура открыла новый, более высокий этап в истории
зодчества»9.
В соответствии со сталинской теорией «обострения борьбы»
истинному искались противоположения в неистинном. Объявлен-
ное неистинным подвергалось уничтожающей критике, где профес-
сиональные суждения вытеснялись патетическими эмоциями, сте-
реотипными эпитетами, которыми в пропаганде тех лет характери-
зовался образ врага, и намеками, ставящими под сомнение полити-
ческую благонадежность критикуемого. Как главный резервуар зла
рассматривался Запад, где «продолжает углубляться упадок архи-
тектуры, определяемый общим кризисом капитализма»10.
Как известно, «сверху» постановления о положении в архитек-
туре в те годы не спускались. Консолидацию ее рядов обеспечивала
обюрократившаяся верхушка профессии, руководившая Союзом
советских архитекторов и Всесоюзной академией архитектуры. Ею
избирались конкретные фигуры для очистительных жертв после
каждого официального документа, критикующего недостатки в той
или иной сфере культуры. Основания конкретного выбора пори-
цаемых, как правило, не очевидны — можно лишь подозревать не-
малую роль причин эмоциональных и субъективных. Так, в докладе
на совещании московских архитекторов в связи с постановлением о
журналах «Звезда» и «Ленинград» К. Алабян подверг жесткой кри-
тике А. Бурова, И. Соболева, И. Николаева, не приводя каких-либо
мотивированных профессиональных суждений и не показав связи
своих высказываний с постановлением, ставшим первопричиной11.
В 1948 г., в связи с постановлением об опере В. Мурадели «Великая
дружба», объектами критики стали И. Жолтовский и его школа,
Л. Павлов и др. Присуждение Жолтовскому через недолгое время
Сталинской премии свидетельствует о том, что критика отнюдь не
инспирировалась сверху (заметим, что в ситуации тех лет за крити-
кой, как правило, следовали «оргвыводы», резко ограничивавшие
возможности профессиональной деятельности). Особенно жесткие
ограничения наложила на архитектурное творчество кампания про-
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
333
тив космополитизма, приостановившая все формы международных
контактов; с ее началом была прекращена подписка на «загранич-
ные» профессиональные журналы, прекратилось пополнение биб-
лиотек иностранной литературой.
Но было бы неверно думать, что воздействием мощного пропа-
гандистского аппарата и бюрократическим прессингом ограничи-
вались факторы, формировавшие советскую архитектуру конца
1940-х - начала 1950-х гг. Мощным фактором позитивного влия-
ния стал пафос победы и возрождения. Особой ценностью наделя-
лось теперь наследие культуры прошлого. Архитектура средневеко-
вой Руси и архитектура классицизма связывалась с новыми симво-
лическими значениями, равно вошедшими в профессиональное и
массовое сознание. Новая жизнь, казалось, наполнила идею исто-
ризма. Казалось, что только форма, прошедшая долгий путь разви-
тия, проверенная временем, может стать основой архитектурного
языка, делающего архитектуру «говорящим» искусством, понятным
каждому и воплощающим дух времени — торжество победы над
фашизмом, веру в возрождение разрушенного.
В послевоенном психологическом климате архитекторы, вовле-
ченные в создание квазиутопий, в большинстве своем верили в
плодотворность поставленных перед ними задач, в то, что они дей-
ствительно приближают не только торжество возрождения, но и
торжество нового идеала. Вера обеспечивала полноту использова-
ния их творческих возможностей. Важно и то, что историзм в архи-
тектуре, ставший господствующим направлением, имел основу в
профессиональной культуре, обеспеченной прочной традицией в
сфере образования. Культура эта была, правда, достоянием лишь
крупных городов; там, куда не простиралось ее влияние, историци-
сте кая архитектура вырождалась в претенциозный безграмотный
кич «сталинского ампира».
* ♦ ♦
Романтическая составляющая архитектуры первых послевоен-
ных лет в большой степени подготовлена волной «бумажного про-
ектирования», относящейся к последним годам войны. Мечтая о
близящемся мире, проектировали суровые и величественные мону-
менты во славу побед и в память о павших. Патетическая монумен-
тальность, преувеличенность абсолютных величин и масштаба
форм обычна для этих фантазий. Их историзм ограничен обраще-
нием к основным, первичным архетипам организации формы и от-
334
Раздел 13
дельным мотивам, получавшим, как правило, новое свободное ис-
толкование. Характерны проекты Пантеона партизан (В. Кринский,
1943), вдохновленного гравюрами Пиранези, изображающими
грандиозные субструкции построек античного Рима, и памятника
защитникам Сталинграда (Г. Гольц, 1944) с его рядом могучих ап-
сид. Такие проекты запоминались надолго. Они задавали потом не-
кую общую тональность проектированию не только монументов,
но и любых крупных общественных зданий — в послевоенные го-
ды монументальность стала для них требованием едва ли не обяза-
тельным. Настроение приподнятости, затронувшее массовое созна-
ние послевоенного времени, стало тогда переходить в официаль-
ную парадность и театральную патетику квазиутопий.
Быть может, самым значительным завоеванием профессио-
нальной мысли архитекторов в послевоенные годы стало возрож-
дение концепции города как единого целого. Это новое понимание
рождалось вместе с осмыслением системного единства задач, воз-
никавших при восстановлении разрушенных городов. Разумеется,
на градостроительную мысль влияли при этом установки квазиуто-
пии; подлинная системность мышления часто подменялась возрож-
дением восходящей к барокко идеи города как произведения искус-
ства. И вместе с тем, плодотворность концепции несомненна.
Одним из наиболее значительных проявлений стала идея
строительства системы высотных зданий в Москве. Представление
о целостности пространственной организации города легло в осно-
ву идеи — создать ряд взаимосвязанных вертикалей-ориентиров.
Они должны были стать сопровождением грандиозной вертикали
Дворца Советов, строительство которого прервала война. Раскры-
тие пространственной структуры города через систему объемных
ориентиров — храмов с колокольнями — было особенностью рус-
ского градостроительства вообще и, в частности, особенностью
Москвы. Искусно сочетаемое с холмистым рельефом и перспекти-
вами долин, размещение «главных» построек не только позволяло
легче ориентироваться, но и придавало неповторимость «зрелищу
Москвы». Однако рядовая застройка города становилась все более
высокой, искусно расставленные вехи тонули в ее ткани. Угасало
богатство силуэтов, аморфным, лишенным ориентированности
становилось пространство.
Высотные сооружения должны были в новых величинах возро-
дить особенности, исторически присущие Москве как пространст-
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
335
венному целому. «Ожерелье» из восьми вертикальных композиций
выявляет центральное ядро столицы; их расположение связано как
со структурой плана города, так и с его топографией. В них исполь-
зован один из древнейших архетипов архитектурной формы —
особое значение вертикали. Трудно, пожалуй, найти и более эф-
фектное воплощение принципа квазиутопии, города мечты, вдруг,
сразу, видными отовсюду фрагментами вторгающегося в дряхлею-
щую, косную ткань исторического города. Лишь этим можно объ-
яснить активную заинтересованность сверху, которая только и мог-
ла обеспечить реализацию проекта дорогого и не дающего ощути-
мого социального эффекта.
В. Олтаржевский писал: «Воздвигаемые в Москве по инициа-
тиве и замыслу товарища И. В. Сталина высотные здания знамену-
ют собой новый этап в реконструкции столицы и являются круп-
нейшим событием в мировой современной архитектуре. Эти здания
формируют новый выразительный силуэт города, они создают ос-
нову для построения новых архитектурный ансамблей, отвечающих
великому значению Москвы — светоча передового человечества»12.
Упоминание «инициативы» и «замысла» Сталина в данном случае
не было, по-видимому, риторической фигурой.
Постановление правительства, принятое в 1947 г., предписывало
основные принципы проектирования новых высотных доминант Мо-
сквы: «Пропорции и силуэт этих зданий должны быть оригинальны-
ми и своей архитектурно-художественной композицией должны быть
увязаны с исторически сложившейся архитектурой города и силуэтом
будущего Дворца Советов»13. Оригинальность разъяснялась как пря-
мая противоположность принципов построения советских высотных
зданий принципам построения американских небоскребов. Осущест-
вляемый город мечты выводился из сферы сравнений, не допускал
соревновательности: он не схож ни с чем, противоположен чужому и
в своей несравнимости безусловно лучший.
Самое крупное среди серии московских высотных зданий кон-
ца сороковых - начала пятидесятых годов — здание, точнее ком-
плекс зданий Московского государственного университета на Ле-
нинских (Воробьевых) горах, созданное под руководством Л. Руд-
нева (1949-1953). Его сложный силуэт, завершающий далекую пер-
спективу, открывающуюся от Кремля вдоль Москвы-реки, отметил
главное в то время направление развития городского массива — на
юго-запад. Массы здания, мощно нарастающие к центральной вер-
336
Раздел 13
тикали, подчиняют себе и ближайшее окружение с партерным са-
дом и парками. Корпуса, расходящиеся от центра, как бы затягива-
ют окружающее пространство в открытые дворы.
Проектирование комплекса начинал Б. Иофан. Предлагая фрон-
тальное развертывание композиции, он настаивал на том, чтобы
придвинуть комплекс к бровке Воробьевых гор. Подобное переме-
щение было возможно лишь ценой больших и дорогостоящих под-
готовительных работ. Руднев, которому был передан объект, согла-
сился с его глубинным положением, благодаря которому он получал
господство над обширными панорамами, открывающимися при
въезде в Москву с западной и юго-западной стороны. Это требова-
ло сочетания центричности и фронтальности в объемно-простран-
ственной системе, которая прорабатывалась на бесконечном мно-
жестве объемных макетов.
Первый толчок к структуре, основанной на сложной иерархии
вертикальных акцентов, дал ансамбль Ангкор Вата в Камбодже.
Форма здания создавалась прежде всего как абстрактная скульп-
тура — функциональное наполнение вписывалось в очертания, за-
данные объемным макетом (с последней задачей высокопрофессио-
нальный авторский коллектив справился, но ни растянутости гори-
зонтальных коммуникаций, ни неравномерной загрузки вертикаль-
ных избежать не удавалось — то и другое предопределено природой
объемно-пространственной структуры комплекса). При более де-
тальной проработке выявлялись и подчеркивались ассоциации его
вертикалей с ярусными башнями средневековой Руси. Детализация
пластического решения не могла опираться на существующие сте-
реотипы и каноны. И Руднев прибегал к методу, довольно неожидан-
ному — венчание объемов и декоративные детали, намеченные на
эскизах, прорабатывались на громадных бумажных листах в нату-
ральную величину углем и гуашью; листы эти затем вывешивались
на дворовом фасаде многоэтажного дома, где находилась мастерская,
чтобы имитировать восприятие частей постройки в натуре.
Композиция в целом все же отягощена избытком пластических
деталей, контрастов цвета и фактур отделочных материалов. Чрез-
мерно и обилие фигуративной скульптуры, значительная часть ко-
торой расположена слишком высоко для человеческого восприятия.
Исторические ассоциации, с которыми связана форма, разнородны
и не слишком органично согласованы, что создает ощущение эк-
лектичности художественной концепции. И все же патетическая
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
337
приподнятость и романтичность замысла, особенно очевидные в
организации масс, впечатляют. Здание очень естественно вошло в
панораму Москвы, стало ориентиром, объединяющим обширные
пространства, оно запоминается.
Более локальна градостроительная роль здания Министерства
иностранных дел СССР, спроектированного В. Гельфрейхом и
М. Минкусом на Смоленской площади, входящей в систему Садово-
го кольца (1948-1953). Однако и с ним связана обширная простран-
ственная система. Его широкий корпус принимает на себя осевую
перспективу протяженной площади, полого поднимающейся к Садо-
вому кольцу от Бородинского моста через Москву-реку. Композиция
с развернутой вдоль фронта широкой прямоугольной башней в цен-
тре и пониженными, несколько выступающими вперед флангами,
повторяет схему объема неоготического небоскреба — госпиталя
Кулиджа в Нью-Йорке, поставленного на изгибе набережной широ-
кой Ист-Ривер. Поверхности объемов прообраза почти плоскостны;
отнесенность его к неоготике обозначена стрельчатыми арками, объ-
единяющими плоские вертикальные лопатки, расчленяющие по-
верхность фасадов. Авторы здания на Смоленской, напротив, стре-
мились повысить напряженность пластики фасадов, чтобы противо-
стоять обширному пространству. Они превратили наружные стены в
складчатые структуры, включающие стойки каркаса. Возникли па-
раллели с готическими контрфорсами, завершенными пинаклями.
По стилевой характеристике здание, однако, ближе к русской неого-
тике конца XVIII в., чем к настоящей готике.
По изначальной идее проекта, фронтально развернутый цен-
тральный объем здания должен был иметь горизонтальное завер-
шение с рядом пинаклей, акцентированным на углах. В 1952 г., ко-
гда в здании на Смоленской уже заканчивался монтаж основных
конструкций, проекты московских «высоток» просмотрел Сталин.
Он потребовал, чтобы все они завершались шатрами, в чем видел
традицию Москвы. Указание заставило переделывать на ходу вен-
чания четырех зданий — административных на Смоленской пло-
щади и у Красных ворот, жилого на площади Восстания и Универ-
ситета. Если в последнем случае замена первоначально намечавше-
гося скульптурного завершения шпилем-шатром не противоречила
логике целого, то для авторов здания МИД возникли серьезные
проблемы. Шатер не вписывался в сложившуюся фронтальную
систему, да и выведенные уже конструкции не могли воспринять
22 Зак. 303
338
Ра злел 13
дополнительной нагрузки. Вождь, однако, был непререкаем. Авто-
ры нашли, в конечном счете, решение, как-то связывающее центри-
ческую форму шатра с прямоугольным планом башни. Массив-
ность венчания, однако, пришлось имитировать бутафорией, окра-
шивая «под камень» тонкие медные листы на легком каркасе.
Жилое здание на площади Восстания (1950-1954), спроектиро-
ванное М. Посохиным и А. Мндоянцем, завершает перспективы
больших отрезков Садового кольца и радиальных улиц. Крылья его
крутыми террасами поднимаются до 18 этажей, 22 этажа имеет цен-
тральный объем, над которым возвышается восьмигранная башня,
завершенная чрезмерно тяжеловесным шатром (предписанным Ста-
линым). В пластической разработке фасадных стен пилястрами, за-
вершенными раскрепованным карнизом, как и в ярусном построе-
нии, архитекторы использовали характерные приемы русского ба-
рокко конца XVII в. Исторические ассоциации достаточно естест-
венно введены в структуру формы — лишь директивный шатер не
вписывается в гармоничное целое. Террассное построение объема
позволило создать широкий ассортимент комфортабельных квартир.
Наиболее активно обращались к историческим ассоциациям ав-
торы гостиницы «Ленинградская» (1949-1953) Л. Поляков и А. Бо-
рецкий. Вертикальный объем завершал протяженное и довольно
аморфное пространство Комсомольской площади, на которой стоят
неорусские здания Казанского (архит. А. Щусев, 1913-1926) и Яро-
славского (архит. Ф. Шехтель, 1903-1908) вокзалов. Стремясь под-
хватить их образный строй, Поляков и Борецкий ввели в форму зда-
ния вариации на темы русской архитектуры XVI-XVII вв. Очертания
основного вертикального объема было желательно сделать не слиш-
ком сильно расширяющимися при восприятии с диагональных на-
правлений. Вот почему квадратному сечению архитекторы предпо-
чли сочетание крестообразной фигуры с квадратом, повторяющее
нижнее сечение столпа храма в Коломенском. Венчание постройки и
пластическая разработка объема основаны на вариациях архитектур-
ных тем московского барокко XVII в. В этом случае возникли наибо-
лее серьезные затруднения с организацией функций в пределах габа-
ритов, заданных как бы извне — абсолютные величины сечения
башни оказались недостаточны для эффективной организации плана.
Одно из высотных сооружений — гостиница «Украина» (архит.
А. Мордвинов, 1949-1954) — имело форму, претендующую на
связь с неоклассицизмом. Здесь для архитектора возникли наи-
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
339
большие трудности. Канонизированные формы неоклассики, по
природе своей связанные с невысокими постройками, не связыва-
лись органично со структурой высотного сооружения. Композиция
в конечном счете дисгармонична, а «цитаты» в несвойственном для
них контексте стали почти неузнаваемы и не несут ассоциаций, ко-
торые связали бы здание с московской традицией.
Несомненна противоречивость задач, стоявших перед архитек-
торами, создававшими систему высотных зданий Москвы. Проти-
воречивость изначально заложена в сам принцип сотворяемой уто-
пии, да еще наделенной признаками вневременности. В то же вре-
мя, архитекторы искренне поверили в патриотическую и гуманную
направленность иллюзорной цели. В пределах, определяемых этой
задачей, они проявили высокий профессионализм и художествен-
ное мастерство (исключением был, пожалуй, коллектив, работав-
ший над гостиницей «Украина»). Осуществленные постройки дей-
ствительно сложились в систему ориентиров, дающую новое каче-
ство городу в целом, и повлиявшую на этажность и стилевые ха-
рактеристики застройки не столь исключительной значимости. Зве-
но системы, которое могло своим соседством визуально подавить
Кремль, — массивное 28-этажное здание гостиницы в Зарядье (ар-
хит. Д. Чечулин) — не было построено.
Во время проектирования и строительства высотных зданий
работа над предполагаемым центром системы — Дворцом Сове-
тов — как-то странно заглохла. Трудно утверждать, что уже к нача-
лу 1950-х гг. пришло понимание его ненужности. Быть может, о
подлинной причине несли свидетельство нигде официально не де-
монстрировавшиеся и не сохранившиеся ныне эскизы, которые на-
ходили уже в 1960-е гг. в архивных материалах бывшей мастерской
по проектированию Дворца. На них фигуру Ленина, венчающую
здание, заменяла другая фигура — Сталина14. Понятно, что перед
тем, как приступить к подобной трансформации, нужно было вы-
держать некий временной интервал.
Еще более непосредственным осуществлением идеи квазиутопии,
чем система высотных зданий, стал реконструированный в послево-
енные годы комплекс Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в
Москве (выставка 1939-1940 гг. перестроена в 1950-1954 гг.). Как
писал главный архитектор выставки А. Жуков, «сложное полифо-
ническое звучание является лейтмотивом главной темы богатства
страны, ее обильных колхозных урожаев, темы мирного героиче-
22*
340
Раздел 13
ского труда советских людей»15. Живописную асимметричную сис-
тему пространств старой выставки с ее легкими временными со-
оружениями сменил регулярный ансамбль, подчиненный главной
оси (соблюсти единство этой оси, впрочем, не удалось — отрезки,
которым подчинены восточная и западная части территории, не
стыкуются точно, что вызывает озадачивающий сбой в системе, по
интенции симметричной).
Система обладает всеми признаками идеального города того
времени: регулярностью (пусть несовершенной); преувеличенной
громадностью геометрически очерченных пространств (глубина
главной площади выставки — 450 м, поверхность — более 10 га);
парадной монументальностью и декоративной насыщенностью
форм всех построек. Все здания обладают завершенной в себе ком-
позицией, безразличной к окружению. Характерно многократное
повторение одной темы — ступенчато нарастающий храмоподоб-
ный объем, завершенный вертикальным акцентом, отвечающим
центральному торжественному залу в интерьере. Почти неизменно
повторяющиеся торжественные входные портики дополняли ассо-
циацию между павильонами и сакральными сооружениями. Этой
квазирелигиозной ноте подчинены произведения монументального
искусства, наполняющие интерьеры: их фигуративность подчинена
стереотипам аллегорий, уже складывавшимся в подобие византий-
ского иконографического канона. Естественно, что в этой системе
экспонаты не могли оставаться прозаическими продуктами сель-
ского хозяйства; капуста, помидоры и прочие дары природы, попа-
дая в ирреальное инобытие павильонов-храмов, становились зна-
ками, складывающимися в образ абстрактной идеи изобилия.
Историзм был общим принципом архитектуры ВСХВ 1954 г.
При всей пестроте павильонов, принцип этот реализовался едино-
образно: общая схема, восходящая к композиционным средствам
неоклассицизма, облекалась в декоративные атрибуты, означающие
конкретную национальную принадлежность (основная часть па-
вильонов тематически связывалась с определенной республикой
или регионом). Подобную версию социалистического реализма в
архитектуре, который, по одному из определений, должен быть со-
циалистическим по содержанию и национальным по форме, еще в
довоенные годы практиковали А. Таманян и А. Щусев. При этом
главный павильон (архит. Ю. Щуко) и отраслевые павильоны, рав-
но как и павильоны российские, облекались в формы как бы внена-
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия 341
ционального, международного классицизма (предполагалось, что
для России проблема национального не существует и она является
заботой лишь «национальных республик»).
Любопытно, что в теории подобная ситуация связывалась с не-
кой особой значимостью русского народа. М. Рзянин, в то время
один из идеологов Союза советских архитекторов, писал: «В общей
сокровищнице национального наследия архитектуры народов СССР
особую, объединяющую и оплодотворяющую роль играет наследие
великого русского народа. Это объясняется тем, что в братском со-
дружестве социалистических наций, в развитии их культуры роль
старшего брата среди равных принадлежит великому русскому на-
роду и его культуре...»16. Однако на деле традиция классицизма,
выработанная русской, наиболее равной среди равных наций, ста-
новилась средством всеобщей нивелировки и, вместе с тем, теряла
свое собственное «необщее выраженье».
Демонстративная роскошь сказочного города ВСХВ также да-
лека от тягот реальной жизни деревни начала 1950-х гг., не опра-
вившейся от последствий великого перелома и великой войны, как
музыкальные киносказки «Кубанские казаки» и «Сказание о Земле
сибирской». Парадокс этой материализации гипертрофированной
пропаганды заключался в том, что большей частью людей того
времени она не соотносилась с действительностью и воспринима-
лась как утопия, миф, позволяющий испытать «эффект присутст-
вия». Она находила своего благодарного зрителя, как и сентимен-
тальная легенда Пырьева.
Изначальная неправда квазиутопии многими в громадном кол-
лективе вовлеченных в нее архитекторов и художников была очевид-
на, к участию привлекала возможность легкого заработка, продуктом
работы становился патетический кич, заведомо рассчитанный на не-
развитый вкус. Других, однако, искренне привлекала иллюзия мате-
риализации мечты — благодаря этому среди претенциозных постро-
ек выставки возникли свеже и остро трактованные версии историз-
ма, осуществленные с высоким профессиональным мастерством.
Наиболее яркая среди них — павильон Белорусской ССР (архи-
текторы Г. Захаров, 3. Чернышева). Сквозь двойную колоннаду от-
крывается полуциркульный дворик-аванвестибюль. Объем уступами
поднимается к ротонде, которая увенчана скульптурой, покрытой
золотой смальтой. Общую праздничность дополняют спиральные
гирлянды из цветной керамики на стволах колонн внутренней сторо-
342
Раздел 13
ны дворика. Строгая стройность отмечает фронтально развернутую
композицию павильона Ленинграда и Северо-Запада (архит. Е. Ле-
винсон). На невысокий протяженный объем здесь поставлен дориче-
ский периптер — реминисценция петербургского классицизма.
Очень индивидуальное истолкование получили мотивы восточной
архитектуры в лаконичной и, вместе с тем, откровенно декоративной
композиции павильона Башкирской АССР (архит. М. Оленев).
Архитектурные мифы конца 1940-х - начала 1950-х затронули
и подземные уровни метро. Задача преодолеть стресс от пребыва-
ния в необычной обстановке подчинила себе архитектуру предво-
енных первых очередей строительства. Метафора «подземные
дворцы» прозвучала тогда как оценка праздничных и светлых ин-
терьеров станций. Для архитектуры Московского и Ленинградского
метро послевоенных лет «дворец» стал исходной парадигмой про-
ектирования. Установка на дворцовость обязывала к монументаль-
ности, использованию дорогих материалов, декоративной насы-
щенности, включению скульптуры и мозаики. Очевидно и глубокое
изменение в понимании роли исторических прообразов для новой
архитектуры, которое произошло всего лишь за несколько лет. Гиб-
кий подход к стилеобразованию оказался вытеснен несколькими па-
раллельно существующими, но внутренне довольно жесткими кано-
ническими системами (неоренессансной, неоклассицистической,
неорусской). Ассоциативные метафорические связи с формальными
системами прошлого стали вытесняться прямым цитированием кон-
кретного круга исторических памятников и стилизациями.
Характерна станция метро «Комсомольская-кольцевая» (архит.
А. Щусев, 1952). Подземный зал ее необычно просторен для стан-
ций глубокого заложения. Стальные колонны позволили слить про-
странства боковых и среднего нефа. Сооружение задумано как ме-
мориал. Теме русской воинской славы посвящено огромное моза-
ичное панно (художник П. Корин), введенное в поверхность свода.
Однако стремление связать архитектуру с национальной культур-
ной традицией сведено к эффектной стилизации под русское барок-
ко XVTI в. (прямым прообразом многих мотивов послужил интерь-
ер трапезной церкви Одигитрии в кремле Ростова Великого). Моти-
вы, скорее праздничные, чем монументальные, сближают станцию
с интерьерами Казанского вокзала, сооруженного Щусевым на той
же площади. Тем самым устанавливается связь с тем, что лежит на
поверхности земли (связь, правда, скорее интеллектуально-рассу-
Архитектура и время. Историзм и квазиугопия
343
дочная, чем непосредственно эмоциональная). Мозаики выполнены
мастерски, но без учета их положения на своде, как картина, кото-
рая должна находиться на вертикальной стене. Их осмысленное
созерцание исключено реальной ситуацией одной из самых ожив-
ленных станций подземной дороги. Да и вообще динамичная проза
жизни подземного вокзала странно сочетается с барочным велико-
лепием (не говоря уж о его столкновении со стилистикой дизайна
поездов и сигнальных устройств). При всех противоречиях, станция
впечатляет приподнятостью, мажорностью, создаваемой как про-
странственным решением, так и мастерски нарисованным декором.
В архитектуре станции «Октябрьская» (архит. Л. Поляков, 1950)
также звучит тема военного триумфа. Для подземного зала исполь-
зована тема сочетания массивных пилонов с ордером, которую в
предвоенные годы разработал И. Фомин, учитель Полякова, для
станции «Площадь Свердлова». Венки и трофеи введены как алле-
горические конкретизации темы, но не это главное для образа стан-
ции. Ее архитектура возвращает ко времени победы над Наполео-
ном через стилистику «русского ампира» тех лет. Нет, архитектор
не стилизовал. Он вжился в дух исторического стиля и метода его
создателей и творил «изнутри», как бы возрождая решение ампир-
ного мастера, чудом перенесенное в середину XX в. Ощущение
подлинности в такой имитации, созданной на нетрадиционной про-
странственной основе, требовало высокого профессионального
мастерства и знания художественной культуры прошлого. Подобным
методом, но в более мягкой, лирической тональности Поляков не-
сколько позже создал станцию «Пушкинская» в Ленинграде (1954).
Как сложный ансамбль взаимосвязанных интерьеров Г. Захаров
и 3. Чернышева запроектировали станцию «Курская-кольцевая»
московского метро (1950). Каждый из них решен в особом эмоцио-
нальном и стилистическом ключе, из-за чего возникает впечатление
известной дробности и эклектизма. Лучшей частью этой системы
стал подземный вестибюль. В лаконичном и чистом рисунке его
пилонов тонко и точно использованы архетипы дорики. Декоратив-
ный мотив гирлянды над антаблементом создал очень тонкий и
нужный в метро психологический эффект, как бы повышая зри-
тельно высоту среднего нефа станции.
Тому же времени принадлежит станция «Серпуховская» (ныне
«Добрынинская», архит. А. Зеленин, М. Ильин, Л. Павлов, 1950).
Нефы ее подземного вестибюля связаны рядами ступенчатых ароч-
344
Раздел 13
ных порталов, облицованных серым мрамором. Эта архитектурная
тема несет тонкие ассоциации с архитектурой средневековой Мо-
сквы. В формах наземного павильона тема переплетается с не-
оклассическими мотивами, привязывающими павильон к характеру
других зданий на площади.
Конец 1940-х гг. стал временем, когда началась работа над се-
рией гидротехнических систем. Первым — в 1952 г. — завершен
Волго-Донской судоходный канал, соединивший крупнейшие реки
европейской части России. Трасса его пролегла через Донские сте-
пи от Сталинграда на запад к городу Калачу, по местам самых
упорных сражений Второй мировой войны. Все это определило
особое отношение к комплексу сооружений канала. Вся система
задумывалась как целое, подобно некой монументальной городской
магистрали (наподобие тех, что намечались при разработке проек-
тов детальной планировки на основе Генерального плана Москвы
1935 г.). Восприятие целого должен был обеспечить характер дви-
жения по каналу — с остановками в шлюзах, с которыми связаны
главные архитектурные акценты, и быстрым передвижением между
ними. И здесь возникали очертания некой осуществленной утопии.
Сооружениям канала решено было придать символическую
форму, не просто несущую значение, но «красноречивую». Проект
надводных сооружений выполнила группа, руководимая Д. Поля-
ковым (Ф. Топунов, С. Бирюков, Г. Борис, Г. Васильев, А. Рочегов,
Р. Якубов). Трактуя их как растянутую в пространстве цепь мону-
ментов, архитекторы обратились к героико-романтической традиции
русского классицизма начала XIX в. Объемы зданий управления
шлюзов, открывающие входы в канал со стороны Волги и со сторо-
ны Дона, объединены поднятыми над трассой створками опускаемых
аварийных ворот. Целое сформировано как гигантская триумфальная
арка, пропускающая суда. Монументальны и менее помпезные со-
оружения других шлюзов, образующие пропилеи, обрамляющие
трассу. Их здания вырастают над монолитами гидротехнического
бетона, составляя с ними единое целое. Крупные силуэты господ-
ствуют над обширными пространствами степного ландшафта. В раз-
работке форм архитекторы стремились к двойственности масштаба,
соизмеряя крупные формы со шкалой человеческих величин.
Историзм и монументальность архитектуры канала очевидны.
Но проявилась в этой работе и другая тенденция, укреплявшаяся в
первой половине 1950-х. Монументальные объемы возникали как
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
345
результат разумного упорядочения функциональной и конструк-
тивной структуры сооружений, эстетического осмысления целесо-
образного. Присущее классицизму рациональное отношение к
форме претворено не только в выразительность построек, но и их
функциональную целесообразность (так, например, были созданы
лучшие условия для наблюдения за подходящими судами и управ-
ления шлюзами в сравнении с обычными для того времени систе-
мами). Поиски «естественной» архитектуры под руководством
Л. Полякова были продолжены и при проектировании сооружений
Волго-Балтийского водного пути (архит. В. Петров, А. Горицкий,
А. Иконников, К. Митрофанов, Г. Никулин, Г. Пересторонина и др,,
1951-1953). Здесь прообразами служили лаконичные объемы укреп-
ленных монастырей XVII в. с их ажурными венчаниями, где белока-
менные детали выступали на фоне краснокирпичной стены (строи-
тельство Волго-Балта было прервано в 1953 г. и возобновлено через
несколько лет уже по другому проекту).
Мифологизированные утопии конца сороковых - начала пяти-
десятых влияли и на формирование селитебной ткани городов. То,
что делалось именно здесь, в конечном счете, оказалось решающим
для сложившегося в то время направления развития архитектуры,
именно здесь внутренние противоречия профессии, обостренные
давлением командно-административных методов руководства, вели
к черте, за которой можно было лишь начинать заново, отбросив
все принятые критерии и привычные стереотипы.
Высшие достижения «архитектуры как искусства» в жилищном
строительстве тех лет привычно связывались с реконструкцией глав-
ных городских магистралей, где жилые дома создавались как объек-
ты, форма которых претендует на выражение духа эпохи, ее идей.
Именно эта часть жилищного строительства воспринималась как
престижная и наиболее значимая для профессиональной репутации,
ей отдавали свои силы наиболее опытные архитекторы с высоким
положением в официальной иерархии, только ей уделяла внимание
критика. Здесь определялась направленность архитектуры жилища.
Главные магистрали застраивались как дороги триумфа, об-
рамление праздничных шествий, зрелищ, созерцаемых как бы со
стороны. Жилье служило некой субстанцией, из которой вылепли-
вались объемы, формирующие пространство. Наиболее развернуто
этот принцип уличного ансамбля реализован при реконструкции
Крещатика в Киеве и проспекта Ленина в Минске. В Москве проек-
346
Раздел 13
тировался «южный луч», частью которого становилась Люсиновская
улица. В Ленинграде в 1954 г. проведен конкурс на проспект Стали-
на, где был представлен широкий диапазон помпезных решений.
В конкретных реализациях можно особо выделить два направ-
ления, имевших последовательно развиваемые историцистские кон-
цепции — вариации принципов композиции петербургского класси-
цизма, которые разрабатывались ленинградскими архитекторами, и
неоренессанс школы И. Жолтовского.
Ленинградцы настойчиво эксплуатировали схему расчленения
объема на рустованный первый этаж, трактованный как цоколь, и
объединенные ордером парадный бельэтаж и третий этаж с интим-
ными помещениями. Эту схему особняка накладывали на секцион-
ный дом с его равнозначными по высоте и одинаковыми по функции
этажами. При этом разрабатывали приемы, позволяющие вписать в
каноническую схему не три, но пять-девять этажей. В рисунке ордера
ориентировались на строгий классицизм конца XVIII в. (архит. А. Бо-
рутчев, М. Бенуа, О. Гурьев, Б. Журавлев, В. Фромзель и др.). Уже в
начале 1950-х гг. С. Сперанский предпочел ориентацию на более де-
коративную и парадную архитектуру Карла Росси. В рамках этой на-
правленности совершались парадоксальные попытки стандартизиро-
вать элементы архитектурного языка неоклассицизма и ввести их в
систему сборного крупноблочного строительства (архит. Б. Журавлев,
В. Васильковский и др.). Интересно отметить сходство многих моти-
вов и приемов этого индустриализованного неоклассицизма с постмо-
дернистскими экспериментами Р. Бофилла 1980-х гг. во Франции.
Неоренессанс Жолтовского сложился в сороковые годы в осо-
бенно цельную систему. Она реализована в серии «магистральных»
домов. Первым завершен дом на Ленинском проспекте (1949).
Восьмиэтажная пластина, растянутая вдоль фронта улицы, спокойна
и торжественна. Крупный, энергично прорисованный карниз, соеди-
нивший черты венчания флорентийских палаццо XV-XVI вв., —
основная тема композиции. Строго продуманы и рассчитаны соот-
ношения частей, разделенных горизонтальными тягами. Использо-
вана тектоническая тема флорентийского палаццо Гонди, в которой
символически раскрыта тектоника массивной стены. Нижние этажи
облицованы рустом, имитирующим кладку из каменных блоков.
Рельеф руста сокращается в верхних членениях. На гладкой плос-
кости, объединившей верхние три этажа, декоративные вставки об-
разуют крупный ритм. Впечатление грузной тяжести стены внизу и
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
347
ее облегчение кверху усилено тонкой игрой цвета — насыщенно-
золотистого на рустах и высветленного на верхней части фасада.
Достигнуто, как будто, невозможное — на стене многоэтажно-
го кирпичного дома с его равномерной сеткой одинаковых окон
воспроизведена структура ренессансного палаццо во всей сложно-
сти ее нюансов. При этом архитектор не поступился ни чистотой
композиции, построенной на принципах ренессансной системы, ни
логикой организации современного жилища.
Дом на Ленинском проспекте отмечен городской замкнуто-
стью. Одиннадцатиэтажный дом на проспекте Мира (1951) более
интимен, легок. Облегчен и его сильно вынесенный карниз, имити-
рующий в бетоне деревянные карнизы флорентийского Ренессанса.
Энергично выступающие ризалиты отодвигают дом от линии про-
спекта. Всем этим архитектор стремился откликнуться на близость
парковых массивов. Жолтовскому многие подражали, не достигая,
впрочем, видимой органичности его работ. Попытки соединить его
уроки с традицией ленинградской школы (архит. В. Каменский)
были совсем уж эклектичны.
Для нравов времени характерны оценки творчества Жолтовско-
го в профессиональной критике и на совещаниях Союза архитекто-
ров. С началом кампании по борьбе с космополитизмом Жолтов-
ский стал объектом проработок; развернулись жестокие нападки на
его последователей. Однако, в 1950 г., он был награжден Сталин-
ской премией. Изменение оценок — причем со стороны тех людей,
которые были особенно решительны в обличении его формализма и
космополитизма — было полярным и мгновенным.
Можно было бы назвать и другие направления поисков неоре-
нессансных и неоклассических композиций. Некоторые варианты
приводили к чрезмерной перегруженности фасадов, монументаль-
ности, чуждой духу жилища. Были и варианты достаточно сдер-
жанные в своих средствах формального выражения. Стереотипы,
выработанные при застройке магистралей, переносились — с той
или иной степенью упрощения — на рядовую ткань застройки го-
родов. При подобном тиражировании приемов многие объекты —
особенно в провинциальных городах, остро страдавших от недос-
татка квалифицированных кадров, — теряли качественный уровень
первоисточника, обращаясь в кич «сталинского ампира».
Главной ценой проекции историзма на современную застройку
оказывались при этом не прямые затраты на декорацию фасадов
348
Раздел 13
(как правило, они находились в пределах 1-2 % от общей стоимо-
сти дома). Сутью дела стало противоречие между ремесленным,
рукодельным характером ретроспективной декорации и требова-
ниями новых эффективных методов строительства.
И. Жолтовский в начале 1950-х гг. едва ли не единственным
осознал проблему во всей глубине. Он предложил путь, обещавший
возможность соединить индивидуальное и стандартное, не отказы-
ваясь от эстетического потенциала архитектуры. Под его руково-
дством в 1952-1953 гг. разработана серия проектов жилых домов,
основной объем которых собирается из панелей заводского изго-
товления. При этом венчающие части и первые этажи имели инди-
видуальный характер и осуществлялись традиционными методами.
Однако к этому времени архитектурный историзм в принципе в
массовом сознании оказался связан с трудностями на пути решения
социальных задач строительства. С наступлением «хрущевской
весны» архитектура 1940-х - начала 1950-х гг. стала ассоцииро-
ваться со сталинщиной, с ее тупой и навязчивой пропагандой. На-
ступило эмоциональное отчуждение от нее, порожденное этиче-
скими импульсами.
Радикализм и нетерпеливость Н. С. Хрущева привели к тому,
что перелом, назревший уже внутри архитектурной профессии, не
осуществился. Его заменила серия решительных, в сталинском ду-
хе, но поспешных и необдуманных мер «сверху», которые вели не к
изменениям в архитектуре, но к ее демонтажу. Устранение неру-
тинных моментов архитектурного творчества в сочетании с развер-
тыванием индустриальных методов строительства дали почти не-
медленный прирост темпа количественного роста жилого фонда.
Однако энергично и быстро оказались развернуты негибкие, обла-
дающие большой инерционностью строительные системы, которые
уже через полтора десятилетия породили новые трудности.
Примечания
1. Советское искусство. 1932. № 11 (149). 2 марта.
2. Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. I.
М., 1934. С. 716.
3. Михайлов А. Творческие вопросы советской архитектуры// Красная
новь. 1935. Кн. 2. С. 201.
4. Лисицкий Л. Форум социалистической Москвы // Архитектура СССР.
1934. № 10. С. 5.
Архитектура и время. Историзм и квазиутопия
349
5. Луначарский А. Социалистический архитектурный монумент// Строи-
тельство Москвы. 1933. № 5-6. С. 9.
6. Чаликова В. От Беловодья до... Бабаевского// Книжное обозрение.
1989. № 17. 28 апр. С. 8.
7. Мордвинов А. Г. Социалистический реализм в архитектуре. Доклад на
VIII сессии Всесоюзной академии архитектуры 28 декабря 1947 го-
да // ЦГАНХ СССР. Ф. 293. On. I. Д. 201. Л. 87.
8. Цапенко М. О реалистических основах советской архитектуры. М.,
1952; Он же. Социалистический реализм — метод советского зодче-
ства И Архитектура и строительство. 1949. № 11. Ноябрь. С. 2-10.
9. Цапенко М. Социалистический реализм — метод советского зодчест-
ва. С. 2.
10. Там же.
11. Алабян К. С. Доклад на общегородском собрании московских архи-
текторов в связи с постановлением ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и
«Ленинград» И ЦГАЛИ СССР. Ф. 674. Оп. 2. Д. 195.
12. Олтаржевский В. К. Строительство высотных зданий в Москве. М.,
1953. С.З.
13. О строительстве в Москве многоэтажных зданий. Постановление Со-
вета Министров СССР от 13 января 1947 г.// Советское искусство.
1947. 28 февр.
14. По свидетельству архит. Ф. А. Новикова.
15. Жуков А. Архитектурно-планировочный ансамбль Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки // Архитектура СССР. 1954. № 7. С. 14.
16. Рзянин М. Об освоении классического наследия в советской архитек-
туре // Архитектура СССР. 1952. № 12. С. 19.
URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru
URSS.ru UWSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru
Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!
Наше издательство специализируется на выпуске научной и учебной
литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Россий-
ской академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных
заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономи-
ческих условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке
издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования
и распространения.
URSS
Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:
Семенов Вл. Благоустройство городов.
Новиков Ф. А. Зодчие и зодчество.
Архитектурное наследство. Вып. 43-47.
Христианское зодчество. Под ред. Бондаренко И. А.
Архитектура в истории русской культуры. Пол ред. Бондаренко И. А.:
Вып. 2: Столичный город; Вып. 3: Желаемое и действительное;
Вып. 5: Стиль ампир; Вып. 6: Переломы эпох.
Бондаренко И. А. Древнерусское градостроительство: традиции и идеалы.
Вопросы всеобщей истории архитектуры. Под ред. Воронова А. А.
Лола А. Л/. Основы градоведения и теории города.
Савченко М. Р. Архитектура как наука: методология прикладного исследования.
Градостроительство в век информатизации. Под ред. Вавакина Л. В., Белоусова В. Н.
Российская академия архитектуры и строительных наук. Дела и люди. Т. 1, 2.
Под ред. Кудрявцева А. П. и др.
Кудрявцев А. П.. Метленков Н. Ф. и др. Архитектурное образование.
Николаева М. В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Первая четверть
XVIII в. Подрядные записи. В 2 т.
Купеческое строительство Ивановской области. Вып. 2, 3. Под ред. Щеболевой Е. Г.
Попадюк С. С. Неизвестная провинция. Историко-архитектурные исследования.
Попадюк С. С. Теория неклассических архитектурных форм.
Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI—XX вв. Под ред.
Ивановой Л. В.
Рыцарев К. В., Щенков А. С. Европейская реставрационная мысль в 1940—1980-е годы.
Вопросы теории архитектуры. Под ред. Азизян И. А.
Кириллов В. В. Архитектура «северного модерна».
Кириллов В. В. Архитектура Москвы на путях европеизации.
Вопросы теории архитектуры. Архитектурно-теоретическая мысль Нового и Новейшего
времени. Под ред. Азизян И. А.
Вопросы теории архитектуры. Архитектурное сознание XX-XXI веков: разломы
и переходы. Под ред. Азизян И. А.
Бодэ А. Б. Поэзия Русского Севера: Иллюстрированный обзор существующих
памятников деревянного культового зодчества.
Бодэ А. Б. Архитектурная сокровищница Поонежья.
Лебедева Г. С. Новейший комментарий к трактату Витрувия.
По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:
тел./факс (095) 135-42-16, 135-42-46
или электронной почтой URSS@LRSS.ru
Полный каталог изданий представлен
в Интернет-магазине: http://URSS.ru
URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru
Научная и учебная
литература
URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru
URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru
UHSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru
Представляем Вам наши лучшие книги:
Серия «Из истории архитектурной мысли»
Витрувий. Десять книг об архитектуре.
Михаловский И. Б. Теория классических архитектурных форм.
URSS
Серия «Теоретические основы градостроительства»
Саваренская Г.Ф.. Швидковский Д.О. Градостроительство Англии XVI!—XVI11 веков.
Саваренская ГФ. Швидковский Д.О., Кирюшина Л. Н. Градостроительная культура
Франции XV1I-XVIII веков.
Владимиров В. В.. Наймарк Н. И. Проблемы развития теории расселения в России.
Аникеев В. В., Владимиров В. В. Градостроительные проблемы совершенствования
административно-территориального устройства.
Лазарева И. В. URBI ЕТ ORBI: Пятое измерение города.
Культурология
Жукоцкая 3. Р. Культурология. Курс лекций.
Заховаева А. Г. Искусство: социально-философский анализ.
Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса.
Моль А. Социодинамика культуры.
Петров М. К. Язык, знак, культура.
Евин И. А. Искусство и синергетика.
Фриче В. М. Социология искусства.
Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества.
Шинкаренко В.Д. Смысловая структура социокультурного пространства. Кн. 1,2.
Шинкаренко В.Д. Нейротипология культуры.
Розин В. М. Личность и ее изучение.
Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир.
Шафранская Э. Ф. Мифопоэтика прозы Тимура Пулатова.
Гамзатова П. Р. Архаические традиции в народном декоративно-прикладном искусстве.
Афасижев М. Н. Изображение и слово в эволюции художественной культуры.
Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада.
Преображенский П. Ф. В мире античных образов.
Преображенский П. Ф. Тертуллиан и Рим.
Преображенский П. Ф. Курс этнологии.
Муриан И. Ф. Китайская раннебуддийская скульптура IV—VIII вв.
Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е.Д. Пять семей Будды. Металлическая
скульптура северного буддизма IX-X1X вв. из собрания ГМ В.
Мазаев А. И. Искусство и большевизм (1920—1930-е гг.).
Манин ВС. Искусство в резервации. Художественная жизнь России 1917—1941 гг.
Шукуров Ш. М. Образ человека в искусстве ислама.
Голицын ГА., Петров В. М. Социальная и культурная динамика.
Серия «Учебники и учебные пособия по культуре и искусству»
Быховская И. М. (отв. род.) Основы культурологии.
Шулепова Э. А. (отв. ред.) Основы музееведения.
Разлогов К. Э. (отв. ред.) Новые аудиовизуальные технологии.
UR5S.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru
URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru