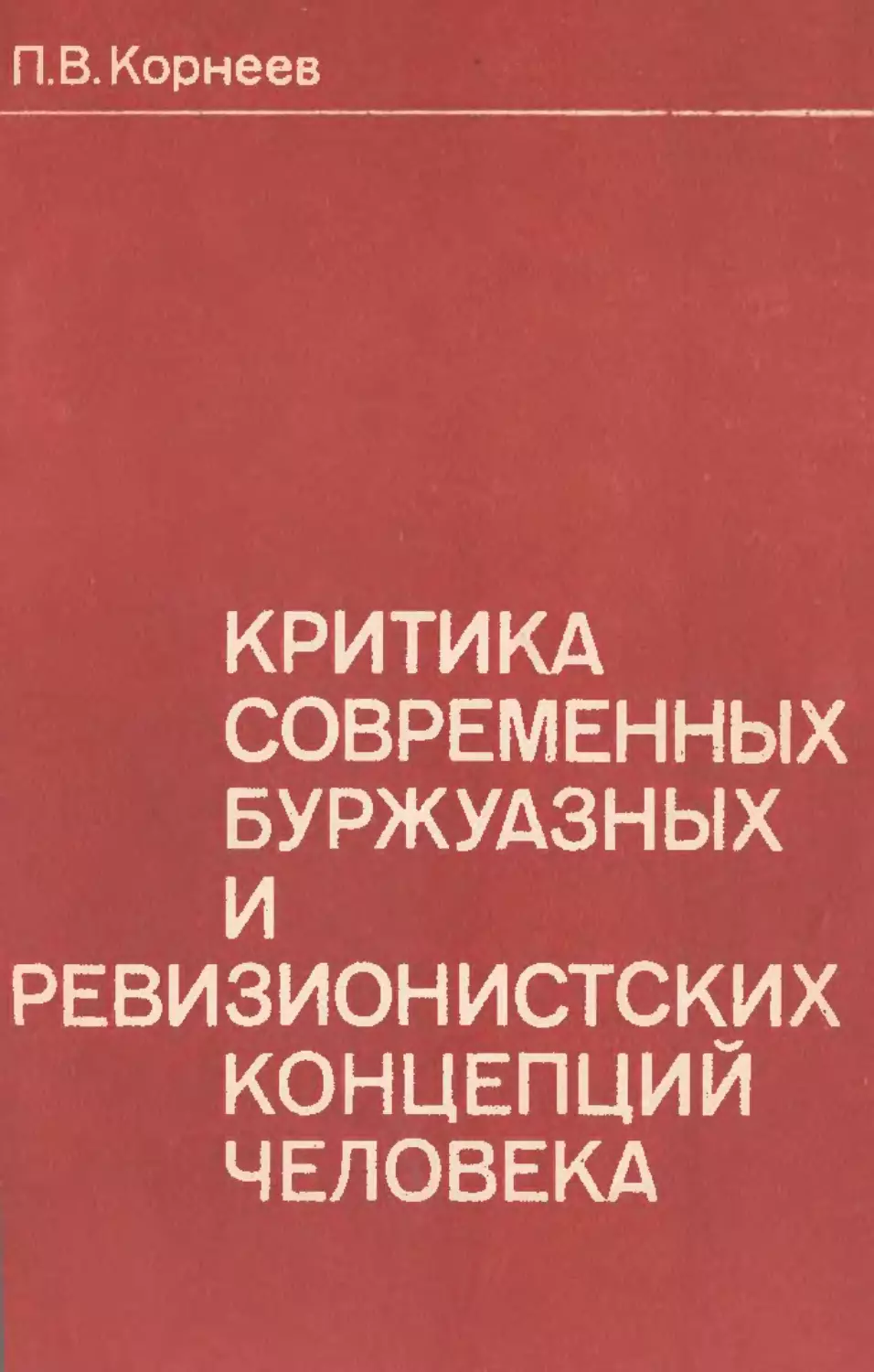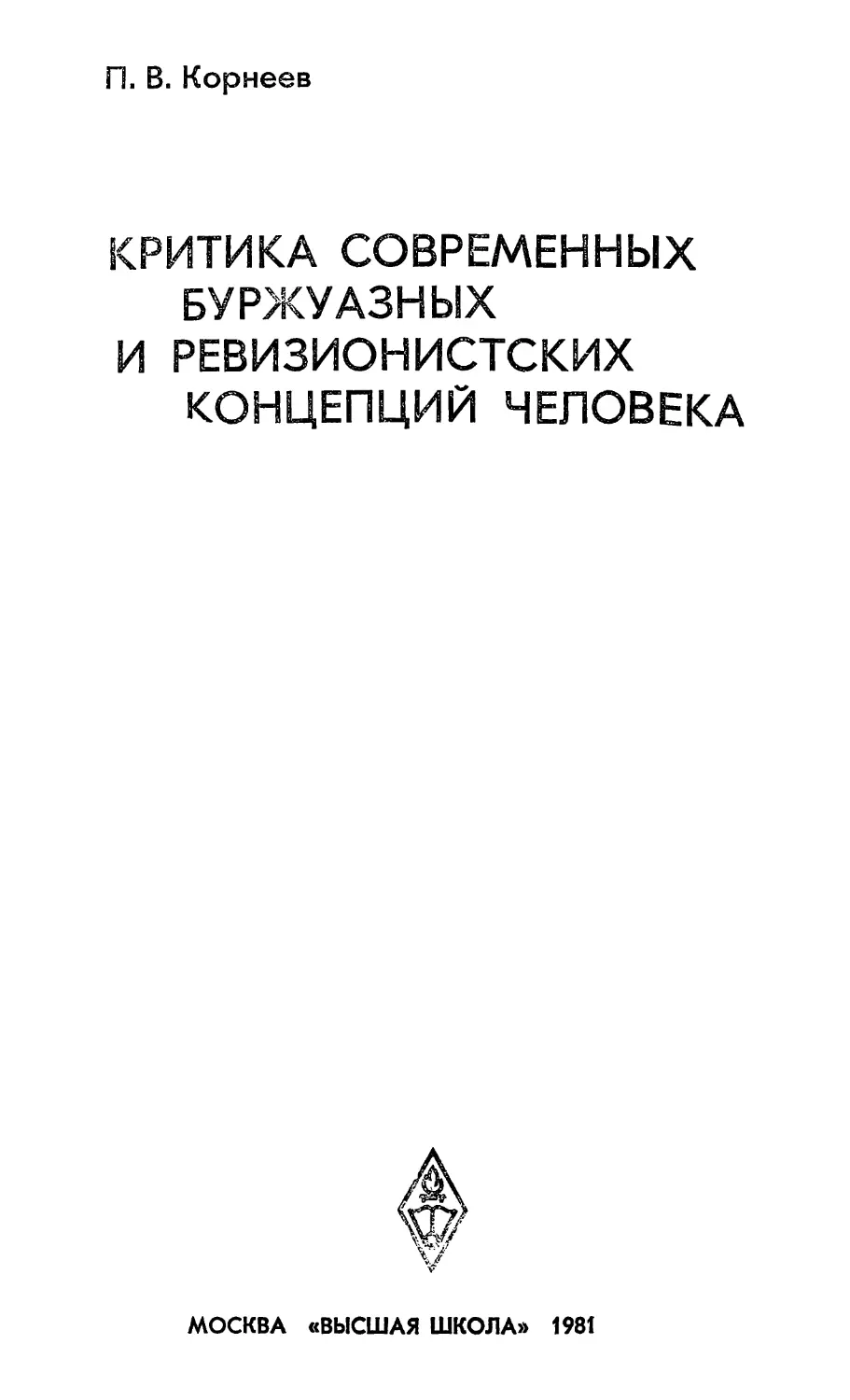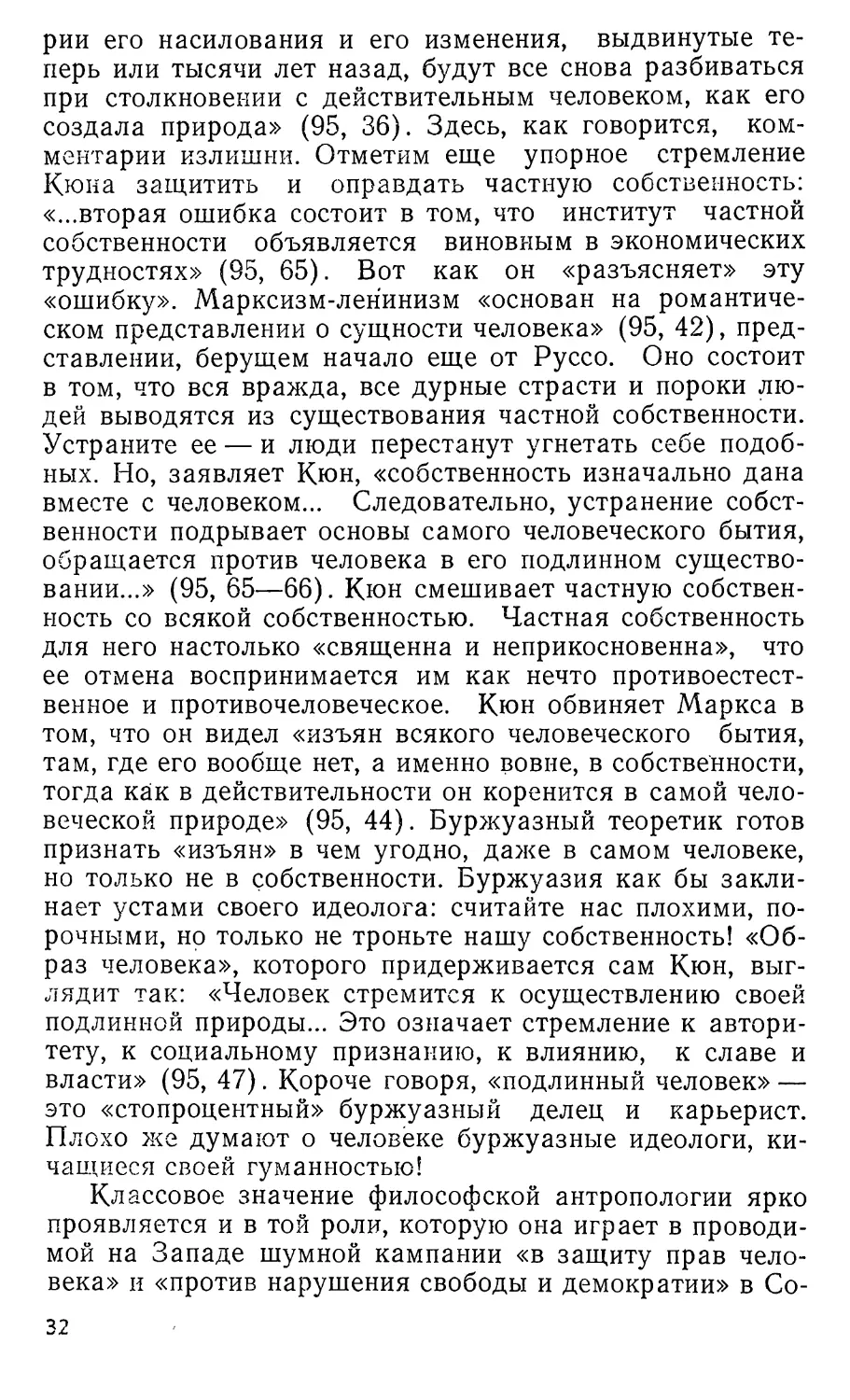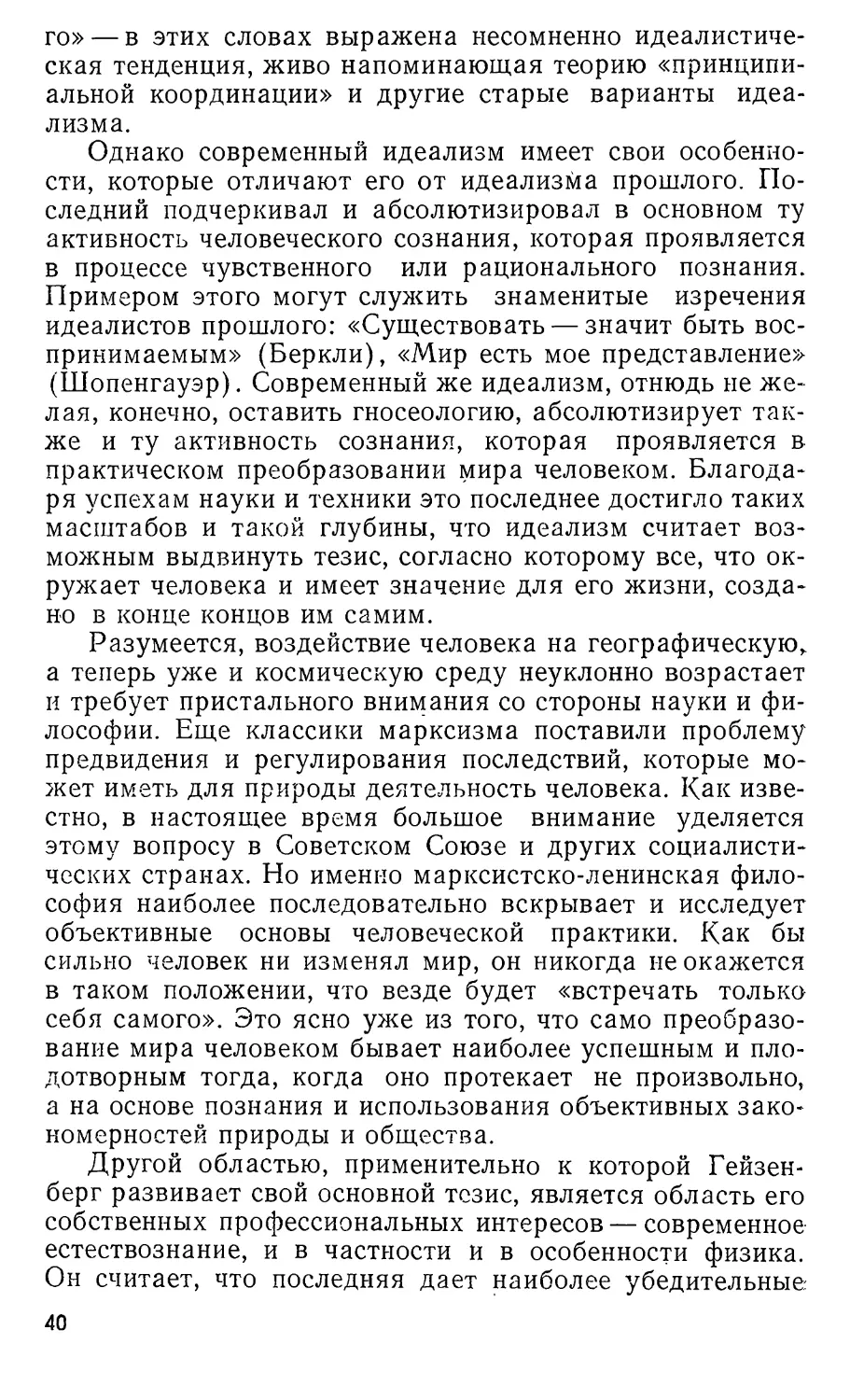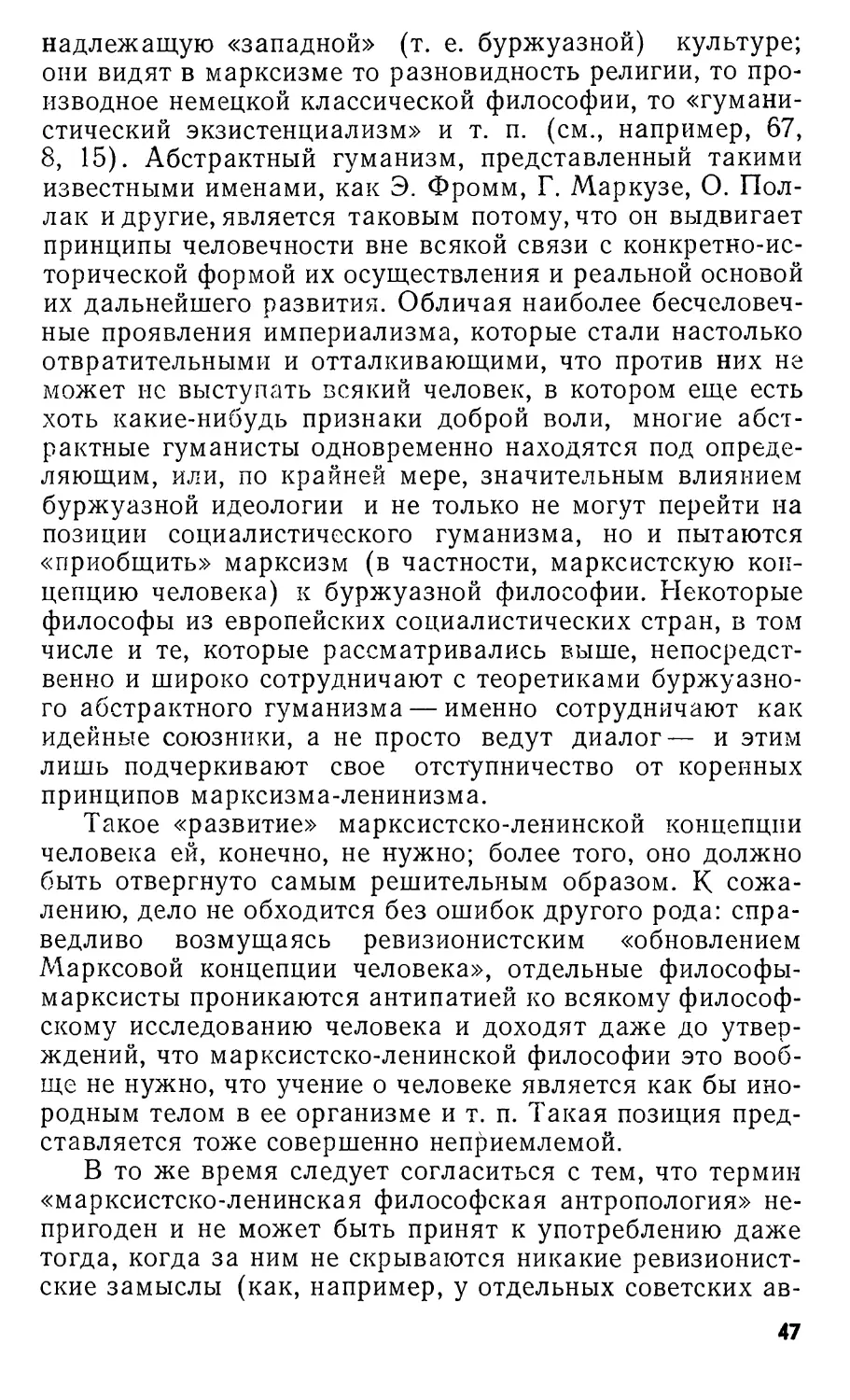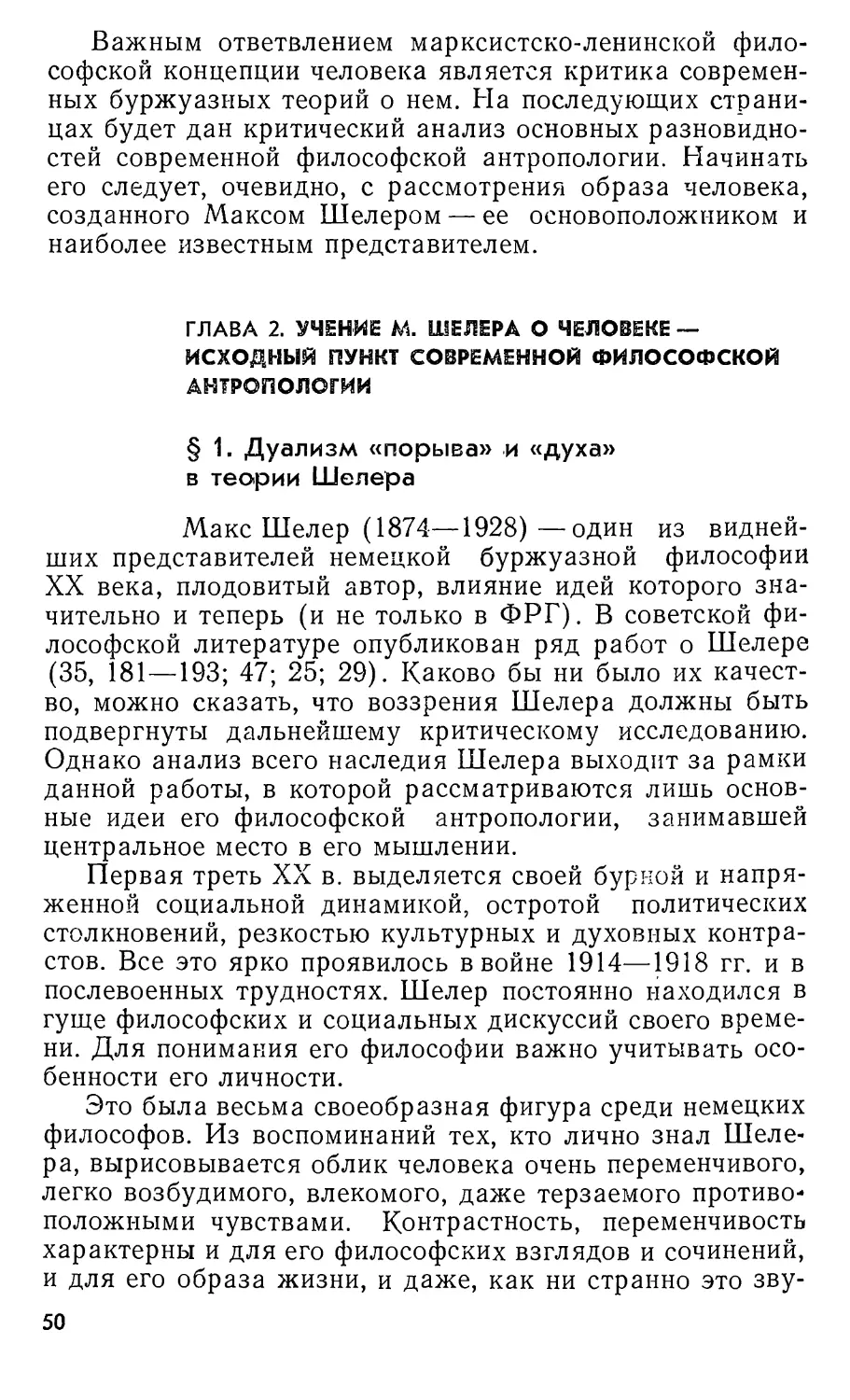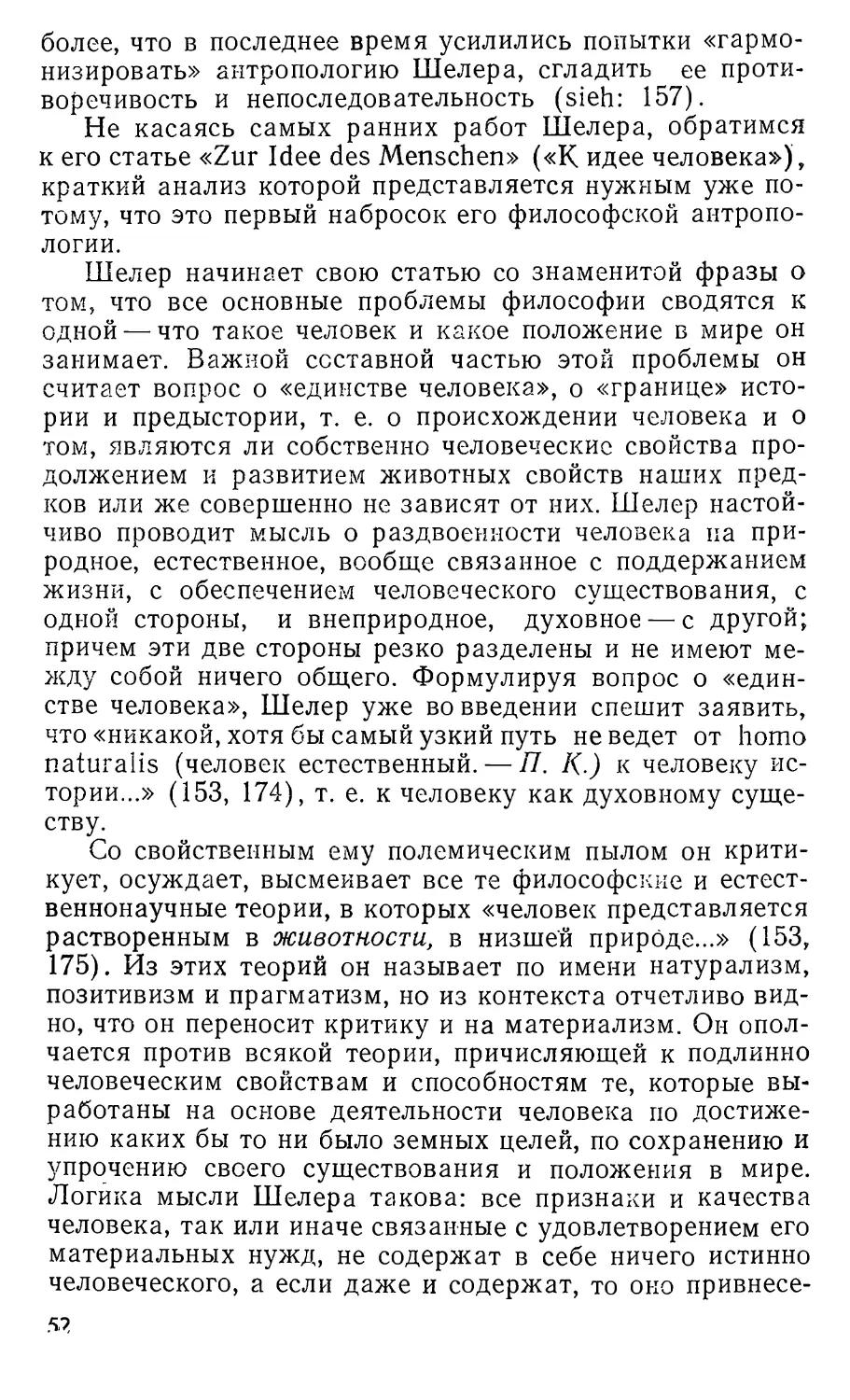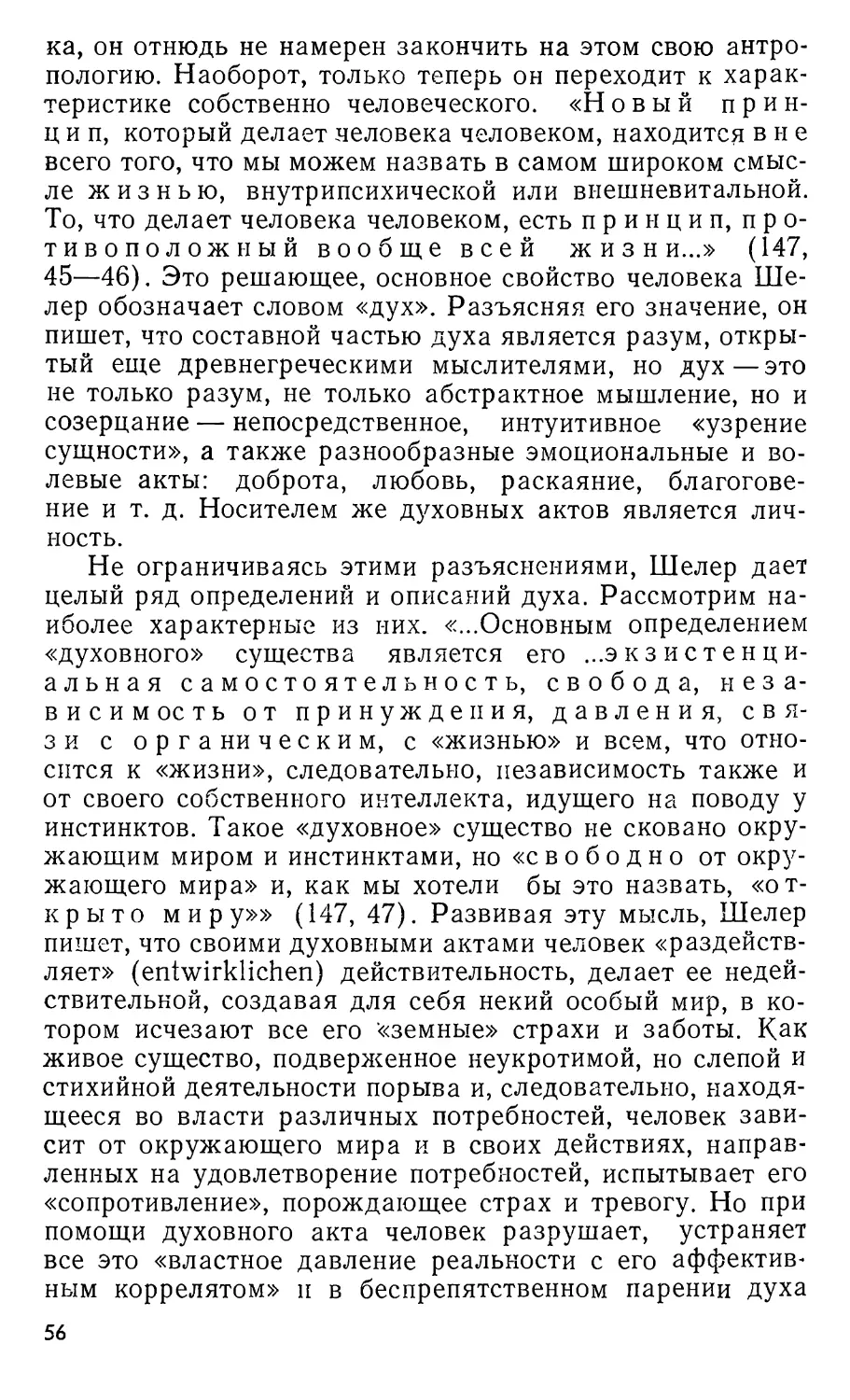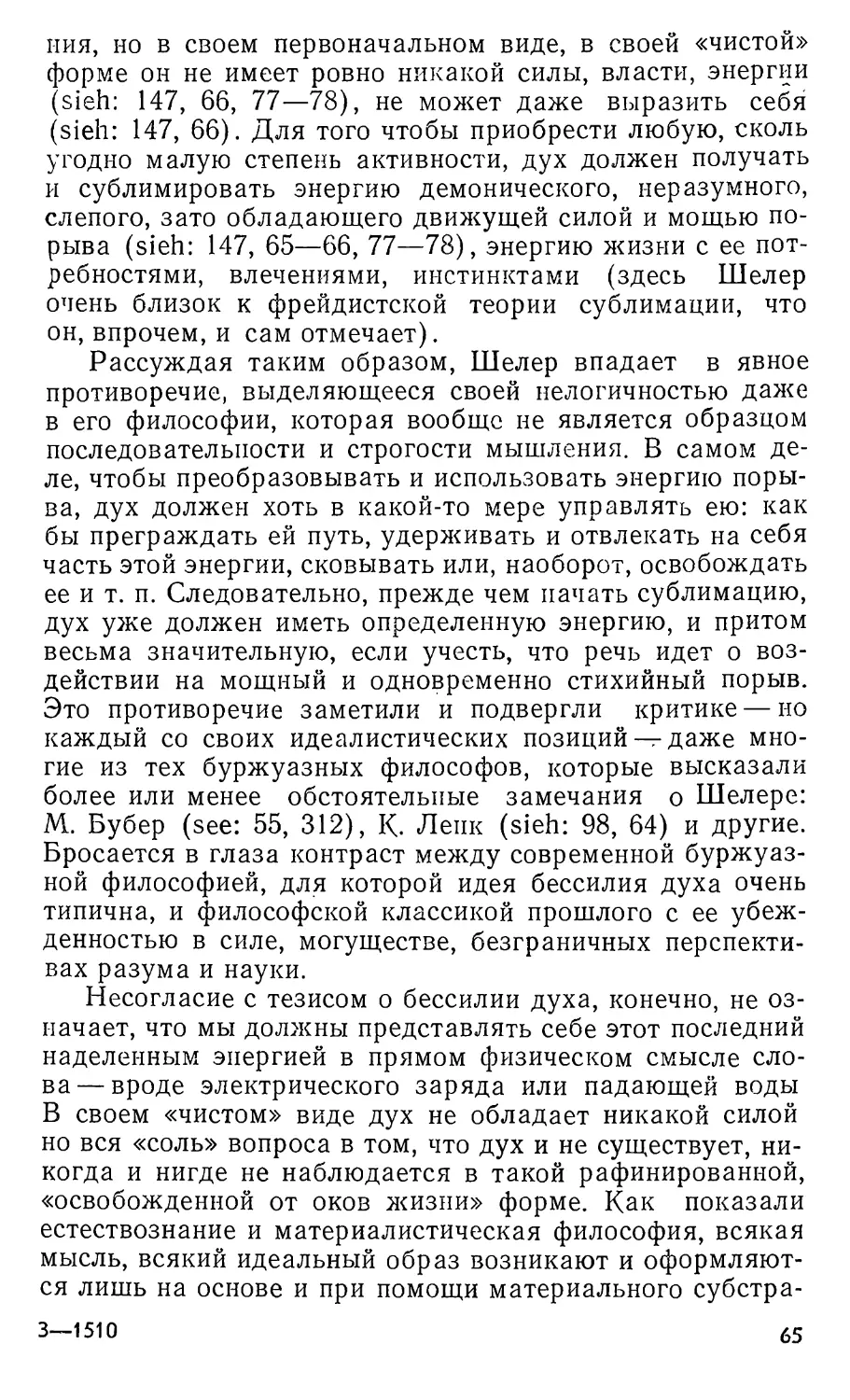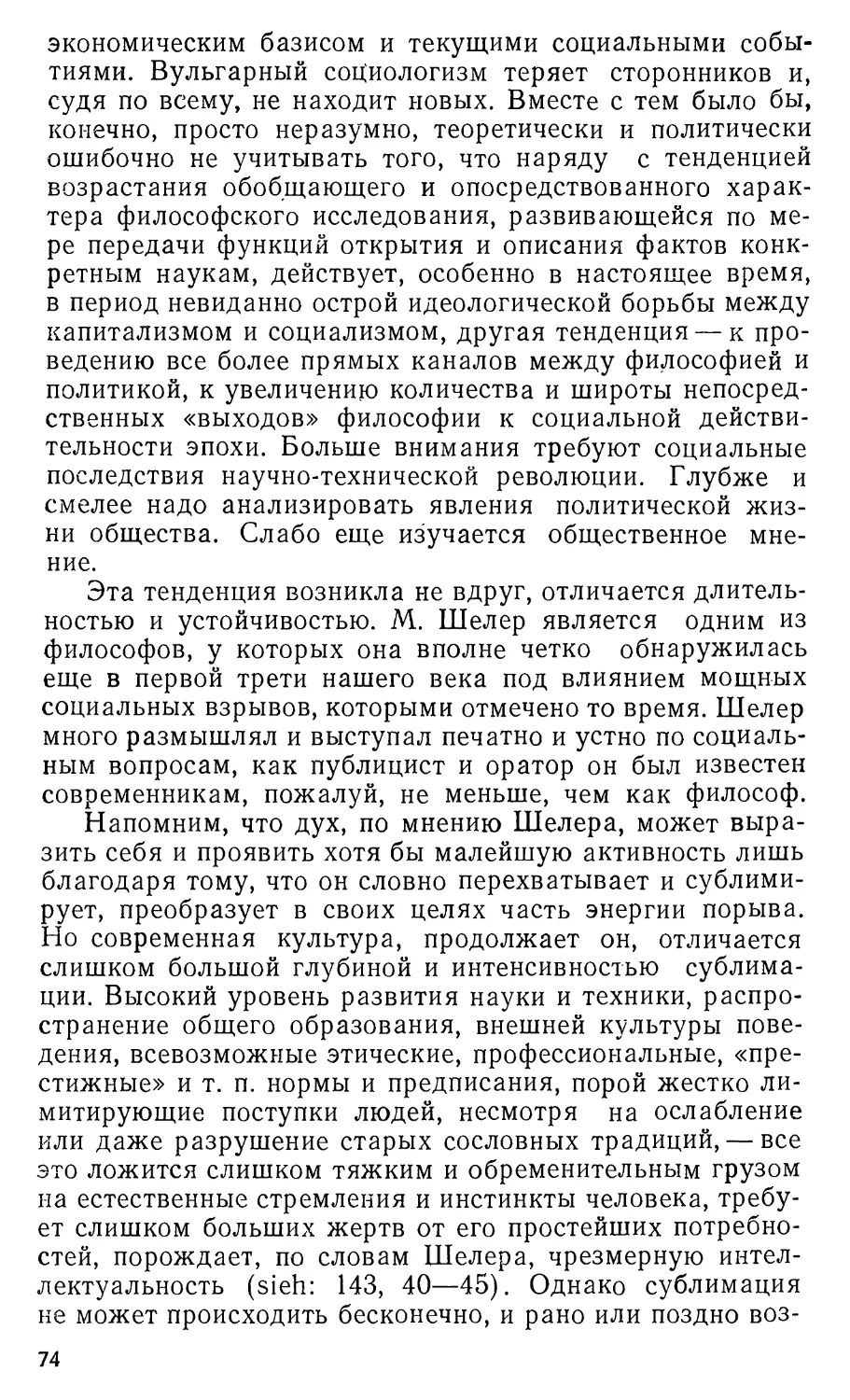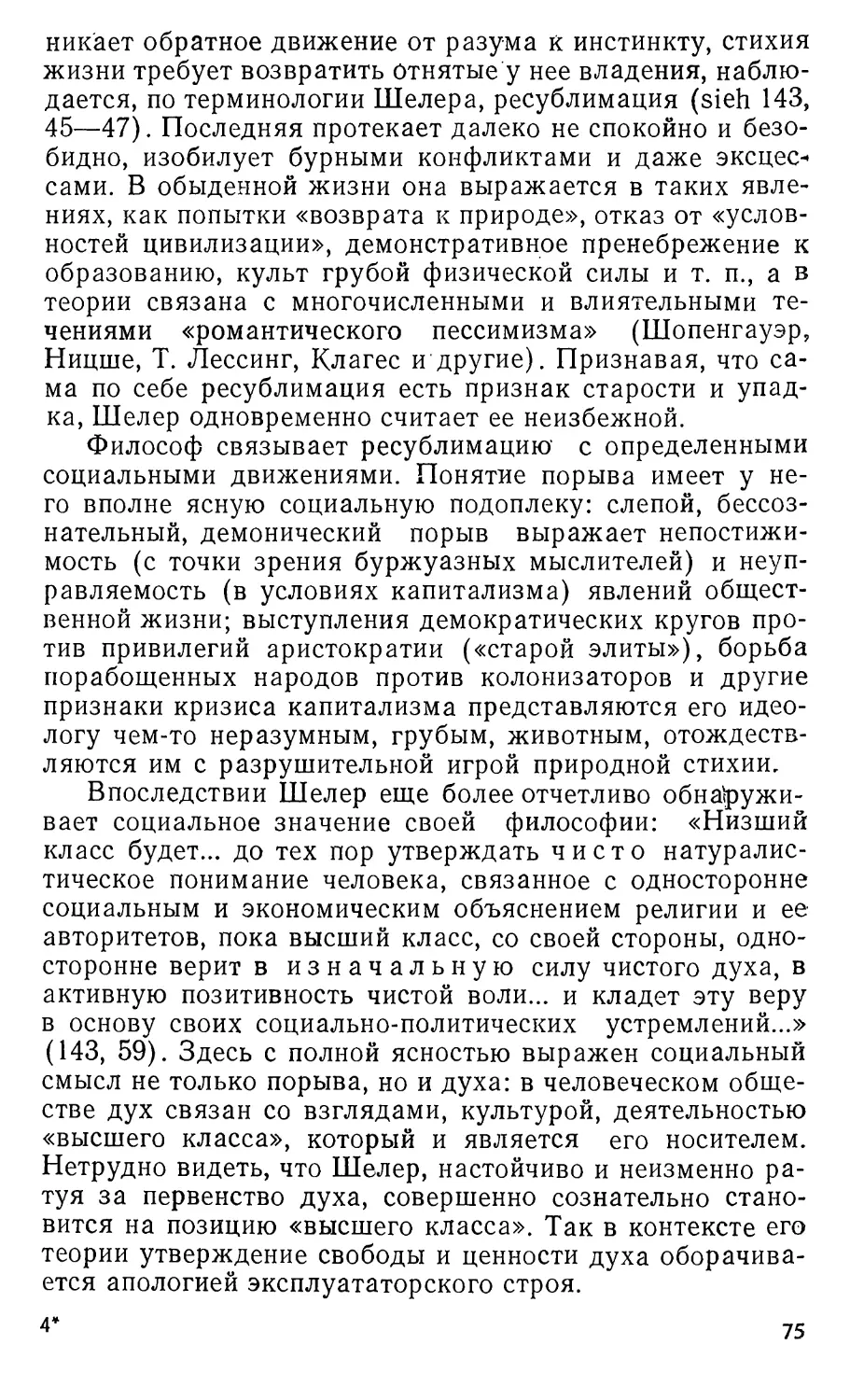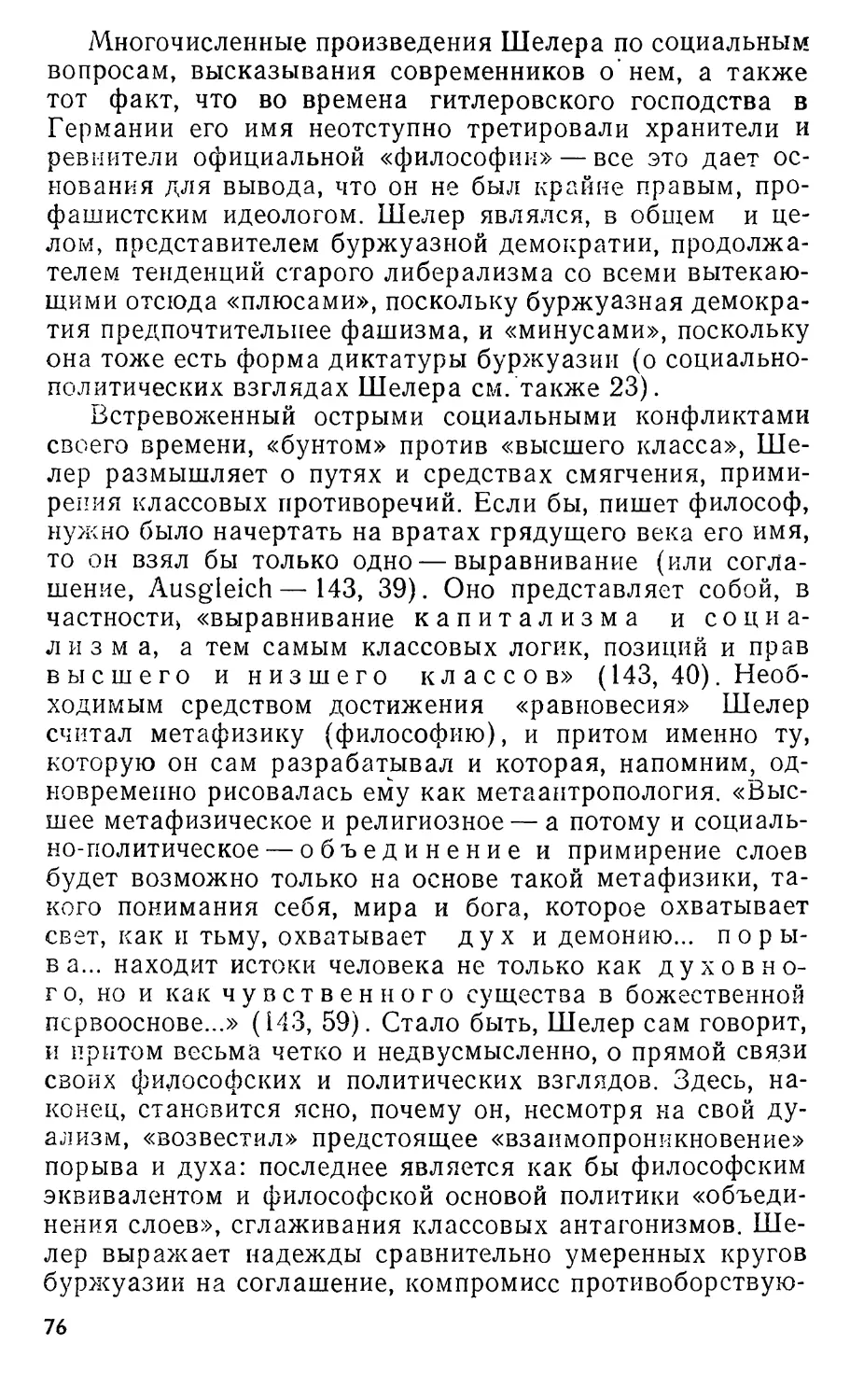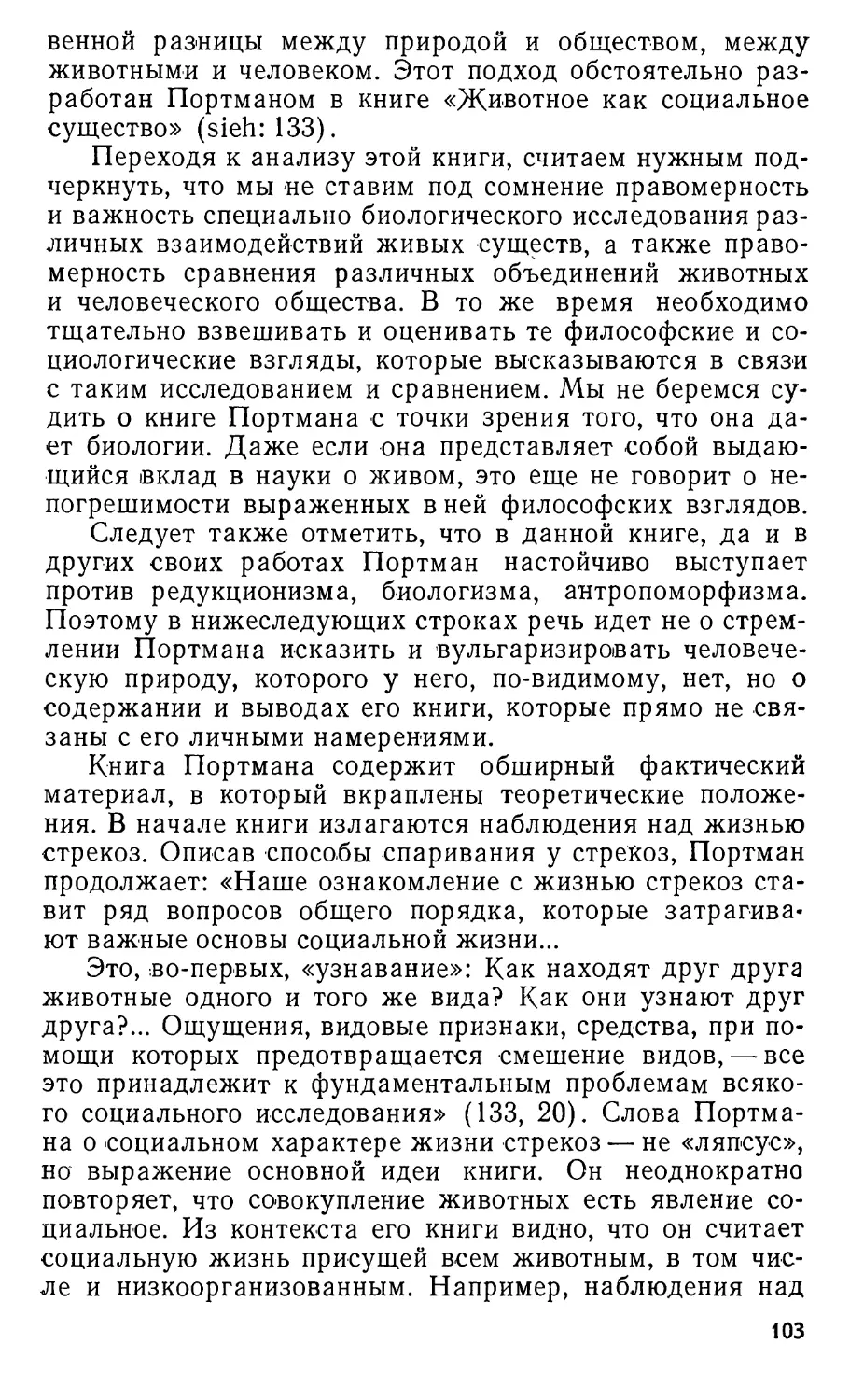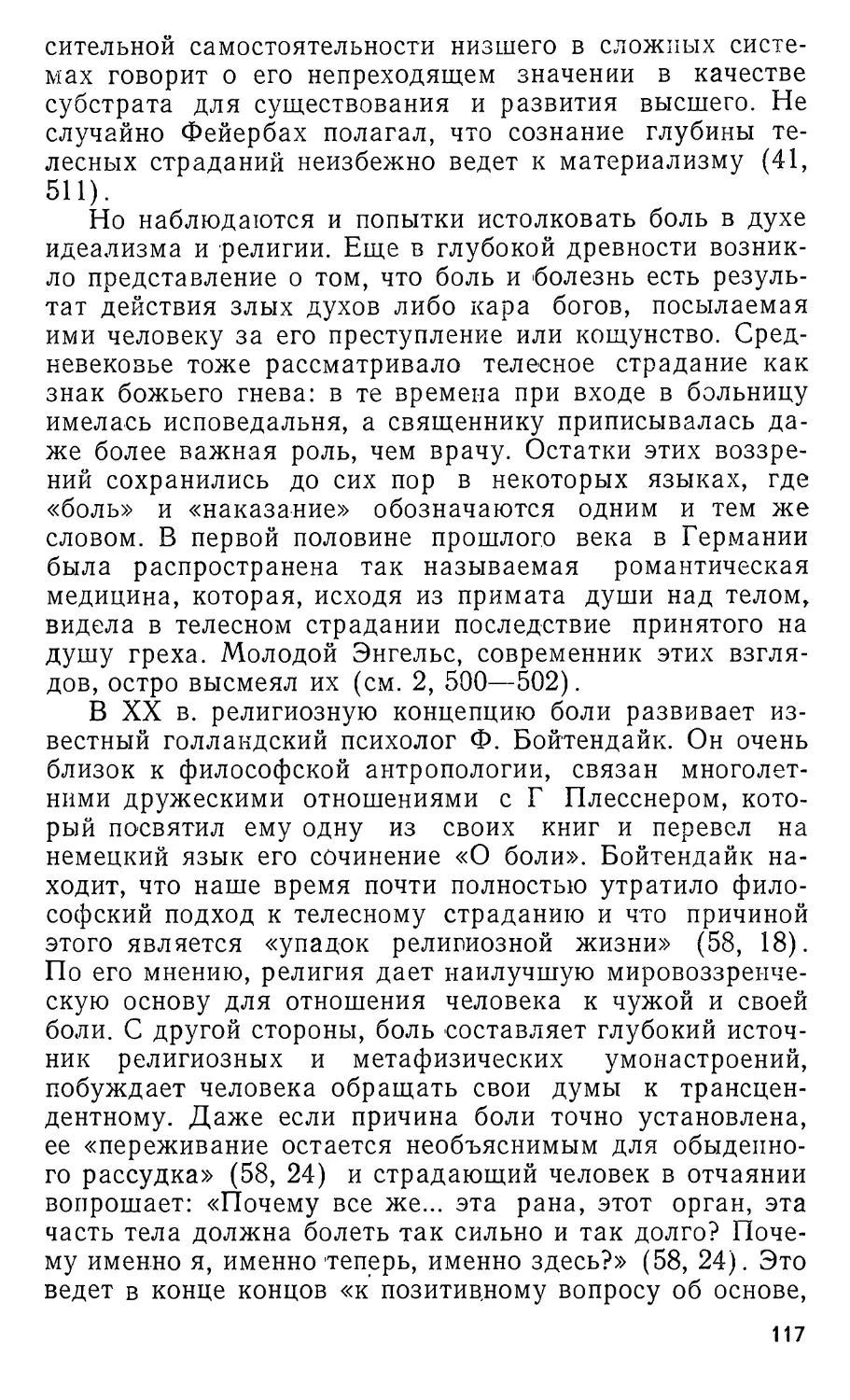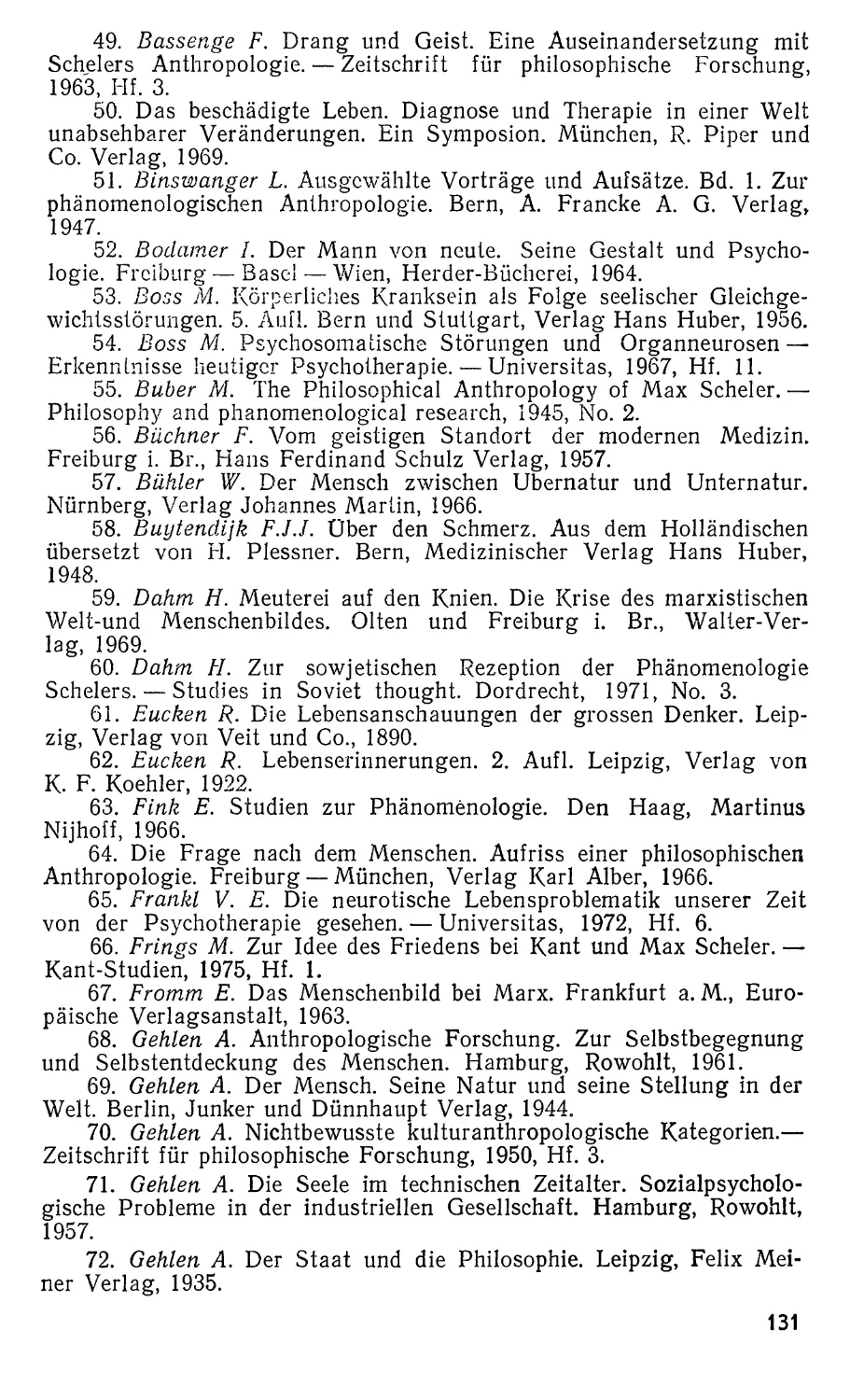Текст
П. В. Корнеев
КРИТИКА СОВРЕМЕННЫХ
БУРЖУАЗНЫХ
И РЕВИЗИОНИСТСКИХ
КОНЦЕПЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1981
Рекомендовано
Управлением преподавания общественных наук
Министерства высшего и среднего специального
образования СССР
Рецензенты: кафедра философии гуманитарных
факультетов МГУ;
профессор В. Е. Давидович
Корнеев П. В.
Критика современных буржуазных и
ревизионистских концепций человека:
Монография.— М.: Высш. школа, 1981.— 136 с.
1 р. 20 к.
В работе анализируются социально-политическая сущность
философской антропологии, ее отношение к современной
научно-технической революции, эе теоретические и методологические
истоки. На общем фоне критического рассмотрения основных
разновидностей современной философской антропологии
разрабатываются вопросы марксистско-ленинского понимания
человека.
Предназначается для философов, психологов, медиков,
интересующихся философскими проблемами наук о человеке.
©Издательство «Высшая школа», 1981
ВВЕДЕНИЕ
Самое важное и интересное для
человека— это и есть человек. На первый взгляд очень
простая, эта идея, которую высказывали выдающиеся умы
самых различных эпох: Софокл, Гете, Максим Горький
и многие другие — содержит в себе глубокий и
многогранный смысл. Однако человек — не только самое
важное и интересное, но и самое трудное для понимания
и изучения. Что такое человек? — это, казалось бы,
простой вопрос, не представляющий особых трудностей для
ответа. Еще Демокрит говорил: «Человек есть то, что
все мы знаем» (31, 148) *. Но уже Аристотель и другие
античные авторы критиковали это положение, резонно
замечая, что оно имеет смысл только тогда, когда
человек определяется лишь «по своей внешней форме и
цвету» (31, 148), т. е. чисто эмпирически. Такое изучение
человека необходимо, но явно недостаточно. Что главное
в человеке, в чем его основное отличие от животного,
что он собой представляет в нравственном, эстетическом,
психологическом плане? Достаточно поставить эти и
подобные вопросы, чтобы обнаружить огромную
трудность систематического, всестороннего исследования
человека. «Пока существует человечество, проблема
человека будет сохранять свою актуальность и любое ее
решение останется таким же незавершенным, как и история
человечества» (34, 220). Исследование человека
многообразно, сложно и интересно так же, как и он сам.
Человеческое самопознание не является лишь
вопросом «чистой» теории»: оно чревато серьезнейшими
практическими последствиями. Человек выделяется среди всех
Здесь и далее первое число в скобках означает порядковый
номер произведения, указанного в библиографии в конце книги под
этим номером, второе число означает страницу, с которой берется
цитата. Если имеется несколько ссылок на одно произведение, то
первое число означает его порядковый номер, а последующие —
цитируемые страницы. Если даются ссылки на разные
произведения, то они отделяются друг от друга точкой с запятой. Если
цитируется многотомное издание, то после его порядкового номера
указывается том, а затем — страница.
3
живых существ своей исключительной пластичностью,
изменяемостью, способностью сознательно,
целенаправленно формировать себя самого, начиная с физического
воспитания и кончая тончайшими душевными
переживаниями. И мы воспитываем себя и других и направляем
свою жизнь как раз исходя из представления о том, что
такое человек и каким он должен быть. Подобное
происходит и в масштабах общества: идеи о человеке и
надлежащих условиях его жизни являются одним из
важных теоретических источников, используемых для
разработки и обоснования политики многих социальных
движений, партий, организаций. Человеческое
самопознание проистекает не только из любознательности и
пытливости мысли, но и (хотя, конечно, не всегда прямо
и непосредственно) из социальной действительности
эпохи, так или иначе отражает положение и борьбу
различных классов общества. Это особенно относится к
настоящему времени. Вопрос о человеке является одним
из центральных в современной идеологической борьбе.
В последние годы значительно усилился интерес
философов-марксистов к дальнейшей разработке концепции
человека (см., напр.: 12; 13; 17; 30; 38; 45). Она
особенно актуальна в свете решений XXV и XXVI съездов КПСС,
которые отметили, что важнейший итог развития нашей
страны со времени Великой Октябрьской революции —
это советский человек, что обогатились его знания,
повысилась эрудиция, значительно выросли духовные
запросы, и деятельность партии направлена на то, чтобы
сделать все необходимое для блага человека.
Кроме того, было подчеркнуто, что идейное
противоборство капитализма и социализма становится более
активным, империалистическая пропаганда — более
изощренной, усилились ее попытки оказывать разлагающее
воздействие на сознание советских людей. Это очень ярко
проявляется в представлениях о человеке.
Марксистско-ленинское философское исследование
человека происходит в острой борьбе с буржуазными и
ревизионистскими теориями. Для многих течений
современной буржуазной философии характерен повышенный
интерес к человеку. Дискуссии о человеке занимают
видное место на международных философских конгрессах.
Из современных буржуазных теорий человека особенно
влиятельна и распространена философская
антропология, основоположником которой считают известного не-
4
мецкого мыслителя Макса Шелера (1874—1928) и
представителями которой являются также Г. Плесснер,
А. Гелен, Э. Ротхакер, М. Ландман, Г.-Э. Хенгстенберг,
Г Вейн и целый ряд других авторов. Ее печатная
продукция очень велика, причем ее представители не
ограничиваются академической аудиторией, все чаще
получают доступ к средствам массовой информации
буржуазного общества для распространения своих идей. На
буржуазную философскую антропологию опирается
философский ревизионизм в своих попытках исказить
гуманистическую сущность реального социализма и
марксистско-ленинскую концепцию человека. Это
делает не только оправданным, но прямо-таки необходимым
пристальное внимание к философской антропологии и ее
подробный критический анализ. Между тем в советской
и зарубежной марксистской философской литературе
этой цели было посвящено сравнительно немного работ
(в частности, 4; 6; 11; 14; 22; 28; 39; 104). Каково бы ни
было их качество, задача критической оценки как
оформившихся, «ставших», так и новейших, еще
продолжающих свое становление теорий современной
философской антропологии остается очень актуальной.
В настоящей работе дается критика взглядов
основных представителей этого течения. Рассматриваются
главным образом немецкие и пишущие на немецком
языке авторы. Но было бы ошибочно полагать, что
интерес к человеку свойствен лишь немецкой философии.
В последние годы появилось много крупных и
разнообразных работ о человеке и во многих других странах,
что подчеркивает важность данной темы.
Чем же объясняется повышенный интерес к человеку
в современной буржуазной философии? Почему и как
возникла философская антропология?
глава 1. теоретические и социальные истоки
современной философской антропологии
§ 1. Человек стал «проблематичным»
для себя самого
Изучение условий и процесса возникновения
современной философской антропологии представляется
особенно важным для нашей темы. Но это и особенно
трудно, ибо предполагает знание уже оформившихся
теорий философской антропологии, их содержания и
выводов. Сами антропологисты стали основательно
задумываться над генезисом этого течения, по существу,
только тогда, когда оно приобрело более или менее
определенные очертания. Поэтому при анализе
возникновения философской антропологии приходится часто
обращаться к положениям, высказанным не во время ее
появления, а значительно позже.
Каждая культура с неизбежностью создает тот или
иной образ человека. Но надо выяснить, почему «вечная
проблема человека» привлекает к себе особенно
пристальное внимание современных буржуазных философов и в
какой форме она возникает перед ними.
Обосновывая особую необходимость философской
антропологии для современности, М. Шелер высказал
ставшее затем широко известным положение о «пробле-,
матичности» человека: «Никогда раньше представления
о сущности и происхождении человека не
были более сомнительными, неопределенными и
разнородными, чем в наше время... На протяжении истории,
насчитывающей примерно десять тысяч лет, мы
являемся первым поколением, в котором человек стал
полностью и совершенно «проблематичным» для себя
самого, в котором он больше н е знает, что он такое...»
(144, 8). Действительно, бурное развитие
производительных сил, резкие социальные сдвиги и потрясения,
которыми так богата новая и новейшая история, не
могли не отразиться на мировосприятии и самосознании
человека. В прошлом жизнь человеческая протекала, как
правило, неторопливо, размеренно, по заранее проложен-
6
ному руслу национальных, сословных, семейных
традиций. Религия внушала верующим, что все существующее
зиждется на прочной и справедливой основе. Быстрое
разложение и смена казавшихся незыблемыми устоев
жизни вызывали в душе человека ощущения пустоты,
смятения, неопределенности, и эти ощущения
связывались не только с окружающим миром, но и с природой
самого человека.
Эти процессы происходят и теперь. Отмечая широкое
распространение на Западе чувства бессмысленности
жизни, известный австрийский психолог и
психотерапевт В. Франкль пишет о причинах этого: «В
противоположность животному, инстинкты не говорят человеку,
что он должен делать; а в противоположность человеку
прежних времен, традиции больше не говорят ему
сегодня, что он обязан делать» (65, 620).
Подобные мысли уже давно высказывались в
буржуазной философии. Еще в 1890 г. учитель Шел ера
Р. Эйкен писал: «Все острее становится сознание того,
что огромные перемены последних десятилетий и
столетий вместе со всеми достижениями принесли и тяжелое
потрясение в области духа, что они вызвали труднейшие
проблемы, резкие противоречия, которые не могут
оставаться в нынешнем виде. При всем победоносном
прогрессе культуры живой человек как целое оказывается
обделенным» (61, 1). Примечательна мысль, которую
обронил Эйкен в своих мемуарах: «...многое из того,
что прежде считалось очевидным, стало теперь трудной,
вряд ли разрешимой проблемой...» (62, 108). Это
обстоятельство представляется очень важным, и без его
учета едва ли можно разобраться в существе многих
положений философской антропологии. Некоторые аи-
тропологисты прямо пишут, что их наука имеет дело
с «простыми», «обычными» вещами. Но в периоды
коренной ломки старых порядков и представлений
происходит «распад очевидностей» (93, 24) и возникает
стремление исследовать и доказать то, что раньше
принималось без особых размышлений, причем это
доказательство очевидного, переставшего быть такозым,
действительно, может стать весьма сложной и даже
невыполнимой задачей.
Таким образом, современные буржуазные философы
обращаются к проблемам человеческой жизни под
воздействием того простого факта, что в настоящее время
7
значительное количество людей, живущих в буржуазном
обществе, с полной достоверностью обнаруживают и
остро, порой мучительно переживают свою неясность,
«проблематичность» и т. п., причем переживают
непосредственно, в своем обыденном сознании и поведении.
Однако это не единственная причина возникновения
современной философской антропологии. Резкие
контрасты и расхождения и, как следствие этого, неясность и
неопределенность очень характерны, особенно в конце
XIX — начале XX в., и для философских теорий
человека, а также для конкретных наук, имеющих дело с ним.
Это подмечено в процитированных словах Шелера о том,
что представления о сущности и происхождении
человека никогда не были такими сбивчивыми и
разноречивыми, как теперь, однако вопрос слишком важен, чтобы не
рассмотреть его подробнее.
В XIX в. общей чертой многих философских теорий
человека был европоцентризм. «Европейский тип»
человека прямо или косвенно принимался как основной и даже
единственно возможный, как неоспоримое мерило всего
человеческого. Конечно, разнообразие нравов и обычаев
различных рас и племен было известно давно, но не
всегда подвергалось серьезному научному и
философскому исследованию и порой рассматривалось просто
как коллекция курьезов. Однако уже в конце XIX в.
в результате развития целого ряда наук — от истории и
археологии до психологии, особенно же вследствие
многочисленных экспедиций и полевых исследований
этнографов и, наконец, теоретических работ по
«сравнительному народоведению» человеческое многообразие все
чаще стало восприниматься как серьезный факт,
требующий внимания и объяснения. Европоцентризм был
поколеблен, и выяснилось, что наряду с «европейским типом»
человека реально существуют другие, совершенно
разные «типы» со своим собственным мировосприятием
и самосознанием, образом жизни, традициями,
нравственными и художественными нормами и т. д.
Когда различия между ними были описаны и
получили признание у многих представителей
естественнонаучной и философской антропологии, в их взглядах на
человека произошел существенный и знаменательный
перелом. Вызывает внимание то, что этот перелом
аналогичен кризису естествознания, о котором писал
В. И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокрити-
8
цизм». Оба явления совпадают во времени, оба связаны
с коренным пересмотром устоявшихся, привычных
представлений, оба приводили ученых и философов к
релятивизму, идеализму, иррационализму. Ленин отмечал, *т(\
в конце XIX — начале XX в. в естествознании
происходила «ломка самых основных принципов» (3, т. 18, 267)
и что некоторые ученые сделали из нее идеалистические
выводы. Нечто подобное имело место и в понимании
человека.
Это можно подтвердить выдержками из работ самих
этнографов. Известный немецкий этнограф XX века
Рихард Турнвальд излагает результаты своих
исследований, з том числе многолетних наблюдений, которые он
производил во время своих экспедиций в слаборазвитые
страны, в обширной пятитомной работе «Человеческое
общество и его этносоциологические основы». Хотя
в этом произведении и встречаются призывы изучать
«общечеловеческое», сам Турнвальд делает из факта
многообразия культур выводы в пользу релятивизма,
агностицизма, идеализма. Поскольку односторонние
европоцентристские представления прежней науки оказались
несостоятельными, Турнвальд утверждает, что в
изучении культур всякое обобщение, всякий теоретический
принцип является идеей, «надуманной за письменным
столом» и навязываемой «другим эпохам и народам как
произвольный ценностный масштаб» (159, VIII).
Поэтому «будет лучше отнять у них (теоретических
принципов.— П. К.) «волшебные» имена и прямо признать, что
мы используем помощников, созданных нами же, как,
например, систему координат, которой в действительности
не соответствуют никакие линии» (159, VIII). Это
сравнение примечательно: буржуазный этнограф опирается
на идеалистическое понимание природы математических
и естественных наук, согласно которому они
представляют собой произвольные построения человеческого
разума.
Обратимся теперь к работам самих антропологистов.
Важное место занимает идея несравнимости культурно-
исторических типов человека в теории Г. Плесснера. Из
требования «обозреть открытым взором всю широту
культур и эпох» он делает вывод о невозможности каких-
либо определенных, содержательных высказываний
о сущности человека, которая-де представляет собой
«открытый вопрос» (123, 23—27). Плесснер подчеркива-
9
ет, что «стиль мышления, воли и чувства» человека
одной культуры «не допускает никакого сравнения» со
стилем человека другой культуры (125, 122).
Перечень подобных высказываний аитропологистов
можно было бы продолжить. Но не только этнография
и история (точнее, определенное понимание данных этих
наук) вызвали неясность и затруднения в теориях о
человеке. К этому же результату приводили и наблюдения
над изменчивостью и многоликостыо всего
человеческого, производившиеся психологами, психиатрами,
социологами, деятелями литературы и искусства и т. д.
Из всего этого антропологисты сделали выводы в
духе релятивизма, агностицизма, иррационализма. Они
стали отрицать даже возможность позитивного,
содержательного ответа на первый, отправной и неизбежный
вопрос всякой теории человека: что такое человек? —
возможность дать определение человека, указать его
основные общие признаки. Еще в 1914 г. в первом
наброске своей антропологии — статье «К идее человека» —
Шелер утверждал, что «именно неопределимость
(Undefinierbarkeit) принадлежит к сущности человека. Он есть
лишь некое «между», некий «рубеж», некий
«переход»...» (153, 186). Эта мысль повторяется и
варьируется многими антропологистами и вообще буржуазными
философами вплоть до настоящего времени. Плесснер,
например, говорит не просто о неопределимости, а даже
о непостижимости (Unergründlichkeit) человека:
«...центральным пунктом антропологии становится
непостижимость человека...» (123, 28). Сразу же возникают
вопросы: о чем и что еще могут писать после этого
антропологисты? Зачем ji можно ли создавать философскую
антропологию, если человек непознаваем? Не
равносильны ли подобные идеи ее самоупразднению? и т. п.
С другой стороны, не следует ли философам-марксистам,
как говорится, поставить на этом точку и считать свою
задачу анализа и критики исчерпанной?
Действительно, эти и аналогичные им высказывания
аитропологистов таят в себе прямо-таки смертельную
угрозу самому существованию философской
антропологии; ее представители, если использовать известную
поговорку, подрубают тот сук, на котором сидят. Однако
дело обстоит не так просто, чтобы можно было, дойдя до
этого момента «драмы», сразу же «опустить занавес».
Как известно, в философских теориях довольно часто
10
существует расхождение между отправными принципами
и конкретным содержанием (или хотя бы частью
содержания). Антропологисты все-таки делают
определенные высказывания о человеке, при этом они иногда
оговаривают, что эти высказывания условны,
предположительны, основаны на их личных мнениях. Разумеется,
антропологисты противоречат себе (объявляют человека
непознаваемым и в то же время стремятся исследовать
его), но простого указания на это противоречие еще
недостаточно, чтобы считать задачу критики выполненной,
ибо возникает вопрос, почему столь противоречивая
теория получила распространение и влияние. Между
прочим, сам тезис о непознаваемости человека может
составить основу для целой теории, поскольку он
приводит к вопросу о возможностях и путях
формирования человеческой жизни «в условиях
непознаваемости».
Идея непознаваемости человека часто используется
антропологистами в реакционных социальных целях.
Ярким примером является теория А. Гелена, согласно
которой человек по своей природе есть нечто
неопределимое и неуловимое, но он стремится как бы
зафиксировать себя и может сделать это лишь с помощью
«институтов», т. е. современного буржуазного государства,
поэтому надо беспрекословно подчиняться его
распоряжениям и выполнять их (впоследствии мы подробно
рассмотрим эту теорию).
Что можно противопоставить тезису о
непознаваемости человека? Напомним, что он был выдвинут на
основании того мнения, что человек существует в самых
различных культурно-исторических и психологических
типах и поэтому-де невозможно найти всеобщие признаки,
которые были бы свойственны буквально каждому. Но
многообразие укладов жизни, нравов, художественных
стилей и т. п. было бы невозможно, если бы человек не
обладал исключительной гибкостью, пластичностью,
способностью к изменениям. То общее, что проявляется в
каждом из этих укладов жизни и делает их
возможными,— это и есть человеческая подвижность,
вариабельность. Она как раз и составляет общечеловеческое
свойство, неотъемлемую черту человеческой природы.
Человеческая способность к изменению единственна в своем
роде, она входит в число важнейших признаков,
отличающих человека от животного, вся жизнь которого, за
U
немногими исключениями, заранее жестко
предопределена его биологическими данными.
Эта способность к изменению отнюдь не является
чем-то необъяснимым, неуловимым, хаотичным, она
вполне поддается и практическому воздействию, и
теоретическому исследованию. Последнее интенсивно проводилось
еще в XVIII в. мыслителями Просвещения и немецкого
классического идеализма, но впервые было поставлено
на научную почву марксизмом. Известный Марксов
тезис о сущности человека как совокупности всех
общественных отношений (см. 1, т. 3, 3) указывает на
изменение человека в ходе исторического развития: поскольку
общественные отношения меняются, человек не остается
всегда одним и тем же. Человеческая способность к
изменению необходима для преодоления пагубного
воздействия эксплуататорского строя на духовный мир людей,
для формирования и свободного всестороннего развития
личности в социалистическом и коммунистическом
обществе. Излагая проблему всестороннего развития
человека, Маркс писал: «Человек здесь не воспроизводит
себя в какой-либо одной только определенности, а
производит себя во всей своей целостности, он не стремится
оставаться чем-то окончательно установившимся, а
находится в абсолютном движении становления» (1, т. 46,
ч. I, 476). Глубокое изменение человека Советской страны
за 60 лет ее развития отмечалось в заключительной
части Отчета ЦК КПСС XXV съезду партии. Достижения
реального социализма в воспитании человека ярко
свидетельствуют о том, что он способен изменяться
разумным, созидательным образом.
Способность человека к изменению обращается
против него самого лишь там, где это изменение, вызванное
драматичными социальными потрясениями,
непонятными и неподвластными людям, получает стихийный и
неуправляемый характер, сопровождается резкой ломкой
прежних духовных ценностей, что и происходит в
современном буржуазном обществе. Как было показано на
XXVI съезде КПСС, в условиях дальнейшего углубления
общего кризиса капитализма нестабильность последнего
становится все более очевидной. К проявлениям этой
нестабильности относятся и теоретические положения о
неясности, неопределимости, непознаваемости человека.
Наконец, буржуазные этнографы и антропологисты
нередко преувеличивают контрастность культурно-исто-
12
рических типов человека. Они останавливаются перед
проблемой, которая уже давно была научно решена
историческим материализмом. Эти исследователи
сопоставляют различные уклады жизни и нравы часто
совершенно произвольно, без учета условий их возникновения,
более того, стремятся подыскать и «столкнуть» друг с
другом на страницах своих сочинений как раз наиболее
контрастные типы. Неудивительно, что вследствие такого
«метода» создается впечатление хаотичной пестроты
и безнадежной неразберихи, и ассоциация с
вавилонским столпотворением не кажется надуманной.
Марксистско-ленинская теория давно указала выход из этого
методологического тупика, выдвинув учение об
общественно-экономических формациях. Конечно, вопрос не из
простых: буквального, полного повторения и
совпадения в истории нет, различные «типы» человека
(например, современные европейцы и аборигены Австралии)
сосуществуют во времени, могут приходить в прямое
соприкосновение и даже столкновение между собой, но
надо сравнивать отдельные страны и народы не по
«принципу» наибольшего контраста, а в соответствии
с их принадлежностью к определенным стадиям
исторического развития, и тогда обнаруживается повторяемость
и сходство там, где на первый взгляд существуют лишь
полярность и несовместимость.
Однако выводы о «проблематичности» человека
делались не только на основании данных истории,
этнографии и психологии. Эмпирически наблюдаемые
контрасты между культурно-историческими и
психологическими типами человека дополнялись контрастами между
самими теориями о человеке, между различными
философскими и естественнонаучными концепциями человека.
В конце XIX — начале XX в. стали особенно резкими и
заметными контрасты в понимании человека между
материализмом, эмпиризмом, натурализмом, с одной
стороны, и идеализмом, априоризмом, спиритуализмом — с
Другой.
Это было отмечено самими антропологистами, причем
они, повторяя распространенную ошибку (которой, как
известно, не избежал в свое время даже Фейербах),
не видели и не видят никакой разницы между
материализмом и натурализмом, отождествляют всякий
материализм с его грубой, примитивной натуралистической
разновидностью.
13
Как подчеркивает Плесснер во многих своих работах,
материализм и натурализм признают и изучают в
человеке лишь то, над чем можно произвести эксперимент,
что поддается причинно-следственному объяснению и
выразимо при помощи числа. В итоге все богатство и
многогранность реальной человеческой жизни сводятся лишь
к измеримому, к сухим, бесстрастным формулам,
которые с увеличением своей точности и сферы применения
все меньше сообщают о конкретном, живом человеке, все
больше теряют его из виду. Весь бесконечно сложный
и многообразный мир духовных побуждений, чувств,
моральных ценностей оказывается книгой за семью
печатями, он просто выпадает из поля зрения. Материализм
и эмпиризм тесно связаны с естествознанием, а каждая
естественная наука изучает обычно лишь свою узкую
область, применяет свою специальную методику и тем
самым вольно или невольно обособляется от других
наук. В результате целостное представление о человеке
становится недостижимым, его образ словно дробится,
рассеивается, и получается конгломерат отрывочных,
разрозненных сведений. Попутно отметим, что некоторые
антропологисты признают необходимость обобщения
эмпирических, естественнонаучных данных о человеке, но
сами обычно используют лишь те данные, которые, по
их мнению, говорят в пользу идеализма и
иррационализма, опираются в большинстве случаев на работы
лишь тех естествоиспытателей, которые, в свою очередь,
находятся в плену ходячих идеалистических теорий. Эта
упорная неприязнь философской антропологии к
естественным наукам с их стихийно-материалистическими
тенденциями весьма показательна.
Оценивая состояние наук о человеке в конце XIX —
начале XX в., антропологисты заявляют, что все эти
науки — и естественные (анатомия, физиология, медицина
и т. д.), и гуманитарные (этика, эстетика, языкознание
и др.) —дают некоторый промах, проходят мимо самого
главного в человеке. Чтобы понять, что такое человек
в его действительности, надо само это понимание как бы
согреть «человеческим теплом», разрабатывать его в
непосредственной связи с запросами и потребностями
живого человека. Конечно, биолог может изучать человека,
цаже не касаясь принципиальной разницы между
человеком и любым другим живым существом, с тем же
бесстрастием и равнодушием (или, что в данном случае
14
ничего не меняет, с тем же интересом и увлечением),
с каким он стал бы изучать лягушку или мышь;
лингвист может изучать человеческий язык примерно так же,
как натуралист — «язык» пчел или муравьев; психолог
или этик может исследовать протекание человеческих
эмоций или формирование нравственных принципоь
примерно так же, как, скажем, химик наблюдает за
ходом химической реакции. Но, зная, как в нервной
системе человека происходят процессы возбуждения и
торможения, как возникают представления и понятия
и т. п., мы еще не получаем, по существу, никаких
знаний о том, что же в конце концов представляет собой сам
человек, не схватываем его настоящей, истинной основы.
Даже если все эти науки видят свою цель в служении
человеку и действительно служат ему, если они так или
иначе предполагают подлинное «ядро» человека — ни
одна из них не ставит, не может поставить перед собой в
качестве непосредственной и главной задачи изучение
собственно человеческого в человеке. Последний, так
сказать, не узнает себя ни в одном из тех портретов,
которые написаны с него этими науками.
Правда, еще до появления философской
антропологии предпринимались определенные попытки устранить
резкие контрасты между различными областями знания
о человеке. Но это происходило обычно в форме
провозглашения неограниченных претензий какой-либо одной
области и подавления или поглощения всех других.
Чтобы устранить конфликт между спорящими сторонами,
предлагали оставить лишь одну из них, а остальные
просто ликвидировать либо, по крайней мере, низвести
до положения придатка. В конце XIX — начале XX в.
разыгралось (и в настоящее время отнюдь еще не
прекратилось) «повальное увлечение», которое можно
описать как сведение всех высших способностей человека
(разум, нравственность и т. п.) к низшим,
элементарным, просто животным потребностям или, что не меняет
дела, как прямое, непосредственное выведение первых
из вторых. Подобное философствование приводило либо
к полнейшей апатии, либо к крайнему цинизму и
нигилизму. В результате получалось, что при этом сведении
высшего к низшему истинная «самость», коренная
основа человека опять не была найдена и понята,
по-прежнему скрывалась за плотной завесой
неизвестности.
15
Такова была «духовная ситуация», в которой Шелер
вынашивал и формулировал замысел философской
антропологии1. Он видел в ней «основную науку о
сущности и о сущностной структуре человека; о
его отношении к царству природы (неорганическое,
растение, животное) как и к основе всех вещей; о
происхождении его метафизической сущности как и о его
физическом, психическом и духовном начале в мире; о силах
и способностях, которые движут им и которыми движет
он; об основных направлениях и законах его
биологического, психического, духовно-исторического и
социального развития...» (144, 7—8). Уже из этих слов ясно, что
Шелер представлял себе философскую антропологию
как всеобъемлющую, всеохватывающую науку о человеке,
призванную обобщить данные всех наук, так или иначе
изучающих его (и естественных, и гуманитарных), и
создать его целостный образ. Шелер видел в философской
антропологии некую коренную, основополагающую
дисциплину, фундамент не только философии, но и всего
человеческого знания и человеческой жизни в целом.
Она должна найти, распознать самое главное в
человеке— то, благодаря чему он, собственно, и является
таковым (будь то какое-либо конкретное свойство или
сама неопределимость, непостижимость).
Нельзя не видеть, что сам замысел философской
антропологии, требование постичь человека таким,.как он
существует «в себе и для себя», разработать
всеобъемлющее представление о нем имеет определенный
положительный смысл, содержит много правильного. Но
ознакомление с работами антропологистов приводит
к заключению, что этот замысел не получает в них
адекватного осуществления. Положительные моменты
философской антропологии обычно поглощаются и сводятся
на нет тем идеализмом и иррационализмом, который в
той или иной форме, присущ всем ее разновидностям.
В дальнейшем, рассматривая эти последние, мы будем
неоднократно возвращаться к данному вопросу, а сейчас
лишь кратко отметим следующее.
Для философской антропологии человек является
исходным пунктом и, так сказать, центром притяжения в
любом смысле — не только в моральном, но и в
онтологическом и даже космологическом. В ней продолжает
жить, хотя и в преобразованном, утонченном виде,
старый антропоцентризм и антропоморфизм, что с неизбеж-
16
ностью ведет к идеализму. Антропологисты утверждают,
что человек — это микрокосмос, «мир в малом», что в
нем, как лучи в фокусе, сходятся, концентрируются все
виды и ступени бытия, начиная от неорганического
(поскольку оно необходимо для его жизни) и кончая
духовным.
Идея микрокосмоса далеко не нова: ее выдвигали еще
античные философы. Важно отметить, что она являлась
составной частью некоторых материалистических учений.
Дело в том, что идея микрокосмоса существует в
различных формах. В одной из них движение мысли, образно
говоря, направлено от мира, от Вселенной к человеку:
природа в ходе своего развития создавала все более
сложные и совершенные виды бытия и, наконец, породила
самый сложный «вид» — человека. В этом смысле
человека называли венцом развития природы, вершиной
древа жизни и т. п. Понимаемая таким образом идея
микрокосмоса легко «вписывается» в философский и
естественнонаучный материализм. Но есть и другая, тоже весьма
старая, форма этой идеи, где движение мысли происходит
в противоположном направлении — от человека к миру.
Наивысшая ступень развития, воплощенная в человеке,
принимается за исходный пункт, качества человека
переносятся на весь космос, рассматриваются как атрибуты
всей действительности, исследование человека
расценивается как ключ к познанию мира в целом. Если человек
есть «микрокосмос», то мир есть «макроантропос»
(«человек в большом»). То, что верно по отношению к
человеку, должно быть таковым и по отношению ко всему миру.
Нетрудно видеть, что подобная позиция открывает
широкие возможности для надуманных, произвольных
построений. Именно на такую позицию й становится
философская антропология. Шелер, у которого идея
микрокосмоса (в форме «от человека к миру») занимала
особенно видное место, прямо утверждал: «...на человеке
можно изучить высшую причину «большого мира»,
макрокосмоса. И поэтому бытие человека как ми к*
ротеоса — это также первый доступ к богу» (146, 12).
Эта тенденция ведет в конце концов к мысли о том, что
весь мир, все существующее создается человеком: «В с я-
кое предметное бытие... надо относить (beziehen)
прежде всего к человеку. Все формы бытия зависят от
бытия человека» (146, 11). Философская антропология
стремится спасти ценность и достоинство человека, вер«
17
нуть ему «точку опоры» в обстановке неустойчивости и
неопределенности лишь тем, что она объявляет весь
мир производным от человека и в итоге попадает в
безвыходный лабиринт идеализма.
Научная несостоятельность философской
антропологии обусловлена и ее основным методом, получившим
название феноменологии и берущим начало в сочинениях
Э. Гуссерля. Это метод непосредственного, интуитивного
«узрения сущности», в данном случае сущности человека,
безотносительно к накоплению и обобщению конкретных
научных знаний о нем. Следование этому методу ведет
к субъективизму, к построению произвольных,
необоснованных концепций. Косвенное или прямое признание
этого можно встретить даже у буржуазных философов.
А. Мецгер пишет: «Феноменология — не доктрина. Она
не образует мировоззрения... Феноменология есть метод»
(113, 66—67). Но такой резкий разрыв между теорией
(«доктриной») и методом неправомерен и
свидетельствует о непригодности метода: ведь одно из требований,
предъявляемых к методу, в том и состоит, что он
должен служить теоретическому объяснению и пониманию
предмета. Далее, если феноменология не имеет ничего
общего с теорией и мировоззрением, то как она
может быть методом философского, следовательно,
мировоззренческого, всеобъемлющего понимания человека?
Идеалистическая и субъективистская сущность
феноменологии обнаруживается, например, в следующих
высказываниях ее видных представителей.
«Основной принцип феноменологического метода, —
подчеркивает Л. Бинсвангер, — это ограничение анализа
тем, что действительно находится в сознании, или, иначе
говоря, имманентно сознанию» (51, 25). Ему вторит
Э. Финк: «Феноменология... основывается исключительно
на самосознании» (63, 164). Вряд ли здесь нужны какие-
либо комментарии.
Таким образом, философская антропология возникла
в силу того, что в буржуазном обществе человек стал
неясным, «проблематичным» для себя самого, а эта
проблематичность в свою очередь является следствием многих
причин, прежде всего и главным образом глубоких
социальных преобразований, в результате которых старый,
сравнительно стабильный порядок жизни безвозвратно
ушел в прошлое, а также резких контрастов между
«образами человека» в различных областях знания: в этно-
18
графии и истории, в естественных и гуманитарных
науках. Философская антропология стремится создать
всеобъемлющее представление о человеке, выявить самое
главное, собственно человеческое в нем, но, пытаясь
решить эту задачу неадекватными ей методами, впадает в
идеализм, иррационализм, агностицизм, объявляет
человека непознаваемым, а весь мир — производным от
него.
Теперь рассмотрим подробнее социальные истоки
философской антропологии. Чьи интересы она выражает и
кому служит? Какова ее общественно-политическая
роль?
§ 2. Социальная природа философской антропологии
В XX в. путь истории прошел через две мировые войны,
жесточайшие экономические и политические кризисы.
Нет недостатка в свидетельствах того, какое воздействие
оказали эти события на их участников и очевидцев.
Чувства всеобщего кризиса, глубочайшего потрясения
или даже катастрофы высказаны многими буржуазными
философами XX века, в том числе антропологистами (8,
32; 57, 79, 85; 86, 123). Здесь надо сразу же отметить,
что социально-политические взгляды антропологистов
неоднородны (чего и следовало ожидать, учитывая широту
этого течения) и образуют довольно большую
«амплитуду колебаний» от буржуазного демократизма и
либерализма (Шелер, отчасти Плесснер) до прямой поддержки
фашизма (Гелен), но все это различия в рамках
буржуазного мировоззрения. И по объективному значению
своих теорий, и, как правило, по своим личным взглядам и
стремлениям, и, наконец, по своему социальному
происхождению и положению антропологисты выражают
классовые интересы буржуазии. Конечно, они подмечают
некоторые реальные проблемы, но исследуют их в
большинстве случаев как буржуазные идеологи, дают им
объяснение с позиций буржуазного сознания.
Понимают ли сами антропологисты социальную
подоплеку своих теорий? В поисках ответа на этот вопрос
обнаруживается, что многие из них прямо или косвенно,
смутно или отчетливо сознают, «кому выгодны» их
сочинения, но — с умыслом или без умысла — облекают свои
идеи, имеющие классовое содержание, в форму
размышлений о внеисторически понимаемых общечеловеческих
19
ценностях и потребностях (здесь можно напомнить
известное положение классиков марксизма-ленинизма о
том, что буржуазия пытается изображать свой частный
интерес в виде всеобщего). Более того, в произведениях
некоторых антропологистов действительные отношения
переворачиваются, так сказать, с ног на голову,
социальные конфликты выводятся из человеческих
«страстей» и из неправильного представления человека о себе.
Конечно, свойства человека, его потребности, идеи,
убеждения, предрассудки и т. д. действительно влияют на
социальное развитие, однако сами они находятся под
определяющим воздействием последнего, что было показано
историческим материализмом, но отвергается
философской антропологией (sieh: 147, 105). Из этого можно
сделать вывод, что хотя социальная тематика находит
отражение в работах антропологистов и без нее это
течение просто немыслимо, многие его представители
подменяют социальное антропологическим, свойственным
«человеку вообще», или, по крайней мере, смещают «центр
тяжести» с первого на второе и тем самым указывают
ложные пути и в теоретическом, и в
социально-практическом отношении.
Приведем примеры этой «перелицовки»,
«перекрашивания» социального в антропологическое. Шелер
характеризует современную эпоху как «бунт природы в
человеке и всего того, что темно, импульсивно, инстинктивно:
ребенка против взрослого, массы против старой элиты,
цветных против белых, всего бессознательного против
сознательного, даже самих вещей против человека и его
рассудка...» (143, 46). Шелер живо интересуется
текущими социальными событиями, но он обозревает их, так
сказать, с высот своей метафизики (философии), видит
в них лишь проявление неких вневременных
метафизических сущностей, проявление метафизической
дисгармонии между бессознательным, стихийным, с одной
стороны, и сознательным, духовным, — с другой. Тем самым
он антропологизирует социальную жизнь (здесь надо
учитывать, что метафизика и философская антропология
построены у него из одних и тех же категорий и
образуют нечто единое). Разумеется, все описываемые им
конфликты подлежат философскому осмыслению и
осуществляются через стремления, помыслы, действия людей.
Однако эти конфликты имеют не абстрактную
метафизическую или антропологическую («бунт» инстинкта против
20
разума), но конкретную классовую основу. Это
совершенно ясно, если речь идет о «бунте массы против
старой элиты», т. е. о выступлениях демократической
общественности против привилегий аристократии, о «бунте
цветных против белых», т. е. о
национально-освободительном движении народов колониальных и зависимых
стран. Но и «конфликт поколений», имея, конечно,
определенные биологические и психологические предпосылки,
является, по существу, глубоко социальной проблемой,
что особенно ярко показало движение молодежи
капиталистических стран в последние годы. Выступления
против устоев буржуазного общества представляются его
идеологам чем-то неразумным, стихийным, грубым, и им
кажется, что все стало ненадежным и сомнительным, что
«даже сами вещи» начинают «бунтовать».
Последующая эволюция философской антропологии
дает немало примеров «переворачивания»
действительных отношений в сознании буржуазных идеологов.
В. Вейшедель заявляет: «...политические споры суть не
что иное, как выражение борьбы образов человека за
господство над людьми» (166, 225). Безусловно,
политика представляет собой арену борьбы между различными
«образами человека», но здесь это излагается так,
словно эти образы возникают совершенно независимо от
политики и лишь post îactum используют ее в качестве
вспомогательного, подручного средства. Пожалуй, еще
более четко выражает эту тенденцию В. Бюлер:
«...внешняя угроза со стороны расовых конфликтов, атомной
бомбы или катастрофы новой мировой войны есть лишь
отражение постоянной внутренней угрозы, которой
подвержен каждый отдельный человек» (57, 43). Подобные
рассуждения о конфликтах буржуазного общества,
очевидно, не представляют никакой «угрозы» для власть
предержащих, а скорее оправдывают и поддерживают их
антинародную и антигуманную политику, перекладывая
всю вину «внутрь» человека.
Современная буржуазия прямо заинтересована в том,
чтобы ее идеологи развивали философские учения о
человеке. Это вызвано важными изменениями,
происшедшими за последние десятилетия в социальной структуре
буржуазного общества. Возник и оформился
государственно-монополистический капитализм с его небывало
разросшимся бюрократическим аппаратом, который
оказывает сильное и все увеличивающееся давление на от-
21
дельную личность, все больше стесняет и урезывает ее
свободу. Как отмечалось на XXV съезде КПСС, усилился
идейно-политический кризис буржуазного общества,
который поражает институты власти, буржуазные
политические партии, расшатывает элементарные нравственные
нормы, влияет на упадок духовной культуры. Преследуя
свои реакционные антинародные цели, буржуазия,
конечно, заинтересована и даже очень нуждается в том,
чтобы население капиталистических стран
беспрекословно выполняло ее приказы, чтобы люди послушно делали
то, чего хотят от них «сильные мира сего». Для этого
надо определенным образом «обработать» сознание
людей, их разум и чувства, внушить им соответствующие
взгляды и убеждения. Эту задачу должна выполнять так
называемая манипуляция (термин, широко применяемый
самими западными политиками и идеологами), т. е.
воздействие на человеческую психику, а через нее — на
поведение с целью полностью подчинить их и управлять
ими так, как будет угодно «манипулятору» (в
марксистской философской и социологической литературе этот
вопрос освещался неоднократно, сошлемся на работы 7;
10). А чтобы «манипулировать» человеком, надо,
очевидно, изучать его, надо знать, что он такое, чего он хочет,
как он мыслит, чувствует, воспринимает окружающее и
т. д. Поэтому идеологи современного империализма
стараются проникнуть в самые интимные сферы
человеческого существа, обнажить все тайники человеческой души.
Это способствует созданию и распространению
буржуазных философских учений о человеке, в том числе
философской антропологии.
Попутно следует устранить одно недоразумение,
которое может здесь возникнуть. Каким образом
философская антропология изучит человека, если она объявляет
его непознаваемым? Выше уже отмечалось, что
некоторые антропологисты проявляют здесь определенную
«гибкость» и ухитряются извлекать пользу для себя и
для своего «социального заказчика» и из идеи
неопределимости и непостижимости человека. Кроме того, они не
всегда строго следуют этой идее и часто все-таки
высказывают определенные мысли о тех или иных свойствах
человеческой природы. При этом они могут давать
неадекватное, искаженное представление о человеке,
изображать его таким, каким они хотели бы его видеть,
изображать такого человека, который, так сказать, уже ис-
22
порчен манипуляцией и выдавать его за «настоящего» и
«истинного». Социальное значение таких теорий
очевидно. Однако некоторые антропологисты могут развивать и
правильные мысли о человеке, достоверно описывать
хотя бы отдельные его свойства, и тем самым они
изображают такого человека, над которым «манипуляторам»
еще предстоит «поработать», как бы сообщают этим
последним о том, какой «материал» их ожидает и что с
ним надо делать.
Многие государственные и политические лидеры
Запада прямо выражают заинтересованность в разработке
определенного рода учений о человеке. Например, Курт
Георг Кизингер, экс-канцлер ФРГ, кстати сказать
имеющий там репутацию политика-философа и являющийся
автором ряда статей, в которых затрагиваются и
проблемы философии, неизменно ратует за «метафизику» и ее
связь с политикой, особо выделяя при этом именно те
вопросы, над которыми «работает» философская
антропология: «Не подлежит сомнению, что политика сегодня
больше, чем когда-либо, нуждается в путеводных
указаниях духа (т. е. философии. — Я. /(.)» (90, 786).
«Холодное сердце, о котором молодой Вильгельм Хауф написал
свою прекраснейшую сказку, — вот подлинная опасность
нашего времени. От этого, прежде всего от этого надо
спасать человека эпохи машин» (89, 121). За этими
внешне гуманными и даже сентиментальными фразами
скрывается стремление к самым изощренным методам
манипулирования человеком и его «сердцем». Кизин.гер
с нескрываемой тревогой пишет о распространении
коммунистической идеологии и прямо призывает «обуздать
новую фазу революции» (89, 58).
Социал-демократическая печать, ФРГ тоже щедро
расточает торжественные фразы о гуманизме,
человеческом достоинстве и т. п. В Годесбергской программе
СДПГ провозглашаются «основные ценности»: свобода,
справедливость и солидарность. Но социал-демократы,
открыто порвав с марксизмом, отбросив даже понятие
классовой борьбы, используют идеи гуманизма для
проповеди «классового мира», для затушевывания
социальных антагонизмов. Комментируя концепцию человека,
изложенную в Годесбергской программе,
западногерманский публицист В. Хильдебранд пишет: «Гуманизм есть
основа для встречи всех людей ради общности в
государстве...» (85, 50). Мнимо нейтральное, надклассовое
23
понимание гуманизма оборачивается изощренной
социальной демагогией, призывом к объединению «всех
людей» под эгидой буржуазного государства. Солидарность
толкуется в Годесбергской программе как «взаимное
обязательство» всех социальных слоев, т. е. опять-таки
в духе теорий классового сотрудничества и солидаризма
(кстати сказать, идеи солидаризма широко
распространены в философской антропологии). Наконец,
привлекает внимание то, что в социал-демократических
концепциях получил определенное выражение тезис философской
антропологии о непознаваемости человека. В. Хильде-
бранд пишет: «...демократический социализм
воздерживается от суждения о том, что такое человек и что
составляет человеческое бытие... он признает достоинство
человека и защищает его, но оставляет открытым вопрос
о том, в чем оно состоит» (85, 159). Тем самым создаются
«богатые возможности» для произвольного толкования
человеческого достоинства, для того, чтобы оправдывать
ссылками на него те политические и идеологические
акты, которые на самом деле ему не соответствуют. Короче
говоря, и здесь пышные декларации о гуманизме служат
для прикрытия манипуляции человеком.
Если буржуазная политика нуждается в разработке
определенных теорий человека, то философская
антропология еще со времени своего возникновения заявляет о
своей связи с политикой. Еще в 1931 г, Плесснер
выдвинул задачу создания особого ответвления философской
антропологии — политической антропологии, которая
должна исследовать «происхождение политической
жизни из основных свойств человека» и разрабатывать
«политическое учение об аффектах и политическую
характерологию, которая давала бы пользу политической
практике» (1.23, 10). Нетрудно понять, чья и какая
политическая практика имеется в виду. Тот факт, что лично
Плесснер впоследствии выступил против фашизма, не меняет
буржуазной сущности его замысла «политической
антропологии». Это подтверждается при ознакомлении с теми
мыслями, которые он развивает, конкретизируя свой
замысел. «Происхождение политической жизни из основных
свойств человека» выглядит у него следующим образом.
Человек находит в другом человеке нечто свое, знакомое
и близкое, но, поскольку оно принадлежит не ему, а
другому, оно производит впечатление чего-то тревожного и
даже жуткого (unheimlich). Уже само существование
24
другого человека вызывает чувство тревоги. Поэтому
человек постоянно ощущает в себе как бы столкновение
двух противоположных начал: «своего» и «чужого» (sieh:
123, 54—56). «Человек — если рискнуть сделать
обобщающее высказывание о нем, каковое всегда будет связано
с риском, — необходимым образом живет в противоречии
близости и чуждости, друга и врага» (123, 54). Несмотря
на свой собственный тезис о непостижимости человека,
антропологист все же «рискнул сделать обобщающее
высказывание о нем!» Это противоречие близкого и
чуждого, продолжает свои «рискованные обобщения» Плес-
снер, «понимается здесь как принадлежащее к
сущностной структуре человека» (123, 54), как «константа
человеческой ситуации» (123, 57). Из этого противоречия
вытекает и им определяется «всякий, как угодно
оформленный вид общения и объединения» людей (123, 55),
из него же вытекают и политика, воля к власти и борьба
за власть (sieh: 123, 54, 57, 61). Так оправдывается и
обосновывается империалистическая политика со всеми
ее злодеяниями. Но это обоснование построено на
ложных посылках. Разве человек при виде себе подобных
всегда испытывает лишь ощущение чего-то зловещего и
жуткого и не питает к своим собратьям' никаких иных
чувств? Разве это ощущение зловещего устранимо лишь
одним-единственным путем — приобретением власти над
другими людьми? Обстановка вражды и недоверия,
существующая между людьми в буржуазном обществе,
изображается антропологистом как неизбежное и вечное
состояние человека.
Идеи «политической антропологии», высказанные
Плесснером в свое время лишь бегло и фрагментарно,
теперь получили гораздо более «солидную» основу. В
целях манипулирования человеком в ФРГ придают важное
значение «политическому образованию», которое
проводится во все более широких масштабах.
Основополагающие теоретические идеи, которыми следует
руководствоваться при организации «политического образования»,
должны быть почерпнуты, по мнению западногерманских
политиков, из «всеобъемлющей науки о человеке», т. е.
философской антропологии. Так, видный деятель СДПГ
Вольдемар фон Кнёринген пишет, что все начинания,
которые предпринимаются в настоящее время в этой
области, «отличаются от прежней постановки
политического образования в особенности своей антропологической
25
ориентацией. Вопрос о человеке, его возможностях и
пределах, его потребностях и интересах... возрастающее
влияние наук о человеке на наши представления о
человеческой природе требуют этой ориентации. В целях
дальнейшего развития нашей демократии необходимо
тонкое исследование социальной природы человека»
(91, 33). Это исследование, продолжает он, настолько
важно, что его следовало бы поставить наравне с
освоением космоса (sieh: 91, 33). В ФРГ устраиваются
особые конференции, посвященные различным аспектам
«политического воспитания» (sieh: 126), в них
участвуют и психологи, и педагоги, и социологи, и, наконец,
антропологисты. Возник и интенсивно разрабатывается
целый ряд так называемых политических наук
(политология, политическая психология и педагогика и другие),
которые образуют необходимую эмпирическую
предпосылку более широкой по замыслу философской
антропологии (sieh: 126, 175). Все чаще высказывается мнение,
согласно которому определенный «образ человека»
должен быть исходным пунктом не только в политике, но и
в любой другой области общественной жизни: в
экономике, праве, искусстве и т. д. В этой связи возникли или
только еще возникают такие разновидности философской
антропологии, как культурная, экономическая, правовая
и другие (см.: 19, 23). Появляются многочисленные
публикации о манипулировании людьми на производстве, в
учреждении, в армии, в школе и т. д. В частности,
большое внимание уделяется отношениям между людьми на
производстве, особенно отношениям между рабочим и
служащим, с одной стороны, и «работодателем»
(капиталистом) — с другой; в духе теорий «социального
партнерства», «человеческих отношений» и т. п.
проповедуются идеи компромисса, соблюдения «общих интересов» и
т. д. Например, консультант по социальным вопросам
Федерального объединения союзов немецких
работодателей некий Иохен Вистингхаузеи пишет: «Борьба между
людьми как таковая никогда не может быть устранена.
Но не следует уклоняться от изменения стиля борьбы,
требуемого нашим временем. А этот последний гласит:
Кто хочет спорить, должен сойтись» (111, 32—33; в
оригинале игра слов sich auseinandersetzen и sich
zusammensetzen). Консультант объединения «работодателей»
проявляет известную ловкость: старается доказать вечность
и неустранимость классовых противоречий и социального
26
неравенства (при этом он прибегает к
«антропологическим» аргументам, исходит из молчаливого допущения
неизменной «драчливой» природы человека и смешивает
классовую борьбу со всяким соперничеством, которое
может возникать в отношениях между людьми) и в то
же время утверждает необходимость примирения и
сотрудничества классов. Кстати сказать, это последнее
тоже очень часто выводится из «природы человека», из
искаженного понимания необходимости для человека
общаться с себе подобными. Раздаются, казалось бы,
весьма гуманные призывы «создать общественный
порядок по образу человека» (nach dem Maße des Menschen),
направлять жизнь общества в соответствии со
свойствами и потребностями человека, но при этом имеется в
виду человек, так сказать, обработанный
«манипуляторами» конформист, покорно принимающий внушаемые ему
стандарты поведения и даже не помышляющий о том,
чтобы выступить против буржуазного строя (sieh: 168,
202—203, 218, 221). Таким образом, философская
антропология оказывает активную идеологическую помощь
современному капитализму в усилиях по решению его
внутриполитических задач, в предпринимаемых им
попытках маневрирования и модернизации.
Не менее активно участвуют антропологисты в
идеологической борьбе на международной арене. Классовая
природа философской антропологии ярко проявляется в
ее отношении к миру социализма, к коммунистической
идеологии. Здесь можно отметить некий двусторонний
процесс. Пресловутые призывы к «деидеологизации»,
рассуждения об «отмирании» или «конце» идеологии часто
обосновываются опять-таки «антропологическими»
аргументами: упразднить идеологию надо «хотя бы там, где
еще не совсем потеряли уважение к человеку и поэтому
не пытаются втиснуть жизнь в прокрустово ложе
идеологии» (168, 209). За подобными призывами скрывается
желание буржуазных идеологов увидеть идеологическое
саморазоружение коммунизма, упразднение не всякой, а
именно коммунистической идеологии.
С другой стороны, многие антропологисты не могут
не говорить о том, что борьба между капитализмом и
социализмом происходит не только в экономической и
военной, но и в идеологической области и притом особенно
остро и напряженно — именно во взглядах на человека.
Приведем высказывание Герберта Кюна, который явля-
27
ется, правда, не философом, а историком, но в конце
своей жизни приобщился к философской антропологии
(между прочим, он лично знал М. Шелера и был близок
с ним). Имея в виду борьбу между капитализмом и
социализмом в настоящее время, Кюн пишет: «Здесь
противостоят друг другу не только позиции власти, здесь
говорит не только атомное оружие, пушки, военные
корабли и самолеты, но, прежде всего, проблема духа,
человеческого бытия и своеобразия человеческой
сущности» (95, 8); в этой борьбе решается вопрос «о смысле
жизни, о смысле человека, о его происхождении и о его
возвышеннейшей цели» (95, 9). Более того,
высказываются мнения, согласно которым вопрос о человеке
является не только исходным и основным в борьбе двух
общественных систем, но и разрабатывается буржуазными
философами не ради «чистой любви к мудрости», а
именно вследствие их политических интересов. Так, Гельмут
Кун заявляет: «Повсюду дело идет о вопросе: что такое
человек? — в разговорах, людей, в залах и на собраниях,
в книгах и на парламентских дебатах... Этот вопрос есть
общая почва — шаткая почва, — на которой оперируют
противники. То, что это стало ясно, хотя еще и
недостаточно ясно, — заслуга не каких-то «хранителей
традиции», но идеологических противников, поборников
систем имманентности (т. е. марксистов; под
«имманентностью» подразумевается антирелигиозность, отрицание
потустороннего мира. — П. К.). Только они разбудили
людей Запада, опутанных сонной рутиной, погруженных
в мыслительные игры, разбудили кнутом философской
мысли» (94, 338). Это признание буржуазного идеолога
говорит само за себя. Отметим лишь, что исследование
человека является «шаткой почвой» не для обеих
идеологий, а только для одной — буржуазной. Это видно уже
из ознакомления с ее тезисом о непостижимости
человека и теми трудностями и «хлопотами», которые он
доставляет актропологистам. Что касается
марксистско-ленинской концепции человека, то она зиждется на
прочном научном фундаменте, крепость и надежность
которого была не раз проверена и подтверждена — не только в
идеологических дискуссиях, но и в других формах
классовой борьбы.
Классовая направленность философской
антропологии обнаруживается не только в ее отношении к
марксистско-ленинской идеологии в целом, но и — более кон-
28
кретно — к марксистско-ленинскому учению о человеке.
У антропологистов можно найти высказывания, в
которых оцениваются положительно или, по крайней мере,
сочувственно некоторые идеи Маркса о человеке. Это
неудивительно, поскольку авторитет и влияние марксизма
неуклонно возрастают, и буржуазным философам
становится все труднее полностью отвергать либо
игнорировать его. Частичное признание марксизма делается не
без умысла: тактику, применяемую при этом, можно
описать выражением «обнять врага, чтобы задушить его».
Вместе с тем антропологисты искажают, критикуют,
пытаются опровергнуть основные положения
марксистско-ленинской теории человека. Они отрицают даже
возможность установления коренных, существенных
признаков человека, ибо это-де стесняет, ограничивает
человеческое многообразие, человеческую свободу,
самобытность, спонтанность. Еще Шелер, исходя из того же
тезиса о неопределимости человека, заявлял, что
«экономический человек» Маркса «слишком узок», чтобы
вместить «всего человека» (143, 39). Но Шелер критикует не
теорию Маркса, а то, что явилось результатом ее
поверхностного и одностороннего истолкования. Маркс
никогда не ограничивал человеческую жизнь только
экономическими интересами, он хотел видеть человека
духовно богатым, всесторонне и гармонично развитым и
боролся за это.
Шелер исходит также из ошибочного мнения, что
человеческая способность к изменению, гибкость,
пластичность вообще запрещают говорить о каких-либо
определенных, сформировавшихся, «ставших» свойствах
человека. В данном случае он не учитывает того, что эта
пластичность как раз и проявляется в различных
конкретных видах и результатах человеческой деятельности,
иначе о ней было бы просто трудно или даже
невозможно что-либо сказать. Наблюдается весьма своеобразная
и примечательная картина: антропологисты идут вразрез
со своим собственным тезисом о непостижимости
человека и делают о нем вполне определенные высказывания,
если только последние кажутся им соответствующими их
классовым интересам (напомним хотя бы
вышеприведенное высказывание Плесснера о воле к власти как
«константе человеческой природы»; подобных мыслей немало
и у Шелера), но в своем отношении к
марксистско-ленинской концепции человека антропологисты «строго и
29
неукоснительно» следуют этому тезису и, опираясь на
него, пытаются ее опровергать. Такова буржуазная
социальная логика!
Но так как стремление антропологистов опровергнуть
марксистско-ленинскую теорию человека иллюзорно, они
пытаются хотя бы исказить, затемнить ее содержание,
уличить ее в схематизме и т. п. Они заявляют,- что будто
бы все свойства, которые она считает для человека
основными: его общественная сущность, способность к
труду, способность к развитию и совершенствованию и
другие — либо вообще не являются таковыми, либо
понимаются и описываются марксистско-ленинской философией
неадекватно, неаргументированно и т. д. Например, тот
же Г Кун, касаясь роли труда, пишет, что труд
«принадлежит к сущностным составным частям человеческого
бытия» (94, 295), ссылается даже на роман И. А.
Гончарова «Обломов», на известное описание М. Горьким
работы по разгрузке баржи на Волге, в котором выражен
«экстаз труда» (94, 300). Подобные вещи, надо прямо
сказать, встречаются в сочинениях буржуазных
философов не часто. Но затем Кун ставит вопрос о «пределах
труда» и начинает, так сказать, поворачивать медаль
обратной стороной. «Разве не бывает бегства в работу,
трудолюбия как выражения косности души? Если досуг
испорчен и праздник не вызывает наслаждения, то не
цепляется ли душа с бесплодным отчаянием за труд для
труда?» (94, 300). Мысль о том, что «современный
человек» без конца загружает себя работой и повышает ее
темп лишь для того, чтобы как-то замаскировать
внутреннюю пустоту и бессмысленность своей жизни,
высказывается антропологистами и представителями
направлений, близких к философской антропологии, довольно
часто. И такие явления «бегства в работу»
действительно имеют место. Но это говорит только о том, что
современное буржуазное общество не может предложить
людям таких ценностей, которые вдохновляли бы их и
которым стоило бы посвятить жизнь, и что труд в
условиях этого общества теряет свое благородство и пафос.
Обессмысливание труда в буржуазном обществе
переносится затем на всякий труд, объявляется неустранимой
тенденцией труда как такового. Формальное признание
необходимости труда буржуазным идеологом отнюдь не
говорит о том, что он действительно осознал все
значение труда в человеческой жизни и истории, как это сде-
30
лано марксизмом-ленинизмом. Кун находит, что Маркс
допустил «преувеличение», полагая, что труд дает ключ
к пониманию истории, на самом же деле труд — лишь
«один из моментов», характеризующих человеческие
отношения (94, 320). Конечно, труд — не единственный, но
основной «момент». Кун стремится выхолостить
материалистическую сущность марксистско-ленинского
понимания труда и изображает труд фактически лишь как
момент эмоционально-волевых отношений между людьми.
Односторонне рассматривая понимание труда Марксом,
Кун утверждает, что Маркс якобы ставил цель
превратить труд просто в игру, которая не требовала бы от
человека никакого усилия и напряжения (sieh: 94, 322).
Труд, заявляет Кун, всегда будет связан с тягостью,
печалью — Mühsal (94, 324). Тем самым тягости и
проклятье труда в антагонистическом обществе,
эксплуатация, отчуждение объявляются вечными и неизбежными.
Здесь обнаруживается коренная противоположность
между буржуазной «философией труда» и марксизмом-
.ленинизмом. Последний бесконечно далек от наивной и
плоской мысли, приписываемой ему буржуазными
идеологами, что будто бы труд должен быть «освобожден» от
всякого усилия и напряжения, утратить всякую
серьезность и превратиться в пустую игру. Но труд должен
перестать быть тягостью, должен превратиться из
печальной необходимости (каковой, по мнению' буржуазной
«философии труда», он только и может быть) в первую
жизненную потребность, в ярчайшее проявление свободы
и творческой мощи человека.
Особенно резко и категорично выступает против
марксистско-ленинской концепции человека уже
упоминавшийся Г. Кюн. Он ополчается прежде всего против
утверждения способности человека к развитию и
совершенствованию. Будучи историком, но рассуждая
совершенно неисторично, он не видит принципиальной
разницы между платоновскими проектами устройства
общества, идеей Ницше о «преодолении человека» и
марксистско-ленинским учением о социальной сущности человека
и возможности его воспитания и перевоспитания (в
широком смысле слова), полагая, что марксизм-ленинизм
призывает якобы к искусственной, произвольной
«переделке» человека. Над всеми теориями изменения и
воспитания человека Кюн изрекает следующий приговор:
«Но человек таков, каков он есть, и все эти ужасные тео-
31
рии его насилования и его изменения, выдвинутые
теперь или тысячи лет назад, будут все снова разбиваться
при столкновении с действительным человеком, как его
создала природа» (95, 36). Здесь, как говорится,
комментарии излишни. Отметим еще упорное стремление
Кюна защитить и оправдать частную собственность:
«...вторая ошибка состоит в том, что институт частной
собственности объявляется виновным в экономических
трудностях» (95, 65). Вот как он «разъясняет» эту
«ошибку». Марксизм-ленинизм «основан на
романтическом представлении о сущности человека» (95, 42),
представлении, берущем начало еще от Руссо. Оно состоит
в том, что вся вражда, все дурные страсти и пороки
людей выводятся из существования частной собственности.
Устраните ее — и люди перестанут угнетать себе
подобных. Но, заявляет Кюн, «собственность изначально дана
вместе с человеком... Следовательно, устранение
собственности подрывает основы самого человеческого бытия,
обращается против человека в его подлинном
существовании...» (95, 65—66). Кюн смешивает частную
собственность со всякой собственностью. Частная собственность
для него настолько «священна и неприкосновенна», что
ее отмена воспринимается им как нечто
противоестественное и противочеловеческое. Кюн обвиняет Маркса в
том, что он видел «изъян всякого человеческого бытия,
там, где его вообще нет, а именно вовне, в собственности,
тогда как в действительности он коренится в самой
человеческой природе» (95, 44). Буржуазный теоретик готов
признать «изъян» в чем угодно, даже в самом человеке,
но только не в собственности. Буржуазия как бы
заклинает устами своего идеолога: считайте нас плохими,
порочными, но только не троньте нашу собственность!
«Образ человека», которого придерживается сам Кюн,
выглядит так: «Человек стремится к осуществлению своей
подлинной природы... Это означает стремление к
авторитету, к социальному признанию, к влиянию, к славе и
власти» (95, 47). Короче говоря, «подлинный человек» —
это «стопроцентный» буржуазный делец и карьерист.
Плохо же думают о человеке буржуазные идеологи,
кичащиеся своей гуманностью!
Классовое значение философской антропологии ярко
проявляется и в той роли, которую она играет в
проводимой на Западе шумной кампании «в защиту прав
человека» и «против нарушения свободы и демократии» в Со-
32
ветском Союзе и других социалистических странах. На
XXV съезде КПСС отмечалось, что зарубежные критики
изображают всякий разговор об укреплении дисциплины
и ответственности граждан перед социалистическим
обществом как нарушение демократии. Философская
антропология и ее разновидности выступают в качестве
общетеоретической основы этой пропагандистской
кампании, чего не скрывают и сами антропологисты.
Например, известный философ-антропологист, автор
«диалектической антропологии» (см. о ней 18) Г. Вейн писал:
«В настоящее время надо особенно ^противопоставлять
«коммунистическому» порядку личную свободу и
антропологию свободного человеческого индивида...» (163,
152). Отвергая материалистическое понимание жизни
общества и идею социальной сущности человека,
антропологисты создают субъективистские, проникнутые
духом буржуазного индивидуализма концепции свободы
личности, которые используются империалистической
пропагандой.
Таким образом, социальная природа философской
антропологии слагается из многих компонентов. Без их
вскрытия и исследования не представляется возможным
глубоко понять и оценить это течение. Классовая
природа философской антропологии должна быть предметом
внимания не только при анализе высказываний антропо-
логистов по собственно политическим вопросам, но и там,
где они затрагивают общезначимые проблемы нашего
времени. Последние не существуют в «чистом»,
внеклассовом виде, преломляются через призму классовых
интересов. Вместе с тем они обладают относительной
самостоятельностью и могут быть выделены в особые
разделы. Одна из важнейших проблем нашего времени
состоит в тех последствиях, которые имеет для человека
стремительное развитие современной науки и техники.
Каковы эти последствия? Как понимает их философская
антропология?
§ 3. Философская антропология
и современная научно-техническая революция
Происходящая в наше время научно-техническая
революция выдвигает целый комплекс философских и
социологических проблем, которые являются предметом
пристального внимания и в буржуазной, и в марксистской
2—1510
33
философской литературе (см., напр.: 26; 43; 48). На этих
страницах рассматривается в плане критики
философской антропологии тот аспект научно-технической
революции, который особенно тесно связан с «проблемой
человека», — влияние научно-технического прогресса на
его мироощущение и отношение к себе самому.
Начнем опять с вопроса о неясности, неустойчивости,
неопределимости человека. Антропологисты видят один
из ее основных источников в бурном развитии современной
науки и техники. Уже такие особенности последней, как
высокая скорость, стремительный темп, грандиозность
размеров и т. п., оказывают глубокое воздействие на
человеческую психику.
Касаясь влияния современной техники (быстрых
передвижений, прямой связи между удаленными пунктами,
«фиксации прошлого», например, при помощи грамзаписи
и т. п.) на мироощущение человека, В. Вейшедель пишет:
«При сокращении пространственных и временных
дистанций человек удивительным образом оказывается без
места и вне времени. Он находится не только здесь, но
также и там. Он уже не пребывает всецело в данном
мгновении, но живет и в прошлом, произвольно воскрешаемом.
Он теряет свое непосредственное место и свое
непосредственное мгновение» (165, 30—31). Нетрудно заметить,
что такое чувство «перемещаемости» человека
способствует возникновению и усилению у него ощущения своей
неустойчивости и неопределимости. Здесь мы
сталкиваемся с реальной проблемой, по-видимому, общезначимой
для века техники. Однако возрастание человеческой
мобильности в условиях бурного прогресса средств
транспорта и связи отнюдь не всегда и не обязательно должно
вызывать тревожное чувство бесприютности и отсутствия
опоры. Подобные настроения появляются, как правило,
тогда, когда человек духовно не подготовлен к новой
ситуации и поэтому преувеличивает момент подвижности и
истолковывает его в плане релятивизма. Но решающую
роль в распространении этих взглядов и чувств играют не
наука и техника сами по себе, а опять-таки те социальные
условия, которые попирают достоинство и целостность
человеческой личности и тем самым создают питательную
почву для их возникновения и обострения.
Если же человек является не рабом, а хозяином
техники (а таковым он может быть лишь при социализме и
коммунизме), то он имеет все возможности устранить
34
опустошительные и угнетающие переживания, связанные
с техникой, и, более того, даже преобразовать их в
позитивные. Здесь следует исходить из мысли Маркса о том,
что техника является своеобразным продолжением и
усилением естественных органов человека. Уже простейшее
орудие труда в определенном смысле удлиняет
естественные размеры человеческого тела (см. 1, т. 23, 190). Это
относится, по существу, и к современной технике:
автомобиль, самолет, ракета многократно увеличивают
естественную человеческую способность передвижения, телефон
есть как бы продолжение нашего уха и голоса и т. д.
Поэтому техника не оставляет человека «без места» и «вне
времени»,, а расширяет его естественные пространственно-
временные пределы: в дополнение к тому, что мы видим
вокруг себя, телевизор дает нам возможность наблюдать
и то, что происходит на большом расстоянии, магнитофон,
позволяет нам слышать не только те звуки, которые
возникают в данный момент, но и те, которые были изданы
намного раньше и т. п. Не лишаясь своего
непосредственного присутствия в данном месте и времени, человек
становится все более вездесущим, всевидящим, всеслыша-
щим...
Это ведет (повторяем, в определенных социальных
условиях) к появлению у него не чувства неустойчивости
и неопределенности, а чувства мощи, достоинства,
гордости.
Рассмотренные здесь «человеческие проблемы»
научно-технической революции часто возникают спонтанно, в
ходе непосредственной, повседневной жизни людей, в том
числе и тех, которые не имеют никаких или почти
никаких специальных научно-технических знаний. Но
подобное наблюдается и там, где речь идет о восприятии и
осмыслении новинок науки и техники самими учеными и
вообще деятелями культуры Запада. По сути дела, здесь
мы возвращаемся к вопросу о кризисе естествознания,
возникшем на рубеже прошлого и нынешнего веков и
исследованном в свое время В. И. Лениным. Говоря об этом
кризисе, обычно концентрируют внимание на его
логическом аспекте, на тех мыслях и конечных выводах,
которые были вызваны у философов и ученых определенными
научными открытиями. Но важно рассмотреть и
психологическую, «человеческую» сторону вопроса, те
непосредственные впечатления, чувства, настроения, которые
были навеяны этими открытиями и которые распространены
2*
35
и теперь и могут даже усиливаться под влиянием еще
более удивительных «сюрпризов» науки.
Эмоционально-психологическое воздействие
революции в естествознании велико, и нередко она внушала
чувства неуверенности, неопределенности, сомнения во всех
и всяких принципах. Эти чувства подкрепляют,
усиливают ошибочные философские выводы из прогресса науки
(и, в свою очередь, опираются на них). Тот же Вейше-
дель пишет: «То, что вещи теряют свою «весомость»
(подразумевается образное выражение Ницше, употребленное
им при описании релятивизма и нигилизма.— Я. /С),
подтвердилось в современном естествознании в более
прямом смысле, чем это имел в виду Ницше; ощутимое
все больше распадается, основы нашего мышления о
природе становятся все более сомнительными. И с этим
зловещим затемнением вещей связано то, что человек
становится все более непостижимым для себя самого.
Нигде нет надежной точки опоры, исходя из которой он
мог бы однозначно судить о себе» (166, 92).
Как видим, Вейшедель опирается на релятивистские
и агностические выводы из научных открытий,
показавших относительность прежних привычных представлений
о природе («ощутимое распадается» и т. п.). Эта
неуверенность, сомнения, неопределенность во взглядах на
природу способствовали созданию и усилению духовной
атмосферы всеобщей и бесплодной «проблематичности»,
которая распространялась и на понимание самого
человека. Приведем еще свидетельство известного художника-
абстракциониста В. Кандинского о том впечатлении,
которое произвело на него открытие делимости атома: «Для
меня расщепление атома было похоже на расщепление
мира, полное и внезапное, мира, стены которого
обрушились... Все стало неопределенным, бесформенным,
колеблющимся. Я не был бы удивлен, если бы увидел камень,
брошенный в воздух и испарившийся там» (цит. по: 32,
20). Здесь довольно ярко показано непосредственное
эмоциональное воздействие необычных научных открытий на
философски и психологически не подготовленного к ним
человека, причем эта неподготовленность, конечно,
обусловлена социально-исторически.
Особенно велики эмоционально-психологические
последствия тех научных открытий, которые, мало того, что
они необычны сами по себе, имеют еще и
непосредственное отношение к человеку, заставляют взглянуть по-ново-
36
му на те или иные его свойства. Ярким примером
является кибернетика и ее практическое применение — создание
машин, решающих задачи, которые прежде, как правило,
считались доступными только человеческому мозгу.
Успехи кибернетики, так сказать, подлили масла в огонь
дискуссий о человеке, еще больше обострили вопрос
о том, что такое человек и каковы его отличительные
особенности.
Несомненно, с течением времени люди привыкают
даже к самым поразительным открытиям, но простая
привычка без надлежащего осмысления и усвоения не
решает проблемы. К, Шлехта ставит вопрос о том, «не знаем
ли мы уже давно больше того, что мы можем вынести»
(155, 86). «У нас не кружится голова от нечеловеческих
просторов вселенной и не щемит на душе от
нечеловеческой тесноты мира атома... Не говорит ли эта
невосприимчивость, невозможная ни для античного, ни для
средневекового человека, о том, что мы потеряли сознание
своей личности?» (155, 87).
Здесь следует уточнить, что такие вещи, как
бесконечность вселенной и малость атома, вообще не могут
восприниматься непосредственно (подобно тому, как нельзя
ощутить скорость света). Это не отменяет задачи
поддержания связи и, более того, гармонии между
непосредственным, чувственным, обыденным знанием и знанием
абстрактным, отвлеченным, «странным» с точки зрения
повседневности, пояснения и усвоения этого последнего
знания при помощи наглядных сравнений из области
первого. Но решение этой задачи не представляется
возможным в обстановке крайнего релятивизма и агностицизма,
когда всякое знание воспринимается с недоверием, теряет
весомость и убедительность. В условиях тотального
обезличивания человека даже неизбежные и правомерные
элементы безличности научного знания, его
абстрактность, парадоксальность и т. п. становятся
«невыносимыми».
Конечно, это не значит, что мыслители Запада вообще
не стремятся найти какой-либо выход из плена
тревожных и мрачных умонастроений, возникающих у них при
виде научно-технического прогресса. Но они ищут выход
там, где его нет — в религии либо в идеалистической
философии. Влиятельна тенденция осмыслить науку и
технику на основе различных теорий модернизированного
субъективного идеализма. Пытаются преодолеть «научно-
37
техническое» обезличивание человека путем отрицания
объективного содержания, объективных закономерностей
науки и техники и изображения их лишь субъективным,
совершенно произвольным созданием человека. При этом
всячески преувеличивают фактор человеческой
активности, роль человека как изобретателя, новатора, творца
науки и техники. В. Вейшедель пишет, что еще с
открытием оптического явления перспективы
«радикализируется тенденция, присущая западному мышлению с самого
начала: человек вырывается из взаимосвязей целого и
исходит из себя самого, и все существующее является для
него таковым лишь постольку, поскольку оно составляет
объект для него, субъекта» (164, 1238). Действительно,
при изучении перспективы непосредственное зрительное
наблюдение играет незаменимую роль, но это отнюдь не
значит, что понятие перспективы произвольно,
привнесено, предписано природе нашим сознанием. Зрение имеет
свои объективные закономерности, исследуемые, в
частности, физической наукой оптикой, на них основано и
явление перспективы. Она не скрывает, а, наоборот,
помогает выявить объективные пространственные отношения
между предметами.
Идеалистическое понимание науки и техники
разрабатывается не только философами, но и учеными Запада.
Рассмотрим концепцию, выдвинутую известным физиком
В. Гейзенбергом и получившую значительный резонанс
среди западногерманской философской и вообще
культурной общественности. Эта концепция очень тесно связана
со многими основными идеями современной философской
антропологии. Т. Литт писал о Гейзенберге: «Антрополо-
гизирование естествознания достигает у него своего
апогея» (103, 361).
Гейзенберг сам подчеркнул, что он рассматривает
состояние современного естествознания не как
обособленную проблему, а в связи с коренными философскими и
социальными вопросами нашего времени. «...Перемены в
основах современного естествознания могут быть
рассматриваемы, пожалуй, как симптом сдвигов в
фундаменте нашего бытия, которые обнаруживаются
одновременно во многих местах, будь то изменения нашего образа
жизни (тема, которую антропологисты считают своей.—
П. К.) и привычек нашего мышления, будь то внешние
катастрофы, войны или революции» (79, 17). Гейзенберг
пытается определить основную отличительную черту всей
38
современной культуры и тем самым найти ключ к
пониманию «сдвигов в фундаменте нашего бытия». Эту
основную черту современной культуры (а вместе с тем и
основной тезис своей концепции) он выражает в следующих
словах: «...впервые в ходе истории человек на этой земле
противостоит только еще себе самому, он больше не
находит никаких других партнеров или противников» (79,
17). Этот тезис очень близок или даже тождествен по
смыслу основным идеям многих современных антрополо-
гистов. Особенно бросается в глаза его сходство с
культурной антропологией М. Ландмана, согласно которой
человек -есть «продукт своего собственного продукта»,
одновременно «творец и творение», «создатель и создание
своей культуры» (96, 9, 15).
Гейзенберг поясняет свой основной тезис
применительно к различным областям культуры. Обращаясь к
технике, он утверждает, что последняя настолько
преобразовала мир, в котором мы живем, что мы всегда и везде, идет
ли речь об использовании технических устройств в
повседневной жизни, о приеме пищи, приготовленной при
помощи машин, или о созерцании ландшафта, носящего
отпечаток человеческой деятельности, сталкиваемся с тем,
что создано самим человеком, «встречаем только себя
самих» (79, 18). Правда, в некоторых частях Земли,
оговаривает он, этот процесс еще не завершен, но рано или
поздно он должен стать безраздельно господствующим
(sieh: 79, 18).
Каков философский смысл этих высказываний? Они
возможны, несомненно, лишь во время бурного прогресса
техники и резкого возрастания ее роли в жизни общества.
Здесь полностью применима мысль В. И. Ленина
(развитая особенно в работе «Материализм и
эмпириокритицизм») о том, что философские взгляды ученых следует
анализировать в связи с прогрессом науки, а в данном
случае и техники. В концепции Гейзенберга нашел
отражение тот неоспоримый факт, что человек все более
активно воздействует на окружающий мир и изменяет его.
Но это неадекватное, искаженное отражение.
Деятельность, практика изображаются так, словно в них, да и
вообще во всей человеческой жизни нет ничего
объективного, словно человек существует в некоем замкнутом,
изолированном кругу, созданном им самим и не имеющем
никаких «выходов» во внешний мир. «Человек
противостоит только себе самому, встречает только себя само-
39
го» — в этих словах выражена несомненно
идеалистическая тенденция, живо напоминающая теорию
«принципиальной координации» и другие старые варианты
идеализма.
Однако современный идеализм имеет свои
особенности, которые отличают его от идеализма прошлого.
Последний подчеркивал и абсолютизировал в основном ту
активность человеческого сознания, которая проявляется
в процессе чувственного или рационального познания.
Примером этого могут служить знаменитые изречения
идеалистов прошлого: «Существовать — значит быть
воспринимаемым» (Беркли), «Мир есть мое представление»
(Шопенгауэр). Современный же идеализм, отнюдь не
желая, конечно, оставить гносеологию, абсолютизирует
также и ту активность сознания, которая проявляется в
практическом преобразовании мира человеком.
Благодаря успехам науки и техники это последнее достигло таких
масштабов и такой глубины, что идеализм считает
возможным выдвинуть тезис, согласно которому все, что
окружает человека и имеет значение для его жизни,
создано в конце концов им самим.
Разумеется, воздействие человека на географическую^
а теперь уже и космическую среду неуклонно возрастает
и требует пристального внимания со стороны науки и
философии. Еще классики марксизма поставили проблему
предвидения и регулирования последствий, которые
может иметь для природы деятельность человека. Как
известно, в настоящее время большое внимание уделяется
этому вопросу в Советском Союзе и других
социалистических странах. Но именно марксистско-ленинская
философия наиболее последовательно вскрывает и исследует
объективные основы человеческой практики. Как бы
сильно человек ни изменял мир, он никогда не окажется
в таком положении, что везде будет «встречать только
себя самого». Это ясно уже из того, что само
преобразование мира человеком бывает наиболее успешным и
плодотворным тогда, когда оно протекает не произвольно,
а на основе познания и использования объективных
закономерностей природы и общества.
Другой областью, применительно к которой Гейзен-
берг развивает свой основной тезис, является область его
собственных профессиональных интересов — современное
естествознание, и в частности и в особенности физика.
Он считает, что последняя дает наиболее убедительные
40
подтверждения его концепции. Гейзенберг настойчиво
подчеркивает и выдвигает на первый план «человеческий
фактор» в науке. «...Мы не можем отвлекаться от того
факта, что естествознание создано человеком.
Естествознание описывает и объясняет природу не просто такой,
какова она «сама по себе». Оно есть скорее момент
взаимосвязи между природой и нами самими. Оно
описывает ту природу, которая подвергнута нашему вопрошанию
и нашим методам» (80, 60—61). Гейзенберг начинает с
несомненного и бесспорного утверждения:
естествознание создается человеком, но истолковывает это таким
образом, словно оно не дает адекватного понимания
объективных процессов природы, не объясняет природы «самой
по себе», иначе говоря, не открывает объективной
истины, вращается в замкнутом кругу человеческих
представлений и интересов. Однако такой ход мысли совершенно
не обоснован. Именно в силу своих практических
потребностей человек прямо заинтересован в адекватности своих
знаний о природе, в обнаружении объективной истины.
Здоровый, разумный интерес не противоречит
объективности, а, наоборот, требует ее. Человек «вопрошает»
природу именно для того, чтобы получить у нее правильный
ответ, чтобы знать действительное положение вещей.
Пытаясь доказать на материале современной физики,
что «человек противостоит только себе самому»,
Гейзенберг пишет: «...в законах природы, которые мы
математически формулируем в квантовой теории, речь идет не об
элементарных частицах самих по себе, но о нашем знании
элементарных частиц... Представление об объективной
реальности элементарных частиц примечательным
образом рассеялось...» (79, 12). Эту мысль он повторяет
неоднократно (sieh: 79, 18). Историк культуры В. Мёнх
комментирует ее как признак возвращения физики к
«идее антропоцентрического миропорядка» (115, 407).
Здесь совершенно явно продолжается линия
идеалистического объяснения новых научных открытий, которое еще
в начале нашего века расценивалось как кризис
естествознания. Ленинский анализ этого кризиса полностью
применим и к философским взглядам современных «фи-
зиков-антропоцентристов». Кстати сказать, Гейзенберг
неоднократно (особенно в работе 80) высказывается
против «онтологии материализма», против
«метафизического» (т. е. философского) материализма. «Антропологизи-
рование естествознания», которое нашел у него Т. Литт,
41
есть не что иное, как привнесение в науку модных
идеалистических взглядов, связанных, в частности, с
философской антропологией.
В истолковании новых научных открытий
буржуазными философами и учеными встречаются, конечно, и
расхождения, происходит определенная борьба мнений. Она
отражена в большой статье Т. Литта, целиком
посвященной вопросу об отношении философской антропологии и
современной физики (sieh: 103). Литт старается, так
сказать, сгладить острые углы, смягчить крайности, к
которым он относит и концепцию Гейзеиберга. Относительно
тезиса «человек противостоит только себе самому» он
правильно замечает, что Гейзенберг «смешивает позицию
исследования, направленного на мир объектов,
называемый природой, с позицией размышления о самом этом
исследовании...» (103, 362). Как не вспомнить здесь
замечательные слова Ленина, что, когда один идеалист
критикует другого, от этого выигрывает материализм!
Идеализм самого Литта обнаруживается в этой же
статье, где он разражается длинными тирадами против
физиков-материалистов (103, 358). Работы Гейзенберга,
Литта и их коллег показывают, как велик присущий
Западу контраст между достижениями в конкретных
областях науки и техники и их философским истолкованием.
На предыдущих страницах шла речь о взглядах на
современный научно-технический прогресс, основную
тенденцию которых можно охарактеризовать как
субъективно-идеалистическую. Но поскольку «крайности сходятся»,
субъективизм не спасает от фатализма. Влиятельная
тенденция «технического пессимизма», согласно которой
техника представляет собой демоническую, разрушительную
силу, враждебную изначальным побуждениям
человеческой души (Клагес, Шпенглер, Ясперс и многие другие),
продолжается и в современной буржуазной философии.
В настоящее время одним из ярких представителей этой
тенденции является известный западногерманский
психиатр И. Бодамер, автор ряда произведений по вопросам,
составляющим общий предмет внимания философской
антропологии, психологии и медицины. Для него техника —
один из основных, если не основной источник всех бед и
зол рода человеческого. «Человек ни в коей мере не
является больше господином вызванного им движения, но
становится его слугой и жертвой, так как к сущности
техники, этого образования, основанного на законченной
42
рационализации, принадлежит то, что она, едва достигнув
определенной степени совершенства, превращается в
«иррациональное», не поддающееся учету, просто хаотичное
и анархичное» (52, 81). Выходит, что техника сама по
себе, и притом фатальным образом, сеет зло. Такое
мнение, конечно, ошибочно. Его объективная
социально-политическая подоплека состоит в том, чтобы переложить
вину и ответственность за антигуманное использование
техники с буржуазного строя, буржуазного государства,
милитаризма на саму технику. Но техника не чувствует
вины и не может отвечать... Показательно в этой связи, что
Бодамер решительно отрицает положение о том, что цели
и пути применения техники могут быть различными.
«Снова и снова выдвигаемое утверждение, что техника
ни хороша, ни плоха и все зависит только от того, как ее
используют,— ужасающе наивно и близоруко» (52, 11).
Но антигуманное использование науки и техники
империализмом есть факт, и нужна действительно большая
идеологическая близорукость или ослепленность
буржуазными предрассудками, чтобы не видеть этого.
Таким образом, тревожные и гнетущие чувства
неясности, неустойчивости человека усиливаются и
обостряются в свете определенного восприятия некоторых сторон
научно-технического прогресса в буржуазном обществе.
Пытаясь найти путь к преодолению этих негативных
состояний, многие буржуазные мыслители дают
субъективно-идеалистическое объяснение науки и техники,
искаженно изображают активность человеческого сознания,
проявляющуюся в научно-техническом прогрессе.
Обратной стороной субъективизма является фатализм,
понимание техники как слепой, неуправляемой силы, тяготеющей
над человеком.
Научно-техническая революция относится к числу
явлений, привлекающих внимание и философской
антропологии, и марксизма-ленинизма. В этой связи возникает
целый ряд вопросов. Что означает само существование и
распространение этой школы для марксистско-ленинской
философии? Должна ли последняя что-либо перенять от
первой? Должна ли она в силу этого как-то
перестроиться, изменить свою структуру и содержание? Эти и
подобные вопросы можно резюмировать в одном: надо ли
создавать марксистско-ленинскую философскую
антропологию?
43
§ 4. Философская антропология и ревизионизм
В последние годы в ревизионистской философской
литературе неоднократно ставился и рассматривался вопрос
о создании «марксистской антропологии», или
«марксистской философии человека» (sieh 139, 103—107),
выдвигалось истолкование марксизма как «философии
человеческой экзистенции» (138). Призывы к разработке
«марксистской антропологии» наблюдались и со стороны
отдельных советских философов.
Этот вопрос приобрел тем большую остроту, что
некоторые зарубежные философы-марксисты (либо
считающие себя марксистами, а на деле являющиеся
ревизионистами) высказали в ходе его обсуждения взгляды,
совершенно не приемлемые для марксизма ни в
философском, ни в политическом отношении. Это относится, в
частности, к группе авторов, публиковавшихся в загребском
философском журнале «Праксис» (Г Петрович, Р Супек,
П. Враницки, М. Кангрга и другие). Призывая к
развитию «марксистской антропологии», они одновременно
пытались доказать несовместимость марксистского
учения о человеке с другими разделами марксистской
теории, искусственно расчленить, раздробить ее на
отдельные разнородные концепции. Таким путем они хотели бы
изгнать из марксизма, в частности и в особенности,
теорию отражения. Г Петрович писал: «...можно ли даже
улучшенный вариант теории отражения привести в
согласие с Марксовой теорией человека как творческого
практического существа? Дает ли она (теория отражения.—
П. К.) удовлетворительное объяснение феноменов
сознания, истины и знания? Не является ли задачей
философов-марксистов развитие марксистской теории
духовного творчества исходя из Марксовой теории
человека?» (119, 68). Ставя подобные вопросы, авторы «Прак-
сиса» далеко не оригинальны. Еще задолго до них
буржуазные антропологисты выступали с резкими
нападками на теорию отражения, причем направление и
характер этих нападок, по существу, те же самые (см. об
этом 20, 75—76). Здесь искажаются и марксистская
теория отражения, и марксистская теория человека.
Практика и творчество понимаются в духе субъективизма и
даже волюнтаризма, рассматриваются вне всякой связи
с объективными сторонами и условиями человеческой
деятельности. Отражение интерпретируется как пассивное,
44
рабское подражание и воспроизведение, лишенное каких
бы то ни был элементов творчества и свободы.
Несостоятельность подобного понимания теории отражения
хорошо показана советскими философами.
Поход против теории отражения перерастает в
отрицание коренного принципа марксистской философии —
материализма. И в этом вопросе «новаторы» из «Пракси-
са» лишь повторяют или «заново открывают» то, что уже
было сказано буржуазными антропологистами. Г.
Петрович вопрошал: «...не вытесняет ли Марксово учение о
практике традиционную противоположность
материализма и идеализма?» (119, 68). Но практика обнаруживает
и доказывает только ошибочность абсолютного
противопоставления материального и идеального, которую не раз
отмечали классики марксизма-ленинизма;, и в то же
время нет никаких оснований утверждать, что практика
вообще устраняет всякое существенное, относящееся к
основному вопросу философии различие между ними и
«вытесняет противоположность материализма и идеализма».
Именно в практике, и прежде всего в ее основной
сфере— труде, материальном производстве, человек
сталкивается с объективной реальностью, испытывает, если
можно так выразиться, ее суровую, жесткую сторону и
учится воздействовать на эту реальность в своих целях,
используя ее же закономерности.
Призыв Г Петровича «вытеснить традиционную
противоположность материализма и идеализма» — это
далеко не единственная попытка зарубежных философов,
выступающих с планами создания «марксистской
антропологии», устранить или, по крайней мере, «смягчить»
принцип партийности в философии. Так, М. Пруха под видом
«полного обновления Марксовой концепции человека»
проповедовал идею сближения материализма с...
теологией. Он находил, что «философский стиль, общий и для
материалистов, и для теологов,— а именно подчинение
общественности, историчности и вообще всей
посюсторонности свойствам познанной сущности абсолюта — важнее,
чем различие между богом и материей» (138, 847). Но
действительно ли это «общий стиль»? Разве
материальное, объективное, как его понимает диалектический
материализм, является «абсолютом», который возвышается
над изменчивым миром конкретных явлений? И с другой
стороны, разве теология утверждает, что «сущность
абсолюта», т. е., по ее мнению, бога, познана? В приведен-
45
ной цитате дается, по существу, лишь произвольная
аналогия, из которой, конечно, нельзя делать таких далеко
идущих выводов.
Обращает на себя внимание тот факт, что эти
философы пропагандируют ошибочные взгляды не только в
философии, но и во многих важных
социально-политических вопросах. И здесь они тоже следуют по пятам
буржуазных теоретиков, в том числе антропологистов,
повторяя, например, утверждения о том, что современное
буржуазное государство выражает интересы всех слоев
населения, соответствует самой «природе человека» и т. п.
(см., в частности, 162, 94). Как эхо модных на Западе
лозунгов «деидеологизации» раздаются призывы к мирному
сосуществованию с буржуазной идеологией. Р. Супек
заявлял, что «классовые битвы и идеологические споры»
стали теперь «излишними» и превратились даже «в вид
предрассудка прошлого века» (158, 170—171).
Тот же М. Пруха иронически называл борьбу против
буржуазной идеологии «культуркампф» и делал ничем не
подкрепляемый вывод, что эта борьба, оказывается,
«наносит ущерб не только интересам философии, но и
интересам (социалистического.— П. /С.) государства» (138,
850). Между прочим, редакция международного журнала
«Neues Forum», в котором напечатана эта статья Прухи,
во вводном замечании рекомендует ее как пример
«ассимиляции современной западной философии новым
поколением» философов-марксистов (138, 845). Можно лишь
добавить, что ассимиляция буржуазной философии этим
«новым поколением», точнее, теми авторами, о которых
шла речь выше, сочетается с ревизией в худшем смысле
слова и в конце концов с отрицанием основных
положений марксистско-ленинской философии; следовательно,
здесь имеет место философский ревизионизм. Эти
проявления ревизионизма служат на руку всевозможным
марксологам и советологам, пытающимся обнаружить
«развал» и «упадок» марксистско-ленинской философии.
Принимая желаемое за действительное, они утверждают,
что последняя будто бы раскололась на два направления:
сциентистское и антропологическое (примером этих
«изысканий» является книжка 59).
Стремление философского ревизионизма «обновить
Марксову концепцию человека» тесно связано с
попытками некоторых представителей современного абстрактного
гуманизма изобразить теорию Маркса как всецело при-
46
надлежащую «западной» (т. е. буржуазной) культуре;
они видят в марксизме то разновидность религии, то
производное немецкой классической философии, то
«гуманистический экзистенциализм» и т. п. (см., например, 67,
8, 15). Абстрактный гуманизм, представленный такими
известными именами, как Э. Фромм, Г. Маркузе, О. Пол-
лак и другие, является таковым потому, что он выдвигает
принципы человечности вне всякой связи с
конкретно-исторической формой их осуществления и реальной основой
их дальнейшего развития. Обличая наиболее
бесчеловечные проявления империализма, которые стали настолько
отвратительными и отталкивающими, что против них не
может не выступать всякий человек, в котором еще есть
хоть какие-нибудь признаки доброй воли, многие
абстрактные гуманисты одновременно находятся под
определяющим, или, по крайней мере, значительным влиянием
буржуазной идеологии и не только не могут перейти на
позиции социалистического гуманизма, но и пытаются
«приобщить» марксизм (в частности, марксистскую
концепцию человека) к буржуазной философии. Некоторые
философы из европейских социалистических стран, в том
числе и те, которые рассматривались выше,
непосредственно и широко сотрудничают с теоретиками
буржуазного абстрактного гуманизма — именно сотрудничают как
идейные союзники, а не просто ведут диалог— и этим
лишь подчеркивают свое отступничество от коренных
принципов марксизма-ленинизма.
Такое «развитие» марксистско-ленинской концепции
человека ей, конечно, не нужно; более того, оно должно
быть отвергнуто самым решительным образом. К
сожалению, дело не обходится без ошибок другого рода:
справедливо возмущаясь ревизионистским «обновлением
Марксовой концепции человека», отдельные философы-
марксисты проникаются антипатией ко всякому
философскому исследованию человека и доходят даже до
утверждений, что марксистско-ленинской философии это
вообще не нужно, что учение о человеке является как бы
инородным телом в ее организме и т. п. Такая позиция
представляется тоже совершенно неприемлемой.
В то же время следует согласиться с тем, что термин
«марксистско-ленинская философская антропология»
непригоден и не может быть принят к употреблению даже
тогда, когда за ним не скрываются никакие
ревизионистские замыслы (как, например, у отдельных советских ав-
47
торов, применявших его). Здесь надо учитывать
исторически сложившуюся ситуацию. Термин «антропология»
употреблялся еще Аристотелем, но сочетание
«философская антропология» было введено в обиход буржуазной
философии Шелером. Вот уже на протяжении целых
десятилетий термин «философская антропология»
интенсивно эксплуатируется буржуазными философами различных
направлений для обозначения создаваемых ими
идеалистических теорий человека. И, конечно, если бы теперь
марксистско-ленинская философия заимствовала и стала
широко применять его, то это дало бы советологам
повод для утверждений, что она следует за буржуазной
философией, подпадает под ее влияние. Кстати сказать,
советологи внимательно следят за работами советских
авторов о современной философской антропологии и
прямо выражают надежду на «вторжение этого мышления в
марксистскую философию советского образца» (60, 180).
Нет никакой нужды копировать терминологию
современной буржуазной философии. Применимы другие
обозначения, встречающиеся в нашей литературе:
«марксистско-ленинская философская концепция человека» или,
как говорят наши коллеги из ГДР, «социалистический
образ человека» (sieh: ПО). Представляется правомерным
и обозначение «философские проблемы человекознания»
по аналогии с таковыми естествознания. В то же время
недопустимо рассматривать исследование философских
проблем человекознания как некую особую философскую
науку, существующую в марксистско-ленинской
философии наряду с диалектическим и историческим
материализмом. Это уже неоднократно отмечалось советскими
философами (см., напр., 14, вып. 2, 6—9).
Несколько лет назад известный советский психолог
Б. ?^ Ананьев высказал предположение: «В ближайшее
десятилетие теоретическое и практическое человекознание
станет одним из главнейших центров научного развития»
(5, 6) На наш взгляд, это предположение подтверждается.
Различные науки проявляют живой и растущий интерес
к человеку, и это лишь подчеркивает необходимость
марксистско-ленинского философского познания
человека.
Оно необходимо в особенности для философского
обобщения разнообразных и неуклонно возрастающих
сведений, получаемых частными науками о человеке.
Потребность в таком обобщении является тем более ост-
48
рой и назревшей, что в настоящее время
«дифференциация наук (о человеке.— П. К.) явно преобладает над
процессом их интеграции...» (5, 28). Конечно, не всякое
обобщение может быть признано философским, но в данном
случае оно может и должно быть именно таким уже
потому, что осмысливая данные различных наук о
человеке с неизбежностью приходится ставить и решать
основной вопрос философии.
Из всех известных нам самоорганизующихся систем
сознанием в полном смысле слова обладает только
человек. С другой стороны, он есть единственное существо,
создающее для своей жизни особую, в некотором смысле
искусственную среду, сознательно видоизменяющее
объективную реальность для удовлетворения своих
потребностей. «Практическое созидание предметного мира,
переработка неорганической природы есть самоутверждение
человека как сознательного родового существа..» (2, 566).
Это преобразование природы возможно благодаря тому,
что человек является общественным, и притом
единственным общественным, существом (стадность животных —
не общественность). И поскольку человек, повторяем,
есть единственное существо, обладающее этими особыми
качествами (сознание, труд, общественность), без
исследования которых марксистско-ленинская философия
вообще немыслима, всеобъемлющая теория человека с
неизбежностью имеет глубоко философский характер.
Изучение человека так или иначе ведет к постановке
философских проблем и в то же время является одним из
необходимых путей и способов их решения. Необходимость
философского исследования человека вытекает не только
из потребности в обобщении эмпирических данных о нем,
но и из природы самой философии.
Как видим, выдвинутые философами-ревизионистами
планы создания некоей «марксистской антропологии»,
никак не связанной с остальными частями марксистско-
ленинской теории и даже противоречащей им, с самого
начала несостоятельны и обречены на неудачу. В то же
время марксистско-ленинская разработка философских
проблем человекознания правомерна и необходима. Она
осуществляется с использованием достижений различных
наук, так или иначе изучающих человека, и в свою
очередь вооружает их всеобъемлющим пониманием его,
которое служит методологической основой для решения
конкретных вопросов человекознания.
49
Важным ответвлением марксистско-ленинской
философской концепции человека является критика
современных буржуазных теорий о нем. На последующих
страницах будет дан критический анализ основных
разновидностей современной философской антропологии. Начинать
его следует, очевидно, с рассмотрения образа человека,
созданного Максом Шелером — ее основоположником и
наиболее известным представителем.
ГЛАВА 2. УЧЕНИЕ М. ШЕЛЕРА О ЧЕЛОВЕКЕ —
ИСХОДНЫЙ ПУНКТ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ
§ 1. Дуализм «порыва» и «духа»
в теории Шелера
Макс Шелер (1874—1928) —один из
виднейших представителей немецкой буржуазной философии
XX века, плодовитый автор, влияние идей которого
значительно и теперь (и не только в ФРГ). В советской
философской литературе опубликован ряд работ о Шелере
(35, 181—193; 47; 25; 29). Каково бы ни было их
качество, можно сказать, что воззрения Шелера должны быть
подвергнуты дальнейшему критическому исследованию.
Однако анализ всего наследия Шелера выходит за рамки
данной работы, в которой рассматриваются лишь
основные идеи его философской антропологии, занимавшей
центральное место в его мышлении.
Первая треть XX в. выделяется своей буркой и
напряженной социальной динамикой, остротой политических
столкновений, резкостью культурных и духовных
контрастов. Все это ярко проявилось в войне 1914—1918 гг. и в
послевоенных трудностях. Шелер постоянно находился в
гуще философских и социальных дискуссий своего
времени. Для понимания его философии важно учитывать
особенности его личности.
Это была весьма своеобразная фигура среди немецких
философов. Из воспоминаний тех, кто лично знал
Шелера, вырисовывается облик человека очень переменчивого,
легко возбудимого, влекомого, даже терзаемого
противоположными чувствами. Контрастность, переменчивость
характерны и для его философских взглядов и сочинений,
и для его образа жизни, и даже, как ни странно это зву-
50
чит, для его внешности. Переменчивость Шелера
породила трудности и споры в понимании его философии и
вместе с тем помогла ему подметить и выразить
некоторые особенности мировосприятия и социальной
психологии определенных общественных сил его эпохи: ведь это
была эпоха перехода, брожения, поляризации и
конфликтов.
При всей переменчивости Шелера его философия не
лишена тематической и концептуальной связи. Последняя
существует благодаря тому, что, во-первых, его всегда
больше всего занимала одна и та же
проблема—^проблема человека, которая и является связующим звеном его
размышлений и произведений, а во-вторых, некоторые
основные идеи свойственны всем этапам его философской
эволюции: они словно перекочевывают из одной работы
в другую и при этом часто выступают в новой роли,
принимают иной вид. Шелер как бы пробует различные
варианты ответов на вопросы своей философии, переходит
от одного ответа к другому. Например, идея бога всегда
находила себе место в его мышлении, однако претерпела
значительные изменения в ходе эволюции его взглядов.
В чем же состоит контрастность философии Шелера?
Этот мыслитель имел постоянную и глубокую
привязанность к наследию предшествующей идеалистической
и религиозной философии с ее верой в вечные
абсолютные принципы, бесконечно возвышенные в своем
совершенстве и своей неприкосновенности и не зависящие ни
от чего земного. Вместе с тем он как бы впитывал в себя
особенности своего времени: особую остроту
противоречий, разрушительную игру неуправляемых сил,
«ниспровержение ценностей» (так назван том его очерков), и все
это он отражал в своей философии. В результате у него
и сложился дуализм идеального, вечного, абсолютного,
возвышенного (которое он выражал в понятии «дух» —
Geist) и телесного, стихийного, инстинктивного, грубого
и даже отталкивающего в своей животности (он
обозначал это словом «порыв» — Drang).
Этот дуализм получил яркое выражение в его
философской антропологии, которая утверждала, как он сам
писал, «неуравновешенность и дисгармонию человека
между сознанием и запросами его духовной личности и
его телесной нуждой» (150, 69). Дуализм «порыва» и
«духа» оставил свой отпечаток на всем, что было
написано Шелером о человеке.'Это важно подчеркнуть, тем
51
более, что в последнее время усилились попытки
«гармонизировать» антропологию Шелера, сгладить ее
противоречивость и непоследовательность (sieh: 157).
Не касаясь самых ранних работ Шелера, обратимся
к его статье «Zur Idee des Menschen» («К идее человека»),
краткий анализ которой представляется нужным уже
потому, что это первый набросок его философской
антропологии.
Шелер начинает свою статью со знаменитой фразы о
том, что все основные проблемы философии сводятся к
одной — что такое человек и какое положение в мире он
занимает. Важной составной частью этой проблемы он
считает вопрос о «единстве человека», о «границе»
истории и предыстории, т. е. о происхождении человека и о
том, являются ли собственно человеческие свойства
продолжением и развитием животных свойств наших
предков или же совершенно не зависят от них. Шелер
настойчиво проводит мысль о раздвоенности человека на
природное, естественное, вообще связанное с поддержанием
жизни, с обеспечением человеческого существования, с
одной стороны, и внеприродное, духовное — с другой;
причем эти две стороны резко разделены и не имеют
между собой ничего общего. Формулируя вопрос о
«единстве человека», Шелер уже во введении спешит заявить,
что «никакой, хотя бы самый узкий путь не ведет от homo
naturalis (человек естественный. — Я. К.) к человеку
истории...» (153, 174), т. е. к человеку как духовному
существу.
Со свойственным ему полемическим пылом он
критикует, осуждает, высмеивает все те философские и
естественнонаучные теории, в которых «человек представляется
растворенным в животности, в низшей природе...» (153,
175). Из этих теорий он называет по имени натурализм,
позитивизм и прагматизм, но из контекста отчетливо
видно, что он переносит критику и на материализм. Он
ополчается против всякой теории, причисляющей к подлинно
человеческим свойствам и способностям те, которые
выработаны на основе деятельности человека по
достижению каких бы то ни было земных целей, по сохранению и
упрочению своего существования и положения в мире.
Логика мысли Шелера такова: все признаки и качества
человека, так или иначе связанные с удовлетворением его
материальных нужд, не содержат в себе ничего истинно
человеческого, а если даже и содержат, то око привнесе-
.я?
но извне, из царства духа, которое является подлинной
родиной человека. В конце концов Шелер приходит к
выводу, согласно которому единство человека состоит,
оказывается, в том, что он есть «искатель бога» —
Gottsucher (153, 189) и он «обретает свое единство
только... в идее бога...» (153, 194). Этот вывод противоречит
исходным посылкам самого Шелера: о каком единстве
может идти речь, если «с порога» обнаруживается
«абсолютная пропасть» между определенными качествами
человека?
Говоря о единстве человека, Шелер затрагивает
также проблему его дефиниции и выдвигает очень важную
для философской антропологии мысль о его
неопределимости (sieh: 153, 186). Он при этом полагает, что всякое
определение человека означало бы отрицание его
свободы и многообразия: «Определимый человек не имел бы
никакого значения» (153, 186). Но всесторонняя воспи-
туемость и способность к изменению, составляющая один
из отличительных признаков человека, как раз и должна
быть отражена в его определении. Всякое размышление
о человеке так или иначе опирается на его определение,
высказанное или молчаливо подразумеваемое, хотя его
формулированием и доказательством задача человеко-
знания, конечно, не ограничивается.
Шелер прямо связывает мысль о неопределимости
человека с религиозной антропологией: человек есть
«конечный и живой образ бога» (153, 187), а поскольку бог
потусторонен и непознаваем, человек, по крайней мере,
неопределим. Последнее не вызывает у Шелера какого-
либо сожаления или пессимизма, скорее наоборот,
—неопределимость человека выступает как признак его
особого достоинства, «богоподобия». Тем не менее мысль о
том, что все усилия самопознания оказываются в конце
концов тщетными, что подлинная сущность человека
недоступна научному исследованию, создает в человеческом
сознании, пусть даже незаметно для него, очаги
беспокойства и смятения, и в последующей эволюции
философской антропологии неопределимость человека
изображалась во все более мрачных красках, ассоциировалась с
отчуждением, деперсонализацией, утратой его «я».
Человек стал представляться непознаваемым не только в
отношении его «трансцендентной сущности», но и в самом
прямом и обыденном смысле. Это означает усилие
иррационализма, заключенного в положении о неопредели-
53
мости человека; причем традиционный иррационализм
теологического толка, иррационализм потустороннего все
больше заменялся новейшим иррационализмом, в
котором непостижимое лишено ореола трансценденции,
превратилось просто в абсурд, неразумие, хаос и
приписывается не только потустороннему, но и вообще всякому
бытию.
Таким образом, уже в сравнительно ранних работах
Шелера вполне определенно выражена его
дуалистическая концепция человека. Она была разработана, а в
некоторых отношениях пересмотрена и изменена в его
последующих произведениях. Перейдем к анализу основной
антропологической работы Шелера «Положение человека
в космосе». Она была опубликована в 1927 г. и тесно
связана с такими его работами, относящимися к этому же
периоду, как «Человек и история» и «Философское
мировоззрение».
С особенной силой подчеркивает он в этих работах
важность и необходимость всеобъемлющего
исследования человека: «Если существует философская задача,
решения которой с исключительной настойчивостью
требует этот век, то это задача философской антропологии»
(144, 7). Исходя из того, что человек представляет собой
микрокосмос («мир в малом»), Шелер стремится
построить из одних и тех же категорий философскую систему
мироздания и учение о человеке. Основное значение он
придает двум категориям — «порыву» и «духу»,
конкретизируя их содержание, находя в них целый ряд
разновидностей и оттенков.
Порыв и дух выступают у Шелера как свойства
человеческого существа и одновременно как атрибуты
«первоосновы мира» (der oberste Weltgrund), «первосуще-
го» (das Urseiende). Порыв представляет собой некое
простейшее, смутное, бесформенное побуждение,
присущее не только человеку, но и вообще всему живому.
Такие явления, как прием пищи, сексуальные действия, боль
и ее утоление и т. п., будут, по Шелеру, уже более
сложной разновидностью порыва, ибо они связаны с
определенной ситуацией и определенным объектом. Сам же
порыв есть неопределенное стремление всего живого,
«беспредметное удовольствие и беспредметное страдание»
(147, 17).
В контексте своих произведений Шелер часто
отождествляет порыв с жизнью и вообще с природой. Однако
54
порыв — не материальное, а несомненно психическое:
философ неоднократно употребляет выражение
«чувственный порыв» (-Gefühlsdrang). В то же время порыв не
содержит ничего осознанного, разумного, не знает никакой
направленности и цели, слеп и глух к высшим
ценностям— это стихийное, самопроизвольное, хаотичное,
демоническое стремление. Иначе говоря, шелеровская
концепция порыва глубоко иррационалистична, и сами же
буржуазные философы отмечали ее близость к понятию
воли у Шопенгауэра и жизненного порыва у Бергсона
(see: 55, 310; 98, 56—57). Несомненен и идеализм этой
концепции, которая означает «перенесение
первоначально чисто антропологической категории воли на всю
природу и мир явлений» (98, 56).
Понимаемый таким образом порыв образует и в
животном, и в человеке «н и з ш у ю ступень психического,
которая объективно (во вне) выступает как «живое
существо», субъективно (во внутрь) —как «душа»...» (147,
17). Потребность, инстинкт, память, способность
подражания, способность выбора, практический интеллект или
ум (die Intelligenz), повсеместно применяемый
человеком в технике, в естествознании и просто в повседневной
жизни, — все это ые более чем разновидности и формы
проявления порыва, свойственные и человеку, и
животному. В то же время Шелер считает, что в философской
концепции человека недопустимо ограничиваться теми
признаками, которые роднят его с животным, и с прежней
решительностью выступает против всех (зачисляемых им
в общую рубрику натурализма и позитивизма) теорий,
которые он находит виновными в этом ограничении.
Стрелы этой критики иногда действительно метко поражают
пороки, односторонне натуралистических,
вульгарно-материалистических, позитивистских представлений о
человеке. Однако не следует забывать о том, что эта
критика ведется с идеалистических позиций и поэтому тоже
отягощена пороками, хотя и другого рода. Шелер
употребляет термин «натурализм» в очень широком смысле,
включая и материализм, против которого, собственно, и
направлено острие его критики. Он особенно возмущен
тем, что «так называемые натуралисты совершенно
игнорировали первичность и самостоятельность духа»
(147, 100).
Проследим дальше движение мысли Шелера. Описав
порыв как необходимое, хотя и низшее, свойство челове-
55
ка, он отнюдь не намерен закончить на этом свою
антропологию. Наоборот, только теперь он переходит к
характеристике собственно человеческого. «Новый при н-
ц и п, который делает человека человеком, находится вне
всего того, что мы можем назвать в самом широком
смысле жизнью, внутрипсихической или внешневитальной.
То, что делает человека человеком, есть принцип,
противоположный вообще всей жизни...» (147,
45—46). Это решающее, основное свойство человека Ше-
лер обозначает словом «дух». Разъясняя его значение, он
пишет, что составной частью духа является разум,
открытый еще древнегреческими мыслителями, но дух—это
не только разум, не только абстрактное мышление, но и
созерцание — непосредственное, интуитивное «узрение
сущности», а также разнообразные эмоциональные и
волевые акты: доброта, любовь, раскаяние,
благоговение и т. д. Носителем же духовных актов является
личность.
Не ограничиваясь этими разъяснениями, Шелер дает
целый ряд определений и описаний духа. Рассмотрим
наиболее характерные из них. «...Основным определением
«духовного» существа является его
...экзистенциальная самостоятельность, свобода,
независимость от принуждения, давления,
связи с органическим, с «жизнью» и всем, что
относится к «жизни», следовательно, независимость также и
от своего собственного интеллекта, идущего на поводу у
инстинктов. Такое «духовное» существо не сковано
окружающим миром и инстинктами, но «свободно от
окружающего мира» и, как мы хотели бы это назвать,
«открыто миру»» (147, 47). Развивая эту мысль, Шелер
пишет, что своими духовными актами человек «раздейств-
ляет» (entwirklichen) действительность, делает ее
недействительной, создавая для себя некий особый мир, в
котором исчезают все его «земные» страхи и заботы. Как
живое существо, подверженное неукротимой, но слепой и
стихийной деятельности порыва и, следовательно,
находящееся во власти различных потребностей, человек
зависит от окружающего мира и в своих действиях,
направленных на удовлетворение потребностей, испытывает его
«сопротивление», порождающее страх и тревогу. Но при
помощи духовного акта человек разрушает, устраняет
все это «властное давление реальности с его
аффективным коррелятом» и в беспрепятственном парении духа
56
обретает свой высший удел, свою свободу и
независимость.
Уже здесь можно с полным основанием сказать, что
антропология Шелера представляет собой прямо-таки
злоупотребление относительной самостоятельностью и
активностью сознания, одностороннее преувеличение,
чрезмерное раздувание той возможности «отлета от
жизни», которая таится уже в самой элементарной мысли,
а все это — типичные приемы идеализма, на которые
неоднократно указывал В. И. Ленин. В то же время
обращает на себя внимание и разница между старым и
современным идеализмом. Если прежний идеализм (в
особенности начиная с Декарта) основывался, как правило,
на абсолютизации момента самостоятельности понятий
или ощущений, стало быть, определенных этапов и форм
познания, то современные буржуазные философы, как это
можно видеть у Шелера, стремятся, так сказать, освоить
и использовать всю сферу сознания и вообще
психического, взятую в самом широком смысле: не только
абстрактное мышление, но и всевозможные эмоции, волевые
акты, общее состояние и самочувствие индивида,
находящегося в той или иной эмпирической ситуации. Идеализм
проделывает известную эволюцию, пытается расширить
арсенал своих средств и сферу своего действия, и
антропология Шелера является типичным примером этого.
Явный идеализм и чрезмерная автобиографичность
шелеровского понимания духа не означают, что последнее
вообще лишено каких бы то ни было позитивных
моментов.
Ошибочность и несостоятельность этой теории не в
том, что она стремится утвердить свободу человеческого
духа, а в том, что она мыслит эту свободу вне всякой
связи и даже вразрез с «жизнью», с естественной и
общественной необходимостью, считает возможным
перескочить или обойти закономерные этапы достижения
свободы, преодолеть «сопротивление реальности» при
помощи лишь духовного акта. В конце концов, можно всецело
полагаться только на способности своего духа, видеть в
нем единственное владение и достояние, забыть о
требованиях и превратностях жизни, и такая позиция, вообще
говоря, может приводить даже к некоторым успехам
(поскольку человеческое сознание обладает относительной
самостоятельностью), но совершенно неприемлема и
неосуществима в качестве постоянной и основной линий
57
поведения, и трудно представить себе, как
разрушительны были бы ее последствия.
В вышеприведенном «основном определении
духовного существа», вышедшем из-под пера немецкого
мыслителя, вполне ясно обнаруживается один из
характерных приемов буржуазной философской антропологии —
подмена социального антропологическим, свойственным
абстрактно понимаемой природе человека якобы
совершенно независимо от всякого общества и даже вопреки
ему. Из теории Шелера напрашивается вывод, что
человек безотносительно к каким бы то ни было
историческим условиям может, так сказать, одним мановением
своего духа достичь неограниченной свободы,
независимости, счастья. Объективный социальный смысл этой
теории, каковы бы ни были намерения ее автора, состоит
в том, чтобы отвлекать трудящиеся массы буржуазного
общества от «земной» действительности, от «жизни», в
которую Шелер, кстати сказать, включает материальное
производство и классовую борьбу, внушать иллюзорное
чувство свободы от «властного давления реальности»,
уводить в отрешенный мир духа.
Вышерассмотренным «основным определением
духовного существа» размышления Шелера о духе не
ограничиваются. Вслед за первым признаком человеческого
духа (свобода, независимость от давления жизни) он
указывает еще два. Второй «сущностный признак» человека
состоит в том, что «он способен — и это наиболее
примечательно— делать для себя предметом и свое
собственное физиологическое и психическое
состояние и всякое отдельное психическое
переживание. Только поэтому он может свободно отбросить от
себя и свою жизнь» (147, 51). Шелер варьирует эту
мысль различными способами: человек может ставить
себя «как бы по т у сторону
пространственно-временного мира» и делать предметом своего познания
буквально все, в том числе и себя самого; та позиция,
исходя из которой он осуществляет «акты опредмечивания»,
«не может быть «частью» этого же мира, не может,
следовательно, иметь определенного Где и Когда» (147,
57—58).
В этих положениях Шелера отражается факт, давно
известный в философии и психологии: напомним слова
Маркса о том, что человек делает свою
жизнедеятельность предметом своего сознания и не сливается с ней во-
58
едино (см. 2, 565). Но в антропологии Шелера это
явление истолковано неадекватно, искаженно. Он явно
преувеличивает различие между человеком как предметом
и как субъектом самопознания, резко противопоставляет
их друг другу. Такая поляризация человеческого
сознания, конечно, может иметь место, и она тоже давно
описана, в частности в художественной литературе. Бывают
случаи, когда в одном и том же индивиде живут как бы
два разных, чуждых друг другу человека, из которых один
наблюдает другого словно со стороны (подобное
явление изображено, например, в философском романе Поля
Бурже «Ученик»). Но такое «самоудваивание» обычно
представляет собой гнетущее состояние и ведет в конце
концов к патологическому раздвоению личности и другим
расстройствам самосознания, относящимся уже к
компетенции психиатрии. В норме же самосознание всегда
есть, в частности, непосредственное ощущение человеком
своего тождества с самим собой, чувство очевидности
того, что предмет моего самопознания — это я сам.
Конечно, иногда человек хочет «взглянуть на себя со
стороны», оценить себя «совершенно беспристрастно», и
способность мысленного удаления от себя самого
поистине поразительна (например, можно представить себя
ожидающим известия о своем рождении), но все эти
«эксперименты самопознания» носят, несомненно, условный
характер, играют лишь вспомогательную роль и не
должны нарушать целостность психики индивида. Эта
целостность видна, в частности, из того неоднократно
отмечаемого явления, что, когда человек пытается наблюдать и
анализировать себя как некий внешний предмет, его «я»
обычно ускользает от его же внимания. Наконец, что
касается понимания Шелером самоубийства как
подтверждения способности человека «раздваивать» себя,
относиться к себе как к внешнему предмету, понимания
самоубийства как проявления свободы духа («человек
может свободно отбросить от себя свою жизнь»), то еще
Фейербах (см.: 41, 582—587) убедительно показал, что
самоубийство лишь кажущимся образом противоречит
«земным» потребностям и стремлениям человека, что оно
есть не отрицание, а, как это ни парадоксально на
первый взгляд, обнаружение и утверждение нашей
привязанности к жизни, крик отчаяния, последний протест
против того, что встало непреодолимой преградой и
угрозой на пути жизни.
59
Третий признак духа состоит, по Шелеру, в том, что
дух, обладая способностью делать для себя предметом
самые различные явления, в то же время «есть
единственное бытие, которое само неспособно к
предметности— он есть чистая актуальность, имеет
свое бытие только в свободном осуществлении своих
актов. Следовательно, центр духа, личность, не есть ни
предметное, ни вещное бытие, а только постоянно
осуществляющая себя... порядковая
структура актов» (147, 58). Здесь мы сталкиваемся с
труднейшими вопросами: как существует человеческий дух, в
чем именно состоит наша личность, чем отличается
бытие моего «я» от всякого другого бытия.
В понимании бытия, в том числе и бытия личности,
издавна применялись два глубоко различных подхода,
получивших названия субстанциализма и актуализма.
Первый исходил из признания абсолютной, неподвижной
основы бытия и рассматривал все происходящие в мире
события и изменения лишь как проявление этой
глубинной, обычно скрытой от разума и даже таинственной
основы. Agere sequitur esse (действие вытекает из
бытия)— гласила формулировка этой точки зрения,
данная еще схоластами. Но с течением времени, а в
особенности теперь распространяется другой метод, который,
в противовес первому, кладет в основу само действие,
событие, изменение и считает, что бытие есть лишь
последствие, результат тех или иных актов либо их
совокупности. Этот подход к бытию можно подытожить в словах:
esse sequitur agere (бытие вытекает из действия).
В попытках постичь специфику подлинно
человеческого бытия мысль Шелера, если можно так выразиться,
попала в поле напряжения, созданное полемикой этих
методов, оказалась между двух огней. С одной стороны, Ше-
лер стремится утвердить ценность личности, своеобразие
ее внутреннего мира, защитить достоинство человеческого
духа от «наплыва» различных вульгаризаторских теорий;
в противовес позитивизму, прагматизму, бихевиоризму он
заявляет, что личность есть нечто неизмеримо большее,
чем исходный пункт или связь определенных актов или
переживаний, что подлинный человеческий смысл всякого
отдельного поступка и чувства можно понять лишь тогда,
когда они рассматриваются не изолированно, а
соотносятся с данной личностью, с тем конкретным целостным
образованием, из которого они проистекают. Поэтому
60
Шелер отмежевывается от «актуалистического
персонализма», выводящего бытие личности из ее деятельности
(140,394—395).
С другой стороны, он не может не учитывать того, что
личность обычно очень трудно «объективировать»,
фиксировать, что она отличается динамичностью,
подвижностью своих состояний и проявлений, и это побуждает
его подчеркивать, что личность «никогда не является
предметом» (140, 397) и существует только в своих
актах, в самом их протекании. Таким образом, Шелер
колеблется между субстанциализмом и актуализмом,
допускает здесь явную сбивчивость и половинчатость,
навлекая на себя критику даже со стороны некоторых своих
коллег и последователей (sieh: 77, 207—208).
Конечно, бытие человека глубоко отличается от бытия
вещи, но, как бы то ни было, человек не лишен вообще
всякой предметности, ибо в таком случае он был бы
совершенно загадочным и непостижимым существом «из
другого мира». Отрицание всякой предметности
человеческой личности таит в себе несомненно идеалистическую
тенденцию: мыслить личность непредметиой — это
примерно то же самое, что мыслить пространство и время,
движение, энергию и т. д. нематериальными. Столь же
несомненно, что такой подход &едет и к агностицизму: если
человек лишается предметности, то все теории, все
рассуждения о нем становятся, можно сказать,
беспредметными. Николай Гартман с полным основанием
подчеркивал в полемике с Шелером тот простой факт, что
человеческая личность есть предмет этики, психологии и
других наук, что наши духовные акты суть предметы
оценочных суждений (sieh: 77, 208). Разумеется, этого еще
недостаточно для выяснения специфики личностного
бытия. Выскажем в этой связи несколько замечаний
(учитывая, что затронутые вопросы составляют, по существу,
тему особой работы).
Дилемма субстанциализма и актуализма в понимании
личности может и должна быть снята путем
диалектического исследования человеческой природы. Задача
состоит здесь в том, чтобы установить, как именно связаны
между собой становление (действие, переживание и т. п.)
и ставшее (убеждение, привычка, характер).
Определенность, устойчивость и в этом смысле предметность
человеческой личности—это, в частности, сформировавшийся,
более или менее прочный, фиксированный, сложившийся
61
образ, тип, способ ее реагирования, ее ответа (в самом
широком значении слова) на события внешнего мира, это
свойственные дайной личности вид, манера, стиль
действий. Мало сказать, что личность существует в своих
актах,—каждая личность обнаруживает особый «почерк»
осуществления этих актов, зная который можно с
большей или меньшей уверенностью предполагать, что будет
думать, чувствовать и делать данный человек в данной
обстановке (беспринципность и бесхребетность тоже
составляют некоторый образ действий).
Этот устойчивый, закрепленный в ходе
индивидуальной жизни склад мышления и действия образует
необходимый компонент тождества личности самой себе. Образ
действий личности не устанавливается как неизменный
шаблон на всю последующую жизнь: он должен обладать
достаточной гибкостью и упругостью, чтобы
«срабатывать» на крутых «поворотах судьбы», и приобретение
такого устойчивого и одновременно гибкого образа
действий есть требование самой жизни. Субстанциальность
личности достигается, следовательно, не «по ту сторону»
ее актов, а в самом способе их выполнения, что было
психологически обосновано в учении И. П. Павлова о
динамическом стереотипе и А. А. Ухтомского о доминанте.
Образ действий личности вырабатывается не иначе как
путем самих же действий — это их квинтэссенция, сгусток,
прочный осадок, что отражено во французской пословице
«l'action fait un homme» (действие создает человека).
В своем описании духа Шелер не ограничивается
тремя признаками, рассмотренными выше. Стремясь
наглядно объяснить, что такое дух, он обращается к
«специфически духовному акту» — образованию идей, идеации
(Ideierung). Этот акт глубоко отличается от всякого
«технического», прикладного, используемого на практике
знания. Компетенцию и пределы последнего философ
поясняет на следующем примере. Я чувствую сейчас боль
в руке. Как возникла эта боль, как ее устранить? Ответ
на эти вопросы является задачей соответствующей
«позитивной науки». Но ту же самую боль я смогу
истолковать как выражение того, что этот мир вообще запятнан
болью, страданием, злом. Тогда я буду вопрошать иначе:
что же такое, собственно, сама боль безотносительно к
тому, что я чувствую ее здесь и теперь? И как должна
быть устроена первооснова вещей, чтобы «боль вообще»
была возможна? (147, 60). Но наиболее яркие примеры
62
подобного рода встречаются в математике: наш разум
может отвлечь, отделить число тех или иных вещей, от них
самих и оперировать этим числом как особым предметом
согласно числовым закономерностям (sieh: 147, 61).
Следовательно, идеация есть способность постигать «формы
сущностной структуры мира» всего лишь на одном
примере из соответствующей области, совершенно
независимо от количества производимых нами наблюдений и от
индуктивных выводов. Знание, приобретаемое таким
образом, обладает неограниченной всеобщностью
относительно вещей данного вида. Такое знание выходит
далеко за пределы нашего непосредственного опыта. На
языке школьной философии оно называется априорным
(sieh: 147, 61). Шелер заявляет даже, что эта
способность разделения эмпирического, бытия к сущности есть
важнейший признак духа, который только и «основывает»
все другие признаки (147, 62).
Здесь отчетливо видно, как сильно подвержен Шелер
влиянию тенденций классического идеализма, особенно
его кантовского варианта. Сокрушительная критика
априоризма В. И. Лениным полностью относится и к
антропологии Шелера, которая разрывает ощущение и мысль,
единичное и общее, явление и сущность. Можно ли
постичь, что такое «боль вообще», если никогда не иметь
никаких болевых ощущений? Ссылка на математику тоже
оказывается несостоятельной: при всей своей кажущейся
абстрактности математические понятия, символы и
операции, как это показали К. Маркс в «Математических
рукописях» и Ф. Энгельс в «Диалектике природы», отнюдь не
являются «чистыми порождениями» разума, а
представляют собой в конечном итоге отражение реальных
процессов и отношений объективного мира. Далее, сущность
и эмпирическое бытие реально не существуют в отрыве
друг от друга: сущность всегда воплощается, конечно
более или менее полно, в некотором бытии, а последнее
имеет в себе, явно или скрытно, свою сущность, и
разделить их можно только в абстракции, только условно и
памятуя об этой условности. Шелер же, как заметил его
бывший ученик Ф. Бассенге, выступивший с критикой
основных положений его философии, превращает
«понятийное разделение» в «онтологическую пропасть» (49, 395).
Нельзя не отметить здесь одну особенность теории
Шелера. Если он опирался на априористское
истолкование процесса познания, то это не значит, что он вообще
63
игнорировал опыт. Более того, Шелер видел и стремился
исследовать социально-исторические факторы познания
и считается основоположником буржуазной «социологии
познания» (см. об этом в работе 47). Однако он хотел
построить последнюю таким образом, чтобы оставить в
неприкосновенности владения феноменологии как науки о
«чистых сущностях», которые сознание находит в самом
себе. Он признает историческую изменчивость и
обусловленность лишь «организации» познания, способов
восприятия, истолкования, передачи, использования уже
готовых, законченных знаний, но их источник —
человеческий разум — есть константная величина, на которую не
действуют никакие социальные условия (см., например,
147, 62). Здесь Шелер опять допускает явную
непоследовательность: что останется от человеческого знания,
если отсечь его от способов его освоения, выражения,
передачи и т. п.? Коль скоро признана социальная природа
этих последних, то и со всякого знания и всякой науки
надо «сорвать покров тайны» (К. Маркс).
Как уже отмечалось, человеческий дух в описании Ше-
лера — это не только разум, не только идеи и способность
их создания, но и определенные чувства: любовь,
благоговение, смирение и т. д. Особенность «духовных чувств»
он видит в том, что они абсолютны, т. е. коренятся в
самом существе человеческой личности и совершенно не
связаны с какими бы то ни было «внеличными»
ценностями (sieh: 140, 355—356). Утверждение самопроизвольной
и самодовлеющей природы духовных чувств делается под
знаком заботы о сохранении их свободы и человечности.
В «Экономическо-философских рукописях» Маркс
показал ошибочность такого рода воззрений. Он писал:
«...не только пять внешних чувств, но и так называемые
духовные чувства, практические чувства (воля, любовь
и т. д.), — одним словом, человеческое чувство,
человечность чувств, — возникают лишь благодаря наличию
соответствующего предмета, благодаря очеловеченной
природе» (2,593—594).
Далее, в теории Шелера чрезвычайно важную роль
играет тезис о так называемом бессилии духа. Философ
сам считал вопрос о том, обладает ли дух собственной
силой, активностью, способностью к действию, решающим
(sieh: 147, 66). Дух есть атрибут первоосновы мира,
царство идеальных сущностей, возвышающееся над всякой
земной действительностью и свободное от ее грубого давле-
64
пия, но в своем первоначальном виде, в своей «чистой»
форме он не имеет ровно никакой силы, власти, энергии
(sieh: 147, 66, 77—78), не может даже выразить себя
(sieh: 147, 66). Для того чтобы приобрести любую, сколь
угодно малую степень активности, дух должен получать
и сублимировать энергию демонического, неразумного,
слепого, зато обладающего движущей силой и мощью
порыва (sieh: 147, 65—66, 77—78), энергию жизни с ее
потребностями, влечениями, инстинктами (здесь Шелер
очень близок к фрейдистской теории сублимации, что
он, впрочем, и сам отмечает).
Рассуждая таким образом, Шелер впадает в явное
противоречие, выделяющееся своей нелогичностью даже
в его философии, которая вообще не является образцом
последовательности и строгости мышления. В самом
деле, чтобы преобразовывать и использовать энергию
порыва, дух должен хоть в какой-то мере управлять ею: как
бы преграждать ей путь, удерживать и отвлекать на себя
часть этой энергии, сковывать или, наоборот, освобождать
ее и т. п. Следовательно, прежде чем начать сублимацию,
дух уже должен иметь определенную энергию, и притом
весьма значительную, если учесть, что речь идет о
воздействии на мощный и одновременно стихийный порыв.
Это противоречие заметили и подвергли критике — но
каждый со своих идеалистических позиций — даже
многие из тех буржуазных философов, которые высказали
более или менее обстоятельные замечания о Шелере:
М. Бубер (see: 55, 312), К. Леик (sieh: 98, 64) и другие.
Бросается в глаза контраст между современной
буржуазной философией, для которой идея бессилия духа очень
типична, и философской классикой прошлого с ее
убежденностью в силе, могуществе, безграничных
перспективах разума и науки.
Несогласие с тезисом о бессилии духа, конечно, не
означает, что мы должны представлять себе этот последний
наделенным энергией в прямом физическом смысле
слова— вроде электрического заряда или падающей воды
В своем «чистом» виде дух не обладает никакой силой
но вся «соль» вопроса в том, что дух и не существует,
никогда и нигде не наблюдается в такой рафинированной,
«освобожденной от оков жизни» форме. Как показали
естествознание и материалистическая философия, всякая
мысль, всякий идеальный образ возникают и
оформляются лишь на основе и при помощи материального субстра-
3—1510
65
та, каковым является мозг и в известной мере весь
организм человека. Между прочим, было бы нелепо обвинять
Шелера, который внимательно следил за новейшими
естественнонаучными данными о человеке, в незнании или
непонимании подобных вещей. Да он и сам неоднократно
подчеркивал «психофизическое единство жизни»,
единство тела и души (см., например, 147, 86, 87, 92). Но
одновременно он утверждал, что и тело, и душа в равной
мере принадлежат жизни, или порыву, дух же образует
особую, исключительную область, в принципе не
доступную ни для физиологии, ни для психологии (см.,
например, 147, 94—95). С этим, конечно, нельзя согласиться.
Мы не знаем такой мысли, такого чувства, созерцания,
представления и т. п., которые не могли бы быть
объектом психологического и в. известном смысле
физиологического исследования.
Мышление и тем более чувства никогда не бывают
совершенно бесстрастными, «незаинтересованными» —
они так или иначе связаны с нашими потребностями,
влечениями, желаниями, наконец, с волей, которую Шелер,
кстати сказать, причислил к стихийному и
неуправляемому порыву и, подобно Шопенгауэру, противопоставил
разуму, духу; они проникнуты, наполнены дыханием жизни
и уже поэтому не являются абсолютно бессильными. Это
видно даже из самых элементарных, общеизвестных
примеров, в изобилии поставляемых повседневным опытом,
в котором постоянно осуществляется «переход» от мысли
к действию и обратно: акт, совершаемый лишь мыслен-
по, нарисованный в воображении, становится затем актом
практическим, изменяющим внешний мир.
Своеобразными и очень яркими примерами энергии и активности
сознания являются, на наш взгляд, деятельность
гипнотизера, устанавливающего, конечно не без помощи
материальных «проводников», теснейшую связь с «чужой»
психикой, а также удивительные факты самовнушения.
В языке употребляются многочисленные
словосочетания, свидетельствующие о том, что бессилие далеко не
,всегда ассоциируется с сознанием, духом, а сила — с
грубыми, слепыми влечениями: мы говорим о силе мысли или
чувства, силе логики и т. п., с другой же стороны — о
бессильной ярости, бессильной злобе (а в классификации
Шелера последние относятся, несомненно, к порыву и,
следовательно, не являются бессильными). Но самый
яркий пример силы, мощи, величия, несокрушимости чело*
66
веческого духа дают подвиги, совершаемые во время
суровых испытаний, особенно на войне, людьми, которые
проникнуты лучшими принципами и идеями своей эпохи
недвижимые ими, делают то, во что даже трудно поверить,
что кажется просто физически невозможным. Перед
лицом этих героических деяний блекнут, теряют всякую
убедительность, представляются особенно несправедливыми
и принижающими звание человека сколь угодно
красноречивые рассуждения буржуазных антропологистов о
бессилии духа.
В то же время не следует, конечно, и упрощать
положение, закрывать глаза на трудности и малоизученность
«перехода» от мысли к действию и обратно. Давно
установлено, что желаемое и действительное, цель и
результат, теория и практика — это далеко не одно и то же, что
первое не всегда легко и быстро «переходит» во второе,
что оружие критики, по словам Маркса, не может
заменить критики оружием. Так бывает, в частности, потому,
что дух, мысль, теория имеют различные градации своей
силы, различные степени своего материального
воплощения. Кстати сказать, непонимание или упущение из виду
этого обстоятельства может приводить к недоразумению
относительно концовки знаменитого положения Маркса:
«...теория становится материальной силой, как только она
овладевает массами» (1, т. 1, 422). На первый взгляд,
эти слова Маркса можно, казалось бы, толковать таким
образом, что до своего распространения в массах теория
вообще не является силой и не имеет силы.
Но такой ход мысли совершенно неправилен по той
простой причине, что сила силе рознь, что существуют
разнородные, вряд ли соизмеримые между собой силы.
Сила воображения, благодаря которой я представляю
себя выполняющим какое-либо трудное физическое
действие, и та сила, которая требуется для его реального
осуществления, весьма различны и количественно, и
качественно. Энергия, необходимая для нажатия на кнопку на
пульте управления электростанцией, ничтожно мала по
отношению к тому мощному потоку энергии, который,
однако, подчиняется этой команде. Деятельность
мышления, развиваемая тем или иным философом, и даже та
активность, которую проявляет лично он ради
утверждения и распространения своих взглядов среди широкой
общественности, относится к совершенно иному
социальному масштабу, иному «энергетическому уровню» по
67
сравнению с идеологической борьбой, проводимой целым
классом или партией.
Хотя сам Шелер, судя по всему, отнюдь не был
меланхоликом или пессимистом, его тезис о бессилии духа,
обратной стороной которого является концепция мощного,
но слепого, стихийного порыва, наполняет всю его
философию элементами трагичности, создает в его сочинениях
«темный фон, который омрачает все» (98, 57). Эстетик
Г. Лютцелер, слушавший в свое время лекции Шелера,
вспоминает, что он обычно начинал лекцию, где шла речь
о смерти как биологическом явлении, следующим
старинным четверостишием:
Я пришел и не знаю, откуда.
Я живу и не знаю себя.
Я уйду и не знаю, где буду.
Странно мне, что ж так радуюсь я?
(105, 21. Пер. мой. —Я. К.)
Лютцелер находит, что эти слова «затрагивают ядро»
мышления Шелера, поскольку они выражают
противоречия и иррациональные стороны человеческого бытия.
Трагические ноты, звучащие в философии Шелера то
явственно, то приглушенно, однако никогда не умолкающие
совсем, очень сближают ее с экзистенциализмом (см. 25).
На предыдущих страницах мы анализировали
некоторые основные положения философской антропологии
Шелера и в каждом из них видели резкий, даже крайний
дуализм, разобщение духовного и «жизненного» в
человеческом существе. Нетрудно видеть также, что он везде
затрагивает, прямо или косвенно, с различных сторон
одну и ту же тему, которую можно кратко обозначить
как отношение «высшего» и «низшего» (заключаем эти
слова в кавычки, желая подчеркнуть, что граница между
соответствующими явлениями условна и подвижна).
Шелер, конечно, прав, причисляя к «высшему» человеческий
дух, к «низшему» — биологические потребности,
стихийные, не облагороженные разумом влечения (а не
наоборот). Но он, несомненно, ошибается в вопросе о том,
каково же их соотношение. Стремясь утвердить ценность и
достоинство духа, он всячески обособляет, отрывает,
изолирует его от жизни, от материальных нужд и деятель-
ности по их удовлетворению. В результате получается
искажение и «высшего», и «низшего», логическая
противоречивость и непоследовательность. Продолжая то, что
68
было сказано в ходе критики определенных положений
антропологии Шелера, проследим в сжатом и
обобщенном виде отношение «высшего» и «низшего», учитывая
современные исследования этой проблемы философами-
марксистами.
Методологические предпосылки для понимания связи
«высшего» и «низшего» дает диалектико-материалистиче-
ское учение о развитии как самодвижении, появлении
качественно нового, одновременно сохраняющего в
«снятом» виде известные черты предшествующих стадий,
классификации форм движения материи с их относительной
самостоятельностью и несводимостыо друг к другу,
вследствие чего невозможно исчерпывающе объяснить какую-
либо форму лишь при помощи закономерностей другой
формы (или других форм). Низшее — это, как правило,
первичное, более раннее, и высшее возникает только на
его основе. Вместе с тем в высокоорганизованных
системах высшее выполняет функцию координации и
управления, низшее — функцию исполнения (такова роль мозга
в живом организме, сознания — в поведении индивида,
надстройки— в жизни общества). В силу этого высшее
может достигать значительной степени своей
относительной самостоятельности и, кроме контроля над низшим,
осуществлять и некоторые другие, особые цели,
состоящие в его собственном развитии и совершенствовании.
Так, смысл человеческой жизни включает в себя
деятельность по обеспечению, поддержанию, продлению
биологического существования, но отнюдь не исчерпывается этим.
Важно подчеркнуть взаимный, двусторонний
характер связи высшего и низшего. Высшее достигает своей
наибольшей полноты и, можно сказать, своего блеска
именно тогда, когда оно «обрамляется», выгодно оттеняется
низшим, выступает в его сопровождении. Еще Л.
Фейербах писал: «... неужели растение было бы совершенным
только в том случае, если бы цветок красовался
исключительно на стеблях, лишенных листвы?» (41, 55).
Хочется сослаться также на глубоко философичный
роман выдающегося советского писателя-фантаста
А. Р. Беляева «Голова профессора Доуэля». Там
рассказано, как опытный хирург отделил голову человека от
остального тела и содержал ее в особых условиях, в
которых продолжалась ее жизнедеятельность и полностью
сохранялась способность мышления и речи. Вот как эта
голова выражает свое состояние в столь необычной обста-
69
новке: «Утратив тело, я утратил мир, — весь необъятный,
прекрасный мир вещей, которых я не замечал, вещей,
которые можно взять, потрогать, и в то же время
почувствовать свое тело, себя. О, я бы охотно отдал мое
химерическое существование за одну радость почувствовать в
своей руке тяжесть простого булыжника!» (9, 14—15).
Эти слова как бы специально предназначены для
критики идеализма шелеровского типа с его пренебрежением к
телу.
Нуждаясь в низшем как опоре и дополнении, высшее
оказывает на него глубокое, далеко идущее воздействие,
преобразует и преображает его. Так, труд, жизнь в
обществе, культура оставили неизгладимый след в
биологической природе человека. Высшее одухотворяет и в
известном смысле возвышает низшее: давно замечено,
например, что невзрачный, физически некрасивый человек
становится подлинно прекрасным.в те минуты, когда он
словно загорается вдохновляющей его идеей (и наоборот,
внешняя красота делается просто красивостью, выглядит
холодной и даже неприятной, если за ней чувствуется
бездушней безнравственность).
Говоря о взаимодействии и известном единстве
высшего и низшего в человеческой жизни, мы хотим
подчеркнуть, что это единство нельзя понимать как готовое,
заранее данное тождество, которое поддерживалось бы
само собой, без малейших усилий индивида. Можно
сказать, что буквально каждый так или иначе, короткое
либо длительное время испытывает чувство несоответствия,
расхождения своих духовных стремлений и
биологических, житейских и т. п. потребностей, а в последних,
конечно, тоже бывают «разлады». Уравновешенность,
согласованность, гармония человеческих проявлений
достигается обычно путем целеустремленной,
продолжительной, активной деятельности данного индивида по
решению конкретных задач, которые ставит перед ним сама
жизнь: решая их, человек должен одновременно
формировать и свой характер, добиваться все большего
единства слова и дела, духовных и материальных потребностей.
Ощущение внутренней гармонии человеческого
существа выступает как прекрасное и драгоценное
переживание, вознаграждающее нас за трудности, перенесенные
ради ее достижения. Самые возвышенные и светлые
чувства, приходящие к нам в лучшие минуты жизни, редкие,
но тем более дорогие чувства .счастья и ликования всегда
70
сочетаются в нашем сознании с самыми простыми,
естественными переживаниями и влечениями. Большие поэты
обладают особым умением подмечать и выражать
соответствие, связь, порой даже слияние духовного и
естественного в самых глубоких человеческих чувствах. «О
жизнь, о лес, о солнца свет! о юность, о надежды!» — в
этих словах простые, понятные каждому впечатления,
которые производит на человека природа, пробуждающаяся
под лучами весеннего солнца, ассоциируются с
надеждами юности, с лучшими, благороднейшими идеалами и
устремлениями. Как же будет обеднена, ограничена
человеческая жизнь, если заранее лишить ее даже возможности
достижения внутренней гармонии и приговорить к
пожизненному разладу ее высших и простейших проявлений!
Обобщая вышесказанное, надо отметить, что
существует диалектика высшего и низшего и что она целиком и
полностью игнорируется Шелером, теория которого в этой
связи должна быть оценена как явно метафизическая.
Здесь наблюдается своего рода порочный круг, комплекс
заблуждений, который образуют идеализм, дуализм,
метафизика. Стремясь утвердить идеалистическое
понимание духа как совершенно самостоятельного, изначального
атрибута «первоосновы мира», Шелер резко разделяет
дух и жизнь и тем самым сразу же оказывается в тупике
дуализма (кстати сказать, сходство его философии с
картезианством — не по внешним признакам, не в
терминологии и т. п., а в основных тенденциях и выводах —
неоднократно отмечалось историками философии);
одновременно он с неизбежностью становится пленником метафизики
и направляет свои усилия на опровержение принципа
диалектической связи жизни и духа, генезиса последнего
на основе развития первой.
Идеализм и метафизика (антидиалектика) Шелера не
позволили ему конструктивно, плодотворно преодолеть
натуралистическое понимание человека. При всей
словесной резкости своей полемики с натурализмом,
позитивизмом, прагматизмом, бихевиоризмом он не пересматривает
критически, не исправляет их, а оставляет их в
неприкосновенности и лишь добавляет к ним теорию духа.
Утверждая, что человек как живое существо в принципе ничем
не отличается от животного, Шелер оказывается на
одной и той же позиции с вульгарными материалистами и
позитивистами. В частности, он полагал, что «между
умным шимпанзе и Эдисоном, если рассматривать послед-
71
него лишь как техника, существует только различие в
степени,— конечно, очень большое» (147, 45). Чем же это
отличается, например, от мнения Э. Маха, согласно
которому «различия в области психики, которые
обнаруживает человек по сравнению с животными, — не
качественного, а лишь количественного вида» (106, 72)?
Шелер, можно сказать, даже превзошел некоторых
натуралистов и позитивистов: настолько широко он
понимает те области человеческого бытия, которые относятся к
«жизни» или «низшему». Все, что так или иначе, прямо
или косвенно связано с удовлетворением материальных
нужд: «практический интеллект», естественные и
технические науки, созданные им, экономика, классовая
борьба и т. д., — все это входит во владения порыва,
отягощено, даже осквернено «земными» узами и не является
подлинно человеческим. Тем самым порыв приобретает
необозримые размеры и оттесняет дух, который выглядит
по сравнению с ним весьма призрачным.
Шелер не только отдает биологическое в человеке «на
откуп» натурализму, но и низводит многие собственно
человеческие качества до уровня животных. Даже такой его
поклонник, как И. Гессен, вынужден признать, что
отождествление им жизни и души, отрицание качественного
различия между животной и человеческой психикой
означает «витализацию» (читай: вульгаризацию) последней
и «опасное приближение к натуралистической
антропологии» (84, 101). Таким образом, несмотря на стремление
утвердить ценность человеческого духа, Шелер
вследствие идеалистического характера своих взглядов приходит
к результату, в тенденции даже противоположному
цели.
Принципиальный путь преодоления одинаково
ошибочных крайностей натурализма и идеализма в'
понимании человека намечен, в частности, в следующих словах
Маркса: «...еда, питье, половой акт и т. д. тоже суть
подлинно человеческие функции. Но в абстракции,
отрывающей их от круга прочей человеческой деятельности и прев-,
ращающей их в последние и единственные ко'нечные
цели, они носят животный характер» (2, 564).
Антропология Шелера как раз и представляет собой операцию
отсечения и удаления этих функций из человеческой в
животную сферу, в пределах которой они и превращаются в
«последние и единственные конечные цели», поскольку
порыв, в отличие от духа, не выходит, по мнению Шеле-
12
pa, «за пределы себя», каким бы мощным и бурным он ни
был. Марксистско-ленинская философия разрабатывает
строго монистическую и действительно всеобъемлющую
концепцию человека — монистическую не потому, что она
вообще игнорирует факт существования различных
«уровней» его натуры (она этого не делает), а потому, что она,
исходя из принципов диалектики и материалистического
понимания общественной жизни, устанавливает их
взаимосвязь; всеобъемлющую не только по тематике
(обширность тематики наблюдается и у Шелера, и у многих
современных его последователей), но и по степени синтеза
разнообразных знаний о человеке, логической стройности
и последовательности.
Однако сказанное на этих страницах еще не дает
полной ясности относительно антропологии Шелера. Почему
же все-таки он допускал эту явную непоследовательность,
полагая, что «бессильный» дух способен устранять
«властное давление реальности»? Ссылка на переменчивость,
«несистематичность» Шелера как человека совершенно
правомерна и объясняет многое, по, разумеется, не все.
Далее, почему он, изложив свою концепцию
разобщенности жизни и духа, говорит затем ни много пи мало об
их «взаимопроникновении», об «одухотворении» жизни
и одновременно «оживлении» духа как конечной цели
всего сущего (147, 83, 95—96)? Это выглядит довольно
странно и непонятно, и то, что Шелер, по существу, не
доказывает, а только декларирует такие тезисы, не
уменьшает, а скорее увеличивает недоумение. Чтобы до конца
понять эти и многие другие «сюрпризы» антропологии
Шелера, надо снова обратиться х ее социальным истокам,
к тому времени, в которое она возникла и теоретическим
отражением которого она является. Как же она связана
с классовой борьбой, со всей бурной социальной
динамикой той эпохи? Какова социально-политическая позиция
самого Шелера?
§ 2. Социально-политические взгляды Шелера
и современность
К марксистскому анализу общественно-политического
значения той или иной философской теории совершенно
справедливо предъявляется требование учитывать
относительную самостоятельность философии, сложный, порой
лишь косвенный, опосредствованный характер ее связи с
4—1510
73
экономическим базисом и текущими социальными
событиями. Вульгарный социологизм теряет сторонников и,
судя по всему, не находит новых. Вместе с тем было бы,
конечно, просто неразумно, теоретически и политически
ошибочно не учитывать того, что наряду с тенденцией
возрастания обобщающего и опосредствованного
характера философского исследования, развивающейся по
мере передачи функций открытия и описания фактов
конкретным наукам, действует, особенно в настоящее время,
в период невиданно острой идеологической борьбы между
капитализмом и социализмом, другая тенденция — к
проведению все более прямых каналов между философией и
политикой, к увеличению количества и широты
непосредственных «выходов» философии к социальной
действительности эпохи. Больше внимания требуют социальные
последствия научно-технической революции. Глубже и
смелее надо анализировать явления политической
жизни общества. Слабо еще изучается общественное
мнение.
Эта тенденция возникла не вдруг, отличается
длительностью и устойчивостью. М. Шелер является одним из
философов, у которых она вполне четко обнаружилась
еще в первой трети нашего века под влиянием мощных
социальных взрывов, которыми отмечено то время. Шелер
много размышлял и выступал печатно и устно по
социальным вопросам, как публицист и оратор он был известен
современникам, пожалуй, не меньше, чем как философ.
Напомним, что дух, по мнению Шелера, может
выразить себя и проявить хотя бы малейшую активность лишь
благодаря тому, что он словно перехватывает и
сублимирует, преобразует в своих целях часть энергии порыва.
Но современная культура, продолжает он, отличается
слишком большой глубиной и интенсивностью
сублимации. Высокий уровень развития науки и техники,
распространение общего образования, внешней культуры
поведения, всевозможные этические, профессиональные,
«престижные» и т. п. нормы и предписания, порой жестко
лимитирующие поступки людей, несмотря на ослабление
или даже разрушение старых сословных традиций, — все
это ложится слишком тяжким и обременительным грузом
на естественные стремления и инстинкты человека,
требует слишком больших жертв от его простейших
потребностей, порождает, по словам Шелера, чрезмерную
интеллектуальность (sieh: 143, 40—45). Однако сублимация
не может происходить бесконечно, и рано или поздно воз-
74
никает обратное движение от разума к инстинкту, стихия
жизни требует возвратить отнятые у нее владения,
наблюдается, по терминологии Шелера, ресублимация (sieh 143,
45—47). Последняя протекает далеко не спокойно и
безобидно, изобилует бурными конфликтами и даже
эксцессами. В обыденной жизни она выражается в таких
явлениях, как попытки «возврата к природе», отказ от
«условностей цивилизации», демонстративное пренебрежение к
образованию, культ грубой физической силы и т. п., а в
теории связана с многочисленными и влиятельными
течениями «романтического пессимизма» (Шопенгауэр,
Ницше, Т. Лессинг, Клагес и другие). Признавая, что
сама по себе ресублимация есть признак старости и
упадка, Шелер одновременно считает ее неизбежной.
Философ связывает ресублимацию с определенными
социальными движениями. Понятие порыва имеет у
него вполне ясную социальную подоплеку: слепой,
бессознательный, демонический порыв выражает
непостижимость (с точки зрения буржуазных мыслителей) и
неуправляемость (в условиях капитализма) явлений
общественной жизни; выступления демократических кругов
против привилегий аристократии («старой элиты»), борьба
порабощенных народов против колонизаторов и другие
признаки кризиса капитализма представляются его
идеологу чем-то неразумным, грубым, животным,
отождествляются им с разрушительной игрой природной стихии.
Впоследствии Шелер еще более отчетливо
обнаруживает социальное значение своей философии: «Низший
класс будет... до тех пор утверждать чисто
натуралистическое понимание человека, связанное с односторонне
социальным и экономическим объяснением религии и ее
авторитетов, пока высший класс, со своей стороны,
односторонне верит в изначальную силу чистого духа, в
активную позитивность чистой воли... и кладет эту веру
в основу своих социально-политических устремлений...»
(143, 59). Здесь с полной ясностью выражен социальный
смысл не только порыва, но и духа: в человеческом
обществе дух связан со взглядами, культурой, деятельностью
«высшего класса», который и является его носителем.
Нетрудно видеть, что Шелер, настойчиво и неизменно
ратуя за первенство духа, совершенно сознательно
становится на позицию «высшего класса». Так в контексте его
теории утверждение свободы и ценности духа
оборачивается апологией эксплуататорского строя.
4*
75
Многочисленные произведения Шелера по социальным
вопросам, высказывания современников о'нем, а также
тот факт, что во времена гитлеровского господства в
Германии его имя неотступно третировали хранители и
ревнители официальной «философии» — все это дает
основания для вывода, что он не был крайне правым,
профашистским идеологом. Шелер являлся, в общем и
целом, представителем буржуазной демократии,
продолжателем тенденций старого либерализма со всеми
вытекающими отсюда «плюсами», поскольку буржуазная
демократия предпочтительнее фашизма, и «минусами», поскольку
она тоже есть форма диктатуры буржуазии (о социально-
политических взглядах Шелера см. также 23).
Встревоженный острыми социальными конфликтами
своего времени, «бунтом» против «высшего класса»,
Шелер размышляет о путях и средствах смягчения,
примирения классовых противоречий. Если бы, пишет философ,
нужно было начертать на вратах грядущего века его имя,
то он взял бы только одно — выравнивание (или
соглашение, Ausgleich—143, 39). Оно представляет собой, в
частности» «выравнивание капитализма и
социализма, а тем самым классовых логик, позиций и прав
высшего и низшего классов» (143, 40).
Необходимым средством достижения «равновесия» Шелер
считал метафизику (философию), и притом именно ту,
которую он сам разрабатывал и которая, напомним,
одновременно рисовалась ему как метаантропология.
«Высшее метафизическое и религиозное — а потому и
социально-политическое— объединение и примирение слоев
будет возможно только на основе такой метафизики,
такого понимания себя, мира и бога, которое охватывает
свет, как и тьму, охватывает духи демонию...
порыва... находит истоки человека не только как
духовного, но и как чувственного существа в божественной
первооснове...» (143, 59). Стало быть, Шелер сам говорит,
и притом весьма четко и недвусмысленно, о прямой связи
своих философских и политических взглядов. Здесь,
наконец, становится ясно, почему он, несмотря на свой
дуализм, «возвестил» предстоящее «взаимопроникновение»
порыва и духа: последнее является как бы философским
эквивалентом и философской основой политики
«объединения слоев», сглаживания классовых антагонизмов.
Шелер выражает надежды сравнительно умеренных кругов
буржуазии на соглашение, компромисс противоборствую-
76
щих социальных сил, компромисс, который, несомненно,
был бы на руку «высшему классу», так как предохранил
ёы его от дальнейшего нарастания «бунта» масс.
Проповедуя социальное согласие, «выравнивание»
капитализма и социализма, «высших» и «низших» классов,
этот мыслитель выступал как предшественник модных
яшне буржуазных теорий конвергенции, социального
партнерства, среднего пути, общества-гибрида и т. п.
Правда, его отделяет от них довольно значительный
промежуток Бремени, и все-таки здесь наблюдается не
только логическая, но и историческая связь. Можно указать
ша ряд учеников и последователей философа, которые
«перенесли» его идеи через 30—40-е годы в современность.
Например, Эрих фон Калер, эмигрировавший из
фашистской Германии, выпустил в 1943 г. большую книгу
яа английском языке «Man the Measure», в которой,
руководствуясь шелеровской концепцией человека (see: 88,
622) и развивая ее в социально-экономическом аспекте,
выдвинул лозунг «экономической демократии», под
которой он понимал «право труда участвовать в
управлении (management) и соответствующую обязанность труда
разделять ответственность с управлением» (88, 627). Для
введения этого нового уклада необходима инициатива
правительств (see: 88, 630; разумеется, правительств
буржуазных государств). Нетрудно распознать здесь
прообраз последующих теорий «народного капитализма»,
«смешанной экономики» и иже с ними. И если после
второй мировой войны вновь появился интерес к Шелеру,
• притом весьма пристальный и устойчивый, особенно в
Западной Германии, то это объясняется не в последнюю
очередь созвучием его социально-политических взглядов
тактике современного империализма. Последний
применяет все более изощренные и демагогические методы,
охотно прибегая к помощи и «новых», и старых теорий,
которые он считает возможным использовать в своих
целях.
Вернемся к шелеровскому тезису о бессилии духа: он
полностью отсутствует в ранних работах философа, и
вообще дуализм духа и жизни выражен в них не очень
резко— там встречаются даже такие сочетания, как
«духовная жизнь», «жизненная форма духа», «духовная форма
жизни» и т. п. (148, 137, 178). Впоследствии же, особенно
в 20-х годах, этот тезис все больше овладевает его
мышлением..Многие авторы, писавшие о Шелере, сходятся во
77
мнении, что мысль о бессилии Духа была внушена ему
социальными событиями эпохи (sieh: 49, 408; 98, 56), в
особенности разрушениями первой мировой войны.
Приведем замечание М. Бубера: «...он (Шелер.—
П. К.) имел решающий опыт во время войны, который
вылился у него в убеждение об изначальном и
существенном бессилии духа» (55, 310). Растерянность буржуазии:
и ее идеологов в век социальных бурь, неспособность
управлять стремительным течением событий, пассивность и
беспомощность буржуазной демократии перед грозными
вспышками кризиса — все это получило философское
отражение в тезисе о бессилии духа, воплощением которого1
и является, по Шелеру, «высший класс».
Мысль о том, что дух, несмотря на свое «изначальное-
бессилие», способен обуздывать, преобразовывать,
использовать в своих целях энергию порыва, тоже
социально обусловлена. Даже буржуазные философы и историки:
отмечают, что в 20-х годах социальные настроения
немецкой буржуазии отличались резкими колебаниями между-
отчаянием и надеждой; широко распространялась
острая «потребность в безопасности» — не только в
материальном, но и в духовном, мировоззренческом,
психологическом отношении (sieh: 98, 64; 115, 394). Буржуазия
неохотно расставалась с иллюзиями своего всемогущества,,
не могла забыть «доброго старого времени», когда она
чувствовала себя сравнительно вольготно и
благополучно.
Было бы упрощением полагать, что в период кризиса
существует спрос только на одни «беспросветно»
пессимистические теории. Могут возникать и
псевдооптимистические воззрения, реакционные утопии, и они не менее-
красноречиво свидетельствуют о кризисе. Утверждение'
Шелера о способности бессильного духа укрощать и
сублимировать стихийные силы жизни является как бы
философской гарантией безопасности, выдаваемой по
социальному заказу буржуазии в особенно «небезопасное»^
для нее время. Только так можно объяснить логическую*
непоследовательность, в которую он при этом впадает.
Классовые интересы и предубеждения оказываются в:
данном случае, как и во многих других, сильнее
требований логики.
Но несмотря на все рассуждения о «высшем ранге»»
духа, о его способности к сублимации и т. п., а также на:
то, что лично Шелер отнюдь не стремился распространять
78
настроения безнадежности и безвыходности, его
антропология таит в себе, а иногда и являет на свет черты
пессимизма и трагизма, что и отмечалось уже
неоднократно. В частности, К. Ленк, имея в виду мысль Шелера
о том, что дух должен как бы перехитрить порыв, чтобы
получить и использовать его энергию, патетически
восклицает: «Что значат уловки и трюки человека, если
мощный поток жизни бушует в слепой, чуждой разуму
.автономии, будучи не в состоянии даже услышать слабый
:зов духа! Как может произойти переворот в вечной
тенденции обесценивания высших ценностей, если дух не
обладает собственной и изначальной силой... Итак,
фатализм и здесь, бессилие и беспомощность...» (98, 61).
Такой итог антропологии Шелера вполне закономерен,
поскольку она является отражением кризиса капитализма.
Своеобразное значение Шелера в философии XX века
-обусловлено тем, что он с отличающей его
переменчивостью и восприимчивостью вобрал в себя и выразил в
своих работах разнородные и противоречивые тенденции
бурного переходного времени, в которое ему довелось
.жить, и попытался обобщить их в философском учении о
человеке как «микрокосмосе». Но идеалистическая
предвзятость Шелера обрекла на неудачу его попытку создать
.всеобъемлющую концепцию человека, породила, мысль о
неустранимом разладе между изначально бессильным
духом и мощным стихийным порывом. Абстрактный тезис
об их конечном взаимопроникновении может быть понят
только как выражение надежд определенных кругов
^буржуазии на «выравнивание», примирение классовых
противоречий. Резкими колебаниями между крайностями,
зловещим дыханием демонических сил отмечена
философия Шелера—духовное детище эпохи глубокого
кризиса капитализма.
Анализ социально-политических взглядов Шелера
будет неполным, если не коснуться его работ о войне и
мире. В статьях современных буржуазных авторов,
посвященных 100-летию со дня рождения Шелера (see: 108,
85—100; 66), всячески восхваляется его работа «Идея
мира и пацифизм» (sieh: 142). Ее называют «пророческим
призывом к нашей эпохе», ярким проявлением связи
философии Шелера с жизнью, ставят на один уровень с
известным сочинением Канта «О вечном мире». Однако ав-
79
торы этих хвалебных статей даже не называют другие
работы Шелера о войне и мире, что не способствует
адекватной оценке этой стороны его наследия. Поэтому,,
прежде чем рассмотреть вышеуказанное произведение.
Шелера, обратимся к некоторым другим его сочинениям..
На события начального периода первой мировой
войны Шелер откликнулся объемистой книгой «Гений войны
и немецкая война» (sieh 141). Эта книга выдержана в.
стиле традиций германского шовинизма и милитаризма,,
полна восторженных восхвалений войны, броских
ура-патриотических лозунгов, националистических
предрассудков, наконец, грубых теоретических ошибок. Шелер
обращался в этой книге прежде всего к буржуазной
интеллигенции, стремился приобщить ее к агрессивной политике,
германского милитаризма, доказать, что война не
противоречит духовным ценностям, идеалам «просвещенного*
сословия».
Он приводит целый ряд «аргументов» в пользу
правомерности и необходимости войны. «Из духа возникает щ
для духа существует война в своей глубочайшей
основе!»— восклицает философ (141, 10). Он не видит и. не
хочет видеть того, что развязанная империализмом
кровавая бойня есть чудовищное надругательство над обще.-
человеческими духовными ценностями. Дух, это
основополагающее начало его теории, проделывает
радикальную метаморфозу—из принципа философского
созерцания становится духом немецкого юнкерства, духом
агрессии и милитаризма.
Решительно отрицая социально-экономические
причины войны, Шелер заявляет, что война — не
«историческое явление, но постоянная черта миропорядка» (141,.
58), что она имеет свой «корень» в самой «человеческой
природе» (141, 14), что «движение воинственного духа»
изначально и спонтанно (141, 15). Такая пропаганда, при.
всей своей научно-теоретической несостоятельности, очень
опасна, ибо внушает мнение о вечности и
неискоренимости войн, о неспособности людей предотвратить (или:
пресечь уже начавшуюся) войну.
Шелер отвергает обвинения в антигуманности
войны, ее понимание как «массового убийства»,
выдвигавшееся в то время пацифистами (141, 77). Он стремился
придать агрессивным устремлениям германского
империализма этакий романтический ореол, найти в них проявление
«рыцарского принципа» (141, 78). Между прочим, именна
80
в те годы философ писал свое крупнейшее произведение
«Формализм в этике...», где он изложил свою иерархию
ценностей, высшей из которых он считал личность. Но в
книге о войне он, можно сказать, растоптал свои же
принципы, «разделался» с ними фразами вроде той, что
«войны ведутся... не против индивидов, но — против
государств» (141, 78). Конечно, войны ведутся между
государствами, но кто же не знает того, что на полях
сражений гибнут конкретные, живые люди!
Встав на позицию отрицания антигуманности войны,
философ в конце концов делает вывод о том, что
«воинственный это» сродни «высшим нравственным
добродетелям», а они противоположны «всякой утилитарной
торгашеской морали, которая ничего не хочет знать о
самообладании, послушании, жертве, смирении, терпении...»
{141, 94). Здесь применяется весьма тонкий прием
апологии войны: такие человеческие качества, как
самообладание, сами по себе являются, конечно, положительными
■и заслуживают уважения (чего, на наш взгляд, нельзя
сказать о смирении, о слепом послушании), но тем более
преступно и недопустимо злоупотреблять ими,
вкладывать в прекрасную форму отвратительное содержание,
которое, конечно, повлияет рано или поздно и на нее,
использовать высокие принципы и чувства людей ради
черных и неправедных целей.
Такова была шелеровская «философия войны»,
которой могли бы позавидовать и под которой охотно
подписались бы, пожалуй, даже самые отъявленные
шовинисты и милитаристы. В дальнейшем, однако, его отношение
к войне изменилось. Словно отрезвленный беспощадной
реальностью чудовищных разрушений, Шелер расстается
со своим прежним воинственным пафосом. Но как бы то
ни было, его книга, несомненно, содействовала
пропаганде германского милитаризма. Кстати сказать, в
годы первой мировой войны она издавалась
неоднократно.
Кроме того, философские взгляды Шелера, на
которые он опирался в своем восхвалении и воспевании
войны, не претерпели существенных изменений. Об этом
говорит произведение его «военного цикла», посвященное
вопросу, который в то время привлекал пристальное
внимание многих немецких публицистов: почему другие
народы ненавидят немцев? Оказывается, причиной
ненависти к немцам являются такие их качества, как «этос бес-
81
конечной преданности дьлгу», свободный от «малейшего
помысла о счастье», граничащий «с почти неестественным
героическим презрением к счастью» (149, 99). Эта
беспредельная способность немца к самопожертвованию
вызывает у других народов «некоторый вид страха, даже
ужаса» перед лицом «зловещего и неопределимого» (149,.
106), поскольку от такого человека можно, как говорится,,
ожидать чего угодно, он способен на все, к нему не
подойдешь ни с какой меркой, и этот страх перед
неизвестностью в свою очередь порождает ненависть.
Нетрудно видеть, что объяснение Шелера проникнута
шовинизмом, мыслью о превосходстве немцев над
другими народами: из его концепции напрашивается вывод о
том, что последние не способны к героизму, к
самоотверженному выполнению долга. Здесь также
обнаруживается один из социально-политических аспектов известного-
положения Шелера о неопределимости человека.
Оказывается, человек неопределим, т. е. является собственно
человеком, ибо неопределимость отличает его от всех
других существ, именно тогда, когда он проявляет свою
«бесконечную преданность долгу», а говоря более конкретно,,
применительно к тем событиям, которые имеет в виду
философ, — тогда, когда он превращается в послушное
орудие чужой и чуждой ему воли, в пешку на поле
империалистической войны. Это составляет как бы обратную
сторону шелеровского понимания человека, внешнюю
сторону которого образуют, на первый взгляд, очень
гуманные, патетические призывы дать полный простор
человеческому многообразию, для чего-де и вводится понятие
неопределимости.
Шелер и впоследствии возвращался к вопросам
«философии войны». Он отказался от своих прежних
взглядов и перешел на позиции пацифизма. Этот переход и
выражен в вышеназванной работе «Идея мира и пацифизм»^
которую так восхваляют некоторые современные
буржуазные авторы. В основу работы положен доклад, с
которым философ выступил в начале 1927 г. в Германском;
военном министерстве и Высшей политической школе. В-
этой работе Шелер заявлял, что мир есть «безусловная
позитивная ценность», что война и «милитаристские
уклады жизни» не имеют основ в человеческой природе, а
вечный мир в принципе возможен ( 142, 12). Философ
призывал искоренять милитаристский дух в немецком
народе, распространять убеждение в том, что война не явля-
82
-ется необходимой для культивирования «героических
добродетелей» и т. п.
Эти высказывания Шелера следует оценить, конечно,
положительно, учитывая в особенности то, в какой
стране и в какое время они были сделаны. Но как он
обосновывает мнение о возможности вечного мира? Шелер
полагает, что войны могут исчезнуть из жизни общества
благодаря особым законам, которые он называет
«законами направления душевного развития человека». Он
постулирует три таких закона. Первый — это «закон
инстинкта власти», согласно которому происходит развитие
от насилия к власти, затем от власти физической к
духовной, от власти над людьми к власти над природой,
сначала органической, впоследствии неорганической. Иначе
говоря, инстинкт власти принимает все более мягкие
формы и при этом перемещается с одних объектов на
другие, менее совершенные (sieh: 142, 25). Инстинкт власти,
как и другие инстинкты, Шелер относит к проявлениям
порыва, который выступает в качестве важной категории
его метафизики (философии) и его концепции человека.
Уже отсюда видно, что пацифизм Шелера связан с его
философской антропологией, которую он наиболее
интенсивно разрабатывал в то же самое время, когда было
создано сочинение «Идея мира...».
Второй закон — это «закон возрастающего
выравнивания биологической и душевной техники с техникой
материального производства (Азия и Европа)» (142, 26),
«выравнивания» укладов жизни Востока и Запада, которое
препятствует глобальной войне. (Как отмечалось выше,
философ считал «выравнивание» основной чертой
будущего общества.) Наконец, третий закон — закон
возрастающего одухотворения инстинкта власти и усиления
полномочий духовного руководства (sieh: 142, 26), что
является частным случаем выравнивания порыва и духа и
тоже содействует установлению мира.
Шелер не приводит никаких исторических фактов в
подтверждение этих трех законов. Он прямо пишет, что
не опирается на действительную историю (sieh: 142, 25).
Изложенные им законы являются столь же
благонамеренными, сколь и надуманными, отвлеченными,
безжизненными схемами. Хотим подчеркнуть, что мы
выступаем не против призывов к миру, исходят ли они из уст
Шелера или его современных последователей, но против
мх «обоснования» этим философом. Мы выступаем не
83
против одухотворения человеческих инстинктов,
гуманизации власти и т. п., но против того мнения,, что все это»
вытекает из неких абстрактных законов, определяющих:
развитие природы человека вне всякой связи с реальной'
историей. Шелеровские «законы направления» — еще-
один пример подмены социального антропологическим,,
свойственным человеку якобы совершенно независимо от
реальной жизни общества. Исторический опыт со всей;
убедительностью показывает, что гуманизация и
демократизация общественных отношений происходят лишь,
в результате упорной и напряженной борьбы
прогрессивных социальных сил против реакции и милитаризма.
Надо отметить, что по стопам Шелера следуют
некоторые современные буржуазные пацифисты. Опираясь на
его антропологизацию проблемы войны и мира, они сеют
неверие в возможности международных организаций
эффективно содействовать упрочению мира (см., напр.: 108,.
95—96). Вряд ли нужно доказывать, насколько
несостоятельна и неприемлема такая позиция в настоящее время,,
когда для обеспечения мира необходимы широкие и
согласованные международные акции (совещания,
договоры и т. д.).
Образцом реалистического подхода к делу мира
является программа дальнейшей борьбы за мир и
международное сотрудничество, принятая XXVI съездом КПСС.
•Она включает целый ряд определенных, назревших,
четко сформулированных задач, решение которых
значительно укрепит мир на нашей планете.
ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРИЗНАК СЛАБОСТИ!
(АНТРОПОЛОГИЯ А. ГЕЛЕНА)
После Шелера ближайшим предметом нашего^
внимания будут те разновидности современной
философской антропологии, которые считают самым главным^
признаком человека действие или деятельность и
концентрируют на нем все свои взгляды и размышления.
Обращаемся к этому течению не только потому, что оно-
хронологически следует за антропологией Шелера и
пользуется значительным влиянием на Западе, но и потому,,
что при обсуждении основных «параметров»
человеческой жизни просто невозможно пройти мимо проблем,
связанных с деятельностью. «...Свободная сознательная;
84
деятельность как раз и составляет родовой характер
человека» (2, 565).
Разумеется, необходимость теоретического
исследования деятельности еще ничего не говорит о его
направлении. Существуют разные и даже противоположные
интерпретации деятельности.
Из современных антропологистов наиболее подробно
разработал проблематику действия Арнольд Гелен. Он
родился в 1904 г. в Лейпциге, в семье издателя. Будучи
студентом, он наряду с философией изучал биологию и
другие естественные науки. Впоследствии он стал
сотрудником у Г Дриша и его преемником по кафедре.
Гелен — плодовитый философ, автор целого ряда
больших и малых работ. Своих предшественников он видит
в Шопенгауэре и Ницше, афоризм которого о человеке
как еще не классифицированном животном он
принимает полностью и к тому же в самом прямом смысле этих
слов.
Критикуя созерцательность старого рационализма,
Гелен в то же время находит у классиков и другой ход
мысли, который он с одобрением перенимает и стремится
продолжить. Речь идет о широко известных
высказываниях Канта, Гердера и других мыслителей, согласно
которым человек выделяется из всех живых существ
своей чрезвычайной беспомощностью, почти полным
отсутствием естественных органов нападения, защиты и
вообще поддержания жизни и поэтому вынужден все
создавать и делать для себя сам. Здесь мы сталкиваемся с
весьма примечательной особенностью современной
буржуазной философии — с попытками заимствования и
приспособления к ее нуждам тех или иных идей, взятых
из других теорий, круг которых очень широк—от
античности до марксизма. Если современная буржуазная
политика и пропаганда охотно применяют краденые лозунги
свободы, гуманизма и т. п., то и буржуазная философия
стремится «перехватывать» и использовать в своих
целях чужие концепции. Это красноречиво
свидетельствует о ее глубоком кризисе и в то же время ставит
особые, дополнительные требования перед марксистской
критикой в ее адрес.
В самом деле, было бы нелепо отвергать истинные
(или содержащие долю истины) и плодотворные идеи
только на том основании, что их «перехватывают»
буржуазные философы. Последние могут в отдельных случа-
85
ях развивать даже конструктивные, ценные, интересные
мысли, как раз и обязанные своей ценностью
плодотворности «перехваченных» принципов. В этих условиях
борьба идей принимает форму борьбы за идеи и перед
марксистско-ленинской философией возникает задача
отвоевать у буржуазных мыслителей неправомерно
используемые ими идеи и доказать свое «право наследования»
их.
Вернемся к Гелену. Опора на классику позволяет ему
высказать некоторые интересные и практически важные
соображения о «механизмах» и особенностях
человеческой деятельности. Человек «отличается уникальной...
биологической беспомощностью, и он восполняет этот
недостаток только своей дееспособностью или
даром действия...» (69, 32). Его отличие от животного
состоит и в том, что он не прикован к какой-либо
определенной среде, а «открыт миру», воспринимает
действительность во всем ее многообразии.
Здесь вспоминается Шел ер, поскольку он тоже
употреблял это выражение—«открытость миру» — при
описании сущности человека. Но если у него оно означало
исключительно духовное свойство человека, признак
возвышенности над ограниченностью непосредственно
данного, то Гелен понимает «открытость миру» лишь как
биологическое и притом негативное качество: «Человек
открыт миру — это значит, что он лишен животного
приспособления к среде» (69, 33). В довершение всего
он имеет избыток возбуждений (Reizüberflutung) и
избыток влечений (Antriebsüberschuß), и это, подобно
вышеназванным свойствам, тоже является для него
тягостью: его существо наполняется «до краев» и даже
переполняется всевозможными «сильнодействующими»
впечатлениями и желаниями, что причиняет ему много
хлопот и беспокойства.
Но эти же качества, продолжает Гелен, дают
человеку возможность поддерживать свою жизнь. Будучи
«открыт миру» и подвержен избытку возбуждений и
влечений, он уже с детства хочет непосредственно
ознакомиться со всевозможными вещами, которые он обнаруживает
вокруг себя. Ребенок неустанно «исследует» вещи,
производит с ними многообразные действия и таким путем
устанавливает их конкретные свойства. Например, если
он, впервые увидев огонь, беспечно протянул к нему руки
и получил ожог, то в дальнейшем он как бы на расстоя-
86
нии распознает нестерпимый и опасный жар пламени.
Так он научается сразу, при первом же взгляде
«оценивать» вещи и избавляется от необходимости снова и
снова повторять «стадию проб и ошибок», высвобождая
время и силы для наиболее срочных и важных действий.
Тем самым происходит освобождение от тягостей или
разрядка (Entlastung), и человек овладевает избытком
возбуждений и влечений, приводит его в некоторый
порядок.
Непосредственный контакт с внешним миром
сокращается до минимума, но такого, который дает
наибольшие возможности для действия. «Открытый миру»
человек имеет вокруг себя неисчерпаемое множество
вещей, которые столь разнообразны, что среди них всегда
можно найти что-либо пригодное для использования.
Подобно этому чрезвычайное многообразие, пластичность
и «перестраиваемость» его движений необходимы
потому, что он может оказываться в саыы. различных
условиях, в которых ему придется выполнять столь же
различные действия. Поскольку «открытость миру»
существует и в отношении времени, человек должен
заботиться не только о сегодняшнем дне, но и учитывать фактор
будущего, заниматься прогнозированием и
планированием, идти даже на некоторые жертвы ради предвидимого
выигрыша.
Для всего этого: для действия, исследования вещей,
«разрядки возбуждений» и прочего — необходимо
сознание со всеми его способностями и компонентами (мысль,
память, абстрагирование, фантазия и т. д.).
«Способность мышления и представления — не роскошь, но
жизненно необходимое звено действия» (69, 86). Например,
фантазия, эта, на первый взгляд, спутница праздности,
имеет непосредственное и широкое практическое
применение. Без нее мы не могли бы уже на расстоянии «ви-~
деть» жар пламени или тяжесть гири. Существует и
«фантазия движения»: можно имитировать то или иное
действие, не имея его орудия и объекта, можно
вообразить себя выполняющим действие, оставаясь, однако,
неподвижным, что очень важно, в частности, при
обучении навыку.
Необходимым компонентом человеческой
деятельности является и язык (речь). Это тоже деятельность, но
особая, наиболее «облегченная» (entlastet): язык как бы
концентрирует все многообразие мира в кратких, легко
87
«перемещаемых» символах, дает максимум ориентации
при минимуме затраты сил.
Действие является для Гелена отправным пунктом и
при объяснении периодов покоя, которые составляют,
мижно сказать, довольно значительную долю
человеческой жизни. Состояние покоя возникает тоже на основе
разрядки избытка возбуждений, достигнутой в
деятельном освоении мира. Именно потому, что в результате
такого освоения «вещи вокруг нас хорошо известны... они
по большей части оставляются нами в покое, будучи
постоянно доступны нашему воздействию» (69, 227). Если
человек только воспринимает, созерцает вещи, то он
вместе с тем отлично знает, что в случае нужды он
может производить с ними те или иные действия.
Таковы вкратце позитивные моменты антропологии
Гелена. Но это всего лишь моменты, вкрапленные в
ошибочную и ретроградную концепцию.
Размышления Гелена о человеке поражены и
пропитаны биологизмом, который проповедуется им
настойчиво и неотступно. Он понимает свою антропологию как
«биологическое рассмотрение человека» и ее метод тоже
называет биологическим (см., напр., 69, 34; 76, 16).
Отмечая это как порок его теории, мы в то же время
отнюдь не намерены утверждать, что человек является
«запретной областью» для биологии и что последняя
вообще ничего не может о нем сказать. Но Гелен
неограниченно раздвигает и даже совсем отбрасывает ее рамки,
ставит перед ней такие задачи, которые она не призвана
решать, и тем самым оказывает ей плохую услугу.
Например, он требует от «биологического
рассмотрения человека» ответа на вопрос: каким образом
жизнеспособно это существо, как оно поддерживает и
продолжает свое существование? (69, 34). Вопрос более чем
правомерный, но явно выходящий за пределы биологии,
поскольку производство, распределение и в известной
мере даже потребление средств человеческого
существования—материальных благ представляет собой
глубоко социальное явление и относится к компетенции
соответствующих общественных наук. Если в эпоху Герде-
ра объяснение человека исходя из «природы», пусть
даже абстрактно понимаемой, было прогрессивным и со-
ютветствовало тенденциям развития науки уже потому,
что оно так или иначе противостояло религиозным
догмам о его сверхъестественном происхождении, то в на-
88
ше время, после того как основоположники марксизма-
ленинизма вскрыли его социальную сущность, всякое
сколь угодно изощренное «биологическое рассмотрение
человека» является шагом назад.
Биологизм Гелена приводит его к обесцениванию и
принижению человека. Последний представляет собой,
по сравнению с животным, неполноценное, ущербное
существо (Mängelwesen), его характеризуют лишь
отрицательные свойства: неприспособленность, неспециализи-
рованность, беспомощность (sieh: 69, 31—32),
«жизненно опасный недостаток подлинных инстинктов» (76,. 26)
и т. п. Конечно, с чисто биологической точки зрения
человек представляется сравнительно ущербным, но такой
взгляд на него очень узок и односторонен. Когда мы
видим в нем биосоциальное существо, все его «недостатки»
сразу же превращаются в величайшие достоинства и
преимущества: «неприспособленность» к среде — в
способность приспособлять к своим нуждам те или иные
компоненты любой среды, «неспециализированность» — в
универсальность и т. д., что в конце концов признает и
Гелен, вступая тем самым в противоречие со своими
собственными посылками.
Но даже биологически человек далеко не столь
беспомощен и неполноценен, как это изображает Гелен.
Если он искусно изготовляет и применяет
разнообразнейшие орудия труда, виртуозно выполняет сложнейшие
действия, то, стало быть, его мозг и рука и вообще весь
его организм представляет собой чрезвычайно
жизнеспособное, высокоразвитое, полифункциональное
образование. Его «несовершенство» существовало не всегда, но
возникло и сформировалось исторически, на основе
труда, материального производства, и, следовательно, оно
глубоко социально. И этому нисколько не противоречит
то, что, если оно возникло, закрепилось, наложило свой
отпечаток даже на биологию человека, — оно со своей
стороны выступает как необходимое условие и мотив
действия. Гелен принимает человеческое
«несовершенство» за исходный пункт, однако оно является также и
результатом, притом результатом длительного
исторического развития.
Классики марксизма-ленинизма неоднократно
подчеркивали определяющее значение социальных факторов
для формирования биологических особенностей человека,
качественно отличающих его от всех других живых су-
89
ществ. Напомним мысль Маркса о том, что человек
обязан своими ощущениями всей до сих пор протекшей
всемирной истории (см. 2, 594). Тот же подход выражен в
словах Энгельса: «Рука является не только органом
труда, она такоюе и продукт его. Только благодаря
труду, благодаря приспособлению к все новым операциям,
благодаря передаче по наследству достигнутого таким
путем особого развития мускулов, связок и, за более
долгие промежутки времени, также и костей, и благодаря
все новому применению этих переданных по наследству
усовершенствований к новым, все более сложным
операциям,— только благодаря всему этому человеческая
рука достигла высокой ступени совершенства...» (1,т. 20,
488). Маркс и Энгельс видели в особенностях
человеческого организма не таинственное, недоступное
первоначало, не дар и не проклятие природы, не предел
познания, перед которым науке остается лишь признать свою
беспомощность, но реальную проблему, которую можно
и должно исследовать путем обобщения и осмысления
эмпирических знаний о человеке на основе
диалектического и исторического материализма.
Материалистическая диалектика признает, что биологические
особенности человека входят в число факторов, побуждающих
его к деятельности, но не останавливается на этом, а
идет дальше и показывает, что сами эти особенности,
при всех своих биологических предпосылках,
сформировались в ходе исторического развития. Антропология
Гелена обнаруживает в этом вопросе метафизическую
односторонность.
Последняя наблюдается и во многих других вопросах.
Так, Гелен односторонне связывает биологическое
своеобразие человека с его неприспособленностью и неспе-
циализированностью. Он не видит и не хочет видеть
того, что человеческая деятельность в течение жизни
множества поколений создала определенную
специализацию человеческого организма. Общеизвестный пример:
специализация нижних и верхних конечностей (ноги
специализированы для передвижения, руки — для трудовых
и других действий). Другой пример, взятый из
современных нейрофизиологических исследований: специализация
левого и правого полушарий головного мозга человека,
отсутствующая у животных (левое полушарие
специализировано на операциях со знаками, в том числе словами
и, следовательно, на абстрактном мышлении, правое —
*0
на непосредственной ориентации в конкретной
обстановке, на образном мышлении, образной памяти
и т. п.).
Стало быть, неверно думать, что человеческая
деятельность направлена к устранению вообще всякой
биологической специализации и определенности человека, к
его превращению в некое бесформенное существо.
При внимательном анализе антропологии Гелена
выясняется, что понятие действия, как ни много места ему
уделено, играет в ней далеко не главную роль, что ее
конечной основой являются, наряду с биологизмом,
иррационализм и агностицизм. Для Гелена произвольное
движение — это лишь момент загадочных, в принципе
непознаваемых и неуправляемых «вегетативных
процессов» (sieh: 69, 66—69); сознательная, планомерная
деятельность— лишь предельный случай иррационального
«широкого опыта» (sieh: 69, 368—372).
Биологизм и иррационализм Гелена особенно явно
обнаруживаются там, где он пытается объяснить высшие,
духовные способности человека. Он полагает, что лишь
на основе его теории «возможно биологическое, т. е.
эмпирическое и недуалистическое, понимание «духа»» (76,
28). Но это бесперспективный путь, ибо один порок —
дуализм — «преодолевается» за счет приобретения
другого порока — биологизма. Гелен признает и даже
неустанно подчеркивает необходимость сознания и в то же
время целиком и полностью погрязает в биологизме, так как
сознание, по его мнению, не идет дальше обслуживания
биологических потребностей. «Всеобщая формула будет
гласить следующее: сознание есть вспомогательное
средство на службе совершенству органического
процесса, следовательно, по существу не способно, да и не
призвано к тому, чтобы познать этот процесс» (69, 68).
Но уже повседневный опыт показывает
несостоятельность данной «формулы». Сознание служит сохранению
жизни, однако не исчерпывается и не ограничивается
этим. Мы не знаем всего, что нужно для поддержания
нашей жизни, что угрожает или содействует ей (пример
тому — болезнь), а с другой стороны, мы знаем то, что
отнюдь не является биологически необходимым для нее,
и такие знания есть у каждого, причем могут достигать
большого объема. Но даже если согласиться с тем, что
сознание — лишь вспомогательное средство на службе
у жизни, то и тогда вышеприведенная «формула» отли-
91
чается явной нелогичностью и шаткостью. Откуда
следует, что сознание «не способно и не призвано»
познавать обслуживаемую им жизнь? Ведь для того, чтобы
лучше служить ей, оно .и, должно ее познавать, должна
знать достоинства и слабости своего «хозяина».
Развивая свою «формулу», Гелен пишет: «Если
сознание делает возможным существование столь
рискованного существа (человека. — П. /С), то отсюда, конечно,
следует, что осмысление жизни исходя из него
невозможно и превышает его компетенцию» (69, 69). Какой
же духовно бедной и убогой была бы в таком случае
человеческая жизнь!
Подобным образом объясняется и. все социальное.
Общество (sieh: 76, 12), техника (sieh: 71, 8, 18—19),
культура (sieh: 76, 12), мораль (sieh: 69, 60),
мировоззрение (sieh: 69, 61), искусство (sieh: 69, 411; 74, 55—57)
и т. д. выводятся из биологической природы человека.
Гелен, разумеется, прекрасно знает, что существует
«биологически нейтральное» поведение (70, 337), что
человек способен иметь и ощущать особые чувства и
состояния: радость, восторг, вдохновение и т. п., но все это
интерпретируется им в конце концов тоже на основе
биологизма и иррационализма.
В свете вышесказанного ясны искусственность и
произвольность утверждений о близости взглядов Гелена и
Маркса (sieh: 92, 75—76). По Гелену получается, что все
действия и усилия человека, все его выдающиеся
качества нужны лишь для того, чтобы решать задачу, с
которой животное справляется и без этих качеств — задачу
обеспечения жизни. Маркс же со всей страстностью
выступает против общественного строя, в условиях которого
«сам труд, сама жизнедеятельность, сама
производственная жизнь оказываются для человека лишь средством
для удовлетворения одной его потребности, потребности
в сохранении физического существования... Сама жизнь
оказывается лишь средством к жизни» (2, 565), и
человек вынужденным образом «превращает свою
жизнедеятельность, свою сущность только лишь в средство для
поддержания своего существования» (2, 566). Уже
отсюда видно, что марксистско-ленинская концепция
человека бесконечно выше и содержательнее всякого, даже
самого рафинированного биологизма..
В- конце концов Телен отступил даже от замысла
основоположников современной буржуазной философской
92
антропологии — дать целостное понимание человека «с
точки зрения самого человеческого бытия». Он
описывает все области и уровни последнего, но, как говорится, в
терминах биологии. Если у Шелера дух
противопоставляется природе, то у Гелена он слепо и рабски
подчиняется ей.
Даже со стороны некоторых буржуазных философов
взгляды Гелена подверглись довольно резкой критике..
Конечно, последняя проводилась с позиций, тоже
неприемлемых для марксистско-ленинской философии, обычно
-с позиций априоризма, приверженцам которого не
могло понравиться «змпирико-биологическое понимание
духа». В то же время отдельные обвинения,
выдвигавшиеся в ходе этой критики, не лишены выразительности и
меткости.
Т. Литт (sieh: 102, 281—296), Г.-Э. Хенгстенберг
(sieh: 82, 25—26, 94—96), Аннелизе Ман (sieh: 107, 73—
93, 99) и другие единодушно упрекают Гелена в том, что
высшие человеческие качества не получили у него
надлежащего объяснения, оказались оттесненными на
второй или на последний план. Так, Хенгстенберг находит
в его антропологии «исключительно негативное»
понимание всех человеческих действий и способностей,
«свободных от утилитарной цели»: он видит только то, что эти
способности, например художественные, не направлены
на удовлетворение элементарных естественных
потребностей, но их позитивное, собственно духовное содержание
и значение остается у него совершенно не раскрытым.
«Дальше не-целесообразного, не-утилитарного Гелен не
идет ни в одном пункте своего толкования человека» (82,
26).
Любопытно, что в ходе полемики с оппонентами он,
по существу, признал односторонность своей
антропологии, в том числе и то, что она не располагает
достаточными средствами для объяснения социальной и духовной
жизни людей и представляет собой «анализ,
работающий на абстрактной модели единичного действующего
человека» (107, 94). Признание, достаточно
красноречивое само по себе!
Не менее показательно, пожалуй, и то. что теорию
Гелена критикуют и биологи. Один из них, А. Портман,.
кстати сказать крупнейший представитель
биологической антропологии, посвятил отдельную статью критике
представления о человеке как биологически неполно-
93:
денном существе. Касаясь выдвинутой Л. Больком и
взятой «на вооружение» Геленом гипотезы ретардации —
замедления или запаздывания, согласно которой
характерные особенности человека являются следствием и
выражением «задержки» его онтогенетического развития
и, таким образом, у взрослого сохраняются
определенные признаки эмбрионального периода, Портман
показывает, что даже с собственно биологической точки
зрения эта гипотеза представляет собой явное упрощение
и огрубление. Развитие человеческого организма в
разные периоды его жизни происходит по-разному: то
медленнее— по сравнению с человекообразными
обезьянами такого же возраста, то быстрее. «Замедление» нужно
именно для того, чтобы человек, оставаясь биологически
неспециализированным, обучался всевозможным
навыкам и действиям, и, следовательно, не должно
оцениваться только негативно (129, 901).
Представляется, что «ретардация», как и другие
отличительные признаки человека, обусловлена социально,
образует особое биологическое явление,
сформировавшееся под определяющим воздействием исторического
развития.
Биологизм и иррационализм Гелена получили
выражение и в его социально-политических взглядах.
Последние разработаны и высказаны им довольно подробно, и
без их характеристики его фигура была бы обрисована
неполно.
Кстати сказать, политическая деятельность Гелена не
менее показательна, чем его взгляды. В то время как
многие коллеги и ученики Шелера эмигрировали из
фашистской Германии (в частности, Плесснер и Калер)
либо впали в «немилость» и оказались не у дел (например,
Лютцелер), зачинатель «новой антропологии» усердно
делал карьеру. В 1934 г. в лекции по случаю вступления
в должность профессора Гелен прямо восхвалял
фашизм, требовал от философии и вообще от «наук о
духе» и, наконец, от самой человеческой личности
полнейшего, беспрекословного подчинения государству, т. е. по
существу, гитлеровскому рейху (sieh: 72, 13—15, 19, 25).
При этом он опирался на свои представления о человеке
как неполноценном творении природы: «...государство
говорит то же самое, что говорят религия и жизнь:
человек есть создание (или даже тварь, Kreatur.—
П. /(.), непроизвольно брошенное в бытие и этим выбро-
94
сом (Wurf) определяемое и характеризуемое...» (72, 17).
Какое искажение «непроизвольности», одностороннее
толкование понятия «жизнь», а главное, какое
презрение к человеку выражено в этих словах!
В 1940 г., когда появилось первое издание основного
произведения Гелена «Человек», он, по свидетельству
известного австрийского философа-марксиста В. Холличе-
ра, «даже рекомендовал ввести в обиход государства
провозглашенную им доктрину, утверждая, что она
предшествует любым расовым теориям» (44, 57). Гелен
полностью одобрял развязанную фашизмом чудовищную
войну и пытался подвести под нее «антропологическую
базу».
Например, он «обосновывал» войну как проявление
человеческой способности планирования и даже
творческого воображения: «...дикарь видит в дереве будущую
лодку... и точно так же ведут войну ради будущего
пространства для будущих .поколений, пусть даже в
других частях Земли. Говоря о человеке, нельзя заоывать о
том, что он не только воспринимающее, но и
представляющее существо...» (76, 23).
Это было напечатано в Германии в 1942 году!
Вскоре, однако, Гелену пришлось перенести свои «занятия на
военную тему» с письменного стола на поле боя. В
качестве офицера вермахта он участвовал в боях против
советских войск.
После войны он подвизается в Западной Германии и
активно пропагандирует, по существу, те же самые идеи
о всемогуществе и непогрешимости власть
предержащих. Длительное время он состоял профессором
Высшей школы управленческих наук (гор.
Шпейер)—особого заведения для руководящих чиновников.
В эти годы он обстоятельно развивает и излагает свои
социально-политические взгляды. Исходным пунктом для
него являются все те же «открытость миру», избыток
возбуждений и -влечений, словом, все основные понятия
его антропологии, с которыми мы уже встречались
выше. Поскольку человек не предназначен природой ни к
чему определенному и очень тяготится избытком своих
импульсов, он должен как-то «разрядить» это
напряжение и «определиться». Если раньше Гелен признавал, что
«определение» достигается в результате
взаимоограничения самих импульсов, то теперь он утверждает, что
оно приходит извне.
95
Важнейшим источником и основой «стабилизации»
личности объявляются «институты», т. е. «отношения
права, собственности или господства» (68, 70), иначе
говоря, система учреждений и средств, созданная
эксплуататорскими классами для сохранения своих позиций и
угнетения трудящихся. Среди институтов на первом
месте стоит, конечно, буржуазное государство (sieh: 75, 9).
Применяя обычный прием буржуазной пропаганды,
Гелен уверяет, что оно якобы борется с бедностью,
заботится о благе всех слоев населения (73, 247), и
вообще государство — ««нейтральная сила», возвышающийся
над партиями посредник и гарант общего блага» (73,
259—260). В настоящее время «руководство людьми со
стороны институтов» приобретает особо важное
значение (75, 296), причем институты дают отдельной
личности «благодетельную бесспорность или надежность» (68,
72), иными словами, освобождают человека от
необходимости думать самому, определять свои поступки и
нести за них ответственность. За это он должен позволить
институтам «потреблять себя» (75, 8—9). В общем, вся
эта теория институтов построена в духе
манипулирования людьми, столь желанного для империалистической
политики и идеологии. Человеческая личность
изображается «вечно несовершеннолетней», нуждающейся в
«тотальной» опеке.
Даже со стороны некоторых буржуазных авторов ге-
леновская теория институтов встретила неодобрение и
критику. Эта теория, по мнению одного из них, нацелена
«против прав человека как субъекта, который не
является с головы до ног добычей институтов» (50, 93). Для
Гелена общественная жизнь и история — это «всемогущий
рок» (50, 93), фатально действующая сила, перед лицом
которой человек совершенно беспомощен. Его
антропология призывает к действию, но не дает перспективы и
отводит человеку самую жалкую и зависимую роль. По
меткому выражению философа-марксиста Р. Лётера
(ГДР), нарисованный Геленом образ человека есть
«комбинация безысходного пессимизма и безмерного
активизма» (104, 276). Это пессимизм, связанный с отчаянной,
лихорадочной деятельностью, с авантюризмом и
тоталитаризмом и прочими атрибутами империалистической
политики.
В виде итога можно сказать, что иррационализм и
биологизм вкупе с реакционной социально-политической
эь
концепцией не позволили Гелену последовательно и
полно использовать возможности, содержащиеся в
представлении о человеке как действующем существе. В его
антропологии отдельные плодотворные моменты
сочетаются, порой довольно причудливым образом, с
теоретически ложными и политически реакционными идейками. Он
не дал действительно жизнеспособной теории
деятельности, которую так хотелось бы иметь буржуазной
«философии человека».
S настоящее время категория деятельности
привлекает живой интерес обществоведов-марксистов. Вышли
в свет содержательные исследования философов,
социологов, психологов, в которых показана социальная
сущность деятельности и гносеологическая ценность этой,
категории (см., напр., 15; 27) При сопоставлении с
ними еще резче обнаруживаются методологические
пороки «антропологии действия» и других буржуазных
концепций деятельности.
ГЛАВА 4. БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ
Крупнейшим представителем биологической
антропологии является швейцарский биолог А. Портман,
имеющий довольно много учеников и
единомышленников. Близок к этому течению знаменитый П. Тейяр де
Шарден.
§ 1. А. Портман и кружок «Эранос»
Адольф Портман родился в 1897 г. в Базеле. В
университете этого же города он получил специальность
зоолога, а затем в течение многих лет начиная с 1931 г. был
профессором и директором отделения зоологии.
Вопросами человекознания начал основательно заниматься с
1937 г. и с тех пор написал много работ, посвященных
различным аспектам социально-биологической
проблемы. Портман высказал ряд соображений и по
философской, или, как он ее называет, основополагающей,
фундаментальной, базалыюй (от слова «базис»4},
антропологии (127, 293—308).
97
По-видимому, благодаря своим длительным
занятиям естественными науками, а также своему социальному
происхождению (из рабочей семьи) Портман сумел
понять бесплодность и несостоятельность некоторых
влиятельных идей буржуазной философии и отмежеваться от
них. В противовес тенденциям принижения и
обесценивания человека он выдвигает «старую, иногда
предаваемую забвению мысль о том, что тот, кто пытается
понять человека, должен думать о нем хорошо» (127, 341).
Он решительно отвергает тезис Шелера о бессилии духа
как следствие «метафизической предвзятости» (127, 36)
и деление человека на две противостоящие друг другу
субстанции: телесную и духовную — как признак
«донаучной фазы мышления» (127, 301).
Этот биолог настойчиво выступает против
биологизма, против сведения собственно человеческого к
«витальному» и инстинктивному (sieh: 127, 336, 357). Он
призывает «отказаться от излюбленного упрощения» — от
«редукционистской тактики, которая просеивает
человеческое через сеть понятий и оставляет в сети только то, что
выразимо на языке естественных наук...» (127, 130).
Размышляя о задачах и возможностях биологической
антропологии, или «гуманбиологии», Портман прямо
признает: «Мы не можем дать научного объяснения этой
(человеческой.— П. К.) формы жизни только при помощи
биологических методов» (131, 678). Поэтому биолог, если
он хочет внести свой вклад во всеобъемлющее объяснение
человека, должен искать такую область его бытия,
«которая, с одной стороны, выражает своеобразие сферы
человеческой жизни, а с другой стороны, постижима при
помощи биологических методов» (131, 678).
Эту область Портман находит в «феноменах
выражения» (речь, мимика, жест и т. п.), а также в
онтогенезе человека. Анализируя выражение, он делает вывод,
что оно свойственно не только человеку, но и многим
животным и является одним из тех элементов поведения
живого существа, «которые могут быть названы «гипер-
телическими» (сверхцелевыми. — П. К.) или «безфунк-
циональными», если цель состоит только в сохранении,
функция — просто в защите жизни» (127, 298). Жизнь
не исчерпывается, не ограничивается тем, что необходим
мо для ее сохранения и продолжения, но идет дальше
этого «во всех направлениях» (127, 298), Примером этой
свободной игры жизни Портман считает пение и полег
98
птиц, когда они не находятся под властью жесткой
природной необходимости добывания пищи и т. п. (127, 18).
Тем более свойственна «свободная от вожделений
деятельность» человеку, так как роль самовыражения и
одновременно самоизображения жизни «сильно
возрастает с высотой организации» (127, 299).
Исходя из этого Портман критикует теории, видящие
в человеке «ущербное существо», и показывает, что
человеческая деятельность дает нечто «большее чем
просто компенсацию органических слабостей»: она
обнаруживает «порыв к самовозрастанию» (127, 299). С этой
точки зрения он рассматривает и вопрос о смысле
жизни. Постижение последнего есть неизбежное требование
для всякого человека, который хочет жить полноценно.
Поиск смысла является постоянной задачей, которая не
имеет однозначного ответа. «...Одно лишь сохранение
может быть только предпосылкой, но не смыслом жизни —
эту мысль все яснее доказывают нам и наблюдения над
жизнью животных» (127, 305).
Особенно подробно проводил Портман сравнительное
изучение онтогенеза человека и животных. Своеобразие
индивидуального биологического развития человека по
сравнению с животными привлекало к себе внимание
издавна: его заметили в свое время Кант, Гердер и
другие. Портман систематизировал накопившиеся
наблюдения и добавил к ним свои собственные. У животных
наблюдаются две основные формы онтогенеза. Одни
животные появляются на свет после непродолжительного
времени утробного развития беспомощными, с
недостаточно сформированными органами чувств, другие —
после более продолжительного времени, зато и более
самостоятельными, с уже функционирующими органами
чувств ('.подробнее это изложено в работе 117).
Человек занимает совершенно особое место: в его
онтогенезе сочетаются обе формы. Новорожденный
человек выделяется своей беспомощностью, пропорции тела
у него еще не сложились окончательно, он появляется на
свет как бы слишком рано, по выражению Портмана,—
это «физиологический недоносок», и, таким образом, его
следовало бы причислить к первой форме. С другой
стороны, при рождении его мозг сравнительно велик,
органы чувств уже воспринимают внешний мир, хотя и
несовершенным образом, и в этом отношении он
принадлежит ко второй форме. Портман и вслед за ним западно-
99
германский биолог В. Нейхаус объясняют эти
особенности онтогенеза человека как условие его формирования
и развития в качестве члена социальной общности. «Мы
усматриваем, — пишет Портман, — биологическое
своеобразие человеческой формы жизни именно в
нерасторжимом, определяющем и неповторимом для индивида
<ерастании наследственных данных и социальных
воздействий» (137, ПО).
Своеобразие онтогенеза человека делает последнего
чрезвычайно восприимчивым для воспитания и обучения,
для выработки всевозможных социальных и культурных
свойств и навыков (формирование сознания и речи,
привитие норм поведения и т. д.), для развития
несравненной гибкости и универсальности в отношении к
окружающему миру (sieh: 129, 900—901; 117, 860). Для
человека воспитание в самом широком смысле слова — не
только возможность, но и необходимость: при рождении его
органы чувств уже более или менее функционируют, и
вместе с тем он по сравнению с животными еще,
собственно, не сформирован, не закончен, поэтому он не
может не воспринимать тех воздействий, которым он так
или иначе подвергается со стороны других людей, и его
развитие происходит одновременно в биологическом и
социальном плане.
В частности, большой вес мозга и всего тела у
новорожденного человека и его быстрый рост в первые
месяцы и годы жизни по сравнению с детенышами животных
Портман объясняет тем, что в этот период человеку
особенно необходимо интенсивное развитие нервной
системы для овладения языком и другими атрибутами
культуры, а в силу корреляции вместе с ней увеличивается
и общий вес тела (sieh 131, 680). Исследования Портма-
на по онтогенезу человека получили широкую
известность.
Портман принадлежит к числу естествоиспытателей,
глубоко интересующихся гносео- и методологическими
вопросами науки. Он находит, что в современной науке
тип ученого-натуралиста, столь характерный для
прошлого века, почти вытеснен типом сциентиста. Этим
типам соответствуют два основных метода или, как он
пишет, две функции научного познания. Одна, по
терминологии Портмана, теоретическая функция отличается
преобладанием логического мышления,
физико-математических цриемов исследования. «Другдя работает с нераз-
що
ложимыми чувственными впечатлениями, в сильной
степени зависит от жизни эмоций и подчиняется
непосредственно данным соотношениям; она имеет дело с
красками, формами, запахами и звуками: назовем ее кратко
эстетической функцией» (127, 90).
Наука Запада сделала выбор в пользу
«теоретической функции» и так усиленно и односторонне
развивала ее, что «во многих областях и у многих людей
произошла атрофия важных эстетических функций» (127,
91). Между тем у полноценного человека оба вида
познания должны составлять гармонию (sieh: 127, 90), и
благодаря прежде всего «эстетической функции»
исследование природы является для нас источником радости,
пробуждает творческие силы, повышает чувство жизни
и т. д. (sieh: 127, 91—93). Непосредственное восприятие
природы во всем ее красочном многообразии не
примитивно (primitiv), но «глубочайшим образом первично
(primär)» (127, 93).
На наш взгляд, вышеотмеченные мысли
швейцарского ученого о «безфункциональном» поведении,
онтогенезе, эстетическом аспекте естествознания представляют
собой, образно говоря, жизнеспособные зерна, которые,
попав в благоприятную почву, могут дать хорошие
всходы. Они выгодно отличают их автора от многих других
мыслителей Запада, биологов и небиологов, но в равной
мере биологизаторов. Однако эти зерна истины, если
продолжить сравнение, находятся в неподходящей почве и
заглушаются сорняками. Плодотворные моменты
концепции Портмана причудливо переплетаются с
отрицательными, философски и научно ошибочными.
Правильно подчеркивая необходимость разработки
всеобъемлющей научной теории человека, Портман,
однако, тут же допускает ошибки и путаницу, полагая, что
эта теория должна быть мировоззренчески и
политически нейтральной. Зараженный ходячим буржуазным
предрассудком о несовместимости науки и идеологии и
предубеждением к марксизму-ленинизму, он утверждает,
что научная теория человека «не может быть ни
христианской, ни марксистской» (127, 293). Это выпад против
марксизма, а не против религии, к которой Портман
неоднократно выражает симпатию. Он органически не
приемлет мысли о возможности единства научности и
партийности и о достижении последнего
марксизмом-ленинизмом
101
Портман выступает за такое учение о человеке,
которое не давало бы никаких предписаний относительна
«руководства жизнью» (127, 293), т. е. не содержало бы
ничего оценочного и нормативного. «Научная теория
человека должна быть по существу служебной» (127, 294).
Кому же и для чего она должна служить? Оставлять
этот вопрос открытым, как делает Портман,
значит содействовать созданию удобных условий для
злоупотребления научными данными о человеке в
интересах реакционных политических сил, например
для манипуляции. Конечно, научная теория
человека должна быть служебной, но это лишь одна
сторона дела. Нормы, принципы, императивы не
обособлены от «служебности», они в конце концов тоже
выполняют служебную функцию и без них невозможно
обойтись. Между прочим, сам Портман, явно нарушая свой
постулат о нейтральности антропологии, неоднократно
высказывается по различным общественно-политическим
вопросам.
Далее, говоря о «безфункциональном», свободном от
утилитарных целей поведении животных и человека,
Портман спешит отвергнуть «идею о том, что
экономические отношения являются главным движущим моментом
социальной жизни» (127, 300). Но такой вывод из
наблюдений над «свободной игрой жизни» совершенно
необоснован, ибо неутилитарные черты нашего поведения не
отменяют экономических отношений и их примата, а
надстраиваются над ними, присоединяются к ним, являясь,
условием полноты человеческого бытия.
Понимание социальной жизни Портманом подлежит
обстоятельному анализу хотя бы потому, что подобные
взгляды широко распространены не только в биологии,
но и в социологии Запада. Как известно, в буржуазной
социологии весьма влиятельны различные формы
редукционизма, попытки сведения социального к
биологическому, распространения на общество законов природы
(натурализм, биологизм, социал-дарвинизм и т. д.).
Менее известен и реже критикуется (однако в настоящее:
время получает широкое распространение на Западе)
другой подход к социально-биологической проблеме. Он
выделяется стремлением «возвысить» биологическое до
социального, распространить на природу законы
общества. Результат в основном тот же самый — вольное или
невольное преуменьшение или даже отрицание сущест-
102
венной разницы между природой и обществом, между
животными и человеком. Этот подход обстоятельно
разработан Портманом в книге «Животное как социальное
существо» (sieh: 133).
Переходя к анализу этой книги, считаем нужным
подчеркнуть, что мы не ставим под сомнение правомерность
и важность специально биологического исследования
различных взаимодействий живых существ, а также
правомерность сравнения различных объединений животных
и человеческого общества. В то же время необходимо
тщательно взвешивать и оценивать те философские и
социологические взгляды, которые высказываются в связи
с таким исследованием и сравнением. Мы не беремся
судить о книге Портмана с точки зрения того, что она
дает биологии. Даже если она представляет собой
выдающийся вклад в науки о живом, это еще не говорит о
непогрешимости выраженных в ней философских взглядов.
Следует также отметить, что в данной книге, да и в
других своих работах Портман настойчиво выступает
против редукционизма, биологизма, антропоморфизма.
Поэтому в нижеследующих строках речь идет не о
стремлении Портмана исказить и вульгаризировать
человеческую природу, которого у него, по-видимому, нет, но о
содержании и выводах его книги, которые прямо не
связаны с его личными намерениями.
Книга Портмана содержит обширный фактический
материал, в который вкраплены теоретические
положения. В начале книги излагаются наблюдения над жизнью
стрекоз. Описав способы спаривания у стрекоз, Портман
продолжает: «Наше ознакомление с жизнью стрекоз
ставит ряд вопросов общего порядка, которые
затрагивают важные основы социальной жизни...
Это, во-первых, «узнавание»: Как находят друг друга
животные одного и того же вида? Как они узнают друг
друга?... Ощущения, видовые признаки, средства, при
помощи которых предотвращается смешение видов, — все
это принадлежит к фундаментальным проблемам
всякого социального исследования» (133, 20). Слова
Портмана о социальном характере жизни стрекоз — не «ляпсус»,
но выражение основной идеи книги. Он неоднократно
повторяет, что совокупление животных есть явление
социальное. Из контекста его книги видно, что он считает
социальную жизнь присущей всем животным, в том
числе и низкоорганизованным. Например, наблюдения над
103
стаями саранчи «ведут к отдельным важным основам
подлинной социальной жизни» (133, 70). В книге
употребляются такие выражения, как «социальные союзы
насекомых», «социальные формы позвоночных» и т. п.
Наследственность тоже отнесена к социальным
явлениям, ибо она осуществляет связь поколений (sieh: 133,
32).
Портман излагает свое понимание сущности
социальной жизни следующим образом: «Биологи говорят о
социальной жизни только тогда, когда существование и
форма проявления группы животных основаны на
взаимной зависимости и отношениях индивидов друг к другу»
(133, 66). «Отношение индивидов друг к другу есть
основной феномен социальной жизни» (133, 72).
Из многочисленных примеров, приводимых Портма-
ном, из всего контекста его книги следует, что он
понимает социальное отношение как непосредственное,
доступное естественнонаучному наблюдению
взаимодействие между особями одного и того же вида. Конечно
такое взаимодействие имеет место у всех живых
существ,, ко в нем нет ничего подлинно социального. Когда
животные одного и того же вида находят и «узнают»
друг друга по звуку, по запаху и т. п., совместно
«оборудуют» свое логово или гнездо, выводят детенышей
и т. д., то все их действия, какими бы сложными и
целесообразными они ни казались, относятся лишь к сфере
биологического, но не социального. Эти действия
являются результатом длительной биологической эволюции
вида, направлены на его сохранение, предопределены
генетически. Правда, такие существа, как муравьи,
пчелы, термиты и т. п., давно получили у биологов
наименование социальных или общественных животных. Однако
и их действия и отношения при всем их своеобразии
невыходят за пределы биологических закономерностей.
Уподобление муравейника или пчелиного улья
человеческому обществу — это скорее отголосок
антропоморфизма, чем признак научности исследования. Конечно,
дело не в названиях, и все-таки термины «социальное»
и «социальная жизнь» не следовало бы распространять
на животных. Вместо «общественные животные» было бы
лучше говорить: стадные или стайные или, если угодно
применить латинский термин, мультумальные животные
(от латинского multum — большое количество,
множество). Строго говоря, у животных нет социальной жизни,
104
а есть только стадность или совместность. Социальное —
это исключительное достояние человека.
Разумеется, между людьми происходят
разнообразные непосредственные взаимодействия. Но это лишь
предпосылка и, с другой стороны, проявление
социальной жизни. Сущность же ее стала доступной научному
познанию только тогда, когда марксистская социология
выделила из всего многообразия общественных
отношений производственные отношения как основные и
определяющие. В отличие от взаимосвязей между
животными общественные отношения формируются не путем
биологической эволюции, а на основе развития
производительных сил. В отличие от биологических свойств и
признаков общественные отношения не наследуются
посредством «генетического кода», а передаются от одного
поколения к другому при помощи социальных институтов
(общественных учреждений и порядков), при помощи
традиций, воспитания, образования (это показано,
например, в содержательных работах академика Н. П.
Дубинина по философским и социологическим проблемам
генетики человека).
Расширительное понимание социального особенно
ярко проявляется в рассуждениях Портмана о
«социальных органах» животных. Он пишет: «Пахучая железа на
брюшке рабочей пчелы стала настоящим социальным
органом, который выделяет особо возбуждающее пчел
вещество. Оно издалека воспринимаемо для пчел и
помогает привлекать ищущих новичков к тому месту, где
другими пчелами уже обнаружены хорошие источники
корма» (133, 110). Конечно, изумление и даже восхищение,
часто возникающее у исследователя при изучений
замечательных приспособлений живых существ, вполне
понятно и объяснимо, но нет никаких оснований называть
их социальными органами. Они образовались в ходе
биологической эволюции, служат обеспечению
биологического существования — и не более того. Если понимать
под органом какую-либо часть живого организма, то
словосочетание «социальный орган» недопустимо, так как
оно является в этом случае лишь механическим
соединением терминов разных наук: биологии и социологии.
Истинно социальные органы — это не органы животных и
даже не органы человеческого тела, как бы необходимы
они ни были, но определенные социальные институты
(например, законодательные, судебные, профсоюзные).
5—1510
105
Чрезмерно широкое, как и слишком узкое, понимание
социального чревато неприемлемыми для
марксизма-ленинизма политическими выводами. Они далеко не всегда
формулируются открыто и даже не всегда осознаются
учеными Запада, но часто подразумеваются или
содержатся в неявном виде в их концепциях. Так,
расширительная трактовка социального связана с попытками
доказать необходимость частной собственности.
Наблюдения этологов показали, что особи разных биологических
видов охраняют и защищают не только свое гнездо или
логово, но и прилегающую к нему территорию.
Некоторые авторы видят в этом факте проявление «социальной
жизни животных». Например, Портман пишет, что
охрана территории животными свидетельствует об- их
«социальных побуждениях» (133, 26). Правда, он не делает из
этой мысли каких-либо социально-политических
выводов. Но некоторые биологи и этологи стран Запада
прямо утверждают, что животные считают гнездо и
окружающую его территорию своей собственностью, что
владение ею есть инстинкт живого существа и что человек в
этом отношении ничем не отличается от животных. В
конечном итоге читателю внушается мысль о
«естественном происхождении» частной собственности, о том,
что последняя для человека якобы так же необходима,
как для птицы гнездо, для белки дупло и т. ч.
Но сведение собственности к инстинктам и повадкам
животных, ее отождествление с «естественными
постройками» типа гнезда неправомерно и недопустимо.
Собственность существует только в человеческом обществе,
является общественным отношением, которое обусловлено
развитием производительных сил, составляет
неотъемлемый признак социальной структуры общества и обычно
фиксируется юридически. Как и другие социальные
институты, собственность изменяется в ходе истории.
Смену форм собственности при сохранении в основном
одной и той же биологической природы человека
невозможно объяснить законами биологии, но следует понимать
на основе законов жизни и развития человеческого
общества.
Справедливости ради надо отметить, что Портман
признает различие между социальной жизнью человека
и животных. Но он объясняет это различие совершенно
неудовлетворительным образом. С его точки зрения,
социальная жизнь человека и животных складывается из
106
одних и тех же элементов; вся разница лишь в том, что
у первого они комбинируются иначе, чем у вторых (sieh:
133, 100). Однако в жизни человека и животных глубоко
различны не- только структуры, но и многие элементы.
Такие «элементы», как труд, речь и т. п., присущи
только человеку. Кроме того, даже многие биологические и
психические свойства человека (многие естественные
потребности, ощущения) в силу воздействия социальных
факторов существенно отличаются, особенно по формам
своего проявления, от соответствующих свойств
животных, что было уже давно и убедительно показано
марксистско-ленинской теорией. Расширительная трактовка
социального не помогает, а только препятствует Портма-
ну в познании как жизни животных, так и бытия
человека.
Не случайно Портман, несмотря на беглые замечания
другого рода, изредка встречающиеся в его
произведениях, явно склонен к агностицизму. Он пытается
обосновать свой агностицизм ссылками на трудности
познания истоков жизни и всякого происхождения,
возникновения, становления. Человеческая деятельность, пишет
он, «происходит из истоков, которых мы не знаем и не
можем постичь научно» (134, 802). Жизнь во всех ее
формах и проявлениях есть «явная тайна» (132, 1300).
Сочинения Портмаиа изобилуют призывами к
«благоговению перед тайной всякого начала». Эти призывы
имеют, конечно, известное основание, но разве чувство
благоговения перед величием и сложностью природы не
должно дополняться пафосом научного дерзания и верой в
творческую мощь разума?
Портман не только декларирует свои агностические
идеи, но и руководствуется ими в подходе ко многим
конкретным проблемам человекознания. Он склоняется к
мнению, что наука не способна познать возникновение
человеческого рода, преодолеть «темную зону тайны,
которая окутывает наше происхождение» (137, 108).
Размышления Портмана о вопросах антропогенеза
смыкаются с идеями современной философской антропологии о
неясности, неопределимости, непознаваемости человека. На
протяжении тысячелетий, пишет он, мировоззрение
опиралось на казавшиеся незыблемыми традиции.
Происхождение человека, его история, его призвание в мире
представлялись ясными и очевидными. «Всегда ли мы
сознаем, как неясно все это теперь?» (136, 17), — пате-
5*
107
тически вопрошает Портман. Но в дальнейшем образ
человека станет, по его мнению, еще более расплывчатым
и неопределенным (sieh: 136, 18).
Эти и многие другие проявления агностицизма, на
первый взгляд, могут казаться довольно странными в
эпоху колоссальных достижений биологии и медицины,
а, по существу, говорят о том, что зависимость
«гносеологического оптимизма» от успехов частных наук не всегда
является прямой, непосредственной, прямо
пропорциональной. Она опосредствуется многообразными
социальными факторами, особенностями надстройки общества,
господствующими в нем идеями. Там, где доминируют
или широко распространены идеализм, агностицизм,
иррационализм, религия, новые научные проблемы,
возникающие в связи с решением старых, обычно
интерпретируются в духе идеализма, агностицизма и т. д. Кроме
того, некоторые старые проблемы по мере прогресса
науки обнаруживают гораздо большую сложность, чем
та, которая представлялась раньше, а некоторые «белые
пятна» в науке в силу возросшего внимания и
возросших требований к ней со стороны тех или иных кругов
общества часто воспринимаются преувеличенно.
Агностицизм Портмана в конце концов приводит его
в лагерь противников материализма, как философского,
так и естественнонаучного (см., напр.: 127, 6; 136, 8).
В довершение всего Портман обнаруживает сильный
крен к иррационализму, особенно в таком важном для
ученого вопросе, как гносеологическая природа науки,
пути и средства научного познания. Примечательно, что
в этом вопросе его взгляды, по существу, совпадают с
представлениями воинствующего иррационалиста А.
Гелена, с которым он расходится относительно
человеческой «ущербности». Гелен довольно много писал о
«научной аскезе», под которой он понимал, в частности,
отказ от примитивных традиций и предрассудков
антропоморфизма и «прежде всего отказ от удовлетворения
религиозных интересов в научном познании» (69, 380).
Он усматривал в этом большую опасность, «так как в
«широком» опыте человеческая природа по
собственной необходимости все еще живет иррациональными
стимулами и убеждениями, от которых оно (научное
мышление.— П. К.) удалилось в своем развитии...» (69, 384).
Здесь Гелен, во-первых, неправомерно отождествляет
иррациональное с непосредственными импульсами, впе-
108
чатлениями, эмоциями, которые можно скорее назвать
долили внерациональными, во-вторых, слишком резко
отделяет абстрактное мышление от
художественно-образного и, в-третьих, игнорирует возможности разумного
изменения человеческой природы, ее адаптации к новым
историческим условиям. Из своих рассуждений о
«научной аскезе» он делает вывод о том, что наука должна
руководствоваться иррациональным «широким опытом»,
а также о том, что «убеждения, на которых
произрастает наша (читай: буржуазная.—Я. /(.) моральная,
политическая или религиозная жизнь, не терпят отказов: они
живут непосредственностью широкого опыта» (69, 384).
Это, по существу, попытка доказать «неподсудность»
империализма человеческому разуму, поставить его вне
всякой критики.
Портман не делает столь далеко идущих выводов, но
ход его мысли такой же, как и у Гелена: единственная
разница в том, что вместо «широкий опыт» он пишет
«первичное переживание мира». Последнее имеет
«наибольшую ценность» (128, 488; 130, 574), отнюдь не
отошло в прошлое (sieh: 128, 491), и одним из его
компонентов является религиозное переживание (sieh: 127,
130). Здесь Портман высказывает и перспективные,
интересные положения, особенно о роли фантазии, но они
^остаются островками в море мнений другого рода.
Ознакомление со взглядами Портмана подтверждает
-глубочайшую правоту и полную применимость к нашему
времени известных слов В. И. Ленина о том, что без
философской базы, которую дает диалектический
материализм, естественные науки не могут выдержать борьбы
против натиска буржуазных идей и восстановления
буржуазного миросозерцания. Этот вывод относится,
конечно, не только к Портману, а имеет всеобщее значение.
Например, биолог В. Нейхаус (уже упоминавшийся в
этом разделе) одобрительно отзывается о попытках
«христиански истолковать эволюцию всех живых
существ как путь к ;богу» (117, 862). Подобные тенденции,
разумеется, не отвечают потребностям развития
научного мировоззрения.
Наконец, нельзя не коснуться того, что Портман
является центральной фигурой широкого международного
философско-антропологического кружка «Эранос» (это
древнегреческое слово обозначает встречу друзей). При
£го основании видную роль сыграл религиозный мысли-
ю?
тель Р. Otto, активным участником кружка был в свое
время К. Г. Юнг. Среди постоянных членов «Эраноса»—
английский эстетик Г. Рид, израильский психолог
Э.Нейман и другие. В нем принимали участие также М. Бубер„
П. Тиллих, Ф. Бойтендайк, Г Плесснер, Р. Турнвальд.
и целый ряд других философов и ученых. Оки выступают
с докладами на ежегодных конференциях, каждая из
которых посвящается какой-либо определенной теме. Эти
доклады публикуются в ежегодниках (Eranos-Jahrbuch),
регулярно выходящих начиная с 1933 г. Ежегодники
изданы также в переводах на английский и итальянский
языки. Портмак — постоянный участник и лидер
«Эраноса», а затем и редактор его ежегодников.
Излагая в программной статье характер и
направление деятельности «Эраноса», Портман подчеркивает, что
основным предметом докладов и обсуждений является
человек во всех его свойствах и отношениях, как
природное и духовное существо, и его истолкование происходит
в тесном взаимодействии естественных и гуманитарных
наук (sieh 135, 9). Но из обширной тематики,
касающейся человека, все-таки выделяется область,
привлекающая к себе наибольшее внимание членов «Эраноса».
Портман обрисовывает ее следующим образом: «Мы
интенсивнее постигаем известные сущностные черты
человеческого, в которых не так сильно выражается постоянное
преобразование, как, скорее, устойчивость, другая пер-
воструктура, которую можно было бы прямо назвать
антиисторической. Мы открываем в человеке аспект,
который был назван архаическим» (135, 14). Здесь
обнаруживается близость к структурализму, к известным
работам его французских представителей о генезисе и
стабильных формах умственной и вообще психической
деятельности человека. «Этот архаический человек есть
средоточие деятельности Эраноса со времени его основания
и до сегодняшнего дня» (135, 14).
Кружок отличается интересом к прошлому и ко
всему, что несет ярко выраженную печать прошлого: к
мифу, религии, мистике и т. п. Разумеется, сам по себе
интерес к прошлому, к «истокам», будь то собственное
детство или «детство человечества», (вполне правомерен. Но
в общественном строе, не имеющем будущего, он часто
используется глашатаями реакционного романтизма,
чтобы оживить тени прошлого и наложить «табу» на
прогресс. В подобных случаях из прошлого хотят взять лишь
110
то, что должно безвозвратно кануть в Лету. Этому
противостоит такое отношение к прошлому, при котором оно
переживается вновь для обогащения настоящего и
может опять одарить нас своей первозданной свежестью,
будучи вместе с тем освобождено от всего наносного и
устаревшего. Можно наслаждаться непосредственностью
и простодушием сказки и в то же время быть строгим
реалистом в искусстве и в жизни. Можно увлеченно играть
с ребенком, но не впадать в ребячливость. Ошибки
молодости, как говорил Гете, не страшны, если не
повторять их всю жизнь.
Что касается «Эраноса», то он обращается к
прошлому ради его консервации, ради обоснования и усиления
тех идей, на которые опираются реакционные
социальные движения; его симпатии — на стороне идеализма,
иррационализма, религии. Не представляется возможным
проанализировать здесь десятки объемистых томов
ежегодника «Эранос», но приведем все же некоторые
примеры.
Ученик К. Г. Юнга психолог Э. Нейман считает
причиной «кризиса человека» упадок религиозной веры,
распространение рационализма и науки. Он видит
единственное спасение в религиозно-мистическом «творчестве»,
направленном как вовне, так и «вовнутрь». При этом
надо осознать, «что не существует «объективного» мира,
независимого от человека, который постигает этот мир.
Эта обращенность на себя самого распространяется не
только на его веру и его философию, но точно так же и
на то, что он называет «наукой» (118, 21). Здесь с
очевидностью обнаруживается утопичное стремление
подчинить науку идеализму антропоцентрического толка.
Нейман утверждает «бесконечность психического»:
оно включает в себя и внутренний, и внешний мир (118,
32, 35). Исходя из этого, он призывает «вновь находить
как собственное содержание в человеческой душе все то,
что мы некоторым образом потеряли во «внешнем»...»
(118, 38), Он не замечает явной нелогичности своих
рассуждений: ведь если внешнее и внутреннее едины и
нераздельны, то утрата внешнего означает ущерб и для
«собственного содержания души». Бесперспективность
предлагаемого здесь «пути спасения» очевидна — при
самой высокой оценке, которой заслуживают человеческая
душевная стойкость и гибкость, не отступающие перед
ударами «извне».
111
Другой активный участник «Эраноса», американский
эстетик В. Цуккеркандль, пытается внушить читателю
старую мысль о том, что «действительность есть на
самом деле лишь сон» (170, 209). В настоящее время,
когда непосредственная встреча со сферой божественного
больше не происходит, следовало бы передать многие
функции религии искусству (170, 209). Высказываний
подобного рода в анналах «Эраноса» очень много.
Таким образом, Портман и возглавляемый им кружок
«Эранос» ищут способы, при помощи которых могли бы
продолжать свое существование в условиях
современности религия, идеализм, архаичные формы восприятия
мира. Здесь наблюдается превратное понимание синтеза
представлений о человеке, возникшее под влиянием
некоторых идей буржуазной философии. Это направление
исканий Портмана не содействует его научной работе
в области биологии.
§ 2. Медицинская антропология
Обращаясь ко всеобъемлющей теории человека, нельзя
не коснуться медицины, ее философских, этических,
методологических проблем. Вряд ли можно найти другую
науку, которая находилась бы в такой «интимной
близости» к человеку, к его самым глубоким и сокровенным
«тайнам» и давала бы так много для его философского
понимания. Со времен «отца медицины» Гиппократа и
по сей день в самых различных формах обнаруживается
и подчеркивается особая философичность этой науки и.
вместе с тем ее ориентация на человека.
В последние годы появилось много интересных
марксистских исследований по философским и
социологическим вопросам медицины (напр., 8; 33; 42). В условиях
современной идеологической борьбы еще больше
обостряются дискуссии по философским проблемам
медицины, которые и в прошлом обычно протекали довольно^
бурно.
Само собой разумеется, настоящая работа не
претендует на исследование и решение собственно медицинских,
задач. Мы рассматриваем здесь некоторые философские-
вопросы медицины лишь постольку, поскольку это
нужно для выполнения основной задачи данной работы —
критики современной философской антропологии.
112
Перейдем к вопросу о связях между философской
антропологией и медициной в капиталистических странах.
Эти связи довольно широки и устойчивы. Шелер, будучи
студентом, наряду с философией изучал и медицину, а
впоследствии в своих произведениях неоднократно
обращался к ней для пояснения тех или иных мыслей на
конкретных примерах. Его близкий друг терапевт В. Вейцзе-
кер считается основоположником медицинской
антропологии. В 1927 г. по приглашению Шелера он прочитал на
эту тему доклад в Кантовском обществе (г. Кёльн) Они
имеют и общих учеников, например, В. Кютемейера,
видного представителя медицинской антропологии.
Намечая предмет и задачи последней, Вейцзекер прямо
подчеркнул, что она руководствуется идеями
философской антропологии и служит дополнением к ней.
«...Медицинская антропология имеет свой центр тяжести в
антропологии, в то время как медицина дает внешнюю
форму, примеры, средства изложения» (167, 7). Тем
самым медицинская антропология воспринимает пороки и
заблуждения буржуазных философских учений о
человеке. Буржуазные мыслители осуществляют связь
медицины и философии на свой лад, под эгидой
идеалистического и иррационалистического мировоззрения.
На Западе применяется и термин «антропологическая
медицина», который обычно обозначает применение
философской антропологии в конкретных вопросах
медицины вплоть до практики врачевания. Здесь происходит
некоторое перемещение акцента с антропологии на
медицину: антропологическая медицина рассматривается как
прикладная антропология. Это направление получило
значительную известность под другим названием —
психосоматическая медицина (психосоматика).
Проследим отражение некоторых основных идей
философской антропологии в медицине Запада. Одной из
них является идея о принципиальной непостижимости и
неопределимости человека. Она получила широкое
распространение в медико-биологической литературе
Запада. Книга биолога и врача А. Кареля «Человек —
неизвестное существо» переведена на несколько языков.
Человек загадочен и неуловим как в здоровье, так и в
болезни. Историк медицины Г Шиппергес утверждает
«сомнительность основных понятий здоровья и болезни»
(154, 136). По мнению Вейцзекера, «больное — это одно
из понятий, которые совершенно неопределимы, но бла-
113
годаря им только и возможны кое-какие дефиниции»
(167, 8). Действительно, в медицине постоянно
наблюдаются разногласия и идут дискуссии об определении
здоровья и болезни, но сказать, что они «совершенно
неопределимы»— значит слишком сгустить краски,
истолковать трудности познания в угоду агностицизму.
К. Ясперс, который был по профессии врачом и
работал некоторое время в психиатрической клинике,
стремился обосновать идею непознаваемости человека
соображениями врачебной гуманности. Последнюю можно-де
сохранить лишь в том случае, если врач признает
открытость, незавершенность, бесконечность всякого, в том
числе и больного, человека и сохранит по отношению к
нему некую робость. Только при этом условии врач
может допускать возможность выздоровления пациента
даже вопреки всем, казалось бы, категорическим
указаниям науки. «Человек и каждый индивид может быть
спасен — так говорит разум врача и исследователя. При
помощи научных средств никогда нельзя, так сказать,
подвести баланс какого-либо человека. Всякий больной
человек, как и всякий человек, неисчерпаем» (86, 40).
Да, врач должен до конца бороться за вверенную ему
жизнь и сохранять уважение к ней. Но для этого не
надо обращаться к иррационалистическим идеям и
подрывать веру в науку. Ясперс вольно или намеренно не
замечает той простой вещи, что неисчерпаемость относится
к сфере возможностей, что не все возможности могут
осуществиться и что реализация какой-либо одной, пусть
самой неожиданной и маловероятной или даже
нескольких из них, означает исключение остальных и тем самым
известное ограничение неисчерпаемости. Он
односторонне акцентирует исходный пункт, начало с его
неизбежной многозначностью и неясностью, но не учитывает
того, что по мере движения жизни из незнания
возникает знание, каким бы оно ни было — радостным или
печальным. Его рассуждение является, следовательно,
метафизическим и агностическим и не имеет внутренней
связи с требованиями врачебной гуманности.
Одной из основных тем медицинской антропологии
считается человеческое страдание. По-видимому, всякое
обсуждение этой темы связано с трудностями
психологического и даже морального порядка (ощущает ли их
автор или читатель), но, как бы то ни было, ее невозможно
обойти при всеобъемлющем рассмотрении человеческого'
114
бытия: страдание, как и наслаждение, принадлежит к
его глубоким реальным возможностям и проявлениям,
что было отмечено Марксом (см. 2, 592). Телесная боль,
€ которой так часто имеет дело медицина, представляет
собой воплощение, конкретизацию, физическую форму
страдания (имеется в виду сильная, острая боль,
которую приходится переживать при каких-либо
чрезвычайных обстоятельствах, а также хроническая боль при
длительной тяжелой болезни, а не те «сигнальные»,
сообщающие о вредном для организма воздействии болевые
ощущения, которые время от времени испытывает
каждый из нас в повседневной жизни).
Исследование боли — комплексная проблема,
имеющая и философские, социологические, этические аспекты.
Вот некоторые из них: 1) отношение психического и
материального в боли как проявление основного вопроса
философии, 2) диалектика этого отношения и ее
отражение в понятиях, 3) противоречивость значения боли в
жизнедеятельности организма, 4) методологические
проблемы познания боли, 5) индивидуальность и
всеобщность болевых ощущений как проявление диалектики
единичного и общего, 6) отношение к боли как фактор
формирования и свойство личности, признак духовной
и моральной стойкости человека, 7)
социально-историческая обусловленность этого отношения, 8) пределы
способности человека выдержать боль как частный
случай проблемы предела человеческих сил и способностей,
9) связь отношения к боли с пониманием трагического
в философии и эстетике, с проблемами ценности и
смысла жизни, 10) связь отношения к боли с отношением к
смерти, 11) тема телесных страданий в борьбе религии
и атеизма, а также пессимизма и оптимизма, 12)
сходство и различие между человеком и животными в
отношении к боли, 13) диалектика классового и
общечеловеческого в отношении к боли, 14) борьба с болью и
намеренное причинение боли как социально-политические
явления, их оценка. Поскольку рамки настоящей работы
не позволяют подробно исследовать все эти и другие
аспекты, мы ограничимся лишь отдельными замечаниями.
Боль самым убедительным образом свидетельствует
о сложности и относительности единства человеческого
тела и духа. Возникая на основе тех или иных
материальных воздействий и нейрофизиологических механизмов
их «приема», боль в то же время осознается, пережива-
115
ется, фиксируется человеческой психикой, без чего ееу
собственно, нет. Здесь наблюдается тесная взаимосвязь
объективного и субъективного в человеческом существе,
без признания и использования которой научное
исследование боли просто не может обойтись. В советской
медицинской литературе отмечено, что интенсивность,
характер и оценка боли «зависят от субъективного
восприятия и пока еще не поддаются сколько-нибудь
закономерной математической регистрации, по крайней мере
у человека. ...Прямых, точных показателей болевого
ощущения не существует. Не изобретены еще приборы,
оценивающие силу и характер боли» (16, 216—217).
Исследователи, ориентирующиеся на позитивизм,
натурализм, механицизм и все другие мировоззренческие и
методологические установки, исключающие субъект с его
чувствами и переживаниями из сферы науки, резко
ограничивают свои возможности в деле изучения боли и
борьбы с нею. Бывают боли, вызванные не
материальными воздействиями, а сильным волнением, горем и т. п..
Далее, возбуждение и аффекты могут смягчить и даже
заглушить боль, сделать человека на какое-то время
нечувствительным к ней. С другой стороны, длительная и
острая боль, имеющая механическое или органическое
происхождение, способна овладеть сознанием человека,
мыслями и стремлениями своей жертвы, подчинить себе
саму личность, что находит ужасное применение в пытке.
Следовательно, боль показывает единство тела и
духа, но отрицательным образом — выявляя его
относительность, нарушая его и принуждая человека страдать
от этого. То, что боль способна подрывать, расшатывать
это единство, не подлежит сомнению: часто никаким
усилием разума и воли человек не может устранить
преследующее его невыносимое телесное страдание. Этот
факт важен для выяснения общефилософской проблемы
отношения низшего и высшего. Относительной
самостоятельностью обладает не только высшее по сравнению с
низшим, но и последнее по сравнению с первым.
Относительная самостоятельность низшего в сложных
системах, где оно существует во взаимосвязи с высшим
(это можно сказать и о человеке как биосоциальном
существе) , ведет в конце концов к мысли о
предшествовании низшего высшему, о тех формах материи, в которых
низшее существует само по себе, не нуждаясь ни в каком
контроле со стороны высшего. Да и сам характер отно-
116
сительной самостоятельности низшего в сложных
системах говорит о его непреходящем значении в качестве
субстрата для существования и развития высшего. Не
случайно Фейербах полагал, что сознание глубины
телесных страданий неизбежно ведет к материализму (41,
511).
Но наблюдаются и попытки истолковать боль в духе
идеализма и религии. Еще в глубокой древности
возникло представление о том, что боль и болезнь есть
результат действия злых духов либо кара богов, посылаемая
ими человеку за его преступление или кощунство. Сред-
невекозье тоже рассматривало телесное страдание как
знак божьего гнева: в те времена при входе в больницу
имелась исповедальня, а священнику приписывалась
даже более важная роль, чем врачу. Остатки этих
воззрений сохранились до сих пор в некоторых языках, где
«боль» и «наказание» обозначаются одним и тем же
словом. В первой половине прошлого века в Германии
была распространена так называемая романтическая
медицина, которая, исходя из примата души над телом,
видела в телесном страдании последствие принятого на
душу греха. Молодой Энгельс, современник этих
взглядов, остро высмеял их (см. 2, 500—502).
В XX в. религиозную концепцию боли развивает
известный голландский психолог Ф. Бойтендайк. Он очень
близок к философской антропологии, связан
многолетними дружескими отношениями с Г Плесснером,
который посвятил ему одну из своих книг и перевел на
немецкий язык его сочинение «О боли». Бойтендайк
находит, что наше время почти полностью утратило
философский подход к телесному страданию и что причиной
этого является «упадок религиозной жизни» (58, 18).
По его мнению, религия дает наилучшую
мировоззренческую основу для отношения человека к чужой и своей
боли. С другой стороны, боль составляет глубокий
источник религиозных и метафизических умонастроений,
побуждает человека обращать свои думы к
трансцендентному. Даже если причина боли точно установлена,
ее «переживание остается необъяснимым для
обыденного рассудка» (58, 24) и страдающий человек в отчаянии
вопрошает: «Почему все же... эта рана, этот орган, эта
часть тела должна болеть так сильно и так долго?
Почему именно я, именно теперь, именно здесь?» (58, 24). Это
ведет в конце концов «к позитивному вопросу об основе,
117
лежащей по ту сторону всякого опытд» (58, 26). Так
Бойтендайк стремится дать «медико-биологическое
подкрепление» обветшалым теориям трансценденции.
Но его рассуждение отнюдь не доказывает того, что
он хотел бы доказать. Терзаемый болью человек жаждет,
естественно, избавиться от нее, возвратиться к
здоровому, нормальному состоянию. Стало быть, здесь
наблюдается стремление не по ту сторону всякого опыта, а лишь
по ту сторону данного опыта, который наполнен
мучениями. Наконец, нельзя не учитывать возможности
деформации сознания под воздействием невыносимой боли:
самочувствие здорового человека, привычное и даже
незаметное для него, настолько отличается от состояния
страдающего, что может представляться последнему
чем-то потусторонние. Мышление больного не всегда
соответствует требованиям логики и при всем уважении к
его личности должно оцениваться, конечно, критически.
Ни холодное «сверхчеловековское» пренебрежение к
боли, свойственное в особенности идеологии фашизма и
ведущее к омерзительному садистскому стремлению
причинять боль другим, ни панический страх и трепет перед
всякой болью, ни инспирируемое позитивизмом и
механицизмом исключение боли как субъективного состояния
из круга вопроссв «строгой науки», ни
религиозно-идеалистическое понимание боли не отвечают тем
требованиям, которые вытекают из столь важной и серьезной
проблемы. Эти позиции при всех различиях между ними
имеют, по крайней мере, то общее, что они далеки от
подлинного гуманизма. Они являются
антигуманистическими (фашизм) либо псевдогуманистическими
(религия) Человечность требует признать боль как
закономерное естественное явление, которое мы разделяем с
животными как особую форму «платы за жизнь»,
признать ту или иную подверженность нашего существа боли,
которая может иметь для индивидуальной жизни
трагические последствия, но не ограничиться констатацией
положения вещей, а вести борьбу с болью, используя все
духовные и материальные средства, в том числе,
разумеется, и те, которые дает медицинская наука.
Хотя боль роднит человека с животными, он
качественно отличается от них своим отношением к ней,
которое обусловлено его социальной сущностью.
Игнорирование или непонимание последней препятствует
глубокому и разностороннему познанию этого различия между
118
человеком и животными. Например, швейцарский зоолог
Г Хедигер видит различие в том, что, во-первых, человек
знает о смерти и, доведенный невыносимой болью до
последней грани отчаяния, может покончить с собой, а
животное— нет, и, во-вторых, человек способен думать о
том, что его ожидает, а животное ничего не знает о
будущем (78, 86). Но обе черты данного различия вытекают
из социальной сущности человека, а не из его
абстрактной антропологической природы, которую приписывают
ему буржуазные мыслители.
Так, знание о смерти могло возникнуть, на наш
взгляд, только в условиях общественной жизни, которая,
при всей своей неразвитости на ранних этапах истории,
все-таки побуждала ценить индивидуальную
человеческую жизнь и размышлять о факте ее прекращения.
Далее, эти две черты не исчерпывают данного различия:
человек отличается от животных и способностью
превозмогать, подавлять, скрывать свою боль, способностью,
которая могла развиваться опять-таки лишь в социальной
жизни (например, у некоторых племен наблюдается
испытание болью как проверка зрелости и мужества,
поскольку умение превозмогать боль являлось, вероятно,
очень ценным в суровых и трудных условиях
существования первобытных людей). И вряд ли нужно
доказывать, что принимаемые человеком и неизвестные у
животных меры борьбы с болью являются продуктом
общественной жизни уже потому, что они предполагают
ту или иную систему здравоохранения или хотя бы
традиции народной медицины.
Коснемся, далее, тех проблем и дискуссий, которые
связаны с психосоматической медициной (в порядке
дополнения того, что уже сказано об этом в марксистских
работах по философским вопросам медицины, в том
числе и тех, которые названы в начале параграфа). Эти
проблемы, собственно, уже имелись в виду, когда отмечалось
возникновение телесной боли вследствие душевных
волнений и переживаний либо ее притупление и даже
исчезновение в силу аффекта, экстаза и т. п., a t другой
стороны, ее влияние на психику, на личность в целом. Это
лишь частный случай обширного комплекса вопросов,
постановка и обсуждение которых имеют длительную
историю.
Глубокое взаимовлияние души и тела было замечено
еще в древности и с тех пор подчеркивалось многократ-
119
но. Напомним латинское изречение «В здоровом теле
здоровый дух», а также наблюдение того, что у
победителей раны зажизают быстрее. Из произведений
искусства можно назвать в этой связи известную оперу
П. И. Чайковского «Иоланта». Однако во второй
половине XIX в. роль психики в возникновении и лечении
болезней сильно недооценивалась. Медики того времени
интенсивно исследовали анатомию и физиологию
человека в норме и патологии, разрабатывали конкретные
естественнонаучные методы терапии.
Конечно, было бы верхом нелепости осуждать это.
Но одностороннее увлечение тем, что поддается
непосредственному сравнению, физическому и математическому
измерению, химическому анализу, подкрепленное
натурализмом, эмпиризмом, механицизмом, приводило к
забвению духовных факторов, к их элиминации из научной
медицины. Установилось засилье анатомии, и болезнью
считалось лишь то, что связано с эмпирически
констатируемым нарушением формы и структуры. Это мешало
врачам понимать всю опасность и серьезность — и
уделять должное внимание лечению — тех болезней, при
которых не удается обнаружить никаких анатомических
нарушений. Столь крупные изъяны врачевания не могли
долго оставаться незамеченными, и возникло
противодействие этой концепции, которое, как часто бывает в
подобных случаях, пошло слишком далеко. Эта реакция
на недостатки тогдашней медицины и получила название
психосоматики.
Однако было бы очень неполно и упрощенно
объяснять возникновение психосоматики лишь обнаружением
пробелов в арсенале медицины и не всегда продуманным
и удачным заполнением их. Последнее сочеталось с
резкой критикой в адрес естественнонаучного материализма,
глубоко укоренившегося во врачебном мышлении, а
затем и всякого материализма, часто было лишь поводом
для такой критики. Психосоматика могла получить
распространение и влияние лишь в условиях нашествия
антинаучных, религиозных, идеалистических, иррациона-
листических идей, в условиях всеобщего духовного
кризиса капитализма. Отражение этого можно найти даже
в зарубежных немарксистских работах по философским
вопросам медицины. Так, в одной из них отмечается, что
«обвинения, которые теперь выдвигают против
«школьной науки» (в данном случае против традиционной
120
медицины с ее материалистическим духом. — Я. /С.),
лишь в незначительной мере .находят свое основание в
чисто профессиональной области, а свой главный
источник имеют в мировоззрении, во внутренних движущих
силах всего процесса превращения» (109, 59). То, что
обозначено здесь нейтральным термином «процесс
превращения», представляет собой разрыв буржуазной
идеологии с традициями классики, с рационализмом и
духом научности, переход к различным формам
иррационализма.
На какие факты пытается опереться психосоматика?
Известно, что соматические (телесные) болезни могут
иметь психогенное происхождение, т. е. вызываться теми
или иными психическими явлениями: большим личным
горем, различными волнениями и тревогами и т. д. Это
особенно относится к таким болезням, как язва желудка,
бронхиальная астма, базедова болезнь и некоторые
другие. Душевные болезни, конечно, тоже могут возникать
психогенным путем. Обобщая эти явления психогении,
представители медицинской антропологии делают
неправомерный вывод, имеющий у них значение программного
принципа и гласящий, что все болезни вызываются в
конечном счете духовными факторами. Признание
психогении и психогенного обострения некоторых болезней —
это отнюдь не психосоматика, хотя такое
расширительное толкование данного термина встречается нередко.
Психосоматика представляет собой концепцию, согласно
которой всякая болезнь, все болезни имеют психогенное
происхождение.
Эта концепция является несомненно идеалистической,
что не составляет секрета и для многих ученых-медиков
Запада. Один из них отмечает, что в ее основе лежит
«убеждение в примате психического» (56, 9).
Психосоматика проникнута мыслью о том, что душа есть
«господствующий принцип человеческого бытия», «творец
нашего тела»,, а последнее есть «творение нашей души»,
что «подлинно действительное в нашем человеческом
бытии — душа; тело — лишь символ нашей души, и
больше ничего» (56, 112). С подобными идеями мы
сталкивались раньше, анализируя взгляды некоторых антрополо-
гистов, например Хенгстенберга.
В применении к патологии эти идеи означают, что
всякая болезнь есть проявление каких-либо душевных
нарушений, расстройств, конфликтов. Поскольку примат
121
принадлежит душе и, следовательно, ее надо спасать в
первую очередь, приходит в движение некий скрытый
механизм, который как бы переключает опасность с души
на тело, трансформирует моральное, душевное страдание
в телесное; тело приносится в жертву душе. Это
понимание болезни кратко выражено в словах Вейцзекера,
которые стали, можно сказать, общим местом в сочинениях
психосоматиков: «...всякая болезнь имеет некий смысл»,
т. е. указывает на какое-то неблагополучие в духовном
мире индивида. Отсюда ясно, какую важную роль они
придают исследованию психики и всей структуры
человеческого существа как телесно-духовного образования.
По словам одного из них, «только антропология
(имеется в виду философская антропология. — П. К.) может
дать нам доступ к феномену человеческой болезни»
(87,16).
Подчеркивание примата психики отнюдь не значит,
что в основу кладется сознательное, разумное начало:
психика изображается как владение мощных
бессознательных импульсов, живущих где-то в глубине, под
поверхностью логического мышления. При этом
психосоматики, подобно антропологистам, например Гелену,
преувеличивают роль вегетативной нервной системы,
превращают ее из посредницы между бессознательным
и сознательным в повелительницу последнего. Так,
видный психосоматик М. Босс утверждает «превосходство
инстинктов над сознательной деятельностью рассудка»
(53, 13) Здесь обнаруживается общая иррационалисти*
ческая подоплека психосоматики и философской
антропологии.
Одно из современных изложений психосоматической
теории дал западногерманский медик А. Иорес. По его
мнению, человек бессознательно совершает «бегство в
болезнь», рассчитывает на «выигрыш путем болезни» (87,
128). Душа «неумолимо ведет человека к наивысшему
развитию» (87, 128), пусть даже через мучительную,
хроническую, неизлечимую болезнь. В жизни бывают
ситуации, в которых «наивысшее развитие» возможно
только путем болезни. Их ярким примером Иорес
считает астму. При этой болезни человек чувствует себя очень
одиноким и беззащитным, испытывает мучительный
страх, и это вызывает у окружающих заботу, жалость и
любовь к нему. Так путем болезни человек обретает то,
что иначе было бы для него недоступно. Он не поража-
122
ется болезнью, не подвергается ей, а «делает» ее для се*
бя (87, 129).
Болезнь есть акт саморазрушения, который
совершается главным образом, хотя и не всегда (здесь Иорес
упоминает об инфекционных болезнях), в тех условиях,
при которых жизнь почему-либо не имеет больше
возможностей для саморазвития (sieh: 87, 140). Заканчивая
изложение своей концепции, Иорес обращает взоры к
религии, видя в ней основную союзницу и даже
руководительницу антропологической медицины, и выражает
надежду на формирование «нового человека», который,
«как это и было прежде, сознательно включит себя в
установленный богом порядок...» (87, 167).
Но, пожалуй, еще более далеко идущие выводы
сделал из посылок психосоматики Г Мюллер-Экхард. Он
видит в соматической болезни форму защиты от «еще
худшего», т. е. от психического расстройства (116, 290—
291) Организм как бы делает выбор и предпочитает
телесное страдание психозу или неврозу. Стратегия и
тактика этого выбора глубоко скрыты в таинственной
лаборатории тела и, по существу, недоступны для
рационального мышления (sieh: 116, 292). Приход болезни
в жизнь индивида — не зло, не вторжение стихийных
враждебных сил, а сущее достижение. «Мы понимаем
под способностью быть больным в конце концов
бытийное достиоюение человека. Это, может быть, самое
человечное, важное и необходимое достижение, какое только
существует» (116,293).
Есть люди, которые смутно или ясно сознают
«преимущества болезни», завидуют больным, сами хотят
заболеть, а когда, наконец, заболеют, боятся выздороветь
(116, 291—293). Если же такие люди, вопреки своему
желанию, не заболевают, то это должно
рассматриваться как болезнь — по выражению Мюллера-Экхарда,
«болезнь, состоящая в неспособности быть больным»
(Krankheit, nicht krank sein zu können). В соматической
болезни человек дает выход, разрядку своему
внутреннему конфликту, душевному напряжению и т. п., и,
оперативно излечивая его при помощи новейших
эффективных средств, медицина часто оказывает ему плохую
услугу. В своей статье Мюллер-Экхард дважды цитирует
слова Вейцзекера: «Цель медицины — не в том, чтобы
делать кого-либо здоровым». Предотвращая или быстро
побеждая соматическую болезнь, естественнонаучная ме-
123
дицина лишь приближает и часто действительно
приводит человека к психозу (116, 302—303).
Впрочем, если человек, нуждающийся в разрядке
своего душевного конфликта, не может заболеть
органической болезнью, то еще, так сказать, не все потеряно,
ибо сохраняется шанс подвергнуться несчастному
случаю. Человек намеренно или бессознательно навлекает
на себя несчастный случай, последствия которого
эквивалентны болезни. Мюллер-Экхард не одинок в таком
понимании несчастных случаев. Создан даже
специальный термин для его обозначения (Unfall-Anfälligkeit,
предрасположение к несчастному случаю). М. Босс
пишет, что «завсегдатаи» хирургических клиник, с
которыми слишком часто происходят несчастные случаи, — это
люди, стоящие в резкой оппозиции к той социальной
среде, в которой они вынуждены жить. Будучи неспособны
по тем или иным причинам освободиться от этой среды,
разрушить ее оковы, они как бы перемещают свое
недовольство на собственное тело и разрушают его, по
крайней мере, частично, путем несчастных случаев (54,
1171). Что касается Мюллера-Экхарда, то он вообще
отрицает реальность несчастных случаев, которые
вторгаются в человеческую жизнь сами собой, неожиданно и
резко, словно незваные гости и совершенно не входят ни
в какие планы и расчеты. По его мнению, «случайных
несчастных случаев не бывает» (116, 292).
Справедливости ради надо отметить, что эти взгляды
подверглись критике даже со стороны некоторых
медиков Запада (sieh: 160, 25—26; 109, 20; 56, 81—84, 101 —
102). Они подчеркивают, что не все болезни имеют
психогенное происхождение (таковы, например,
наследственные болезни). Вопрос о пределах психогении
является в этой дискуссии решающим и, пожалуй, наиболее
трудным для психосоматиков, подобно вопросу о
реальности других людей и вообще внешнего мира для
субъективных идеалистов. Психосоматики подходят к нему
по-разному. Одни, в том числе А. Иорес, вынуждены
признать непсихогенный характер некоторых болезней и
тем самым отступить от основных принципов этого
направления. Другие (Г Мюллер-Экхард) стремятся, по
существу, обойти этот вопрос, многозначительно заявляя,
что всякое страдание есть тайна, требующая
благоговения и не допускающая никакой «абсолютизации» (116,
306), следовательно, они пытаются заслониться от кри-
124
тики обветшалыми доспехами агностицизма и
релятивизма. Оба приема обнаруживают лишь слабость и
надуманность психосоматики как неправомерно широкого
обобщения.
Далее, критики указывают, что одни и те же болезни
могут быть вызваны то психическими, то соматическими
или, говоря более широко, материальными причинами
либо теми и другими одновременно, что психогенные
факторы приводят к патологическим изменениям чаще
всего тогда, когда они находят для себя благоприятные
условия в индивидуальной конституции своей жертвы,
сочетаются с органической слабостью,
предрасположенностью к той или иной болезни. Привлекаются, конечно,
примеры соматогении психических расстройств: в
частности, длительный голод, как и боль, может вызывать
глубокие необратимые нарушения психики, вплоть до
полной деформации личности. Отсюда делается вывод,
что не следует понимать всякое заболевание как символ
некой психологической драмы или трагедии, что,
вопреки Вейцзекеру, многие болезни «не имеют смысла».
Уточним, что отрицание «смысла» болезни не есть
отрицание того, что она возникает в силу определенных
причин, протекает в определенных условиях, содержит
закономерные черты и т. п. Болезнь может иметь
совершенно конкретную причину и в то же время быть
бессмысленной в том отношении, что она ни в коей мере не
соответствует, более того, она противоречит нуждам,
интересам, жизненным планам индивида.
К критике крайностей психосоматического
направления, которая дана в литературе Запада, можно добавить,
что было бы недопустимо даже с точки зрения самых
простых норм нравственности и человечности создавать
эдакий культ болезни, считать болезнь панацеей от всех
бед, к чему склонны некоторые психосоматики, особенно
Мюллер-Экхард. Он, конечно, прав, отмечая, что есть
люди, желающие заболеть, дабы извлечь из этого выгоду
для -себя. Но разве не является «бегство в болезнь»
капитуляцией перед сложными проблемами жизни, а
иногда и попыткой отказаться вообще от всех обязанностей,
налагаемых высоким званием человека? Не роняет ли
человек тем самым свое достоинство? Ни рассмотрение
болезни как наказания за грехи («романтическая
медицина»), ни благоговение перед-ней как тайной и
достижением не могут быть приняты в качестве философско-
125
этической основы деятельности врача, который хотел бы
действительно соответствовать своей высокой миссии.
Болезнь есть «жизнь, стесненная в своей свободе»
(К. Маркс), и долг медицины — защитницы и
покровительницы жизни — состоит в том, чтобы преодолевать
это стеснение. Если ценность такого неизмеримого
блага, как здоровье, ставится под сомнение, то это говорит
лишь о кризисе тех теорий и тех социальных условий, в
которых могли быть высказаны подобные взгляды.
Т. Манн был прав, отвергнув устами Сеттембрини —
одного из героев известного романа «Волшебная гора»,
мысль о некоем духовном превосходстве болезни над
здоровьем. Даже такой философ, как Ясперс, на наш
взгляд довольно близкий к психосоматике, на основании
своего собственного опыта делает заключение:
«Удивительно, какая любовь к здоровью развивается в
состоянии болезни...» (86, 26).
Далее, верно то, что человек может навлечь на себя
несчастный случай, но, опять-таки, разве это
нравственно допустимый и достойный ответ на трудные вопросы
жизни? Мы не говорим сейчас о тех особых ситуациях, в
которых подобные вещи позволительны и даже
необходимы, когда, например, человек жертвует собой ради
спасения других. Вместо того чтобы искать несчастный
случай, не лучше ли направить свои силы на устранение
тех причин и преобразование тех социальных порядков,
в которых человеку остается проявлять свою личность
лишь таким нелепым образом?
Кроме того, явно ошибочно мнение, согласно
которому всякий несчастный случай происходит, так сказать,
лишь с согласия своей жертвы. Мюллер-Экхард прямо
утверждает, что понятие случая вообще неприменимо к
человеческой жизни, «ибо только материя пребывает в
хаосе случайностей» (116, 307). Тем самым он
дополняет афоризм Вейцзекера «всякая болезнь имеет смысл»
положением о том, что «всякий несчастный случай имеет
смысл». При этом он делает двойную ошибку: отсутствие
разума в природе отнюдь не тождественно «хаосу
случайностей», а осознание случая, происшедшего с
человеком, установление его причин и последствий вовсе не
значит, что он «имеет смысл».
Мюллер-Экхард восклицает: «...нет ничего в
человеке, что не было бы историей и не имело бы смысла!»
(116, 307). Но несчастный случай происходит не в чело-
126
веке, а с человеком! Это уточнение имеет не только
лингвистическое, но и философское значение: несчастный
случай может быть охарактеризован как один из путей,
посредством которых человек осознает всю весомость,
всю мощь объективного, его независимость от мира
мыслей и чувств. Положение о том, что человек сам
планирует и устраивает для себя несчастный случай, является,
стало быть, идеалистическим, направлено к тому, чтобы
исключить из человеческой жизни внешний мир.
Разумеется, жертва несчастного случая ведет себя так или
иначе в зависимости от своего мировоззрения и
характера, на один и тот же случай разные люди реагируют по-
разному, и, тем не менее, он вторгается в их жизнь как
нечто стихийное и непредвиденное. Имеет смысл лишь
отношение личности к обрушившемуся на нее
несчастному случаю, а -сам он не имеет смысла, просто не нужен,
хотя он происходит, конечно, не без причины.
Несчастный случай и нелепость, бессмысленность — понятия од-
нопорядковые. Там, где он влечет за собой
патологическое изменение, медицина должна лечить это последнее,
а не предаваться «углубленным размышлениям» о
скрытом смысле случая.
Тяжкие пороки психосоматической теории имели
последствием то, что она, несмотря на весь поднятый ею
шум, никогда не была «владычицей умов» врачей Запада;
в настоящее же время она заметно теряет свое влияние,
что признают даже некоторые ее сторонники и
доброжелатели (sieh: 87, 18; 114, 12).
Отметим еще раз, что факты психогении
соматических болезней действительно наблюдаются, и было бы
нелепо отрицать или игнорировать их. Столь же ясно и
то, что они подлежат конкретному исследованию, в том
числе и медицинскому (см. в этой связи 36). Но
психосоматики, движимые ошибочными философскими идеями,
явно поспешили с обобщением этих фактов, сделали из
них слишком широкие выводы, объявили вообще всякую
болезнь проистекающей из духовного источника.
Утверждая непознаваемость человека, необходимость
религии в вопросах отношения к телесным страданиям,
символический характер и загадочный смысл всякой
болезни, психосоматика прямо смыкается с реакционными
антинаучными идеями современной буржуазной
философии. Лучшей альтернативой психосоматике является
советская, а говоря более широко, опирающаяся на
127
принципы марксистско-ленинской философии
медицинская наука, в частности такие ее отрасли, как
психотерапия, медицинская психология, социальная гигиена и
другие, активно и плодотворно разрабатывающие
проблемы, получившие искаженное отражение в медицине
Запада.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Маркс К-, Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., Госпо-
литиздат, 1956.
3. Ленин В. И. Полное собрание сочинений.
4. Аверинцев С, Попов Ю., Гальцева Р., Спиркин А.
Философская антропология. — Филос. энциклопедия. М., 1970, т. 5.
5. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Изд-во
Ленинградского ун-та, 1968.
6. Антонович И. И. Современная «философская антропология»
(критический очерк). Минск, Наука и техника, 1970.
7. Банашак М., Форхольцер Й. Человек и власть. Человек в
противоположных общественных системах современности: Пер. с
нем. М., Прогресс, 1973.
8. Бассин Ф. В. Проблема «бессознательного» (о
неосознаваемых формах высшей нервной деятельности). М., Медицина, 1968.
9. Беляев А. Р. Голова профессора Доуэля. — Избр. науч.-фан-
таст. произведения в 2-х т. Киев, 1959, т. 2.
10. Бессонов Б. Н. Идеология духовного подавления. М.,
Мысль, 1971.
11. Буржуазная философия XX века. М., Политиздат, 1974.
12. Григорьян Б. Т. Философия о сущности человека. М.,
Политиздат, 1973.
13. Давидович В. Е., Аболина Р. #. Кто ты, человечество?
Теоретический портрет. ,М., Молодая гвардия, 1975.
14. Историко-философские исследования. Вып. 1. Эволюция
философского антропологизма и кризис буржуазного человековедения.
Свердловск, 1973. Вып. 2. Эволюция философского антропологизма.
Свердловск, 1975.
15. Каган М. С. Человеческая деятельность. (Опыт системного
анализа.) М., Политиздат, 1974.
16. Кассиль Г. Н. Наука о боли. 2-е изд. М., Наука, 1975.
17. Комплексное изучение человека и формирование
всесторонне развитой личности: Тез. докл. Всесоюзной науч. конференции.
Вып. I—VI. М., 1975.
18. Корнеев П. В. Диалектика истинная и «диалектическая
антропология».— Вопр. философии, 1968, № 5.
19. Корнеев Я. В. К критике «культурной антропологии». —
Филос. науки, 1966, № 4.
20. Корнеев П. В. О некоторых представителях современной
«философской антропологии». — Филос. науки, 1968, № 5.
21. Корнеев П. В. Противоречивость биологической природы
человека и современная философская антропология. — В кн.:
Противоречия живой материи и биологической природы человека: Науч.
тр./Рязанский мед. ин-.т им. акад. И. П. Павлова. Рязань, 1975, т. 51.
22. Корнеев П. В. Современная философская антропология
(некоторые проблемы и направления). Изд-во Московского ун-та, 1967.
129
23. Корнеев П. В. Социально-политические аспекты современной
буржуазной философской антропологии. — Филос. науки, 1974, №.6.
24. Корнеев П. В. Факторы развития техники. (К критике
современных буржуазных теорий техники). — В кн.: Философия и
естествознание. Вып. 2. Изд-во Воронежского ун-та, 1968.
25. Корнеев П. В. Философская антропология Макса Шелера и
экзистенциализм. — В кн.: Философия марксизма и экзистенциализм
(очерки критики экзистенциализма). Изд-во Московского ун-та, 1971.
,26. Критика буржуазных концепций научно-технической
революции. М., Мысль, 1976.
27. Леонтьев А. И. Деятельность. Сознание. Личность. М.,
Политиздат, 1975.
28. Любутин К- И. Критика современной философской
антропологии. М., Знание, 1970.
29. Ляликов Д. Шелер. — Филос. энциклопедия. М., 1970, т. 5.
30. Мысливченко А. Г. Человек как предмет философского
познания. М., Мысль, 1972.
31. Материалисты Древней Греции. Собр. текстов Гераклита,
Демокрита и Эпикура. М., Госполитиздат, 1955.
32. Можнягун С. Е. Абстракционизм — разрушение эстетики. М.,
Соцэкгиз, 1961.
33. Общество и здоровье человека/Под ред. проф. Г. И. Ца-
регородцева. М., Медицина, 1973.
34. Ойзерман Т. И. Проблемы историко-философской науки.
М., Мысль, 1969.
35. Проблема ценности в философии. М. — Л., Наука, 1966.
36. Роль психического фактора в происхождении, течении и
лечении соматических болезней: Тезисы докладов. М., 1972.
37. Сержантов В. Ф. Философские проблемы биологии человека.
Л., Наука, 1974.
38. Смирнов Г Л. Советский человек. Формирование
социалистического типа личности. М., Политиздат, 1971.
39. Современная философия и социология в ФРГ (некоторые
направления и проблемы). М., Мысль, 1971.
40. Уэллс Г. Крах психоанализа. От Фрейда к Фромму: Пер. с
англ. М., Прогресс, 1968.
41. Фейербах Л. Избранные филос. произведения. М.,
Госполитиздат, 1955, т. 1.
42. Философские и социально-гигиенические аспекты учения о
здоровье и болезни/Под ред. проф. Г. И. Царегородцева. М.,
Медицина, 1975.
43. Фролов И. Т. Прогресс науки и будущее человека. М.,
Политиздат, 1975.
44. Холличер В. Происхождение человека. Истинные воззрения,
заблуждения, фальсификация. — Природа, 1964, № 5.
45. Холличер ß. Человек в научной картине мира: Пер. с нем.
М., Прогресс, 1971.
46. Холличер В. Человек и агрессия. 3. Фрейд и К. Лоренц в
свете марксизма: Пер. с нем. М., Прогресс, 1975.
47. Хоруц Л. Е. Гносеология и социология познания Макса
Шелера. — Вопр. философии, 1967, № 7.
48. Человек — наука — техника (Опыт марксистского анализа
научно-технической революции.) М., Политиздат, 1973.
130
49. Bassenge F. Drang und Geist. Eine Auseinandersetzung mit
Schelers Anthropologie. — Zeitschrift für philosophische Forschung,
1963, Hf. 3.
50. Das beschädigte Leben. Diagnose und Therapie in einer Welt
unabsehbarer Veränderungen. Ein Symposion. München, R. Piper und
Co. Verlag, 1969.
51. Binswanger L. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze. Bd. 1. Zur
phänomenologischen Anthropologie. Bern, A. Francke A. G. Verlag,
1947.
52. Boclamer I. Der Mann von neute. Seine Gestalt und
Psychologie. Freiburg — Basel — Wien, Herder-Bücherei, 1964.
53. Boss M. Körp erliches Kranksein als Folge seelischer
Gleichgewichtsstörungen. 5. Aufl. Bern und Stuttgart, Verlag Hans Huber, 1956.
54. Boss M. Psychosomatische Störungen und Organneurosen —
Erkenntnisse heutiger Psychotherapie. — Universitas, 1967, Hf. 11.
55. Buber M. The Philosophical Anthropology of Max Scheler. —
Philosophy and phanomenological research, 1945, No. 2.
56. Büchner F. Vom geistigen Standort der modernen Medizin.
Freiburg i. Bi\, Hans Ferdinand Schulz Verlag, 1957.
57. Bühler W. Der Mensch zwischen Ubernatur und Unternatur.
Nürnberg, Verlag Johannes Martin, 1966.
58. Buytendijk F.J.J. Über den Schmerz. Aus dem Holländischen
übersetzt von H. Plessner. Bern, Medizinischer Verlag Hans Huber,
1948.
59. Dahm H. Meuterei auf den Knien. Die Krise des marxistischen
Welt-und Menschenbildes. Ölten und Freiburg i. Br.,
Walter-Verlag, 1969.
60. Dahm И. Zur sowjetischen Rezeption der Phänomenologie
Schelers. — Studies in Soviet thought. Dordrecht, 1971, No. 3.
61. Hucken R. Die Lebensanschauungen der grossen Denker.
Leipzig, Verlag von Veit und Co., 1890.
62. Backen R. Lebenserinnerungen. 2. Aufl. Leipzig, Verlag von
K. F. Koehler, 1922.
63. Fink E. Studien zur Phänomenologie. Den Haag, Martinus
Nijhoff, 1966.
64. Die Frage nach dem Menschen. Aufriss einer philosophischen
Anthropologie. Freiburg — München, Verlag Karl Alber, 1966.
65. Frankl V. E. Die neurotische Lebensproblematik unserer Zeit
von der Psychotherapie gesehen. — Universitas, 1972, Hf. 6.
66. Frings M. Zur Idee des Friedens bei Kant und Max Scheler. —
Kant-Studien, 1975, Hf. 1.
67. Fromm E. Das Menschenbild bei Marx. Frankfurt a. M.,
Europäische Verlagsanstalt, 1963.
68. Gehlen A. Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung
und Selbstentdeckung des Menschen. Hamburg, Rowohlt, 1961.
69. Gehlen A. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der
Welt. Berlin, Junker und Dünnhaupt Verlag, 1944.
70. Gehlen A. Nichtbewusste kulturanthropologische Kategorien-
Zeitschrift für philosophische Forschung, 1950, Hf. 3.
71. Gehlen A. Die Seele im technischen Zeitalter.
Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft. Hamburg, Rowohlt,
1957.
72. Gehlen A. Der Staat und die Philosophie. Leipzig, Felix
Meiner Verlag, 1935.
131
73. Gehlen A. Studien zur Anthropologie und Soziologie. Neuwied
a.R. — Berlin, Luchterhand, 1963.
74. Gehlen A. Über einige Kategorien des entlasteten, zumal des
ästhetischen Verhaltens. — Studium générale, 1950, Hf. 1.
75. Gehlen A. Urmensch, und Spätkultur. Philosophische
Ergebnisse und Aussagen. Bonn, Athenäum-Verlag, 1956.
76. Gehlen A. Zur Systematik der Anthropologie. — In:
Systematische Philosophie/Herausgegeben von N. Hartmann. Stuttgart —
Berlin, W. Kohlhammer Verlag, 1942.
77. H art mann N. Ethik. Berlin, 1926.
78. Hediger H. Das Leiden der Tiere. — Universitas, 1976, Hf. L
79. Heisenberg W. Das Naturbild der heutigen Physik. Hamburg,
Rowohlt, 1955.
80. Heisenberg W. Physik und Philosophie. Frankfurt a.M. —
Berlin, Ullstein, 1959.
81. Hengstenberg H.-E. Mensch und Materie. Zur Problematik
Teilhard de Chardins. Stuttgart — Berlin — Köln — Mainz, W.
Kohlhammer Verlag, 1965.
82. Hengstenberg H.-E. Philosophische Anthropologie. Stuttgart,
W. Kohlhammer Verlag, 1957.
83. Hengstenberg H.-E. Zur Revision des Begriffs der
menschlichen Natur. — Philosophie naturalis, 1973, Hf. 1..
84. Hessen I. Max Scheler. Essen, 1948.
85. Hildebrand W. Der Mensch im Godesberger Programm der
SPD. Bonn, H. Bouvier u. Co. Verlag, 1967.
86. Jaspers К Werk und Wirkung. München, D. Piper & Co.
Verlag, 1963,
87. lores À. Der Mensch, lind seine Krankheit. Gründlagen einef
.anthropologischen Medizin. Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1956.
83. Kahler E. Man the Measure. A New Approach to History.
N.Y., 1943.
. 89. Kiesinger К G. Ideen vom Ganzen. Reden und Betrachtungen.
Tübingen, Reiner Wunderlich Verlag Hermann Leins, 1964.
90. Kiesinger К G. Politik und Geist. — Universitas, 1964, Hf. 8.
91. Knoeringen W. V. Die Zielsetzung politischer Bildung in der
modernen Demokratie. — Die neue Gesellschaft, 1968, Hf. 1.
92. Kofier L. Das Prinzip der Arbeit in der Marxschen und in der
Gehlenschen Anthropologie. — Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung,
Verwaltung und Volkswirtschaft. Berlin, Duncker & Humblot, 1958,
Hf. 1.
93. Köstlin К Sicherheit im Volksleben. München, 1967.
94. Kuhn H. Das Sein und das Gute. München, Kösel-Verlag
1962.
95. Kühn H. Persönlichkeit und Gemeinschaft. Berlin, Duncker
<& Humblot, 1959. 1 ^ 1 „^ j
56. Landmann M. Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der
Kultur. Geschichts-und Sozialanthropologie. München — Basel, Ernst
•Reinhardt Verlag, 1961.
'9.7. Landmann M. Philosophische Anthropologie. Menschliche
Selbst deutung in Geschichte und Gegenwart. Berlin, Walter de Gruy-
ter & Co., 1964.
98. Lenk К Schopenhauer und Scheler. — XXVII. Schopenhauer-
Jahrbuch, 1956.
99. Leonhard К Biologische Psychologie. Leipzig, Johann Amb-
rosius Barth Verlag, 1962.
132
100. hersch Ph. Das Bild des Menschen in der Sicht der
Gegenwart. — Universitas, 1958, Hf. 1.
101. Linfert C. Philosophie des Ewigen und des Flüchtigen in
unserer Zeit. — Das Lebenswerk Max Schelers. — Universitas, 1964,
Hf. 3.
102. Litt Th. Mensch und Welt. Grundlinien einer Philosophie des
Geistes. 2. Aufl. Heidelberg, Quelle & Meyer, 1961.
103. Litt Th. Philosophische Anthropologie und moderne Physik.—
Studium générale, 1956, Hf. 7.
104. Löther R. Philosophische Anthropologie und psychologische
Kriegsführung. — Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1960, Hf. 3.
105. Lützeler И. Der Philosoph Max Scheler. Bonn, H. Bouvier u.
Co. Verlag, 1947.
106. Mach E. Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der
Forschung. Leipzig, Barth, 1905.
107. Mahn A. Über die philosophische Anthropologie von Arnold
Gehlen; Gehlen A. Stellungnahme zu den Hauptsachen; Mahn A.
Schlusswort. — Zeitschrift für philosophische Forschung, 1951, Hf. I.
108. Max Scheler (1874—1928). Centennial Essays/Ed. by
M. Frings. The Hague, Nyhof, 1974.
109. May E. Heilen und Denken. Berlin, Dr. Georg Lüttke Verlag,
3956.
110. Mayer I. Marxistische Philosophie und sozialistisches
Menschenbild. — Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1969, Hf. 6.
111. Menscheniührung/Herausgegeben von Dr. Harald Petri.
Lüneburg, Metta Kinau Verlag, 1955.
. 112. Menschliche Existenz und moderne Welt. Ein internationales
Symposium zum Selbstverständnis des heutigen Menschen. Teil I.
Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1967.
113. Metzger A. Die Frage nach dem Menschen in der Philosophie
unserer Zeit von Husserl bis Heidegger und Sartre. — Universitas,
1972, Hf. I.
114. Meyer H.-H. Psychiatrie und ihre Probleme in der modernen
Gesellschaft. — Universitas, 1968, Hf. I.
115. Mönch W. Deutsche Kultur von der Aufklärung bis zur
Gegenwart Ereignisse — Gestalten — Strömungen. München, Max Hueber
Verlag, 1962.
116. Müller-Eckhard H. Die Krankheit, nicht krank sein zu
können. — Psyche, 1951, Hf. 5.
117. Neuhaus W Der Mensch als Glied der belebten Natur.—
Universitas, 1967, Hf. 8.
118. Neumann E. Das Bild des Menschen in Krise und Erneuerung.
Eranos-Jahrbuch. Die Erneuerung des Menschen. Zürich, Rhein-
Verlag, 1960, Bd. XXVIII.
119. Petrovic G. Marxism versus Stalinism. — Praxis, Zagreb,
1967, No. I.
120. Plessner H. Die Frage nach dem Wesen des Menschen. Der
■Ruf nach philosophischer Anthropologie. — Universitas, 1968, Hf. 6.
121. Plessner H. Immer noch Philosophische Anthropologie? —
Zeugnisse. Theodor W. Adorno zum 60. Geburtstag/Herausgegeben
von Max Horkheimer. Frankfurta. M., Europäische Verlagsanstalt,
1963.
122. Plessner H. Lachen und Weinen. Eine Untersuchung nach den
Grenzen menschlichen Verhaltens. Arnhem, Slaterus, 1941.
133
123. Plessner H. Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur
Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht. Berlin, 1931.
124. Plessner H. Die Stufen des Organischen und der Mensch.
Einleitung in die philosophische Anthropologie. Berlin — Leipzig,
Walter de Gruyter, 1928.
125. Plessner H. Die verspätete Nation. Über die politische Ver-
führbarkeit bürgerlichen Geistes. 3. Aufl. Stuttgart, W. Kohlhammer
Verlag, 1962.
126. Politische Erziehung als psychologisches Problem. Bericht
über eine Tagung.. Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1966.
127. Portmann A. Biologie und Geist. Zürich, Rhein-Verlag,
1956.
128. Portmann A. Der biologische Beitrag zu einem neuen Bild
des Menschen. — In: Eranos-Jahrbuch. Zürich, Rhein-Verlag, 1960,
Bd. XXVIII.
129. Portmann A. Der Mensch ein Mängelwesen? Heutiges
Menschenbild, Forschung und technisches Zeitalter. — Universitas, 1968,
Hf. 9.
130. Portmann A. Menschliche Lebensgestaltung und
Wirklichkeitserfahrung im Zeitalter der Technik und Weltraumfahrt. —
Universitas, 1969, Hf. 6.
131. Portmann A. Die Ontogenese des Menschen als Problem der
Evolutionsforschung. — Universitas, 1967, Hf. 7.
132. Portmann A. Orientierung und Weltbeziehung von Tieren —
neue Erkenntnisse biologischer Forschung. — Universitas, 1965, Hf. 12.
133. Port mann A. Das Tier als soziales Wesen. Zürich, Rhein —
Verlag, 1962.
134. Portmann A. Umzüchtung des Menschen? Aspekte heutiger
Biotechnik. — Universitas, 1966, Hf. 8/
135. Portmann A. Vom Sinn und Auftrag der Eranos-Tagungen.—
Eranos-Jahrbuch. Zürich, Rhein-Verlag, 1962, Bd. XXX.
136. Portmann A. Wir sind unterwegs. Der Mensch in seiner Unv
weit. Ölten und Freiburg i. Bi\, Walter — Verlag, 1973.
137. Portmann A. Zoologie und das neue Bild des Menschen.
Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen. Basel, Rowohlt,
1951.
138. Prucha M. Marxismus als Philosophie menschlicher
Existenz. — Neues Forum. Internationale Zeitschrift für den Dialog. Wien».
1967, Hf. 167—168.
139. Schaff A. Marx oder Sartre? Versuch einer Philosophie des
Menschen. Wien, Europa Verlag, 1964.
140. Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale
Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen
Personalismus. Gesammelte Werke. Bern, Francke-Verlag, 1954, Bd. 2.
141. Scheler M. Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg.
Leipzig, Verlag der weissen Bücher, 1915.
142. Scheler M. Die Idee des Friedens und der Pazifismus.
Berlin, Der neue Geist Verlag, 1931.
143. Scheler M. Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs. — In:
Ausgleich als Aufgabe und Schicksal. Berlin, 1929.
144. Scheler M. Mensch und Geschichte. Zürich, Verlag der Neuen
Schweizer Rundschau, 1929.
145. Scheler M. Phänomenologie und Erkenntnistheorie.
Gesammelte Werke. Bern, Francke-Verlag, 1957, Bd. 10.
134
146. Scheler M. Philosophische Weltanschauung. Bonn, Verlag
von Friedrich Gohen, 1929.
147. Scheler M. Die Stellung des Menschen im Kosmos.
Darmstadt, Otto Reichl Verlag, 1928.
148. Schelèr M. Die transzendentale und psychologische Methode,
Leipzig, 1900.
149. Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. Leipzig, 1917.
150. Scheler M. Über Scham und Schamgefühl. Gesammelte
Werke. Bern, Francke-Verlag, 1957, Bd. 10.
151. Scheler M. Vom Ewigen im Menschen. Leipzig, Verlag der
Neue Geist, 1921, Bd. I.
152. Scheler M. Wesen und Formen der Sympathie. Bonn, Verlag
von Friedrich Cohen, 1926.
153. Scheler M. Zur Idee des Menschen. — Gesammelte Werke.
Bern. Francke-Verlag, 1955, Bd. 3.
154. Schipperges H. Porträt des Kranken und der Krankheit in
Medizin und Philosophie. — Universitas, 1975, Hf. 2.
155. Schlechta K. Das Menschenbild des technischen Zeitalters in
philosophischer Sicht. — Universitas, 1969, Hf. I.
156. Schubart W. Russische Züge in der Philosophie Max Sche-
lers. — Kyrios, Vierteljahresschrift für Kirchem — und
Geistesgeschichte Osteuropas, 1937, Hf. 3.
157. Spader P. A New Look at Scheler's third Period. —The
Modern Schoolman, 1974, No. 2.
158. Supek R. Der technokratische Scientismus und der
sozialistische Humanismus. — Praxis, 1967, No. 2.
159. Thurnwald R. Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-
soziologischen Grundlagen. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter
& Co. 1931, Bd. 1.
160. Uexküll Th. V. Grundfragen der psychosomatischen Medizin.
Hamburg, Rowohlt, 1963.
161. Vorformen der Zukunft. Der wachsende Mensch. München —
Basel, Ernst Reinhardt Verlag, 1966.
162. Vranicki P. Zum Thema der Befreiung des Menschen.—
Praxis, Zagreb, 1967, No. 1.
163. Wein H. Kentaurische Philosophie. München. Piper, 1968.
164. Weischedel W. Das heutige Denken zwischen Raum und
Zeit. — Universitas, 1967, Hf. 12.
165. Weischedel W. Die Philosophie an der Schwelle des
Atomzeitalters. — Neue deutsche Hefte, 1965, No. 108.
166. Weischedel W. Wirklichkeit und Wirklichkeiten. Aufsätze und
Vorträge. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1960.
167. Weizsäcker V. v. Pathosophie. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht. 1956.
168. Westphalen F. Gedanken zum Problem einer gesellschaftlichen
Ordnung nach dem Masse des Menschen. — In: Festschrift Walter
Heinrich. Graz. Akademische Druck —und Verlagsanstalt, 1963.
169. Wirklichkeit der Mitte: Beiträge zu einer
Strukturanthropologie. Freiburg — Müncen, Alber, 1968.
170. Zuckerkandl V. Die Wahrheit des Traumes und der Traum
der Wahrheit. — Eranos-Jahrbuch. Zürich, Rhein-Verlag, 1964,
Bd. XXXII.
135
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
Глава 1. Теоретические и социальные истоки современной
философской антропологии 6
§ 1. Человек стал «проблематичным» для себя самого б
§ 2. Социальная природа философской антропологии 19
§ 3. Философская антропология и современная
научно-техническая революция * 33
§ 4. Философская антропология и ревизионизм 44
Глава 2. Учение М. Шелера о человеке — исходный пункт
современной философской антропологии 50
§ 1. Дуализм «порыва» и «духа» в теории Шелера 50
§ 2. Социально-политические взгляды Шелера и современность 73
Глава 3. Деятельность — признак слабости? (антропология
А. Гелена) 84
Глава 4. Биологическая и медицинская антропология 97
§ 1. А. Портман и кружок «Эранос» 97
§ 2. Медицинская антропология 112
Библиография . . . 129
Петр Владимирович Корнеев
КРИТИКА СОВРЕМЕННЫХ БУРЖУАЗНЫХ
И РЕВИЗИОНИСТСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ЧЕЛОВЕКА