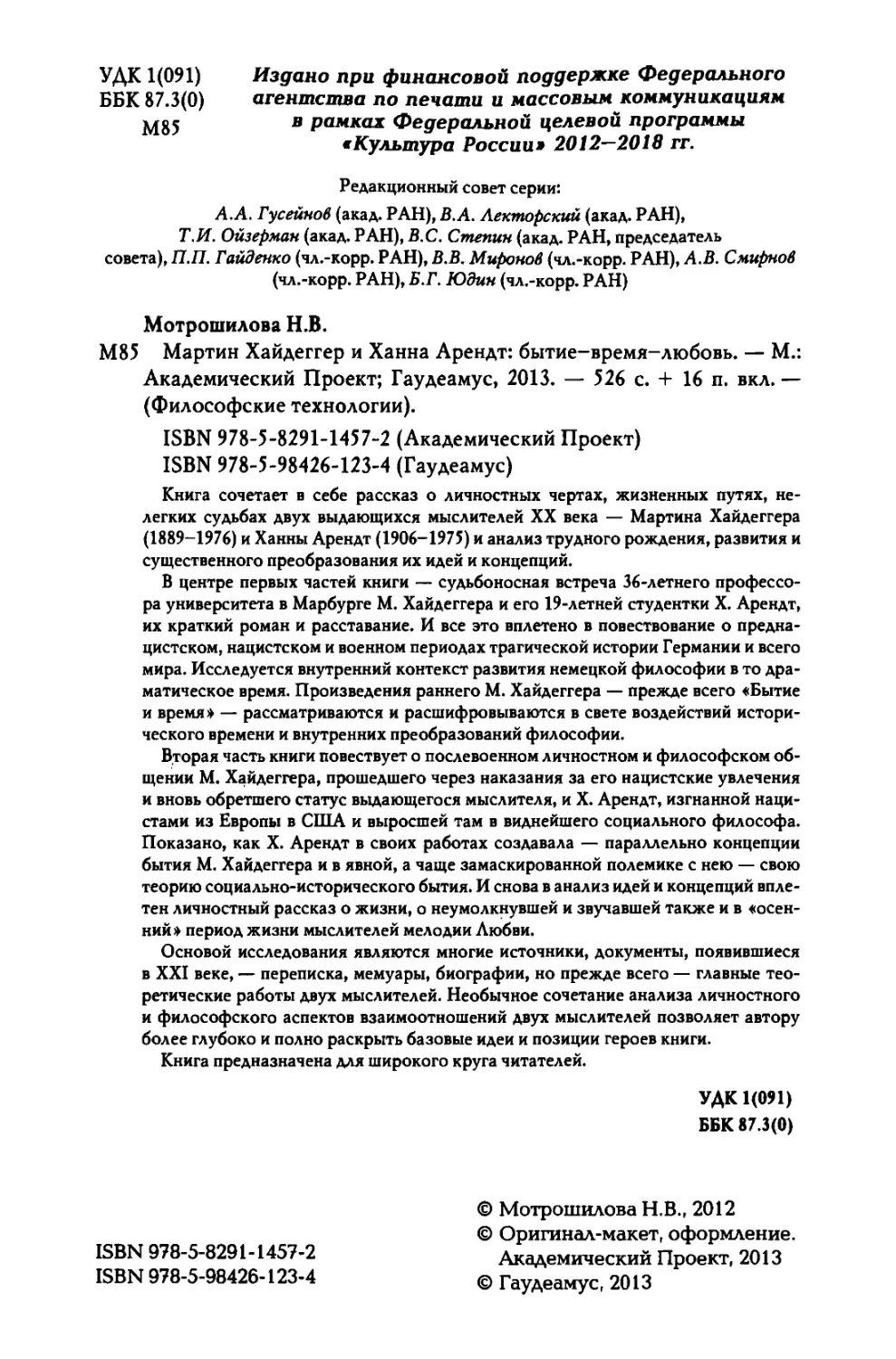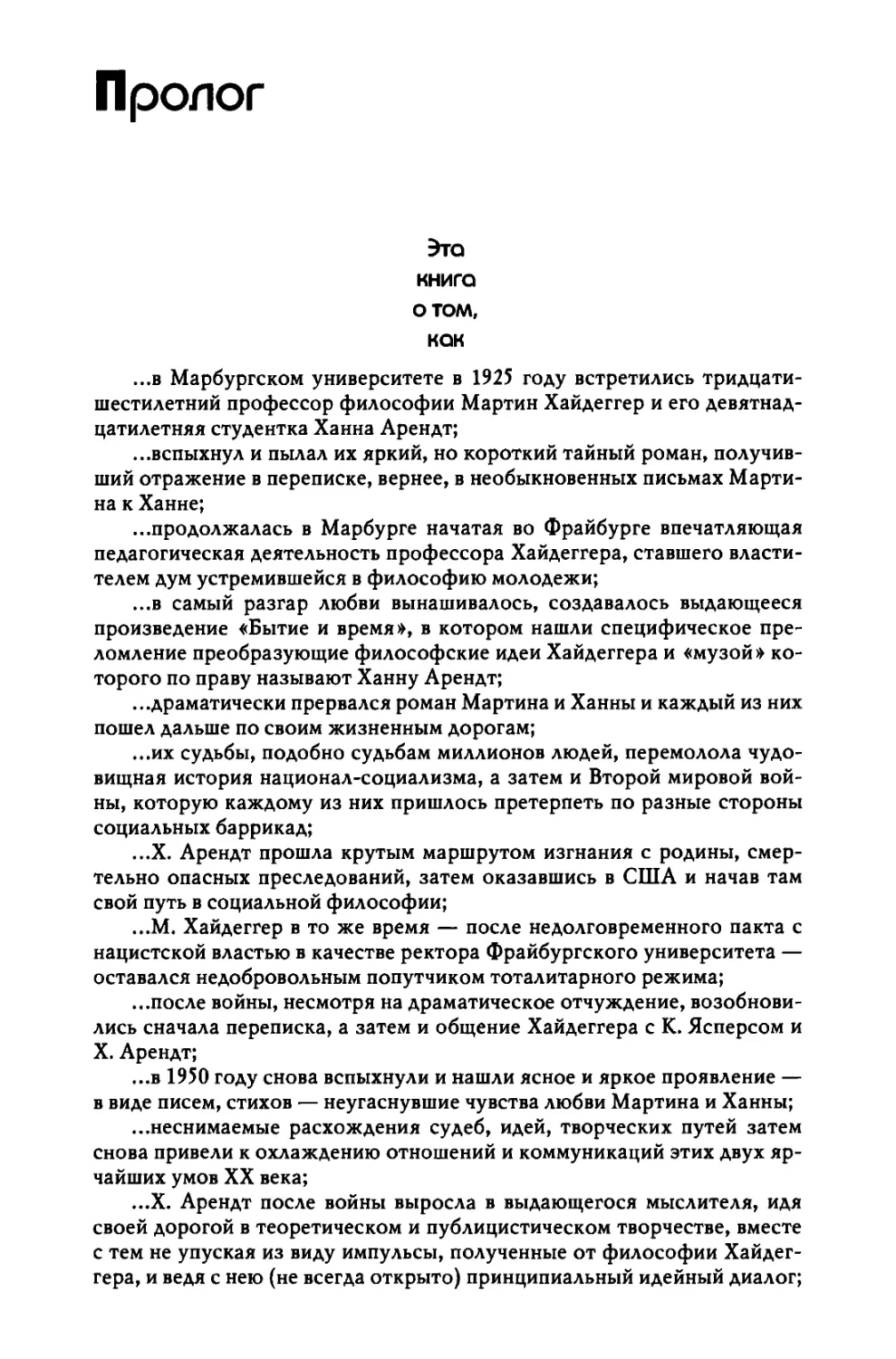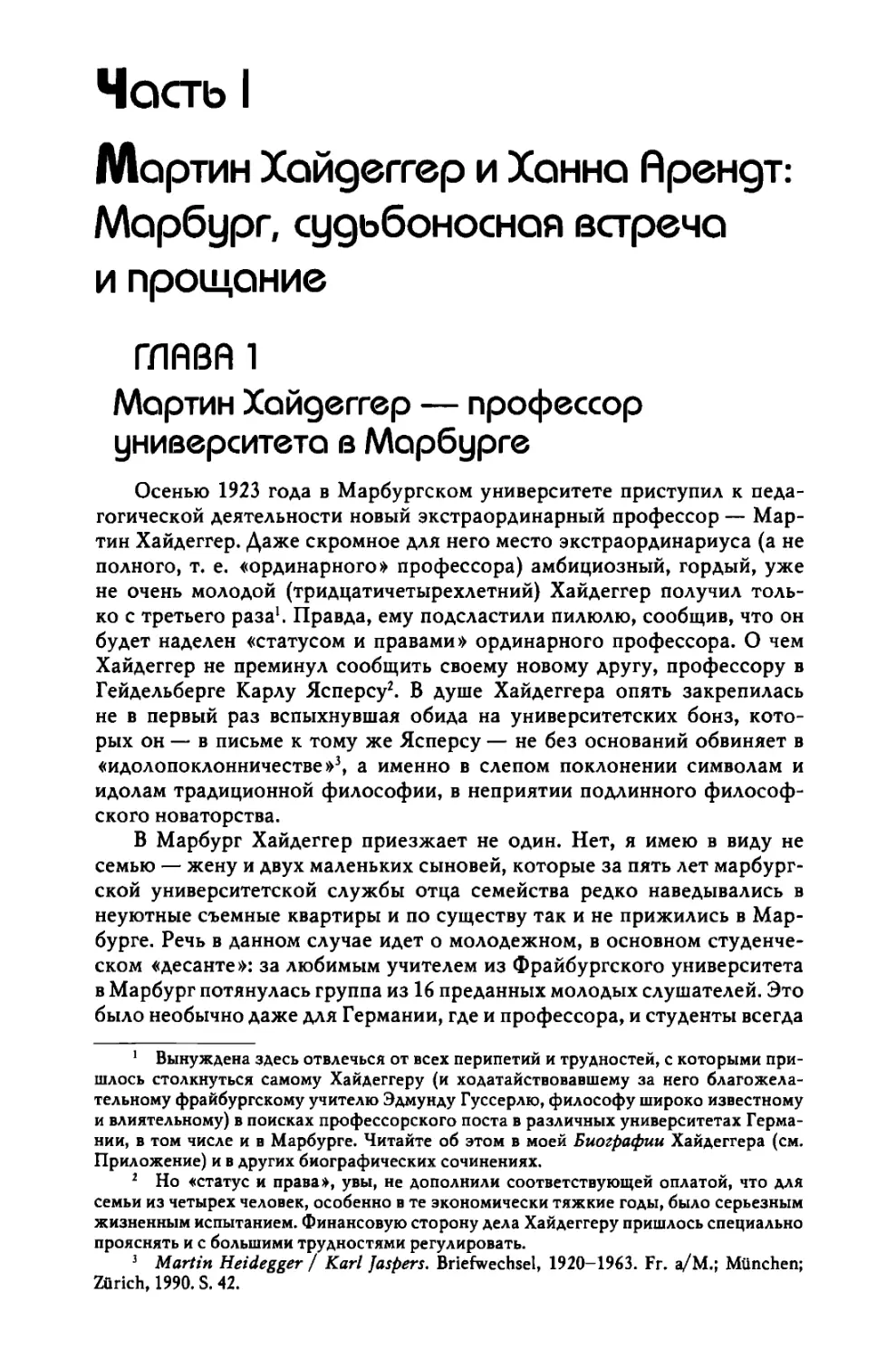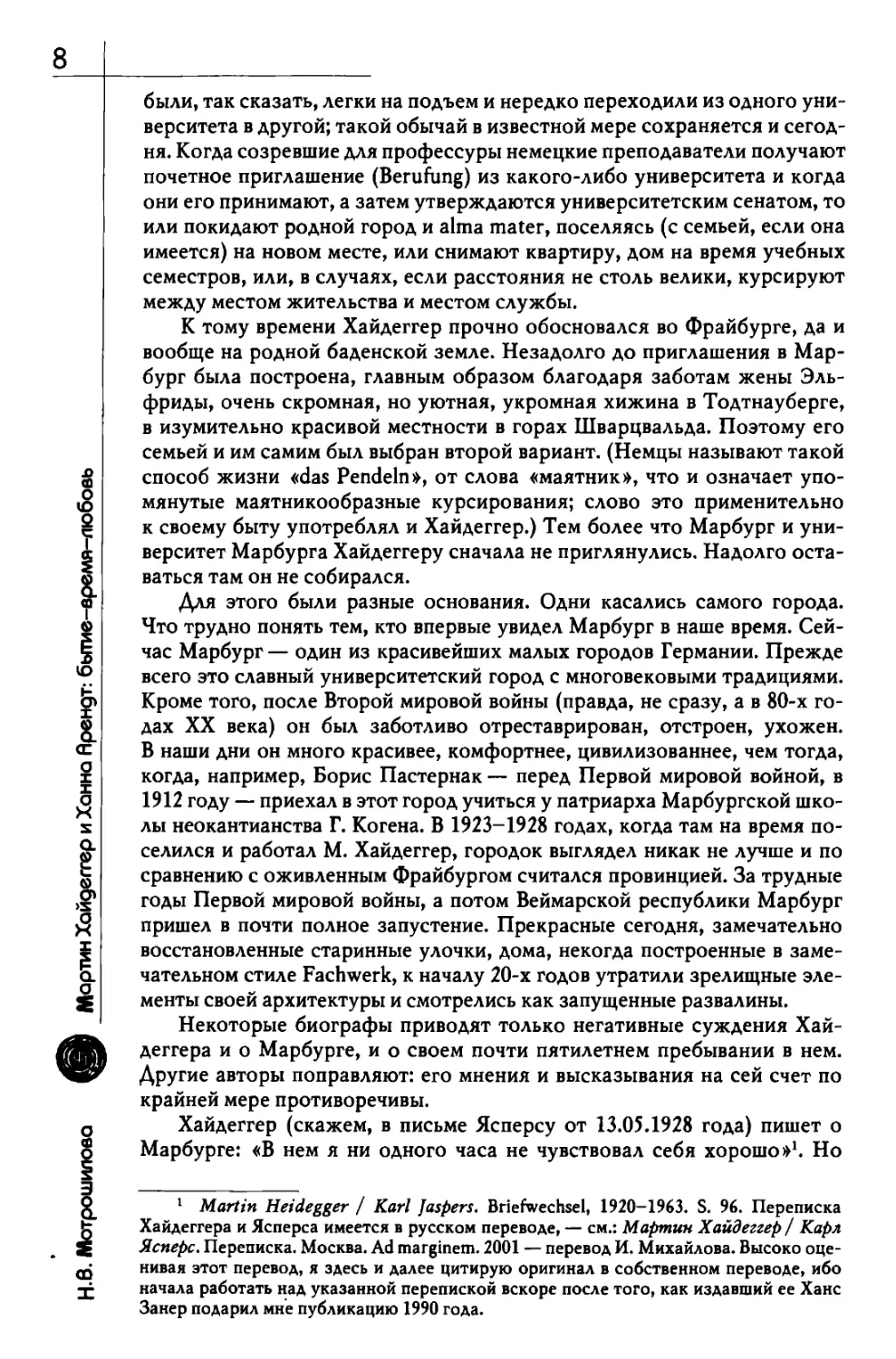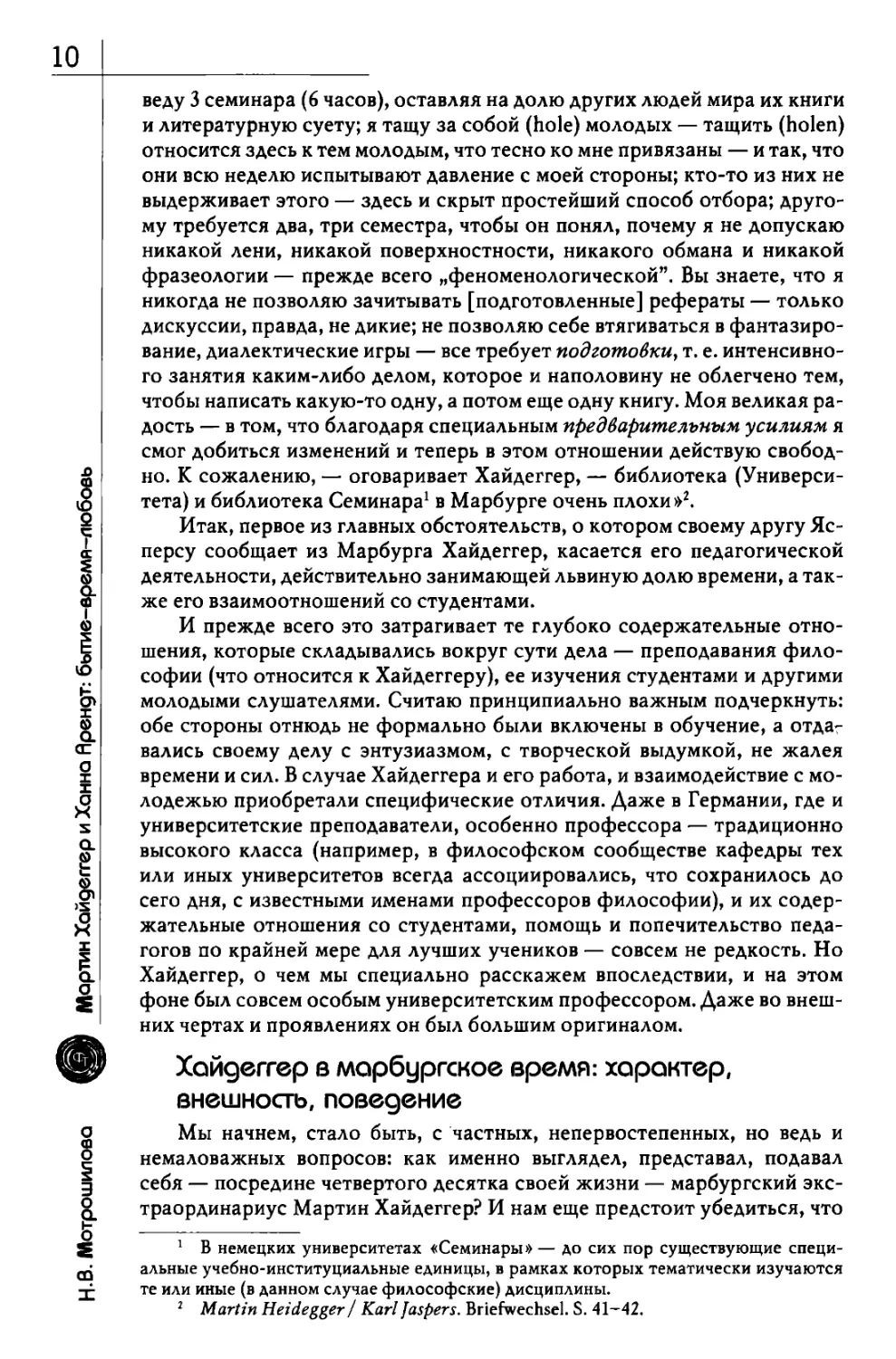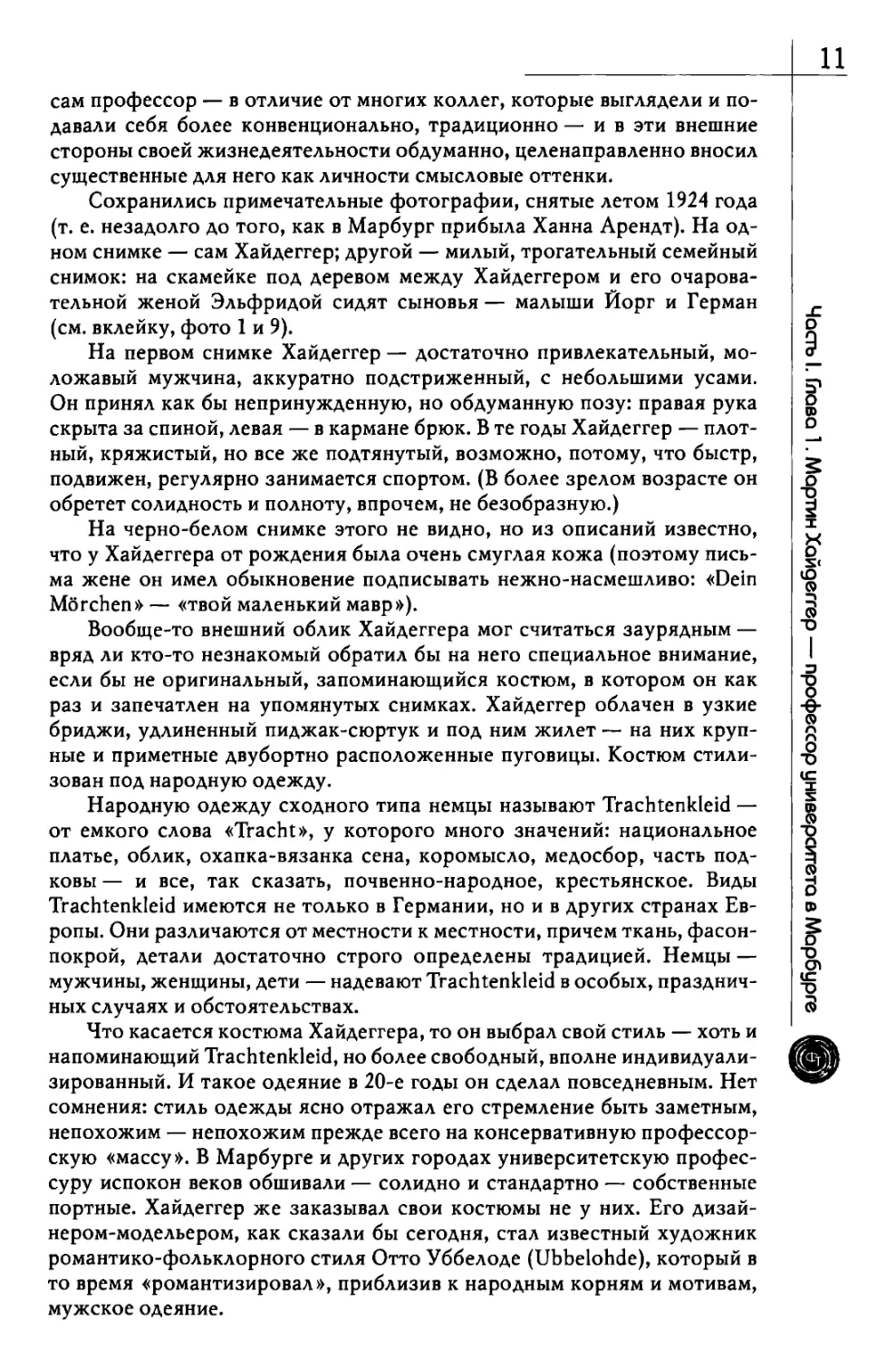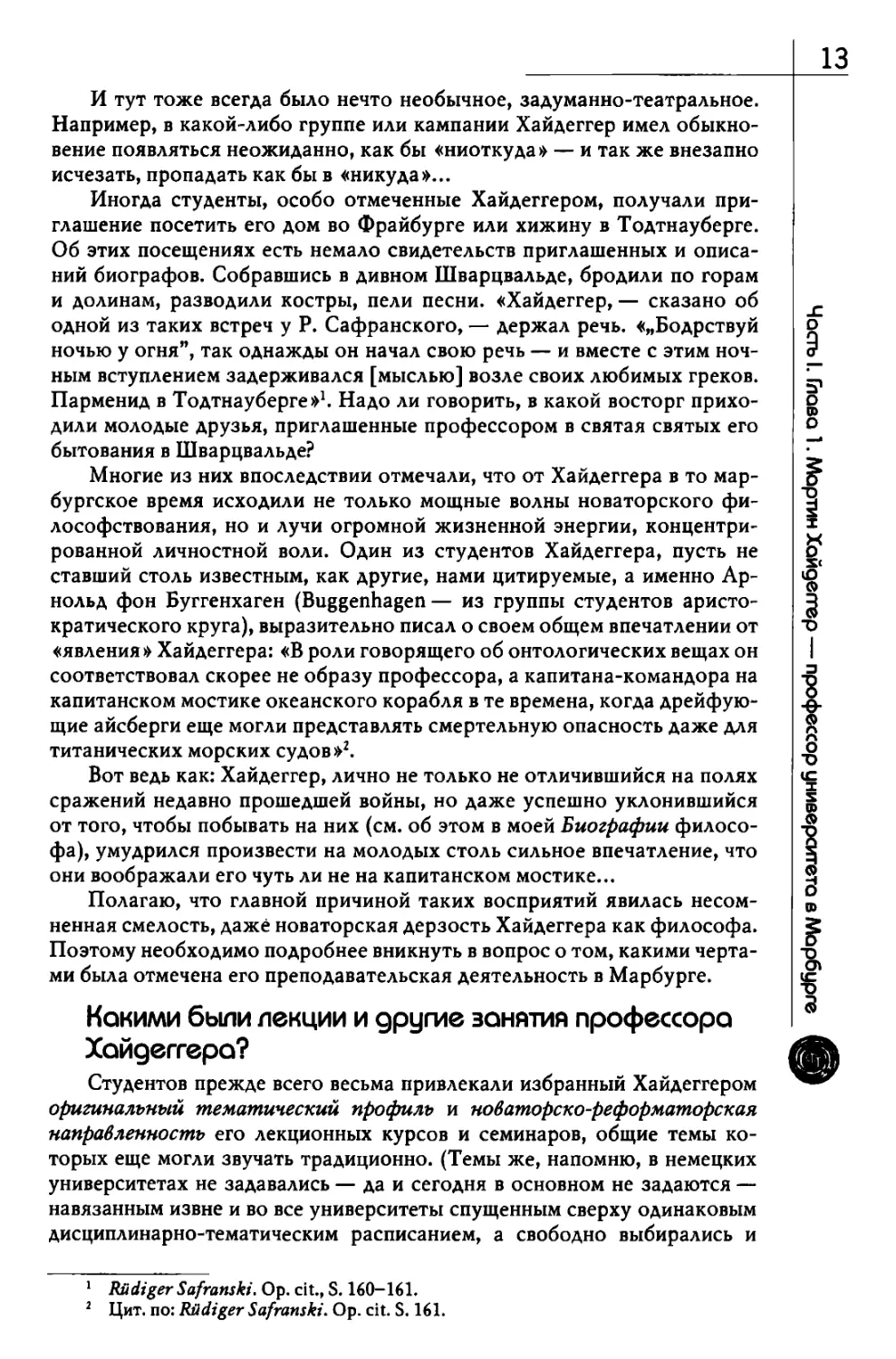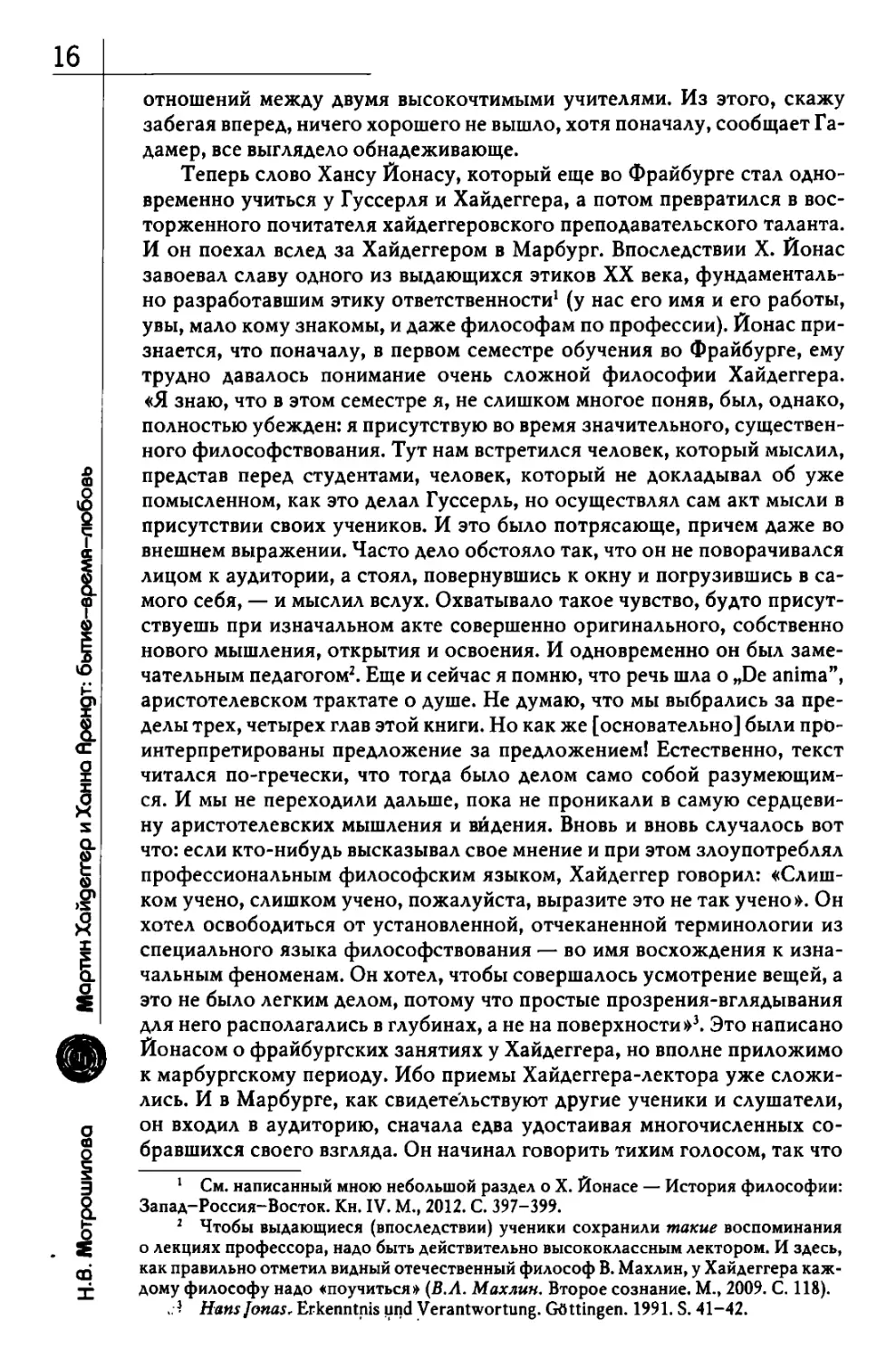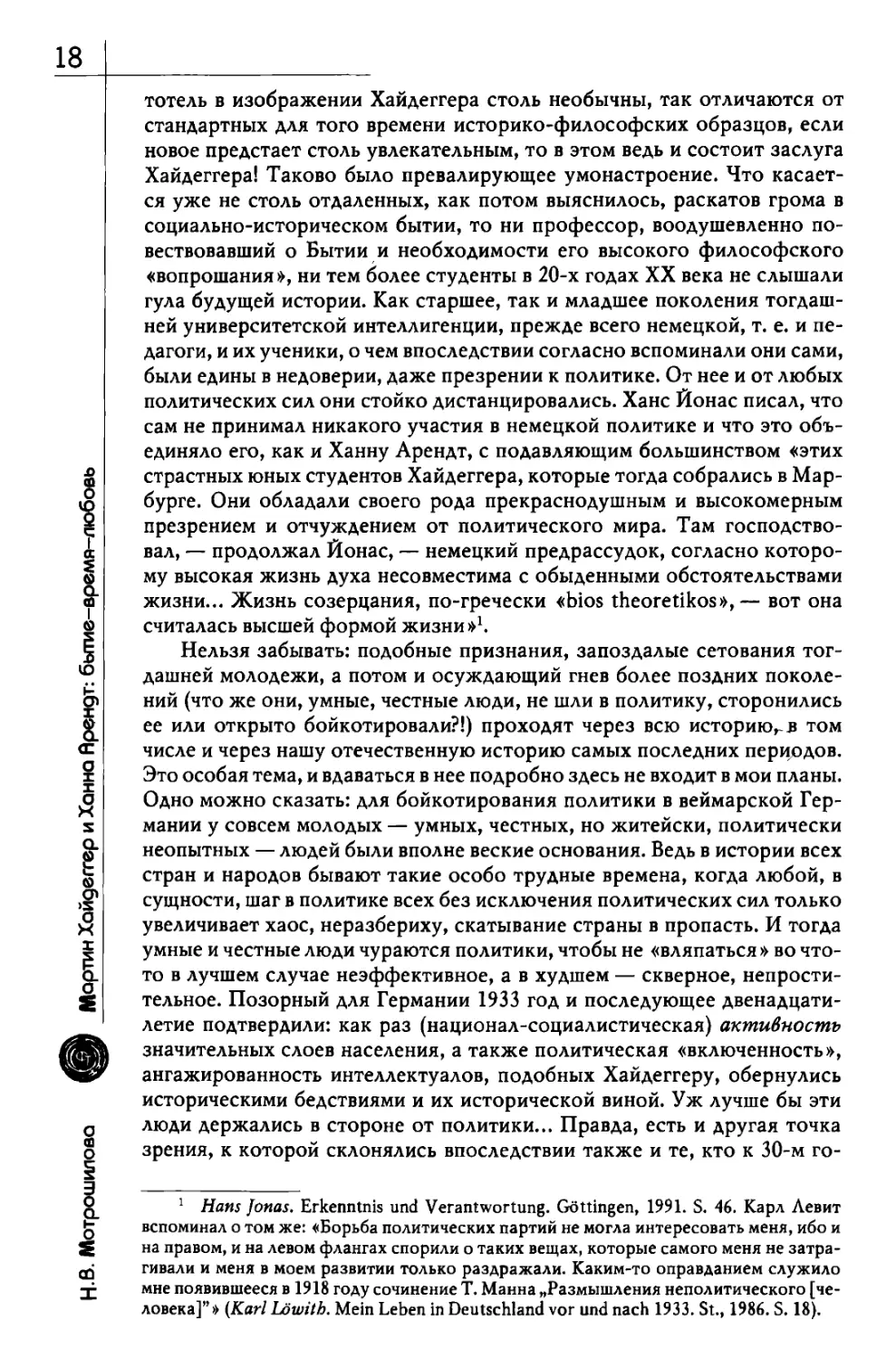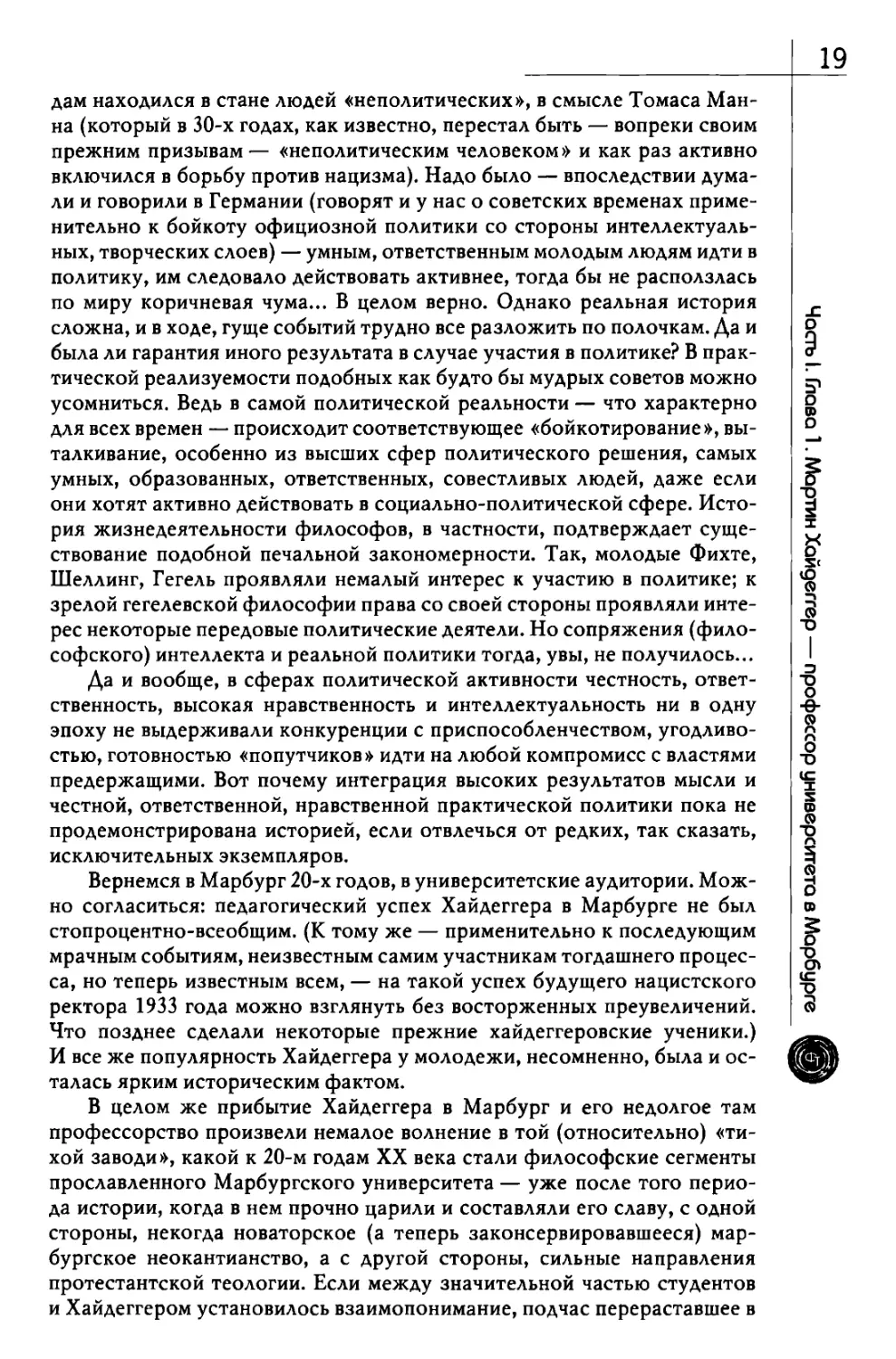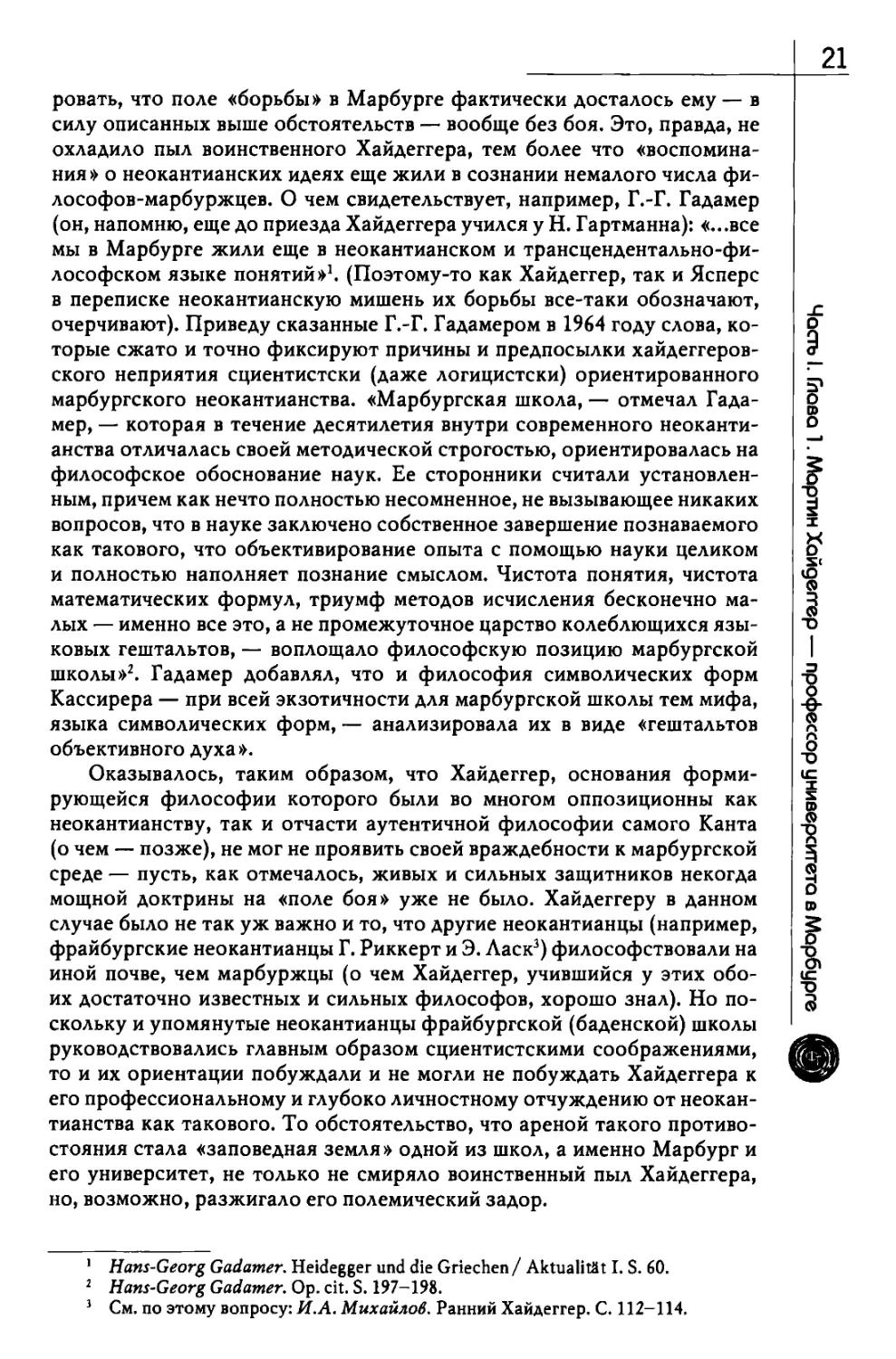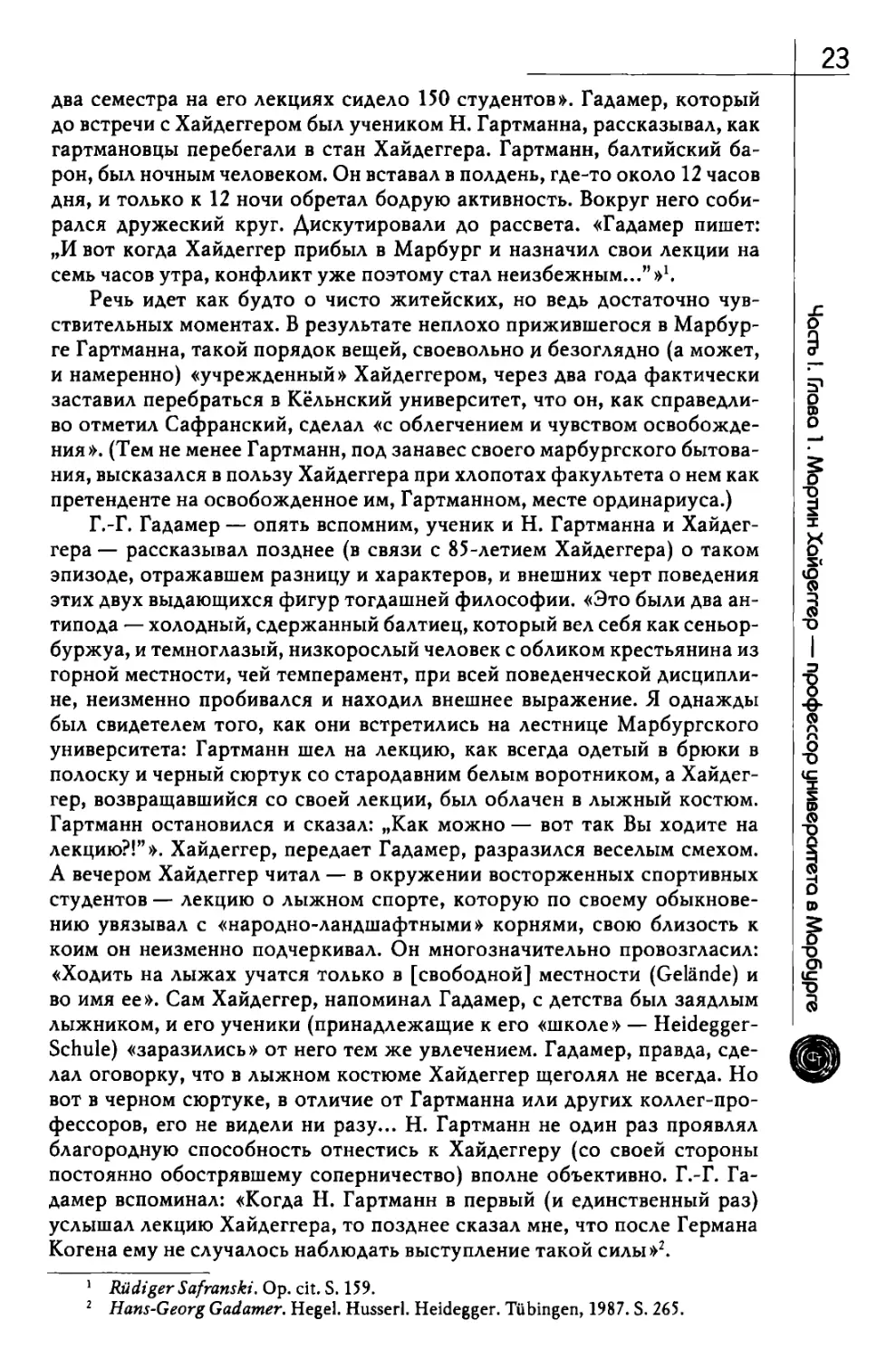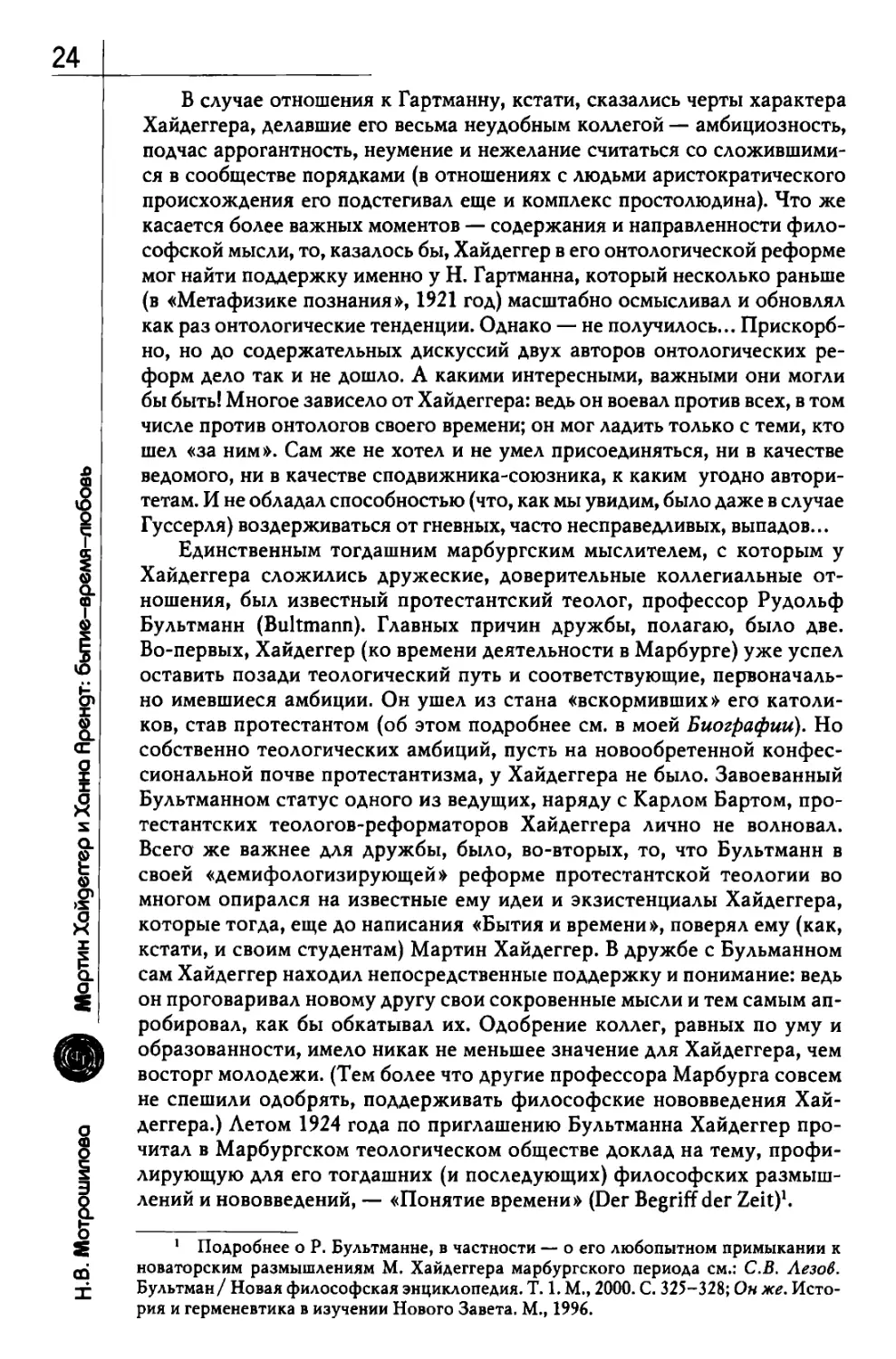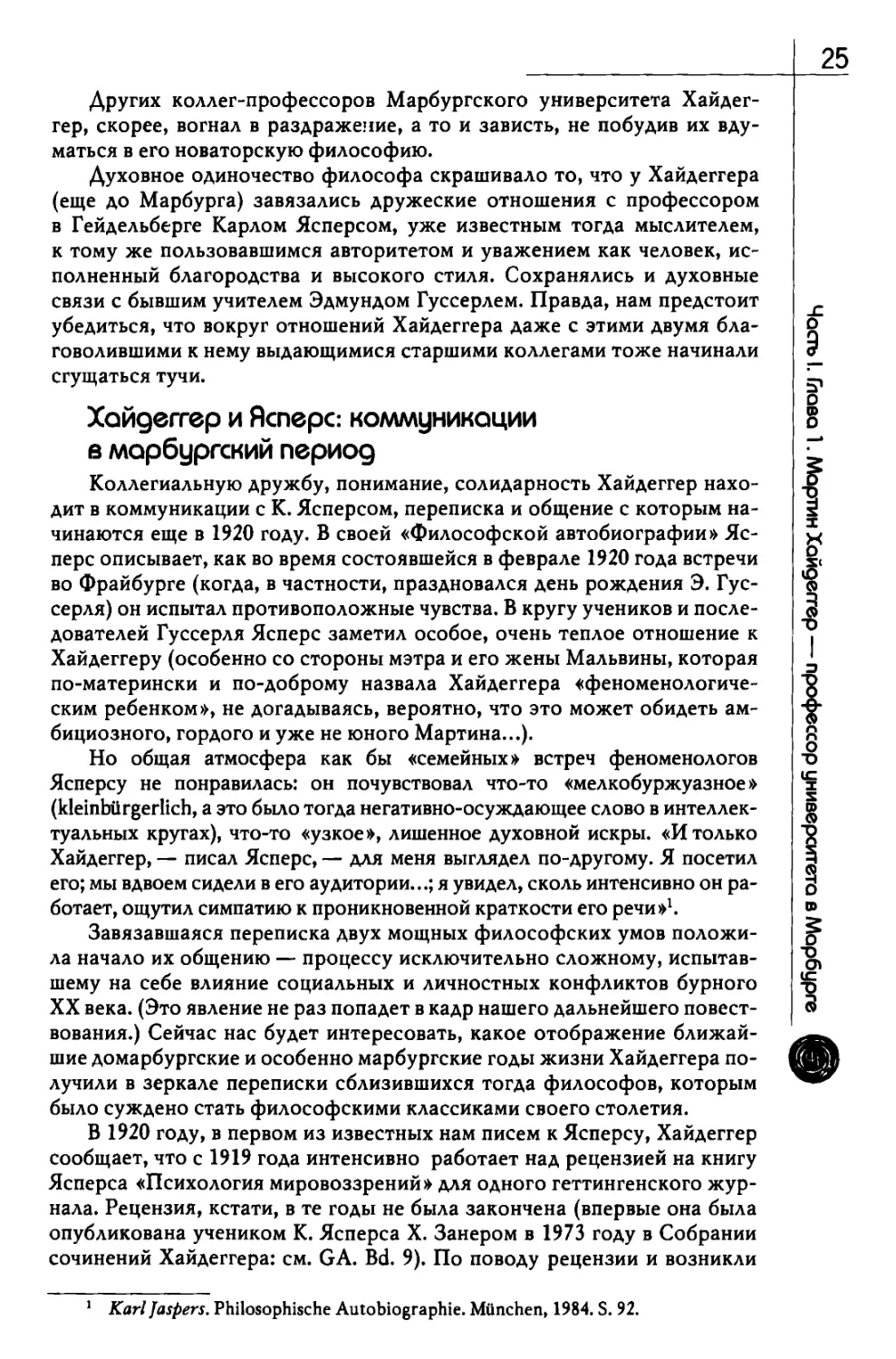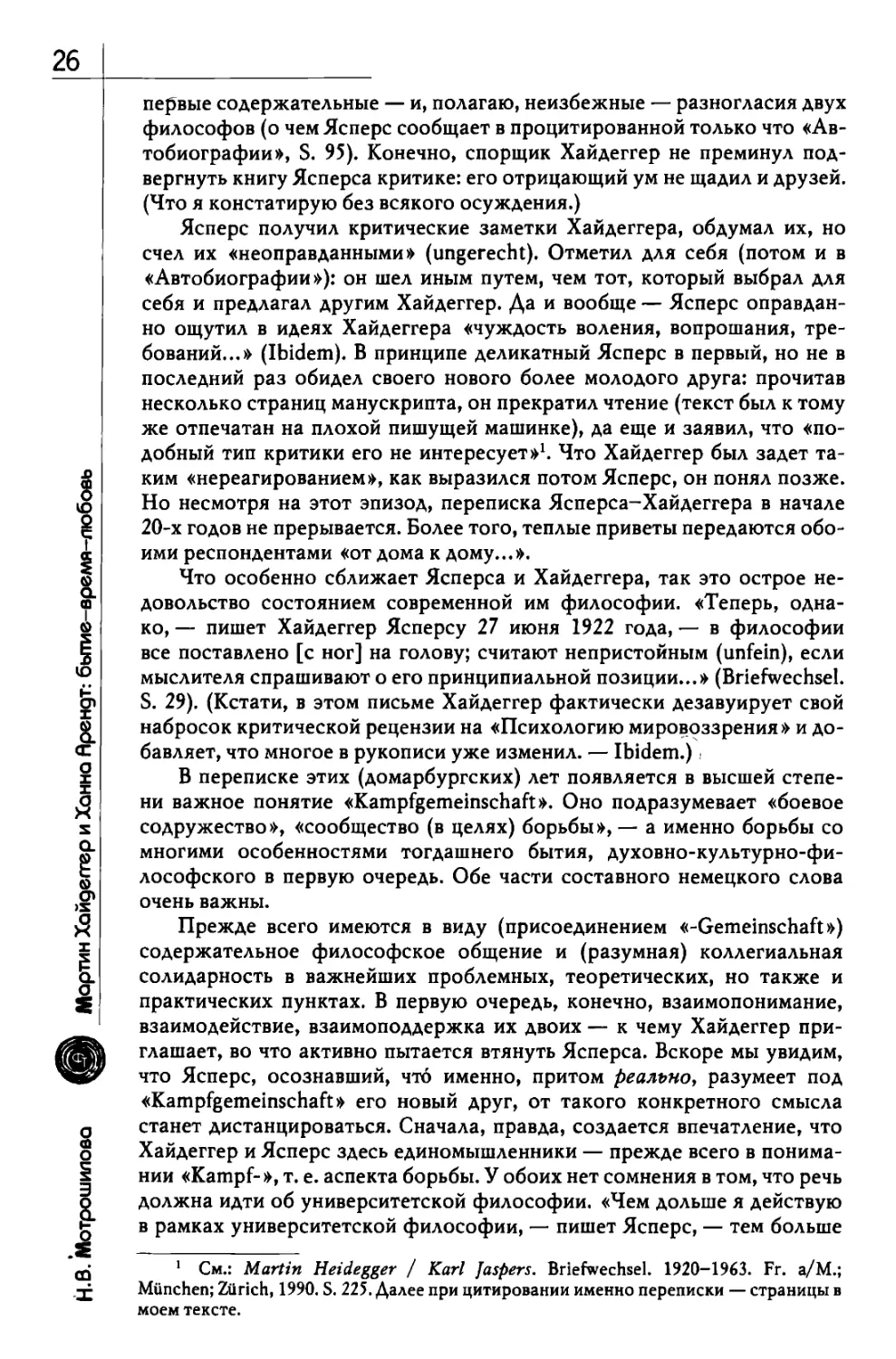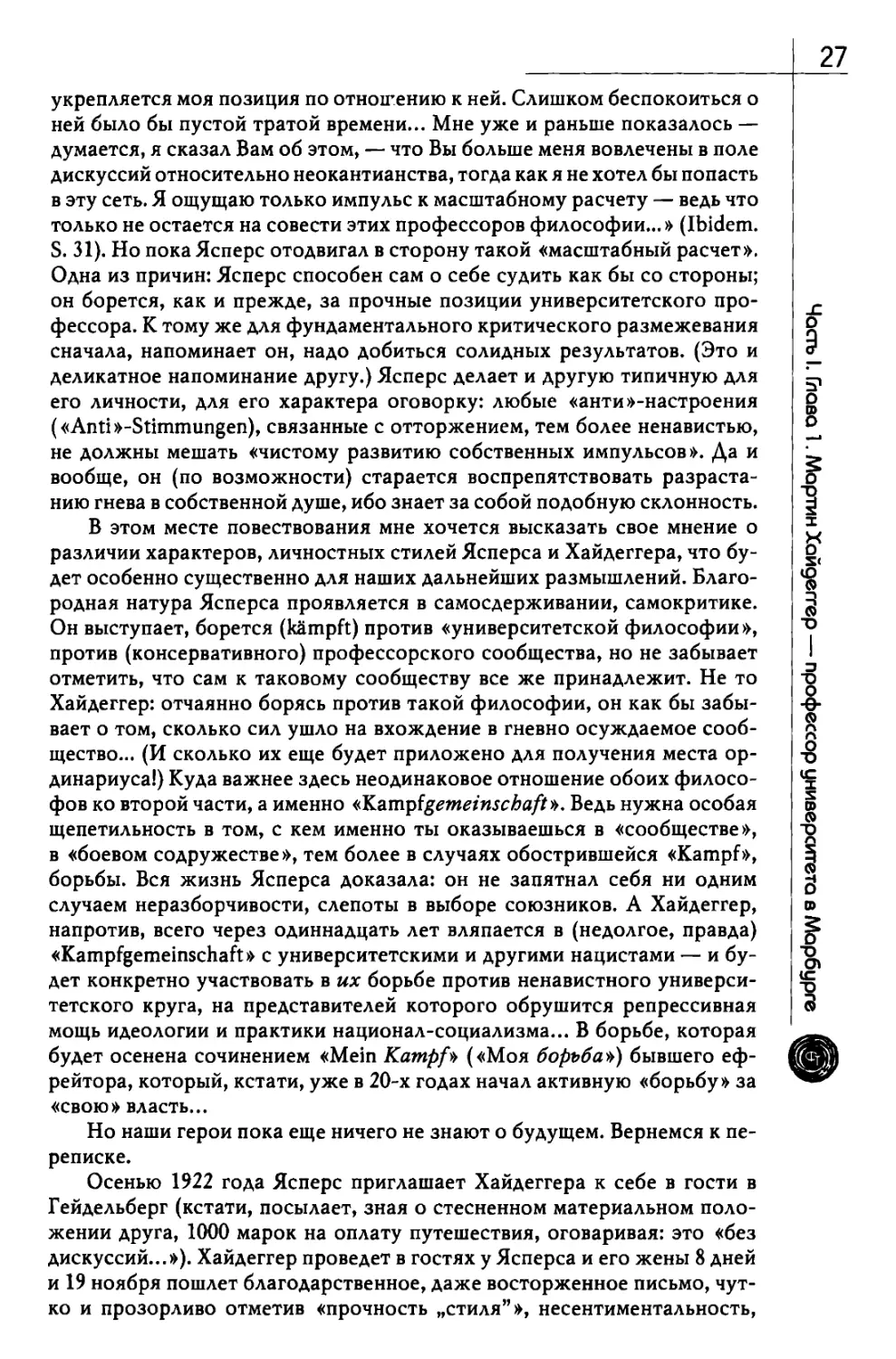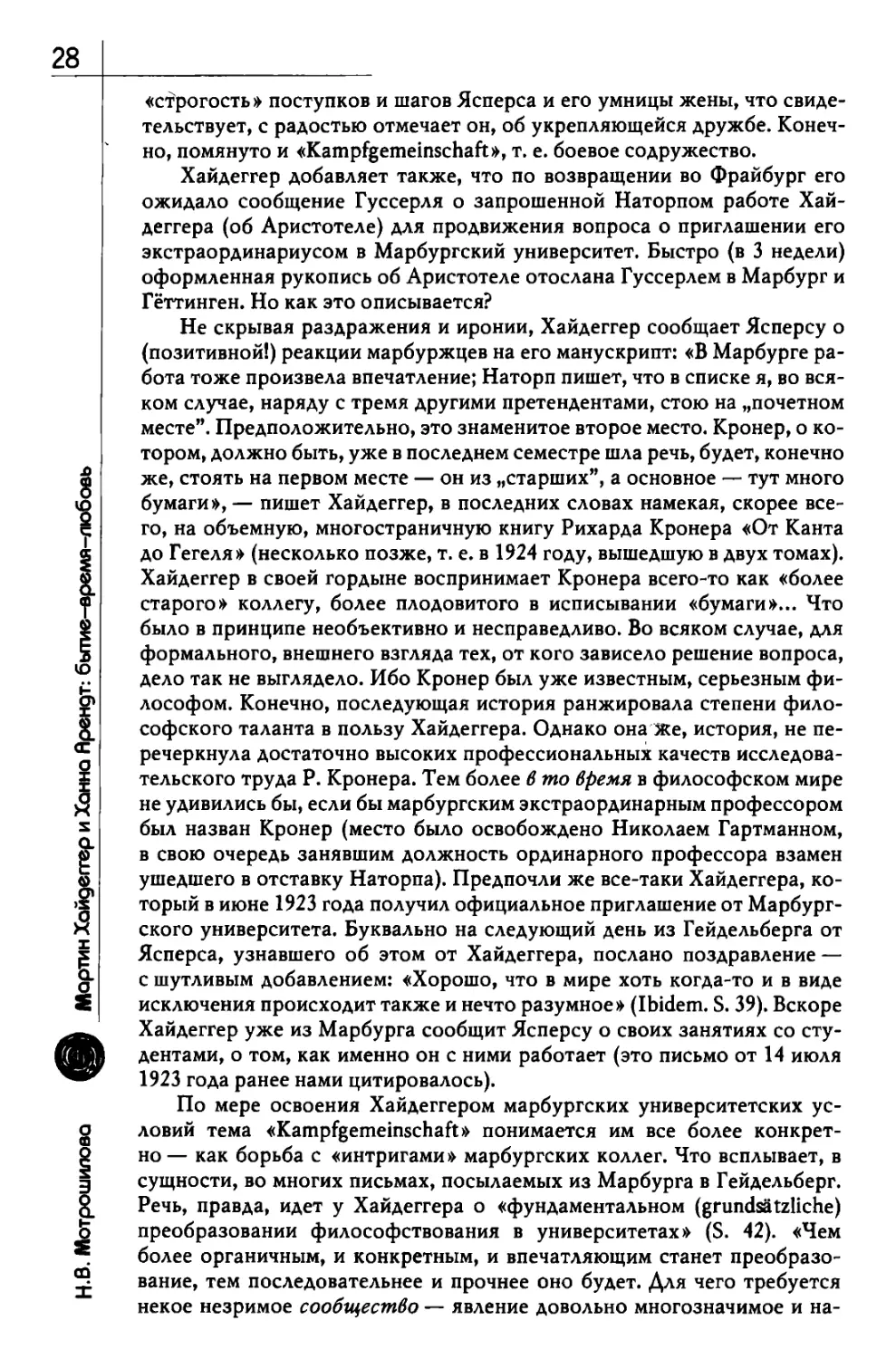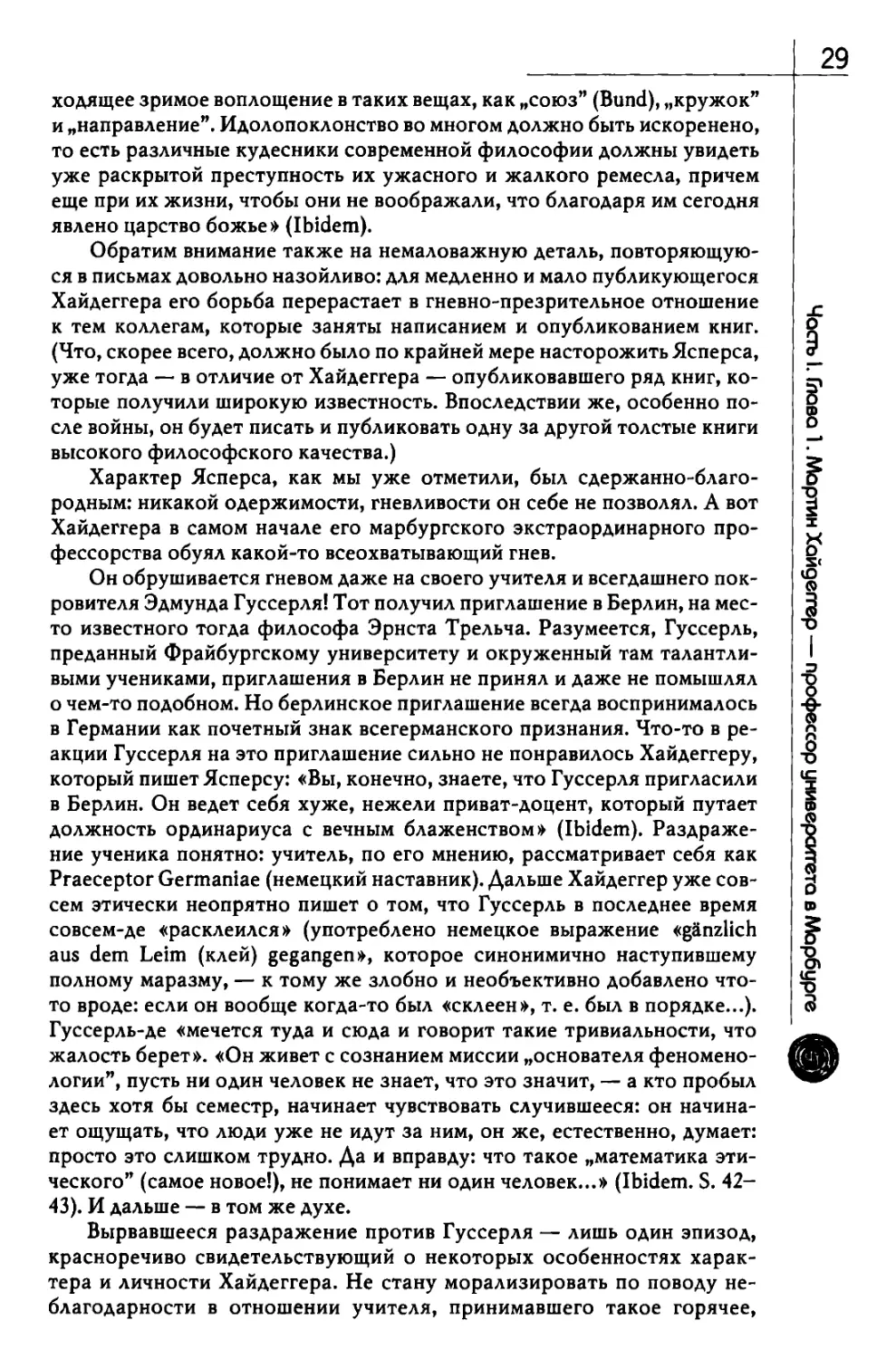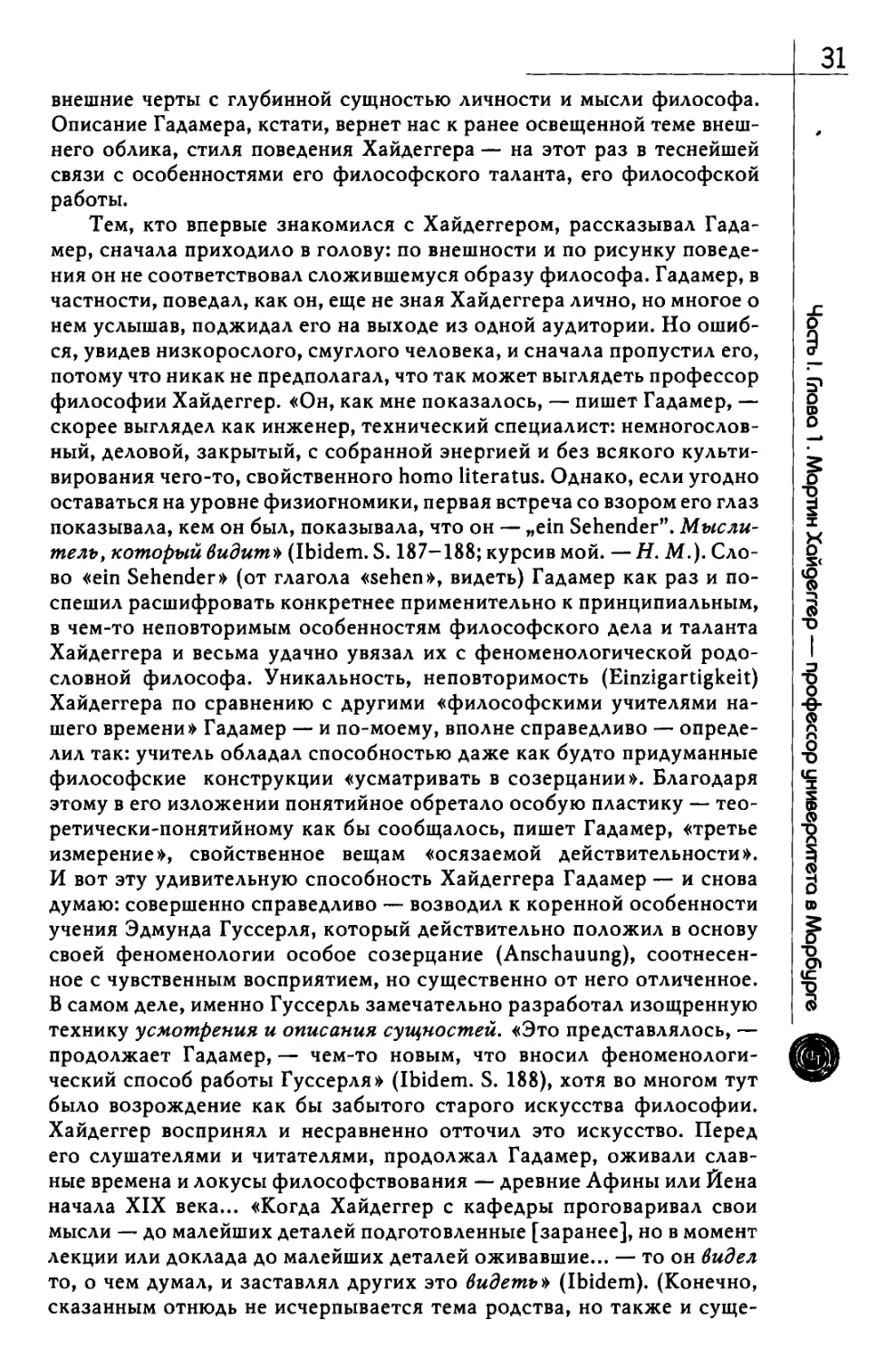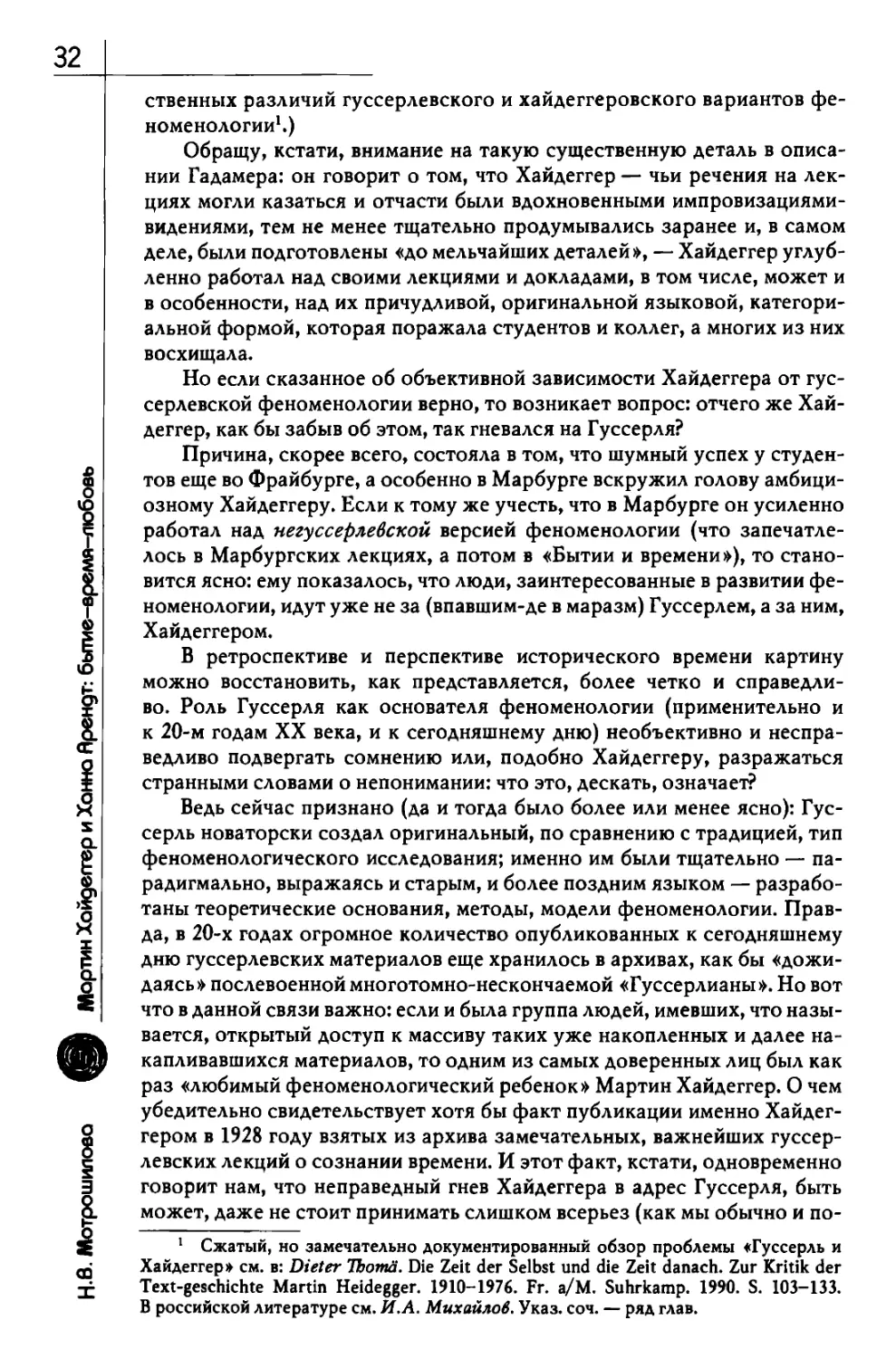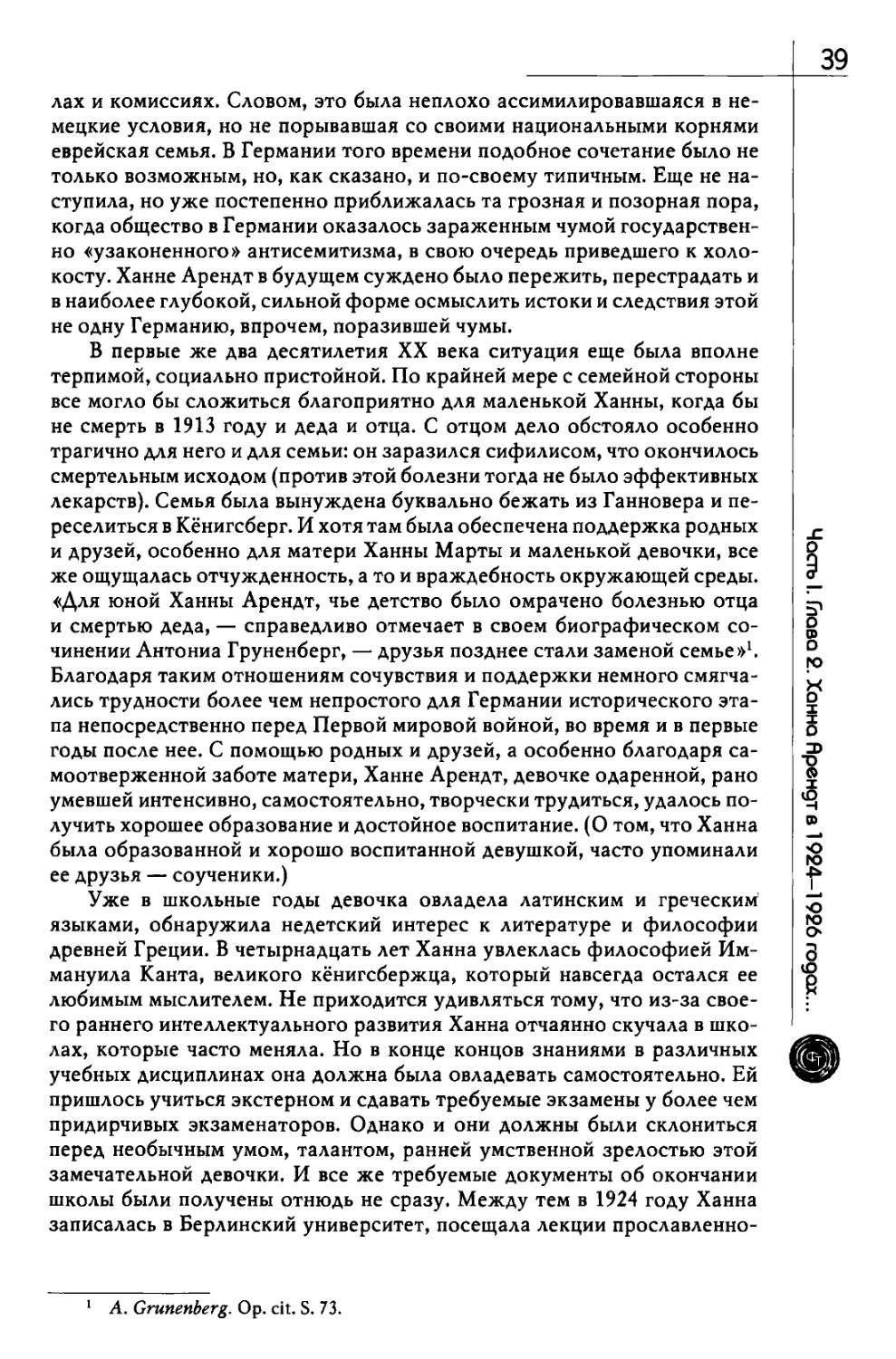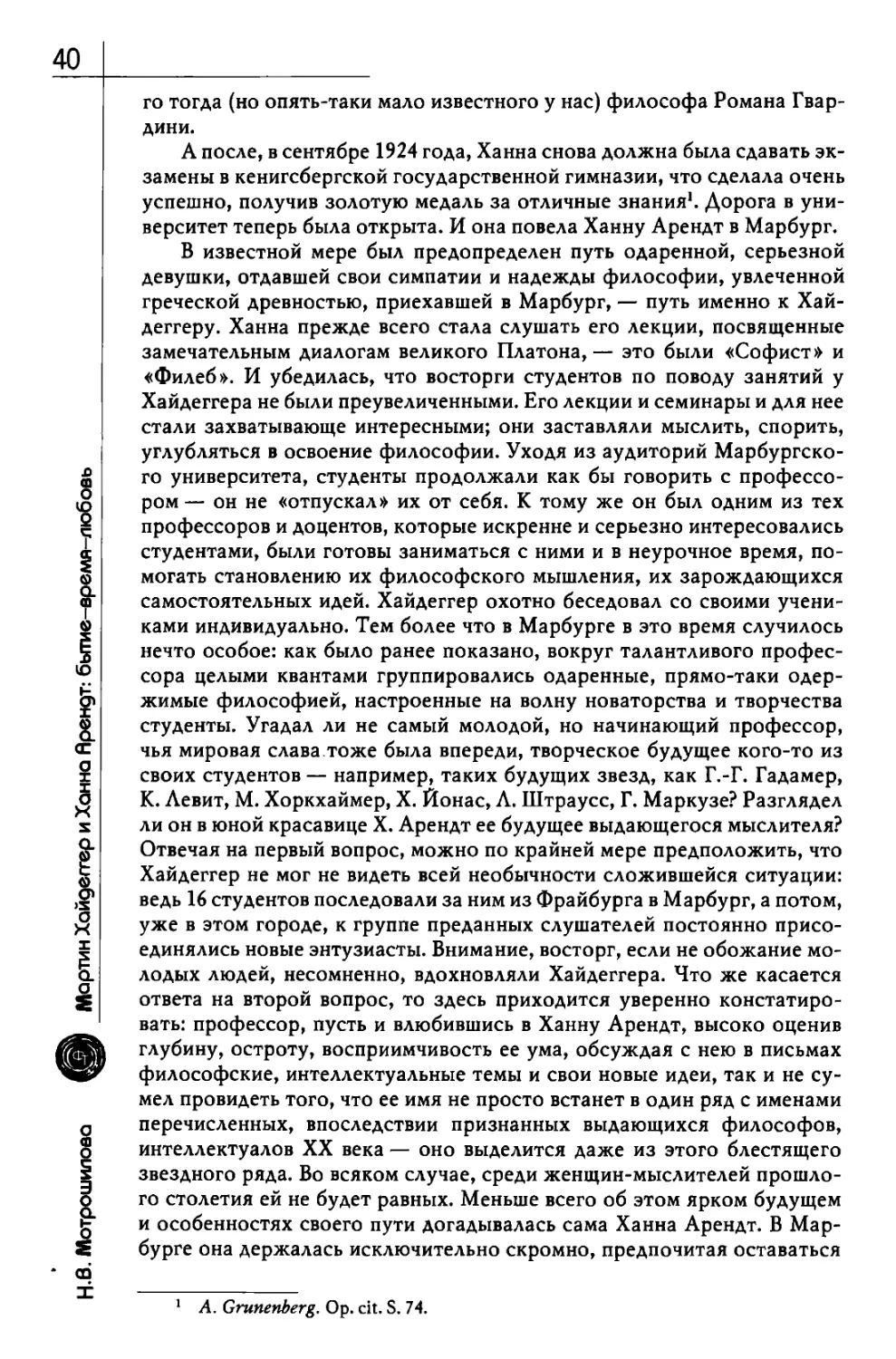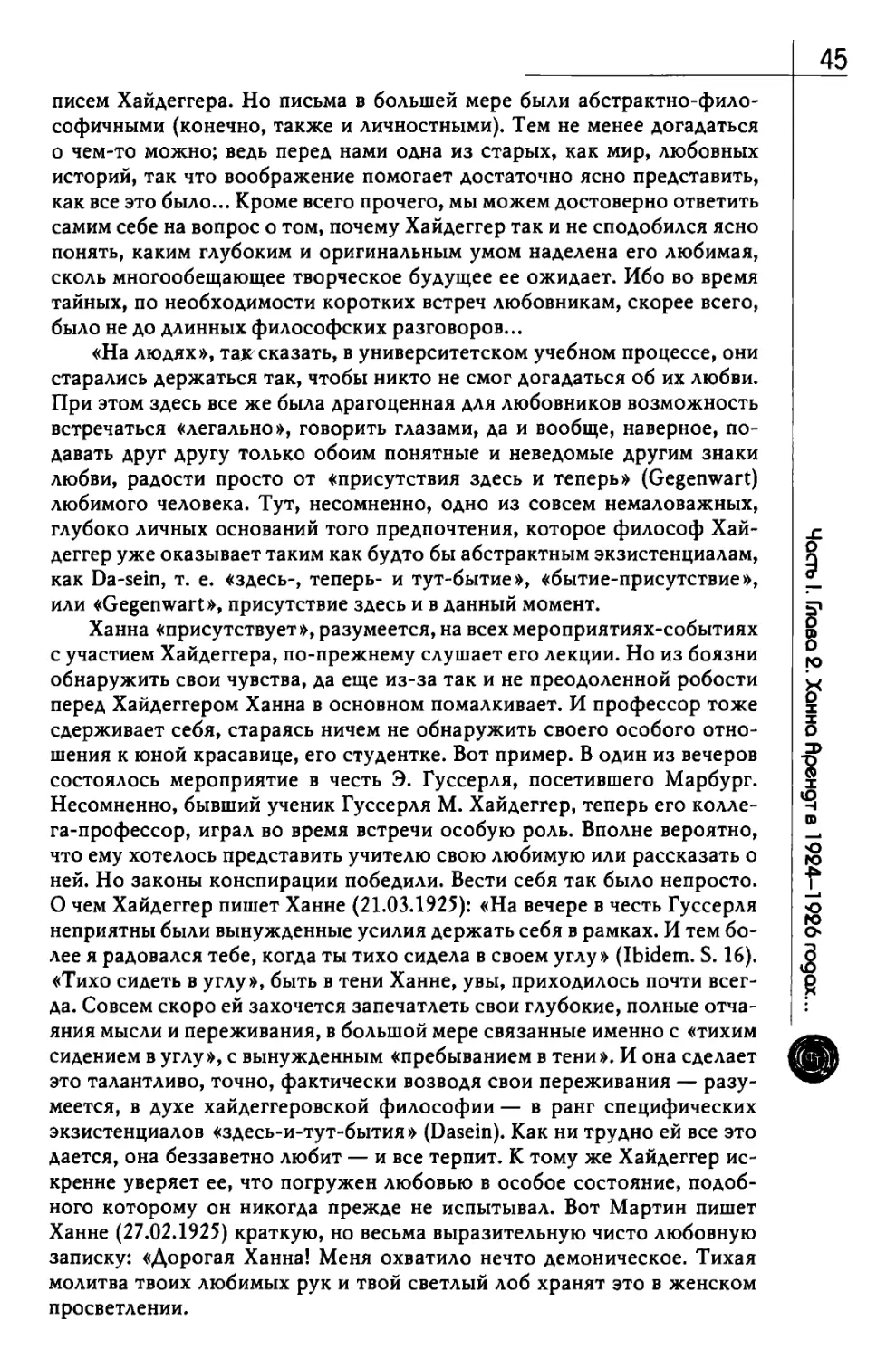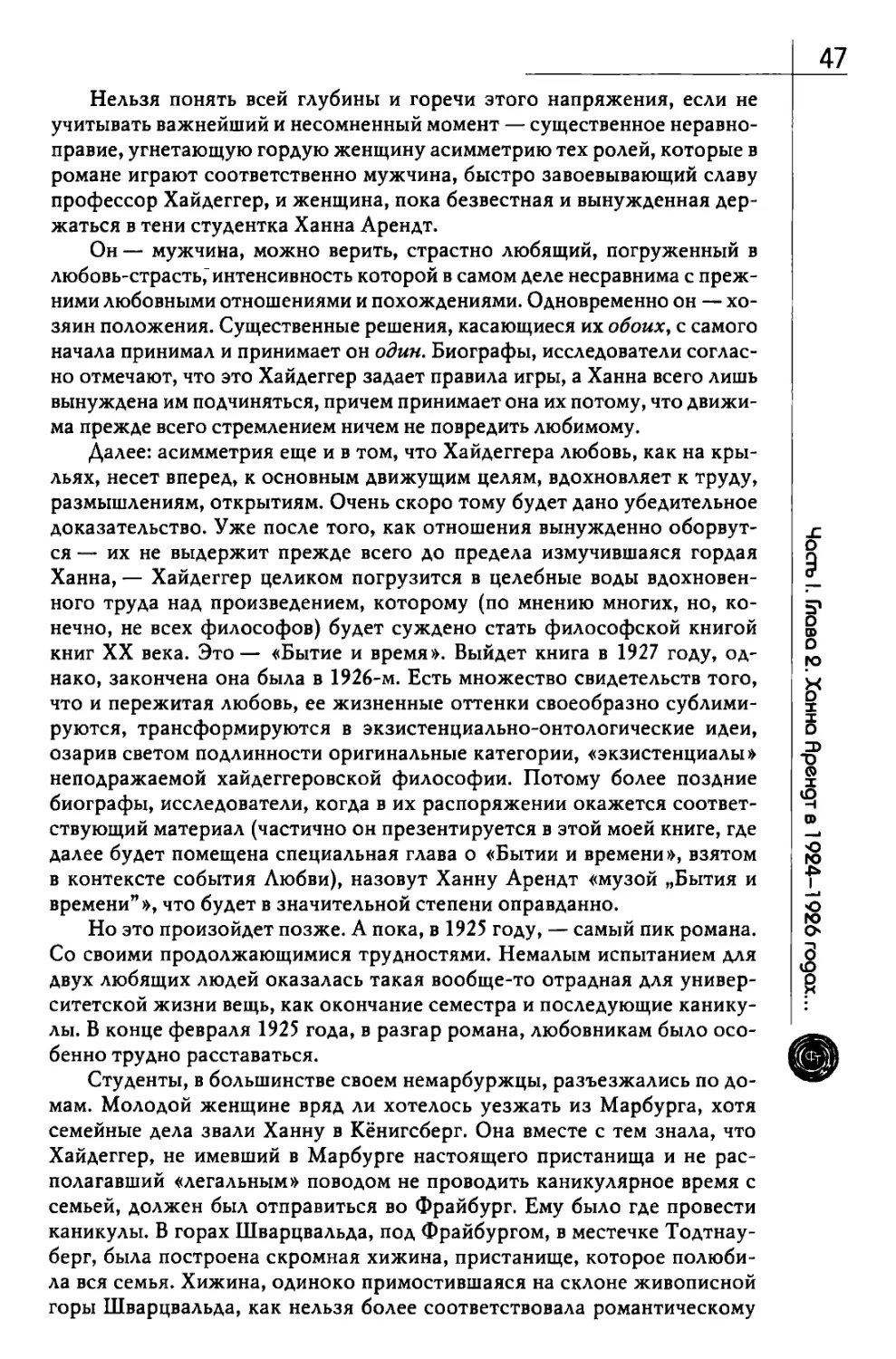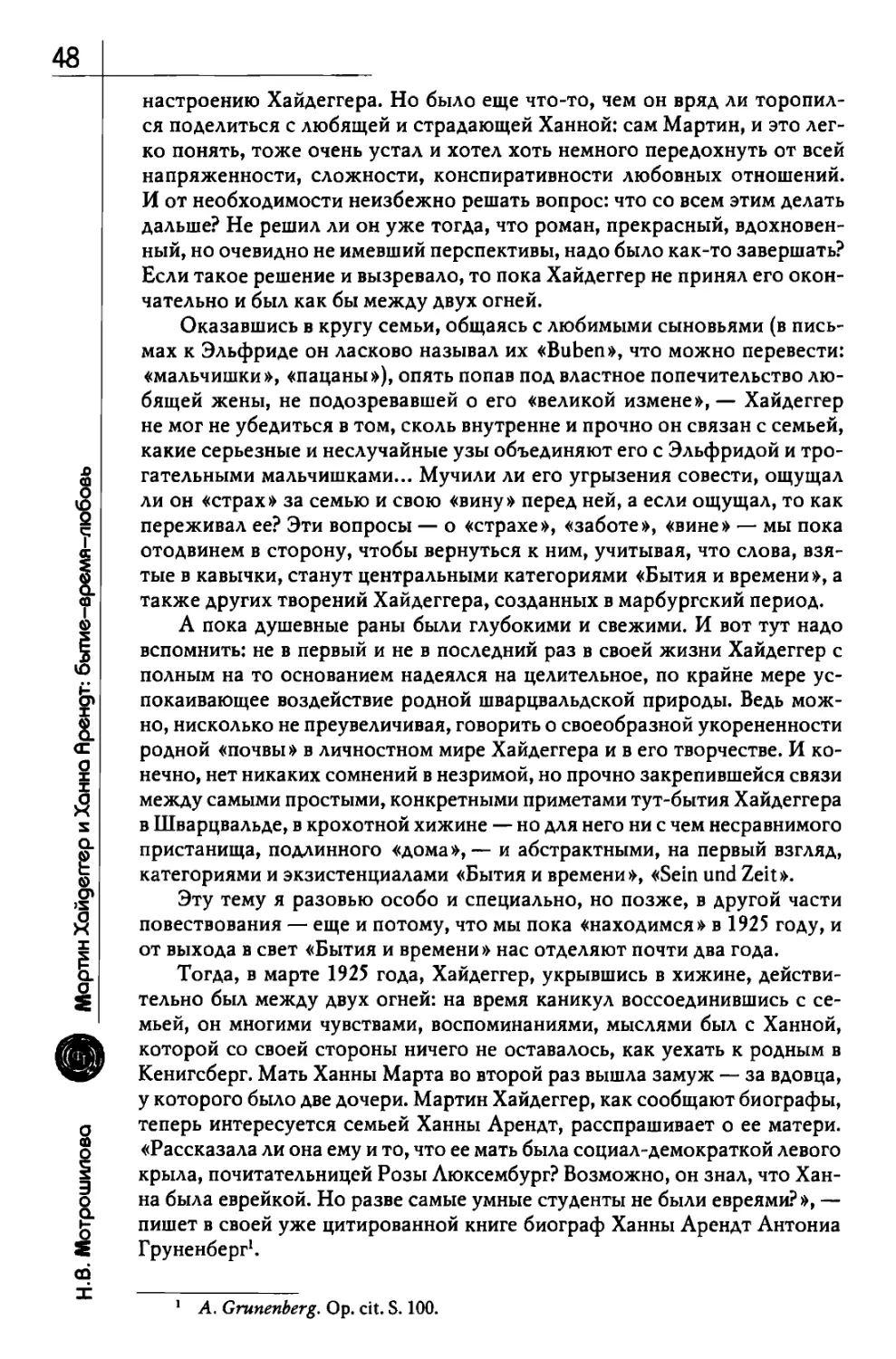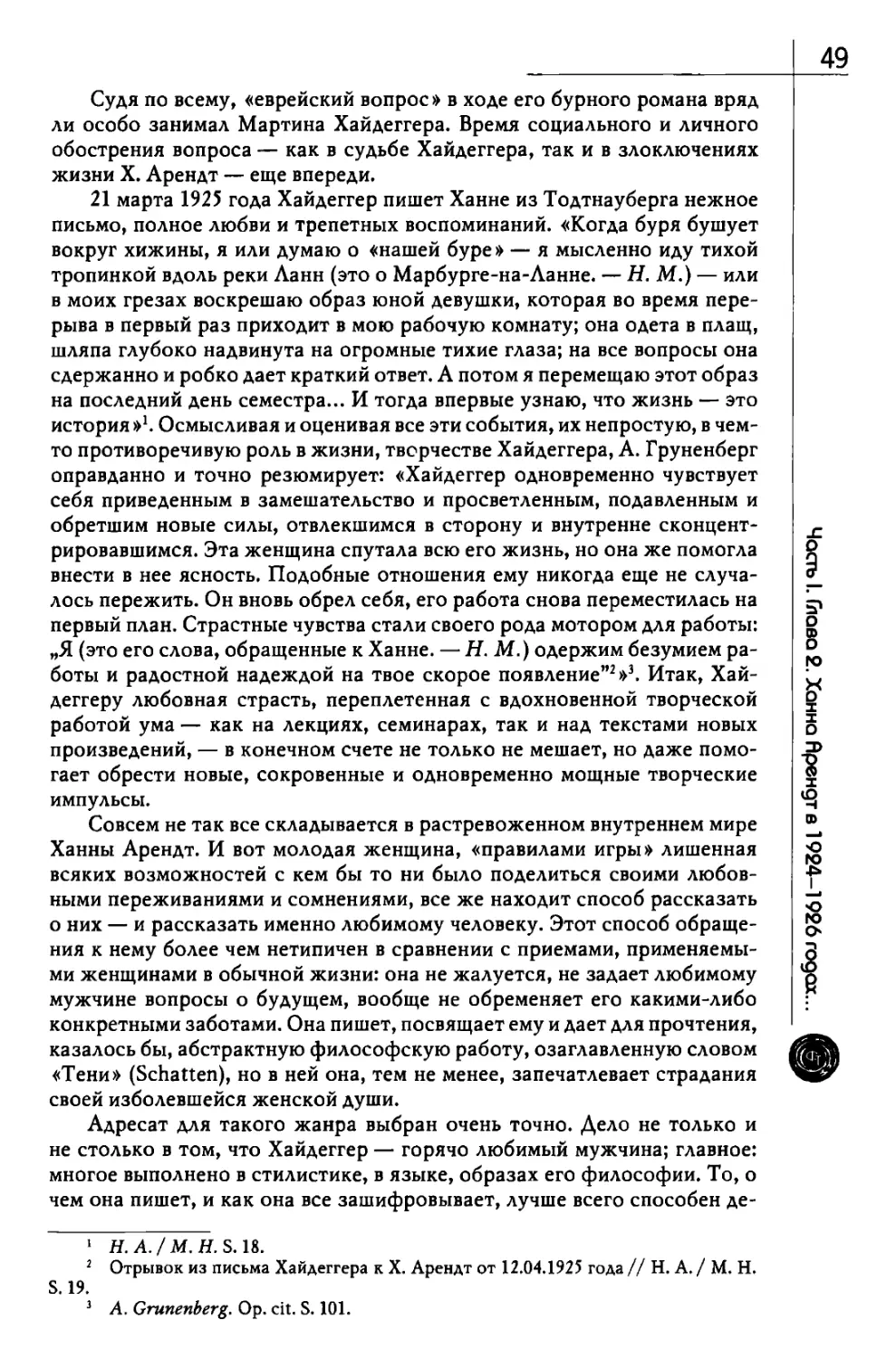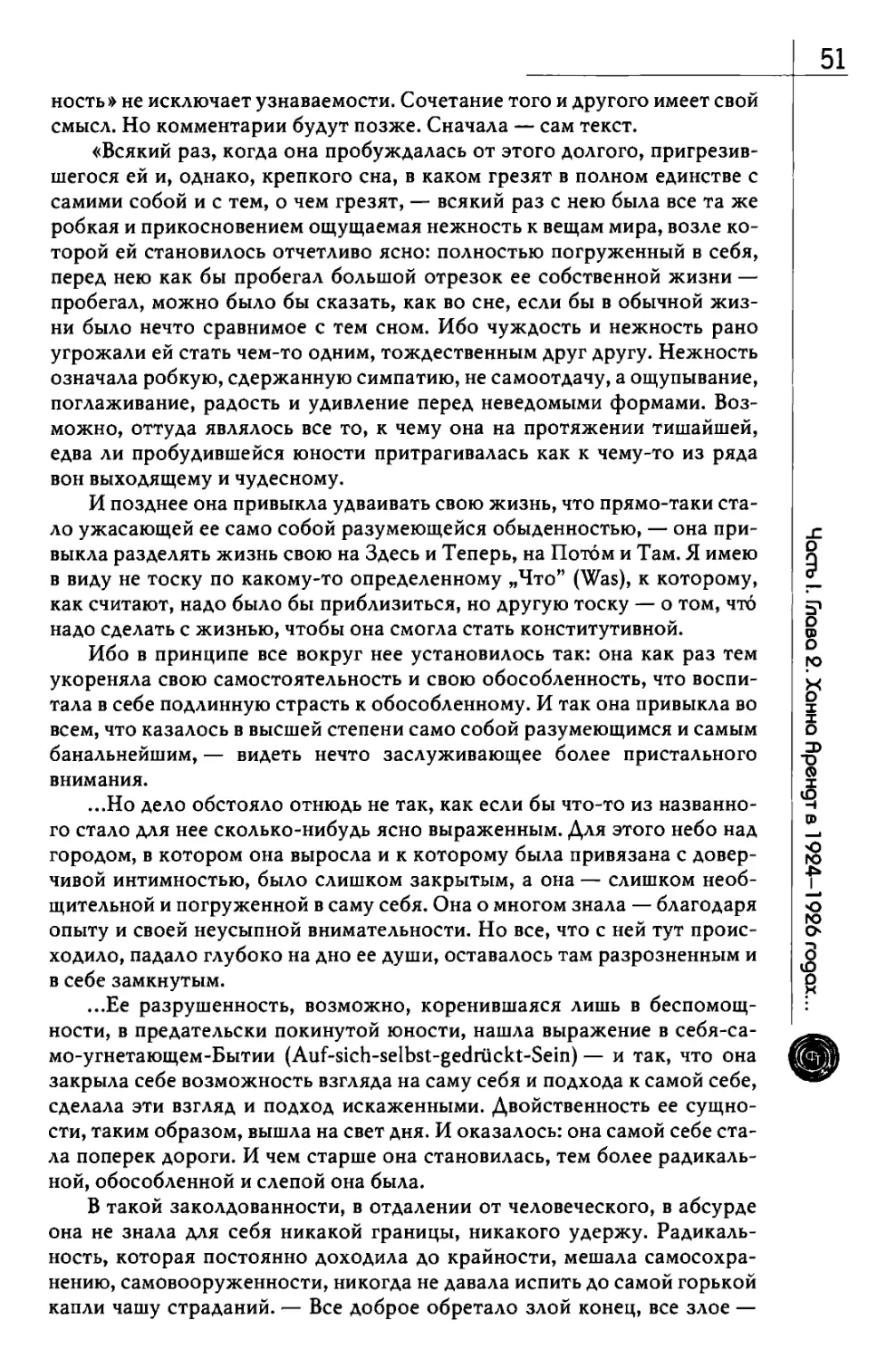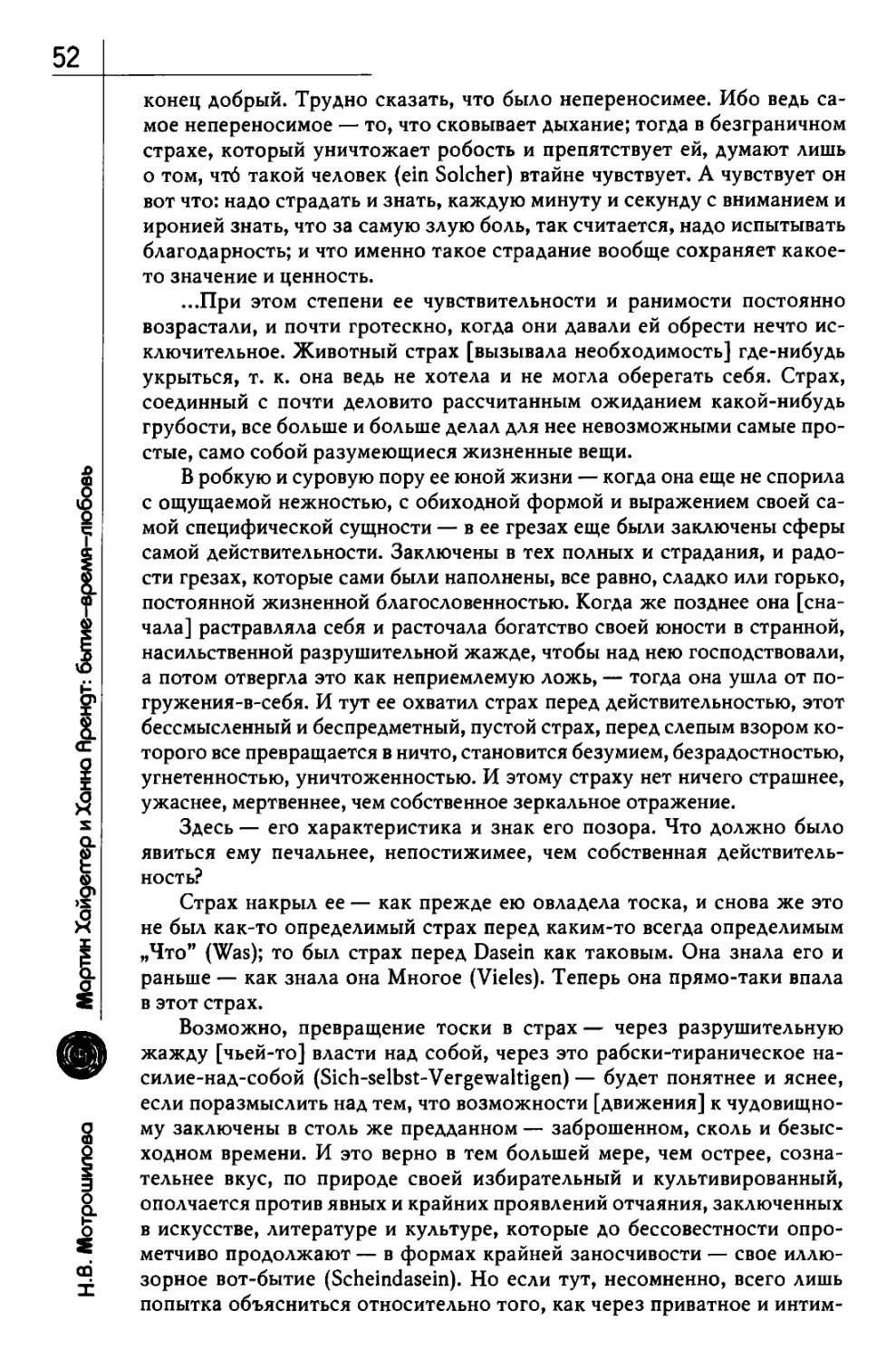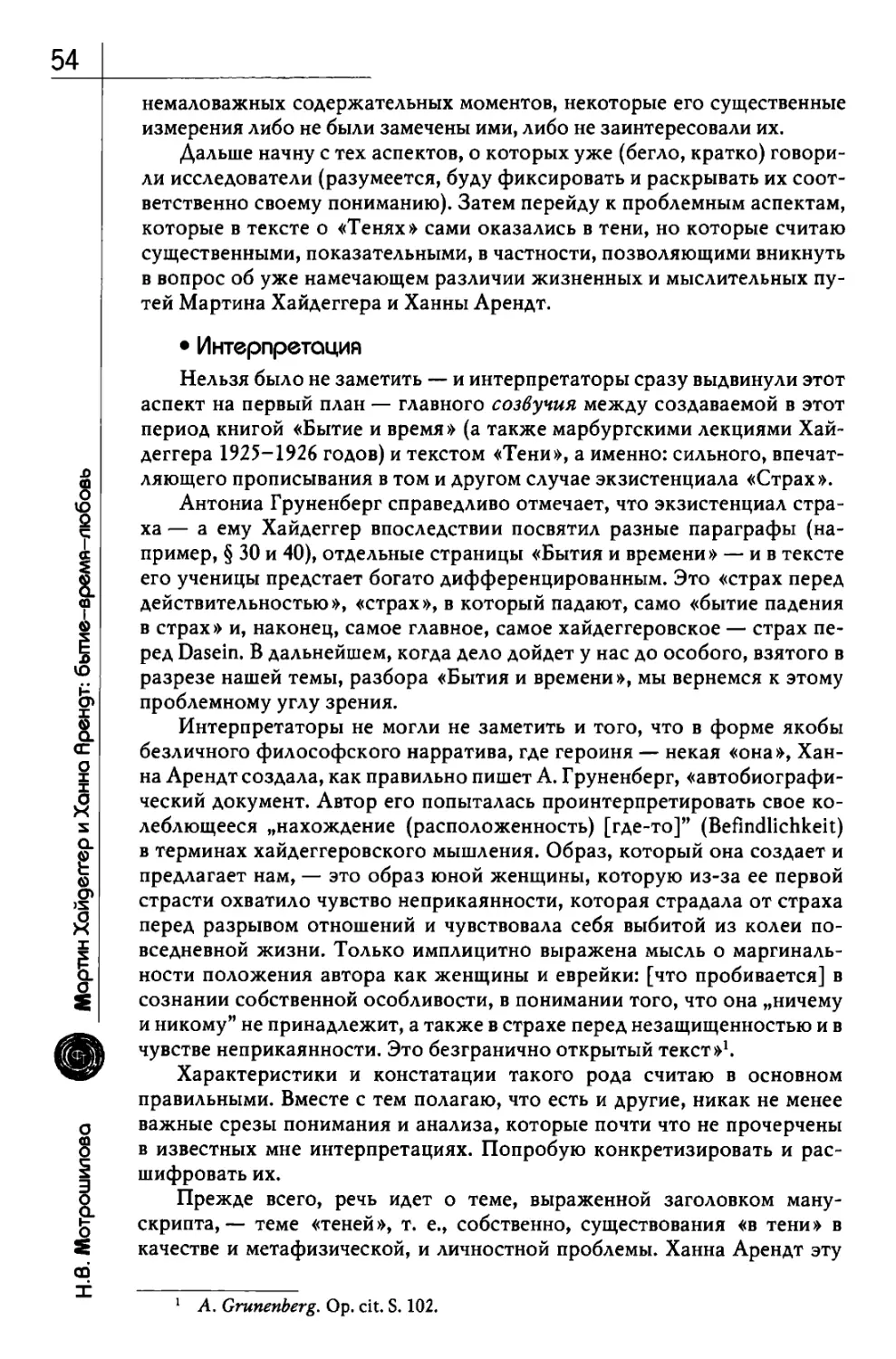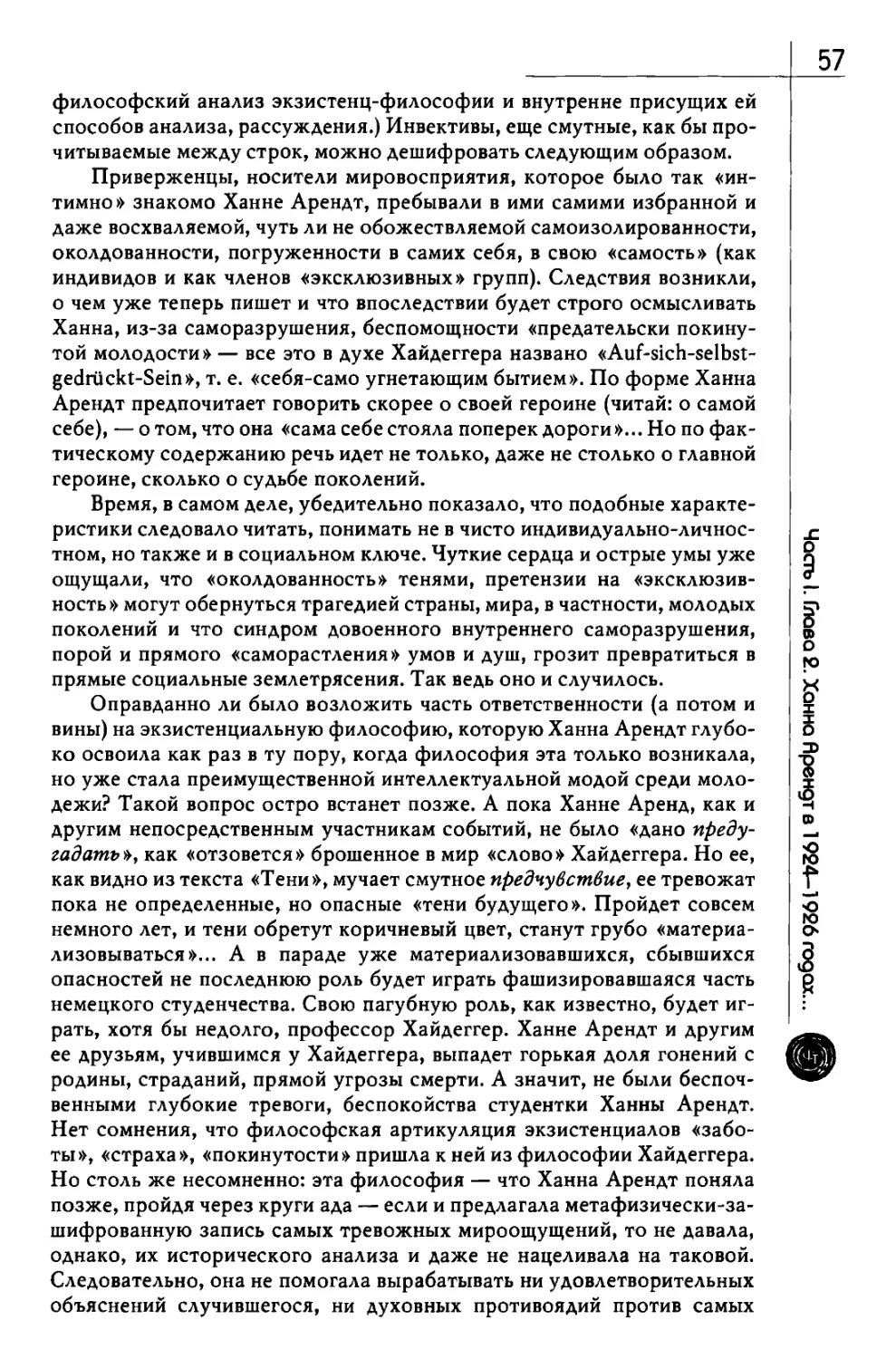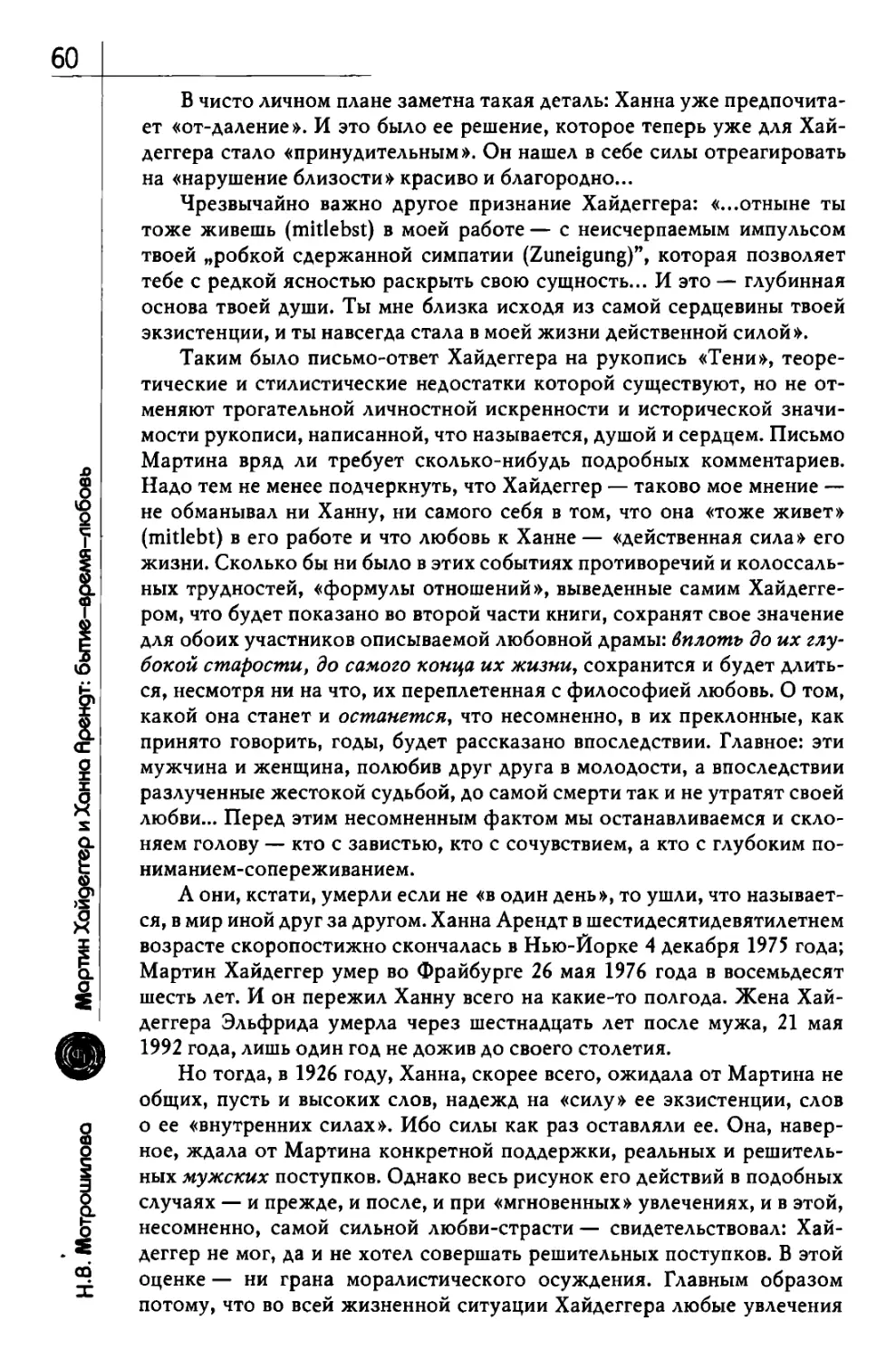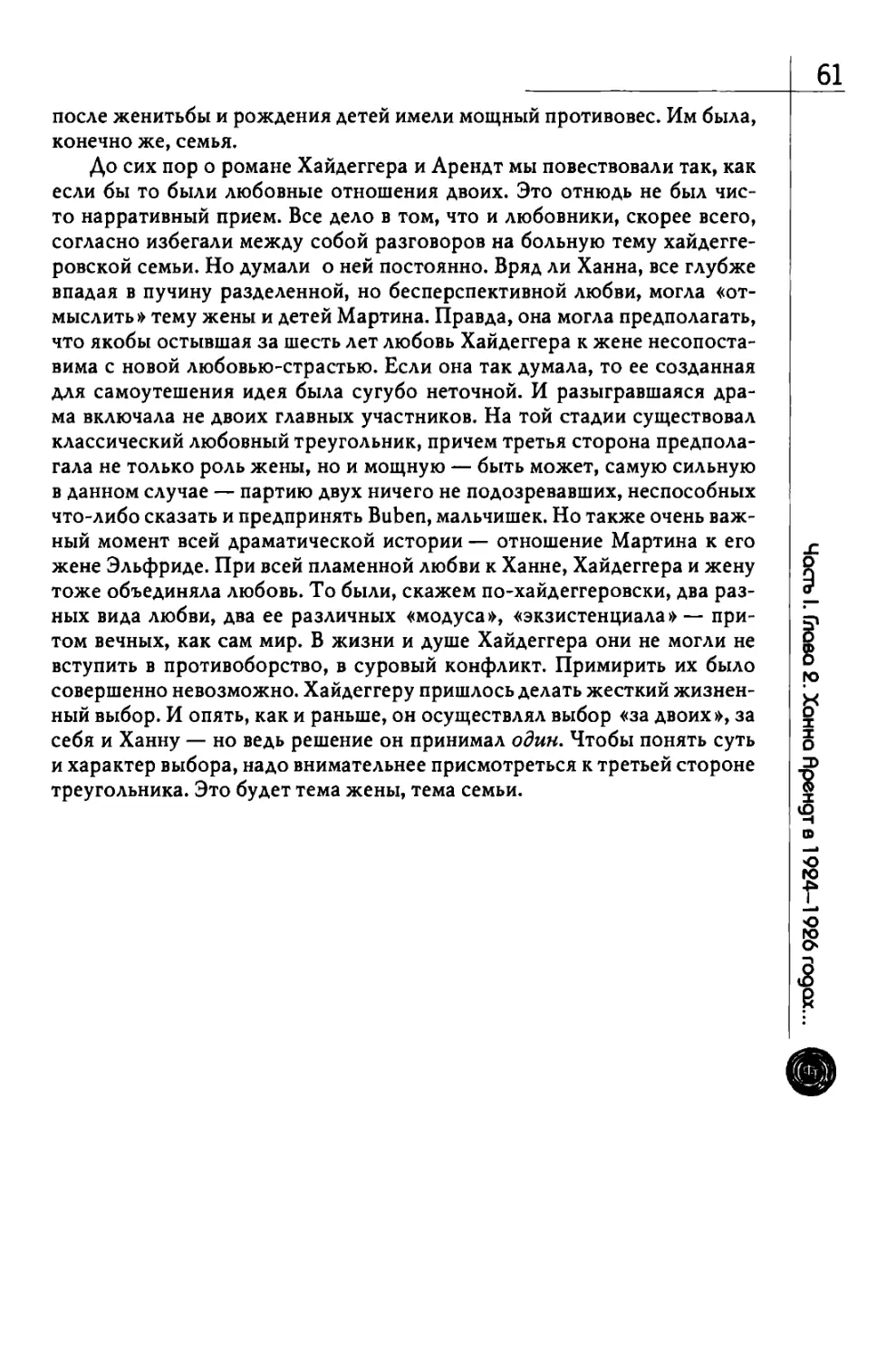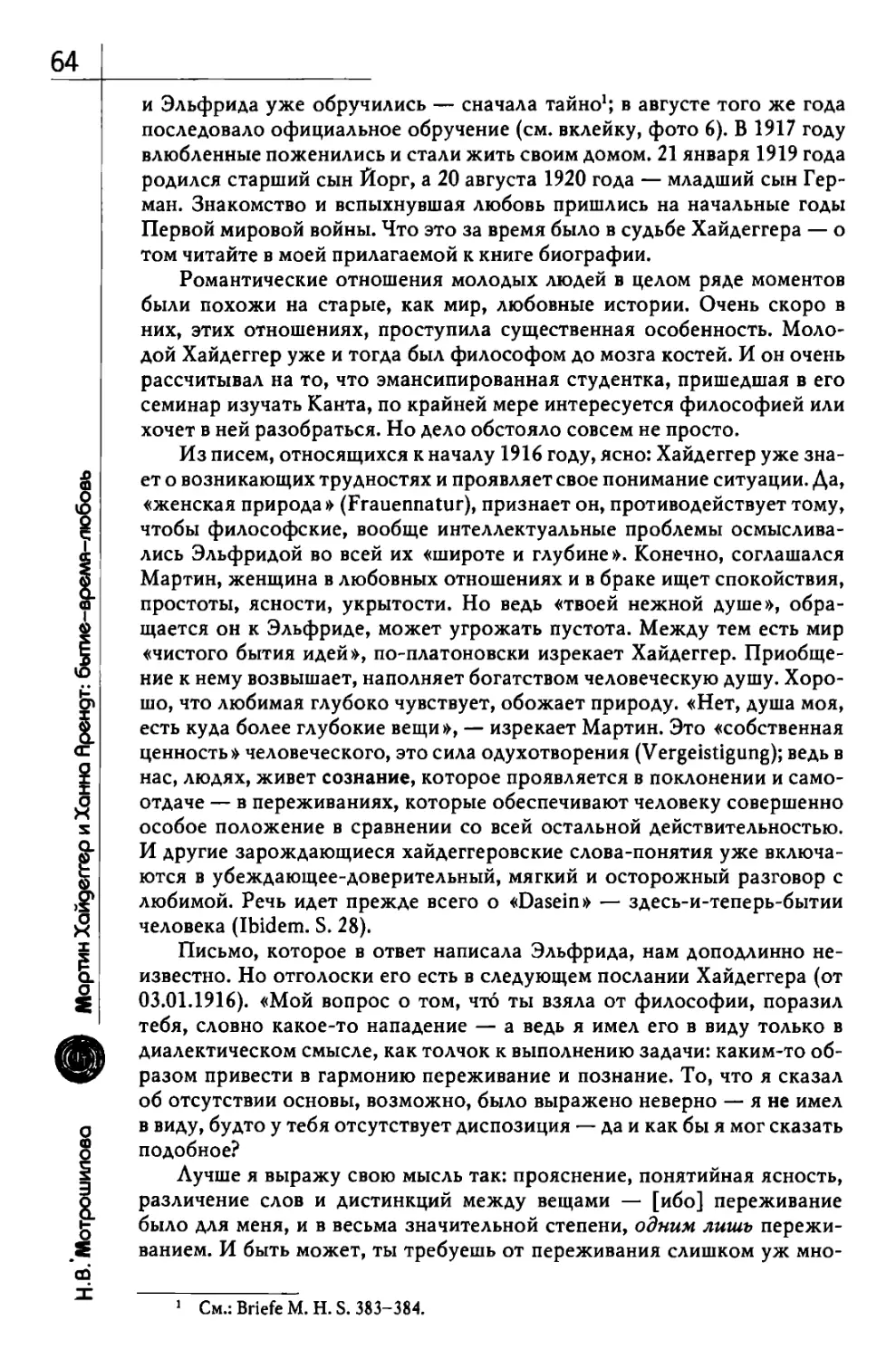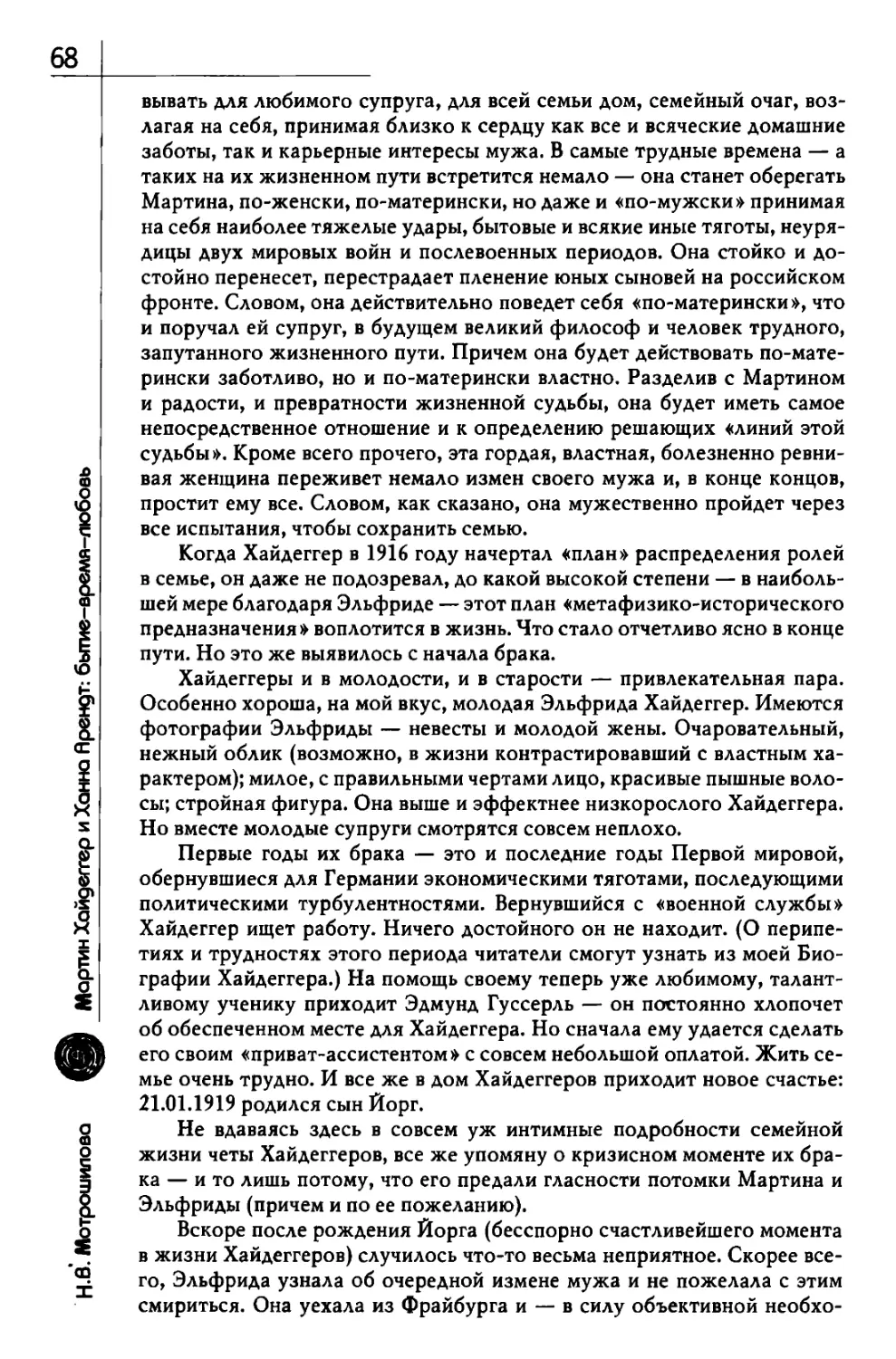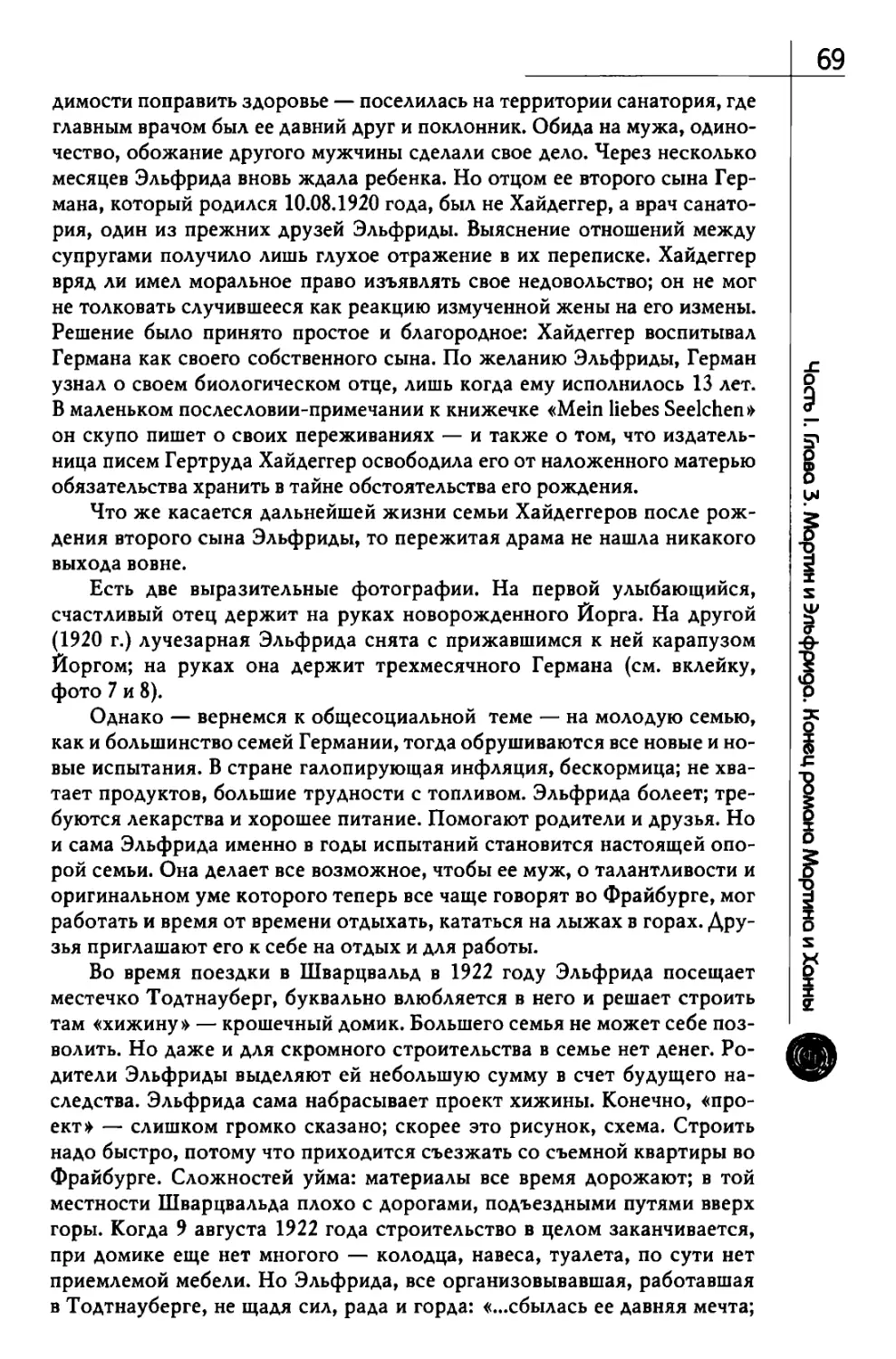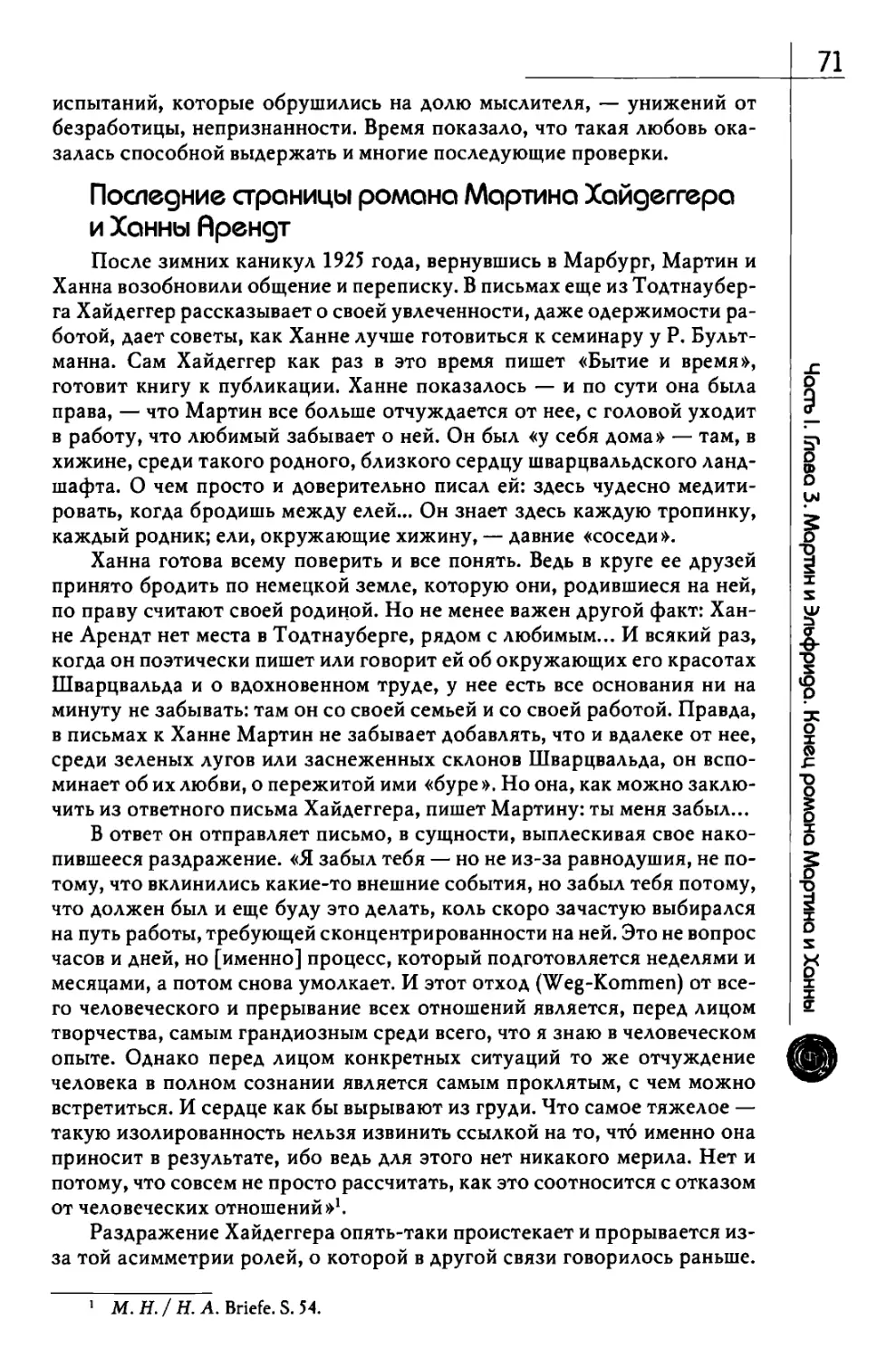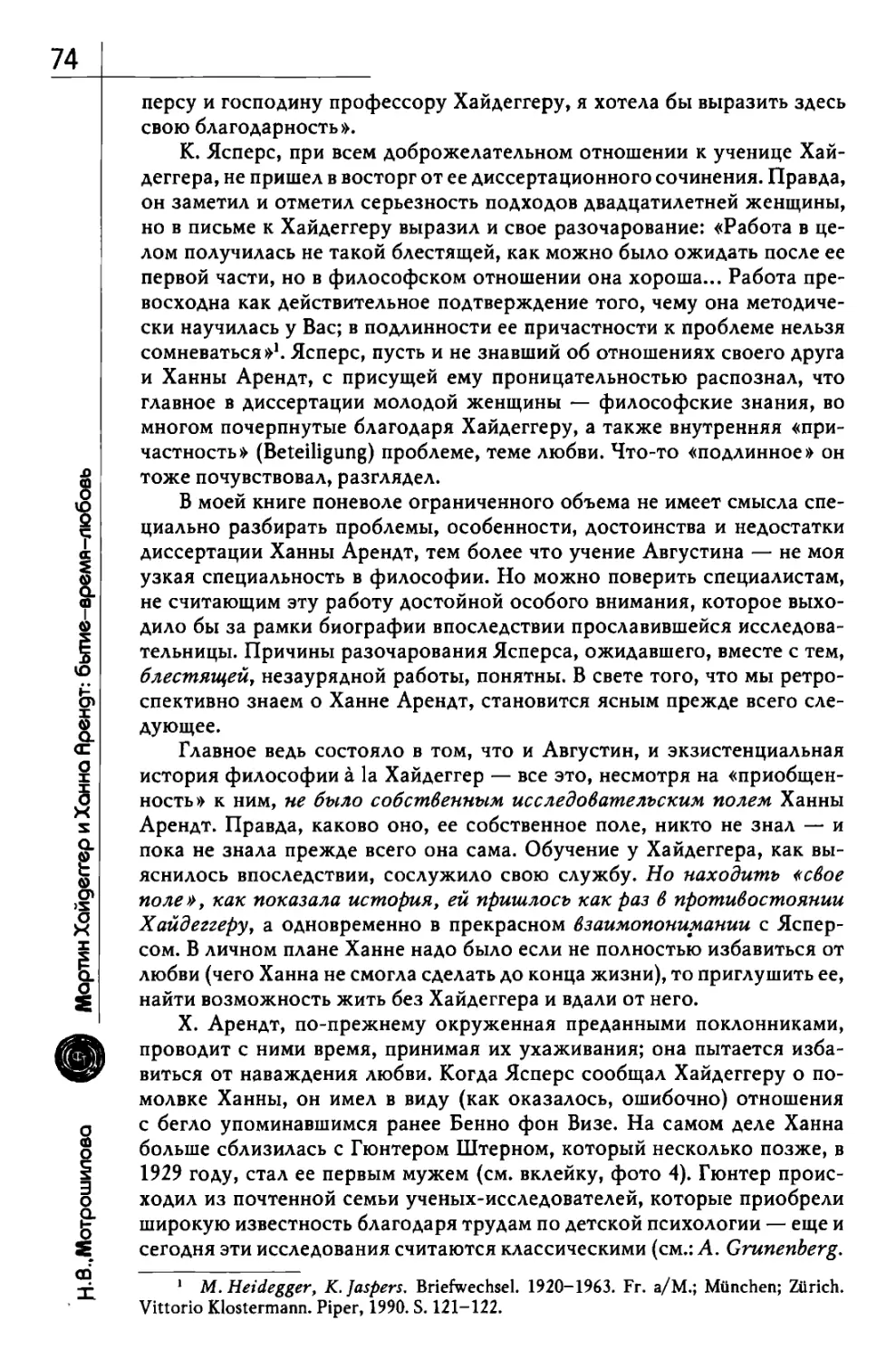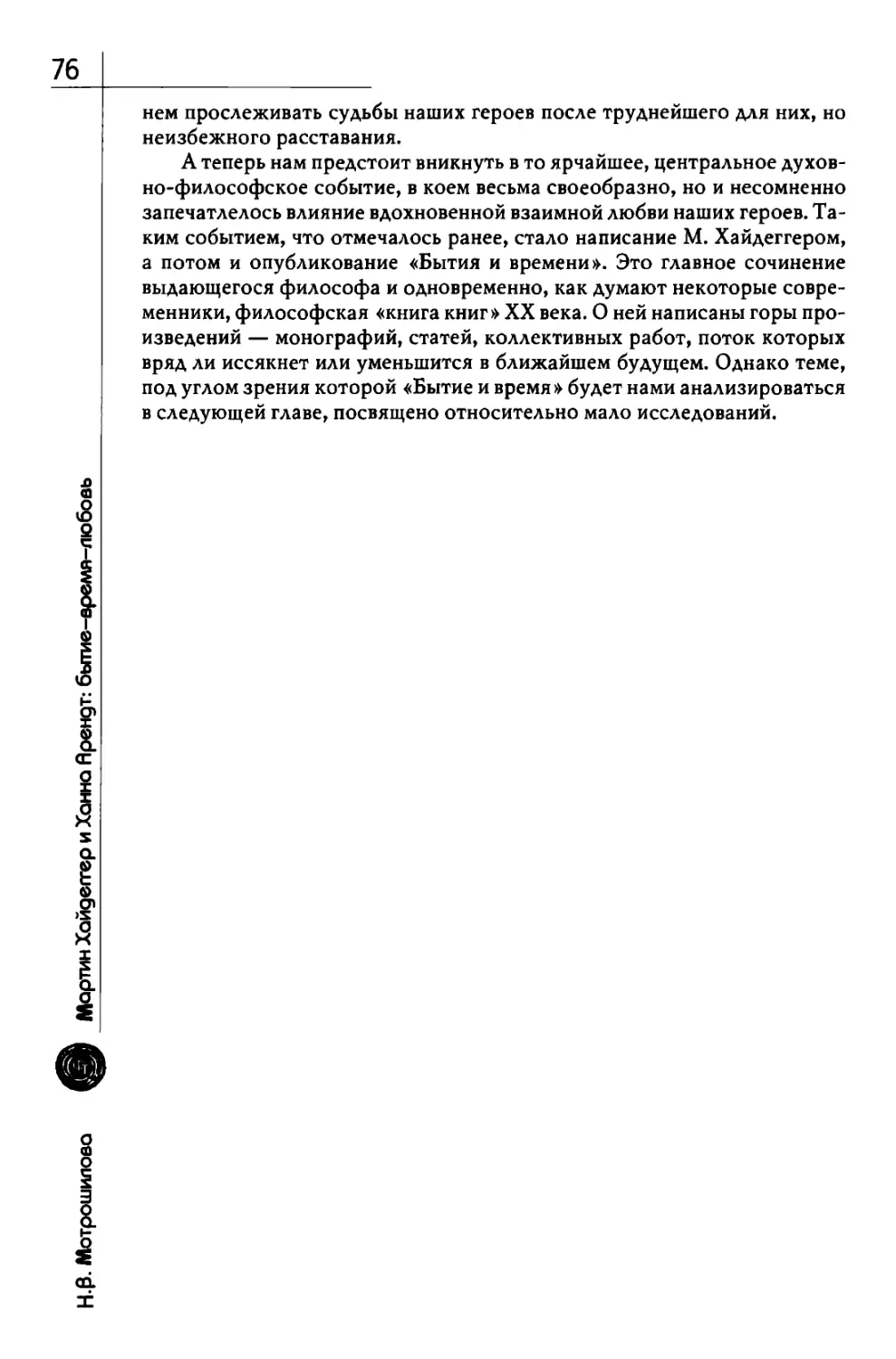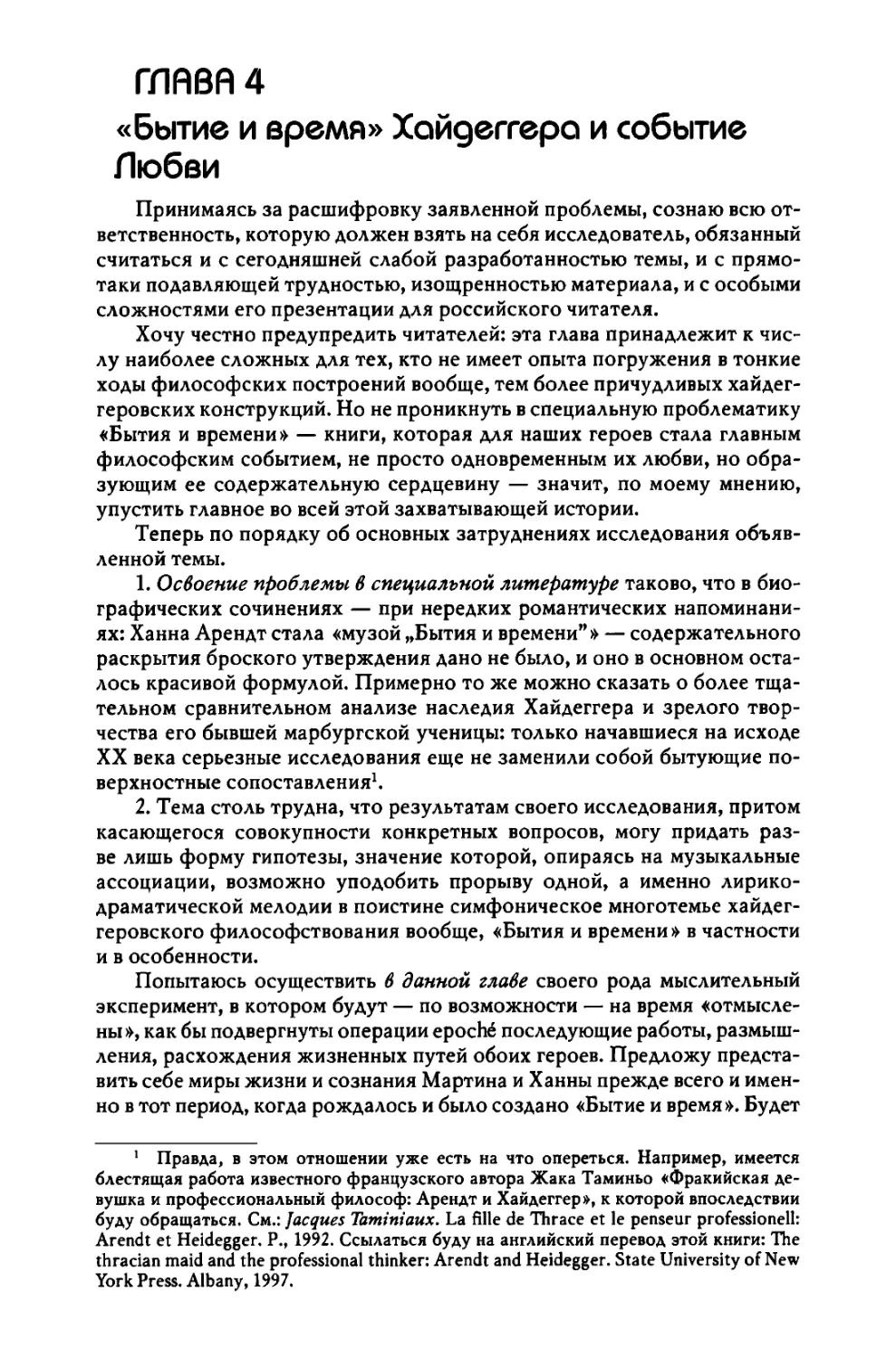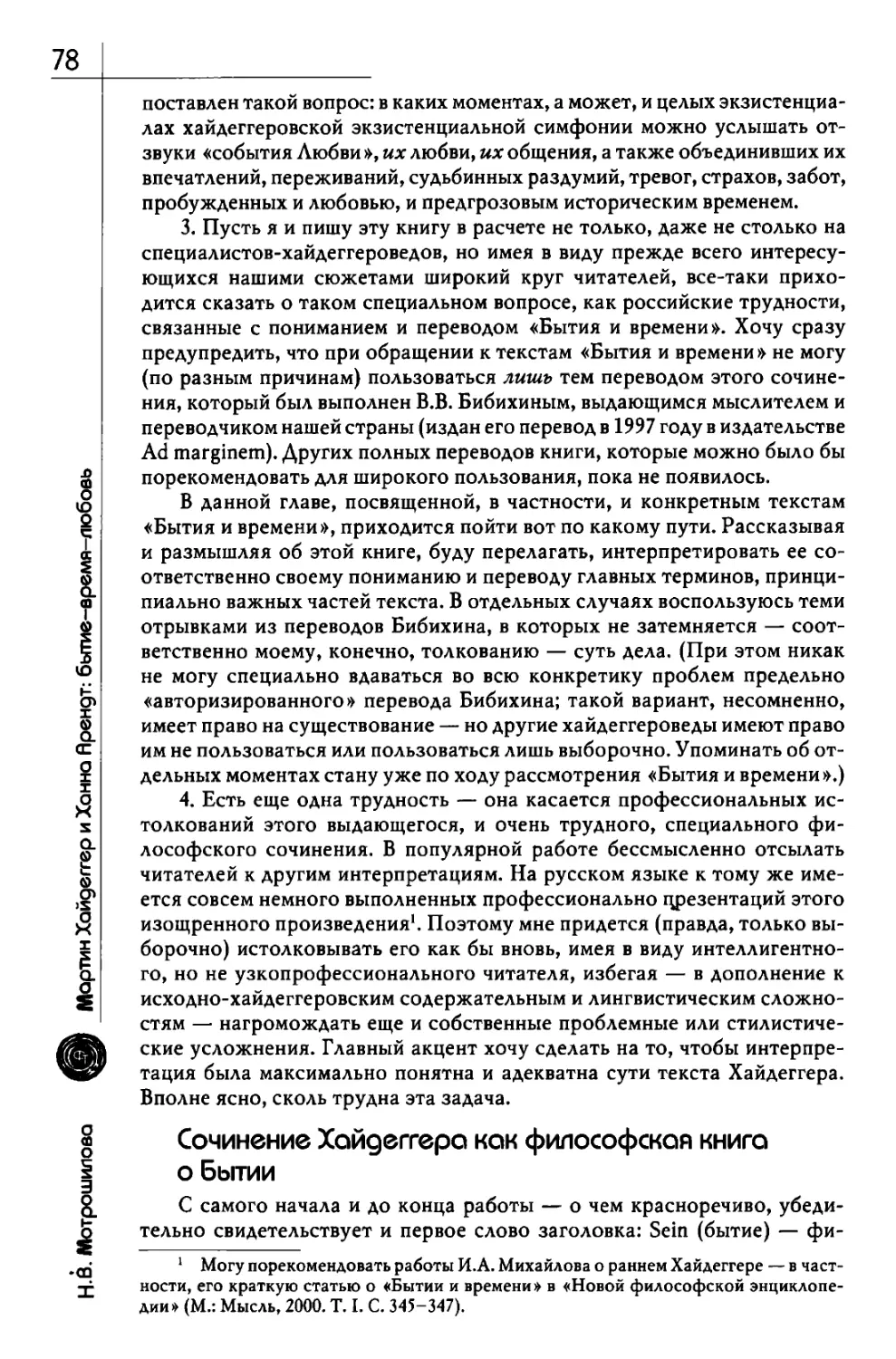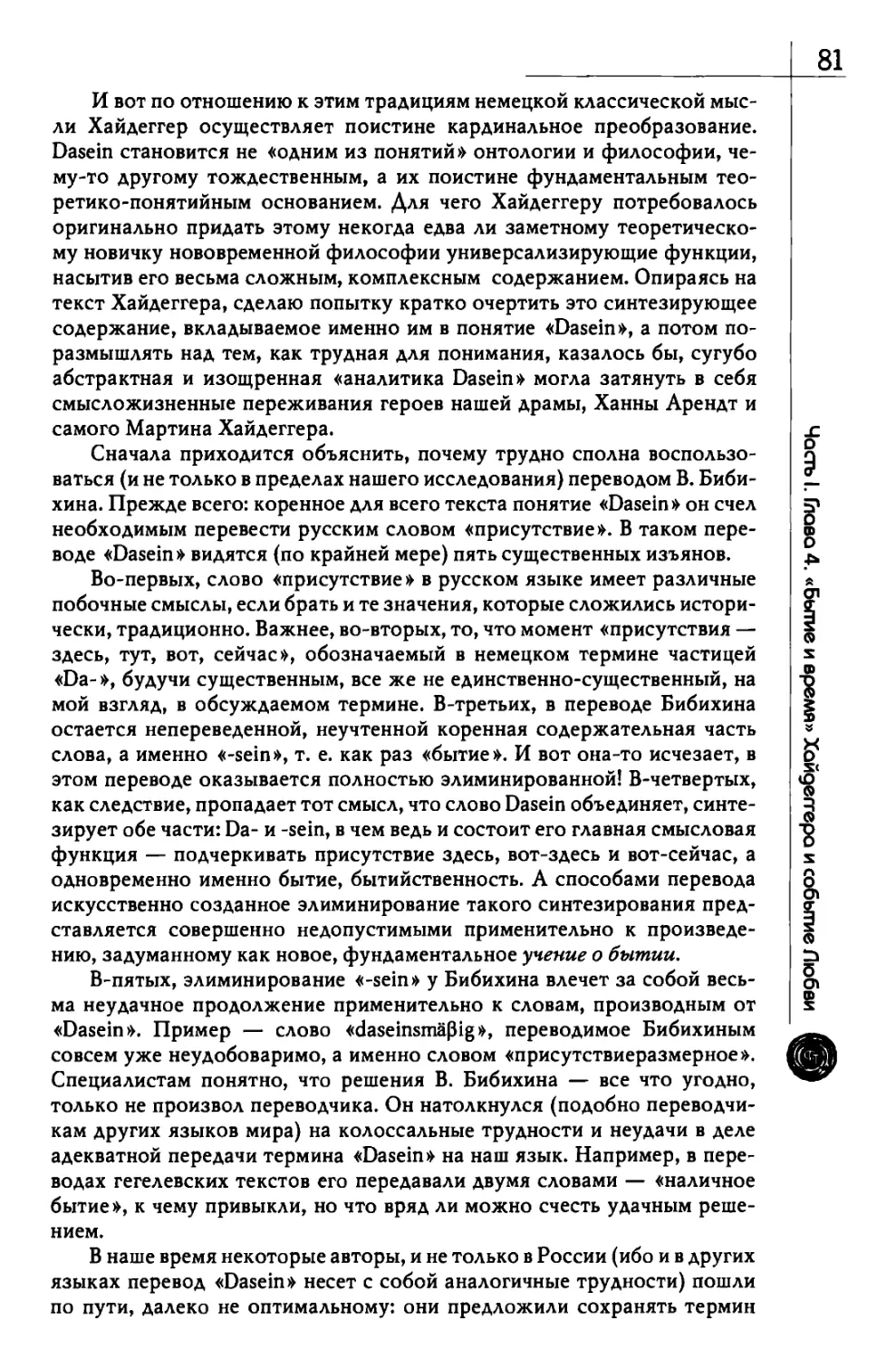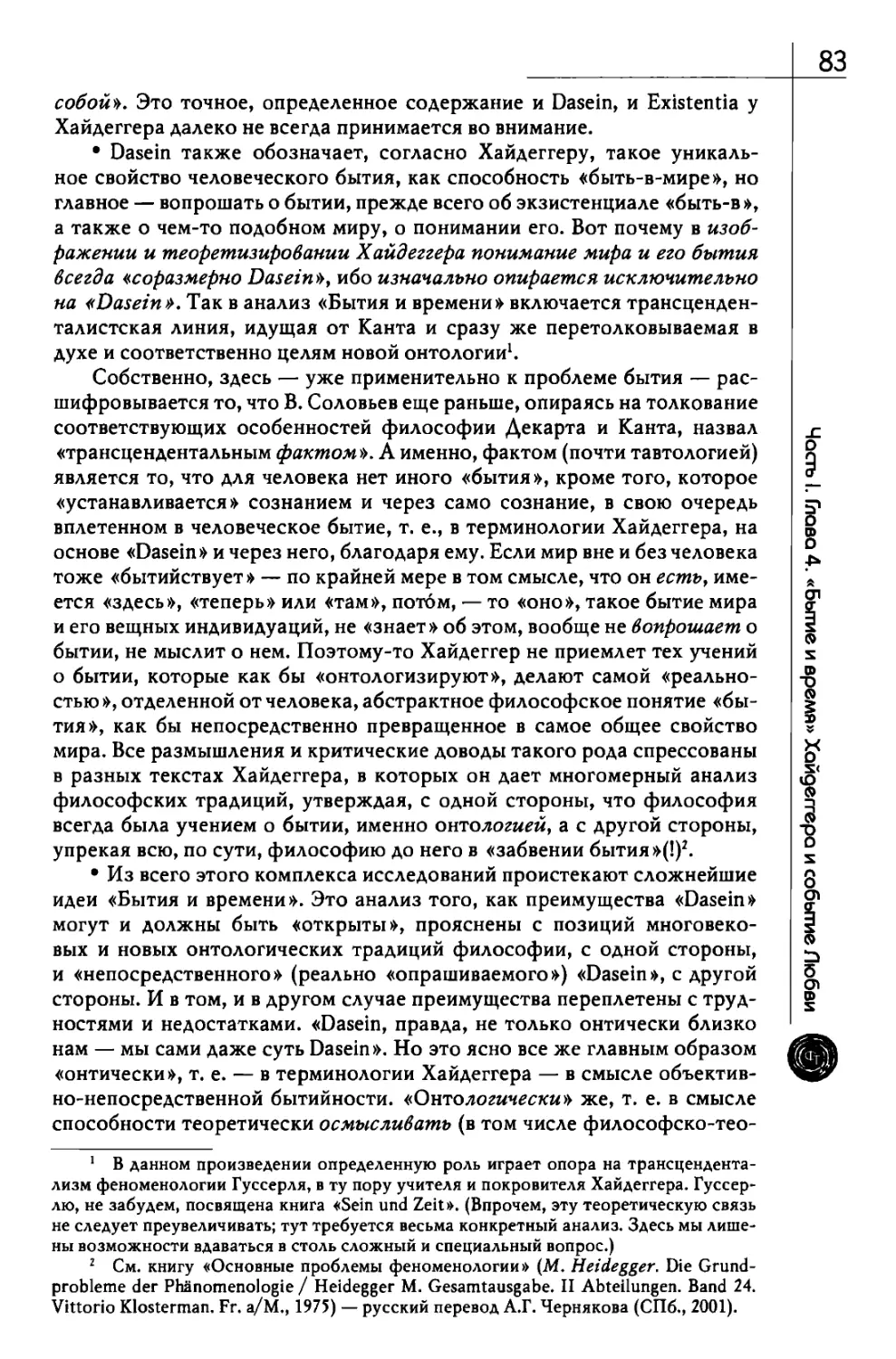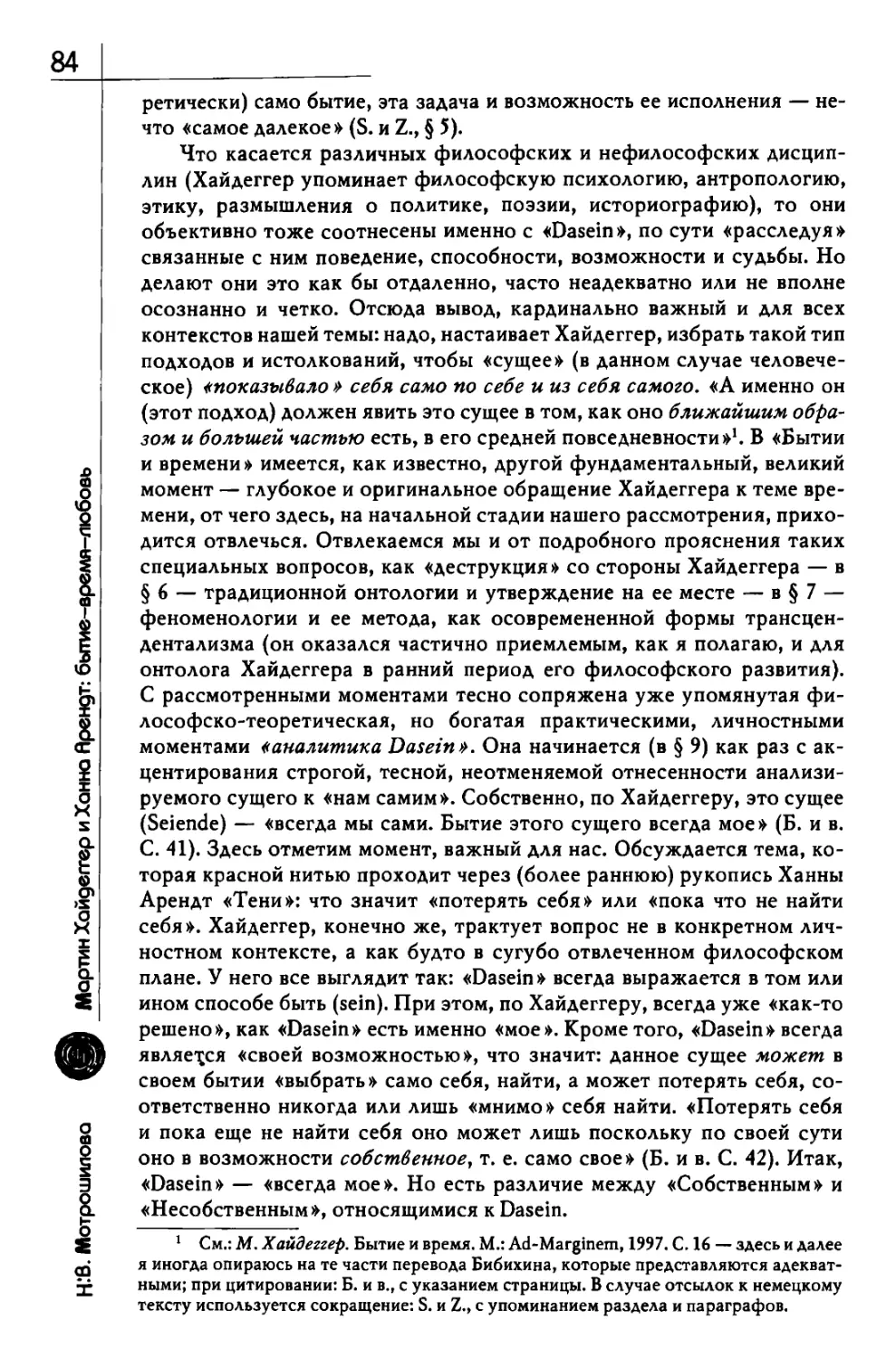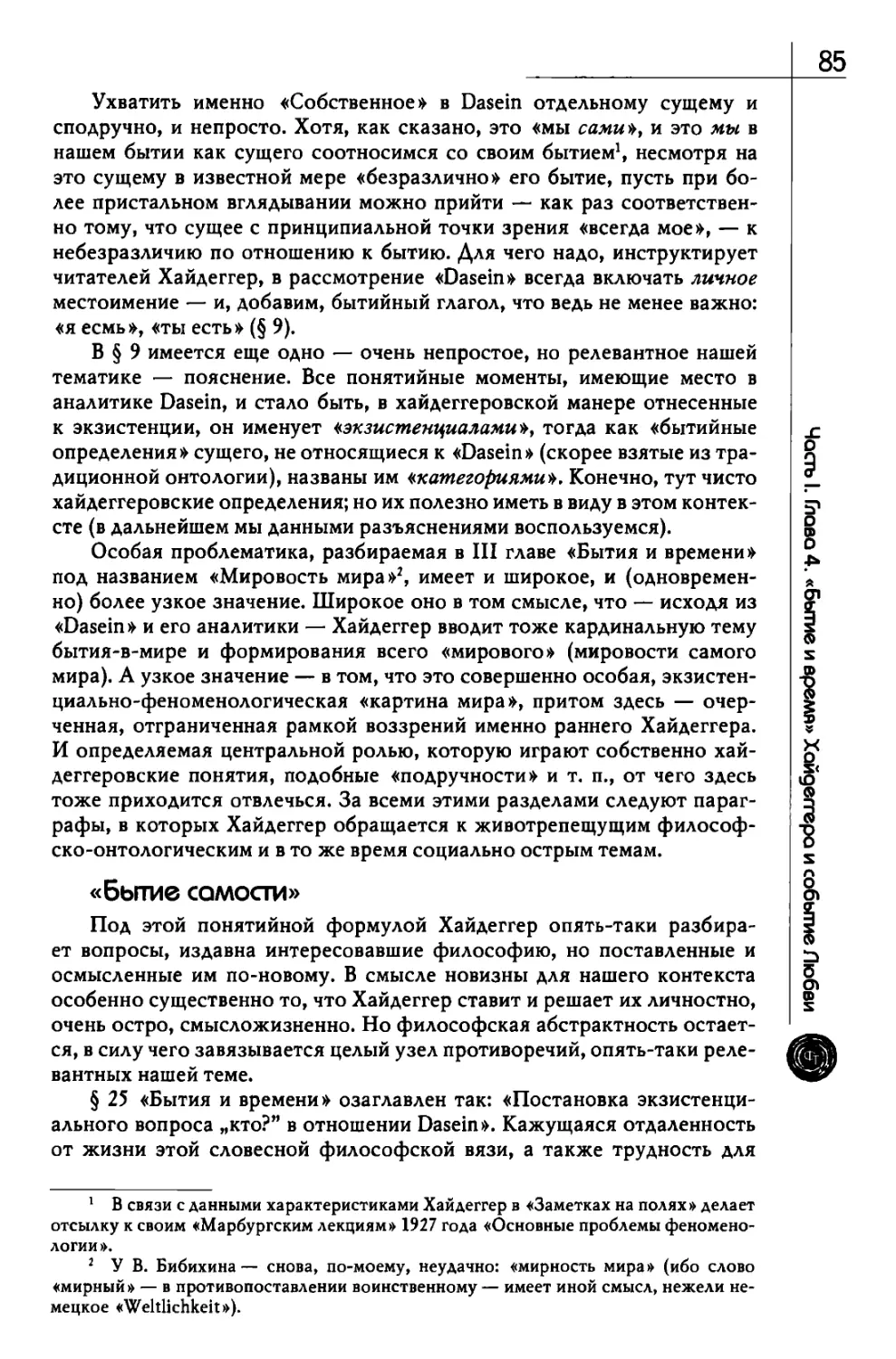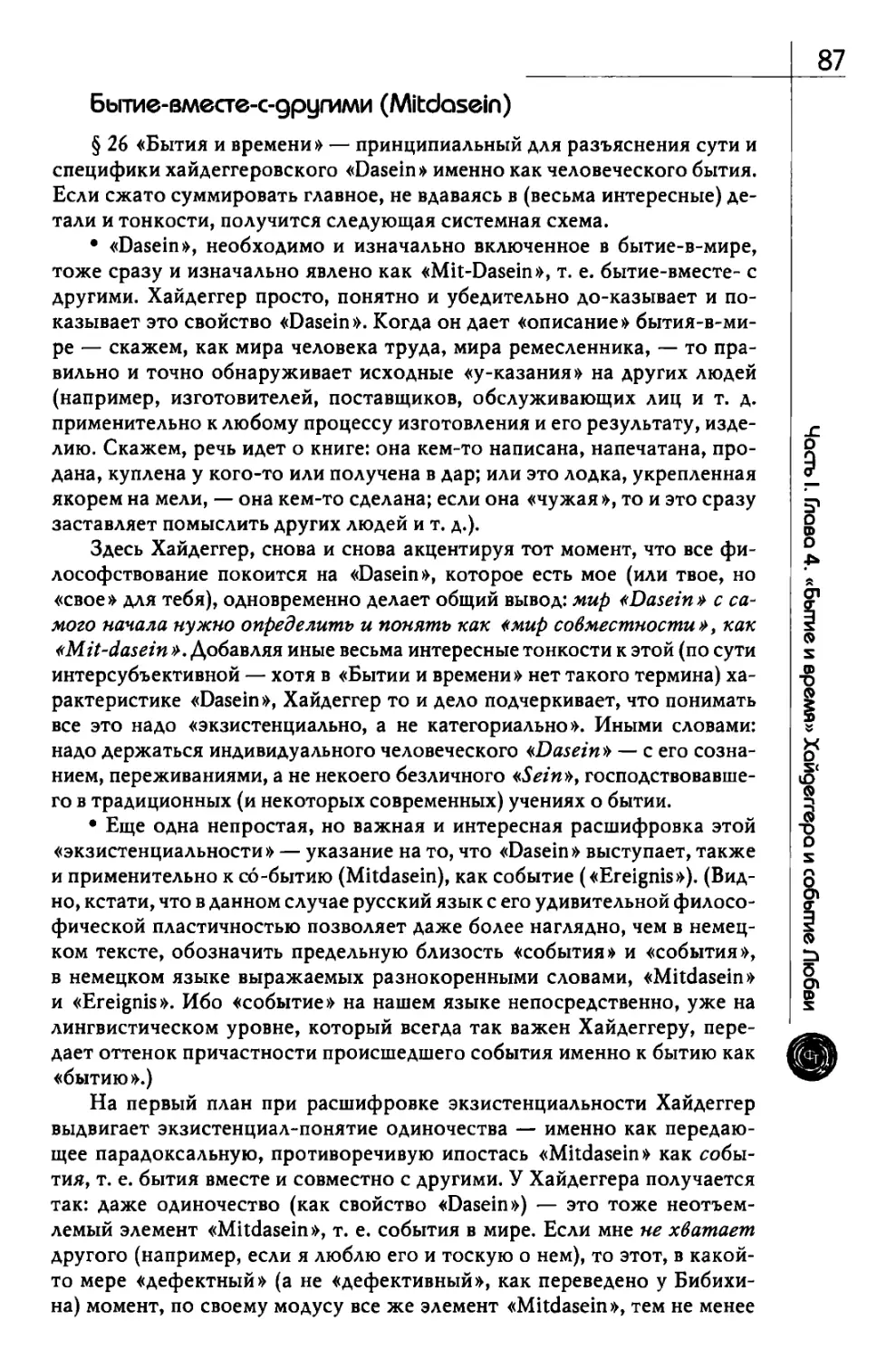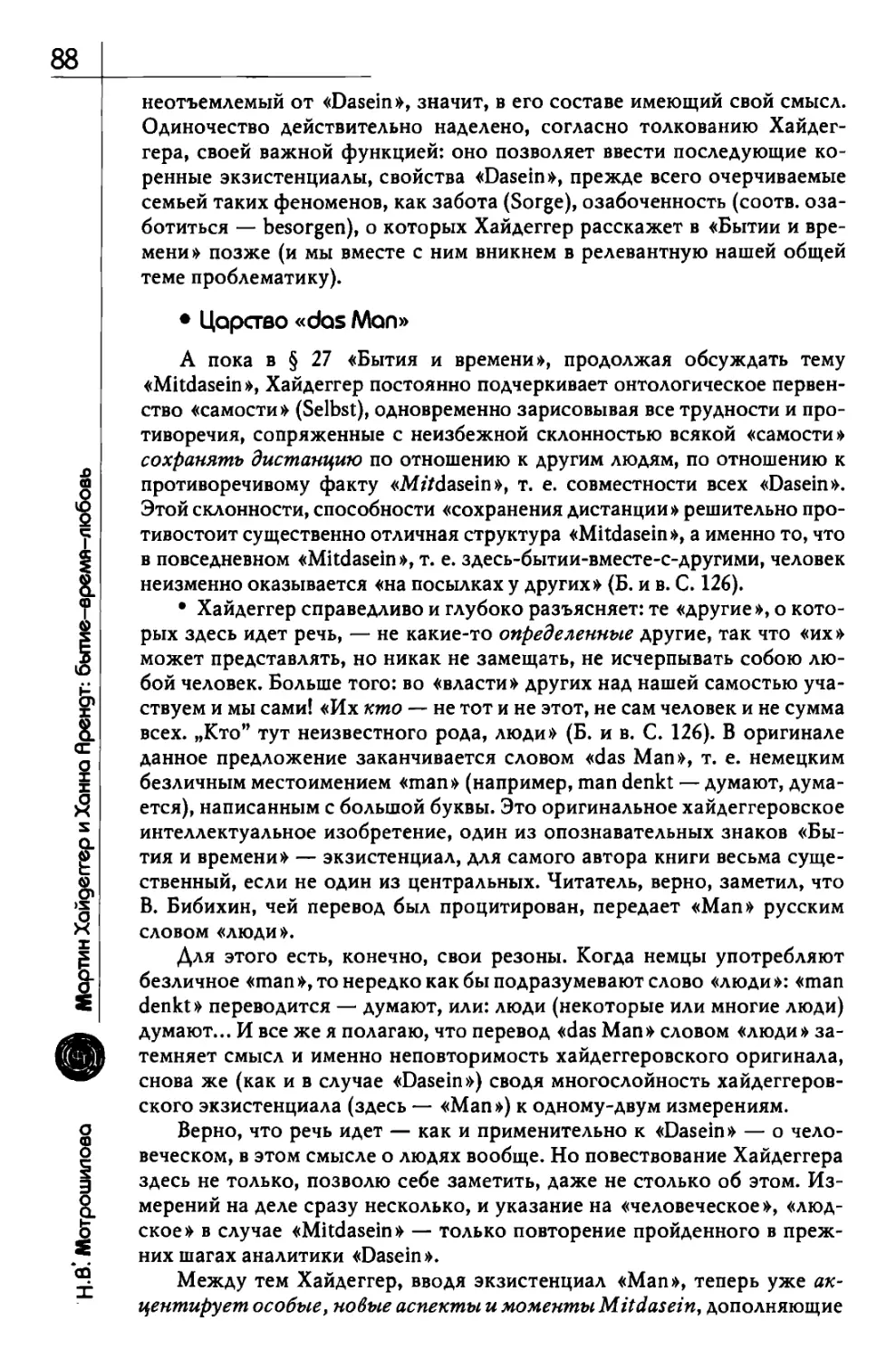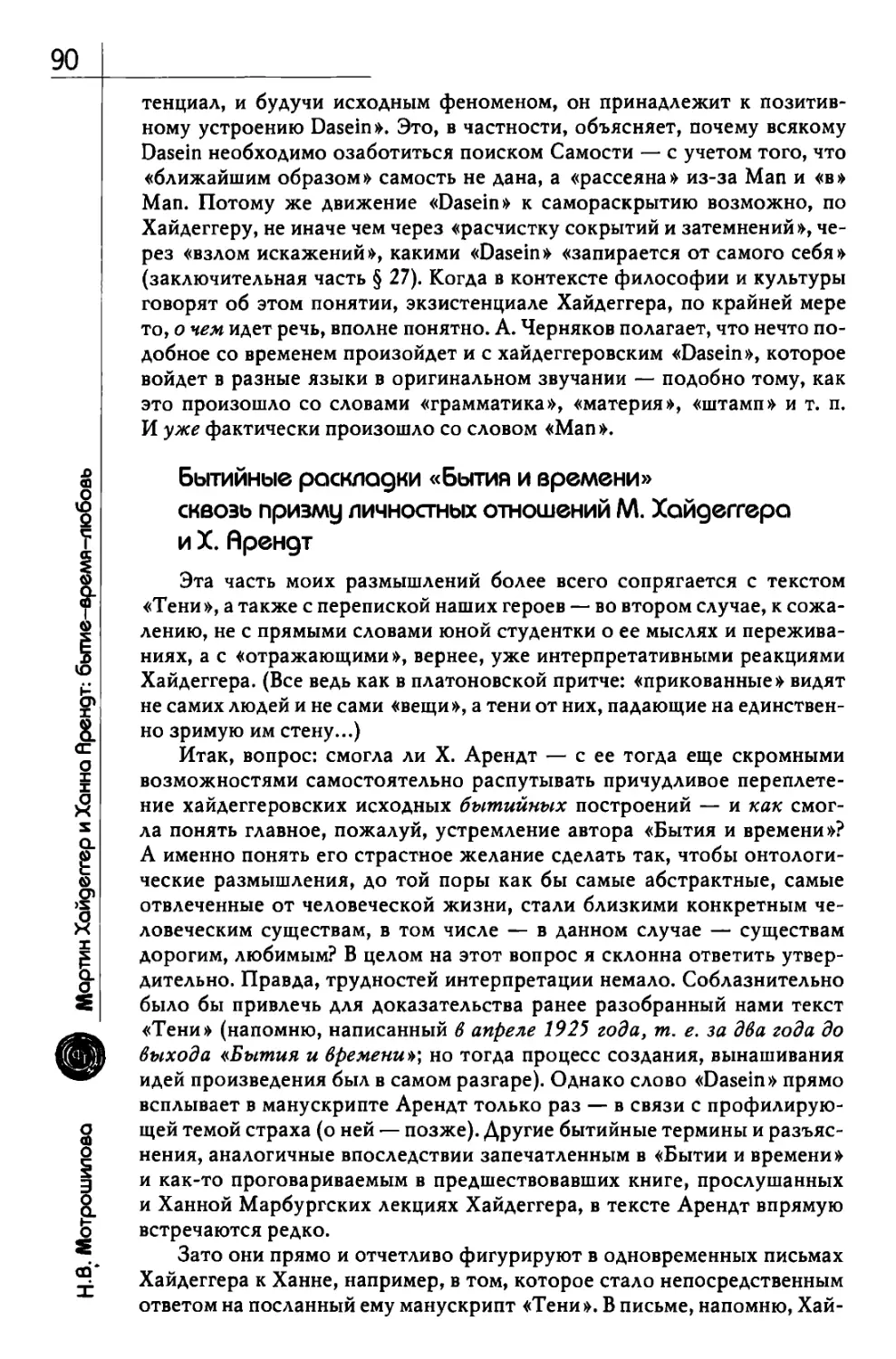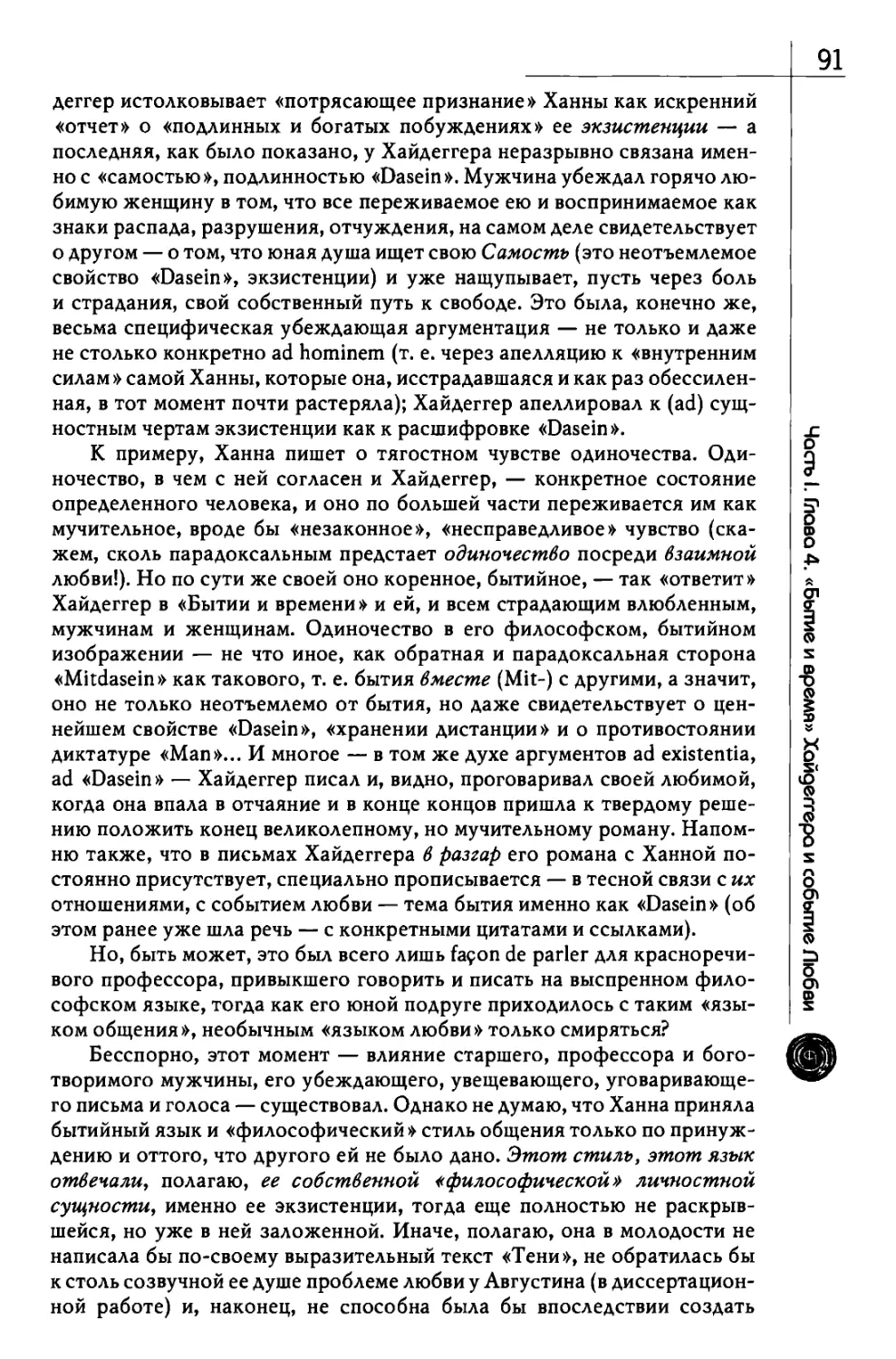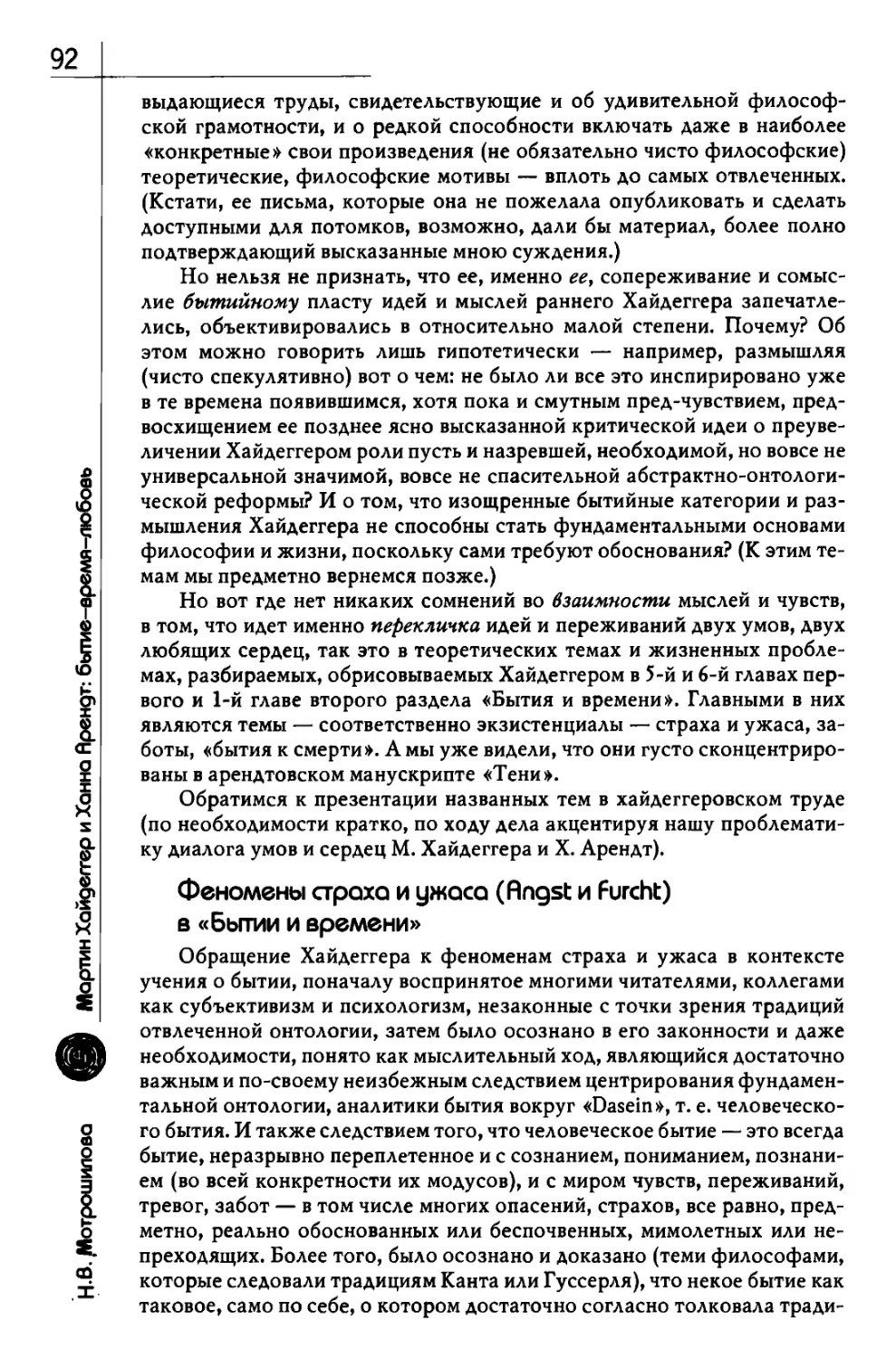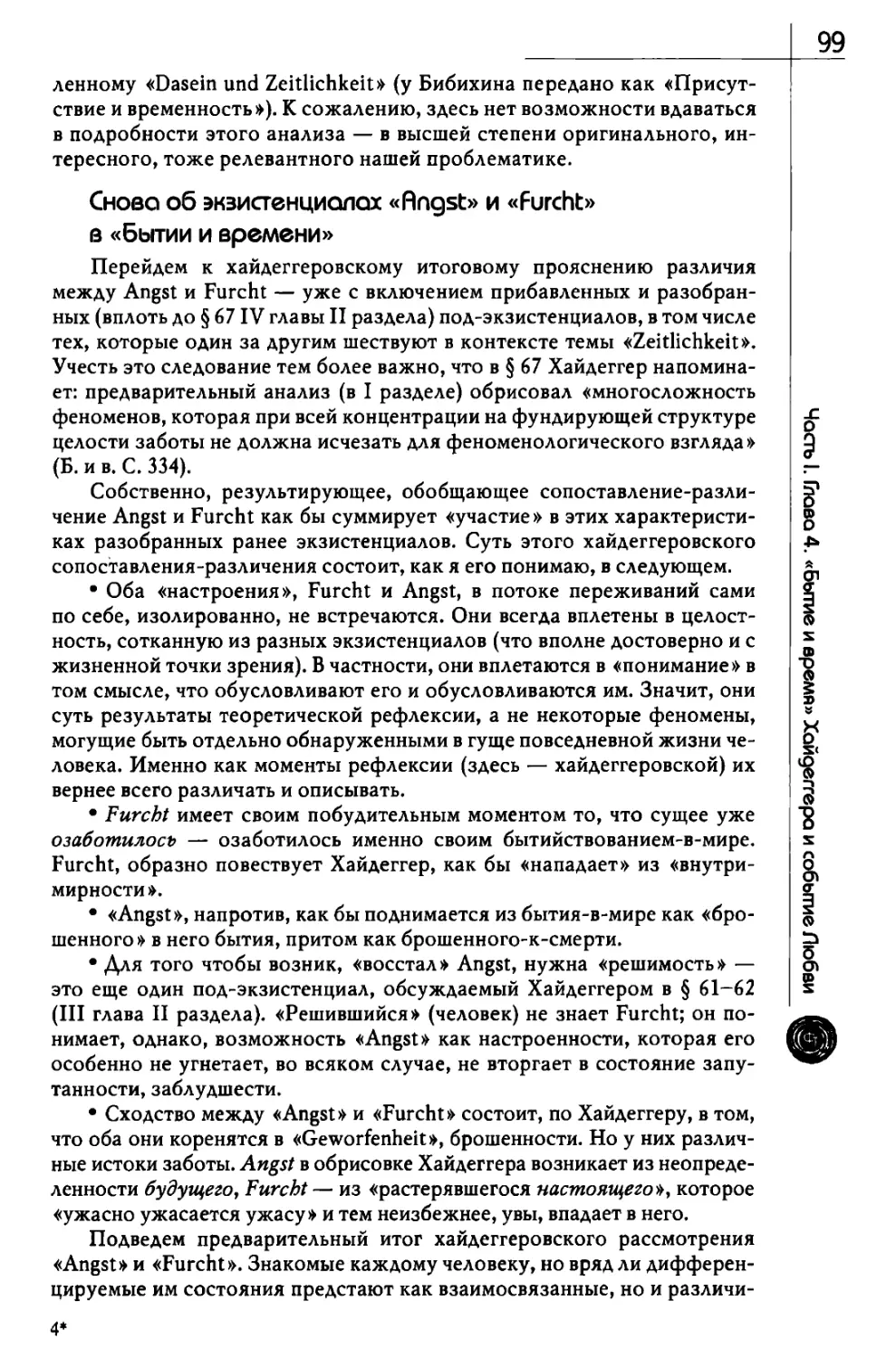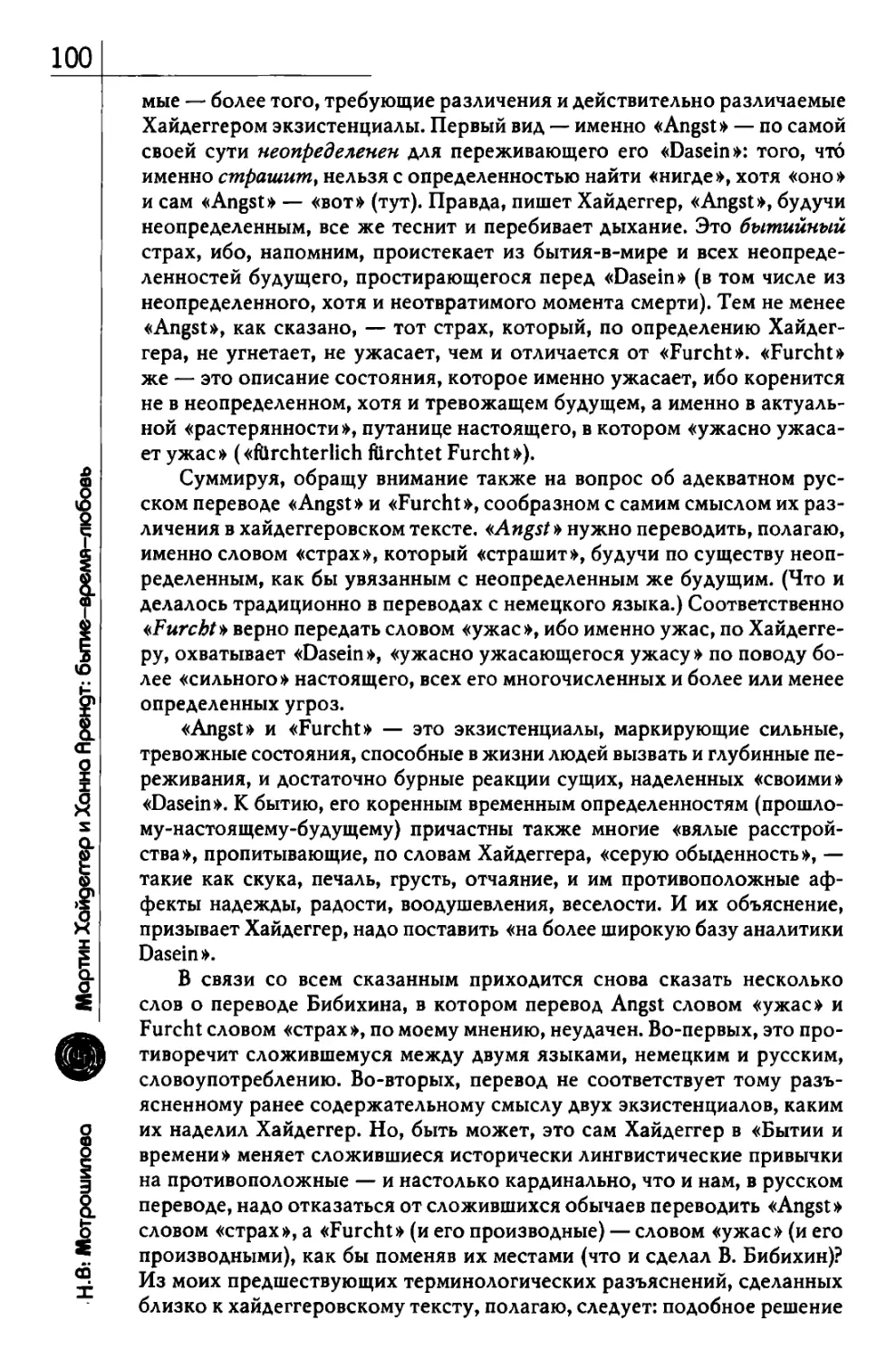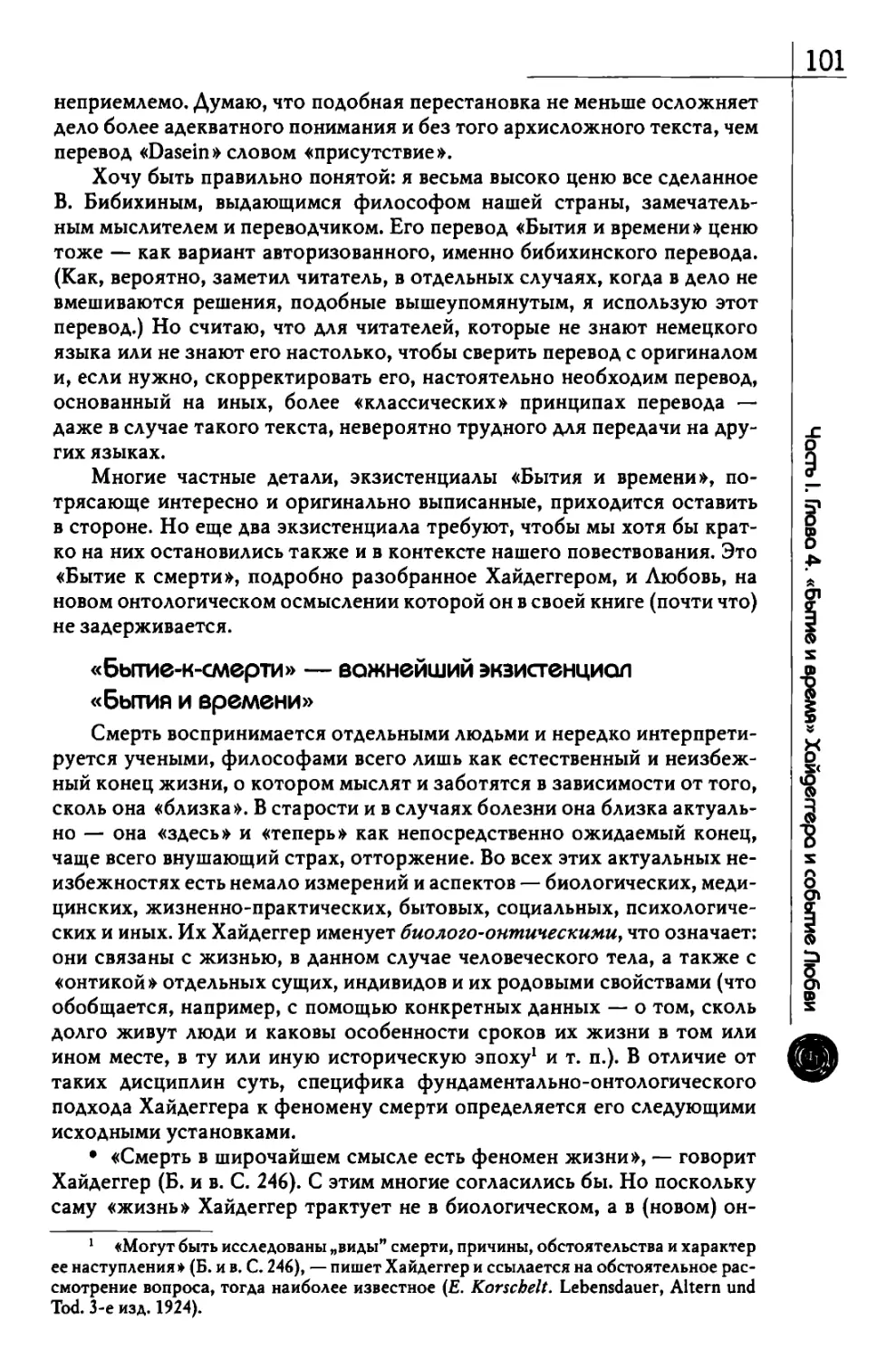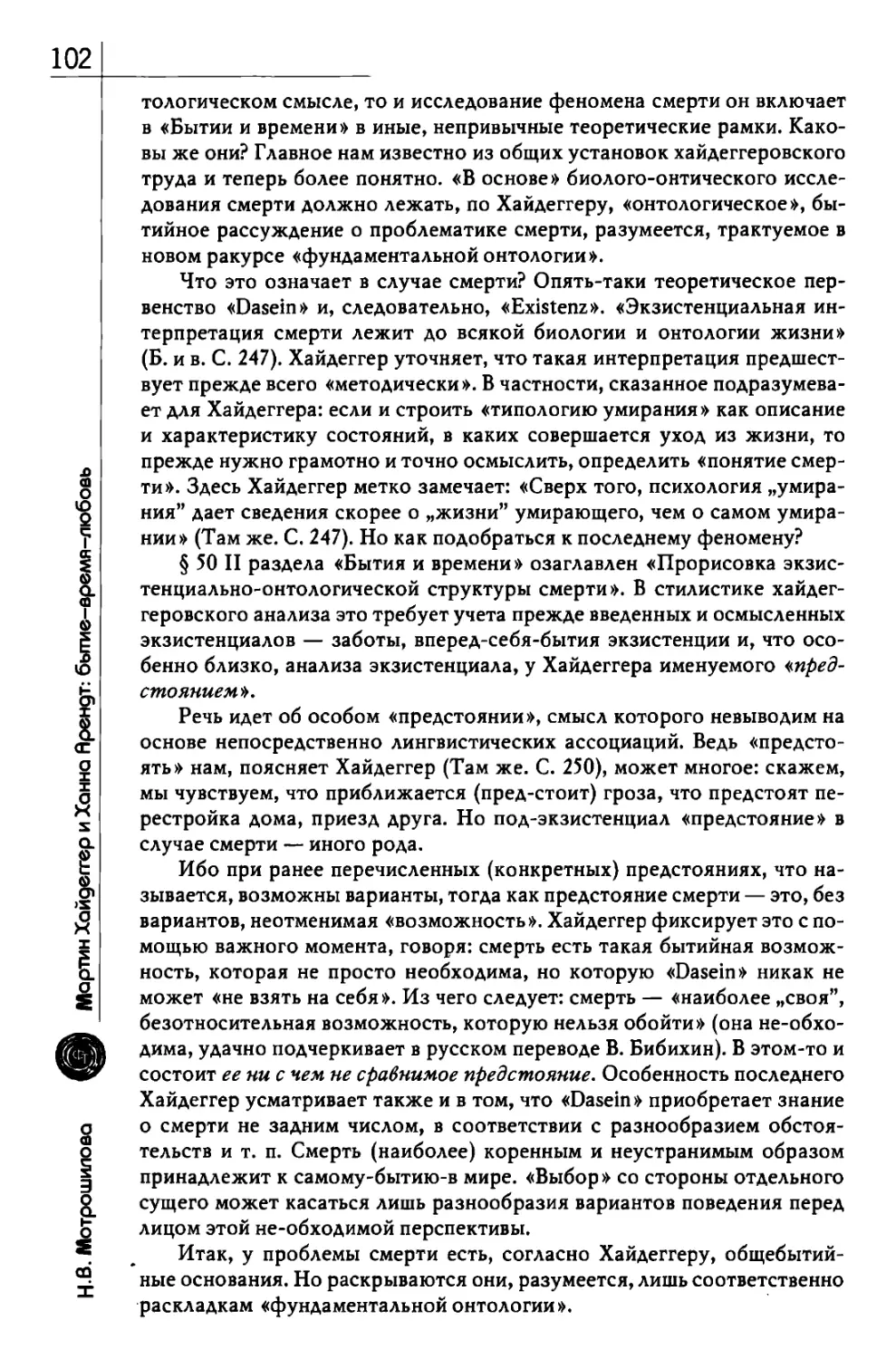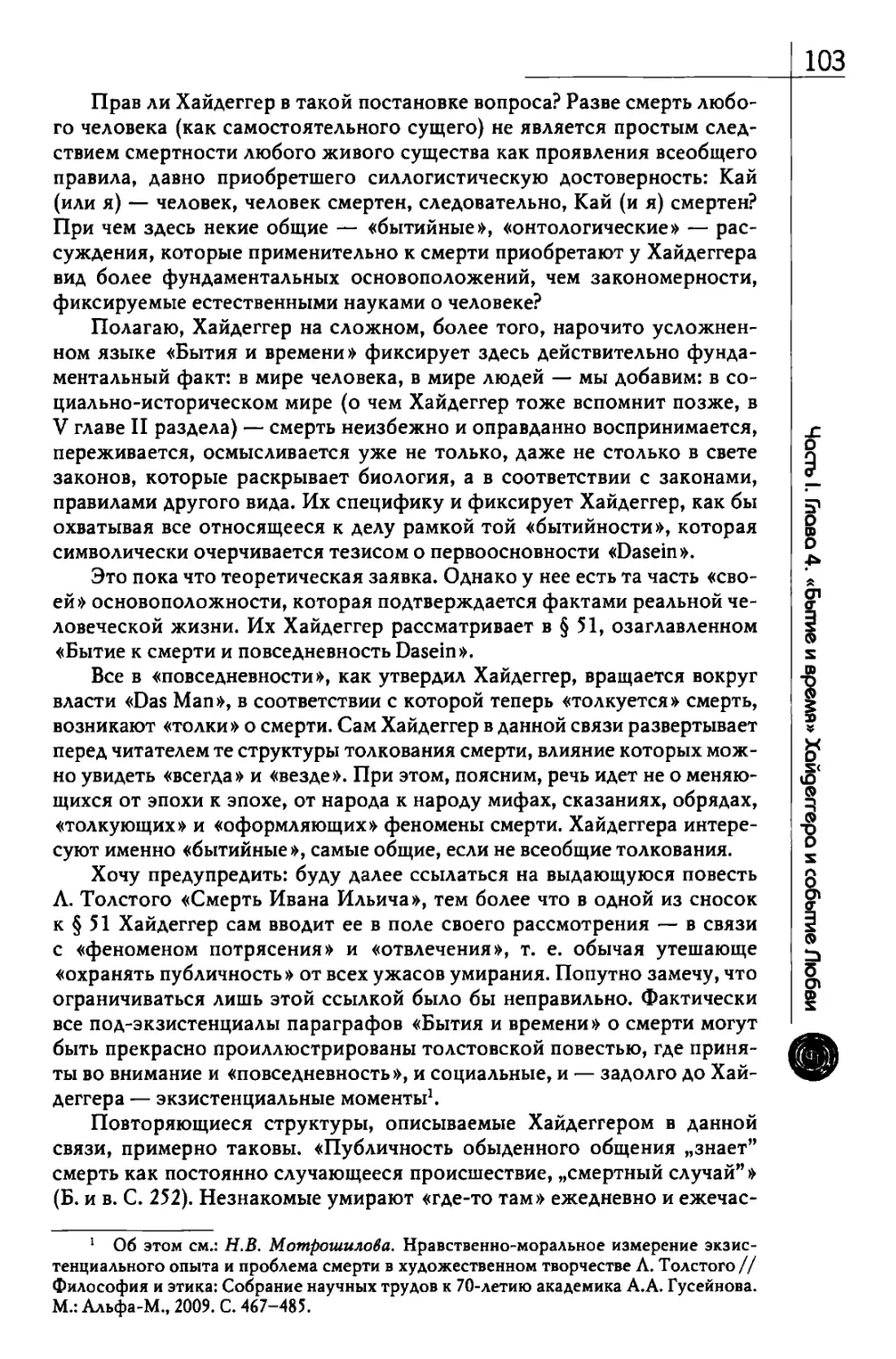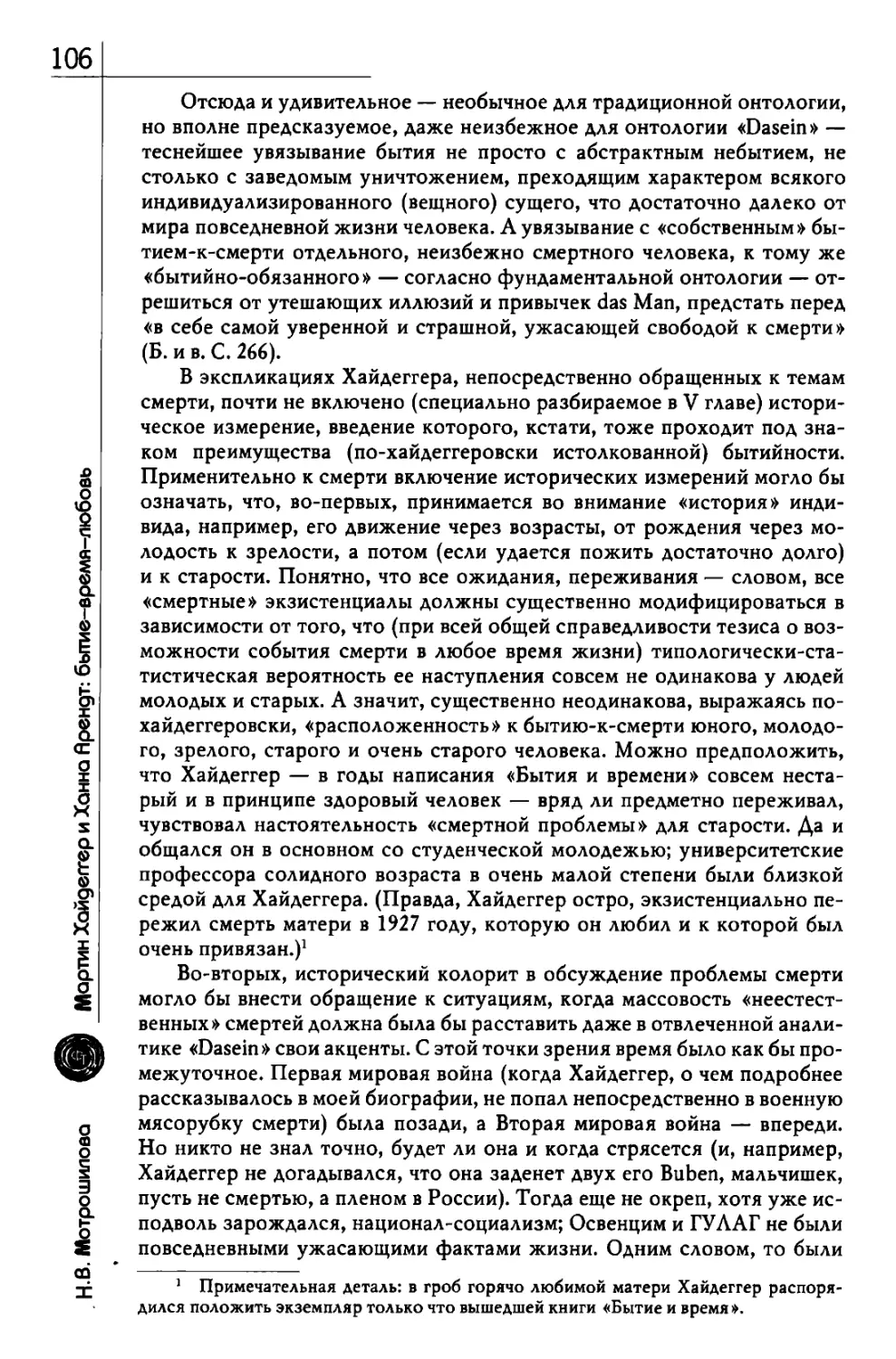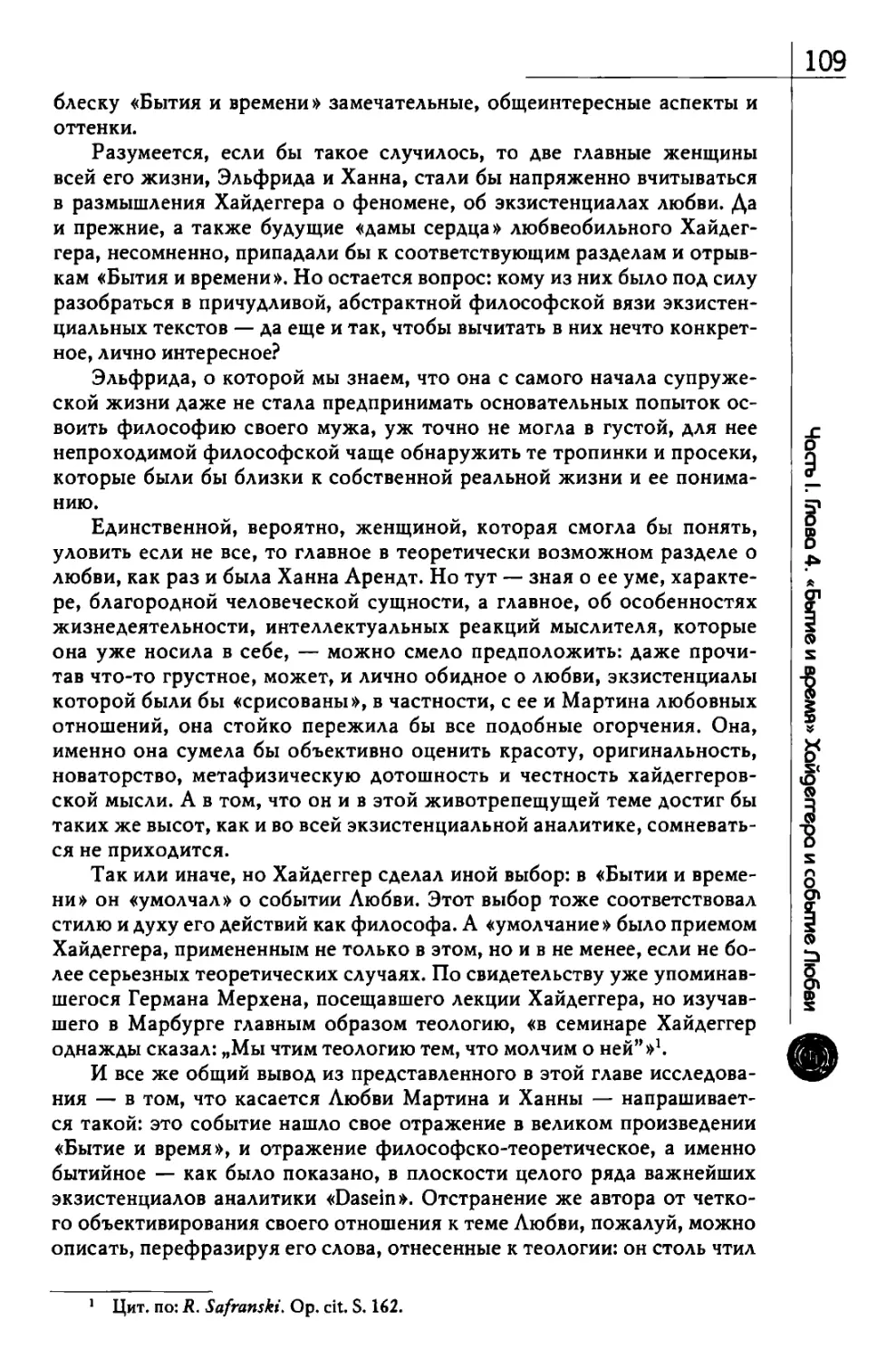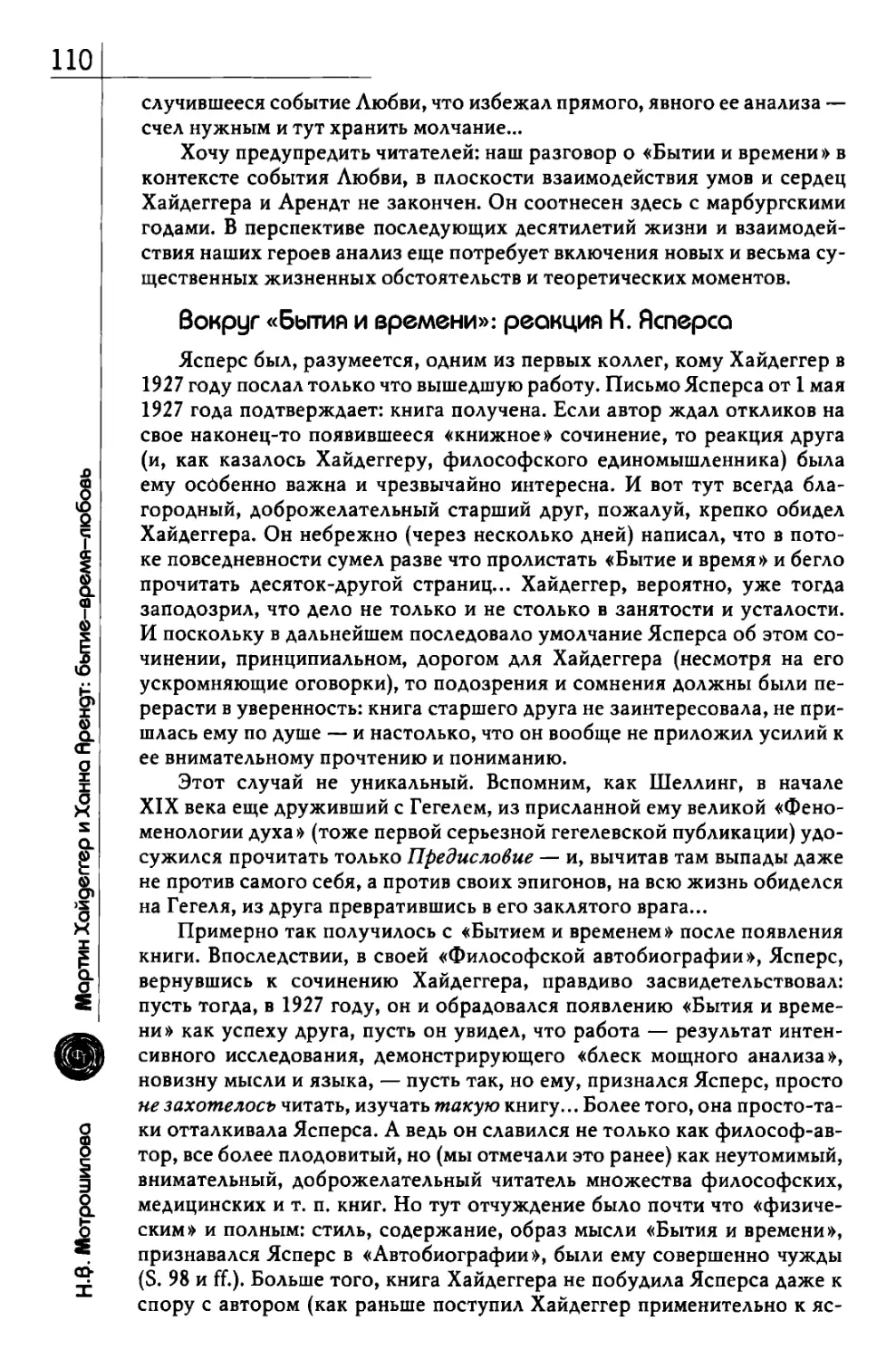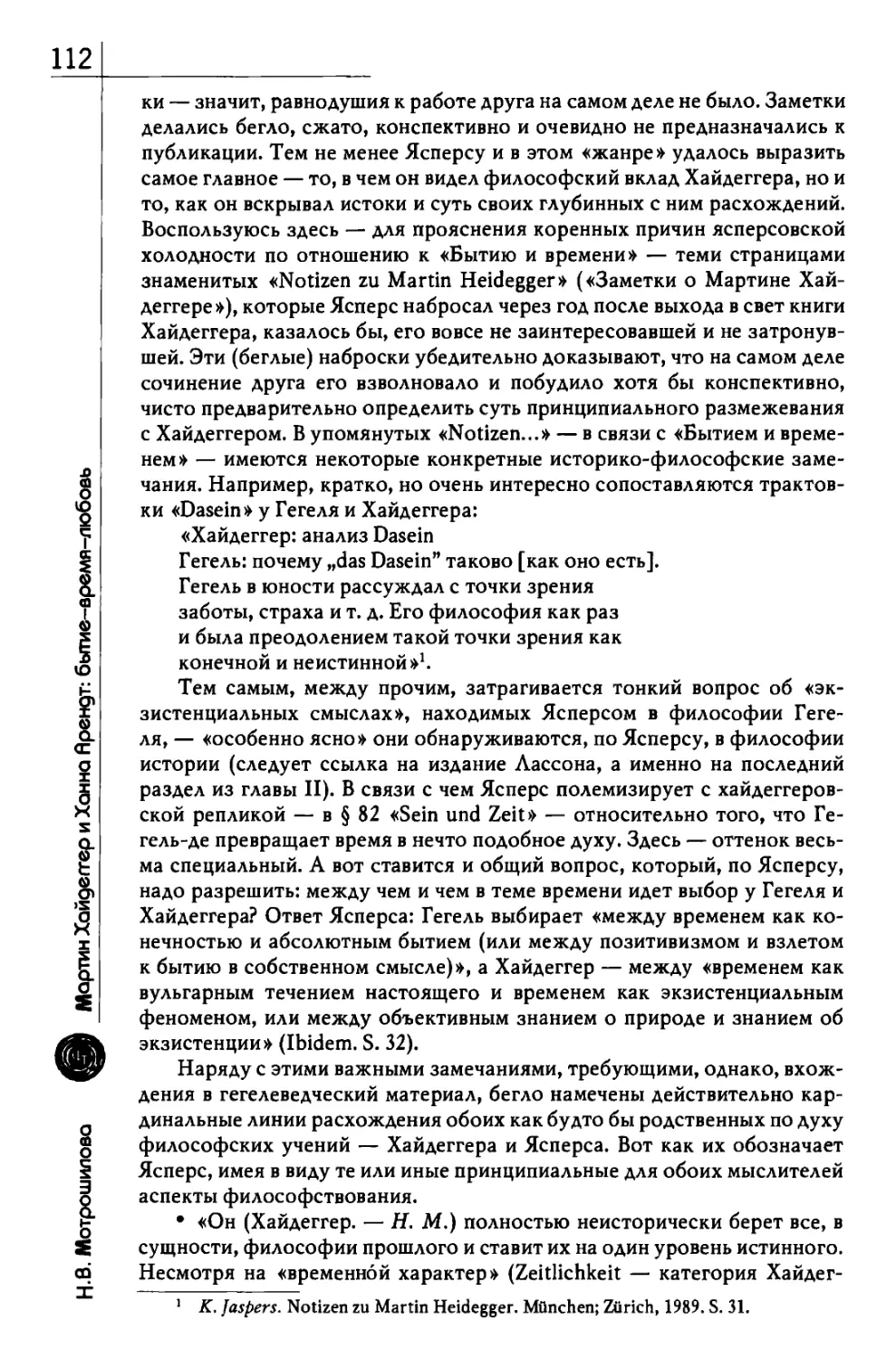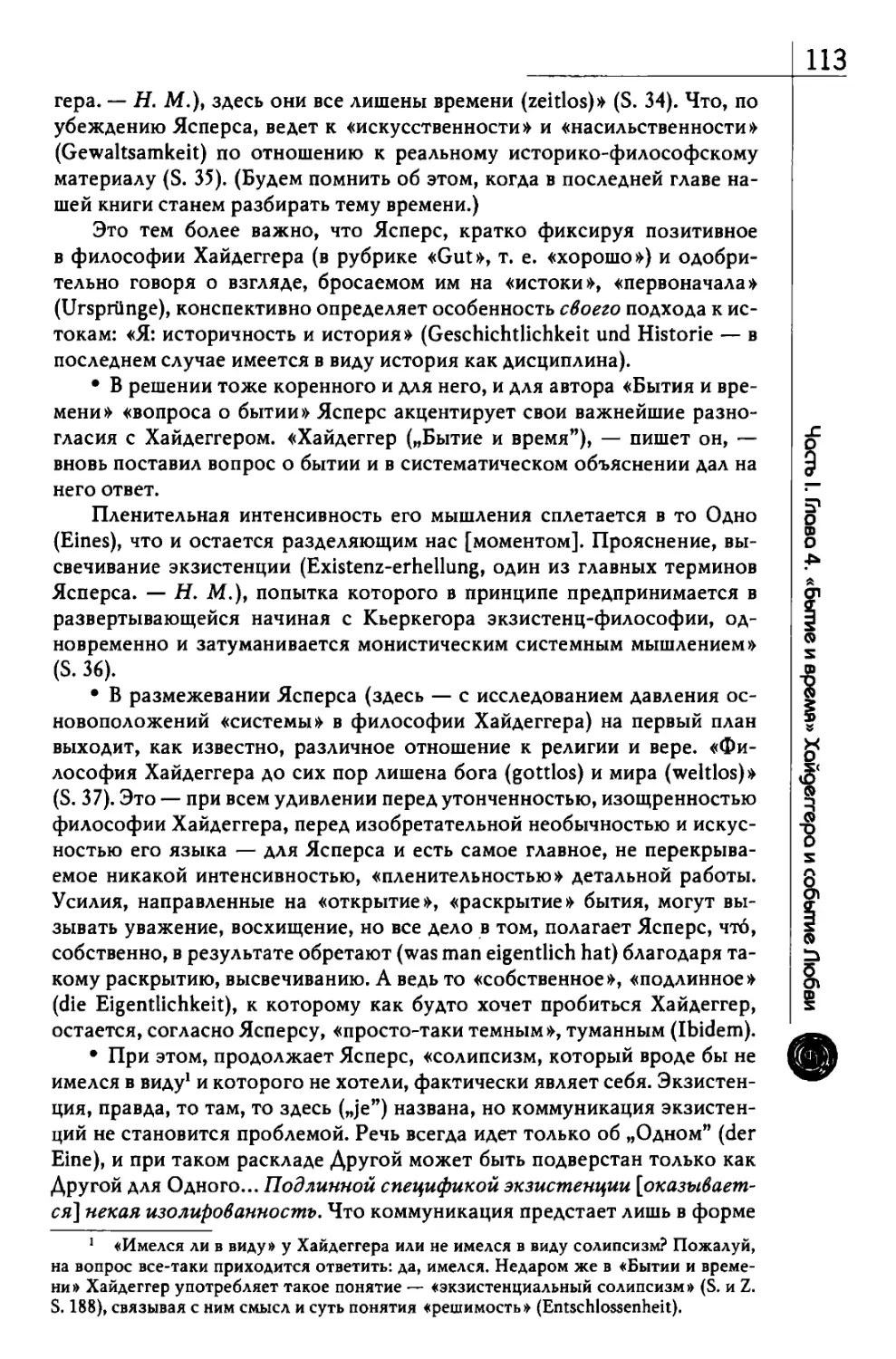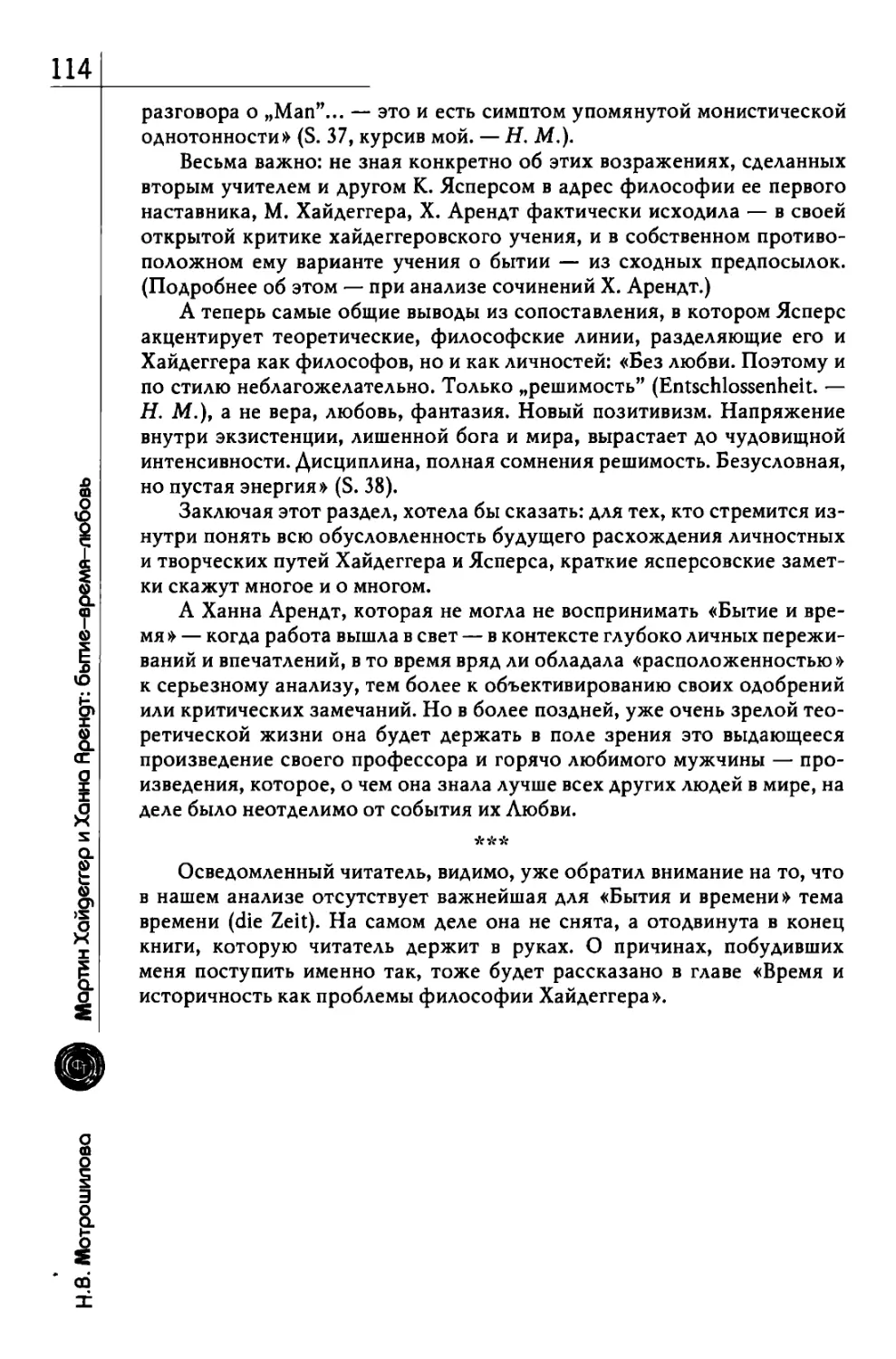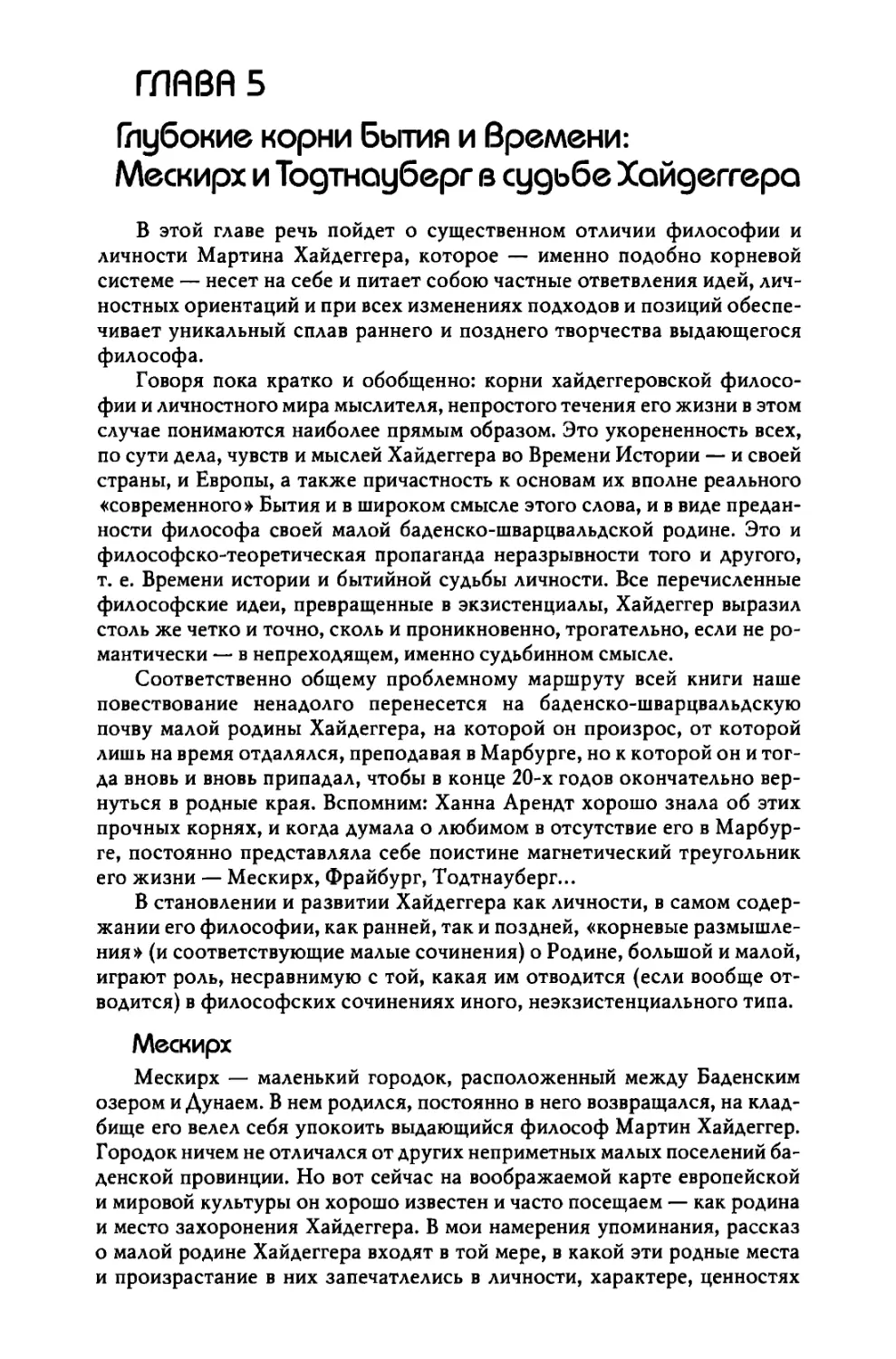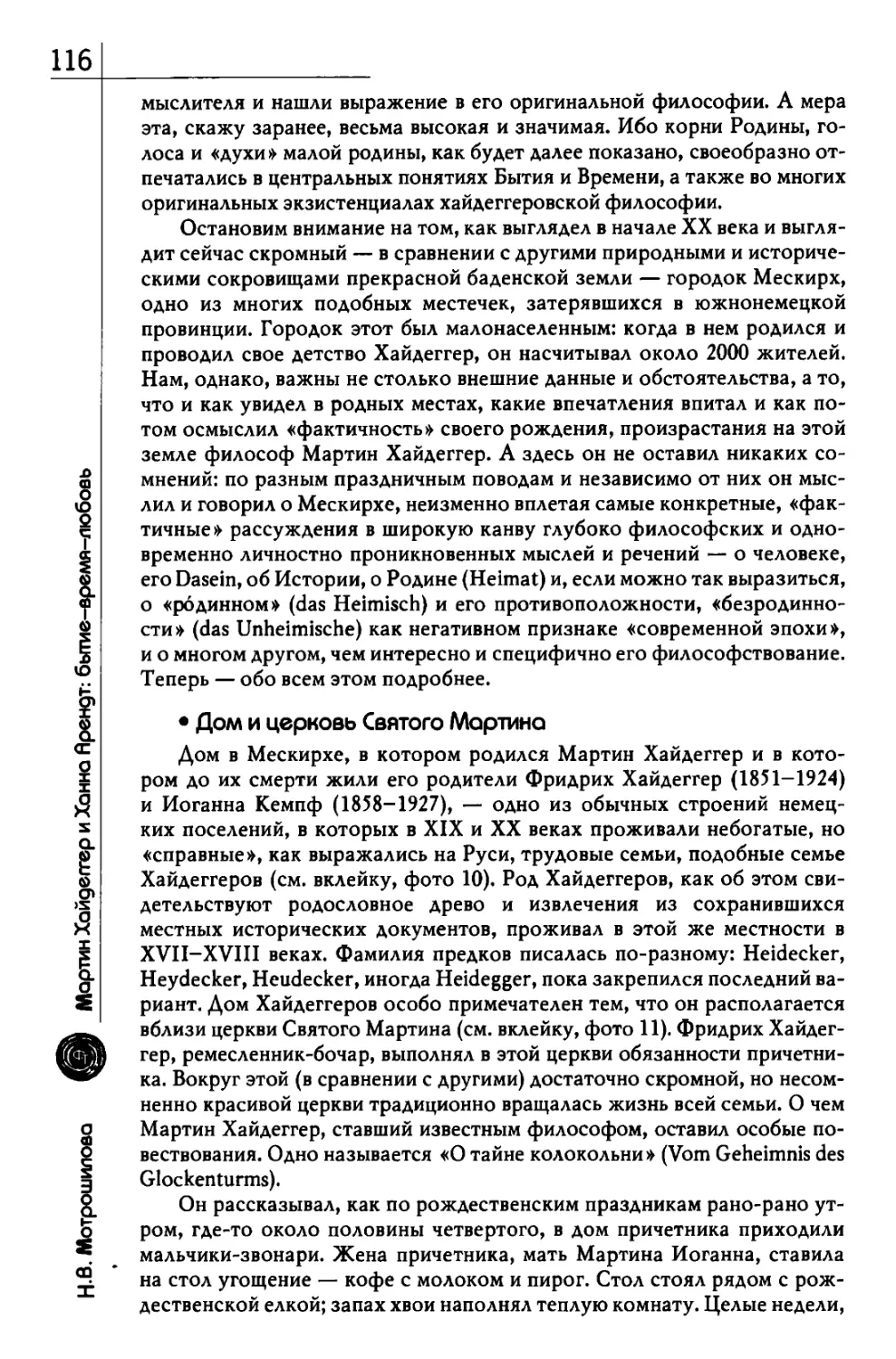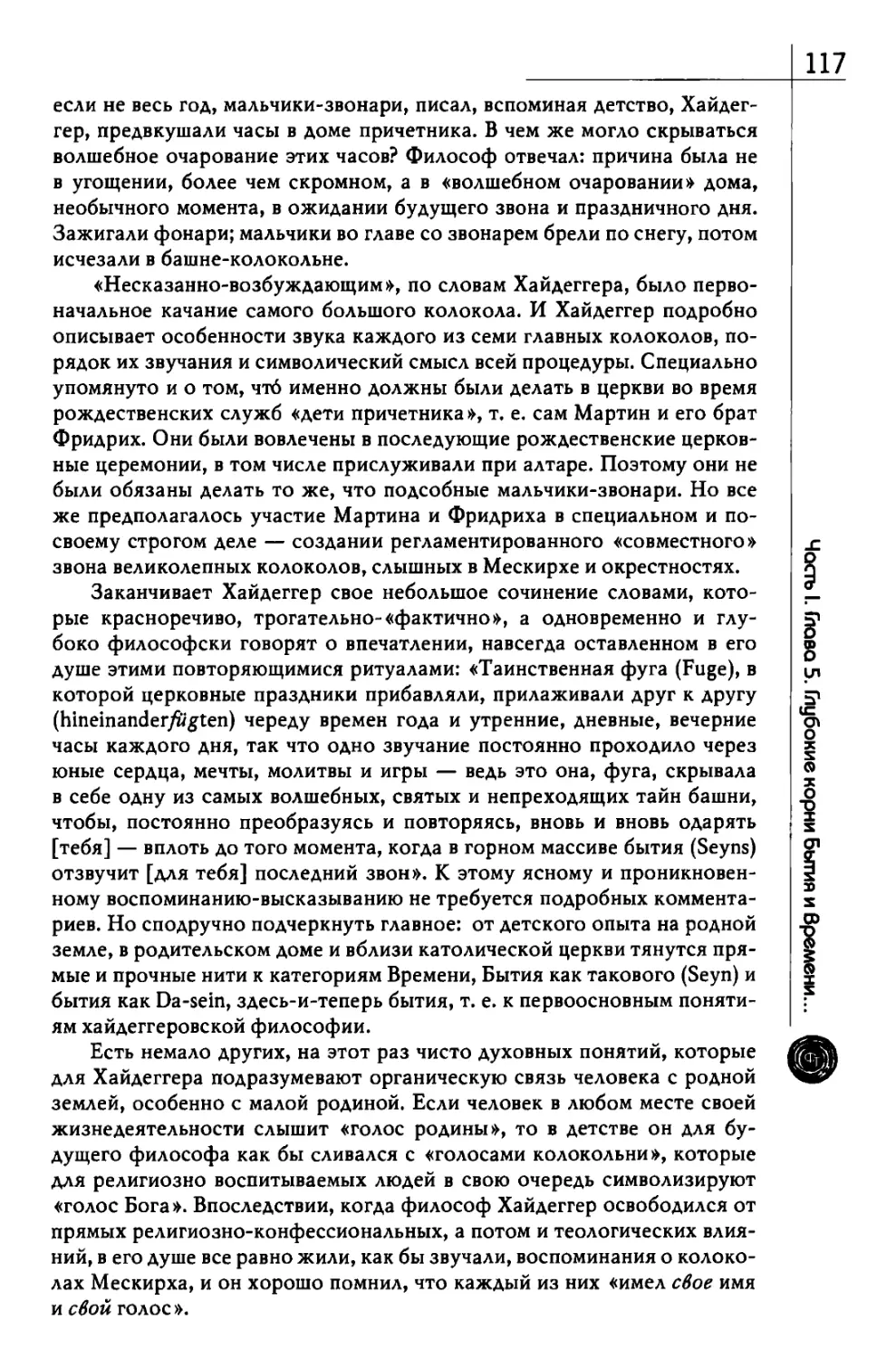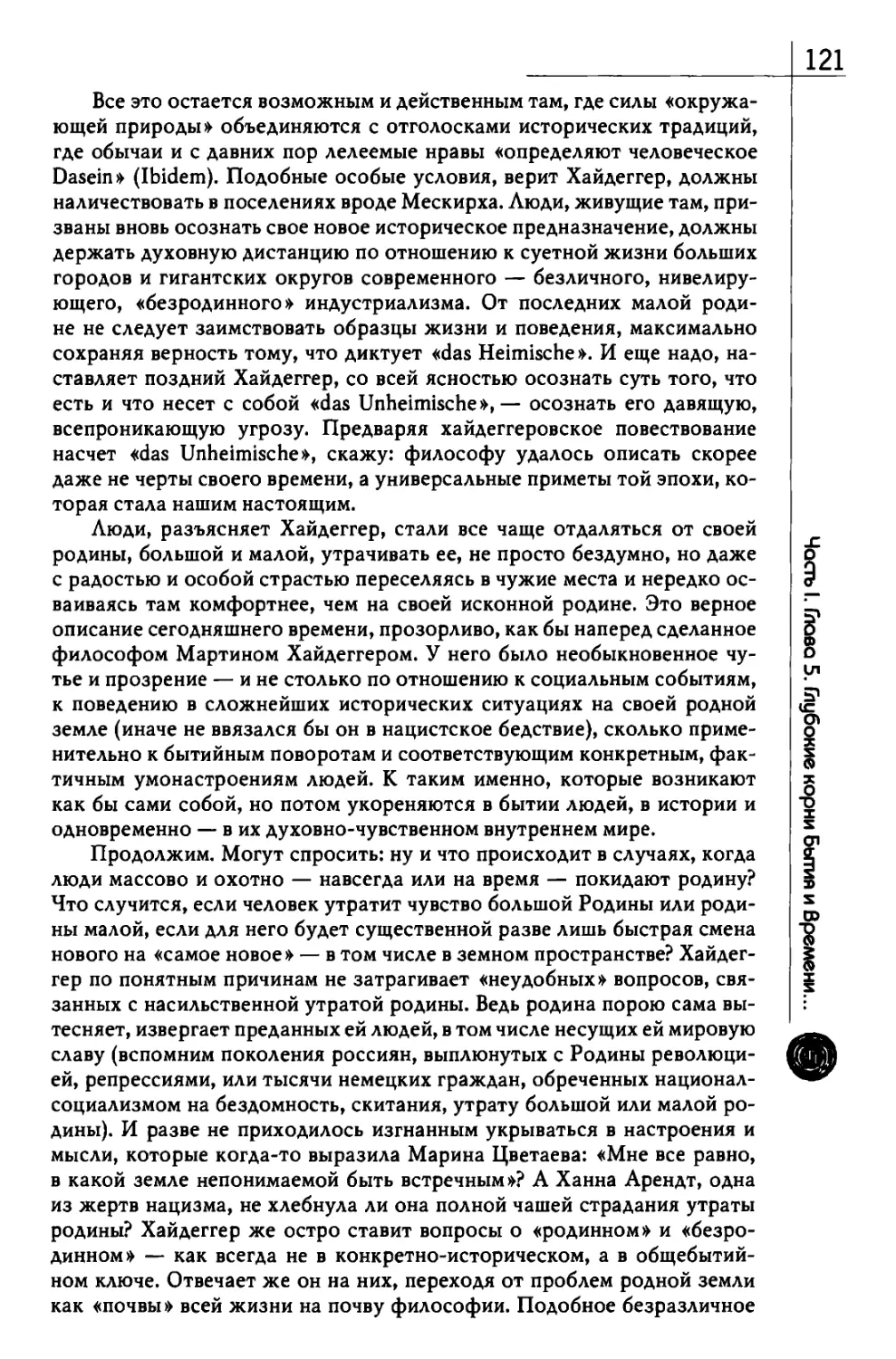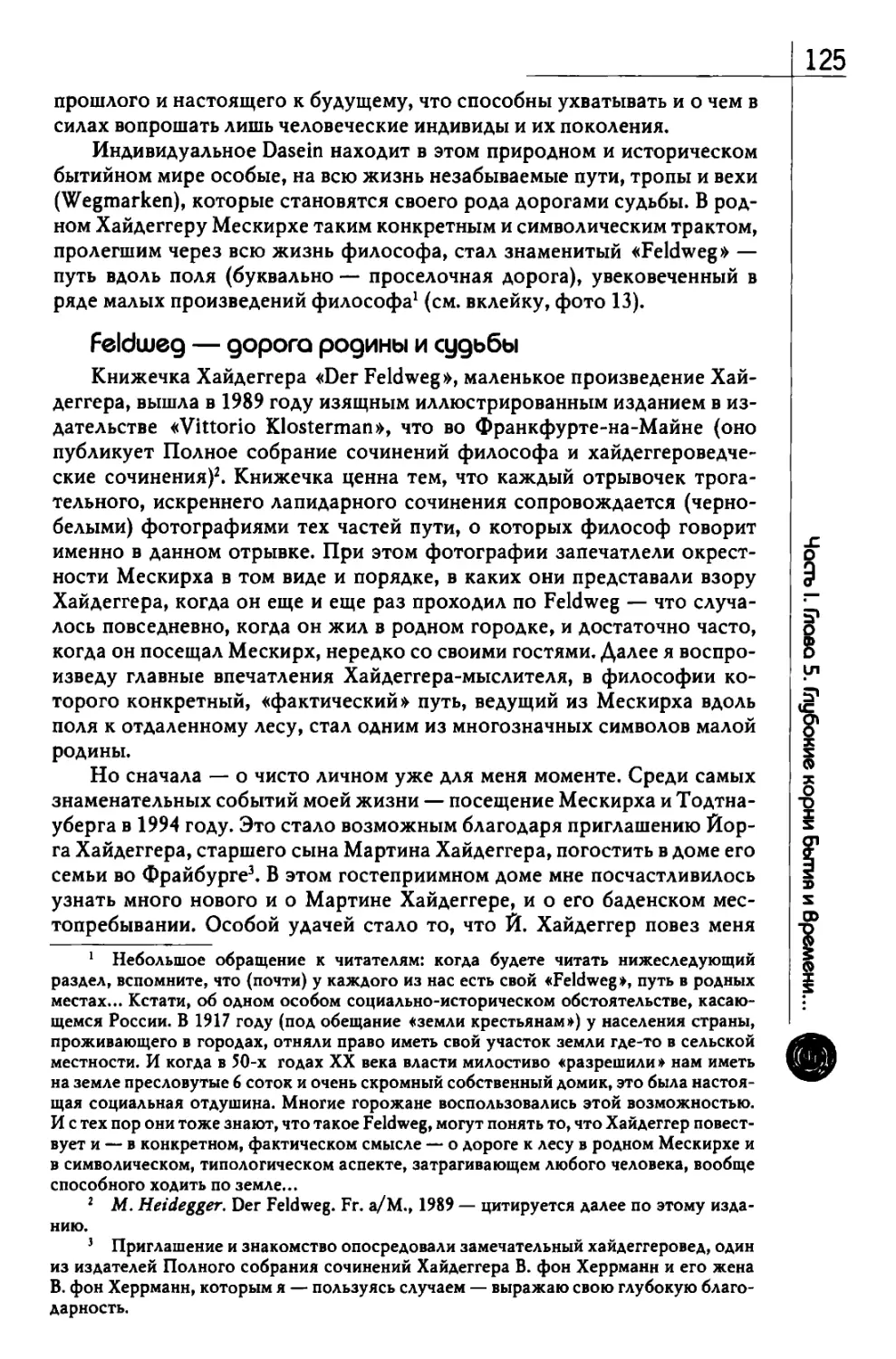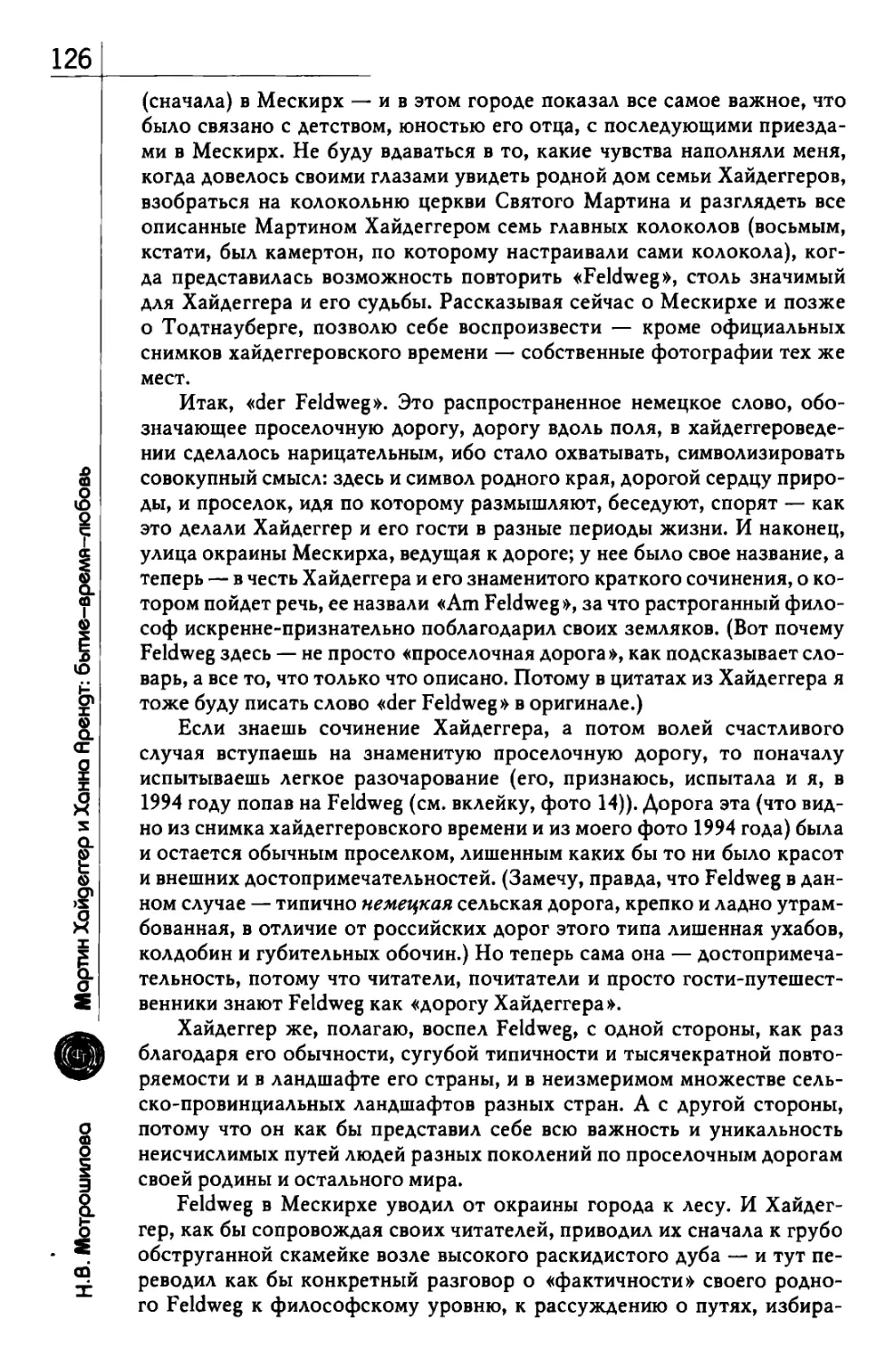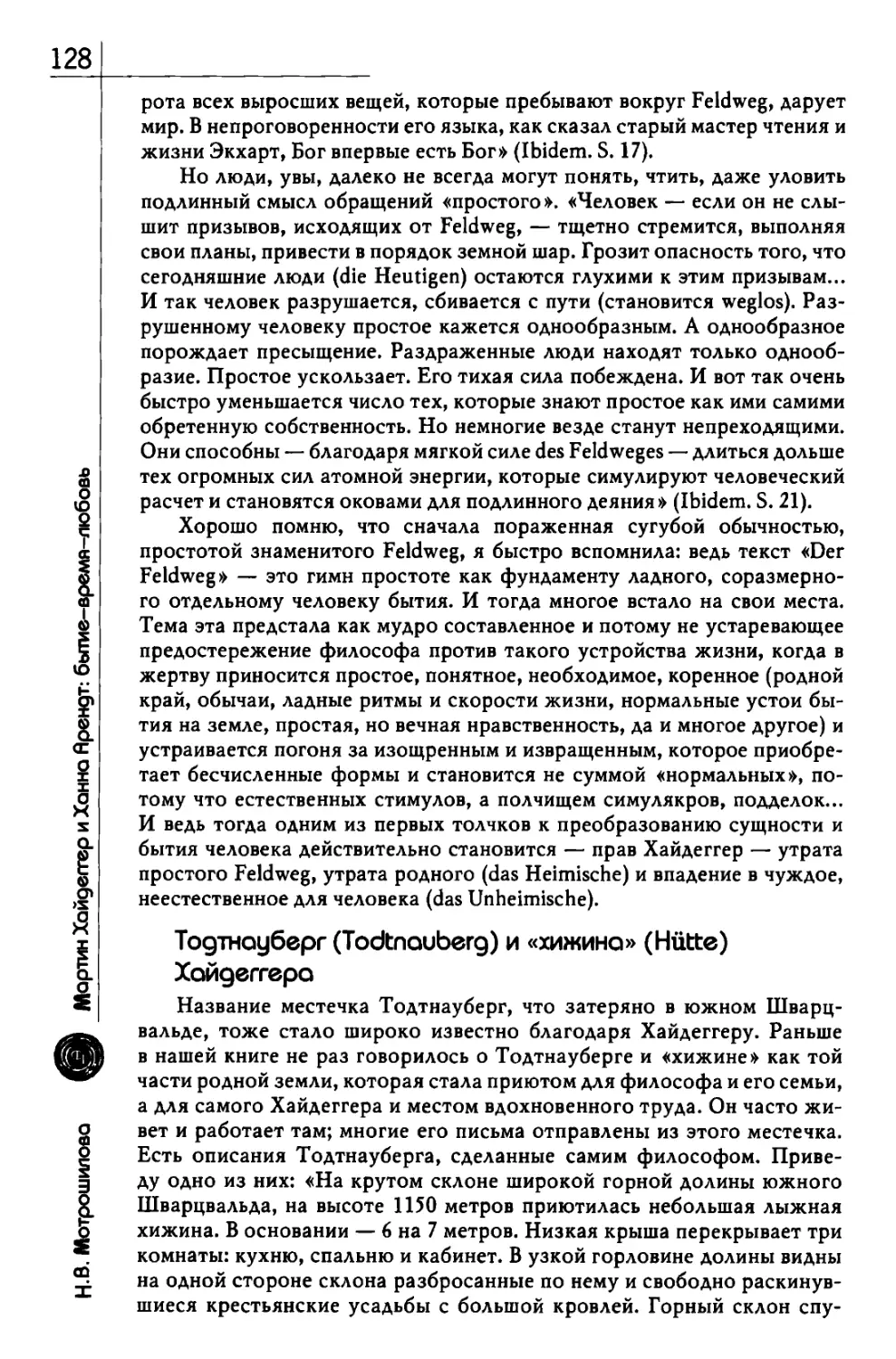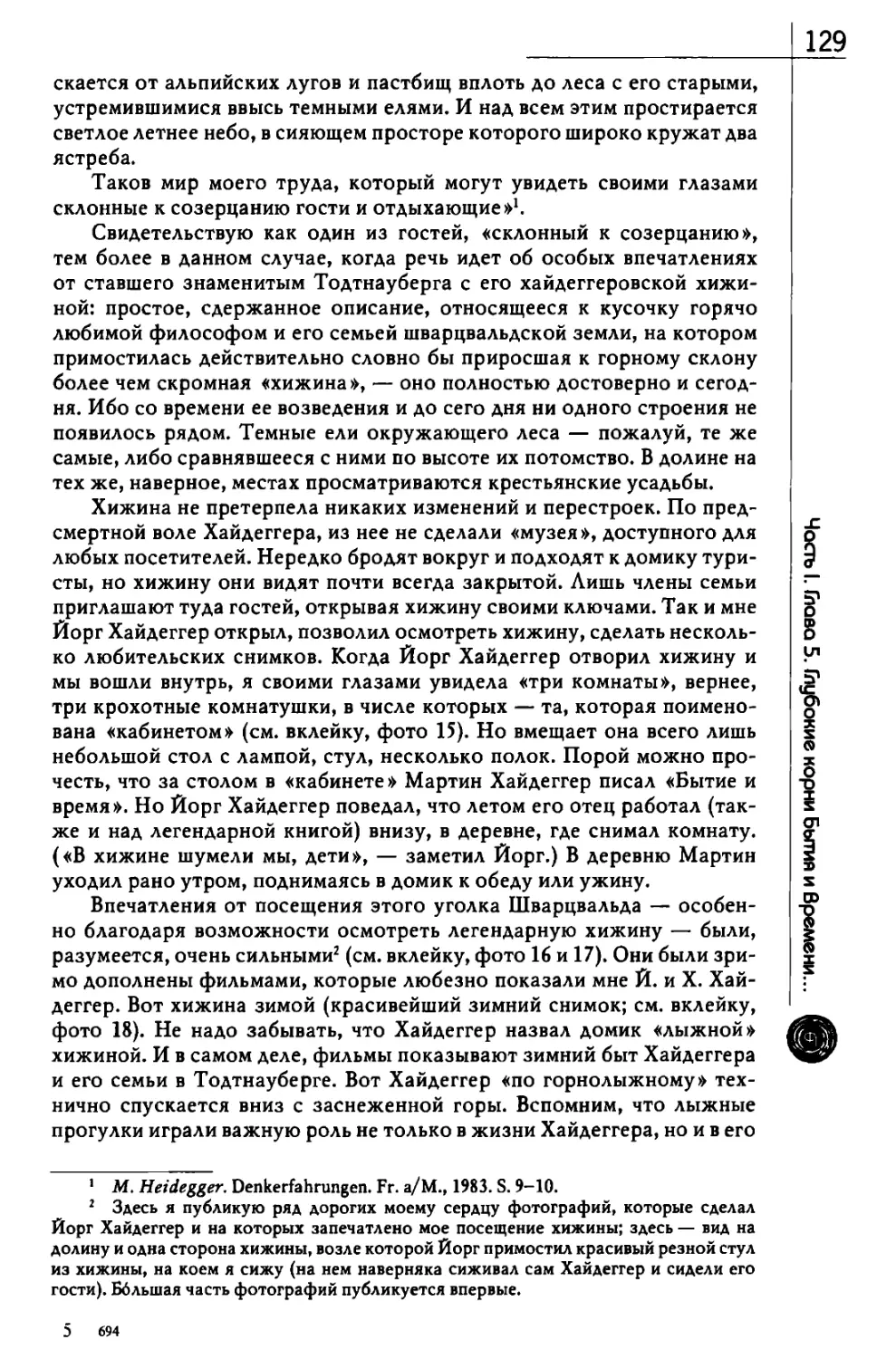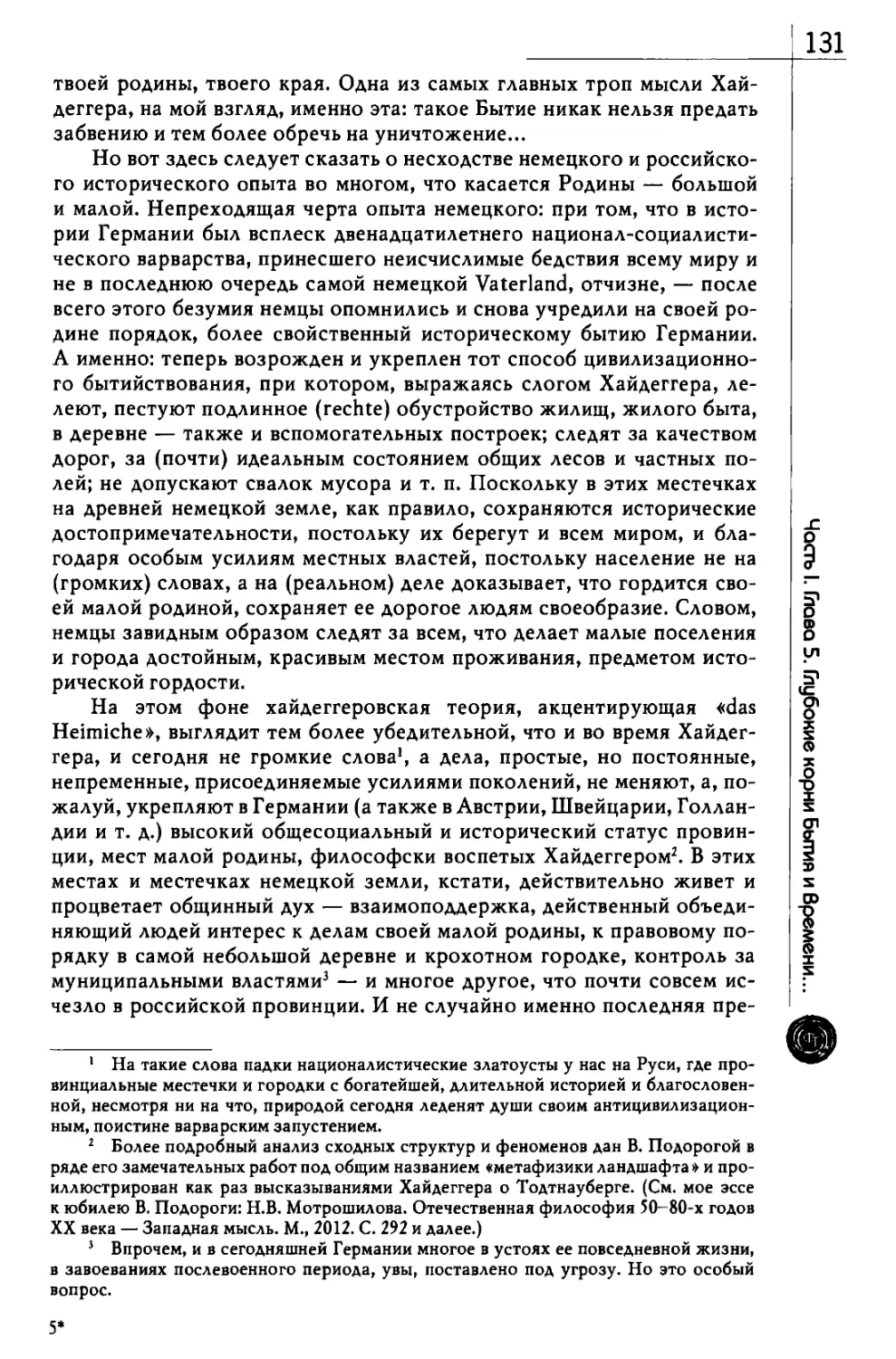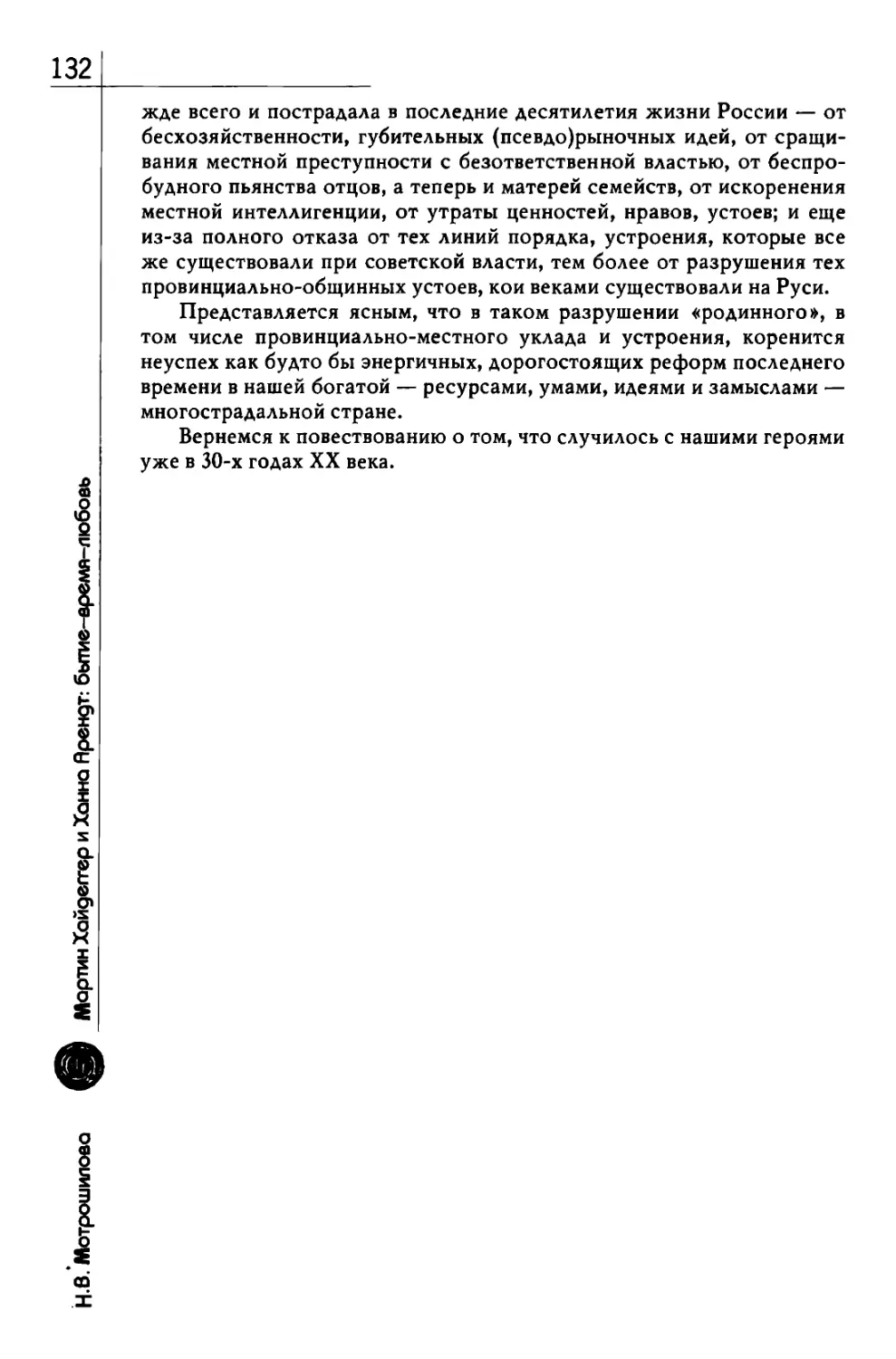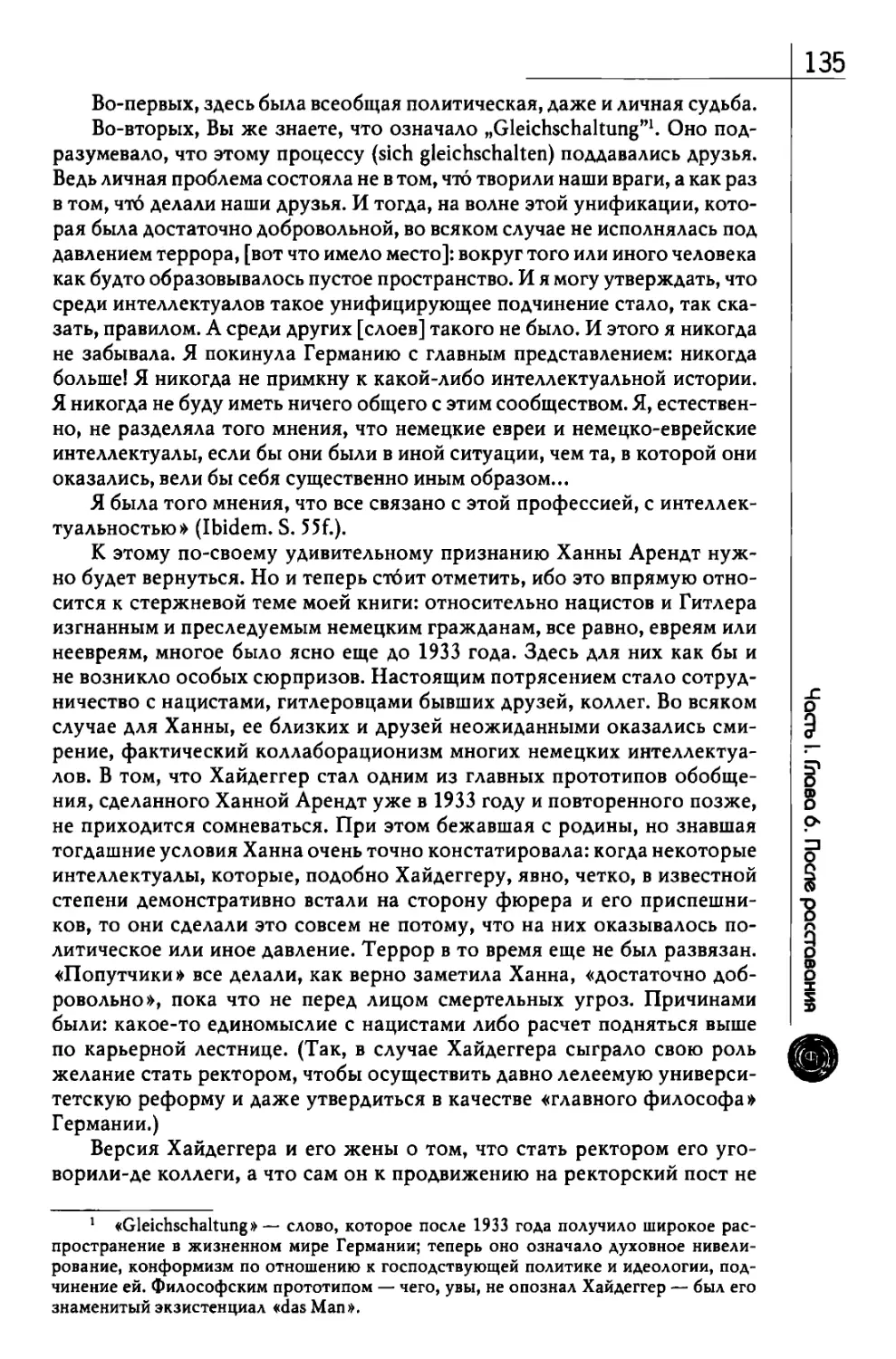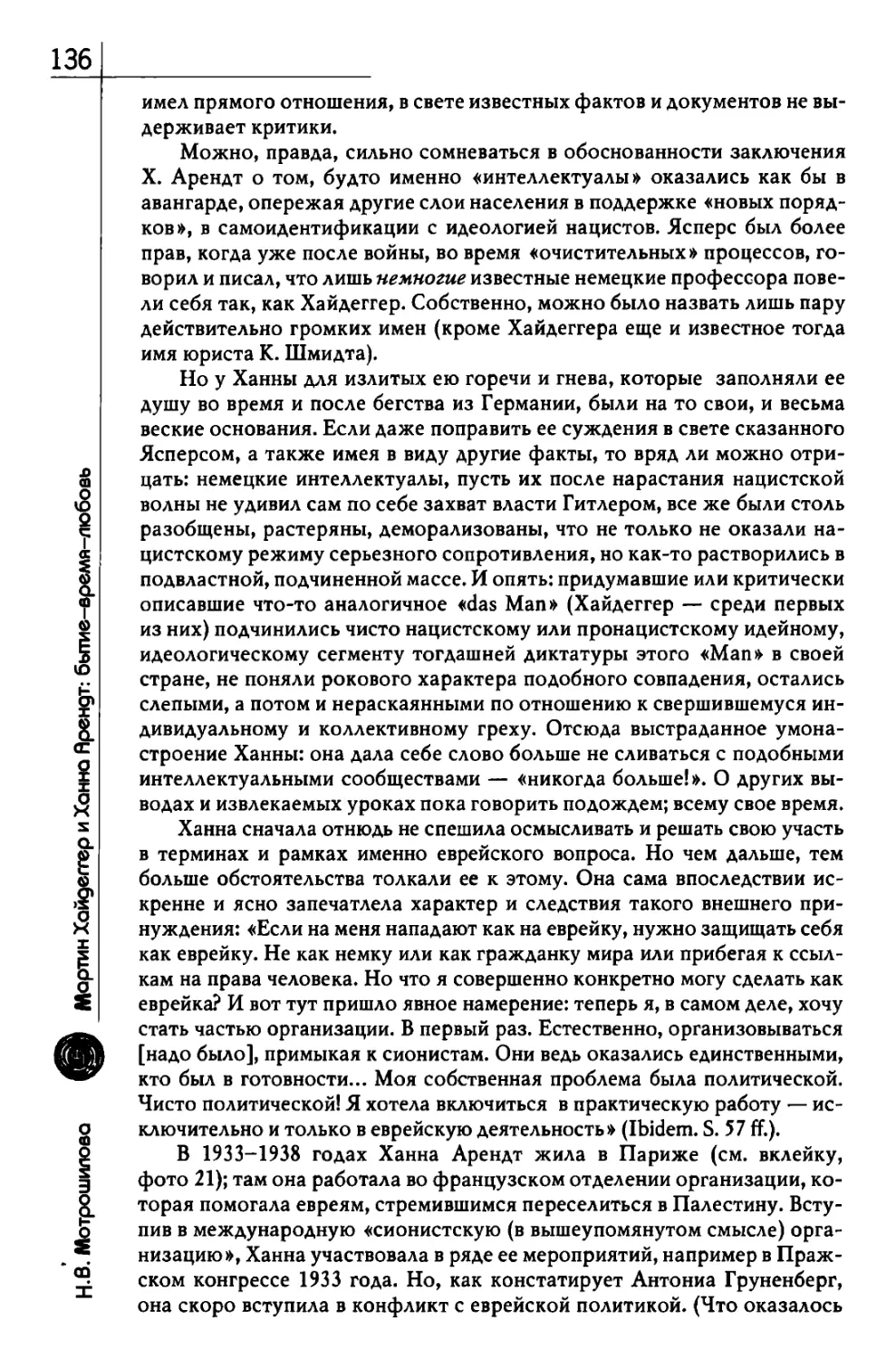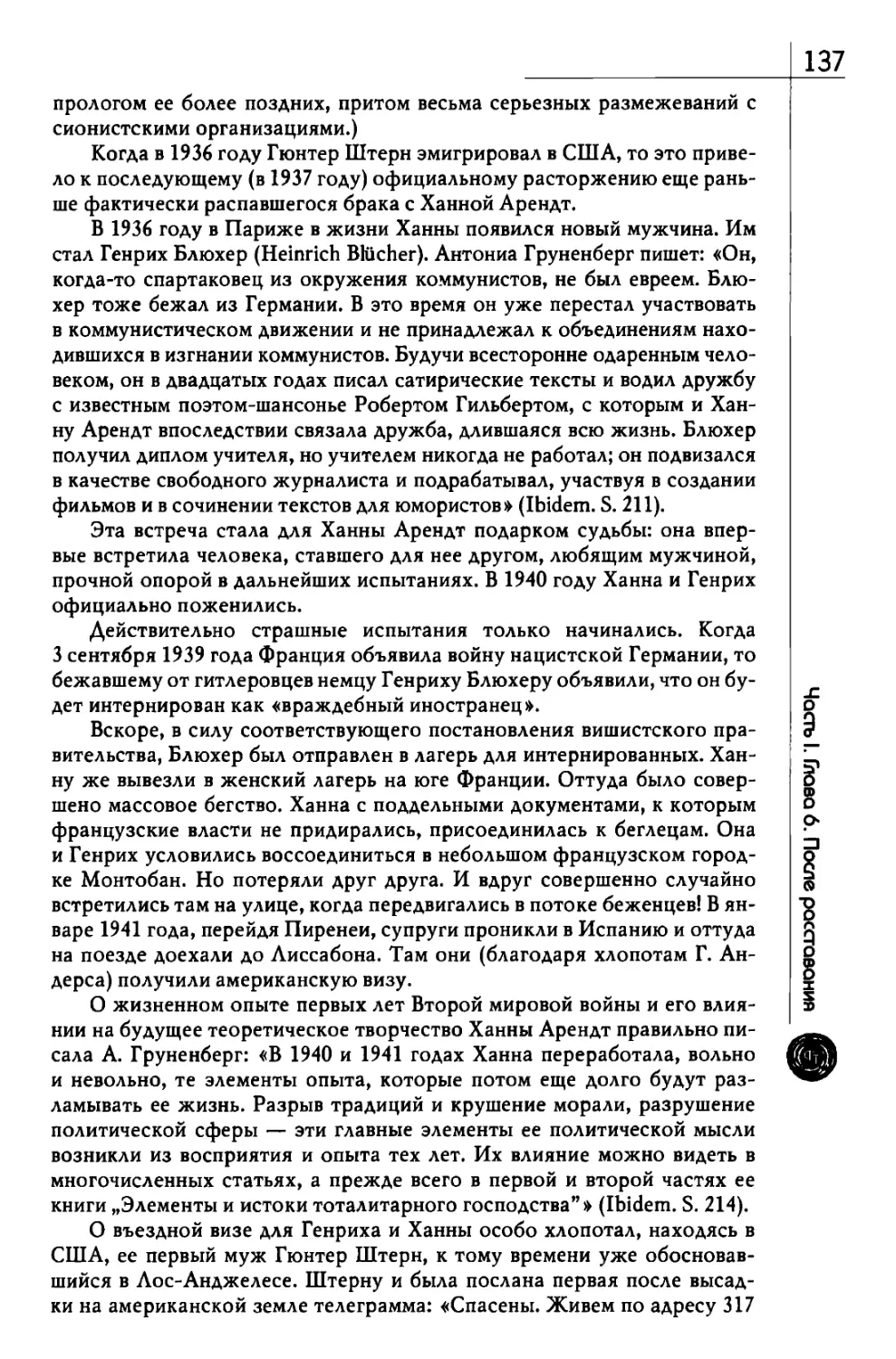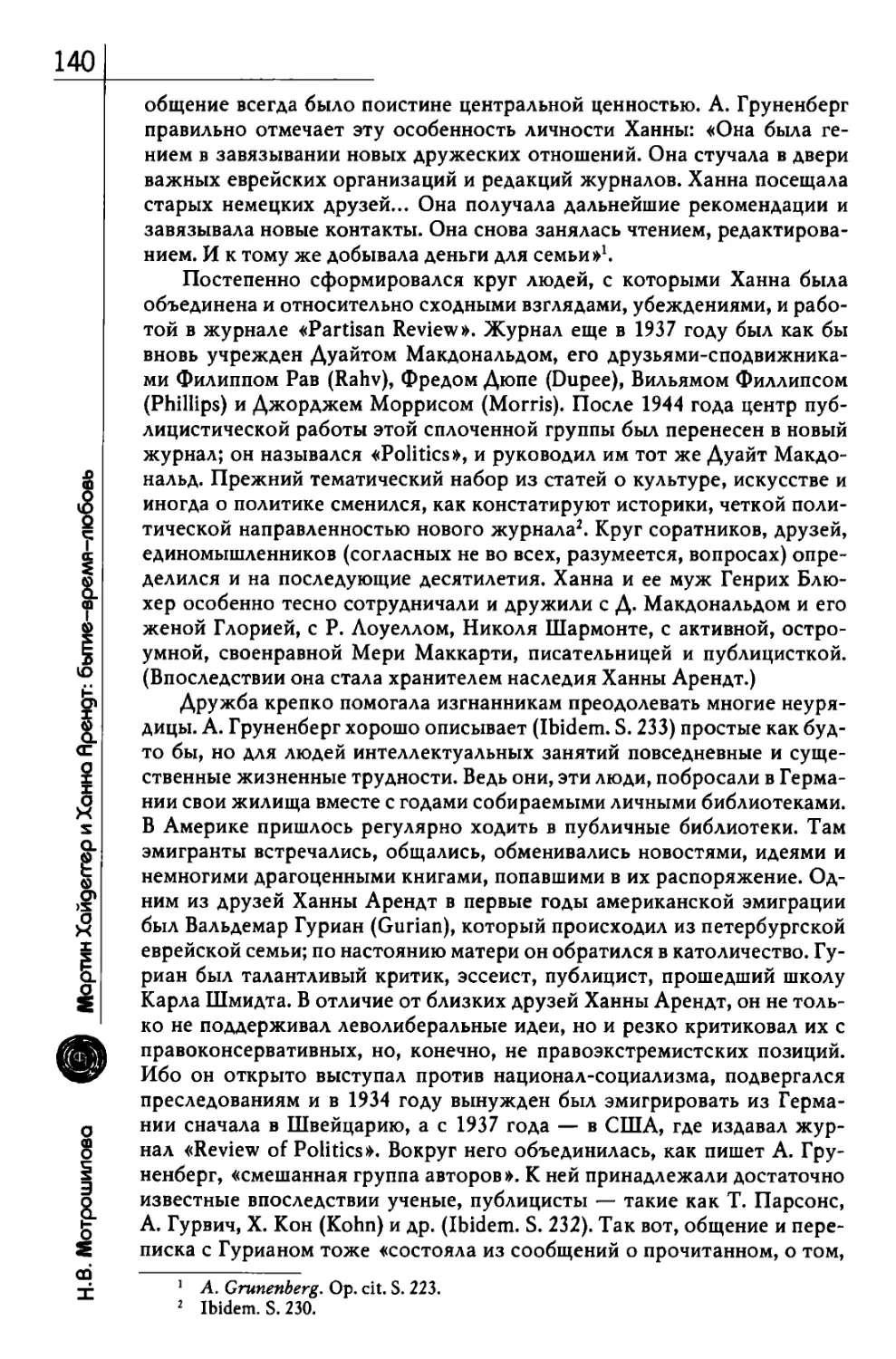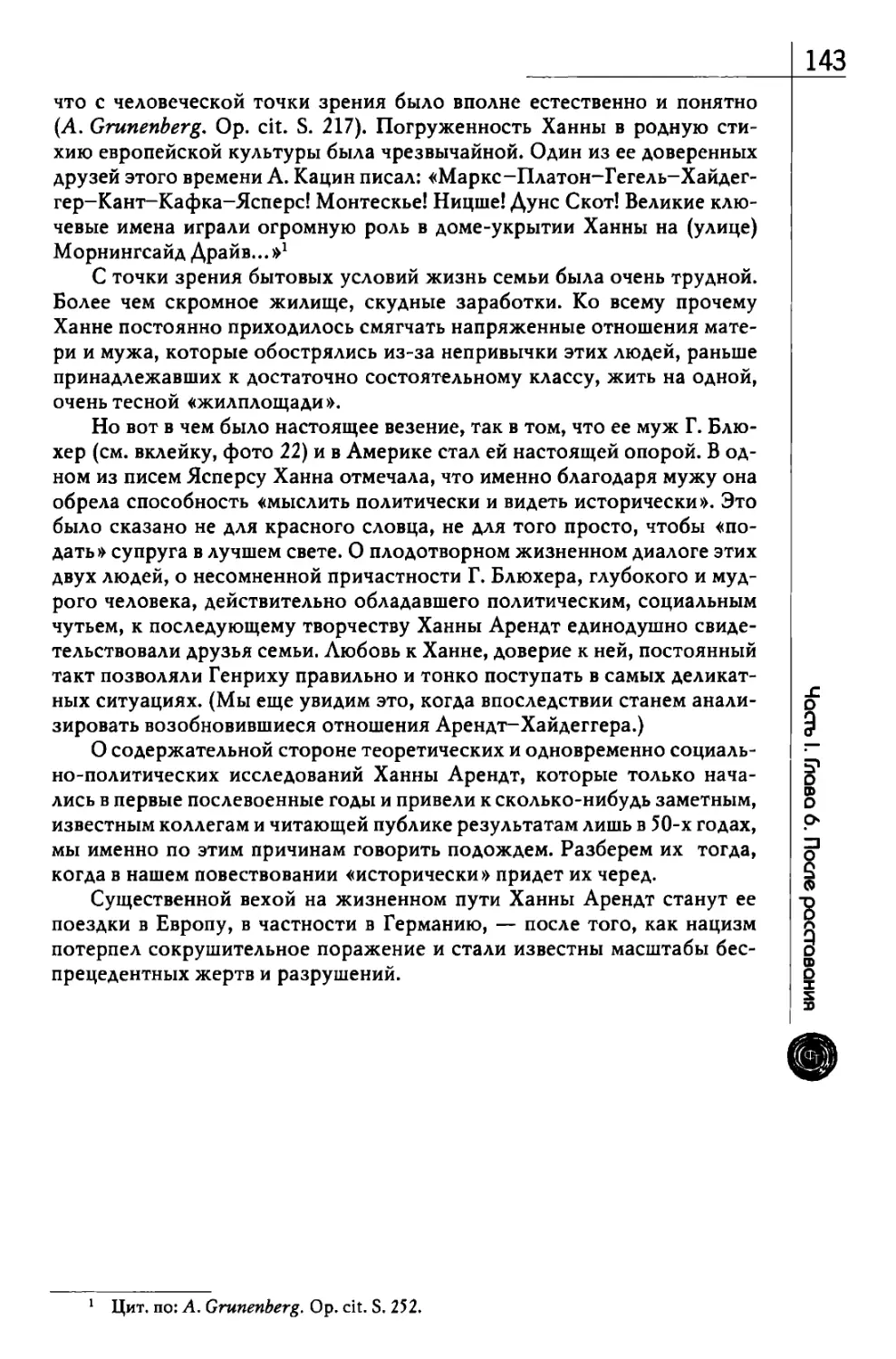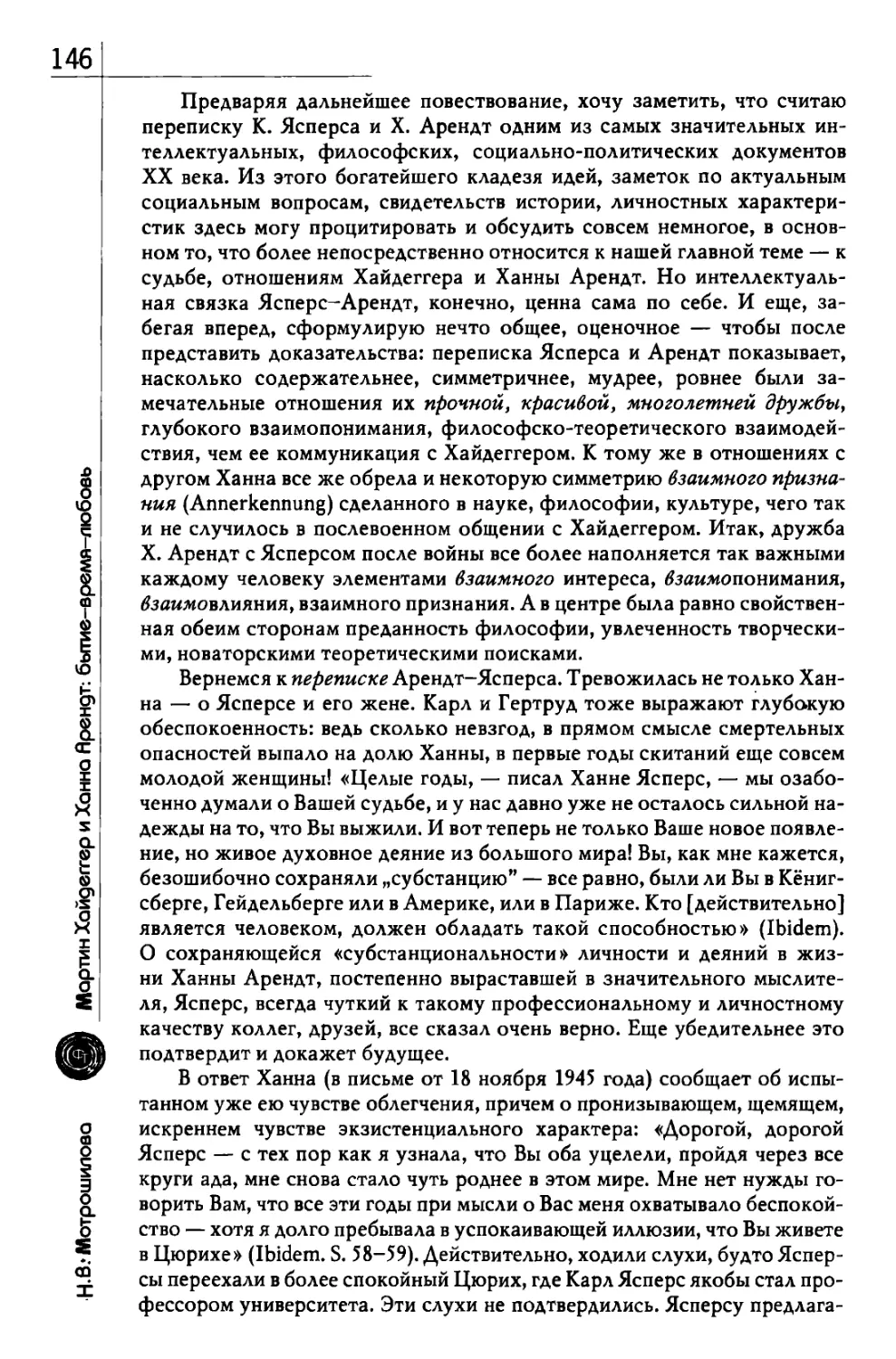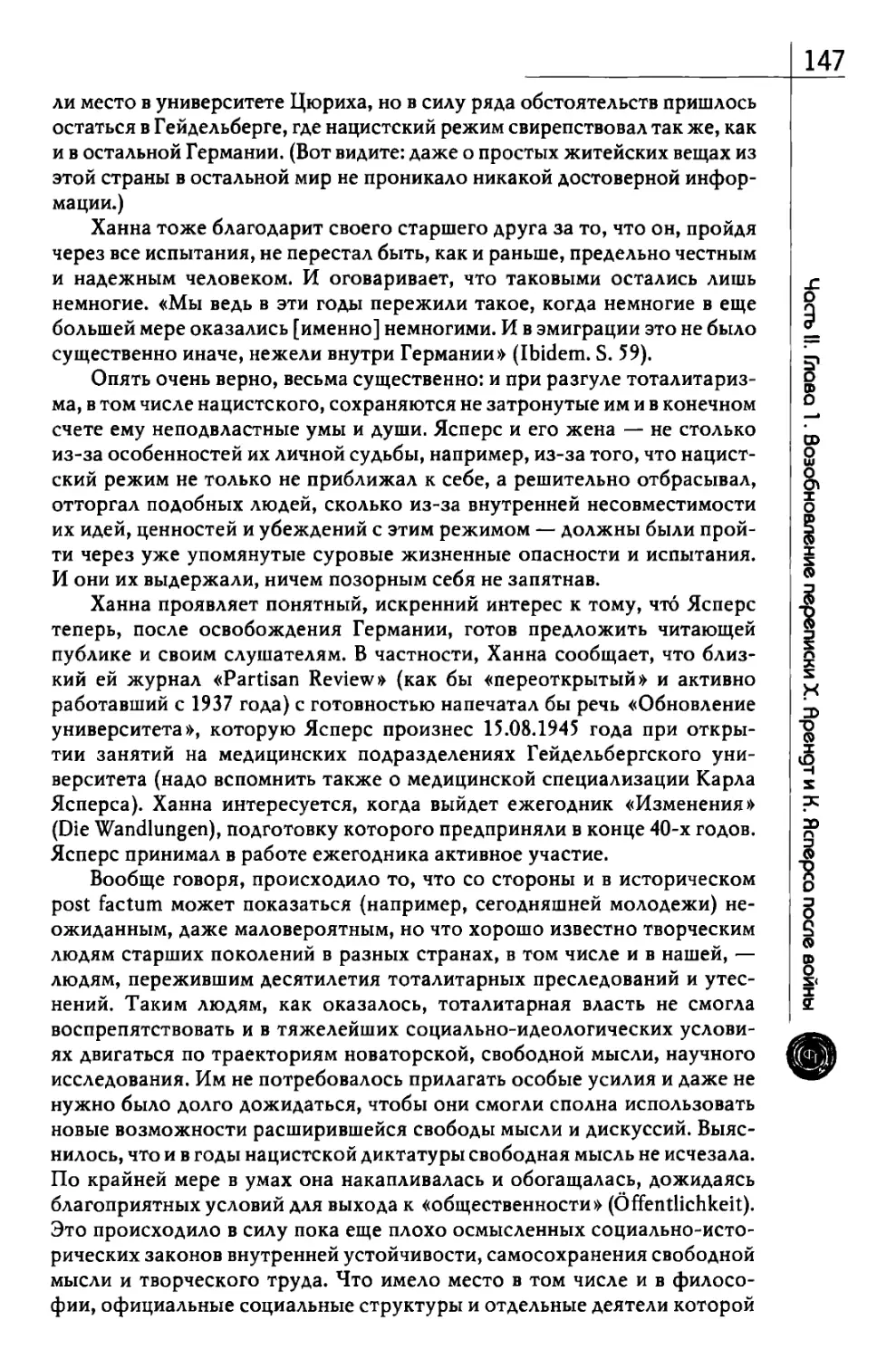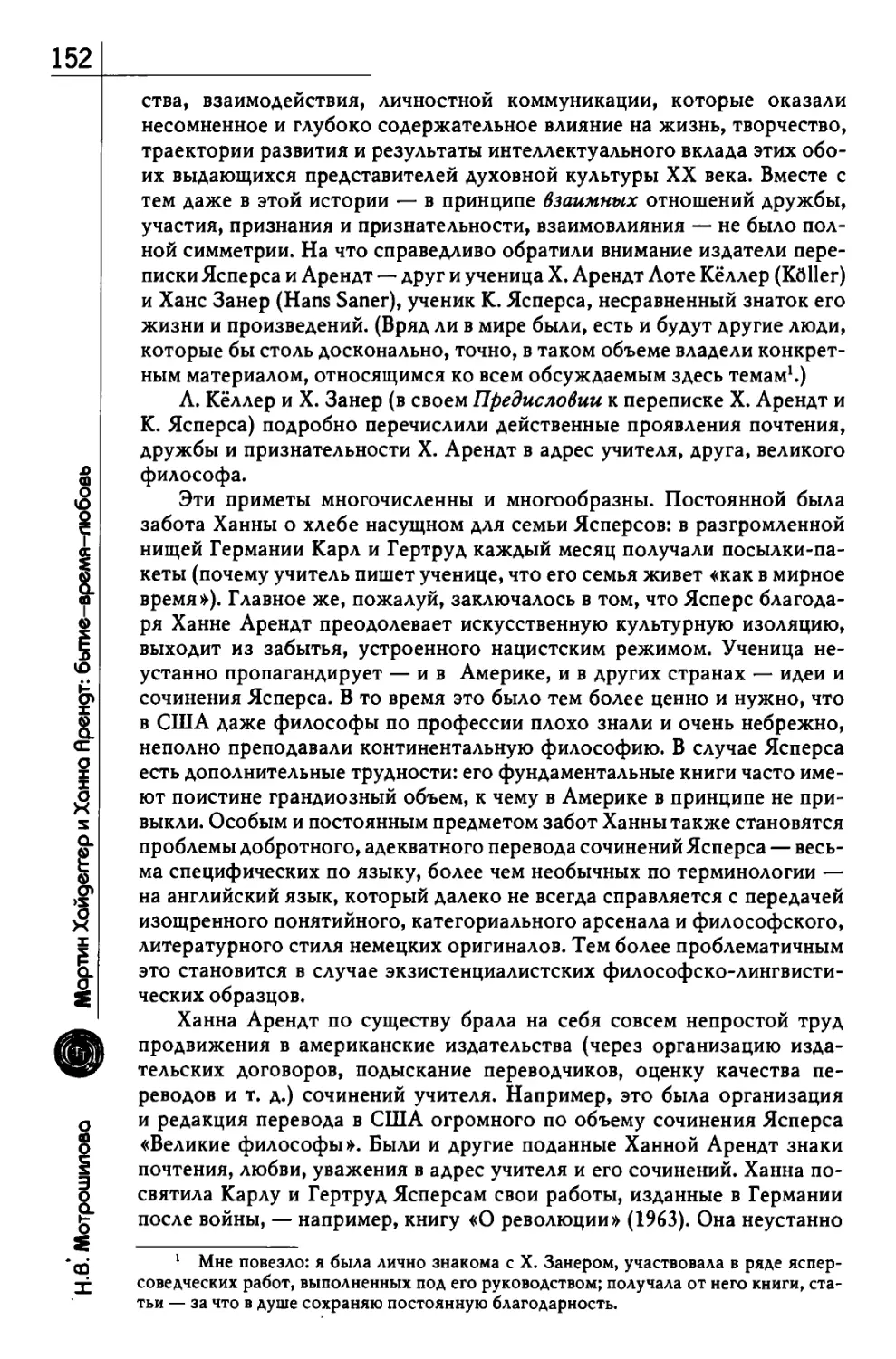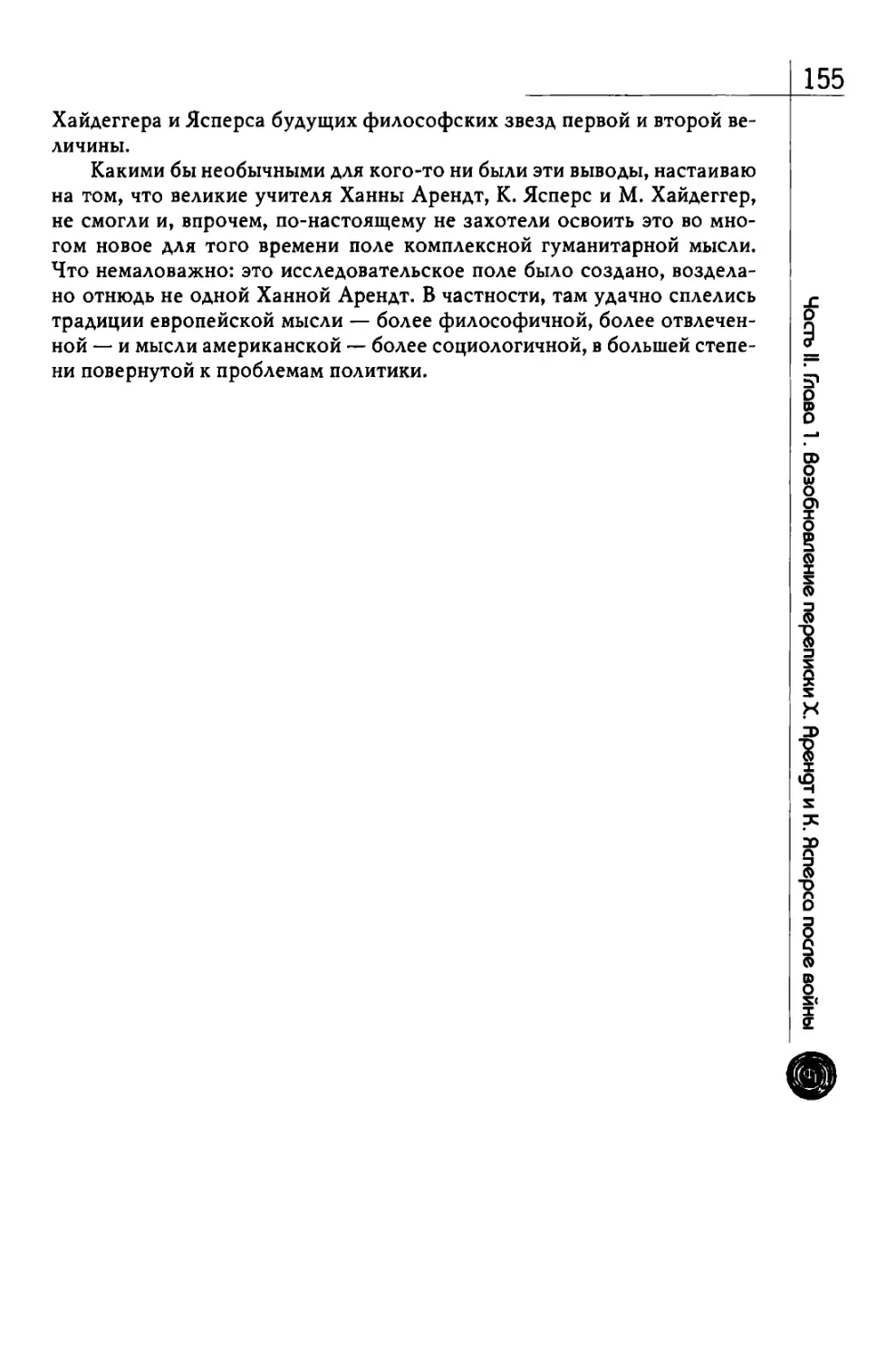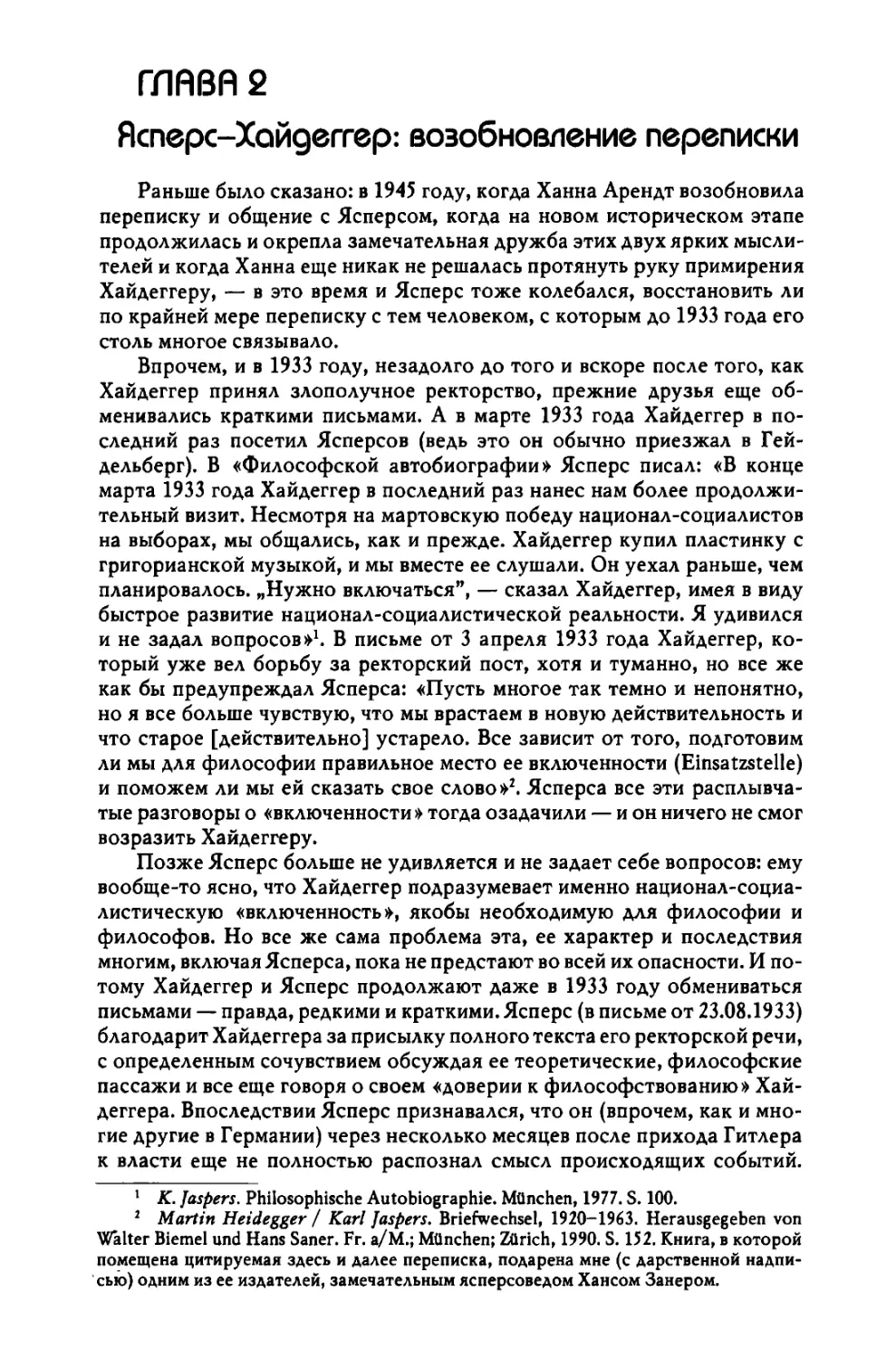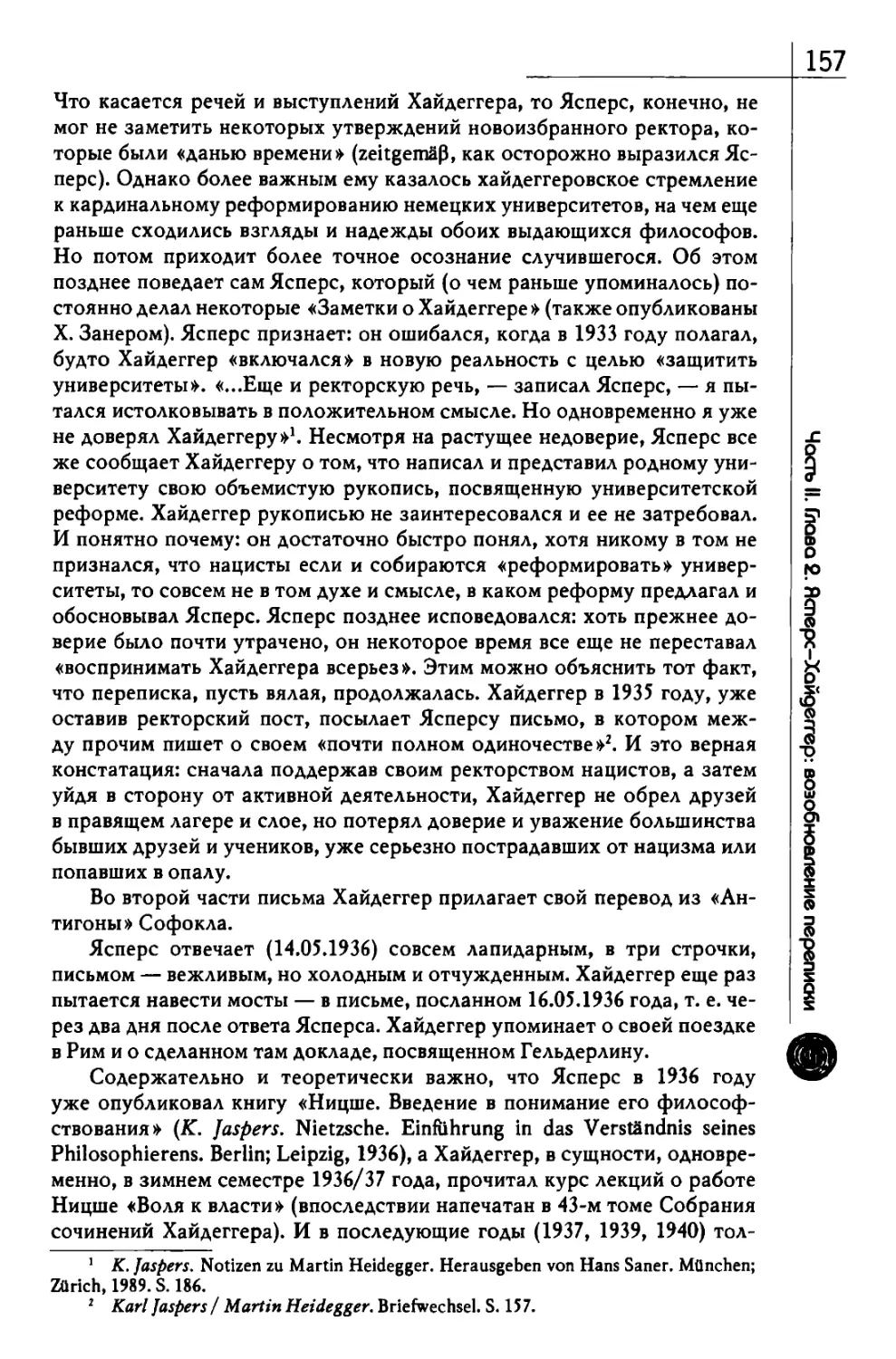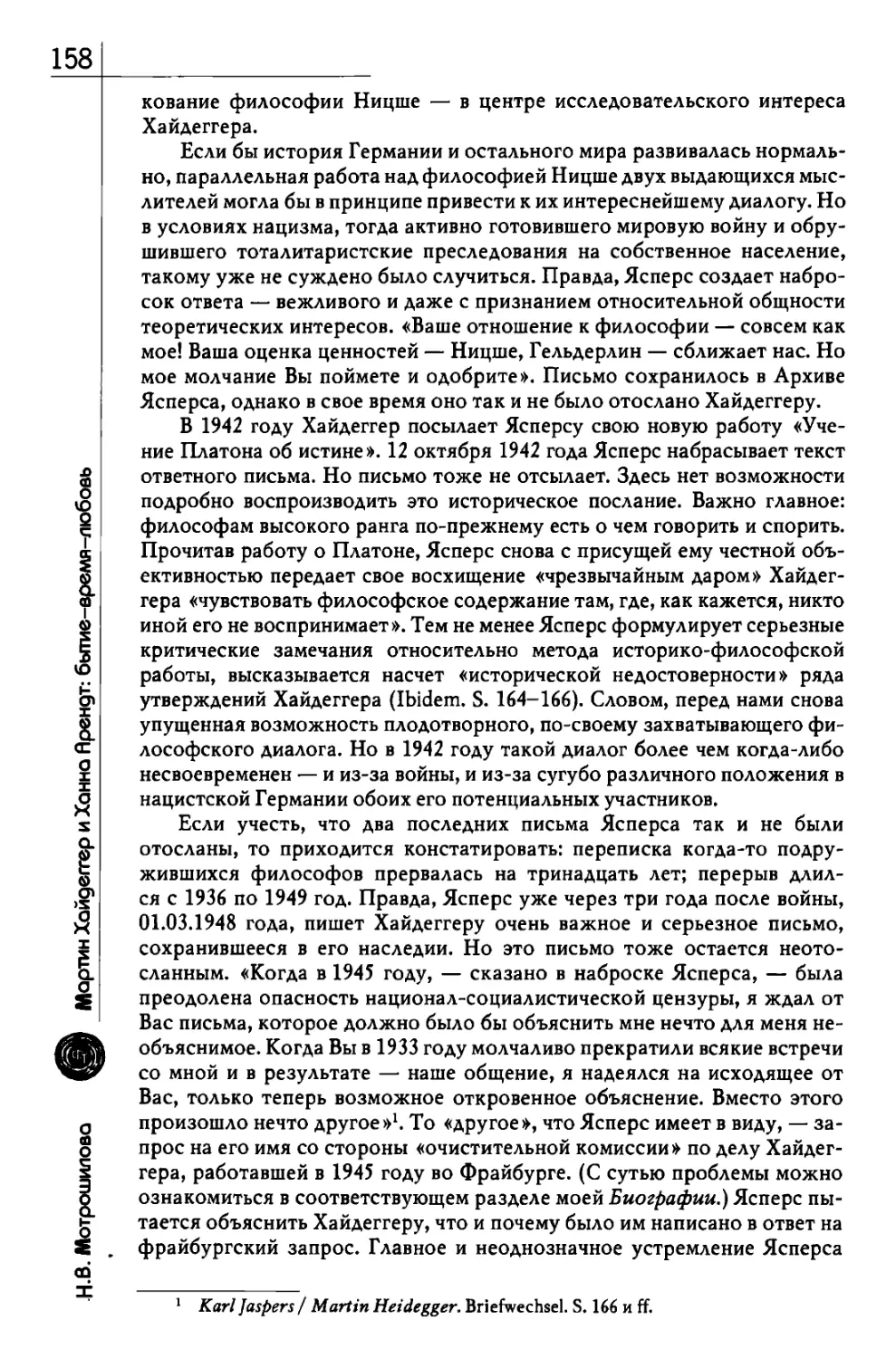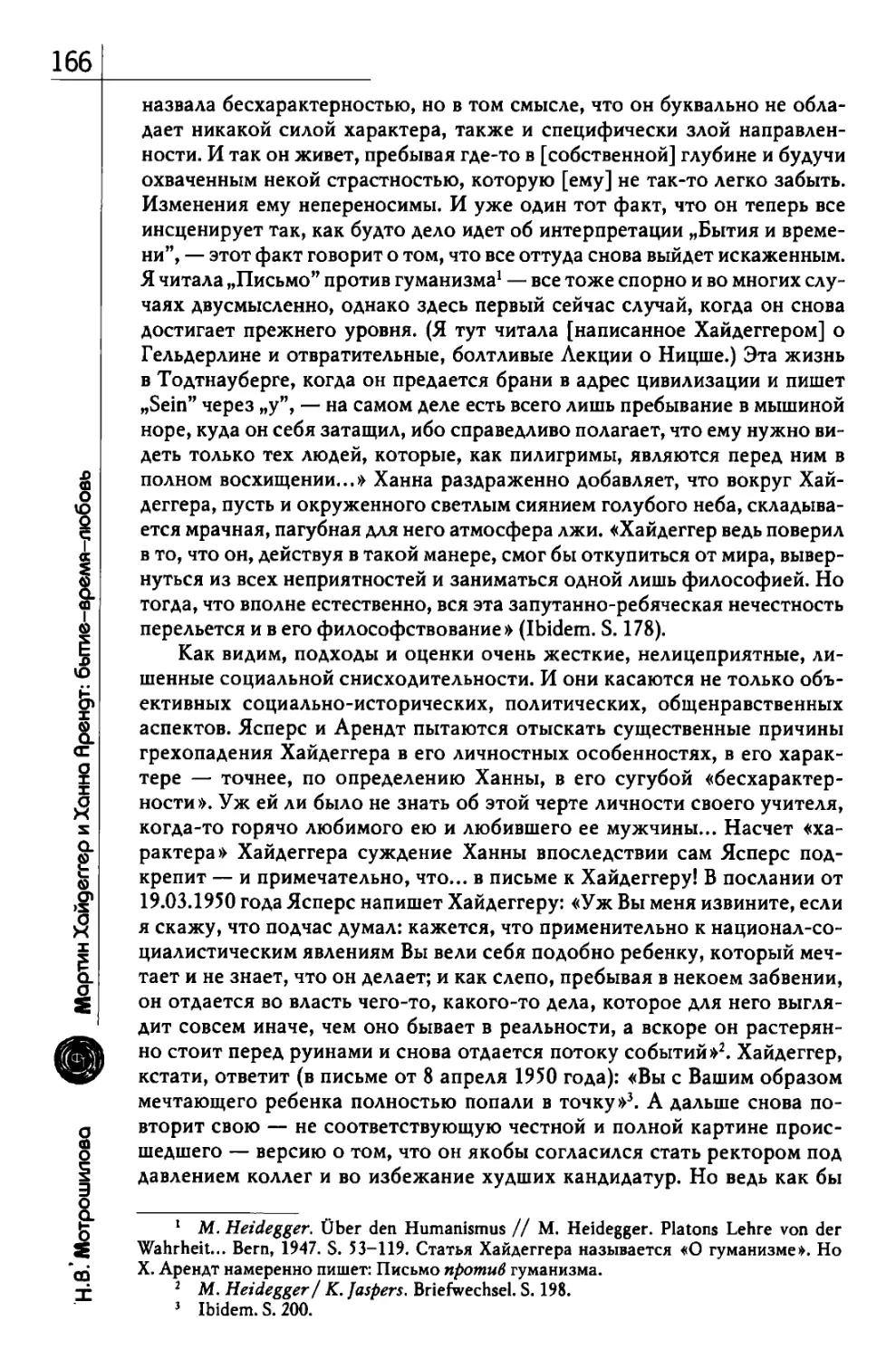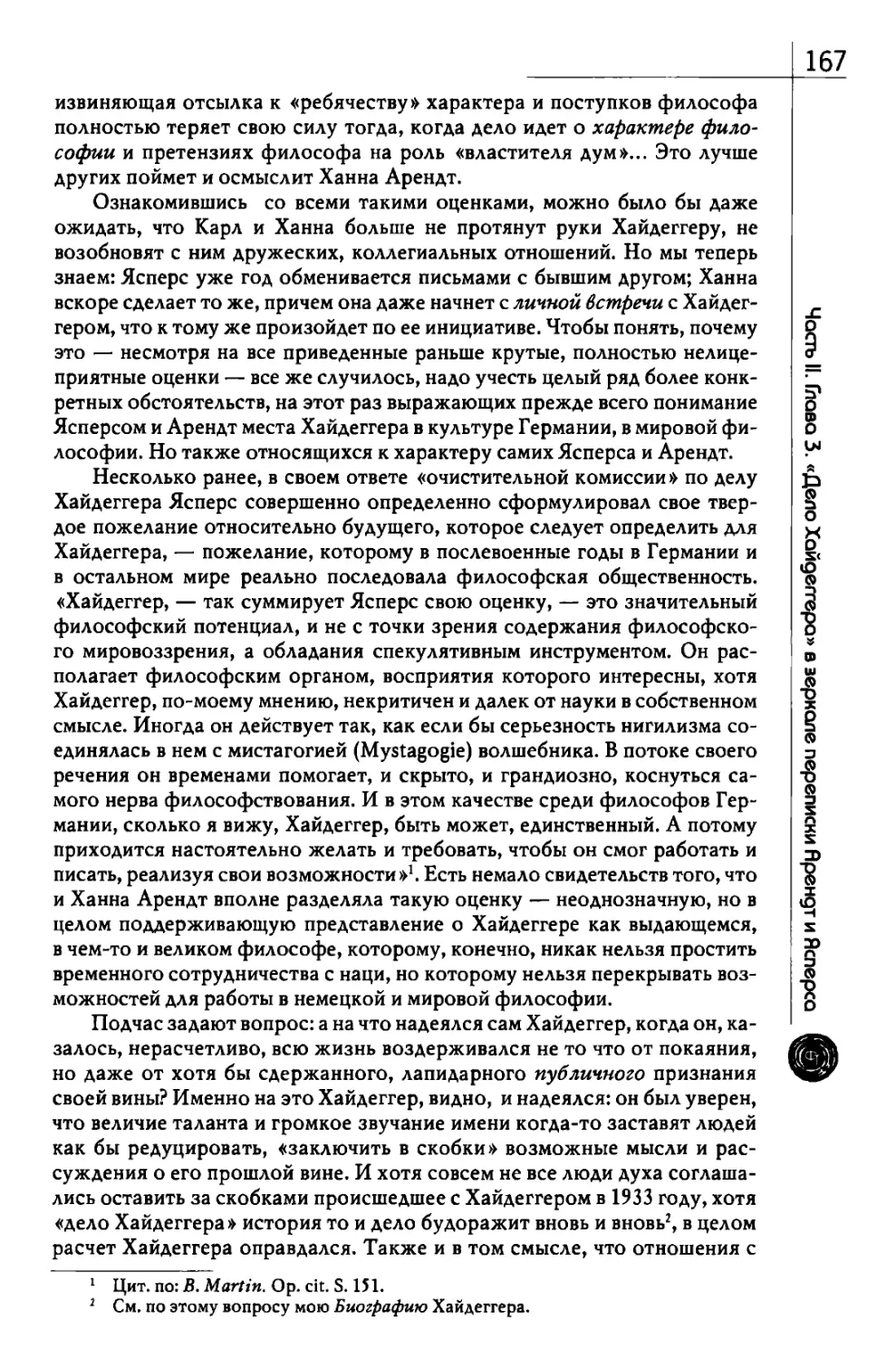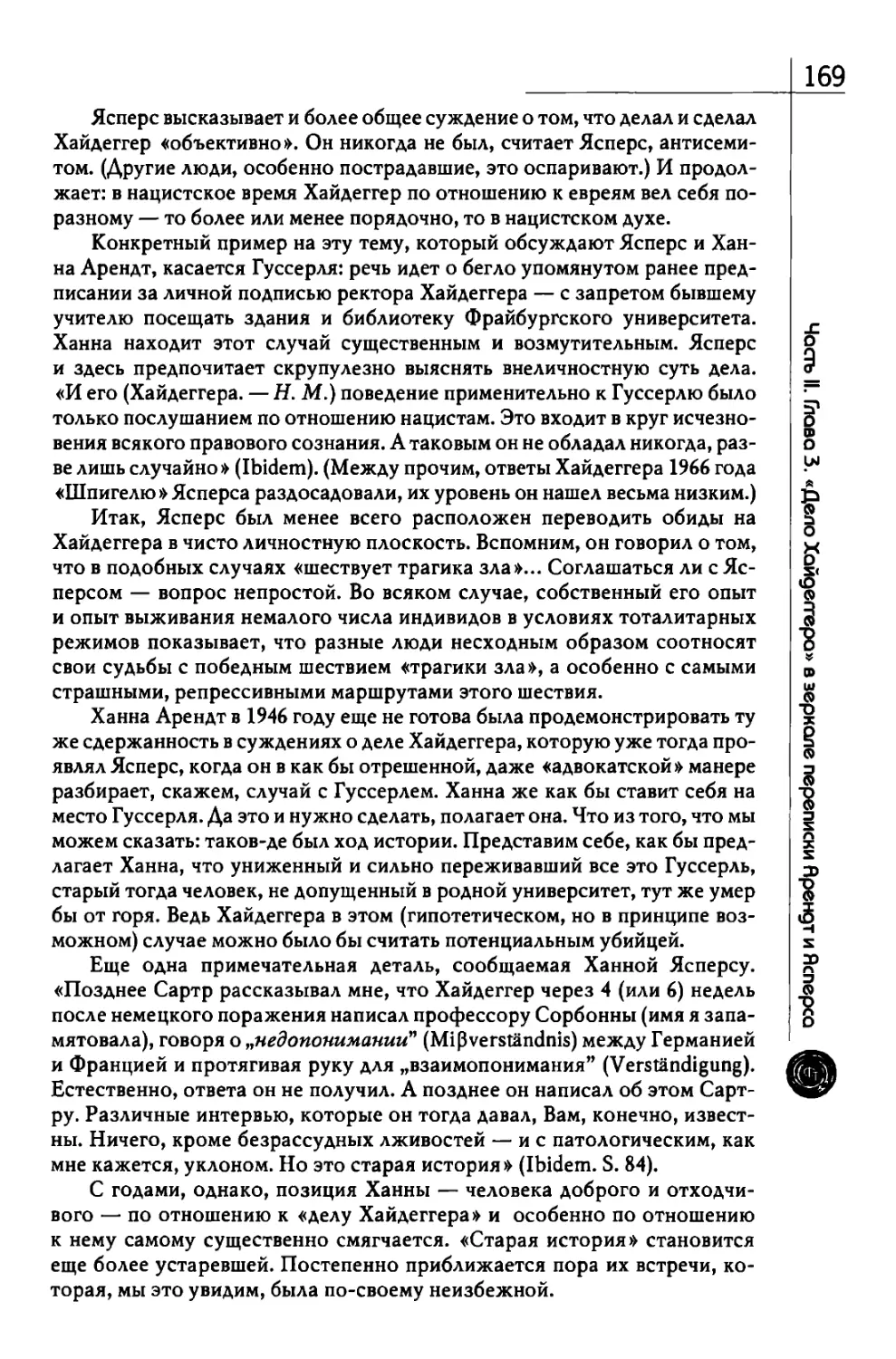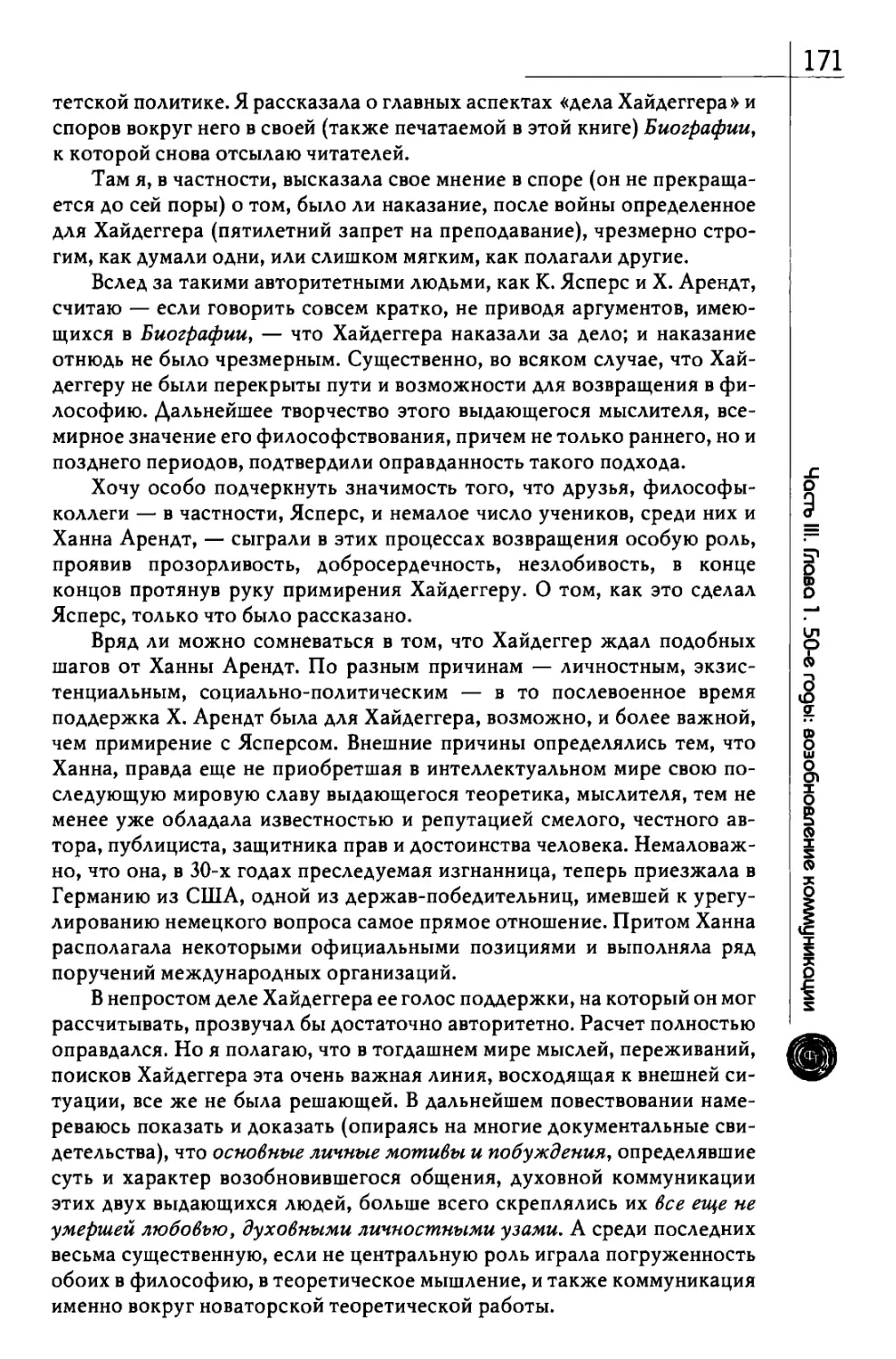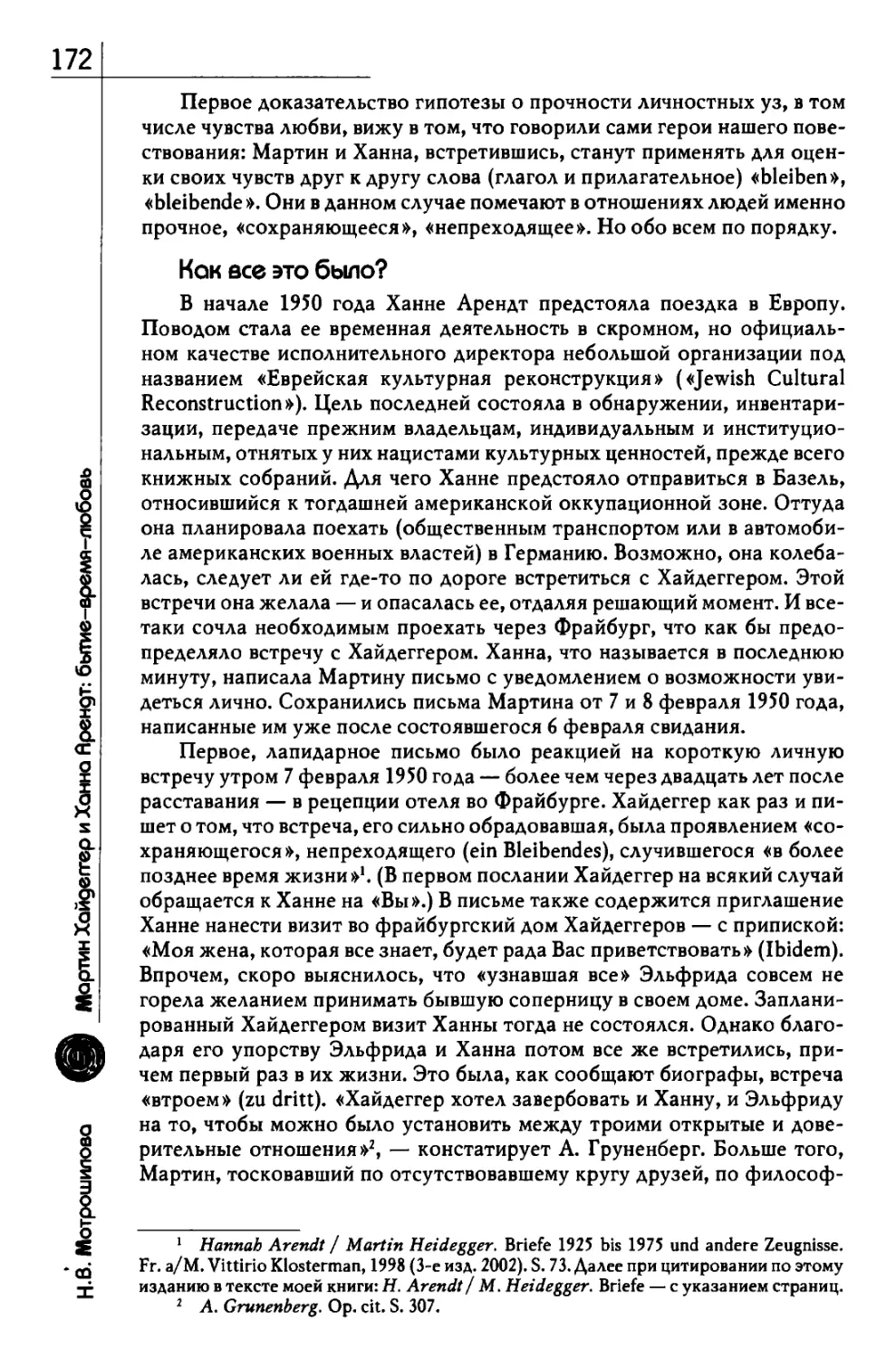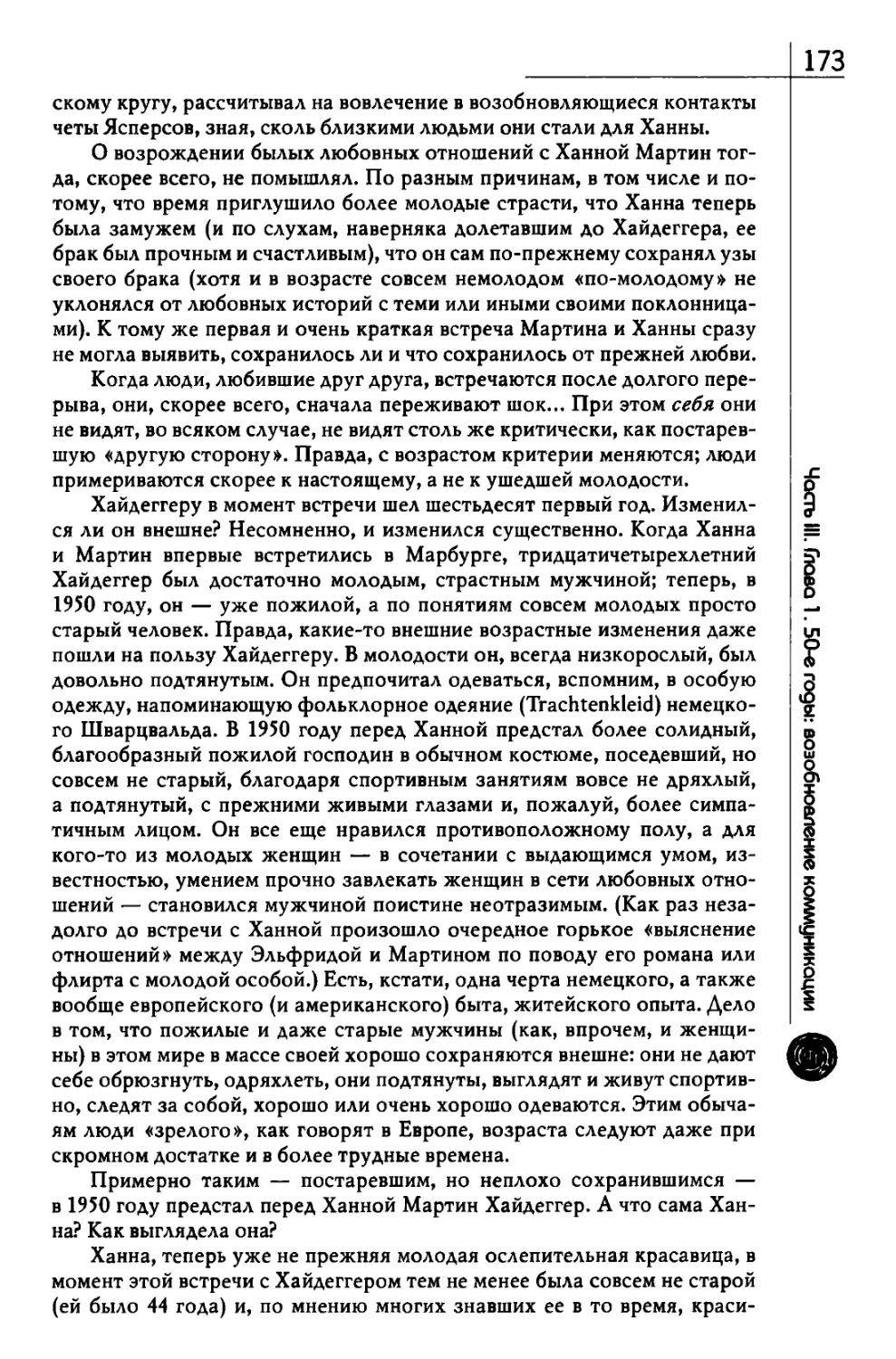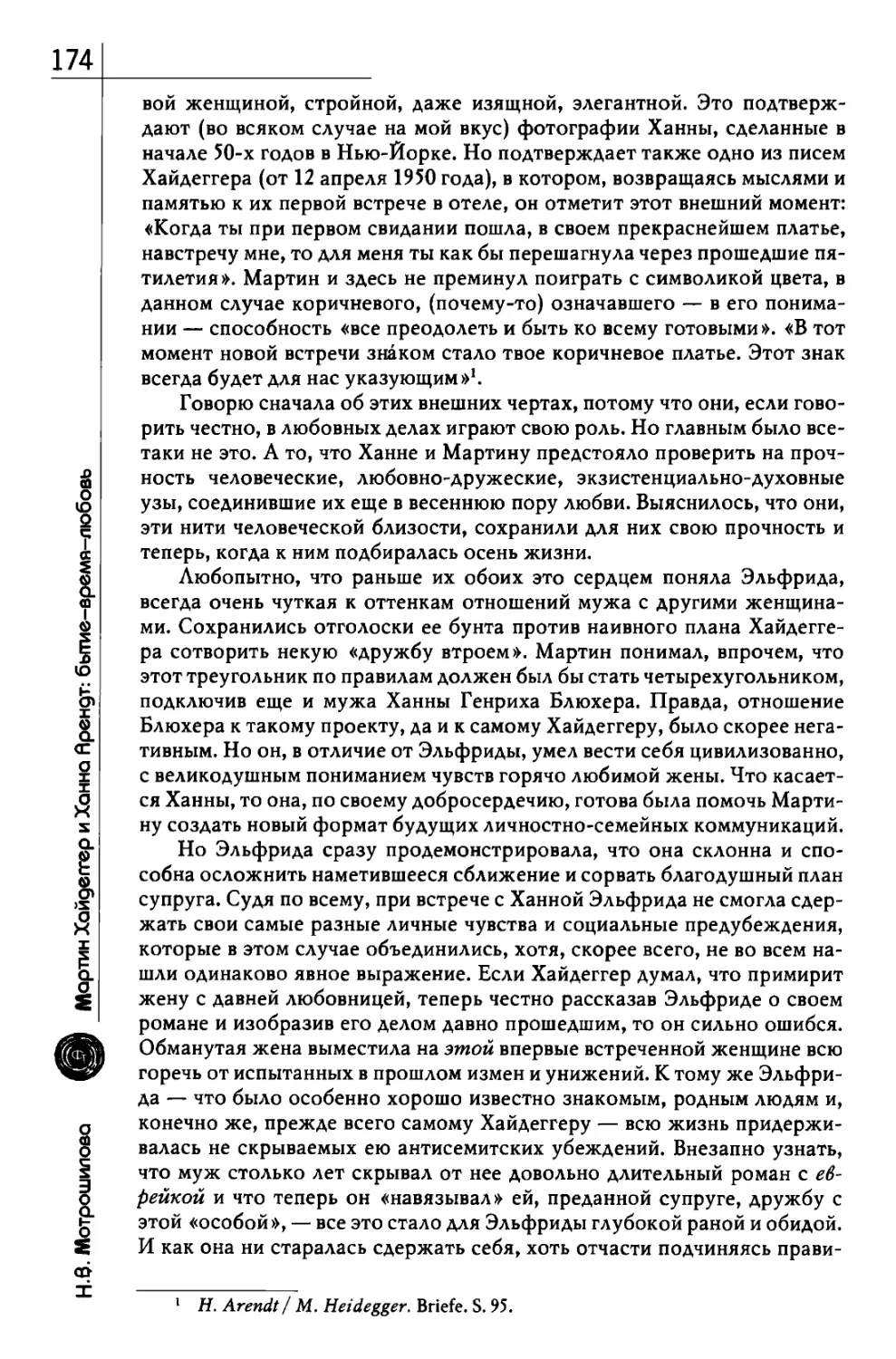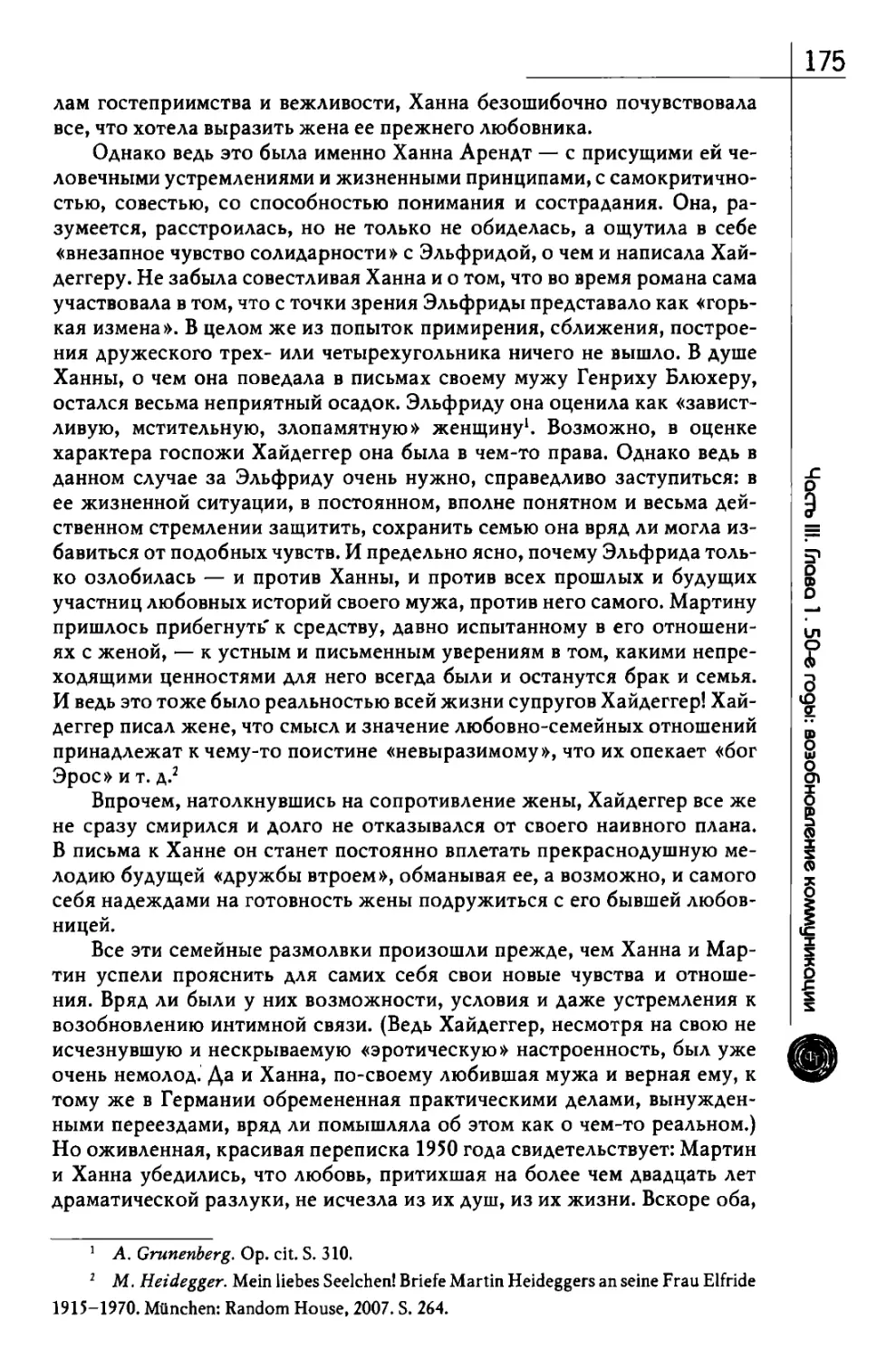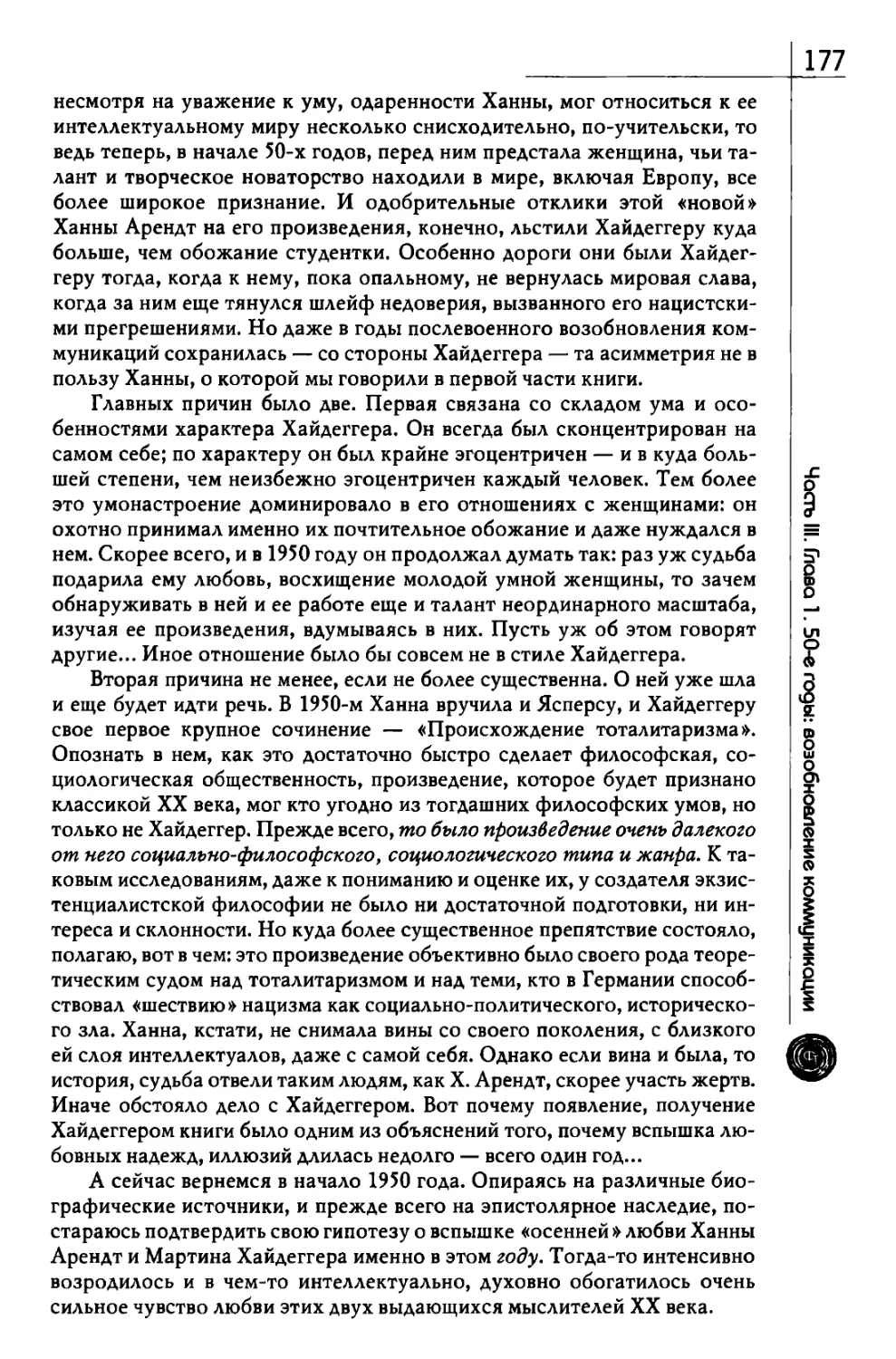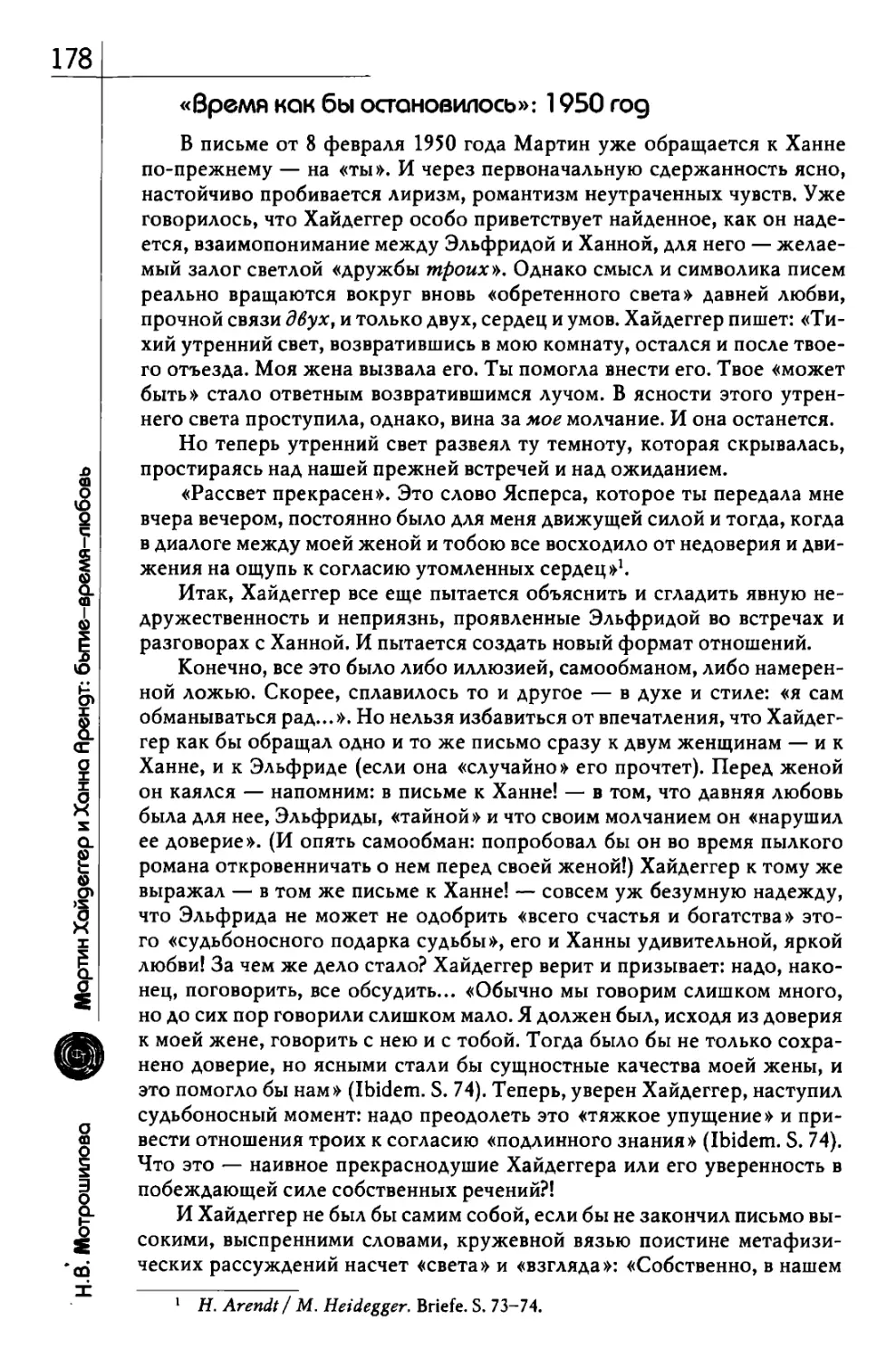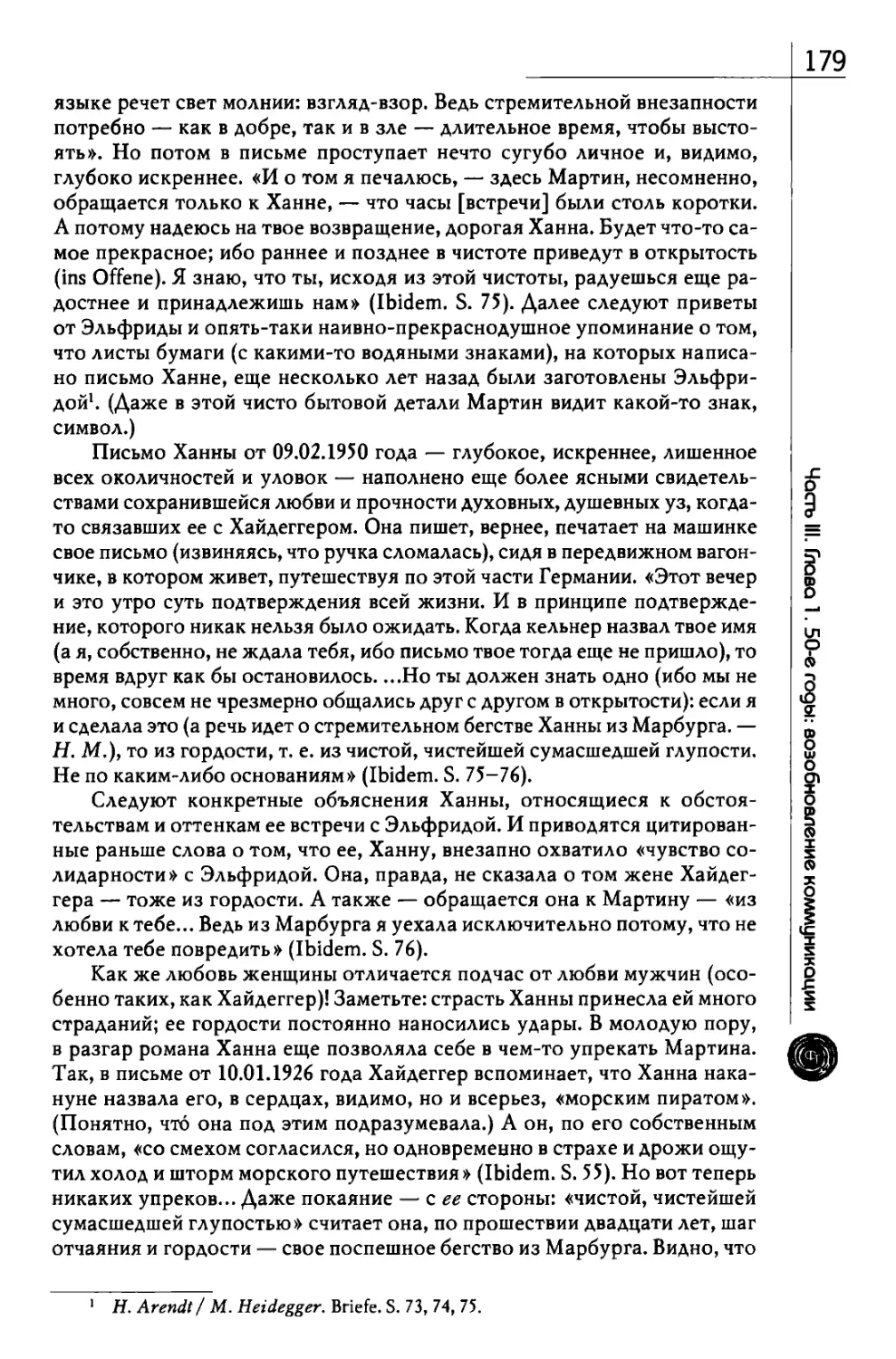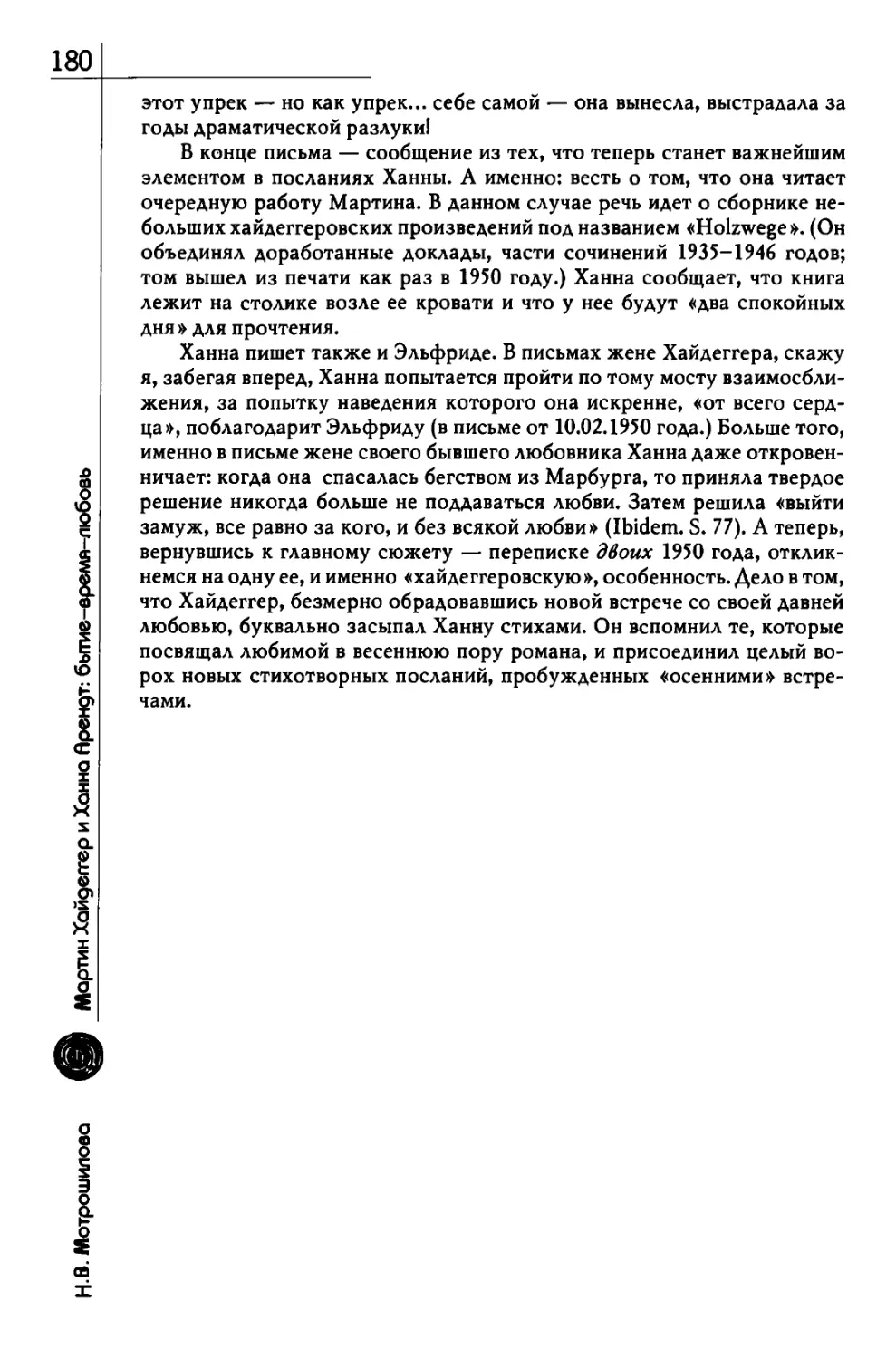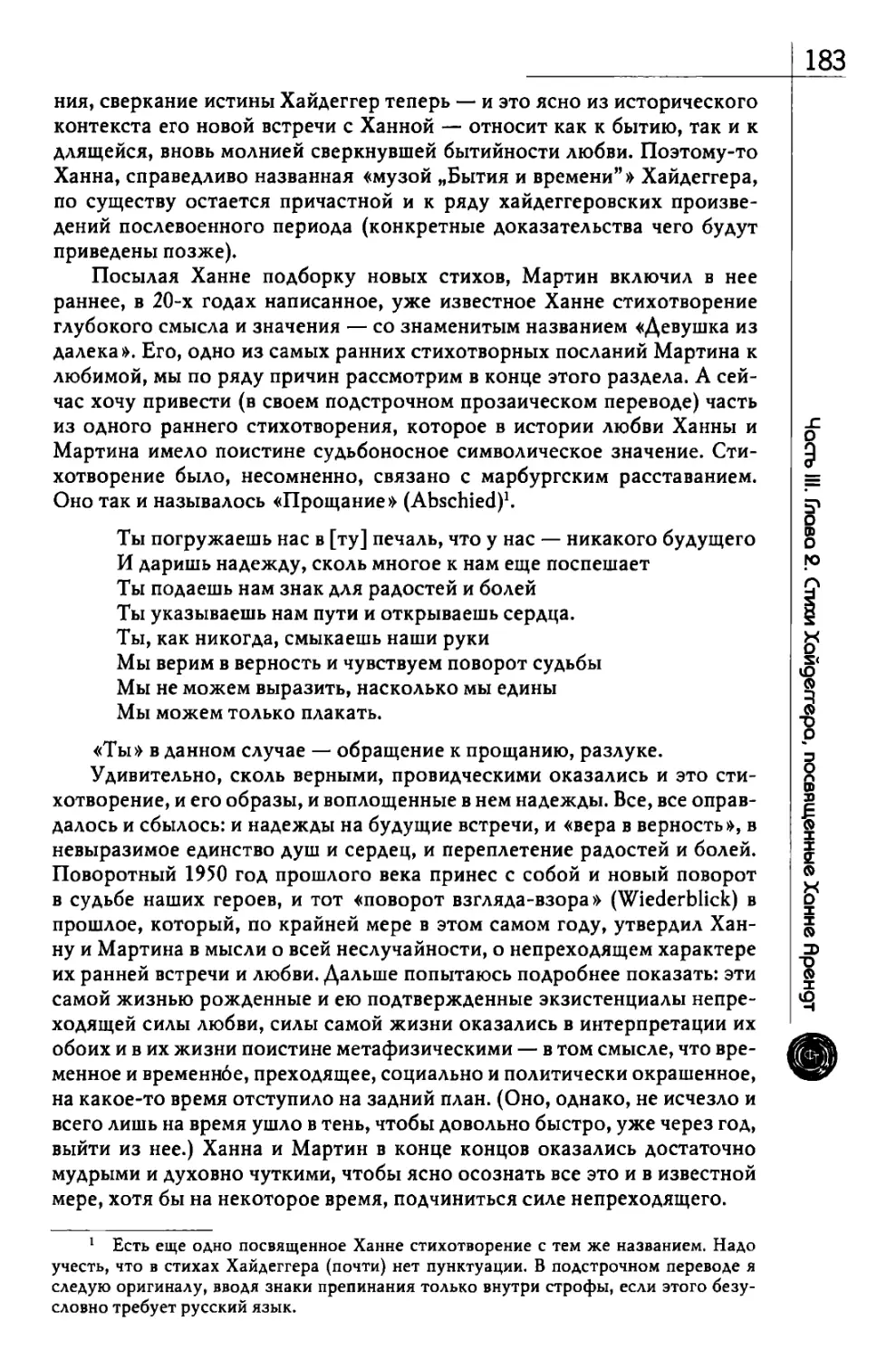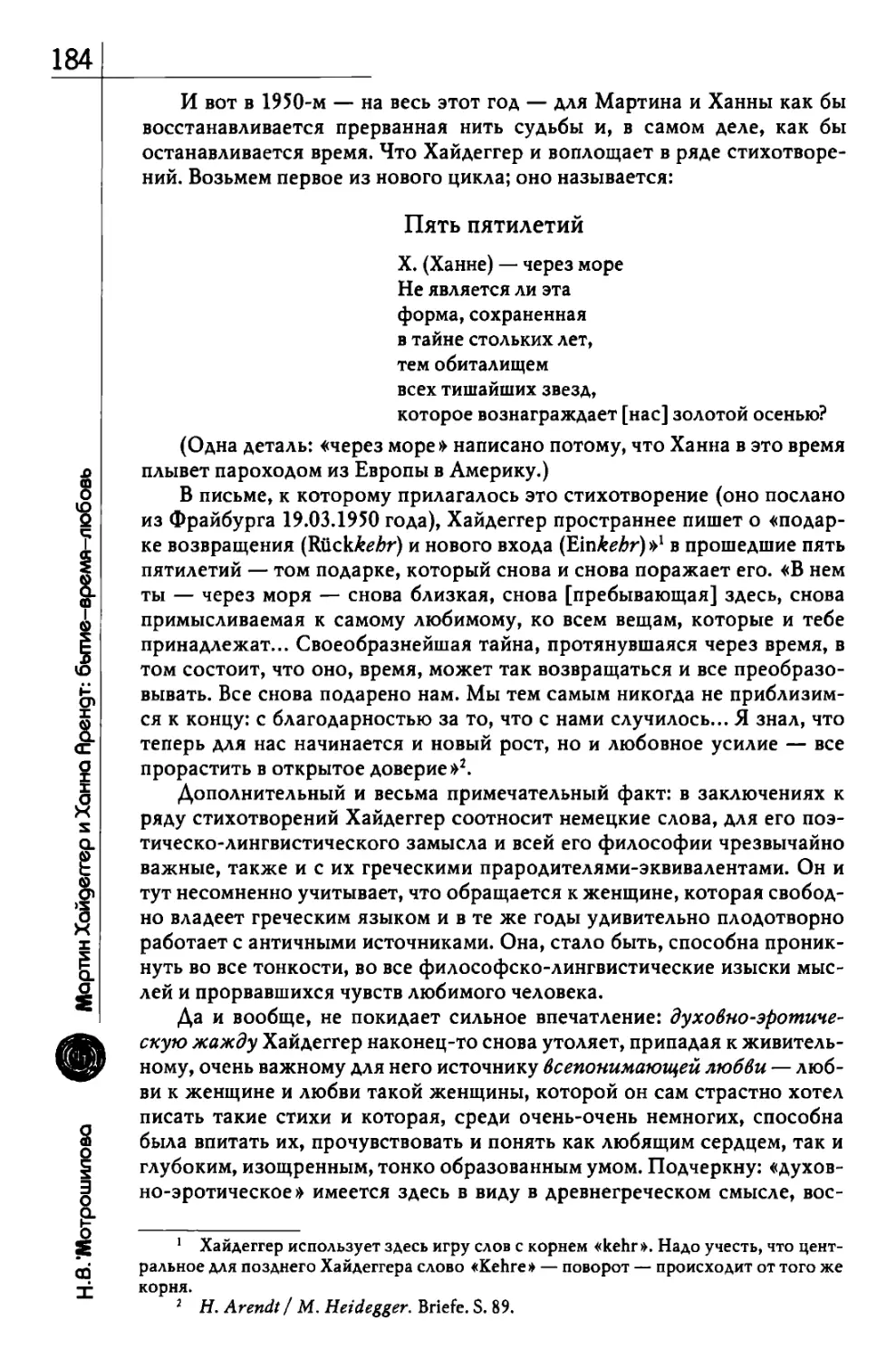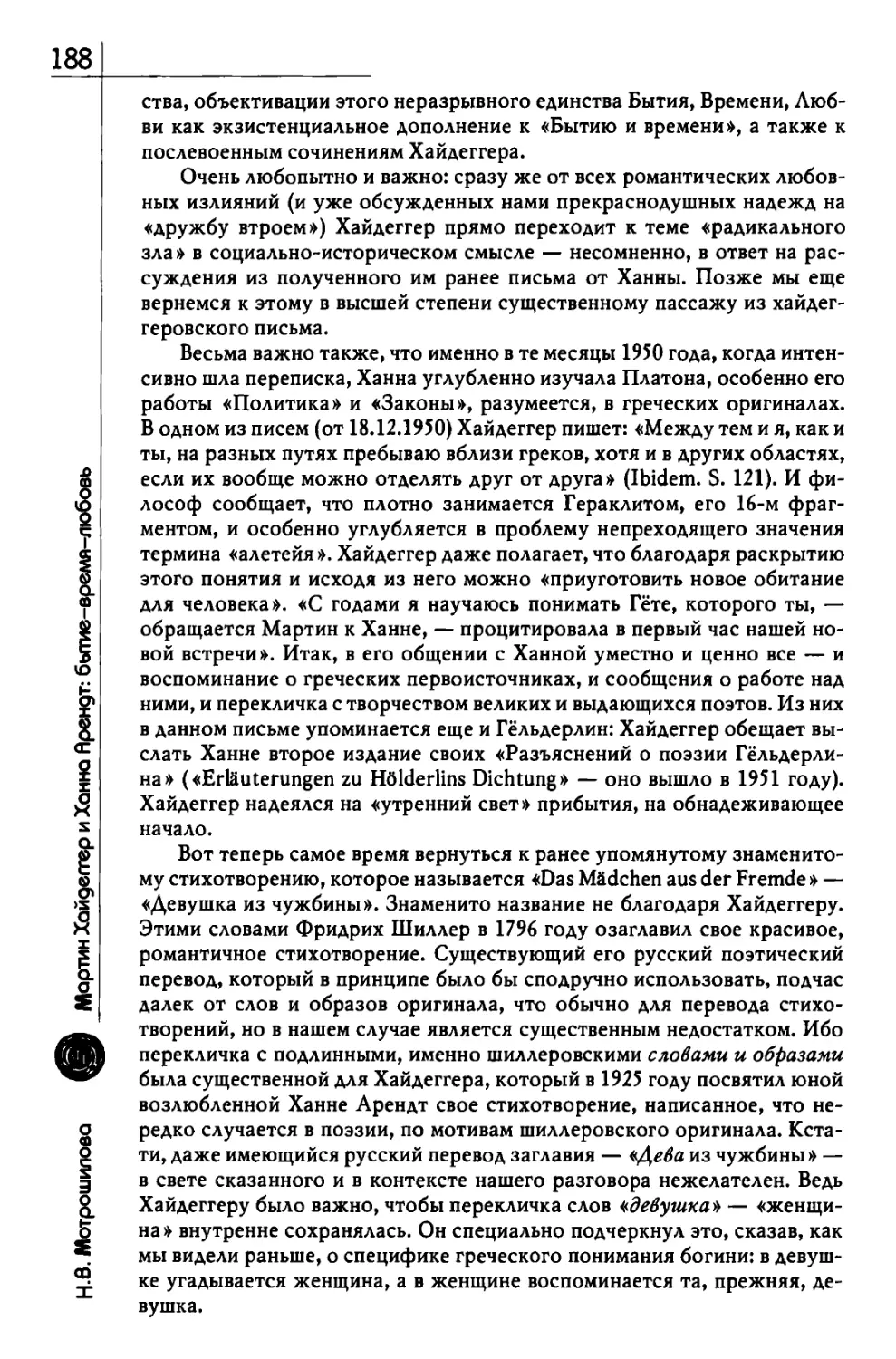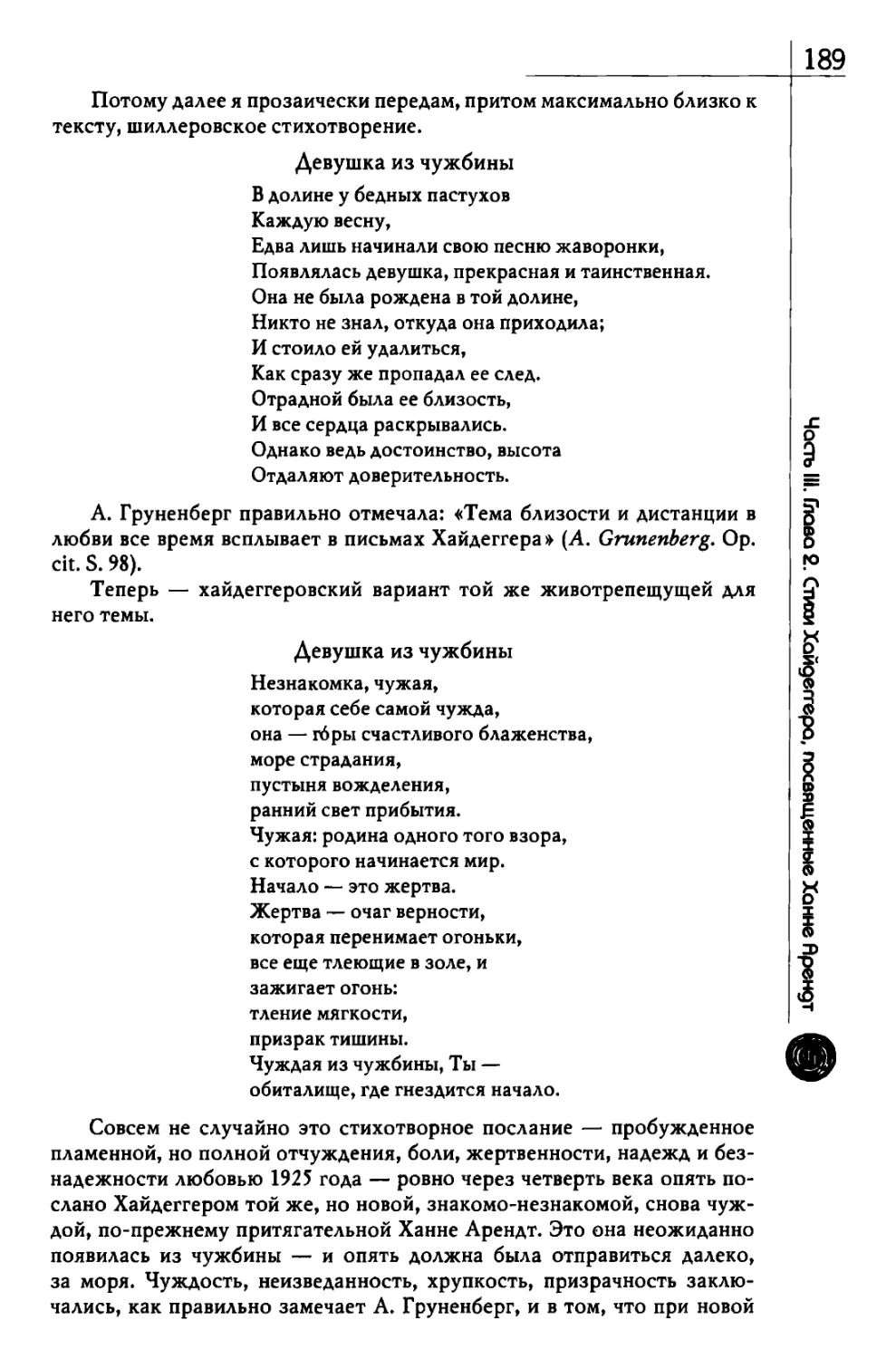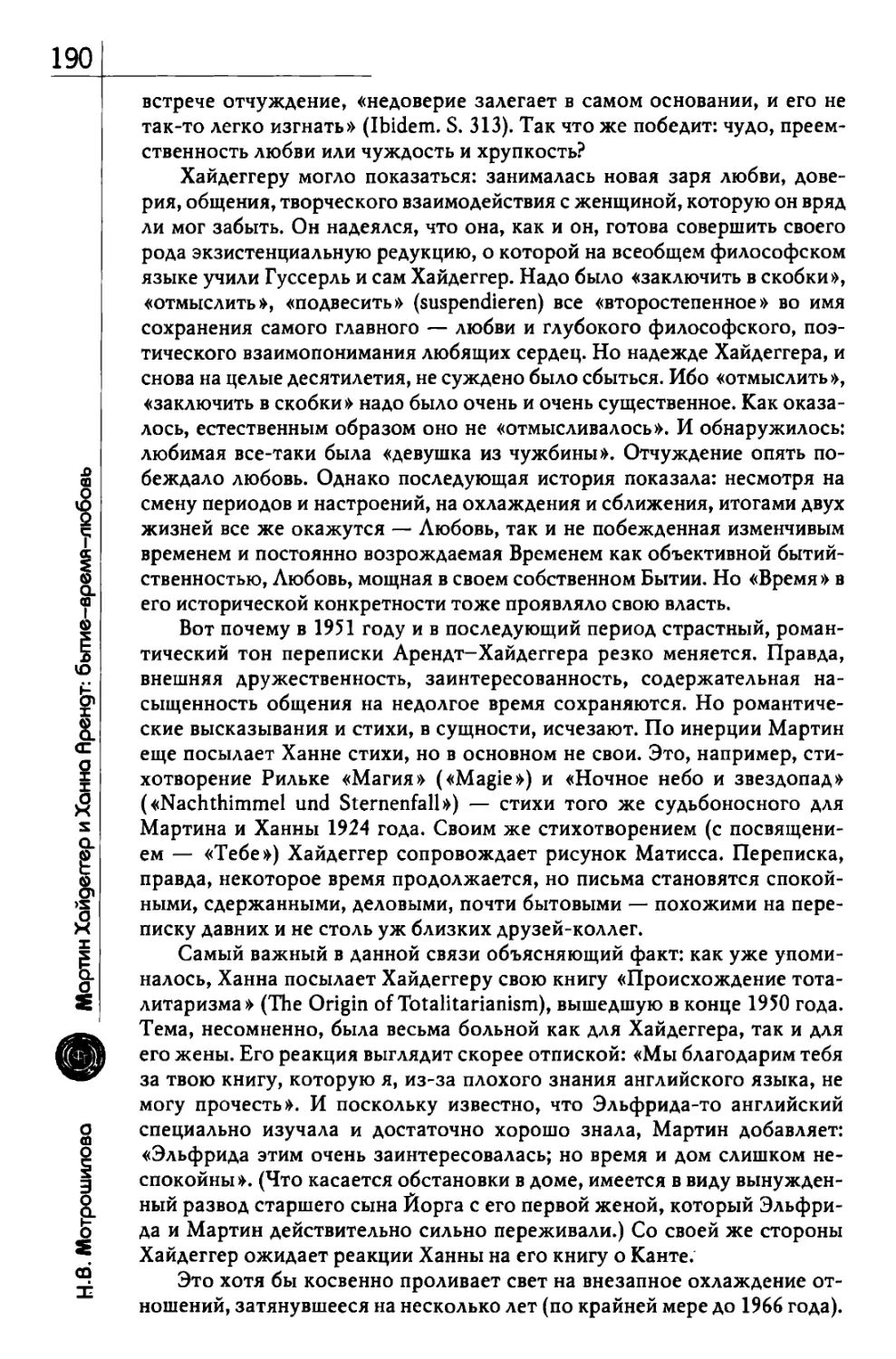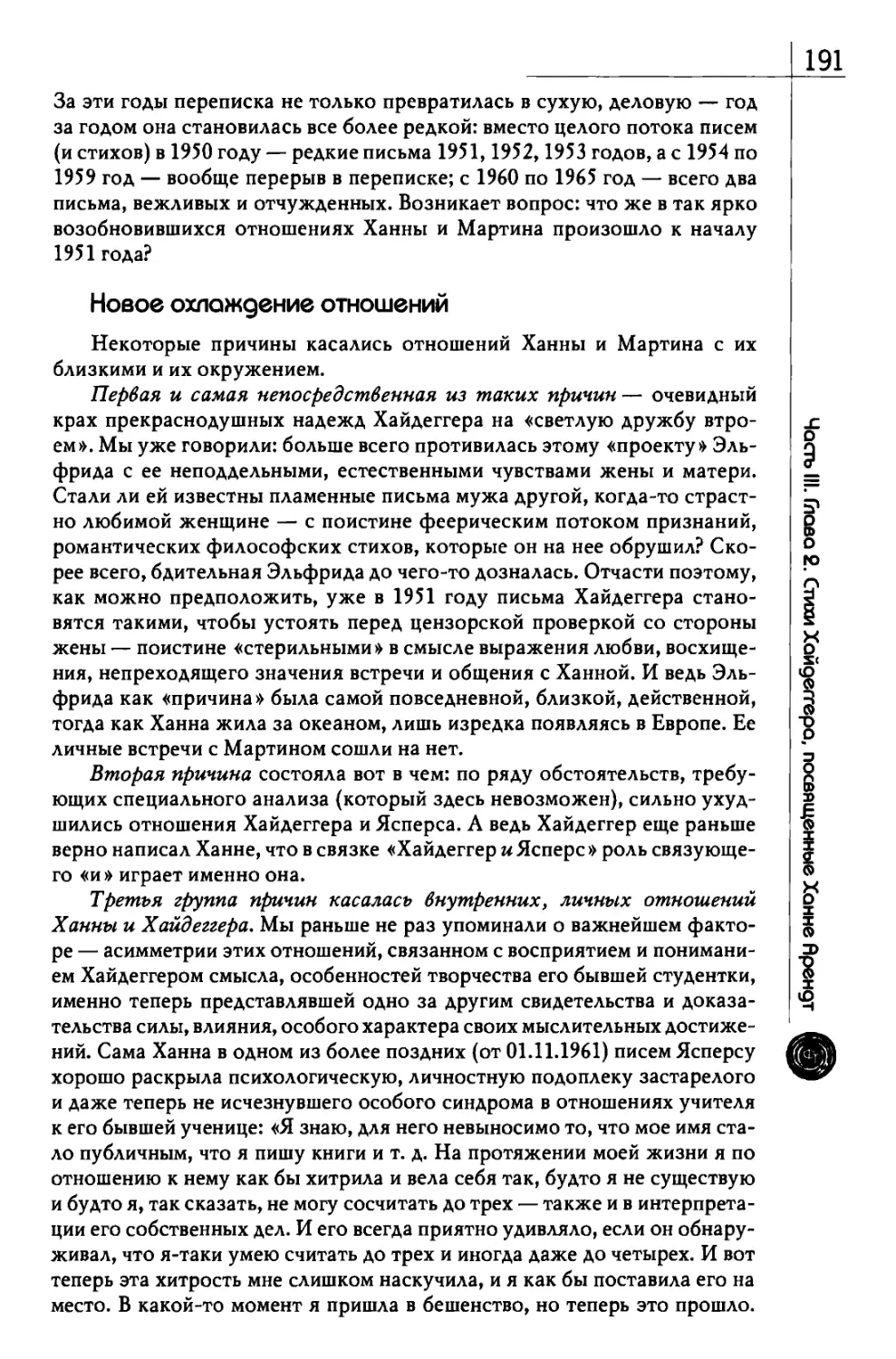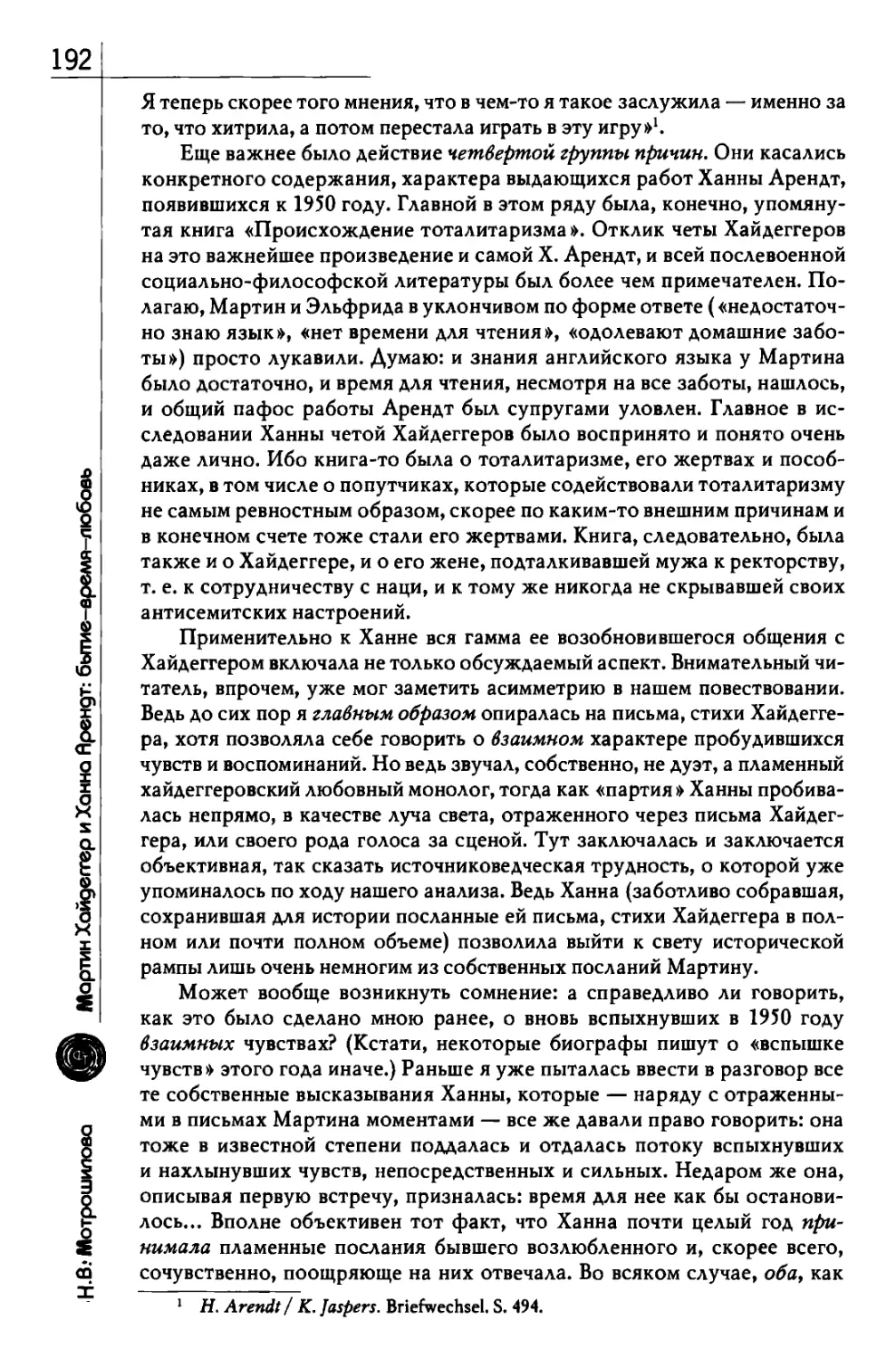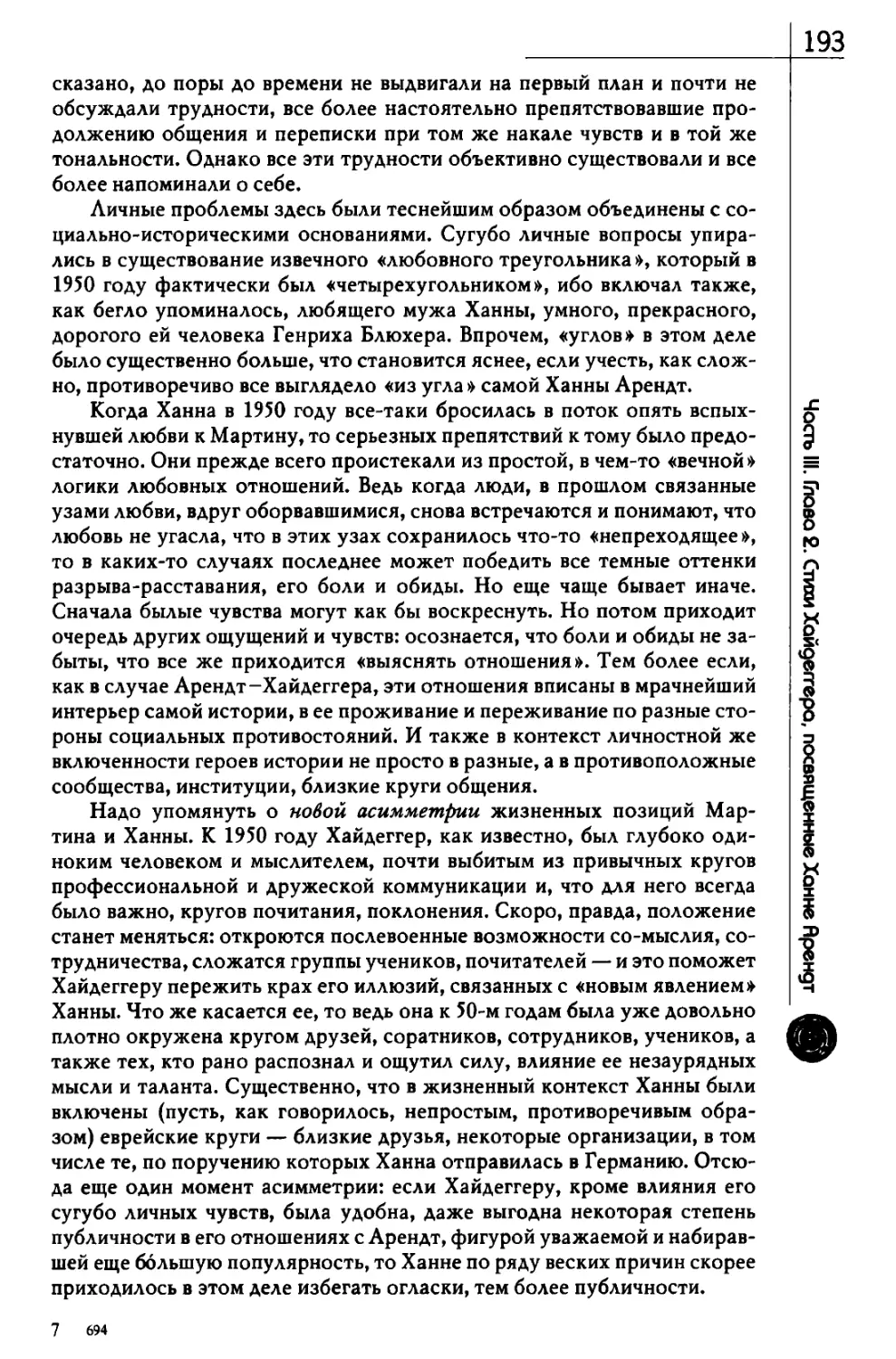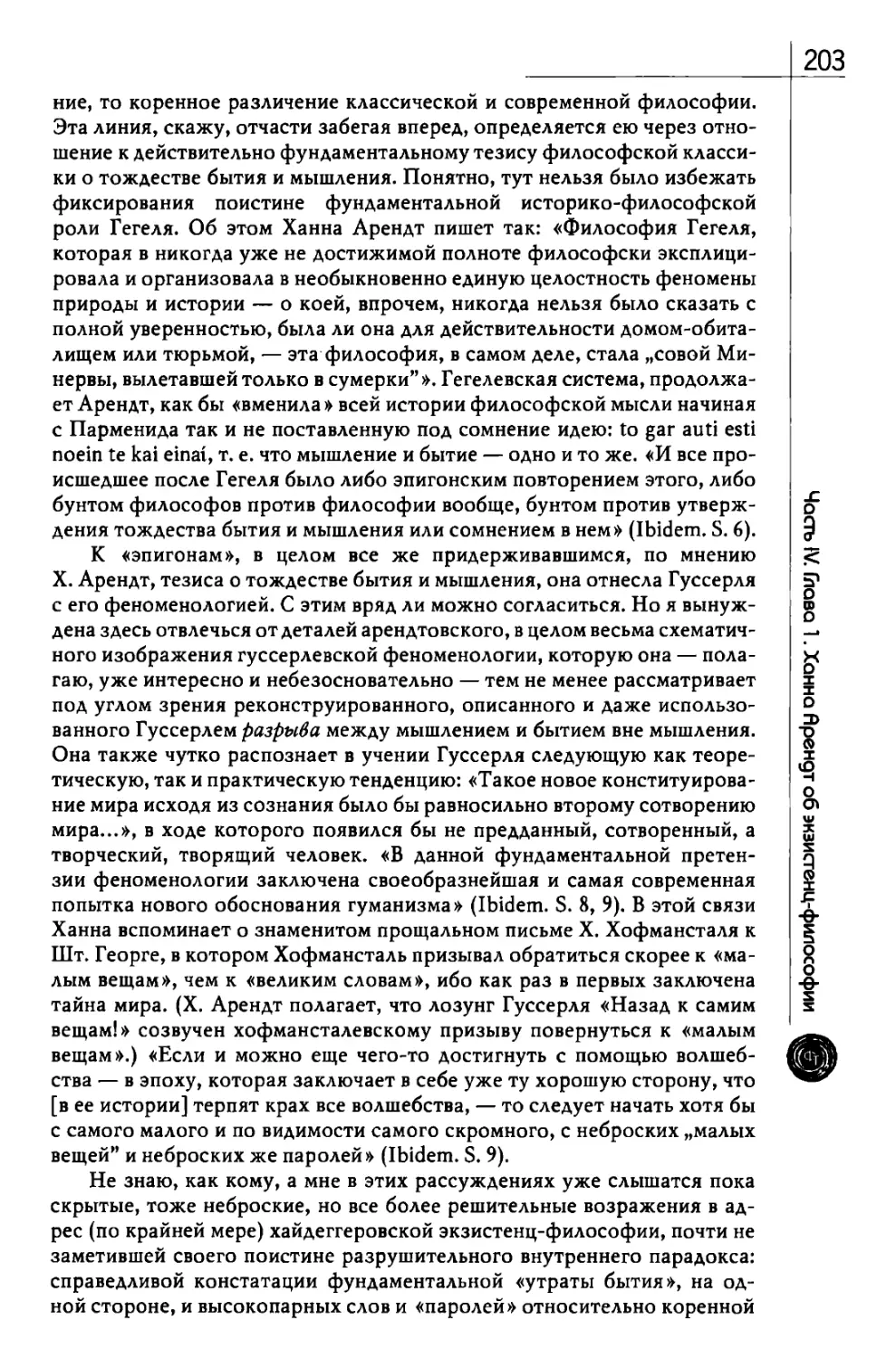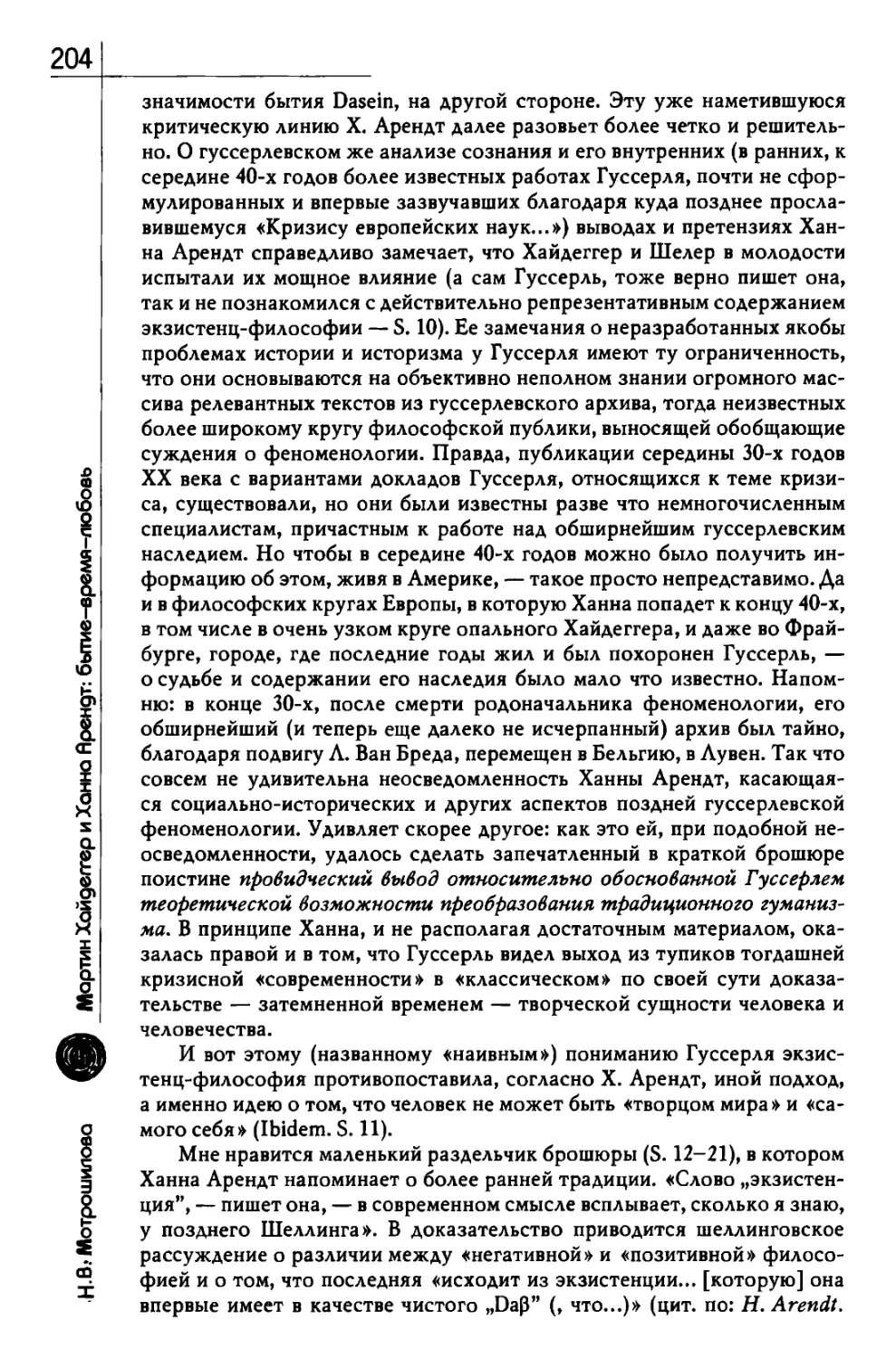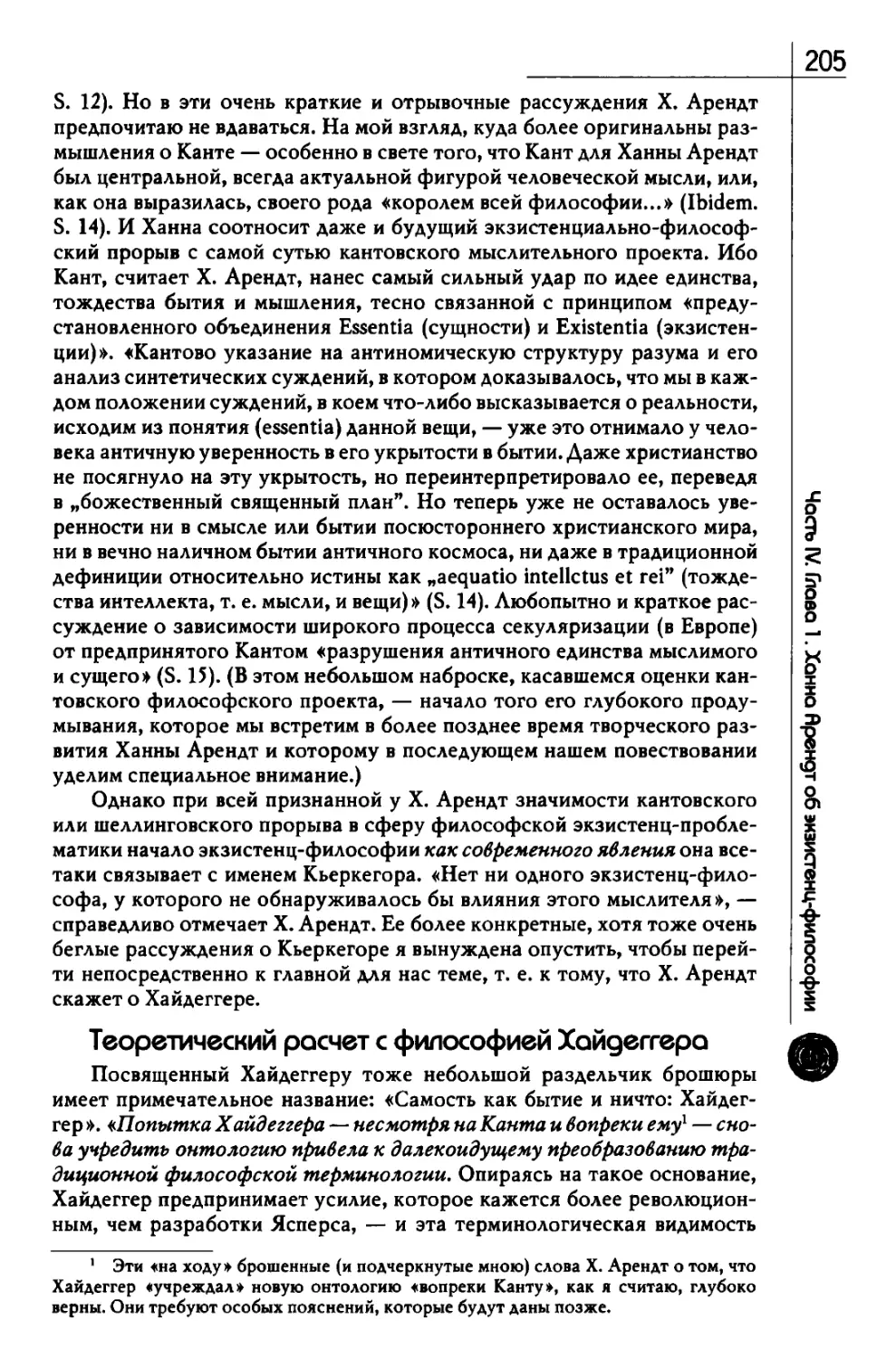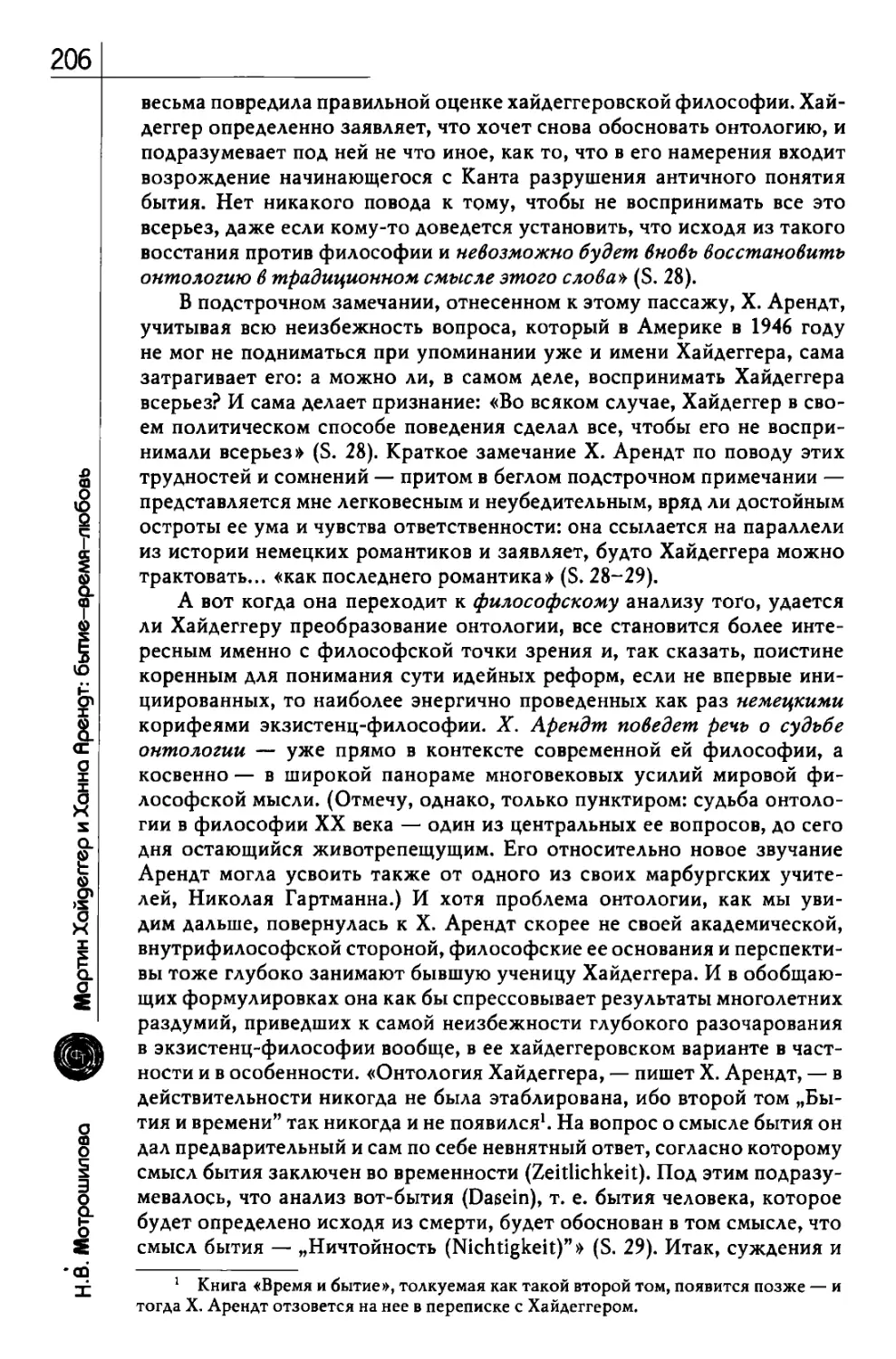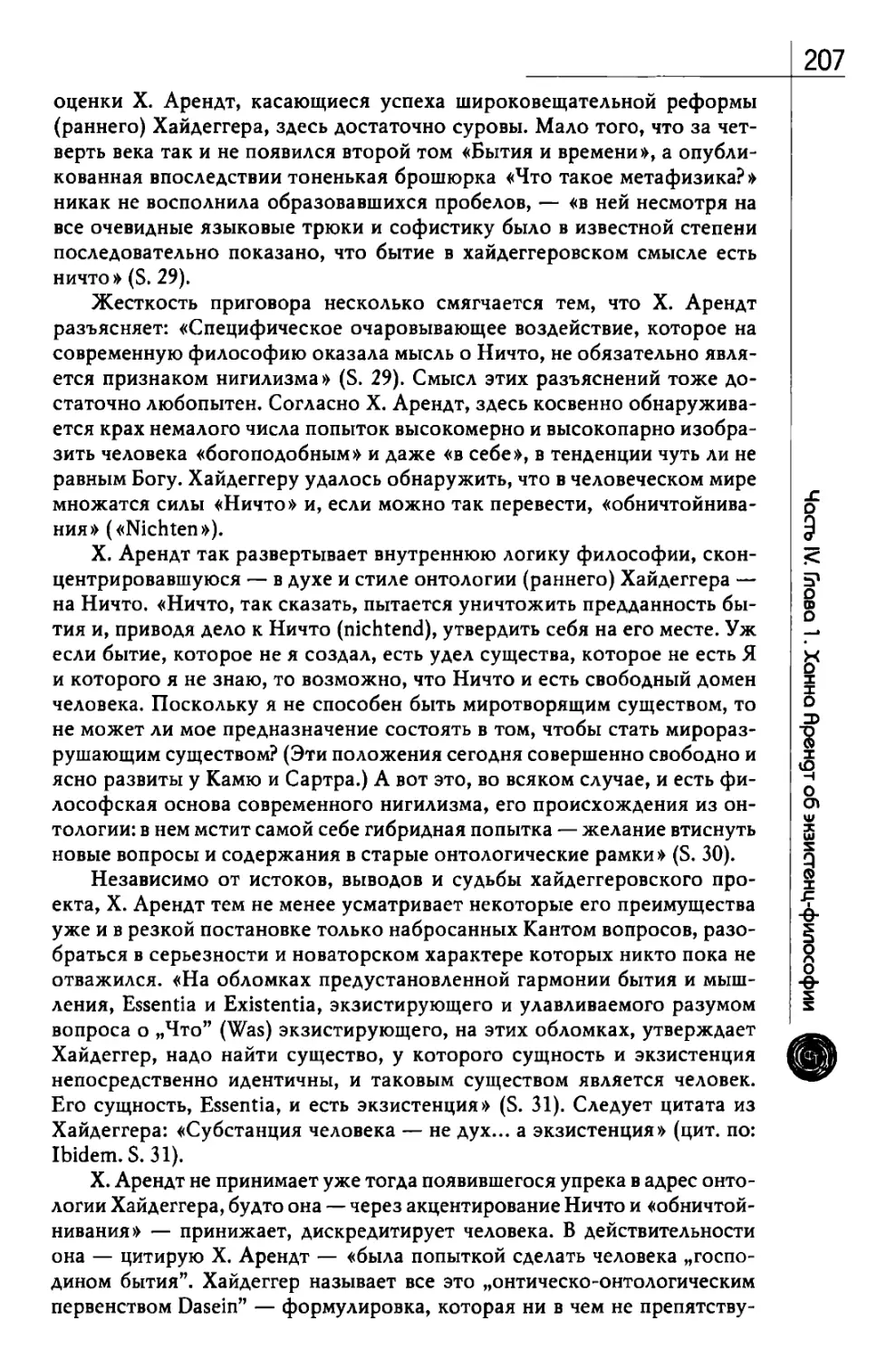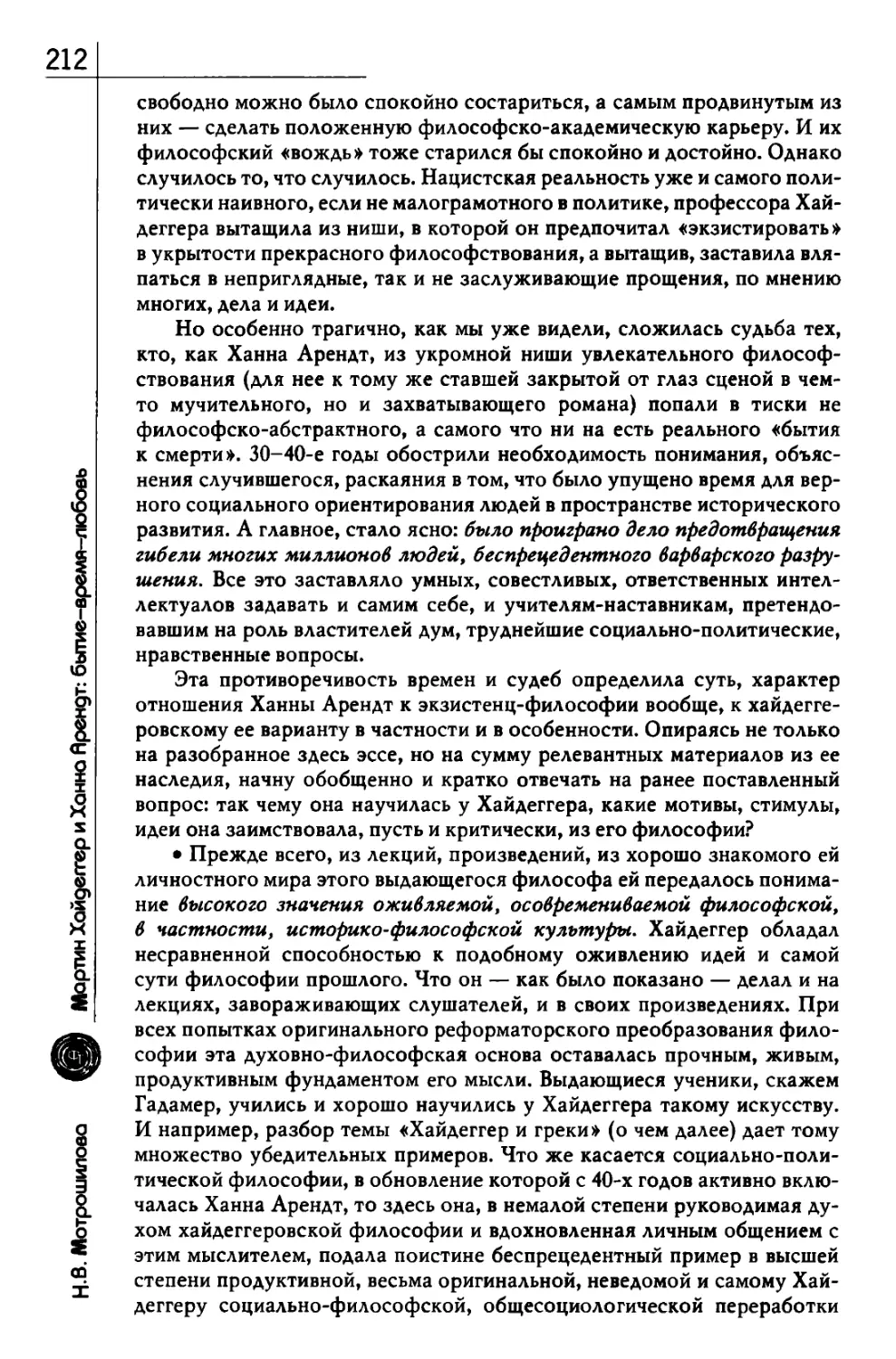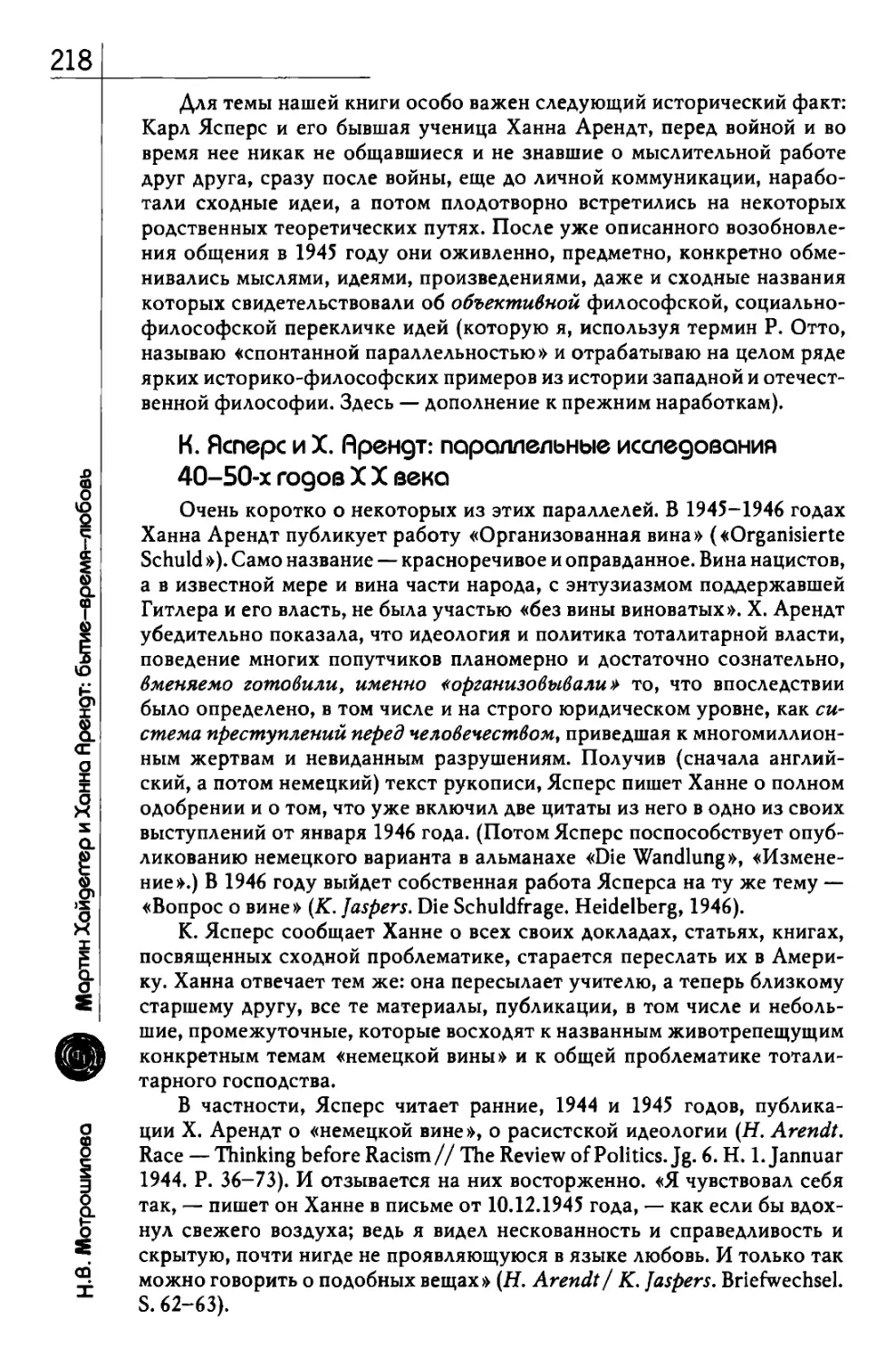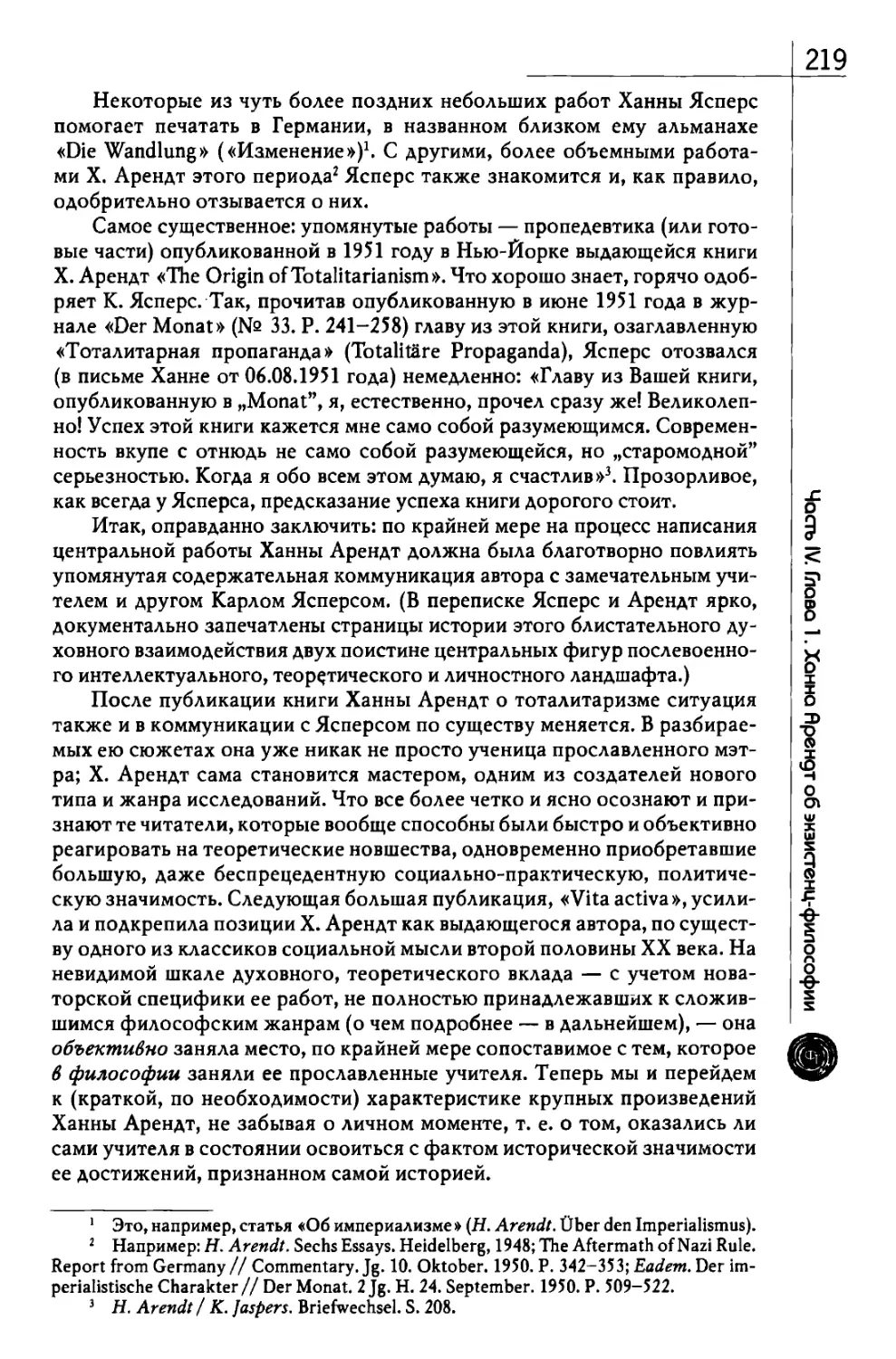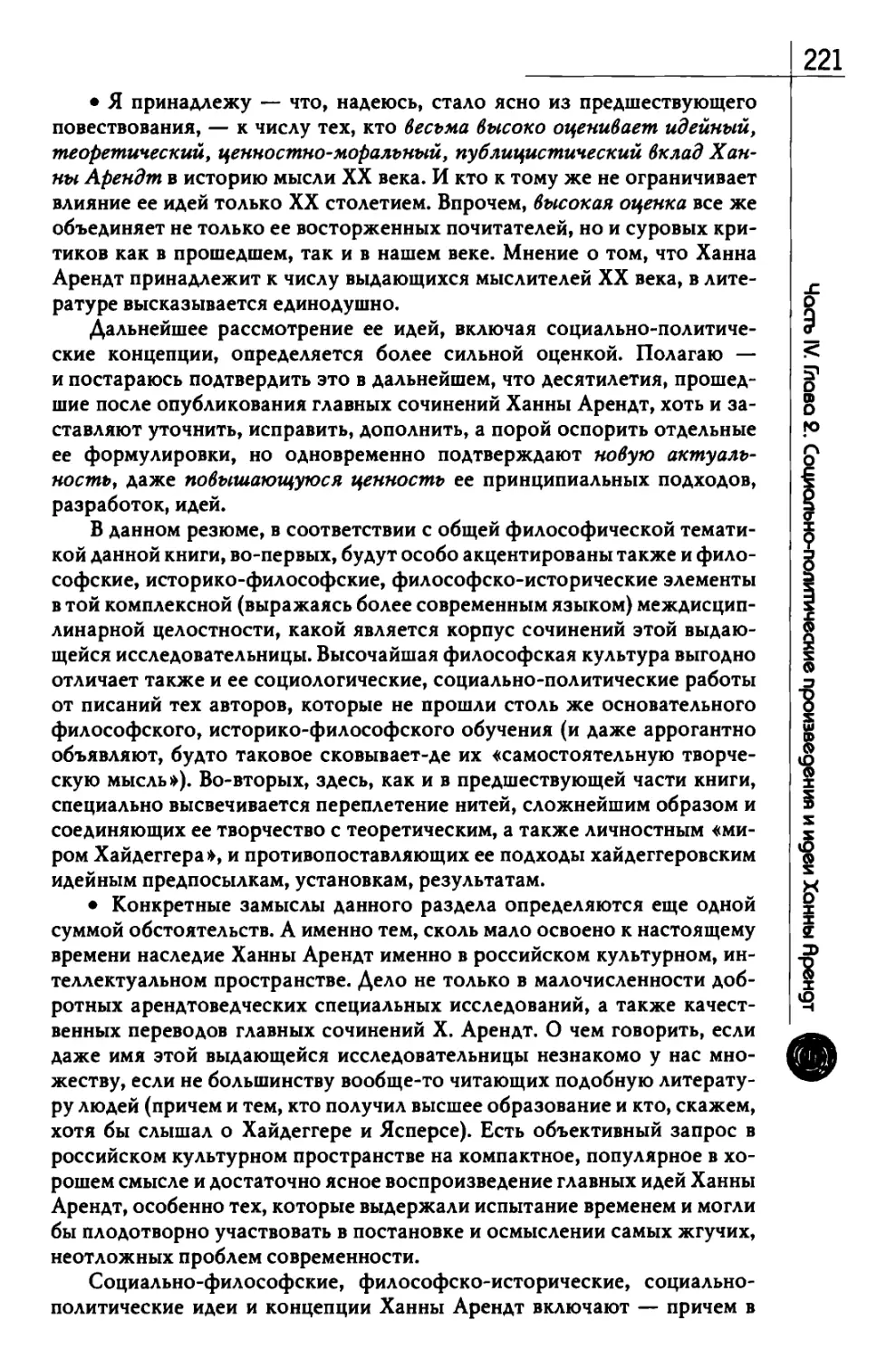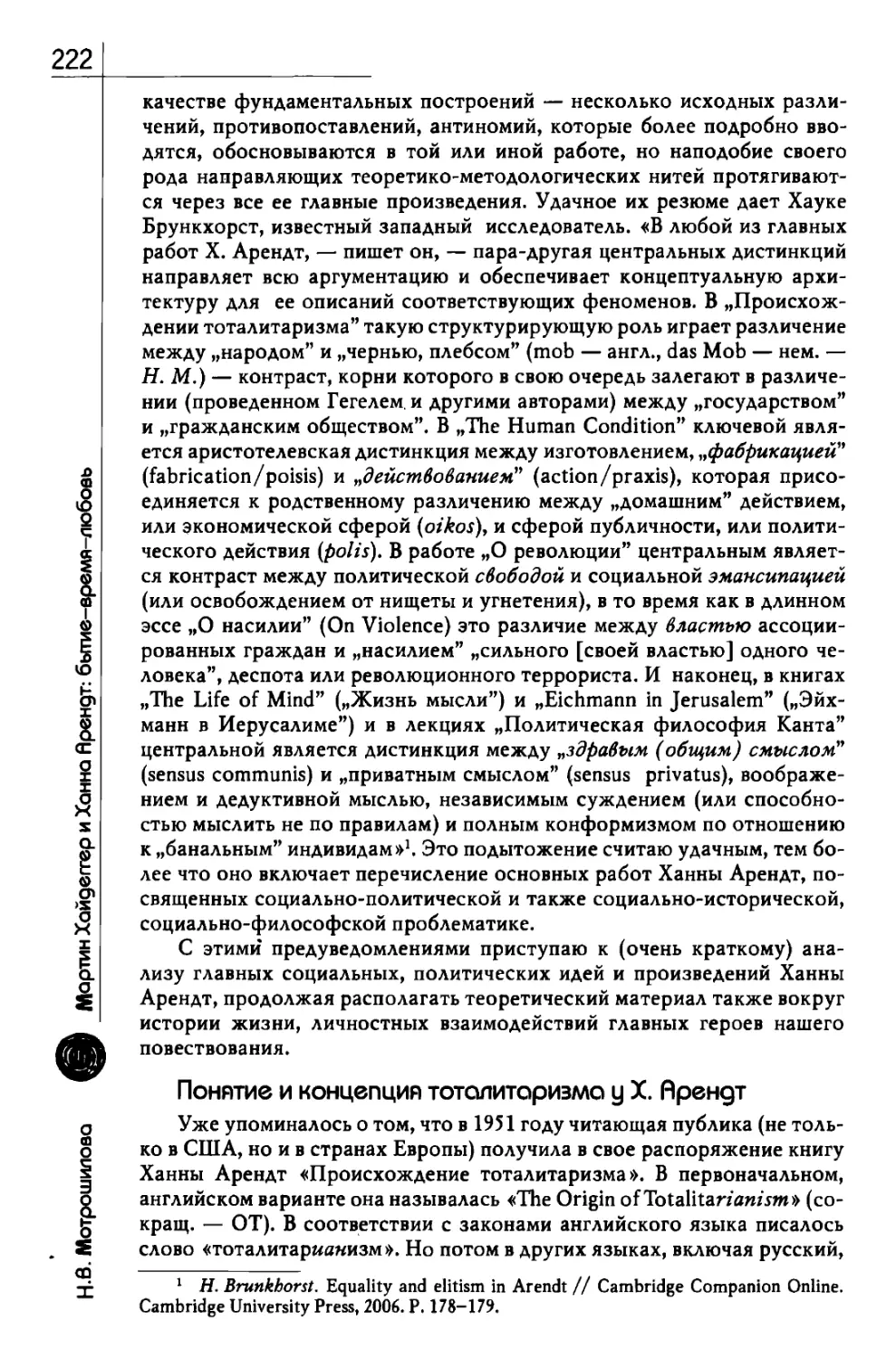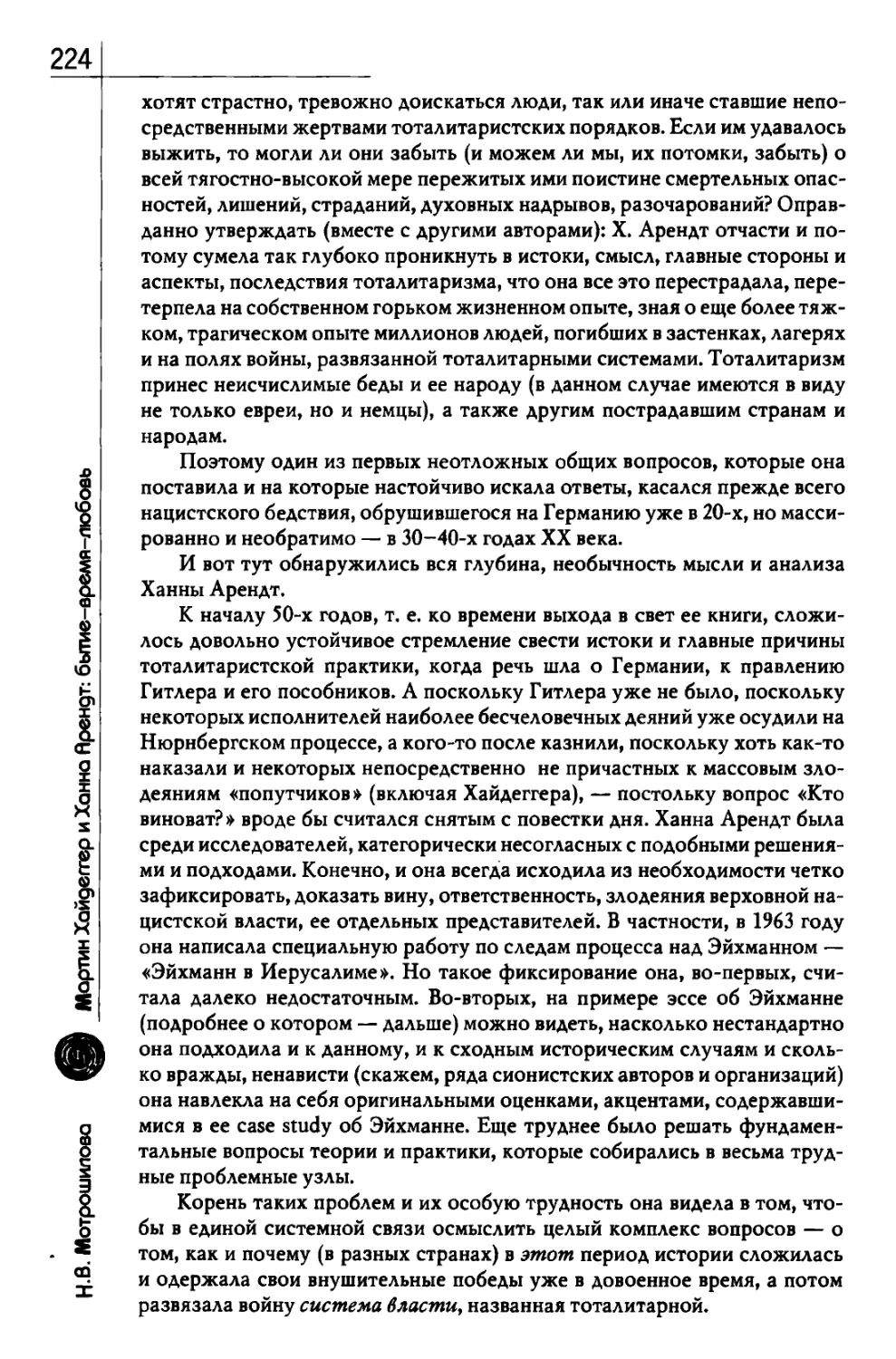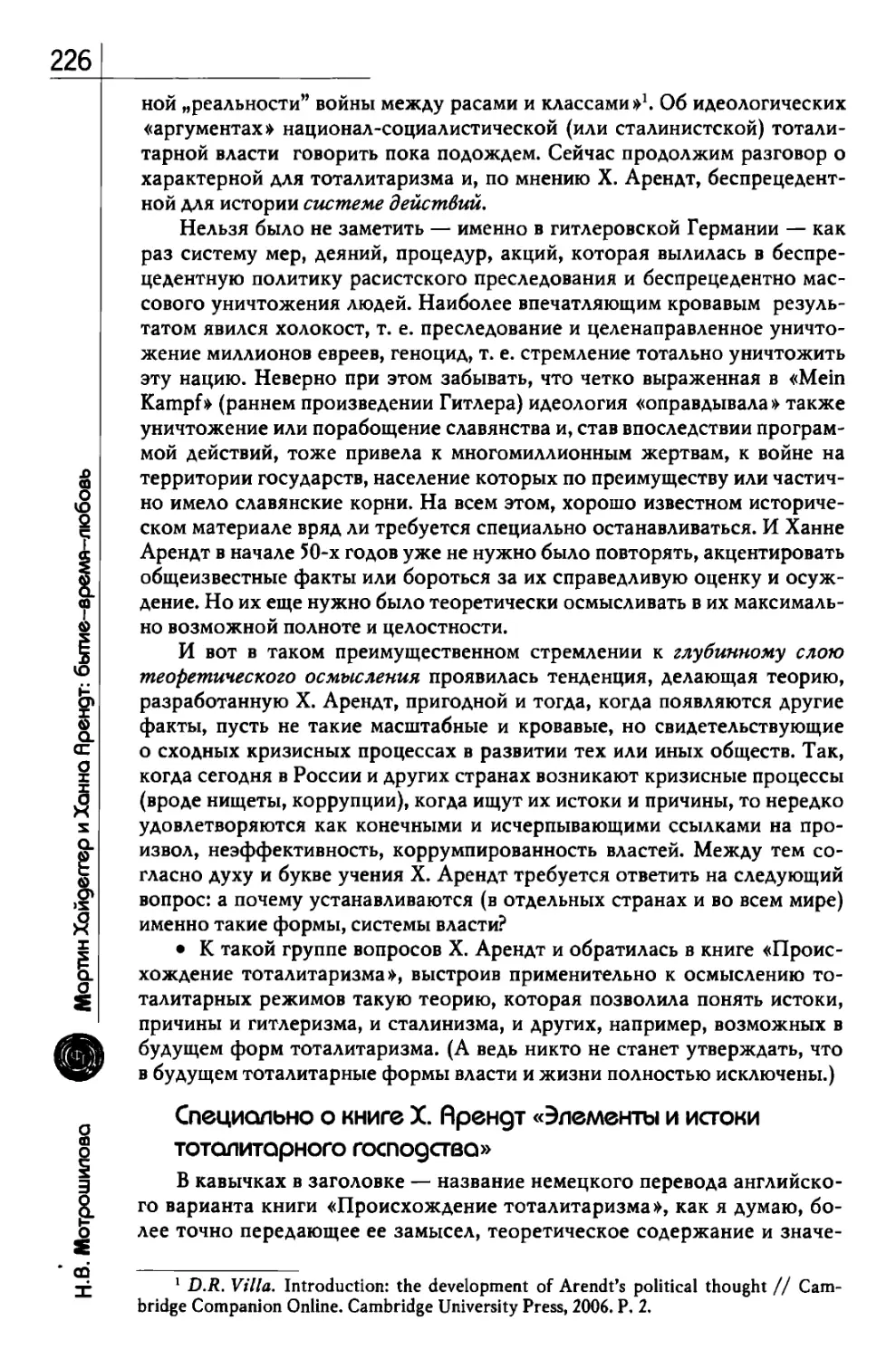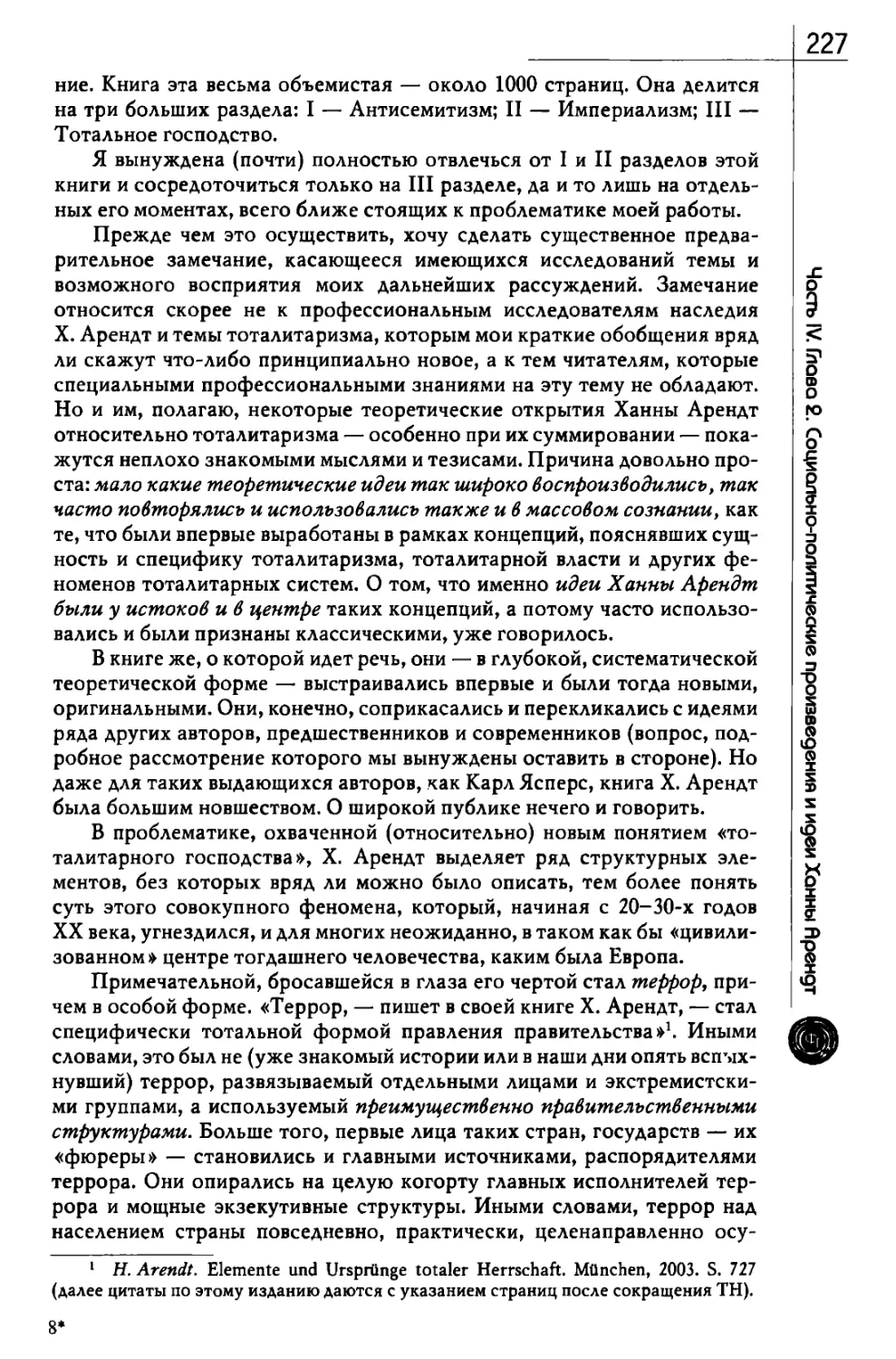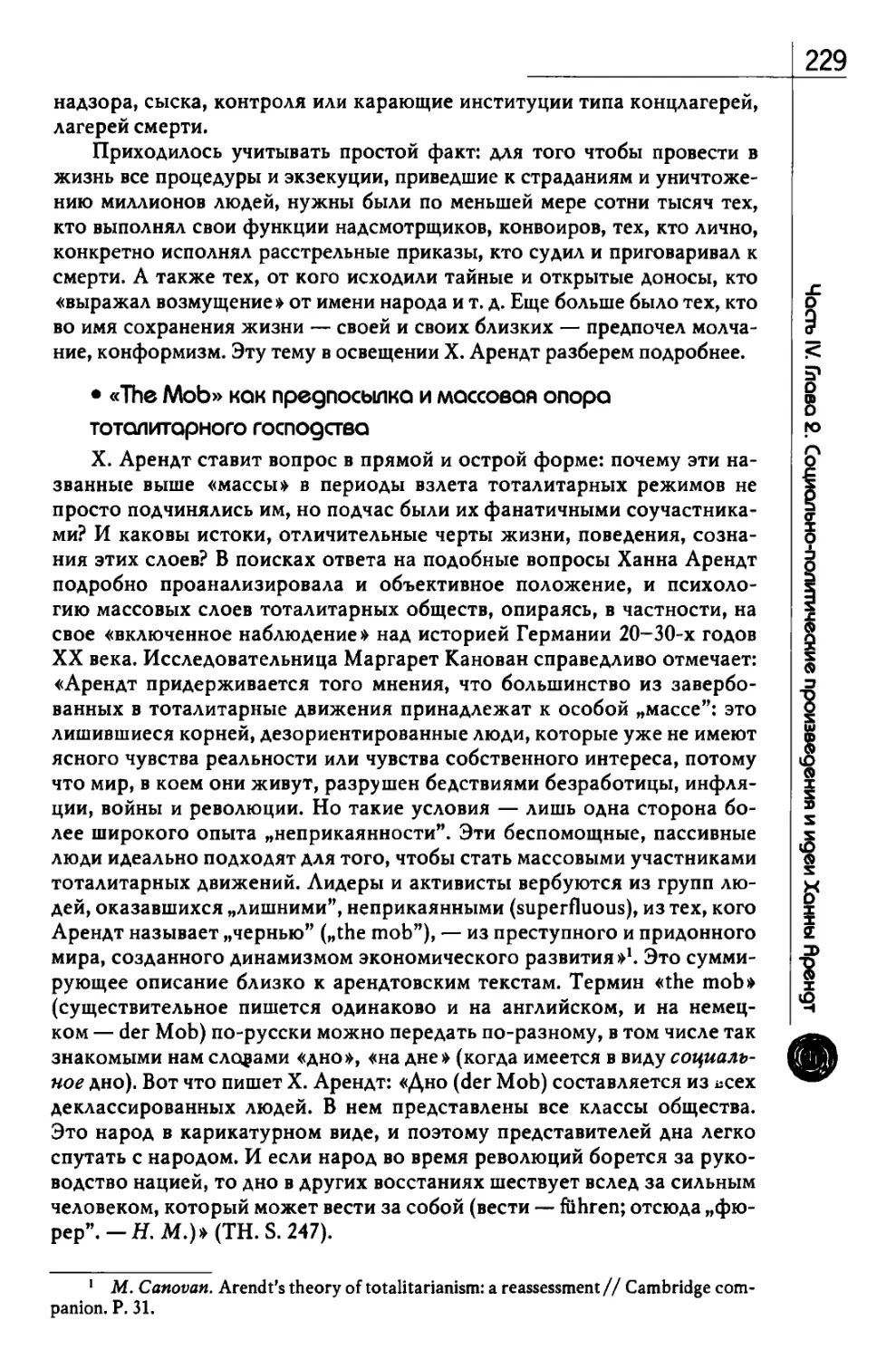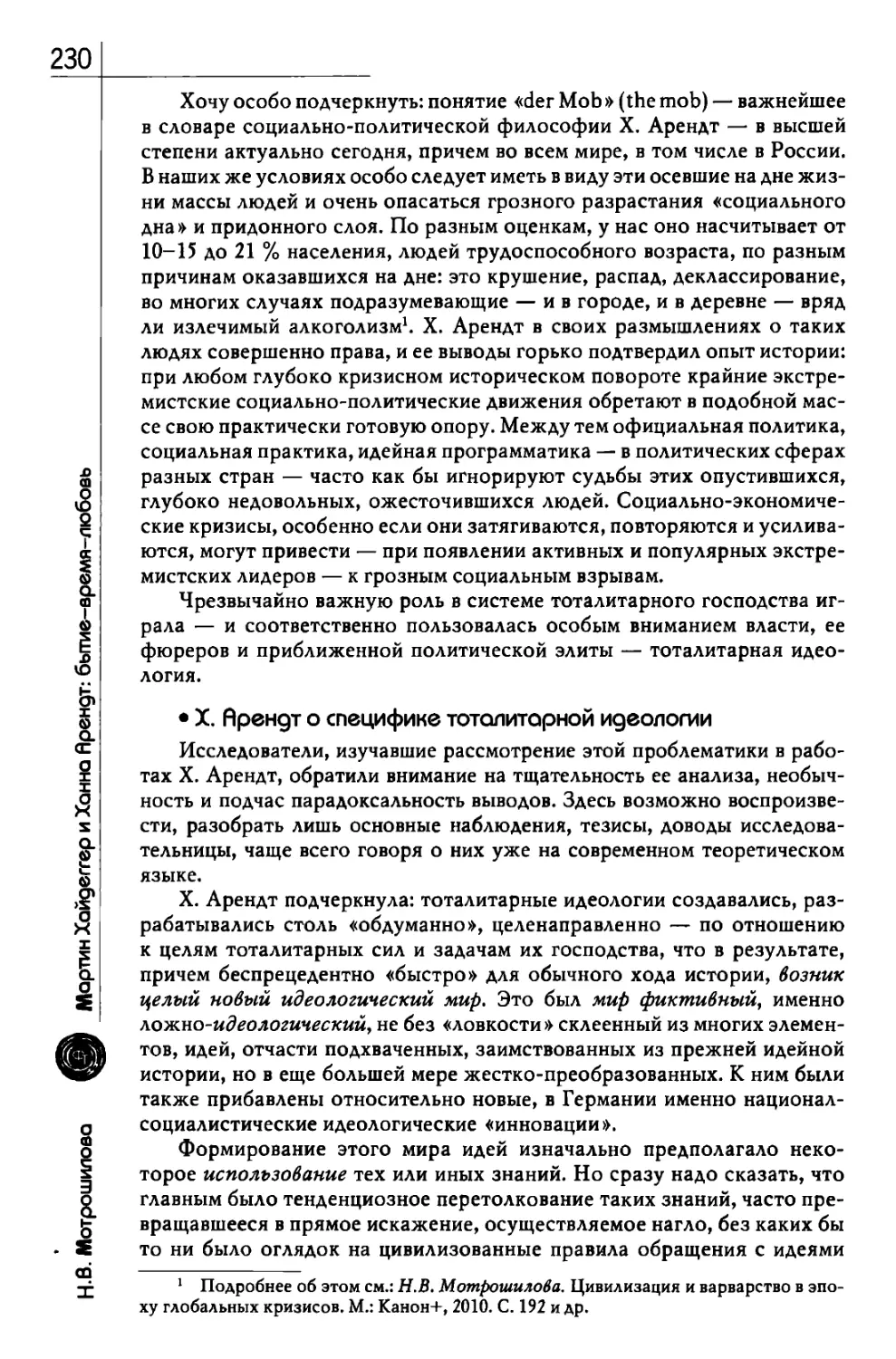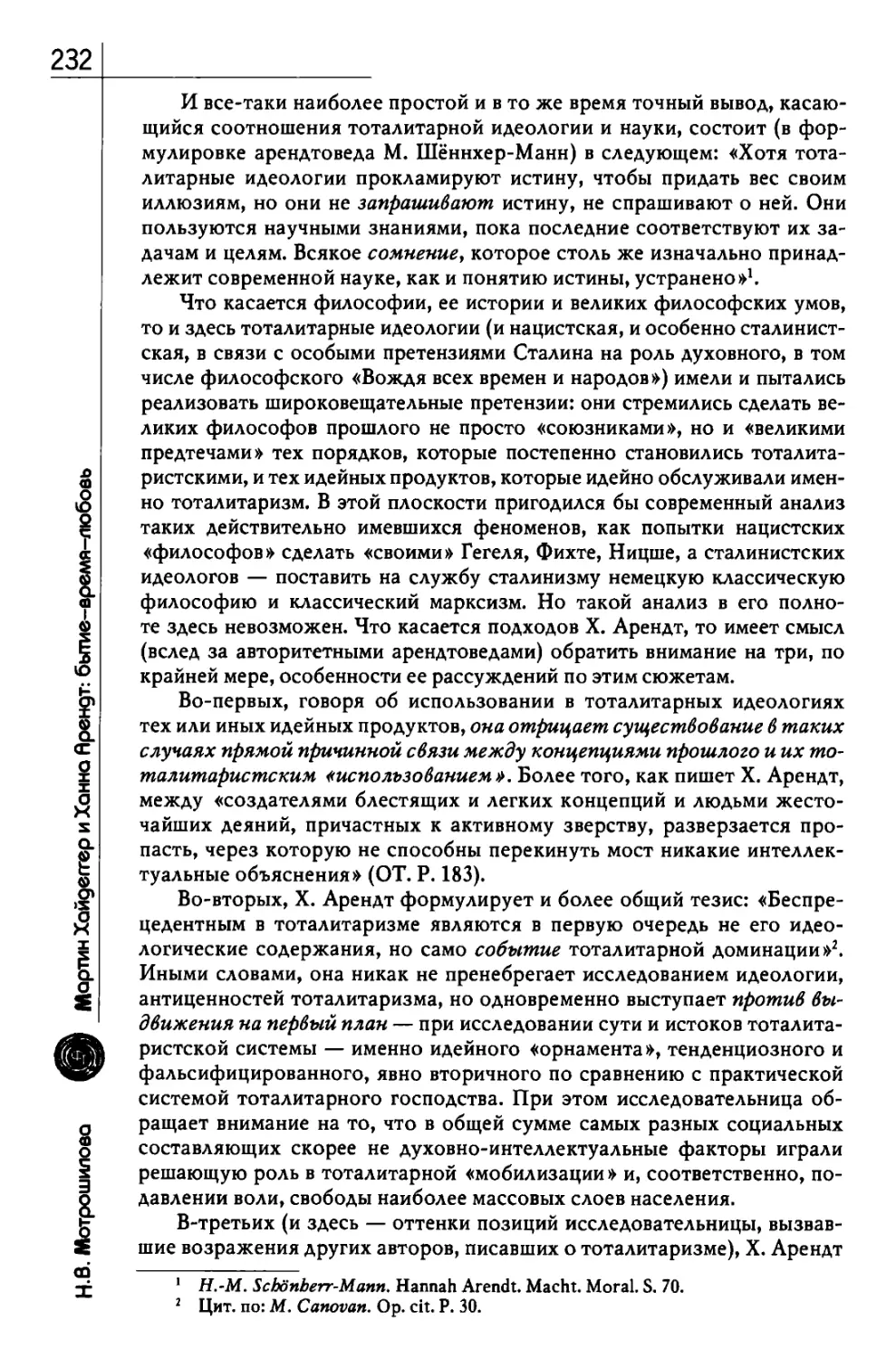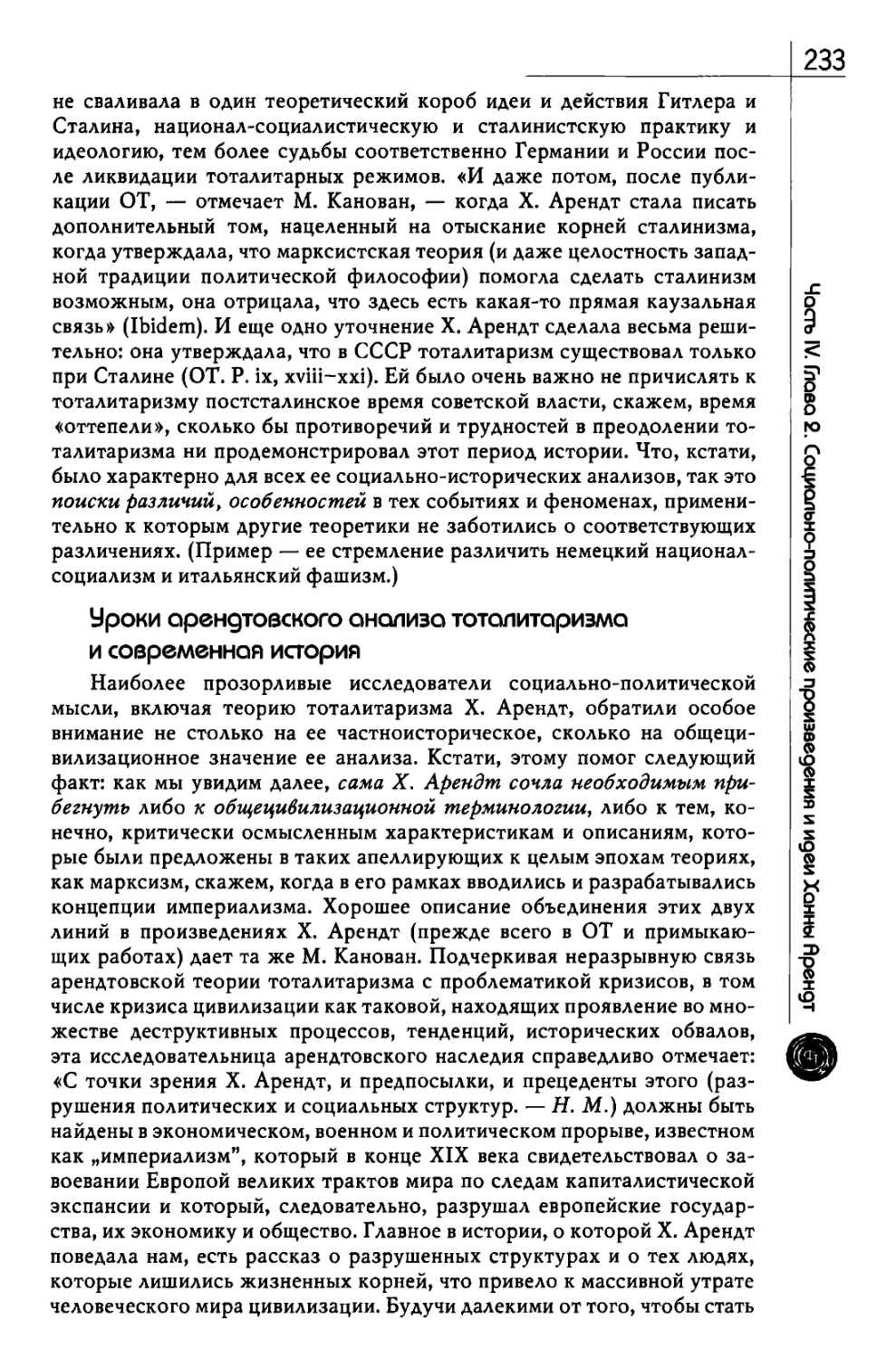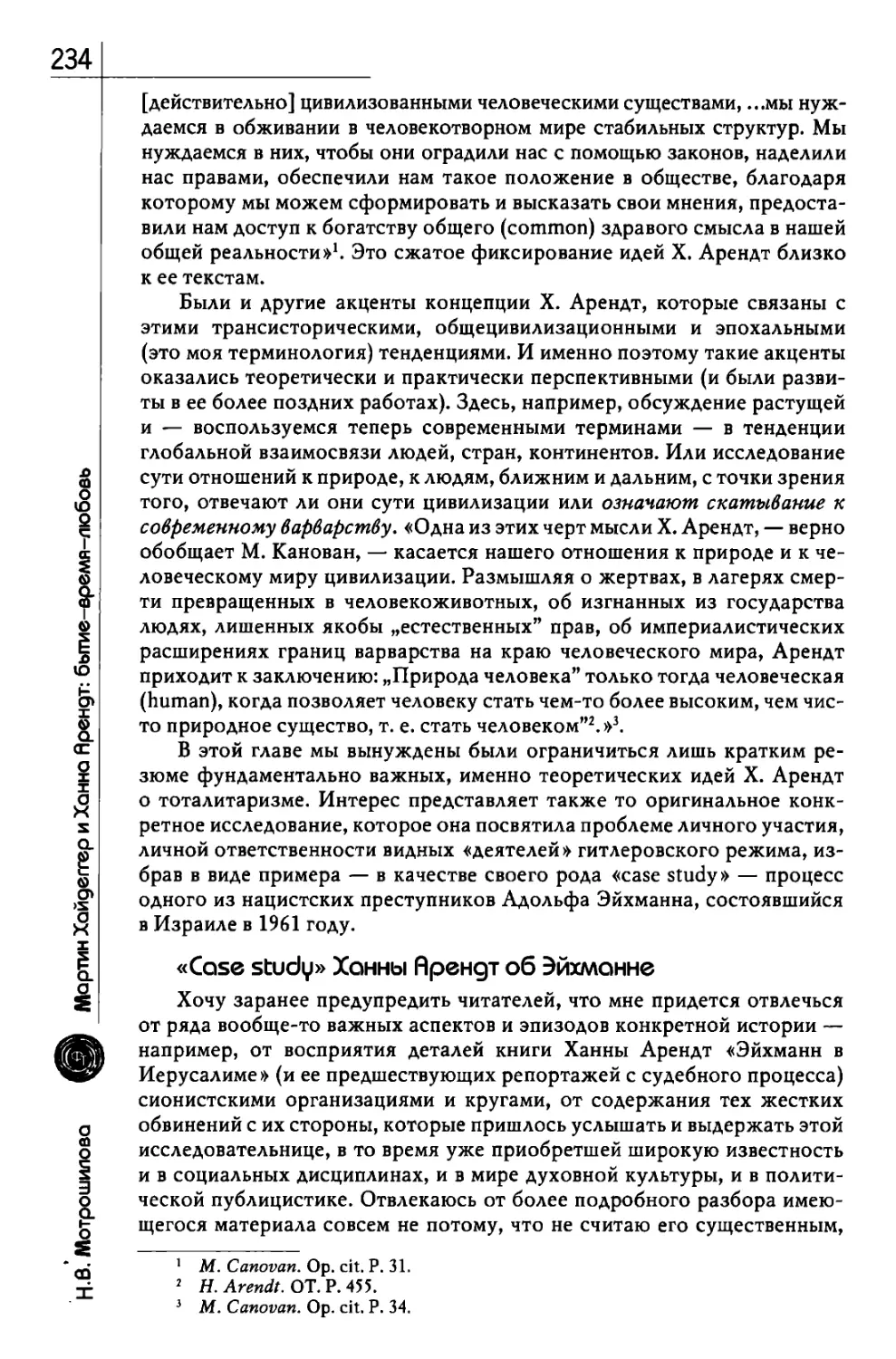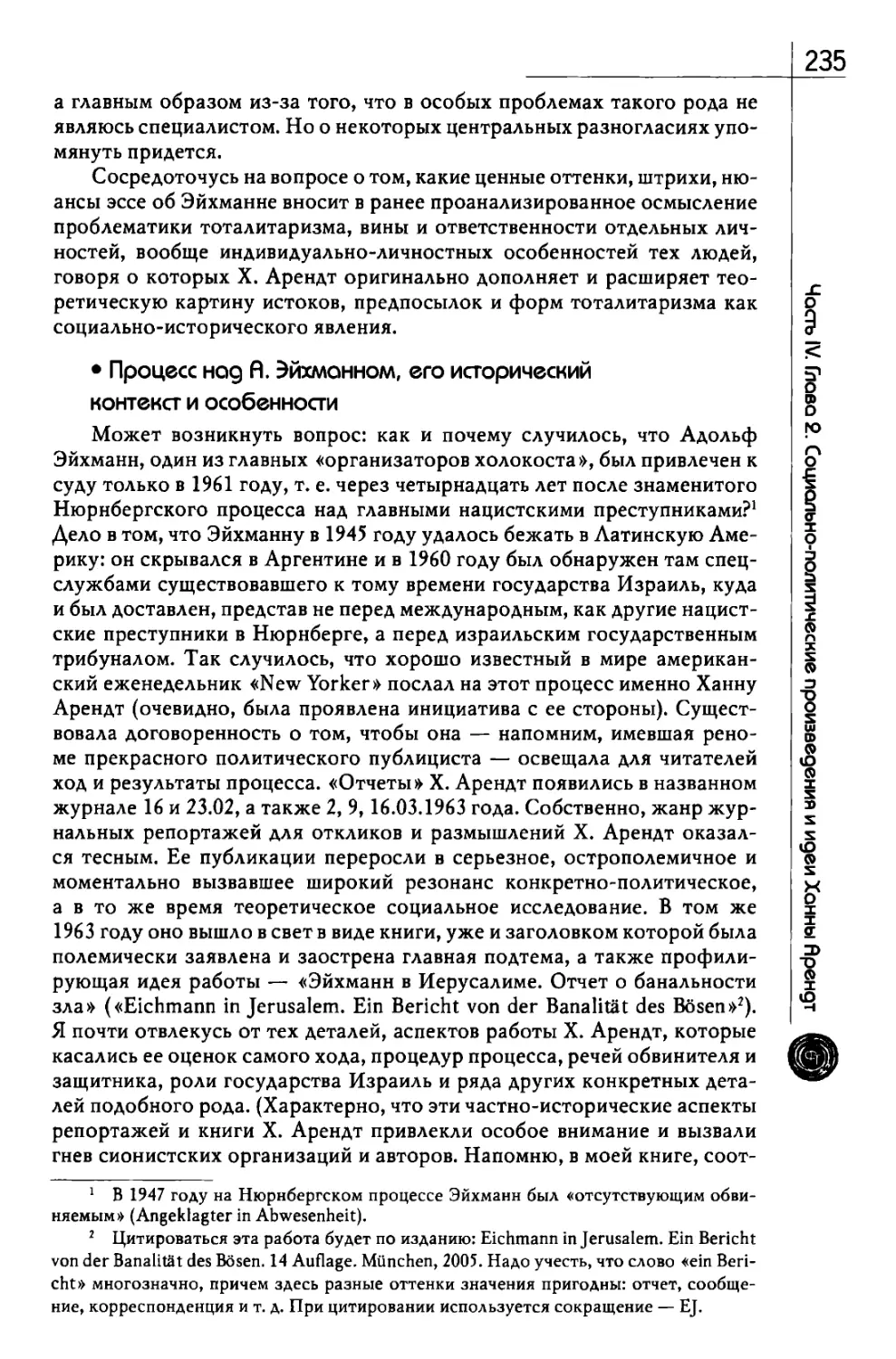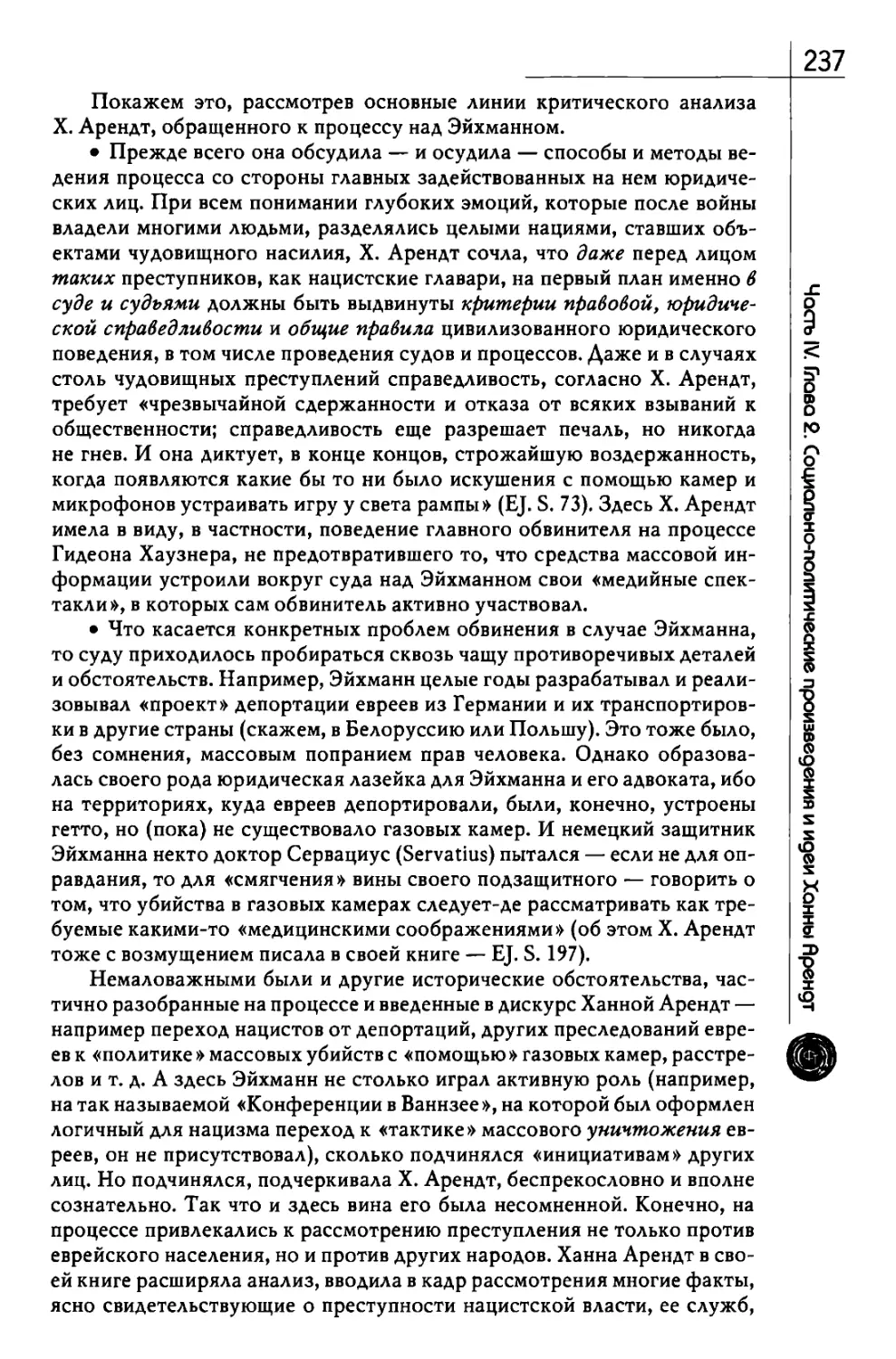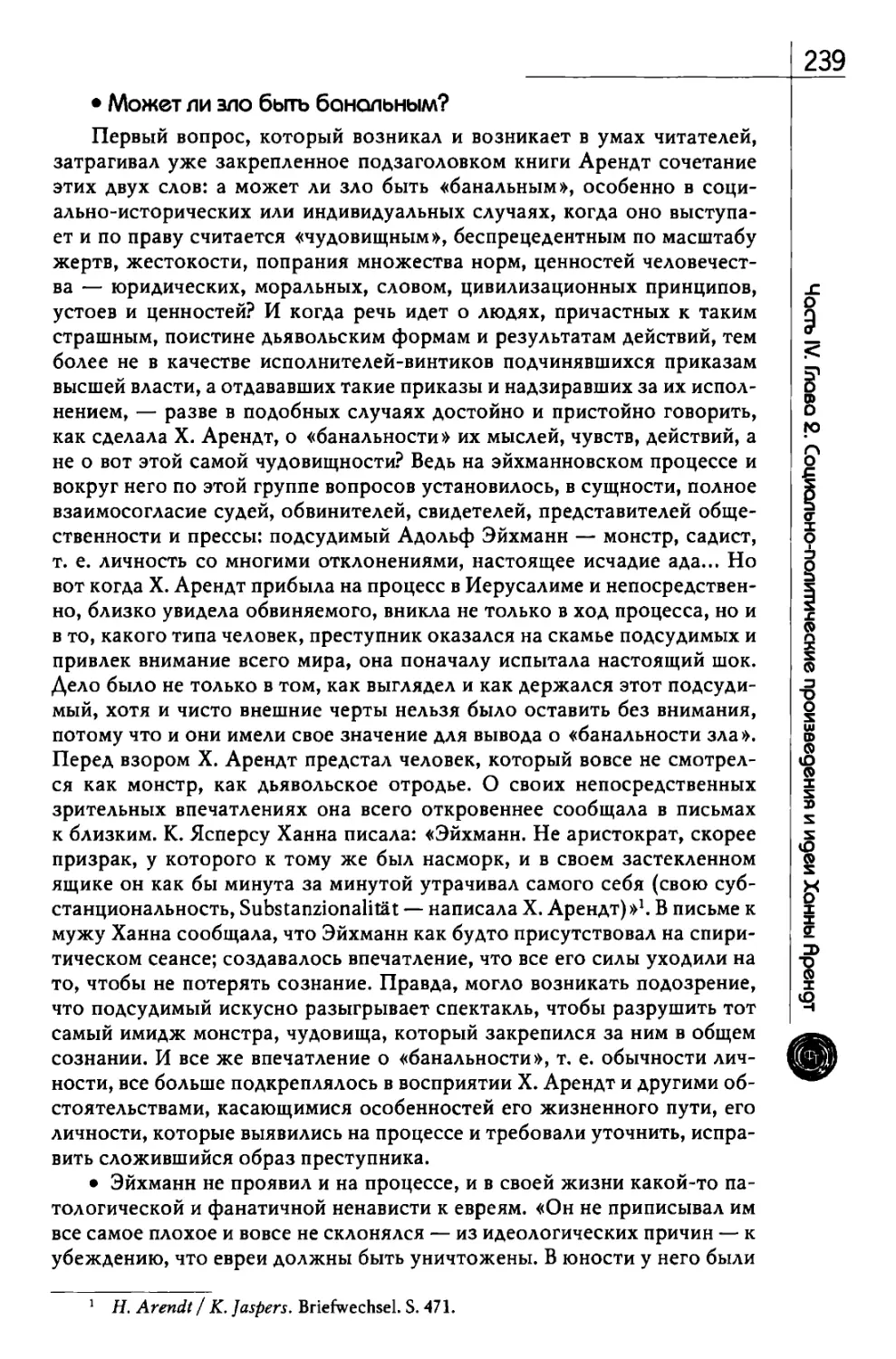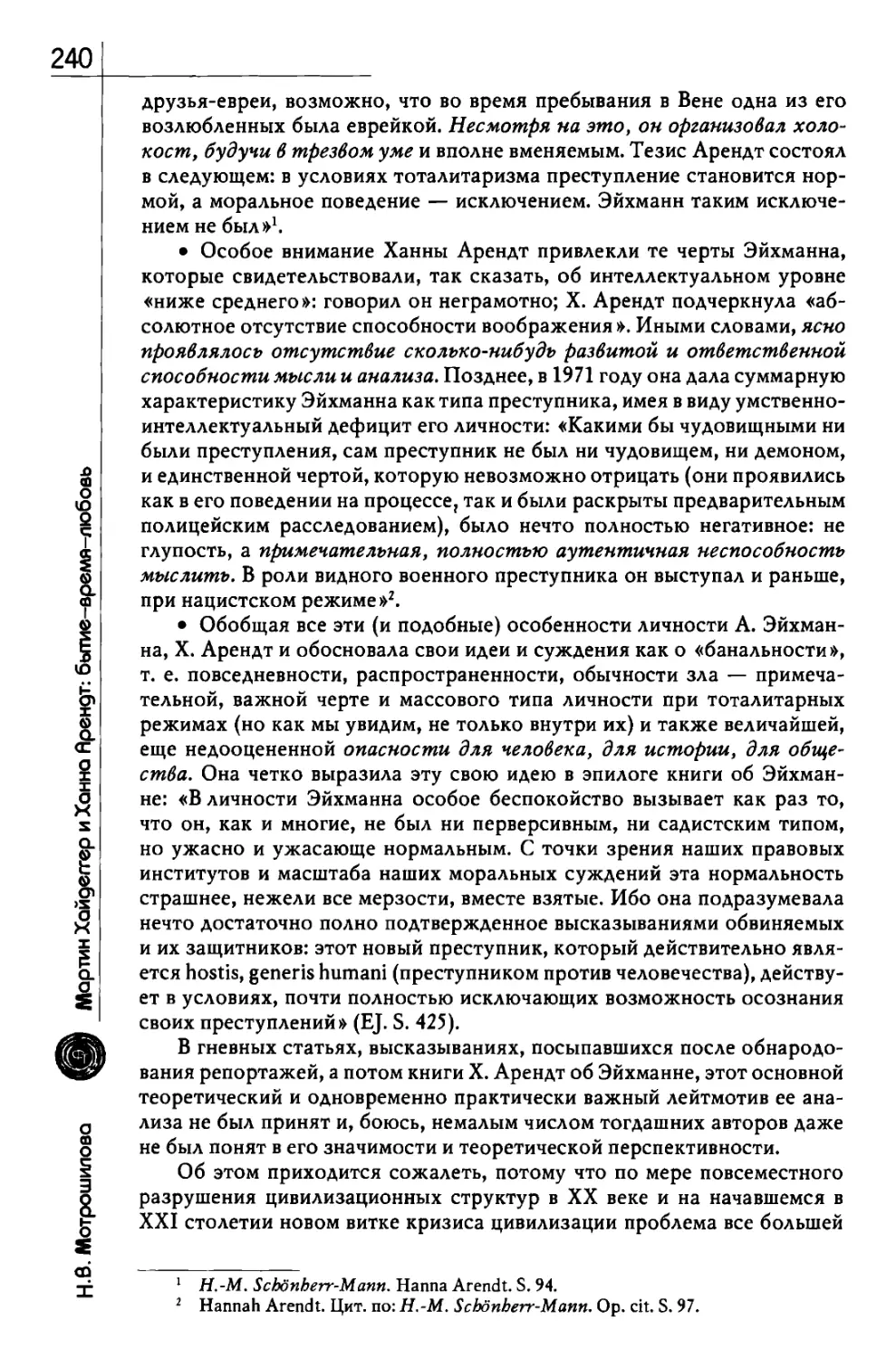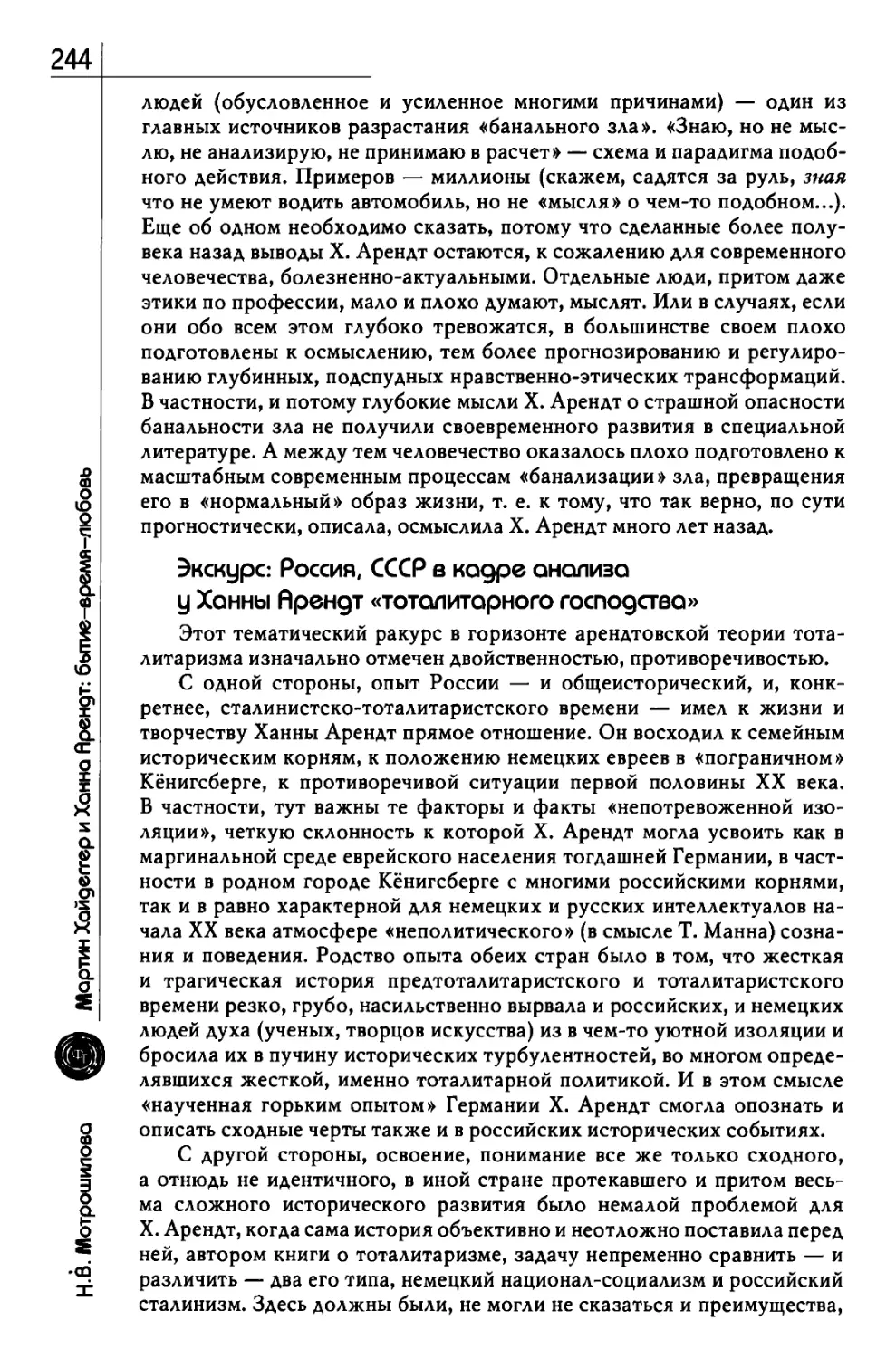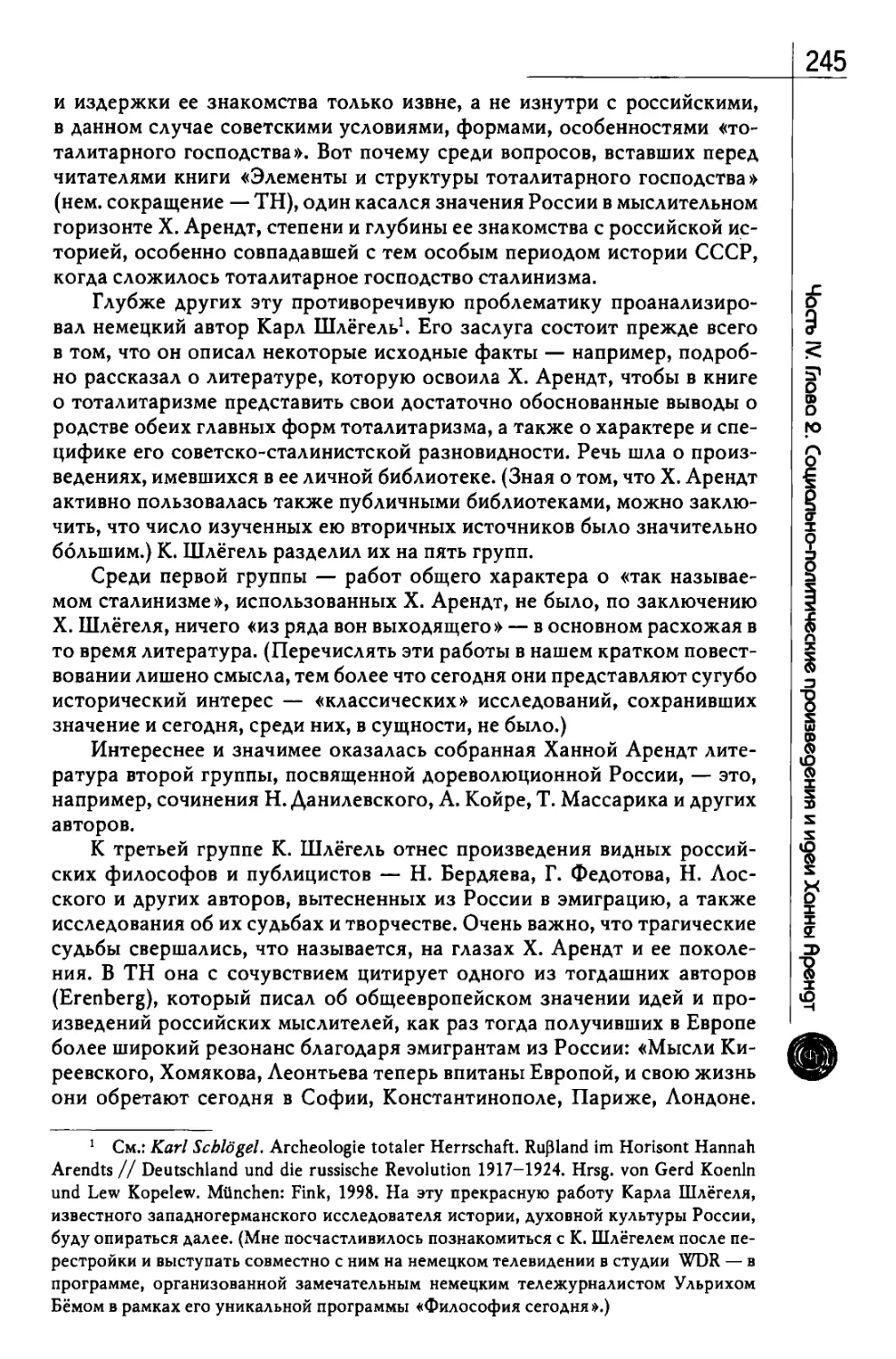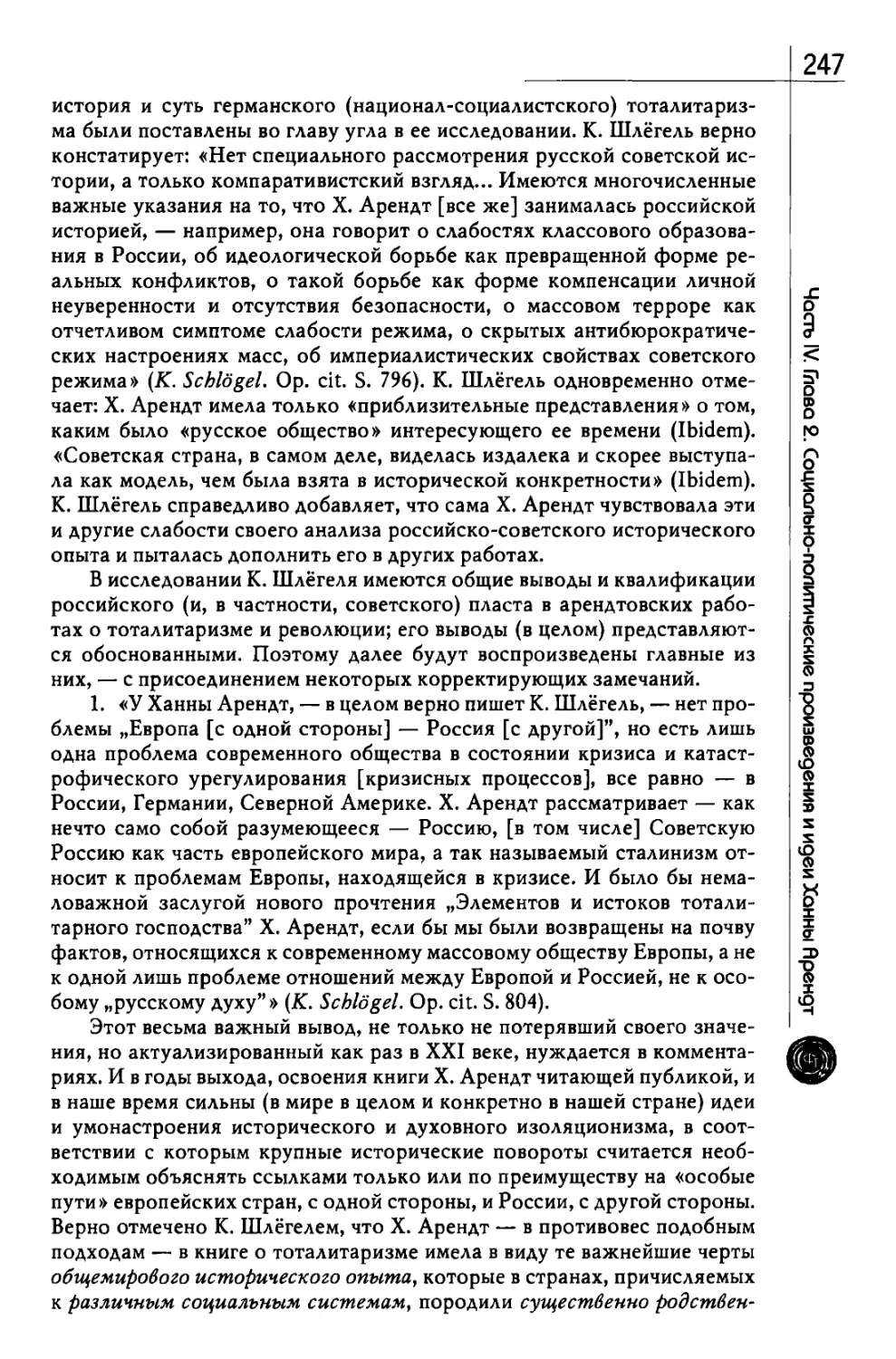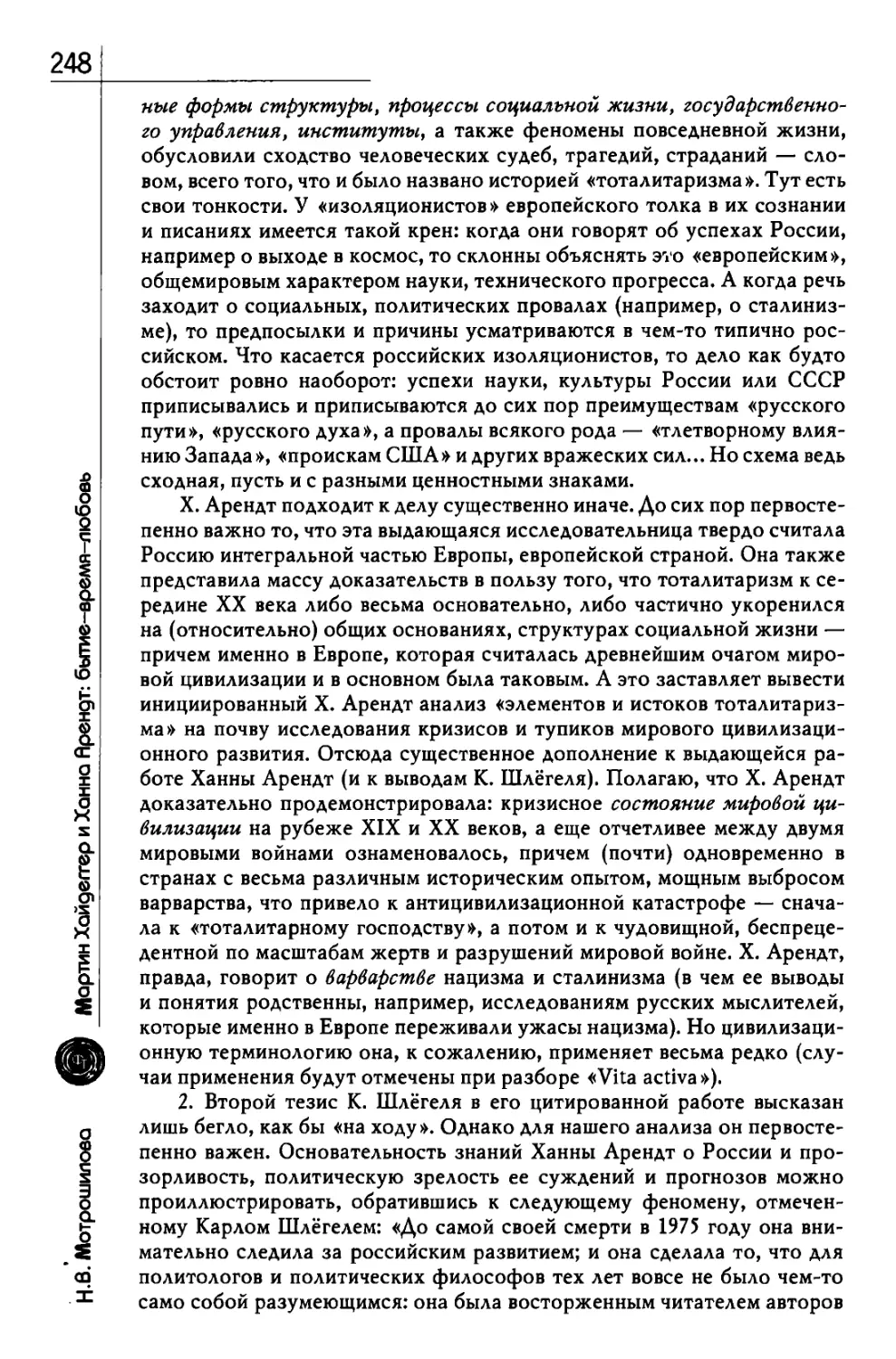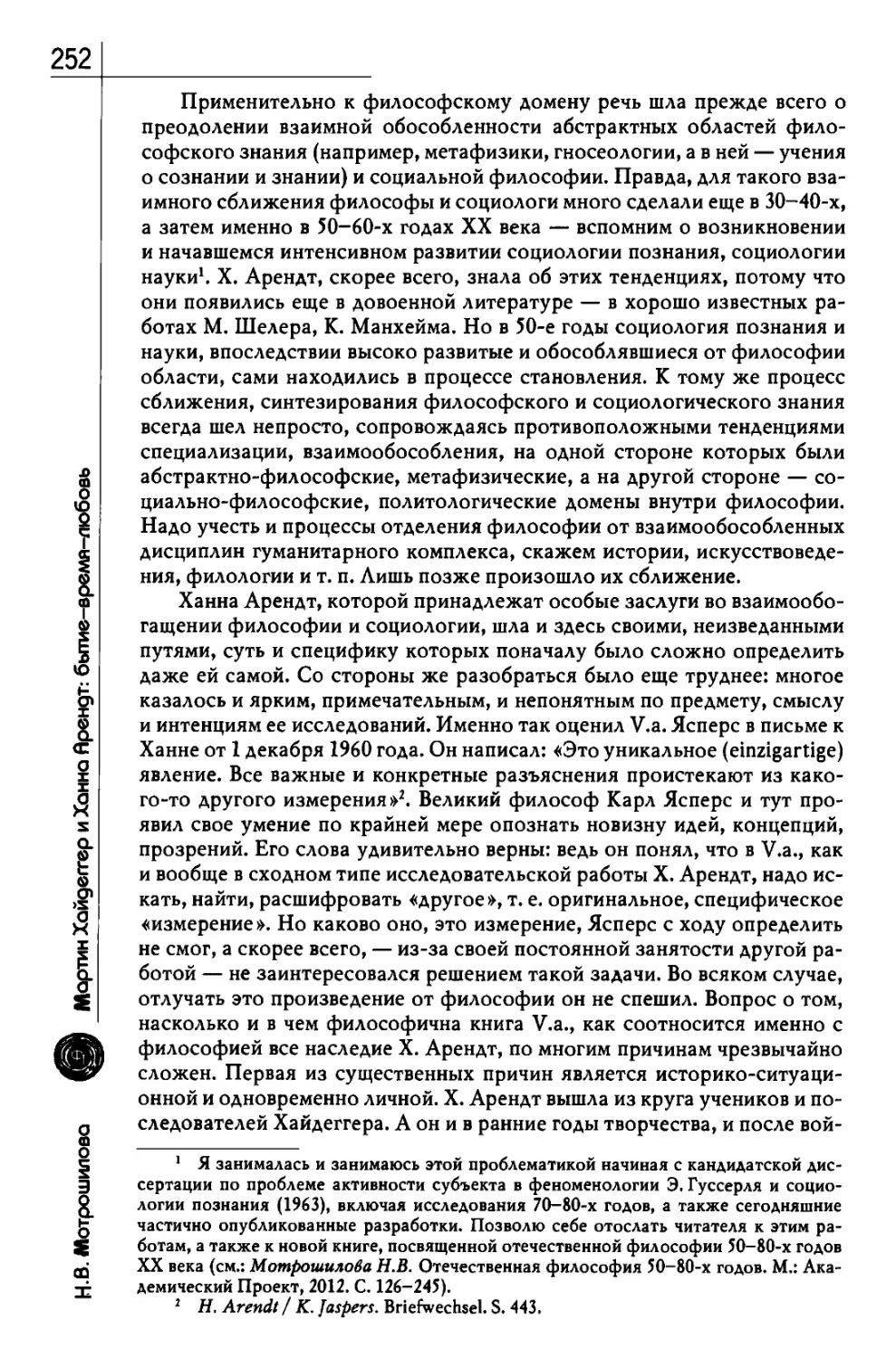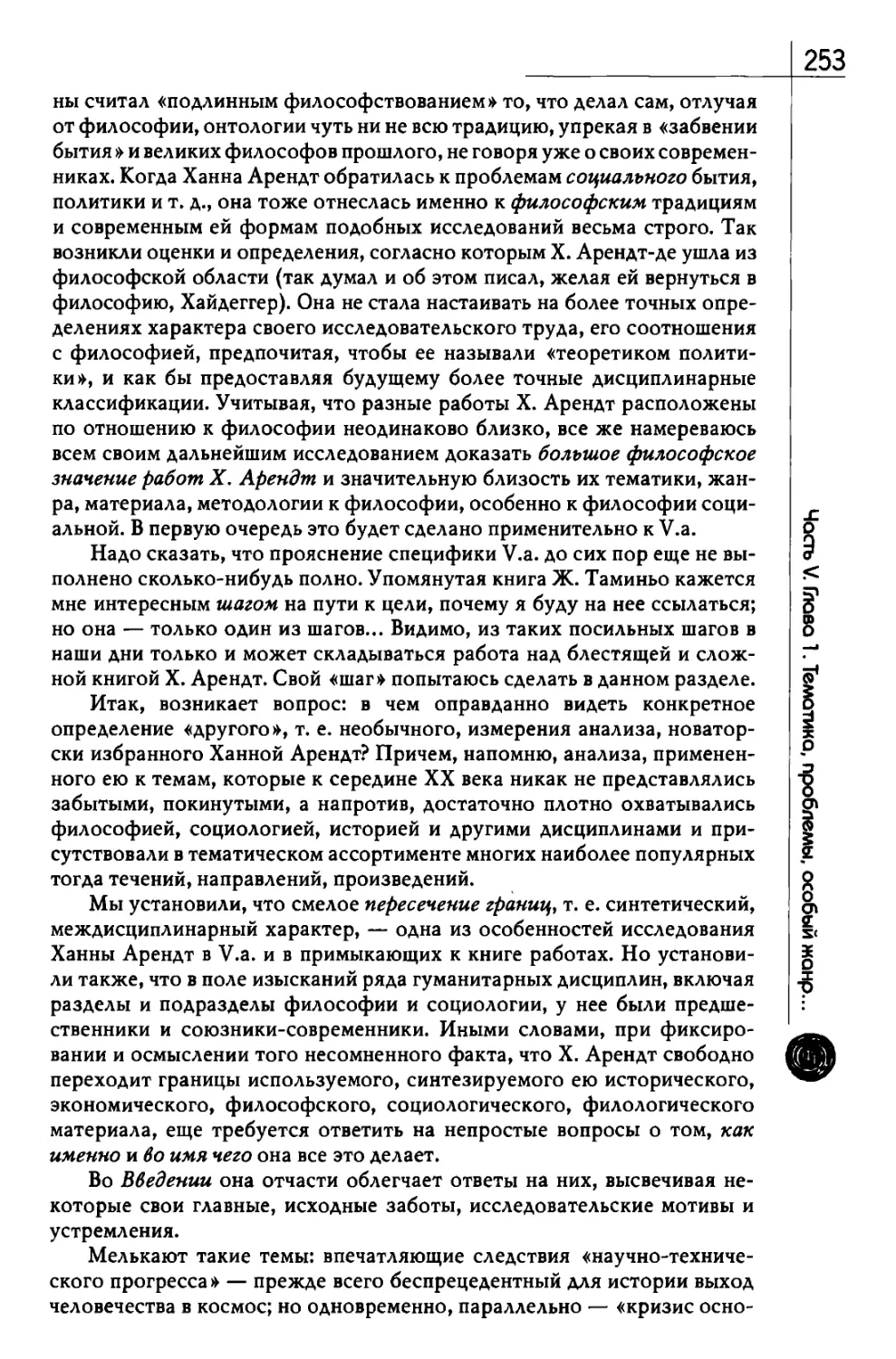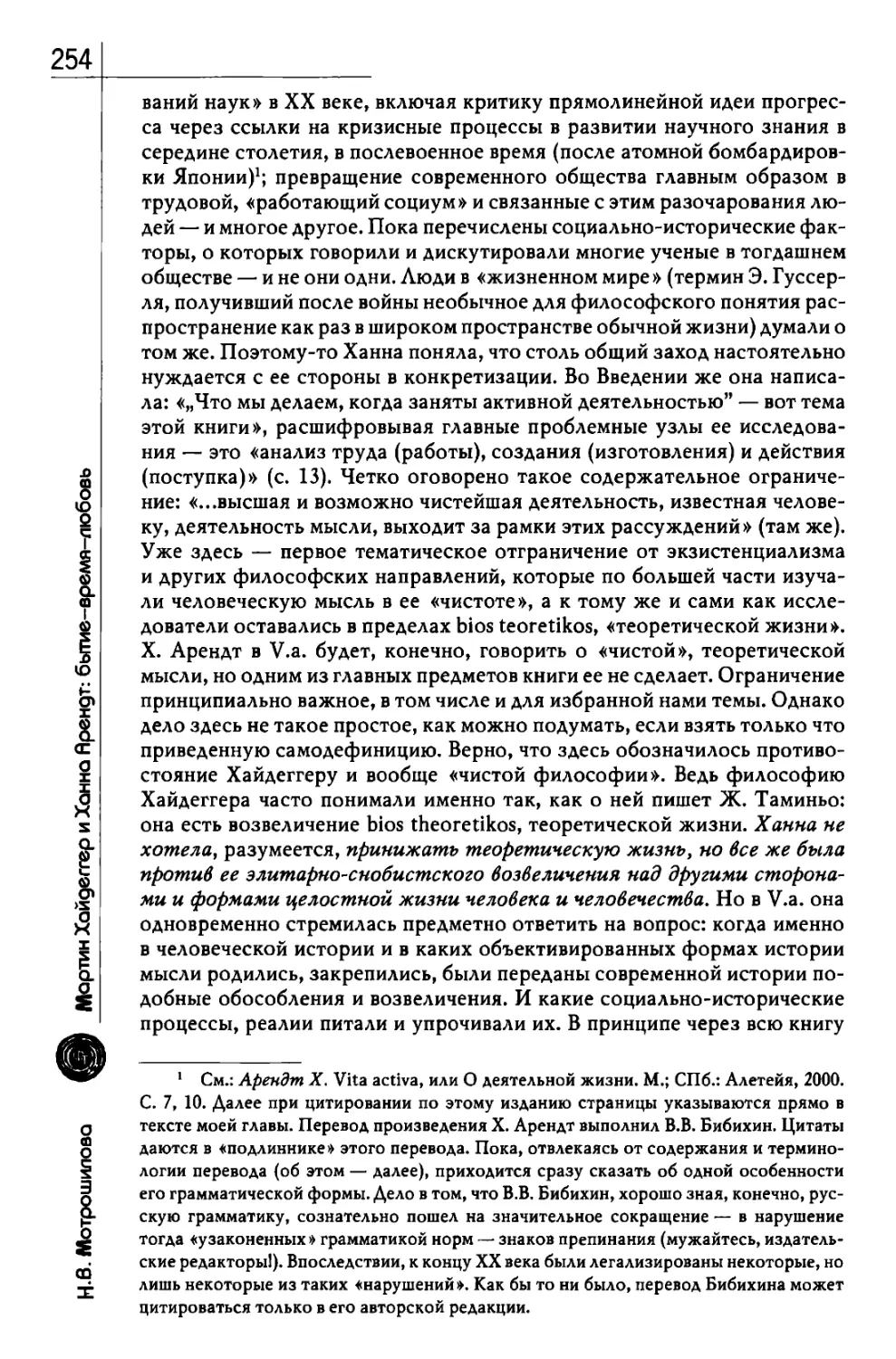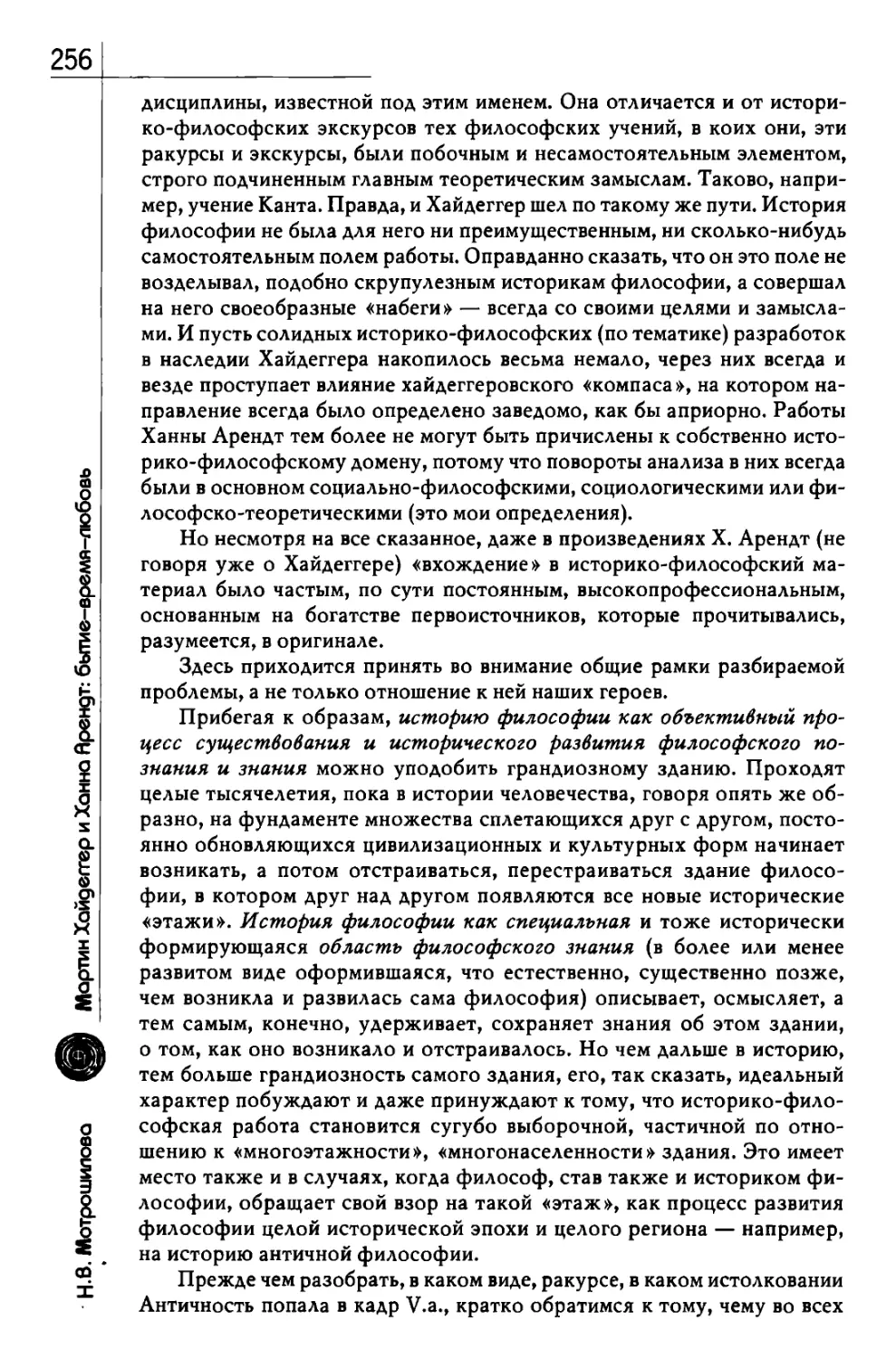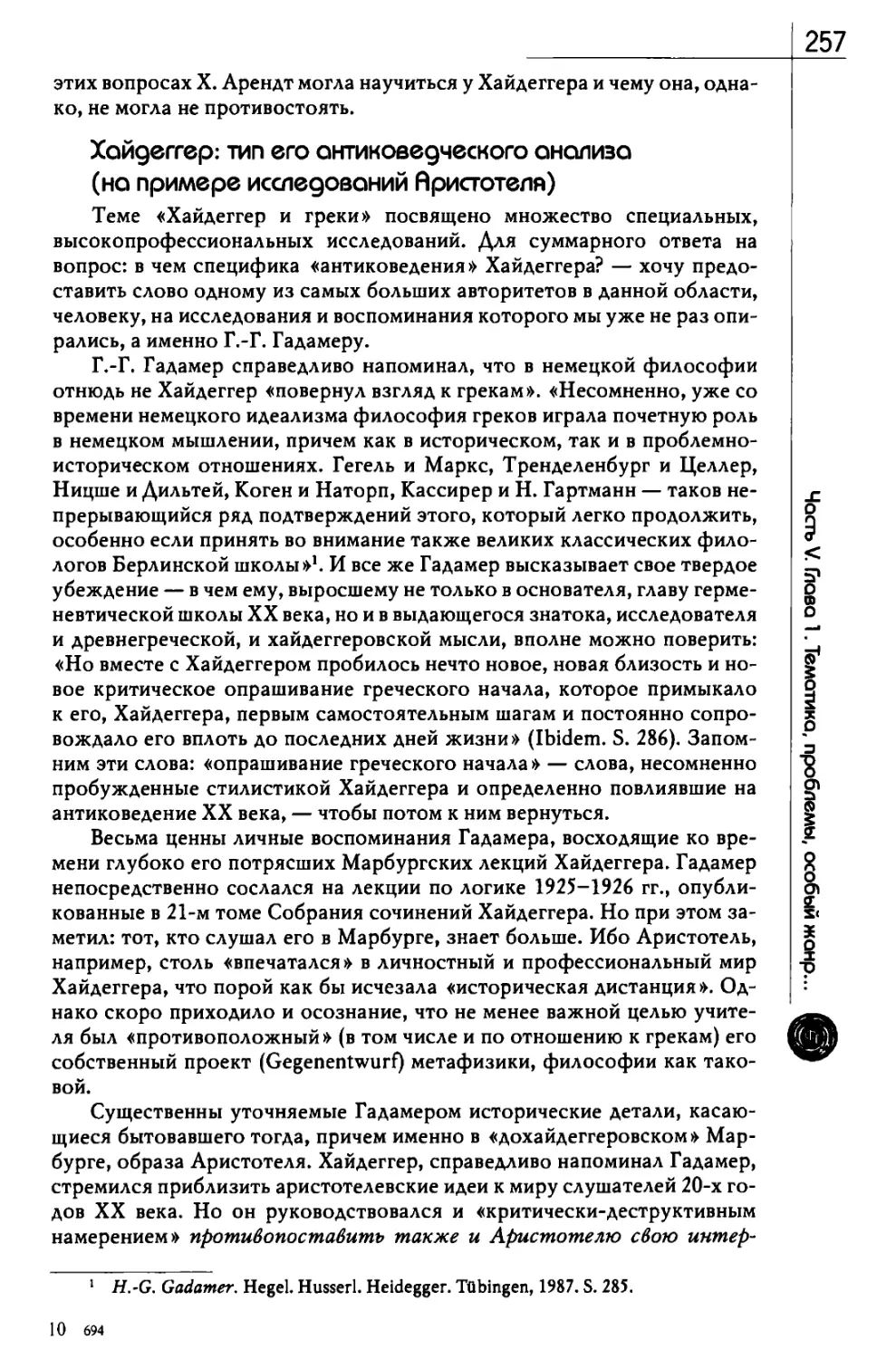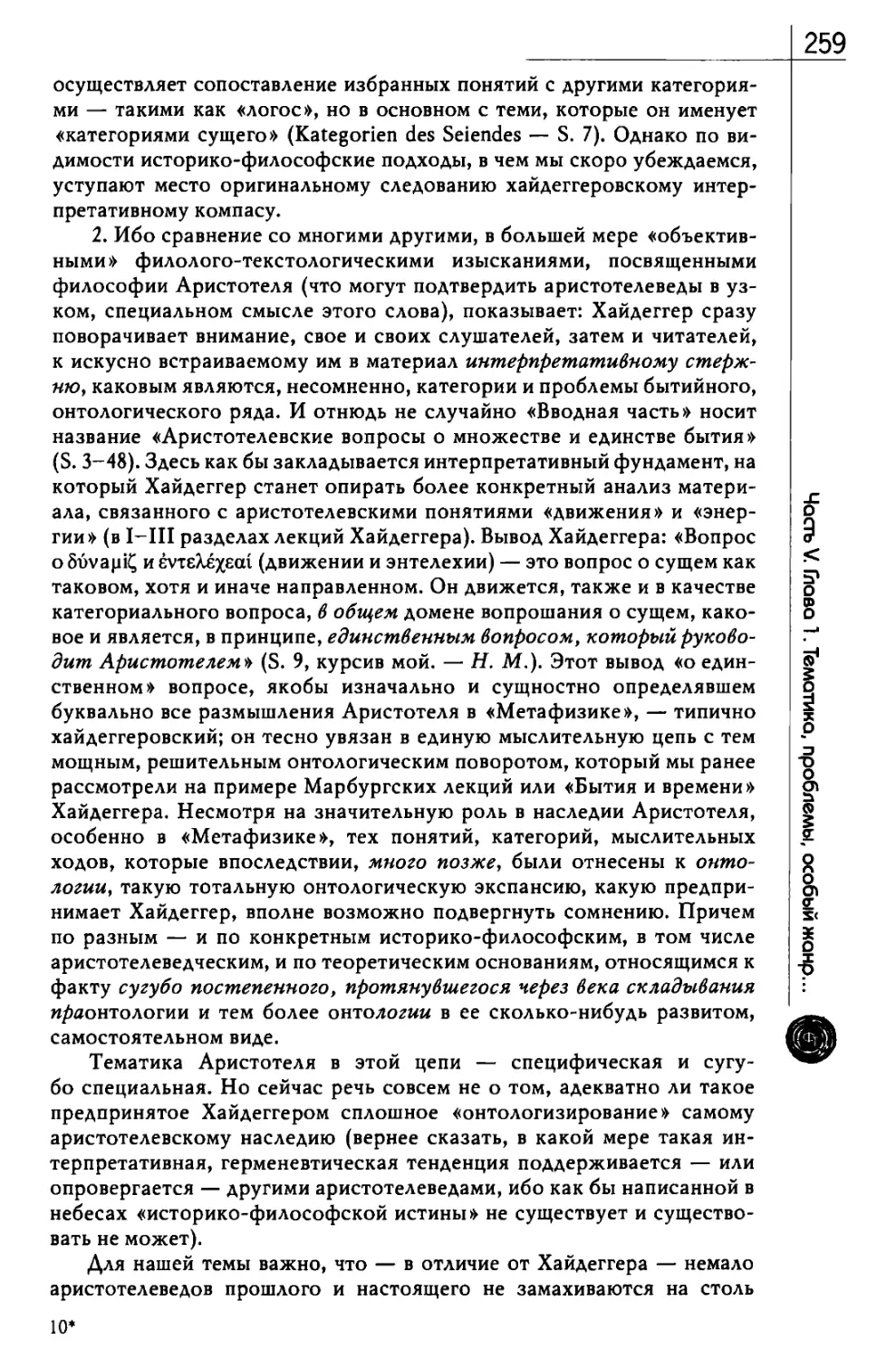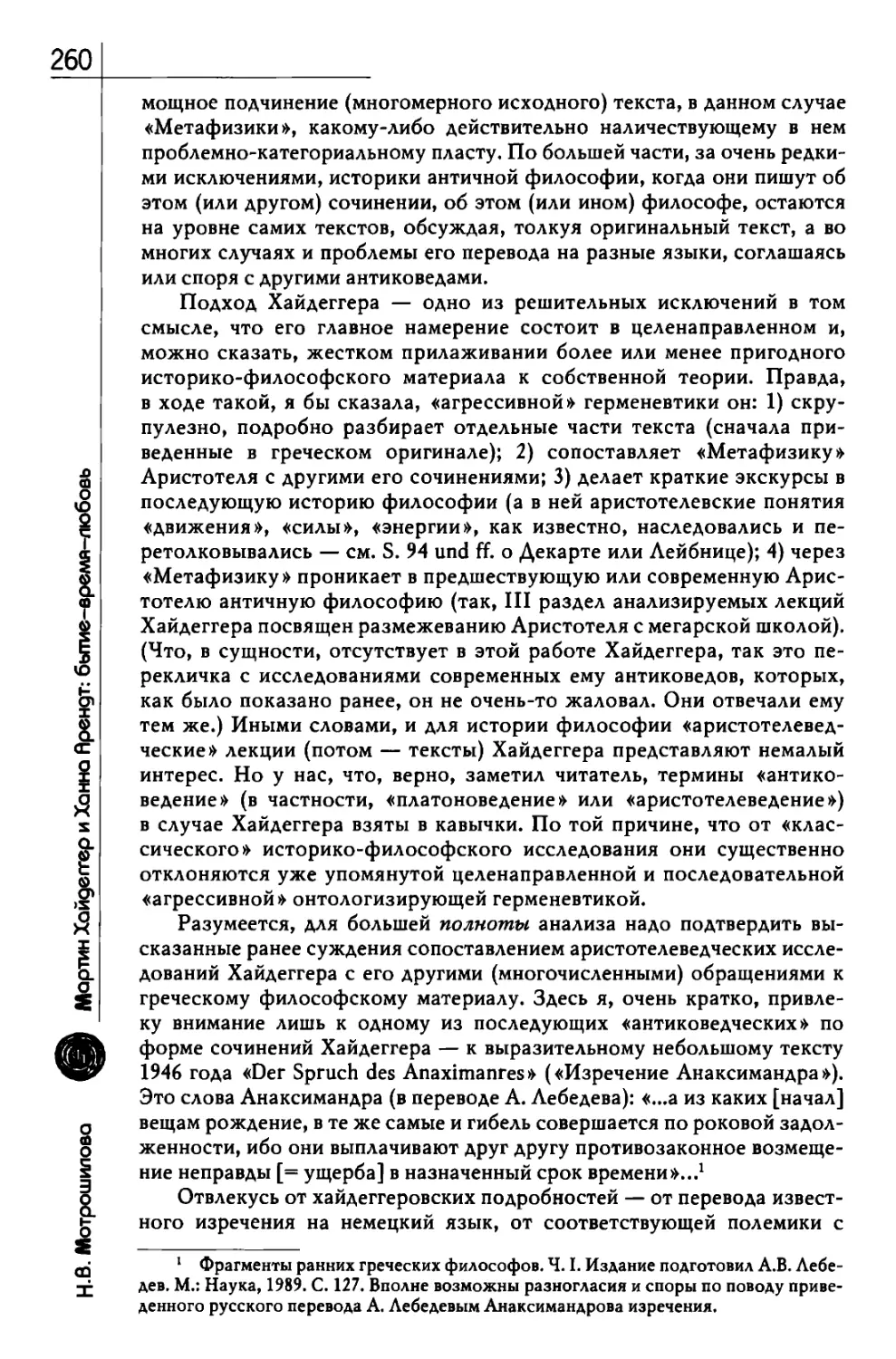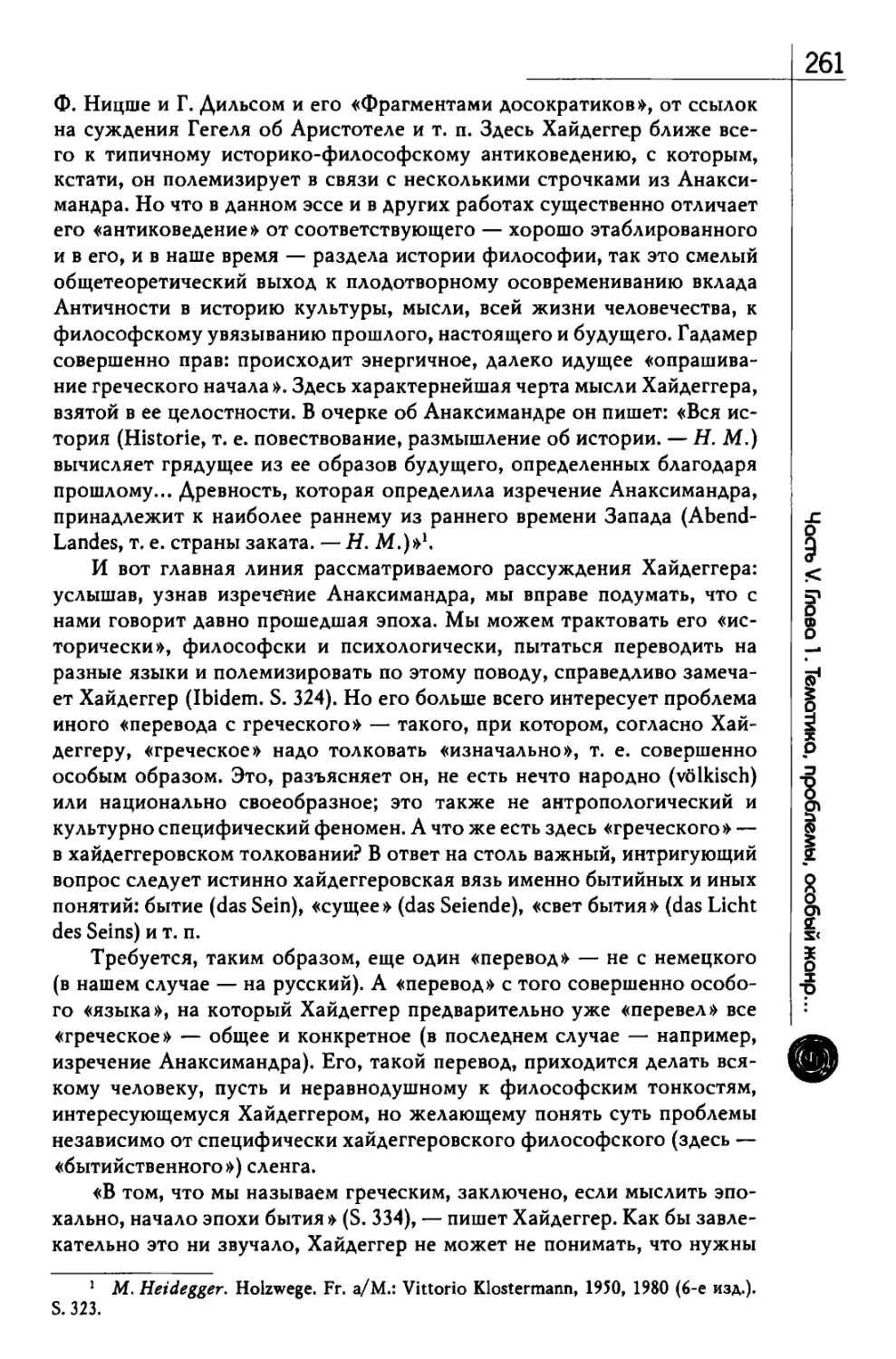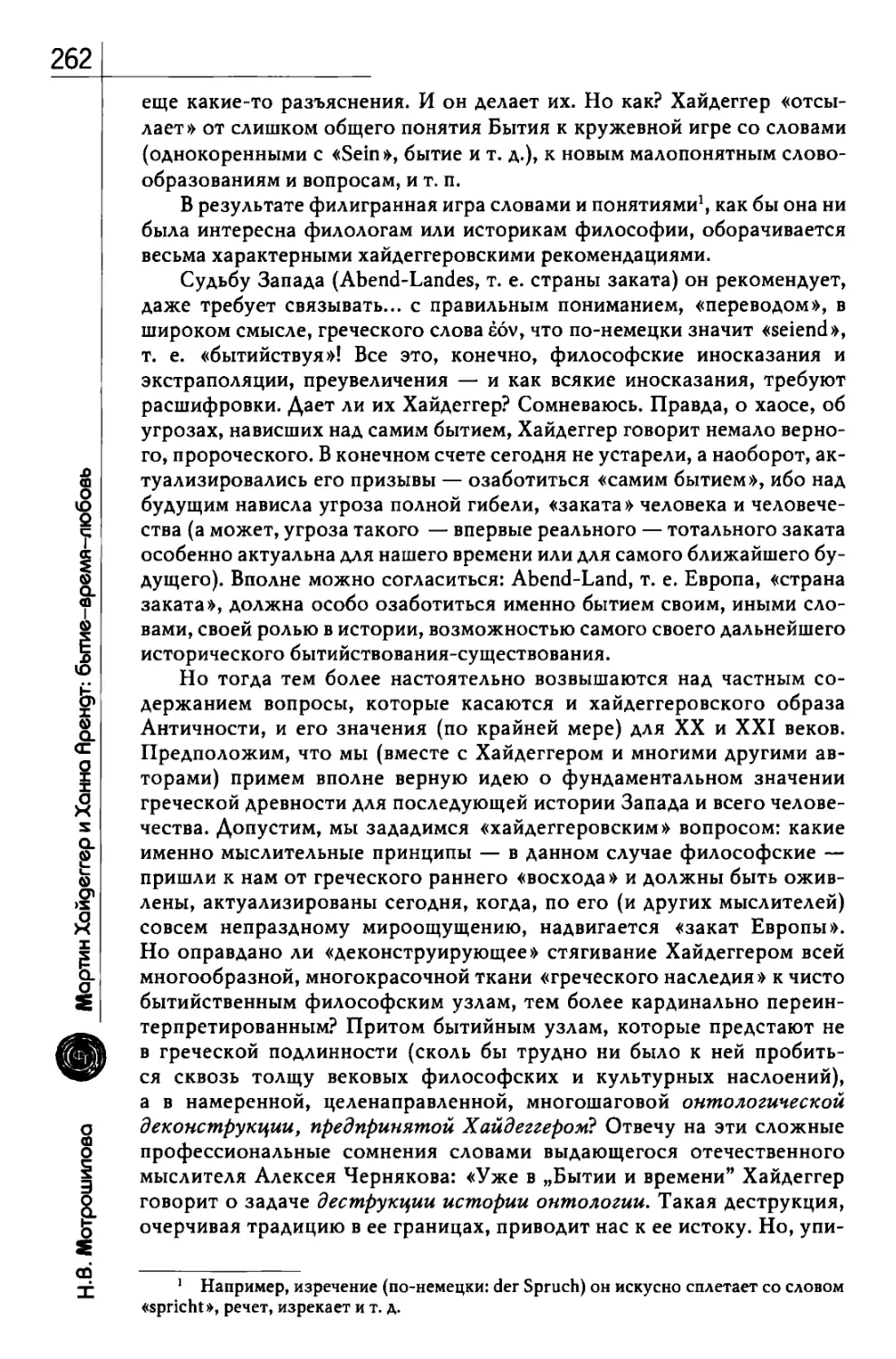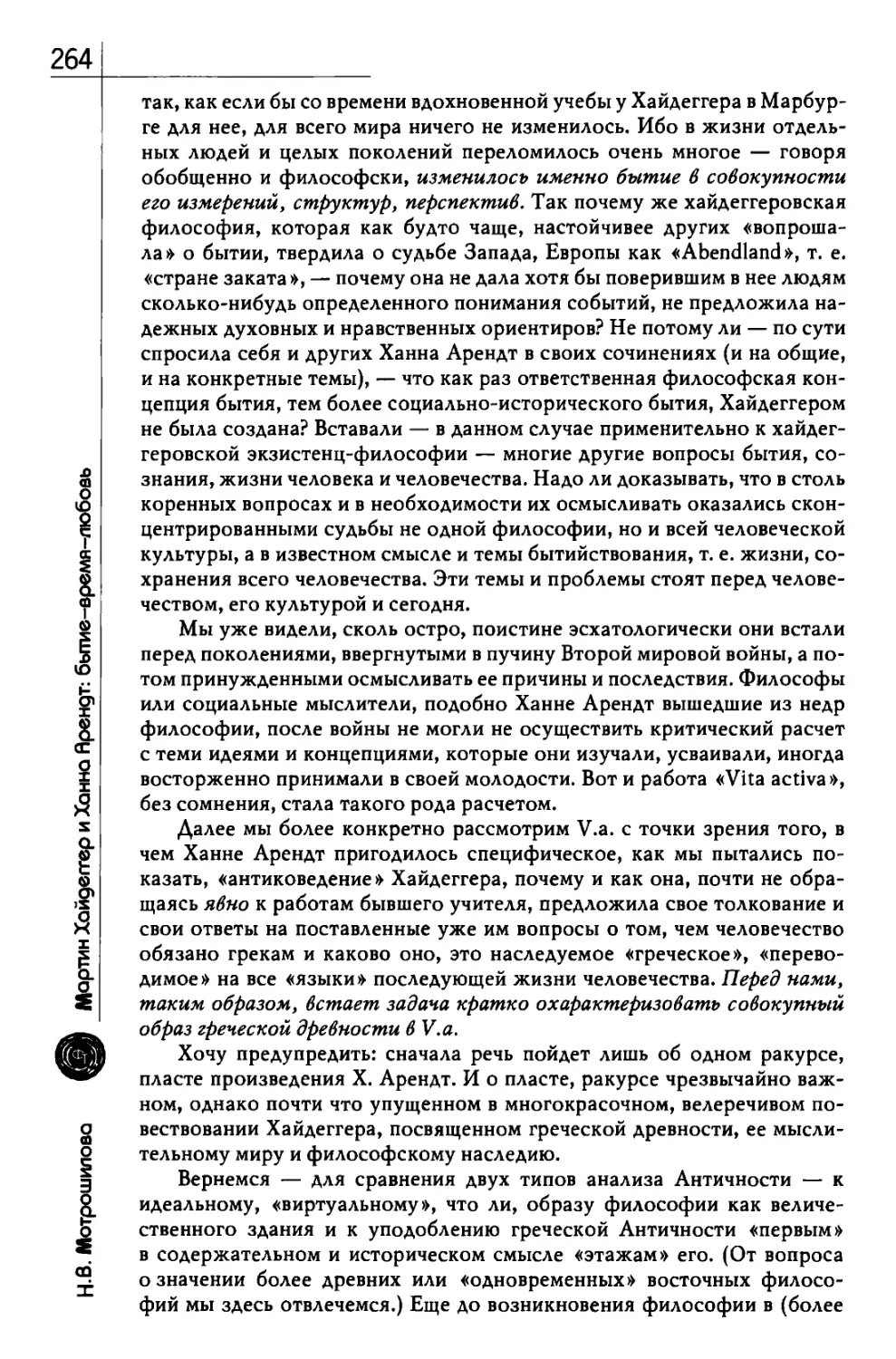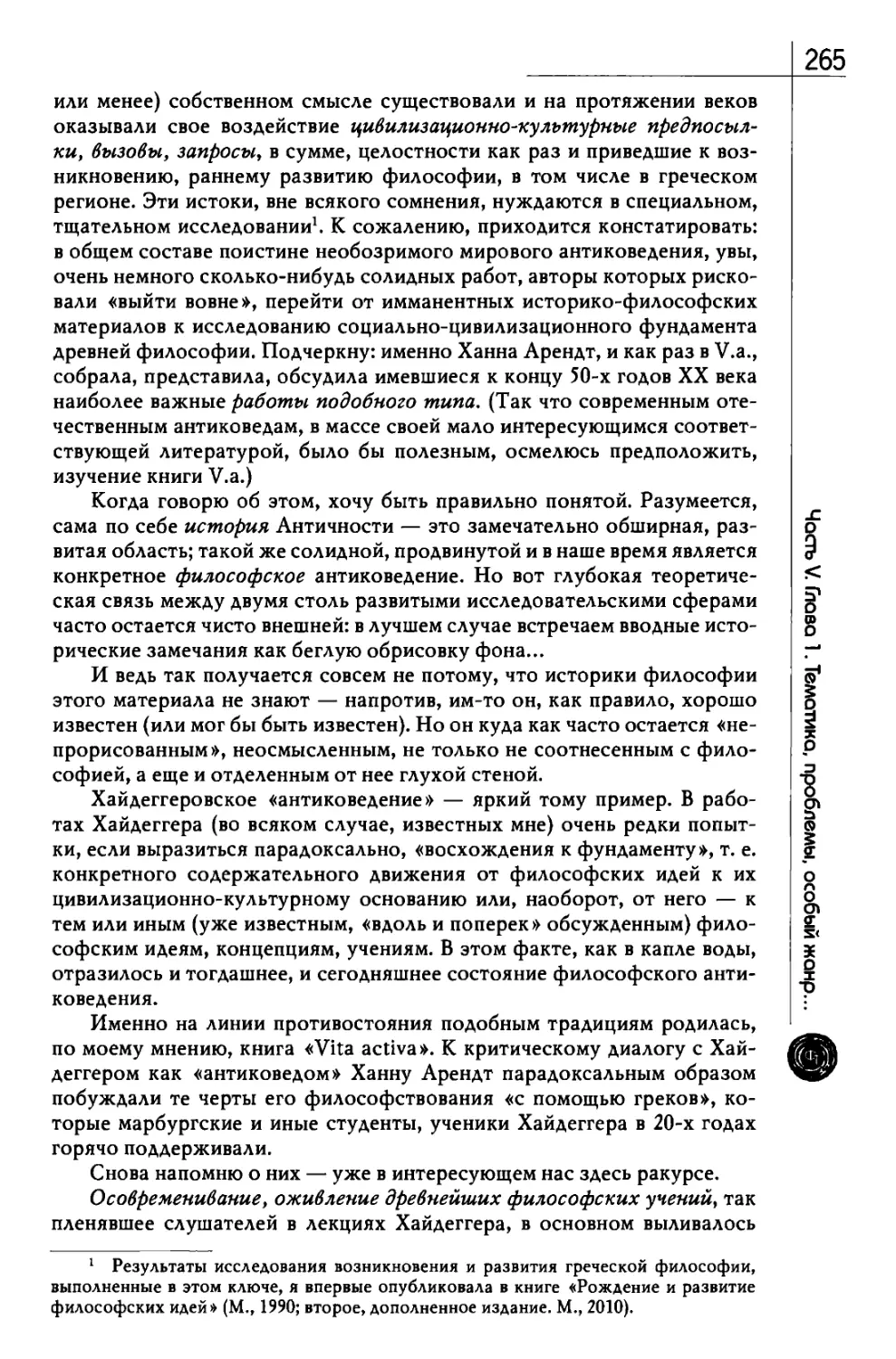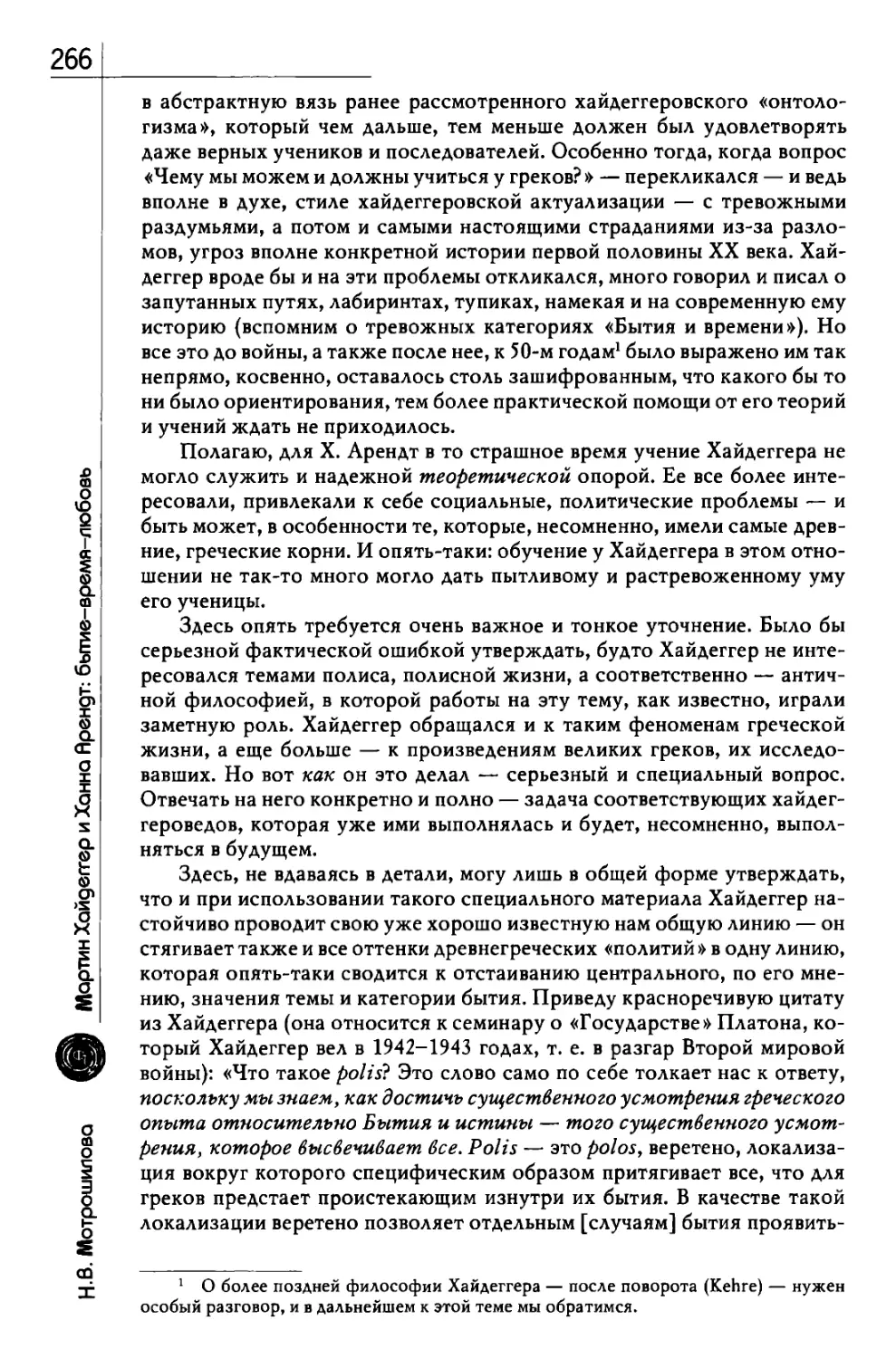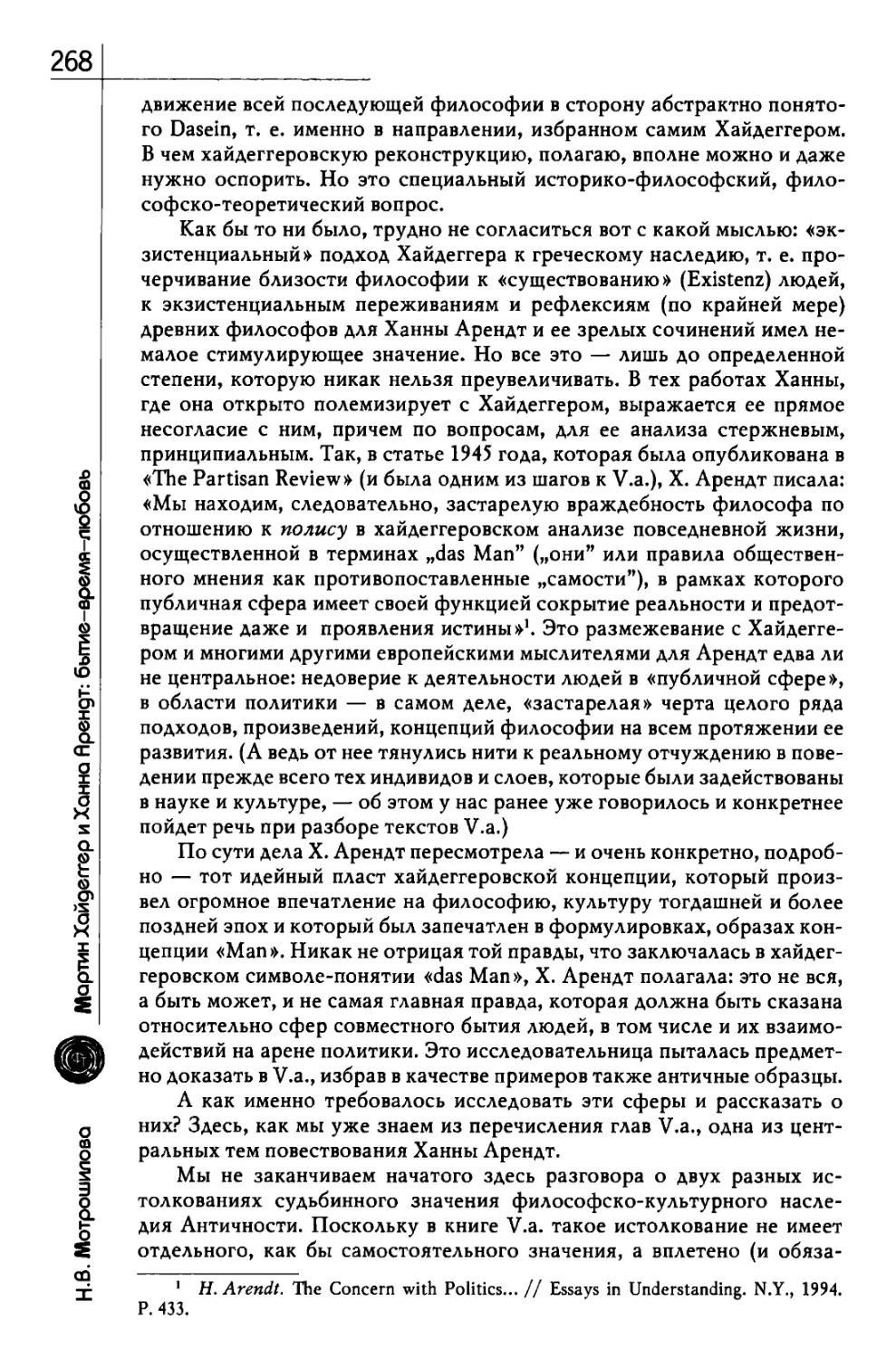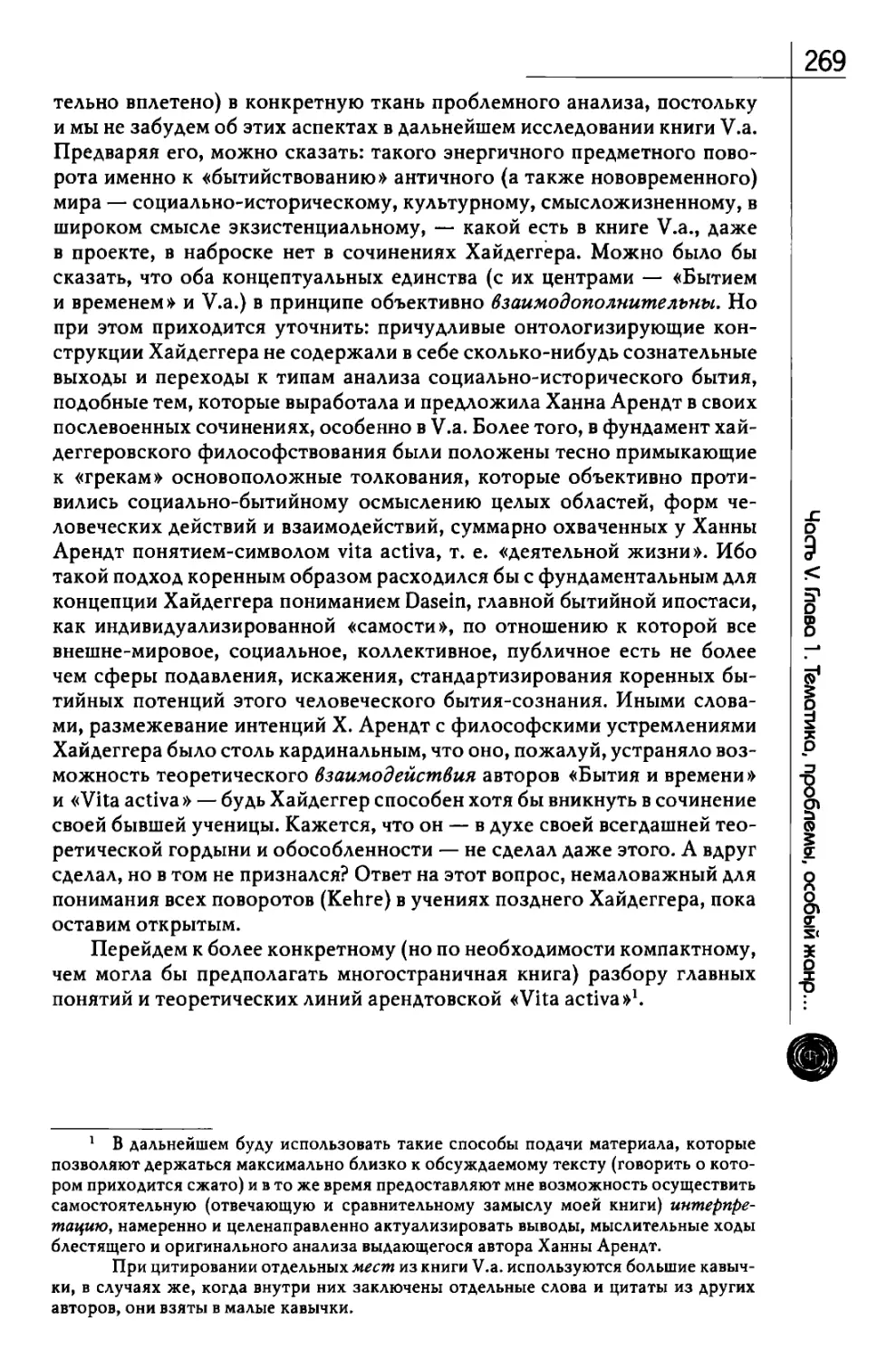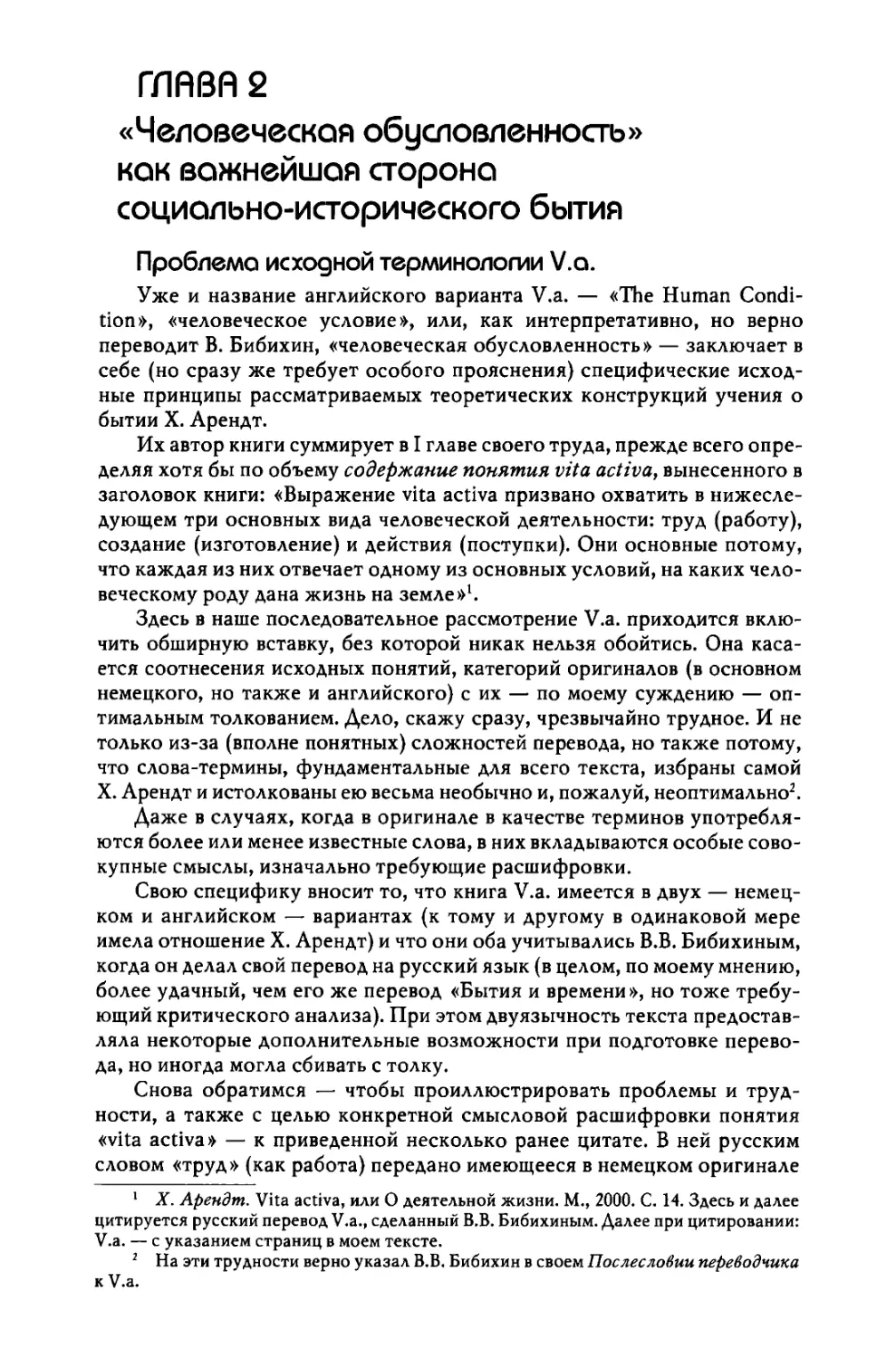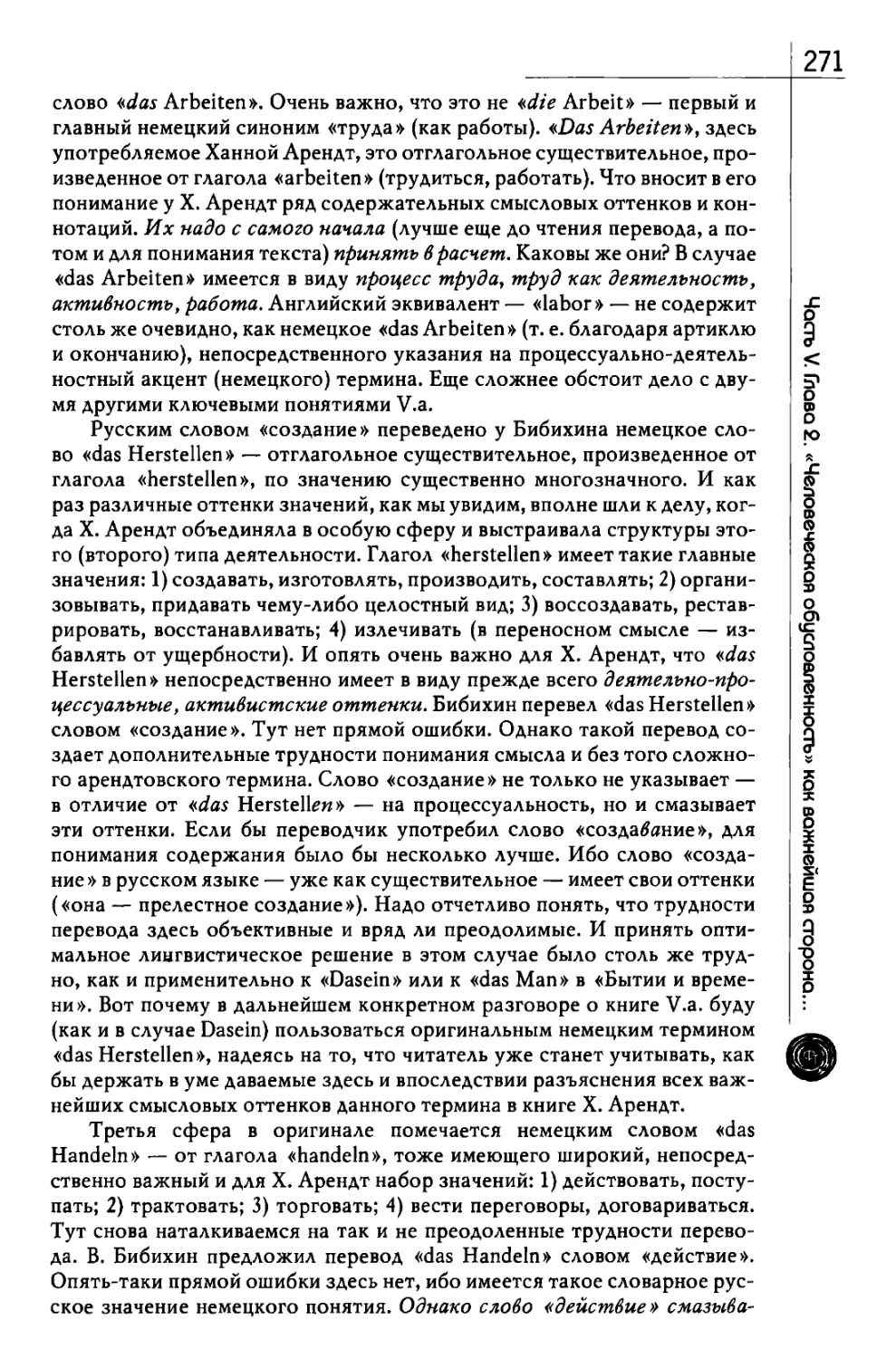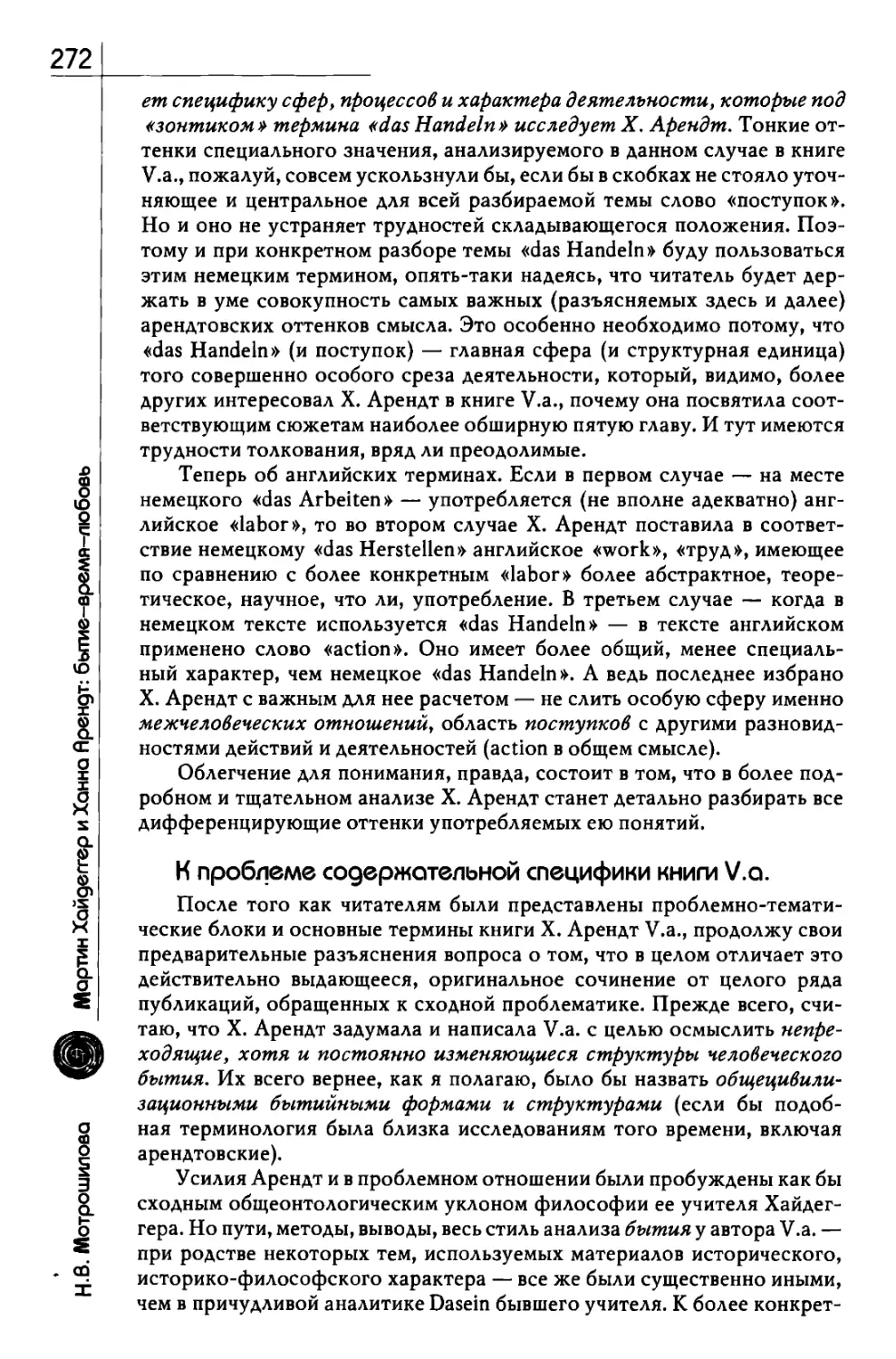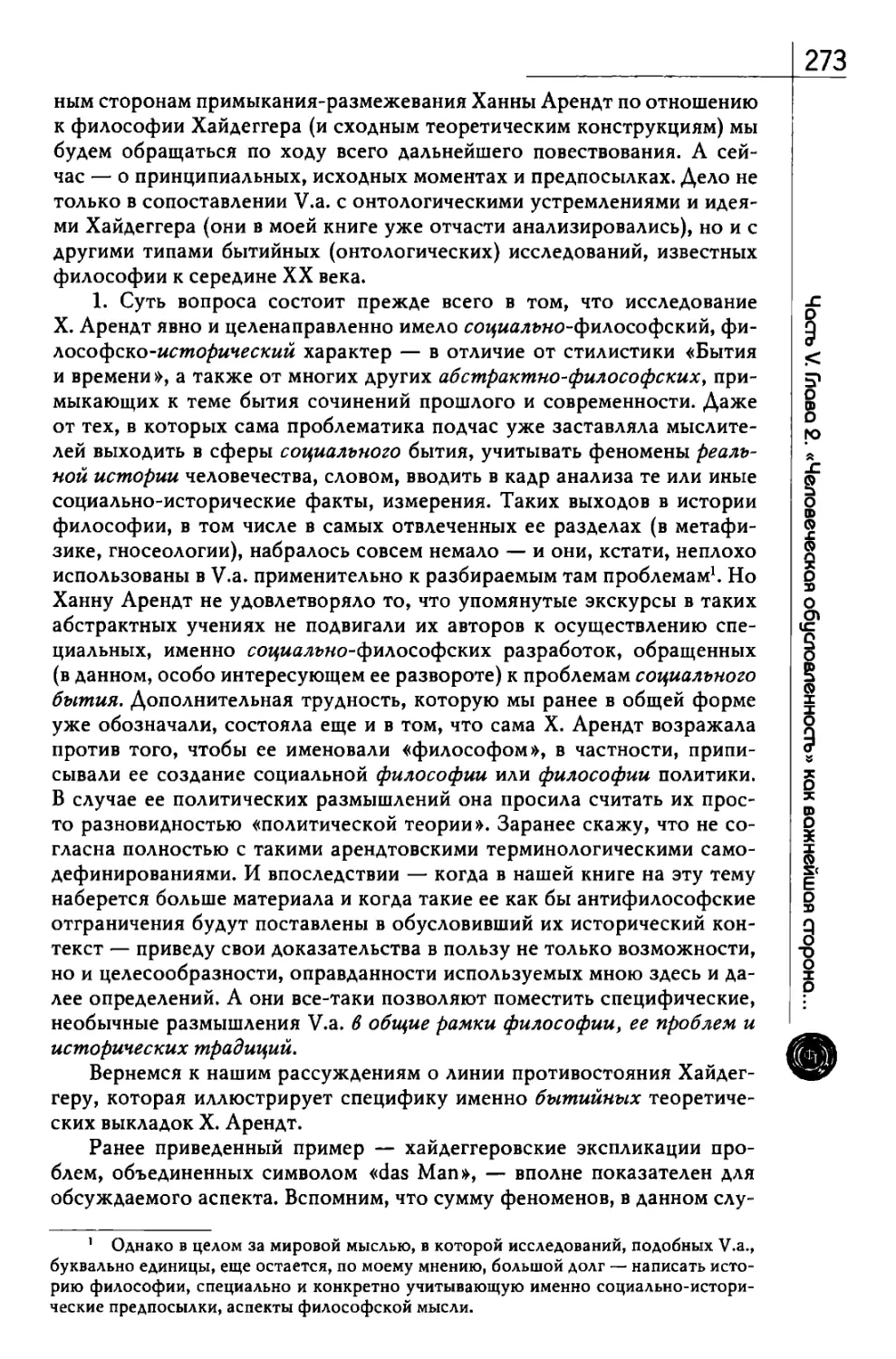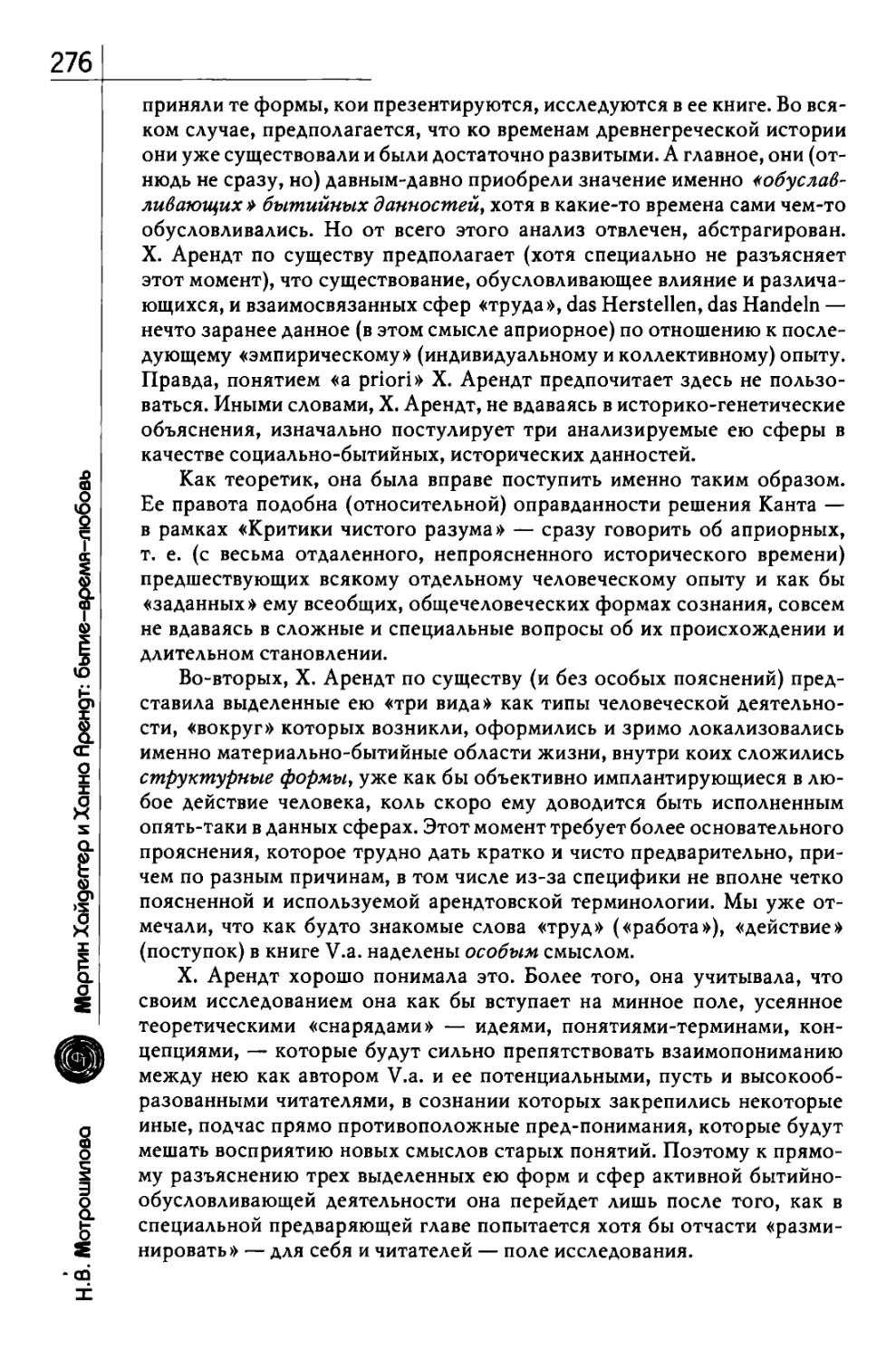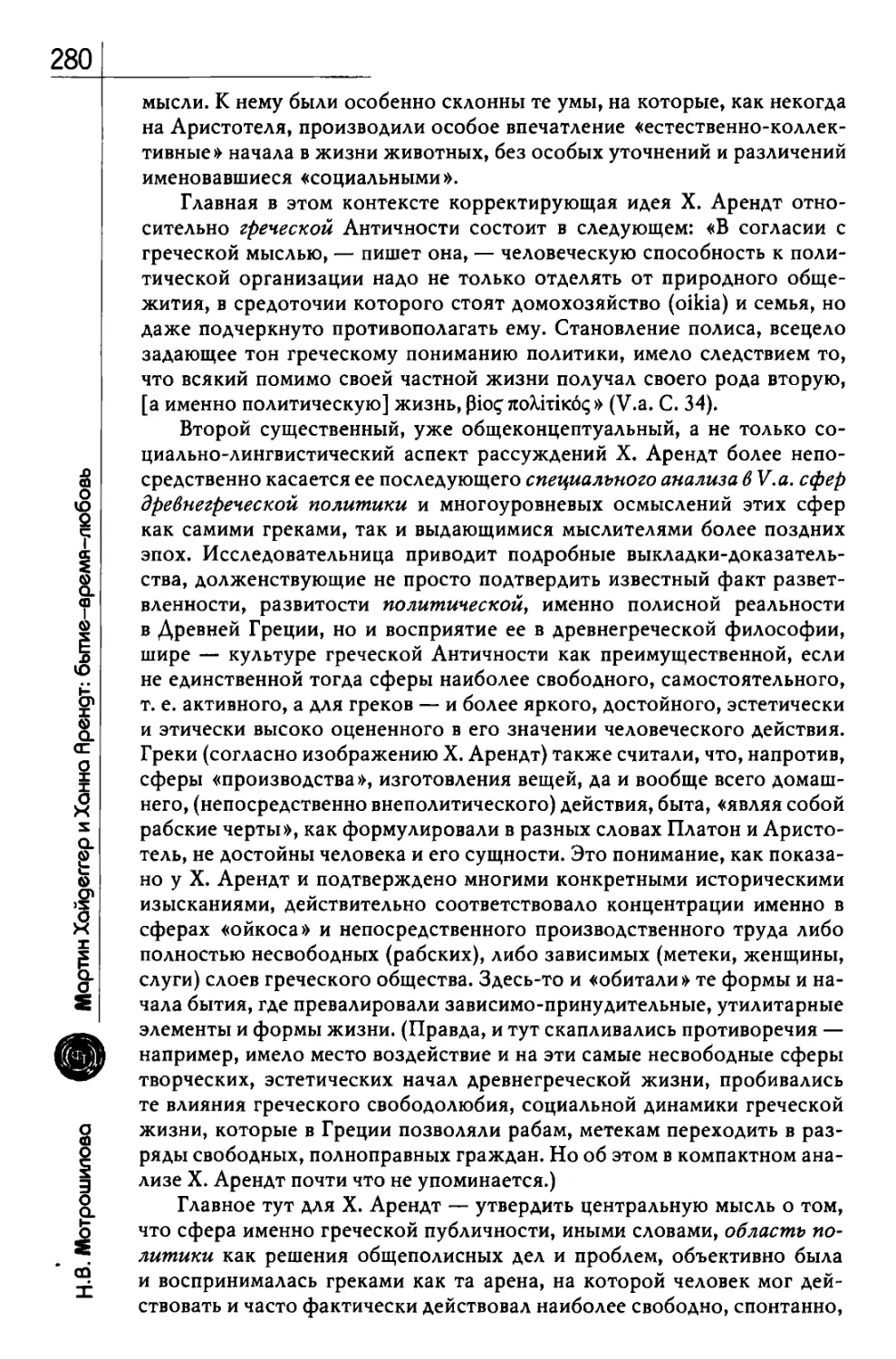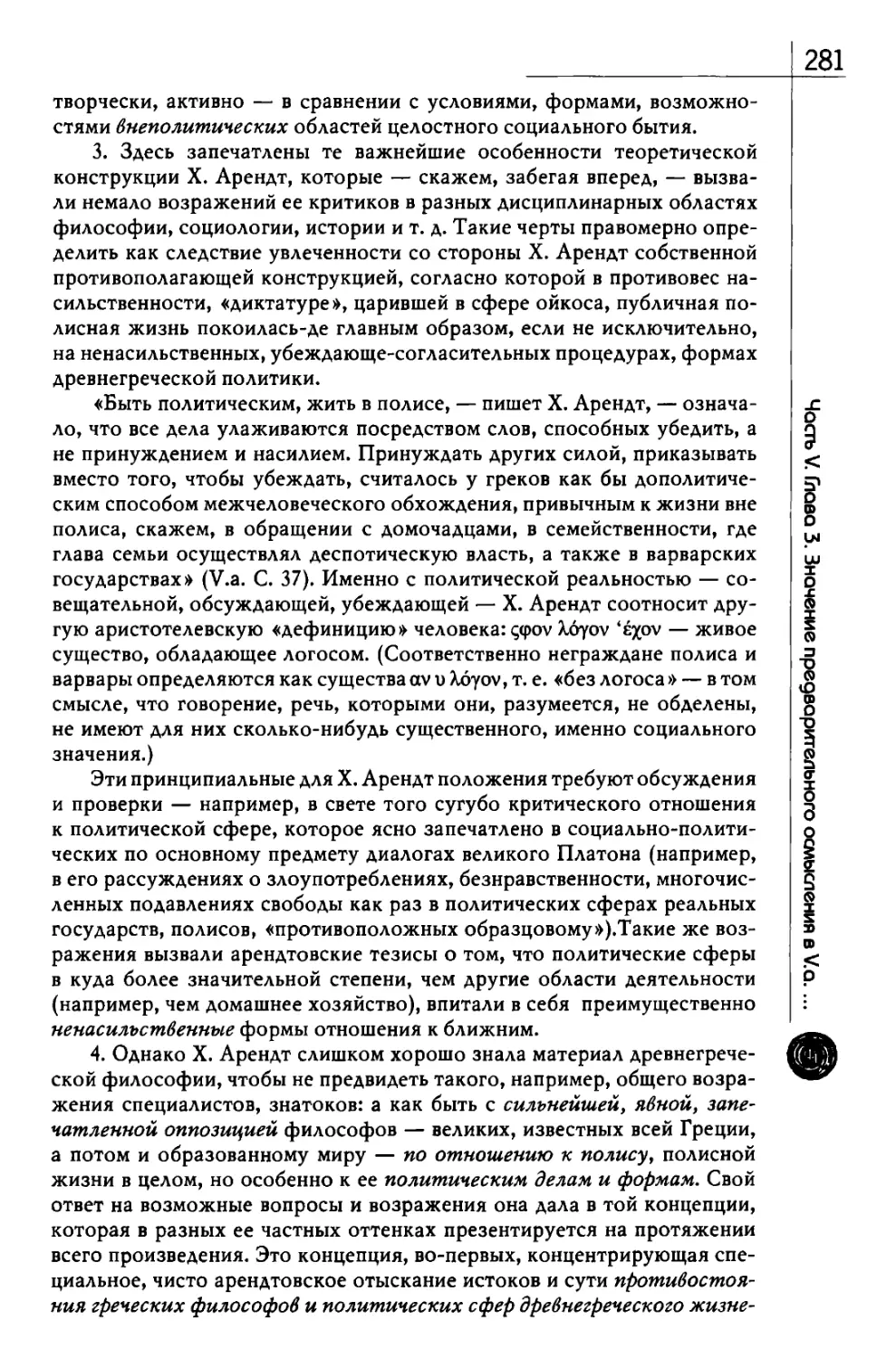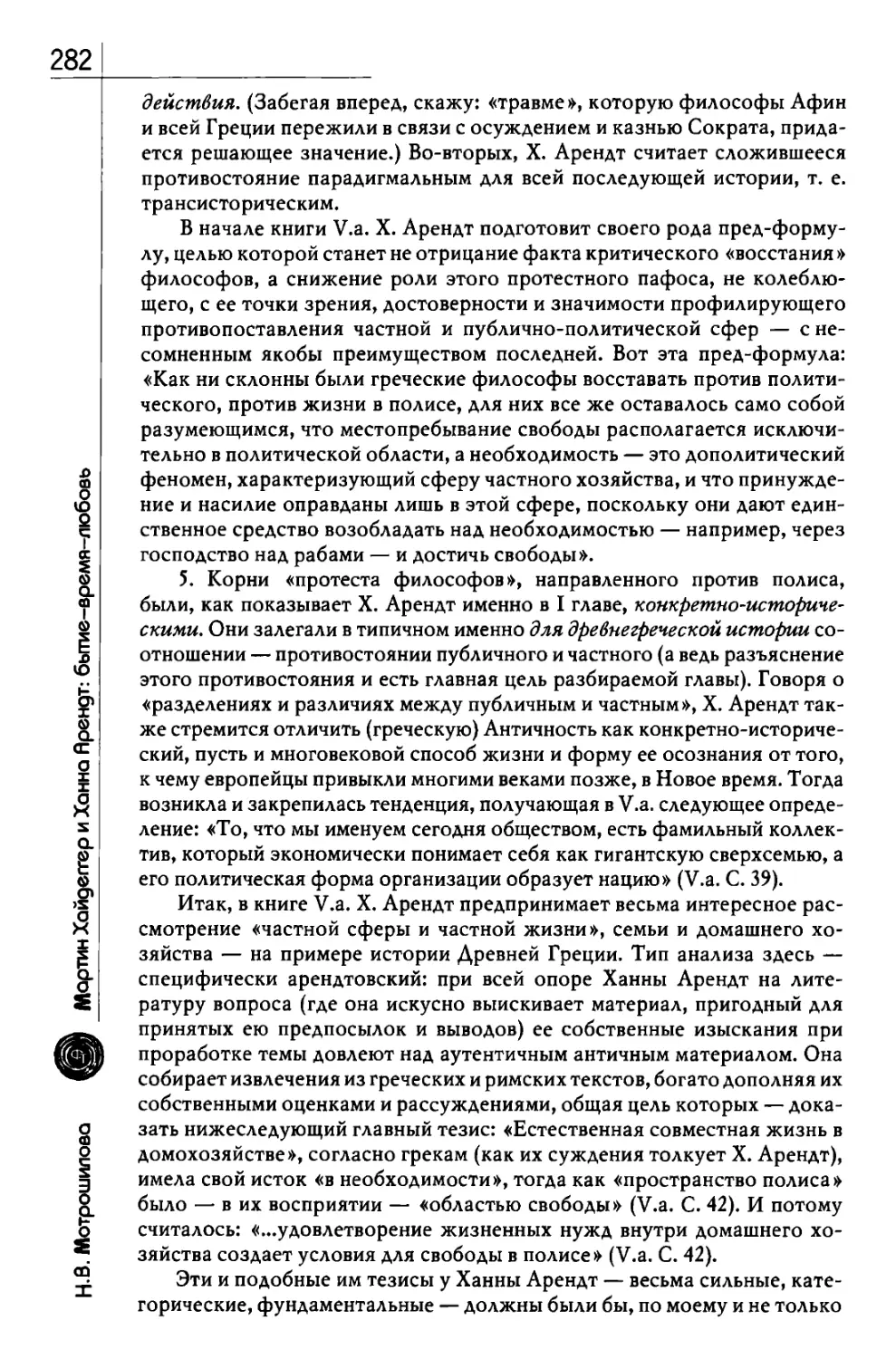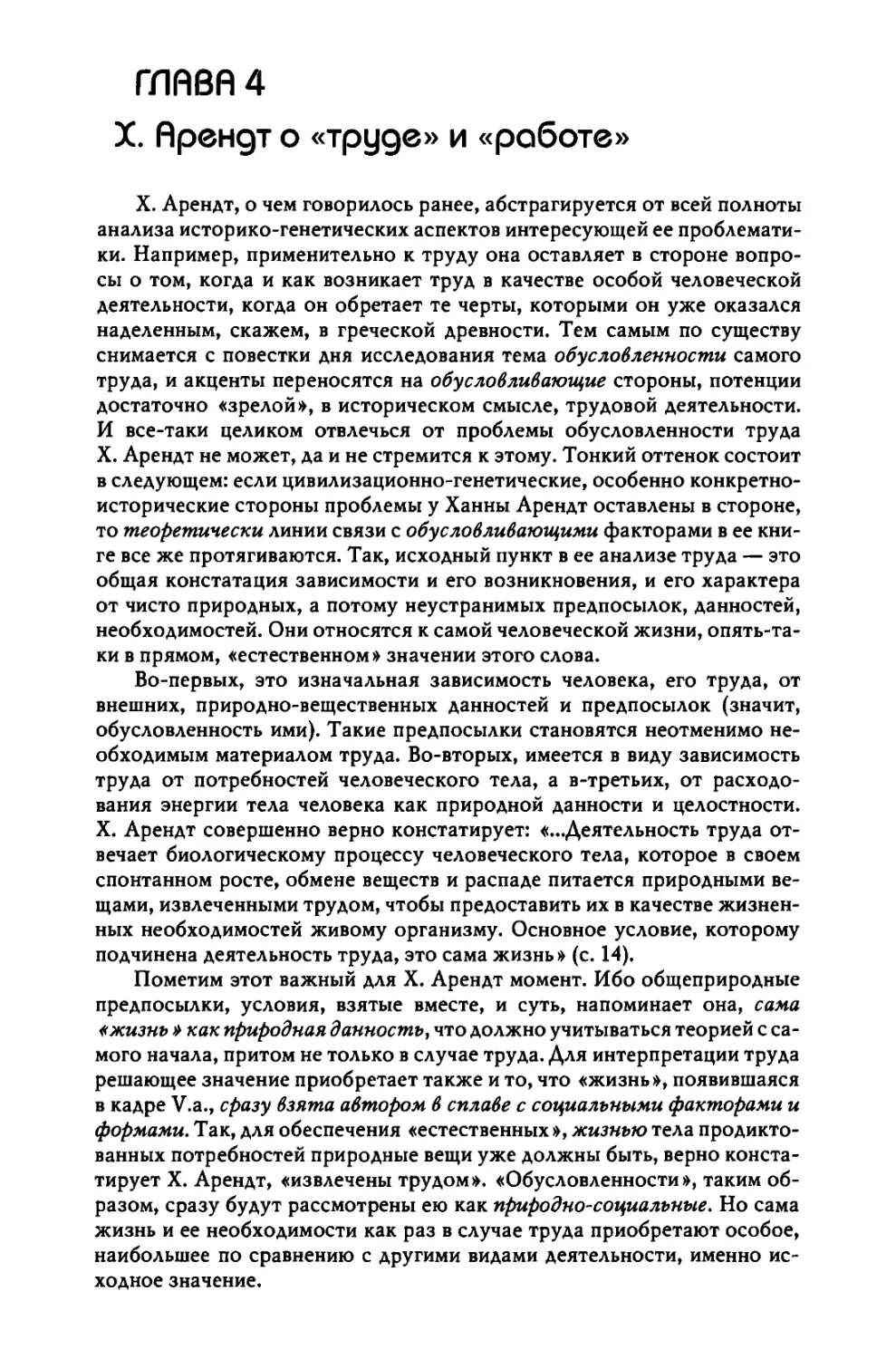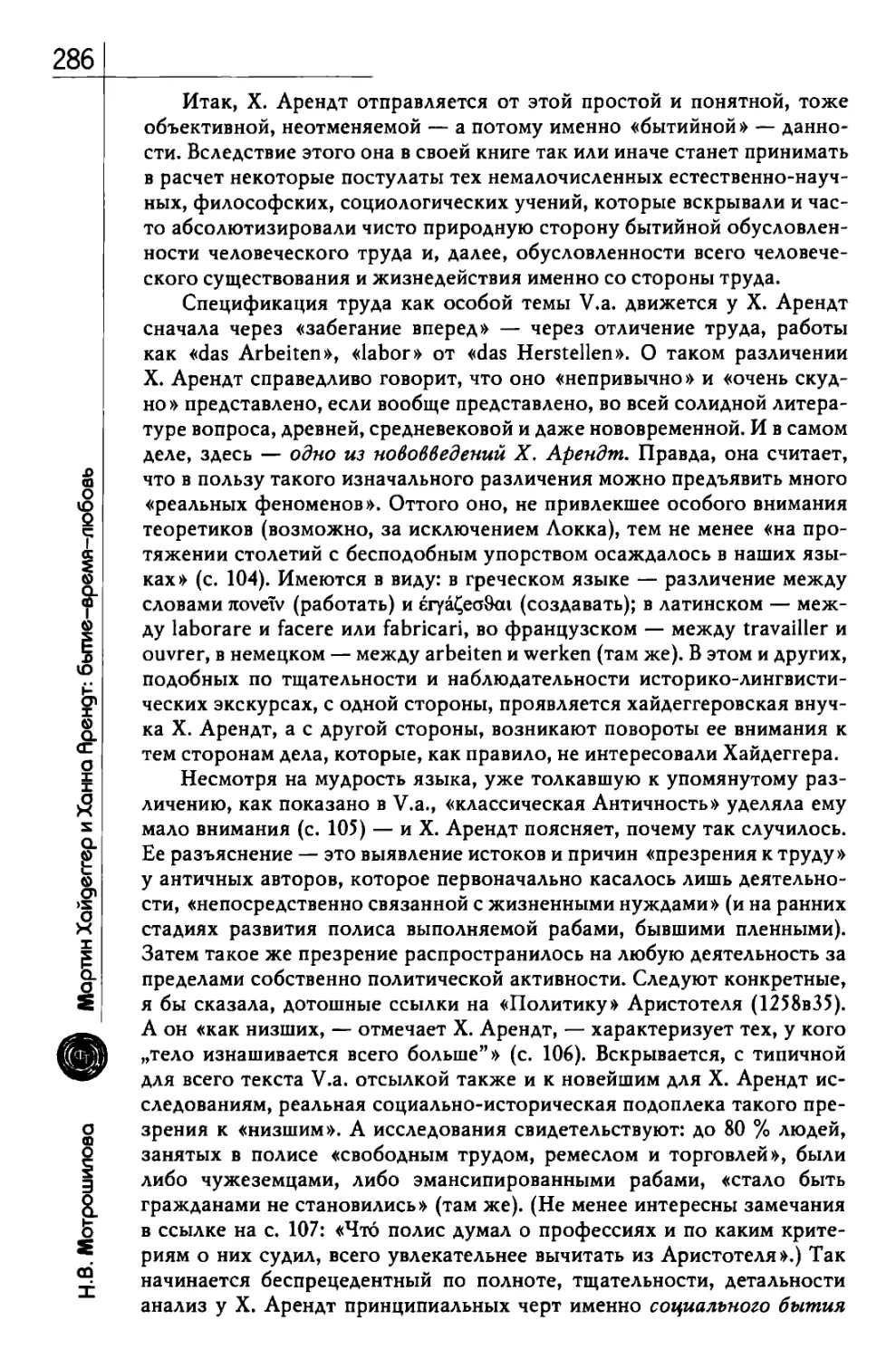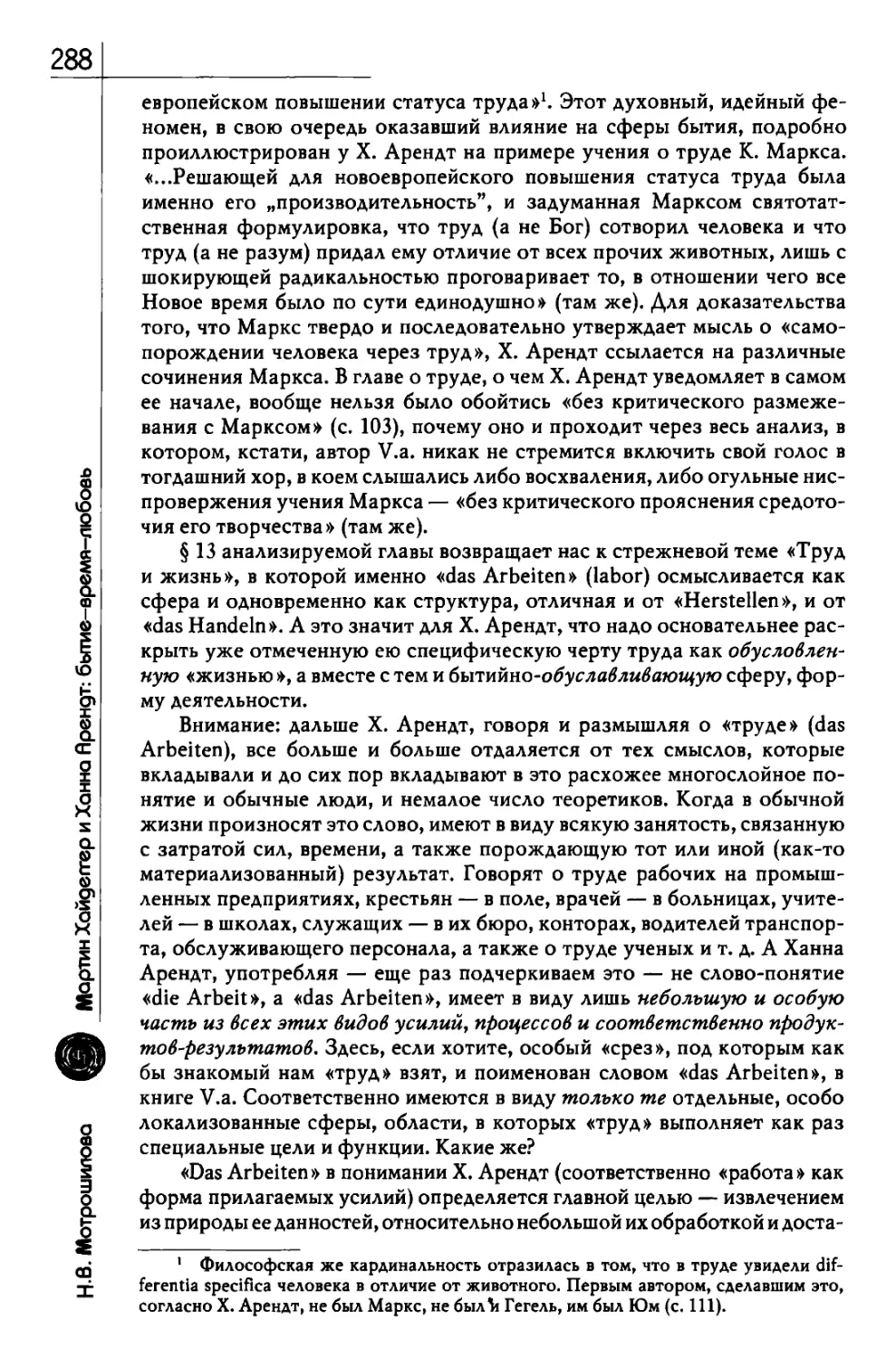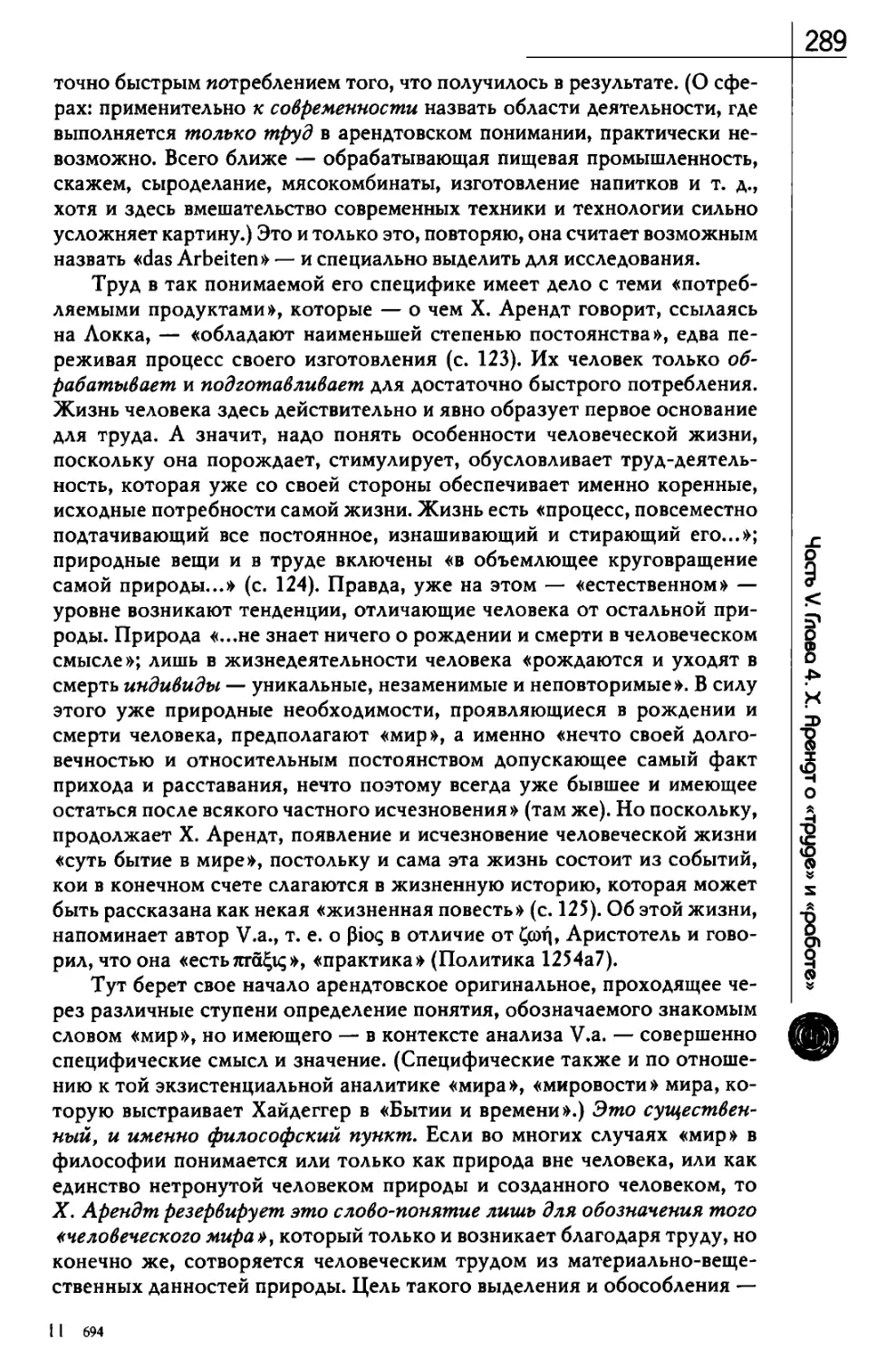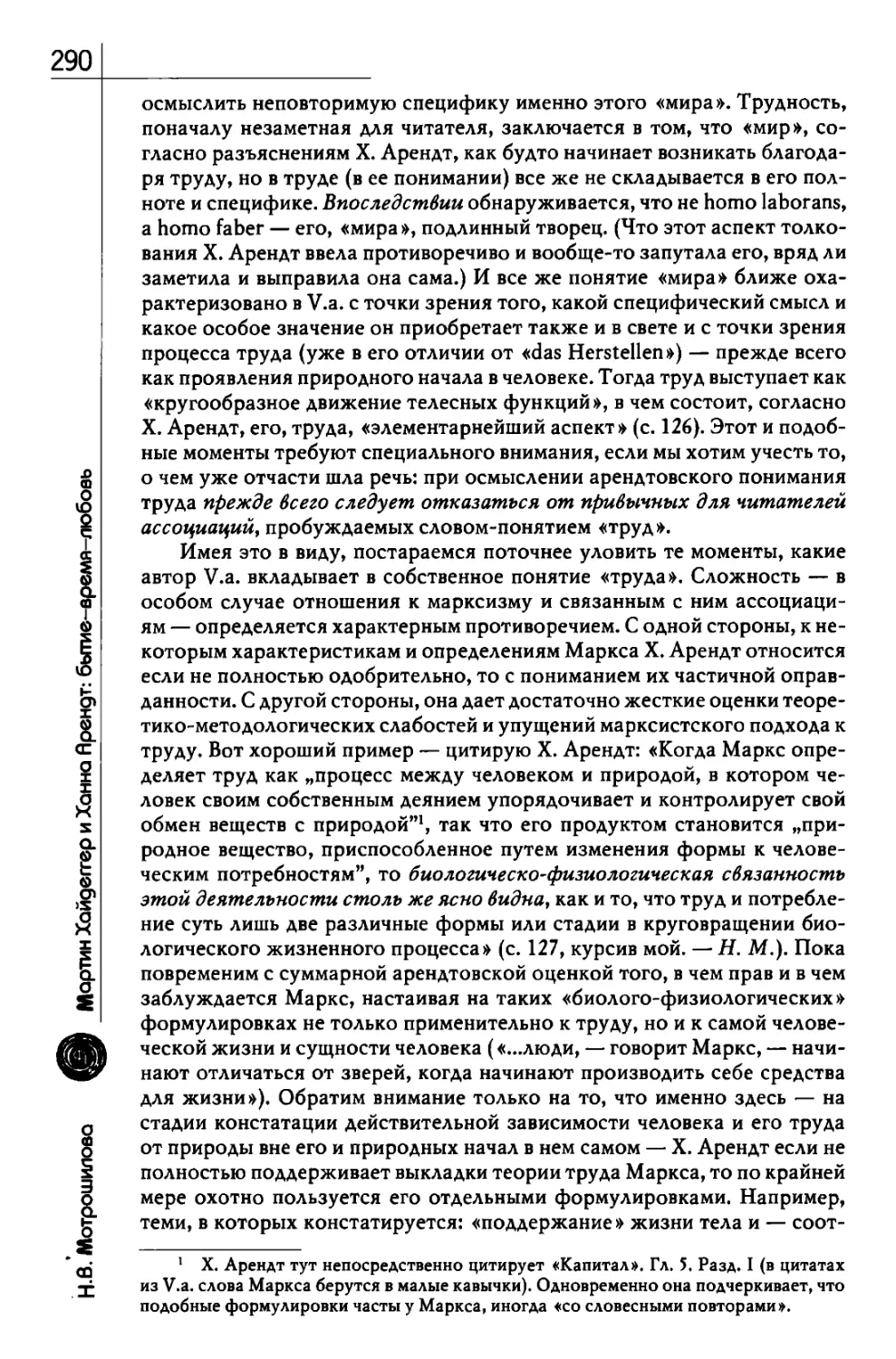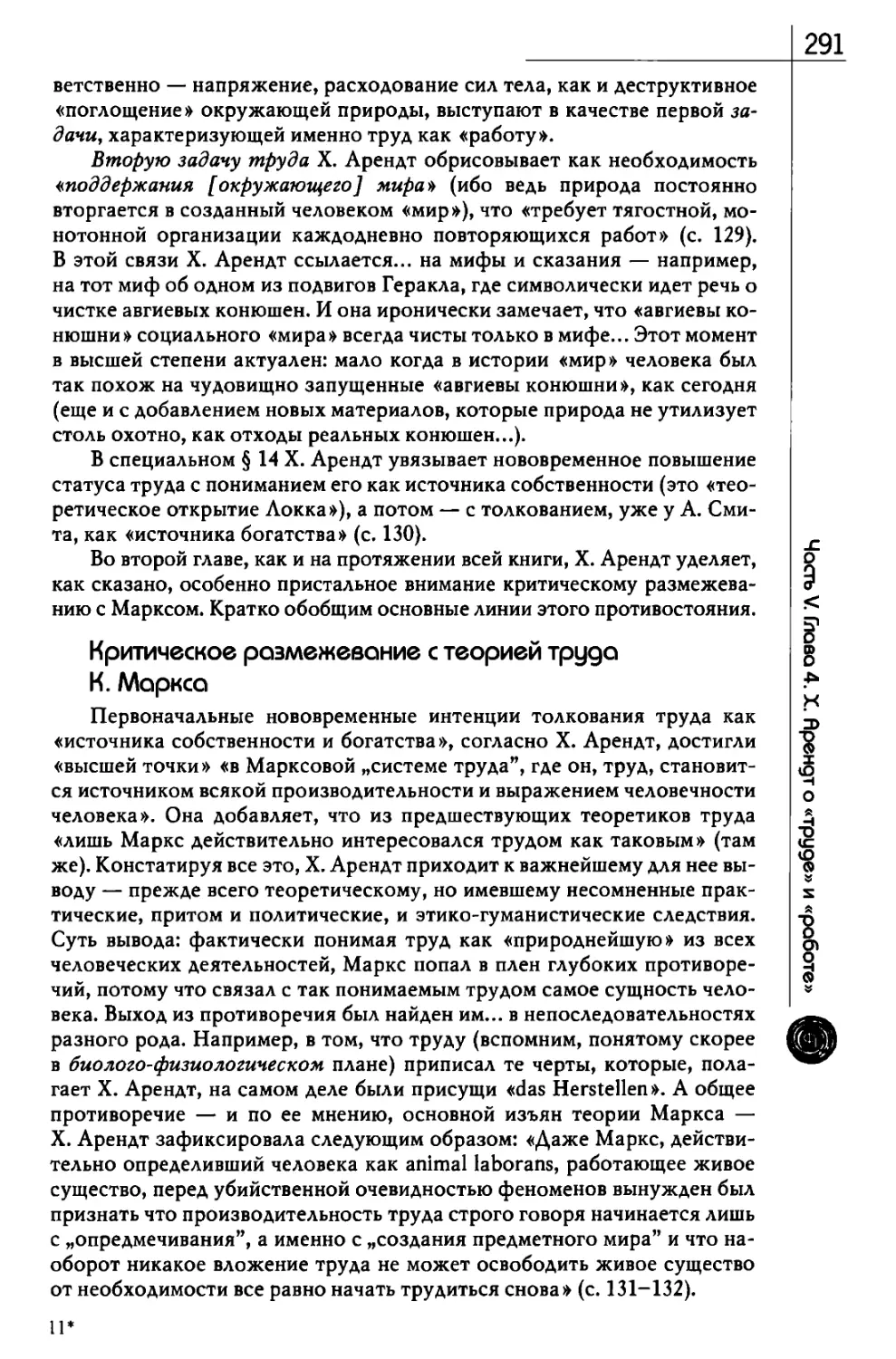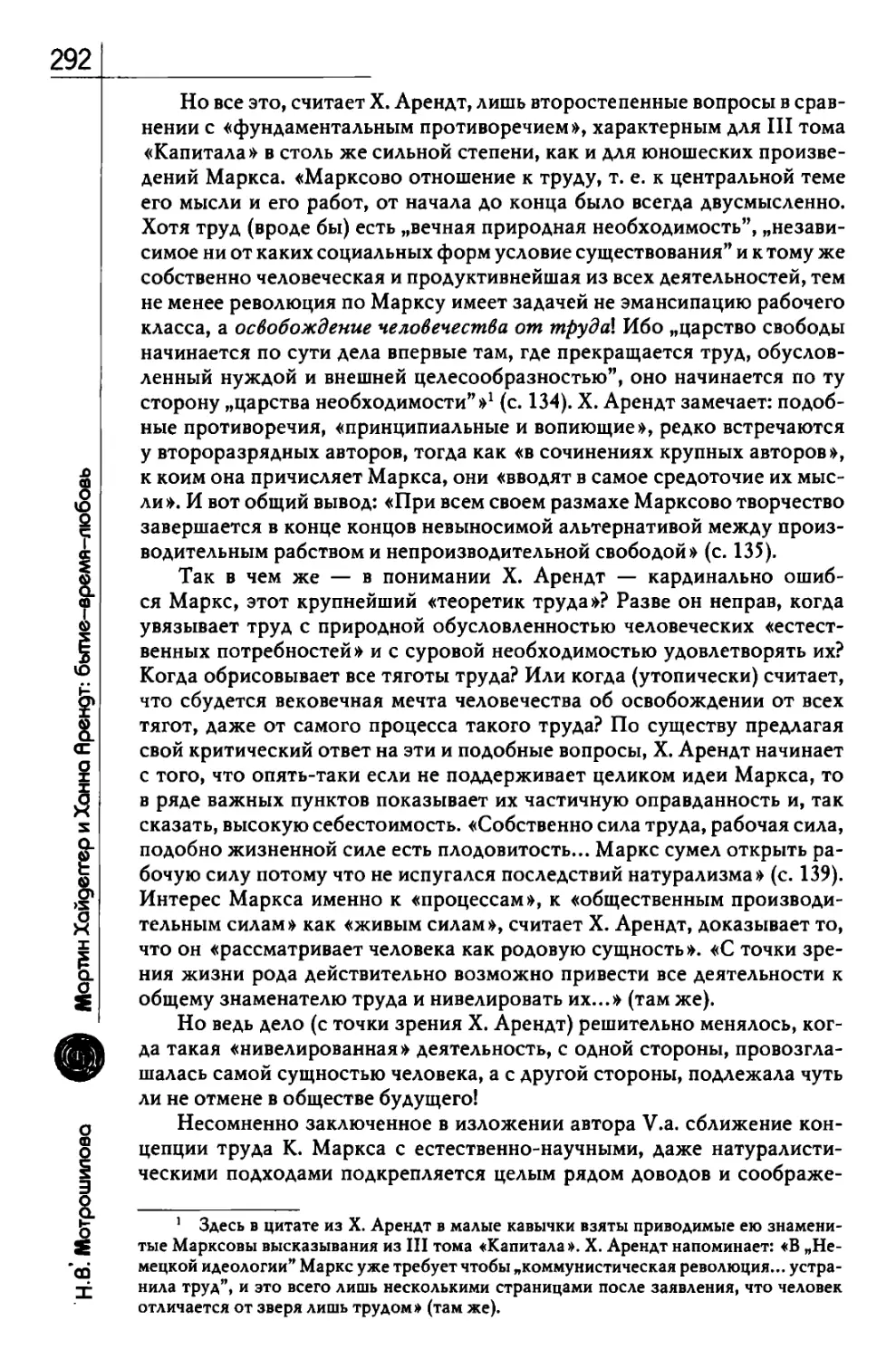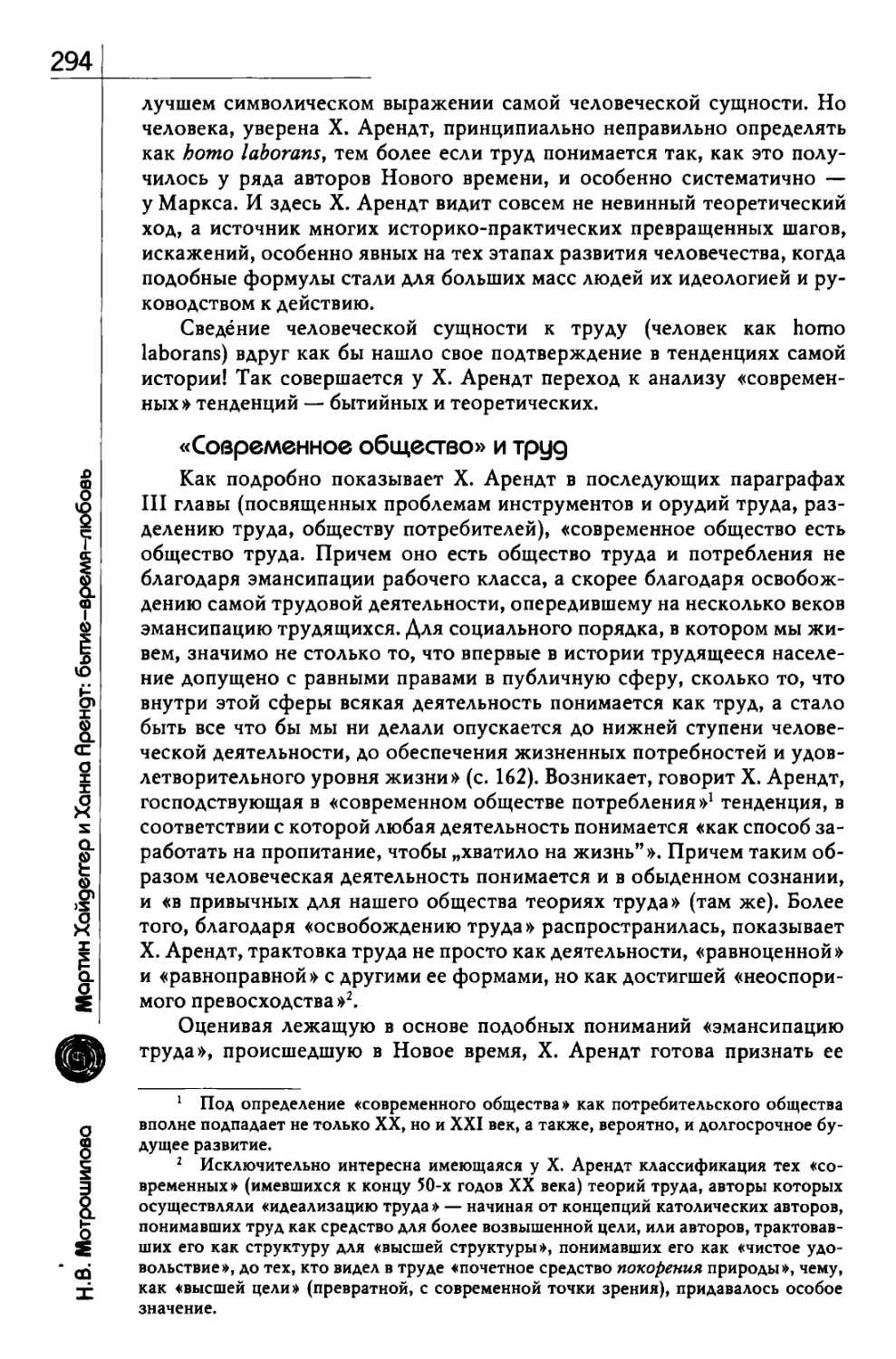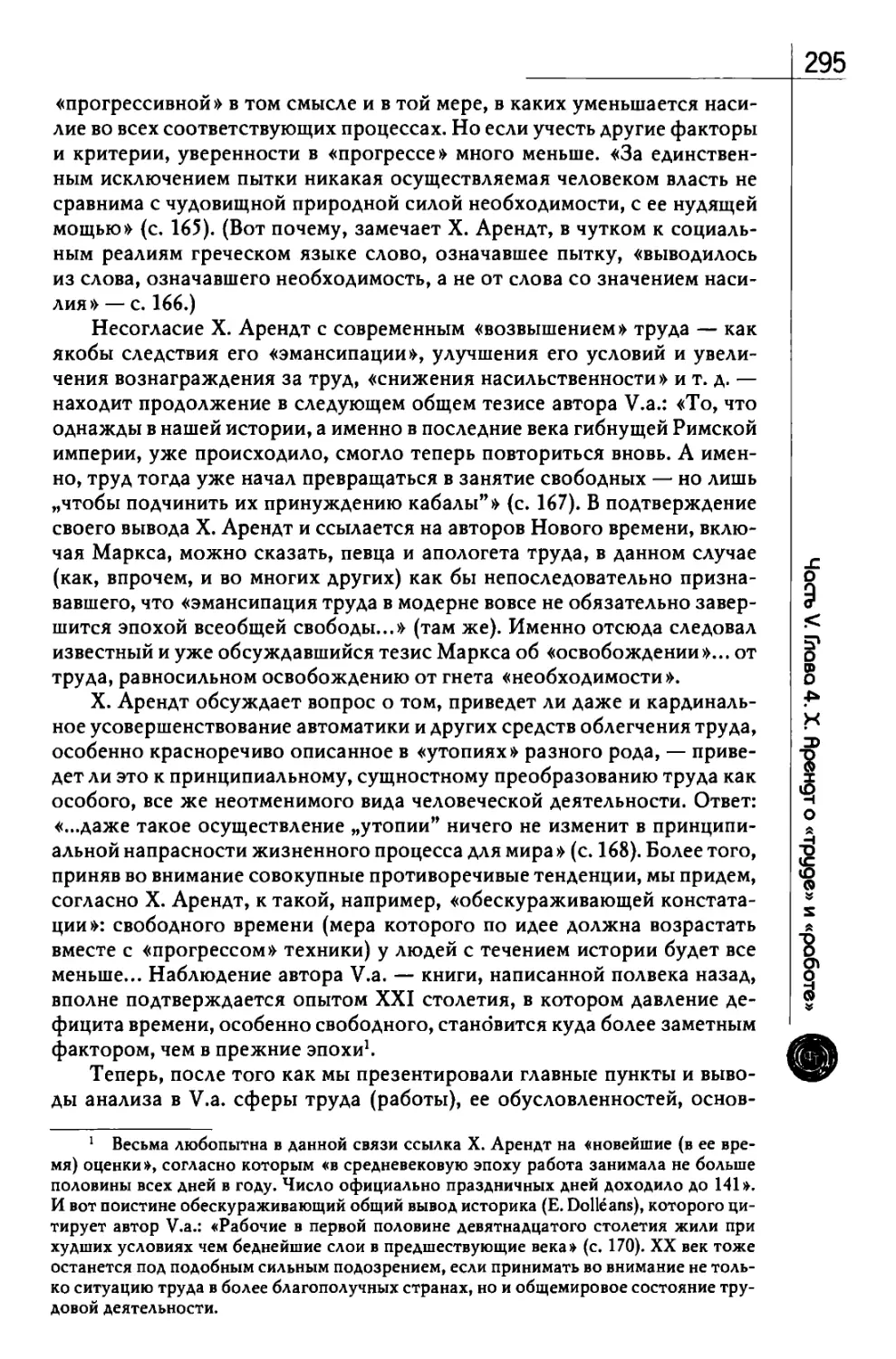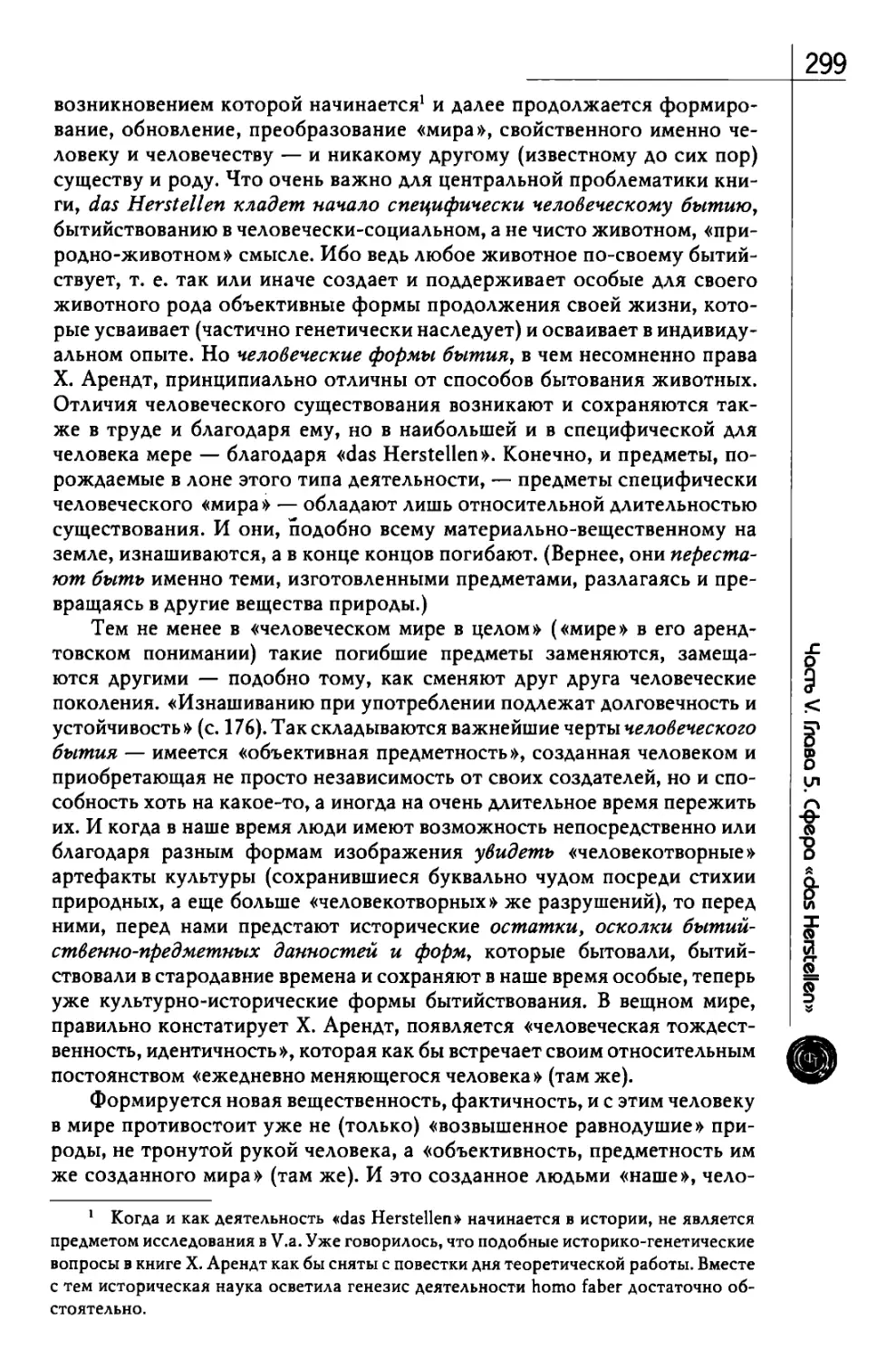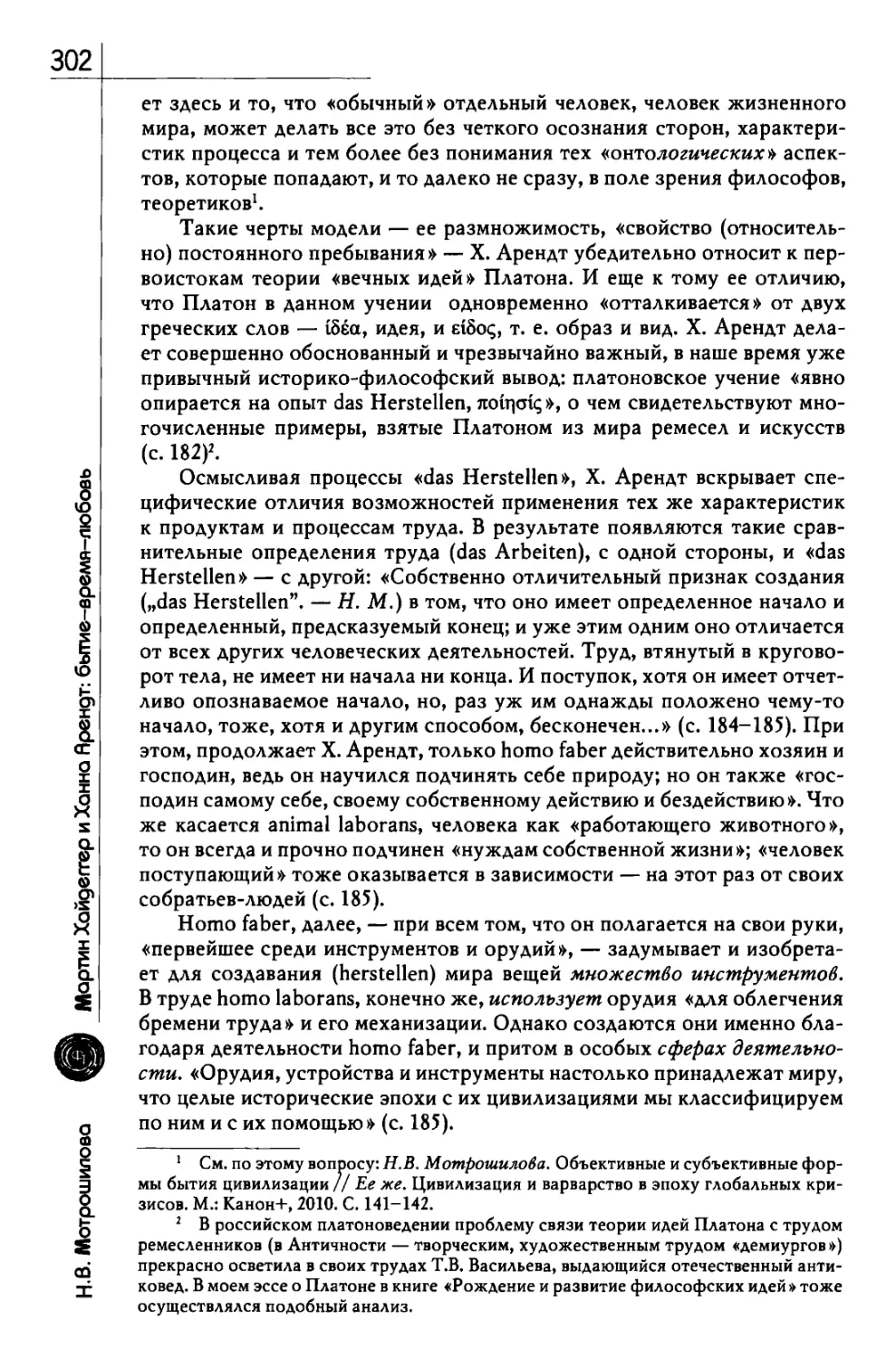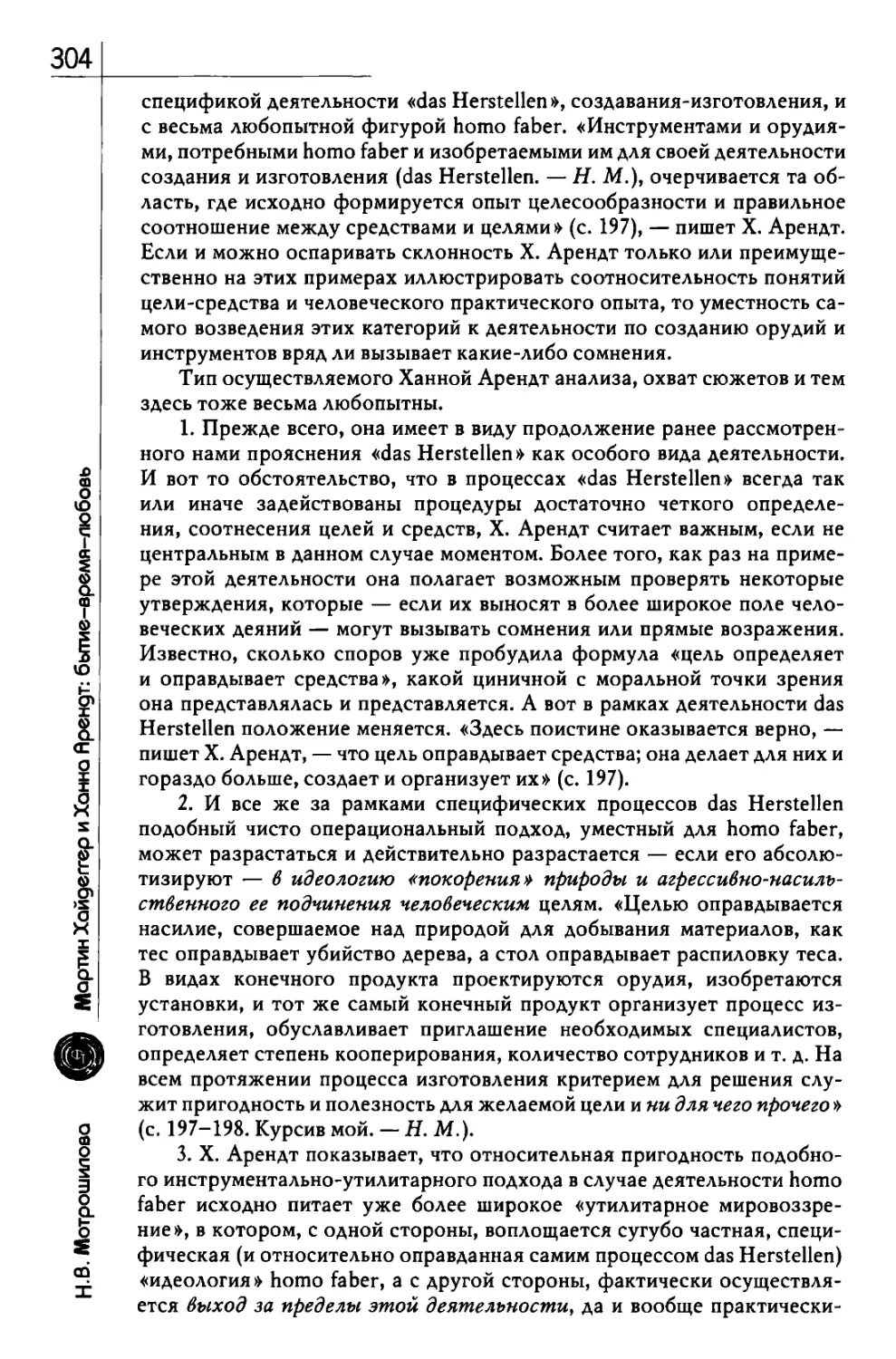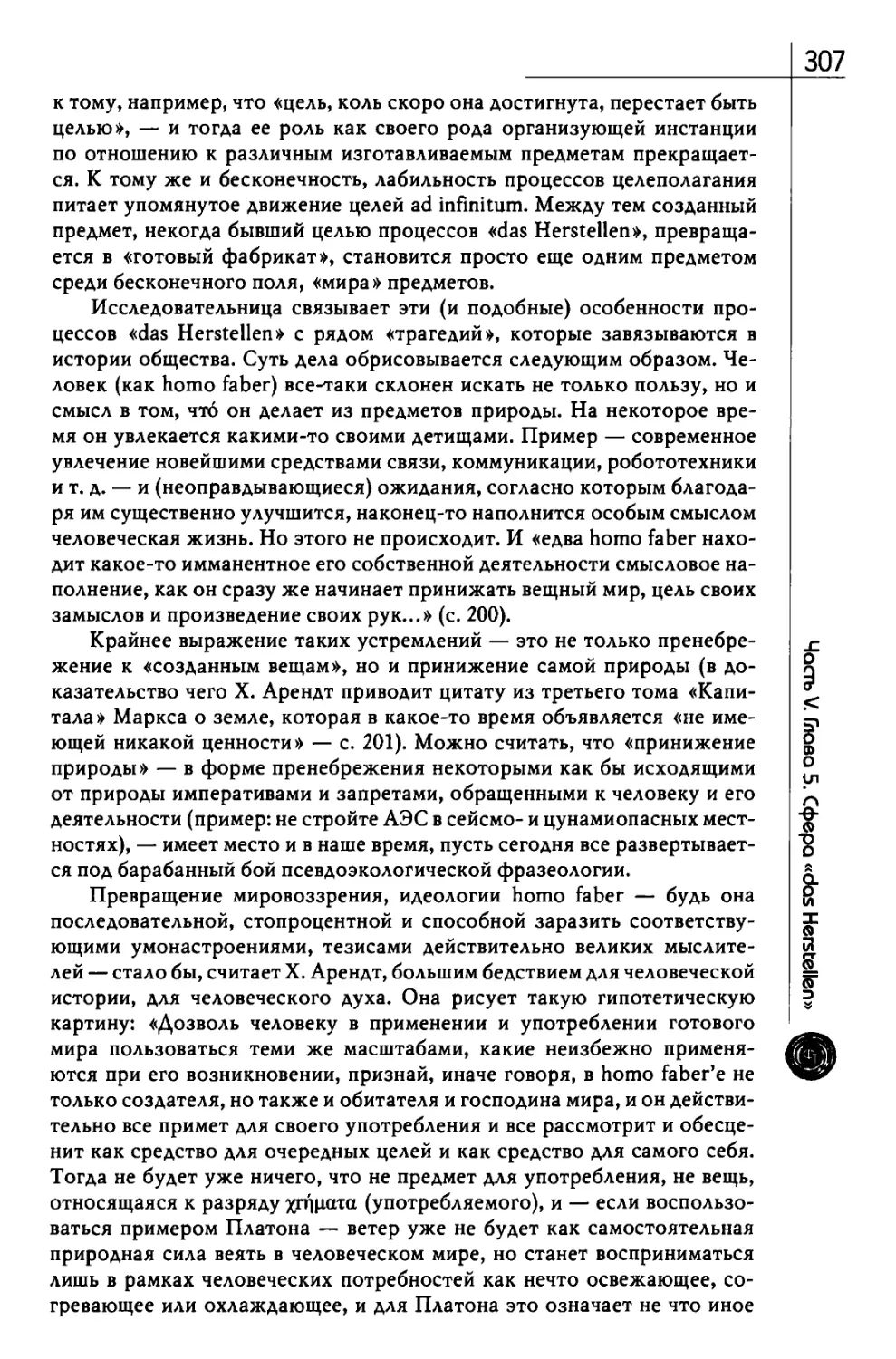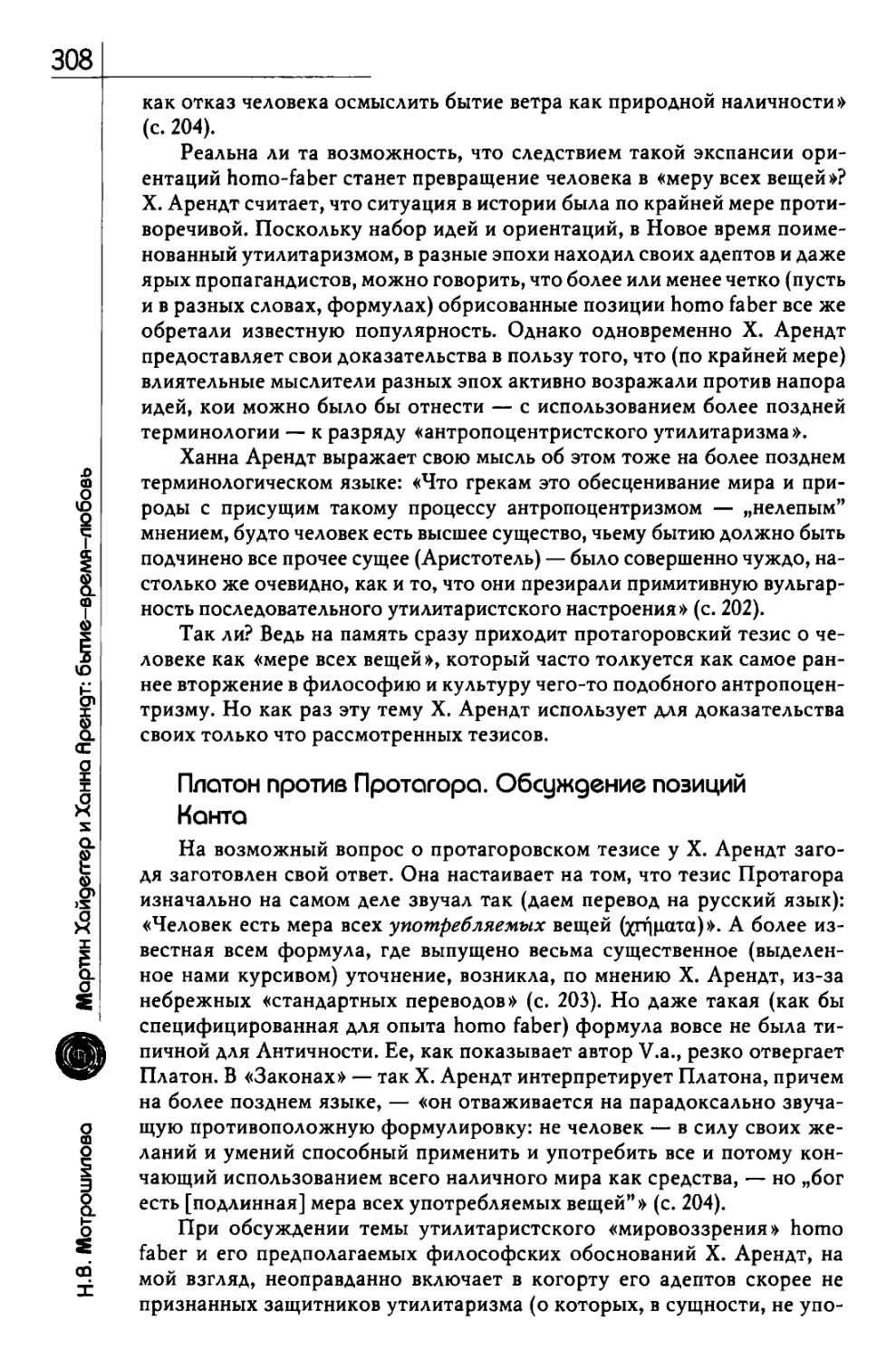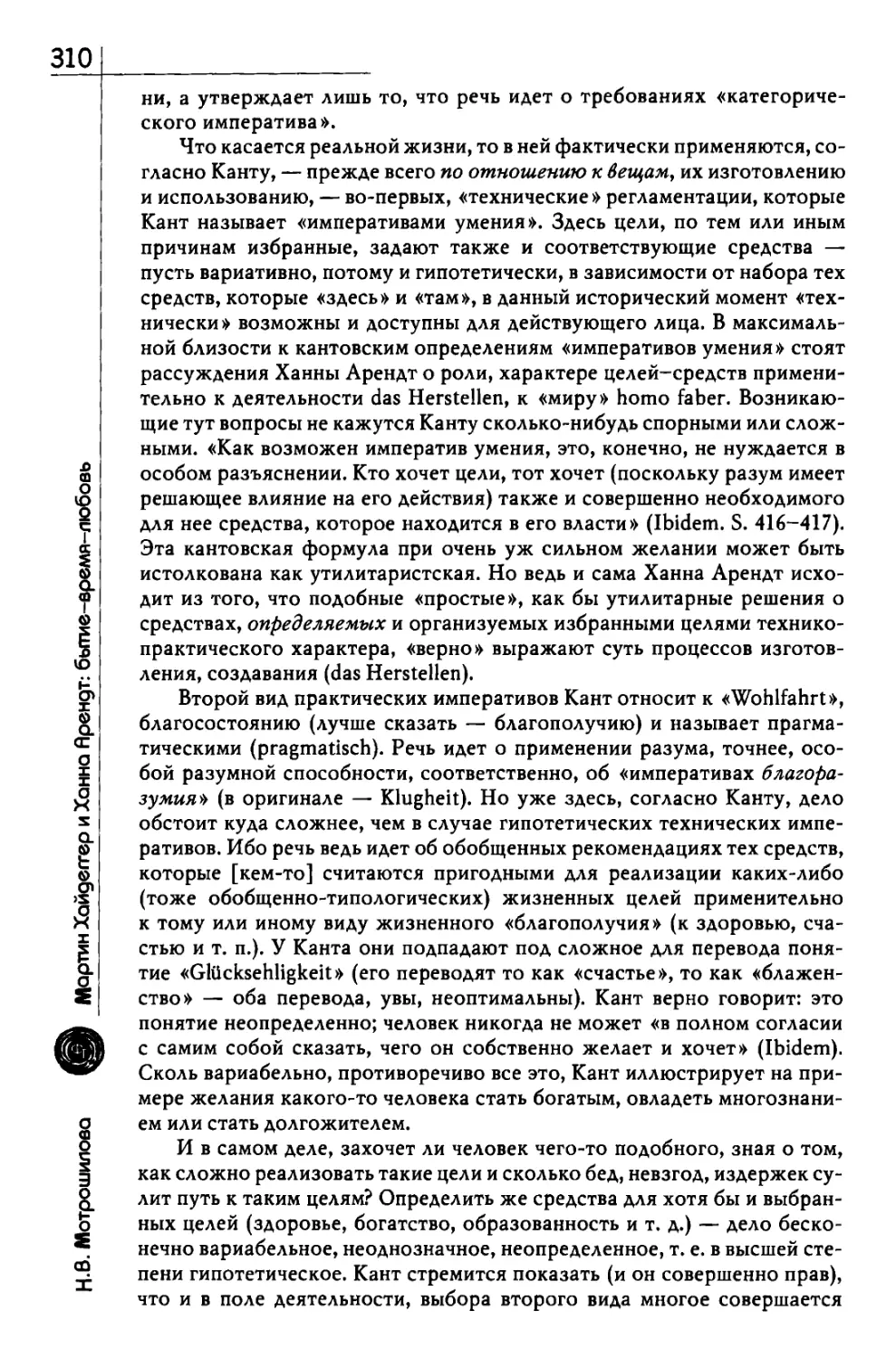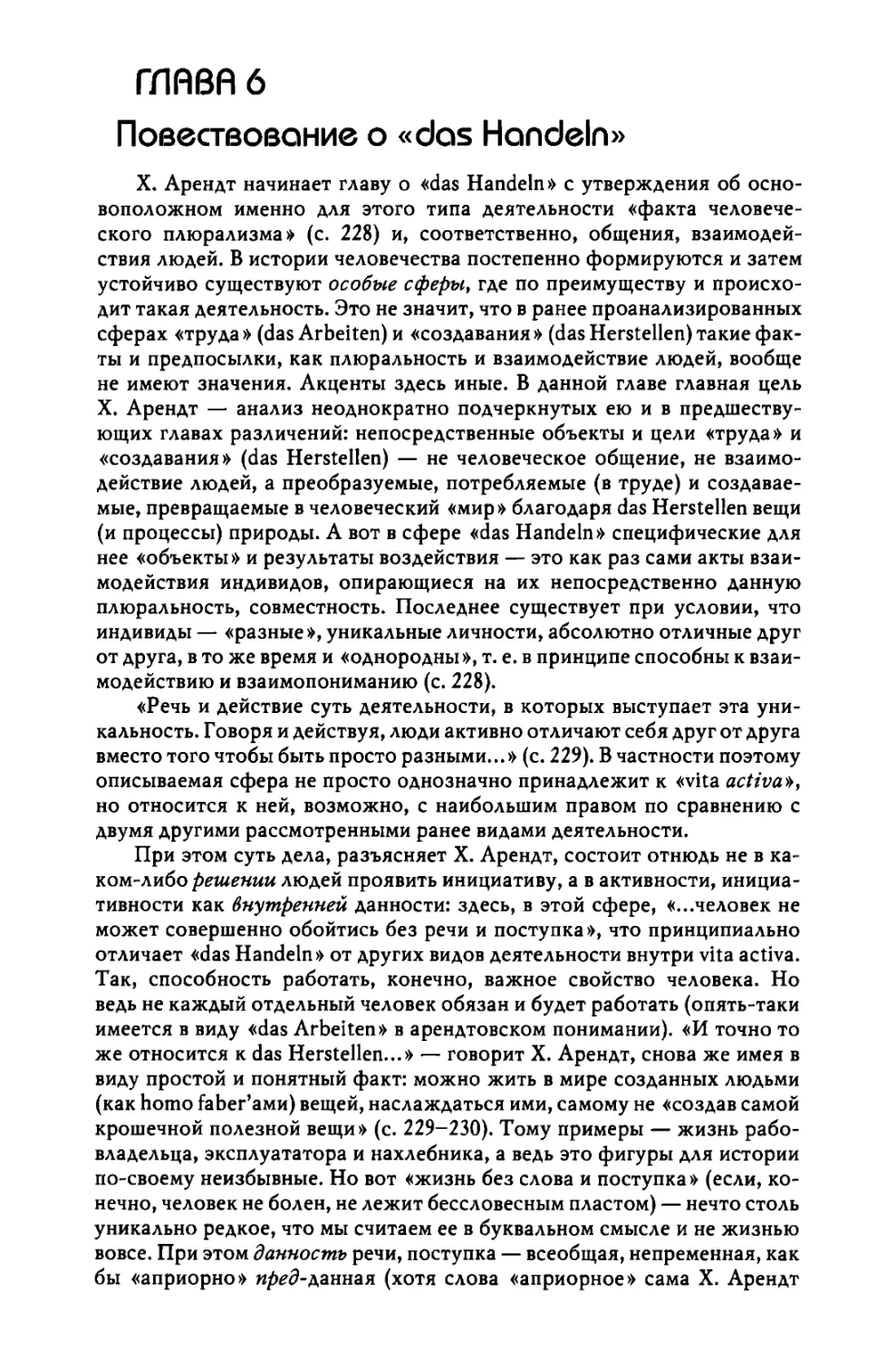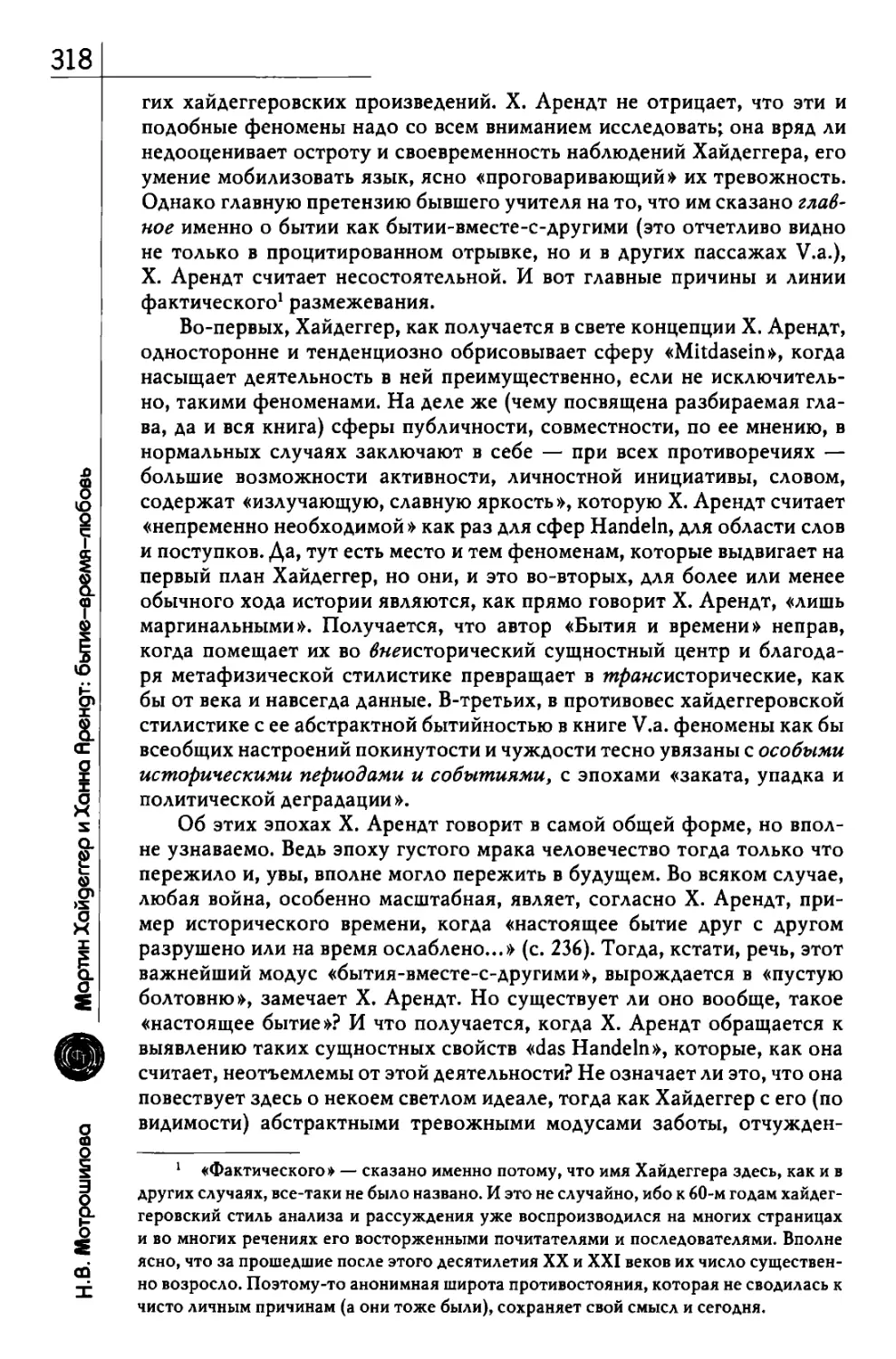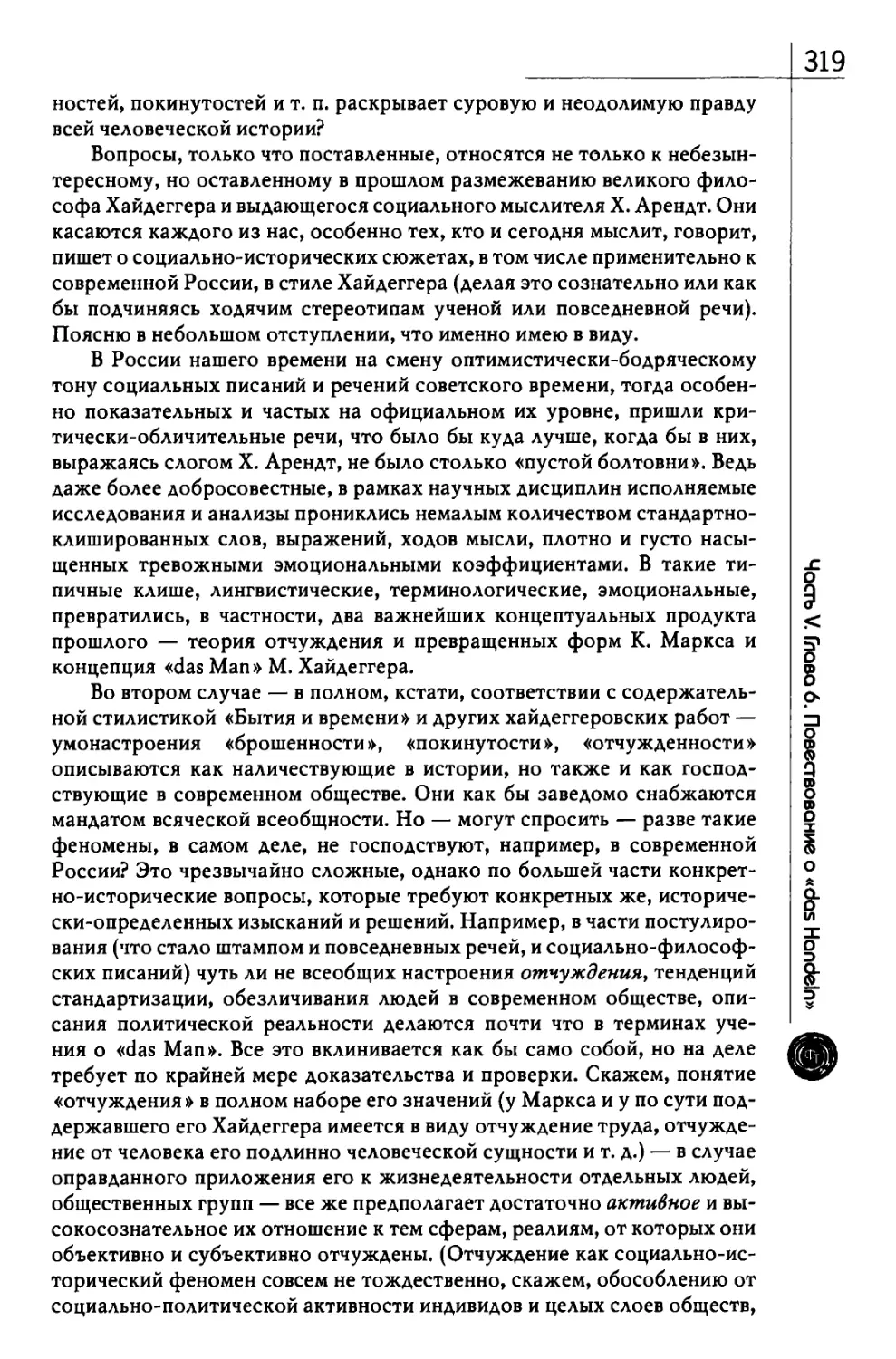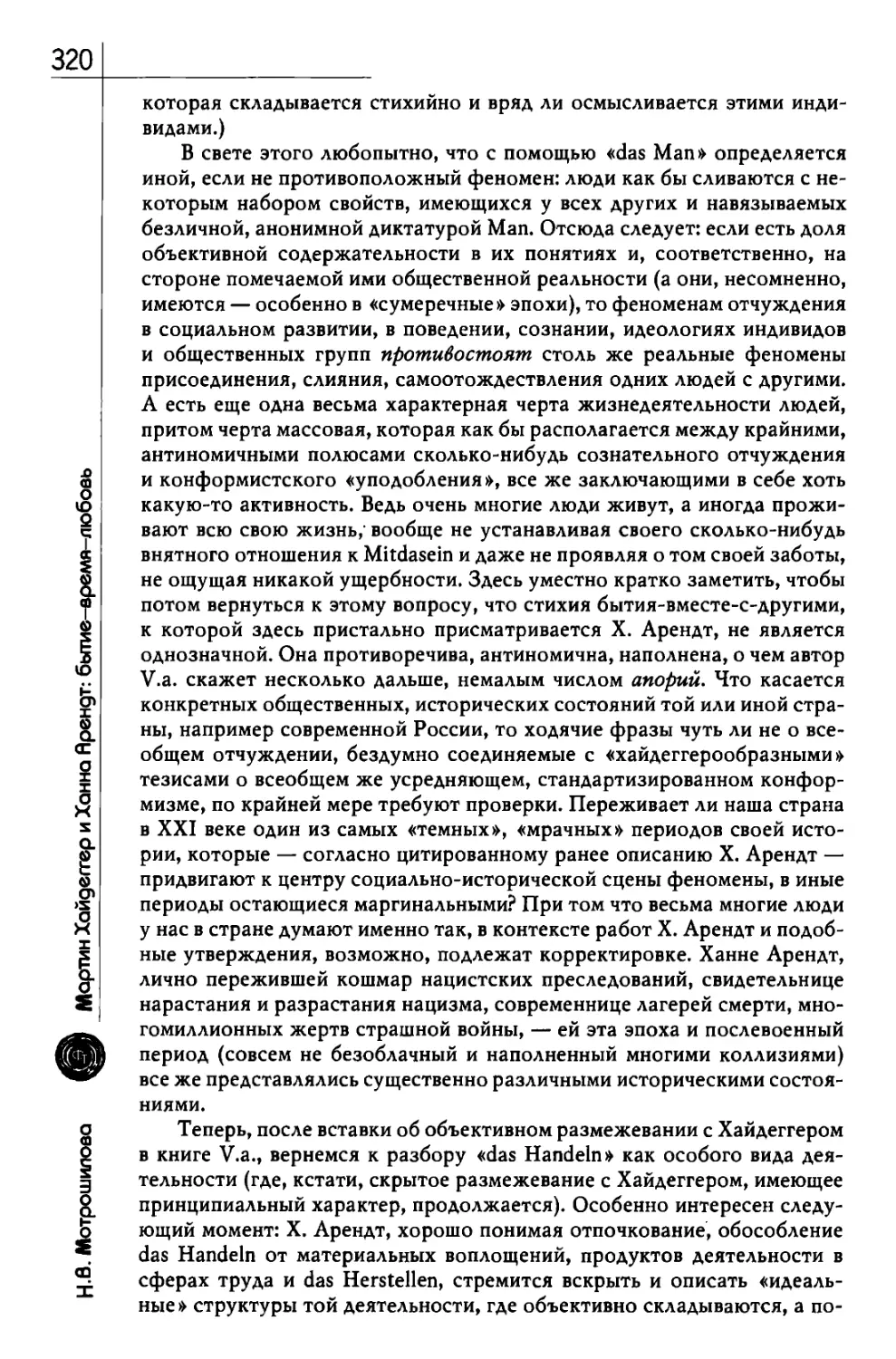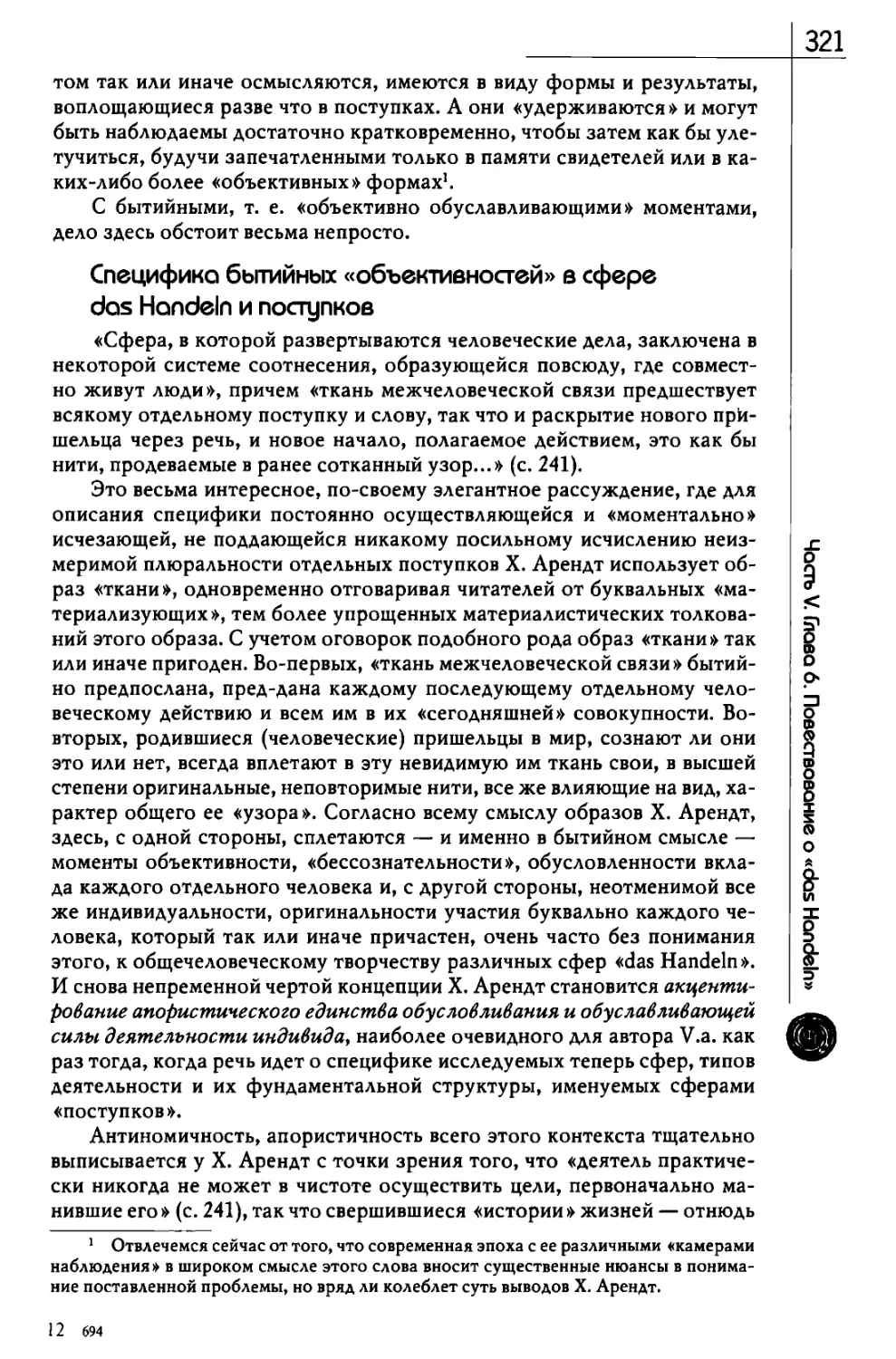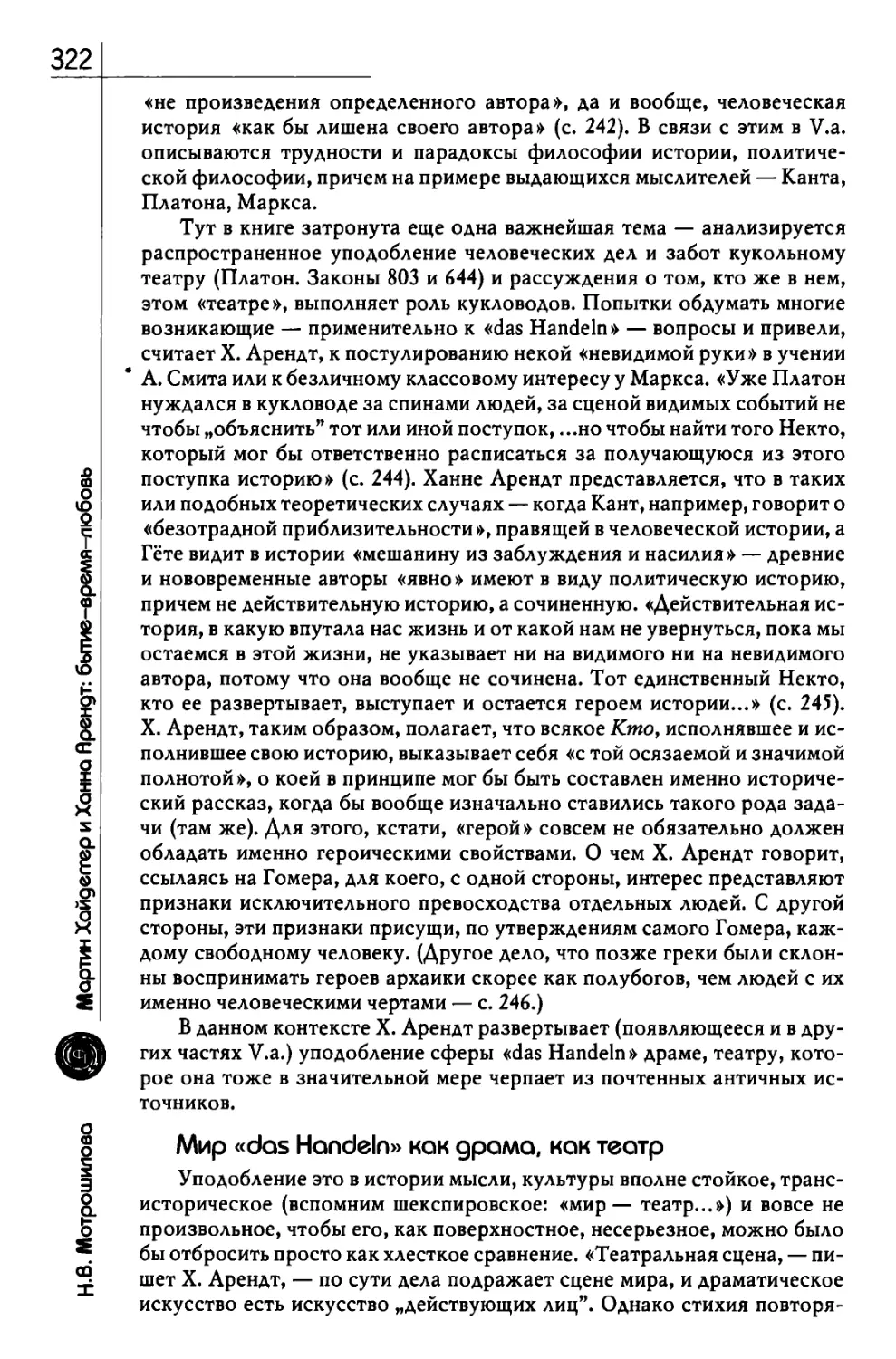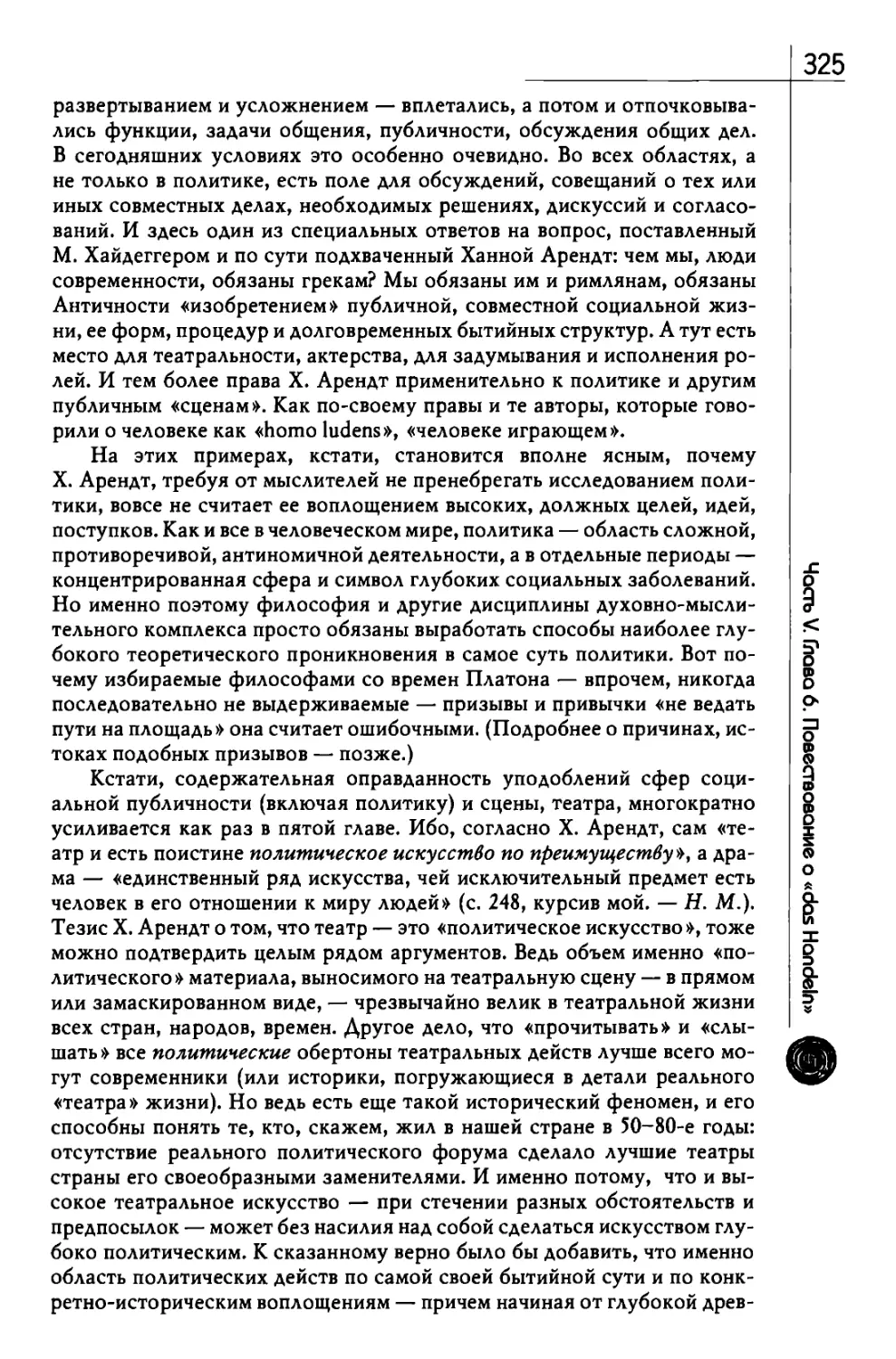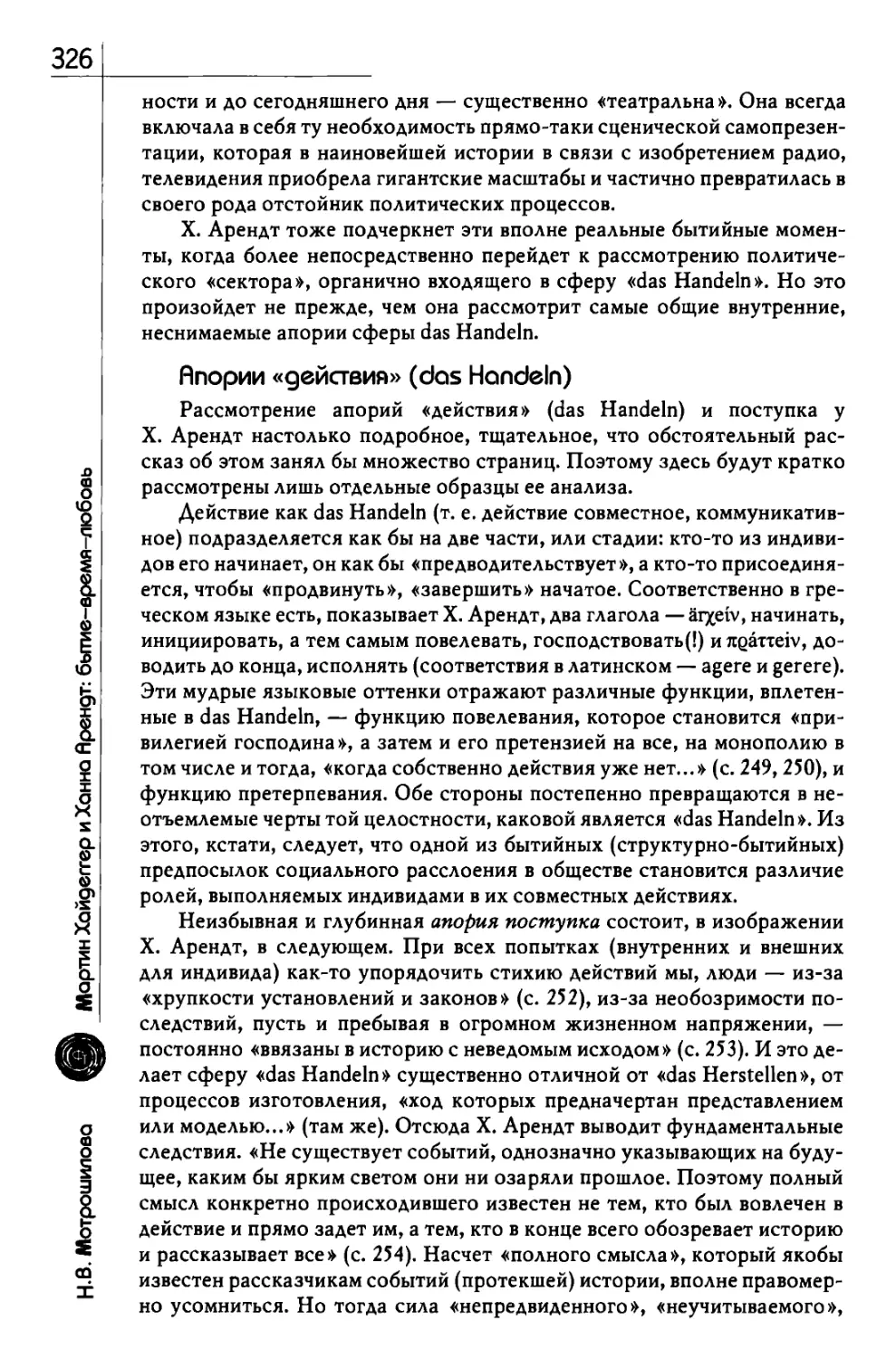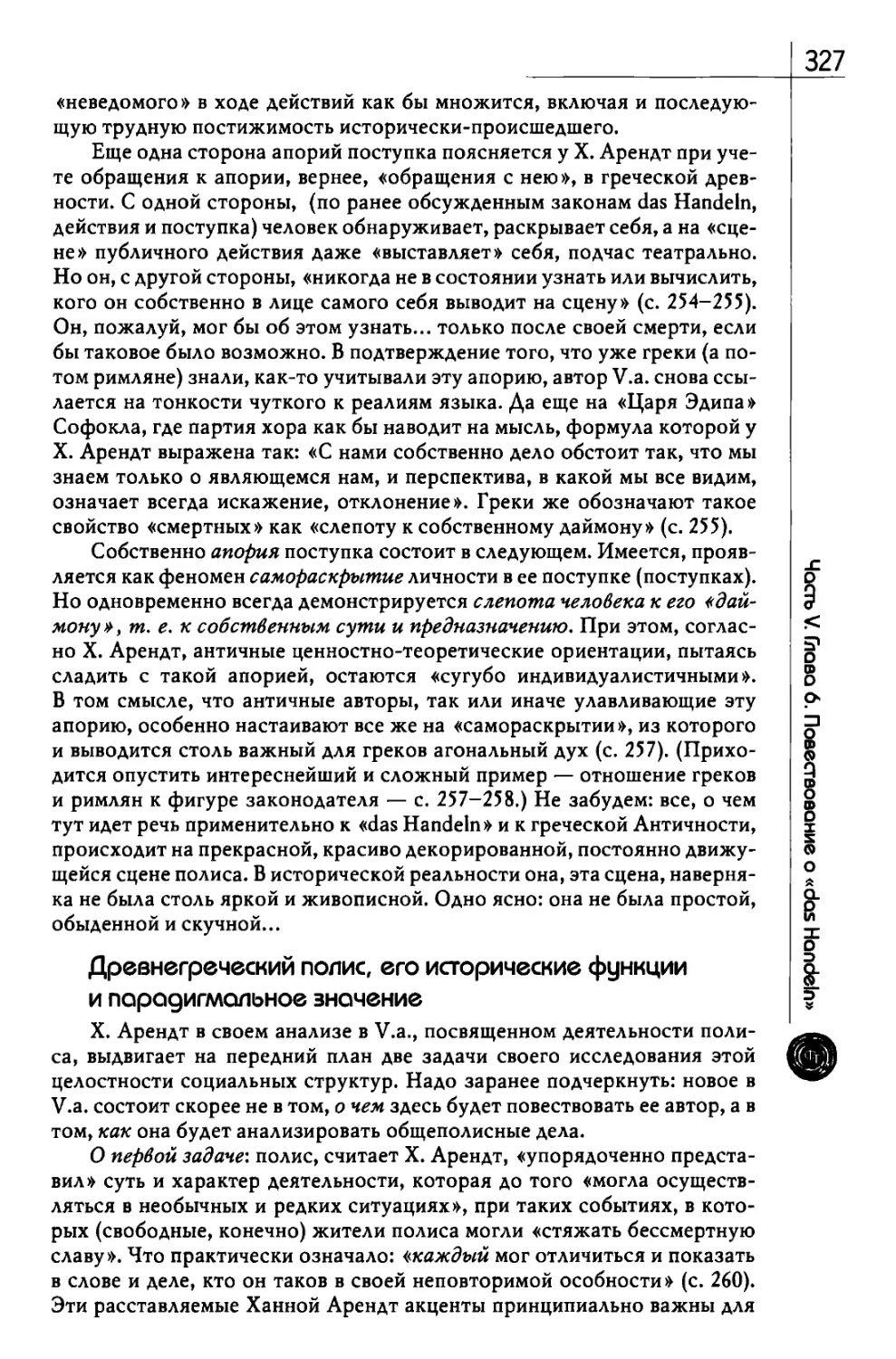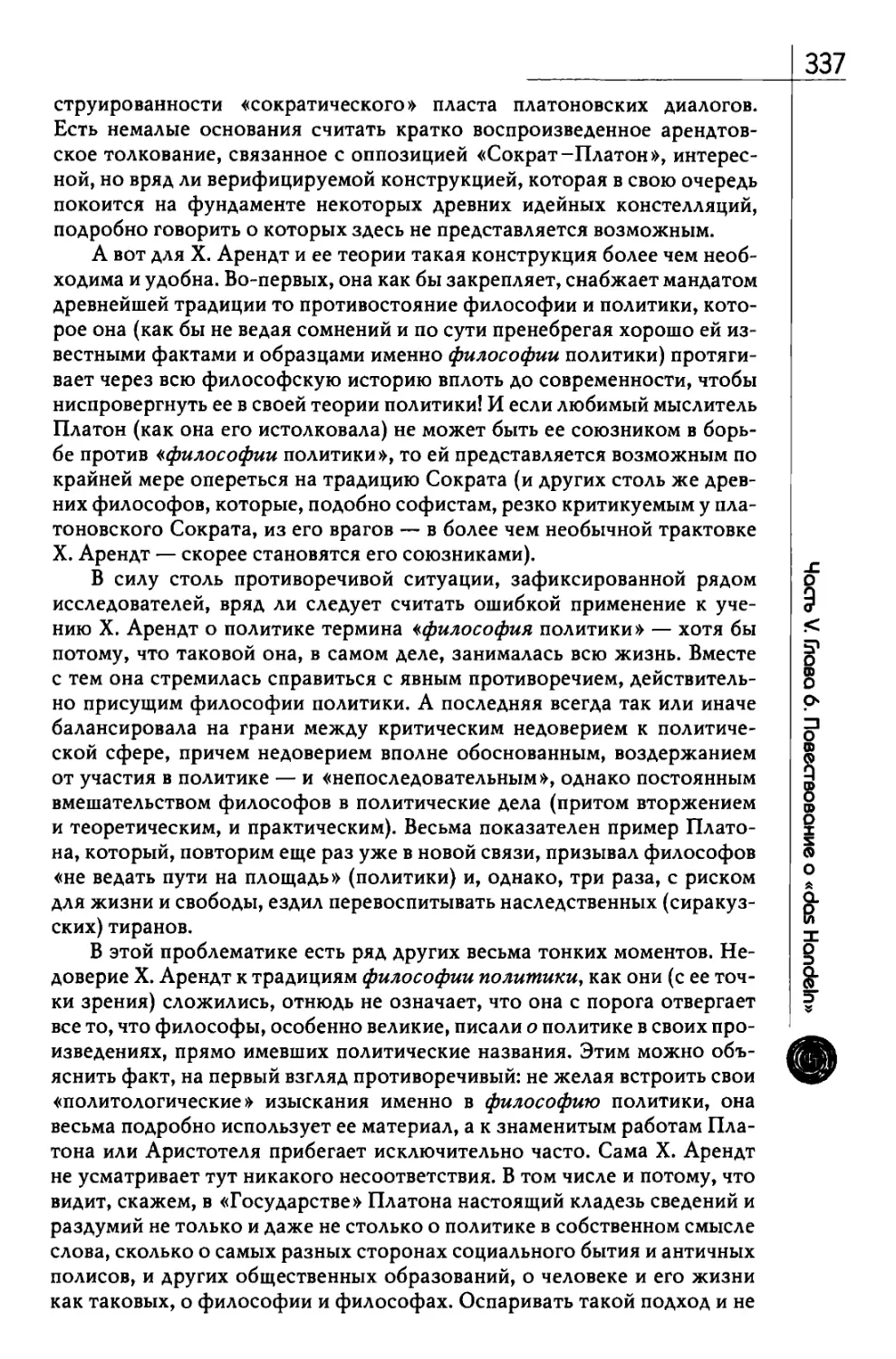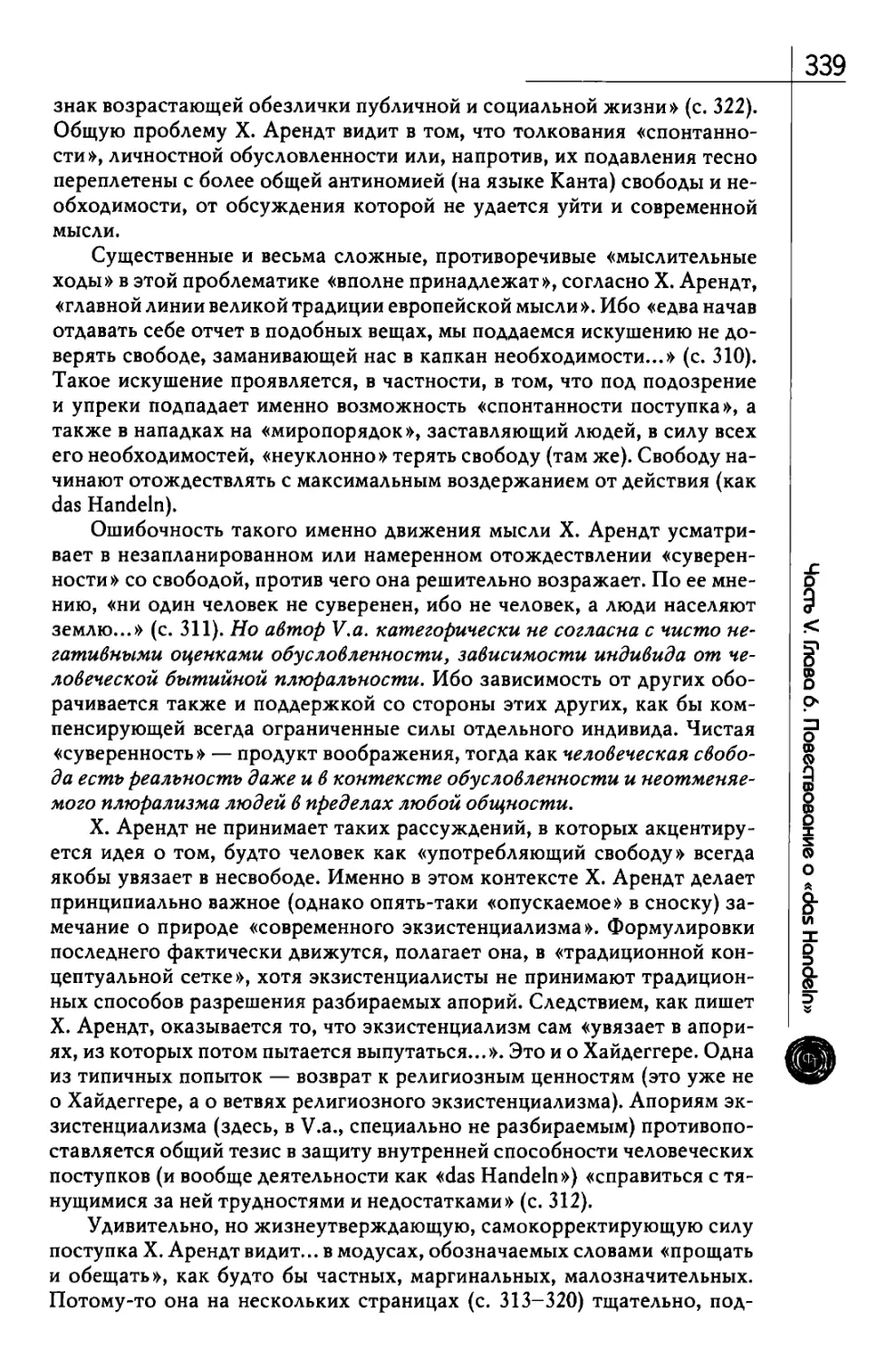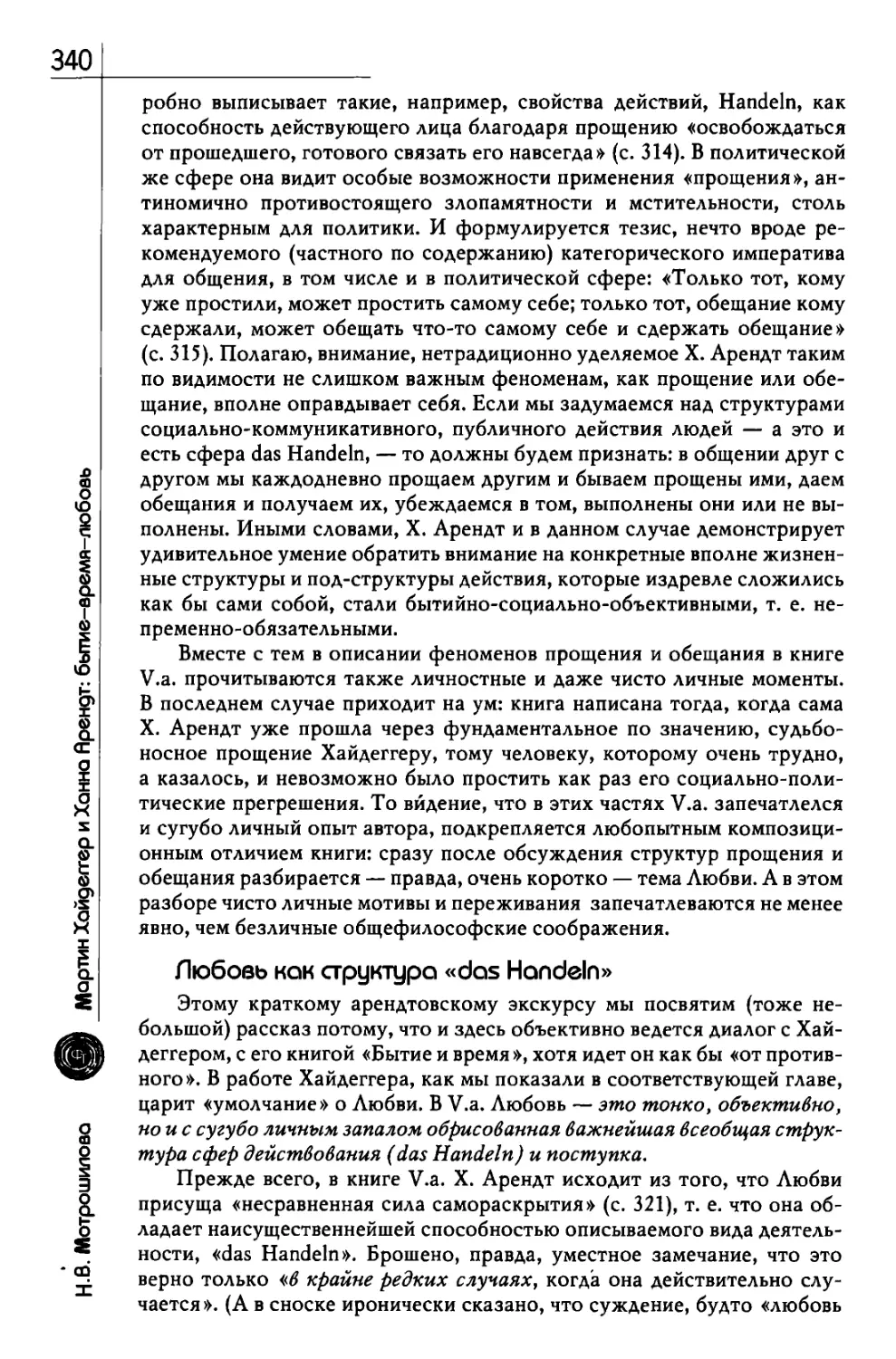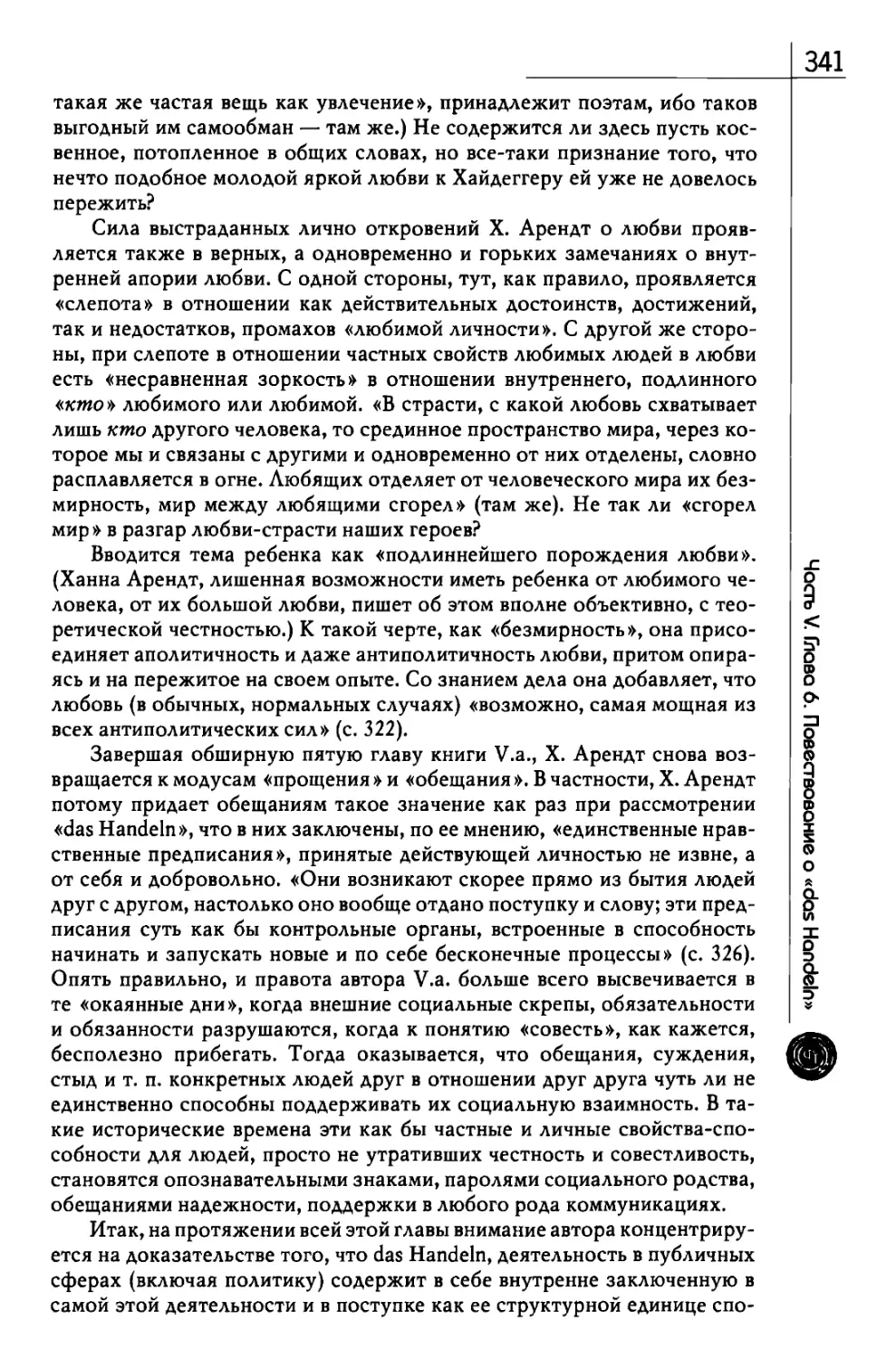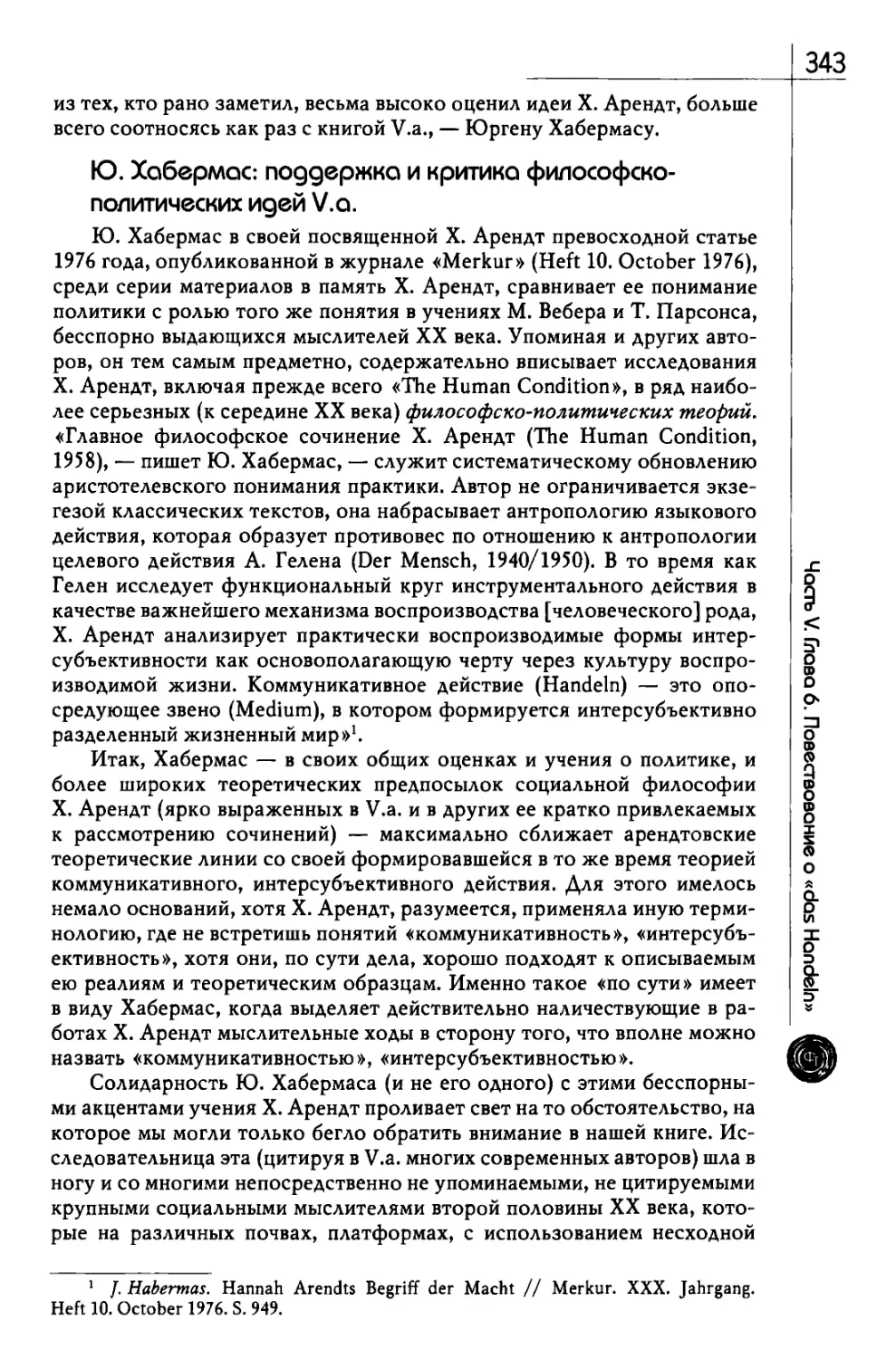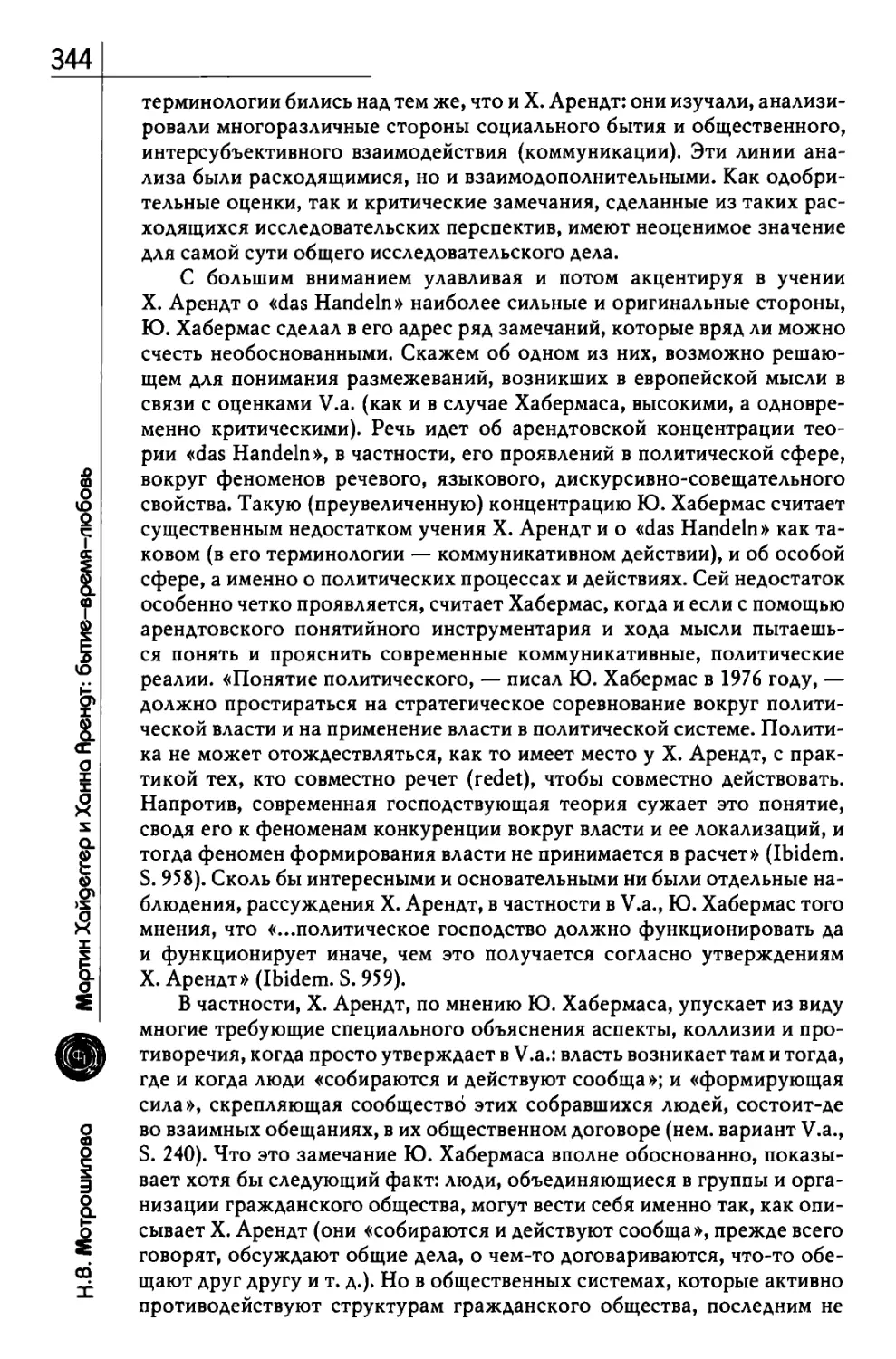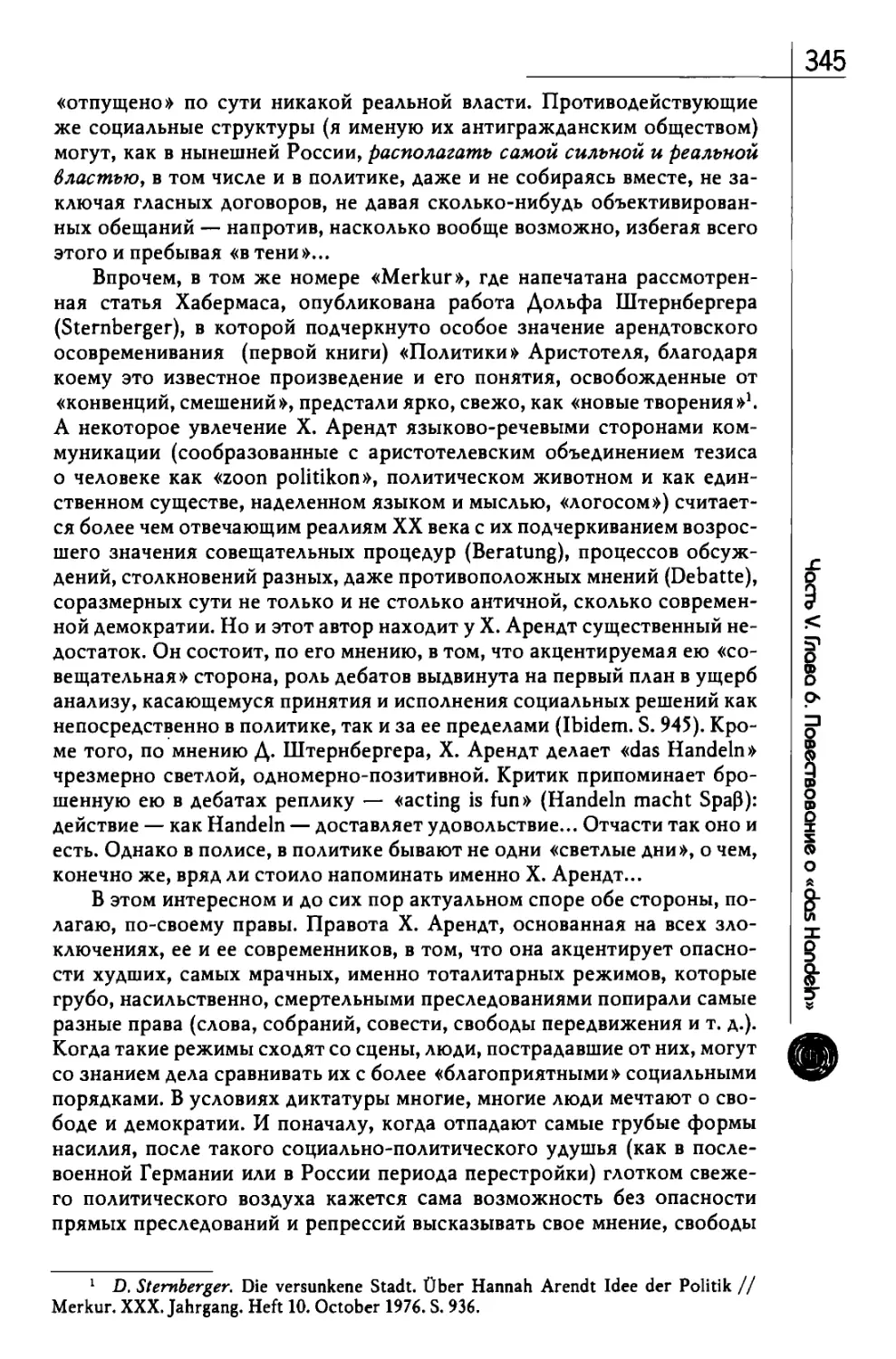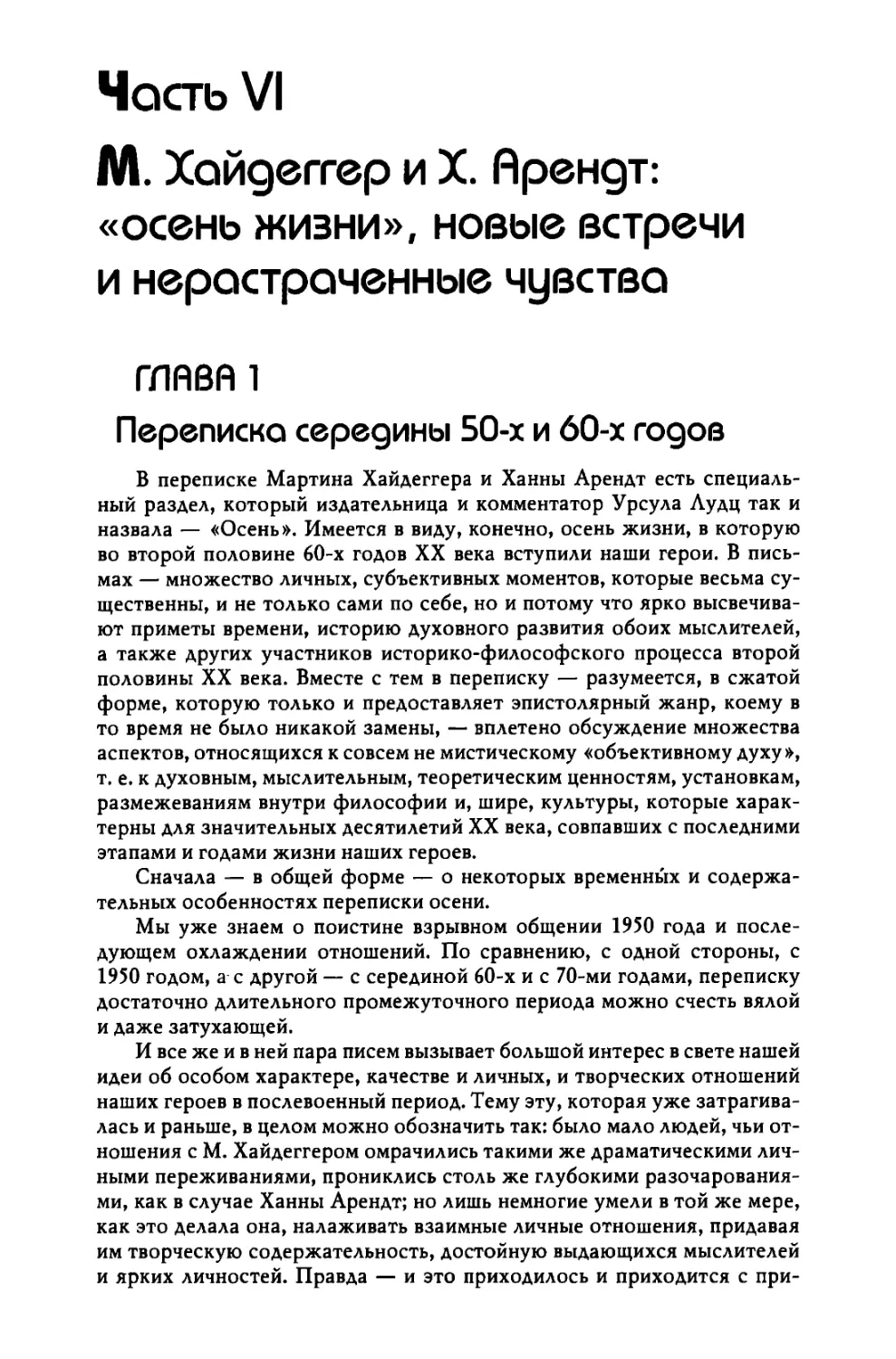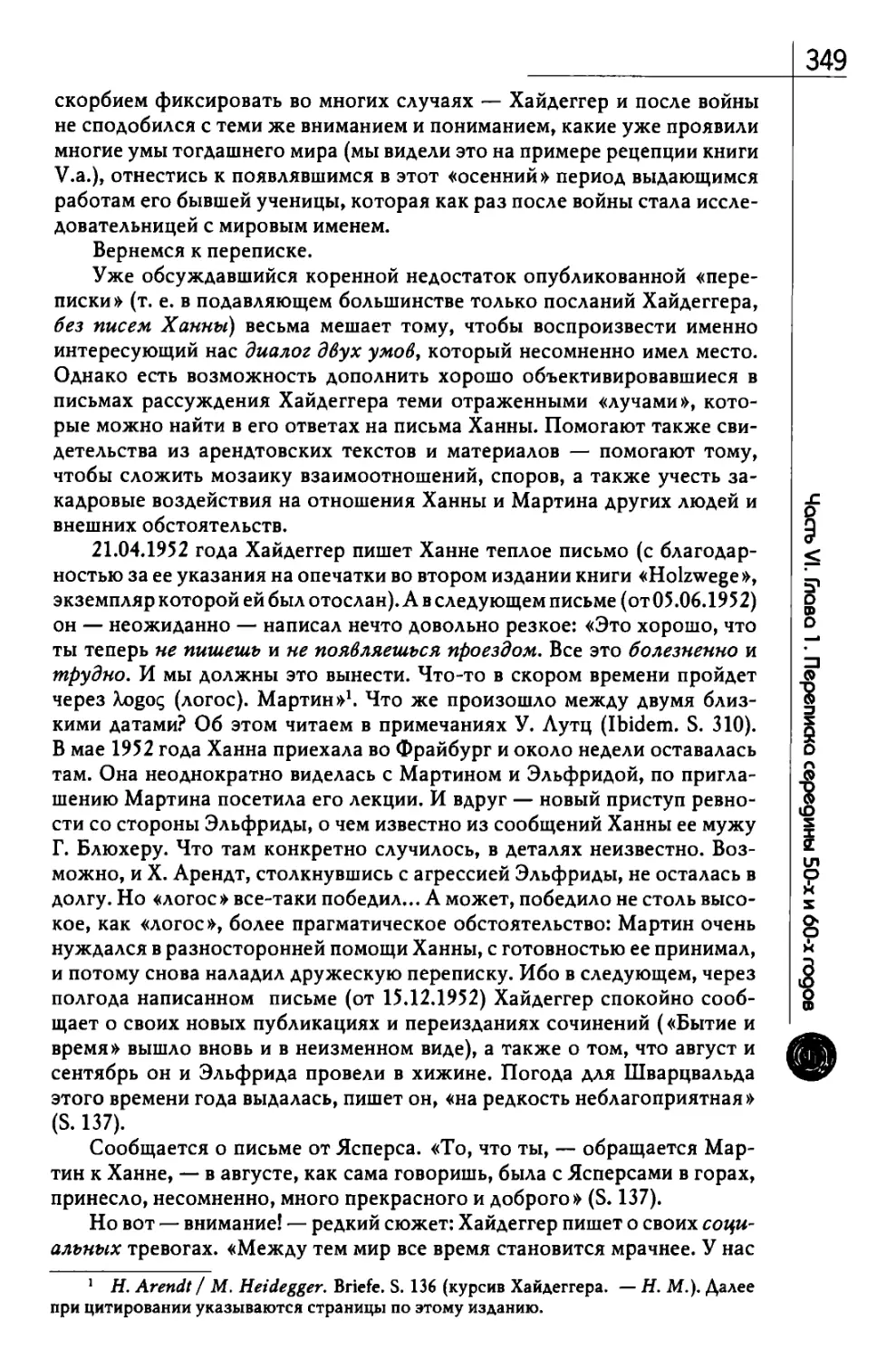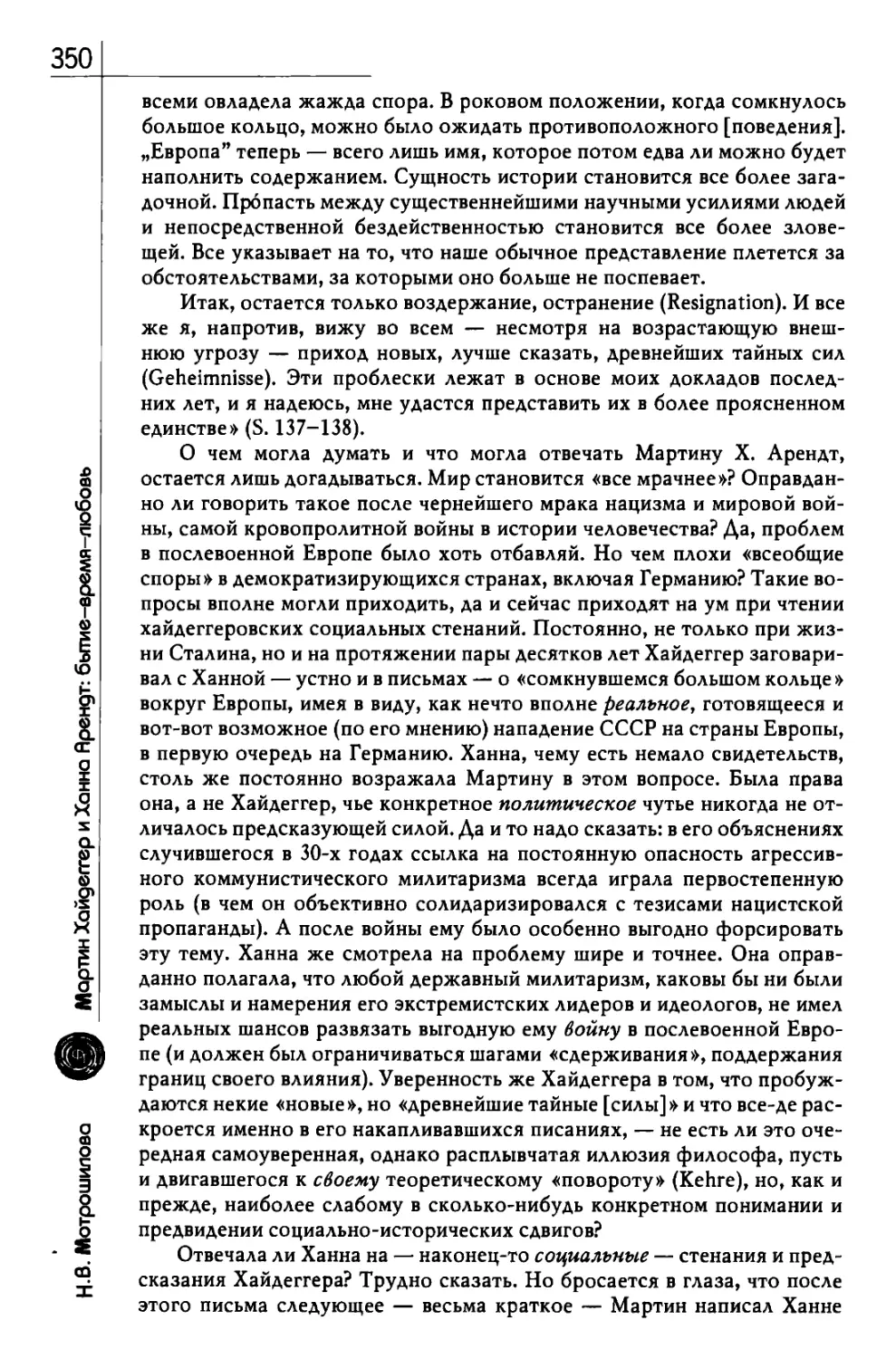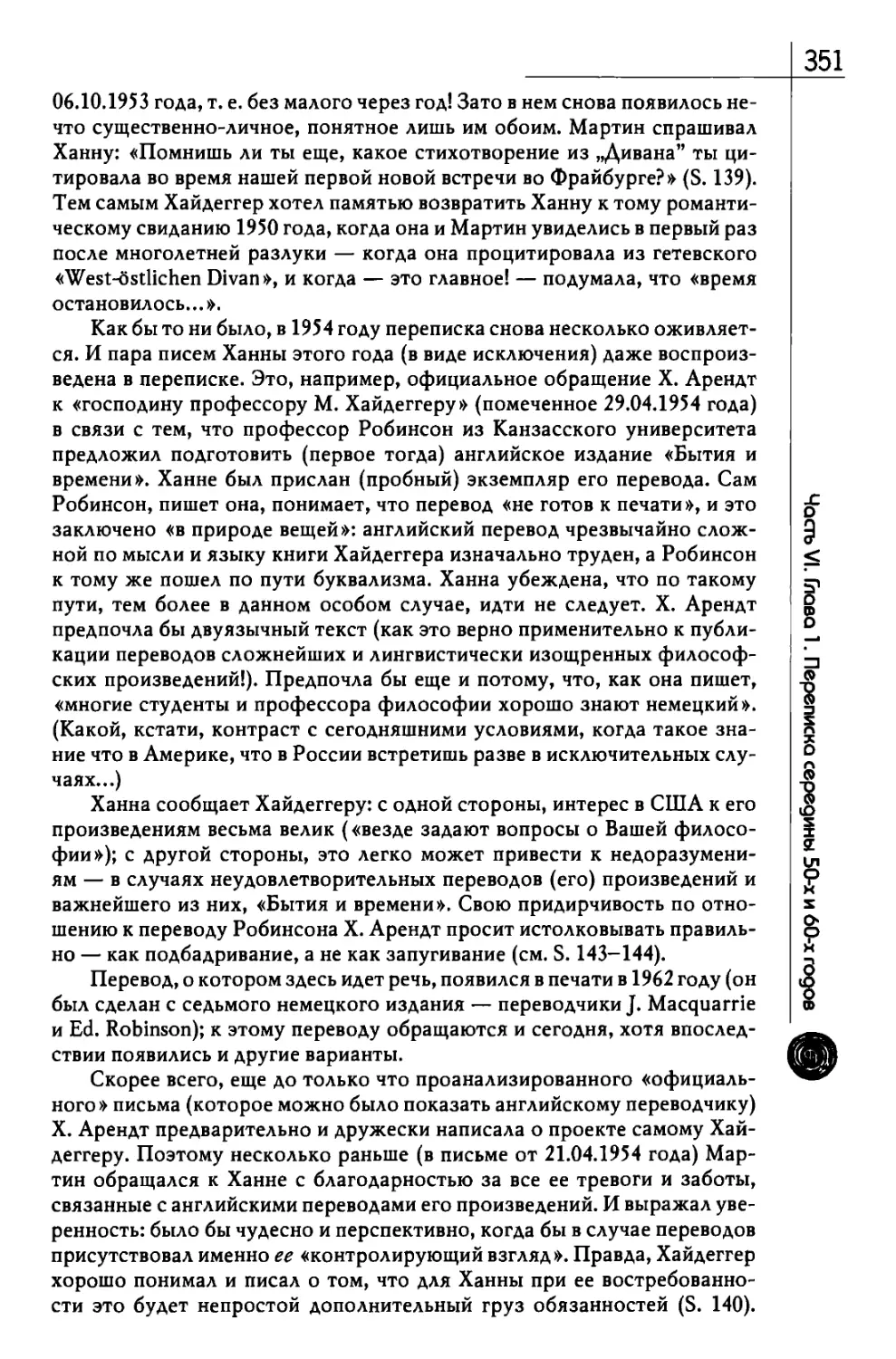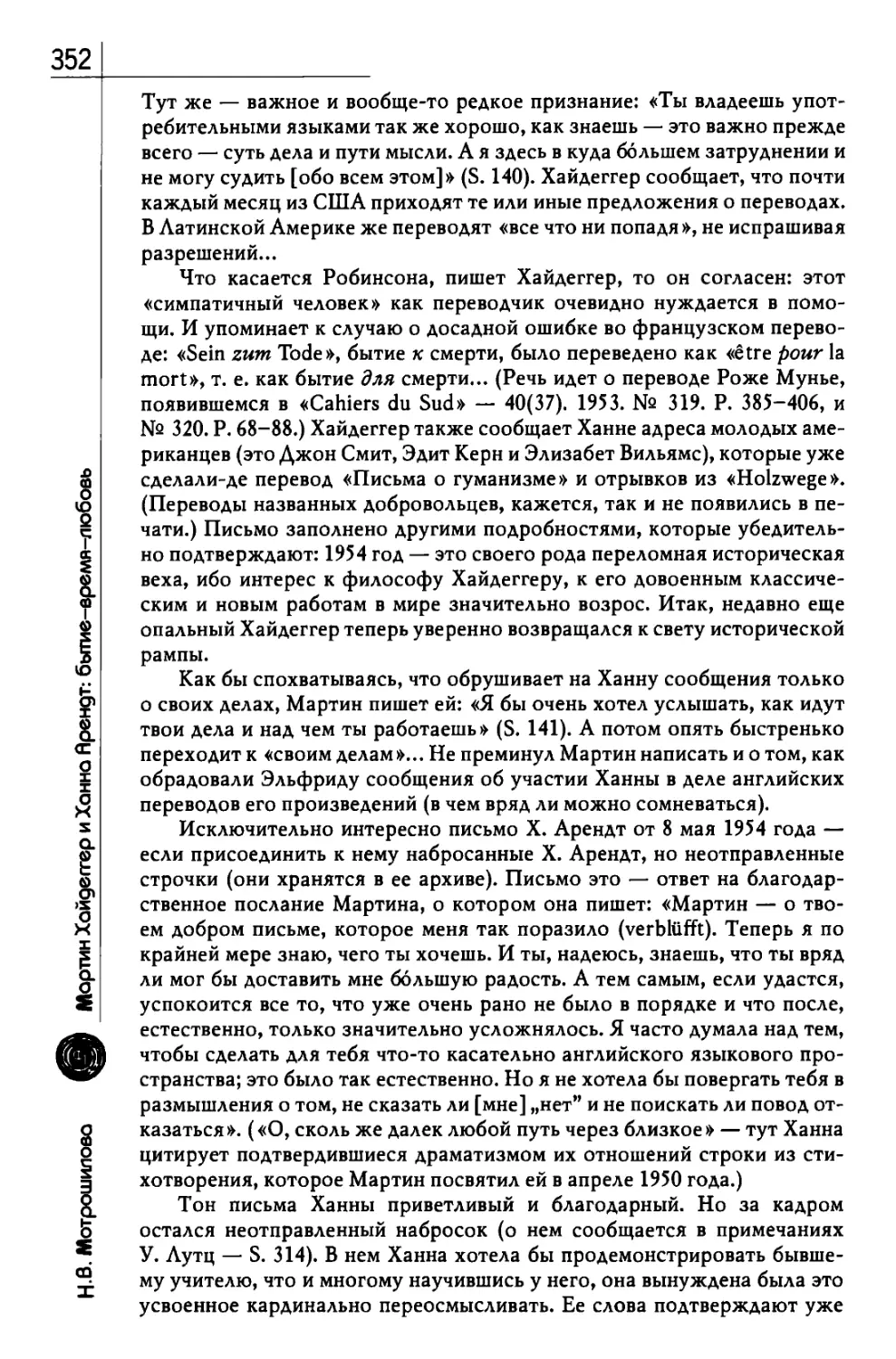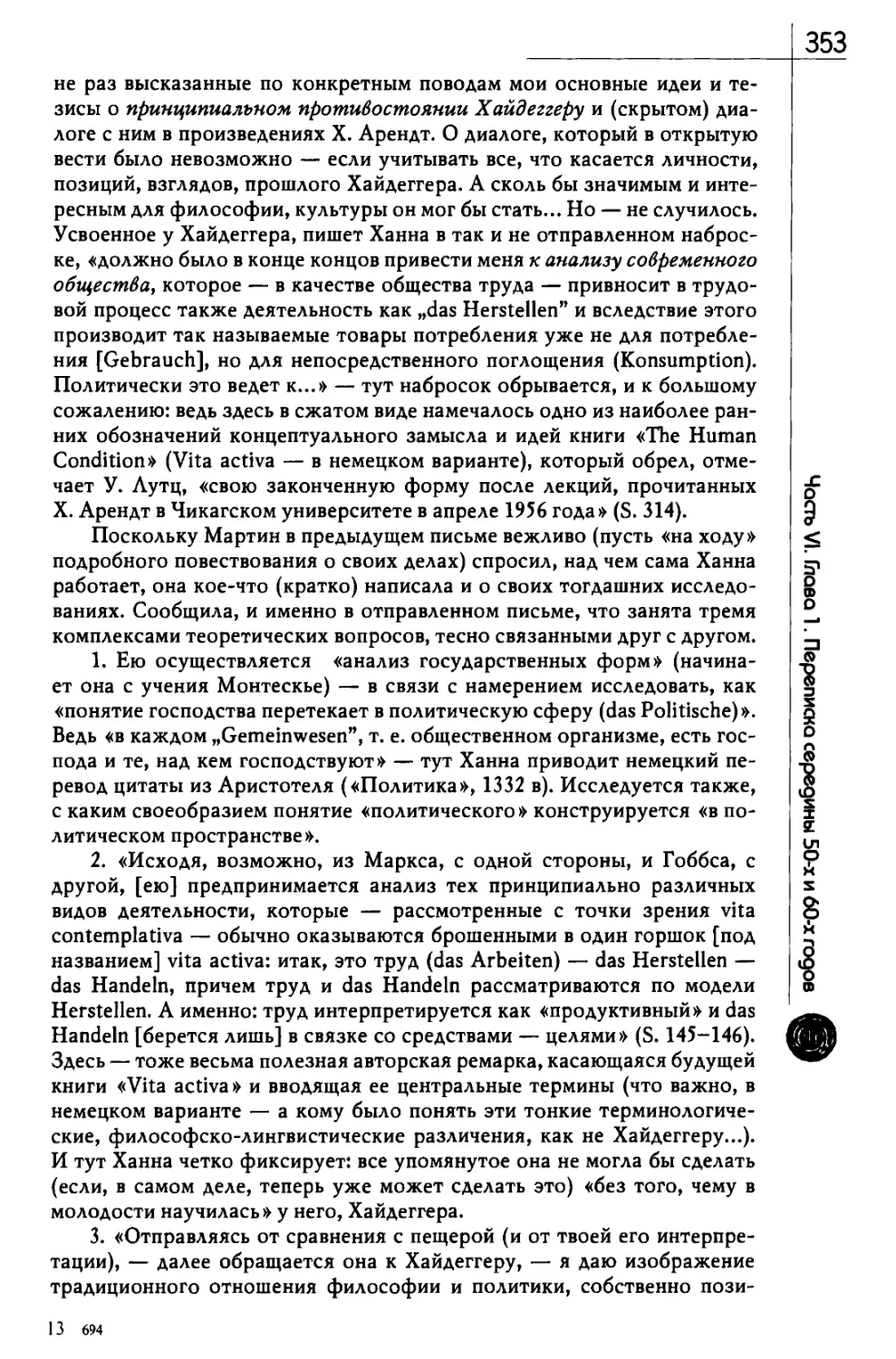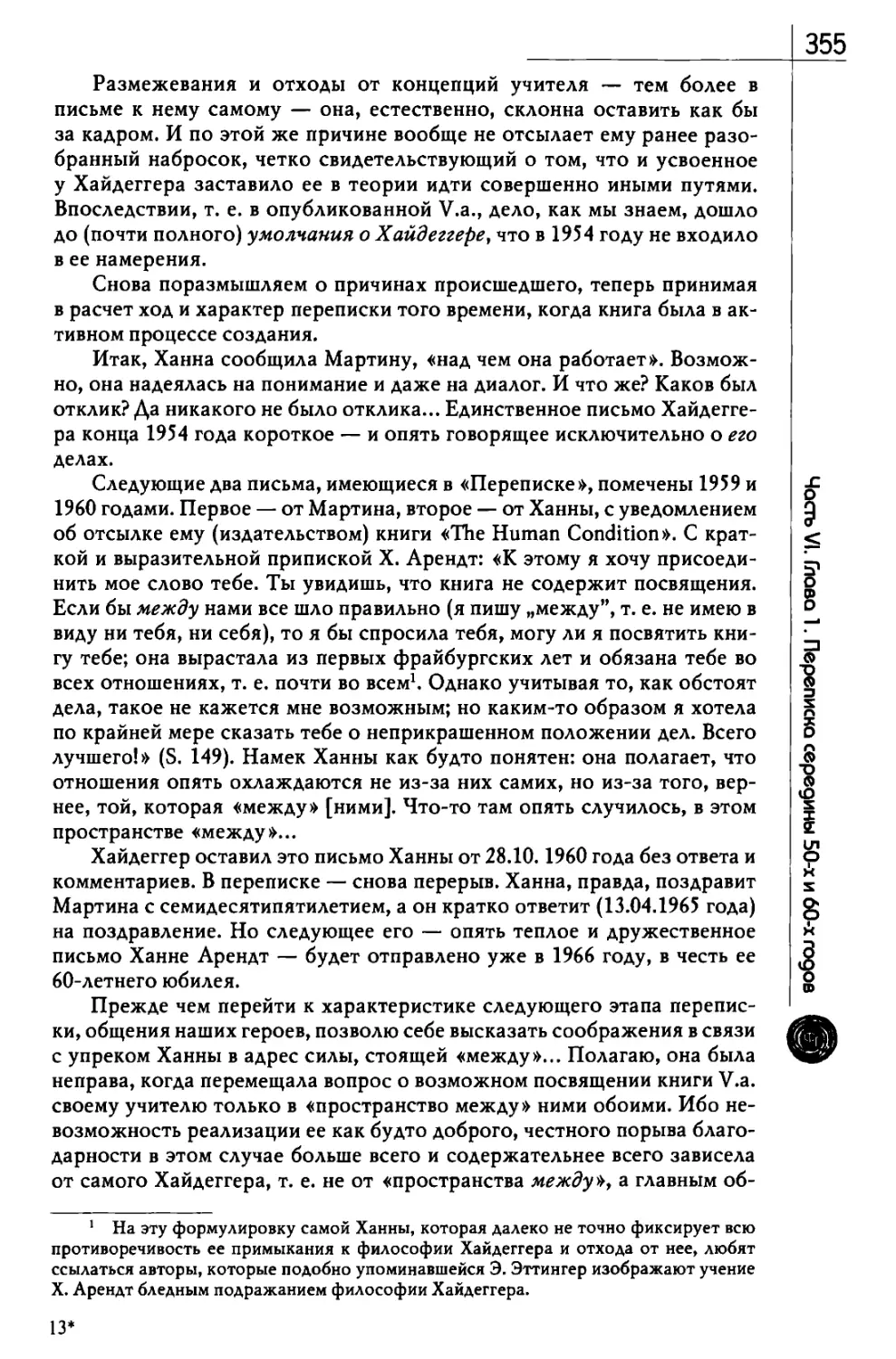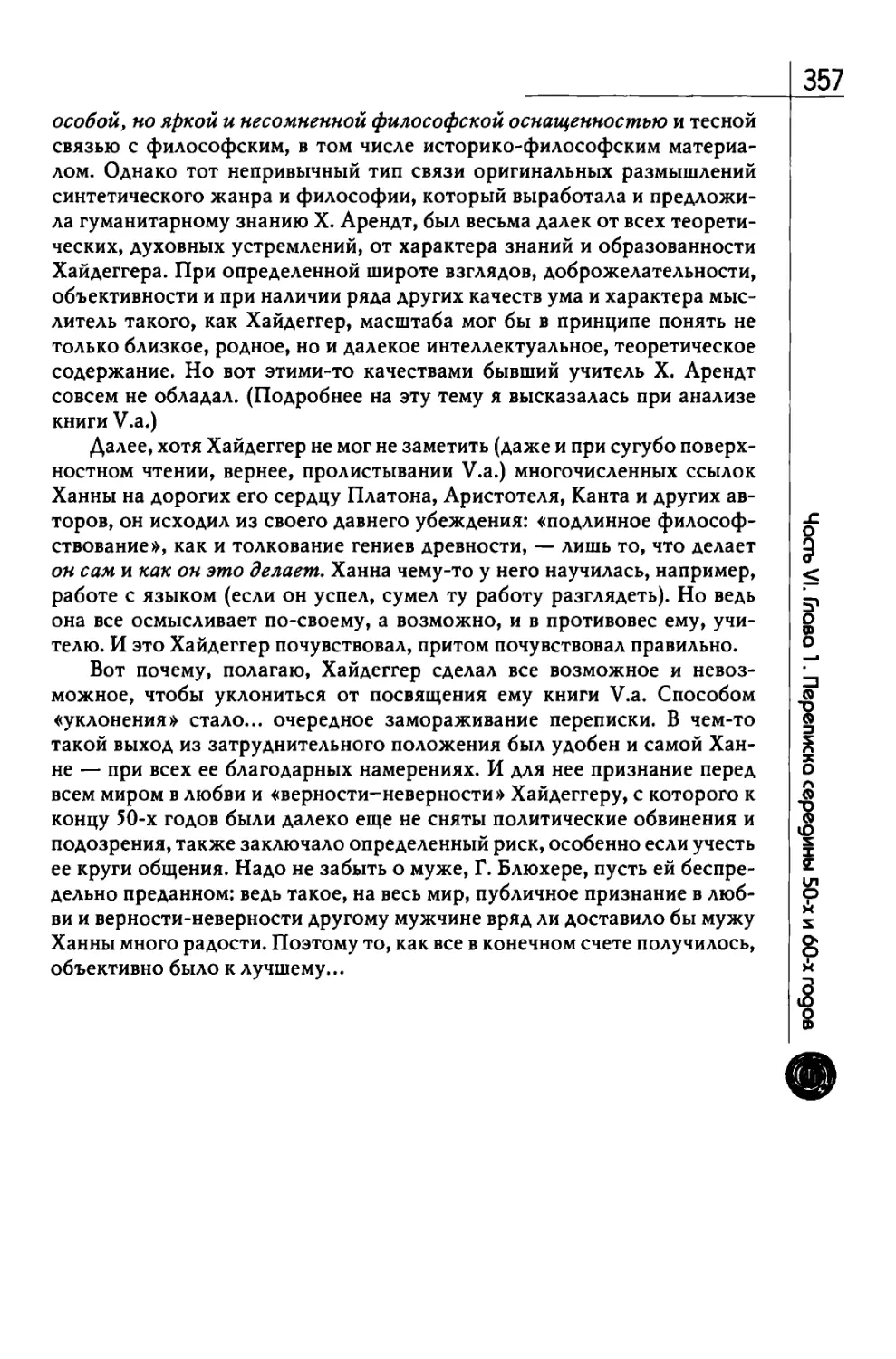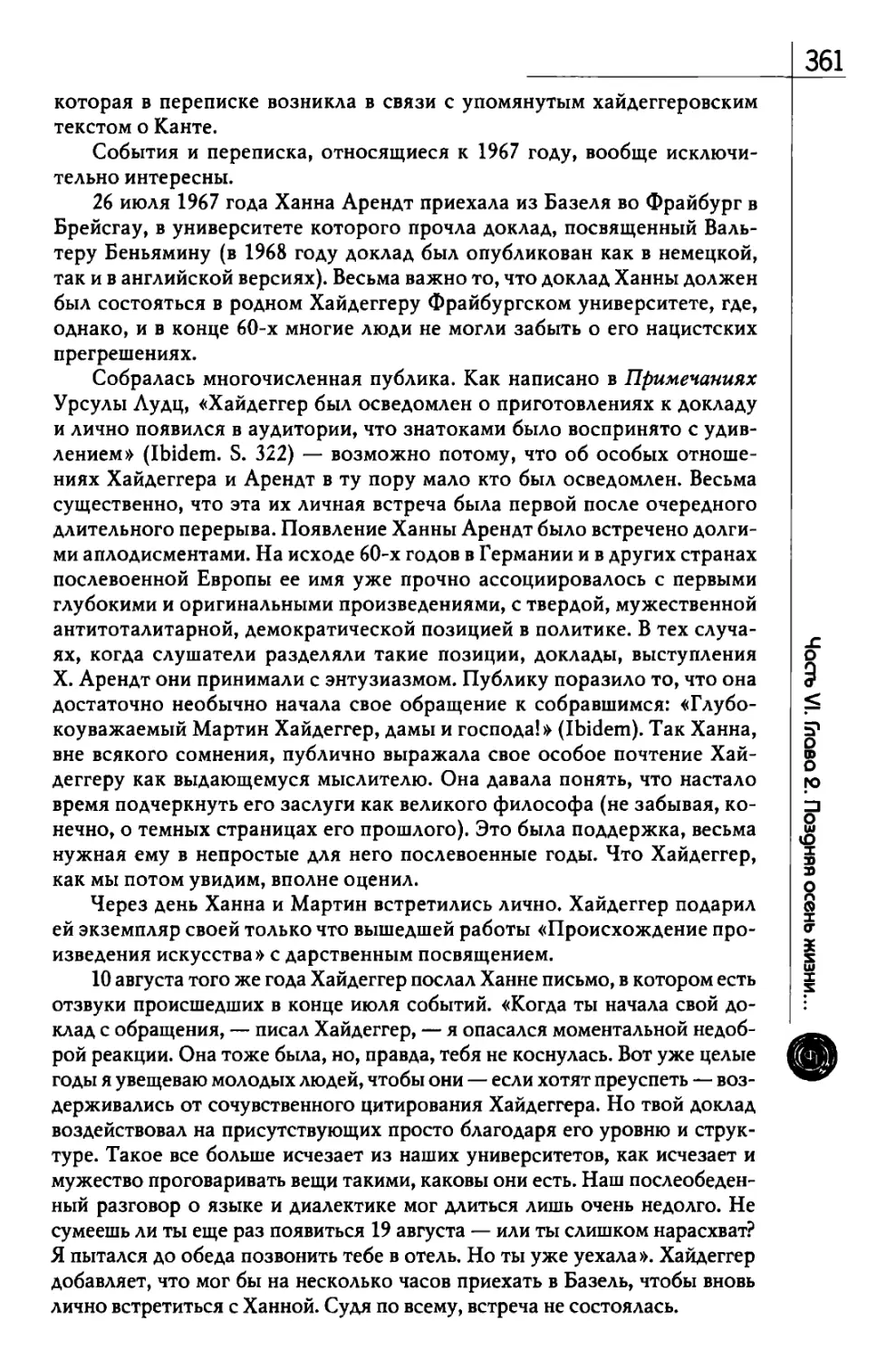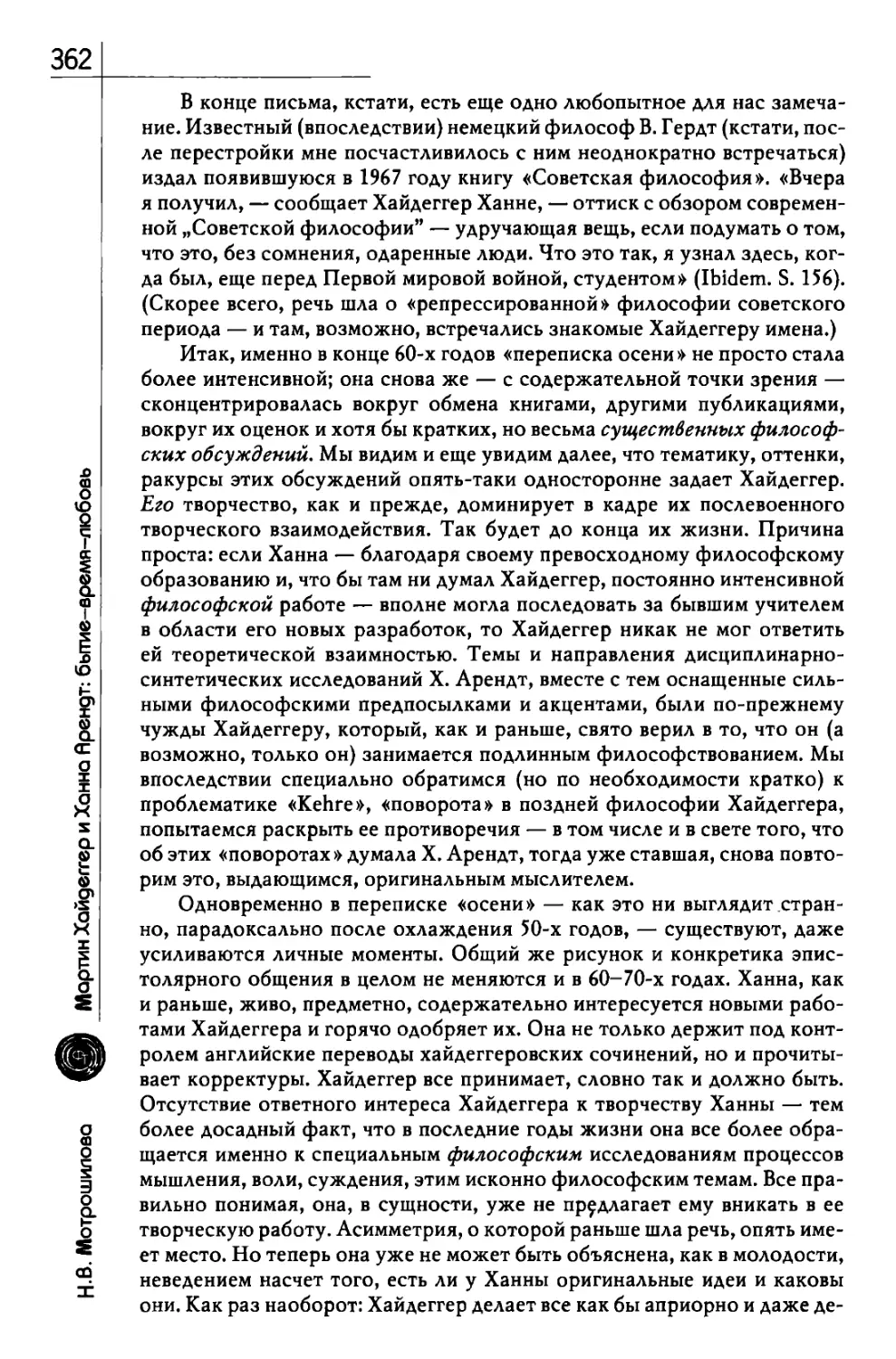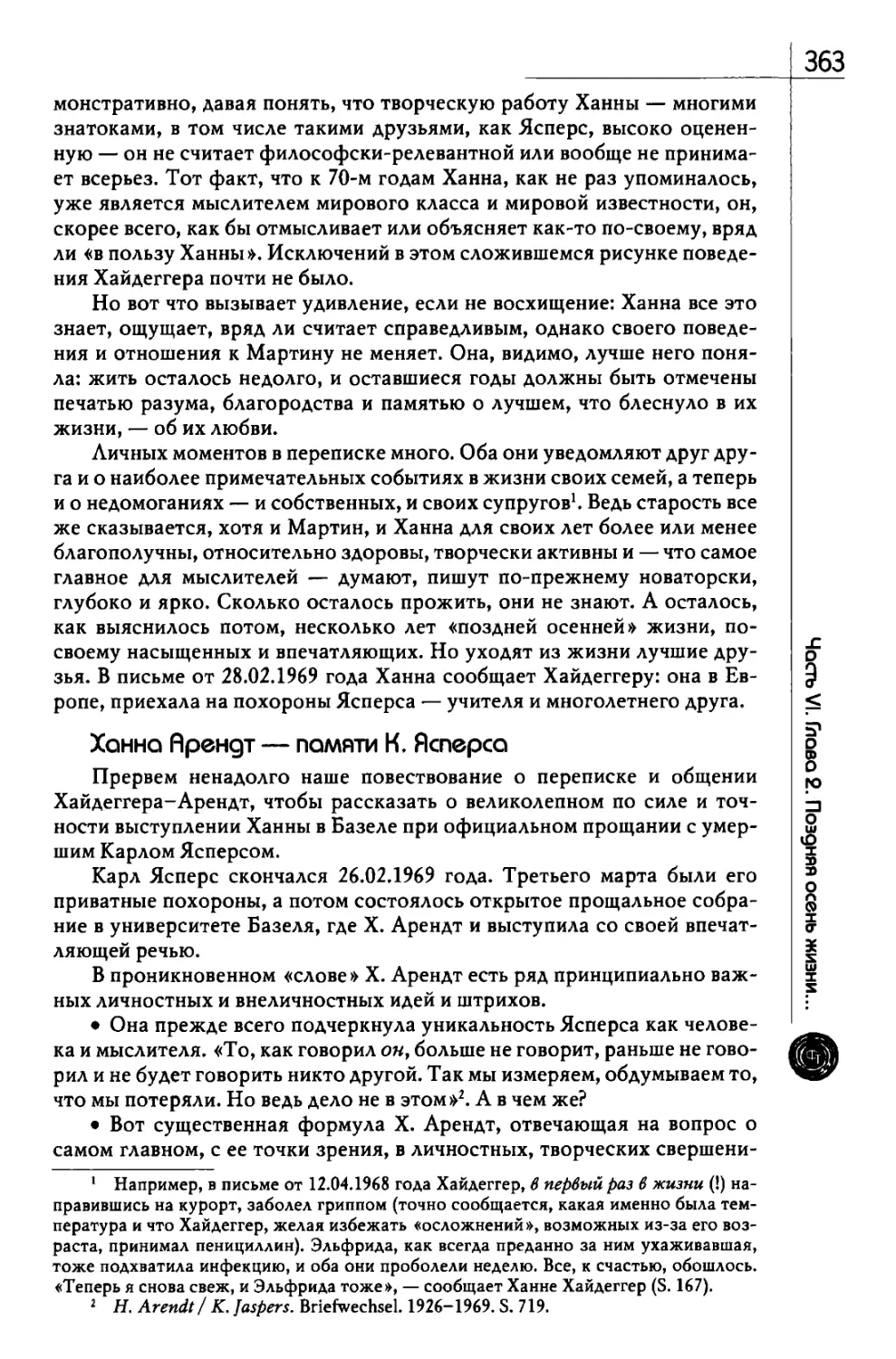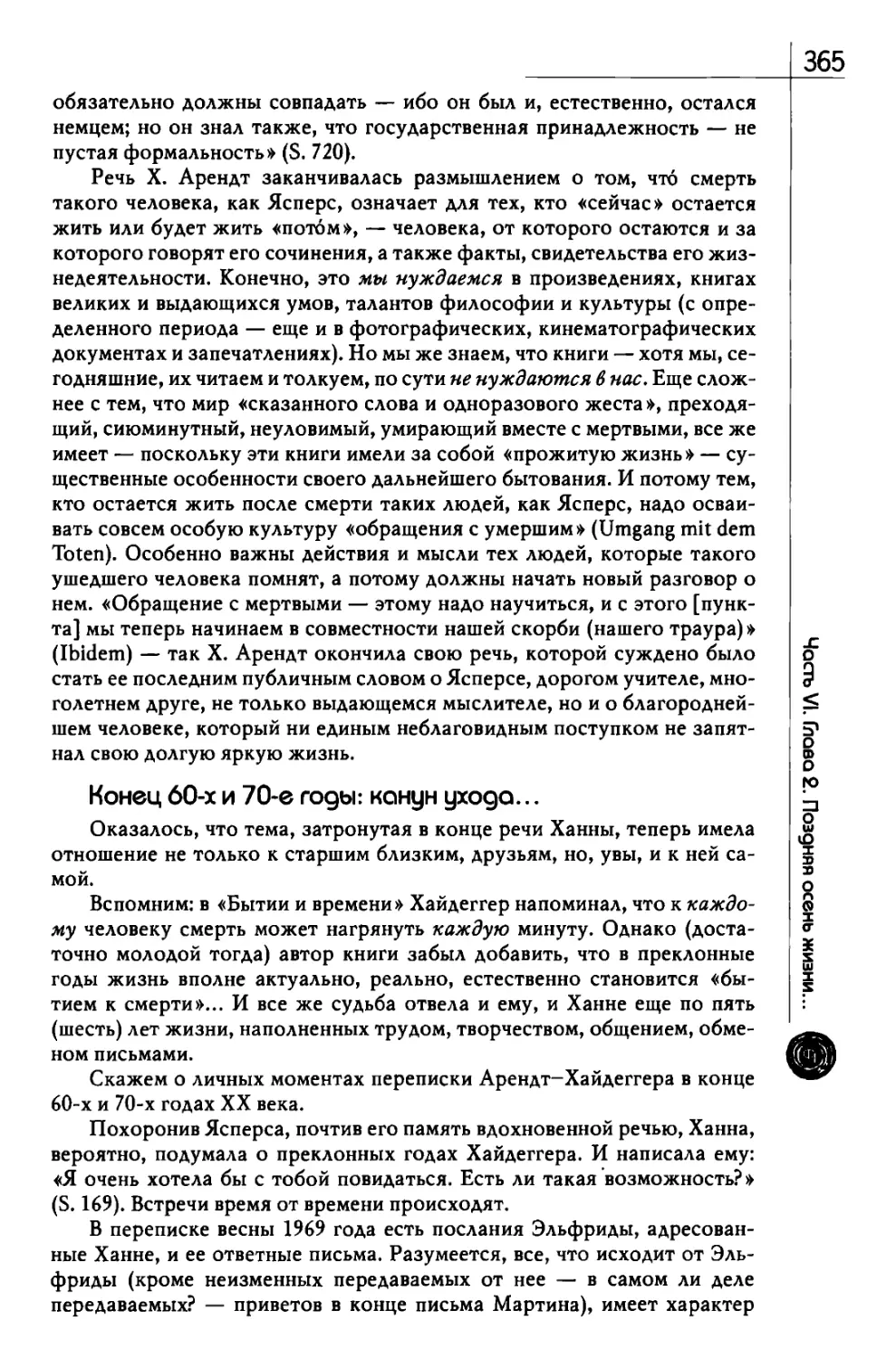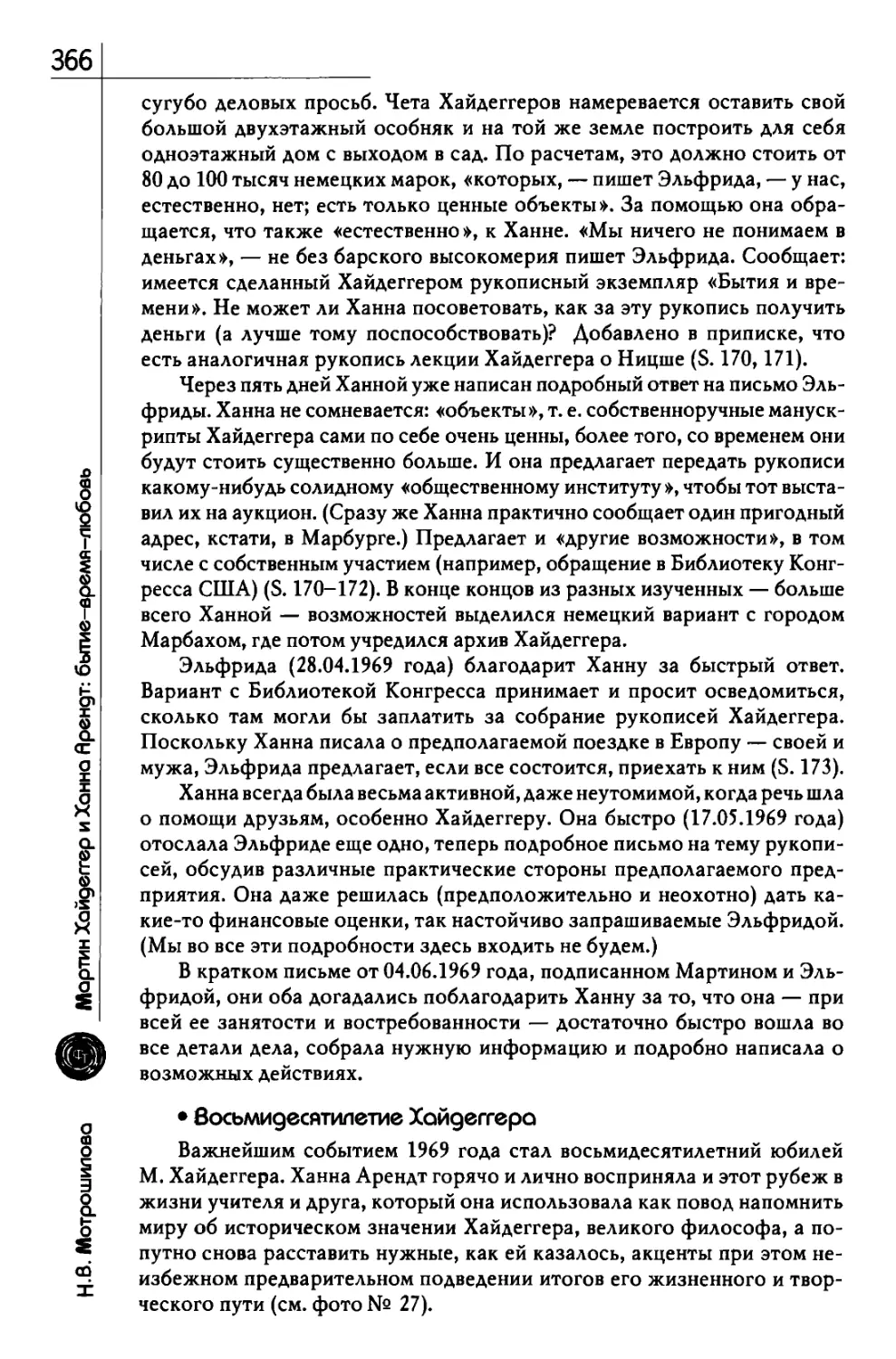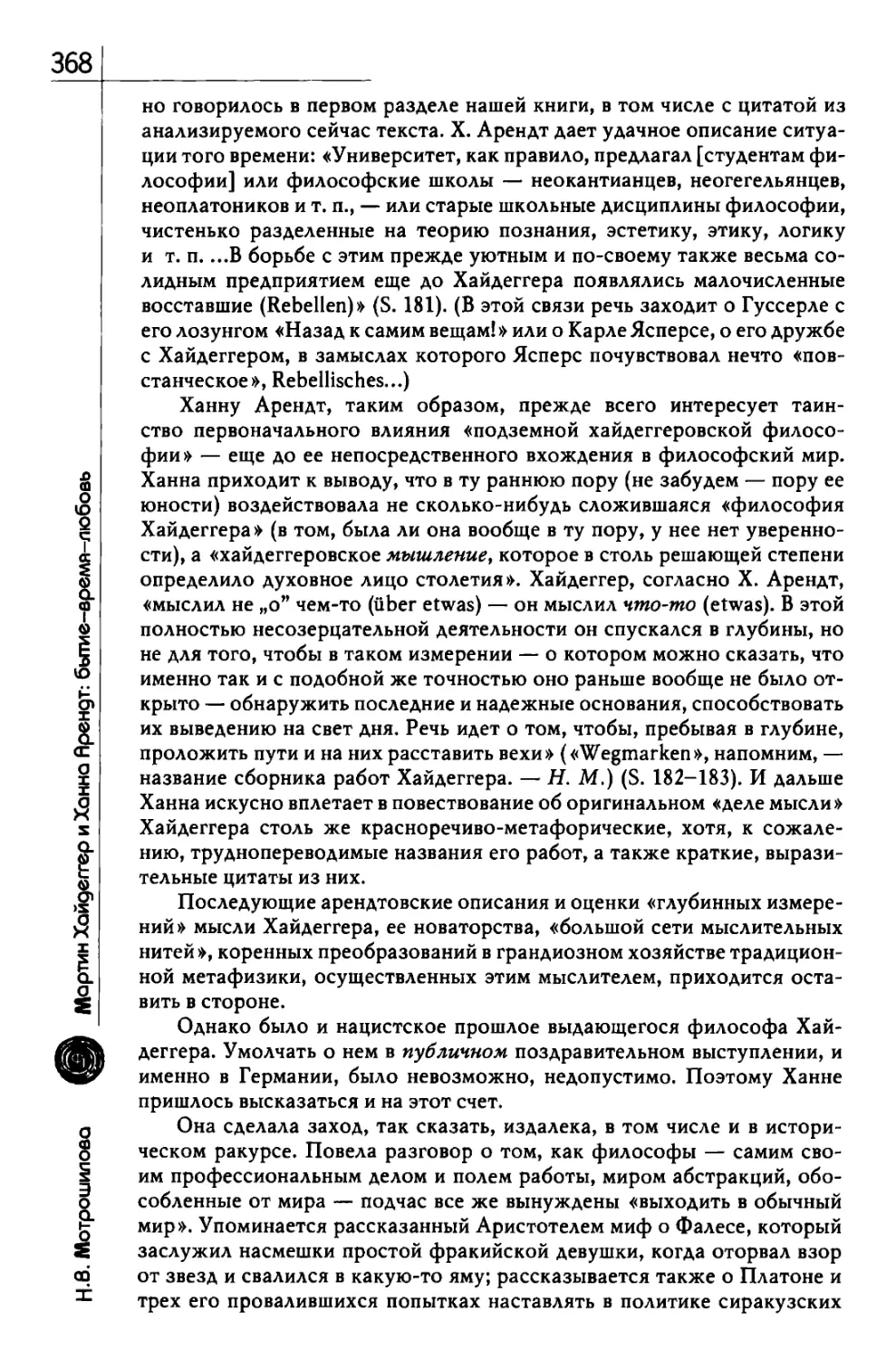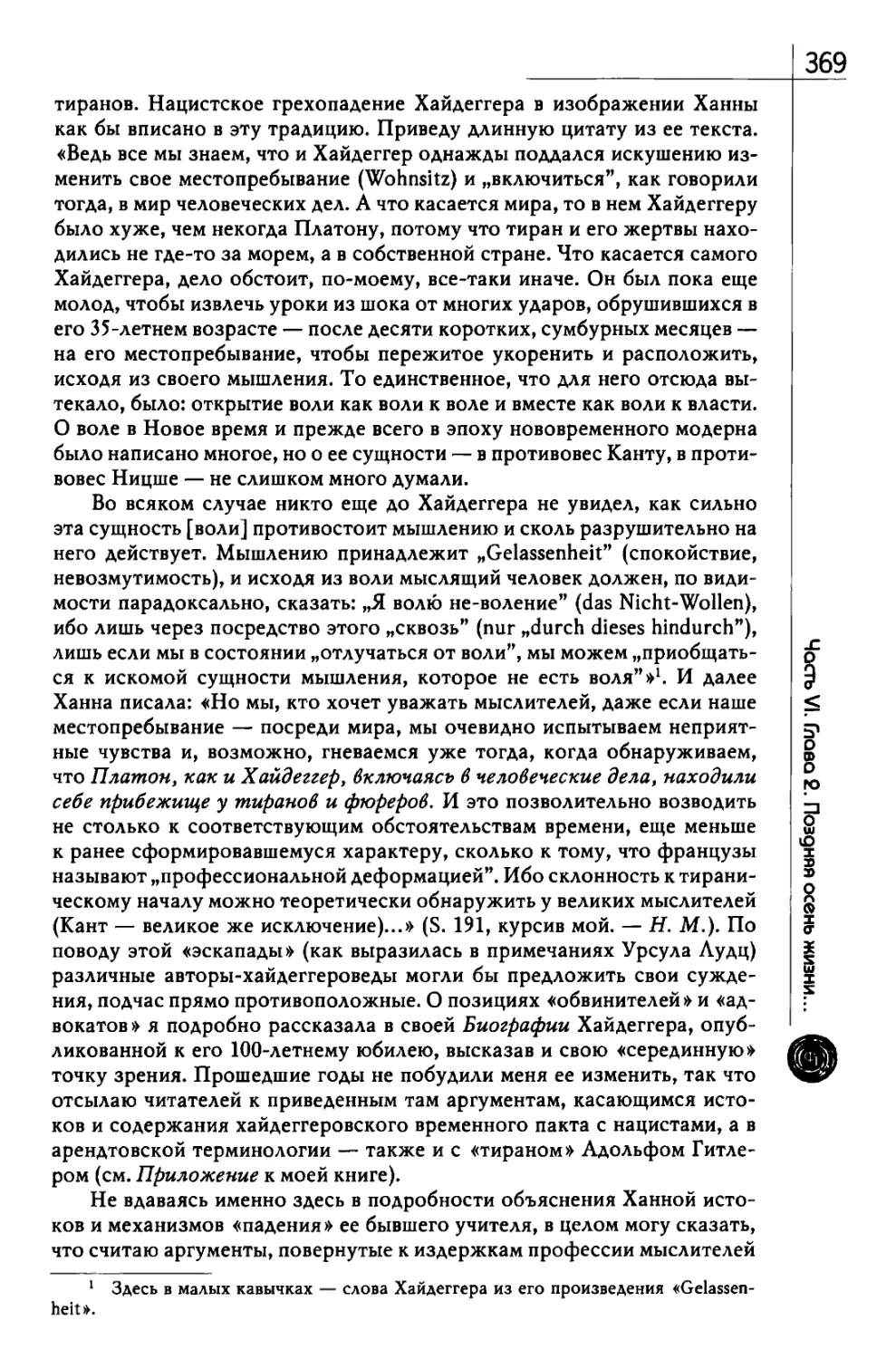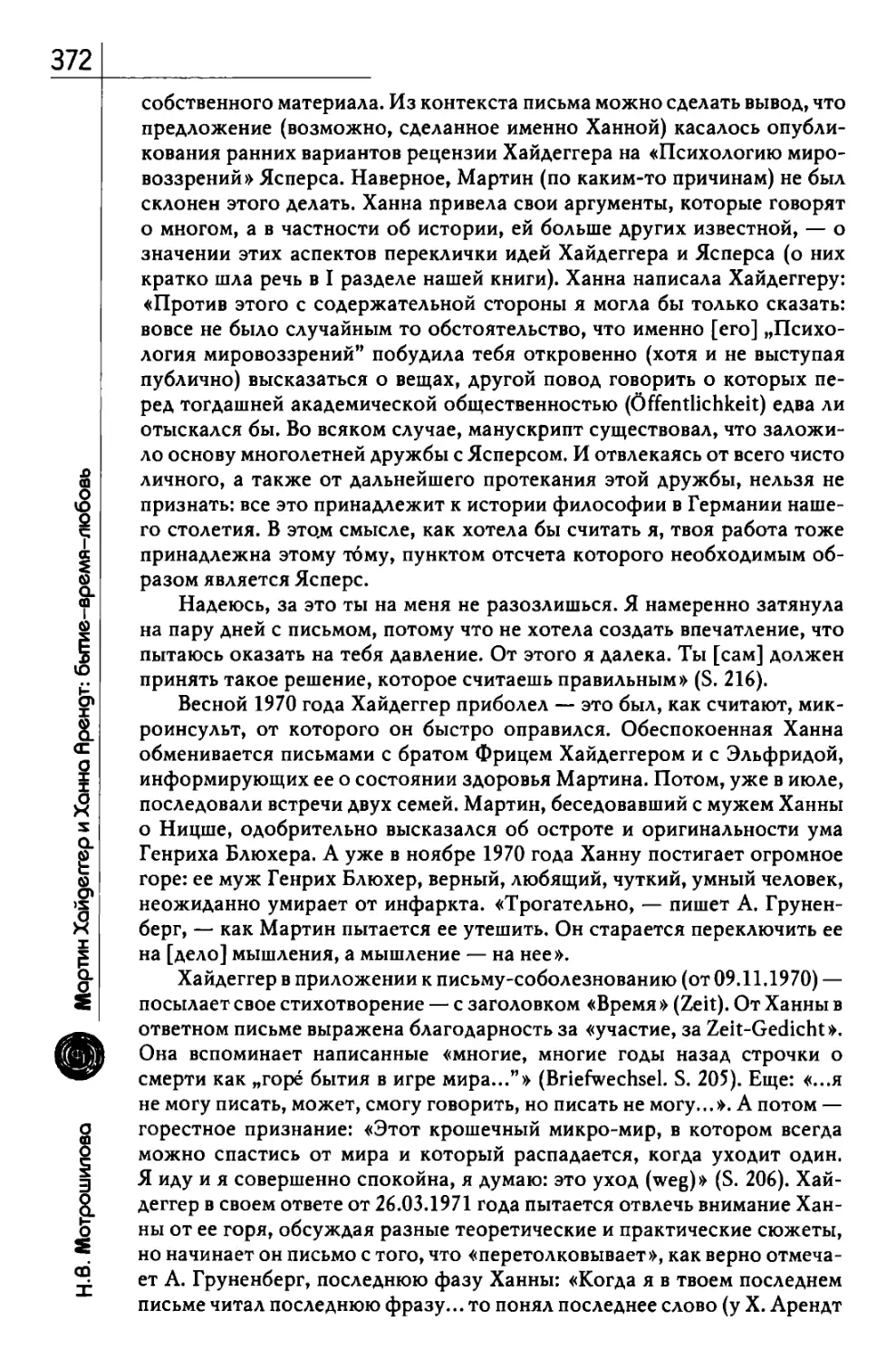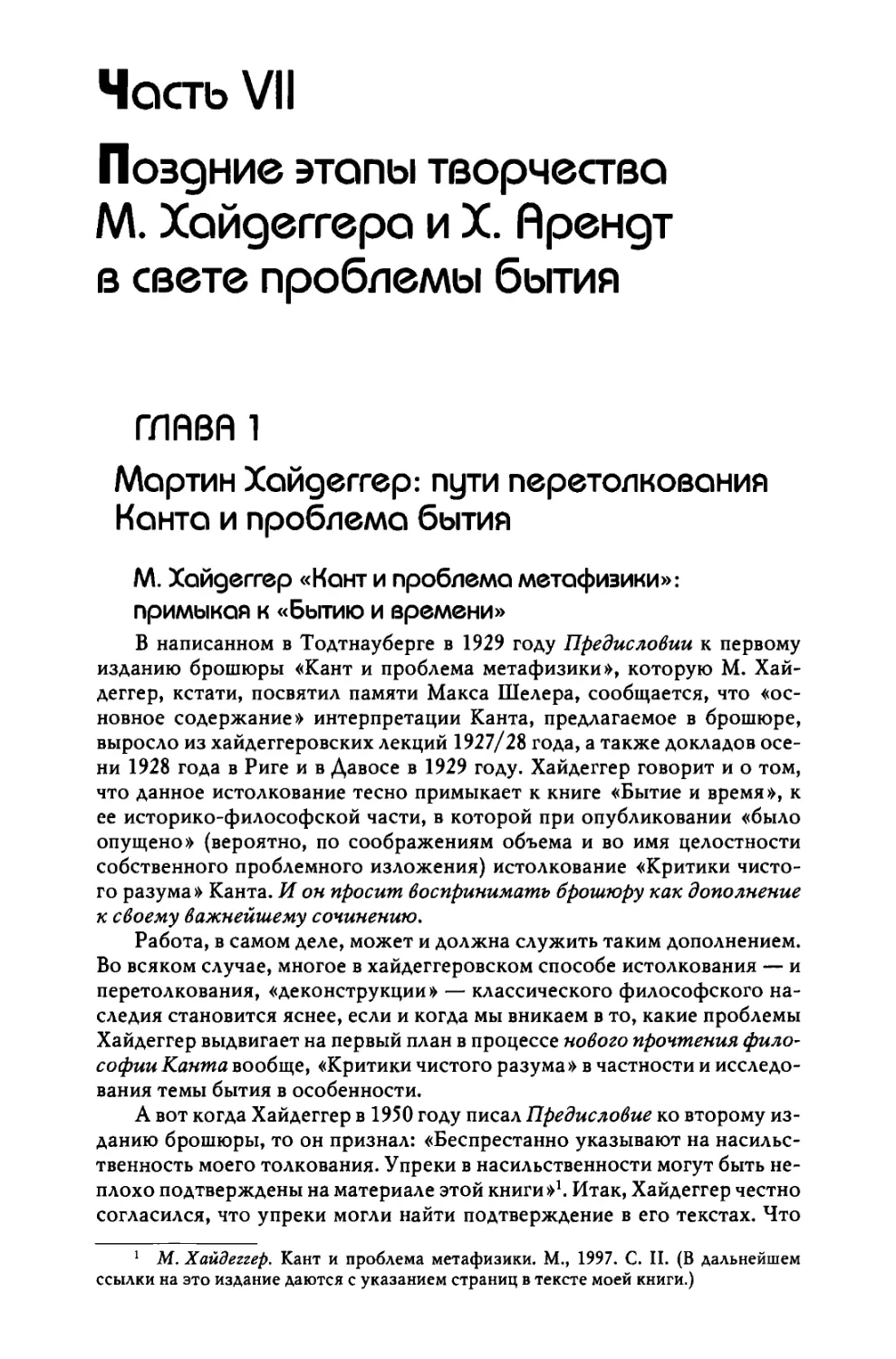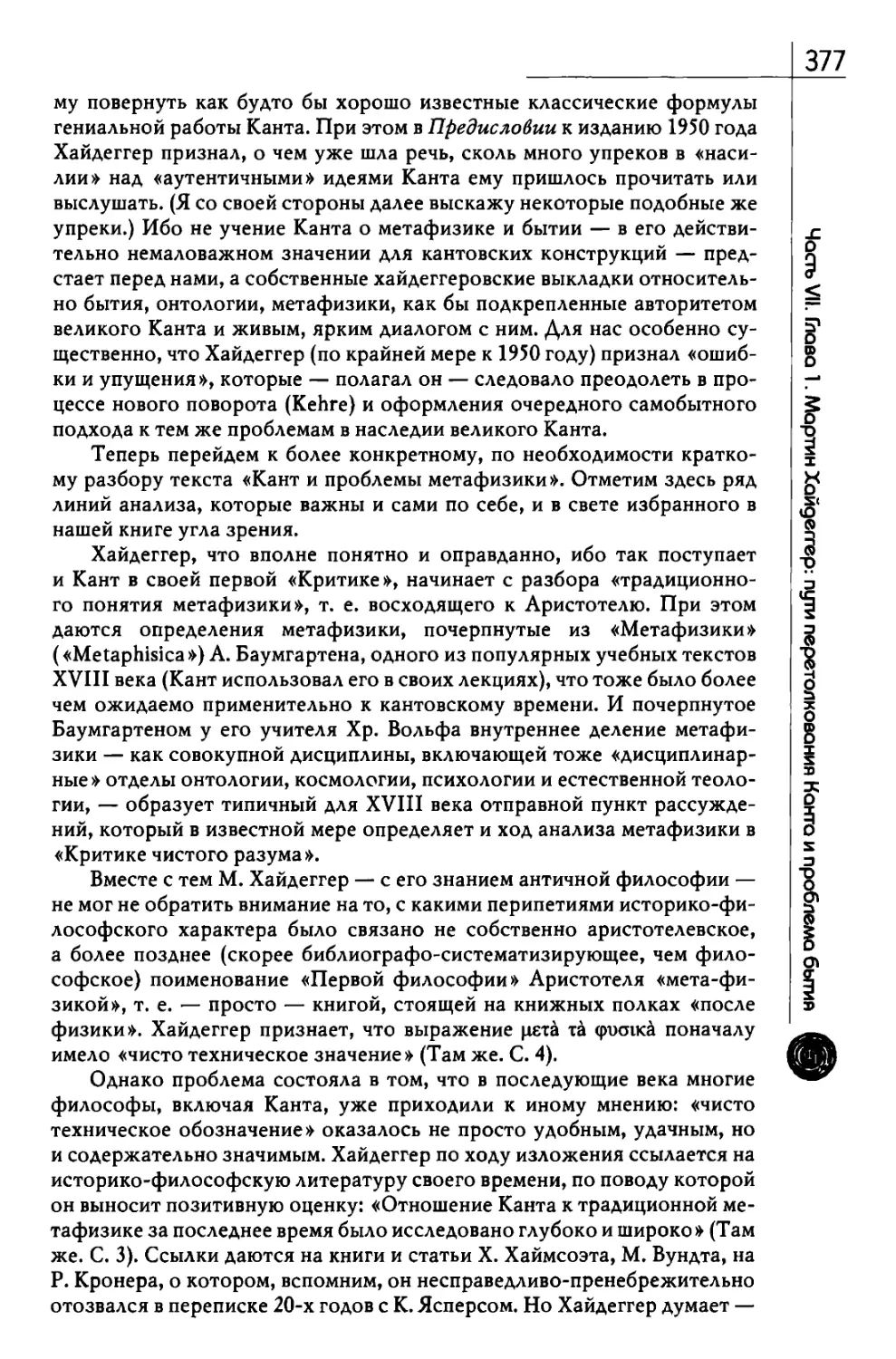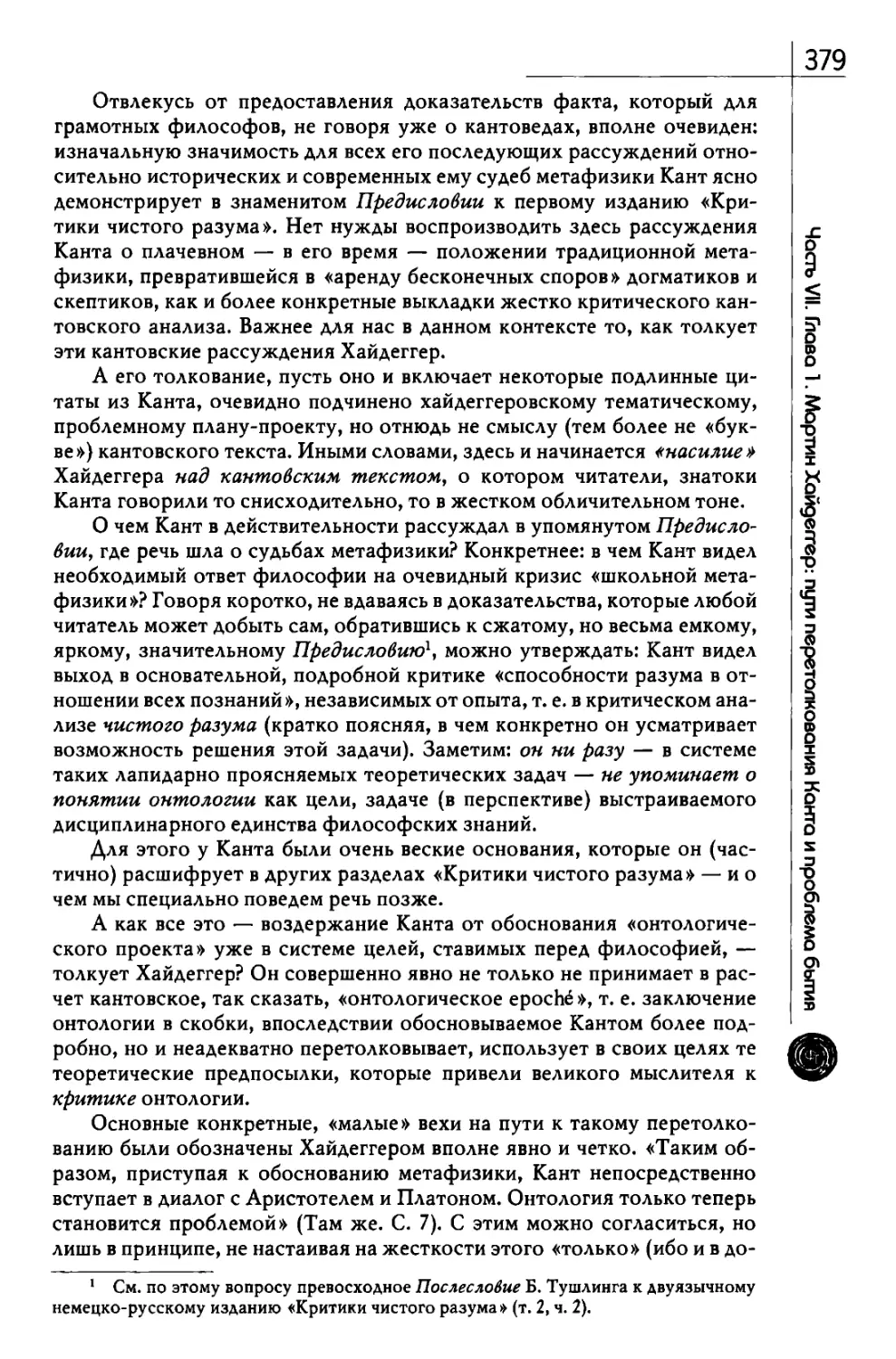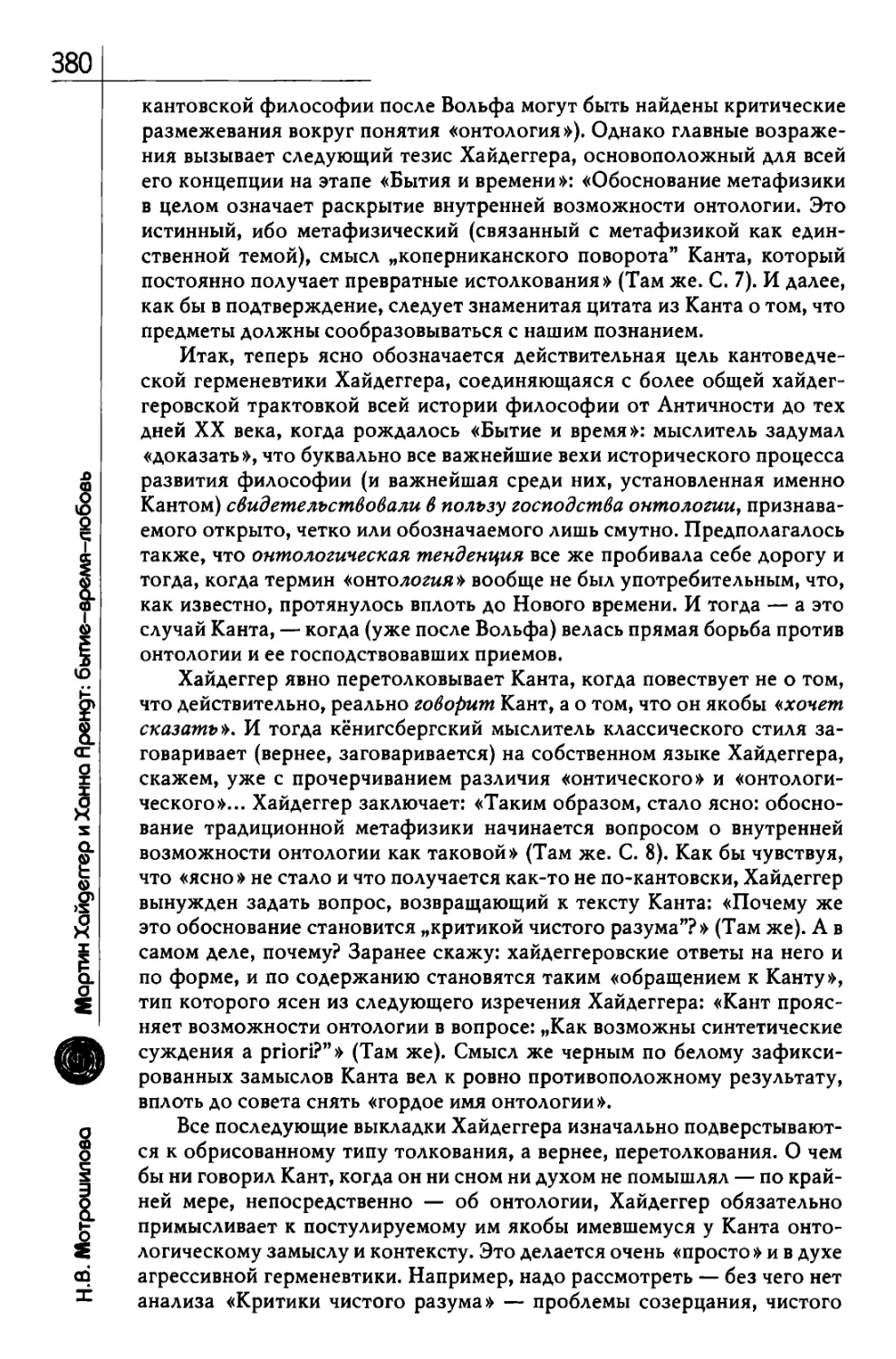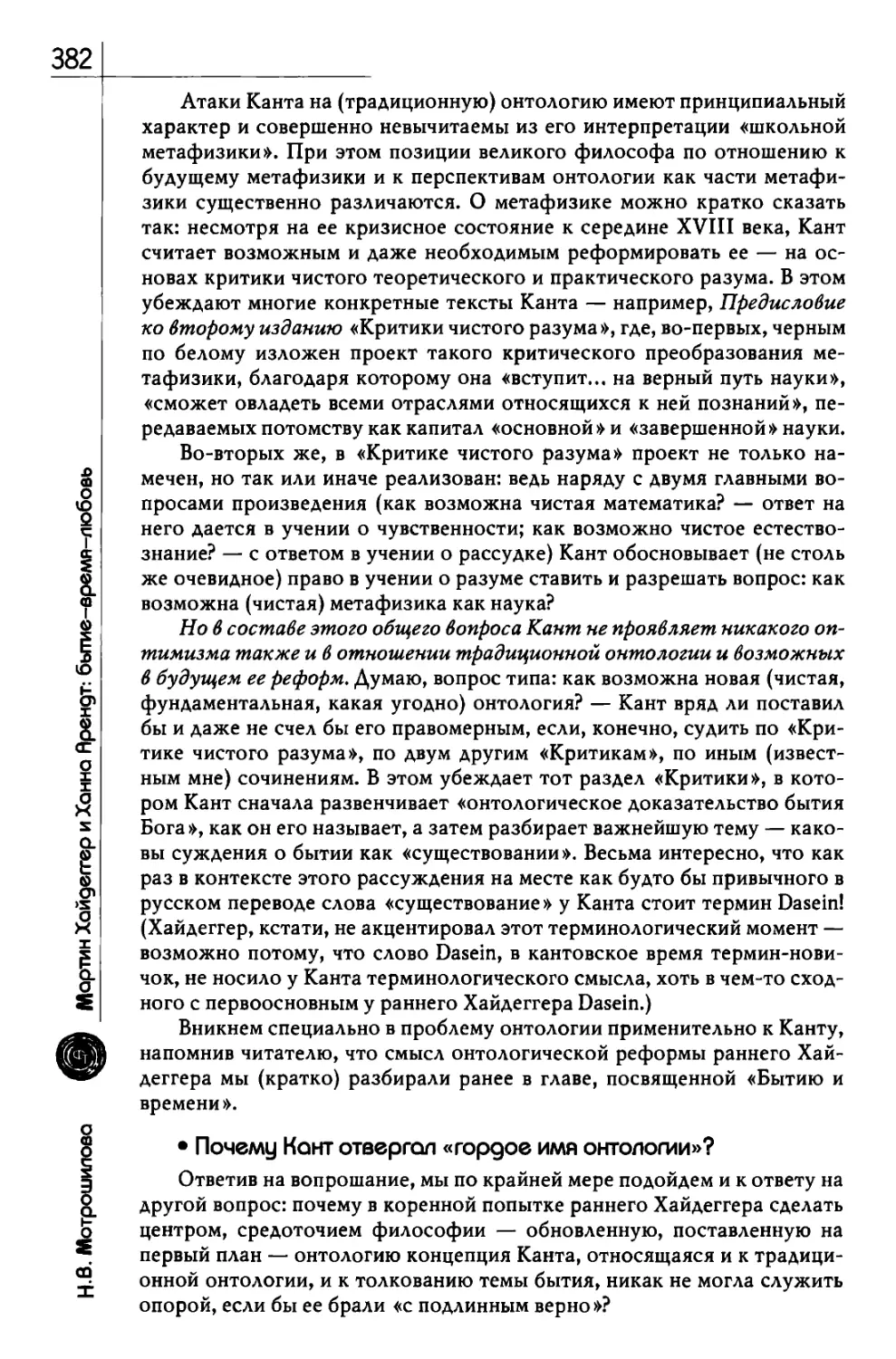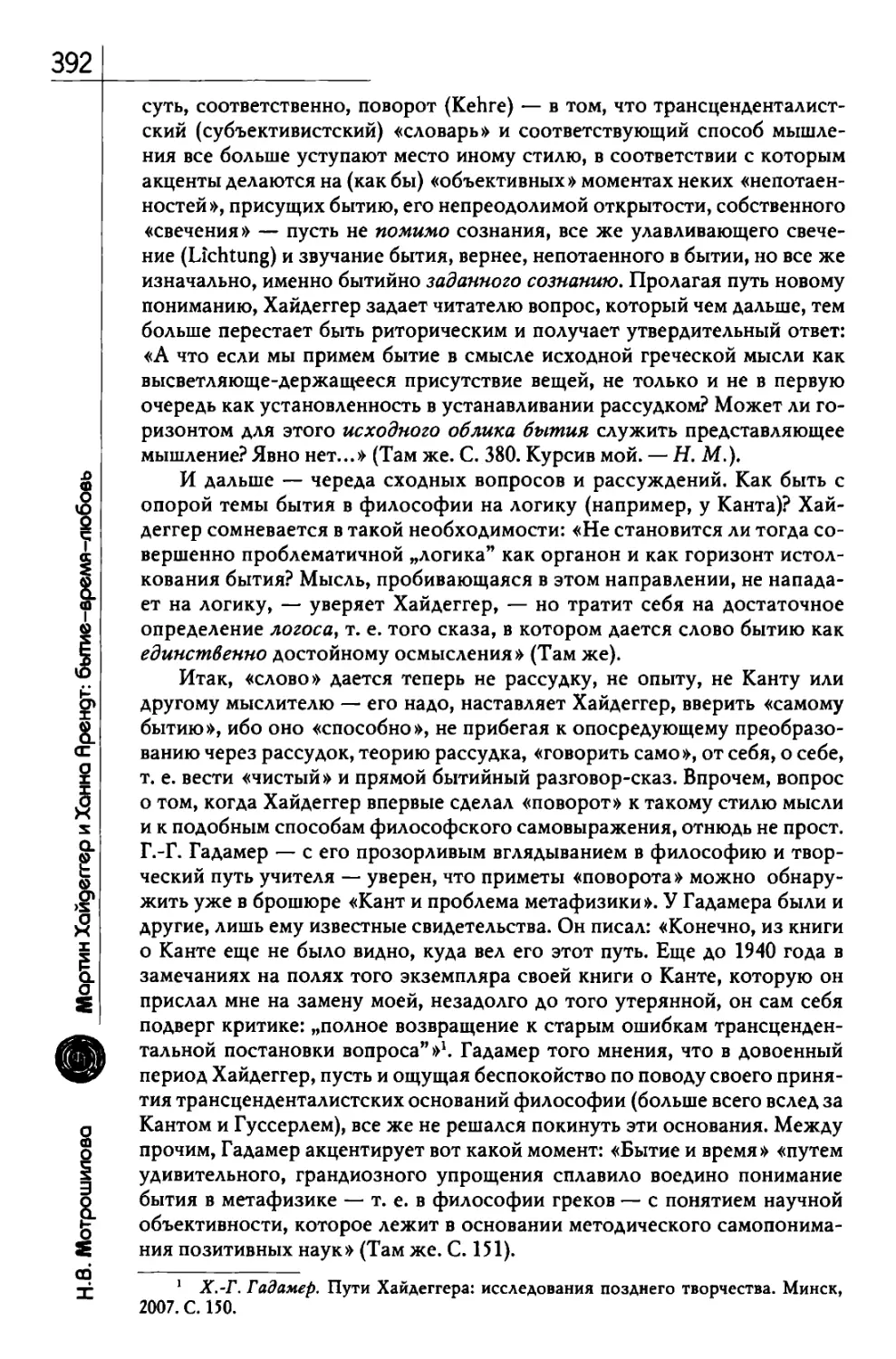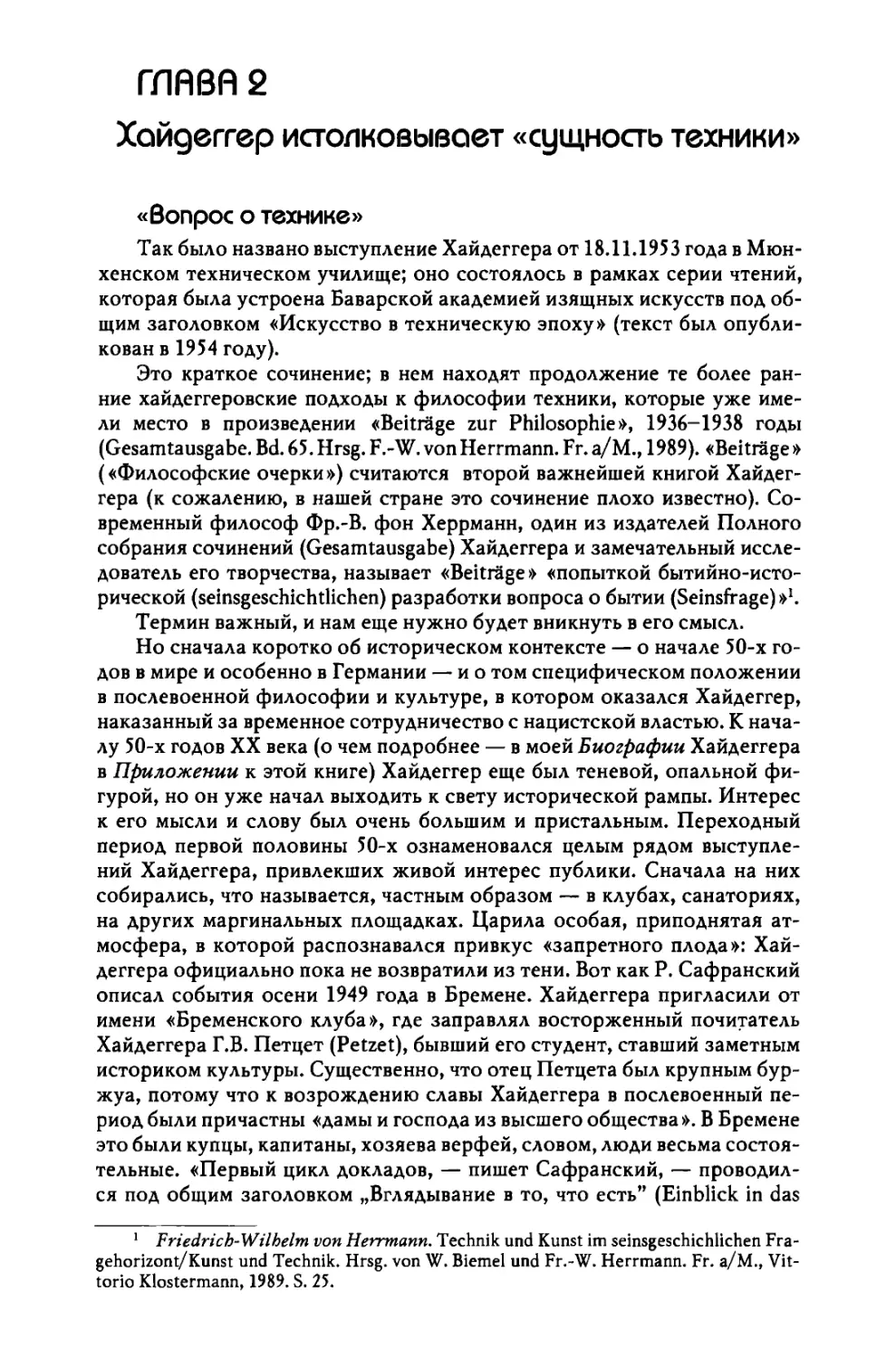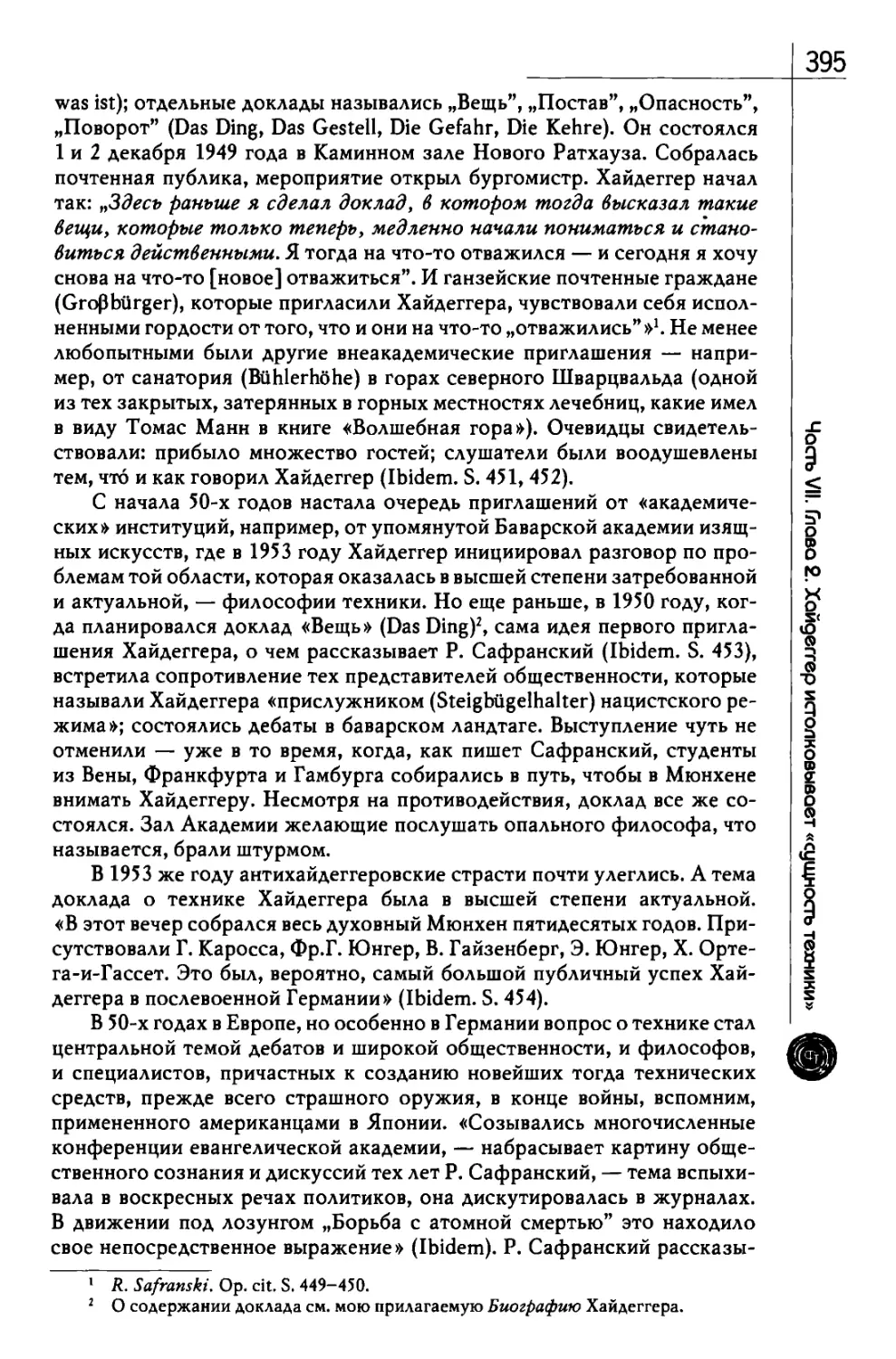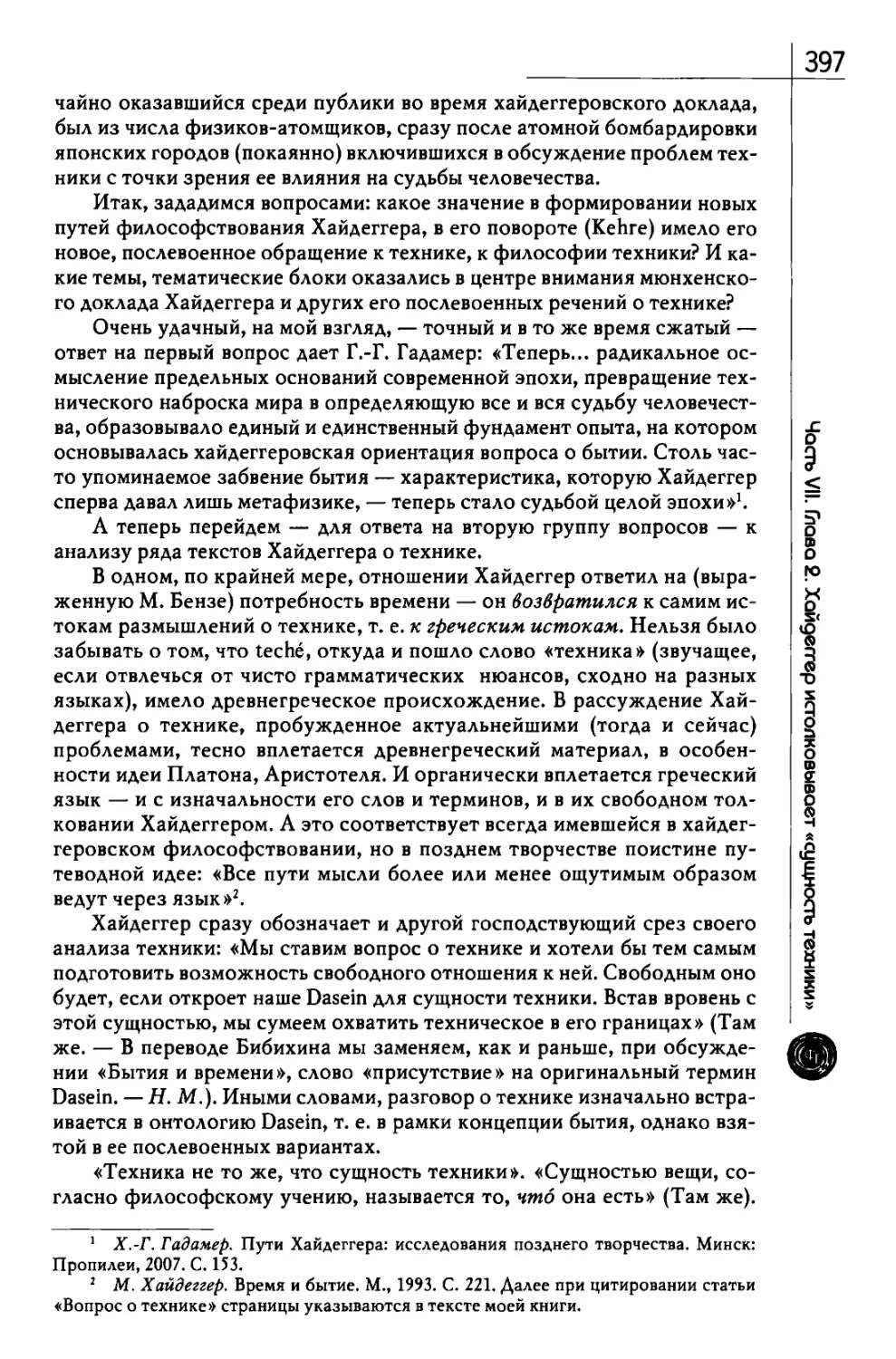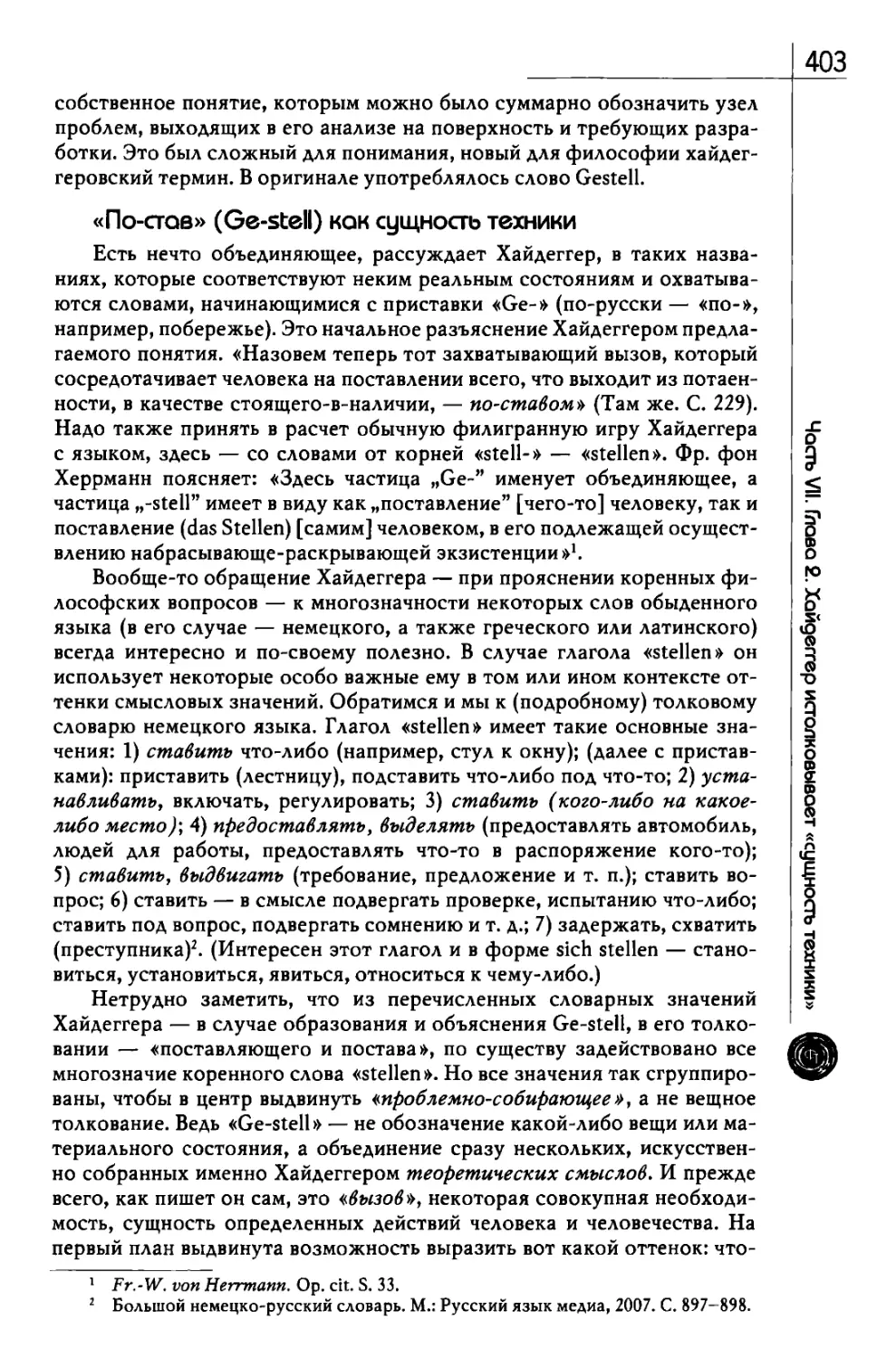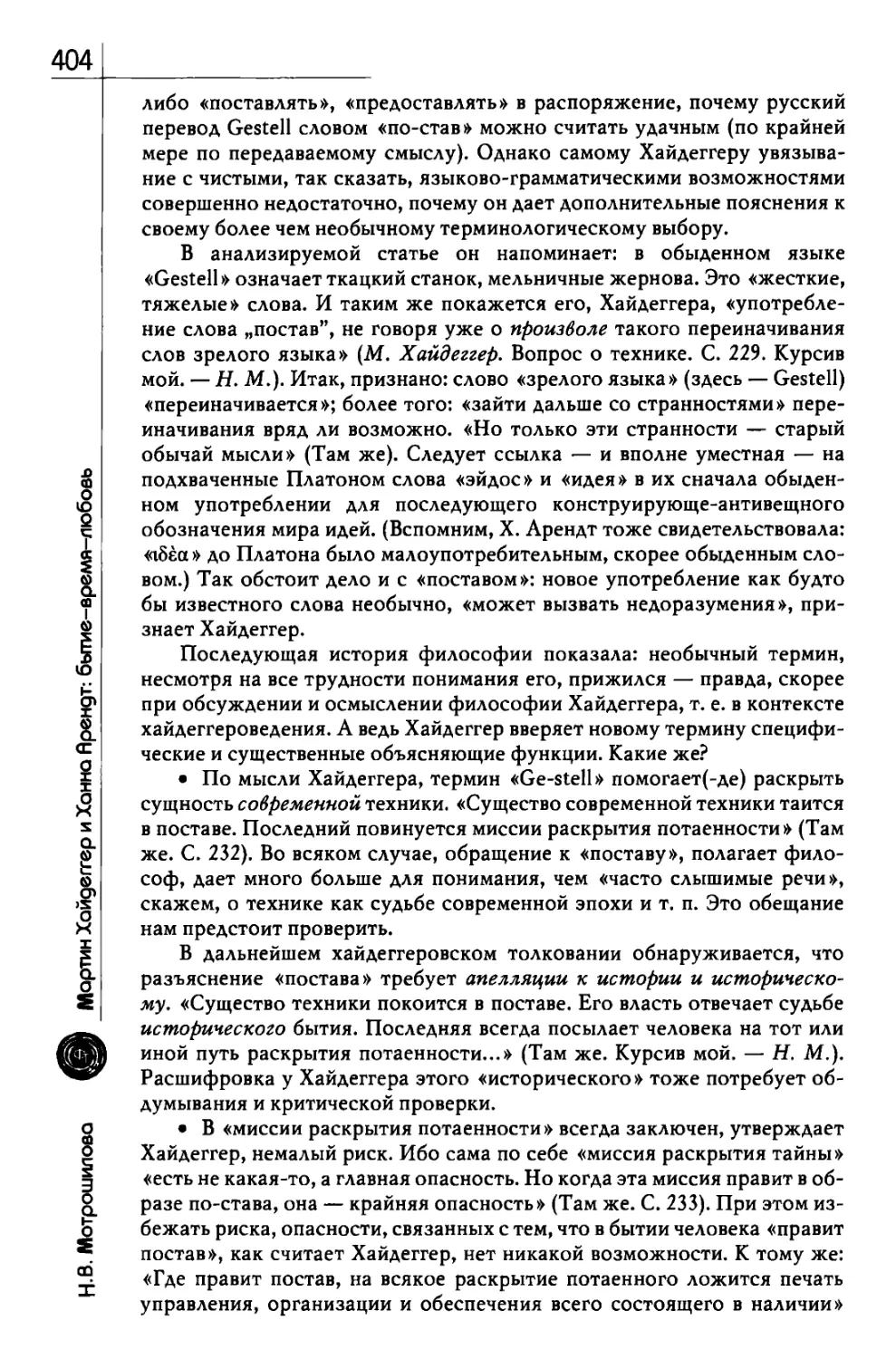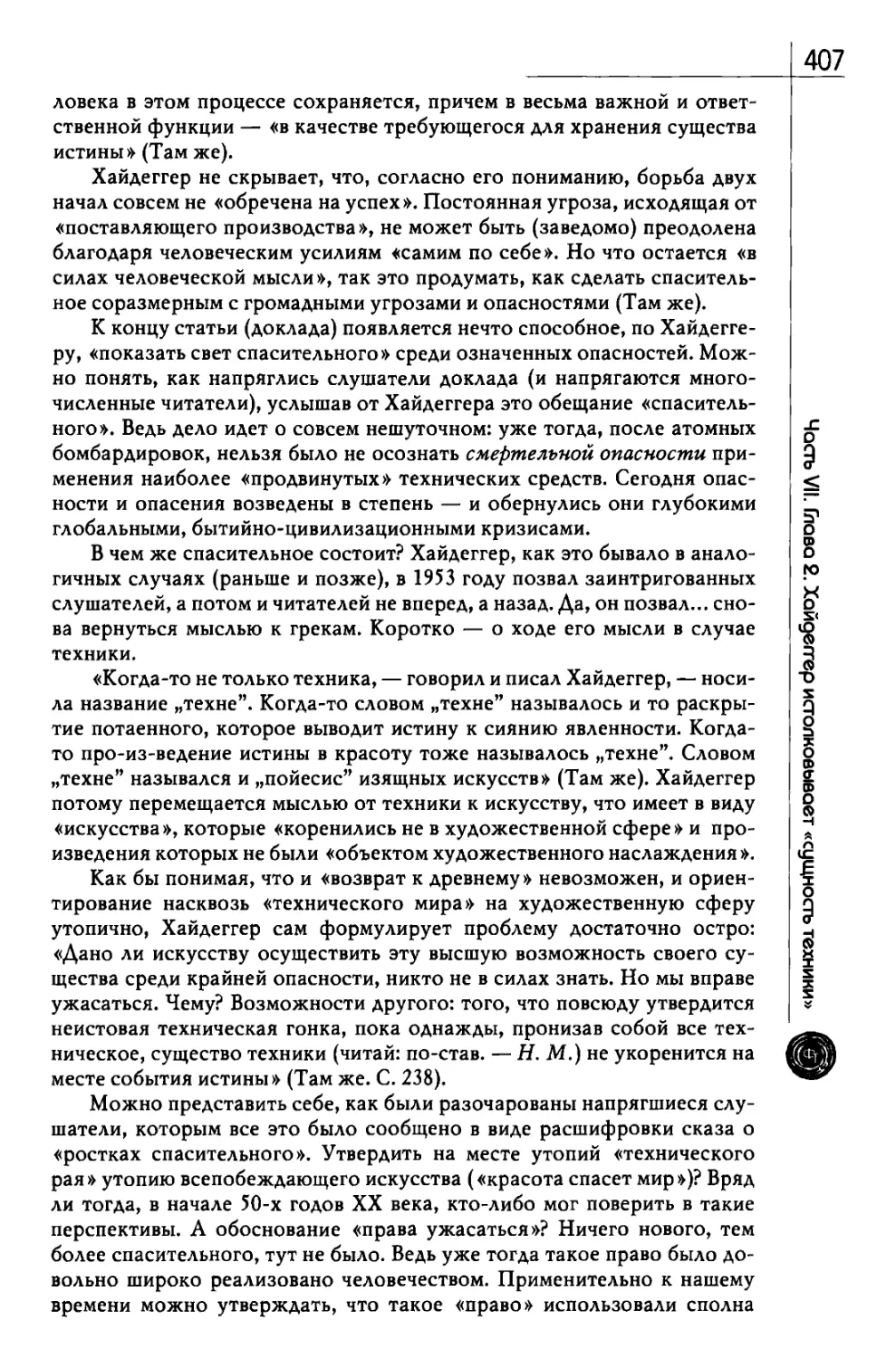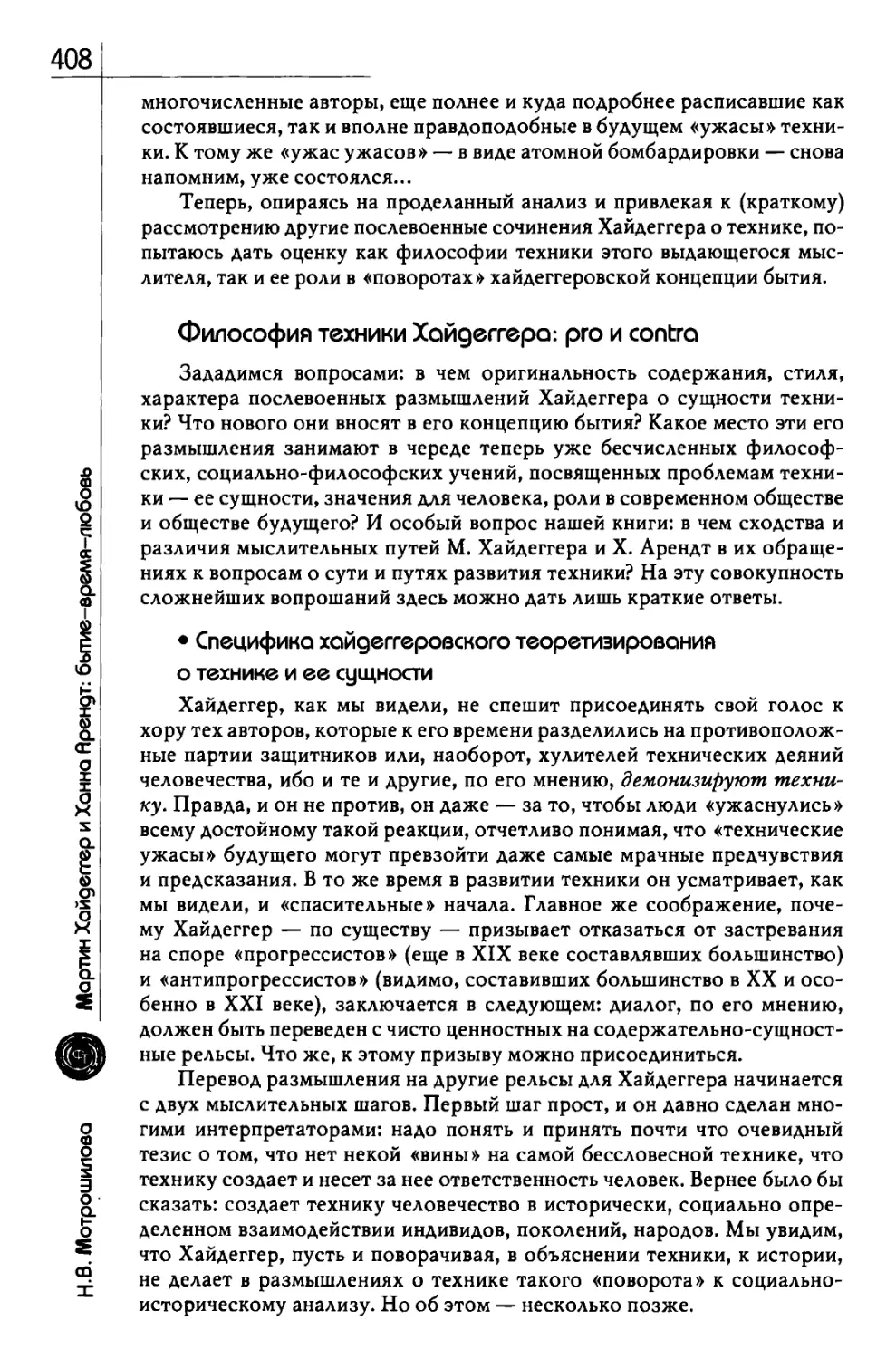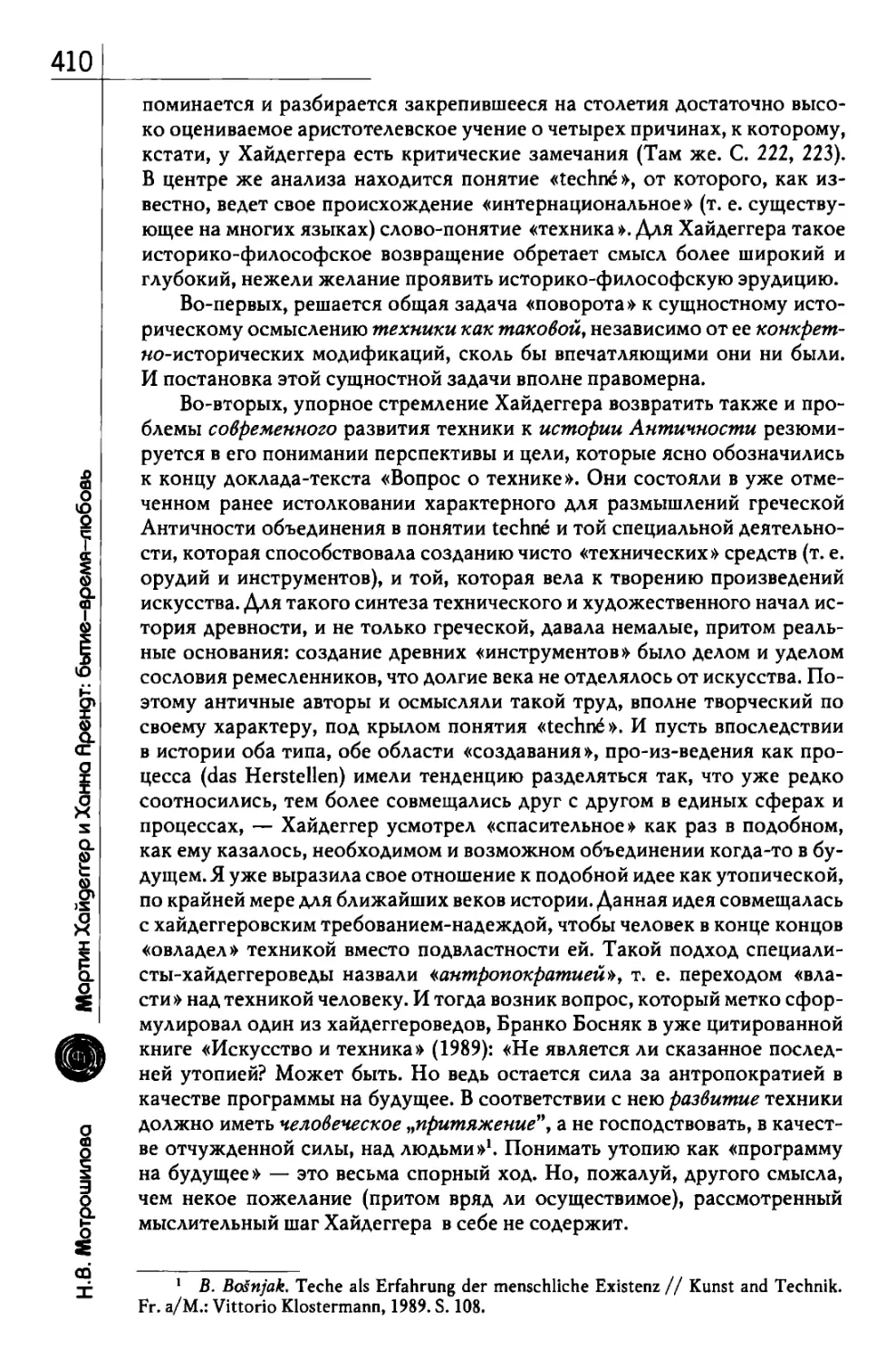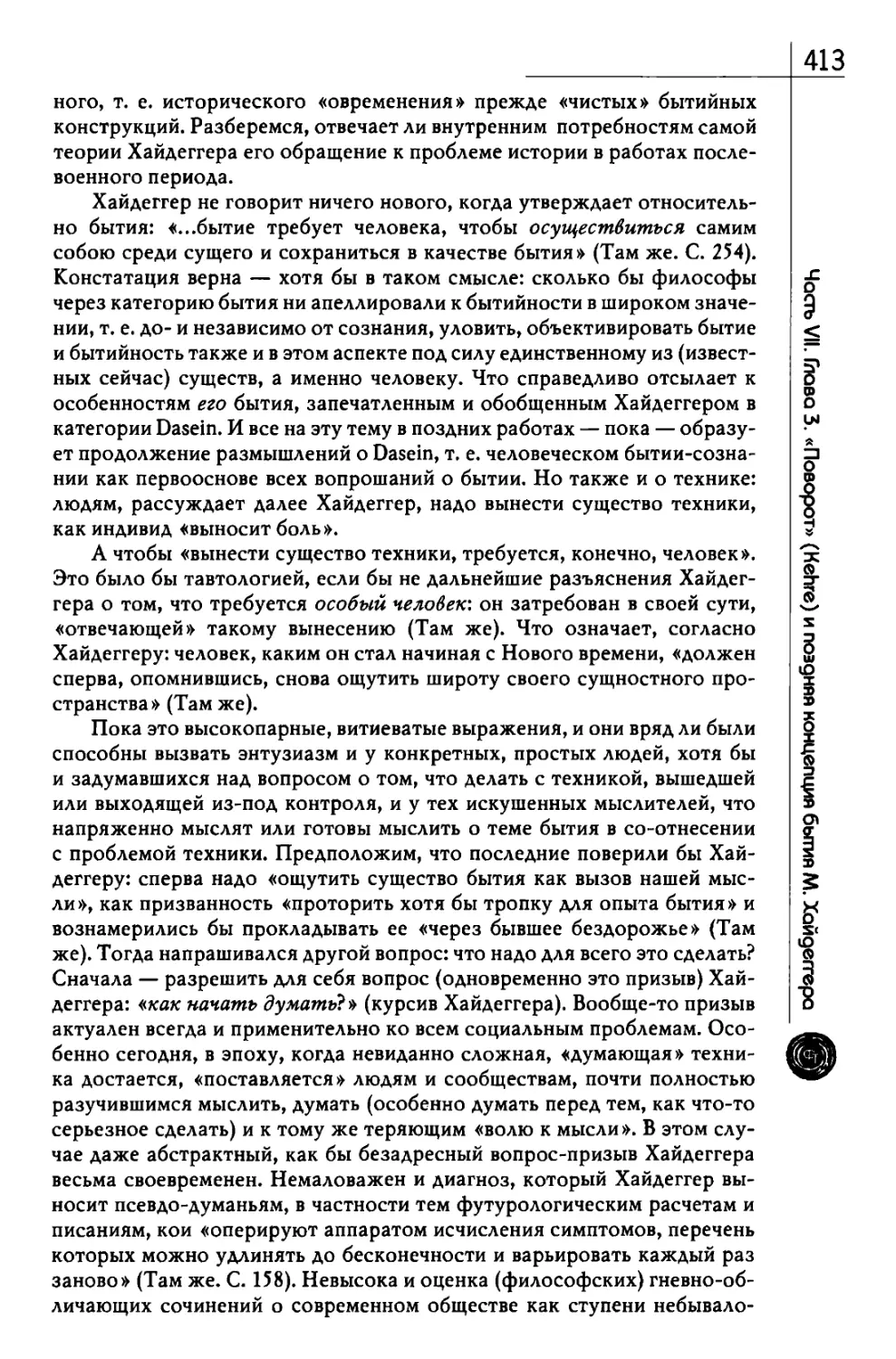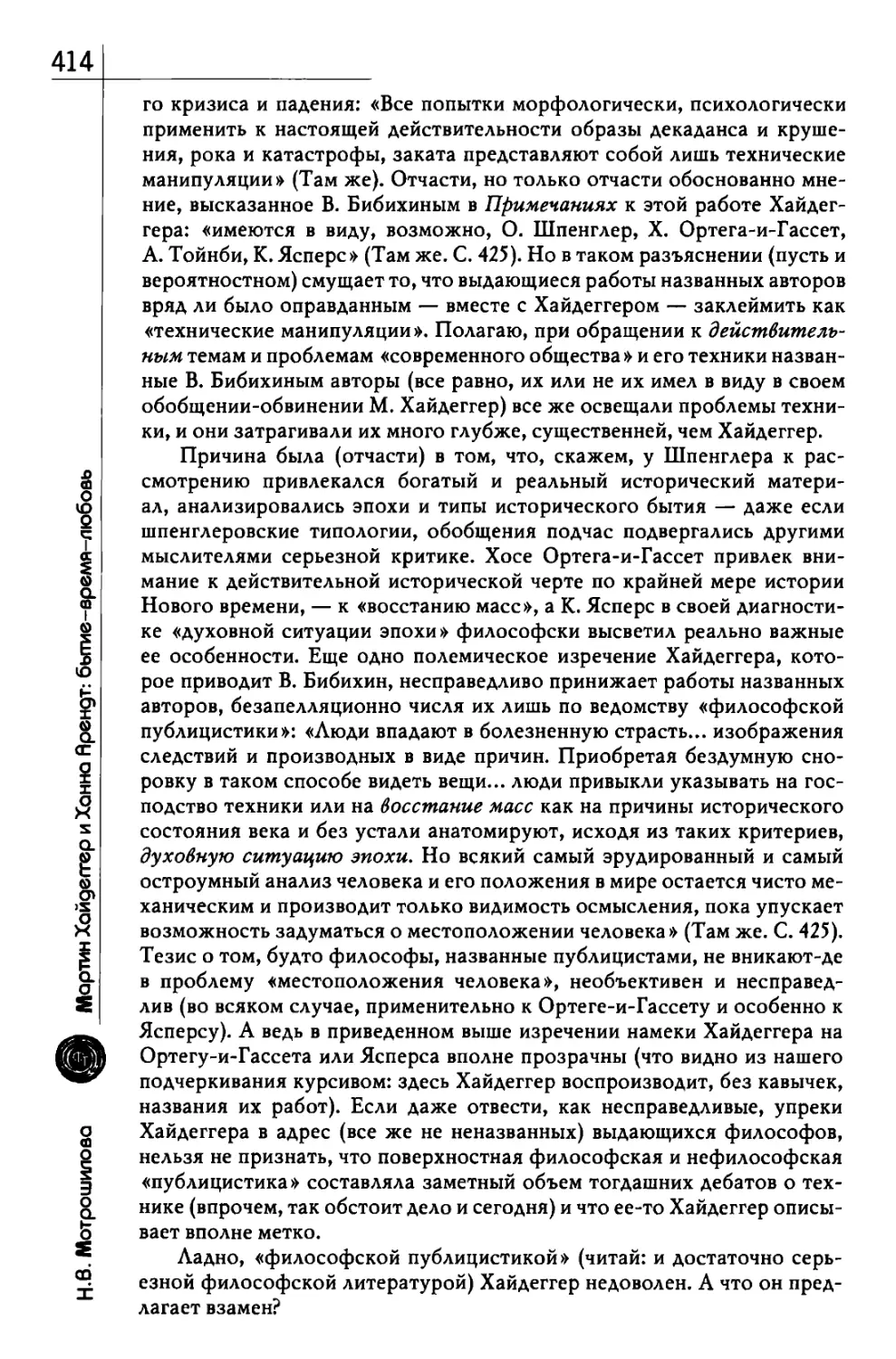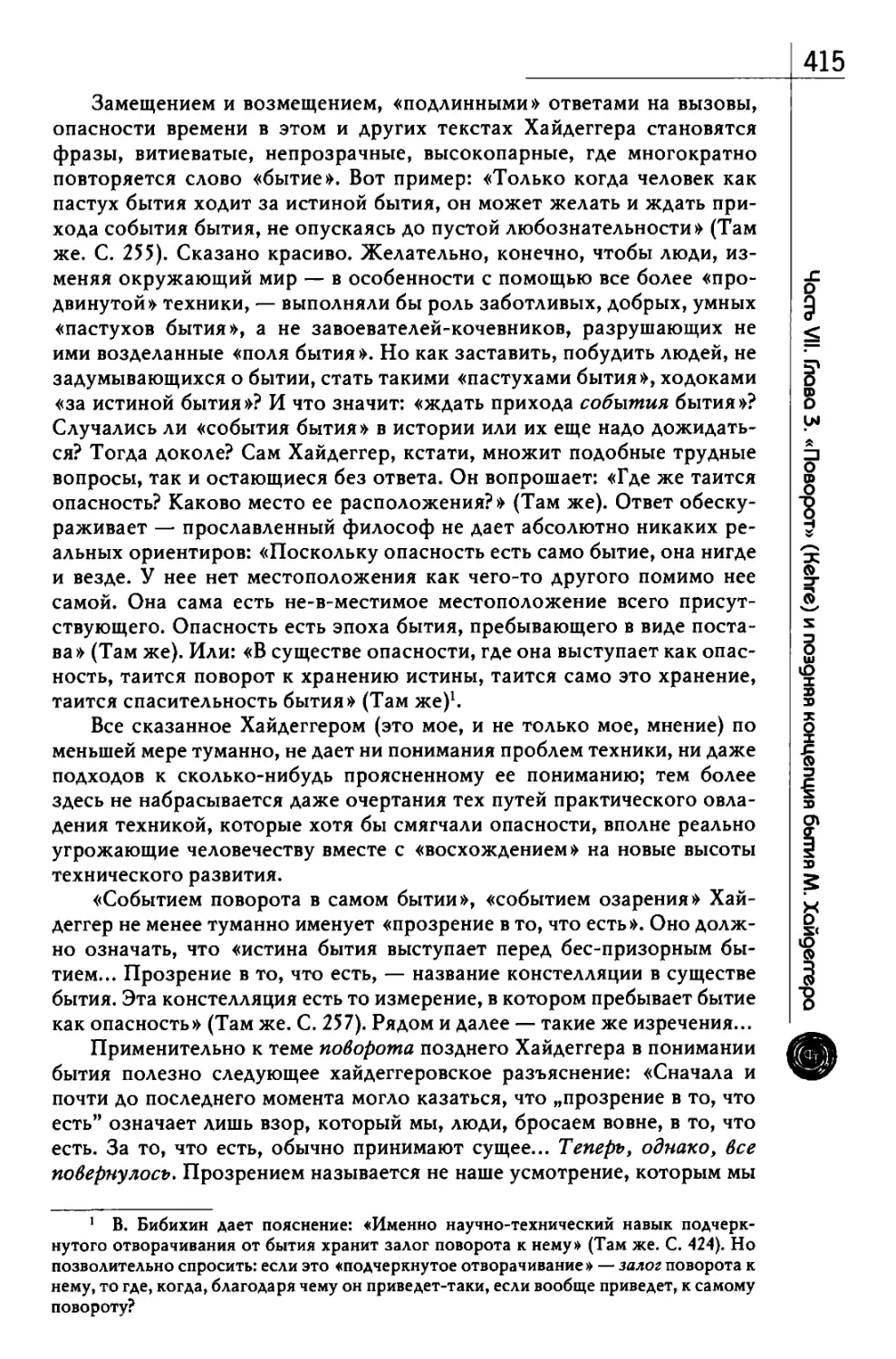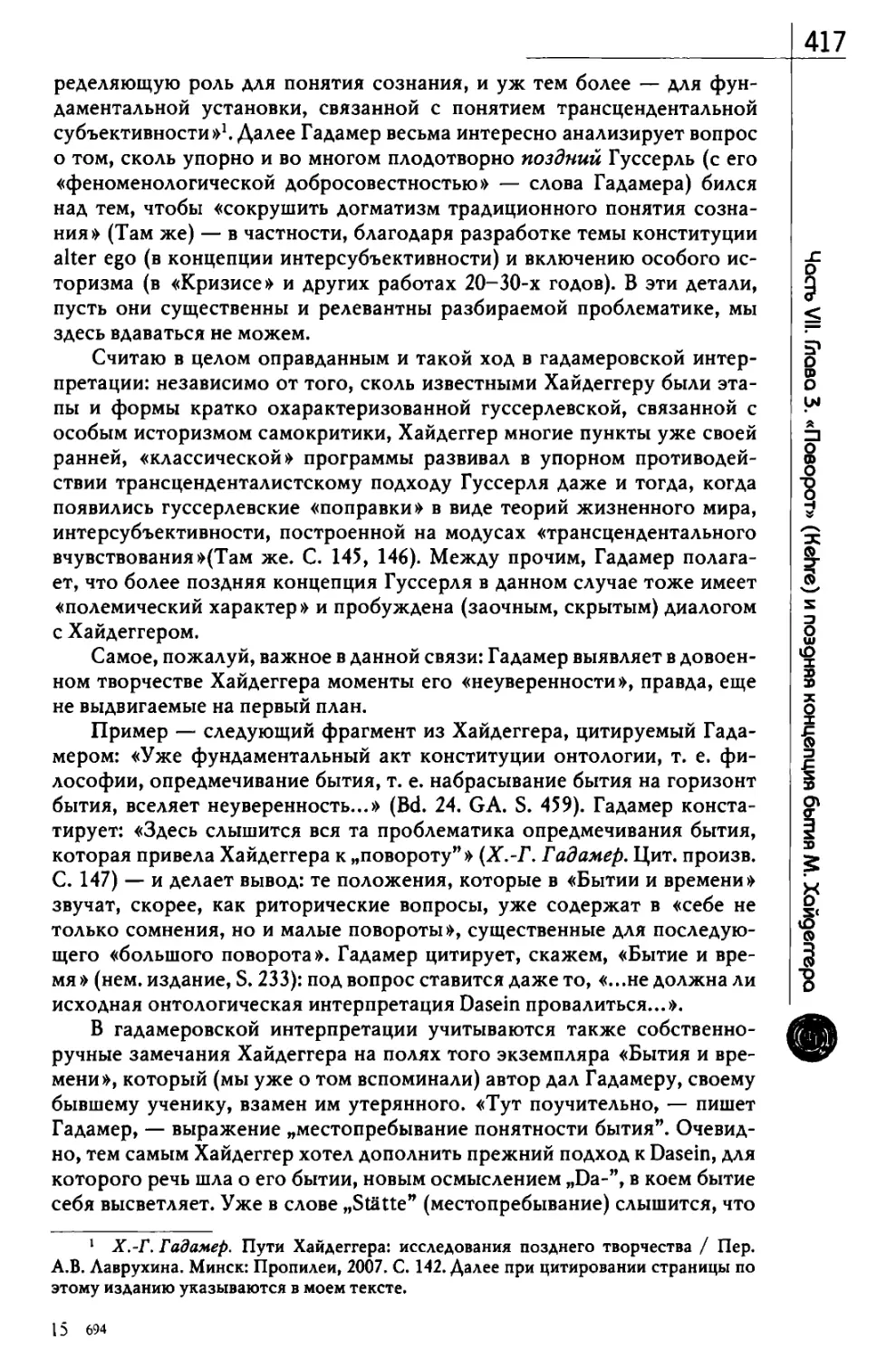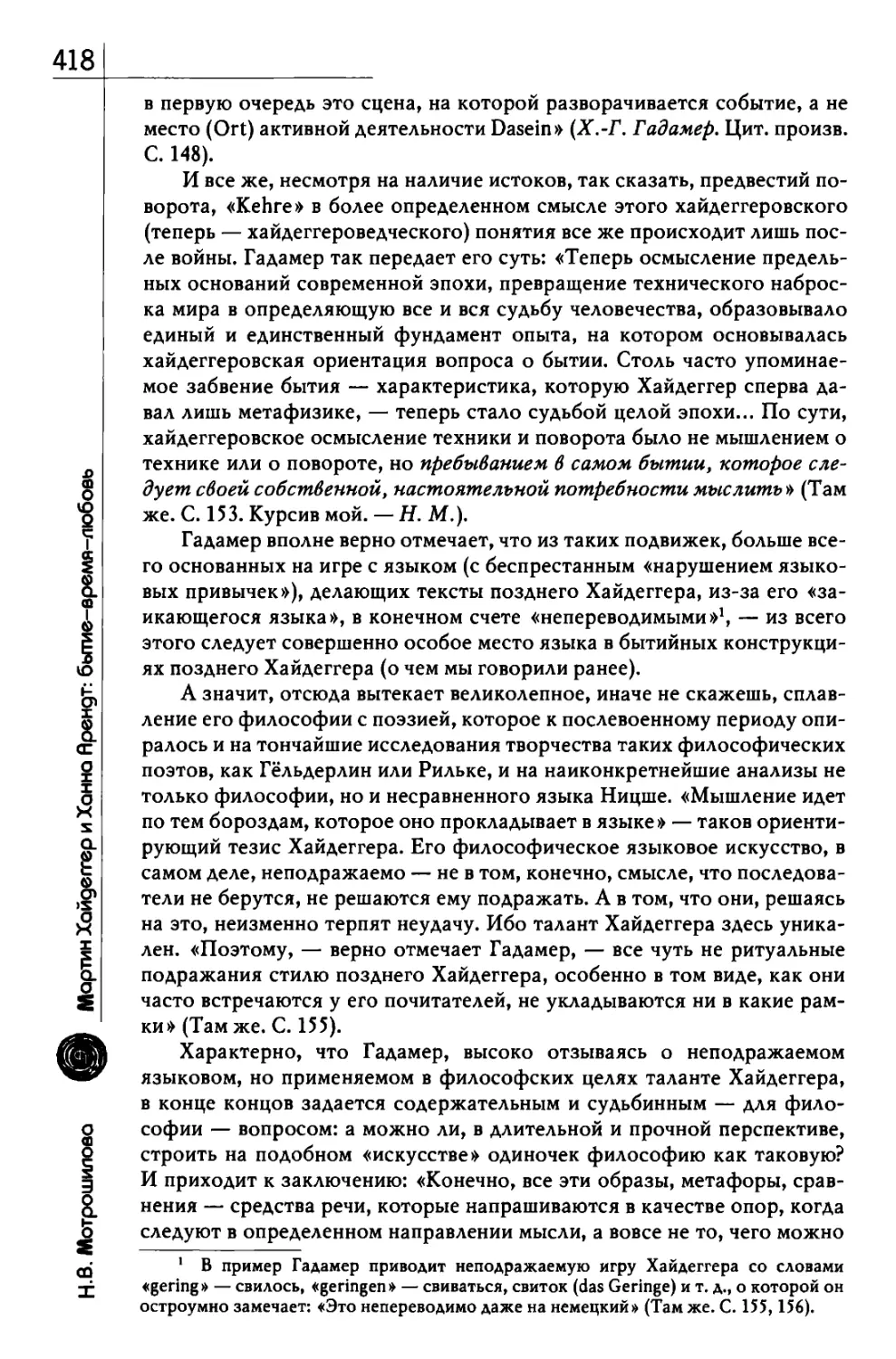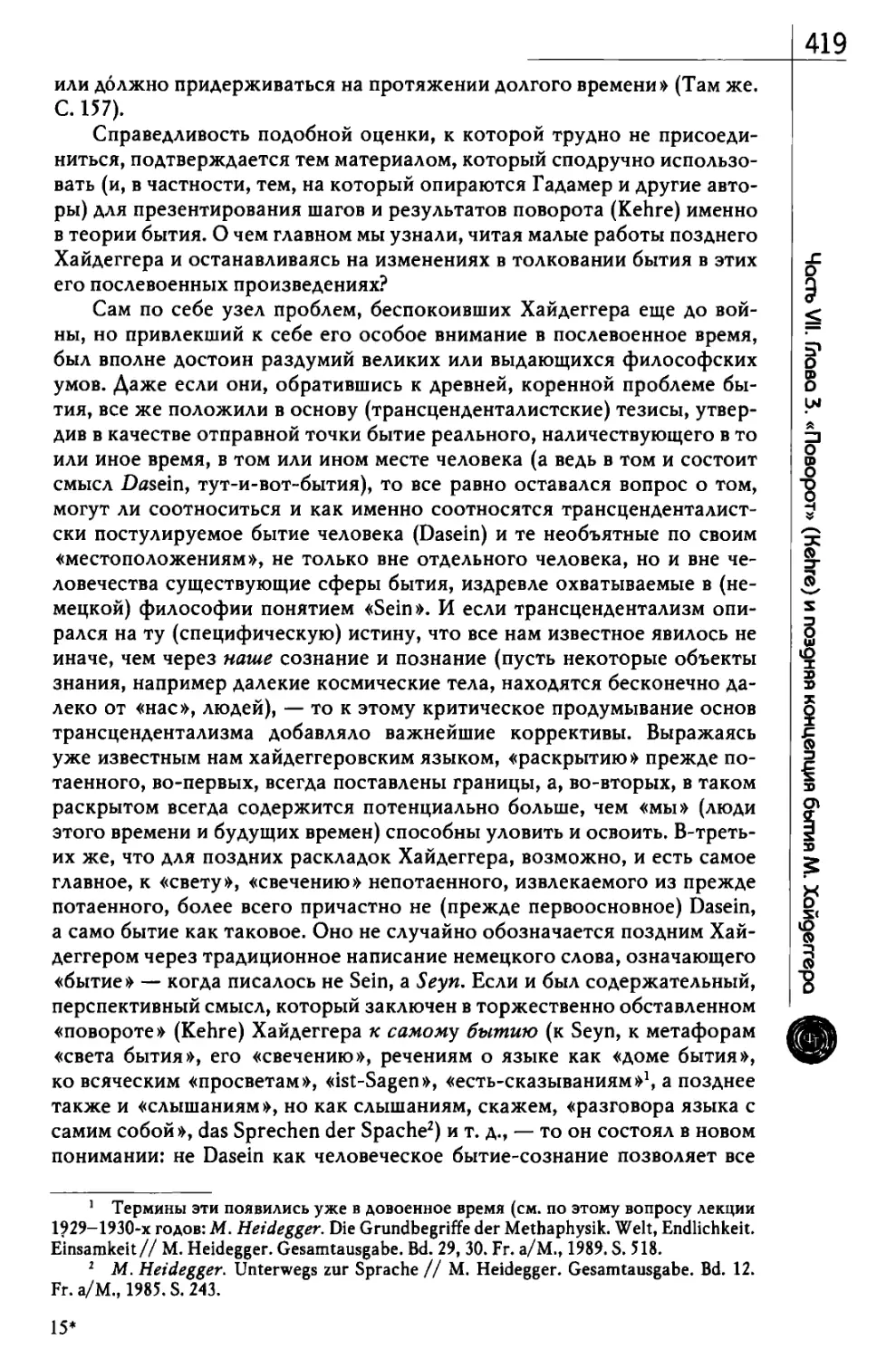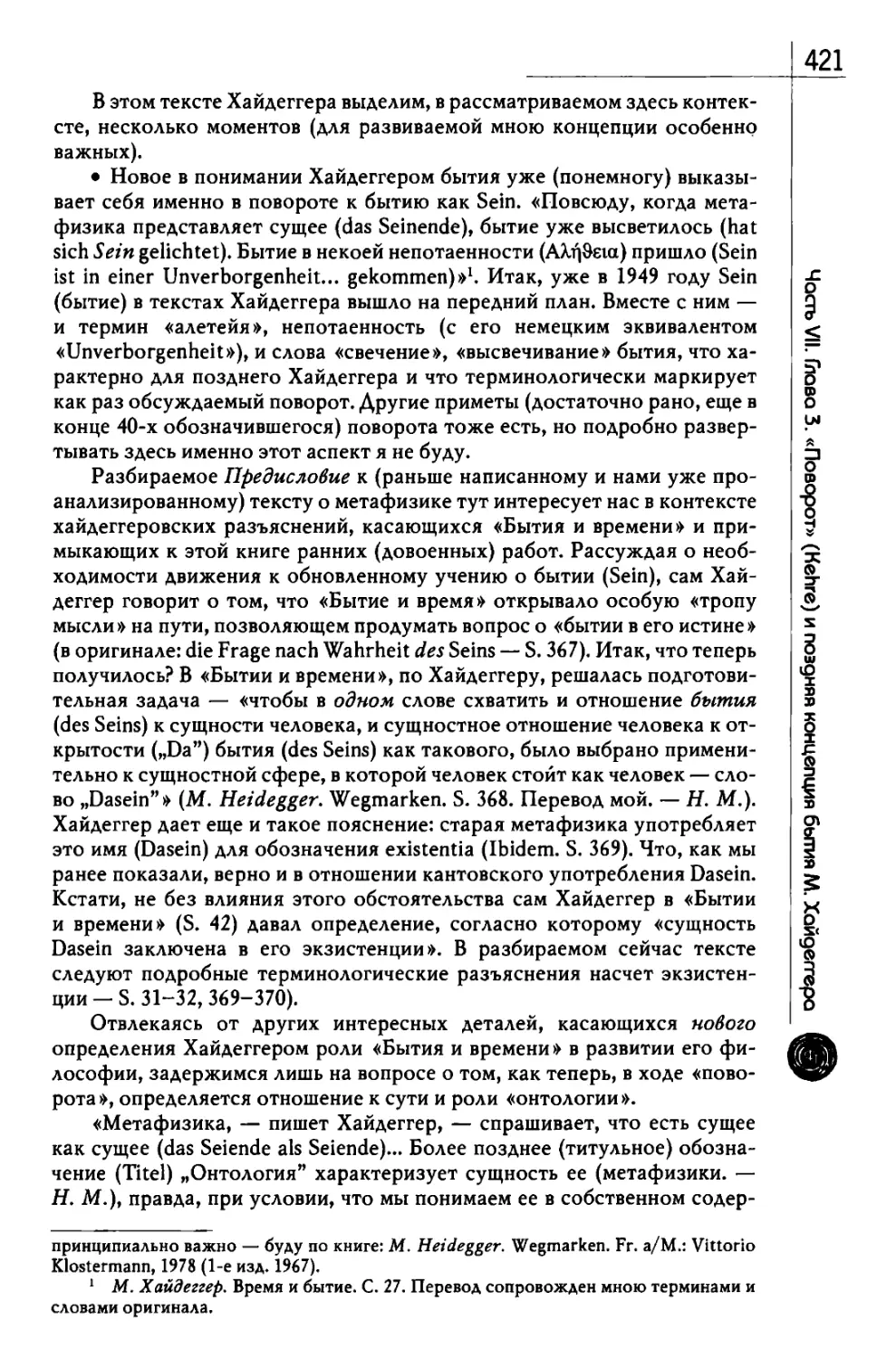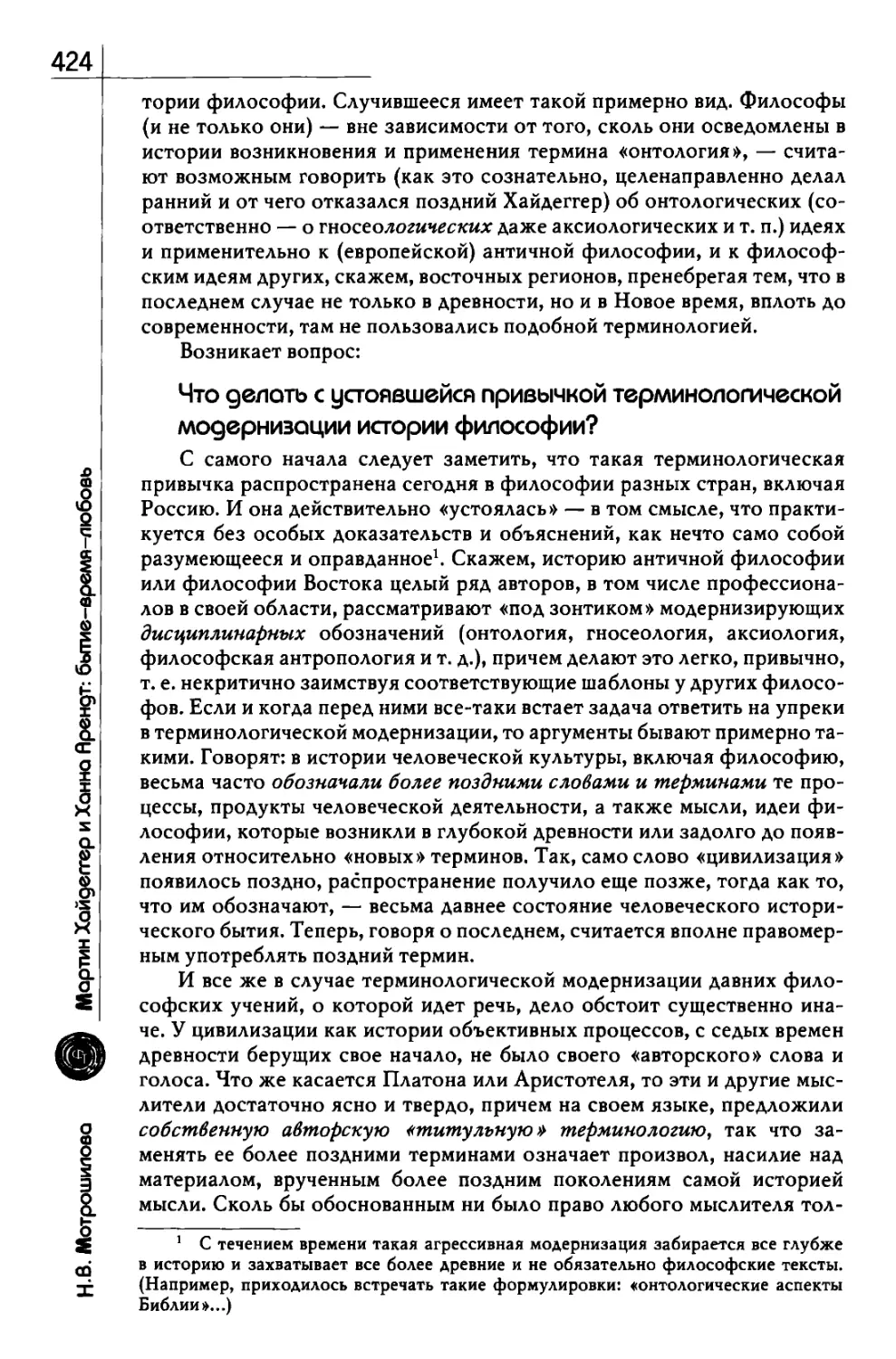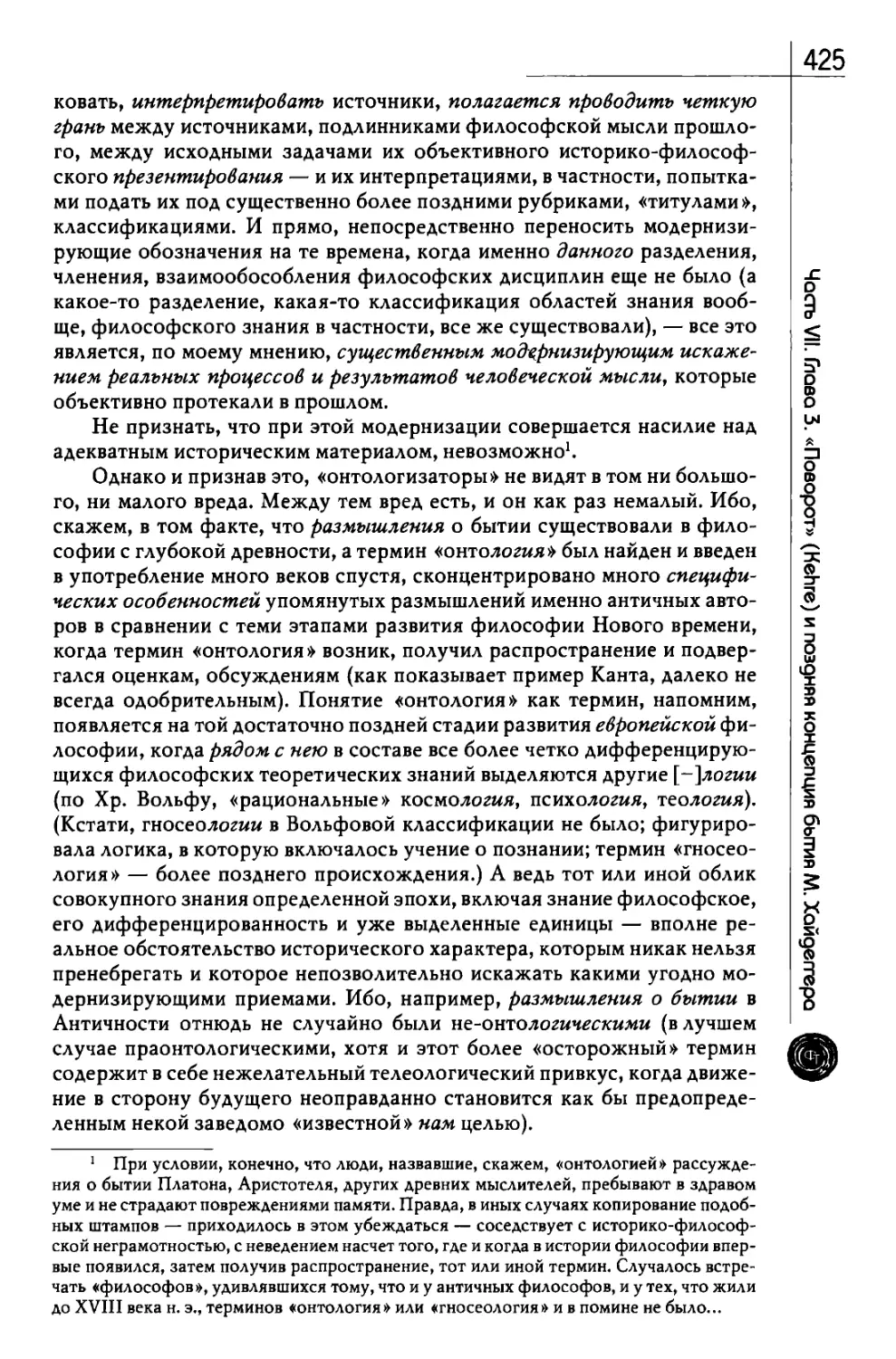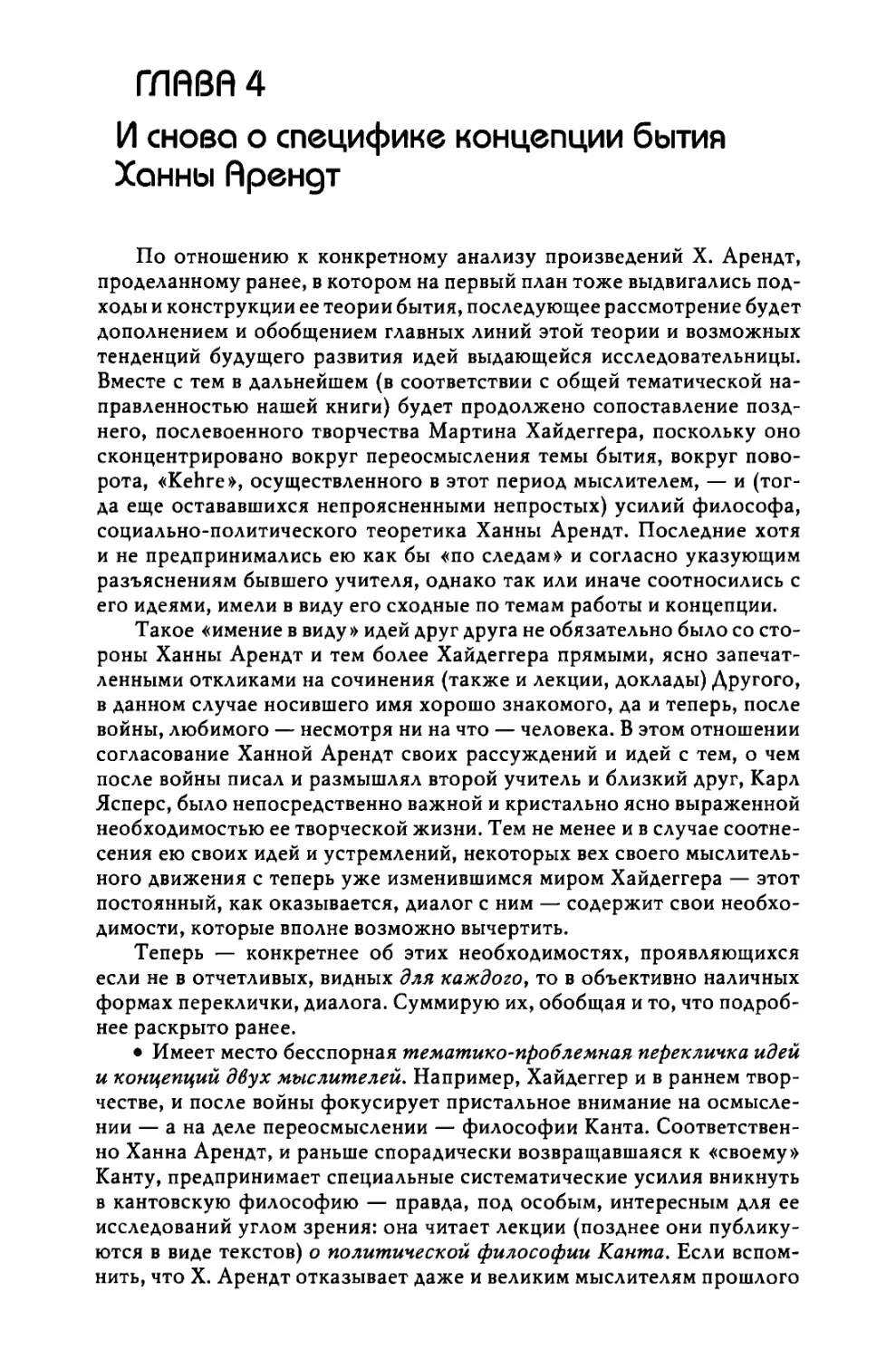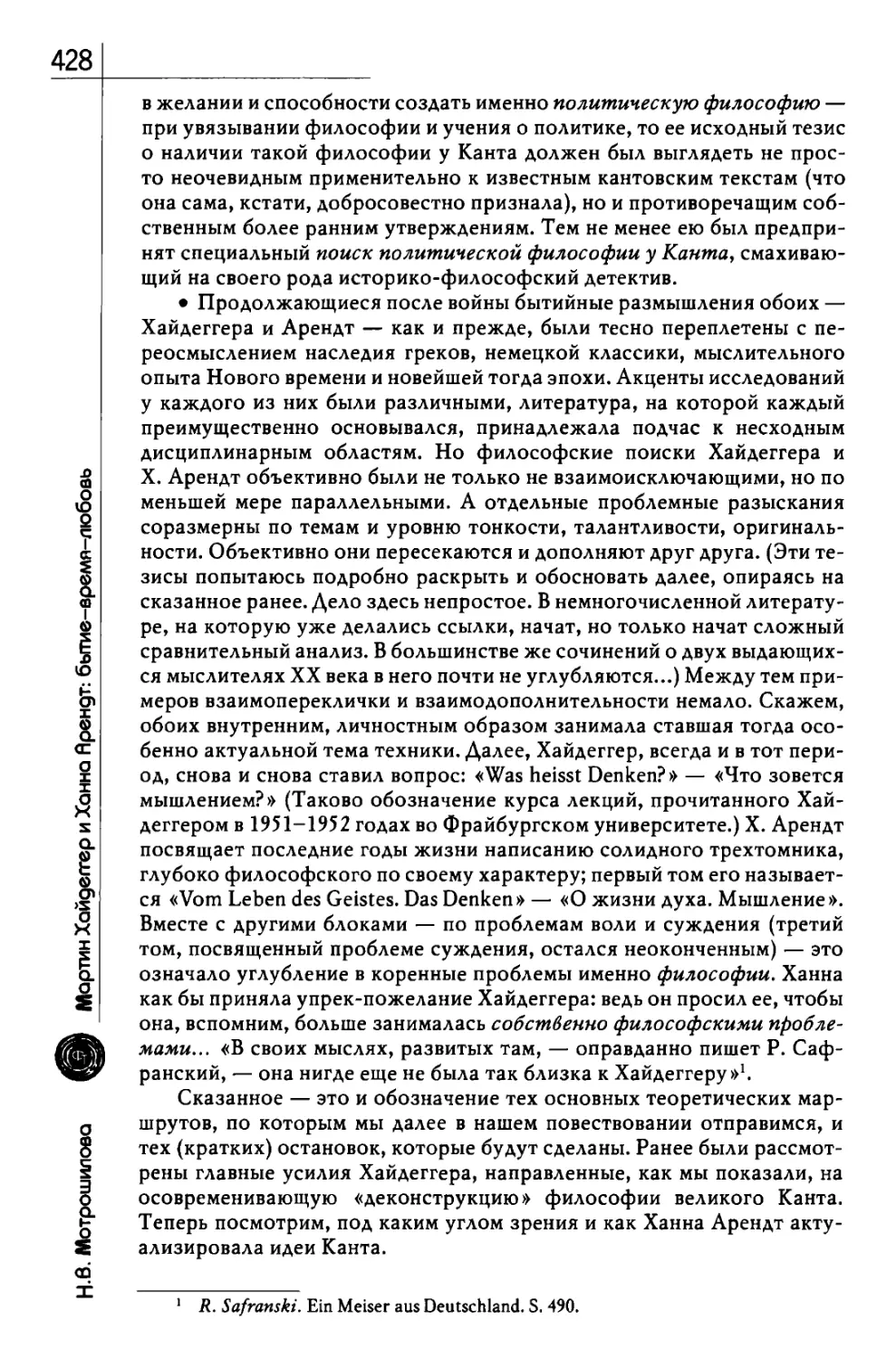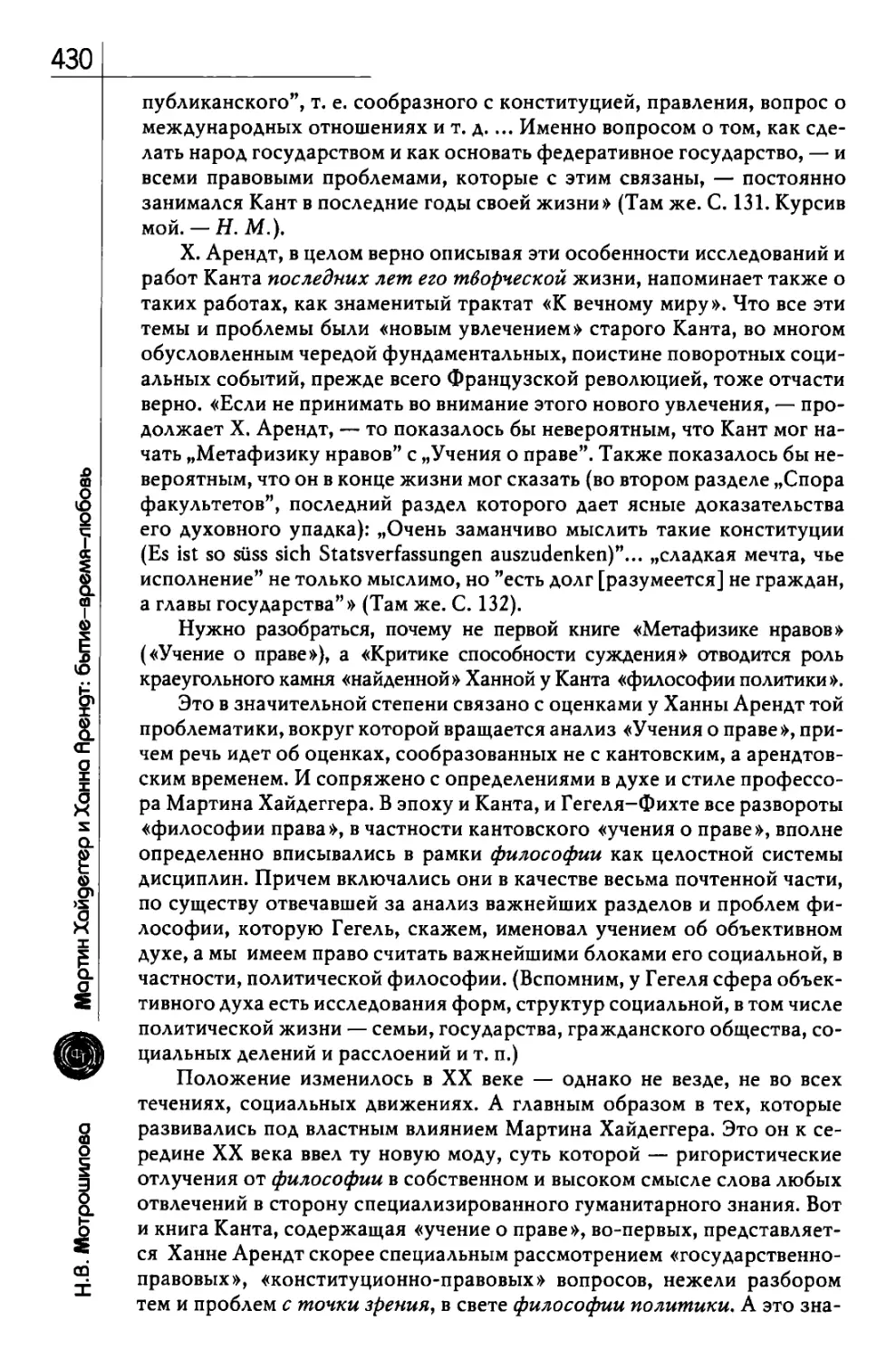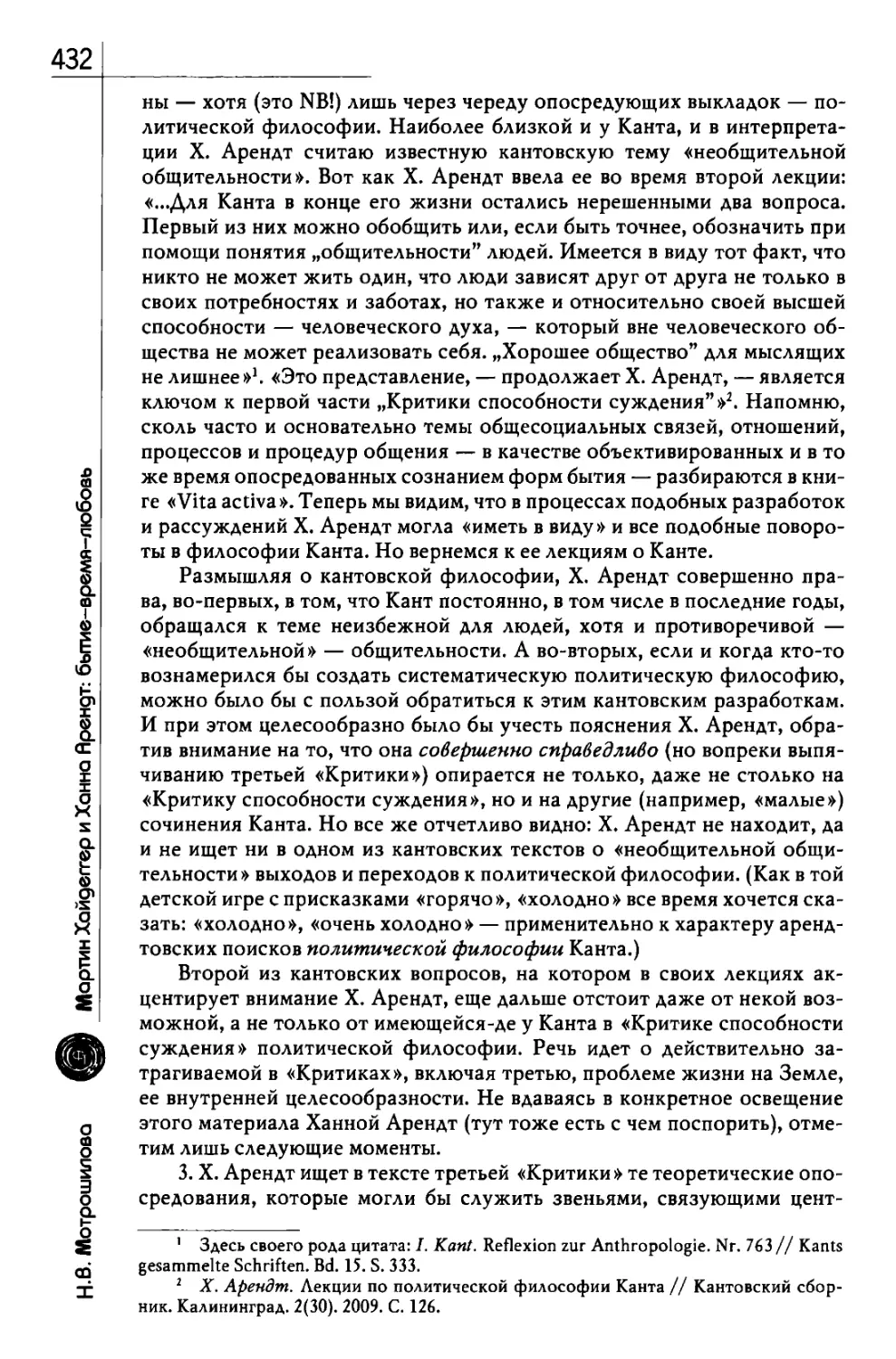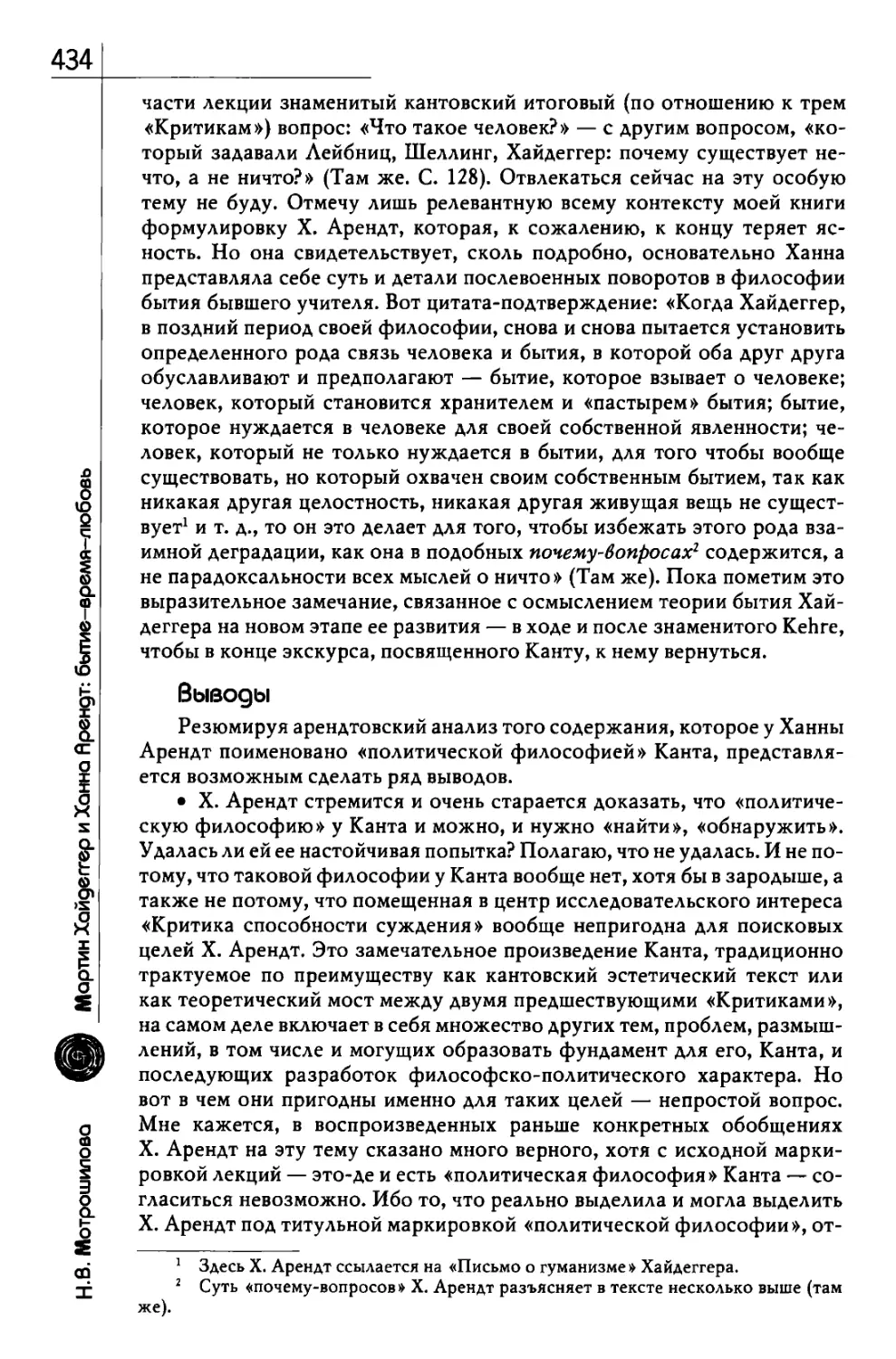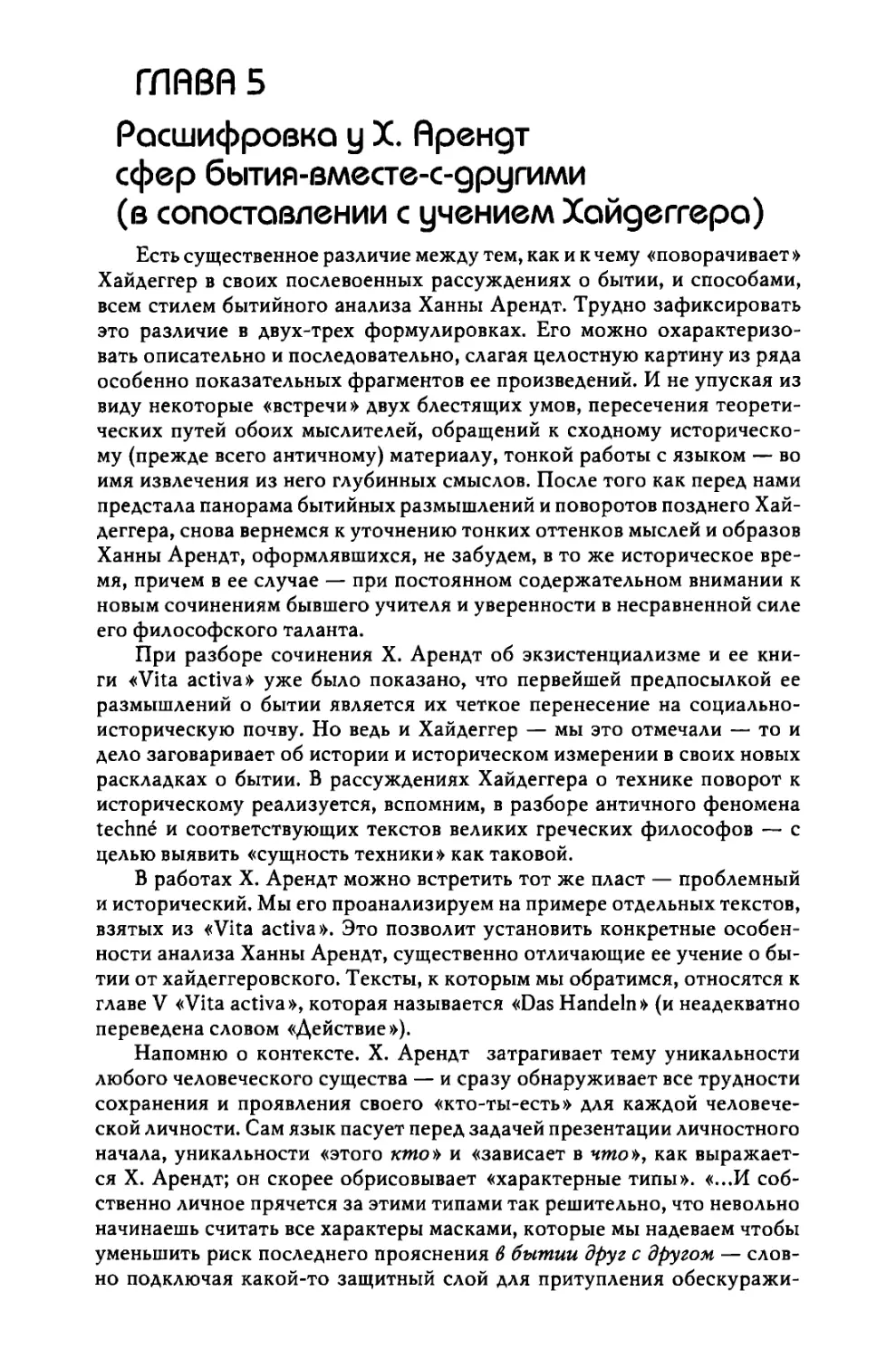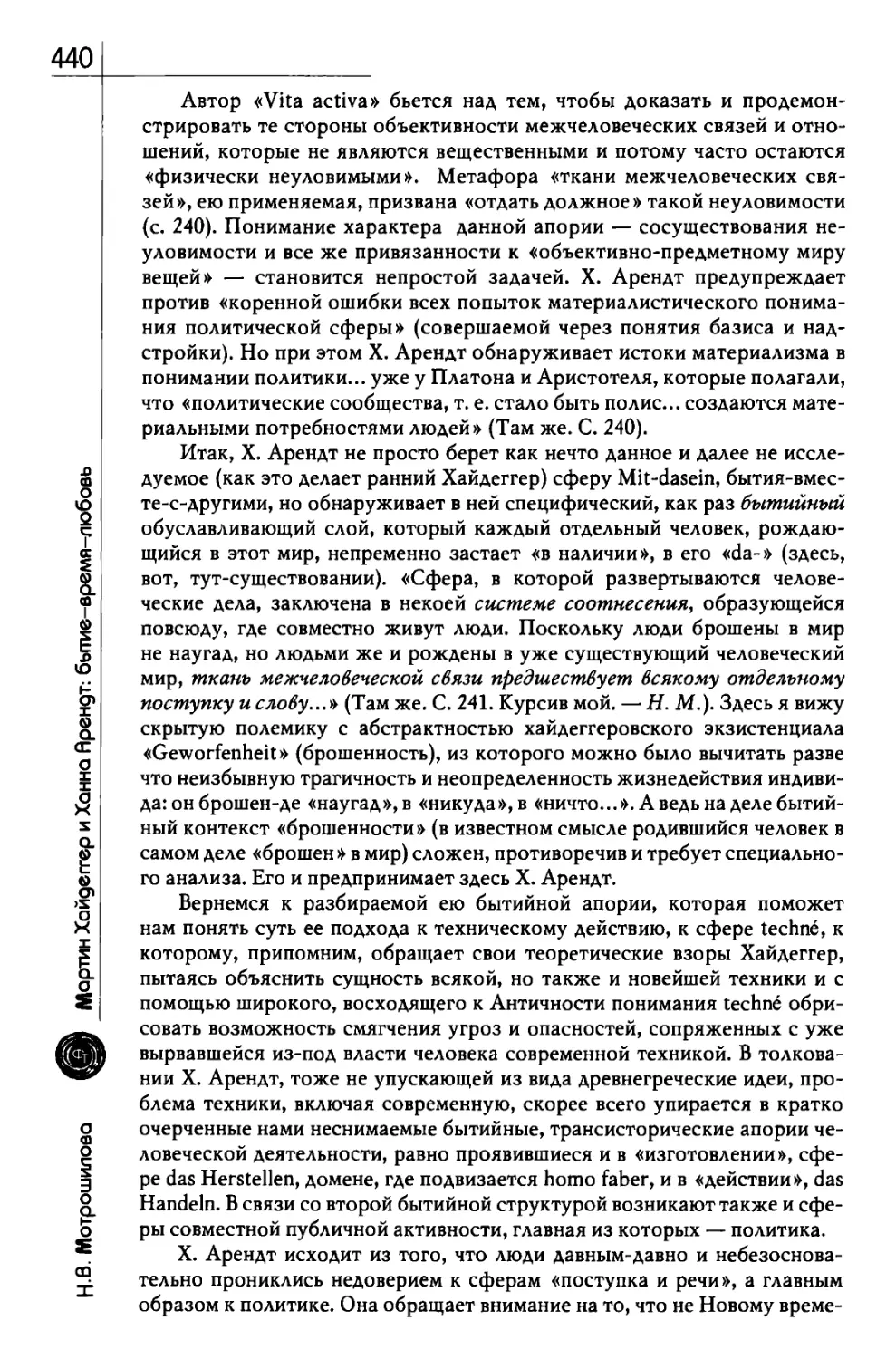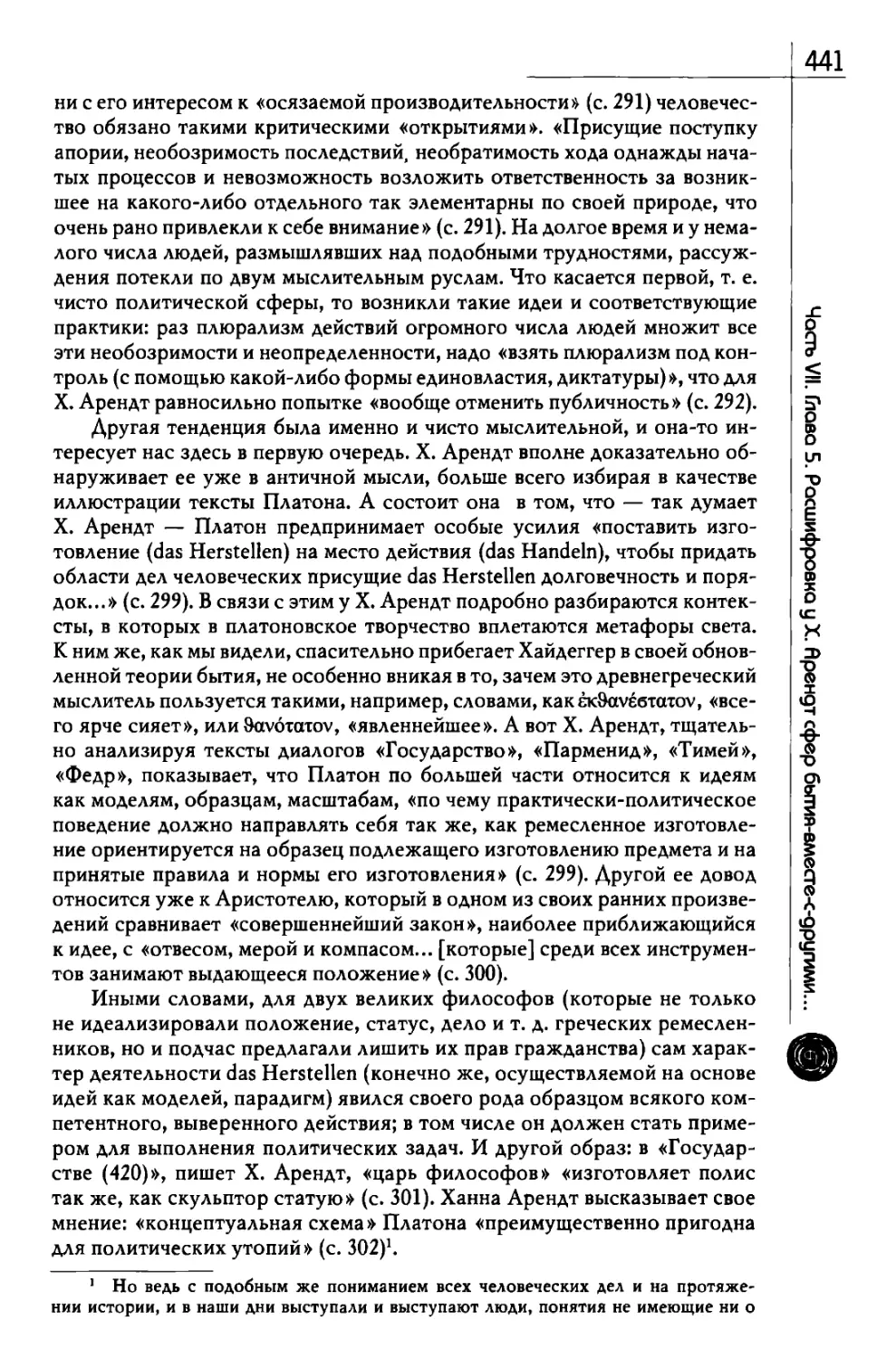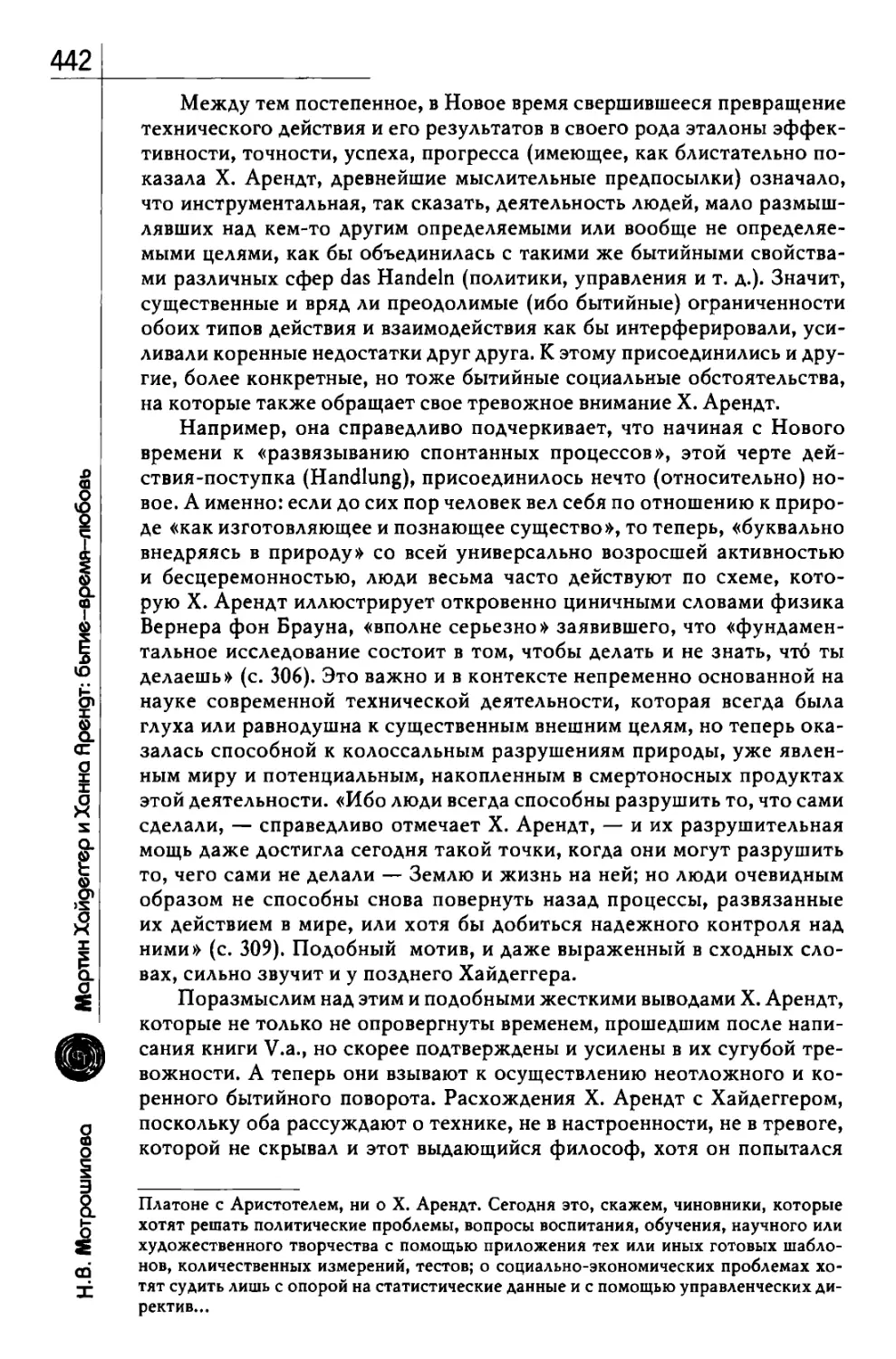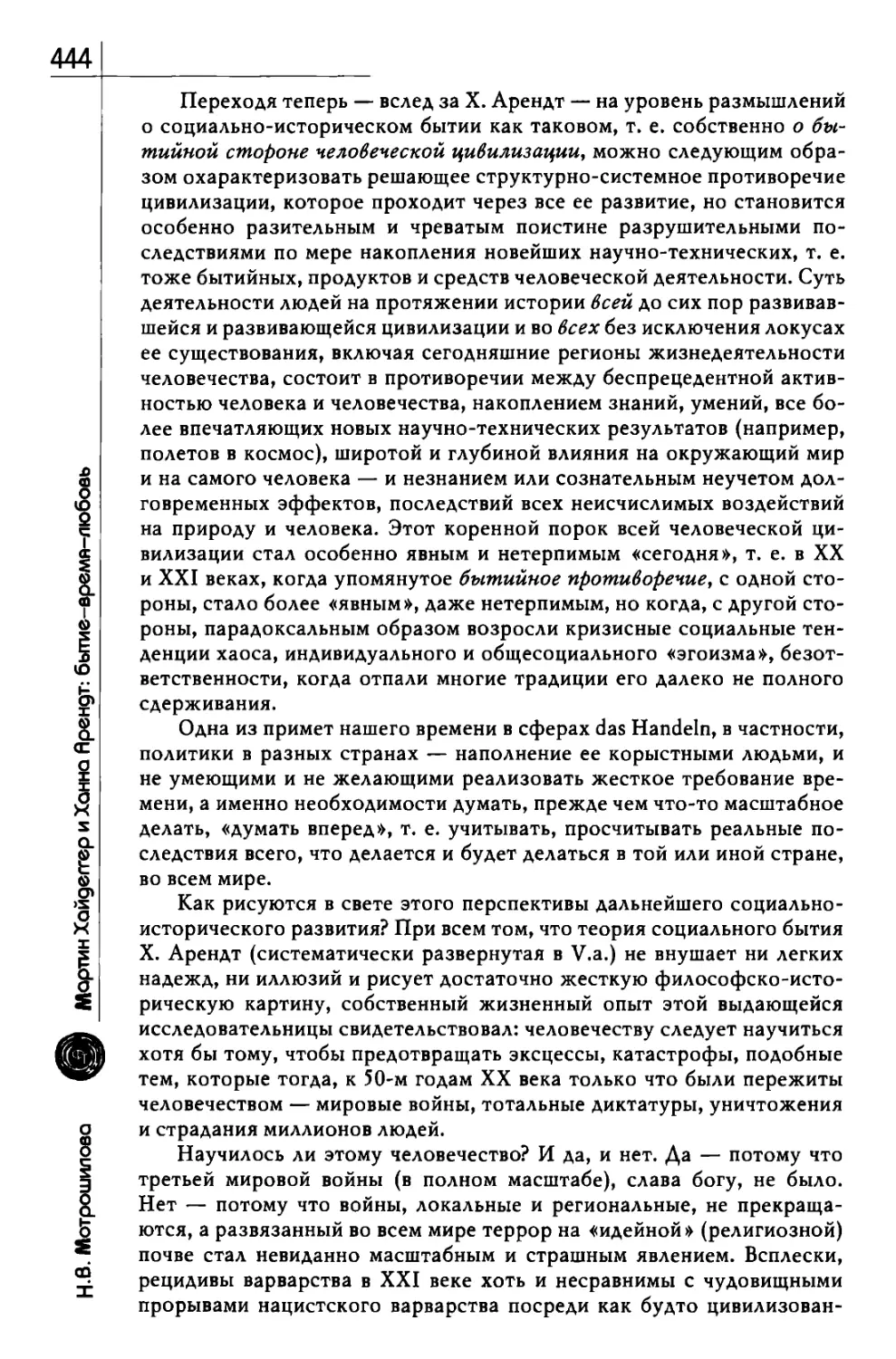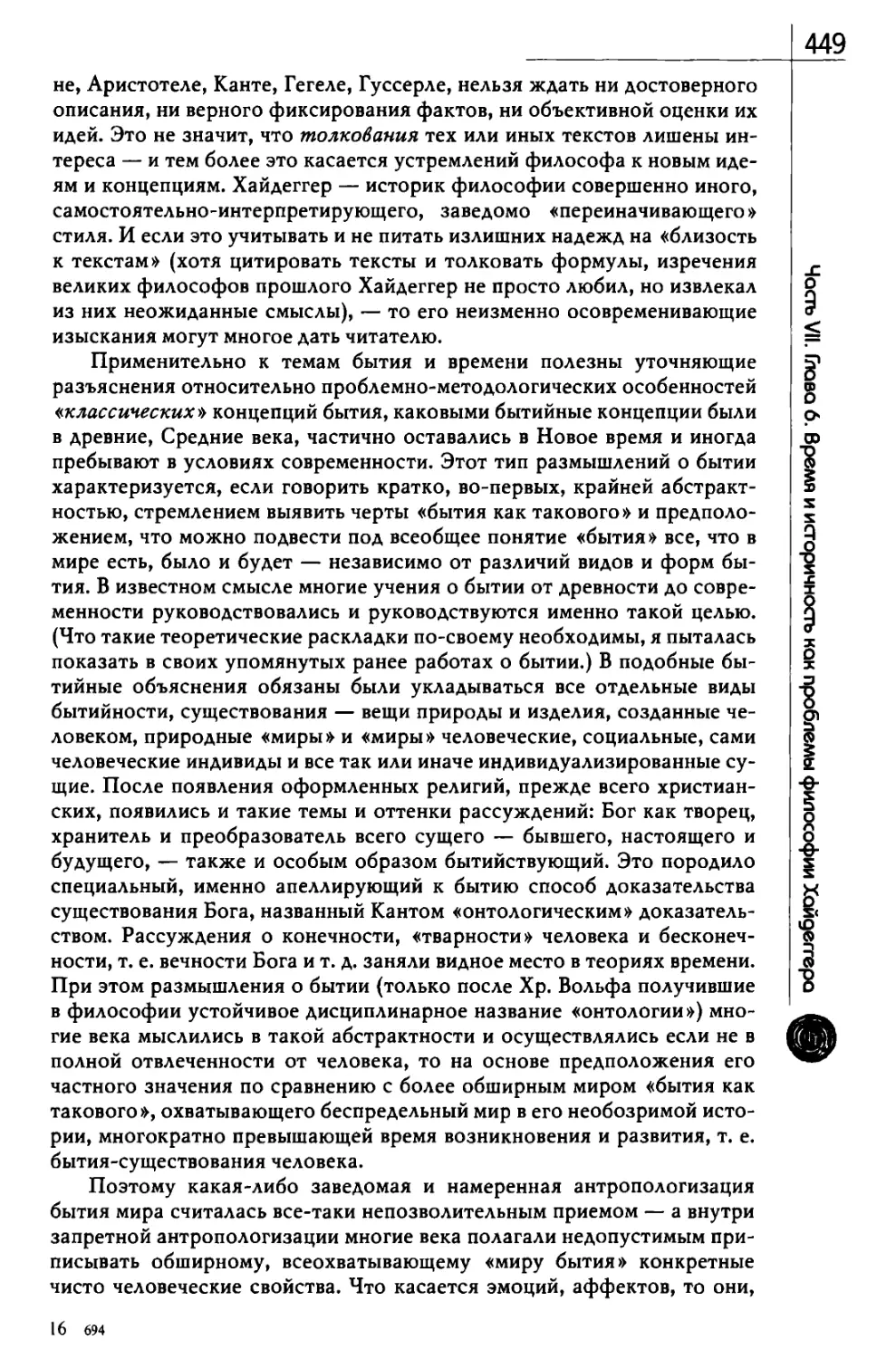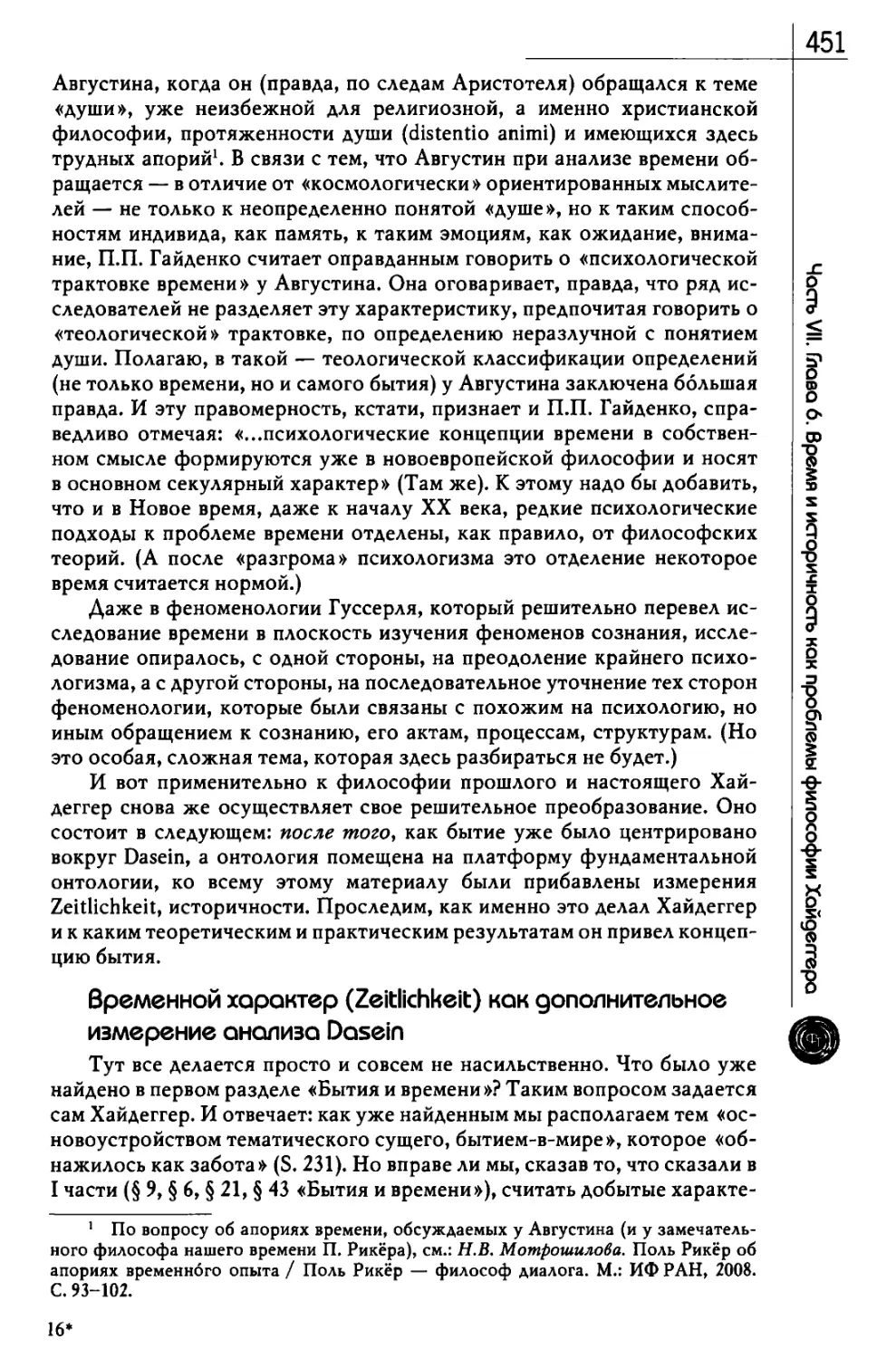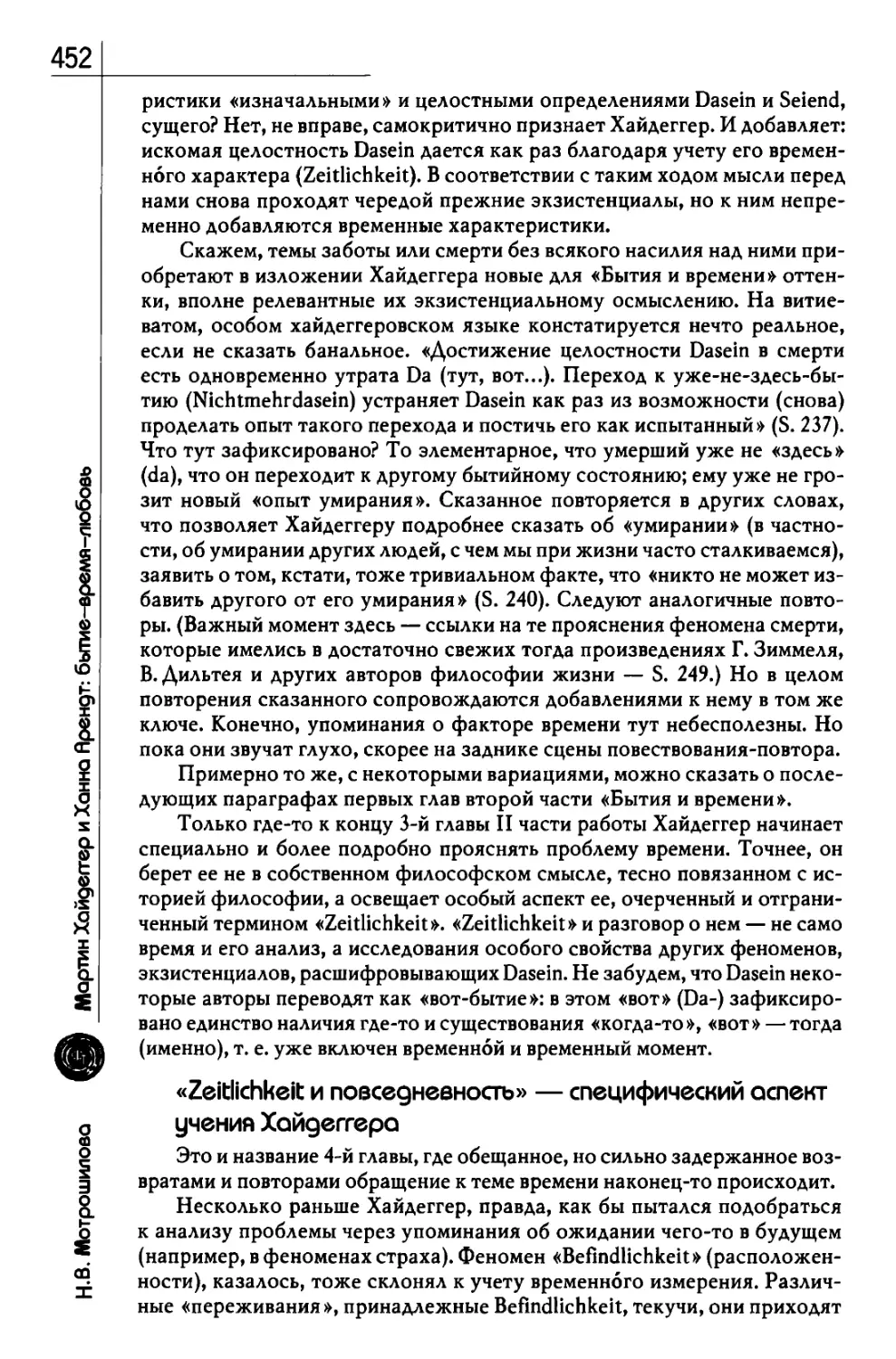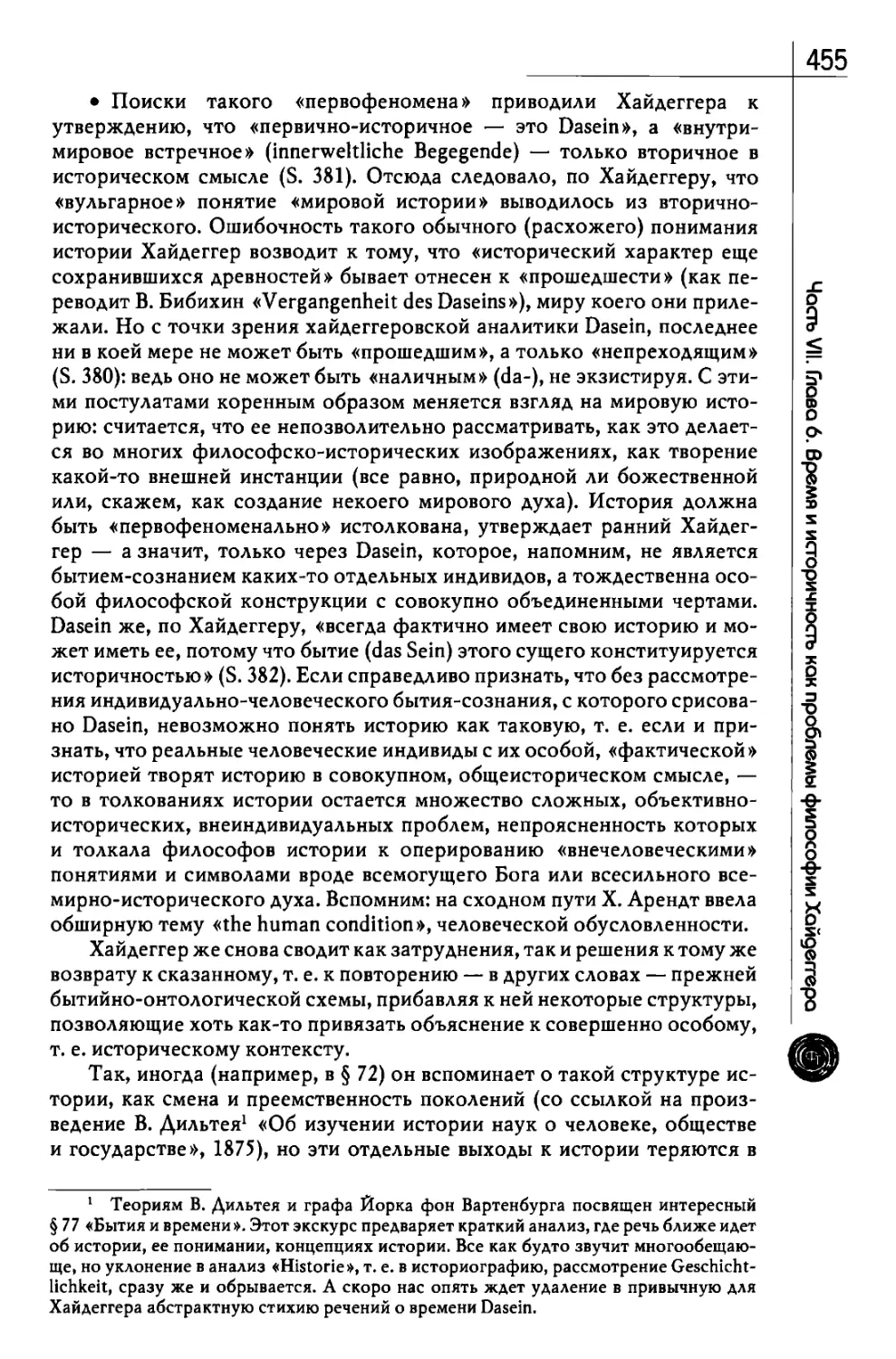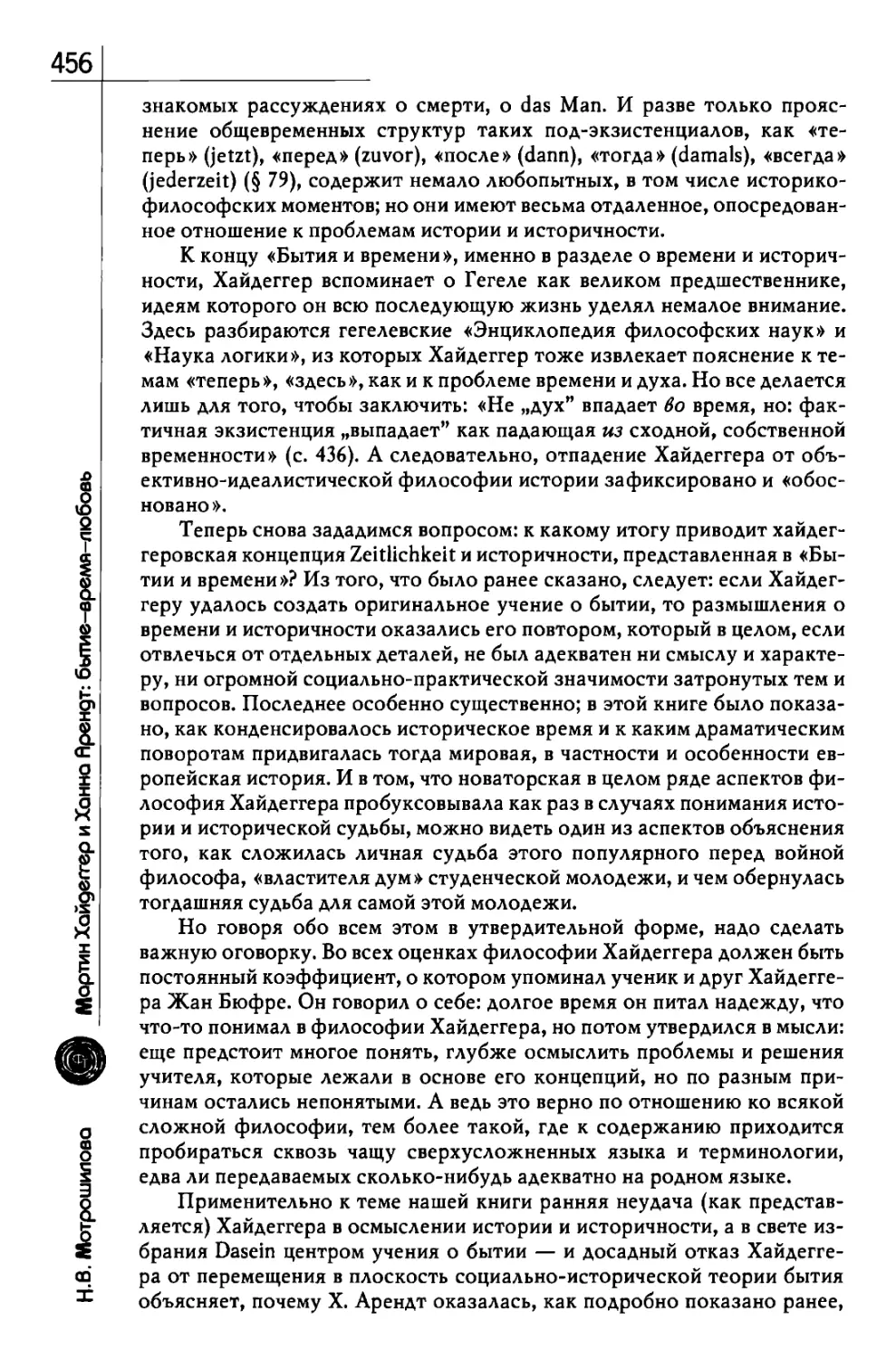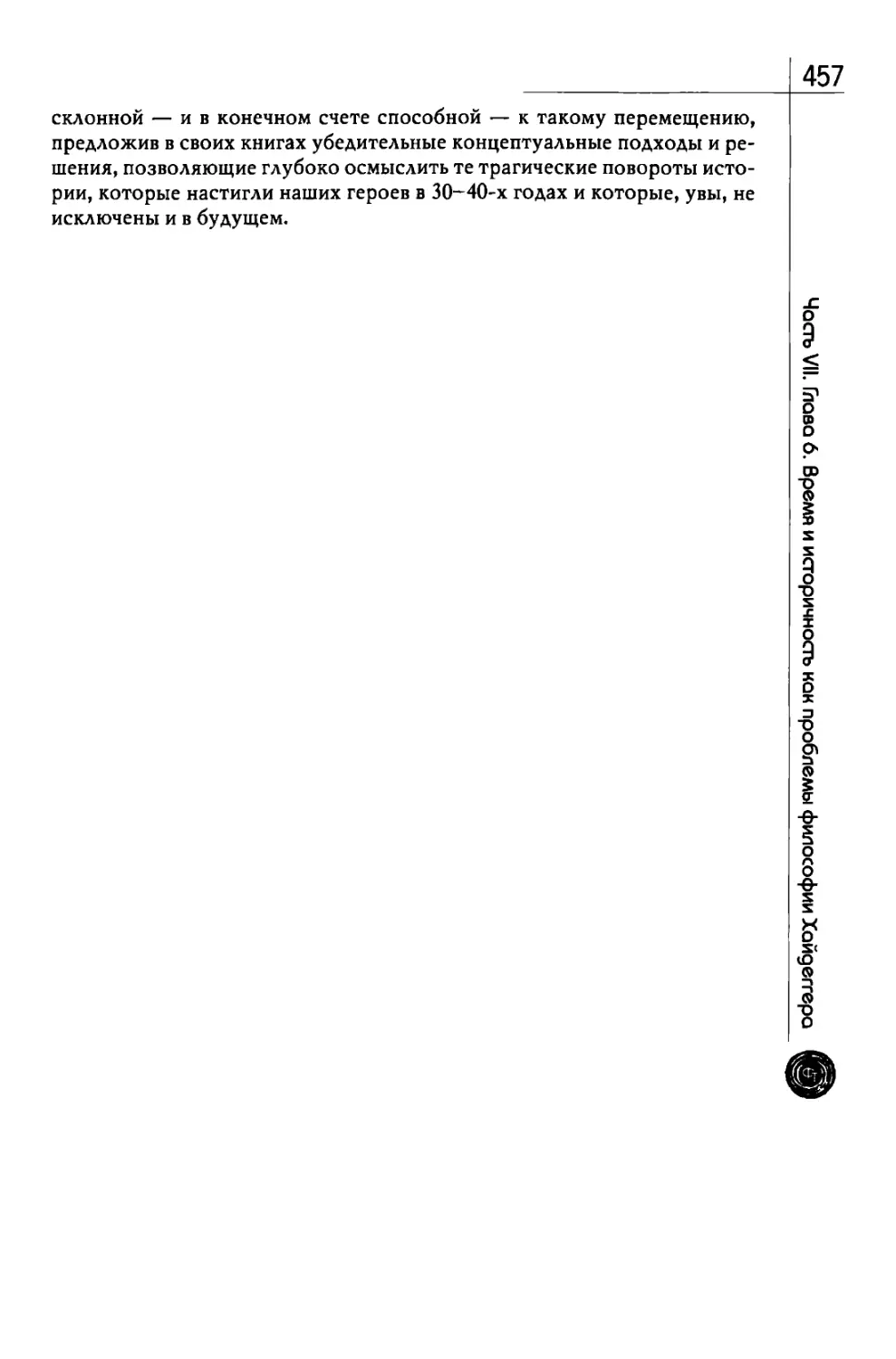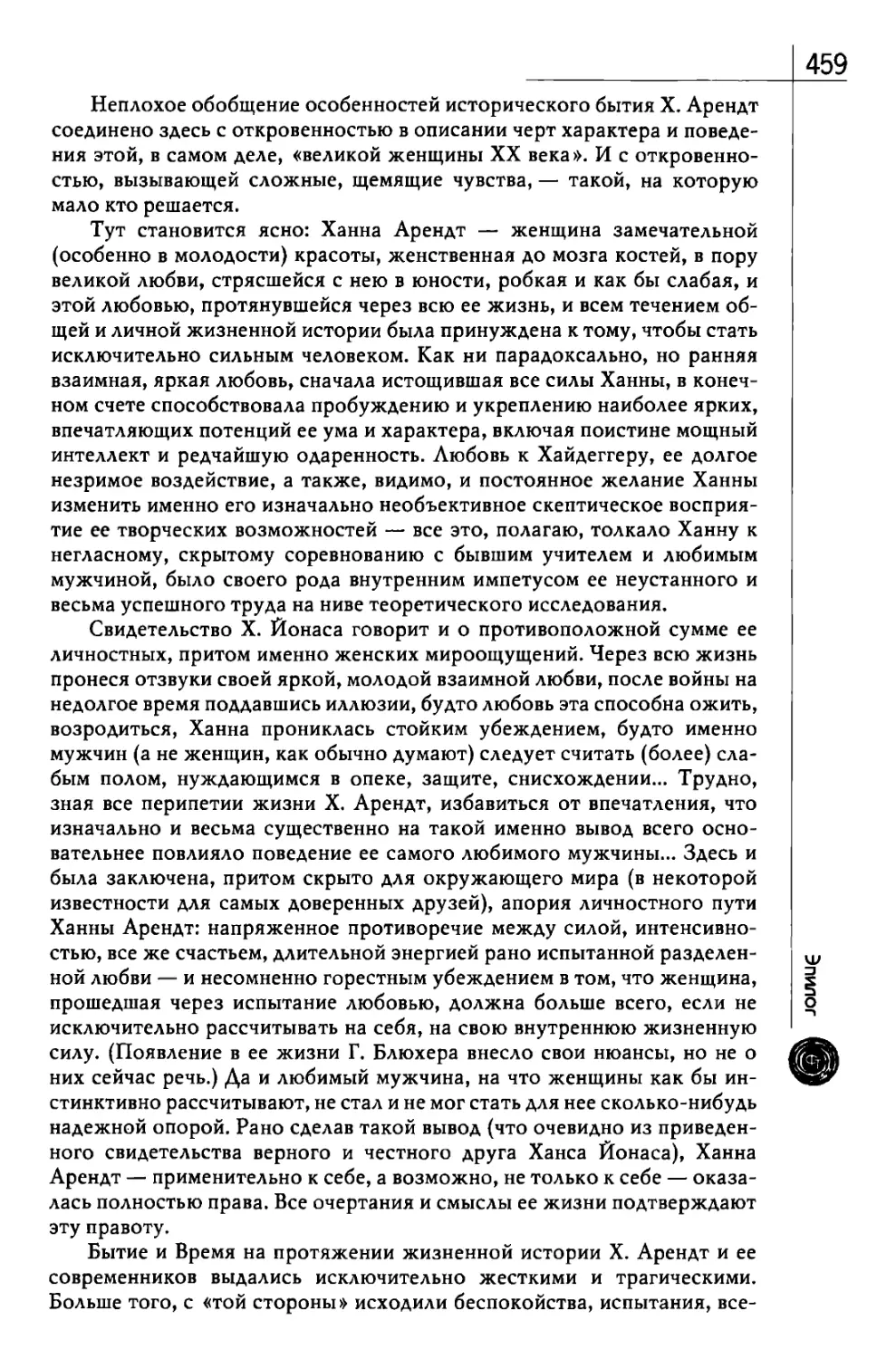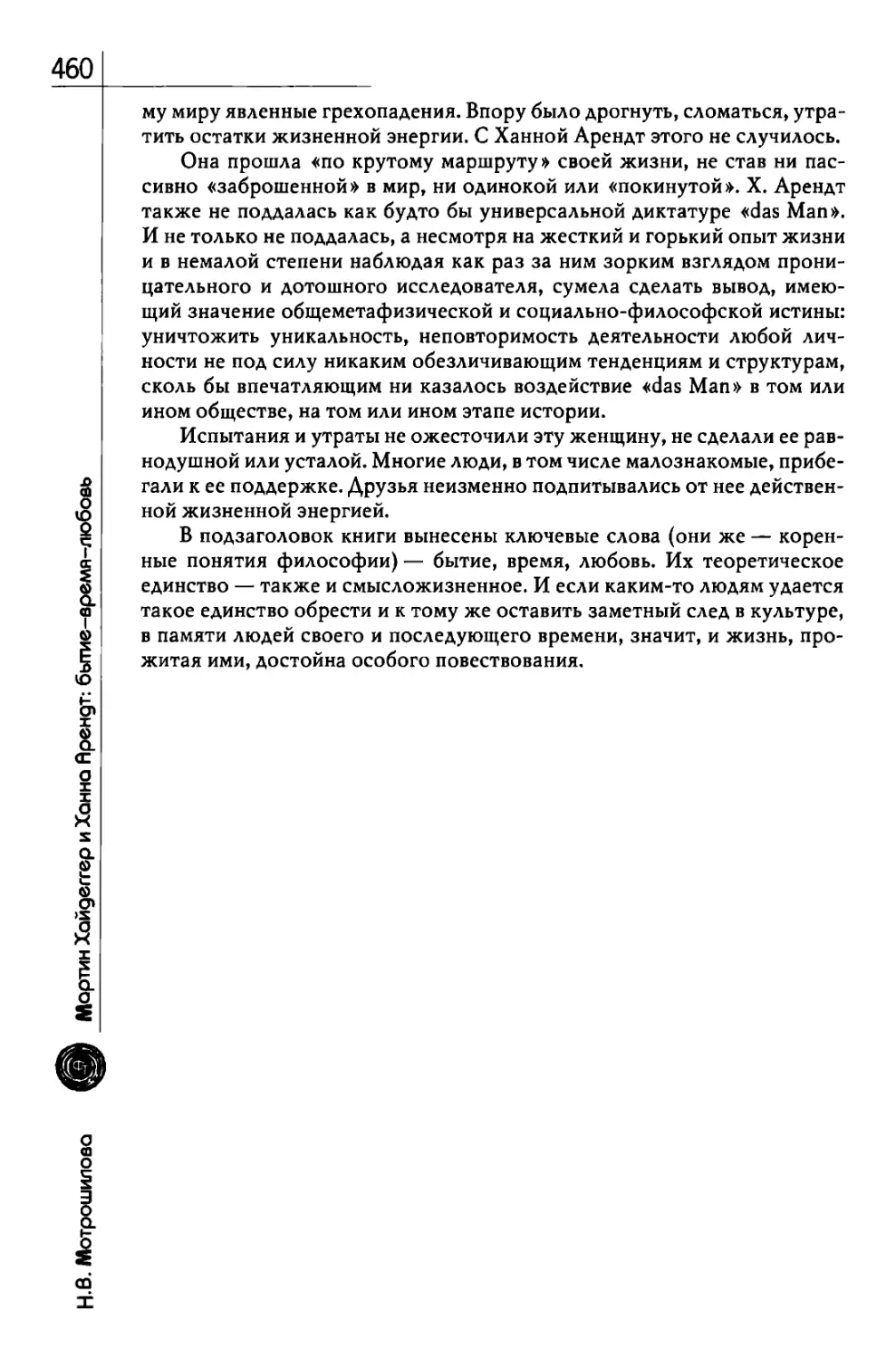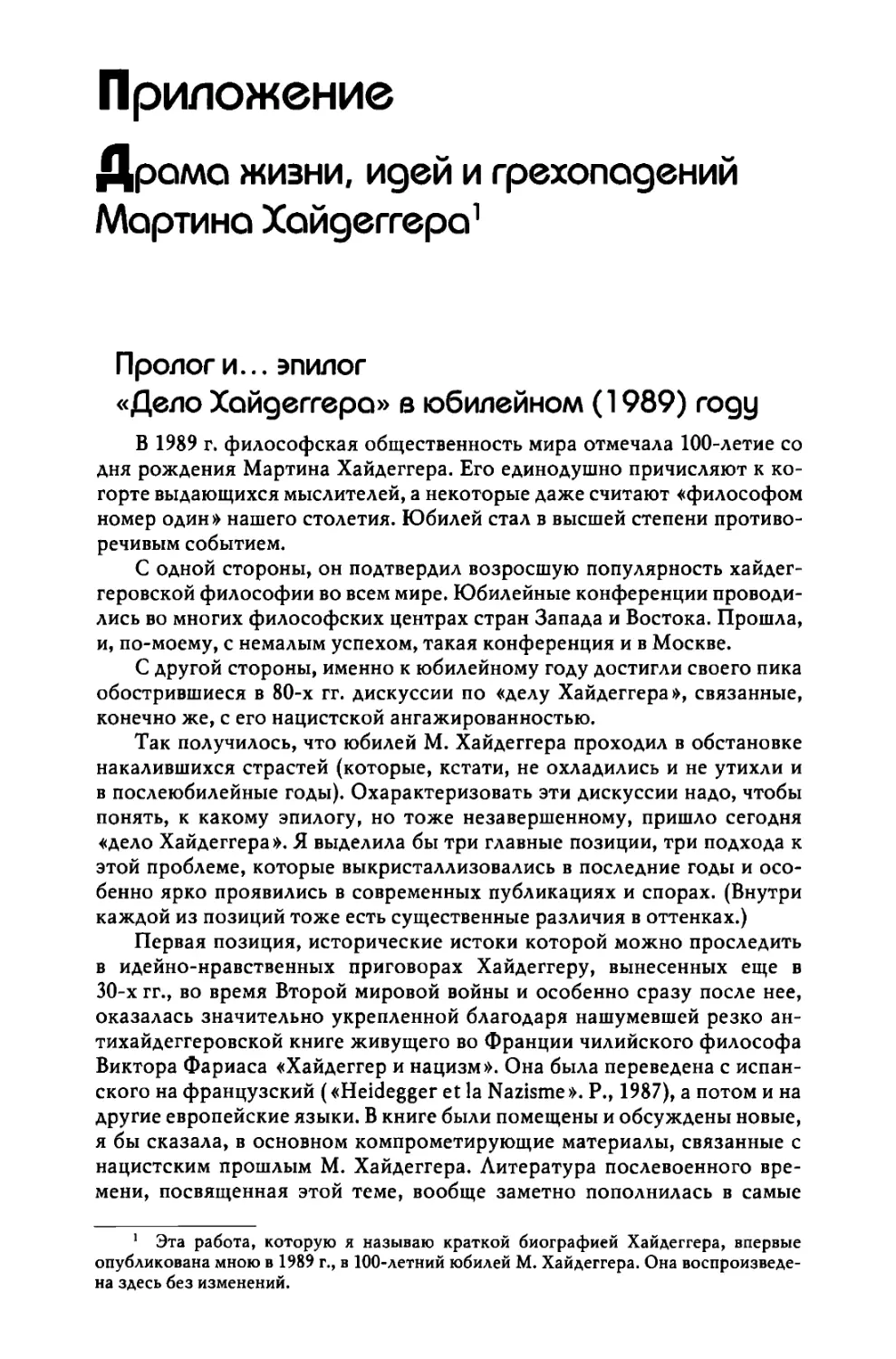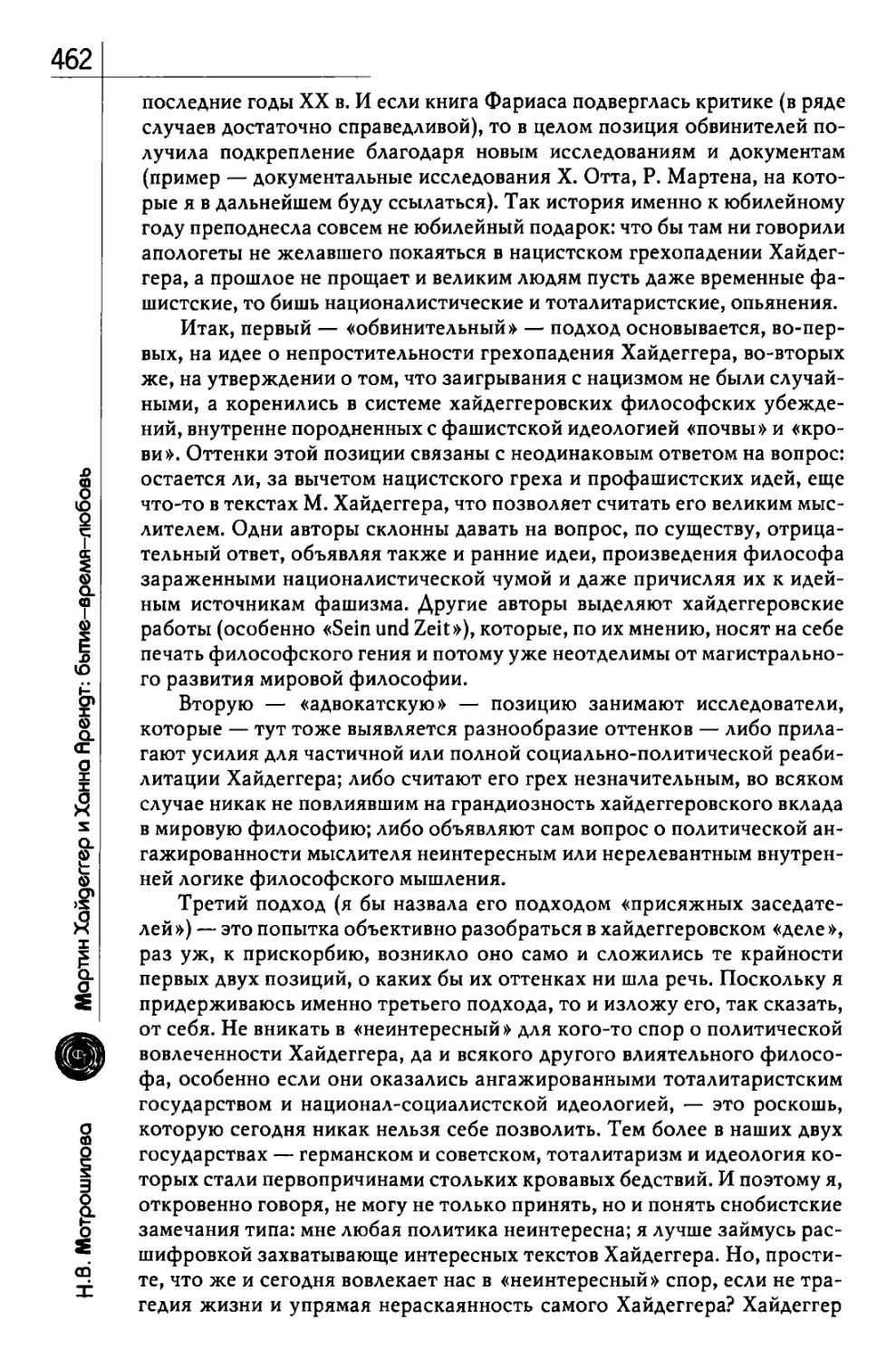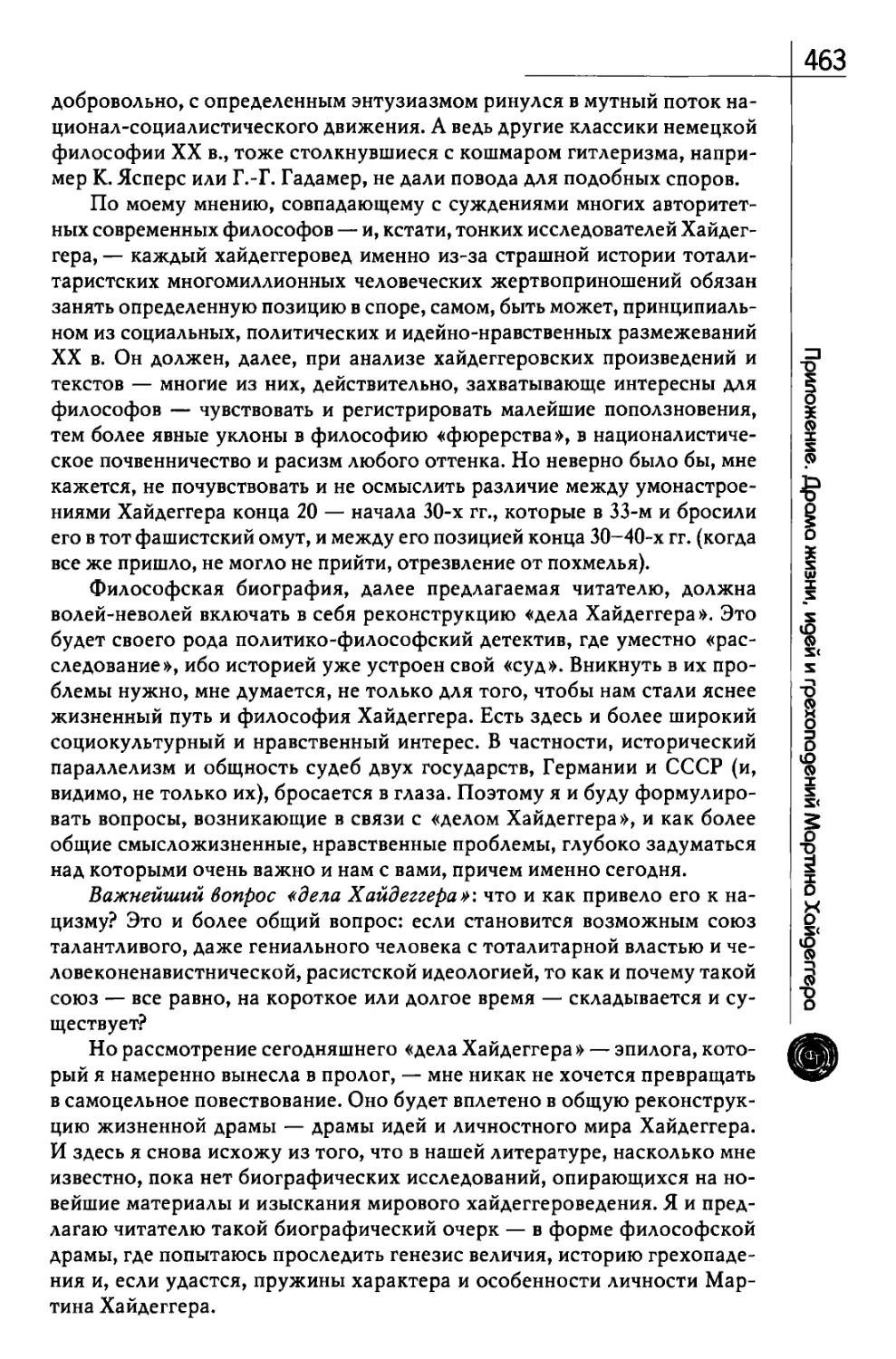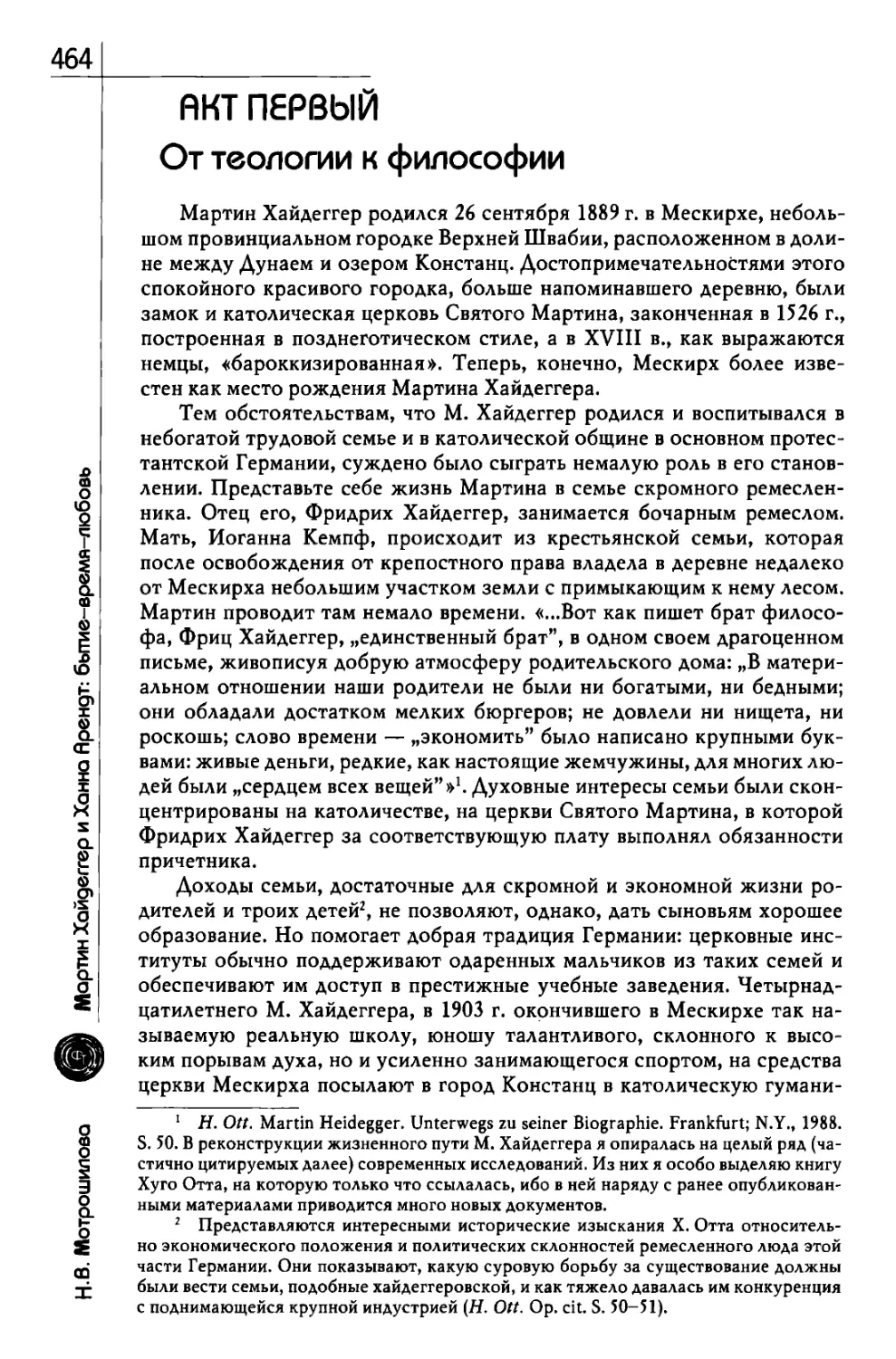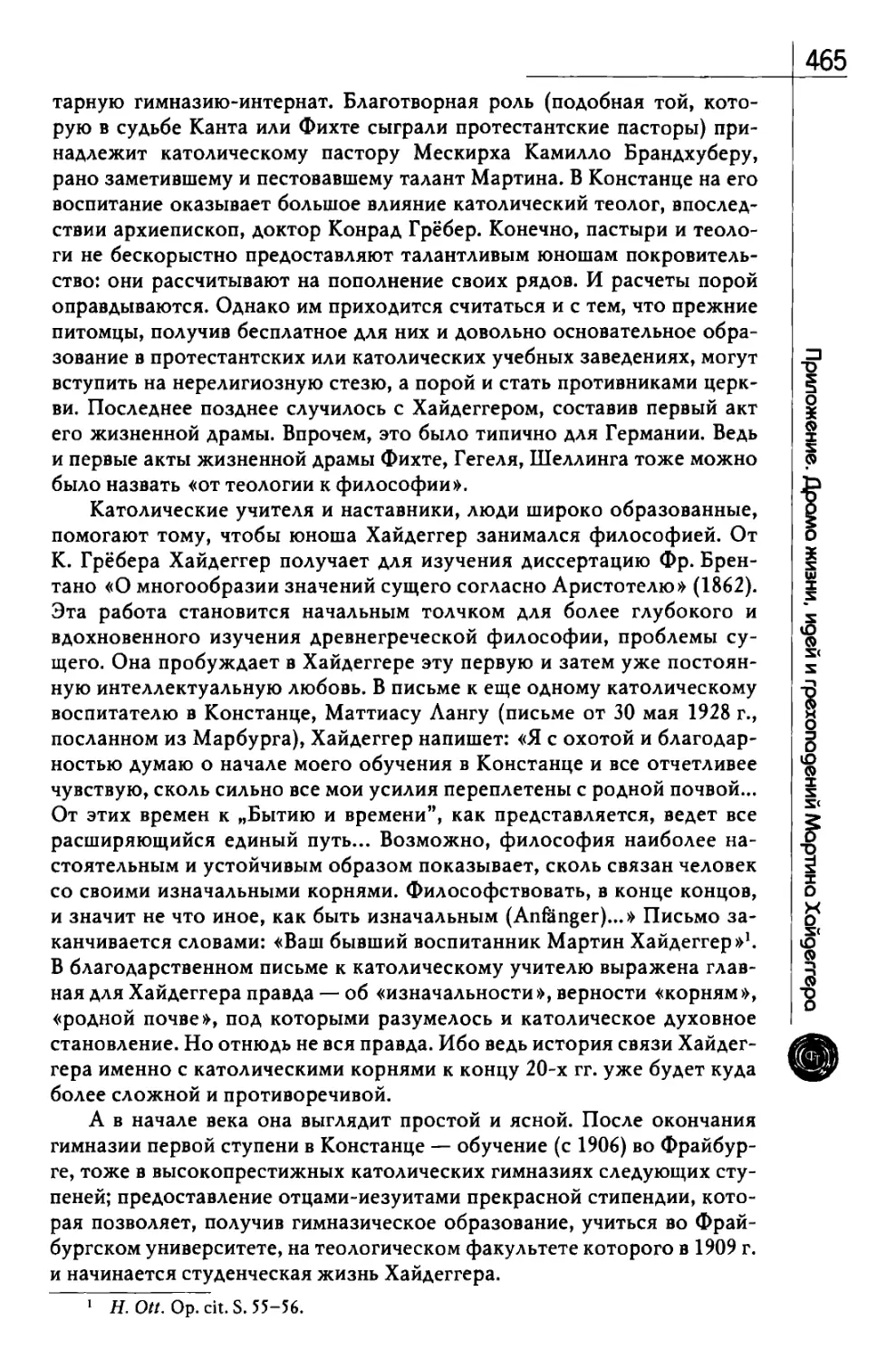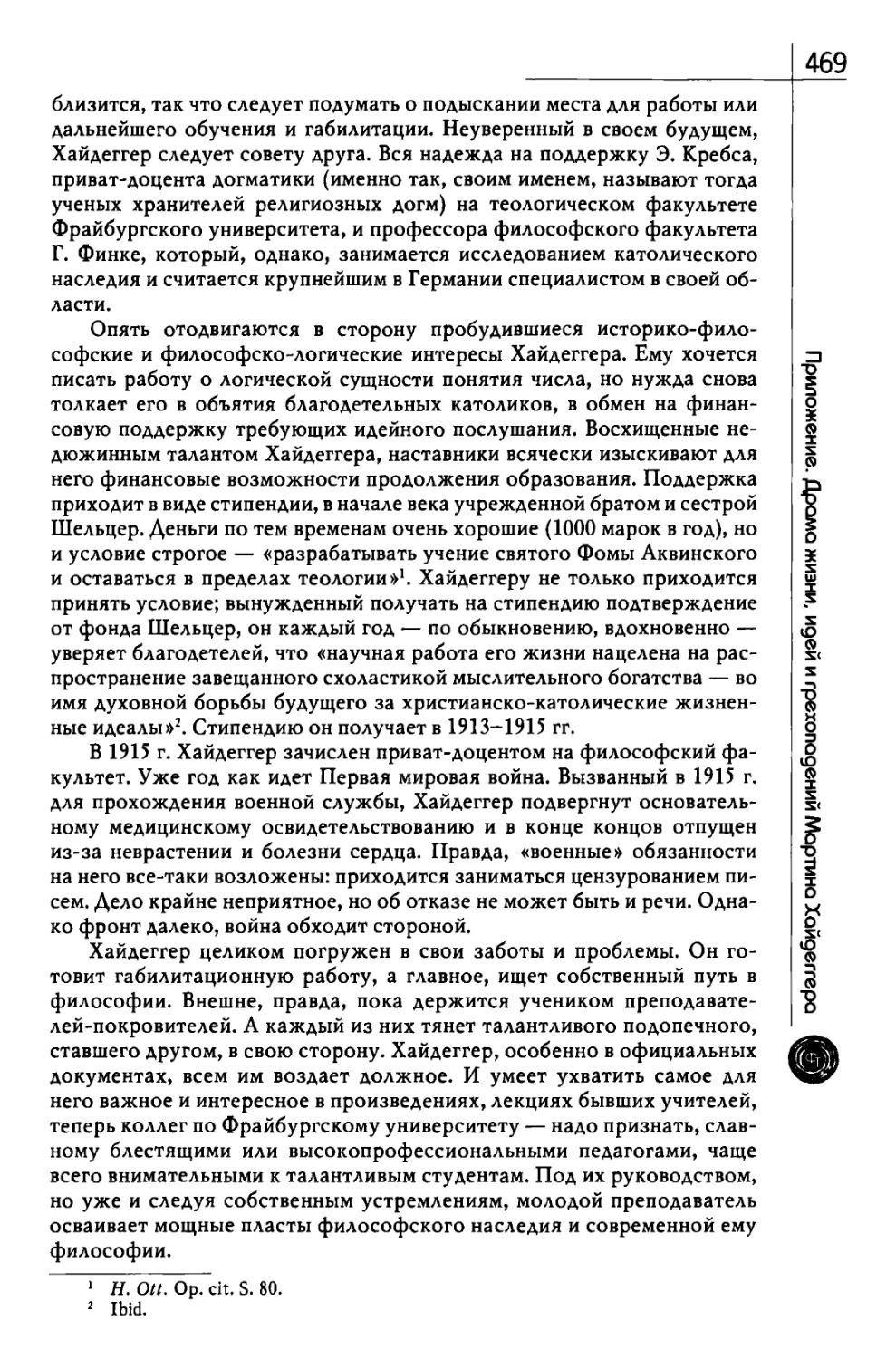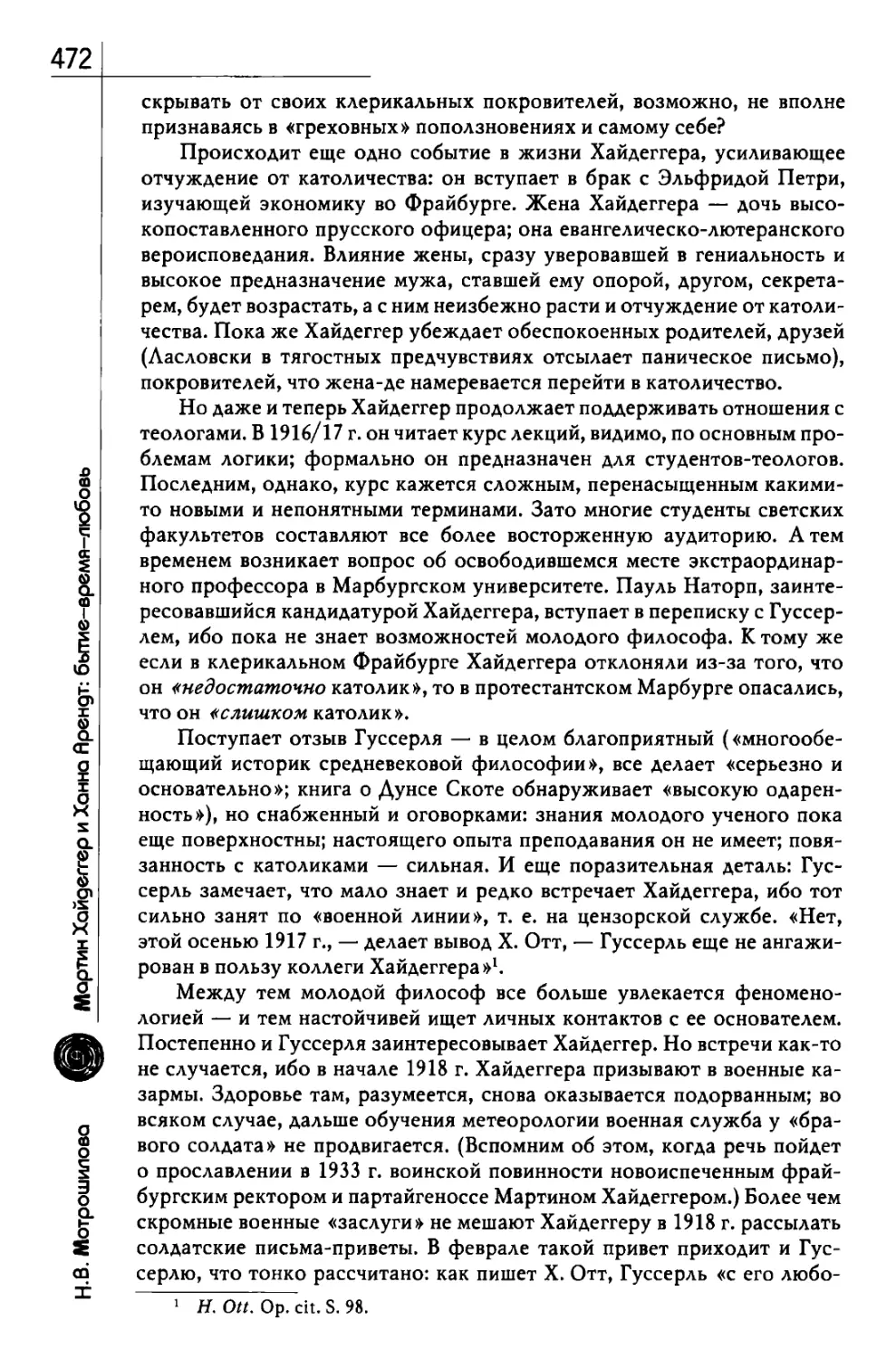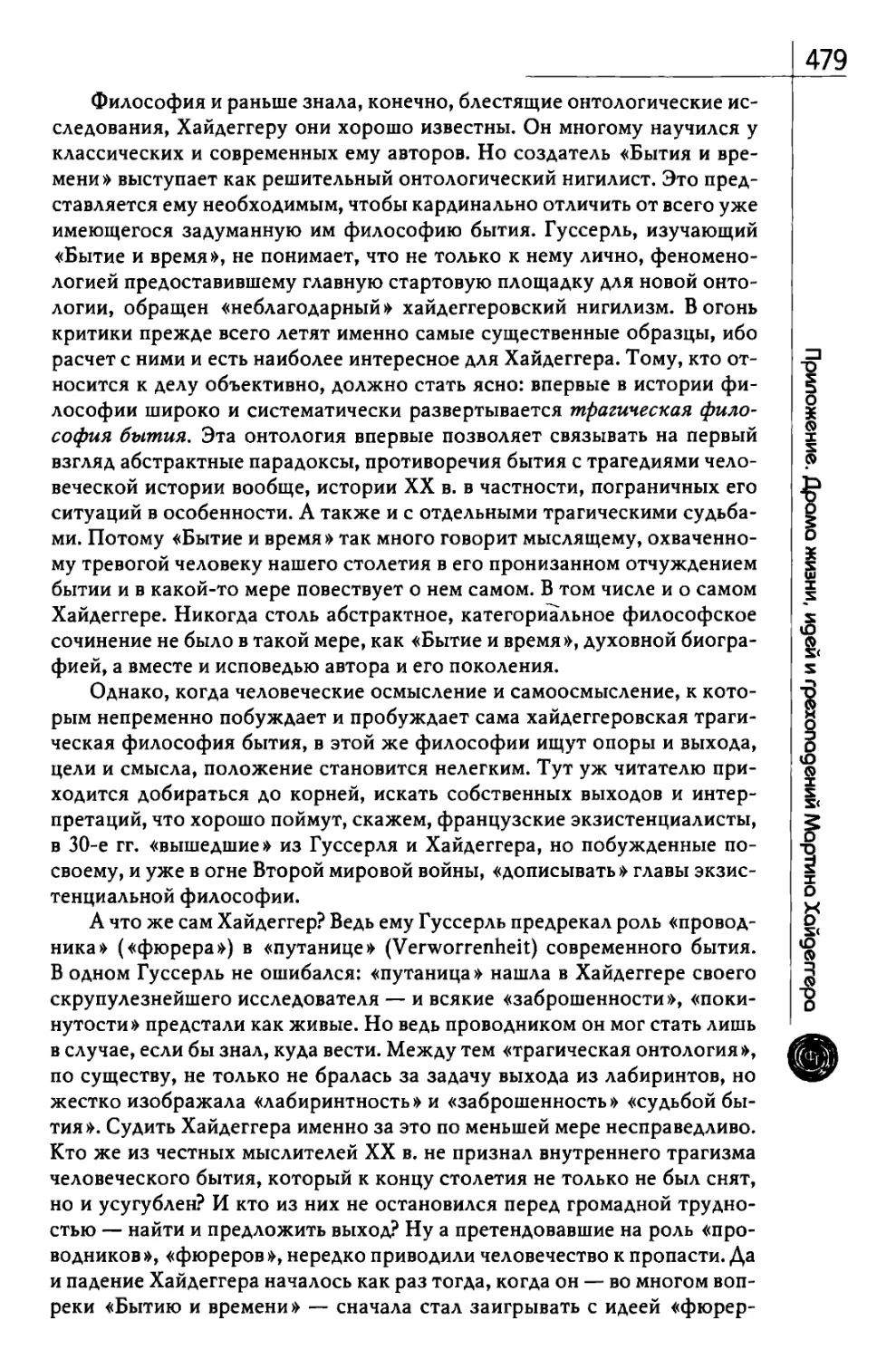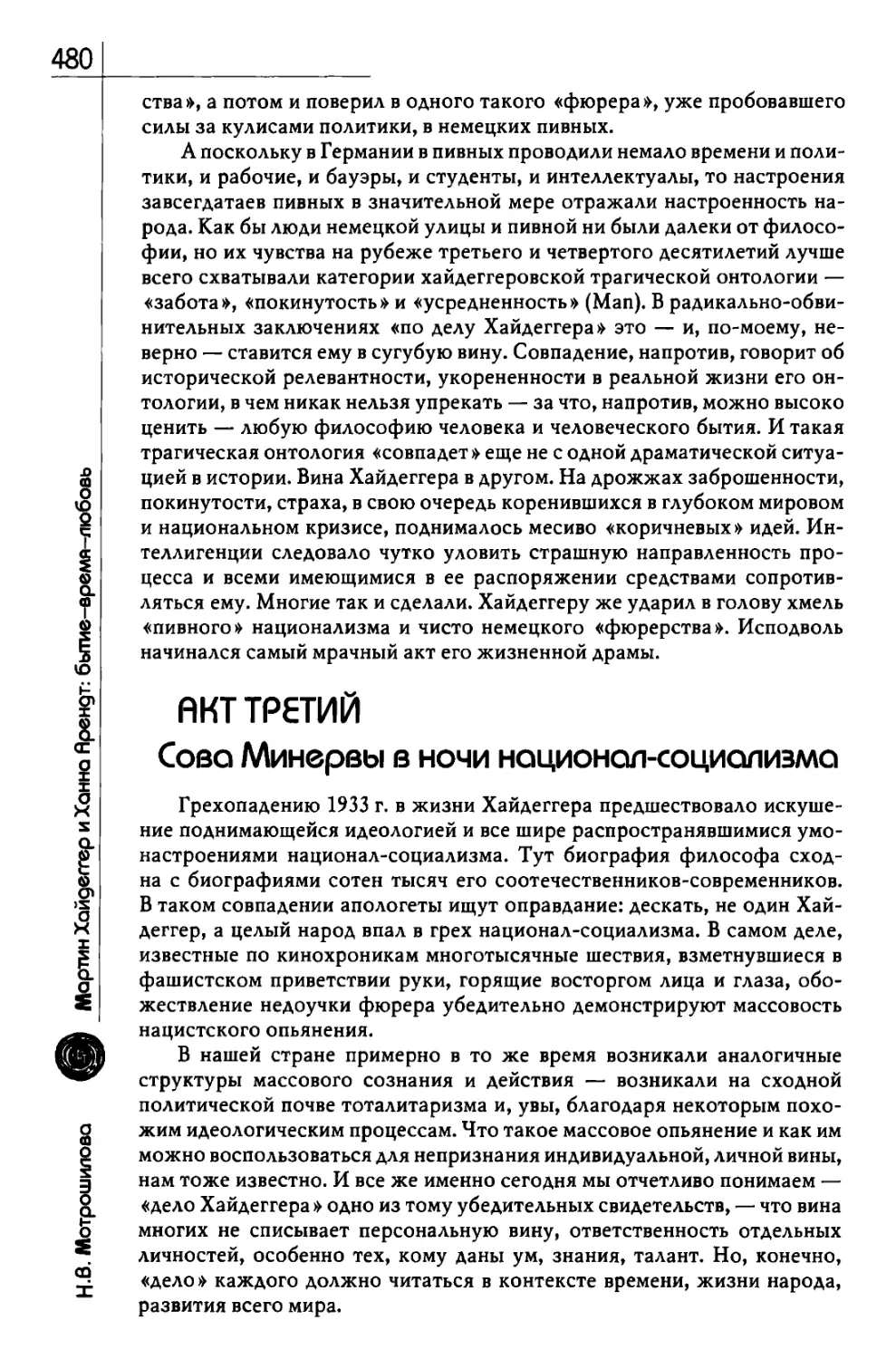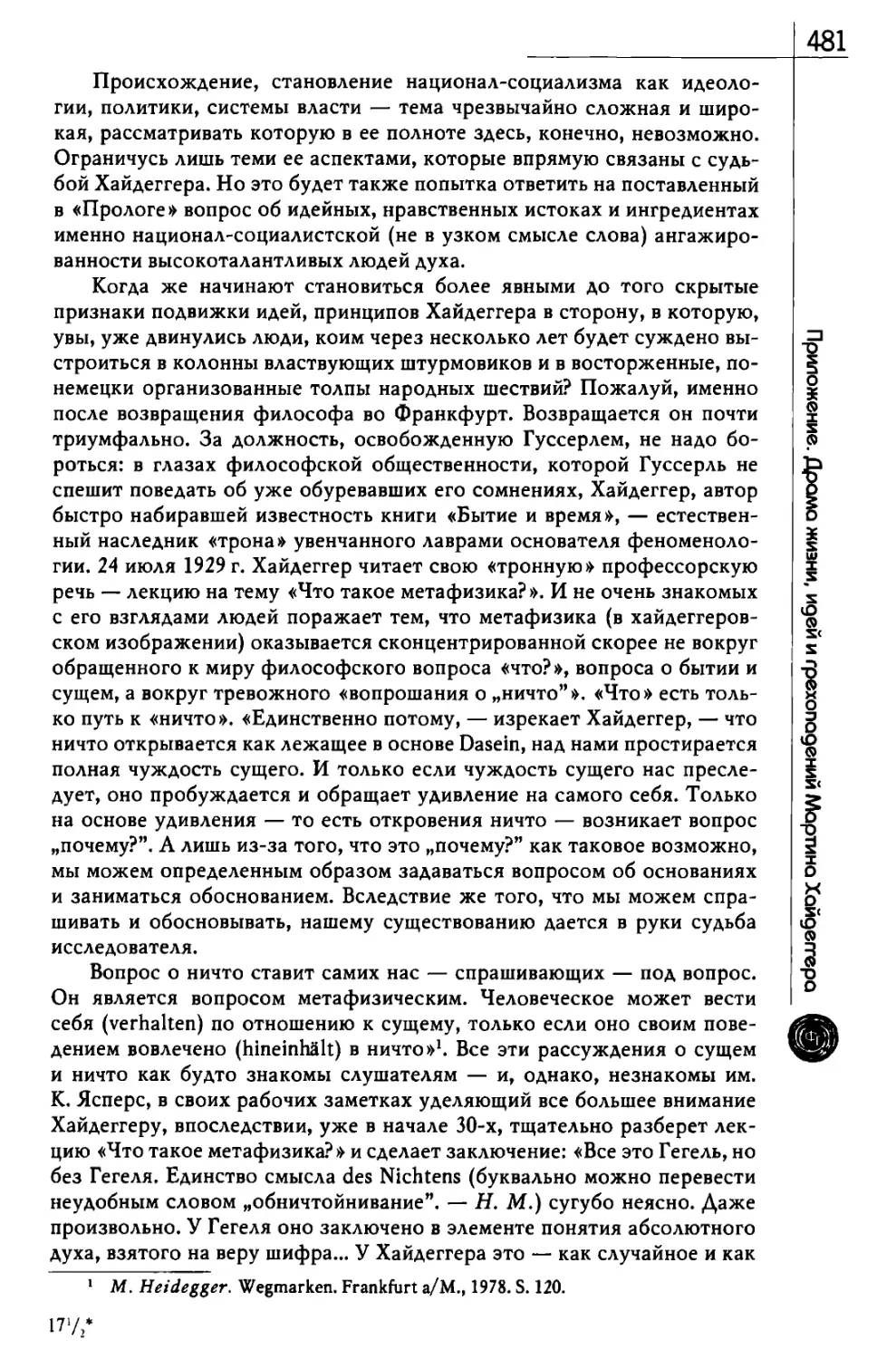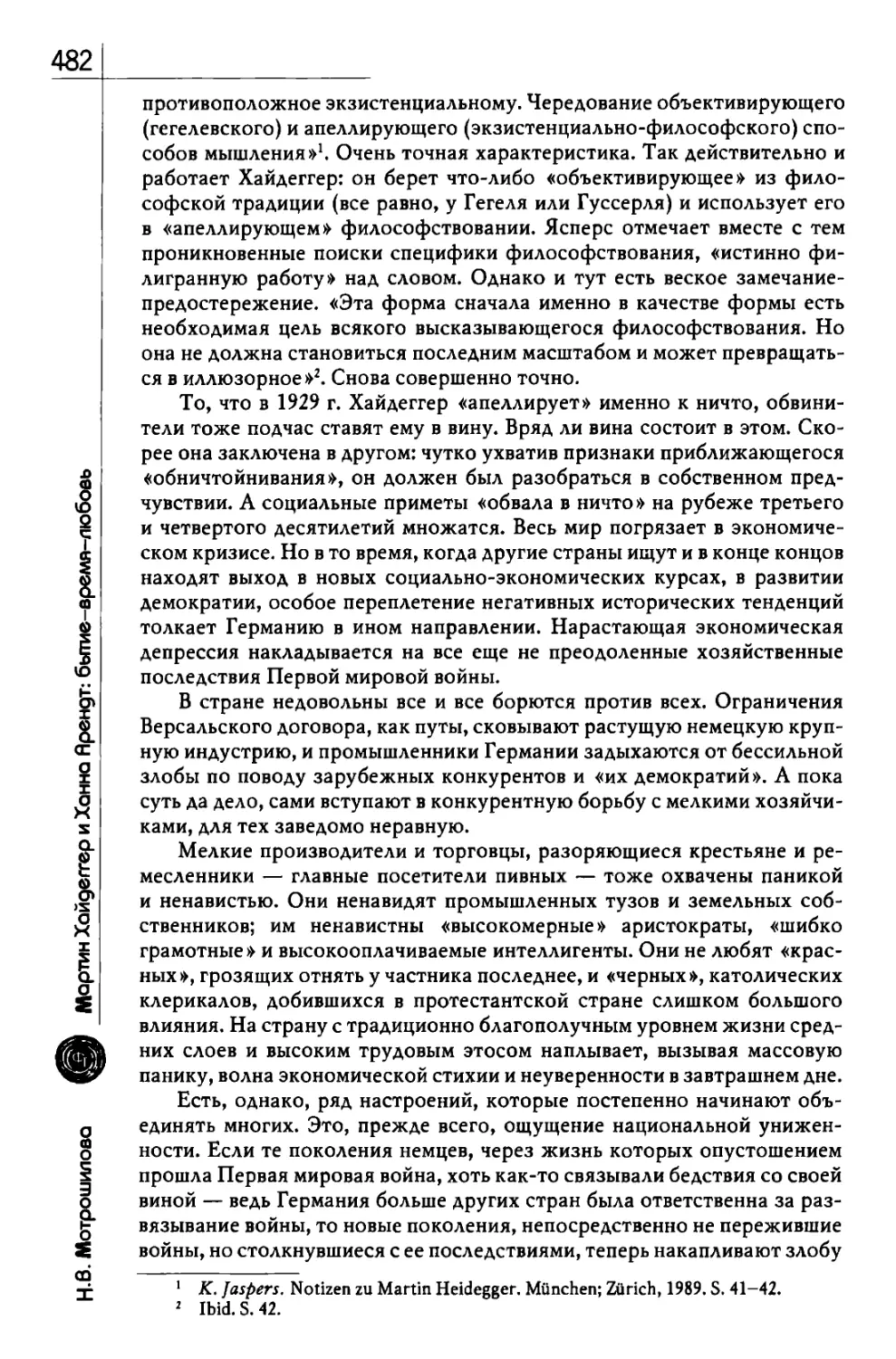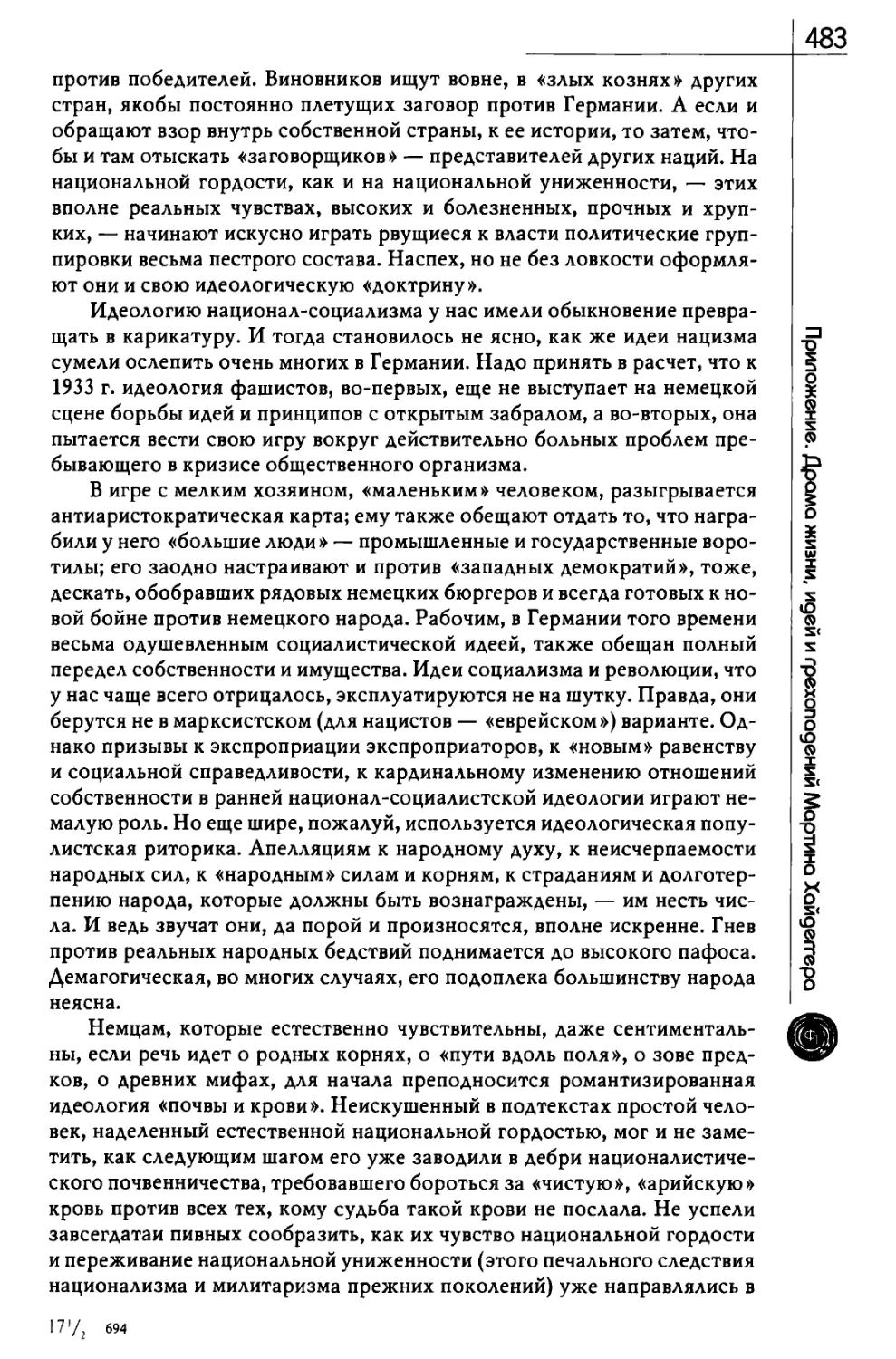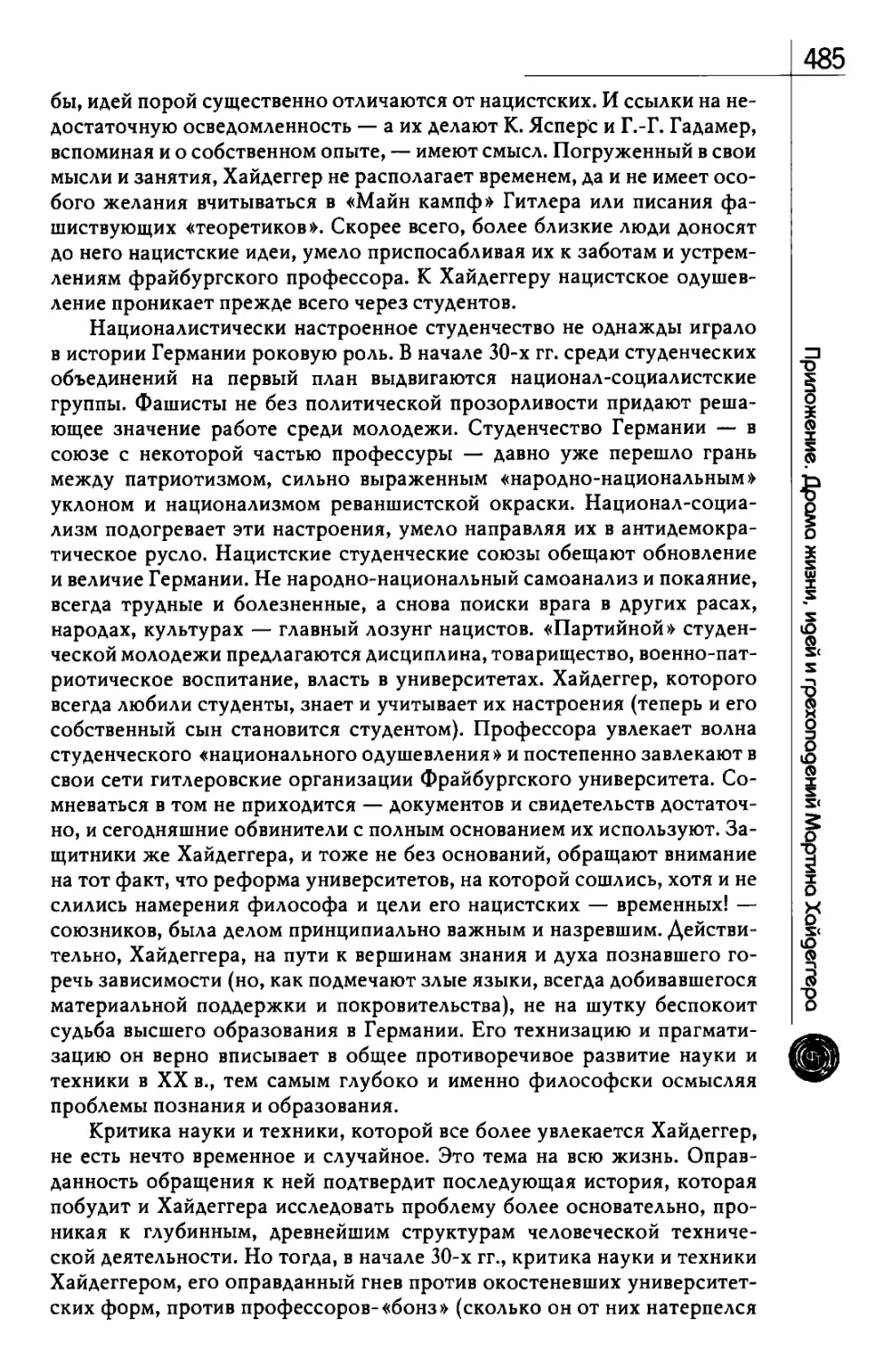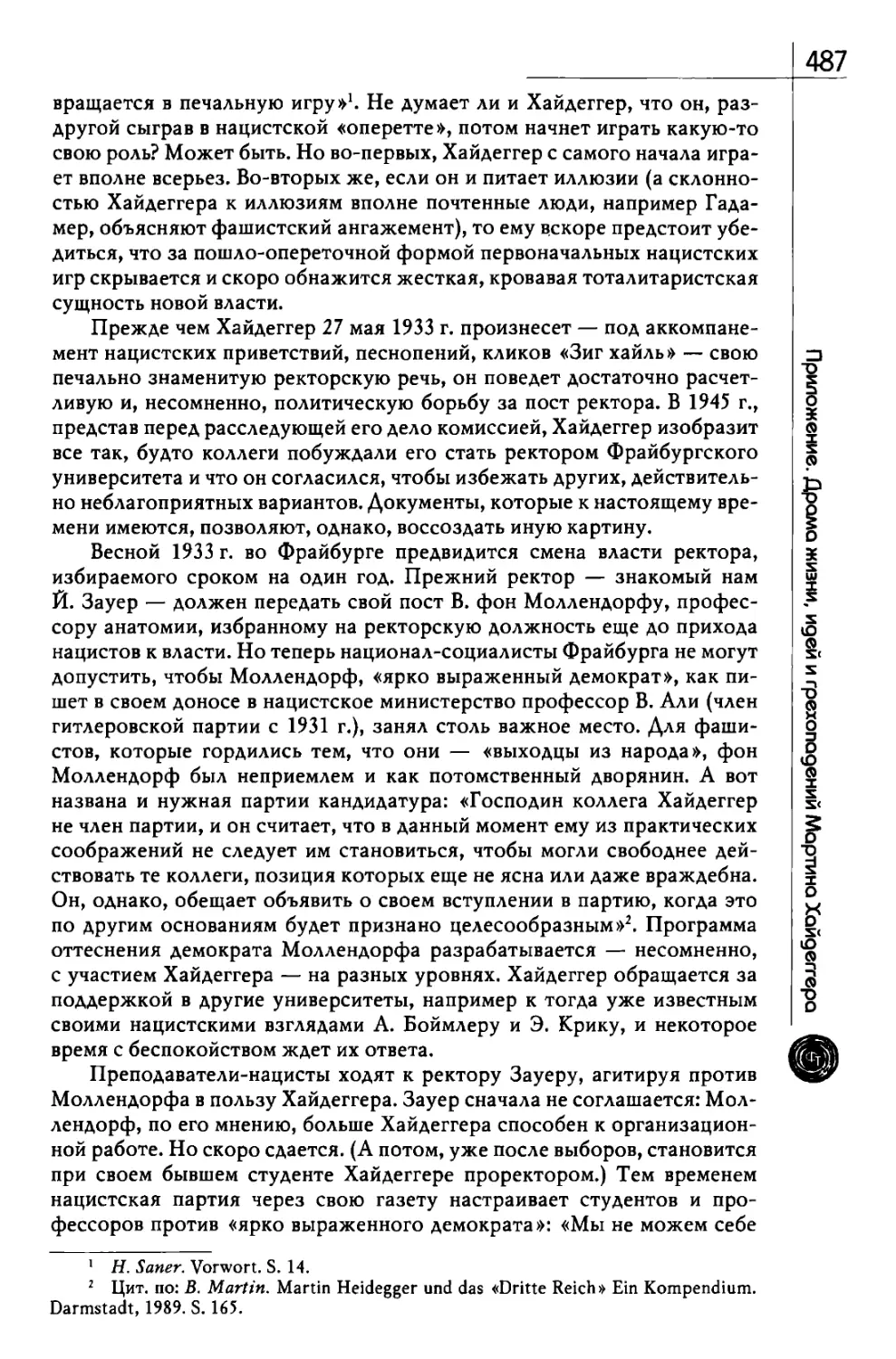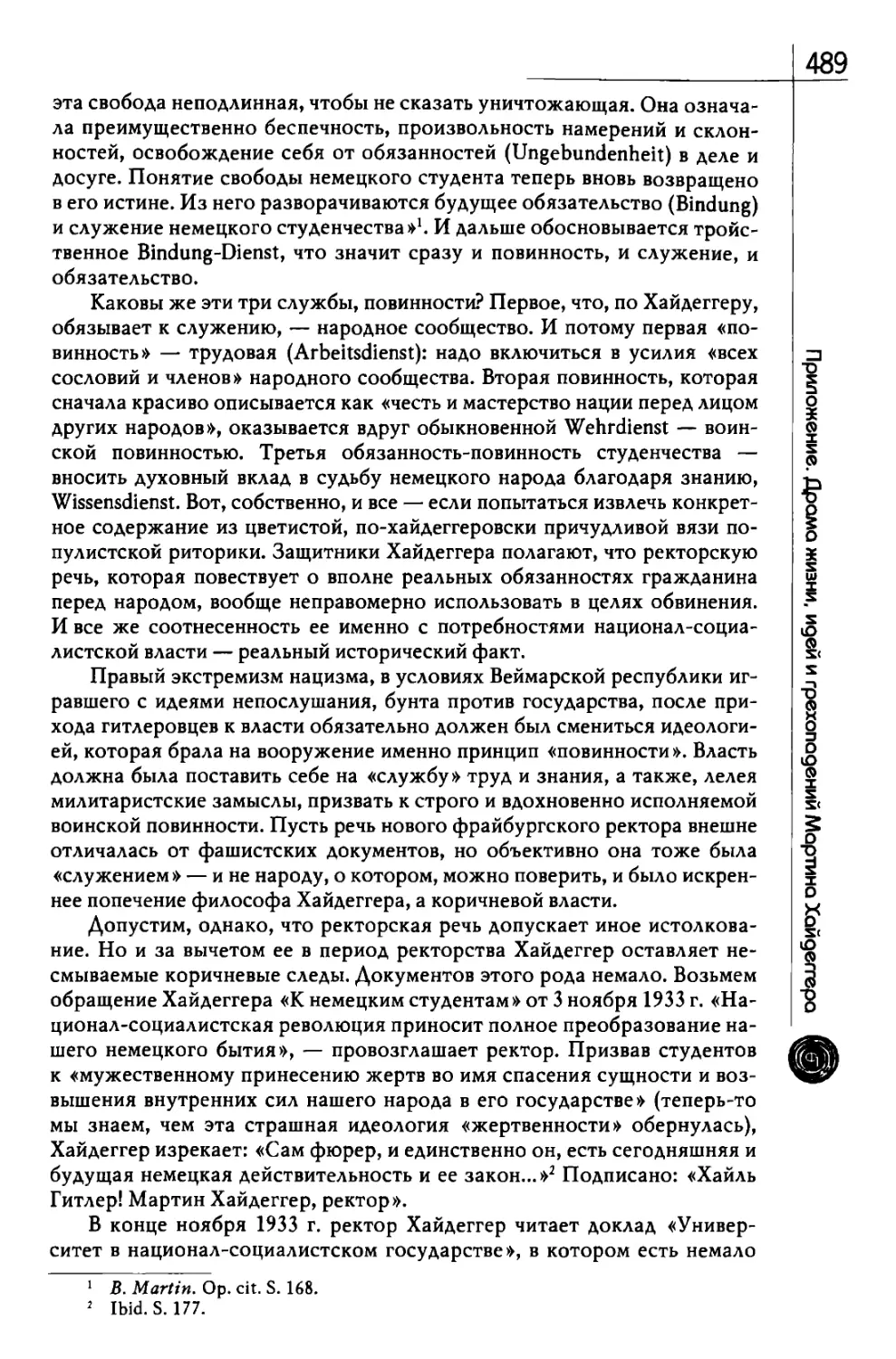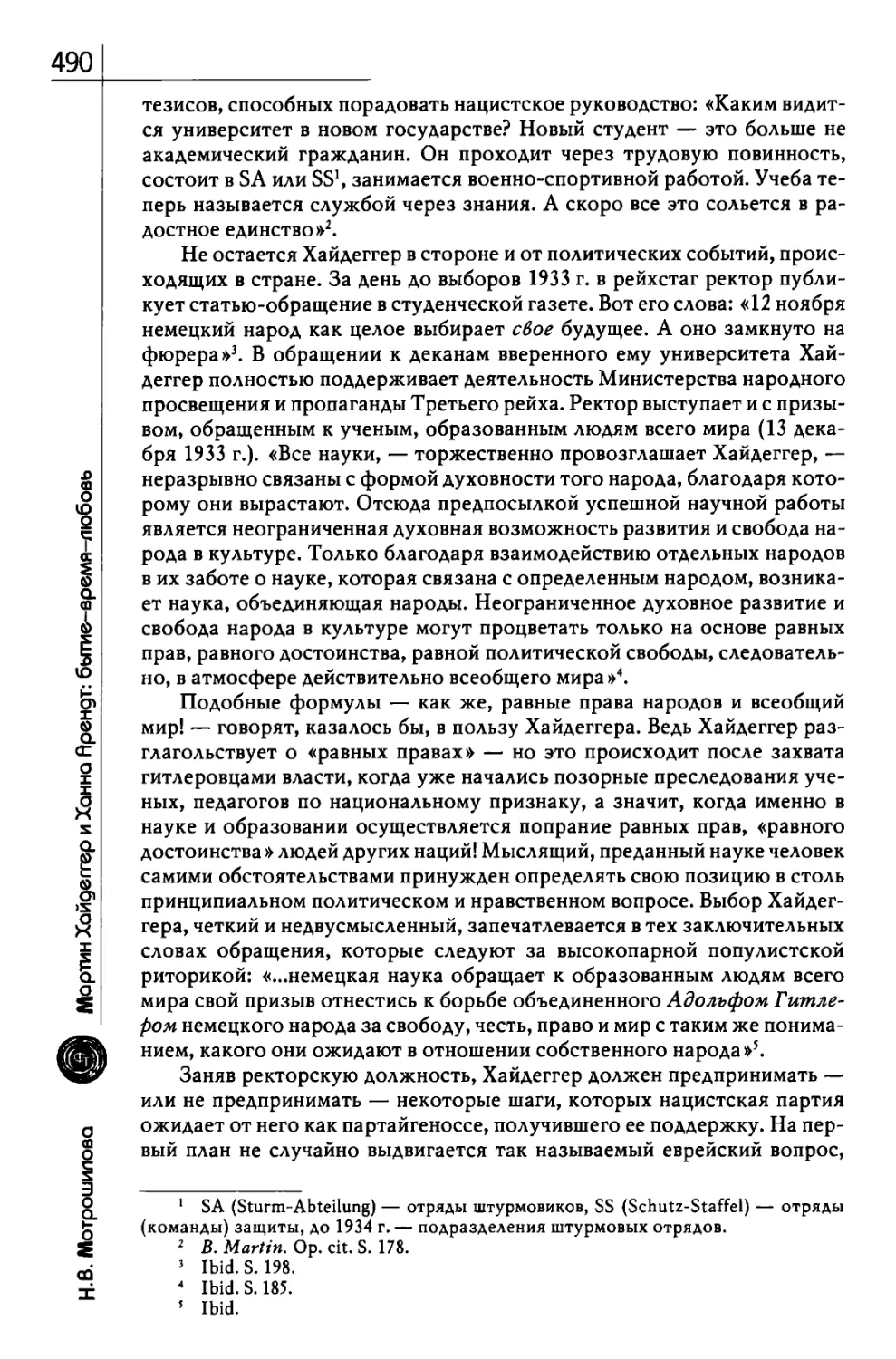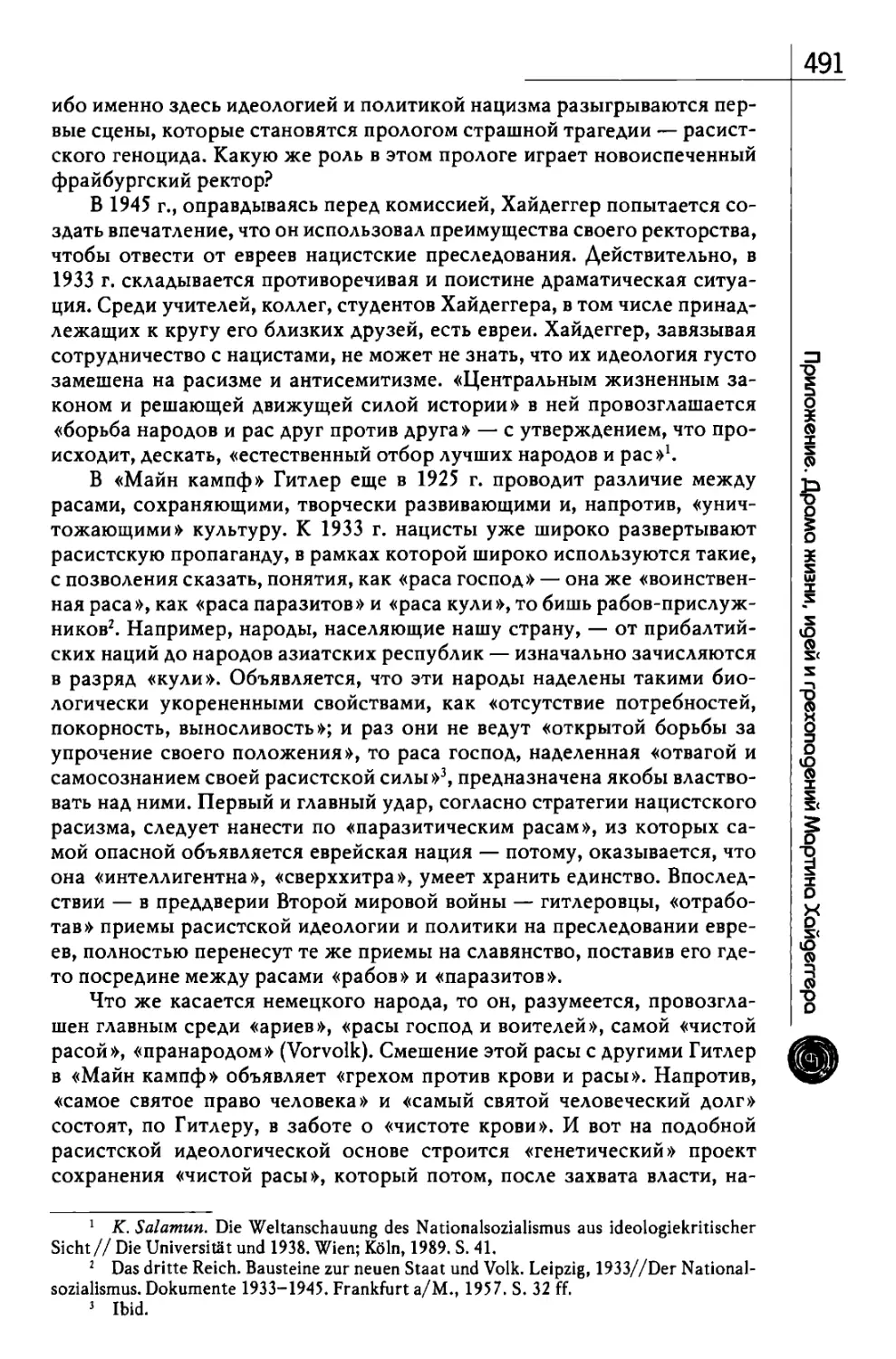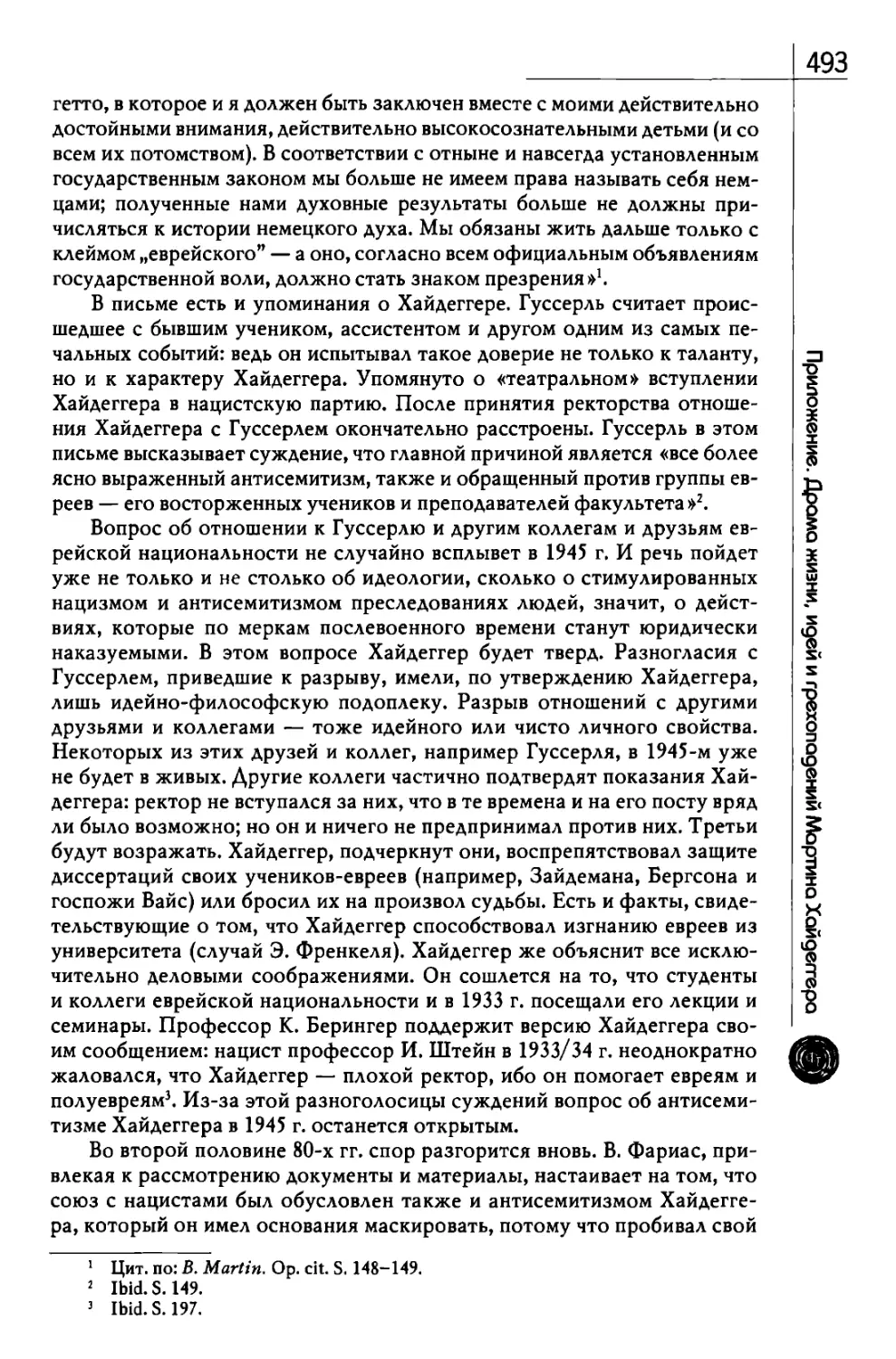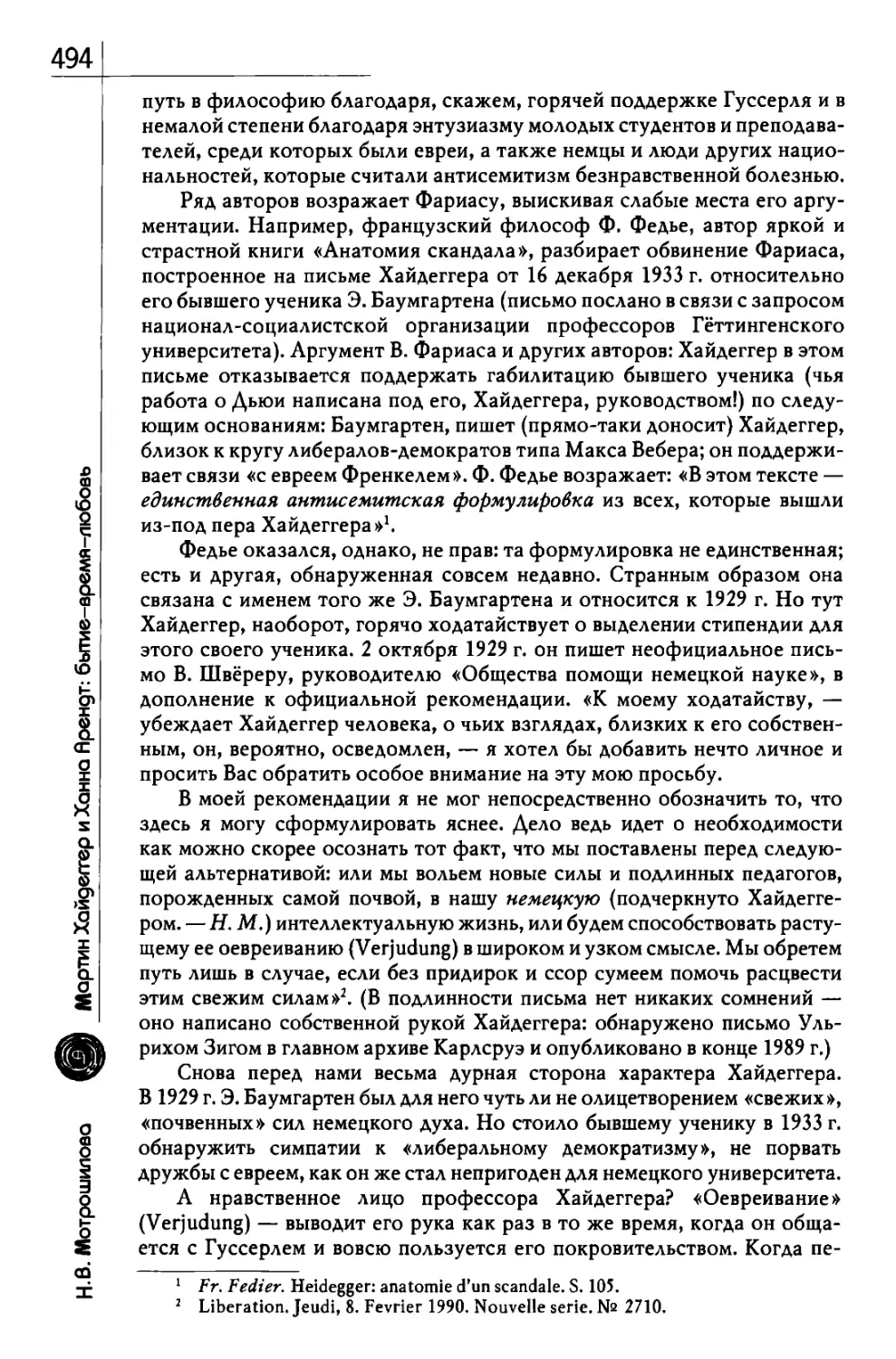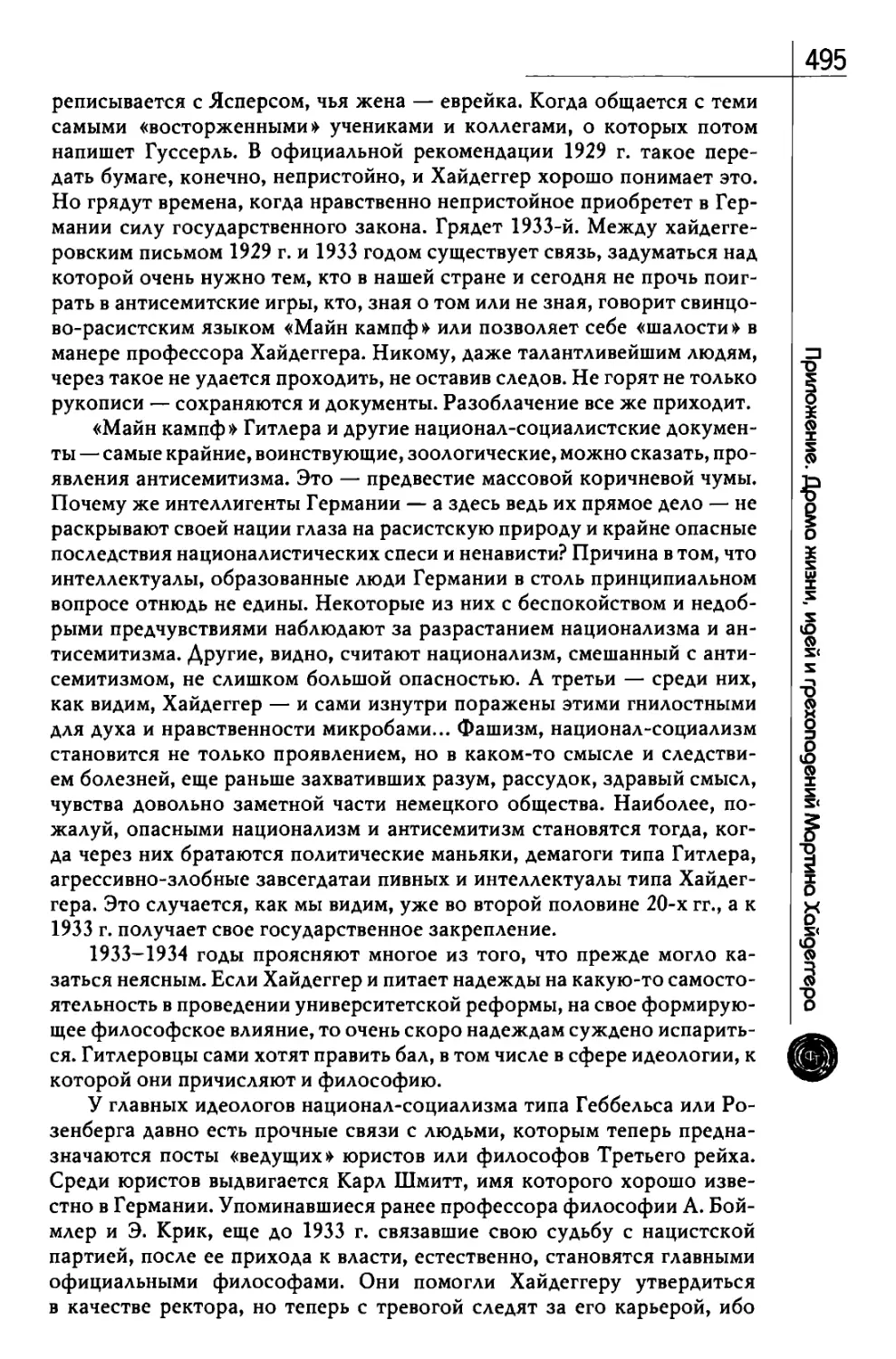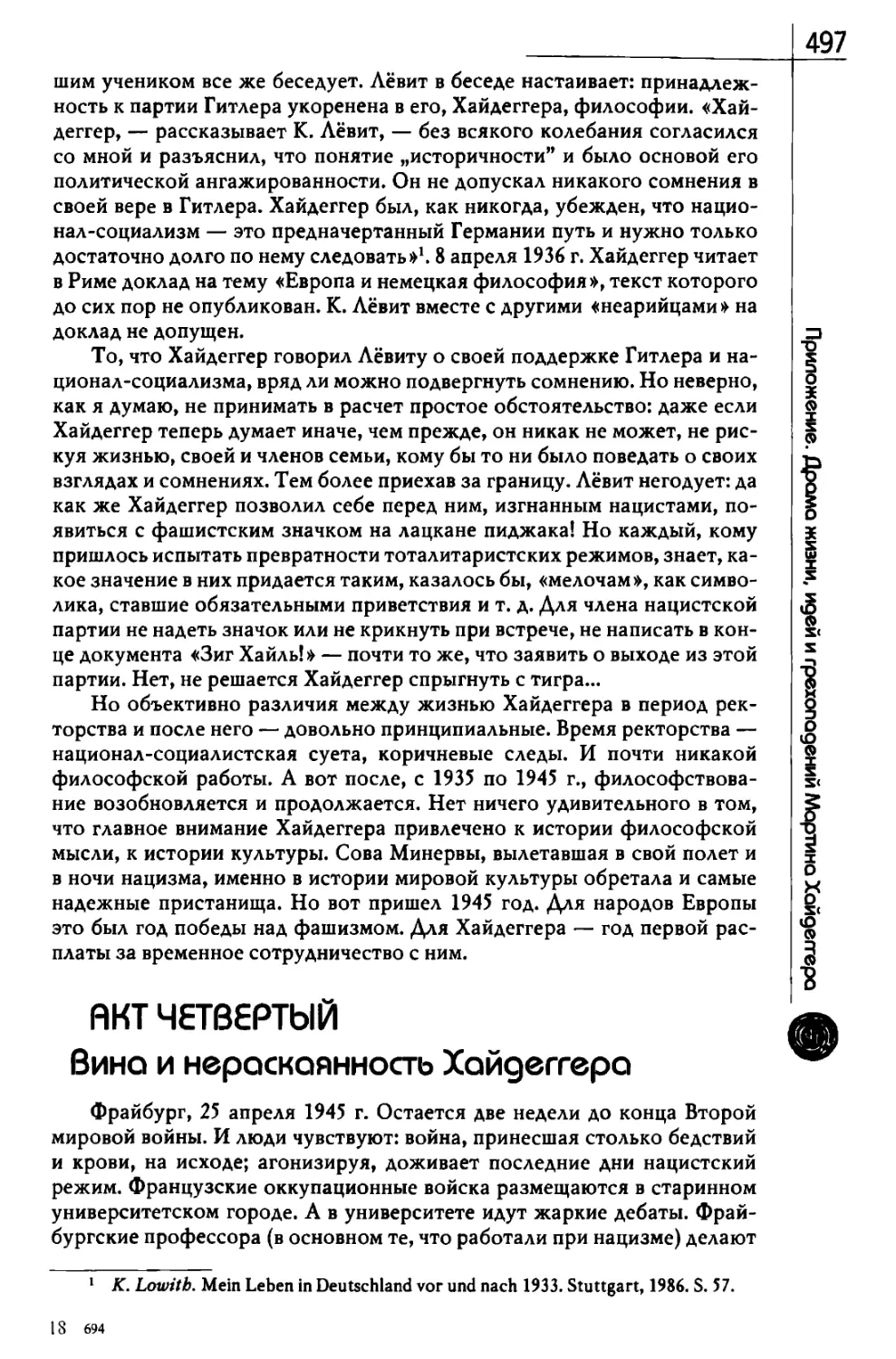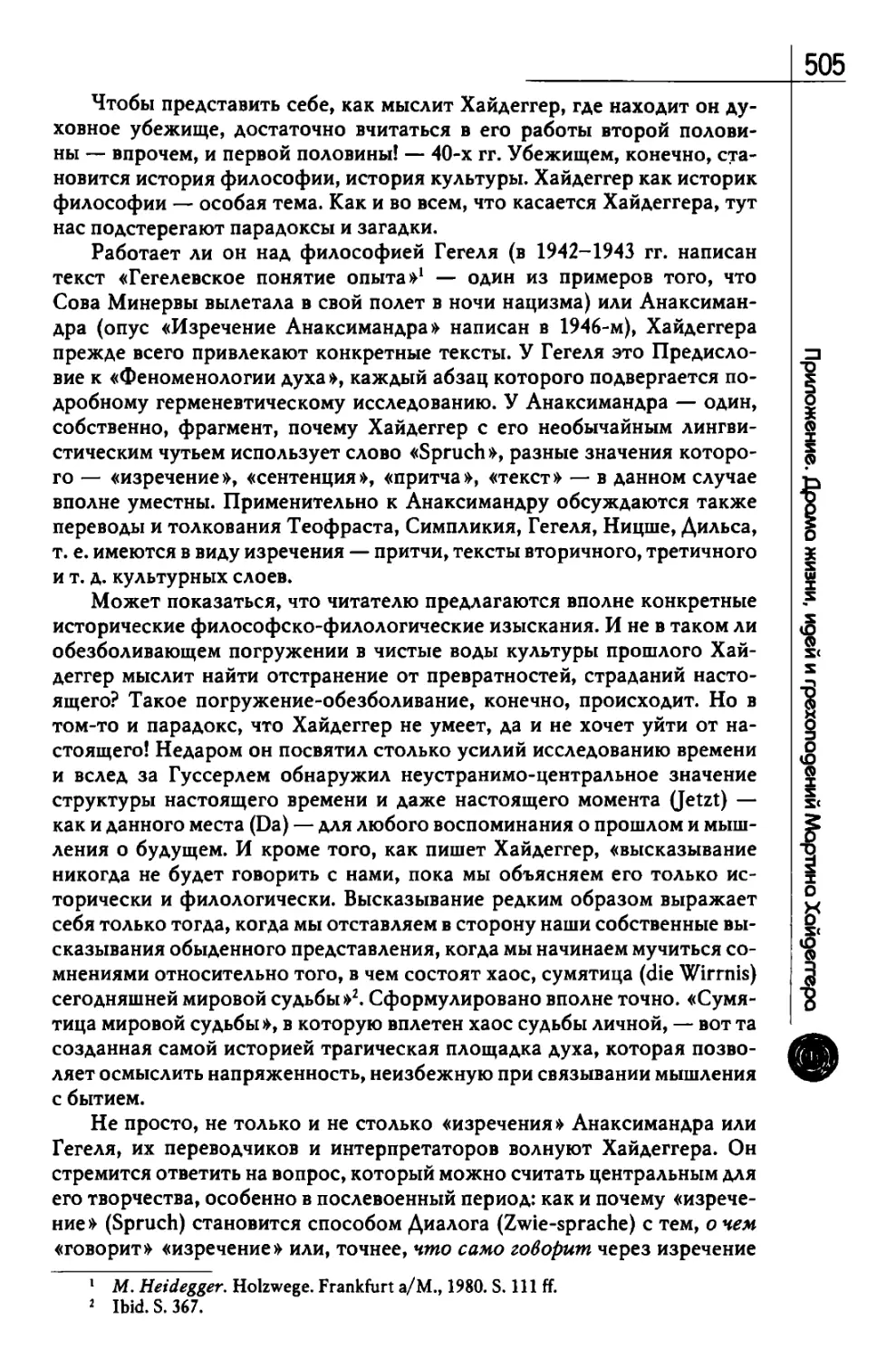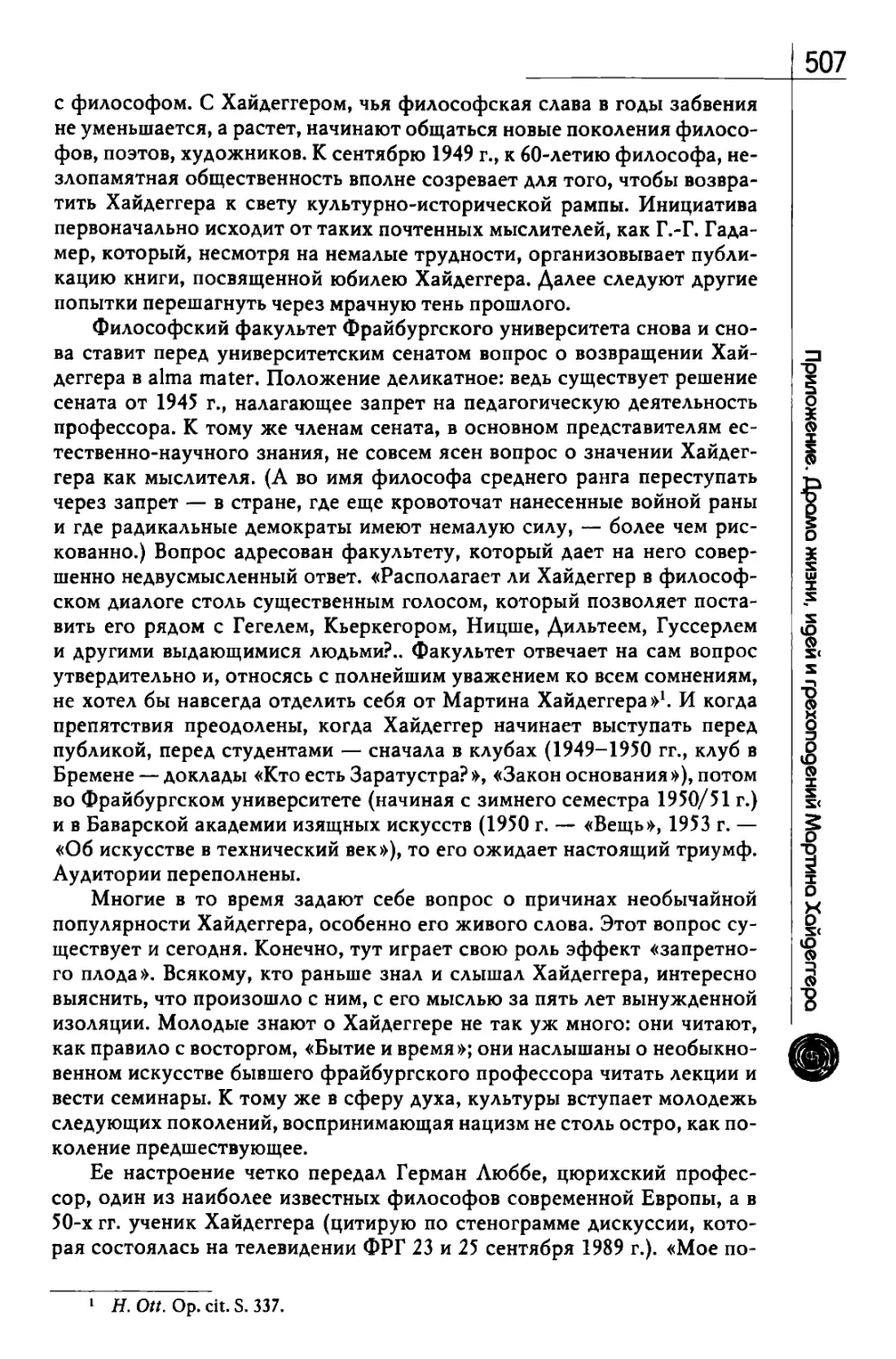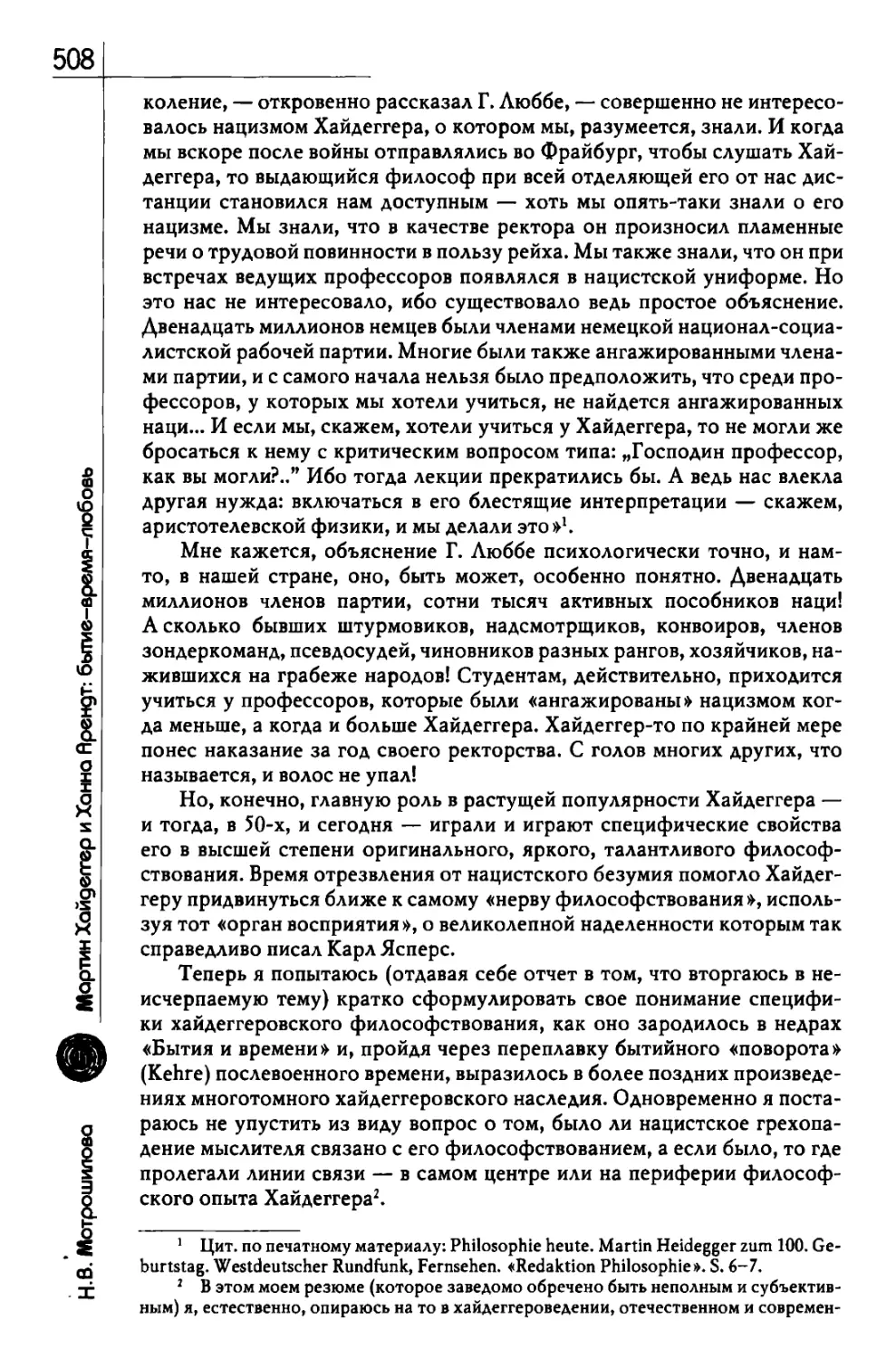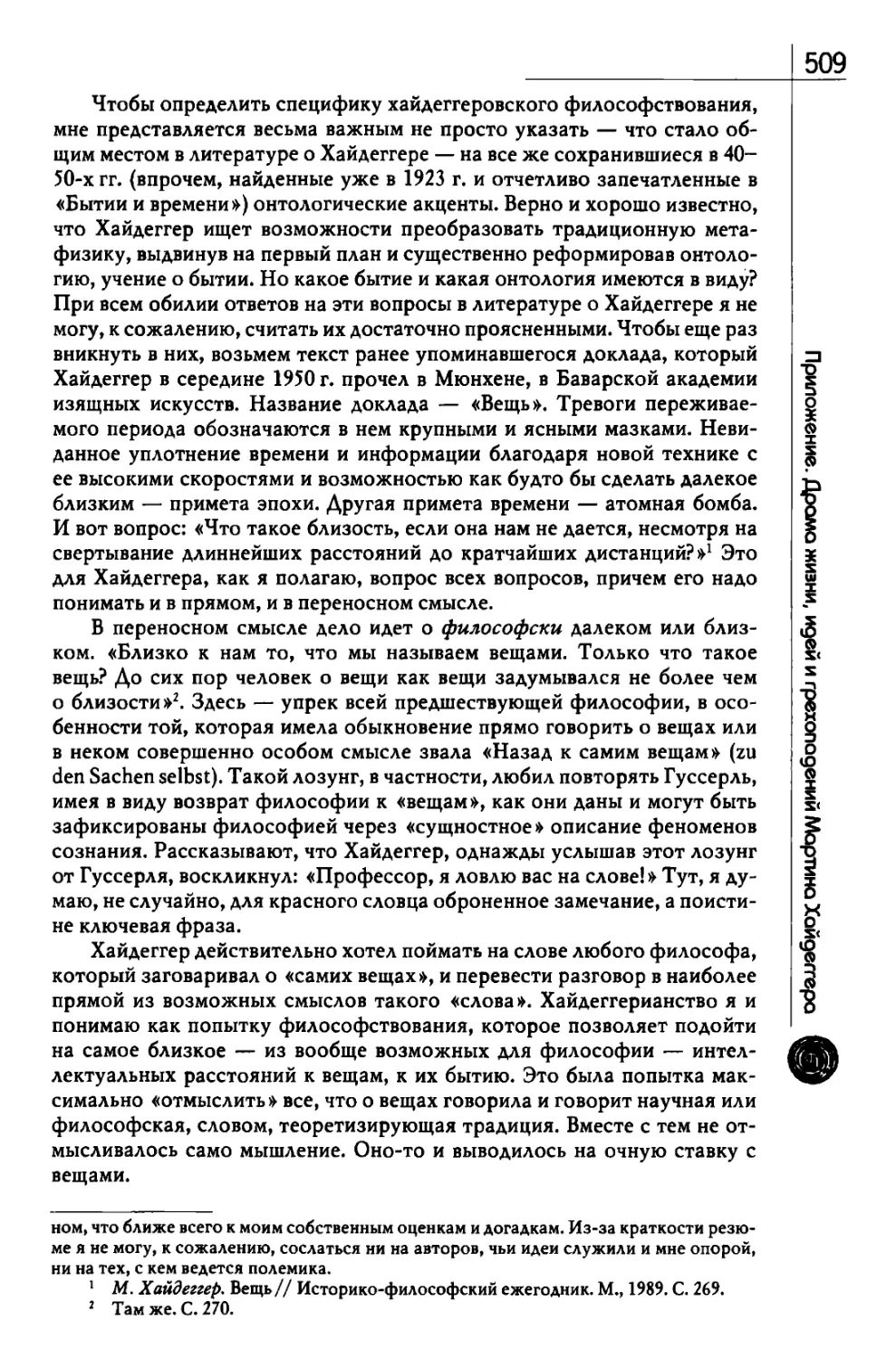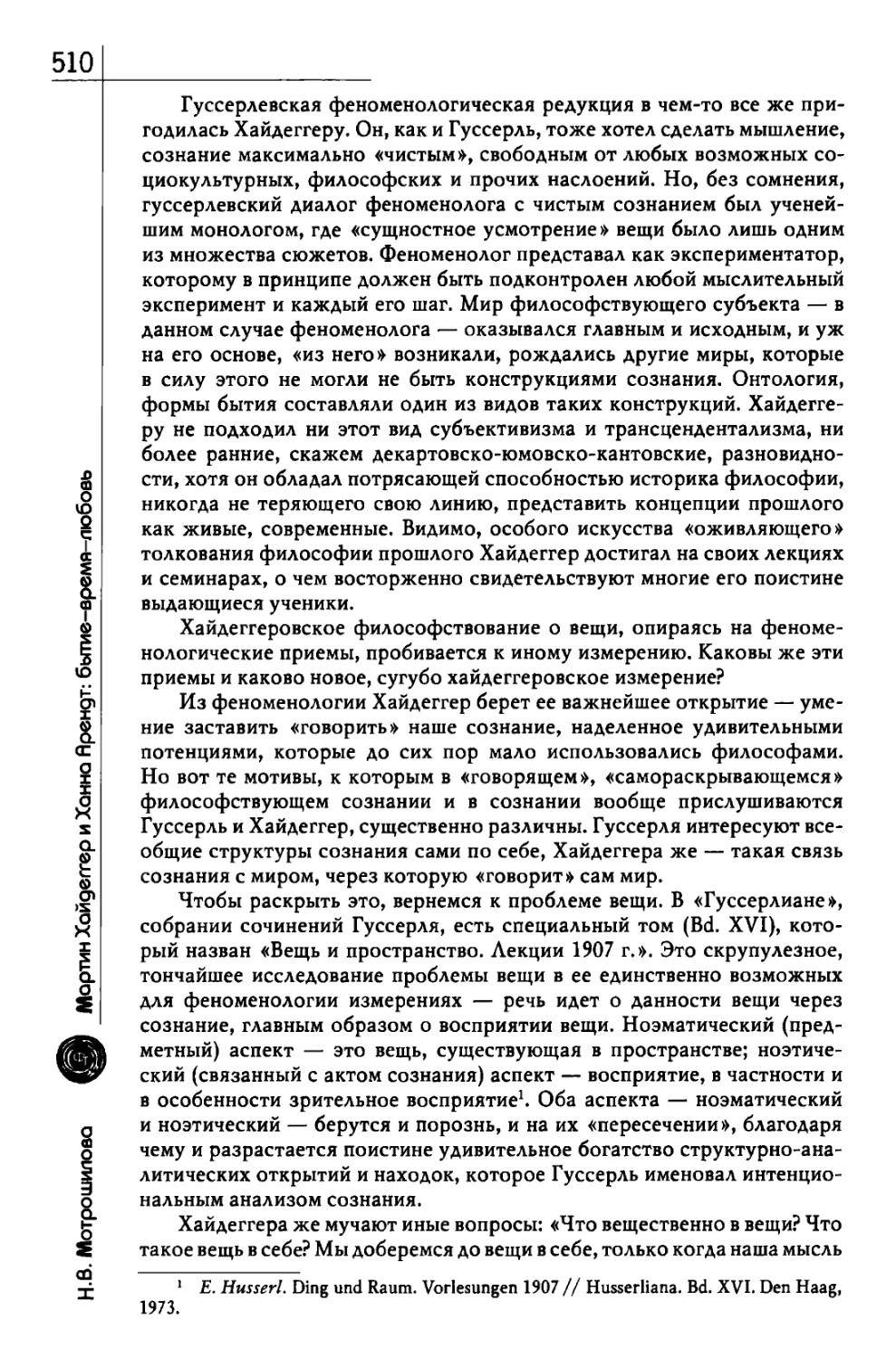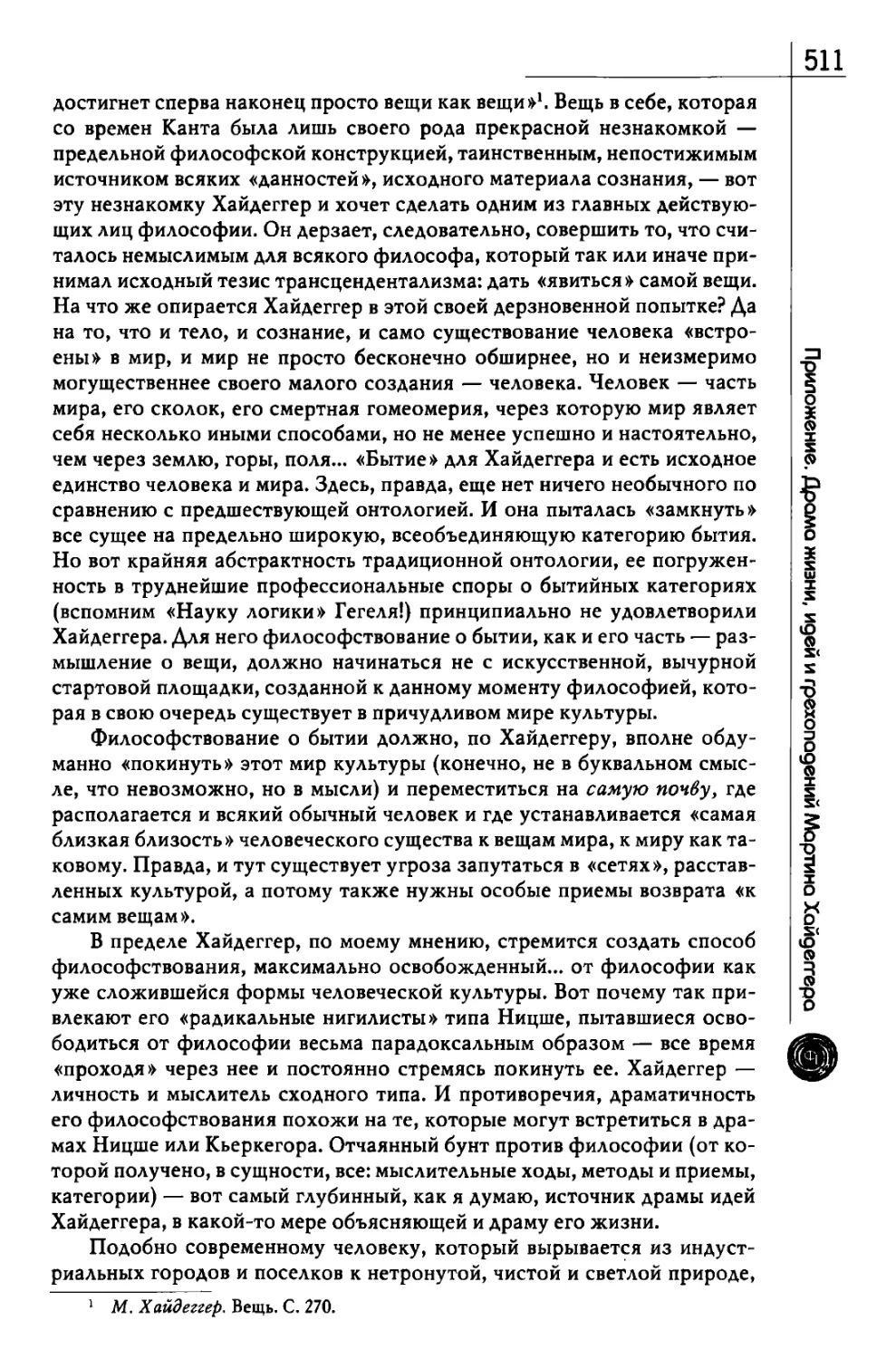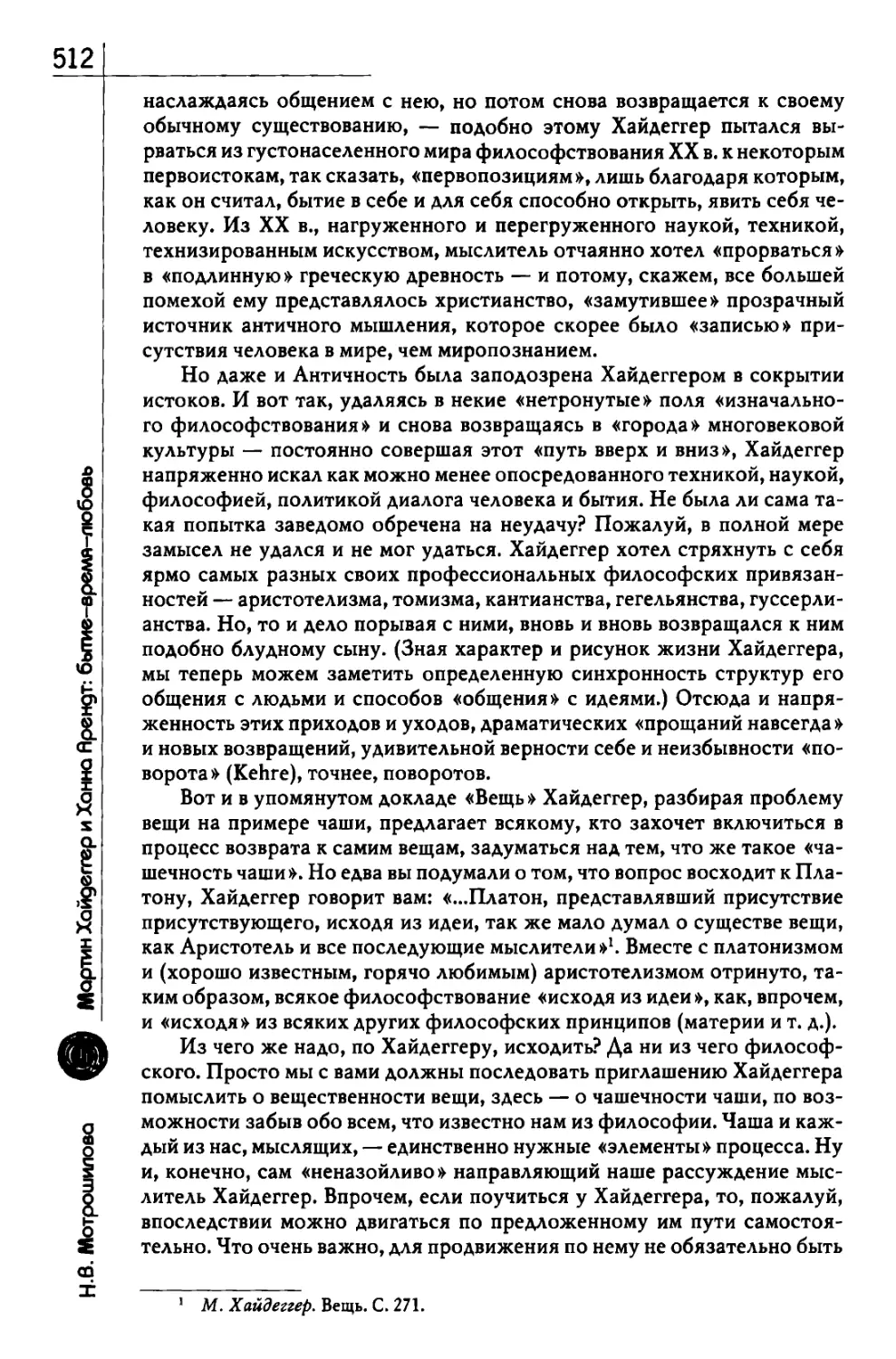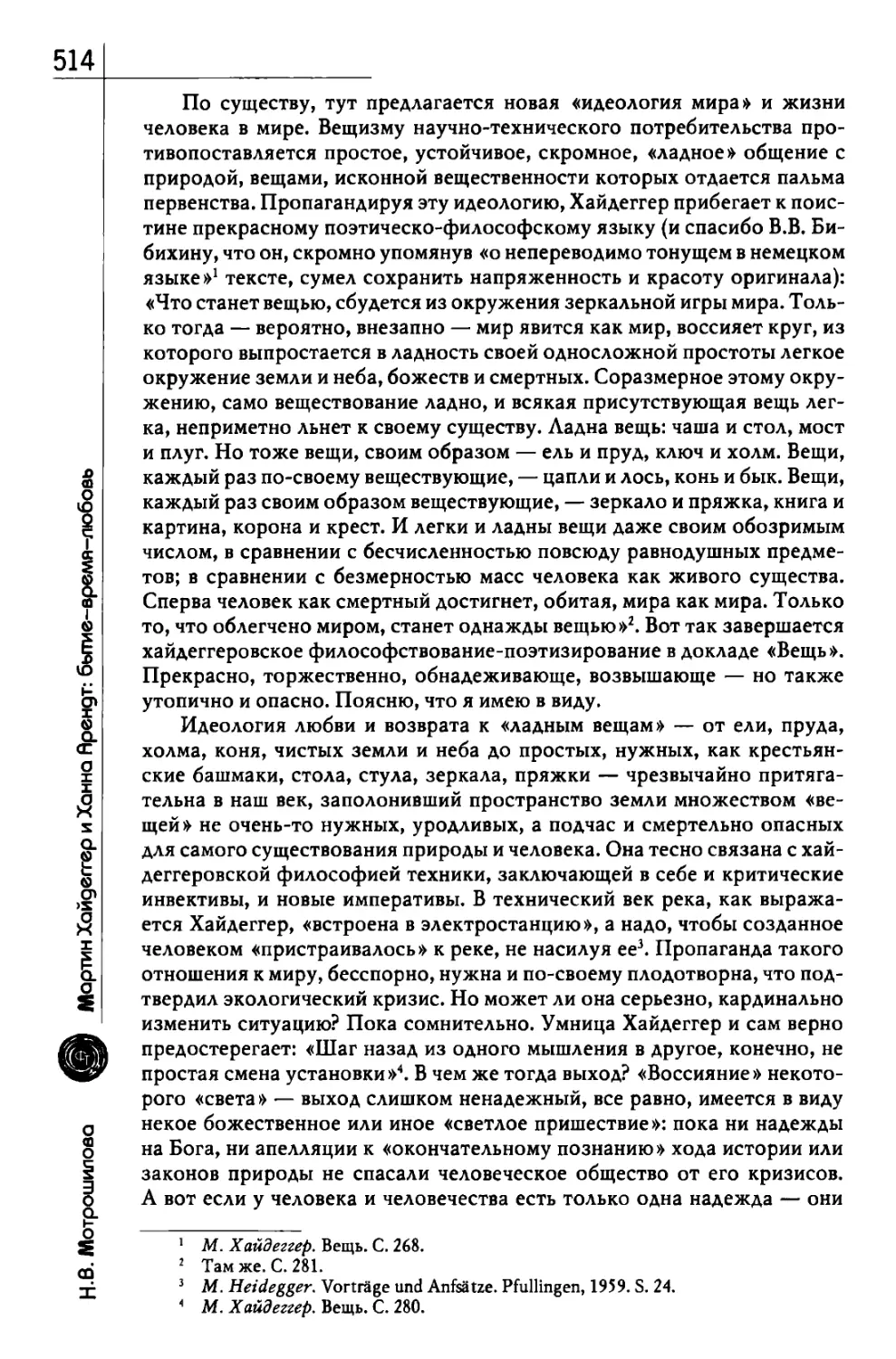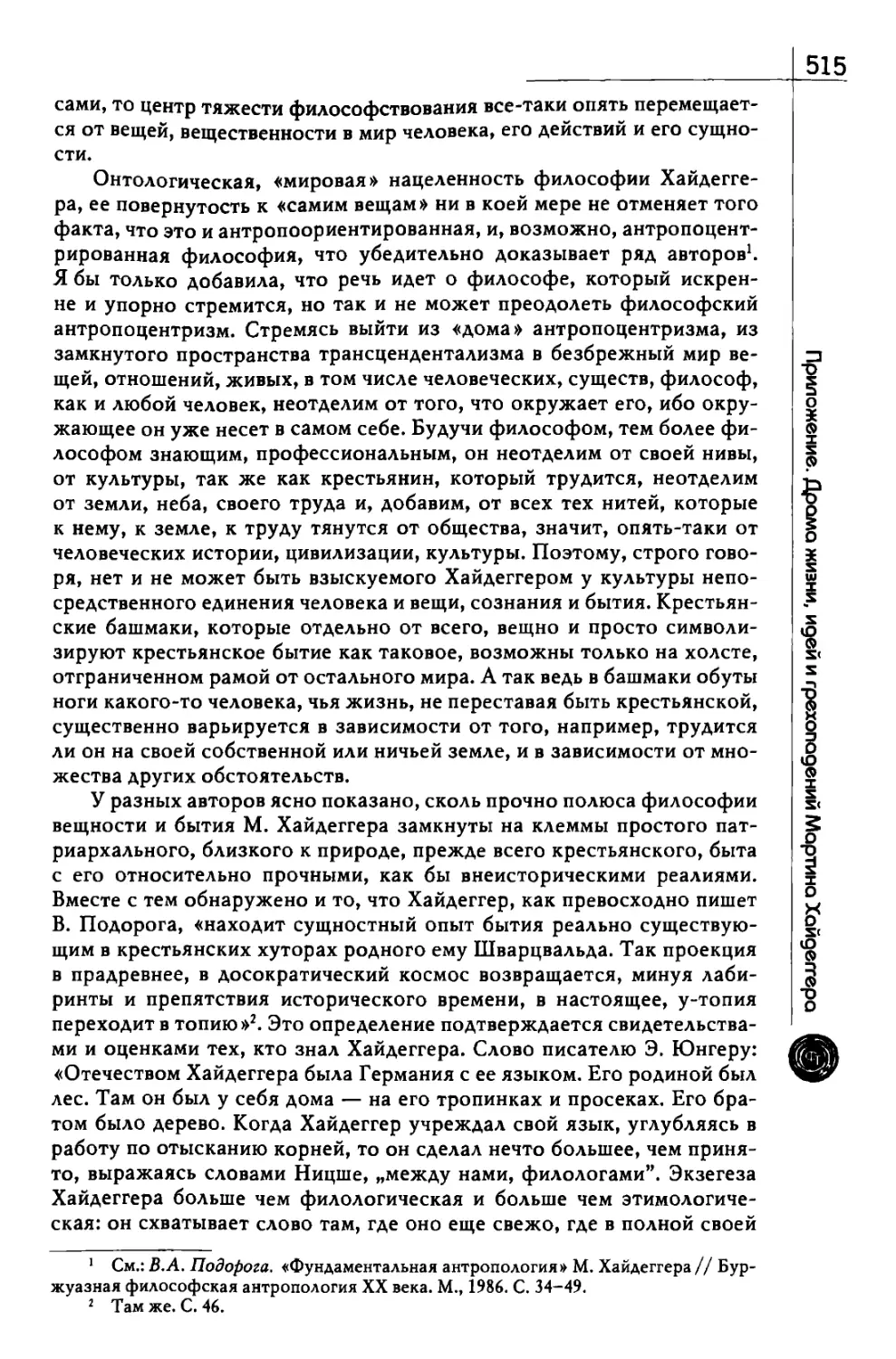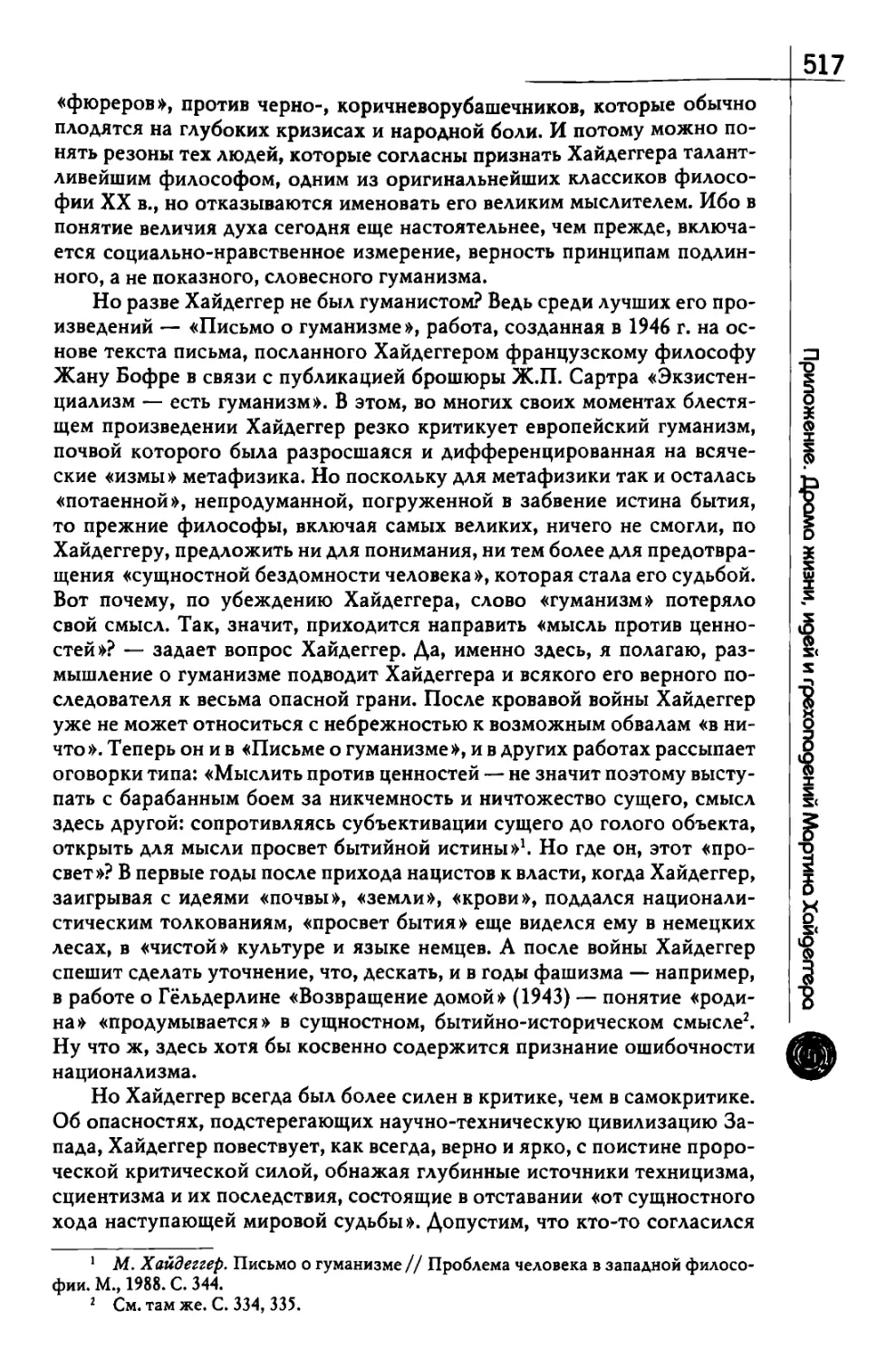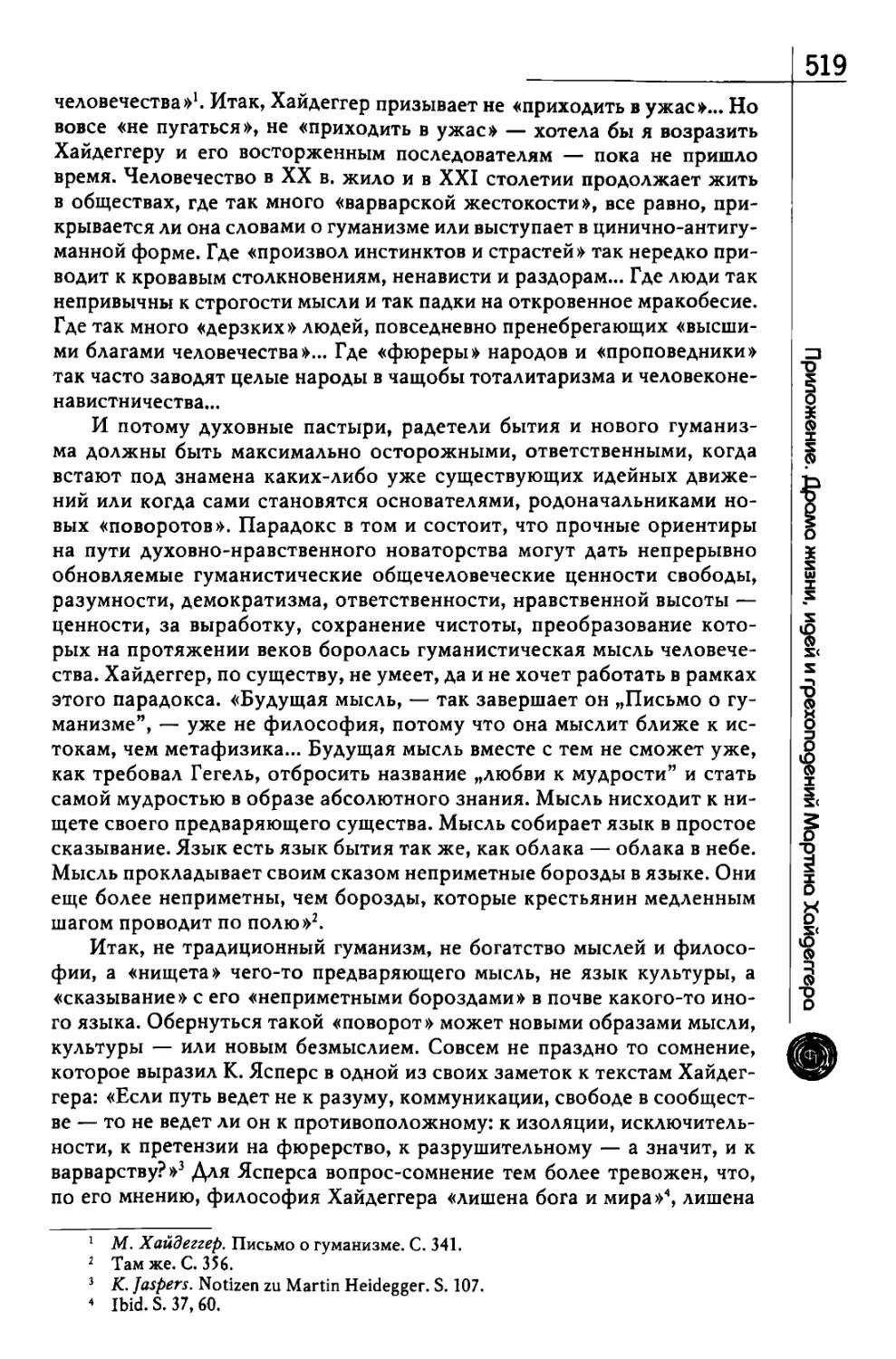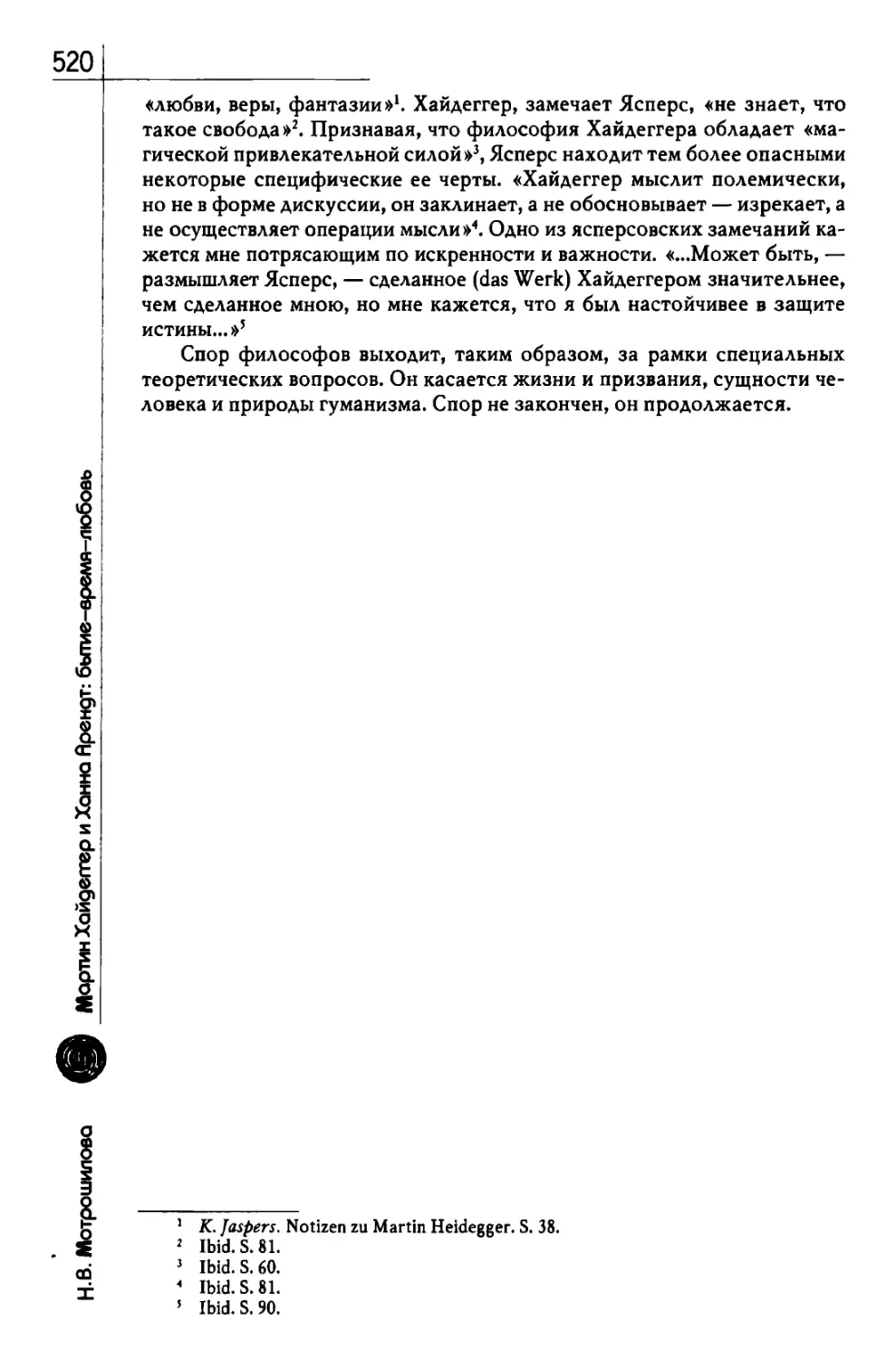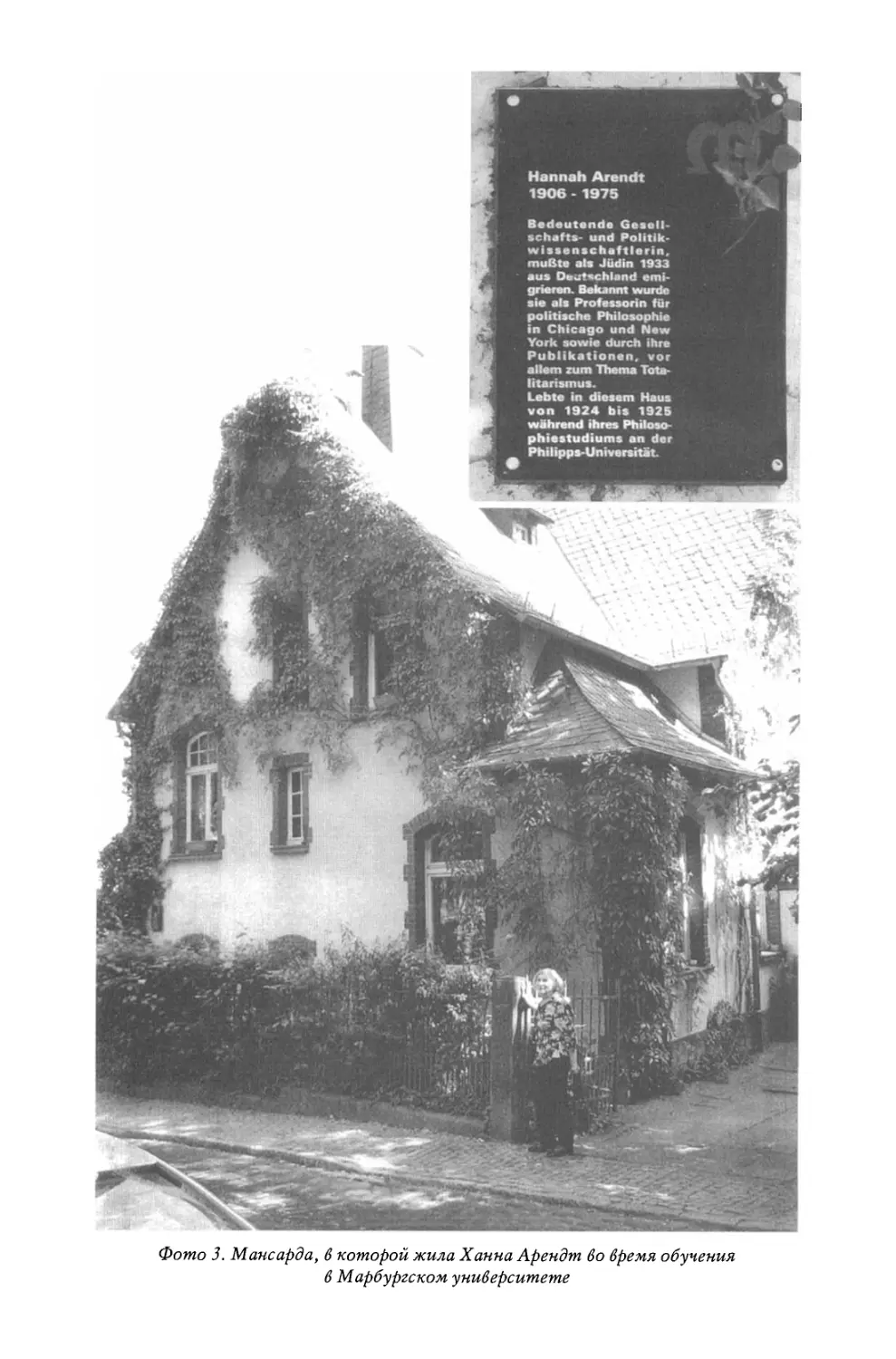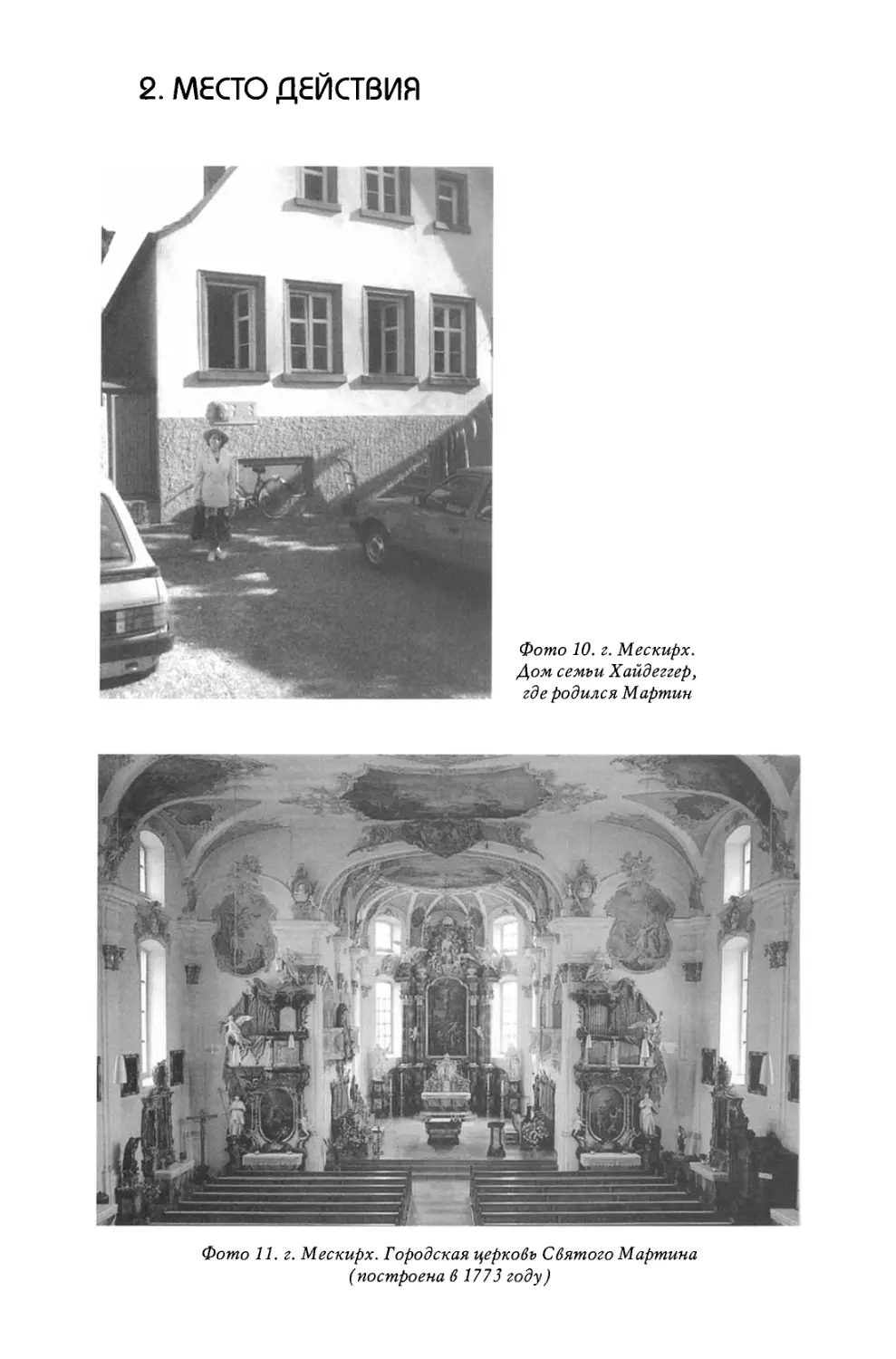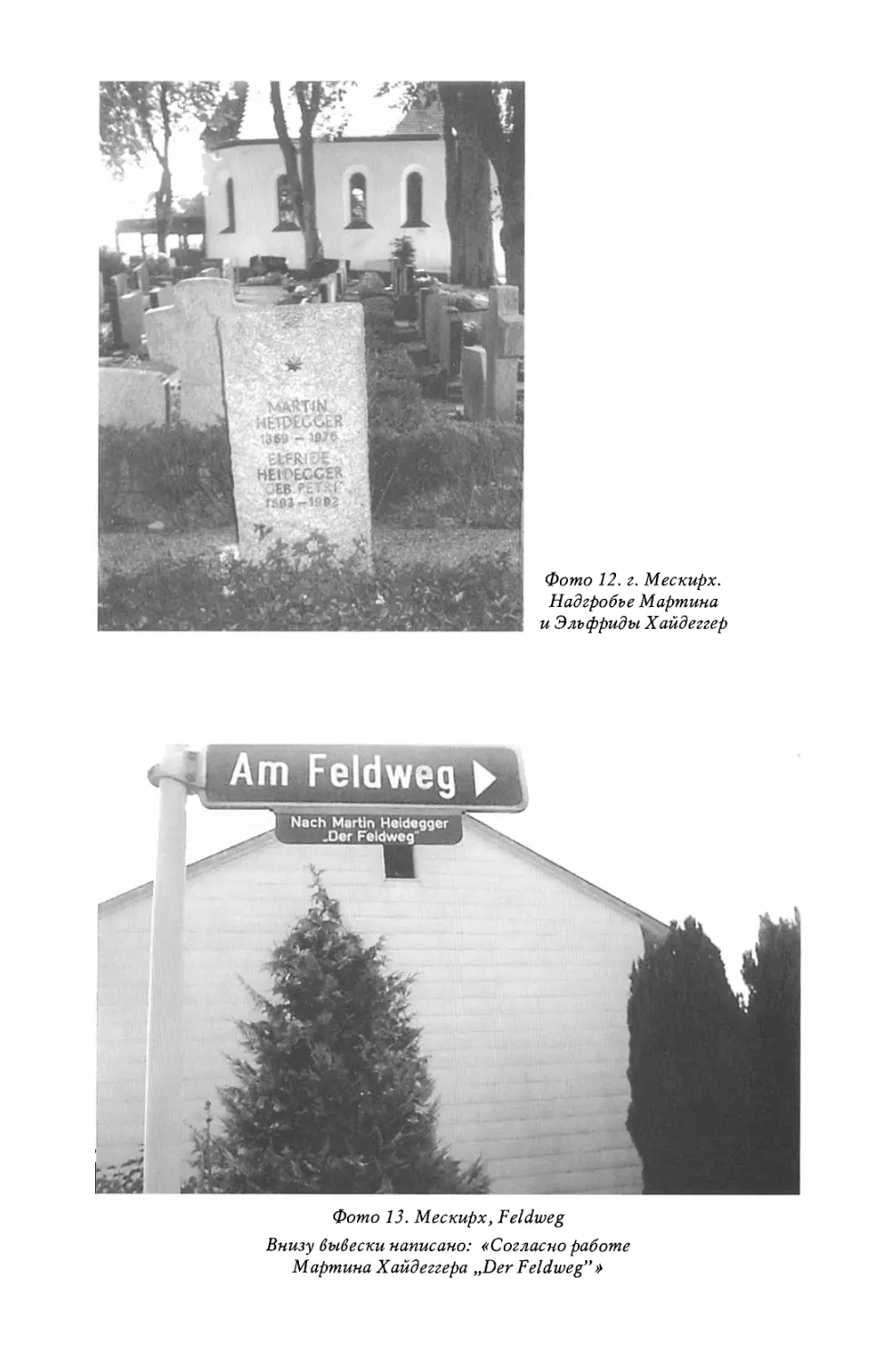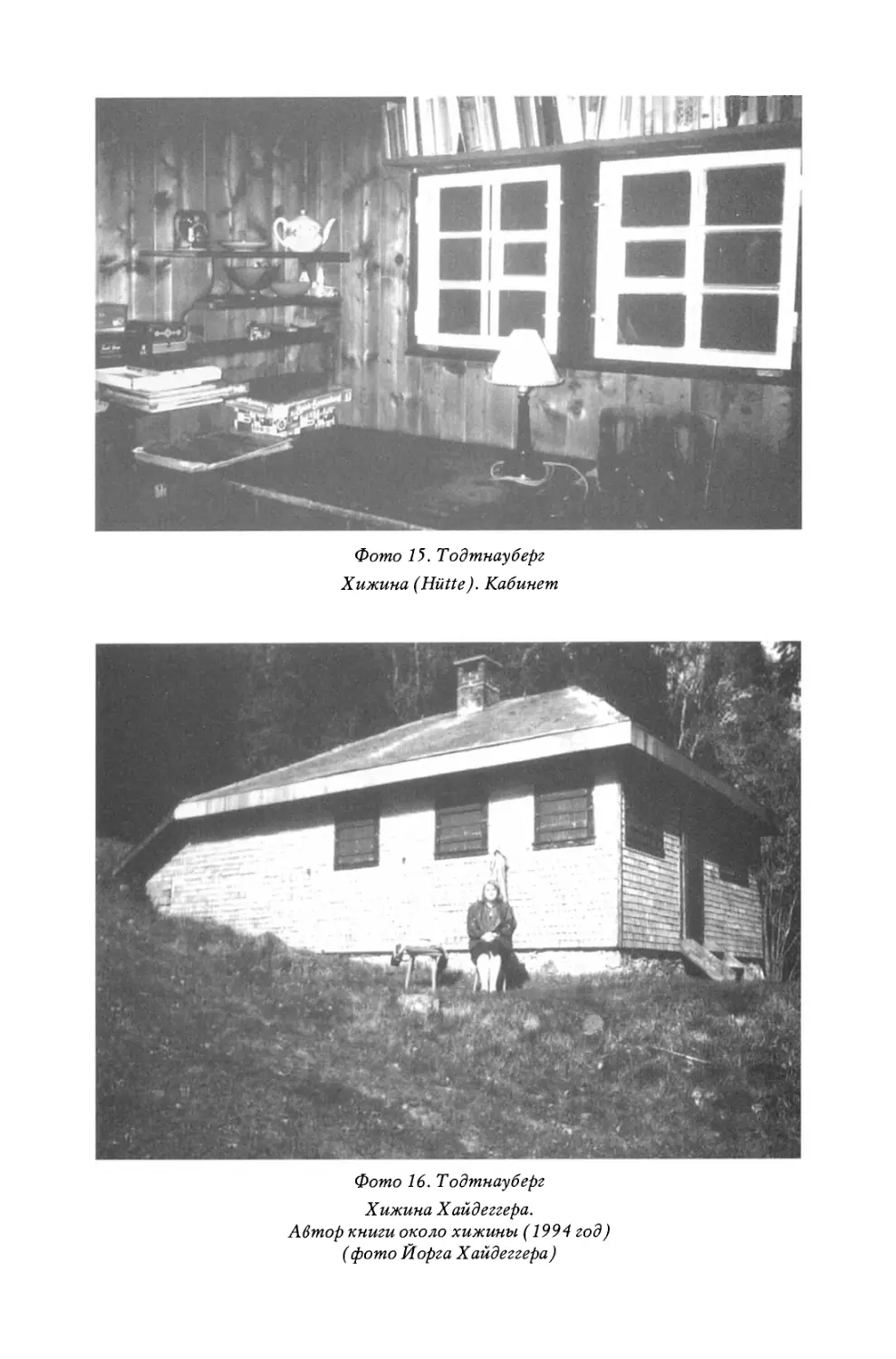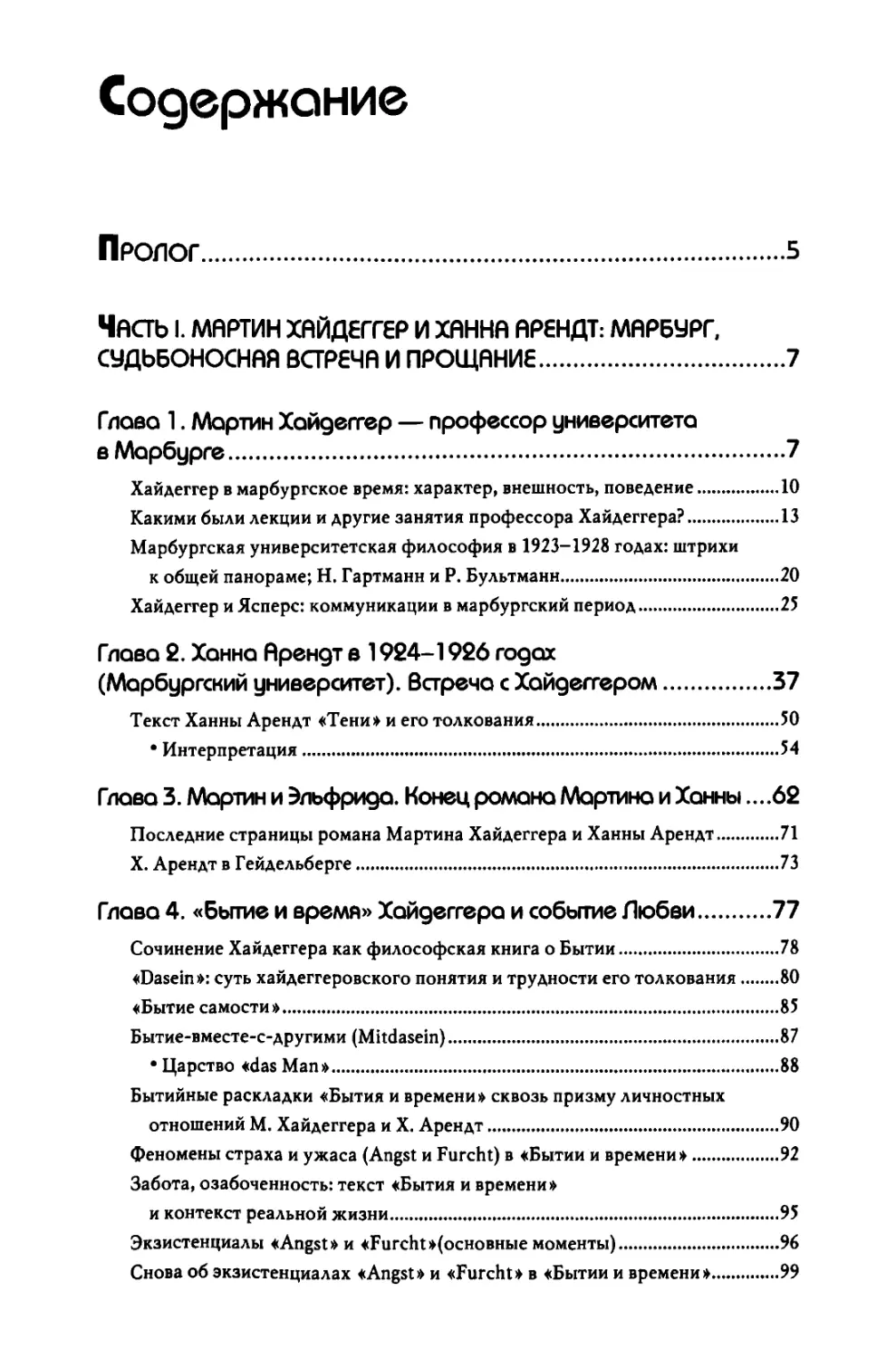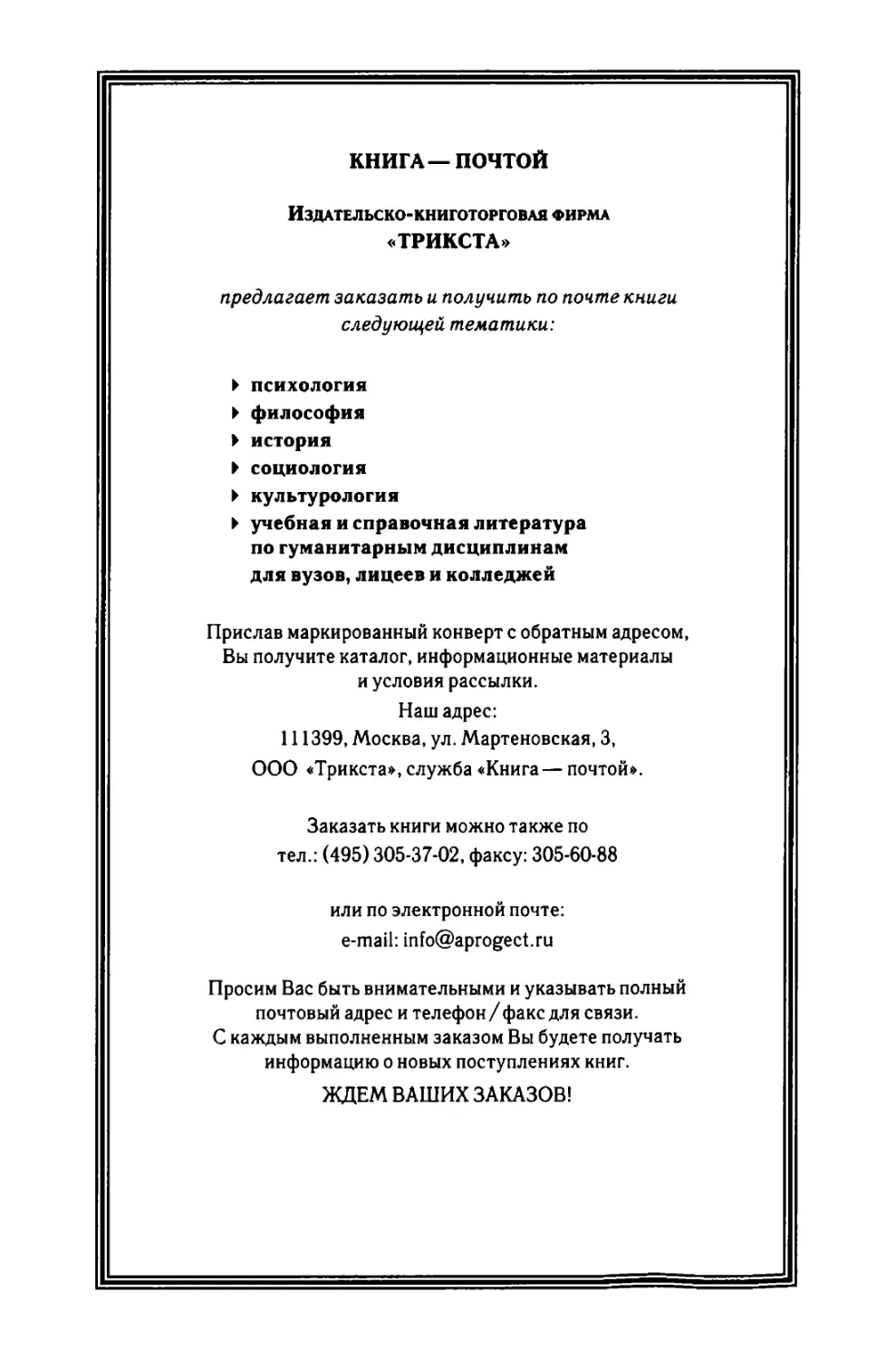Автор: Мотрошилова Н.В.
Теги: философия психология всемирная история философии
ISBN: 978-5-8291-1457-2
Год: 2013
Текст
Н.В. МОТРОШИЛОВП
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР И ХАННА АРЕНДТ:
бытие-время-любовь
Книга напечатана в ознаменование Года Германии в России
Москва
Гаудеамус
2013
УДК 1(091) Издано при финансовой поддержке Федерального ББК 87.3(0) агентства по печати и массовым коммуникациям 2^35 в рамках Федеральной целевой программы
•Культура России» 2012—2018 гг.
Редакционный совет серии:
АЛ. Гусейнов (акад. РАН), В.А. Лекторский (акад. РАН),
Т.И. Ойзерман (акад. РАН), В.С. Степин (акад. РАН, председатель совета), П.П. Гайденко (чл.-корр. РАН), В.В. Миронов (чл.-корр. РАН), А.В. Смирнов (чл.-корр. РАН), Б.Г. Юдин (чл.-корр. РАН)
Мотрошилова Н.В.
М85 Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь. — М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2013. — 526 с. + 16 п. вкл. — (Философские технологии).
151ДО 978-5-8291-1457-2 (Академический Проект)
181Ш 978-5-98426-123-4 (Гаудеамус)
Книга сочетает в себе рассказ о личностных чертах, жизненных путях, нелегких судьбах двух выдающихся мыслителей XX века — Мартина Хайдеггера (1889-1976) и Ханны Арендт (1906-1975) и анализ трудного рождения, развития и существенного преобразования их идей и концепций.
В центре первых частей книги — судьбоносная встреча 36-летнего профессора университета в Марбурге М. Хайдеггера и его 19-летней студентки X. Арендт, их краткий роман и расставание. И все это вплетено в повествование о предна- цистском, нацистском и военном периодах трагической истории Германии и всего мира. Исследуется внутренний контекст развития немецкой философии в то драматическое время. Произведения раннего М. Хайдеггера — прежде всего «Бытие и время » — рассматриваются и расшифровываются в свете воздействий исторического времени и внутренних преобразований философии.
Вторая часть книги повествует о послевоенном личностном и философском общении М. Хайдеггера, прошедшего через наказания за его нацистские увлечения и вновь обретшего статус выдающегося мыслителя, и X. Арендт, изгнанной нацистами из Европы в США и выросшей там в виднейшего социального философа. Показано, как X. Арендт в своих работах создавала — параллельно концепции бытия М. Хайдеггера и в явной, а чаще замаскированной полемике с нею — свою теорию социально-исторического бытия. И снова в анализ идей и концепций вплетен личностный рассказ о жизни, о неумолкнувшей и звучавшей также и в «осенний» период жизни мыслителей мелодии Любви.
Основой исследования являются многие источники, документы, появившиеся в XXI веке, — переписка, мемуары, биографии, но прежде всего — главные теоретические работы двух мыслителей. Необычное сочетание анализа личностного и философского аспектов взаимоотношений двух мыслителей позволяет автору более глубоко и полно раскрыть базовые идеи и позиции героев книги.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
УДК 1(091) ББК 87.3(0)
ISBN 978-5-8291-1457-2 ISBN 978-5-98426-123-4
© Мотрошилова Н.В., 2012 © Оригинал-макет, оформление.
Академический Проект, 2013 © Гаудеамус, 2013
Пролог
Это книга о том, как
...в Марбургском университете в 1925 году встретились тридцатишестилетний профессор философии Мартин Хайдеггер и его девятнадцатилетняя студентка Ханна Арендт;
...вспыхнул и пылал их яркий, но короткий тайный роман, получивший отражение в переписке, вернее, в необыкновенных письмах Мартина к Ханне;
...продолжалась в Марбурге начатая во Фрайбурге впечатляющая педагогическая деятельность профессора Хайдеггера, ставшего властителем дум устремившейся в философию молодежи;
...в самый разгар любви вынашивалось, создавалось выдающееся произведение «Бытие и время», в котором нашли специфическое преломление преобразующие философские идеи Хайдеггера и «музой» которого по праву называют Ханну Арендт;
...драматически прервался роман Мартина и Ханны и каждый из них пошел дальше по своим жизненным дорогам;
...их судьбы, подобно судьбам миллионов людей, перемолола чудовищная история национал-социализма, а затем и Второй мировой войны, которую каждому из них пришлось претерпеть по разные стороны социальных баррикад;
...X. Арендт прошла крутым маршрутом изгнания с родины, смертельно опасных преследований, затем оказавшись в США и начав там свой путь в социальной философии;
...М. Хайдеггер в то же время — после недолговременного пакта с нацистской властью в качестве ректора Фрайбургского университета — оставался недобровольным попутчиком тоталитарного режима;
...после войны, несмотря на драматическое отчуждение, возобновились сначала переписка, а затем и общение Хайдеггера с К. Ясперсом и X. Арендт;
...в 1950 году снова вспыхнули и нашли ясное и яркое проявление — в виде писем, стихов — неугаснувшие чувства любви Мартина и Ханны;
...неснимаемые расхождения судеб, идей, творческих путей затем снова привели к охлаждению отношений и коммуникаций этих двух ярчайших умов XX века;
...X. Арендт после войны выросла в выдающегося мыслителя, идя своей дорогой в теоретическом и публицистическом творчестве, вместе с тем не упуская из виду импульсы, полученные от философии Хайдеггера, и ведя с нею (не всегда открыто) принципиальный идейный диалог;
Н.6. Мотрошилова Щд Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
6
...осень жизни Хайдеггера и Арендт ознаменовалась новым оживлением сотрудничества, дружбы — диалога, неумолкнувшей любви, длившейся до конца их жизни;
...в философии позднего Хайдеггера все же можно распознать следы влияния если не учения X. Арендт, то тех новых исторических импульсов, проблем, под влиянием которых она создала свою теорию социально-исторического бытия, а он видоизменил свою философию, пройдя через ряд существенных содержательных «поворотов».
Эта книга для тех, кто
интересуется
...философской мыслью, осознавая, что «человек разумный» — независимо от рода своих занятий — так или иначе философствует;
...увлекательным миром идей и размышлений, их содержанием, взаимовлиянием, трансформацией, «приключениями» — а особенно мыслями и рассуждениями о человеке, о бытии, о прошлом, настоящем и будущем человеческого общества;
...непростой, но несомненной связью между идеями и личностным миром мыслителей, дорогами их жизни, перипетиями их судьбы;
...глубокой укорененностью идей, образов, языка философии и культуры в «почвенных» слоях большой и малой родины мыслителей;
...миром чувств и страстей, сопутствующих идеям, в XX и XXI веках растревоженных, трагически обостренных — в их взаимодействии с идеями, в том числе философскими;
...и наконец, теми человеческими страстями, которые вторгаются — как в случае с М. Хайдеггером и X. Арендт — в развитие как будто абстрактной, «чистой» мысли философов и озаряют их светом трудной, но яркой любви.
Часть I
Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: Марбург, судьбоносная встреча и прощание
глава 1
Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
Осенью 1923 года в Марбургском университете приступил к педагогической деятельности новый экстраординарный профессор — Мартин Хайдеггер. Даже скромное для него место экстраординариуса (а не полного, т. е. «ординарного» профессора) амбициозный, гордый, уже не очень молодой (тридцатичетырехлетний) Хайдеггер получил только с третьего раза1. Правда, ему подсластили пилюлю, сообщив, что он будет наделен «статусом и правами» ординарного профессора. О чем Хайдеггер не преминул сообщить своему новому другу, профессору в Гейдельберге Карлу Ясперсу2. В душе Хайдеггера опять закрепилась не в первый раз вспыхнувшая обида на университетских бонз, которых он — в письме к тому же Ясперсу — не без оснований обвиняет в «идолопоклонничестве»3, а именно в слепом поклонении символам и идолам традиционной философии, в неприятии подлинного философского новаторства.
В Марбург Хайдеггер приезжает не один. Нет, я имею в виду не семью — жену и двух маленьких сыновей, которые за пять лет марбургской университетской службы отца семейства редко наведывались в неуютные съемные квартиры и по существу так и не прижились в Марбурге. Речь в данном случае идет о молодежном, в основном студенческом «десанте»: за любимым учителем из Фрайбургского университета в Марбург потянулась группа из 16 преданных молодых слушателей. Это было необычно даже для Германии, где и профессора, и студенты всегда
1 Вынуждена здесь отвлечься от всех перипетий и трудностей, с которыми пришлось столкнуться самому Хайдеггеру (и ходатайствовавшему за него благожелательному фрайбургскому учителю Эдмунду Гуссерлю, философу широко известному и влиятельному) в поисках профессорского поста в различных университетах Германии, в том числе и в Марбурге. Читайте об этом в моей Биографии Хайдеггера (см. Приложение) и в других биографических сочинениях.
1 Но «статус и права», увы, не дополнили соответствующей оплатой, что для семьи из четырех человек, особенно в те экономически тяжкие годы, было серьезным жизненным испытанием. Финансовую сторону дела Хайдеггеру пришлось специально прояснять и с большими трудностями регулировать.
3 Martin Heidegger / Karl Jaspers. Briefwechsel, 1920-1963. Fr. a/M.; München; Zürich, 1990. S. 42.
H ß. Мотрошилова ЯВИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
8
были, так сказать, легки на подъем и нередко переходили из одного университета в другой; такой обычай в известной мере сохраняется и сегодня. Когда созревшие для профессуры немецкие преподаватели получают почетное приглашение (Berufung) из какого-либо университета и когда они его принимают, а затем утверждаются университетским сенатом, то или покидают родной город и alma mater, поселяясь (с семьей, если она имеется) на новом месте, или снимают квартиру, дом на время учебных семестров, или, в случаях, если расстояния не столь велики, курсируют между местом жительства и местом службы.
К тому времени Хайдеггер прочно обосновался во Фрайбурге, да и вообще на родной баденской земле. Незадолго до приглашения в Марбург была построена, главным образом благодаря заботам жены Эль- фриды, очень скромная, но уютная, укромная хижина в Тодтнауберге, в изумительно красивой местности в горах Шварцвальда. Поэтому его семьей и им самим был выбран второй вариант. (Немцы называют такой способ жизни «das Pendeln», от слова «маятник», что и означает упомянутые маятникообразные курсирования; слово это применительно к своему быту употреблял и Хайдеггер.) Тем более что Марбург и университет Марбурга Хайдеггеру сначала не приглянулись. Надолго оставаться там он не собирался.
Для этого были разные основания. Одни касались самого города. Что трудно понять тем, кто впервые увидел Марбург в наше время. Сейчас Марбург— один из красивейших малых городов Германии. Прежде всего это славный университетский город с многовековыми традициями. Кроме того, после Второй мировой войны (правда, не сразу, а в 80-х годах XX века) он был заботливо отреставрирован, отстроен, ухожен. В наши дни он много красивее, комфортнее, цивилизованнее, чем тогда, когда, например, Борис Пастернак — перед Первой мировой войной, в 1912 году — приехал в этот город учиться у патриарха Марбургской школы неокантианства Г. Когена. В 1923-1928 годах, когда там на время поселился и работал М. Хайдеггер, городок выглядел никак не лучше и по сравнению с оживленным Фрайбургом считался провинцией. За трудные годы Первой мировой войны, а потом Веймарской республики Марбург пришел в почти полное запустение. Прекрасные сегодня, замечательно восстановленные старинные улочки, дома, некогда построенные в замечательном стиле Fachwerk, к началу 20-х годов утратили зрелищные элементы своей архитектуры и смотрелись как запущенные развалины.
Некоторые биографы приводят только негативные суждения Хайдеггера и о Марбурге, и о своем почти пятилетием пребывании в нем. Другие авторы поправляют: его мнения и высказывания на сей счет по крайней мере противоречивы.
Хайдеггер (скажем, в письме Ясперсу от 13.05.1928 года) пишет о Марбурге: «В нем я ни одного часа не чувствовал себя хорошо»1. Но
1 Martin Heidegger / Karl Jaspers. Briefwechsel, 1920-1963. S. 96. Переписка Хайдеггера и Ясперса имеется в русском переводе, — см.: Мартин Хайдеггер / Карл Ясперс. Переписка. Москва. Ad marginem. 2001 — перевод И. Михайлова. Высоко оценивая этот перевод, я здесь и далее цитирую оригинал в собственном переводе, ибо начала работать над указанной перепиской вскоре после того, как издавший ее Ханс Занер подарил мне публикацию 1990 года.
справедливо напомнить, что подобные оценки встречаются в письмах Ясперсу, который в конце 20-х годов обдумывал возможность уехать из Гейдельберга и переместиться в университет Марбурга. Хайдеггер полагал, что Марбург как университетский город уступает Гейдельбергу. К тому же он понимал все преимущества Гейдельбергского университета как раз для Ясперса. Главная цель негативных высказываний состояла, таким образом, в том, чтобы отговорить друга от переселения в чужой ему Марбург. Хайдеггер учитывал также, что избранный им самим способ «маятникового» перемещения между городами был полностью непригоден для пожилого и всегда страдавшего от нездоровья Карла Ясперса.
Но были и иные хайдеггеровские оценки. Например, у Р. Сафран- ского верно отмечено: «В свете большего временного промежутка Хайдеггер в приватных разговорах рассматривал эти годы как принесшие „самое большое воодушевление (erregendste), как самые собранные и самые богатые достижениями” во всей своей жизни и также как „самые счастливые”»1. Потом мы еще вернемся и к этим оценкам, и к теме их отнюдь не случайной противоречивости. А сейчас попытаемся ответить на главные содержательные вопросы: в чем состояли особенности марбургского периода жизни и творчества Мартина Хайдеггера? Что ему удалось сделать в нелегкие для него, напряженные годы становления идей и концепций, притом в очень сложный для всей Германии период — когда многие люди в этой стране, включая тех, кто принадлежал к обычно более обеспеченному «академическому» слою (т. е. в немецком понимании — слою образованных, мыслящих интеллектуалов), жили очень бедно, вместе с народом испытывая материальные и всякие другие лишения? И какие чисто личные события именно в Марбурге произошли в жизни Хайдеггера?
Если отвечать на эти вопросы, имея в виду не только ретроспективу, но и перспективу, сравнивая сделанное в Марбурге с последующими свершениями выдающегося философа, то ответы оправданно сформулировать следующим образом. В Марбурге Хайдеггер действительно испытывал «сильнейшее воодушевление» и, в самом деле, добился выдающихся, если не самых главных творческих результатов. Это подтвердит каждый хайдеггеровед, не подвергающий сомнению и центральное значение «Бытия и времени», и громадный теоретический вес post festum оцененных, новаторских Лекций марбургских лет. И что еще предстоит показать, он, несомненно, пережил здесь «счастливейшие» события в своей личной, если можно так выразиться, мужской жизни...
Теперь— конкретнее о деятельности Хайдеггера как университетского преподавателя.
Став экстраординариусом в Марбургском университете, Хайдеггер в одном, по крайней мере, отношении получил обещанный статус ординарного профессора: его нагрузили весьма основательно, как говорится, «по полной». О чем он тогда же (14.07.1923) сообщал К. Ясперсу: «...90 % моих сил расходуется на преподавательскую деятельность — в этом семестре я еженедельно читаю одночасовую лекцию и
9
1 Rüdiger Safranski. Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit. München. Wien. Carl Hanser Verlag. 1994. S. 157.
Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
H-ß. Мотрошилово ДюЮ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-вргмп-любовь
10
веду 3 семинара (6 часов), оставляя на долю других людей мира их книги и литературную суету; я тащу за собой (hole) молодых — тащить (holen) относится здесь к тем молодым, что тесно ко мне привязаны — и так, что они всю неделю испытывают давление с моей стороны; кто-то из них не выдерживает этого — здесь и скрыт простейший способ отбора; другому требуется два, три семестра, чтобы он понял, почему я не допускаю никакой лени, никакой поверхностности, никакого обмана и никакой фразеологии — прежде всего „феноменологической”. Вы знаете, что я никогда не позволяю зачитывать [подготовленные] рефераты — только дискуссии, правда, не дикие; не позволяю себе втягиваться в фантазирование, диалектические игры — все требует подготовки, т. е. интенсивного занятия каким-либо делом, которое и наполовину не облегчено тем, чтобы написать какую-то одну, а потом еще одну книгу. Моя великая радость — в том, что благодаря специальным предварительным, усилиям я смог добиться изменений и теперь в этом отношении действую свободно. К сожалению, — оговаривает Хайдеггер, — библиотека (Университета) и библиотека Семинара1 в Марбурге очень плохи»2.
Итак, первое из главных обстоятельств, о котором своему другу Ясперсу сообщает из Марбурга Хайдеггер, касается его педагогической деятельности, действительно занимающей львиную долю времени, а также его взаимоотношений со студентами.
И прежде всего это затрагивает те глубоко содержательные отношения, которые складывались вокруг сути дела — преподавания философии (что относится к Хайдеггеру), ее изучения студентами и другими молодыми слушателями. Считаю принципиально важным подчеркнуть: обе стороны отнюдь не формально были включены в обучение, а отдаг вались своему делу с энтузиазмом, с творческой выдумкой, не жалея времени и сил. В случае Хайдеггера и его работа, и взаимодействие с молодежью приобретали специфические отличия. Даже в Германии, где и университетские преподаватели, особенно профессора — традиционно высокого класса (например, в философском сообществе кафедры тех или иных университетов всегда ассоциировались, что сохранилось до сего дня, с известными именами профессоров философии), и их содержательные отношения со студентами, помощь и попечительство педагогов по крайней мере для лучших учеников — совсем не редкость. Но Хайдеггер, о чем мы специально расскажем впоследствии, и на этом фоне был совсем особым университетским профессором. Даже во внешних чертах и проявлениях он был большим оригиналом.
Хайдеггер в марбургское время: характер, внешность, поведение
Мы начнем, стало быть, с частных, непервостепенных, но ведь и немаловажных вопросов: как именно выглядел, представал, подавал себя — посредине четвертого десятка своей жизни — марбургский экс- траординариус Мартин Хайдеггер? И нам еще предстоит убедиться, что
1 В немецких университетах «Семинары» — до сих пор существующие специальные учебно-институциальные единицы, в рамках которых тематически изучаются те или иные (в данном случае философские) дисциплины.
2 Martin Heidegger I Karl Jaspers. Briefwechsel. S. 41-42.
сам профессор — в отличие от многих коллег, которые выглядели и подавали себя более конвенционально, традиционно — ив эти внешние стороны своей жизнедеятельности обдуманно, целенаправленно вносил существенные для него как личности смысловые оттенки.
Сохранились примечательные фотографии, снятые летом 1924 года (т. е. незадолго до того, как в Марбург прибыла Ханна Арендт). На одном снимке — сам Хайдеггер; другой — милый, трогательный семейный снимок: на скамейке под деревом между Хайдеггером и его очаровательной женой Эльфридой сидят сыновья— малыши Йорг и Герман (см. вклейку, фото 1 и 9).
На первом снимке Хайдеггер — достаточно привлекательный, моложавый мужчина, аккуратно подстриженный, с небольшими усами.
Он принял как бы непринужденную, но обдуманную позу: правая рука скрыта за спиной, левая — в кармане брюк. В те годы Хайдеггер — плотный, кряжистый, но все же подтянутый, возможно, потому, что быстр, подвижен, регулярно занимается спортом. (В более зрелом возрасте он обретет солидность и полноту, впрочем, не безобразную.)
На черно-белом снимке этого не видно, но из описаний известно, что у Хайдеггера от рождения была очень смуглая кожа (поэтому письма жене он имел обыкновение подписывать нежно-насмешливо: «Dein Mörchen» — «твой маленький мавр»).
Вообще-то внешний облик Хайдеггера мог считаться заурядным — вряд ли кто-то незнакомый обратил бы на него специальное внимание, если бы не оригинальный, запоминающийся костюм, в котором он как раз и запечатлен на упомянутых снимках. Хайдеггер облачен в узкие бриджи, удлиненный пиджак-сюртук и под ним жилет — на них крупные и приметные двубортно расположенные пуговицы. Костюм стилизован под народную одежду.
Народную одежду сходного типа немцы называют Trachtenkleid — от емкого слова «Tracht», у которого много значений: национальное платье, облик, охапка-вязанка сена, коромысло, медосбор, часть подковы — и все, так сказать, почвенно-народное, крестьянское. Виды Trachtenkleid имеются не только в Германии, но и в других странах Европы. Они различаются от местности к местности, причем ткань, фасон- покрой, детали достаточно строго определены традицией. Немцы — мужчины, женщины, дети — надевают Trachtenkleid в особых, праздничных случаях и обстоятельствах.
Что касается костюма Хайдеггера, то он выбрал свой стиль — хоть и напоминающий Trachtenkleid, но более свободный, вполне индивидуали- мш зированный. И такое одеяние в 20-е годы он сделал повседневным. Нет ^ сомнения: стиль одежды ясно отражал его стремление быть заметным, непохожим — непохожим прежде всего на консервативную профессорскую «массу». В Марбурге и других городах университетскую профессуру испокон веков обшивали — солидно и стандартно — собственные портные. Хайдеггер же заказывал свои костюмы не у них. Его дизай- нером-модельером, как сказали бы сегодня, стал известный художник романтико-фольклорного стиля Отто Уббелоде (Ubbelohde), который в то время «романтизировал», приблизив к народным корням и мотивам, мужское одеяние.
Часть I. (лава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
12
о
<n
о
Э
0
1
S
со
X
Это последнее обстоятельство — народные корни — представляется наиболее существенным в выборе Хайдеггером своего оригинального повседневного костюма. Дело не только в том, что он стремился отличить себя от космополитического по устремлениям, даже по внешнему облику профессорского сообщества. Еще важнее другое: Хайдеггер подчеркивал свою преданность как общенемецким народным, национальным, так и местным для него (баденско-шварцвальдским) традициям, стилевым особенностям жизни, культуры, что естественно подразумевало и близость к родной природе.
Определенную роль играло и то, что Хайдеггер — больше всего благодаря костюму, а не скромной внешности — зримо выделялся, так сказать, бросался в глаза уже при первом своем появлении. В частности студенты (а среди них, что было немаловажно для профессора, привлекательные студентки), стайками бродившие по Марбургу и окрестностям, сразу замечали Хайдеггера — в том числе и благодаря костюму. Восторженные студенты, одобрив также и стиль одежды своего кумира, остроумно увязали его с главной особенностью хайдеггеровского философствования: одеяние Хайдеггера получило у них название «der existenzielle Anzug»1, т. е. «экзистенциальный костюм».
Под стать оригинально-обдуманному костюму были внешние особенности отнюдь не непосредственного, простого, а экстравагантного, несомненно, тщательно «сконструированного», что ли, поведения. Карл Левит, один из марбургских учеников Хайдеггера, писал об учителе: «Между собой мы называли Хайдеггера „волшебником из Мескир- ха...”»2 (Напомню: Мескирх — городок в Баварии, где родился Хайдеггер). И добавлял, что профессор с неброской от природы внешностью (по описанию Левита, «низкорослый смуглый человек») вел себя так, чтобы это отвечало образу «волшебника ». Прежде всего, он совершенйо необычно для немецкого профессора вел себя на лекциях (о чем подробнее — позже). Но и во внеучебное время зримо выделялся из сообщества коллег.
Студенты в тогдашнем Марбурге, как всегда и везде, сплачивались в группы, сообщества. Хайдеггер был нередким гостем на студенческих внеучебных встречах. Сошлюсь на достоверное описание А. Грюнен- берг: «Естественно, что Хайдеггер, как это было принято тогда в академической жизни, принимал участие в тех или иных кругах общения. Он посещал встречи студенческих и профессорских сообществ. Занимался спортом, играл в ручной мяч. Как только выпадал снег, он начинал ходить на лыжах. Катание на лыжах объединяло его с любимым Шварцвальдом, с родными истоками. И снова становилось ясным, что волшебное очарование, которое исходило от Хайдеггера и влияло на более молодых людей, было совокупным влиянием действий и размышлений, дела и рефлексий, мышления и Dasein, объединенных как в лекциях, так и во внешних поступках, поведении (Auftreten) Хайдеггера»3.
1 См. заметки ученика Хайдеггера Пауля Хюнерфельда: Paul Hühnerfeld. In Sachen Heidegger. Versuch über ein deutsches Genie. Hamburg. 1959. S. 54.
1 Karl Löwitb. Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Stuttgart. 1986. S. 42.
3 Antonia Grünenberg. Hannah Arendt und Martin Heidegger. Geschichte einer Liebe. München; Zürich. Piper, 2006. S. 92.
И тут тоже всегда было нечто необычное, задуманно-театральное. Например, в какой-либо группе или кампании Хайдеггер имел обыкновение появляться неожиданно, как бы «ниоткуда» — и так же внезапно исчезать, пропадать как бы в «никуда»...
Иногда студенты, особо отмеченные Хайдеггером, получали приглашение посетить его дом во Фрайбурге или хижину в Тодтнауберге. Об этих посещениях есть немало свидетельств приглашенных и описаний биографов. Собравшись в дивном Шварцвальде, бродили по горам и долинам, разводили костры, пели песни. «Хайдеггер, — сказано об одной из таких встреч у Р. Сафранского, — держал речь. «„Бодрствуй ночью у огня”, так однажды он начал свою речь — и вместе с этим ночным вступлением задерживался [мыслью] возле своих любимых греков. Парменид в Тодтнауберге»1. Надо ли говорить, в какой восторг приходили молодые друзья, приглашенные профессором в святая святых его бытования в Шварцвальде?
Многие из них впоследствии отмечали, что от Хайдеггера в то марбургское время исходили не только мощные волны новаторского философствования, но и лучи огромной жизненной энергии, концентрированной личностной воли. Один из студентов Хайдеггера, пусть не ставший столь известным, как другие, нами цитируемые, а именно Арнольд фон Буггенхаген (В1^епЬа§еп — из группы студентов аристократического круга), выразительно писал о своем общем впечатлении от «явления» Хайдеггера: «В роли говорящего об онтологических вещах он соответствовал скорее не образу профессора, а капитана-командора на капитанском мостике океанского корабля в те времена, когда дрейфующие айсберги еще могли представлять смертельную опасность даже для титанических морских судов»2.
Вот ведь как: Хайдеггер, лично не только не отличившийся на полях сражений недавно прошедшей войны, но даже успешно уклонившийся от того, чтобы побывать на них (см. об этом в моей Биографии философа), умудрился произвести на молодых столь сильное впечатление, что они воображали его чуть ли не на капитанском мостике...
Полагаю, что главной причиной таких восприятий явилась несомненная смелость, даже новаторская дерзость Хайдеггера как философа. Поэтому необходимо подробнее вникнуть в вопрос о том, какими чертами была отмечена его преподавательская деятельность в Марбурге.
Какими были лекции и другие занятия профессора Хайдеггера?
Студентов прежде всего весьма привлекали избранный Хайдеггером оригинальный тематический профиль и новаторско-реформаторская направленность его лекционных курсов и семинаров, общие темы которых еще могли звучать традиционно. (Темы же, напомню, в немецких университетах не задавались — да и сегодня в основном не задаются — навязанным извне и во все университеты спущенным сверху одинаковым дисциплинарно-тематическим расписанием, а свободно выбирались и
1 Ri^diger ЗаргатЫ. Ор. си., Б. 160-161.
1 Цит. по: варгаткг. Ор. си. Б. 161.
Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
Н-в. Мотрошилова ШЦ Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бытие-время-любовь
14
выбираются самими преподавателями. И студенты тоже сами выбирают, какой курс и какого из преподавателей, в данное время работающих, они станут слушать). И вот под общей знакомой рубрикой «Онтология» Хайдеггер в 1923 году читал в Марбурге (часовые) сугубо необычные лекции о «Герменевтике фактичности у Аристотеля» (впоследствии записи лекций были напечатаны в 63-м томе Собрания сочинений Хайдеггера). Правда, онтологическое новаторство тогда было фактом в немецкой философии (показателен пример одного из коллег Хайдеггера по Марбургу Николая Гартманна — о чем несколько позже). Но Хайдеггер выступал и как критик-новатор также по отношению к недавним новаторам. Можно вообще говорить о сильных уже в марбургский период глубоких обновляющих, преобразующих амбициях Хайдеггера применительно и к современной ему философии, и к вековым традициям философии как таковой (что более подробно будет показано далее и на примере его лекций 1923 года, и на иных образцах раннего хайдеггеровского творчества).
Правда, опубликованных работ Хайдеггера, подтверждающих, оправдывающих такие амбиции, было пока очень мало — и это, как известно, затруднило его путь к профессорской должности. Хорошо было уже то, что понимавший все трудности и усиленно ходатайствовавший по его делам учитель Эдмунд Гуссерль буквально заставил бывшего ученика, а потом своего фрайбургского ассистента, в 1922 году написать 60-страничную рукопись об Аристотеле и послать ее в Марбург. Рукопись эта, горячо одобренная глубоко почитавшим Гуссерля Паулем Наторпом и (будущим коллегой-соперником) Николаем Гартманном, повысила шансы Хайдеггера в приглашении в Марбург на должность экстраординариуса. А в студенческих, молодежных кругах уже распространился слух о Хайдеггере как педагоге — «слава» о нем предшествовала его появлению в Марбурге.
Интересно в этой связи предоставить слово X. Арендт, но не тогдашней робкой девушке, а крупному мыслителю, автору не просто известных в мире, но признанных классическими исследований. В 1969 году, по случаю восьмидесятилетия бывшего учителя, она вспоминала о славе Хайдеггера марбургских лет в таких словах:
«С этой ранней славой дело обстояло редкостным образом. В данном случае не было ничего, на что слава могла бы опереться, ничего написанного, будь это хотя бы записи лекций, передаваемые из рук в руки... Это едва ли было нечто большее, чем имя, однако такое имя, которое как бы путешествовало через всю Германию, подобно слуху, молве о негласном короле... А слух, который сначала возник об этом приват-доценте во Фрайбурге и потом просочился в Марбург, гласил: есть некто, кто действительно осуществил все те вещи, которые [только] прокламировал Гуссерль, кто знал, что они — не академические дела, а задачи мыслящего человека, и возникшие не вчера и сегодня, а испокон веков — ...и все именно потому, что он вновь открыл прошлое. В техническом отношении решающим было то, что говорилось, например, не о Платоне и его учении об идеях, но что один платоновский диалог в течение целого семестра разбирался и опрашивался шаг за шагом — до тех пор, пока [перед слушателями] представало уже не тысячелетнее учение, а возникала в высшей степени современная проблематика... Слух выражал это
совсем просто: мышление снова стало живым, формы, принимаемые за омертвевшие, привлечены к проговариванию... Есть учитель; и возможно, существует шанс научиться мышлению»1.
Итак, ясно, что студентов мало интересовали такие внешние, формальные обстоятельства, как количество публикаций профессора. Им было куда важнее, станут ли действительно интересными его лекции и семинары. Большинство же студентов, в 1923 году записавшихся на занятия Хайдеггера и, как правило, продолжавших и дальше работать с ним, находили их не просто интересными, а захватывающими, и славу о лекторе вполне оправдавшейся. Об этом сохранилось немало свидетельств и воспоминаний. Прежде чем скажут свое слово тогдашние слушатели Хайдеггера, снова вспомним о молодежном десанте, высадившемся в Марбурге вслед за этим, еще во Фрайбурге очень полюбившимся профессором. Среди участников десанта были довольно молодые или очень молодые тогда люди. Но потом их имена оказались прочно вписанными в историю современной им философии. Наиболее громкое имя принадлежит Гансу-Георгу Гадамеру2, в наши дни повсеместно признанному одним из классиков мировой философии XX века. Другие философы, потом вошедшие, скажем так, во «второй эшелон» философской мысли Запада, теперь тоже хорошо известны. Это были: Карл Левит, Макс Хоркхаймер, Ханс Йонас, Герберт Маркузе, Лео Штраусс, Фриц Кауфманн. И менее известные (во всяком случае, у нас), но хорошо образованные, одаренные Бенно фон Визе, Эрнст Грумах, Вальтер Брекер, Вальтер Марсей, Гюнтер Штерн — впоследствии взявший псевдоним „Андерс” первый муж Ханны Арендт. (Замечу, что конкретная, основательная история философии просто обязана принимать во внимание не только философские фигуры первого ранга, но и целостное сообщество, включающее профессионалов, совместно с гениями, с истинно великими творящих реальный философский процесс.)
Теперь приведу отдельные отзывы из воспоминаний тогдашних студентов, учеников Хайдеггера. Они помогают понять, почему они с готовностью и даже энтузиазмом отправились в Марбург вслед за учителем.
Г.-Г. Гадамер в своих «Воспоминаниях о Хайдеггере» пишет: «Как раз тогда, когда я с пользой для себя начал осваиваться во Фрайбурге и стал испытывать то благотворное влияние, которое на меня там оказывал Хайдеггер, он неожиданно получил приглашение стать экстраординариусом в Марбурге. Я считал чем-то само собой разумеющимся, что и в мои задачи войдет возвращение в Марбург и в качестве марбуржца оказание помощи Хайдеггеру в его информировании, в поселении его [в этом городе]. И потому дружеские отношения с ним продолжились и упрочились»3.
Еще одну свою частную задачу Г.-Г. Гадамер, ранее учившийся в Марбурге у Н. Гартманна и под его руководством писавший диссертацию, видел в налаживании и опосредовании дружески-коллегиальных
15
1 Цит. по: «Merkur», XXX. Jahrgang, Heft 10. October. 1976. S. 913.
2 Он, кстати, впоследствии много и блестяще писал о Хайдеггере, его личности и философии, в том числе и о марбургских годах, причем передавая также и свои драгоценные непосредственные впечатления — к его свидетельствам мы будем обращаться в последующем повествовании.
3 Hans-Georg Gadamer. Einzug in Marburg / Erinnerung an Martin Heidegger. S. 109.
Часть I. Отава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
Н-в. Мотрошилова №й Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
16
отношений между двумя высокочтимыми учителями. Из этого, скажу забегая вперед, ничего хорошего не вышло, хотя поначалу, сообщает Га- дамер, все выглядело обнадеживающе.
Теперь слово Хансу Йонасу, который еще во Фрайбурге стал одновременно учиться у Гуссерля и Хайдеггера, а потом превратился в восторженного почитателя хайдеггеровского преподавательского таланта. И он поехал вслед за Хайдеггером в Марбург. Впоследствии X. Йонас завоевал славу одного из выдающихся этиков XX века, фундаментально разработавшим этику ответственности1 (у нас его имя и его работы, увы, мало кому знакомы, и даже философам по профессии). Йонас признается, что поначалу, в первом семестре обучения во Фрайбурге, ему трудно давалось понимание очень сложной философии Хайдеггера. «Я знаю, что в этом семестре я, не слишком многое поняв, был, однако, полностью убежден: я присутствую во время значительного, существенного философствования. Тут нам встретился человек, который мыслил, представ перед студентами, человек, который не докладывал об уже помысленном, как это делал Гуссерль, но осуществлял сам акт мысли в присутствии своих учеников. И это было потрясающе, причем даже во внешнем выражении. Часто дело обстояло так, что он не поворачивался лицом к аудитории, а стоял, повернувшись к окну и погрузившись в самого себя, — и мыслил вслух. Охватывало такое чувство, будто присутствуешь при изначальном акте совершенно оригинального, собственно нового мышления, открытия и освоения. И одновременно он был замечательным педагогом2. Еще и сейчас я помню, что речь шла о „De anima”, аристотелевском трактате о душе. Не думаю, что мы выбрались за пределы трех, четырех глав этой книги. Но как же [основательно] были проинтерпретированы предложение за предложением! Естественно, текст читался по-гречески, что тогда было делом само собой разумеющимся. И мы не переходили дальше, пока не проникали в самую сердцевину аристотелевских мышления и видения. Вновь и вновь случалось вот что: если кто-нибудь высказывал свое мнение и при этом злоупотреблял профессиональным философским языком, Хайдеггер говорил: «Слишком учено, слишком учено, пожалуйста, выразите это не так учено». Он хотел освободиться от установленной, отчеканенной терминологии из специального языка философствования — во имя восхождения к изначальным феноменам. Он хотел, чтобы совершалось усмотрение вещей, а это не было легким делом, потому что простые прозрения-вглядывания для него располагались в глубинах, а не на поверхности»3. Это написано Йонасом о фрайбургских занятиях у Хайдеггера, но вполне приложимо к марбургскому периоду. Ибо приемы Хайдеггера-лектора уже сложились. И в Марбурге, как свидетельствуют другие ученики и слушатели, он входил в аудиторию, сначала едва удостаивая многочисленных собравшихся своего взгляда. Он начинал говорить тихим голосом, так что
1 См. написанный мною небольшой раздел о X. Йонасе — История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. IV. М., 2012. С. 397-399.
1 Чтобы выдающиеся (впоследствии) ученики сохранили такие воспоминания о лекциях профессора, надо быть действительно высококлассным лектором. И здесь, как правильно отметил видный отечественный философ В. Махлин, у Хайдеггера каждому философу надо «поучиться» (В.Л. Махлин. Второе сознание. М., 2009. С. 118).
Hans Jonas, Erkenntnis und Verantwortung. Göttingen. 1991. S. 41-42.
некоторые лектора почти не слышали. А потом, овладев вниманием, говорил все громче, порой иронически-насмешливо, теперь уже приковывая к своей лекции интерес студентов и других слушателей. И буквально зачаровывал их. Один из них, уже цитированный П. Хюнерфельд, писал: «Тонкий шарм, смутное очарование исходили от тридцатичетырехлетнего человека. Это было не только притягивающее, очаровывающее воздействие подлинно творческого философа, но и великого человека двадцатых годов»* 1. (Здесь заметим: Хайдеггер, наверное, и был таким значительным человеком в 20-х годах. Но когда наступили 30-е годы, экзамена на «величие» он, увы, не выдержал...)
Студентов сначала поражало, а потом и покоряло то, что они чувствовали: театрально разыгранная отчужденность от аудитории все же не была чисто внешним приемом. Ведь когда профессор рассказывал о великих философах — будь то Платон, Аристотель или Кант, Гегель, — он не хотел, по собственным словам, рассматривать великих «через сегодня купленные», искажающие очки, а напряженно стремился переместиться духом куда-то в метафизическое обиталище этих великих, где он смог бы услышать, «почувствовать мировой дух»2.
А впоследствии студенты с восторгом убеждались: как бы погруженный в глубины «мирового духа», любимый профессор замечал чуть ли не каждого из них; с наиболее талантливыми он готов был, не жалея времени, специально — и очень требовательно — работать. (К одаренным красавицам существовал, как мы уже знаем и еще более узнаем впоследствии, особый, очень пристальный интерес...)
Но мы погрешили бы против исторической точности, если бы сочли и изобразили восторг прохайдеггеровского студенческого и вообще молодежного круга единственной и всеобщей реакцией философской молодежи. Ибо не все студенты и выпускники были одинаково воодушевлены особым историко-философским стилем Хайдеггера — преобразующим, кардинально перетолковывающим великие философские источники. В чем-то прав Р. Сафранский, который отмечает, имея в виду раннее хай- деггерианство и фрайбургского, и марбургского времени: «Тех студентов, которые, должно быть, ожидали [от Хайдеггера] введения к Аристотелю, постигло разочарование»3. Не лишено оснований еще одно замечание этого автора: перед лицом вызовов тревожного для всего мира и особенно для Германии тогдашнего исторического этапа хайдеггеровская философия, претендовавшая на экзистенциональные, т. е. реальные, жизненные прозрения, все же достаточно далеко отстояла от коллизий, трудностей, перипетий конкретного бытия людей, предлагала остраненное погружение в глубины усложненной философии с ее специальным, абстрактным, «техническим» категориальным словарем и жаргоном.
Однако же преданных Хайдеггеру студентов, о которых сейчас и идет речь, подобные соображения не смущали. Если Платон и Арис-
1 Paul Hühnerfeld. In Sachen Heidegger. Versuch über ein deutsches Genie. Hamburg. 1959. S. 56, 57
1 Martin Heidegger — Karl Jaspers. Briewechsel 1920 bis 1963. S. 59.
1 R. Safranski. Op. cit. S. 138, 139. Сафранский непосредственно пишет о лекци¬
ях Хайдеггера «Феноменологические интерпретации Аристотеля», прочитанных во
Фрайбурге в 1921-1922 годах. Но эти оценки вполне можно отнести и к-марбургским лекциям, семинарам, на которых речь тоже шла об Аристотелем ДВДЯдагфрода>фах.
17
Чостъ I. (лава 1. ЛЛортин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
Н.В. Мотрошилово ШЦ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьлие-времп-любоеь
18
тотель в изображении Хайдеггера столь необычны, так отличаются от стандартных для того времени историко-философских образцов, если новое предстает столь увлекательным, то в этом ведь и состоит заслуга Хайдеггера! Таково было превалирующее умонастроение. Что касается уже не столь отдаленных, как потом выяснилось, раскатов грома в социально-историческом бытии, то ни профессор, воодушевленно повествовавший о Бытии и необходимости его высокого философского «вопрошания», ни тем более студенты в 20-х годах XX века не слышали гула будущей истории. Как старшее, так и младшее поколения тогдашней университетской интеллигенции, прежде всего немецкой, т. е. и педагоги, и их ученики, о чем впоследствии согласно вспоминали они сами, были едины в недоверии, даже презрении к политике. От нее и от любых политических сил они стойко дистанцировались. Ханс Йонас писал, что сам не принимал никакого участия в немецкой политике и что это объединяло его, как и Ханну Арендт, с подавляющим большинством «этих страстных юных студентов Хайдеггера, которые тогда собрались в Марбурге. Они обладали своего рода прекраснодушным и высокомерным презрением и отчуждением от политического мира. Там господствовал, — продолжал Йонас, — немецкий предрассудок, согласно которому высокая жизнь духа несовместима с обыденными обстоятельствами жизни... Жизнь созерцания, по-гречески «bios theoretikos»,— вот она считалась высшей формой жизни»1.
Нельзя забывать: подобные признания, запоздалые сетования тогдашней молодежи, а потом и осуждающий гнев более поздних поколений (что же они, умные, честные люди, не шли в политику, сторонились ее или открыто бойкотировали?!) проходят через всю историков том числе и через нашу отечественную историю самых последних периодов. Это особая тема, и вдаваться в нее подробно здесь не входит в мои планы. Одно можно сказать: для бойкотирования политики в веймарской Германии у совсем молодых — умных, честных, но житейски, политически неопытных — людей были вполне веские основания. Ведь в истории всех стран и народов бывают такие особо трудные времена, когда любой, в сущности, шаг в политике всех без исключения политических сил только увеличивает хаос, неразбериху, скатывание страны в пропасть. И тогда умные и честные люди чураются политики, чтобы не «вляпаться» во что- то в лучшем случае неэффективное, а в худшем — скверное, непростительное. Позорный для Германии 1933 год и последующее двенадцатилетие подтвердили: как раз (национал-социалистическая) активность значительных слоев населения, а также политическая «включенность», ангажированность интеллектуалов, подобных Хайдеггеру, обернулись историческими бедствиями и их исторической виной. Уж лучше бы эти люди держались в стороне от политики... Правда, есть и другая точка зрения, к которой склонялись впоследствии также и те, кто к 30-м го-
1 Hans Jonas. Erkenntnis und Verantwortung. Gottingen, 1991. S. 46. Карл Левит вспоминал о том же: «Борьба политических партий не могла интересовать меня, ибо и на правом, и на левом флангах спорили о таких вещах, которые самого меня не затрагивали и меня в моем развитии только раздражали. Каким-то оправданием служило мне появившееся в 1918 году сочинение Т. Манна „Размышления неполитического [человека]”» (Karl Lowith. Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. St., 1986. S. 18).
дам находился в стане людей «неполитических», в смысле Томаса Манна (который в 30-х годах, как известно, перестал быть — вопреки своим прежним призывам— «неполитическим человеком» и как раз активно включился в борьбу против нацизма). Надо было — впоследствии думали и говорили в Германии (говорят и у нас о советских временах применительно к бойкоту официозной политики со стороны интеллектуальных, творческих слоев) — умным, ответственным молодым людям идти в политику, им следовало действовать активнее, тогда бы не расползлась по миру коричневая чума... В целом верно. Однако реальная история сложна, и в ходе, гуще событий трудно все разложить по полочкам. Да и была ли гарантия иного результата в случае участия в политике? В практической реализуемости подобных как будто бы мудрых советов можно усомниться. Ведь в самой политической реальности — что характерно для всех времен — происходит соответствующее «бойкотирование», выталкивание, особенно из высших сфер политического решения, самых умных, образованных, ответственных, совестливых людей, даже если они хотят активно действовать в социально-политической сфере. История жизнедеятельности философов, в частности, подтверждает существование подобной печальной закономерности. Так, молодые Фихте, Шеллинг, Гегель проявляли немалый интерес к участию в политике; к зрелой гегелевской философии права со своей стороны проявляли интерес некоторые передовые политические деятели. Но сопряжения (философского) интеллекта и реальной политики тогда, увы, не получилось...
Да и вообще, в сферах политической активности честность, ответственность, высокая нравственность и интеллектуальность ни в одну эпоху не выдерживали конкуренции с приспособленчеством, угодливостью, готовностью «попутчиков» идти на любой компромисс с властями предержащими. Вот почему интеграция высоких результатов мысли и честной, ответственной, нравственной практической политики пока не продемонстрирована историей, если отвлечься от редких, так сказать, исключительных экземпляров.
Вернемся в Марбург 20-х годов, в университетские аудитории. Можно согласиться: педагогический успех Хайдеггера в Марбурге не был стопроцентно-всеобщим. (К тому же — применительно к последующим мрачным событиям, неизвестным самим участникам тогдашнего процесса, но теперь известным всем, — на такой успех будущего нацистского ректора 1933 года можно взглянуть без восторженных преувеличений.
Что позднее сделали некоторые прежние хайдеггеровские ученики.)
И все же популярность Хайдеггера у молодежи, несомненно, была и ос- ^ талась ярким историческим фактом. ^
В целом же прибытие Хайдеггера в Марбург и его недолгое там профессорство произвели немалое волнение в той (относительно) «тихой заводи», какой к 20-м годам XX века стали философские сегменты прославленного Марбургского университета — уже после того периода истории, когда в нем прочно царили и составляли его славу, с одной стороны, некогда новаторское (а теперь законсервировавшееся) марбургское неокантианство, а с другой стороны, сильные направления протестантской теологии. Если между значительной частью студентов и Хайдеггером установилось взаимопонимание, подчас перераставшее в
Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
20
£
й
Т
сс
г
8.
«а
I
(9
О
Ю
н
о>
£
8.
(Г
о
£
£
0 X £ а
«9
о>
>£
Я
£
1
О
3
о
а
5
£
со
X
восторженное почитание профессора-новатора, то ничего подобного не было в его коммуникациях с коллегами по философскому университетскому цеху.
В нашем (относительно) кратком повествовании невозможно (да и вряд ли необходимо) вдаваться во все подробности той исторической картины, которая касается марбургского философского сообщества и его состояния именно в 1923-1928 годах, т. е. в то время, когда в него вошел и, главное, испытал по отношению к нему полное отчуждение Мартин Хайдеггер. Эту картину мы вынуждены зарисовать лишь крупными мазками.
Марбургская университетская философия в 1923-1928 годах: штрихи к общей панораме;
Н. Гартманн и Р. бультманн
Университетская философия Марбурга ко времени приезда Хайдеггера в этот город пока еще воспринималась в свете недавнего господства, мировой известности и блеска марбургского неокантианства. Но слава школы обыкновенно поддерживается живым творчеством ее корифеев. Между тем яркая деятельность выдающихся марбургских неокантианцев осталась в прошлом. Г. Коген, логицистский интерпретатор Канта, по сути оформивший все основные линии марбургской ветви неокантианства, в 1912 году ушел в отставку (кстати, одним из учеников, провожавших его на пенсию, был Борис Пастернак — читайте об этом в «Охранной грамоте»). В 1918 году Коген скончался.
Другой европейски известный философ марбургской школы, Пауль Наторп (еще в 1921 году опубликовавший книгу «Философия. Ее проблема и проблемы»), как мы уже знаем, высоко оценил хайдеггеровскую рукопись об Аристотеле и в немалой степени способствовал приглашению Хайдеггера в Марбург. Сотрудничество с Хайдеггером этого приближавшегося к семидесятилетию доброжелательного неокантианца было бы в принципе возможным. Но в 1924 году Наторп умер. Оставался еще один выдающийся мыслитель, выросший на почве марбургского неокантианства, — Эрнст Кассирер. Он был тогда в расцвете творческих сил. В тот год, когда Хайдеггер приехал в Марбург, Кассирер приступил к созданию своего фундаментального трехтомного труда «Философия символических форм» (1923-1929). Но его с 1919 года уже не было в Марбурге — он профессорствовал сначала в Берлине, а потом в Гамбурге. Хайдеггер и Кассирер еще сойдутся в диалоге, в высшей степени интересном и значительном, — это будет их знаменитая Давосская встреча в 1929 году. (Было же время, когда интеллектуалы Европы съезжались в — модный нынче элитарно-гламурный — Давос, чтобы слушать дискуссии философов!)
Обращаясь к теме борьбы раннего Хайдеггера с неокантианством — а он достаточно рано сделал одной из своих критических целей решительное оспаривание идей этой школы (ибо готовился предложить принципиально важный для него вариант трактовки идей Канта, существенно отличный от обеих новокантианских версий)1, можно констати-
1 См. по этим вопросам: И.А. Михайлов. Ранний Хайдеггер. М., 1999. С. 112— 115.
ровать, что поле «борьбы» в Марбурге фактически досталось ему — в силу описанных выше обстоятельств — вообще без боя. Это, правда, не охладило пыл воинственного Хайдеггера, тем более что «воспоминания» о неокантианских идеях еще жили в сознании немалого числа фи- лософов-марбуржцев. О чем свидетельствует, например, Г.-Г. Гадамер (он, напомню, еще до приезда Хайдеггера учился у Н. Гартманна): «...все мы в Марбурге жили еще в неокантианском и трансцендентально-философском языке понятий»1. (Поэтому-то как Хайдеггер, так и Ясперс в переписке неокантианскую мишень их борьбы все-таки обозначают, очерчивают). Приведу сказанные Г.-Г. Гадамером в 1964 году слова, которые сжато и точно фиксируют причины и предпосылки хайдеггеров- ского неприятия сциентистски (даже логицистски) ориентированного марбургского неокантианства. «Марбургская школа,— отмечал Гадамер, — которая в течение десятилетия внутри современного неокантианства отличалась своей методической строгостью, ориентировалась на философское обоснование наук. Ее сторонники считали установленным, причем как нечто полностью несомненное, не вызывающее никаких вопросов, что в науке заключено собственное завершение познаваемого как такового, что объективирование опыта с помощью науки целиком и полностью наполняет познание смыслом. Чистота понятия, чистота математических формул, триумф методов исчисления бесконечно малых — именно все это, а не промежуточное царство колеблющихся языковых гештальтов, — воплощало философскую позицию марбургской школы»2. Гадамер добавлял, что и философия символических форм Кассирера — при всей экзотичности для марбургской школы тем мифа, языка символических форм, — анализировала их в виде «гештальтов объективного духа ».
Оказывалось, таким образом, что Хайдеггер, основания формирующейся философии которого были во многом оппозиционны как неокантианству, так и отчасти аутентичной философии самого Канта (о чем — позже), не мог не проявить своей враждебности к марбургской среде — пусть, как отмечалось, живых и сильных защитников некогда мощной доктрины на «поле боя» уже не было. Хайдеггеру в данном случае было не так уж важно и то, что другие неокантианцы (например, фрайбургские неокантианцы Г. Риккерт и Э. Ласк3) философствовали на иной почве, чем марбуржцы (о чем Хайдеггер, учившийся у этих обоих достаточно известных и сильных философов, хорошо знал). Но поскольку и упомянутые неокантианцы фрайбургской (баденской) школы руководствовались главным образом сциентистскими соображениями, то и их ориентации побуждали и не могли не побуждать Хайдеггера к его профессиональному и глубоко личностному отчуждению от неокантианства как такового. То обстоятельство, что ареной такого противостояния стала «заповедная земля» одной из школ, а именно Марбург и его университет, не только не смиряло воинственный пыл Хайдеггера, но, возможно, разжигало его полемический задор.
21
1 Hans-Georg Gadamer. Heidegger und die Griechen / Aktualität I. S. 60.
2 Hans-Georg Gadamer. Op. cit. S. 197-198.
3 См. по этому вопросу: И.А. Михайлов. Ранний Хайдеггер. С. 112-114.
Часть I. (лаеа 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
Н-В. Мотрошилоеа ЩЩ Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бытие-еремя-любовь
22
Как складывались коммуникации Хайдеггера с философами иных ориентаций и специалистами других теоретических специализаций, которые в то же время преподавали в университете Марбурга?
Остановлюсь лишь на двух отдельных, конкретных случаях, чтобы ответить — опираясь на факты, но не пренебрегая и гипотетическими предположениями — на вопросы: а были ли вообще объективные предпосылки, возможности для плодотворного диалога Хайдеггера с марбургскими коллегами? И какими из них он воспользовался? Для ответа на этот вопрос целесообразно обратиться к проблеме отношений Хайдеггера с двумя крупнейшими звездами тогдашнего марбургского университетского небосклона. Это Николай Гартманн и Рудольф Бульт- манн.
В моей (прилагаемой) биографии Хайдеггера подробно рассказано о том, что путь философа даже к должности экстраординарного профессора оказался весьма непростым. Сам Хайдеггер, разумеется, воспринимал это как обиду и несправедливость. В свете итогового статуса «философа № 1 XX века» и скорее всего, ощущаемой им в самом себе потенциальной способности стать таковым, на фоне успеха у студентов, прозорливого признания его таланта известными тогда мыслителями старшего поколения (Гуссерля, прежде всего), завязавшейся дружбы с Карлом Ясперсом, выделившего Хайдеггера из многих коллег, — в свете всего этого его огромные уже тогда амбиции можно понять. Однако для внешнего наблюдения дело обстояло куда сложнее.
Мы уже отмечали, сколько проблем породило то, что Хайдеггер долго не мог предъявить свои научные сочинения читающей профессиональной публике. А в Германии престиж видного университетского профессора обычно складывался не только из лекционных курсов, но также (может, и в большей мере) из сочинений, завоевывающих признание и вызывающих дискуссии в немецком и мировом философском сообществе. Вспомним снова и о том, что учитель и покровитель Хайдеггера Эдмунд Гуссерль, буквально силой принудивший ученика срочно оформить в виде рукописи наброски, относящиеся к философии Аристотеля, послал ее другу Паулю Наторпу, ходатайствовавшему в Марбурге за приглашение Хайдеггера.
Рукопись произвела и на самого Наторпа, и на Николая Гартманна большое впечатление. Наторп отметил «оригинальность, глубину и силу » философского таланта Хайдеггера. Итак, эти два мыслителя, наиболее крупные тогда представители именно марбургского философского сообщества — признанные как в Германии, так и во всем мире, — сначала вполне благосклонно отнеслись к включению в их ряды Мартина Хайдеггера и даже активно поддерживали хлопоты Гуссерля. Но уже после приезда Хайдеггера в Марбург начались конфликты. Причем интересно и характерно, что то были разногласия не вокруг содержательных философских, а скорее повседневно-бытовых проблем. Вот как Р. Сафран- ский описывает нарастание личного недоверия между Н. Гартманном, другими коллегами и М. Хайдеггером: «В узком пространстве университетского мира Хайдеггер скоро стал звездой, за которой наблюдали со скрытым неудовольствием. Свои лекции он назначил в ранние утренние часы, что сначала не считалось чем-то особо опасным; однако уже через
два семестра на его лекциях сидело 150 студентов». Гадамер, который до встречи с Хайдеггером был учеником Н. Гартманна, рассказывал, как гартмановцы перебегали в стан Хайдеггера. Гартманн, балтийский барон, был ночным человеком. Он вставал в полдень, где-то около 12 часов дня, и только к 12 ночи обретал бодрую активность. Вокруг него собирался дружеский круг. Дискутировали до рассвета. «Гадамер пишет: „И вот когда Хайдеггер прибыл в Марбург и назначил свои лекции на семь часов утра, конфликт уже поэтому стал неизбежным...”»1.
Речь идет как будто о чисто житейских, но ведь достаточно чувствительных моментах. В результате неплохо прижившегося в Марбурге Гартманна, такой порядок вещей, своевольно и безоглядно (а может, и намеренно) «учрежденный» Хайдеггером, через два года фактически заставил перебраться в Кёльнский университет, что он, как справедливо отметил Сафранский, сделал «с облегчением и чувством освобождения». (Тем не менее Гартманн, под занавес своего марбургского бытования, высказался в пользу Хайдеггера при хлопотах факультета о нем как претенденте на освобожденное им, Гартманном, месте ординариуса.)
Г.-Г. Гадамер — опять вспомним, ученик и Н. Гартманна и Хайдеггера — рассказывал позднее (в связи с 85-летием Хайдеггера) о таком эпизоде, отражавшем разницу и характеров, и внешних черт поведения этих двух выдающихся фигур тогдашней философии. «Это были два антипода — холодный, сдержанный балтиец, который вел себя как сеньор- буржуа, и темноглазый, низкорослый человек с обликом крестьянина из горной местности, чей темперамент, при всей поведенческой дисциплине, неизменно пробивался и находил внешнее выражение. Я однажды был свидетелем того, как они встретились на лестнице Марбургского университета: Гартманн шел на лекцию, как всегда одетый в брюки в полоску и черный сюртук со стародавним белым воротником, а Хайдеггер, возвращавшийся со своей лекции, был облачен в лыжный костюм. Гартманн остановился и сказал: „Как можно— вот так Вы ходите на лекцию?!”». Хайдеггер, передает Гадамер, разразился веселым смехом. А вечером Хайдеггер читал — в окружении восторженных спортивных студентов — лекцию о лыжном спорте, которую по своему обыкновению увязывал с «народно-ландшафтными» корнями, свою близость к коим он неизменно подчеркивал. Он многозначительно провозгласил: «Ходить на лыжах учатся только в [свободной] местности (Gelände) и во имя ее». Сам Хайдеггер, напоминал Гадамер, с детства был заядлым лыжником, и его ученики (принадлежащие к его «школе» — Heidegger- Schule) «заразились» от него тем же увлечением. Гадамер, правда, сделал оговорку, что в лыжном костюме Хайдеггер щеголял не всегда. Но вот в черном сюртуке, в отличие от Гартманна или других коллег-про- фессоров, его не видели ни разу... Н. Гартманн не один раз проявлял благородную способность отнестись к Хайдеггеру (со своей стороны постоянно обострявшему соперничество) вполне объективно. Г.-Г. Гадамер вспоминал: «Когда Н. Гартманн в первый (и единственный раз) услышал лекцию Хайдеггера, то позднее сказал мне, что после Германа Когена ему не случалось наблюдать выступление такой силы»2.
23
1 Rüdiger Safranski. Op. cit. S. 159.
2 Hans-Georg Gadamer. Hegel. Husserl. Heidegger. Tübingen, 1987. S. 265.
Часть I. (лава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
Н'В. Мотрошилоео Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бытие-время-любовь
24
В случае отношения к Гартманну, кстати, сказались черты характера Хайдеггера, делавшие его весьма неудобным коллегой — амбициозность, подчас аррогантность, неумение и нежелание считаться со сложившимися в сообществе порядками (в отношениях с людьми аристократического происхождения его подстегивал еще и комплекс простолюдина). Что же касается более важных моментов — содержания и направленности философской мысли, то, казалось бы, Хайдеггер в его онтологической реформе мог найти поддержку именно у Н. Гартманна, который несколько раньше (в «Метафизике познания», 1921 год) масштабно осмысливал и обновлял как раз онтологические тенденции. Однако — не получилось... Прискорбно, но до содержательных дискуссий двух авторов онтологических реформ дело так и не дошло. А какими интересными, важными они могли бы быть! Многое зависело от Хайдеггера: ведь он воевал против всех, в том числе против онтологов своего времени; он мог ладить только с теми, кто шел «за ним». Сам же не хотел и не умел присоединяться, ни в качестве ведомого, ни в качестве сподвижника-союзника, к каким угодно авторитетам. И не обладал способностью (что, как мы увидим, было даже в случае Гуссерля) воздерживаться от гневных, часто несправедливых, выпадов...
Единственным тогдашним марбургским мыслителем, с которым у Хайдеггера сложились дружеские, доверительные коллегиальные отношения, был известный протестантский теолог, профессор Рудольф Бультманн (Bultmann). Главных причин дружбы, полагаю, было две. Во-первых, Хайдеггер (ко времени деятельности в Марбурге) уже успел оставить позади теологический путь и соответствующие, первоначально имевшиеся амбиции. Он ушел из стана «вскормивших» его католиков, став протестантом (об этом подробнее см. в моей Биографии). Но собственно теологических амбиций, пусть на новообретенной конфессиональной почве протестантизма, у Хайдеггера не было. Завоеванный Бультманном статус одного из ведущих, наряду с Карлом Бартом, протестантских теологов-реформаторов Хайдеггера лично не волновал. Всего же важнее для дружбы, было, во-вторых, то, что Бультманн в своей «демифологизирующей» реформе протестантской теологии во многом опирался на известные ему идеи и экзистенциалы Хайдеггера, которые тогда, еще до написания «Бытия и времени», поверял ему (как, кстати, и своим студентам) Мартин Хайдеггер. В дружбе с Бульманном сам Хайдеггер находил непосредственные поддержку и понимание: ведь он проговаривал новому другу свои сокровенные мысли и тем самым апробировал, как бы обкатывал их. Одобрение коллег, равных по уму и образованности, имело никак не меньшее значение для Хайдеггера, чем восторг молодежи. (Тем более что другие профессора Марбурга совсем не спешили одобрять, поддерживать философские нововведения Хайдеггера.) Летом 1924 года по приглашению Бультманна Хайдеггер прочитал в Марбургском теологическом обществе доклад на тему, профилирующую для его тогдашних (и последующих) философских размышлений и нововведений, — «Понятие времени» (Der Begriff der Zeit)1.
1 Подробнее о Р. Бультманне, в частности — о его любопытном примыкании к новаторским размышлениям М. Хайдеггера марбургского периода см.: С.В. Лезов. Бультман/ Новая философская энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 325-328; Он же. История и герменевтика в изучении Нового Завета. М., 1996.
Других коллег-профессоров Марбургского университета Хайдеггер, скорее, вогнал в раздражение, а то и зависть, не побудив их вдуматься в его новаторскую философию.
Духовное одиночество философа скрашивало то, что у Хайдеггера (еще до Марбурга) завязались дружеские отношения с профессором в Гейдельберге Карлом Ясперсом, уже известным тогда мыслителем, к тому же пользовавшимся авторитетом и уважением как человек, исполненный благородства и высокого стиля. Сохранялись и духовные связи с бывшим учителем Эдмундом Гуссерлем. Правда, нам предстоит убедиться, что вокруг отношений Хайдеггера даже с этими двумя благоволившими к нему выдающимися старшими коллегами тоже начинали сгущаться тучи.
Хайдеггер и Ясперс: коммуникации в марбургский период
Коллегиальную дружбу, понимание, солидарность Хайдеггер находит в коммуникации с К. Ясперсом, переписка и общение с которым начинаются еще в 1920 году. В своей «Философской автобиографии» Ясперс описывает, как во время состоявшейся в феврале 1920 года встречи во Фрайбурге (когда, в частности, праздновался день рождения Э. Гуссерля) он испытал противоположные чувства. В кругу учеников и последователей Гуссерля Ясперс заметил особое, очень теплое отношение к Хайдеггеру (особенно со стороны мэтра и его жены Мальвины, которая по-матерински и по-доброму назвала Хайдеггера «феноменологическим ребенком», не догадываясь, вероятно, что это может обидеть амбициозного, гордого и уже не юного Мартина...).
Но общая атмосфера как бы «семейных» встреч феноменологов Ясперсу не понравилась: он почувствовал что-то «мелкобуржуазное» (kleinbürgerlich, а это было тогда негативно-осуждающее слово в интеллектуальных кругах), что-то «узкое», лишенное духовной искры. «И только Хайдеггер, — писал Ясперс, — для меня выглядел по-другому. Я посетил его; мы вдвоем сидели в его аудитории...; я увидел, сколь интенсивно он работает, ощутил симпатию к проникновенной краткости его речи»1.
Завязавшаяся переписка двух мощных философских умов положила начало их общению — процессу исключительно сложному, испытавшему на себе влияние социальных и личностных конфликтов бурного XX века. (Это явление не раз попадет в кадр нашего дальнейшего повествования.) Сейчас нас будет интересовать, какое отображение ближайшие домарбургские и особенно марбургские годы жизни Хайдеггера получили в зеркале переписки сблизившихся тогда философов, которым было суждено стать философскими классиками своего столетия.
В 1920 году, в первом из известных нам писем к Ясперсу, Хайдеггер сообщает, что с 1919 года интенсивно работает над рецензией на книгу Ясперса «Психология мировоззрений» для одного геттингенского журнала. Рецензия, кстати, в те годы не была закончена (впервые она была опубликована учеником К. Ясперса X. Занером в 1973 году в Собрании сочинений Хайдеггера: см. GA. Bd. 9). По поводу рецензии и возникли
Karl Jaspers. Philosophische Autobiographie. München, 1984. S. 92.
Часть I. (лава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
26
ю
h-’
СТ>
Г
8.
<Е
о
Z
х
д
S
а
с»
о>
>s
Я
X
I
О
О
а»
о
1
3
а
со
-X
первые содержательные — и, полагаю, неизбежные — разногласия двух философов (о чем Ясперс сообщает в процитированной только что «Автобиографии», S. 95). Конечно, спорщик Хайдеггер не преминул подвергнуть книгу Ясперса критике: его отрицающий ум не щадил и друзей. (Что я констатирую без всякого осуждения.)
Ясперс получил критические заметки Хайдеггера, обдумал их, но счел их «неоправданными» (ungerecht). Отметил для себя (потом и в «Автобиографии»): он шел иным путем, чем тот, который выбрал для себя и предлагал другим Хайдеггер. Да и вообще — Ясперс оправданно ощутил в идеях Хайдеггера «чуждость воления, вопрошания, требований...» (Ibidem). В принципе деликатный Ясперс в первый, но не в последний раз обидел своего нового более молодого друга: прочитав несколько страниц манускрипта, он прекратил чтение (текст был к тому же отпечатан на плохой пишущей машинке), да еще и заявил, что «подобный тип критики его не интересует»1. Что Хайдеггер был задет таким «нереагированием», как выразился потом Ясперс, он понял позже. Но несмотря на этот эпизод, переписка Ясперса-Хайдеггера в начале 20-х годов не прерывается. Более того, теплые приветы передаются обоими респондентами «от дома к дому...».
Что особенно сближает Ясперса и Хайдеггера, так это острое недовольство состоянием современной им философии. «Теперь, однако, — пишет Хайдеггер Ясперсу 27 июня 1922 года, — в философии все поставлено [с ног] на голову; считают непристойным (unfein), если мыслителя спрашивают о его принципиальной позиции...» (Briefwechsel. S. 29). (Кстати, в этом письме Хайдеггер фактически дезавуирует свой набросок критической рецензии на «Психологию мировоззрения» и добавляет, что многое в рукописи уже изменил. — Ibidem.)
В переписке этих (домарбургских) лет появляется в высшей степени важное понятие «Kampfgemeinschaft». Оно подразумевает «боевое содружество», «сообщество (в целях) борьбы», — а именно борьбы со многими особенностями тогдашнего бытия, духовно-культурно-философского в первую очередь. Обе части составного немецкого слова очень важны.
Прежде всего имеются в виду (присоединением «-Gemeinschaft») содержательное философское общение и (разумная) коллегиальная солидарность в важнейших проблемных, теоретических, но также и практических пунктах. В первую очередь, конечно, взаимопонимание, взаимодействие, взаимоподдержка их двоих — к чему Хайдеггер приглашает, во что активно пытается втянуть Ясперса. Вскоре мы увидим, что Ясперс, осознавший, что именно, притом реально, разумеет под «Kampfgemeinschaft» его новый друг, от такого конкретного смысла станет дистанцироваться. Сначала, правда, создается впечатление, что Хайдеггер и Ясперс здесь единомышленники — прежде всего в понимании «Kampf-», т. е. аспекта борьбы. У обоих нет сомнения в том, что речь должна идти об университетской философии. «Чем дольше я действую в рамках университетской философии, — пишет Ясперс, — тем больше
1 См.: Martin Heidegger / Karl Jaspers. Briefwechsel. 1920-1963. Fr. a/M.; München; Zürich, 1990. S. 225. Далее при цитировании именно переписки — страницы в моем тексте.
укрепляется моя позиция по отношению к ней. Слишком беспокоиться о ней было бы пустой тратой времени... Мне уже и раньше показалось — думается, я сказал Вам об этом, — что Вы больше меня вовлечены в поле дискуссий относительно неокантианства, тогда как я не хотел бы попасть в эту сеть. Я ощущаю только импульс к масштабному расчету — ведь что только не остается на совести этих профессоров философии...» (Ibidem. S. 31). Но пока Ясперс отодвигал в сторону такой «масштабный расчет». Одна из причин: Ясперс способен сам о себе судить как бы со стороны; он борется, как и прежде, за прочные позиции университетского профессора. К тому же для фундаментального критического размежевания сначала, напоминает он, надо добиться солидных результатов. (Это и деликатное напоминание другу.) Ясперс делает и другую типичную для его личности, для его характера оговорку: любые «анти »-настроения («Anti»-Stimmungen), связанные с отторжением, тем более ненавистью, не должны мешать «чистому развитию собственных импульсов». Да и вообще, он (по возможности) старается воспрепятствовать разрастанию гнева в собственной душе, ибо знает за собой подобную склонность.
В этом месте повествования мне хочется высказать свое мнение о различии характеров, личностных стилей Ясперса и Хайдеггера, что будет особенно существенно для наших дальнейших размышлений. Благородная натура Ясперса проявляется в самосдерживании, самокритике. Он выступает, борется (kämpft) против «университетской философии», против (консервативного) профессорского сообщества, но не забывает отметить, что сам к таковому сообществу все же принадлежит. Не то Хайдеггер: отчаянно борясь против такой философии, он как бы забывает о том, сколько сил ушло на вхождение в гневно осуждаемое сообщество... (И сколько их еще будет приложено для получения места ор- динариуса!) Куда важнее здесь неодинаковое отношение обоих философов ко второй части, а именно M&anvpigemeinschaftb. Ведь нужна особая щепетильность в том, с кем именно ты оказываешься в «сообществе», в «боевом содружестве», тем более в случаях обострившейся «Kampf», борьбы. Вся жизнь Ясперса доказала: он не запятнал себя ни одним случаем неразборчивости, слепоты в выборе союзников. А Хайдеггер, напротив, всего через одиннадцать лет вляпается в (недолгое, правда) «Kampfgemeinschaft» с университетскими и другими нацистами — и будет конкретно участвовать в их борьбе против ненавистного университетского круга, на представителей которого обрушится репрессивная мощь идеологии и практики национал-социализма... В борьбе, которая будет осенена сочинением «Mein Kampf» («Моя борьбам) бывшего еф- рейтора, который, кстати, уже в 20-х годах начал активную «борьбу» за «свою» власть...
Но наши герои пока еще ничего не знают о будущем. Вернемся к переписке.
Осенью 1922 года Ясперс приглашает Хайдеггера к себе в гости в Гейдельберг (кстати, посылает, зная о стесненном материальном положении друга, 1000 марок на оплату путешествия, оговаривая: это «без дискуссий...»). Хайдеггер проведет в гостях у Ясперса и его жены 8 дней и 19 ноября пошлет благодарственное, даже восторженное письмо, чутко и прозорливо отметив «прочность „стиля”», несентиментальность,
Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
28
«строгость» поступков и шагов Ясперса и его умницы жены, что свидетельствует, с радостью отмечает он, об укрепляющейся дружбе. Конечно, помянуто и «Kampfgemeinschaft», т. е. боевое содружество.
Хайдеггер добавляет также, что по возвращении во Фрайбург его ожидало сообщение Гуссерля о запрошенной Наторпом работе Хайдеггера (об Аристотеле) для продвижения вопроса о приглашении его экстраординариусом в Марбургский университет. Быстро (в 3 недели) оформленная рукопись об Аристотеле отослана Гуссерлем в Марбург и Гёттинген. Но как это описывается?
Не скрывая раздражения и иронии, Хайдеггер сообщает Ясперсу о (позитивной!) реакции марбуржцев на его манускрипт: «В Марбурге работа тоже произвела впечатление; Наторп пишет, что в списке я, во всяком случае, наряду с тремя другими претендентами, стою на „почетном месте”. Предположительно, это знаменитое второе место. Кронер, о котором, должно быть, уже в последнем семестре шла речь, будет, конечно
<Е
Э
а
I
со
±
же, стоять на первом месте — он из „старших”, а основное — тут много бумаги», — пишет Хайдеггер, в последних словах намекая, скорее всего, на объемную, многостраничную книгу Рихарда Кронера «От Канта до Гегеля» (несколько позже, т. е. в 1924 году, вышедшую в двух томах). Хайдеггер в своей гордыне воспринимает Кронера всего-то как «более старого» коллегу, более плодовитого в исписывании «бумаги»... Что было в принципе необъективно и несправедливо. Во всяком случае, для формального, внешнего взгляда тех, от кого зависело решение вопроса, дело так не выглядело. Ибо Кронер был уже известным, серьезным философом. Конечно, последующая история ранжировала степени философского таланта в пользу Хайдеггера. Однако она Же, история, не перечеркнула достаточно высоких профессиональных качеств исследовательского труда Р. Кронера. Тем более в то время в философском мире не удивились бы, если бы марбургским экстраординарным профессором был назван Кронер (место было освобождено Николаем Гартманном, в свою очередь занявшим должность ординарного профессора взамен ушедшего в отставку Наторпа). Предпочли же все-таки Хайдеггера, который в июне 1923 года получил официальное приглашение от Марбургского университета. Буквально на следующий день из Гейдельберга от Ясперса, узнавшего об этом от Хайдеггера, послано поздравление — с шутливым добавлением: «Хорошо, что в мире хоть когда-то и в виде исключения происходит также и нечто разумное» (Ibidem. S. 39). Вскоре Хайдеггер уже из Марбурга сообщит Ясперсу о своих занятиях со студентами, о том, как именно он с ними работает (это письмо от 14 июля 1923 года ранее нами цитировалось).
По мере освоения Хайдеггером марбургских университетских условий тема «Kampfgemeinschaft» понимается им все более конкретно — как борьба с «интригами» марбургских коллег. Что всплывает, в сущности, во многих письмах, посылаемых из Марбурга в Гейдельберг. Речь, правда, идет у Хайдеггера о «фундаментальном (grundsätzliche) преобразовании философствования в университетах» (S. 42). «Чем более органичным, и конкретным, и впечатляющим станет преобразование, тем последовательнее и прочнее оно будет. Для чего требуется некое незримое сообщество — явление довольно многозначимое и на-
ходящее зримое воплощение в таких вещах, как „союз” (Bund), „кружок” и „направление”. Идолопоклонство во многом должно быть искоренено, то есть различные кудесники современной философии должны увидеть уже раскрытой преступность их ужасного и жалкого ремесла, причем еще при их жизни, чтобы они не воображали, что благодаря им сегодня явлено царство божье» (Ibidem).
Обратим внимание также на немаловажную деталь, повторяющуюся в письмах довольно назойливо: для медленно и мало публикующегося Хайдеггера его борьба перерастает в гневно-презрительное отношение к тем коллегам, которые заняты написанием и опубликованием книг. (Что, скорее всего, должно было по крайней мере насторожить Ясперса, уже тогда — в отличие от Хайдеггера — опубликовавшего ряд книг, которые получили широкую известность. Впоследствии же, особенно после войны, он будет писать и публиковать одну за другой толстые книги высокого философского качества.)
Характер Ясперса, как мы уже отметили, был сдержанно-благородным: никакой одержимости, гневливости он себе не позволял. А вот Хайдеггера в самом начале его марбургского экстраординарного профессорства обуял какой-то всеохватывающий гнев.
Он обрушивается гневом даже на своего учителя и всегдашнего покровителя Эдмунда Гуссерля! Тот получил приглашение в Берлин, на место известного тогда философа Эрнста Трельча. Разумеется, Гуссерль, преданный Фрайбургскому университету и окруженный там талантливыми учениками, приглашения в Берлин не принял и даже не помышлял о чем-то подобном. Но берлинское приглашение всегда воспринималось в Германии как почетный знак всегерманского признания. Что-то в реакции Гуссерля на это приглашение сильно не понравилось Хайдеггеру, который пишет Ясперсу: «Вы, конечно, знаете, что Гуссерля пригласили в Берлин. Он ведет себя хуже, нежели приват-доцент, который путает должность ординариуса с вечным блаженством» (Ibidem). Раздражение ученика понятно: учитель, по его мнению, рассматривает себя как Praeceptor Germaniae (немецкий наставник). Дальше Хайдеггер уже совсем этически неопрятно пишет о том, что Гуссерль в последнее время совсем-де «расклеился» (употреблено немецкое выражение «gänzlich aus dem Leim (клей) gegangen», которое синонимично наступившему полному маразму, — к тому же злобно и необъективно добавлено что- то вроде: если он вообще когда-то был «склеен», т. е. был в порядке...). Гуссерль-де «мечется туда и сюда и говорит такие тривиальности, что жалость берет». «Он живет с сознанием миссии „основателя феноменологии”, пусть ни один человек не знает, что это значит, — а кто пробыл здесь хотя бы семестр, начинает чувствовать случившееся: он начинает ощущать, что люди уже не идут за ним, он же, естественно, думает: просто это слишком трудно. Да и вправду: что такое „математика этического” (самое новое!), не понимает ни один человек...» (Ibidem. S. 42- 43). И дальше — в том же духе.
Вырвавшееся раздражение против Гуссерля — лишь один эпизод, красноречиво свидетельствующий о некоторых особенностях характера и личности Хайдеггера. Не стану морализировать по поводу неблагодарности в отношении учителя, принимавшего такое горячее,
29
Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
H-В. Мотрошилово Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бьггие-еремя-любовь
30
деятельное участие в судьбе Хайдеггера. В конце концов, из любой благодарности ученики не должны утрачивать справедливость, объективную критичность в оценке того, что делает и что представляет собой учитель как профессионал, как личность. Но в этом гневном, раздраженном хайдеггеровском «описании» как раз нет ни грана объективности. Всякому исследователю, подробно знающему о том, сколь плодотворно, новаторски Гуссерль и в 20-30-х годах развивал новую феноменологию, основателем которой он столь же объективно и бесспорно являлся, — так вот, непредвзятому профессионалу ясно, какой злобной необъективностью, каким наветом является изображение тогдашнего Гуссерля каким-то маразматиком, изрекающим «тривиальности»... Все исторические факты к тому же свидетельствуют: пусть Гуссерль действительно нередко говорил о служении феноменологии как своей жизненной миссии, однако при этом он не только не демонстрировал какой-либо помпезности, некритичности в самооценках, но постоянно стремился сделать новые и новые, порой весьма радикальные шаги в обновлении, преобразовании своих вариантов феноменологии. (В 20-х годах, как показывают тщательные исследования, назревал именно такой очередной поворот.) Хайдеггер в своем гневе как бы перечеркивает все это.
Здесь был еще один существенный оттенок, связанный с общей темой феноменологической выучки Хайдеггера и его причастности к тогдашнему и будущему развитию, разветвлению феноменологии. Снова хочу отослать к замечательным обобщающим работам Г.-Г. Гадамера, который был, как упоминалось, одним из самых восторженных и в то же время зорких, объективных учеников Хайдеггера в Марбурге.
Гадамер четко засвидетельствовал: немалая часть растущей славы Хайдеггера в марбургский период проистекала из того, что в разных философских сообществах он воспринимался как философ, всего ближе стоявший к лаборатории тогда уже достаточно высоко оцененной гус- серлевской мысли и действительно извлекший из феноменологических теории, методологии, техники немало преимуществ, использованных им и далее, на пути самостоятельного творческого развития. (Эта тематика очень близка мне лично, и в дальнейшем мы к ней еще будем возвращаться. Но в формате данной книги не могу вдаваться в нее сколько- нибудь подробно.) В связи с исследованиями Гадамера надо упомянуть, что в его книге, в которой собраны работы, сконцентрированные вокруг трех великих философов, чьи фамилии начинаются с немецкой буквы «Н» — Hegel, Husserl, Heidegger, — имеются интересные для нас глубокие, блестящие разъяснения о том, какие важнейшие идеи, методы, ходы мысли гуссерлевско-феноменологического происхождения и свойства оказались плодотворно имплантированными в хайдеггеровские новаторские разработки1.
Из сложной целостности таких феноменологических (по происхождению) преимуществ и особенностей хайдеггеровского философского и личностного стиля сейчас выделю один момент, который блестяще — как свидетель, очевидец и участник по крайней мере марбургского опыта — зафиксировал Г.-Г. Гадамер, который к тому же удачно увязал
1 Hans-Georg Gadamer. Hegel. Husserl. Heidegger. S. 188 u. ff.
внешние черты с глубинной сущностью личности и мысли философа. Описание Гадамера, кстати, вернет нас к ранее освещенной теме внешнего облика, стиля поведения Хайдеггера — на этот раз в теснейшей связи с особенностями его философского таланта, его философской работы.
Тем, кто впервые знакомился с Хайдеггером, рассказывал Гада- мер, сначала приходило в голову: по внешности и по рисунку поведения он не соответствовал сложившемуся образу философа. Гадамер, в частности, поведал, как он, еще не зная Хайдеггера лично, но многое о нем услышав, поджидал его на выходе из одной аудитории. Но ошибся, увидев низкорослого, смуглого человека, и сначала пропустил его, потому что никак не предполагал, что так может выглядеть профессор философии Хайдеггер. «Он, как мне показалось, — пишет Гадамер, — скорее выглядел как инженер, технический специалист: немногословный, деловой, закрытый, с собранной энергией и без всякого культивирования чего-то, свойственного homo literatus. Однако, если угодно оставаться на уровне физиогномики, первая встреча со взором его глаз показывала, кем он был, показывала, что он — „ein Sehender”. Мыслитель, который видит» (Ibidem. S. 187-188; курсив мой. — Н. М.). Слово «ein Sehender» (от глагола «sehen», видеть) Гадамер как раз и поспешил расшифровать конкретнее применительно к принципиальным, в чем-то неповторимым особенностям философского дела и таланта Хайдеггера и весьма удачно увязал их с феноменологической родословной философа. Уникальность, неповторимость (Einzigartigkeit) Хайдеггера по сравнению с другими «философскими учителями нашего времени» Гадамер — и по-моему, вполне справедливо — определил так: учитель обладал способностью даже как будто придуманные философские конструкции «усматривать в созерцании». Благодаря этому в его изложении понятийное обретало особую пластику — тео- ретически-понятийному как бы сообщалось, пишет Гадамер, «третье измерение», свойственное вещам «осязаемой действительности». И вот эту удивительную способность Хайдеггера Гадамер— и снова думаю: совершенно справедливо — возводил к коренной особенности учения Эдмунда Гуссерля, который действительно положил в основу своей феноменологии особое созерцание (Anschauung), соотнесенное с чувственным восприятием, но существенно от него отличенное. В самом деле, именно Гуссерль замечательно разработал изощренную технику усмотрения и описания сущностей. «Это представлялось, — продолжает Гадамер,— чем-то новым, что вносил феноменологический способ работы Гуссерля» (Ibidem. S. 188), хотя во многом тут было возрождение как бы забытого старого искусства философии. Хайдеггер воспринял и несравненно отточил это искусство. Перед его слушателями и читателями, продолжал Гадамер, оживали славные времена и локусы философствования — древние Афины или Йена начала XIX века... «Когда Хайдеггер с кафедры проговаривал свои мысли — до малейших деталей подготовленные [заранее], но в момент лекции или доклада до малейших деталей оживавшие... — то он видел то, о чем думал, и заставлял других это видеть» (Ibidem). (Конечно, сказанным отнюдь не исчерпывается тема родства, но также и суще-
31
Часть I. (лава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
H.Ö. Мотрошилово ЮН Мортин Хойдвгтер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
32
ственных различий гуссерлевского и хайдеггеровского вариантов феноменологии1.)
Обращу, кстати, внимание на такую существенную деталь в описании Гадамера: он говорит о том, что Хайдеггер — чьи речения на лекциях могли казаться и отчасти были вдохновенными импровизациями- видениями, тем не менее тщательно продумывались заранее и, в самом деле, были подготовлены «до мельчайших деталей», — Хайдеггер углубленно работал над своими лекциями и докладами, в том числе, может и в особенности, над их причудливой, оригинальной языковой, категориальной формой, которая поражала студентов и коллег, а многих из них восхищала.
Но если сказанное об объективной зависимости Хайдеггера от гус- серлевской феноменологии верно, то возникает вопрос: отчего же Хайдеггер, как бы забыв об этом, так гневался на Гуссерля?
Причина, скорее всего, состояла в том, что шумный успех у студентов еще во Фрайбурге, а особенно в Марбурге вскружил голову амбициозному Хайдеггеру. Если к тому же учесть, что в Марбурге он усиленно работал над негуссерлевской версией феноменологии (что запечатлелось в Марбургских лекциях, а потом в «Бытии и времени»), то становится ясно: ему показалось, что люди, заинтересованные в развитии феноменологии, идут уже не за (впавшим-де в маразм) Гуссерлем, а за ним, Хайдеггером.
В ретроспективе и перспективе исторического времени картину можно восстановить, как представляется, более четко и справедливо. Роль Гуссерля как основателя феноменологии (применительно и к 20-м годам XX века, и к сегодняшнему дню) необъективно и несправедливо подвергать сомнению или, подобно Хайдеггеру, разражаться странными словами о непонимании: что это, дескать, означает?
Ведь сейчас признано (да и тогда было более или менее ясно): Гуссерль новаторски создал оригинальный, по сравнению с традицией, тип феноменологического исследования; именно им были тщательно — па- радигмально, выражаясь и старым, и более поздним языком — разработаны теоретические основания, методы, модели феноменологии. Правда, в 20-х годах огромное количество опубликованных к сегодняшнему дню гуссерлевских материалов еще хранилось в архивах, как бы «дожидаясь» послевоенной многотомно-нескончаемой «Гуссерлианы». Но вот что в данной связи важно: если и была группа людей, имевших, что называется, открытый доступ к массиву таких уже накопленных и далее накапливавшихся материалов, то одним из самых доверенных лиц был как раз «любимый феноменологический ребенок» Мартин Хайдеггер. О чем убедительно свидетельствует хотя бы факт публикации именно Хайдеггером в 1928 году взятых из архива замечательных, важнейших гуссерлевских лекций о сознании времени. И этот факт, кстати, одновременно говорит нам, что неправедный гнев Хайдеггера в адрес Гуссерля, быть может, даже не стоит принимать слишком всерьез (как мы обычно и по-
1 Сжатый, но замечательно документированный обзор проблемы «Гуссерль и Хайдеггер» см. в: Dieter Tbomä. Die Zeit der Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Text-geschichte Martin Heidegger. 1910-1976. Fr. a/M. Suhrkamp. 1990. S. 103-133. В российской литературе см. И.А. Михайлов. Указ. соч. — ряд глав.
ступаем по отношению к срывам подверженных гневу людей, особенно если знаем их как умных и добрых). Но говоря объективно, не понимать словосочетания «Гуссерль — основатель феноменологии» меньше всего пристало именно Хайдеггеру. Другое дело, что и Хайдеггеру предстояло — но только предстояло! — доказать, что он основал «свой», заметно отличавшийся от гуссерлевского вариант феноменологии. Многое объяснит вот что: Хайдеггер уже замыслил и в общих чертах обдумал этот преобразующий гуссерлевскую феноменологию проект, но знал об этом только он сам (и начали — но только начали — что-то улавливать его наиболее продвинутые марбургские слушатели).
Поскольку я анализирую здесь переписку Ясперса и Хайдеггера (его марбургского периода), выражу свое ощущение, возникшее после основательного изучения — в «дуэте» двух философов — «партии» Ясперса, его ответов на письма с такими гневными, агрессивными эскападами.
Четко проявилось то, что Ясперс такие эскапады (против Гуссерля и других коллег) ни одним словом не поддержал. Более того, хорошо прорисовывается и такой факт: после упомянутого поздравительного письма Ясперса (по поводу утверждения Мартина в должности марбургского профессора) на 25 писем Хайдеггера (за 1923-1927 годы) приходится всего 7 писем Ясперса (и — кроме двух — это краткие, в несколько строчек, послания)! Причин, наверное, было несколько. Но об одной позволю себе выразить хотя бы гипотетическое суждение. Анализ переписки помогает (предположительно) связать с охлаждением Ясперса следующее: он понял, сколь конкретно и агрессивно Хайдеггер понимает «Kampfgemeinschaft»; он осознал, что ему, Ясперсу, грозит опасность быть втянутым в борьбу не за обновление университетской философии, а скорее против определенных недругов Хайдеггера в Марбурге и других университетских центрах.
Так, в письме от 24 апреля 1926 года Хайдеггер изливает свой гнев против коллег, позволивших себе критику его взглядов. На этот раз мишенями гнева Хайдеггера становятся: В. Отто (Otto), профессор философии и классической филологии, причем он не из Марбурга, работает в других университетах; еще один противник — В. Йегер (Jaeger), историк философии и классической филологии, тоже из другого университета. Хайдеггер сообщает, что эти люди «интригуют против» него; они, пишет Хайдеггер, «неблагоприятно оценивают моего „Аристотеля”». Обиженно припоминает, что никому из них он не давал своей рукописи! И высказывает предположение: «Что этот слух курсирует именно в Гейдельберге, имеет свои основания. Это отвлекающий маневр, который исходит от Шеффельштрасе, 4» (Ibidem. S. 62). По названному адресу тогда проживал в Гейдельберге Генрих Риккерт, исключительно влиятельный в то время неокантианец (фрайбургской школы), у которого, как упоминалось, Хайдеггеру довелось учиться. Хайдеггер, возможно, надеялся, что известные тогда размежевания между Ясперсом и Риккер- том тем более привлекут друга на его сторону. Но ни на это, ни на другие письма об «интригах» не последовало никакого ответа от Ясперса.
Любопытно в данной связи отметить асимметрию и в эмоциях, и в действиях Хайдеггера, с одной стороны, и его марбургских коллег, с другой. Последние — как бы в душе они ни относились к воинственному 233
2 694
Часть I. (пава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
Н.В. Мотрошилова 1рЯ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-врелля-любовь
34
экстраординариусу — во всех просьбах и тяжбах, касающихся служебного продвижения Хайдеггера, несмотря на все формальные трудности, неизменно и действенно его поддерживали. Суть проблемы, если говорить коротко, состояла в следующем.
Когда кто-то из марбургских профессоров-философов получал приглашение в другой университет {например, когда Николай Гартманн в 1925 году перебрался в Кёльн), коллеги сразу возвращались к идее заполучить место ординариуса для Хайдеггера.
В 1925 году заседала комиссия; один из ее членов спросил, какие произведения опубликовал Хайдеггер. Ответил готовившийся к переезду Николай Гартманн, сказав о той же известной ему рукописи (не книге!) об Аристотеле — о работе, как он сказал, выдающейся. И вот несмотря на отсутствие публикаций «философский факультет Марбургского университета предложил Прусскому министерству культов считать Хайдеггера первым претендентом на освободившуюся должность Николая Гартманна» (Ibidem. S. 231). Министр же в ответ на прошение факультета написал, что и признавая «педагогический успех Хайдеггера в Марбурге», нельзя пренебречь отсутствием у него публикаций, ибо это, напомнил министр, всегда считается препятствием для занятия должности ординарного профессора.
Факультет, однако, не успокоился, пока 19.Х.1927 года не заполучил эту должность для Хайдеггера (Ibidem. S. 232). Кстати, в упомянутом письме Ясперсу от 24 апреля 1926 года Хайдеггер сухо и кратко сообщает об очередных позитивных усилиях «факультета». Однако весь агрессивный пафос письма, как мы видели, пробужен подозрениями насчет «интриг» коллег уже из других университетов (на этот раз философов, которые одновременно были и профессиональными антиковедами и, вероятно, не во всем соглашались с хайдеггеровскими конструкциями греческой античности).
Переписка двух мыслителей, почти заглохшая в 1927-м, несколько оживляется в 1928 году, когда Хайдеггер еще остается в Марбурге, но уже знает о планах уходящего в отставку Гуссерля снова настойчиво хлопотать о приглашении его во Фрайбург — теперь уже в качестве «преемника». О том, какой у ученика «камень за пазухой» против учителя, никто (кроме Ясперса) не знает и, возможно, даже не догадывается... Для всего философского мира Хайдеггер — как бы законный наследник учителя в развитии феноменологии.
Правда, уже опубликовано и многими прочитано «Бытие и время». Главное, эту работу только теперь (после опубликования в феноменологическом Ежегоднике) внимательно прочитал Гуссерль — и он удивился, встревожился. Но никак не изменил своей позиции по вопросу о приглашении Хайдеггера во Фрайбург.
Переписка Хайдеггера и Ясперса последующих лет еще не раз войдет в кадр нашего анализа — после того, как откроются другие, постмарбургские главы жизни Хайдеггера.
Завершая этот раздел, касающийся марбургского этапа взаимоотношений, взаимодействия двух корифеев немецкой философии, Ясперса и Хайдеггера, и перенося в последующие главы рассказ о драматизме этапов более поздних, хочу вернуться к тому вопросу, который поставил
тот же Ганс-Георг Гадамер (в работе 1981 года), сопоставляя две ветви немецкого экзистенциализма и ретроспективно обращаясь к дружбе их создателей в 20-х годах. «Тогда, — пишет Гадамер, — возникла их философская дружба — или лишь попытка дружбы, которой никогда не суждено было стать успешной?»* 1. Ответ на этот вопрос самого Гадаме- ра — очень важный и любопытный. Он по существу элиминирует вопросительную форму и доказывает, что попытка была заведомо обречена на неуспех. Приведу главные доводы из анализа Гадамера — еще и потому, что это позволяет внести новые детали и нюансы как в обобщенные портреты Ясперса и Хайдеггера интересующего нас периода, так и в картину немецкой философии того времени.
Относительно Ясперса Гадамер напоминает о (хорошо известных специалистам) фактах его творческого становления, об особенностях профессиональной биографии, о том, чем он зарекомендовал себя уже к началу 20-х годов, когда только начиналась их профессиональная коммуникация с Хайдеггером. Эти факты не требуют здесь специального разбора, поскольку хорошо отражены во множестве добротных публикаций, в основном, зарубежных, но также и отечественных2. Скажу лишь о ряде акцентов, которые (с моей точки зрения, совершенно точно) расставил Гадамер, имея в виду сравнить — ив конце концов различить — творческие истоки, пути, также и личностные устремления Ясперса и Хайдеггера. Во время пребывания Хайдеггера в Марбурге и, соответственно, сближения двух мыслителей, различия пока оставались в тени. Но ведь они существовали и в последующем их развитии, совпавшем с социально-историческими, в том числе внутригерманскими, катастрофами, они никак не могли не заявить о себе.
Гадамер напомнил, в частности, о работе Ясперса «Психология мировоззрений», о разработке им понятия пограничной ситуации, о не только индивидуально-личностном, но и социальном звучании всей этой острой, именно экзистенциальной тематики, об ее увязывании с проблематикой науки и научности. В последнем случае Гадамер уместно акцентировал два момента. Первый — это огромное значение, которое Ясперс, с одной стороны, придавал учению и личности выдающегося автора XX века, Макса Вебера, а с другой стороны, мощное сопротивление, которое вызывала в философе (как и в «моем собственном поколении», добавлял Гадамер) веберовская концепция науки и анализ позиции ученых, которые, с точки зрения социолога и социального философа Макса Вебера, должны стремиться к «освобождению от ценностей». Гадамер полагал, что начиная с «Психологии мировоззрений» (как и позднее, в трех томах книги «Философия») в работе Ясперса как бы присутствовал Макс Вебер — как в позитивном, так и в критическом ясперсовском отношении к нему (Ibidem. S. 179).
35
1 Hans-Georg Gadamer. Op. cit. S.
1 Замечу, что после смерти Ясперса над этим очень хорошо поработали и до сих пор работают философы его школы, объединенные в Международное ясперсовское общество. (Мне посчастливилось с этим Обществом сотрудничать и опубликовать в их трудах ряд статей). Из произведений российских авторов о Ясперсе рекомендую работы Э.Ю. Соловьева, П.П. Гайденко и блестящую энциклопедическую статью С.С. Аверинцева'. Ясперс / Новая философская энциклопедия. Т. IV. М.: Мысль, 2001. С. 514-517.
2*
Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге
H-В. Мотрошилово Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Нрендт: бытие-время-любовь
36
Второй факт — образование Ясперса, начавшееся, как известно, с медицины, конкретно с психиатрии, с естественных наук и по сути всегда позволявшее Ясперсу следить за их успехами, проблемами, затруднениями.
С этими фактами Гадамер связывает и такую черту Ясперса как ученого: он был «удивительный, широчайшего охвата (umfassender) читатель»1 (Ibidem. S. 181). Вместе с тем, центральное значение труда и трудов Ясперса он усматривал (в чем и я с ним полностью согласна) в критическом обновлении метафизического мышления как «великой традиции западной истории», воплощенной не только в философии, но также в религии и искусстве. Казалось, те же устремления отличали и Хайдеггера как философа. Но Гадамер справедливо оттеняет то, что в исполнении как будто сходных устремлений и намерений, в осуществлении внешне похожих интеллектуальных инноваций оба мыслителя демонстрировали существенно различный стиль мышления, исследования, как и стиль личностного жизнедействия.
Место Ясперса (см. вклейку, фото 5) в духовной культуре XX века (что превосходно зафиксировал в упомянутой статье С. Аверинцев) в конце концов оказалось противоречивым. Став в один ряд с новаторами, преобразователями классической культуры и философии (и в этом сблизившись, с Хайдеггером, совпавши с некоторыми его умонастроениями), Ясперс, вместе с тем, удержал в своей творческой работе и даже в стилевых особенностях своей личности бросавшиеся в глаза классические черты — такие как верность гуманизму, ответственность (С. Аверинцев даже говорит, что о Канте напоминало ясперсовское следование «философской совестливости» — op. cit. С. 514); философские ориентации на науку и научность; строгий, классичный, размеренный, «трезвый» литературный стиль, отсутствие всякой склонности к пафосу, «магической», нарочитой затемненности, запутанности языка и т. д. Научность, четкость, прозрачность философского стиля на всю жизнь оставались для Ясперса непререкаемыми нормами.
В личности, внешнем поведении Ясперса лично знакомые ему люди неизменно отмечали джентльменские черты благородства, участливости, спокойной, несуетливой уверенности — и открытость, искренность, отсутствие театральности, позерства, вообще желания произвести сильный, необычный внешний эффект.
И вот как раз по этим выделенным им линиям Гадамер справедливо противопоставлял двух мыслителей, что подтверждает и наш анализ, проделанный в данной главе, и что еще отчетливее обнаружится во всем дальнейшем повествовании. Ибо сама история сделала эти жизненные и творческие пути двух выдающихся философов весьма несходными, иногда круто расходящимися дорогами в драматической истории мысли XX века.
1 Гадамер, который преподавал в университете Гейдельберга после Ясперса, рассказывал: в книготорговле «Koester» ему поведали, что Ясперс утро каждой пятницы пунктуально посвящал просмотру книжных новинок и уходя заказывал увесистый пакет заинтересовавших его книг с доставкой на дом. Так, отмечает Гадамер, Ясперс находил в обширных областях знаний философски значимую «пищу» (Ibidem. S. 181).
ГЛАВА 2
Ханна Арендт в 1924-1926 годах (Марбургский университет), встреча с Хайдеггером
Хайдеггер уже обосновался и даже успел прославиться в университете Марбурга как необычайно притягательный для молодежи преподаватель, когда в кругу студентов и студенток, его восторженных почитателей, появилась весьма необычная девушка. Звали ее Ханна Арендт (Hannah Arendt). Хайдеггер всегда был неравнодушен к хорошеньким, привлекательным студенткам, он охотно отвечал на их влюбленные взгляды. Потому появление в аудитории такого нового женского лица он вряд ли мог оставить без внимания. Ведь Ханна Арендт в своей тогдашней восемнадцатилетней молодости не была хорошенькой — она была настоящей красавицей («bildhübsch», как говорят немцы, т. е. буквально: картинно красивой).
0 характере и неотразимости ее тогдашней красоты оставили свои восторженные свидетельства мужчины, ее соученики. Среди них и те, кому впоследствии суждено было стать выдающимися или во всяком случае известными мыслителями своего времени. Ганс-Георг Гадамер, теперь признанный классик философии XX века, в своих воспоминаниях о Марбурге и о Хайдеггере написал, в частности, что его студентка X. Арендт, «постоянно появлявшаяся в зеленом платье», была девушкой, яркая красота которой сразу бросалась в глаза1. X. Арендт в ту пору лишений одевалась скромно, но элегантно. Видно, очень красивший ее наряд запомнили многие, почему в Марбурге за ней закрепилась кличка «die Grüne», что (во избежание чисто современных социально- политических ассоциаций) лучше всего перевести так: «девушка в зеленом». Не только это, впрочем, о ее внешности и личности вспоминали сокурсники, которые постепенно становились друзьями юной красавицы. Когда они в воспоминаниях повествовали о впечатляющей внешности Ханны Арендт, то и не сговариваясь согласно описывали: тонко очерченный овал нежного лица, огромные лучистые темные глаза, копну вьющихся каштаново-черных волос, несколько укрощенных короткой стрижкой (эта стрижка отличала уже эмансипированных студенток от большинства верных традициям женщин, пока носивших длинные волосы и делавших себе достаточно сложные прически). А также: нельзя было не заметить стройную юную фигуру, энергичные и в то же время изящные движения. Поскольку платья и юбки эмансипированных девушек стали существенно короче, то в случае Ханны Арендт они не скрывали стройные длинные ноги, которые их обладательница — когда она фотографировалась сидя — всегда, а не только в молодости, умела поставить, скрестить привлекательно и элегантно.
Итак, соученики быстро заметили и отметили в Ханне Арендт броскую, лучезарную красоту, о которой говорили и так: встретив девуш-
1 Hans-Georg Gadamer. Einzug in Marburg / Günter Neske(Hg). Erinnerung an Martin Heidegger. Pfullingen. 1977. S. 111.
38
о
(О
о
Э
о
а
.£
ш
X
ку на улице, мужчины оборачивались ей во след. Фотографии молодой X. Арендт, увы, немногочисленные, передают ее очарование, ее шарм — но только отчасти (см. вклейку, фото 2). Не в пользу фотографий в данном случае прежде всего то, что они были только черно-белыми, тогда как для внешности Ханны, судя по описаниям, было бы еще более выигрышным, если бы передавалась цветовая гамма — цвет сверкающих глаз, ярких губ, волос и юного лица. Все это, вероятно, удачно оттеснялось тем модным и изысканным зеленым платьем, которое так впечатлило молодого Г.-Г. Гадамера, и не его одного. Фотографиям вообще не под силу полностью воспроизвести существенные особенности облика таких женщин, как Ханна Арендт, красота которых одухотворяется тонким умом, сдержанной, но несомненной силой чувств и благородством характера. Иными словами, они не могут передать то самое притягательное, что составляло отличие личности молодой Ханны — соединение впечатляющей юной красоты с духовной и душевной глубиной, с подвижностью, живостью ее натуры, с достоинством и гордостью, с высотой интеллектуальных интересов и оправданной, как потом выяснилось, амбициозностью устремлений, помыслов и замыслов — но одновременно и с робостью, застенчивостью, неуверенностью в себе.
Еще один соученик X. Арендт, X. Йонас, как бы обобщая и суммируя, писал об этой уже тогда необыкновенной девушке, что ее отличали «интенсивность, целенаправленность, печать высокого качества, поиск существенности, глубокомыслие — то, что сообщало ей нечто магическое»1. Понятно, что некоторые из студентов, объединенные преданным обучением у Хайдеггера, сделались ее горячими поклонниками. Например, это были одаренный Бенно фон Визе, сын известного тогда мыслителя Леопольда фон Визе, или Гюнтер Штерн (впоследствии назвавший себя Гюнтером Андерсом и ставший в 1929 году, после глубоко пережитых X. Арендт в 1924-1926 годах перипетий романа с Хайдеггером, ее первым мужем). Другой соученик, Герман Мёрхен (Mórehén), рассказывал, что «даже в мензе (студенческой столовой. — Н.М.) порой смолкали разговоры, когда начинала говорить эта студентка. Ее просто нельзя было не слушать. Когда она вступала в беседу, это была смесь самосознания и скромной застенчивости»2. Оба эти качества личности и поведения X. Арендт, как мы увидим, проявятся в ее судьбоносном и драматическом романе с М. Хайдеггером.
Жизненный путь Ханны Арендт тоже был по-своему примечательным, драматичным.
Ханна Арендт родилась в Ганновере 14 октября 1906 года в семье инженера Пауля Арендт и его жены Марты (урожденной Кон — Cohn). Это была типичная для Германии начала века еврейская семья, хорошо вписавшаяся в жизнь страны конца XIX — начала XX века. Дед Ханны с отцовской стороны Макс Арендт, почтенный и процветающий торговец чаем, отметился и в немецкой политике, будучи с 1910 по 1913 год, с одной стороны, Председателем собрания депутатов в Кёнигсберге, известным своими либеральными убеждениями, а с другой стороны, уполномоченным представителем еврейской общины в различных де-
1 См.: A. Grunenberg. Op. cit. S. 96.
1 R. Safranski. Op. cit. S. 167.
лах и комиссиях. Словом, это была неплохо ассимилировавшаяся в немецкие условия, но не порывавшая со своими национальными корнями еврейская семья. В Германии того времени подобное сочетание было не только возможным, но, как сказано, и по-своему типичным. Еще не наступила, но уже постепенно приближалась та грозная и позорная пора, когда общество в Германии оказалось зараженным чумой государственно «узаконенного» антисемитизма, в свою очередь приведшего к холокосту. Ханне Арендт в будущем суждено было пережить, перестрадать и в наиболее глубокой, сильной форме осмыслить истоки и следствия этой не одну Германию, впрочем, поразившей чумы.
В первые же два десятилетия XX века ситуация еще была вполне терпимой, социально пристойной. По крайней мере с семейной стороны все могло бы сложиться благоприятно для маленькой Ханны, когда бы не смерть в 1913 году и деда и отца. С отцом дело обстояло особенно трагично для него и для семьи: он заразился сифилисом, что окончилось смертельным исходом (против этой болезни тогда не было эффективных лекарств). Семья была вынуждена буквально бежать из Ганновера и переселиться в Кёнигсберг. И хотя там была обеспечена поддержка родных и друзей, особенно для матери Ханны Марты и маленькой девочки, все же ощущалась отчужденность, а то и враждебность окружающей среды. «Для юной Ханны Арендт, чье детство было омрачено болезнью отца и смертью деда, — справедливо отмечает в своем биографическом сочинении Антониа Груненберг, — друзья позднее стали заменой семье»1. Благодаря таким отношениям сочувствия и поддержки немного смягчались трудности более чем непростого для Германии исторического этапа непосредственно перед Первой мировой войной, во время и в первые годы после нее. С помощью родных и друзей, а особенно благодаря самоотверженной заботе матери, Ханне Арендт, девочке одаренной, рано умевшей интенсивно, самостоятельно, творчески трудиться, удалось получить хорошее образование и достойное воспитание. (О том, что Ханна была образованной и хорошо воспитанной девушкой, часто упоминали ее друзья — соученики.)
Уже в школьные годы девочка овладела латинским и греческим языками, обнаружила недетский интерес к литературе и философии древней Греции. В четырнадцать лет Ханна увлеклась философией Иммануила Канта, великого кёнигсбержца, который навсегда остался ее любимым мыслителем. Не приходится удивляться тому, что из-за своего раннего интеллектуального развития Ханна отчаянно скучала в школах, которые часто меняла. Но в конце концов знаниями в различных учебных дисциплинах она должна была овладевать самостоятельно. Ей пришлось учиться экстерном и сдавать требуемые экзамены у более чем придирчивых экзаменаторов. Однако и они должны были склониться перед необычным умом, талантом, ранней умственной зрелостью этой замечательной девочки. И все же требуемые документы об окончании школы были получены отнюдь не сразу. Между тем в 1924 году Ханна записалась в Берлинский университет, посещала лекции прославленно-
39
1 А. СгипепЬе^. Ор. ск. Б. 73.
Часть I. Глава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах..
40
£>
«0
О
о
£
§
о
Э
Я
о
£
со
X
го тогда (но опять-таки мало известного у нас) философа Романа Гвар- дини.
А после, в сентябре 1924 года, Ханна снова должна была сдавать экзамены в кенигсбергской государственной гимназии, что сделала очень успешно, получив золотую медаль за отличные знания1. Дорога в университет теперь была открыта. И она повела Ханну Арендт в Марбург.
В известной мере был предопределен путь одаренной, серьезной девушки, отдавшей свои симпатии и надежды философии, увлеченной греческой древностью, приехавшей в Марбург, — путь именно к Хайдеггеру. Ханна прежде всего стала слушать его лекции, посвященные замечательным диалогам великого Платона,— это были «Софист» и «Филеб». И убедилась, что восторги студентов по поводу занятий у Хайдеггера не были преувеличенными. Его лекции и семинары и для нее стали захватывающе интересными; они заставляли мыслить, спорить, углубляться в освоение философии. Уходя из аудиторий Марбургского университета, студенты продолжали как бы говорить с профессором — он не «отпускал» их от себя. К тому же он был одним из тех профессоров и доцентов, которые искренне и серьезно интересовались студентами, были готовы заниматься с ними и в неурочное время, помогать становлению их философского мышления, их зарождающихся самостоятельных идей. Хайдеггер охотно беседовал со своими учениками индивидуально. Тем более что в Марбурге в это время случилось нечто особое: как было ранее показано, вокруг талантливого профессора целыми квантами группировались одаренные, прямо-таки одержимые философией, настроенные на волну новаторства и творчества студенты. Угадал ли не самый молодой, но начинающий профессор, чья мировая слава тоже была впереди, творческое будущее кого-то из своих студентов — например, таких будущих звезд, как Г.-Г. Гадамер, К. Левит, М. Хоркхаймер, X. Йонас, Л. Штраусс, Г. Маркузе? Разглядел ли он в юной красавице X. Арендт ее будущее выдающегося мыслителя? Отвечая на первый вопрос, можно по крайней мере предположить, что Хайдеггер не мог не видеть всей необычности сложившейся ситуации: ведь 16 студентов последовали за ним из Фрайбурга в Марбург, а потом, уже в этом городе, к группе преданных слушателей постоянно присоединялись новые энтузиасты. Внимание, восторг, если не обожание молодых людей, несомненно, вдохновляли Хайдеггера. Что же касается ответа на второй вопрос, то здесь приходится уверенно констатировать: профессор, пусть и влюбившись в Ханну Арендт, высоко оценив глубину, остроту, восприимчивость ее ума, обсуждая с нею в письмах философские, интеллектуальные темы и свои новые идеи, так и не сумел провидеть того, что ее имя не просто встанет в один ряд с именами перечисленных, впоследствии признанных выдающихся философов, интеллектуалов XX века — оно выделится даже из этого блестящего звездного ряда. Во всяком случае, среди женщин-мыслителей прошлого столетия ей не будет равных. Меньше всего об этом ярком будущем и особенностях своего пути догадывалась сама Ханна Арендт. В Марбурге она держалась исключительно скромно, предпочитая оставаться
1 А. СгипепЬе^. Ор. ск. Б. 74.
41
в «тени», — в чем свою роль сыграла конспиративная таинственность ее романа с Хайдеггером. Но обо всем этом — позже.
Итак, Ханна Арендт появилась на лекциях и в семинарах Мартина Хайдеггера. (В зимнем семестре 1924/25 года она посещала также занятия марбургского протестантского теолога Р. Бультманна — одного из немногих профессоров, с кем, как упоминалось, Хайдеггер сблизился и подружился в Марбурге.) Зоркий взгляд Хайдеггера, всегда неравнодушного к юной женской красоте и уже опытного в искусстве «говорить глазами» с самыми привлекательными студентками, сразу «выхватил» в аудитории державшуюся очень скромно, если не застенчиво, неотразимо прекрасную Ханну Арендт. Она же, видимо, сразу влюбилась в не блиставшего внешней красотой, но чрезвычайно опасного для интеллектуалок, «заболевших» философией, профессора Хайдеггера. «Разговор глазами», судя по всему, тоже начался сразу.
Хайдеггер в таких случаях не терял времени. В начале февраля 1925 года он пригласил Ханну Арендт для беседы в свой учебный кабинет. Ее появление он сам описал в одном из будущих писем к Ханне. (Его мы процитируем в дальнейшем.) «И позже, — верно констатирует Р. Сафранский, — он охотно и часто вспоминал картину ее появления на пороге его бюро. На ней были плащ и шляпа, глубоко надвинутая на лоб... Голос отказал ей, она произносила лишь едва слышные „да” и „нет”. Ханна Арендт, судя по всему, уже была неодолимо увлечена этим мужчиной, которым она восхищалась»1. Дальше события развивались стремительно.
Ханна жила в мансарде одного из домов рядом с университетом (см. вклейку, фото 3). Ее небольшая комната быстро стала одним из притягательных мест для студенческого дружеского круга; там, однако, проходили не обычные студенческие пивные пирушки — молодежь собиралась для того, чтобы обменяться мыслями и идеями, поспорить о философии. Несомненно, обожание профессора Хайдеггера царило в этом кружке, где девушек было меньше, чем юношей, но где их суждения и оценки имели немалый вес. Особенно внимательно друзья прислушивались к тому, что говорила хозяйка комнаты, которая в своем временном пристанище и среди друзей, а также и очарованных поклонников, преодолевала присущие ей тогда робость и скованность.
Сюда, в эту мансарду очень хотел попасть и был скоро приглашен профессор Хайдеггер, конечно, в строгой тайне от кого бы то ни было, даже от ближайших и преданных друзей Ханны. Приглашен почти сразу после встречи в бюро. Что видно из его письма Ханне, написанного 10 февраля 1925 года, после первой тайной встречи в мансарде и в ожидании очень скорого второго свидания.
Небольшое разъяснение, касающееся писем.
С первых дней более близкого знакомства и романа М. Хайдеггера и X. Арендт, судя по ряду признаков, существовала переписка, т. е. и ее, и его письма. Но письма Ханны тех двух лет (1925-1926 годов), когда марбургский роман начался и был в самом разгаре, ни тогда, ни позже не стали достоянием читающей публики. Скорее всего, такова была воля
Я. Заргаткг Ор. сН. Б. 167-168.
Часть I. (лава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
H.ß. Мотрошилово Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
42
самой Ханны. Опубликованы письма Мартина, и только по ним можно — лишь косвенно — судить о посланиях девушки. Первые из редких все-та- ки опубликованных писем X. Арендт к Хайдеггеру помечены 1928 годом, т. е. относятся к тому периоду их отношений, когда роман закончился и когда встречи, правда, еще случались, но были очень редкими. Но когда любовь все еще была сильной и взаимной.
Вернемся к самым первым письмам Хайдеггера, обращенным к его юной студентке. Они представляют особый интерес для характеристики и его личности, и специфически «хайдеггеровского» эпистолярного любовного стиля, тесно связанного с тогда же возникавшей экзистенциальной философией.
«Дорогая фрейляйн Арендт! — так (пока) официально-почтительно профессор в первом письме обращается к своей студентке. — Еще сегодня я должен прийти к Вам и говорить с Вашим сердцем.
Все между нами должно быть и предельно просто, ясно, и чисто. Тогда и единственно тогда мы [будем] достойны того, с чем отважимся встретиться. А что Вы моя ученица и я Ваш учитель — всего лишь внешний повод к происшедшему с нами.
Мне никогда не будет позволено владеть (besitzen) Вами, но Вы и дальше будете принадлежать моей жизни, а она должна будет соразмеряться с Вами.
Мы никогда не знаем о том, что мы в силах изменить благодаря нашему бытию. Но вполне можем прояснить, насколько разрушительным или сберегающим является наше воздействие.
Какой путь изберет Ваша юная жизнь, остается сокрытым (verborgen). Мы полны желания преклоненно отнестись к этому. И моя верность Вам, должно быть, поможет единственно тому, чтобы Вы оставались верной себе самой.
То обстоятельство, что Вы утратили „беспокойство”, подтверждает: Вы нашли то самое сокровенное, что есть в Вашей чистой девичьей сущности. Когда-нибудь Вы поймете и обретете благодарность — и не мне, а тому, что час [моей] „консультации” был решающим шагом, вернувшим Вас назад, с того пути ужасающего одиночества из-за научного исследовательского поиска, выдержать который под силу только мужчине — да и ему лишь тогда, когда он взвалит на себя бремя и сумасшествие [своего стремления] быть продуктивным.
„Радуйтесь!” — это стало моим приветствием, обращенным к Вам. И только если Вы будете радоваться себе самой, Вы станете женщиной, которая сможет приносить радость и вокруг которой все также будет радостью, укрытостью, отдохновением, поклонением и благодарностью перед лицом жизни.
И лишь так Вы пребудете в настоящей готовности усвоить все то, что может и должен дать Вам университет. Подлинность и серьезность заключены в этом, а не в принудительном научном действе многих представительниц Вашего пола — не в той деловитости, которая разрушает их, делает беспомощными и лишает верности самим себе.
И как раз тогда, когда дело доходит до собственной духовной работы, остается то самое решающее, а именно изначальное сохранение самой внутренней женской сущности.
То, что мы должны были встретиться, мы хотим, как подарок, хранить в самой внутренней глубине — не впадая ни в какие самообманы, преобразовывая это в чистую жизненность, т. е. мы не хотим измышлять себе нечто вроде родства душ, чего между людьми никогда не бывает.
Я не могу и не хочу отделять Ваши верные глаза, Ваш дорогой образ от Вашего доверия, от доброты и чистоты Вашей девичьей сущности»1.
Письма М. Хайдеггера к X. Арендт — удивительно интересное, значимое духовное, культурное, лингвистическое, историческое явление. О нем мы более подробно и специально поразмыслим позже, когда наберется достаточно материала.
А сейчас — опять о развитии событий. Они действительно развертывались стремительно. Роман вообще был подобен пожару, разгоревшемуся неожиданно, как бы фатально. Пока что и Мартин, и Ханна не намеревались ни бежать от него, ни тушить его. Наоборот, они с готовностью пошли навстречу своим чувствам и отдались их власти.
Только что приведенное почтительное письмо Ханне, еще соблюдавшее дистанцию, но одухотворявшее желаемую близость, было написано Мартином 10 февраля 1925 года. А 21 февраля Хайдеггер отправил послание женщине, к которой уже обращался на «ты» и которой изъявлял свою горячую любовь, выражая уверенность, что установившиеся самые близкие отношения между ними продолжатся. Приведу отрывок из этого письма.
«21.11.25
Дорогая Ханна!
Почему любовь своим богатством превосходит все масштабы других человеческих возможностей...? Потому что мы преображаем себя в то, что любим, — и все же мы остаемся самими собой. И вот тогда, когда нам хотелось бы отблагодарить любимого человека, мы не находим ничего, что было бы его достойно. Мы можем отдарить его разве что самими собой. Благодарность преображается в верность самим себе и в необусловленную веру в Другого. Так любовь постоянно поднимает ввысь самую сокровенную внутреннюю тайну. Близость здесь — это бытие в самом большом далеке по отношению к Другому — в отдалении, которое не позволяет ничему исчезнуть, но которое преобразует „Ты” в прозрачное — однако неухватываемое — „Только — здесь” (Nur — Da) откровения. Что здесь-наличие (Gegenwart) Другого в какой-то момент вторгается в нашу жизнь — есть то, с чем не может справиться ни одна душа (Gemüt). Человеческая судьба отдается [другой] человеческой судьбе, и служение чистой любви состоит в том, чтобы сохранять эту отдачу себя [другому] такой же неусыпно-свежей, как в первый день» (Ibidem. S. 12-13).
Что это — письмо к любимой женщине или отрывок из экзистенциалистского трактата? И то, и другое! Ведь оно написано Хайдеггером, притом адресовано молодому сердцу девушки-студентки, в котором — в чем оправданно уверен влюбленный профессор — сильный душевный
1 Hannah Arendt / Martin Heidegger. Briefe, 1925-1975 und andere Zeugnisse/ Hrsg, von Ursula Ludz. Fr. a/M., 1998; 2002. S. 11—12. Далее при цитировании в моем тексте — с указанием страницы: Н. A/M. Н.
Часть I. (лава 2. Ханна Врендт в 1924-1926 годах...
Н.В. Мотрошилово Мортмн Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
44
отклик и интеллектуальное понимание способны найти такие и только такие, пожалуй, «философические», экзистенциальные послания.
Встречи и обмен письмами продолжаются.
И роман пылает, разгорается. Все с начала до конца происходит в глубочайшей тайне. Покров таинственности, даже искусной конспирации, наброшен не по воле влюбленной и беззаветно преданной девушки. Такова твердая воля ее возлюбленного. Понять его можно, да и надо, что, несомненно, сделала Ханна Арендт. Во-первых, это были, как ни крути, любовные отношения профессора и его юной студентки, что тогда иной раз случалось, но отнюдь не поощрялось. (Впрочем, такое не особенно поощряется и сегодня, в наше совсем уж либеральное, в этом отношении полностью «раскрепощенное», «лишенное предрассудков» время.) Что касается студентов, то они поняли бы и приняли бы — скорее всего, даже с восторгом — романтическую связь любимого профессора с очень умной красавицей из их же студенческого круга. Но профессорский корпус Марбурга, в основном состоявший из более пожилых и часто отнюдь не благоволивших к Хайдеггеру коллег, вполне мог воспользоваться его романом со студенткой как поводом для усложнения и без того совсем не гарантированного продвижения Хайдеггера к получению так нужного ему места ординарного профессора.
Во-вторых, — и это главное — у Хайдеггера была официально узаконенная и весьма дорогая ему семья с двумя маленькими сыновьями. Роль жены и отношений с женой — здесь вопрос коренной, принципиальный, и мы дальше рассмотрим его специально. Забегая вперед, можно сказать: в труднейшем жизненном столкновении внезапно вспыхнувшей сильной, глубокой любви-страсти и прочности семейных уз победила семья. И не просто победила. О самом романе не узнал никто из марбургских коллег, друзей. Если кто-то о чем-то догадывался, то тоже хранил свои догадки про себя. Ничего не знал К. Ясперс, с которым в это время регулярно общался Хайдеггер и к которому он потом, после разрыва отношений, отправил свою любимую — для дальнейшего обучения и защиты диссертации. (Сама Ханна о романе с Хайдеггером рассказала Ясперсу, ставшему ее хорошим другом, уже после Второй мировой войны. Ясперс, узнав все, отреагировал непосредственно, искренне, с состраданием, но и с понятным любопытством. Он воскликнул: «Ах, это так волнительно!») Главное же, о близких любовных отношениях своего мужа и красивой юной студентки в то время ничего не узнала госпожа Хайдеггер — несмотря на то, что она была очень ревнива, подозрительна (для чего у нее нередко имелись веские основания).
Тайна была сохранена не только и не столько благодаря конспиративному опыту в любовных приключениях, уже накопленному Хайдеггером за шесть лет семейной жизни. Преданная своей любви и своему любимому молодая женщина тоже хранила тайну не хуже опытного конспиратора. Бурный, от всех скрываемый и явно бесперспективный роман стал для обоих, но особенно для нее, очень серьезным жизненным испытанием. Внешне он развивался по довольно обычной, если не сказать банальной для таких случаев схеме. Обставляемые всяческими предосторожностями встречи любовников в мансарде продолжались. Некоторые детали, касающиеся этих встреч, можно уловить только из
писем Хайдеггера. Но письма в большей мере были абстрактно-философичными (конечно, также и личностными). Тем не менее догадаться о чем-то можно; ведь перед нами одна из старых, как мир, любовных историй, так что воображение помогает достаточно ясно представить, как все это было... Кроме всего прочего, мы можем достоверно ответить самим себе на вопрос о том, почему Хайдеггер так и не сподобился ясно понять, каким глубоким и оригинальным умом наделена его любимая, сколь многообещающее творческое будущее ее ожидает. Ибо во время тайных, по необходимости коротких встреч любовникам, скорее всего, было не до длинных философских разговоров...
«На людях», тадесказать, в университетском учебном процессе, они старались держаться так, чтобы никто не смог догадаться об их любви. При этом здесь все же была драгоценная для любовников возможность встречаться «легально», говорить глазами, да и вообще, наверное, подавать друг другу только обоим понятные и неведомые другим знаки любви, радости просто от «присутствия здесь и теперь» (Gegenwart) любимого человека. Тут, несомненно, одно из совсем немаловажных, глубоко личных оснований того предпочтения, которое философ Хайдеггер уже оказывает таким как будто бы абстрактным экзистенциалам, как Da-sein, т. е. «здесь-, теперь- и тут-бытие», «бытие-присутствие», или «Gegenwart», присутствие здесь и в данный момент.
Ханна «присутствует», разумеется, на всех мероприятиях-событиях с участием Хайдеггера, по-прежнему слушает его лекции. Но из боязни обнаружить свои чувства, да еще из-за так и не преодоленной робости перед Хайдеггером Ханна в основном помалкивает. И профессор тоже сдерживает себя, стараясь ничем не обнаружить своего особого отношения к юной красавице, его студентке. Вот пример. В один из вечеров состоялось мероприятие в честь Э. Гуссерля, посетившего Марбург. Несомненно, бывший ученик Гуссерля М. Хайдеггер, теперь его коллега-профессор, играл во время встречи особую роль. Вполне вероятно, что ему хотелось представить учителю свою любимую или рассказать о ней. Но законы конспирации победили. Вести себя так было непросто. О чем Хайдеггер пишет Ханне (21.03.1925): «На вечере в честь Гуссерля неприятны были вынужденные усилия держать себя в рамках. И тем более я радовался тебе, когда ты тихо сидела в своем углу» (Ibidem. S. 16). «Тихо сидеть в углу», быть в тени Ханне, увы, приходилось почти всегда. Совсем скоро ей захочется запечатлеть свои глубокие, полные отчаяния мысли и переживания, в большой мере связанные именно с «тихим сидением в углу», с вынужденным «пребыванием в тени». И она сделает это талантливо, точно, фактически возводя свои переживания — разумеется, в духе хайдеггеровской философии — в ранг специфических экзистенциалов «здесь-и-тут-бытия» (Dasein). Как ни трудно ей все это дается, она беззаветно любит — и все терпит. К тому же Хайдеггер искренне уверяет ее, что погружен любовью в особое состояние, подобного которому он никогда прежде не испытывал. Вот Мартин пишет Ханне (27.02.1925) краткую, но весьма выразительную чисто любовную записку: «Дорогая Ханна! Меня охватило нечто демоническое. Тихая молитва твоих любимых рук и твой светлый лоб хранят это в женском просветлении.
45
Часть I. Глава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
Н-В. Мотрошилово МЭИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
46
Никогда еще со мной не случалось ничего подобного» (Ibidem. S. 14).
Положение, следовательно, сложилось противоречивое и напряженное. Любовники, как сказано, используют любую возможность, чтобы быть вместе — хотя бы на людях. Но оба жаждут и ждут возможности уединиться, побыть только друг с другом. Тайные свидания тщательно обдумываются и обставляются всяческими конспиративными деталями — и это, конечно, берет на себя Хайдеггер. Вот еще один конкретный пример. В середине апреля 1925 года Хайдеггер по приглашению своего друга Пауля Якоби читает в городе Касселе ряд докладов. Разумеется, группа преданных студентов, включая Ханну Арендт — не считаясь со временем и расходами — устремляется вслед за своим кумиром.
В записке от 17 апреля 1925 года Хайдеггер дает Ханне строгие указания: «Во всяком случае после доклада я попрощаюсь, как теперь делаю каждый день, со знакомыми и с гостеприимными хозяевами, поеду на трамвае № 1 до Вильгельмсхое, конечной остановки, а ты поедешь — незаметно — следующим трамваем. После я отвезу тебя обратно» (Ibidem. S. 21). (Теперь, когда я, едучи в Марбург, делаю пересадку в этом Вильгельмсхое, неизменно вспоминаю ту записку...)
В промежутках между учебой, докладами и, конечно, интимными встречами с горячо любимым мужчиной Ханна, как и раньше, общается с друзьями — и, возможно, даже отдыхает, отвлекается от острого, счастливого, но и болезненного напряжения тайной любви, выносить которое ей становится все труднее. Обсуждать с Хайдеггером все оттенки своих тревог Ханна не могла. Для того во время их свиданий, скорее всего, не было ни одной лишней минуты. А потом: влюбленной женщине приходилось считаться с тем, что ее любимый вряд ли хотел слышать именно о заботах, сложных переживаниях, связанных с этим тайным романом. Да и для обмена другими мыслями, сомнениями как раз с Хайдеггером у Ханны не было ни времени, ни сил, ни достаточной смелости. Но в доверительных беседах-дискуссиях молодая женщина, которая живо интересовалась многими вопросами жизни и философии, остро нуждалась. Ей очень нужен был кто-то, кому она могла бы доверить свои сокровенные мысли и заботы. Такой «Confidant» нашелся среди ее друзей-соучеников. Им стал уже упоминавшийся Ханс Йонас, человек, наделенный вниманием к друзьям и внутренним благородством.
Вот отрывок из его воспоминаний о дружбе с X. Арендт: «Мы много говорили друг с другом, ибо она нуждалась в человеке, которому могла довериться. Был элемент, способствовавший этому: дело у нас не дошло до эротических отношений; ведь быть одновременно доверенным другом и любовником нельзя. Я был для нее тем человеком, кому она доверяла, доверялась (Confidant); и я воспринимал это столь серьезно, что некоторые вещи о жизни Ханны никогда не рассказывал даже Лоре, моей жене...»1. Кажется, и X. Йонас, столь доверенный друг, в то время ничего не знал о романе Ханны и Мартина.
Ханна постоянно напряжена, скована; она живет несвободно, как бы вопреки своей сущности.
1 Hans Jonas. Erinnerungen. Fr. a/M., 2003. S. 113.
Нельзя понять всей глубины и горечи этого напряжения, если не учитывать важнейший и несомненный момент — существенное неравноправие, угнетающую гордую женщину асимметрию тех ролей, которые в романе играют соответственно мужчина, быстро завоевывающий славу профессор Хайдеггер, и женщина, пока безвестная и вынужденная держаться в тени студентка Ханна Арендт.
Он — мужчина, можно верить, страстно любящий, погруженный в любовь-страсть,“ интенсивность которой в самом деле несравнима с прежними любовными отношениями и похождениями. Одновременно он — хозяин положения. Существенные решения, касающиеся их обоих, с самого начала принимал и принимает он один. Биографы, исследователи согласно отмечают, что это Хайдеггер задает правила игры, а Ханна всего лишь вынуждена им подчиняться, причем принимает она их потому, что движима прежде всего стремлением ничем не повредить любимому.
Далее: асимметрия еще и в том, что Хайдеггера любовь, как на крыльях, несет вперед, к основным движущим целям, вдохновляет к труду, размышлениям, открытиям. Очень скоро тому будет дано убедительное доказательство. Уже после того, как отношения вынужденно оборвутся — их не выдержит прежде всего до предела измучившаяся гордая Ханна, — Хайдеггер целиком погрузится в целебные воды вдохновенного труда над произведением, которому (по мнению многих, но, конечно, не всех философов) будет суждено стать философской книгой книг XX века. Это— «Бытие и время». Выйдет книга в 1927 году, однако, закончена она была в 1926-м. Есть множество свидетельств того, что и пережитая любовь, ее жизненные оттенки своеобразно сублимируются, трансформируются в экзистенциально-онтологические идеи, озарив светом подлинности оригинальные категории, «экзистенциалы» неподражаемой хайдеггеровской философии. Потому более поздние биографы, исследователи, когда в их распоряжении окажется соответствующий материал (частично он презентируется в этой моей книге, где далее будет помещена специальная глава о «Бытии и времени», взятом в контексте события Любви), назовут Ханну Арендт «музой „Бытия и времени”», что будет в значительной степени оправданно.
Но это произойдет позже. А пока, в 1925 году, — самый пик романа. Со своими продолжающимися трудностями. Немалым испытанием для двух любящих людей оказалась такая вообще-то отрадная для университетской жизни вещь, как окончание семестра и последующие каникулы. В конце февраля 1925 года, в разгар романа, любовникам было особенно трудно расставаться.
Студенты, в большинстве своем немарбуржцы, разъезжались по домам. Молодой женщине вряд ли хотелось уезжать из Марбурга, хотя семейные дела звали Ханну в Кёнигсберг. Она вместе с тем знала, что Хайдеггер, не имевший в Марбурге настоящего пристанища и не располагавший «легальным» поводом не проводить каникулярное время с семьей, должен был отправиться во Фрайбург. Ему было где провести каникулы. В горах Шварцвальда, под Фрайбургом, в местечке Тодтнау- берг, была построена скромная хижина, пристанище, которое полюбила вся семья. Хижина, одиноко примостившаяся на склоне живописной горы Шварцвальда, как нельзя более соответствовала романтическому
47
Часть I. (лава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
Н-В. Мотрошилова ЩИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
48
настроению Хайдеггера. Но было еще что-то, чем он вряд ли торопился поделиться с любящей и страдающей Ханной: сам Мартин, и это легко понять, тоже очень устал и хотел хоть немного передохнуть от всей напряженности, сложности, конспиративности любовных отношений. И от необходимости неизбежно решать вопрос: что со всем этим делать дальше? Не решил ли он уже тогда, что роман, прекрасный, вдохновенный, но очевидно не имевший перспективы, надо было как-то завершать? Если такое решение и вызревало, то пока Хайдеггер не принял его окончательно и был как бы между двух огней.
Оказавшись в кругу семьи, общаясь с любимыми сыновьями (в письмах к Эльфриде он ласково называл их «Buben», что можно перевести: «мальчишки», «пацаны»), опять попав под властное попечительство любящей жены, не подозревавшей о его «великой измене»,— Хайдеггер не мог не убедиться в том, сколь внутренне и прочно он связан с семьей, какие серьезные и неслучайные узы объединяют его с Эльфридой и трогательными мальчишками... Мучили ли его угрызения совести, ощущал ли он «страх» за семью и свою «вину» перед ней, а если ощущал, то как переживал ее? Эти вопросы — о «страхе», «заботе», «вине» — мы пока отодвинем в сторону, чтобы вернуться к ним, учитывая, что слова, взятые в кавычки, станут центральными категориями «Бытия и времени», а также других творений Хайдеггера, созданных в марбургский период.
А пока душевные раны были глубокими и свежими. И вот тут надо вспомнить: не в первый и не в последний раз в своей жизни Хайдеггер с полным на то основанием надеялся на целительное, по крайне мере успокаивающее воздействие родной шварцвальдской природы. Ведь можно, нисколько не преувеличивая, говорить о своеобразной укорененности родной «почвы » в личностном мире Хайдеггера и в его творчестве. И конечно, нет никаких сомнений в незримой, но прочно закрепившейся связи между самыми простыми, конкретными приметами тут-бытия Хайдеггера в Шварцвальде, в крохотной хижине — но для него ни с чем несравнимого пристанища, подлинного «дома»,— и абстрактными, на первый взгляд, категориями и экзистенциалами «Бытия и времени», «Sein und Zeit».
Эту тему я разовью особо и специально, но позже, в другой части повествования — еще и потому, что мы пока «находимся» в 1925 году, и от выхода в свет «Бытия и времени» нас отделяют почти два года.
Тогда, в марте 1925 года, Хайдеггер, укрывшись в хижине, действительно был между двух огней: на время каникул воссоединившись с семьей, он многими чувствами, воспоминаниями, мыслями был с Ханной, которой со своей стороны ничего не оставалось, как уехать к родным в Кенигсберг. Мать Ханны Марта во второй раз вышла замуж — за вдовца, у которого было две дочери. Мартин Хайдеггер, как сообщают биографы, теперь интересуется семьей Ханны Арендт, расспрашивает о ее матери. «Рассказала ли она ему и то, что ее мать была социал-демократкой левого крыла, почитательницей Розы Люксембург? Возможно, он знал, что Ханна была еврейкой. Но разве самые умные студенты не были евреями?», — пишет в своей уже цитированной книге биограф Ханны Арендт Антониа Груненберг1.
1 А. Grunenberg. Op. cit. S. 100.
Судя по всему, «еврейский вопрос» в ходе его бурного романа вряд ли особо занимал Мартина Хайдеггера. Время социального и личного обострения вопроса — как в судьбе Хайдеггера, так и в злоключениях жизни X. Арендт — еще впереди.
21 марта 1925 года Хайдеггер пишет Ханне из Тодтнауберга нежное письмо, полное любви и трепетных воспоминаний. «Когда буря бушует вокруг хижины, я или думаю о «нашей буре» — я мысленно иду тихой тропинкой вдоль реки Ланн (это о Марбурге-на-Ланне. — Н. М.) — или в моих грезах воскрешаю образ юной девушки, которая во время перерыва в первый раз приходит в мою рабочую комнату; она одета в плащ, шляпа глубоко надвинута на огромные тихие глаза; на все вопросы она сдержанно и робко дает краткий ответ. А потом я перемещаю этот образ на последний день семестра... И тогда впервые узнаю, что жизнь — это история »'. Осмысливая и оценивая все эти события, их непростую, в чем- то противоречивую роль в жизни, творчестве Хайдеггера, А. Груненберг оправданно и точно резюмирует: «Хайдеггер одновременно чувствует себя приведенным в замешательство и просветленным, подавленным и обретшим новые силы, отвлекшимся в сторону и внутренне сконцентрировавшимся. Эта женщина спутала всю его жизнь, но она же помогла внести в нее ясность. Подобные отношения ему никогда еще не случалось пережить. Он вновь обрел себя, его работа снова переместилась на первый план. Страстные чувства стали своего рода мотором для работы: „Я (это его слова, обращенные к Ханне. — Н. М.) одержим безумием работы и радостной надеждой на твое скорое появление”1 2»3. Итак, Хайдеггеру любовная страсть, переплетенная с вдохновенной творческой работой ума — как на лекциях, семинарах, так и над текстами новых произведений, — в конечном счете не только не мешает, но даже помогает обрести новые, сокровенные и одновременно мощные творческие импульсы.
Совсем не так все складывается в растревоженном внутреннем мире Ханны Арендт. И вот молодая женщина, «правилами игры» лишенная всяких возможностей с кем бы то ни было поделиться своими любовными переживаниями и сомнениями, все же находит способ рассказать о них — и рассказать именно любимому человеку. Этот способ обращения к нему более чем нетипичен в сравнении с приемами, применяемыми женщинами в обычной жизни: она не жалуется, не задает любимому мужчине вопросы о будущем, вообще не обременяет его какими-либо конкретными заботами. Она пишет, посвящает ему и дает для прочтения, казалось бы, абстрактную философскую работу, озаглавленную словом «Тени» (Schatten), но в ней она, тем не менее, запечатлевает страдания своей изболевшейся женской души.
Адресат для такого жанра выбран очень точно. Дело не только и не столько в том, что Хайдеггер — горячо любимый мужчина; главное: многое выполнено в стилистике, в языке, образах его философии. То, о чем она пишет, и как она все зашифровывает, лучше всего способен де-
49
1 Н.А./М.Н. S. 18.
2 Отрывок из письма Хайдеггера к X. Арендт от 12.04.1925 года // Н. А. / М. Н. S. 19.
3 А. Grunenberg. Op. cit. S. 101.
Часть I. (лава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
H.ß. Мотрошилово кЩМ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
50
шифровать именно он. И учитель, надеется она, должен убедиться, как глубоко, внутренне, смысложизненно, именно всем сердцем приняла и поняла студентка его только еще рождающуюся экзистенциальную философию — не приобретшую твердо оформленных и явленных читающей публике очертаний. Причем поняла, почувствовала как бы загодя, наперед, с предчувствием будущего, пропустив экзистенциальные смыслы через свою жизнь, через свои глубочайшие и сокровеннейшие переживания. Чтобы убедиться в сказанном и все конкретизировать, целесообразно обратиться к этому, одному из первых, студенческих, но уже достаточно ярких и в чем-то самостоятельных текстов Ханны Арендт. Он не был опубликован во время его создания и вообще очень мало известен, особенно у нас в стране.
Итак, мы далее обратимся к отдельным страницам из текста X. Арендт «Тени» — в высшей степени необычной «студенческой работы», которую влюбленная девушка отдала для чтения своему обожаемому профессору. Что она содержательно точно вручила ее именно Хайдеггеру, имело свою предысторию.
Формально образ «теней» должен был отсылать к упоминавшимся ранее, прослушанным также и Ханной лекциям Хайдеггера о диалогах Платона «Филеб» и «Софист». Эти лекции он прочел в зимнем семестре 1924/25 года. Вспомните знаменитую платоновскую притчу о пещере, о многослойной и многозначной символике мира «теней», через посредство которых платоновские узники, прикованные к стенам пещеры, только и способны судить о том, что происходит в другом, невидимом ими и неведомом для них мире. Мы не будем специально разбирать здесь собственно платоновские образы и символы. И не только из соображений объема моей книги. Есть и дополнительные причины. Дело в том, что Хайдеггер, всегда, особенно в ранний период, опиравшийся на древние источники, столь же постоянно перетолковывал, до неузнаваемости переиначивал их. Как именно он толковал их в марбургских лекциях и на семинарах — вообще трудный вопрос. В том числе и потому, что из всего им сказанного на бумаге запечатлено — в виде опубликованных записей лекций — далеко не все и подчас не в том в точности виде, в каком все устно проговаривалось. Но сейчас проблема не в этом. Ибо теперь наша основная тема — вопрос о том, что из сказанного услышала, что и как поняла Ханна Арендт и что она захотела поведать, передать любимому человеку.
Текст Ханны Арендт «Тени» и его толкования
Перед нами этот относительно небольшой (5,5 страницы) текст. Заглавие— «Тени»— принадлежит самой Ханне. Она написала текст в Кёнигсберге и пометила апрелем 1925 года.
На русский язык он, насколько мне известно, до сих пор не переводился. Далее я дам свой перевод главных его фрагментов. Предварительно надо заметить, что «Тени» (Schatten) построены как повествование о мироощущениях некой молодой женщины, о ее отчаянии, неприкаянности — но без прямой расшифровки примет места, времени, личности. Это просто некая «она», мир ее мыслей, чувств, забот. Такая «аноним-
ность» не исключает узнаваемости. Сочетание того и другого имеет свой смысл. Но комментарии будут позже. Сначала — сам текст.
«Всякий раз, когда она пробуждалась от этого долгого, пригрезившегося ей и, однако, крепкого сна, в каком грезят в полном единстве с самими собой и с тем, о чем грезят, — всякий раз с нею была все та же робкая и прикосновением ощущаемая нежность к вещам мира, возле которой ей становилось отчетливо ясно: полностью погруженный в себя, перед нею как бы пробегал большой отрезок ее собственной жизни — пробегал, можно было бы сказать, как во сне, если бы в обычной жизни было нечто сравнимое с тем сном. Ибо чуждость и нежность рано угрожали ей стать чем-то одним, тождественным друг другу. Нежность означала робкую, сдержанную симпатию, не самоотдачу, а ощупывание, поглаживание, радость и удивление перед неведомыми формами. Возможно, оттуда являлось все то, к чему она на протяжении тишайшей, едва ли пробудившейся юности притрагивалась как к чему-то из ряда вон выходящему и чудесному.
И позднее она привыкла удваивать свою жизнь, что прямо-таки стало ужасающей ее само собой разумеющейся обыденностью, — она привыкла разделять жизнь свою на Здесь и Теперь, на Потом и Там. Я имею в виду не тоску по какому-то определенному „Что” (Was), к которому, как считают, надо было бы приблизиться, но другую тоску — о том, что надо сделать с жизнью, чтобы она смогла стать конститутивной.
Ибо в принципе все вокруг нее установилось так: она как раз тем укореняла свою самостоятельность и свою обособленность, что воспитала в себе подлинную страсть к обособленному. И так она привыкла во всем, что казалось в высшей степени само собой разумеющимся и самым банальнейшим, — видеть нечто заслуживающее более пристального внимания.
...Но дело обстояло отнюдь не так, как если бы что-то из названного стало для нее сколько-нибудь ясно выраженным. Для этого небо над городом, в котором она выросла и к которому была привязана с доверчивой интимностью, было слишком закрытым, а она — слишком необщительной и погруженной в саму себя. Она о многом знала — благодаря опыту и своей неусыпной внимательности. Но все, что с ней тут происходило, падало глубоко на дно ее души, оставалось там разрозненным и в себе замкнутым.
...Ее разрушенность, возможно, коренившаяся лишь в беспомощности, в предательски покинутой юности, нашла выражение в себя-са- мо-угнетающем-Бытии (Auf-sich-selbst-gedmckt-Sein) — и так, что она Юш закрыла себе возможность взгляда на саму себя и подхода к самой себе, ^ сделала эти взгляд и подход искаженными. Двойственность ее сущности, таким образом, вышла на свет дня. И оказалось: она самой себе стала поперек дороги. И чем старше она становилась, тем более радикальной, обособленной и слепой она была.
В такой заколдованности, в отдалении от человеческого, в абсурде она не знала для себя никакой границы, никакого удержу. Радикальность, которая постоянно доходила до крайности, мешала самосохранению, самовооруженности, никогда не давала испить до самой горькой капли чашу страданий. — Все доброе обретало злой конец, все злое —
Часть I. Глава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
H.ß. Мотрошилова Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
52
конец добрый. Трудно сказать, что было непереносимее. Ибо ведь самое непереносимое — то, что сковывает дыхание; тогда в безграничном страхе, который уничтожает робость и препятствует ей, думают лишь о том, чтб такой человек {ein Solcher) втайне чувствует. А чувствует он вот что: надо страдать и знать, каждую минуту и секунду с вниманием и иронией знать, что за самую злую боль, так считается, надо испытывать благодарность; и что именно такое страдание вообще сохраняет какое- то значение и ценность.
...При этом степени ее чувствительности и ранимости постоянно возрастали, и почти гротескно, когда они давали ей обрести нечто исключительное. Животный страх [вызывала необходимость] где-нибудь укрыться, т. к. она ведь не хотела и не могла оберегать себя. Страх, соединный с почти деловито рассчитанным ожиданием какой-нибудь грубости, все больше и больше делал для нее невозможными самые простые, само собой разумеющиеся жизненные вещи.
В робкую и суровую пору ее юной жизни — когда она еще не спорила с ощущаемой нежностью, с обиходной формой и выражением своей самой специфической сущности — в ее грезах еще были заключены сферы самой действительности. Заключены в тех полных и страдания, и радости грезах, которые сами были наполнены, все равно, сладко или горько, постоянной жизненной благословенностью. Когда же позднее она [сначала] растравляла себя и расточала богатство своей юности в странной, насильственной разрушительной жажде, чтобы над нею господствовали, а потом отвергла это как неприемлемую ложь, — тогда она ушла от по- гружения-в-себя. И тут ее охватил страх перед действительностью, этот бессмысленный и беспредметный, пустой страх, перед слепым взором которого все превращается в ничто, становится безумием, безрадостностью, угнетенностью, уничтоженностью. И этому страху нет ничего страшнее, ужаснее, мертвеннее, чем собственное зеркальное отражение.
Здесь — его характеристика и знак его позора. Что должно было явиться ему печальнее, непостижимее, чем собственная действительность?
Страх накрыл ее — как прежде ею овладела тоска, и снова же это не был как-то определимый страх перед каким-то всегда определимым „Что” (Was); то был страх перед Dasein как таковым. Она знала его и раньше — как знала она Многое (Vieles). Теперь она прямо-таки впала в этот страх.
Возможно, превращение тоски в страх — через разрушительную жажду [чьей-то] власти над собой, через это рабски-тираническое на- силие-над-собой (Sich-selbst-Vergewaltigen) — будет понятнее и яснее, если поразмыслить над тем, что возможности [движения] к чудовищному заключены в столь же предданном — заброшенном, сколь и безысходном времени. И это верно в тем большей мере, чем острее, сознательнее вкус, по природе своей избирательный и культивированный, ополчается против явных и крайних проявлений отчаяния, заключенных в искусстве, литературе и культуре, которые до бессовестности опрометчиво продолжают — в формах крайней заносчивости — свое иллюзорное вот-бытие (Scheindasein). Но если тут, несомненно, всего лишь попытка объясниться относительно того, как через приватное и интим-
ное можно приблизить человеческое, если действительно есть особая возможность подступиться к этому отчаянию в области человеческого как такового, — то столь же бодрствующим и открытым предстает каждый данный и всякий иной момент [времени]. И только отсюда можно в самом деле понять в происходящем то опасное, призрачное, что в нем заключено.
Может быть, что во впадении в страх и тоску и заключена идентичность, а именно: быть [ими] охваченным, отдаться страсти — это и есть упрямая самоотдача чему-то единственному, когда забывают о многообразии или ничему [иному] не уделяют внимания, полностью отдавшись желанию и страсти. Но может быть и по-другому: тоска уже заключила в себя богатство, богатство пестрое и отъединяющее, в котором она была у себя дома и которое она смогла полюбить с упомянутой постоянной и неизменной жизненной благословенностью; и что страх в смутной форме заключает в себе все, от чего захватывает дух, и позволяет ей, леденея, устремиться в погоню за самой собой.
Замороженность и погоня — и так, что через нее проносятся, как через мертвеющее тело, радость и страдание, боль и отчаяние — делали проклинаемо-эфемерным (verflüchtigten) все действительное, позволили современности как бы испариться; и осталась, как единственно достоверное, мысль — все имеет конец. И вот ее радикальность, которая некогда вверила ей быть носителем и хранителем внешнего, преобразуется так, что теперь все разорвалось и рассыпалось — пусть она и пыталась опереться на предоставляемую ей дружественность, причем опереться бледно и бесцветно, со скрытой трепетностью тени, распростершейся над дорогой.
Возможно, что ее юность отведет ее от этого пути, а ее душа, уже под другим небом, узнает возможность самовыражения и свободы и тем самым преодолеет болезнь и растерянность, обучится и терпению, и простоте, и свободе органического роста — но вероятнее, что она и дальше продолжит влачить жизнь в бессодержательных экспериментах и беспочвенном любопытстве, пока, наконец, давно и горячо ожидаемый конец все же захватит ее врасплох и придаст ненужной суете действительную цель.
Кёнигсберг, апрель 1925 года».
Таков текст. Биографы Хайдеггера и Арендт упоминают об этом манускрипте и интерпретируют его, но, как правило, очень бегло. Быть может, этот небольшой текст неизвестной тогда студентки — из-за его недостатков — и не заслуживает специального внимания? Верно, недостатки налицо: подражание Хайдеггеру — вместе с невозможностью самостоятельно достигнуть того же или сходного уровня виртуозности мысли, языка, стиля; непроясненность, а может, и намеренное затуманивание смысла и сдерживание напора того, что рвется из глубины изболевшейся души. И все же, полагаю, текст внимания заслуживает, и по разным причинам.
Так случилось, что о манускрипте «Тени» я сначала узнала из биографических книг и исследований (они ранее цитировались). И только потом мне удалось заполучить сам текст. Если сравнить интерпретации и оригинал, можно утверждать: хотя интерпретаторы подметили в нем ряд
53
Часть 1.1лава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
54
D
(О
0
ю
Q
т
1 <0
I
о
л
ю
&>
о
а
(С
о
х
х
£
s
а.
£
0
СП
>S
х
1
о
о
<а
0
1
Э
о
а
5
S
со
X
немаловажных содержательных моментов, некоторые его существенные измерения либо не были замечены ими, либо не заинтересовали их.
Дальше начну с тех аспектов, о которых уже (бегло, кратко) говорили исследователи (разумеется, буду фиксировать и раскрывать их соответственно своему пониманию). Затем перейду к проблемным аспектам, которые в тексте о «Тенях» сами оказались в тени, но которые считаю существенными, показательными, в частности, позволяющими вникнуть в вопрос об уже намечающем различии жизненных и мыслительных путей Мартина Хайдеггера и Ханны Арендт.
• Интерпретация
Нельзя было не заметить — и интерпретаторы сразу выдвинули этот аспект на первый план — главного созвучия между создаваемой в этот период книгой «Бытие и время» (а также марбургскими лекциями Хайдеггера 1925-1926 годов) и текстом «Тени», а именно: сильного, впечатляющего прописывания в том и другом случае экзистенциала «Страх».
Антониа Груненберг справедливо отмечает, что экзистенциал страха — а ему Хайдеггер впоследствии посвятил разные параграфы (например, § 30 и 40), отдельные страницы «Бытия и времени» — ив тексте его ученицы предстает богато дифференцированным. Это «страх перед действительностью», «страх», в который падают, само «бытие падения в страх» и, наконец, самое главное, самое хайдеггеровское — страх перед Dasein. В дальнейшем, когда дело дойдет у нас до особого, взятого в разрезе нашей темы, разбора «Бытия и времени», мы вернемся к этому проблемному углу зрения.
Интерпретаторы не могли не заметить и того, что в форме якобы безличного философского нарратива, где героиня — некая «она», Ханна Арендт создала, как правильно пишет А. Груненберг, «автобиографический документ. Автор его попыталась проинтерпретировать свое колеблющееся „нахождение (расположенность) [где-то]” (Befindlichkeit) в терминах хайдеггеровского мышления. Образ, который она создает и предлагает нам, — это образ юной женщины, которую из-за ее первой страсти охватило чувство неприкаянности, которая страдала от страха перед разрывом отношений и чувствовала себя выбитой из колеи повседневной жизни. Только имплицитно выражена мысль о маргиналь- ности положения автора как женщины и еврейки: [что пробивается] в сознании собственной особливости, в понимании того, что она „ничему и никому” не принадлежит, а также в страхе перед незащищенностью и в чувстве неприкаянности. Это безгранично открытый текст»1.
Характеристики и констатации такого рода считаю в основном правильными. Вместе с тем полагаю, что есть и другие, никак не менее важные срезы понимания и анализа, которые почти что не прочерчены в известных мне интерпретациях. Попробую конкретизировать и расшифровать их.
Прежде всего, речь идет о теме, выраженной заголовком манускрипта,— теме «теней», т. е., собственно, существования «в тени» в качестве и метафизической, и личностной проблемы. Ханна Арендт эту
1 А. Grunenberg. Op. cit. S. 102.
тему— особенно в философско-метафизическом, историко-философском развороте — почерпнула, как уже упоминалось, из лекций Хайдеггера о Платоне, а также, конечно, из собственного глубоко личностного, захватившего душу и ум прочтения (на языке оригинала) знаменитых диалогов великого древнегреческого мыслителя. К слову: сколь сильна и удивительна эта неисчерпаемая трансисторическая возможность читать, принимать классические тексты как «обращенные к тебе», как написанные «для тебя» и даже «о тебе»! Именно так Ханна Арендт восприняла и, кстати, приняла на свой счет многогранную символику «прикованного» существования, метафизику узничества, в которой «теневое» мироощущение, мировосприятие становится личной судьбой, от коей страдают все — и те читатели, которые не артикулируют для себя сложный экзистенциал «всегда-быть-в-тени», быть среди теней, и те, которые его осознают и на него рефлектируют. Хайдеггер и некоторые его ученики как раз глубоко осмысливают, ясно и ярко обрисовывают всю неизбежность и весь ужас «существования в тени».
Среди таких учеников была, разумеется, и Ханна Арендт. Кроме общеметафизического понимания существовало дополнительное, уже зафиксированное ранее обстоятельство: личная судьба, первая любовь- страсть— все сложилось так, что экзистенциал «всегда-быть-в-тени» уже в ранней молодости был разыгран на сцене ее собственной жизни, притом разыгран ею самой как главной героиней. И потому, считаю, можно утверждать: молодая Ханна Арендт в своем кратком тексте выписала тему «теней» более трепетно, достоверно, более личностно, чем Хайдеггер. В ранней молодости он прочувствовал экзистенциал «быть в тени», «быть маленьким человеком», но став популярным профессором, возможно, уже и позабыл о мучительных гранях теневого, зависимого существования.
Вот почему даже стилистика первой фразы «Теней» — о пробуждении от сна, в котором грезы сплетены с тенями бодрствования, которое само оказывается жизнью «как бы во сне» (schlafartig), наподобие «прикованного» существования платоновских узников,— это отнюдь не украшения, не изыски отвлеченного, остраненного письма, а выстраданный личностный рассказ именно о способе собственного бытия, неотделимом от человеческого вот-тут-здесь-бытия, т. е. от Dasein. Ханна не просто глубоко поняла эту бытийную диспозицию, о коей рассказывал студентам Хайдеггер— и повествовал именно в ее «присутствии», Gegenwart, как раз в Марбурге и в точности в «то самое время», в том «Jetzt», «теперь», где тогда была и она. В отличие от его по преимуще- Ц£ ству философско-остраненного повествования, ее «Тени» — рассказ о «теневом» экзистенциале как глубоко пережитом, перечувствованном, буквально до овнутрения мысли о бытии как «бытии к смерти», о добровольном уходе — это в ранней-то молодости! — в полную тень небытия как возможном избавлении от непереносимости «жизни в тени». Это потрясающее и убедительное свидетельство того, что самые абстрактные, на первый взгляд, философские рассуждения и произведения, тем более идеи и работы экзистенциального типа, по крайней мере в своем изначальном генезисе породнены с повседневной жизнью, с Lebenswelt и с реальными переживаниями конкретных людей.
Часть I. Глава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
Н-В. Мотрошилова МНИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: быше-время-любовь
56
Тема «теней», впрочем, экспонирована у X. Арендт не только в чисто личностном ключе, хотя последнее прежде всего бросилось в глаза интерпретаторам. Между тем Ханна даже в этом кратком тексте вплетает тему в два, по крайней мере, социально-философских контекста, что является первой предтечей (правда, пока еще бледной) будущих интересов и устремлений ее социально ориентированного ума.
Во-первых, студентка Хайдеггера поворачивает разговор к тому, о чем учитель предпочитал если и говорить, мыслить, то по большей части через безличные, до предела зашифрованные экзистенциалы типа «das Man». Она же прямо постулирует (хотя в кратком тексте эпистолярного эссе и не расшифровывает) связь между нарастанием тревожности, усредненности в мире личностных мироощущений и специфическим характером «времени» как эпохи, как совокупности исторических ситуаций, сложившихся в мире вообще, в родной Германии в частности, как раз в промежутке между двумя мировыми войнами. Знающие о духовной, интеллектуальной работе Ханны уже во время эмиграции способны без труда распознать в небольшом абзаце «Теней» фактически первую заявку на размышления и исследования будущего мыслителя Арендт.
Во-вторых, (первой и робкой) предзаявкой будущих размышлений становится также включенное в текст очень компактное и зашифрованное свидетельство об «ослеплениях», метаниях тоже теневых групп интеллектуалов, оторванных от жизненных корней и даже высокомерно, «абсурдно» возводящих свою «отъединенность», т. е. свою фактически «теневую» роль, в мнимые преимущества избранности, элитарности.
При этом Ханна объективно запечатлевает состояние сознания и бытийствования социального слоя, к которому сама принадлежала, а также уже, как оказалось, выносит в его адрес — а значит, предъявляет самой себе — очень жесткие, отчасти сочувственные, но в еще большей мере судящие, осуждающие оценки. И также прозорливо предрекает своему слою, включая высокомерных молодых интеллектуалов, поистине жестокую судьбу.
В-третьих, потрясает то, что истоки и будущность этого в значительной степени «теневого существования», этой игры теней и игры с тенями Ханна Арендт уже воспринимает не просто как свою собственную, глубоко личную судьбу, но даже как оплошность и вину. И также как главное основание личностного саморазрушения, жизненной неприкаянности представителей близкого ей слоя интеллектуальной молодежи.
Все сказанное, полагаю, выявляет еще одну черту анализируемого манускрипта, которая в нем отчасти спрятана, зашифрована, но при внимательном взгляде может быть дешифрована и прочитана.
Представляется весьма существенным, что Ханна Арендт уже ведет скрытую, но принципиальную и по сути теоретическую, философскую полемику со своим учителем, с близким, любимым человеком. В фокусе — ни много ни мало как внутренне заключенный в тексте критический взгляд Ханны Арендт на самое суть экзистенциалистской философии. (И этот подход, здесь только намеченный, впоследствии будет развернут будущим известным мыслителем Арендт в критический социально-
философский анализ экзистенц-философии и внутренне присущих ей способов анализа, рассуждения.) Инвективы, еще смутные, как бы прочитываемые между строк, можно дешифровать следующим образом.
Приверженцы, носители мировосприятия, которое было так «интимно» знакомо Ханне Арендт, пребывали в ими самими избранной и даже восхваляемой, чуть ли не обожествляемой самоизолированности, околдованности, погруженности в самих себя, в свою «самость» (как индивидов и как членов «эксклюзивных» групп). Следствия возникли, о чем уже теперь пишет и что впоследствии будет строго осмысливать Ханна, из-за саморазрушения, беспомощности «предательски покинутой молодости» — все это в духе Хайдеггера названо «АиГ-вщЬ-веШБ!:- §ес!гйск1:-8ет», т. е. «себя-само угнетающим бытием». По форме Ханна Арендт предпочитает говорить скорее о своей героине (читай: о самой себе), — о том, что она «сама себе стояла поперек дороги »... Но по фактическому содержанию речь идет не только, даже не столько о главной героине, сколько о судьбе поколений.
Время, в самом деле, убедительно показало, что подобные характеристики следовало читать, понимать не в чисто индивидуально-личностном, но также и в социальном ключе. Чуткие сердца и острые умы уже ощущали, что «околдованность» тенями, претензии на «эксклюзивность» могут обернуться трагедией страны, мира, в частности, молодых поколений и что синдром довоенного внутреннего саморазрушения, порой и прямого «саморастления» умов и душ, грозит превратиться в прямые социальные землетрясения. Так ведь оно и случилось.
Оправданно ли было возложить часть ответственности (а потом и вины) на экзистенциальную философию, которую Ханна Арендт глубоко освоила как раз в ту пору, когда философия эта только возникала, но уже стала преимущественной интеллектуальной модой среди молодежи? Такой вопрос остро встанет позже. А пока Ханне Аренд, как и другим непосредственным участникам событий, не было «дано предугадать,», как «отзовется» брошенное в мир «слово» Хайдеггера. Но ее, как видно из текста «Тени», мучает смутное предчувствие, ее тревожат пока не определенные, но опасные «тени будущего». Пройдет совсем немного лет, и тени обретут коричневый цвет, станут грубо «материа- лизовываться»... А в параде уже материализовавшихся, сбывшихся опасностей не последнюю роль будет играть фашизировавшаяся часть немецкого студенчества. Свою пагубную роль, как известно, будет играть, хотя бы недолго, профессор Хайдеггер. Ханне Арендт и другим ее друзьям, учившимся у Хайдеггера, выпадет горькая доля гонений с родины, страданий, прямой угрозы смерти. А значит, не были беспочвенными глубокие тревоги, беспокойства студентки Ханны Арендт. Нет сомнения, что философская артикуляция экзистенциалов «заботы», «страха», «покинутости» пришла к ней из философии Хайдеггера. Но столь же несомненно: эта философия — что Ханна Арендт поняла позже, пройдя через круги ада — если и предлагала метафизически-за- шифрованную запись самых тревожных мироощущений, то не давала, однако, их исторического анализа и даже не нацеливала на таковой. Следовательно, она не помогала вырабатывать ни удовлетворительных объяснений случившегося, ни духовных противоядий против самых
57
Часть 1.1лава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
58
er
о
(О
о
Э
1
ей
X
опасных «теневых» тенденций истории. Для всего этого, впоследствии сделает свой вывод Ханна Арендт, следует вступить на совершенно иной мыслительный путь.
* *
Вернемся к вопросу о личностном контексте, который был и подтекстом манускрипта «Тени». Анализируя его, мы снова обращаемся к теме отношений Мартина и Ханны на той стадии их любви, когда роман, казалось, был в самом разгаре, но когда уже четко обозначилось «начало конца» этих страстных отношений.
Нельзя (в определенной степени возражая другим интерпретаторам) не отметить: пусть Ханна обращала рукопись к любимому человеку, пусть ему все же подавался сигнал «SOS», личные моменты присутствовали в манускрипте лишь в самой минимальной степени, да и то в туманной форме шифров — намеков. Ответная реакция адресата, самого Хайдеггера, не заставила себя ждать. Хайдеггер чутко уловил сигнал, воспринял его всерьез и стал увещевательно гасить, смягчать именно то, что представилось ему наиболее личностным и потенциально опасным. Ибо Ханна, приоткрывая завесу, все же довела до сведения, до сердца любимого человека: ей невыносимо тяжело; она «выпала» из мира повседневного, само собой разумеющегося и «впала» в иное состояние; ее захватила «давняя и желанная» мысль о смерти. Так якобы абстрактные хайдеггеровские экзистенциалы «страха», «заброшенности» и даже «бытия к смерти» приобрели для молодой женщины самое конкретное смысложизненное значение. И Хайдеггер прекрасно понял это.
Присмотримся к тому, как и что именно он писал (наверное, и говорил) в ответ на более чем тревожное философское послание любящей и любимой женщины.
Приведу (в своем переводе) те части письма Хайдеггера от 24.04.1925 года, которые и представляют собой непосредственную реакцию на манускрипт «Тени».
«Твои „Тени”, — писал Хайдеггер, — обрисовывают твою среду, время, форсированную зрелость твоей молодой жизни.
Я не полюбил бы тебя, если бы не верил, что не Ты сама вчиняешь себе такое беспочвенное и вторгающееся извне самораспадение — его создают искажения и заблуждения.
Твое потрясающее признание не отнимает у меня веру в подлинные и богатые побуждения твоей экзистенции. Напротив, для меня здесь есть доказательство того, что ты вырвалась на свободу — хотя твой путь из этой твоей душевной прикровенности (Verborgenheit), которая не является собственно твоей, будет долгим.
Моя жизнь с точки зрения ее истоков, среды и возможностей — надежно двигаться через инстинкты, легче обретать близость к содержательности дела и к труду — складывалась проще, нежели путь многих нынешних молодых людей. И в своем понимании я мог бы легко оказаться неправым даже по отношению к тебе. Но близость твоей сущности — а теперь и твоего облика — позволяет не испытывать никаких сомнений насчет того, что я, даже и отвлекаясь от надежности знания, которое
дает любовь, никогда не поверю, будто ты можешь провести и действительно проведешь свою жизнь в „бессодержательных экспериментах”. Сегодня ты приходишь такой радостной, сияющей и свободной, какой я хотел бы тебя видеть по возвращении в Марбург. И я полностью пленен великолепием этой человеческой сущности — вблизи которой я осмеливаюсь быть»1.
В письме — понимающем, восхваляющем любимую, ее «великолепную сущность» — очевидно царит уговаривающий, убеждающий стиль, основанный на вере в то, что Ханна победит боль, отчаяние и выберется на иной «путь».
Эта твердая вера в «подлинные и богатые побудительные силы экзистенции» Ханны впоследствии полностью оправдается, что делает ее пророчески-предсказующей. Хайдеггер, как впоследствии выяснилось, оказался прав и в том, что этот путь будет для Ханны достаточно долгим. Правда, он не провидел и вряд ли мог провидеть какие-либо содержательные особенности этого пути.
У него, судя по всему, не было никакого предчувствия насчет глубочайшей трагичности будущей судьбы и Ханны Арендт, и других его учеников-евреев. Что в немалой степени говорит о социальной нечуткости, даже близорукости и Хайдеггера, и других мыслителей, которых многие молодые интеллектуалы в дофашистский период сделали своими кумирами. Мартин и Ханна не могли знать и того, что им придется изживать свою любовь в совсем другую «эпоху», когда игра отчаявшейся влюбленной женщины с мыслью о смерти окажется несопоставимой с нависшей над нею и многими другими реальной и прямой опасностью — расстаться с жизнью в безумиях нацистских преследований.
Хайдеггер, впрочем, пока не обращает особого внимания на идейный, социальный подтекст происходящих событий, к которому, как свидетельствует манускрипт, уже оказалась чувствительной и отчасти повернутой его возлюбленная. Он изрекает общие «истины», притом оптимистического характера. В такой манере он дает определение статуса, что ли, «теней» и теневого, сумеречного сознания. «„Тени”, — пишет Хайдеггер, — есть только там, где есть солнце» (Ibidem. S. 26). В целом банально, но в социальном контексте отнюдь не всегда верно. Уж как возможно будет разглядеть «солнце» в 1933-м, когда страна накрылась плотной и зловещей коричневой тенью?!
Выражено Хайдеггером и чувство собственной вины в том, как сложились их любовные отношения. «Что иное я принес тебе, помимо самого тяжелого — и не была ли им постоянная жертва твоей души? А у тебя есть только твое робкое тихое „да”, которое ты сказала в здании вокзала. И когда ты держишь меня в отдалении от себя, то становишься мне ближе; тогда откровение твоей сущности — сама ты в этот момент бессловесна — совершенно свободно говорит со мной. Со времени этого чудесного от-даления — оно пробуждает во мне чувство вины — я спокоен, я радуюсь за твою жизнь, ее безопасность и ее силу».
Мы вспомним и о теме вины, когда станем отыскивать в «Бытии и времени» теоретические созвучия с почти отзвучавшим романом.
59
1 Hannah Arendt / Martin Heidegger. Briefe 1925 bis 1975. Fr. a/M., 2002. S. 27.
Часть I. Глава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
H.ß. Мотрошилово ИН Мартын Хайдеггер и Ханна Врендт: бьггие-время-любовь
60
В чисто личном плане заметна такая деталь: Ханна уже предпочитает «от-даление». И это было ее решение, которое теперь уже для Хайдеггера стало «принудительным». Он нашел в себе силы отреагировать на «нарушение близости» красиво и благородно...
Чрезвычайно важно другое признание Хайдеггера: «...отныне ты тоже живешь (mitlebst) в моей работе — с неисчерпаемым импульсом твоей „робкой сдержанной симпатии (Zuneigung)”, которая позволяет тебе с редкой ясностью раскрыть свою сущность... И это — глубинная основа твоей души. Ты мне близка исходя из самой сердцевины твоей экзистенции, и ты навсегда стала в моей жизни действенной силой».
Таким было письмо-ответ Хайдеггера на рукопись «Тени», теоретические и стилистические недостатки которой существуют, но не отменяют трогательной личностной искренности и исторической значимости рукописи, написанной, что называется, душой и сердцем. Письмо Мартина вряд ли требует сколько-нибудь подробных комментариев. Надо тем не менее подчеркнуть, что Хайдеггер — таково мое мнение — не обманывал ни Ханну, ни самого себя в том, что она «тоже живет» (mitlebt) в его работе и что любовь к Ханне — «действенная сила» его жизни. Сколько бы ни было в этих событиях противоречий и колоссальных трудностей, «формулы отношений», выведенные самим Хайдеггером, что будет показано во второй части книги, сохранят свое значение для обоих участников описываемой любовной драмы: вплоть до их глубокой старости, до самого конца их жизни, сохранится и будет длиться, несмотря ни на что, их переплетенная с философией любовь. О том, какой она станет и останется, что несомненно, в их преклонные, как принято говорить, годы, будет рассказано впоследствии. Главное: эти мужчина и женщина, полюбив друг друга в молодости, а впоследствии разлученные жестокой судьбой, до самой смерти так и не утратят своей любви... Перед этим несомненным фактом мы останавливаемся и склоняем голову — кто с завистью, кто с сочувствием, а кто с глубоким пониманием-сопереживанием.
А они, кстати, умерли если не «в один день», то ушли, что называется, в мир иной друг за другом. Ханна Арендт в шестидесятидевятилетнем возрасте скоропостижно скончалась в Нью-Йорке 4 декабря 1975 года; Мартин Хайдеггер умер во Фрайбурге 26 мая 1976 года в восемьдесят шесть лет. И он пережил Ханну всего на какие-то полгода. Жена Хайдеггера Эльфрида умерла через шестнадцать лет после мужа, 21 мая 1992 года, лишь один год не дожив до своего столетия.
Но тогда, в 1926 году, Ханна, скорее всего, ожидала от Мартина не общих, пусть и высоких слов, надежд на «силу» ее экзистенции, слов о ее «внутренних силах». Ибо силы как раз оставляли ее. Она, наверное, ждала от Мартина конкретной поддержки, реальных и решительных мужских поступков. Однако весь рисунок его действий в подобных случаях — и прежде, и после, и при «мгновенных» увлечениях, и в этой, несомненно, самой сильной любви-страсти — свидетельствовал: Хайдеггер не мог, да и не хотел совершать решительных поступков. В этой оценке — ни грана моралистического осуждения. Главным образом потому, что во всей жизненной ситуации Хайдеггера любые увлечения
после женитьбы и рождения детей имели мощный противовес. Им была, конечно же, семья.
До сих пор о романе Хайдеггера и Арендт мы повествовали так, как если бы то были любовные отношения двоих. Это отнюдь не был чисто нарративный прием. Все дело в том, что и любовники, скорее всего, согласно избегали между собой разговоров на больную тему хайдегге- ровской семьи. Но думали о ней постоянно. Вряд ли Ханна, все глубже впадая в пучину разделенной, но бесперспективной любви, могла «от- мыслить» тему жены и детей Мартина. Правда, она могла предполагать, что якобы остывшая за шесть лет любовь Хайдеггера к жене несопоставима с новой любовью-страстью. Если она так думала, то ее созданная для самоутешения идея была сугубо неточной. И разыгравшаяся драма включала не двоих главных участников. На той стадии существовал классический любовный треугольник, причем третья сторона предполагала не только роль жены, но и мощную — быть может, самую сильную в данном случае — партию двух ничего не подозревавших, неспособных что-либо сказать и предпринять Buben, мальчишек. Но также очень важный момент всей драматической истории — отношение Мартина к его жене Эльфриде. При всей пламенной любви к Ханне, Хайдеггера и жену тоже объединяла любовь. То были, скажем по-хайдеггеровски, два разных вида любви, два ее различных «модуса», «экзистенциала» — притом вечных, как сам мир. В жизни и душе Хайдеггера они не могли не вступить в противоборство, в суровый конфликт. Примирить их было совершенно невозможно. Хайдеггеру пришлось делать жесткий жизненный выбор. И опять, как и раньше, он осуществлял выбор «за двоих», за себя и Ханну — но ведь решение он принимал один. Чтобы понять суть и характер выбора, надо внимательнее присмотреться к третьей стороне треугольника. Это будет тема жены, тема семьи.
Часть I. (лава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах...
ГЛАВА 3
Мартин и Эльфрида.
Конец романа Мартина и Ханны
Есть немало вторичных биографических источников, помогающих понять историю и характер отношений супругов Хайдеггер. Я не оставлю их без внимания. Но лучшим подспорьем для раскрытия темы считаю не так давно появившийся первоисточник — книгу «Mein liebes Seelchen!». Она содержит письма Хайдеггера Эльфриде 1915-1970 годов. Сама история книги весьма примечательна.
Адресованные ей письма мужа — уже после его смерти — стала собирать воедино Эльфрида Хайдеггер. Она осуществила первичный их отбор. И к тому же она: 1) (почти) полностью исключила из реально существовавшей переписки свои послания к мужу; 2) упаковав объемистую пачку писем в деревянный ящик, поместила его в банковское хранилище;
3) сделав это, Эльфрида завещала не публиковать письма до 2000 года;
4) будущее опубликование она возложила на свою старшую внучку, дочь Йорга Гертруд Хайдеггер.
Гертруд Хайдеггер в свою очередь провела большую работу по новому отбору и по подготовке к печати этого собрания писем своего деда, адресованных бабушке. Книга писем (с комментариями Гертруд) увидела свет в 2007 году1.
Письма прежде всего документируют историю знакомства и зарождения близких отношений между Мартином и дочерью офицера Эль- фридой Петри. В университете она изучала национальную экономику. Знакомство произошло в конце 1915 года. В письме от 09.12.1915 года Хайдеггер обращается к Эльфриде почтительно («дорогая фрейляйн Петри»), но уже и очень пылко. Он энергично сообщает миловидной, судя по фотографиям, девушке о том, что очарован ею. Мартин пишет Эльфриде, начиная вырабатывать свой «фирменный» любовный эпистолярный стиль, как он взволнован и сколь захвачен нежными чувствами. Цитирую Хайдеггера: «мои мысли перелетают дальше, в Вашу внимающую душу...» (Briefe М. H. S. 19).
А вот в письме от 13.12.1915 года — через 4 дня! — он, уже с любовным вдохновением, написал: «Приди, душа моя, и отдохни около моего сердца; я хочу глубоко и вечно смотреть в твои сказочные глаза и благодарить тебя — душа моя; все новые и новые чудесные вещи я осмеливаюсь пережить рядом с тобой, — ты моя — и я должен пережить несказанное счастье; мои руки с прямо-таки священным трепетом будут охватывать твои руки; и моя душа — пульсирующая, проникающая через весь трепет сомнения — это обиталище, достойное того, чтобы позволить ей навечно принять в себя твою любовь» (Ibidem. S. 20 — выделено Хайдеггером). Длинное, вдохновенное письмо наполнено любовными излияниями и интимными подробностями, вторгаться в которые как-то
1 «Mein liebes Seelchen!» Briefe Martin Heidegger an seine Frau Elfride 1915-1970. Herausgegebend, ausgewählt und kommentiert von Gertrud Heidegger. München: Random House, 2007. Далее при цитировании данного издания в моей книге: Briefe М. Н. — с указанием страниц.
неудобно. Уже появляются любовные прозвища, сохранившиеся на всю жизнь.
Мартин называет Эльфриду «Mein liebes Seelchen». Перевести это непросто. «Seelchen» — это буквально «душечка», а «mein liebes Seelchen» — моя любимая душечка. Приходится, однако, учитывать, что в российском языковом и культурном пространстве под влиянием Чехова слово «душечка» приобрело особый смысл. Впрочем, когда Эльфрида Петри уже была женой Мартина Хайдеггера и, несмотря на все его измены, стала верной спутницей его жизни, в ней, женщине хорошо образованной, властной, все же появилось что-то от преданной (но одному человеку) чеховской «душечки». Однако Хайдеггер, обращаясь к жене, вряд ли имел в виду подобное побочное толкование, незнакомое немецкой культуре. Потому российское обращение «душа моя», в то время у нас в стране весьма распространенное, как я полагаю, лучше всего подходит для передачи на всю жизнь закрепившегося ласкового семейного прозвища. Себе же двадцатишестилетний Хайдеггер присваивает кличку Bub, что можно перевести по-разному, но лучше всего подойдет — парень, мальчишка...
Причем, как видно из письма, Мартин позиционирует себя как «простого парня» (als einfachen Buben) из скромно-благочестивой деревенской среды (S. 21). Он красноречиво, романтически, крупными мазками описывает для дочери высокопоставленного прусского офицера Рихарда Петри жизнь предков и родителей, приметы своего детства — ландшафта, труда, жизни при церкви, увлечений книгами. Об этом «простом парне» Хайдеггер повествует в третьем лице, рассказывая о гордости отца за его, Мартина, первые успехи в учебе, а потом в науке. Одним словом, уже совсем не юный «мальчишка », но в 1915 году пока не обретший сколько-нибудь прочных позиций Мартин взывает к душе двадцатидвухлетней женщины, патетически говоря ей: «возьми мою душу, она твоя...» (S. 23).
Хайдеггер знает, что обращается к отчасти эмансипированной, образованной студентке. В 1907-1908 годах ее семья жила в Ницце, а потом в Париже, где Эльфрида выучила французский язык; в 1909 году она прошла курс обучения английскому языку в Лондоне. (Иными словами, иностранными языками она владела лучше своего будущего мужа.) На 1909-1914 годы приходится ее учеба в Высшем педагогическом лицее в Висбадене и в конце — получение учительской лицензии, которая, кстати, в самые трудные времена помогала ей находить работу и заработок. В 1914 году Эльфрида, кроме того, включилась в Висбадене в практическую работу помощи женщинам (Nationale Frauendienst). В том же году, уже во Фрайбурге, она начала учиться во Фрайбургском университете по специальности «национальная экономика». Активная студентка сразу влилась в деятельность студенческого союза.
Знакомство с Хайдеггером состоялось тогда, когда Эльфрида (в декабре 1915 года) появилась в том семинаре начинающего преподавателя Хайдеггера, который был посвящен «Пролегоменам» Канта.
События развивались не просто быстро, а стремительно. Письма, которые цитировались выше, относятся к возникшему в декабре 1915 года бурному роману преподавателя и студентки. А в марте 1916 года Мартин
63
Часть I. (лава 3. Мартин и Эльфрида. Конец романа Мартина и Ханны
НВ. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-еремя-любовь
64
и Эльфрида уже обручились — сначала тайно1; в августе того же года последовало официальное обручение (см. вклейку, фото 6). В 1917 году влюбленные поженились и стали жить своим домом. 21 января 1919 года родился старший сын Йорг, а 20 августа 1920 года — младший сын Герман. Знакомство и вспыхнувшая любовь пришлись на начальные годы Первой мировой войны. Что это за время было в судьбе Хайдеггера — о том читайте в моей прилагаемой к книге биографии.
Романтические отношения молодых людей в целом ряде моментов были похожи на старые, как мир, любовные истории. Очень скоро в них, этих отношениях, проступила существенная особенность. Молодой Хайдеггер уже и тогда был философом до мозга костей. И он очень рассчитывал на то, что эмансипированная студентка, пришедшая в его семинар изучать Канта, по крайней мере интересуется философией или хочет в ней разобраться. Но дело обстояло совсем не просто.
Из писем, относящихся к началу 1916 году, ясно: Хайдеггер уже знает о возникающих трудностях и проявляет свое понимание ситуации. Да, «женская природа » (Frauennatur), признает он, противодействует тому, чтобы философские, вообще интеллектуальные проблемы осмысливались Эльфридой во всей их «широте и глубине». Конечно, соглашался Мартин, женщина в любовных отношениях и в браке ищет спокойствия, простоты, ясности, укрытости. Но ведь «твоей нежной душе», обращается он к Эльфриде, может угрожать пустота. Между тем есть мир «чистого бытия идей», по-платоновски изрекает Хайдеггер. Приобщение к нему возвышает, наполняет богатством человеческую душу. Хорошо, что любимая глубоко чувствует, обожает природу. «Нет, душа моя, есть куда более глубокие вещи», — изрекает Мартин. Это «собственная ценность» человеческого, это сила одухотворения (Vergeistigung); ведь в нас, людях, живет сознание, которое проявляется в поклонении и самоотдаче — в переживаниях, которые обеспечивают человеку совершенно особое положение в сравнении со всей остальной действительностью. И другие зарождающиеся хайдеггеровские слова-понятия уже включаются в убеждающее-доверительный, мягкий и осторожный разговор с любимой. Речь идет прежде всего о «Dasein» — здесь-и-теперь-бытии человека (Ibidem. S. 28).
Письмо, которое в ответ написала Эльфрида, нам доподлинно неизвестно. Но отголоски его есть в следующем послании Хайдеггера (от 03.01.1916). «Мой вопрос о том, что ты взяла от философии, поразил тебя, словно какое-то нападение — а ведь я имел его в виду только в диалектическом смысле, как толчок к выполнению задачи: каким-то образом привести в гармонию переживание и познание. То, что я сказал об отсутствии основы, возможно, было выражено неверно — я не имел в виду, будто у тебя отсутствует диспозиция — да и как бы я мог сказать подобное?
Лучше я выражу свою мысль так: прояснение, понятийная ясность, различение слов и дистинкций между вещами — [ибо] переживание было для меня, и в весьма значительной степени, одним лишь переживанием. И быть может, ты требуешь от переживания слишком уж мно-
1 См.: Briefe М. Н. S. 383-384.
того...» Из письма Хайдеггера видно также, что любимая (на его взгляд, слишком сильно) акцентирует роль «Gottererlebnis», т. е. собственно религиозного переживания. Как немецкий философ послекантовской эпохи, он, разумеется, отстаивает первенствующую роль именно религиозно нейтрального познания, «последнего ясного схватывания и толкования смысла» (Ibidem. S. 30). Дело в том, что Эльфрида и в ту пору, и впоследствии была ревностной протестанткой. Из моей биографии (см. Приложение) можно узнать подробности: этой женщине с властным, твердым характером, когда она стала женой Хайдеггера, удалось преодолеть все очень-очень глубокие, изначальные жизненные, идейные католические влияния на мужа и привести его в лоно протестантской церкви. Сделать его сугубо религиозным философом она, правда, так и не сумела. Да и вряд ли осмеливалась в этом упорствовать. Ибо в чисто философских, мировоззренческих вопросах Хайдеггер был тверд. Но это будет относиться к их последующей истории. Пока же Хайдеггер стремится вовлечь Эльфриду, будущую жену, в философское взаимопонимание. Подобно Пигмалиону, пожелавшему сотворить чистую красоту и оживить ее, Хайдеггер хотел вдохнуть в душу будущей спутницы своей жизни способность философского понимания, вернее, умение внимать философствованию мужа, осознанно восхищаться его мыслями и идеями. Не получилось.
Из писем явствует: Хайдеггер сначала не на шутку обеспокоен тем, что не находит в подруге и будущей жене понимания, поддержки самых глубоких своих устремлений и идей, тесно переплетенных с зарождающейся экзистенциальной философией. Но пока он питает смелые надежды на то, что все образуется, что в грядущие дни они еще многое скажут друг другу; вместе они подготовят друг для друга «великие будущие часы» творческих деяний (Ibidem). И все это подкрепляется нежными словами и обоим понятными намеками, «сладостными воспоминаниями» — насчет лба, губ, тел, радостных улыбок и всего остального (S. 31). Письмо, кстати, написано Хайдеггером с места «службы»; там, а не на фронте Мартин — из-за состояния здоровья — во время Первой мировой войны отбывает свою совсем не смертельно опасную «воинскую повинность».
И вот тут Эльфрида самым лучшим образом проявляет себя: она печется о здоровье Мартина, своего нареченного (а в семье всегда считалось, будто у него совсем слабое здоровье, что не вполне соответствовало действительности). Она просит Мартина отказаться от алкоголя и табака. Оба «мечтают о будущей семейной жизни», верно замечает в своих комментариях Гертруд Хайдеггер (Ibidem. S. 32).
Уже и возвратившись (в начале 1916 года) во Фрайбург, Мартин не столь часто видится с Эльфридой — потому что усиленно готовится к лекциям в университете. К тому же, о чем тоже справедливо напоминает Гертруд, молодые люди пока не состоят в браке; они вынуждены держать в тайне свои близкие отношения. Гертруд столь же верно отмечает, что ее будущие бабушка и дедушка были тогда разного вероисповедания, а это в католическом университете могло восприниматься с подозрением (Ibidem. S. 31). Обмен письмами не компенсирует личного общения. Разумеется, едва пробившиеся несогласия относительно роли 365
3 694
Часть I. Глава 3. Мартин и Эльфрида. Конец романа Мартина и Ханны
Н.В. Мотрошилова №й Мортин Хайдеггер и Ханна Орендт: бьгтие-время-любовь
66
философии в их дальнейшей совместной жизни отступают на задний план — до них ли теперь? Вынужденная разлука все больше толкает влюбленных друг к другу. «Мальчик» (а ему теперь 27 лет) сообщает любимой, что охотнее всего сыграл бы с нею... в снежки! «Завтра, — пишет он в письме от 01.02.1916, назначая свидание, — мы хотим о многом поговорить, помолчать и порадоваться друг другу и быть счастливыми, и снова стать сильными. Не правда ли, мое дитя?». И вполне деловитожитейски добавляет: «Я приду к тебе около 7 часов... Сможешь ли ты приготовить что-нибудь на ужин?» (Ibidem. S. 34). А в следующем письме из цитируемой книги (от 10.02.1916) Хайдеггер поблагодарит свою подругу — за то «глубокое, чудесное, таинственное», что ему довелось пережить и что самым внутренним образом «сплавилось» с «ритмом» его души. И далее — столь же вдохновенно о новом источнике переживания (das Erleben — это, кстати, одно из главных понятий и философии Гуссерля, с которым теперь тесно сотрудничает Хайдеггер, и его собственной только зарождающейся философии). Написано — в послании к женщине! — об экзистенциалах «In sich zur Ruhe kommen», «das So-ganz-Ausruhen-können», что значит: «прийти внутри себя к спокойствию», «быть-в-состоянии-полностью прийти к отдохновению» и т. п.
Итак, Хайдеггер не может не философствовать даже в письме к любимой, хотя теперь все-таки отдает себе отчет в том, что она в глубине души предпочла бы более простые, более понятные ей слова любви и благодарности за ее уже очевидную любовь. Чтобы несколько смягчить ее сердце, Мартин пишет о ней, о встрече с ней, о том, например, как он видел ее одевающейся, — это красота и волшебство «парили» вокруг нее и ее фигуры, проникая в его душу... (Ibidem. S. 35).
Представляют интерес письма, написанные Хайдеггером незадолго до формального заключения брака. Эльфрида, и ее вполне можно понять, ибо подобным образом действуют многие женщины, старается приблизить свадьбу. Тем более что любовь этой женщины, горячая и преданная, была подтверждена всей историей брака четы Хайдеггеров. К тому же в те времена нельзя было и помыслить о каком-то гражданском браке, о детях, в нем рожденных. Истово религиозной протестантке Эльфриде, пусть и довольно эмансипированной по тем временам женщине (не побоялась же она интимных отношений до официального брака), такое вообще не могло прийти в голову. Хайдеггер, который не так уж и противился браку, все же был несколько испуган напором будущей жены.
Совсем не исчезла из поля внимания Мартина и, скорее всего, не переставала его тревожить мысль о том, что будущая жена — при всей ее образованности, эмансипированности — далека не только от понимания философских идей, рассуждений, но даже от сколько-нибудь внутреннего, прочного интереса к ним. Несомненно, немалый интерес Эльфри- ды к Хайдеггеру как философу, вернее, к масштабу его таланта, к его возможной карьере, к славе, даже ко всем подробностям и перипетиям его продвижения к философскому Олимпу — такой интерес существовал. Итак, если для Хайдеггера новаторская философия была главной целью, средоточием, смыслом жизни, то его будущей жене она скорее рисовалась самым лучшим средством обеспечения будущего семьи, а
также способом и орудием достижения славы, известности, достойных таланта Мартина. В тогдашней, да и сегодняшней Германии (и не в ней одной) было и есть немало профессорских жен, в том числе жен известных философов, которые идут с ними по дороге жизни, будучи замечательными спутницами, сподвижницами, помощницами и матерями их детей — одновременно не вникая и не проникая в содержание их творческой работы. Такой великолепной женой и матерью была, например, Мальвина Гуссерль, которую Хайдеггер тогда часто встречал, посещая дом своего учителя.
Судя по письмам и учитывая характер Хайдеггера, можно утверждать: он хотел большего. Он мечтал вести свою жену по такой дороге, на которой она, пусть продвигаясь постепенно, ученически, потом смогла бы вникать в его философские размышления. И хотя Мартин верил в свой философско-педагогический талант, но к моменту вступления в брак он почти распрощался с надеждами воспитать из Эльфриды подготовленную, внимающую ему слушательницу и собеседницу по философским проблемам. О чем свидетельствует последнее перед официальным бракосочетанием письмо (от 12.03.1917), в котором действительные роли-функции Эльфриды определены вполне реалистически, без несбыточных «философических» мечтаний. «И ты знаешь: тихие пути твоего воздействия на наше супружество, твоя женская экзистенция в самой непосредственной действительности моего творчества, твоя материнская миссия в нашем метафизическом предназначении — таковыми представляются мне сегодня не могущие быть утраченными потенции моего Dasein, действенные и жизненные связи нашей любви; и они — метафизико-исторические стороны нашего жизненного единства» (S. 53).
Несмотря на философическое, даже метафизико-философское (уже в духе будущей книги «Sein und Zeit») обрамление этой коренной, оказавшейся полностью верной дефиниции их брака, нельзя не увидеть, что все постоянно подчеркиваемые философские, творческие аспекты теперь вряд ли относятся к Эльфриде. Ей отводятся: «тихие пути», «женская экзистенция», «материнская миссия», право любить преданно и беззаветно. Мартин же должен располагать, по его собственному определению, «самой непосредственной действительностью творчества », собственным Dasein, здесь-бытием с его неутрачиваемыми потенциями. Что любовь и единство в будущем браке предполагают, по мысли Хайдеггера, «метафизическо-исторические» стороны, очерчивается как нечто объективное, не обязательно предполагающее их понимание, осмысление от обоих супругов. Достаточно уже того, что их будет учитывать сам Хайдеггер, включая эти моменты в общие бытийные рамки философии, метафизики, истории.
Осознавая теперь и четко выписывая эти существенно различающиеся функции, Хайдеггер, как видно, лучше понял, что роли, которые отведены жене, тоже чрезвычайно, первостепенно важны и для ее, и для его жизни. Никак не хуже, а куда лучше их осмыслит, примет на себя Эльфрида. Она станет любящей, верной, преданной женой и прекрасной матерью. Да и к своему мужу, в будущее величие которого она, пусть и не будучи философом, рано поверила, она отнесется почти по-матерински (mütterlich). Это она будет упорно, кропотливо создавать, организо-
67
<г
-е-
*о
iO
р
и:
0 z
j=
■О
§
1
о
3*
Часть I. (лава 3. Мартин и
Н.8. Мотрошилово ЩЦ Мартин Хайдеггер и Ханна Врендт: бытие-еремя-любовь
68
вывать для любимого супруга, для всей семьи дом, семейный очаг, возлагая на себя, принимая близко к сердцу как все и всяческие домашние заботы, так и карьерные интересы мужа. В самые трудные времена — а таких на их жизненном пути встретится немало — она станет оберегать Мартина, по-женски, по-матерински, но даже и «по-мужски» принимая на себя наиболее тяжелые удары, бытовые и всякие иные тяготы, неурядицы двух мировых войн и послевоенных периодов. Она стойко и достойно перенесет, перестрадает пленение юных сыновей на российском фронте. Словом, она действительно поведет себя «по-матерински», что и поручал ей супруг, в будущем великий философ и человек трудного, запутанного жизненного пути. Причем она будет действовать по-матерински заботливо, но и по-матерински властно. Разделив с Мартином и радости, и превратности жизненной судьбы, она будет иметь самое непосредственное отношение и к определению решающих «линий этой судьбы». Кроме всего прочего, эта гордая, властная, болезненно ревнивая женщина переживет немало измен своего мужа и, в конце концов, простит ему все. Словом, как сказано, она мужественно пройдет через все испытания, чтобы сохранить семью.
Когда Хайдеггер в 1916 году начертал «план» распределения ролей в семье, он даже не подозревал, до какой высокой степени — в наибольшей мере благодаря Эльфриде — этот план «метафизико-исторического предназначения» воплотится в жизнь. Что стало отчетливо ясно в конце пути. Но это же выявилось с начала брака.
Хайдеггеры и в молодости, и в старости — привлекательная пара. Особенно хороша, на мой вкус, молодая Эльфрида Хайдеггер. Имеются фотографии Эльфриды — невесты и молодой жены. Очаровательный, нежный облик (возможно, в жизни контрастировавший с властным характером); милое, с правильными чертами лицо, красивые пышные волосы; стройная фигура. Она выше и эффектнее низкорослого Хайдеггера. Но вместе молодые супруги смотрятся совсем неплохо.
Первые годы их брака — это и последние годы Первой мировой, обернувшиеся для Германии экономическими тяготами, последующими политическими турбулентностями. Вернувшийся с «военной службы» Хайдеггер ищет работу. Ничего достойного он не находит. (О перипетиях и трудностях этого периода читатели смогут узнать из моей Биографии Хайдеггера.) На помощь своему теперь уже любимому, талантливому ученику приходит Эдмунд Гуссерль — он постоянно хлопочет об обеспеченном месте для Хайдеггера. Но сначала ему удается сделать его своим «приват-ассистентом» с совсем небольшой оплатой. Жить семье очень трудно. И все же в дом Хайдеггеров приходит новое счастье: 21.01.1919 родился сын Йорг.
Не вдаваясь здесь в совсем уж интимные подробности семейной жизни четы Хайдеггеров, все же упомяну о кризисном моменте их брака — и то лишь потому, что его предали гласности потомки Мартина и Эльфриды (причем и по ее пожеланию).
Вскоре после рождения Йорга (бесспорно счастливейшего момента в жизни Хайдеггеров) случилось что-то весьма неприятное. Скорее всего, Эльфрида узнала об очередной измене мужа и не пожелала с этим смириться. Она уехала из Фрайбурга и — в силу объективной необхо¬
69
димости поправить здоровье — поселилась на территории санатория, где главным врачом был ее давний друг и поклонник. Обида на мужа, одиночество, обожание другого мужчины сделали свое дело. Через несколько месяцев Эльфрида вновь ждала ребенка. Но отцом ее второго сына Германа, который родился 10.08.1920 года, был не Хайдеггер, а врач санатория, один из прежних друзей Эльфриды. Выяснение отношений между супругами получило лишь глухое отражение в их переписке. Хайдеггер вряд ли имел моральное право изъявлять свое недовольство; он не мог не толковать случившееся как реакцию измученной жены на его измены. Решение было принято простое и благородное: Хайдеггер воспитывал Германа как своего собственного сына. По желанию Эльфриды, Герман узнал о своем биологическом отце, лишь когда ему исполнилось 13 лет. В маленьком послесловии-примечании к книжечке «Mein liebes Seelchen» он скупо пишет о своих переживаниях — и также о том, что издательница писем Гертруда Хайдеггер освободила его от наложенного матерью обязательства хранить в тайне обстоятельства его рождения.
Что же касается дальнейшей жизни семьи Хайдеггеров после рождения второго сына Эльфриды, то пережитая драма не нашла никакого выхода вовне.
Есть две выразительные фотографии. На первой улыбающийся, счастливый отец держит на руках новорожденного Йорга. На другой (1920 г.) лучезарная Эльфрида снята с прижавшимся к ней карапузом Йоргом; на руках она держит трехмесячного Германа (см. вклейку, фото 7 и 8).
Однако — вернемся к общесоциальной теме — на молодую семью, как и большинство семей Германии, тогда обрушиваются все новые и новые испытания. В стране галопирующая инфляция, бескормица; не хватает продуктов, большие трудности с топливом. Эльфрида болеет; требуются лекарства и хорошее питание. Помогают родители и друзья. Но и сама Эльфрида именно в годы испытаний становится настоящей опорой семьи. Она делает все возможное, чтобы ее муж, о талантливости и оригинальном уме которого теперь все чаще говорят во Фрайбурге, мог работать и время от времени отдыхать, кататься на лыжах в горах. Друзья приглашают его к себе на отдых и для работы.
Во время поездки в Шварцвальд в 1922 году Эльфрида посещает местечко Тодтнауберг, буквально влюбляется в него и решает строить там «хижину» — крошечный домик. Большего семья не может себе позволить. Но даже и для скромного строительства в семье нет денег. Родители Эльфриды выделяют ей небольшую сумму в счет будущего наследства. Эльфрида сама набрасывает проект хижины. Конечно, «проект» — слишком громко сказано; скорее это рисунок, схема. Строить надо быстро, потому что приходится съезжать со съемной квартиры во Фрайбурге. Сложностей уйма: материалы все время дорожают; в той местности Шварцвальда плохо с дорогами, подъездными путями вверх горы. Когда 9 августа 1922 года строительство в целом заканчивается, при домике еще нет многого — колодца, навеса, туалета, по сути нет приемлемой мебели. Но Эльфрида, все организовывавшая, работавшая в Тодтнауберге, не щадя сил, рада и горда: «...сбылась ее давняя мечта;
Часть I. (лава 3. Мартин и Эльфрида. Конец романа Мартина и Ханны
70
о
ffi
о
Э
8.
о
S
со
X
одновременно она создала для мужа место, где он мог бы отдыхать и мыслить» (Л. Grunenberg. Op. cit. S. 122).
Итак, годы до переселения Хайдеггера в Марбург были чрезвычайно трудными. Но пусть для молодой четы то была пора тяжелых испытаний, укрепились отношения любви, близости, доверия, скрепленные необходимостью растить детей. Словом, было и семейное счастье. Если кто и выдерживал немалые испытания, так это была Эльфрида, на хрупкие плечи которой легли основные заботы. Но она, как сказано, преодолевала их с неженским мужеством и горячей, именно женской, супружеской и материнской любовью. Она не могла, как сделала впоследствии Ханна Арендт, метафизически очерчивать круг своих переживаний с помощью онтическо-онтологических категорий, придуманных ее мужем. А если бы смогла, как бы пригодилась ей категория «заботы» (Sorge)! Ее жизнь, ее бытие и ее время были, как кругом, фундаментально очерчены именно заботой и заботами.
Хайдеггер тоже неустанно трудился. Это был, в основном, труд мысли. Он пока очень мало зарабатывал. Не обеспечивая семью, Мартин принимал как должное и то, что все конкретные «мужские» дела Эльфрида тоже брала на себя. Нет сомнения: к моменту, когда для него впервые наметились возможности сносного заработка и более прочного положения экстраординарного профессора в Марбурге, Хайдеггер не мог не испытывать по отношению к жене глубокой благодарности за ее самоотверженность и (несмотря ни на что) неизменную любовь. Что он подтверждает, например, в примечательном письме от 26.01.1922 года.
Тут он снова заводит речь о философии: о том, какие амбициозные, поистине исторически-значимые цели коренного преобразования философии он должен ставить перед собой; о том, что следует их решительно выполнять, ни на шаг не отклоняясь, что называется, ни вправо, ни влево. Что им владеет сознание «служения» (Dienstbarkeit) именно этим высоким целям; что он чувствует себя в философии одиноким — и не из-за некоего «сознания избранности», а просто в силу фактической невозможности в его новаторском деле получить помощь от кого бы то ни было; что выполнение исторических философских задач сопряжено с жертвами — ибо от задач этих нет ни освобождения, ни отдыха.
«И потому, — обращается Хайдеггер к Эльфриде, — в такой ситуации я всего сильнее чувствую твою любовь...» (Ibidem. S. 120). (Правда, дальше идет что-то не совсем понятное постороннему наблюдателю, но конкретно и ситуационно известное им обоим — о твердости, жесткости, Härte, Эльфриды, от которой-де страдает она сама).
Но главное ведь сказано. И сказано справедливо, прозорливо, пред- сказующе, как бы наперед — пусть Хайдеггер еще не знал о будущем испытании любовью-страстью к другой женщине. Однако между Мартином и Эльфридой тоже была любовь. Обобщая, можно в духе философии Хайдеггера утверждать: то был специфический модус, «экзистен- циал» любви — была любовь, настоящая любовь к женщине, подарившей ему не только физическую, сексуальную близость. А к женщине, говоря теперь обобщенно, взявшей на себя и женские, и мужские роли, роли жены-матери и матери двоих детей, потом замечательно выполнявшей их в необычайно тяжелое время материальных бедствий, бытовых
испытаний, которые обрушились на долю мыслителя, — унижений от безработицы, непризнанности. Время показало, что такая любовь оказалась способной выдержать и многие последующие проверки.
71
Последние страницы романа Мартина Хайдеггера и Ханны Арендт
После зимних каникул 1925 года, вернувшись в Марбург, Мартин и Ханна возобновили общение и переписку. В письмах еще из Тодтнаубер- га Хайдеггер рассказывает о своей увлеченности, даже одержимости работой, дает советы, как Ханне лучше готовиться к семинару у Р. Бульт- манна. Сам Хайдеггер как раз в это время пишет «Бытие и время», готовит книгу к публикации. Ханне показалось — и по сути она была права, — что Мартин все больше отчуждается от нее, с головой уходит в работу, что любимый забывает о ней. Он был «у себя дома» — там, в хижине, среди такого родного, близкого сердцу шварцвальдского ландшафта. О чем просто и доверительно писал ей: здесь чудесно медитировать, когда бродишь между елей... Он знает здесь каждую тропинку, каждый родник; ели, окружающие хижину, — давние «соседи».
Ханна готова всему поверить и все понять. Ведь в круге ее друзей принято бродить по немецкой земле, которую они, родившиеся на ней, по праву считают своей родиной. Но не менее важен другой факт: Ханне Арендт нет места в Тодтнауберге, рядом с любимым... И всякий раз, когда он поэтически пишет или говорит ей об окружающих его красотах Шварцвальда и о вдохновенном труде, у нее есть все основания ни на минуту не забывать: там он со своей семьей и со своей работой. Правда, в письмах к Ханне Мартин не забывает добавлять, что и вдалеке от нее, среди зеленых лугов или заснеженных склонов Шварцвальда, он вспоминает об их любви, о пережитой ими «буре ». Но она, как можно заключить из ответного письма Хайдеггера, пишет Мартину: ты меня забыл...
В ответ он отправляет письмо, в сущности, выплескивая свое накопившееся раздражение. «Я забыл тебя — но не из-за равнодушия, не потому, что вклинились какие-то внешние события, но забыл тебя потому, что должен был и еще буду это делать, коль скоро зачастую выбирался на путь работы, требующей сконцентрированности на ней. Это не вопрос часов и дней, но [именно] процесс, который подготовляется неделями и месяцами, а потом снова умолкает. И этот отход (Weg-Kommen) от всего человеческого и прерывание всех отношений является, перед лицом творчества, самым грандиозным среди всего, что я знаю в человеческом опыте. Однако перед лицом конкретных ситуаций то же отчуждение человека в полном сознании является самым проклятым, с чем можно встретиться. И сердце как бы вырывают из груди. Что самое тяжелое — такую изолированность нельзя извинить ссылкой на то, что именно она приносит в результате, ибо ведь для этого нет никакого мерила. Нет и потому, что совсем не просто рассчитать, как это соотносится с отказом от человеческих отношений»1.
Раздражение Хайдеггера опять-таки проистекает и прорывается из- за той асимметрии ролей, о которой в другой связи говорилось раньше.
М. Я. / Я. А. Briefe. S. 54.
Часть I. (лава 3. Мартин и Эльфрида. Конец романа Мартина и Ханны
Н.в. Мотрошилова ЩИ Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-времп-любовь
72
Мартин глубоко и искренне любит Ханну, увлечен ею. Он не может не ценить — кроме силы ее любви — также и оригинальный ум, ее увлеченность философией. Кстати, именно внутренняя, содержательная погруженность в философские, да и вообще интеллектуальные размышления и сюжеты — именно то, чего он сначала ждал, а потом перестал ожидать от своей жены. А в Ханне Арендт он все это нашел и, скорее всего, оценил достаточно высоко. Но и здесь была своя несимметричность. Она на той исторической фазе выражалась главным образом вот в чем. О будущем Ханны Арендт, в студенческие годы, понятное дело, не нашедшей ни своих тем, лишь впоследствии, через годы определившихся, ни оригинальных идей, способов мысли, Хайдеггер, как отмечалось и раньше, даже не догадывался. (Это убедительно подтверждают и послевоенные письма Ханны.) Ни Мартину, ни Ханне не приходило на ум, что и ей, а не одному ему, Хайдеггеру, будет объективно, как бы самой историей, вверена видная роль, своего рода миссия в духовно-ценностном творчестве. Меньше всего, кажется, помышляла о своем призвании скромная (хотя в душе своей, возможно, уже и амбициозная) студентка. В отличие от нее, Хайдеггер, пусть он еще ничего заметного не сделал, уже в первой половине 20-х годов XX века был полон сознания своей преобразующей философской миссии.
Чтобы выполнить ее, в чем он был глубоко убежден, надо полностью погрузиться в философский труд, особенно в выпадавшие месяцы, часы почти отрешенных вдохновений. Надобно было также хотя бы на время, но по возможности радикально «изолироваться» от человеческих отношений, особенно от их тревог и неприятных контекстов. И чем глубже, тревожнее такие отношения становились, тем настоятельнее требовалось — во имя работы, во имя призвания — «отрешаться» от них! Хайдеггер считал это не только своим правом, но привилегией, даже обязанностью, вытекавшей из «призванности», в сущности, исторической. Потому Хайдеггер и был раздражен «непониманием», «нечуткостью» своей возлюбленной — она-то, полагал он, должна бы осознать или провидеть его избранность, уважать и ставить на первый план не свои настроения и опасения, а его миссию! И возможно, про себя он думал о том, что Эль- фрида как раз справляется (несмотря на размолвки и серьезные кризисы) с экзистенциальной ролью «быть-при-великом-человеке»...
Ханна между тем глубоко страдала от всего: от «теневого» существования, от разрушения, угрожающего личности, от уязвленной гордости, от невозможности просто, спокойно жить и работать, любить открыто. И она, конечно, уже ощущала раздражение любимого мужчины, сердцем понимала, что он начал тяготиться напряженными, изматывающими и его «конспиративными» любовными отношениями. Ханна решила, что первый шаг к разрыву сделает она сама, объявив Мартину, что собирается покинуть Марбург. Возможно, в глубине души она надеялась, что Хайдеггер воспротивится этому. Однако Мартину такое решение тоже показалось разумным, тем более что он все же крепко надеялся на продолжение романа — где-то вне Марбурга, по-прежнему конспиративно, в строгой тайне от всех. Ему, видимо, казалось, что он очень прочно привязал к себе Ханну. Но случилось иначе.
«В конце зимнего семестра 1925/26 года, — пишет Антониа Грунен- берг, — Ханна стала паковать свои вещи. Началось время неопределенности. Если судить по письмам, она отмалчивалась, очевидно, желая соблюдать установленную им дистанцию между ними. Полгода она позволяла себе разве что передавать ему приветы — вероятно, через общего друга Ханса Йонаса. Получая приветы, он, осчастливленный, отвечал с облегчением, признавался, что скучает о ней. Что хочет видеть ее. Встреч, однако, не последовало. Он ищет ее и во время своего визита в Гейдельберг в октябре 1927 года. Не встретив Ханну, он все же нападает на ее след. Спрашивает о ней у Ясперса, ничего не говоря ему о своих отношениях с Ханной. Ясперс рассказывает Хайдеггеру, что X. Арендт помолвлена» (А. СгипепЬег%. Ор. ск. Б. 109).
Мартин посылает Ханне письмо прощания — с благодарностью за любовь-подарок.
X. Арендт в Гейдельберге
Чтобы понять, почему Хайдеггер искал Ханну в Гейдельберге, притом через Ясперса, надо знать, что произошло с нею после принятого ею труднейшего, если не отчаянного решения положить конец роману.
Дело в том, что именно Хайдеггер, с облечением приняв решение Ханны покинуть Марбург, но, как сказано, все же надеясь на какое-то продолжение отношений, готов был просить Гуссерля принять под свое крыло бывшую ученицу. Но поскольку у Ханны была возможность выбора философского наставника вне Марбурга, она предпочла Карла Ясперса. (Зная о специфике ее позднее развернувшегося таланта, нельзя не подивиться прозорливости решения, принятого молодой женщиной.) Хайдеггер обратился к Ясперсу, тогда уже известному философу, с которым он подружился, с просьбой стать, как у нас выражаются, научным руководителем диссертации Ханны. (Об особых отношениях с нею Мартин и тут не проронил ни слова.)
Ясперс согласился; Ханна Арендт поселилась в Гейдельберге, познакомилась с Ясперсом и его замечательной женой. Так началось общение двух видных мыслителей XX века, впоследствии переросшее в их прочную, яркую, многолетнюю дружбу. (О ней далее не раз пойдет речь.)
В Гейдельберге Ханна Арендт слушала философские лекции Ясперса, у других профессоров университета изучала классическую филологию, теологию и другие дисциплины. Зимний семестр 1926/27 года она, правда, провела во Фрайбурге, у Гуссерля, но потом опять вернулась в Гейдельберг к Ясперсу. И снова занялась своей диссертацией. В свете того, что мы знаем о марбургском романе, вполне объяснима тема, выбранная Ханной — «Понятие любви у Августина. Философская интерпретация». Эта тема в разных смыслах и отношениях отсылает нас к Хайдеггеру, духовно возвращает в Марбург. Ведь Августин с молодости и на всю жизнь остался одним из любимых авторов Мартина Хайдеггера. Что до избрания Ханной в качестве темы исследования именно «понятия любви», притом в философском аспекте, то здесь еще одна «отсылка » к ее пережитой, однако не изжитой любви к Хайдеггеру. Диссертацию X. Арендт представила Ясперсу в летнем семестре 1928 года, написав в Заключении: «Моим учителям, господину профессору Яс-
Часть I. (лава 3. Мартин и Эльфрида. Конец романа Мартина и Ханны
Ц.В..Мотрошилоеа НШй Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
74
персу и господину профессору Хайдеггеру, я хотела бы выразить здесь свою благодарность».
К. Ясперс, при всем доброжелательном отношении к ученице Хайдеггера, не пришел в восторг от ее диссертационного сочинения. Правда, он заметил и отметил серьезность подходов двадцатилетней женщины, но в письме к Хайдеггеру выразил и свое разочарование: «Работа в целом получилась не такой блестящей, как можно было ожидать после ее первой части, но в философском отношении она хороша... Работа превосходна как действительное подтверждение того, чему она методически научилась у Вас; в подлинности ее причастности к проблеме нельзя сомневаться»1. Ясперс, пусть и не знавший об отношениях своего друга и Ханны Арендт, с присущей ему проницательностью распознал, что главное в диссертации молодой женщины — философские знания, во многом почерпнутые благодаря Хайдеггеру, а также внутренняя «причастность» (Beteiligung) проблеме, теме любви. Что-то «подлинное» он тоже почувствовал, разглядел.
В моей книге поневоле ограниченного объема не имеет смысла специально разбирать проблемы, особенности, достоинства и недостатки диссертации Ханны Арендт, тем более что учение Августина — не моя узкая специальность в философии. Но можно поверить специалистам, не считающим эту работу достойной особого внимания, которое выходило бы за рамки биографии впоследствии прославившейся исследовательницы. Причины разочарования Ясперса, ожидавшего, вместе с тем, блестящей, незаурядной работы, понятны. В свете того, что мы ретроспективно знаем о Ханне Арендт, становится ясным прежде всего следующее.
Главное ведь состояло в том, что и Августин, и экзистенциальная история философии а 1а Хайдеггер — все это, несмотря на «приобщенность» к ним, не было собственным исследовательским полем Ханны Арендт. Правда, каково оно, ее собственное поле, никто не знал — и пока не знала прежде всего она сама. Обучение у Хайдеггера, как выяснилось впоследствии, сослужило свою службу. Но находить «свое поле», как показала история, ей пришлось как раз в противостоянии Хайдеггеру, а одновременно в прекрасном взаимопонимании с Ясперсом. В личном плане Ханне надо было если не полностью избавиться от любви (чего Ханна не смогла сделать до конца жизни), то приглушить ее, найти возможность жить без Хайдеггера и вдали от него.
X. Арендт, по-прежнему окруженная преданными поклонниками, проводит с ними время, принимая их ухаживания; она пытается избавиться от наваждения любви. Когда Ясперс сообщал Хайдеггеру о помолвке Ханны, он имел в виду (как оказалось, ошибочно) отношения с бегло упоминавшимся ранее Бенно фон Визе. На самом деле Ханна больше сблизилась с Гюнтером Штерном, который несколько позже, в 1929 году, стал ее первым мужем (см. вклейку, фото 4). Гюнтер происходил из почтенной семьи ученых-исследователей, которые приобрели широкую известность благодаря трудам по детской психологии — еще и сегодня эти исследования считаются классическими (см.: А. Grunenberg.
1 М. Heidegger, К. Jaspers. Briefwechsel. 1920-1963. Fr. а/М.; München; Zürich. Vittorio Klostermann. Piper, 1990. S. 121-122.
Op. cit. S. 424). Собственные же попытки Гюнтера защитить диссертацию, обрести прочное место в «академических» структурах (что в Германии означает просто интеллектуальные занятия, в данном случае в сферах общественных наук, в немецкой терминологии — Geisteswissenschaften) неизменно оканчивались неудачей.
Работы не было. Семья жила на деньги Ханны, получившей ученую степень. В конце концов молодая пара, глубоко разочарованная тогдашними университетскими возможностями, избрала нелегкий удел «свободных интеллектуалов» (Freelancer). Ханна же не прекращала своих размышлений, изысканий, которые между тем становились все более социально ориентированными и все более тревожными.
Начало 30-х годов, о чем можно прочитать во многих книгах о Хайдеггере (включая мою прилагаемую Биографию), было временем вызревания, а потом мощного наступления нацистских идей, объединения их носителей в национал-социалистические организации, зародившиеся в Германии еще в 20-х годах XX века. Надо учесть, что у нацистских идей и сообществ была и более ранняя предыстория. Интегральным элементом «коричневой» идеологии с самого начала был антисемитизм. Понятно, что Ханну и ее друзей-евреев — а их было немало и в молодежных группах, собравшихся вокруг Хайдеггера, — именно «кровно» затрагивал все более обострявшийся «еврейский вопрос». Несколько слов о нем.
Едва ли не центральной чертой воинствующей национал-социалистической идеологии, а потом и практики нацизма на государственном уровне, стал антисемитизм.
Вспомним о ранее сделанном замечании: «еврейский вопрос» во время романа немца Мартина Хайдеггера и еврейки Ханны Арендт вряд ли играл сколько-нибудь существенную роль. Как не имел он значения в дружбе Хайдеггера с Карлом Ясперсом, чья горячо любимая, преданная жена Гертруд была еврейкой. Впрочем, есть и другие толкования проблемы. (Подробнее об этом — в моей Биографии Хайдеггера.) Поистине удивительное признание делает Гертруд Хайдеггер в своих комментариях к изданной ею, неоднократно цитированной ранее книге писем ее деда к бабушке Эльфриде. Внучка констатирует: «Мартин пишет (18 октября 1917 года): „Оевреивание (die Verjudung) нашей культуры и университетов во всяком случае действует ужасающе, и я думаю, что немецкая раса еще должна в полной мере собрать свои внутренние силы, чтобы подняться ввысь. По крайней мере это касается капитала!” Эль- фрида на протяжении всей своей жизни демонстрировала антисемитские установки, которые, однако, не оказывали никакого влияния на ее дружеские связи» («Mein liebes Seelchen!». S. 51).
До 1933 года подобные расхождения между чьими-то антисемитскими идейными «установками» (Einstellungen) и повседневными, обычными отношениями любви или дружбы еще не оказывали сколько-нибудь сильного влияния на жизнь Германии. Бытовой антисемитизм не считалось приличным проявлять открыто. Иначе роман, которому посвящено наше повествование, вообще не стал бы возможным. А вот с годами быстро обрастал новыми слоями снежный ком нарастающего антисемитизма. К этой проблеме мы вернемся впоследствии, когда ста-
75
Чость I. Глава 3. Мартин и Эльфрида. Конец романа Мартина и Ханны
н.р. Мотрошилоео Мм Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-врелля-любовь
76
нем прослеживать судьбы наших героев после труднейшего для них, но неизбежного расставания.
А теперь нам предстоит вникнуть в то ярчайшее, центральное духовно-философское событие, в коем весьма своеобразно, но и несомненно запечатлелось влияние вдохновенной взаимной любви наших героев. Таким событием, что отмечалось ранее, стало написание М. Хайдеггером, а потом и опубликование «Бытия и времени». Это главное сочинение выдающегося философа и одновременно, как думают некоторые современники, философская «книга книг» XX века. О ней написаны горы произведений — монографий, статей, коллективных работ, поток которых вряд ли иссякнет или уменьшится в ближайшем будущем. Однако теме, под углом зрения которой «Бытие и время» будет нами анализироваться в следующей главе, посвящено относительно мало исследований.
ГЛАВА 4
«Бытие и время» Хайдеггере и событие Любви
Принимаясь за расшифровку заявленной проблемы, сознаю всю ответственность, которую должен взять на себя исследователь, обязанный считаться и с сегодняшней слабой разработанностью темы, и с прямо- таки подавляющей трудностью, изощренностью материала, и с особыми сложностями его презентации для российского читателя.
Хочу честно предупредить читателей: эта глава принадлежит к числу наиболее сложных для тех, кто не имеет опыта погружения в тонкие ходы философских построений вообще, тем более причудливых хайдег- геровских конструкций. Но не проникнуть в специальную проблематику «Бытия и времени» — книги, которая для наших героев стала главным философским событием, не просто одновременным их любви, но образующим ее содержательную сердцевину — значит, по моему мнению, упустить главное во всей этой захватывающей истории.
Теперь по порядку об основных затруднениях исследования объявленной темы.
1. Освоение проблемы в специальной литературе таково, что в биографических сочинениях — при нередких романтических напоминаниях: Ханна Арендт стала «музой „Бытия и времени”» — содержательного раскрытия броского утверждения дано не было, и оно в основном осталось красивой формулой. Примерно то же можно сказать о более тщательном сравнительном анализе наследия Хайдеггера и зрелого творчества его бывшей марбургской ученицы: только начавшиеся на исходе XX века серьезные исследования еще не заменили собой бытующие поверхностные сопоставления1.
2. Тема столь трудна, что результатам своего исследования, притом касающегося совокупности конкретных вопросов, могу придать разве лишь форму гипотезы, значение которой, опираясь на музыкальные ассоциации, возможно уподобить прорыву одной, а именно лирико- драматической мелодии в поистине симфоническое многотемье хайдег- геровского философствования вообще, «Бытия и времени » в частности и в особенности.
Попытаюсь осуществить в данной главе своего рода мыслительный эксперимент, в котором будут — по возможности — на время «отмысле- ны», как бы подвергнуты операции еросЬё последующие работы, размышления, расхождения жизненных путей обоих героев. Предложу представить себе миры жизни и сознания Мартина и Ханны прежде всего и именно в тот период, когда рождалось и было создано «Бытие и время». Будет
1 Правда, в этом отношении уже есть на что опереться. Например, имеется блестящая работа известного французского автора Жака Таминьо «Фракийская девушка и профессиональный философ: Арендт и Хайдеггер», к которой впоследствии буду обращаться. См.: Jacques Taminiaux. La fille de Thrace et le penseur professionell: Arendt et Heidegger. P., 1992. Ссылаться буду на английский перевод этой книги: The thracian maid and the Professional thinker: Arendt and Heidegger. State University of New York Press. Albany, 1997.
78
i
>00
X
поставлен такой вопрос: в каких моментах, а может, и целых экзистенциа- лах хайдеггеровской экзистенциальной симфонии можно услышать отзвуки «события Любви », их любви, их общения, а также объединивших их впечатлений, переживаний, судьбинных раздумий, тревог, страхов, забот, пробужденных и любовью, и предгрозовым историческим временем.
3. Пусть я и пишу эту книгу в расчете не только, даже не столько на специалистов-хайдеггероведов, но имея в виду прежде всего интересующихся нашими сюжетами широкий круг читателей, все-таки приходится сказать о таком специальном вопросе, как российские трудности, связанные с пониманием и переводом «Бытия и времени». Хочу сразу предупредить, что при обращении к текстам «Бытия и времени » не могу (по разным причинам) пользоваться лишь тем переводом этого сочинения, который был выполнен В.В. Бибихиным, выдающимся мыслителем и переводчиком нашей страны (издан его перевод в 1997 году в издательстве Ad marginem). Других полных переводов книги, которые можно было бы порекомендовать для широкого пользования, пока не появилось.
В данной главе, посвященной, в частности, и конкретным текстам «Бытия и времени», приходится пойти вот по какому пути. Рассказывая и размышляя об этой книге, буду перелагать, интерпретировать ее соответственно своему пониманию и переводу главных терминов, принципиально важных частей текста. В отдельных случаях воспользуюсь теми отрывками из переводов Бибихина, в которых не затемняется — соответственно моему, конечно, толкованию — суть дела. (При этом никак не могу специально вдаваться во всю конкретику проблем предельно «авторизированного» перевода Бибихина; такой вариант, несомненно, имеет право на существование — но другие хайдеггероведы имеют право им не пользоваться или пользоваться лишь выборочно. Упоминать об отдельных моментах стану уже по ходу рассмотрения «Бытия и времени».)
4. Есть еще одна трудность — она касается профессиональных истолкований этого выдающегося, и очень трудного, специального философского сочинения. В популярной работе бессмысленно отсылать читателей к другим интерпретациям. На русском языке к тому же имеется совсем немного выполненных профессионально презентаций этого изощренного произведения1. Поэтому мне придется (правда, только выборочно) истолковывать его как бы вновь, имея в виду интеллигентного, но не узкопрофессионального читателя, избегая — в дополнение к исходно-хайдеггеровским содержательным и лингвистическим сложностям — нагромождать еще и собственные проблемные или стилистические усложнения. Главный акцент хочу сделать на то, чтобы интерпретация была максимально понятна и адекватна сути текста Хайдеггера. Вполне ясно, сколь трудна эта задача.
Сочинение Хайдеггера кок философской книга
0 Бытии
С самого начала и до конца работы — о чем красноречиво, убедительно свидетельствует и первое слово заголовка: Sein (бытие) — фи¬
1 Могу порекомендовать работы И.А. Михайлова о раннем Хайдеггере — в частности, его краткую статью о «Бытии и времени» в «Новой философской энциклопедии» (М.: Мысль, 2000. Т. I. С. 345-347).
лософия мыслится Хайдеггером прежде всего и по преимуществу как учение о бытии. Соответственно книга Хайдеггера открывается Введением, где обсуждается сама необходимость анализа «Вопроса о бытии», исследуется структура этого последнего и доказывается его приоритет в рамках философии.
Вопрос о бытии Хайдеггер, и тоже с самого начала, ставит так, что ответ на него сопрягается с «возобновлением» — и, как обнаруживается по мере философского повествования, с критической «деконструкцией» (в кавычках — термины самого Хайдеггера) — тех «разысканий» относительно бытия, которые были предприняты греками, особенно Платоном и Аристотелем, и которые в силу их парадигмальной значимости продержались, считает автор «Бытия и времени», вплоть до «Науки логики» Гегеля. Напоминать здесь о пронизанности всего творчества Хайдеггера теоретическими, культурными лучами, идущими от греков, излишне: в хайдеггероведении тема изучена вдоль и поперек.
А вот о том, что значили эти лучи в творчестве Ханны Арендт, сказать очень важно. Когда Ханна читала в «Бытии и времени» эти и подобные отсылающие к грекам пассажи, то они, скорее всего, сливались в ее сознании со всеми теми лекциями (и примыкающими разработками), которые Хайдеггер читал в Марбурге, в том числе в ее присутствии. Хочу напомнить также, что все такие сюжеты, отсылки к древним авторам многое говорили Ханне, потому что она не меньше Хайдеггера и подобно некоторым другим его ученикам (не забудем о Гадамере!) была погружена в мир греческой древности. Ханна Арендт и в будущем, когда она станет создавать многие свои прославившие ее работы, будет «возвращаться» мыслью в греческий мир, так прочно внедрившийся в ее сознание и ее душу. (Впоследствии, скажем, при анализе ее великолепного сочинения «Human Condition» — в немецком варианте это «Vita activa» — мы подтвердим, сколь редкостными были ее знание и понимание греческих реалий жизни и духа, культуры древней Греции, включая и философию. А также вникнем в принципиально важный вопрос о том, что в своих зрелых произведениях Ханна Арендт в существенной степени «имела в виду» «Бытие и время», даже и не ссылаясь на эту хайдегге- ровскую работу.)
То обстоятельство, что ранний Хайдеггер начинал с возведения к грекам, особенно к Платону и Аристотелю, своей вновь создаваемой философии бытия, вряд ли могло показаться неожиданным или вызвать какие-либо возражения, тем более у таких студентов, как Ханна Арендт или Г.-Г. Гадамер, не мысливших, как сказано, и своих занятий без «возврата» к грекам. Другой вопрос — как учитель это сделал. Уже после Второй мировой войны, разбирая замысел «фундаментальной онтологии» и его исполнение Хайдеггером, Ханна Арендт (мы эту тематику проанализируем впоследствии) не просто сделает целый ряд здравых замечаний, но и предложит свой оригинальный, принципиально иной, чем у Хайдеггера, ответ на потребность времени в новой теоретической трактовке Бытия. Однако это будет десятилетиями позже. А сначала ее, как и других студентов, вдохновляло то, что древняя, как сама философия, традиция мыслить о бытии (является ли она уже в древности «онтологической» или, как полагаю я, «до-онтологической» — иной во-
79
Часть I. (лава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
80
D
«
8.
о
S
•СО
прос) рассматривалась Хайдеггером захватывающе-жизненно, в осовременивающем ключе. Уже говорилось: на лекциях студенты, в сущности, не замечали того, что речь шла о древних, давным-давно оставленных в прошлом идеях и учениях. История — голосом и речью Хайдеггера — говорила с ними и о них, «сегодняшних».
Понятие немецкого оригинала «das Sein» (правильно и беспроблемно переводимое и у Бибихина словом «бытие») блестяще, оригинально осмысливалось у Хайдеггера в его сложной, многомерной структуре и фундаментальной значимости для философии. Что тоже вряд ли могло вызывать трудности и недоуменные вопросы, поскольку в целом отвечало вековым философским традициям. (К тому же и в тогдашней Германии с ее блестящим антиковедением тут было у кого и чему научиться.) Сопутствующие немецкоязычные понятия — сущее (Seiende), существование (Existenz), также произведенные от стародавних античных философских терминов, — сначала вряд ли возвещали о сугубой необычности хайдеггеровских бытийных экспозиций. И все же сложности и вопросы для слушателей марбургских лекций, а затем и читателей «Бытия и времени» (впоследствии — для переводчиков произведения на многие языки) начались довольно быстро — когда Хайдеггер, уже на десятых страницах книги, стал вводить в свой анализ, весьма необычно эксплицировать суть и значимость понятия «Dasein» как для философии вообще, так и для ее нового понятийного и дисциплинарного основания, именуемого у Хайдеггера «фундаментальной онтологией». Совершенно специфический, порой причудливый вид приняла «аналитика Dasein», это хайдеггеровское философско-онтологическое новшество.
«Dosein»: суть хойдеггеровского понятия и трудности его толкования
«Dasein» в первые десятилетия XX века было не полностью новым, хотя в историческом смысле оставалось и относительно «молодым» понятием. Во всяком случае, его именно как новшество употреблял уже Кант в «Критике чистого разума», наряду с ним используя и понятие «Sein», и более старое по корневому смыслу слово «Existenz», произведенное от латинского existentia. А.Г. Черняков, наш замечательный — увы, рано ушедший из жизни — философ не без оснований полагал, что для Канта немецкое «Dasein» и латинизированное «Existenz» были полными синонимами* 1. Это отчасти верно, однако сам факт употребления Кантом новомодного в его время термина «Dasein» важен, хотя бы для историко-философской перспективы, в которую потом и вписался Хайдеггер2. Гегель же, заимствовав термин «Dasein», использовал его как обособившееся, специфическое наименование, вводимое — в качестве скромного звена — в целую цепь бытийных понятий, которыми он открывал первый большой раздел «Науки логики», а именно «Учение о бытии».
1 А. Черняков. Послесловие переводчика // Мартин Хайдеггер. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001. Высшая религиозно-философская школа. С. 444.
1 См. по этому вопросу: Н.В. Мотрогиилова. Предисловие // Иммануил Кант.
Сочинения на немецком и русском языках. Под редакцией Н. Мотрошиловой и Б. Тушлинга. М., 1994. Т. I. С. 70—71.
И вот по отношению к этим традициям немецкой классической мысли Хайдеггер осуществляет поистине кардинальное преобразование. Dasein становится не «одним из понятий» онтологии и философии, чему-то другому тождественным, а их поистине фундаментальным теоретико-понятийным основанием. Для чего Хайдеггеру потребовалось оригинально придать этому некогда едва ли заметному теоретическому новичку нововременной философии универсализирующие функции, насытив его весьма сложным, комплексным содержанием. Опираясь на текст Хайдеггера, сделаю попытку кратко очертить это синтезирующее содержание, вкладываемое именно им в понятие «Dasein», а потом поразмышлять над тем, как трудная для понимания, казалось бы, сугубо абстрактная и изощренная «аналитика Dasein» могла затянуть в себя смысложизненные переживания героев нашей драмы, Ханны Арендт и самого Мартина Хайдеггера.
Сначала приходится объяснить, почему трудно сполна воспользоваться (и не только в пределах нашего исследования) переводом В. Биби- хина. Прежде всего: коренное для всего текста понятие «Dasein» он счел необходимым перевести русским словом «присутствие». В таком переводе «Dasein» видятся (по крайней мере) пять существенных изъянов.
Во-первых, слово «присутствие» в русском языке имеет различные побочные смыслы, если брать и те значения, которые сложились исторически, традиционно. Важнее, во-вторых, то, что момент «присутствия — здесь, тут, вот, сейчас», обозначаемый в немецком термине частицей «Da-», будучи существенным, все же не единственно-существенный, на мой взгляд, в обсуждаемом термине. В-третьих, в переводе Бибихина остается непереведенной, неучтенной коренная содержательная часть слова, а именно «-sein», т. е. как раз «бытие». И вот она-то исчезает, в этом переводе оказывается полностью элиминированной! В-четвертых, как следствие, пропадает тот смысл, что слово Dasein объединяет, синтезирует обе части: Da- и -sein, в чем ведь и состоит его главная смысловая функция — подчеркивать присутствие здесь, вот-здесь и вот-сейчас, а одновременно именно бытие, бытийственность. А способами перевода искусственно созданное элиминирование такого синтезирования представляется совершенно недопустимыми применительно к произведению, задуманному как новое, фундаментальное учение о бытии.
В-пятых, элиминирование «-sein» у Бибихина влечет за собой весьма неудачное продолжение применительно к словам, производным от «Dasein». Пример — слово «daseinsmäßig», переводимое Бибихиным совсем уже неудобоваримо, а именно словом «присутствиеразмерное». Специалистам понятно, что решения В. Бибихина — все что угодно, только не произвол переводчика. Он натолкнулся (подобно переводчикам других языков мира) на колоссальные трудности и неудачи в деле адекватной передачи термина «Dasein» на наш язык. Например, в переводах гегелевских текстов его передавали двумя словами — «наличное бытие», к чему привыкли, но что вряд ли можно счесть удачным решением.
В наше время некоторые авторы, и не только в России (ибо и в других языках перевод «Dasein» несет с собой аналогичные трудности) пошли по пути, далеко не оптимальному: они предложили сохранять термин
81
Часть I. Глава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
H.Q. Мотрошилово ЖрИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: быгие-время-любоеь
82
«Dasein» в его оригинальном немецком написании1. (При том что оба решения неоптимальны, из «двух зол» большим правомерно счесть элиминацию бытийных составляющих и подмену их словом «присутствие».) Хорошо сознавая все недостатки такого решения, и я в работах о Хайдеггере в случае употребления «Dasein» оставляю и в русском тексте его оригинальное немецкое написание, не предлагая его перевода.
Но если и не переводить Dasein, то как раз в силу его многозначности, прежде всего бытийной нагруженности, совершенно необходимо предварительно (или в качестве комментария к переводу) высветить хотя бы основные грани смысла, оригинально присваемые понятию «Dasein» у Хайдеггера, и конкретно — в «Бытии и времени».
Итак, в чем смысл понятия «Dasein» у Хайдеггера?
• Прежде всего, упомянутая частица «Da-» (что своим переводом и акцентировал Бибихин) маркирует момент «наличия», в самом деле, «присутствия» сущего как неотъемлемый именно от человеческого бытия, для него специфический, потому что в нем, и только в нем, осознаваемый.
• В хайдеггероведческой литературе стало общим местом то, что «Dasein» — в понимании Хайдеггера — должно было сразу, изначально, как бы заведомо переместить опору всей онтологии с некоего «бытия как такового» (нем. Sein) на человеческое бытие. (Содержание и смысл этого шага хорошо освещены в специальной литературе.) Отсюда методическое правило: когда мы встречаем в «Бытии и времени», а также и в других работах Хайдеггера термин «Dasein», то сразу должны читать и понимать его как обозначение бытия человека, человеческого бытия, что будет явствовать и из дальнейших более конкретных разъяснений автора «Бытия и времени», а также расшифровываться нами с точки зрения структуры, смысла, содержания, специфики данного понятия. Отдельные моменты, уже отмеченные или отмечаемые далее, будут играть в этой единой структуре подчиненную, а не самодовлеющую роль. Надо учесть, что отнесенность «Dasein» именно к человеку как «особому сущему» действительно является очень важной и исходной характеристикой, но далеко не единственной и к тому же еще требующей расшифровки. Далее и дается такая расшифровка, по необходимости краткая.
• «Dasein» как обозначение особого, а именно человеческого бытия — и благодаря «присутствию», «наличию» здесь, вот (Da-), и благодаря другим свойствам — тесно связано с тем содержанием, которое Хайдеггер вкладывает в традиционное слово «Existentia». Сущность «Dasein», согласно формуле Хайдеггера, и лежит в его экзистенции. В данном случае (в § 4 Введения) речь, собственно, идет о целом ряде характеристик, присущих именно «Dasein» как человеческому бытию: последнее «понимает себя всегда исходя из своей экзистенции», т. е., как разъясняет далее Хайдеггер, из возможности быть или не быть «самим
1 В нашей стране такой путь в последнее время избрали некоторые авторы, известные знатоки хайдеггеровской философии (например, П.П. Гайденко). Сошлюсь также на А.Г. Чернякова, блистательного хайдеггероведа и переводчика. Его доводы в пользу такого решения см.: А. Черняков, цит. произв. С. 443-444.
собой*. Это точное, определенное содержание и Dasein, и Existentia у Хайдеггера далеко не всегда принимается во внимание.
• Dasein также обозначает, согласно Хайдеггеру, такое уникальное свойство человеческого бытия, как способность «быть-в-мире», но главное — вопрошать о бытии, прежде всего об экзистенциале «быть-в», а также о чем-то подобном миру, о понимании его. Вот почему в изображении и теоретизировании Хайдеггера понимание мира и его бытия всегда «соразмерно Dasein», ибо изначально опирается исключительно на «Dasein». Так в анализ «Бытия и времени» включается трансценден- талистская линия, идущая от Канта и сразу же перетолковываемая в духе и соответственно целям новой онтологии1.
Собственно, здесь — уже применительно к проблеме бытия — расшифровывается то, что В. Соловьев еще раньше, опираясь на толкование соответствующих особенностей философии Декарта и Канта, назвал «трансцендентальным фактом». А именно, фактом (почти тавтологией) является то, что для человека нет иного «бытия», кроме того, которое «устанавливается» сознанием и через само сознание, в свою очередь вплетенном в человеческое бытие, т. е., в терминологии Хайдеггера, на основе «Dasein» и через него, благодаря ему. Если мир вне и без человека тоже «бытийствует» — по крайней мере в том смысле, что он есть, имеется «здесь», «теперь» или «там», потом, — то «оно», такое бытие мира и его вещных индивидуаций, не «знает» об этом, вообще не вопрошает о бытии, не мыслит о нем. Поэтому-то Хайдеггер не приемлет тех учений о бытии, которые как бы «онтологизируют», делают самой «реальностью», отделенной от человека, абстрактное философское понятие «бытия», как бы непосредственно превращенное в самое общее свойство мира. Все размышления и критические доводы такого рода спрессованы в разных текстах Хайдеггера, в которых он дает многомерный анализ философских традиций, утверждая, с одной стороны, что философия всегда была учением о бытии, именно онтологией, а с другой стороны, упрекая всю, по сути, философию до него в «забвении бытия »(!)2.
• Из всего этого комплекса исследований проистекают сложнейшие идеи «Бытия и времени». Это анализ того, как преимущества «Dasein» могут и должны быть «открыты», прояснены с позиций многовековых и новых онтологических традиций философии, с одной стороны, и «непосредственного» (реально «опрашиваемого») «Dasein», с другой стороны. И в том, и в другом случае преимущества переплетены с трудностями и недостатками. «Dasein, правда, не только онтически близко нам — мы сами даже суть Dasein». Но это ясно все же главным образом «онтически», т. е. — в терминологии Хайдеггера — в смысле объективно-непосредственной бытийности. «Онтологически» же, т. е. в смысле способности теоретически осмысливать (в том числе философско-тео-
83
1 В данном произведении определенную роль играет опора на трансцендентализм феноменологии Гуссерля, в ту пору учителя и покровителя Хайдеггера. Гуссерлю, не забудем, посвящена книга «Sein und Zeit». (Впрочем, эту теоретическую связь не следует преувеличивать; тут требуется весьма конкретный анализ. Здесь мы лишены возможности вдаваться в столь сложный и специальный вопрос.)
2 См. книгу «Основные проблемы феноменологии» (М. Heidegger. Die Grundprobleme der Phänomenologie / Heidegger M. Gesamtausgabe. II Abteilungen. Band 24. Vittorio Klosterman. Fr. a/M., 1975) — русский перевод А.Г. Чернякова (СПб., 2001).
Часть I. (лава 4. «Бьггие и время» Хайдеггера и событие Любви
Н'В. Мотрошилово Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьпме-время-любовь
84
ретически) само бытие, эта задача и возможность ее исполнения — нечто «самое далекое» (S. и Z., § 5).
Что касается различных философских и нефилософских дисциплин (Хайдеггер упоминает философскую психологию, антропологию, этику, размышления о политике, поэзии, историографию), то они объективно тоже соотнесены именно с «Dasein», по сути «расследуя» связанные с ним поведение, способности, возможности и судьбы. Но делают они это как бы отдаленно, часто неадекватно или не вполне осознанно и четко. Отсюда вывод, кардинально важный и для всех контекстов нашей темы: надо, настаивает Хайдеггер, избрать такой тип подходов и истолкований, чтобы «сущее» (в данном случае человеческое) «показывало » себя само по себе и из себя самого. «А именно он (этот подход) должен явить это сущее в том, как оно ближайшим образом и большей частью есть, в его средней повседневности»1. В «Бытии и времени» имеется, как известно, другой фундаментальный, великий момент — глубокое и оригинальное обращение Хайдеггера к теме времени, от чего здесь, на начальной стадии нашего рассмотрения, приходится отвлечься. Отвлекаемся мы и от подробного прояснения таких специальных вопросов, как «деструкция» со стороны Хайдеггера — в § 6 — традиционной онтологии и утверждение на ее месте — в § 7 — феноменологии и ее метода, как осовремененной формы трансцендентализма (он оказался частично приемлемым, как я полагаю, и для онтолога Хайдеггера в ранний период его философского развития). С рассмотренными моментами тесно сопряжена уже упомянутая философско-теоретическая, но богатая практическими, личностными моментами «аналитика Dasein». Она начинается (в § 9) как раз с акцентирования строгой, тесной, неотменяемой отнесенности анализируемого сущего к «нам самим». Собственно, по Хайдеггеру, это сущее (Seiende) — «всегда мы сами. Бытие этого сущего всегда мое» (Б. и в. С. 41). Здесь отметим момент, важный для нас. Обсуждается тема, которая красной нитью проходит через (более раннюю) рукопись Ханны Арендт «Тени»: что значит «потерять себя» или «пока что не найти себя». Хайдеггер, конечно же, трактует вопрос не в конкретном личностном контексте, а как будто в сугубо отвлеченном философском плане. У него все выглядит так: «Dasein» всегда выражается в том или ином способе быть (sein). При этом, по Хайдеггеру, всегда уже «как-то решено», как «Dasein» есть именно «мое». Кроме того, «Dasein» всегда являехся «своей возможностью», что значит: данное сущее может в своем бытии «выбрать» само себя, найти, а может потерять себя, соответственно никогда или лишь «мнимо» себя найти. «Потерять себя и пока еще не найти себя оно может лишь поскольку по своей сути оно в возможности собственное, т. е. само свое» (Б. и в. С. 42). Итак, «Dasein» — «всегда мое». Но есть различие между «Собственным» и «Несобственным», относящимися к Dasein.
1 См.: М. Хайдеггер. Бытие и время. М.: Ad-Marginem, 1997. С. 16 — здесь и далее я иногда опираюсь на те части перевода Бибихина, которые представляются адекватными; при цитировании: Б. и в., с указанием страницы. В случае отсылок к немецкому тексту используется сокращение: S. и Z., с упоминанием раздела и параграфов.
Ухватить именно «Собственное» в Dasein отдельному сущему и сподручно, и непросто. Хотя, как сказано, это «мы сами), и это мы в нашем бытии как сущего соотносимся со своим бытием1, несмотря на это сущему в известной мере «безразлично» его бытие, пусть при более пристальном вглядывании можно прийти — как раз соответственно тому, что сущее с принципиальной точки зрения «всегда мое», — к небезразличию по отношению к бытию. Для чего надо, инструктирует читателей Хайдеггер, в рассмотрение «Dasein» всегда включать личное местоимение — и, добавим, бытийный глагол, что ведь не менее важно: «я есмь», «ты есть» (§ 9).
В § 9 имеется еще одно — очень непростое, но релевантное нашей тематике — пояснение. Все понятийные моменты, имеющие место в аналитике Dasein, и стало быть, в хайдеггеровской манере отнесенные к экзистенции, он именует «экзистенциалами», тогда как «бытийные определения» сущего, не относящиеся к «Dasein» (скорее взятые из традиционной онтологии), названы им «категориями». Конечно, тут чисто хайдеггеровские определения; но их полезно иметь в виду в этом контексте (в дальнейшем мы данными разъяснениями воспользуемся).
Особая проблематика, разбираемая в III главе «Бытия и времени» под названием «Мировость мира»2, имеет и широкое, и (одновременно) более узкое значение. Широкое оно в том смысле, что — исходя из «Dasein» и его аналитики — Хайдеггер вводит тоже кардинальную тему бытия-в-мире и формирования всего «мирового» (мировости самого мира). А узкое значение — в том, что это совершенно особая, экзистенциально-феноменологическая «картина мира», притом здесь — очерченная, отграниченная рамкой воззрений именно раннего Хайдеггера. И определяемая центральной ролью, которую играют собственно хайдеггеровские понятия, подобные «подручности» и т. п., от чего здесь тоже приходится отвлечься. За всеми этими разделами следуют параграфы, в которых Хайдеггер обращается к животрепещущим философско-онтологическим и в то же время социально острым темам.
«бытие самости»
Под этой понятийной формулой Хайдеггер опять-таки разбирает вопросы, издавна интересовавшие философию, но поставленные и осмысленные им по-новому. В смысле новизны для нашего контекста особенно существенно то, что Хайдеггер ставит и решает их личностно, очень остро, смысложизненно. Но философская абстрактность остается, в силу чего завязывается целый узел противоречий, опять-таки релевантных нашей теме.
§ 25 «Бытия и времени» озаглавлен так: «Постановка экзистенциального вопроса „кто?” в отношении Dasein». Кажущаяся отдаленность от жизни этой словесной философской вязи, а также трудность для
1 В связи с данными характеристиками Хайдеггер в «Заметках на полях» делает отсылку к своим «Марбургским лекциям» 1927 года «Основные проблемы феноменологии».
1 У В. Бибихина— снова, по-моему, неудачно: «мирность мира» (ибо слово
«мирный» — в противопоставлении воинственному — имеет иной смысл, нежели немецкое «Weltlichkeit»).
Часть I. (лава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
Н-В. Мотрошилово ЦР Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
86
тех, кто пытается в нее вдумываться, уже в том, что разговор ведется о «Dasein», т. е. о философском понятии. Потому, например, вопрос «кто?» в отношении именно «Dasein», т. е. понятия, выглядит неожиданным, если не абсурдным, для профессиональных философов. Ведь вопрос «кто?» по сути предлагает «одушевить», даже персонифицировать философское понятие! Однако у Хайдеггера есть свои резоны рассуждать именно так, как это делается в названном параграфе. Притом в данном моменте опять-таки явно проступает оригинальность хайдегге- ровской онтологии.
Ведь если «Dasein» — это обозначение сущего, которое «есть всегда я сам, бытие всегда мое» (Б. и в. С. 114), то правомерно и, более того, просто необходимо возводить «Dasein» к субъекту — к некоему «кто?». Хайдеггер, полагаю, философски прав: именно с бытийной точки зрения «Dasein» (вспомним, единое, если не тождественное с экзистенцией) требует отсылки к «кто», т. е. к человеку, который при всей смене множества «расположений» и переживаний пребывает в себе «тождественным» и так или иначе соотносит себя с этой (в том числе жизненной, житейской, личностной) множественностью. На философском языке такое тождество, устанавливаемое философскими же средствами, определяется как субъект или иные «субъектно» ориентированные понятия. Вспомним, что Кант обсуждает подобную проблему под эгидой понятийного словосочетания «трансцендентальное единство апперцепции». У Канта получается, что некое обезличенное, генерализированное и везде-и-всегда-сущее сознание как бы превращается в самостоятельный субъект, обеспечивающий собственное тождество.
Хайдеггера такое решение не устраивает принципиально. И у него «Dasein» — это бытие, которое «очеловечено», а потому является, притом изначально, бытием-сознанием, бытием-пониманием, бытием-познанием, и также, как мы увидим, бытием-переживанием (о чем далее скажем подробнее). Но идея первенства, приоритета бытия, красной нитью проходящая через весь текст «Бытия и времени», меняет всю философскую диспозицию единства, тождества субъекта по сравнению и с кантовскими подходами, и со всеми другими «Я-философиями». Главные критические возражения спрессованы в следующем выводе из анализа бытия-в-мире: не бывает, напоминает Хайдеггер, «голого» субъекта без мира (а такой субъект так или иначе постулируется в «Я-филосо- фиях», по крайней мере на тот «момент», пока Я не «положит» не-Я), как не должно быть — хотя бы на миг — положено «Я», изолированное от других людей (§ 25).
Вот почему фундаментальной темой, сразу и непосредственно (а не сложным, выводным образом) включенной в аналитику «Dasein», становится у Хайдеггера такая внутренняя, неотъемлемая черта «Dasein», как бытие-вместе-с другими («Mitdasein»)1.
1 Забегая вперед, отметим: будущий мыслитель X. Арендт в своих бытийных экспозициях по существу воспользуется «быстротой», стремительностью этих хай- деггеровских переходов от общего разговора о Dasein к темам плюральности индивидов и их непременного «бытия-друг-с-другом». Но одновременно ее не удовлетворят уровень, характер рассмотрения, учета в «Бытии и времени» социально-исторических измерений бытия. (Подробнее об этом позже, при разборе работ X. Арендт.)
бытие-вллесте-с-другилли (Mitdasein)
87
§ 26 «Бытия и времени » — принципиальный для разъяснения сути и специфики хайдеггеровского «Dasein» именно как человеческого бытия. Если сжато суммировать главное, не вдаваясь в (весьма интересные) детали и тонкости, получится следующая системная схема.
• «Dasein», необходимо и изначально включенное в бытие-в-мире, тоже сразу и изначально явлено как «Mit-Dasein», т. е. бытие-вместе- с другими. Хайдеггер просто, понятно и убедительно до-казывает и показывает это свойство «Dasein». Когда он дает «описание» бытия-в-ми- ре — скажем, как мира человека труда, мира ремесленника, — то правильно и точно обнаруживает исходные «у-казания» на других людей (например, изготовителей, поставщиков, обслуживающих лиц и т. д. применительно к любому процессу изготовления и его результату, изделию. Скажем, речь идет о книге: она кем-то написана, напечатана, продана, куплена у кого-то или получена в дар; или это лодка, укрепленная якорем на мели, — она кем-то сделана; если она «чужая», то и это сразу заставляет помыслить других людей и т. д.).
Здесь Хайдеггер, снова и снова акцентируя тот момент, что все философствование покоится на «Dasein», которое есть мое (или твое, но «свое» для тебя), одновременно делает общий вывод: мир «Dasein» с самого начала нужно определить и понять как «мир совместности», как «Mit-dasein ». Добавляя иные весьма интересные тонкости к этой (по сути интерсубъективной — хотя в «Бытии и времени» нет такого термина) характеристике «Dasein», Хайдеггер то и дело подчеркивает, что понимать все это надо «экзистенциально, а не категориально». Иными словами: надо держаться индивидуального человеческого «Dasein» — с его сознанием, переживаниями, а не некоего безличного «Sein», господствовавшего в традиционных (и некоторых современных) учениях о бытии.
• Еще одна непростая, но важная и интересная расшифровка этой «экзистенциальности» — указание на то, что «Dasein» выступает, также и применительно к со-бытию (Mitdasein), как событие («Ereignis»). (Видно, кстати, что в данном случае русский язык с его удивительной философической пластичностью позволяет даже более наглядно, чем в немецком тексте, обозначить предельную близость «события» и «события», в немецком языке выражаемых разнокоренными словами, «Mitdasein» и «Ereignis». Ибо «событие» на нашем языке непосредственно, уже на лингвистическом уровне, который всегда так важен Хайдеггеру, передает оттенок причастности происшедшего события именно к бытию как «бытию».)
На первый план при расшифровке экзистенциальности Хайдеггер выдвигает экзистенциал-понятие одиночества — именно как передающее парадоксальную, противоречивую ипостась «Mitdasein» как события, т. е. бытия вместе и совместно с другими. У Хайдеггера получается так: даже одиночество (как свойство «Dasein») — это тоже неотъемлемый элемент «Mitdasein», т. е. события в мире. Если мне не хватает другого (например, если я люблю его и тоскую о нем), то этот, в какой- то мере «дефектный» (а не «дефективный», как переведено у Бибихи- на) момент, по своему модусу все же элемент «Mitdasein», тем не менее
Часть I. Глава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
88
в
ID
О
О
О
Э
8.
I
0Q
X
неотъемлемый от «Dasein», значит, в его составе имеющий свой смысл. Одиночество действительно наделено, согласно толкованию Хайдеггера, своей важной функцией: оно позволяет ввести последующие коренные экзистенциалы, свойства «Dasein», прежде всего очерчиваемые семьей таких феноменов, как забота (Sorge), озабоченность (соотв. озаботиться — besorgen), о которых Хайдеггер расскажет в «Бытии и времени» позже (и мы вместе с ним вникнем в релевантную нашей общей теме проблематику).
• Царство «das Man»
А пока в § 27 «Бытия и времени», продолжая обсуждать тему «Mitdasein », Хайдеггер постоянно подчеркивает онтологическое первенство «самости» (Selbst), одновременно зарисовывая все трудности и противоречия, сопряженные с неизбежной склонностью всякой «самости» сохранять дистанцию по отношению к другим людям, по отношению к противоречивому факту «Ai#dasein», т. е. совместности всех «Dasein». Этой склонности, способности «сохранения дистанции» решительно противостоит существенно отличная структура «Mitdasein», а именно то, что в повседневном «Mitdasein», т. е. здесь-бытии-вместе-с-другими, человек неизменно оказывается «на посылках у других» (Б. и в. С. 126).
• Хайдеггер справедливо и глубоко разъясняет: те «другие», о которых здесь идет речь, — не какие-то определенные другие, так что «их» может представлять, но никак не замещать, не исчерпывать собою любой человек. Больше того: во «власти» других над нашей самостью участвуем и мы сами! «Их кто — не тот и не этот, не сам человек и не сумма всех. „Кто” тут неизвестного рода, люди» (Б. и в. С. 126). В оригинале данное предложение заканчивается словом «das Man», т. е. немецким безличным местоимением «man» (например, man denkt — думают, думается), написанным с большой буквы. Это оригинальное хайдеггеровское интеллектуальное изобретение, один из опознавательных знаков «Бытия и времени» — экзистенциал, для самого автора книги весьма существенный, если не один из центральных. Читатель, верно, заметил, что В. Бибихин, чей перевод был процитирован, передает «Man» русским словом «люди».
Для этого есть, конечно, свои резоны. Когда немцы употребляют безличное «man», то нередко как бы подразумевают слово «люди»: «man denkt» переводится — думают, или: люди (некоторые или многие люди) думают... И все же я полагаю, что перевод «das Man» словом «люди» затемняет смысл и именно неповторимость хайдеггеровского оригинала, снова же (как и в случае «Dasein») сводя многослойность хайдеггеровского экзистенциала (здесь — «Man») к одному-двум измерениям.
Верно, что речь идет — как и применительно к «Dasein» — о человеческом, в этом смысле о людях вообще. Но повествование Хайдеггера здесь не только, позволю себе заметить, даже не столько об этом. Измерений на деле сразу несколько, и указание на «человеческое», «людское» в случае «Mitdasein» — только повторение пройденного в прежних шагах аналитики «Dasein».
Между тем Хайдеггер, вводя экзистенциал «Man», теперь уже акцентирует особые, новые аспекты и моменты Mitdasein, дополняющие
те, о которых раньше было сказано. Каковы же эти другие грани экзис- тенциала «Man» — кроме той идеи, что речь идет о людях, поскольку они изначально бытийствуют «вместе»? Вернемся за разъяснениями к многогранному тексту «Бытия и времени».
• С помощью «Man» Хайдеггер стремится не просто сказать: «Dasein» — это также «Mitdasein», бытие-вместе-с-другими, но и высветить стороны Убытия повседневности», взятого в его форме шуб личного мироокруженияъ. Эти характеристики широко известны, потому что многократно повторены, если не растиражированы, в литературе, посвященной Хайдеггеру. Создается, узнаваемо повествует Хайдеггер о «Man», система средств (теперь их называют mass media, средствами массовой информации), в использовании которых всякий подобен другому. В «Mitdasein» любое «Dasein» как бы растворяет себя «в способе бытия „других”, а именно так, что другие в их различительности и выраженности еще больше исчезают. В этой незаметности и неуста- новимости Man развертывает свою диктатуру» (Б. и в. С. 126) — здесь в переводе В. Бибихина слово «люди» заменено мною на Man. Почему следует сделать так, видно и из этого, и из последующего текста. Мы испытываем наслаждение, веселимся, пишет Хайдеггер, мы — люди — читаем, смотрим, выносим суждения о литературе и искусстве, делая все это согласно велениям Man. Даже отшатываясь от вкусов «толпы», возмущаясь чем-то в ее поведении и ее стереотипах, мы (здесь именно: люди) действуем под давлением Man.
Для меня очевидно, что весьма тонкое различение словесных смыслов — «люди», мы, с одной стороны, и диктаторское «Man», с другой, — заведомо вплетено в текст «Бытия и времени» и должно быть не нивелировано, а уловлено, объективировано в интерпретациях и переводах. В случае же, если и когда «Man» заменяется, как в переводе В. Бибихина, словом «люди», смазывается, полагаю, суть дела. А именно: Man, согласно Хайдеггеру, не есть нечто определенное; Man действительно относится к обобщенным «всем», но фигурирует «не как сумма» (что скорее и подразумевает слово «люди»). Man, четко определяет Хайдеггер, «предписывает» повседневности «способ быть». Этот способ характеризуется усредненностью, «уравниванием всех бытийных возможностей». Иными словами, Man — это ведь не «люди» как «сумма», как некая абстрактная совокупность, а именно такой набор способов бытия повседневности, который властно диктует усредненность, уравнительность, стирание дистанции, <анечувствительность ко всем различиям уровня и подлинности ». Если взять данный экзистенциал в сугубо хайдеггеровском философском значении — в то же время и в непосредственно, интуитивно подтвержденной подлинности, то легко понять, почему после публикации «Бытия и времени» он, этот экзистенциал, начал свое победное шествие в мире философии, да и в целостной культуре. И шествовал, шествует он именно в оригинальном образе «Man», (после соответствующих пояснений для читателей) уже не требующим вымучивать на других языках переводы (почти никогда не адекватные многослойности оригинала).
Резюме хайдеггеровского анализа Man (богатого многими тонкими деталями, которые приходится опустить) таково: «Man — это экзис-
89
Часть I. Глава 4. «Бьггие и время» Хайдеггера и событие Любви
H.ß. Мотрошилоеа Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
90
тенциал, и будучи исходным феноменом, он принадлежит к позитивному устроению Dasein». Это, в частности, объясняет, почему всякому Dasein необходимо озаботиться поиском Самости — с учетом того, что «ближайшим образом» самость не дана, а «рассеяна» из-за Man и «в» Man. Потому же движение «Dasein» к самораскрытию возможно, по Хайдеггеру, не иначе чем через «расчистку сокрытий и затемнений», через «взлом искажений», какими «Dasein» «запирается от самого себя» (заключительная часть § 27). Когда в контексте философии и культуры говорят об этом понятии, экзистенциале Хайдеггера, по крайней мере то, о чем идет речь, вполне понятно. А. Черняков полагает, что нечто подобное со временем произойдет и с хайдеггеровским «Dasein», которое войдет в разные языки в оригинальном звучании — подобно тому, как это произошло со словами «грамматика», «материя», «штамп» и т. п. И уже фактически произошло со словом «Man».
Бытийные росклодки «Бытия и времени»
сквозь призму личностных отношений М. Хайдеггера
и X. Арендт
Эта часть моих размышлений более всего сопрягается с текстом «Тени», а также с перепиской наших героев — во втором случае, к сожалению, не с прямыми словами юной студентки о ее мыслях и переживаниях, а с «отражающими», вернее, уже интерпретативными реакциями Хайдеггера. (Все ведь как в платоновской притче: «прикованные» видят не самих людей и не сами «вещи», а тени от них, падающие на единственно зримую им стену...)
Итак, вопрос: смогла ли X. Арендт — с ее тогда еще скромными возможностями самостоятельно распутывать причудливое переплетение хайдеггеровских исходных бытийных построений — и как смогла понять главное, пожалуй, устремление автора «Бытия и времени»? А именно понять его страстное желание сделать так, чтобы онтологические размышления, до той поры как бы самые абстрактные, самые отвлеченные от человеческой жизни, стали близкими конкретным человеческим существам, в том числе — в данном случае — существам дорогим, любимым? В целом на этот вопрос я склонна ответить утвердительно. Правда, трудностей интерпретации немало. Соблазнительно было бы привлечь для доказательства ранее разобранный нами текст «Тени» (напомню, написанный в апреле 1925 года, т. е. за два года до выхода «Бытия и времени»; но тогда процесс создания, вынашивания идей произведения был в самом разгаре). Однако слово «Dasein» прямо всплывает в манускрипте Арендт только раз — в связи с профилирующей темой страха (о ней — позже). Другие бытийные термины и разъяснения, аналогичные впоследствии запечатленным в «Бытии и времени» и как-то проговариваемым в предшествовавших книге, прослушанных и Ханной Марбургских лекциях Хайдеггера, в тексте Арендт впрямую встречаются редко.
Зато они прямо и отчетливо фигурируют в одновременных письмах Хайдеггера к Ханне, например, в том, которое стало непосредственным ответом на посланный ему манускрипт «Тени». В письме, напомню, Хай¬
деггер истолковывает «потрясающее признание» Ханны как искренний «отчет» о «подлинных и богатых побуждениях» ее экзистенции — а последняя, как было показано, у Хайдеггера неразрывно связана именно с «самостью», подлинностью «Dasein». Мужчина убеждал горячо любимую женщину в том, что все переживаемое ею и воспринимаемое как знаки распада, разрушения, отчуждения, на самом деле свидетельствует о другом — о том, что юная душа ищет свою Самость (это неотъемлемое свойство «Dasein», экзистенции) и уже нащупывает, пусть через боль и страдания, свой собственный путь к свободе. Это была, конечно же, весьма специфическая убеждающая аргументация — не только и даже не столько конкретно ad hominem (т. е. через апелляцию к «внутренним силам» самой Ханны, которые она, исстрадавшаяся и как раз обессиленная, в тот момент почти растеряла); Хайдеггер апеллировал к (ad) сущностным чертам экзистенции как к расшифровке «Dasein».
К примеру, Ханна пишет о тягостном чувстве одиночества. Одиночество, в чем с ней согласен и Хайдеггер, — конкретное состояние определенного человека, и оно по большей части переживается им как мучительное, вроде бы «незаконное», «несправедливое» чувство (скажем, сколь парадоксальным предстает одиночество посреди взаимной любви!). Но по сути же своей оно коренное, бытийное, — так «ответит» Хайдеггер в «Бытии и времени » и ей, и всем страдающим влюбленным, мужчинам и женщинам. Одиночество в его философском, бытийном изображении — не что иное, как обратная и парадоксальная сторона «Mitdasein» как такового, т. е. бытия вместе (Mit-) с другими, а значит, оно не только неотъемлемо от бытия, но даже свидетельствует о ценнейшем свойстве «Dasein», «хранении дистанции» и о противостоянии диктатуре «Man»... И многое — в том же духе аргументов ad existentia, ad «Dasein» — Хайдеггер писал и, видно, проговаривал своей любимой, когда она впала в отчаяние и в конце концов пришла к твердому решению положить конец великолепному, но мучительному роману. Напомню также, что в письмах Хайдеггера в разгар его романа с Ханной постоянно присутствует, специально прописывается — в тесной связи с их отношениями, с событием любви — тема бытия именно как «Dasein» (об этом ранее уже шла речь — с конкретными цитатами и ссылками).
Но, быть может, это был всего лишь façon de parler для красноречивого профессора, привыкшего говорить и писать на выспренном философском языке, тогда как его юной подруге приходилось с таким «языком общения», необычным «языком любви» только смиряться?
Бесспорно, этот момент — влияние старшего, профессора и боготворимого мужчины, его убеждающего, увещевающего, уговаривающего письма и голоса — существовал. Однако не думаю, что Ханна приняла бытийный язык и «философический» стиль общения только по принуждению и оттого, что другого ей не было дано. Этот стиль, этот язык отвечали, полагаю, ее собственной «философической» личностной сущности, именно ее экзистенции, тогда еще полностью не раскрывшейся, но уже в ней заложенной. Иначе, полагаю, она в молодости не написала бы по-своему выразительный текст «Тени», не обратилась бы к столь созвучной ее душе проблеме любви у Августина (в диссертационной работе) и, наконец, не способна была бы впоследствии создать
91
Часть I. Глава 4. «бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
H.ß. Мотрошилово ЩН Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгтие-ерелля-любоеь
92
выдающиеся труды, свидетельствующие и об удивительной философской грамотности, и о редкой способности включать даже в наиболее «конкретные» свои произведения (не обязательно чисто философские) теоретические, философские мотивы — вплоть до самых отвлеченных. (Кстати, ее письма, которые она не пожелала опубликовать и сделать доступными для потомков, возможно, дали бы материал, более полно подтверждающий высказанные мною суждения.)
Но нельзя не признать, что ее, именно ееу сопереживание и сомыс- лие бытийному пласту идей и мыслей раннего Хайдеггера запечатлелись, объективировались в относительно малой степени. Почему? Об этом можно говорить лишь гипотетически — например, размышляя (чисто спекулятивно) вот о чем: не было ли все это инспирировано уже в те времена появившимся, хотя пока и смутным пред-чувствием, предвосхищением ее позднее ясно высказанной критической идеи о преувеличении Хайдеггером роли пусть и назревшей, необходимой, но вовсе не универсальной значимой, вовсе не спасительной абстрактно-онтологической реформы? И о том, что изощренные бытийные категории и размышления Хайдеггера не способны стать фундаментальными основами философии и жизни, поскольку сами требуют обоснования? (К этим темам мы предметно вернемся позже.)
Но вот где нет никаких сомнений во взаимности мыслей и чувств, в том, что идет именно перекличка идей и переживаний двух умов, двух любящих сердец, так это в теоретических темах и жизненных проблемах, разбираемых, обрисовываемых Хайдеггером в 5-й и 6-й главах первого и 1-й главе второго раздела «Бытия и времени». Главными в них являются темы — соответственно экзистенциалы — страха и ужаса, заботы, «бытия к смерти». А мы уже видели, что они густо сконцентрированы в арендтовском манускрипте «Тени».
Обратимся к презентации названных тем в хайдеггеровском труде (по необходимости кратко, по ходу дела акцентируя нашу проблематику диалога умов и сердец М. Хайдеггера и X. Арендт).
Феномены страха и ужаса (Angst и furcht) в «Бытии и времени»
Обращение Хайдеггера к феноменам страха и ужаса в контексте учения о бытии, поначалу воспринятое многими читателями, коллегами как субъективизм и психологизм, незаконные с точки зрения традиций отвлеченной онтологии, затем было осознано в его законности и даже необходимости, понято как мыслительный ход, являющийся достаточно важным и по-своему неизбежным следствием центрирования фундаментальной онтологии, аналитики бытия вокруг «Dasein», т. е. человеческого бытия. И также следствием того, что человеческое бытие — это всегда бытие, неразрывно переплетенное и с сознанием, пониманием, познанием (во всей конкретности их модусов), и с миром чувств, переживаний, тревог, забот — в том числе многих опасений, страхов, все равно, предметно, реально обоснованных или беспочвенных, мимолетных или непреходящих. Более того, было осознано и доказано (теми философами, которые следовали традициям Канта или Гуссерля), что некое бытие как таковое, само по себе, о котором достаточно согласно толковала тради¬
93
ционная онтология, может, и имеется, но человеку оно всегда предстает неискоренимо преломленным через человеческое бытие и через возможности его понимания, познания, а также и его переживания, через мир «Erlebnis».
И вот тут Хайдеггер снова сделал поистине революционный шаг и по отношению к давней традиции, и применительно, скажем, к гуссер- левским феноменологическим корням. Считалось, что на уровне чистой мысли необходимо заведомое и заботливое отрешение прежде всего от чувств, аффектов, тем более колебаний настроения, которые бывают у всех, в сущности, отдельных человеческих существ. (Гуссерлевская феноменологическая редукция делает такое «антипсихологистическое» еросЬё, т. е. воздержание, отмысливание, специально отрабатываемой и применяемой процедурой.)
Хайдеггер же, поднимая вопрос о сёмом, казалось бы, объективном в бытии — что он делает с помощью понятия «бытие-в» (например, бытие- в-мире, предшествующее, предсуществующее по отношению к каждому отдельному индивиду и всем им вместе), — начинает свой анализ... с самого субъективного, а именно с того, что обозначается экзистенциалом «расположение», вернее, с «Dasein», истолкованного как «расположенность» (Befindlichkeit). «Befindlichkeit» (от глагола «sich befinden» — где- то находиться, располагаться) у Хайдеггера далеко от отождествления с какими-либо чисто пространственно-временными определенностями. § 29, как раз и озаглавленный «Da-sein как расположенность », начинается следующим тезисом Хайдеггера: то, что мы онтологически, т. е. в теории бытия, помечаем экзистенциалом «расположенность», онтически, т. е. в непосредственной индивидуальной бытийности, предстает как знакомое всем «настроение», «настроенность». Интересно, что возможности такой лингвистической преобразующей игры есть и в русском языке. Мы тоже употребляем слово «расположенность» в двойном смысле: и как «нахождение » где-то, и как настроение, настроенность, когда говорим, что мы к кому-то и чему-то «расположены» (или, наоборот, «не расположены»),
Хайдеггер опять-таки задумал нечто кардинальное: он захотел преодолеть застарелое пренебрежительное или чисто негативное отношение к «настроенности», к сменам настроения, например, к «подавленности», «унынию» (слова, взятые в кавычки, в тексте Хайдеггера маркируют своего рода мини-экзистенциалы, подчиненные обобщенному, более «крупному», экзистенциалу «расположенности»), В этих случаях «Dasein» как раз и становится самому себе в тягость. Философия традиционно относилась к подобным состояниям как к чему-то пусть досадному, но несущественному, только преходящему — от чего можно и нужно отмахнуться, отвлечься, отрешиться. И от чего тем более может, даже обязана, отвлечься «чистая», т. е. подлинная онтология. Следовательно, такое отношение складывается не только в повседневном быту, в общении — ему же, по сути, следует и философия. (Исключения весьма редки, и Хайдеггер на них ссылается.)
Хайдеггер, следовательно, превращает «расположенность» (Befindlichkeit) в один из исходных экзистенциалов — и делает это в той части аналитики «Dasein», где оно расшифровывается в его «повседневности». Первую онтологическую, т. е. существенную бытийно-
Часть I. f/тава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
Н-В/Мотрошилово ЩЩд Мортмн Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгже-время-любовь
94
теоретическую, черту расположенности он определяет так: благодаря ей «Dasein» оказывается «разомкнутым», хотя сначала лишь в негативном смысле — тогда «Dasein» как бы уклоняется, отшатывается (от самого себя).
Диалог «Бытия и времени» с жизнью и думами X. Арендт, в частности с текстом «Тени», объективно получается здесь самым прямым. Вспомним, что Ханна искренне и пронзительно писала, что «стала сама себе поперек дороги» и что «в заколдованности, в отдалении от человеческого... она не знала для себя никакой границы, никакого удержу». Трудно отмахнуться от вопроса, не держал ли Хайдеггер в уме конкретный «феномен Ханны» (возможно, и других своих юных друзей), когда в обобщенной форме описывал экзистенциальную структуру «уклоняющегося отшатывания» (Б. и в. С. 136).
Предполагаю: несомненное чутье Хайдеггера, возведенное в степень сопереживанием любимой женщине, возможно, помогло ему почувствовать серьезность, судьбинную силу и непреходящий, трансисторический характер, а потому и всеобщеэкзистенциальную укорененность подобных «настроенностей», «расположенностей...». Он поднял такие презираемые философией (но излюбленные литераторами) «перепады настроений» до статуса именно всеобщих бытийных структур, неизбежных в любые времена и при любых социальных условиях.
Социальный момент нам обязательно следует взять в расчет (хотя здесь его совсем не объективирует Хайдеггер): в отдельные острые, переломные времена социальной истории как раз тревоги, «отшатывания», массовые ситуации отчуждений и т. д., обобщенно и абстрактно фиксируемые у Хайдеггера через как бы всеобщие структуры «расположенности», могут — у социально чутких, но часто и маргинальных индивидов — стать предчувствием, предощущением будущих социально-исторических катастроф. Уже говорилось о том, что Хайдеггер был менее чуток к колебаниям социально-бытийного плана и что как раз к ним Ханна была более чувствительной. Правда, в середине 20-х годов она пока больше прислушивалась к своей растревоженной душе; но нарастающий грозный гул истории она уже ощущала, о чем бегло шла речь в нашем интерпретирующем комментарии к рукописи «Тени». (Эта тема будет более конкретно и полно прописана впоследствии.)
Знаменитый § 30 (из V главы) «Бытия и времени» посвящен страху как «модусу расположения» (вернее сказать — «расположенности»). Знаменит он потому, что часто интерпретируется, цитируется в экзистенциалистской литературе и считается классическим. Как уже отмечалось, в этой проблематике содержательная, эмоциональная перекличка «теневой» исповеди Ханны и книги Мартина представляется вполне явной и красноречивой. В комментарии к «Теням» Ханны Арендт я высказалась в том смысле, что эта рукопись — написанная, снова вспомним, за два года до публикации «Бытия и времени» — близко, точно фиксирует разные оттенки страха. Поэтому считаю: текст Ханны можно рекомендовать одновременно как исторический и как трансисторический (именно общебытийный) документ, а также как своего рода иллюстрацию к филигранным философским раскладкам Хайдеггера.
Различия тоже существуют: молодая женщина исповедально и трепетно сообщает о собственном «фундаментальном страхе» и многоформных оттенках (модусах) своего страха, тогда как философ- теоретик почти бестрепетно анатомирует экзистенциал страха, еще более скрупулезно разделяя его на разные под-структуры — «перед- чем-страха», «о-чем-страх», «сам страх», «страх о», «страх за», «испуг», «страх», который становится «жутью» и «ужасом» и т. д. За этим параграфом следуют те, которые посвящены трудным проблемам коммуникации (мы их разбирать не можем).
В шестой главе второго раздела Хайдеггер снова переходит к проблематике, релевантной нашей теме и связанной еще с одним экзис- тенциалом — глава называется «Забота (Sorge) как бытие Dasein». Нам придется рассматривать эти экзистенциалы в обратном порядке, сообразуясь с «неупорядоченным» порядком «Бытия и времени»: мы начнем с проблематики заботы и уж затем перейдем к темам страха.
Забота, озабоченность: текст «Бытия и времени» и контекст реальной жизни
Хайдеггер отрабатывает не только экзистенциал(ы) заботы, но и под-структуры, основоположные для (в свою очередь более фундаментальной) структуры «Dasein». Из них обратим особое внимание на такой структурный элемент, как «падение», «впадение» в страх и «брошен- ность», покинутость.
Хайдеггер разбирает (еще в параграфах о «Man» и в других местах) «падение Da-sein в Man», как и вообще феномен «падения». Иллюстрацией к этому анализу опять-таки может служить тот исповедальный отрывок из «Теней», где X. Арендт рассказывает об «отшатывании», «бегстве» из мира, о настоящем падении и «впадении» в страх и тоску; она выражает и смутную, неопределенную надежду на то, что такие состояния уже заключают в себе какое-то «пестрое богатство...», возможно, спасительное для ее жизни.
Хайдеггер глубже и уже в общефилософском смысле говорит о «падении Dasein в Man», что это «отшатывание», мт-падениеъ Dasein от самого себя, снова же анатомируя структуры, элементы и моменты ужаса, через которые, например, выходит наружу «ничто» и «нигде» страха, оповещающее: «от-чего страха (Angst) есть мир как таковой ». Разбирается и тоже анатомируется такое знакомое всем нам ощущение («повседневный способ», по Хайдеггеру), которое он маркирует словами «не-по-себе».
Прежде чем Хайдеггер (в § 38) придет к непосредственному анализу экзистенциалов «падения» и «брошенности», он оригинально, захватывающе интересно поработает с таким как будто бы известным феноменом, как понимание — а оно ведь тоже внутреннее, коренное для «Dasein» — и его различные стороны, ипостаси, сразу увязываемые с «Mitdasein», т. е. с коммуникацией людей, которая взята в чисто абстрактной форме, но все же принята в расчет.
«Падение», «брошенность», относимые к «Dasein», как с самого начала предупреждает Хайдеггер, не имеют в контексте его философии «никакой негативной оценки» (Б. и в. С. 175). Надо, учит автор «Бытия
Часть I. Глава 4. «быте и время» Хайдеггера и событие Любви
H-ß. Мотрошилово ЩИ Мартин Хойдегггр и Хонно Ярендт: бьттие-время-любовь
96
и времени», просто понять, что «Dasein» падает в мир, — и выяснить, в какой именно мир происходит «падение». А этот мир, констатирует Хайдеггер, всегда неизбывно, неминуемо, неотменимо характеризуется заботой, озабоченностью. Речь здесь, стало быть, идет для Хайдеггера об «экзистенциальной определенности самого Dasein» — при том, что каких-либо позитивных или негативных характеристик в отношении чего-либо наличного (например, положений или предположений о греховности кого-либо, людей вообще и наказании этим падением за грехи) здесь, в онтологической стихии, не содержится и содержаться не может. В «падении» самого Dasein просто подтверждается, даже документируется, по Хайдеггеру, неустранимый «экзистенциальный модус бытия-в- мире» (Б. и в. С. 176).
Исключительно интересен экзистенциал «Geworfenheit» (у В. Биби- хина переводится как «брошенность», откуда возникает сложная вязь слов производного характера — таких, как «бросок», «срыв», «вихрение» и т. д.). Но нам и его приходится миновать, отметив разве фундаментальный общебытийный характер экзистенциала, который может переживаться индивидами исключительно как их личная, конкретная судьба. Примерно так, как об этом писал Хосе Ортега-и-Гассет: почему, как бы спрашивал он кого-то (может, Бога) от имени каждого из нас, меня бросили в этот мир, не посоветовавшись со мной? И кому я могу подать свою жалобу? На деле же здесь, как говорится, нет ничего личного: все определяется, согласно Хайдеггеру, самим смыслом модусов падения и брошенности (Geworfenheit) для целостного структурного определения «Dasein». Этот смысл конкретнее раскрывается в § 39, которым начинается VI глава его труда, озаглавленная «Забота как бытие Dasein». Понимать, толковать эту жизненную и одновременно абстрактно-онтологически заявленную тему весьма непросто. С одной стороны, «забота» (Sorge) — феномен и экзистенциал, говорящие о чем-то повседневном, фактическом, хорошо знакомом всем и каждому. С другой стороны, когда требуется объяснить суть «заботы», «озабоченности», способности «озаботиться» и т. д., возникают трудности, с которыми очень часто сталкиваются обычные люди, если они пытаются выявить конкретные источники и природу охватывающей их озабоченности (с чем также уже работали философы и другие авторы, желавшие осмыслить означенные феномены). Заботу философы возводили, напоминает Хайдеггер, к феноменам воли, желания, влечения. Но «забота не может быть дедуцирована из них, потому что они сами в ней фундированы» (Б. и в. С. 182).
Экзистенциолы «fingst» и «Furcht»
(основные моменты)
Чтобы глубже истолковать специфический характер всех этих и близких друг другу, и далеких, как оказывается, феноменов, Хайдеггер считает нужным вернуться к общей теме страха, что оборачивается различением и соотнесением экзистенциалов, помечаемых немецкими словами Angst и Furcht. Мы сначала оставим эти слова без перевода и попробуем раскрыть характер, направленность хайдеггеровского различения, приобретающего, как и во всем сочинении, бытийный смысл.
Вводится проблематика страха, как сказано ранее, через возвращение Хайдеггера к экзистенциалу «падения» — как «падения в Man». Когда Dasein, «падая», растворяется в Man, то это обнажает, раскрывает, согласно Хайдеггеру, другой экзистенциал: «Dasein» «бежит» от самого себя, прежде всего от умения быть самим собой. Итак, «Dasein» в этом падении «отшатывается» от себя самого. Ступенькой к пониманию характера такого отпадения как раз и служит онтологическое присматривание к экзистенциалу Angst. Хайдеггер предупреждает: к его анализу мы «не совсем неподготовлены» (как переводит В. Биби- хин).
Отличие именно Angst (как потом увидим, отличие и от Furcht) состоит, по Хайдеггеру (см. § 40), в следующем. Ют чего» нас отшатывает именно такой страх, который помечен словом Angst? От чего-то совершенно неопределенного. Того, чего страшатся, как бы нет «нигде». Ибо Angst, в самом деле, такое состояние, когда «Dasein» «не знает, чего приходится или надо страшиться, страх перед чем тут передается и воплощается». Внимание: всем нам более чем знакомы, всеми так или иначе переживаются состояния страха, когда нас охватывают тревога, беспокойство. И мы не знаем, не понимаем, «почему», «из-за чего», «чего» страшимся, что, кстати, еще больше нагнетает внутреннее беспокойство (и что подчас порождает патологические состояния). Что подскажет нам по этим жизненным поводам онтология Хайдеггера? В этом «от чего», «из-за чего» страха, разъясняет автор «Бытия и времени», «выходит наружу» «ничто и нигде». Иными словами, мелкие, частные экзистенциалы открывают, что источник, причина, характеризующие Angst, — мир как таковой, «бытие-в-мире как таковое», «мир как мир», когда он только-только «размыкается».
При этом Angst — не только страх от чего-то, из-за чего-то (неопределенного), но, будучи «расположением», есть «страх за...». Но и тут опять-таки нет определенности. «За-что» страха, по Хайдеггеру, не более чем «само бытие-в-мире». А мир в данных случаях и не предлагает для расшифровки ничего другого, кроме факта «Mit-dasein», т. е. наличия, присутствия, «Dasein» других людей. Поэтому когда нас охватывает Angst, то наше «Dasein» оказывается «отброшенным» назад, просто к «способности-быть-в-мире». Но вопрос остается: за что или чего все-таки страшится Dasein?
Ответ Хайдеггера своеобразен и интересен. Смутно «Dasein», т. е. человек в его «собственном» здесь-бытии, приходит к тому, что ему «вверено» бытие-в-мире и что именно через частные, конкретные подструктуры экзистенциала Angst это и начинает раскрываться. Причем Angst, напоминает Хайдеггер, может проснуться и в безобиднейших ситуациях. Не надо темноты или чего-то другого, чтобы человек испытал чувства, обнимаемые словом «Angst». У Хайдеггера дается объяснение того, что совокупность ощущений «не-по-себе», так знакомых каждому, есть исходный феномен, в том числе и на уровне «физиологической» обусловленности.
К § 40 есть очень любопытные сноски. Там Хайдеггер кратко, «протокольно» констатирует, что феномены Angst и Furcht, которые в основном массиве философской литературы по большей части ос- 497
4 694
Часть I. Глава 4. «бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
98
о
а
Б
£
оо
X
тавались неразличенными, «в узких границах» попали в поле зрения христианской теологии (следуют ссылки на учение Августина о timor castus и servilis, а также на учение Лютера — см. Б. и в. С. 190). Пожалуй, важнее и интереснее для философии ссылка на С. Кьеркегора, о котором сказано, что в анализе феномена Angst он продвинулся «дальше других». Имеется в виду, конечно, книга, название которой в русском переводе — «Страх и трепет». (У Хайдеггера нет никакого упоминания о том, что терминологически Angst и Furcht различал Гегель в «Феноменологии духа»1.)
Именно через анализ феномена «Angst» Хайдеггер движется к дальнейшему исследованию экзистенциала заботы (Sorge) — в § 41, озаглавленном «Бытие „Dasein” как забота». Тут речь идет не просто о бытии-в-мире, но уже и о его ухватывании, переживании через «Dasein» и «им самим». «От чего», передающееся через Angst, раскрывается как упомянутая «брошенность», «брошенное» бытие-в-мире; «за-что» Angst, страха, означает «умение (проявляемое Dasein) быть- в-мире» (см. § 41).
В разных формулах Хайдеггер снова и снова напоминает: «Dasein» есть такое сущее, для которого «речь идет» (в глубинном и точном смысле этих двух слов) о самом этом бытии. Более того, само «бытие свободным» выказывает, как бы «проговаривает» себя в «Angst», взятом «в исходной, стихийной конкретности».
Здесь я лично снова вижу, по крайней мере в объективном значении, ответ Хайдеггера на рукопись X. Арендт «Тени». Ханна искренне, исповедально повествует, сообщает любимому человеку об охвативших ее страхах (описывая и различая ипостаси «Angst») именно в их «исходной, стихийной конкретности». Правда, она сама как ученица Хайдеггера также пытается как бы окинуть сторонним, уже теоретизирующим взором эту стихию, ставшую такой близкой ее экзистенции. Но к отвлеченной бытийности всю эту проблему она все же не возводит. Зато это делает Хайдеггер, показывая: «Dasein » именно в его бытии совершает «вынесение вперед себя самого» — что передается в «Бытии и времени» через сложный под-экзистенциал «вперед-себя-в-уже-бы- тии-в-некоем мире» (перевод В. Бибихина — с. 192). В онтологическом анализе «Бытия и времени» это очень важная ступень: независимо от того, знает ли это конкретный человек (например, Ханна Арендт), не только охваченный различными состояниями страха, но уже начинающий анализировать их «по сути», — тем не менее в под-экзистенциале «вперед-себя-уже-бытии-в-мире» как бы объективно светится и «падающее бытие», и его «озаботившееся» внутримировое содержание. Получается, что «бытие-в-мире есть в своей сути забота», а постольку существенным моментом обсуждаемой дробной аналитики становится — вводимый именно через «Angst» — экзистенциал заботы и его более частные под-экзистенциалы. Интересно, что черед как бы итогового различения Angst и Furcht приходит в «Бытии и времени» только после того, как Хайдеггер прояснит экзистенциал «смерти», вернее, «бытия к смерти», а уж затем перейдет ко второму разделу, озаглав¬
1 См.: Н.В. Мотрошилова. Путь Гегеля к «Науке логики». М.: Наука, 1984. С.176.
ленному «Dasein und Zeitlichkeit» (у Бибихина передано как «Присутствие и временность»). К сожалению, здесь нет возможности вдаваться в подробности этого анализа — в высшей степени оригинального, интересного, тоже релевантного нашей проблематике.
Снова об экзистенциалах «fingst» и «Furcht» в «бытии и времени»
Перейдем к хайдеггеровскому итоговому прояснению различия между Angst и Furcht — уже с включением прибавленных и разобранных (вплоть до § 67IV главы II раздела) под-экзистенциалов, в том числе тех, которые один за другим шествуют в контексте темы «Zeitlichkeit». Учесть это следование тем более важно, что в § 67 Хайдеггер напоминает: предварительный анализ (в I разделе) обрисовал «многосложность феноменов, которая при всей концентрации на фундирующей структуре целости заботы не должна исчезать для феноменологического взгляда» (Б. и в. С. 334).
Собственно, результирующее, обобщающее сопоставление-различение Angst и Furcht как бы суммирует «участие» в этих характеристиках разобранных ранее экзистенциалов. Суть этого хайдеггеровского сопоставления-различения состоит, как я его понимаю, в следующем.
• Оба «настроения», Furcht и Angst, в потоке переживаний сами по себе, изолированно, не встречаются. Они всегда вплетены в целостность, сотканную из разных экзистенциалов (что вполне достоверно и с жизненной точки зрения). В частности, они вплетаются в «понимание» в том смысле, что обусловливают его и обусловливаются им. Значит, они суть результаты теоретической рефлексии, а не некоторые феномены, могущие быть отдельно обнаруженными в гуще повседневной жизни человека. Именно как моменты рефлексии (здесь — хайдеггеровской) их вернее всего различать и описывать.
• Furcht имеет своим побудительным моментом то, что сущее уже озаботилось — озаботилось именно своим бытийствованием-в-мире. Furcht, образно повествует Хайдеггер, как бы «нападает» из «внутри- мирности».
• «Angst», напротив, как бы поднимается из бытия-в-мире как «брошенного» в него бытия, притом как брошенного-к-смерти.
• Для того чтобы возник, «восстал» Angst, нужна «решимость» — это еще один под-экзистенциал, обсуждаемый Хайдеггером в § 61-62 (III глава II раздела). «Решившийся» (человек) не знает Furcht; он понимает, однако, возможность «Angst» как настроенности, которая его особенно не угнетает, во всяком случае, не вторгает в состояние запутанности, заблудшести.
• Сходство между «Angst» и «Furcht» состоит, по Хайдеггеру, в том, что оба они коренятся в «Geworfenheit», брошенности. Но у них различные истоки заботы. Angst в обрисовке Хайдеггера возникает из неопределенности будущего, Furcht— из «растерявшегося настоящего», которое «ужасно ужасается ужасу» и тем неизбежнее, увы, впадает в него.
Подведем предварительный итог хайдеггеровского рассмотрения «Angst» и «Furcht». Знакомые каждому человеку, но вряд ли дифференцируемые им состояния предстают как взаимосвязанные, но и различи-
4*
Часть 1.Отава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
H-ß: Мотрошилово Щй Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгте-время-любовь
100
мые — более того, требующие различения и действительно различаемые Хайдеггером экзистенциалы. Первый вид — именно «Angst» — по самой своей сути неопределенен для переживающего его «Dasein»: того, что именно страшит, нельзя с определенностью найти «нигде», хотя «оно» и сам «Angst» — «вот» (тут). Правда, пишет Хайдеггер, «Angst», будучи неопределенным, все же теснит и перебивает дыхание. Это бытийный страх, ибо, напомним, проистекает из бытия-в-мире и всех неопределенностей будущего, простирающегося перед «Dasein» (в том числе из неопределенного, хотя и неотвратимого момента смерти). Тем не менее «Angst», как сказано, — тот страх, который, по определению Хайдеггера, не угнетает, не ужасает, чем и отличается от «Furcht». «Furcht» же — это описание состояния, которое именно ужасает, ибо коренится не в неопределенном, хотя и тревожащем будущем, а именно в актуальной «растерянности», путанице настоящего, в котором «ужасно ужасает ужас» («fürchterlich fürchtet Furcht»).
Суммируя, обращу внимание также на вопрос об адекватном русском переводе «Angst» и «Furcht», сообразном с самим смыслом их различения в хайдеггеровском тексте. «Awgi/» нужно переводить, полагаю, именно словом «страх», который «страшит», будучи по существу неопределенным, как бы увязанным с неопределенным же будущим. (Что и делалось традиционно в переводах с немецкого языка.) Соответственно «Furcht» верно передать словом «ужас», ибо именно ужас, по Хайдеггеру, охватывает «Dasein», «ужасно ужасающегося ужасу» по поводу более «сильного» настоящего, всех его многочисленных и более или менее определенных угроз.
«Angst» и «Furcht» — это экзистенциалы, маркирующие сильные, тревожные состояния, способные в жизни людей вызвать и глубинные переживания, и достаточно бурные реакции сущих, наделенных «своими» «Dasein». К бытию, его коренным временным определенностям (прошло- му-настоящему-будущему) причастны также многие «вялые расстройства », пропитывающие, по словам Хайдеггера, «серую обыденность », — такие как скука, печаль, грусть, отчаяние, и им противоположные аффекты надежды, радости, воодушевления, веселости. И их объяснение, призывает Хайдеггер, надо поставить «на более широкую базу аналитики Dasein».
В связи со всем сказанным приходится снова сказать несколько слов о переводе Бибихина, в котором перевод Angst словом «ужас» и Furcht словом «страх», по моему мнению, неудачен. Во-первых, это противоречит сложившемуся между двумя языками, немецким и русским, словоупотреблению. Во-вторых, перевод не соответствует тому разъясненному ранее содержательному смыслу двух экзистенциалов, каким их наделил Хайдеггер. Но, быть может, это сам Хайдеггер в «Бытии и времени» меняет сложившиеся исторически лингвистические привычки на противоположные — и настолько кардинально, что и нам, в русском переводе, надо отказаться от сложившихся обычаев переводить «Angst» словом «страх», а «Furcht» (и его производные) — словом «ужас» (и его производными), как бы поменяв их местами (что и сделал В. Бибихин)? Из моих предшествующих терминологических разъяснений, сделанных близко к хайдеггеровскому тексту, полагаю, следует: подобное решение
неприемлемо. Думаю, что подобная перестановка не меньше осложняет дело более адекватного понимания и без того архисложного текста, чем перевод «Dasein» словом «присутствие».
Хочу быть правильно понятой: я весьма высоко ценю все сделанное В. Бибихиным, выдающимся философом нашей страны, замечательным мыслителем и переводчиком. Его перевод «Бытия и времени » ценю тоже — как вариант авторизованного, именно бибихинского перевода. (Как, вероятно, заметил читатель, в отдельных случаях, когда в дело не вмешиваются решения, подобные вышеупомянутым, я использую этот перевод.) Но считаю, что для читателей, которые не знают немецкого языка или не знают его настолько, чтобы сверить перевод с оригиналом и, если нужно, скорректировать его, настоятельно необходим перевод, основанный на иных, более «классических» принципах перевода — даже в случае такого текста, невероятно трудного для передачи на других языках.
Многие частные детали, экзистенциалы «Бытия и времени», потрясающе интересно и оригинально выписанные, приходится оставить в стороне. Но еще два экзистенциала требуют, чтобы мы хотя бы кратко на них остановились также и в контексте нашего повествования. Это «Бытие к смерти», подробно разобранное Хайдеггером, и Любовь, на новом онтологическом осмыслении которой он в своей книге (почти что) не задерживается.
«Бытие-к-смерти» — важнейший экзистенциал «Бытия и времени»
Смерть воспринимается отдельными людьми и нередко интерпретируется учеными, философами всего лишь как естественный и неизбежный конец жизни, о котором мыслят и заботятся в зависимости от того, сколь она «близка». В старости и в случаях болезни она близка актуально — она «здесь» и «теперь» как непосредственно ожидаемый конец, чаще всего внушающий страх, отторжение. Во всех этих актуальных неизбежностях есть немало измерений и аспектов — биологических, медицинских, жизненно-практических, бытовых, социальных, психологических и иных. Их Хайдеггер именует биолого-онтическими, что означает: они связаны с жизнью, в данном случае человеческого тела, а также с «онтикой » отдельных сущих, индивидов и их родовыми свойствами (что обобщается, например, с помощью конкретных данных — о том, сколь долго живут люди и каковы особенности сроков их жизни в том или ином месте, в ту или иную историческую эпоху1 и т. п.). В отличие от таких дисциплин суть, специфика фундаментально-онтологического подхода Хайдеггера к феномену смерти определяется его следующими исходными установками.
• «Смерть в широчайшем смысле есть феномен жизни», — говорит Хайдеггер (Б. и в. С. 246). С этим многие согласились бы. Но поскольку саму «жизнь» Хайдеггер трактует не в биологическом, а в (новом) он-
1 «Могут быть исследованы „виды” смерти, причины, обстоятельства и характер ее наступления» (Б. и в. С. 246), — пишет Хайдеггер и ссылается на обстоятельное рассмотрение вопроса, тогда наиболее известное (Е. Korscbelt. Lebensdauer, Altern und Tod. 3-е изд. 1924).
Часть I. (лава 4. «бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
H.ß. Мотрошилово ЯрИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
102
тологическом смысле, то и исследование феномена смерти он включает в «Бытии и времени» в иные, непривычные теоретические рамки. Каковы же они? Главное нам известно из общих установок хайдеггеровского труда и теперь более понятно. «В основе» биолого-онтического исследования смерти должно лежать, по Хайдеггеру, «онтологическое», бытийное рассуждение о проблематике смерти, разумеется, трактуемое в новом ракурсе «фундаментальной онтологии».
Что это означает в случае смерти? Опять-таки теоретическое первенство «Dasein» и, следовательно, «Existenz». «Экзистенциальная интерпретация смерти лежит до всякой биологии и онтологии жизни» (Б. и в. С. 247). Хайдеггер уточняет, что такая интерпретация предшествует прежде всего «методически». В частности, сказанное подразумевает для Хайдеггера: если и строить «типологию умирания» как описание и характеристику состояний, в каких совершается уход из жизни, то прежде нужно грамотно и точно осмыслить, определить «понятие смерти». Здесь Хайдеггер метко замечает: «Сверх того, психология „умирания” дает сведения скорее о „жизни” умирающего, чем о самом умирании» (Там же. С. 247). Но как подобраться к последнему феномену?
§ 50 II раздела «Бытия и времени» озаглавлен «Прорисовка экзистенциально-онтологической структуры смерти». В стилистике хайдеггеровского анализа это требует учета прежде введенных и осмысленных экзистенциалов — заботы, вперед-себя-бытия экзистенции и, что особенно близко, анализа экзистенциала, у Хайдеггера именуемого тред- стоянием».
Речь идет об особом «предстоянии», смысл которого невыводим на основе непосредственно лингвистических ассоциаций. Ведь «предстоять» нам, поясняет Хайдеггер (Там же. С. 250), может многое: скажем, мы чувствуем, что приближается (пред-стоит) гроза, что предстоят перестройка дома, приезд друга. Но под-экзистенциал «предстояние» в случае смерти — иного рода.
Ибо при ранее перечисленных (конкретных) предстояниях, что называется, возможны варианты, тогда как предстояние смерти — это, без вариантов, неотменимая «возможность». Хайдеггер фиксирует это с помощью важного момента, говоря: смерть есть такая бытийная возможность, которая не просто необходима, но которую «Dasein» никак не может «не взять на себя». Из чего следует: смерть — «наиболее „своя”, безотносительная возможность, которую нельзя обойти» (она не-обхо- дима, удачно подчеркивает в русском переводе В. Бибихин). В этом-то и состоит ее ни с чем не сравнимое предстояние. Особенность последнего Хайдеггер усматривает также и в том, что «Dasein» приобретает знание о смерти не задним числом, в соответствии с разнообразием обстоятельств и т. п. Смерть (наиболее) коренным и неустранимым образом принадлежит к самому-бытию-в мире. «Выбор» со стороны отдельного сущего может касаться лишь разнообразия вариантов поведения перед лицом этой не-обходимой перспективы.
Итак, у проблемы смерти есть, согласно Хайдеггеру, общебытийные основания. Но раскрываются они, разумеется, лишь соответственно раскладкам «фундаментальной онтологии».
Прав ли Хайдеггер в такой постановке вопроса? Разве смерть любого человека (как самостоятельного сущего) не является простым следствием смертности любого живого существа как проявления всеобщего правила, давно приобретшего силлогистическую достоверность: Кай (или я) — человек, человек смертен, следовательно, Кай (и я) смертен? При чем здесь некие общие — «бытийные», «онтологические» — рассуждения, которые применительно к смерти приобретают у Хайдеггера вид более фундаментальных основоположений, чем закономерности, фиксируемые естественными науками о человеке?
Полагаю, Хайдеггер на сложном, более того, нарочито усложненном языке «Бытия и времени» фиксирует здесь действительно фундаментальный факт: в мире человека, в мире людей — мы добавим: в социально-историческом мире (о чем Хайдеггер тоже вспомнит позже, в V главе II раздела) — смерть неизбежно и оправданно воспринимается, переживается, осмысливается уже не только, даже не столько в свете законов, которые раскрывает биология, а в соответствии с законами, правилами другого вида. Их специфику и фиксирует Хайдеггер, как бы охватывая все относящееся к делу рамкой той «бытийности», которая символически очерчивается тезисом о первоосновности «Dasein».
Это пока что теоретическая заявка. Однако у нее есть та часть «своей» основоположности, которая подтверждается фактами реальной человеческой жизни. Их Хайдеггер рассматривает в § 51, озаглавленном «Бытие к смерти и повседневность Dasein».
Все в «повседневности», как утвердил Хайдеггер, вращается вокруг власти «Das Man», в соответствии с которой теперь «толкуется» смерть, возникают «толки» о смерти. Сам Хайдеггер в данной связи развертывает перед читателем те структуры толкования смерти, влияние которых можно увидеть «всегда» и «везде». При этом, поясним, речь идет не о меняющихся от эпохи к эпохе, от народа к народу мифах, сказаниях, обрядах, «толкующих» и «оформляющих» феномены смерти. Хайдеггера интересуют именно «бытийные», самые общие, если не всеобщие толкования.
Хочу предупредить: буду далее ссылаться на выдающуюся повесть Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича», тем более что в одной из сносок к § 51 Хайдеггер сам вводит ее в поле своего рассмотрения — в связи с «феноменом потрясения» и «отвлечения», т. е. обычая утешающе «охранять публичность» от всех ужасов умирания. Попутно замечу, что ограничиваться лишь этой ссылкой было бы неправильно. Фактически все под-экзистенциалы параграфов «Бытия и времени» о смерти могут быть прекрасно проиллюстрированы толстовской повестью, где приняты во внимание и «повседневность», и социальные, и — задолго до Хайдеггера — экзистенциальные моменты1.
Повторяющиеся структуры, описываемые Хайдеггером в данной связи, примерно таковы. «Публичность обыденного общения „знает” смерть как постоянно случающееся происшествие, „смертный случай” » (Б. и в. С. 252). Незнакомые умирают «где-то там» ежедневно и ежечас-
103
1 Об этом см.: Н.В. Мотрогиилова. Нравственно-моральное измерение экзистенциального опыта и проблема смерти в художественном творчестве Л. Толстого// Философия и этика: Собрание научных трудов к 70-летию академика А. А. Гусейнова. М.: Альфа-М., 2009. С. 467-485.
Часть I. Глава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
Н.в. Мотрошилова НВ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
104
но. И «das Man» научает отдельные «Dasein» своим толкованиям таких событий. «Проговариваемая или чаще затаенная „беглая” речь об этом скажет: в конце концов человек смертен, но ты сам пока еще не задет» (Там же. С. 253).
Все верно и правдиво. Так, в повести А. Толстого «Смерть Ивана Ильича» точно описывается реакция сослуживца умершего чиновника: каково, он умер, а я жив... Умирание, верно и ярко повествует Хайдеггер, «нивелируется до происшествия», «Dasein», правда, как-то задевающего, но ни к кому собственно не относящегося. И ведь это das Man, заключает Хайдеггер, дает право человеку, т. е. всякому сущему, — и упрочивает искушение — «прятать от себя самого свое бытие к смерти». Более того: также и умирающему заботливо «втолковывают», что он в следующие моменты отвлечется от смерти и «снова вернется в успокоенную повседневность» своего мира. (И об этом замечательно правдиво повествует Толстой.) А ведь это само das Man «озабочивается», в такой именно манере, «постоянным успокоением насчет смерти» (Б. и в. С. 253), вследствие чего навязчивые «мысли о смерти» даже смертельно больного человека считаются проявлением личной слабости, нестойкости. А главное следствие — то, что das Man пне дает хода мужеству перед страхом смерти» (Там же. С. 254), — пагубно с бытийной точки зрения.
Здесь снова поминаются экзистенциалы страха и ужаса. Если (мы исправляем вышеупомянутую перестановку в переводе В. Бибихина) в страхе перед предстоянием смерти люди могут и должны выйти на «предстояние» «Dasein» самому себе, то das Man как бы «меняет» закономерный бытийный страх на актуальный ужас, который — из-за призывов к «равнодушному спокойствию», в принципе вряд ли возможному, — отчуждает «Dasein» «от его наиболее своей, безотносительной бытийной способности»1.
Что же рекомендует в отношении смерти — в противовес диктату das Man — фундаментальная онтология Хайдеггера? Ответ на эти вопросы дается в § 52 и 53 I главы II раздела «Бытия и времени».
Прежде всего обсуждается тема «достоверности » смерти — в свете «указаний» Das Man, понятых с точки зрения фундаментальной онтологии.
Обсуждавшийся уже феномен — когда говорят: смерть наверняка придет, но пока (для данного сущего, для меня) ее нет — снова рассматривается Хайдеггером. Он утверждает, что — под влиянием Das Man — смерти как бы отказано в достоверности; она оттеснена на «когда-то потом». Однако ведь в такой достоверности смерти, констатирует Хайдеггер, замаскировано нечто весьма существенное — что смерть возможна в каждое мгновение. Итак, возможность смерти особая: «верная и притом неопределенная, т. е. каждый момент возможная» (Б. и в. С. 258).
1 В моем толковании этой тенденции das Man, в его облике христианского толкования, поддается даже Л. Толстой, вряд ли правдиво изображающий последние минуты Ивана Ильича как «возвышенное просветление», притом принявшее вид чуть ли не доктринального «просмотра» человеком, умирающим в боли и муках, всей своей жизни. (См. об этом: Н.В. Мотрошилова. Указ. соч. о Толстом. С. 483-484.)
Хайдеггер различает — применительно к смерти — «собственную» и «несобственную» возможности. О чем здесь рассуждает автор «Бытия и времени»?
«Dasein» «умирает фактично», причем постоянно — вплоть до непосредственного ухода человека из жизни. С этим все уже изначально решилось, так что «уклонение» от данного факта было бы «несобственным» отношением к самой возможности «бытия к смерти». Но ведь именно так и обстоит дело в повседневности! И понятно, почему. В разъяснении Хайдеггера (по сути) дается парафраз известного изречения Эпикура, суть которого: что мне смерть, ведь я есть, когда ее нет — и наоборот. В «переводе» на хайдеггеровский.язык это звучит примерно так (начало § 53): как можно «объективно» характеризовать собственное бытие к смерти, если Dasein никогда не вступает в отношение к своему концу и если это «собственное» бытие-к-смерти — всегда тайна для других? Что делать перед лицом такой «непроницаемости» конца, т. е. смерти, — и не предшествующего постепенного умирания, а именно самого рокового «конечного» момента?
Хайдеггер не вполне серьезно относится к «озабоченному осуществлению» смерти, проявляющемуся в «мыслях о смерти» или, хуже того, в соответствующих действиях, что ведь означает игру с возможностью самоубийства, оканчивается ли она действительным уходом из жизни или ограничивается взвешиванием подобных возможностей. Обратим внимание: здесь фактически содержится отклик Хайдеггера на те размышления Ханны Арендт в манускрипте «Тени», в которых туманно светятся ее собственные «мысли о смерти». Это отклик, который автор «Бытия и времени» выражает на своем языке: «Такое поведение взвешивает возможность, когда и как она пожалуй могла бы осуществиться. Эти думы о смерти правда не отнимают у нее совсем ее характера возможности, ее обдумывают все же как надвигающуюся, но они конечно ослабляют его через вычисляющее желание распорядиться смертью» (Б. и в. С. 261).
Иными словами, таким «мыслям о смерти» и сопряженному с ними поведению Хайдеггер не придает статуса настоящего бытийного измерения смерти как «возможности», которая в качестве таковой здесь не «развернута» и не «выдержана». Более интересен для Хайдеггера анализ феномена ожидания, т. е. ожидаемой смерти. При этом он разъясняет, что имеет в виду ожидание не как реальную «ближайшую близость» к действительной смерти (например, не то, как ожидает смерть человек на смертном одре в отличие от молодого, полного сил индивида). Главное в данном случае, с точки зрения Хайдеггера, что тогда «Dasein» уже своим «ожиданием» точно «наступает» в саму возможность смерти. А это значит: «Dasein» вынуждается осознать безотносительность, то есть одиночество сущего перед «лицом» смерти — все равно, являет она свой «лик» актуально, в данный момент или «пока» остается возможностью.
Такой поворот со своей стороны фундаментален для фундаментальной онтологии: «Dasein», согласно Хайдеггеру, есть «собственно оно», лишь поскольку оно, как озаботившееся бытие, бросает взгляд на «саму свою способность быть», т. е. парадоксальным образом включает в орбиту своего преимущественного внимания не только, даже не столько начало, процесс бытийствования, сколько «конец», т. е. смерть.
105
Часть I. (лава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
106
о
<0
о
Э
о
а
к
ё
со
±
Отсюда и удивительное — необычное для традиционной онтологии, но вполне предсказуемое, даже неизбежное для онтологии «Dasein» — теснейшее увязывание бытия не просто с абстрактным небытием, не столько с заведомым уничтожением, преходящим характером всякого индивидуализированного (вещного) сущего, что достаточно далеко от мира повседневной жизни человека. А увязывание с «собственным» бы- тием-к-смерти отдельного, неизбежно смертного человека, к тому же «бытийно-обязанного» — согласно фундаментальной онтологии — отрешиться от утешающих иллюзий и привычек das Man, предстать перед «в себе самой уверенной и страшной, ужасающей свободой к смерти» (Б. и в. С. 266).
В экспликациях Хайдеггера, непосредственно обращенных к темам смерти, почти не включено (специально разбираемое в V главе) историческое измерение, введение которого, кстати, тоже проходит под знаком преимущества (по-хайдеггеровски истолкованной) бытийности. Применительно к смерти включение исторических измерений могло бы означать, что, во-первых, принимается во внимание «история» индивида, например, его движение через возрасты, от рождения через молодость к зрелости, а потом (если удается пожить достаточно долго) и к старости. Понятно, что все ожидания, переживания — словом, все «смертные» экзистенциалы должны существенно модифицироваться в зависимости от того, что (при всей общей справедливости тезиса о возможности события смерти в любое время жизни) типологически-ста- тистическая вероятность ее наступления совсем не одинакова у людей молодых и старых. А значит, существенно неодинакова, выражаясь по- хайдеггеровски, «расположенность» к бытию-к-смерти юного, молодого, зрелого, старого и очень старого человека. Можно предположить, что Хайдеггер — в годы написания «Бытия и времени» совсем нестарый и в принципе здоровый человек — вряд ли предметно переживал, чувствовал настоятельность «смертной проблемы» для старости. Да и общался он в основном со студенческой молодежью; университетские профессора солидного возраста в очень малой степени были близкой средой для Хайдеггера. (Правда, Хайдеггер остро, экзистенциально пережил смерть матери в 1927 году, которую он любил и к которой был очень привязан.)1
Во-вторых, исторический колорит в обсуждение проблемы смерти могло бы внести обращение к ситуациям, когда массовость «неестественных» смертей должна была бы расставить даже в отвлеченной аналитике «Dasein» свои акценты. С этой точки зрения время было как бы промежуточное. Первая мировая война (когда Хайдеггер, о чем подробнее рассказывалось в моей биографии, не попал непосредственно в военную мясорубку смерти) была позади, а Вторая мировая война — впереди. Но никто не знал точно, будет ли она и когда стрясется (и, например, Хайдеггер не догадывался, что она заденет двух его Buben, мальчишек, пусть не смертью, а пленом в России). Тогда еще не окреп, хотя уже исподволь зарождался, национал-социализм; Освенцим и ГУЛАГ не были повседневными ужасающими фактами жизни. Одним словом, то были
1 Примечательная деталь: в гроб горячо любимой матери Хайдеггер распорядился положить экземпляр только что вышедшей книги «Бытие и время».
годы, когда словосочетание «жизнь как бытие-к-смерти» все же оставалось скорее абстрактным экзистенциалом, за которым пока не стояли непосредственно ужасающие и в то же время повседневные, массовые жизненные реалии. По отношению к войнам, правда, предполагалось, что они суть «поля смерти», но чтобы так называемая мирная жизнь наполнилась ежедневным риском смерти, в том числе для очень молодых и нестарых, здоровых людей, — до такого надо было дожить. Но «ждать» оставалось недолго: меньше чем через десять лет такое случилось сначала в Германии, СССР, в Испании, а потом — по всему миру...
То, что Хайдеггер со своими смертными экзистенциалами «попал в точку» и применительно к истории, социуму, было и неожиданно, и парадоксально. Ведь он избегал даже перемещать свою мысль в социально-исторические плоскости, тем более содержательно и углубленно там работать. Трагическим парадоксом, правда, обнаружившимся впоследствии, станет и то, что автор «Бытия и времени» хотя бы ненадолго примкнет к главной «смертной силе», непосредственно реализовавшей, остроту, ужасающую повседневность, массовость именно смертельных преследований для людей всех поколений и многих стран.
Пока же, в середине и на исходе 20-х годов, герои нашего повествования могли без содрогания, абстрактно говорить о центральности экзистенциала смерти (М. Хайдеггер) или играть с мыслями о смерти (X. Арендт). Ханне предстояли месяцы и годы, когда (что мы покажем в дальнейшем) смерть ходила за ней по пятам; Ханна, что называется, не раз смотрела в лицо смерти. Тогда, если пользоваться терминами Хайдеггера, абстрактный и для всех неизбежный «страх смерти» как неопределенный страх перед будущим обернулся вполне конкретным, актуальным ужасом перед настоящим, его смертельно опасными преследованиями, наполнил собою ситуации повседневности.
Но пока все это было впереди, в неизвестной, плохо просматриваемой и понимаемой дали пусть и (объективно) достаточно близкого, но (с субъективной точки зрения) неопределенного времени. То обстоятельство, что Хайдеггер никогда не отличался склонностью и способностью к конкретному социально-историческому анализу и предвидению, тоже сыграло свою роль. Он также пока плохо осознал, что его фундаментальная онтология — независимо от указанного личного свойства Хайдеггера как автора — все же содержала в себе объективную прогнозирующую силу по отношению к тенденциям социальноисторического бытия, особенно к умонастроениям людей (об этом — в нашем дальнейшем анализе). Что касается Ханны, то свои способности социального понимания она проявит в дальнейшем — но не раньше, чем вместе с огромной массой, по сути, с миллионами людей пройдет через круги ада.
107
Умолчание о Любви
Ранее было подробно показано, что годы, проведенные в Марбурге, были пронизаны, как лучом света, ярким событием Любви. Оба — и Мартин, и Ханна — были им охвачены, глубоко затронуты. Однако затронуты по-разному, в том числе и с точки зрения включенности темы Любви в напряженно работающую теоретическую мысль. Чем можно объяснить
Часть I. Глава 4. «бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
H.ß. Мотрошилово Мартын Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгше-время-любовь
108
весьма красноречивое, но и странное обстоятельство: «Бытие и время», книга, которая вводит целое море самых дробных экзистенциалов, почти нигде не касается авторским анализом... феномена Любви! При том что исключить любовь из исследования экзистенциалов, отнесенных к «Dasein», теоретически говоря, кажется делом неестественным, даже невозможным. Тем не менее мне не удалось обнаружить в тексте книги сколько-нибудь заметной остановки автора на несомненно бытийной станции по имени «Любовь».
Что же тут получилось и как все случилось? В реальной жизни обоих любовь, несомненно, была и еще будет; существовал диалог, дуэт, связь и различие жизненных — «музыкальных», лирических — и теоретических партий. Но тему Любви теоретик Хайдеггер для публики исполнять, даже вводить, не стал! Другое дело, что любовную проблематику он переместил в эпистолярную стихию — почему мы и проявляем к ней особое внимание, учитывая и, разумеется, оговаривая условия: переписка с любимой женщиной имела частный, конспиративный характер. Исполнение темы Любви фактически целиком предоставлено Ханне — хотя бы как автору диссертации по проблеме любви у Августина. При этом реальная — взаимная, но бесперспективная — любовь отнимала у Ханны все жизненные силы и соки, так что диссертация о любви (как считают) получилась ординарная, во всяком случае несопоставимая с тем, что позже в философской и социальной теории сделает эта высокоодаренная женщина. Одно несомненно: в «Бытии и времени» автор так и не позволил себе заглянуть на остров Любви — хотя такой в море Бытия, без всякого сомнения, существует, хотя его посещали, посещают и будут посещать великие умы и таланты человечества...
Можно поразмышлять о причинах такого остранения. Вероятно, даже очень похоже, что все произошло по такой объективной причине: действительно горячо любила Ханна, молодая красавица, любила в первый, а с таким накалом чувств и в последний раз в жизни. Она, в самом деле, переживала бытийное «падение» в Любовь, тогда как Хайдеггер, скорее всего, прошел через страстное, но все же очередное в его жизни любовное увлечение... Обоснованно и несколько иное толкование. И для Хайдеггера то была самая потрясающая в жизни любовь. Но если бы он вознамерился исследовать феномен Любви — и включил в «Бытие и время» соответствующие экзистенциалы, как того требовала стилистика произведения, то к этой (возможной) части текста и Ханна Арендт, и жена Эльфрида присматривались бы с особым пристрастием. Здесь личная ситуация вряд ли облегчала, если не исключала полностью, дело правдивого, честного записывания всей противоречивости этого состояния «Dasein»... Проще было замять, элиминировать тему, чем ее описать и осмыслить. Конечно, это только гипотеза, но вряд ли беспочвенная. Если я права в этих своих гипотетических предположениях, осмеливаюсь (тоже гипотетически) заметить: Хайдеггер в таких (возможных) предположениях был неправ. Думаю, что его философские повествования о феномене, экзистенциале и дробных, подчиненных экзистенциальных модусах любви не подвергли бы серьезным испытаниям его любовные отношения, но одновременно прибавили бы к философскому
блеску «Бытия и времени» замечательные, общеинтересные аспекты и оттенки.
Разумеется, если бы такое случилось, то две главные женщины всей его жизни, Эльфрида и Ханна, стали бы напряженно вчитываться в размышления Хайдеггера о феномене, об экзистенциалах любви. Да и прежние, а также будущие «дамы сердца» любвеобильного Хайдеггера, несомненно, припадали бы к соответствующим разделам и отрывкам «Бытия и времени». Но остается вопрос: кому из них было под силу разобраться в причудливой, абстрактной философской вязи экзистенциальных текстов — да еще и так, чтобы вычитать в них нечто конкретное, лично интересное?
Эльфрида, о которой мы знаем, что она с самого начала супружеской жизни даже не стала предпринимать основательных попыток освоить философию своего мужа, уж точно не могла в густой, для нее непроходимой философской чаще обнаружить те тропинки и просеки, которые были бы близки к собственной реальной жизни и ее пониманию.
Единственной, вероятно, женщиной, которая смогла бы понять, уловить если не все, то главное в теоретически возможном разделе о любви, как раз и была Ханна Арендт. Но тут — зная о ее уме, характере, благородной человеческой сущности, а главное, об особенностях жизнедеятельности, интеллектуальных реакций мыслителя, которые она уже носила в себе, — можно смело предположить: даже прочитав что-то грустное, может, и лично обидное о любви, экзистенциалы которой были бы «срисованы», в частности, с ее и Мартина любовных отношений, она стойко пережила бы все подобные огорчения. Она, именно она сумела бы объективно оценить красоту, оригинальность, новаторство, метафизическую дотошность и честность хайдеггеров- ской мысли. А в том, что он и в этой животрепещущей теме достиг бы таких же высот, как и во всей экзистенциальной аналитике, сомневаться не приходится.
Так или иначе, но Хайдеггер сделал иной выбор: в «Бытии и времени» он «умолчал» о событии Любви. Этот выбор тоже соответствовал стилю и духу его действий как философа. А «умолчание» было приемом Хайдеггера, примененным не только в этом, но и в не менее, если не более серьезных теоретических случаях. По свидетельству уже упоминавшегося Германа Мерхена, посещавшего лекции Хайдеггера, но изучавшего в Марбурге главным образом теологию, «в семинаре Хайдеггер однажды сказал: „Мы чтим теологию тем, что молчим о ней”»1.
И все же общий вывод из представленного в этой главе исследования — в том, что касается Любви Мартина и Ханны — напрашивается такой: это событие нашло свое отражение в великом произведении «Бытие и время», и отражение философско-теоретическое, а именно бытийное — как было показано, в плоскости целого ряда важнейших экзистенциалов аналитики «Dasein». Отстранение же автора от четкого объективирования своего отношения к теме Любви, пожалуй, можно описать, перефразируя его слова, отнесенные к теологии: он столь чтил
109
Цит. по: R. Safranski. Op. cit. S. 162.
Часть I. (лова 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
по
о
ф
о
э
0 а
1
со
X
случившееся событие Любви, что избежал прямого, явного ее анализа — счел нужным и тут хранить молчание...
Хочу предупредить читателей: наш разговор о «Бытии и времени» в контексте события Любви, в плоскости взаимодействия умов и сердец Хайдеггера и Арендт не закончен. Он соотнесен здесь с марбургскими годами. В перспективе последующих десятилетий жизни и взаимодействия наших героев анализ еще потребует включения новых и весьма существенных жизненных обстоятельств и теоретических моментов.
вокруг «Бытия и времени»: реакция К. Ясперса
Ясперс был, разумеется, одним из первых коллег, кому Хайдеггер в 1927 году послал только что вышедшую работу. Письмо Ясперса от 1 мая 1927 года подтверждает: книга получена. Если автор ждал откликов на свое наконец-то появившееся «книжное» сочинение, то реакция друга (и, как казалось Хайдеггеру, философского единомышленника) была ему особенно важна и чрезвычайно интересна. И вот тут всегда благородный, доброжелательный старший друг, пожалуй, крепко обидел Хайдеггера. Он небрежно (через несколько дней) написал, что в потоке повседневности сумел разве что пролистать «Бытие и время» и бегло прочитать десяток-другой страниц... Хайдеггер, вероятно, уже тогда заподозрил, что дело не только и не столько в занятости и усталости. И поскольку в дальнейшем последовало умолчание Ясперса об этом сочинении, принципиальном, дорогом для Хайдеггера (несмотря на его ускромняющие оговорки), то подозрения и сомнения должны были перерасти в уверенность: книга старшего друга не заинтересовала, не пришлась ему по душе — и настолько, что он вообще не приложил усилий к ее внимательному прочтению и пониманию.
Этот случай не уникальный. Вспомним, как Шеллинг, в начале XIX века еще друживший с Гегелем, из присланной ему великой «Феноменологии духа» (тоже первой серьезной гегелевской публикации) удосужился прочитать только Предисловие — и, вычитав там выпады даже не против самого себя, а против своих эпигонов, на всю жизнь обиделся на Гегеля, из друга превратившись в его заклятого врага...
Примерно так получилось с «Бытием и временем» после появления книги. Впоследствии, в своей «Философской автобиографии», Ясперс, вернувшись к сочинению Хайдеггера, правдиво засвидетельствовал: пусть тогда, в 1927 году, он и обрадовался появлению «Бытия и времени» как успеху друга, пусть он увидел, что работа — результат интенсивного исследования, демонстрирующего «блеск мощного анализа», новизну мысли и языка, — пусть так, но ему, признался Ясперс, просто не захотелось читать, изучать такую книгу... Более того, она просто-та- ки отталкивала Ясперса. А ведь он славился не только как философ-автор, все более плодовитый, но (мы отмечали это ранее) как неутомимый, внимательный, доброжелательный читатель множества философских, медицинских и т. п. книг. Но тут отчуждение было почти что «физическим» и полным: стиль, содержание, образ мысли «Бытия и времени», признавался Ясперс в «Автобиографии», были ему совершенно чужды (Б. 98 и £С.). Больше того, книга Хайдеггера не побудила Ясперса даже к спору с автором (как раньше поступил Хайдеггер применительно к яс-
персовской «Психологии мировоззрений»). Ясперс просто отставил книгу в сторону, как бы прошел мимо нее. Хайдеггер внешне не проявил своего разочарования, но оно, несомненно, глубоко в нем затаилось.
Только позднее Ясперс осознал, что тогда, в 1927 году, действительно обидел, разочаровал Хайдеггера. По сути, Ясперс впоследствии покаялся: он, старший друг, погруженный в свою философскую работу, ввергнутый в поток повседневной жизни, не смог ответить дружеской взаимностью на усилия Хайдеггера, несколькими годами раньше внимательно, дотошно, критически проанализировавшего его «Психологию мировоззрений». И верно связал с этим невниманием, вообще-то недостойным дружбы, последующее отсутствие «настоящего интереса» Хайдеггера к более поздним его, Ясперса, работам.
На мой взгляд, дело обстояло куда серьезнее; и не внимание или невнимание, обусловленные ситуационными подробностями, были здесь главными факторами. Не могу подробно вдаваться в сложнейший вопрос о глубинных расхождениях Ясперса и Хайдеггера как философов, как личностей существенно разного типа, шедших по жизни расходящимися экзистенциальными и социальными путями1.
Как правило, в литературе, особенно популярной, учебниковой, их самих и их учения причисляют к одному направлению — экзистенциалистскому, в чем есть доля оправданности. Но по моему убеждению, различия и расхождения в данном случае — внутренние, существенные, внеситуационные2. Мои суждения по этому поводу основаны на четких формулах самого Ясперса. Так, в переписке с французским философом Жаном Валем, имея в виду перечисление, что называется, «через запятую», его и Хайдеггера имен внутри «экзистенц-философии», Ясперс подчеркнул: «То, что имя Хайдеггера ставят рядом с моим, как будто мы делаем с ним одно и то же дело, как мне кажется, применительно к нам обоим выглядит как повод к недопониманию. Нас объединяет, возможно, критически-негативное отношение к традиционной университетской философии и наша зависимость от мыслей Кьеркегора. Но мы различны в [выборе] того содержания, исходя из которого мы философствуем»3. Равнодушие, проявленное в переписке, на самом деле далеко не полностью отражало отношение Ясперса к философствованию Хайдеггера, в частности к «Бытию и времени». Ведь Ясперс, на протяжении всей своей жизни — после появления в ней «феномена Хайдеггера» — редко высказывая свои мысли и оценки публично, тем не менее внимательно, вдумчиво и неизменно критически следил за творчеством Хайдеггера. Он делал заметки (Notizen) как бы «для себя», по сути не пропуская сколько-нибудь существенных публикаций коллеги, так что в итоге собралась упомянутая книжка (ее опубликовал ученик Ясперса Ханс Занер). А началось все это именно с «Бытия и времени». Через год после ее выхода в свет Ясперс сделал первые (но не последние) запис-
111
1 См. об этом в моей Биографии, где есть ссылки на соответствующую литературу, появившуюся к 1989 году. Из более поздних отечественных публикаций на эту тему можно порекомендовать работы В. Бибихина, М. Рыклина, И. Михайлова.
1 См. написанные мною разделы о Ясперсе и Хайдеггере в кн.: История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 4. М., 2012 (о Хайдеггере — с. 24-29; о Ясперсе — с. 14-23).
3 Martin Heidegger I Karl Jaspers. Briefwechsel. S. 278.
Часть I. Глава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
H-В. Мотрошилово |ВИ Мортон Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
112
ки — значит, равнодушия к работе друга на самом деле не было. Заметки делались бегло, сжато, конспективно и очевидно не предназначались к публикации. Тем не менее Ясперсу и в этом «жанре» удалось выразить самое главное — то, в чем он видел философский вклад Хайдеггера, но и то, как он вскрывал истоки и суть своих глубинных с ним расхождений. Воспользуюсь здесь — для прояснения коренных причин ясперсовской холодности по отношению к «Бытию и времени» — теми страницами знаменитых «Notizen zu Martin Heidegger» («Заметки о Мартине Хайдеггере»), которые Ясперс набросал через год после выхода в свет книги Хайдеггера, казалось бы, его вовсе не заинтересовавшей и не затронувшей. Эти (беглые) наброски убедительно доказывают, что на самом деле сочинение друга его взволновало и побудило хотя бы конспективно, чисто предварительно определить суть принципиального размежевания с Хайдеггером. В упомянутых «Notizen...» — в связи с «Бытием и временем» — имеются некоторые конкретные историко-философские замечания. Например, кратко, но очень интересно сопоставляются трактовки «Dasein» у Гегеля и Хайдеггера:
«Хайдеггер: анализ Dasein
Гегель: почему „das Dasein” таково [как оно есть].
Гегель в юности рассуждал с точки зрения заботы, страха и т. д. Его философия как раз и была преодолением такой точки зрения как конечной и неистинной»1.
Тем самым, между прочим, затрагивается тонкий вопрос об «экзистенциальных смыслах», находимых Ясперсом в философии Гегеля, — «особенно ясно» они обнаруживаются, по Ясперсу, в философии истории (следует ссылка на издание Аассона, а именно на последний раздел из главы II). В связи с чем Ясперс полемизирует с хайдеггеров- ской репликой — в § 82 «Sein und Zeit» — относительно того, что Ге- гель-де превращает время в нечто подобное духу. Здесь — оттенок весьма специальный. А вот ставится и общий вопрос, который, по Ясперсу, надо разрешить: между чем и чем в теме времени идет выбор у Гегеля и Хайдеггера? Ответ Ясперса: Гегель выбирает «между временем как конечностью и абсолютным бытием (или между позитивизмом и взлетом к бытию в собственном смысле)», а Хайдеггер — между «временем как вульгарным течением настоящего и временем как экзистенциальным феноменом, или между объективным знанием о природе и знанием об экзистенции» (Ibidem. S. 32).
Наряду с этими важными замечаниями, требующими, однако, вхождения в гегелеведческий материал, бегло намечены действительно кардинальные линии расхождения обоих как будто бы родственных по духу философских учений — Хайдеггера и Ясперса. Вот как их обозначает Ясперс, имея в виду те или иные принципиальные для обоих мыслителей аспекты философствования.
• «Он (Хайдеггер. — H. М.) полностью неисторически берет все, в сущности, философии прошлого и ставит их на один уровень истинного. Несмотря на «временной характер» (Zeitlichkeit — категория Хайдег¬
1 К. Jaspers. Notizen zu Martin Heidegger. München; Zürich, 1989. S. 31.
гера. — Н. М.), здесь они все лишены времени (zeitlos)» (S. 34). Что, по убеждению Ясперса, ведет к «искусственности» и «насильственности» (Gewaltsamkeit) по отношению к реальному историко-философскому материалу (S. 35). (Будем помнить об этом, когда в последней главе нашей книги станем разбирать тему времени.)
Это тем более важно, что Ясперс, кратко фиксируя позитивное в философии Хайдеггера (в рубрике «Gut», т. е. «хорошо») и одобрительно говоря о взгляде, бросаемом им на «истоки», «первоначала» (Ursprünge), конспективно определяет особенность своего подхода к истокам: «Я: историчность и история» (Geschichtlichkeit und Historie — в последнем случае имеется в виду история как дисциплина).
• В решении тоже коренного и для него, и для автора «Бытия и времени» «вопроса о бытии» Ясперс акцентирует свои важнейшие разногласия с Хайдеггером. «Хайдеггер („Бытие и время”), — пишет он, — вновь поставил вопрос о бытии и в систематическом объяснении дал на него ответ.
Пленительная интенсивность его мышления сплетается в то Одно (Eines), что и остается разделяющим нас [моментом]. Прояснение, высвечивание экзистенции (Existenz-erhellung, один из главных терминов Ясперса. — Н. М.), попытка которого в принципе предпринимается в развертывающейся начиная с Кьеркегора экзистенц-философии, одновременно и затуманивается монистическим системным мышлением» (S. 36).
• В размежевании Ясперса (здесь — с исследованием давления основоположений «системы» в философии Хайдеггера) на первый план выходит, как известно, различное отношение к религии и вере. «Философия Хайдеггера до сих пор лишена бога (gottlos) и мира (weltlos)» (S. 37). Это — при всем удивлении перед утонченностью, изощренностью философии Хайдеггера, перед изобретательной необычностью и искусностью его языка — для Ясперса и есть самое главное, не перекрываемое никакой интенсивностью, «пленительностью» детальной работы. Усилия, направленные на «открытие», «раскрытие» бытия, могут вызывать уважение, восхищение, но все дело в том, полагает Ясперс, чтб, собственно, в результате обретают (was man eigentlich hat) благодаря такому раскрытию, высвечиванию. А ведь то «собственное», «подлинное» (die Eigentlichkeit), к которому как будто хочет пробиться Хайдеггер, остается, согласно Ясперсу, «просто-таки темным», туманным (Ibidem).
• При этом, продолжает Ясперс, «солипсизм, который вроде бы не имелся в виду1 и которого не хотели, фактически являет себя. Экзистенция, правда, то там, то здесь („je”) названа, но коммуникация экзистенций не становится проблемой. Речь всегда идет только об „Одном” (der Eine), и при таком раскладе Другой может быть подверстан только как Другой для Одного... Подлинной спецификой экзистенции [оказывается] некая изолированность. Что коммуникация предстает лишь в форме * S.1 «Имелся ли в виду» у Хайдеггера или не имелся в виду солипсизм? Пожалуй, на вопрос все-таки приходится ответить: да, имелся. Недаром же в «Бытии и времени» Хайдеггер употребляет такое понятие — «экзистенциальный солипсизм» (S. и Z.
S. 188), связывая с ним смысл и суть понятия «решимость» (Entschlossenheit).
113
Чостъ I. Глово 4. «бытие и время» Хайдеггера и событие Любви
114
s>
ю
&>
X
о
а
сс
о
х
X
я
Э
о
а
о
£
00
±
разговора о „Man”... — это и есть симптом упомянутой монистической однотонности» (S. 37, курсив мой. — Н. М.).
Весьма важно: не зная конкретно об этих возражениях, сделанных вторым учителем и другом К. Ясперсом в адрес философии ее первого наставника, М. Хайдеггера, X. Арендт фактически исходила — в своей открытой критике хайдеггеровского учения, и в собственном противоположном ему варианте учения о бытии — из сходных предпосылок. (Подробнее об этом — при анализе сочинений X. Арендт.)
А теперь самые общие выводы из сопоставления, в котором Ясперс акцентирует теоретические, философские линии, разделяющие его и Хайдеггера как философов, но и как личностей: «Без любви. Поэтому и по стилю неблагожелательно. Только „решимость” (Entschlossenheit. — Н. М.), а не вера, любовь, фантазия. Новый позитивизм. Напряжение внутри экзистенции, лишенной бога и мира, вырастает до чудовищной интенсивности. Дисциплина, полная сомнения решимость. Безусловная, но пустая энергия» (S. 38).
Заключая этот раздел, хотела бы сказать: для тех, кто стремится изнутри понять всю обусловленность будущего расхождения личностных и творческих путей Хайдеггера и Ясперса, краткие ясперсовские заметки скажут многое и о многом.
А Ханна Арендт, которая не могла не воспринимать «Бытие и время» — когда работа вышла в свет — в контексте глубоко личных переживаний и впечатлений, в то время вряд ли обладала «расположенностью» к серьезному анализу, тем более к объективированию своих одобрений или критических замечаний. Но в более поздней, уже очень зрелой теоретической жизни она будет держать в поле зрения это выдающееся произведение своего профессора и горячо любимого мужчины — произведения, которое, о чем она знала лучше всех других людей в мире, на деле было неотделимо от события их Любви.
***
Осведомленный читатель, видимо, уже обратил внимание на то, что в нашем анализе отсутствует важнейшая для «Бытия и времени» тема времени (die Zeit). На самом деле она не снята, а отодвинута в конец книги, которую читатель держит в руках. О причинах, побудивших меня поступить именно так, тоже будет рассказано в главе «Время и историчность как проблемы философии Хайдеггера».
ГЛАВА 5
Глубокие корни Бытия и Времени:
Мескирх и Тодтноуберг е судьбе Хайдеггера
В этой главе речь пойдет о существенном отличии философии и личности Мартина Хайдеггера, которое — именно подобно корневой системе — несет на себе и питает собою частные ответвления идей, личностных ориентаций и при всех изменениях подходов и позиций обеспечивает уникальный сплав раннего и позднего творчества выдающегося философа.
Говоря пока кратко и обобщенно: корни хайдеггеровской философии и личностного мира мыслителя, непростого течения его жизни в этом случае понимаются наиболее прямым образом. Это укорененность всех, по сути дела, чувств и мыслей Хайдеггера во Времени Истории — и своей страны, и Европы, а также причастность к основам их вполне реального «современного» Бытия и в широком смысле этого слова, и в виде преданности философа своей малой баденско-шварцвальдской родине. Это и философско-теоретическая пропаганда неразрывности того и другого, т. е. Времени истории и бытийной судьбы личности. Все перечисленные философские идеи, превращенные в экзистенциалы, Хайдеггер выразил столь же четко и точно, сколь и проникновенно, трогательно, если не романтически — в непреходящем, именно судьбинном смысле.
Соответственно общему проблемному маршруту всей книги наше повествование ненадолго перенесется на баденско-шварцвальдскую почву малой родины Хайдеггера, на которой он произрос, от которой лишь на время отдалялся, преподавая в Марбурге, но к которой он и тогда вновь и вновь припадал, чтобы в конце 20-х годов окончательно вернуться в родные края. Вспомним: Ханна Арендт хорошо знала об этих прочных корнях, и когда думала о любимом в отсутствие его в Марбурге, постоянно представляла себе поистине магнетический треугольник его жизни — Мескирх, Фрайбург, Тодтнауберг...
В становлении и развитии Хайдеггера как личности, в самом содержании его философии, как ранней, так и поздней, «корневые размышления» (и соответствующие малые сочинения) о Родине, большой и малой, играют роль, несравнимую с той, какая им отводится (если вообще отводится) в философских сочинениях иного, неэкзистенциального типа.
Мескирх
Мескирх — маленький городок, расположенный между Баденским озером и Дунаем. В нем родился, постоянно в него возвращался, на кладбище его велел себя упокоить выдающийся философ Мартин Хайдеггер. Городок ничем не отличался от других неприметных малых поселений баденской провинции. Но вот сейчас на воображаемой карте европейской и мировой культуры он хорошо известен и часто посещаем — как родина и место захоронения Хайдеггера. В мои намерения упоминания, рассказ о малой родине Хайдеггера входят в той мере, в какой эти родные места и произрастание в них запечатлелись в личности, характере, ценностях
116
■D
о
о
ю
2
С
о
Ю
О
<0
Э
8.
о
2
АО
мыслителя и нашли выражение в его оригинальной философии. А мера эта, скажу заранее, весьма высокая и значимая. Ибо корни Родины, голоса и «духи » малой родины, как будет далее показано, своеобразно отпечатались в центральных понятиях Бытия и Времени, а также во многих оригинальных экзистенциалах хайдеггеровской философии.
Остановим внимание на том, как выглядел в начале XX века и выглядит сейчас скромный — в сравнении с другими природными и историческими сокровищами прекрасной баденской земли — городок Мескирх, одно из многих подобных местечек, затерявшихся в южнонемецкой провинции. Городок этот был малонаселенным: когда в нем родился и проводил свое детство Хайдеггер, он насчитывал около 2000 жителей. Нам, однако, важны не столько внешние данные и обстоятельства, а то, что и как увидел в родных местах, какие впечатления впитал и как потом осмыслил «фактичность» своего рождения, произрастания на этой земле философ Мартин Хайдеггер. А здесь он не оставил никаких сомнений: по разным праздничным поводам и независимо от них он мыслил и говорил о Мескирхе, неизменно вплетая самые конкретные, «фактичные» рассуждения в широкую канву глубоко философских и одновременно личностно проникновенных мыслей и речений — о человеке, его Dasein, об Истории, о Родине (Heimat) и, если можно так выразиться, о «родинном» (das Heimisch) и его противоположности, «безродинно- сти» (das Unheimische) как негативном признаке «современной эпохи», и о многом другом, чем интересно и специфично его философствование. Теперь — обо всем этом подробнее.
• Дом и церковь Святого Мартино
Дом в Мескирхе, в котором родился Мартин Хайдеггер и в котором до их смерти жили его родители Фридрих Хайдеггер (1851—1924) и Иоганна Кемпф (1858-1927), — одно из обычных строений немецких поселений, в которых в XIX и XX веках проживали небогатые, но «справные», как выражались на Руси, трудовые семьи, подобные семье Хайдеггеров (см. вклейку, фото 10). Род Хайдеггеров, как об этом свидетельствуют родословное древо и извлечения из сохранившихся местных исторических документов, проживал в этой же местности в XVII-XVIII веках. Фамилия предков писалась по-разному: Heidecker, Heydecker, Heudecker, иногда Heidegger, пока закрепился последний вариант. Дом Хайдеггеров особо примечателен тем, что он располагается вблизи церкви Святого Мартина (см. вклейку, фото 11). Фридрих Хайдеггер, ремесленник-бочар, выполнял в этой церкви обязанности причетника. Вокруг этой (в сравнении с другими) достаточно скромной, но несомненно красивой церкви традиционно вращалась жизнь всей семьи. О чем Мартин Хайдеггер, ставший известным философом, оставил особые повествования. Одно называется «О тайне колокольни » (Vom Geheimnis des Glockenturms).
Он рассказывал, как по рождественским праздникам рано-рано утром, где-то около половины четвертого, в дом причетника приходили мальчики-звонари. Жена причетника, мать Мартина Иоганна, ставила на стол угощение — кофе с молоком и пирог. Стол стоял рядом с рождественской елкой; запах хвои наполнял теплую комнату. Целые недели,
если не весь год, мальчики-звонари, писал, вспоминая детство, Хайдеггер, предвкушали часы в доме причетника. В чем же могло скрываться волшебное очарование этих часов? Философ отвечал: причина была не в угощении, более чем скромном, а в «волшебном очаровании» дома, необычного момента, в ожидании будущего звона и праздничного дня. Зажигали фонари; мальчики во главе со звонарем брели по снегу, потом исчезали в башне-колокольне.
«Несказанно-возбуждающим», по словам Хайдеггера, было первоначальное качание самого большого колокола. И Хайдеггер подробно описывает особенности звука каждого из семи главных колоколов, порядок их звучания и символический смысл всей процедуры. Специально упомянуто и о том, чтб именно должны были делать в церкви во время рождественских служб «дети причетника », т. е. сам Мартин и его брат Фридрих. Они были вовлечены в последующие рождественские церковные церемонии, в том числе прислуживали при алтаре. Поэтому они не были обязаны делать то же, что подсобные мальчики-звонари. Но все же предполагалось участие Мартина и Фридриха в специальном и по- своему строгом деле — создании регламентированного «совместного» звона великолепных колоколов, слышных в Мескирхе и окрестностях.
Заканчивает Хайдеггер свое небольшое сочинение словами, которые красноречиво, трогательно- «фактично», а одновременно и глубоко философски говорят о впечатлении, навсегда оставленном в его душе этими повторяющимися ритуалами: «Таинственная фуга (Fuge), в которой церковные праздники прибавляли, прилаживали друг к другу (hineinander/wgten) череду времен года и утренние, дневные, вечерние часы каждого дня, так что одно звучание постоянно проходило через юные сердца, мечты, молитвы и игры — ведь это она, фуга, скрывала в себе одну из самых волшебных, святых и непреходящих тайн башни, чтобы, постоянно преобразуясь и повторяясь, вновь и вновь одарять [тебя] — вплоть до того момента, когда в горном массиве бытия (Seyns) отзвучит [для тебя] последний звон». К этому ясному и проникновенному воспоминанию-высказыванию не требуется подробных комментариев. Но сподручно подчеркнуть главное: от детского опыта на родной земле, в родительском доме и вблизи католической церкви тянутся прямые и прочные нити к категориям Времени, Бытия как такового (Seyn) и бытия как Da-sein, здесь-и-теперь бытия, т. е. к первоосновным понятиям хайдеггеровской философии.
Есть немало других, на этот раз чисто духовных понятий, которые для Хайдеггера подразумевают органическую связь человека с родной землей, особенно с малой родиной. Если человек в любом месте своей жизнедеятельности слышит «голос родины», то в детстве он для будущего философа как бы сливался с «голосами колокольни», которые для религиозно воспитываемых людей в свою очередь символизируют «голос Бога». Впоследствии, когда философ Хайдеггер освободился от прямых религиозно-конфессиональных, а потом и теологических влияний, в его душе все равно жили, как бы звучали, воспоминания о колоколах Мескирха, и он хорошо помнил, что каждый из них «имел свое имя и свой голос ».
117
Чостъ I. Отава 5. Глубокие корни Бытия и времени...
Н-В. Мотрошилоео №й Мартын Хайдеггер и Ханна Йрендт: бытие-время-любоеь
118
И в иных отношениях ранняя близость — и духовная, и пространственная, и семейная — к католической церкви баварского региона определяла судьбу Хайдеггера начиная с детства и юности. В прилагаемой Биографии Хайдеггера рассказано о том, сколь тесно переплелся ранний жизненный путь будущего философа с покровительством и местной католической церкви, и властных наставников-католиков, сколько усилий и времени ушло у Хайдеггера на то, чтобы освободиться от их надзора, выбрав секулярный, притом самостоятельный путь в философии и жизни. Тем не менее были особенности местного католичества и его исторического опыта, которые довольно основательно повлияли на характер личности, на воззрения Хайдеггера. Они были своеобразно сплетены с воздействиями исторического бытия малой родины, с теми бытийными чертами жизни на баварской земле, которые с детства окружали Хайдеггера и оказывали корневое влияние на него гораздо раньше, чем он мог это заметить и осмыслить.
Эти особенности, говоря здесь суммарно, запечатлели противоречивые исторические влияния. С одной стороны, наиболее видные католики Мескирха (а они и вели Хайдеггера по ранней дороги жизни) в начале XX века придерживались наиболее традиционных для католичества ориентаций и противостояли различным «модернистским» влияниям в отношении веры, религии, теологии. С другой стороны, под воздействием революционных событий XIX века на общественное развитие даже и на более консервативной баденской земле возникали, укреплялись освободительные умонастроения. Католическая церковь также потребовала для себя и своих прихожан новых свобод; она стойко противостояла стремлению либерализирующегося государства ограничить влияние религии и церковных институций на сознание людей, их образ жизни. Опираясь — особенно в провинциальных, отдаленных (от больших городов) местностях — на поддержку простого народа, церковь создавала, сохраняла и лелеяла тот идейный сплав, который Р. Сафран- ский назвал «католическим популизмом» и охарактеризовал следующим образом: «Этот католический популизм на юго-западе Германии был отмечен благочестием, враждой к государству, приверженностью иерархизму, но и стремлением отстоять автономию по отношению к государственной власти. Для него также были характерны антипрусские, скорее региональные, чем националистические, антикапиталистиче- ские, аграрные, антисемитские, патриотические настроения; и все это было особенно укоренено в сознании людей, принадлежащих к низшим социальным слоям» (Я. 5а$гатЫ. Ор. ск. Б. 18).
Итак, социальные события, характерные для истории Европы, так или иначе воздействовали на историю даже столь консервативного края, каким была баденско-шварцвальдская малая родина Хайдеггера. Не удивительно, что на ней они нашли прежде всего церковно-клерикальную форму выражения и влияния (о чем подробно повествует в своей неоднократно цитированной книге Р. Сафранский). Когда в 1870 году в Ватикане «постановили»: следует считать папу лицом непогрешимым, то на этой земле возникло анти-движение, парадоксальным образом защищавшее традиционные католические устои и правила. Его назвали «старо-католическим»умонастроением,противостоявшим «новымрим-
ским» ориентациям. По форме взывая к традициям, «старо-католики» все же были сторонниками идей прогресса и модернизации (разумеется, в их умеренно-консервативной форме). Они критиковали «ново-римский» иерархизм и догматизм. «Мескирх, — пишет Р. Сафранский, — в 70-80-х годах XIX века был одним из оплотов старо-католического движения. Оно охватывало порой чуть ли не половину населения города» (R. Safranski. Op. cit. S. 19).
Противостояние, о котором идет речь, сохранялось и на рубеже XIX и XX веков. Нетрудно догадаться, что ремесленник и церковный причетник Ф. Хайдеггер примыкал к старо-католическому движению. Фридрих Хайдеггер, оказывавший на двух сыновей, когда они были детьми и юношами, повседневное влияние, принадлежал к старо-католическому лагерю и по своему социальному положению (трудовые слои населения вообще были главной опорой католицизма и его местных разновидностей), и по твердым личным убеждениям ревностного католика, и в силу того, что был включен — в качестве низшего звена — в церковную иерархию. Из этого не следует, что его сын М. Хайдеггер, глубоко чтивший отца, его мнения, вообще семейные устои, должен был на всю жизнь тоже остаться, подобно родителям, ревностным и верным католиком. Получилось как раз нечто противоположное: хотя Мартин рос в искренне, глубоко религиозной семье и среде, он сумел выбраться на философскую дорогу, свободную от убеждений и предубеждений любой религиозно-конфессиональной окраски. И пожалуй, ранний опыт произрастания на родной земле, насыщенный внутрикатолическими размежеваниями, убедил все более самостоятельно мыслившего молодого Мартина Хайдеггера в том, что надо выработать отстраненное отношение к оттенкам религиозных споров, что следует выбрать род занятий и способ жизни, благодаря которым все эти оттенки не являются ни профессионально, ни личностно важными. И даже в «интеллектуальном» пространстве философии Хайдеггер — пройдя через многие (описанные в Биографии) перипетии раннего периода — выбрал скорее нетеологический, собственно философский путь, следуя традициям великого Канта1.
Тем не менее некоторые ранние идейные поветрия, укорененные на родной земле и в родительском доме, наложили свой отпечаток на характер личности и на убеждения Мартина Хайдеггера. В особенности ясно и стойко запечатлелись: народность, патриотизм, некоторый социальный консерватизм, но определенного типа — он никак не мешал новаторству мысли, чуткому пониманию непреодолимых «современных» тенденций. Все это было органически объединено с уважением к народу, с непреходящим интересом к его историческому опыту, к глубоко залегающей в подпочве жизненной, именно народной субкультуре, к этическому и эстетическому опыту простых людей из скромных родных поселений. Перед всем этим неизменно стоял — с детства и до смерти — тот коэффициент, о котором подробно рассказывается в данной главе, а именно — преданность корням, впитывание в собственное Dasein всей
119
1 В этой книге трудную, специальную тему отношения зрелого философа М. Хайдеггера к религии и теологии (а ей посвящена обширная литература) пришлось оставить в стороне.
Часть I. Глава 5. Глубокие корни Бытия и Времени...
120
CD
X
«фактичности» малой родины, ожидание и обретение от родной земли укрытости, всегдашняя духовная и даже физическая подпитка личностного бытийствования. В детстве и юности Хайдеггер ощущал все это органически, интуитивно. А вот когда наступил «вечер жизни», Хайдеггер нередко обращался к теме влияния родной земли, ее истории, образа жизни, строя мыслей и чувств, ею — малой родиной — определяемых.
Молоя родина и хойдеггвровские понятия «dos Heimische» и «dos Unheimische»
К этой теме и именно к Мескирху и родной почве обращено выступление Хайдеггера по случаю «Heimatabend» — трудно перевести одним словом русского языка; это вечер, посвященный малой родине. Он состоялся 22.07.1961 года.
Тема «Heimat» (родины) — не стала ли она обыденной, привычной? С этого вопроса началось хайдеггеровское выступление. А далее — череда подобных непарадных вопросов и сомнений. Кажется, рассуждает Хайдеггер, мы сказали о родине все; например, много говорили и писали о Мескирхе, о прошлом и о сегодняшнем дне родного городка. О будущем же родины не в силах ничего поведать даже признанные мудрецы. Между тем — выражает свои (уже послевоенные) заботы Хайдеггер — когда мы мыслим и говорим о родине, большой или малой, то не можем не ощущать серьезную опасность.
«Грозит опасность, и она в том, что прежде именовавшееся родиной расплывается и разрушаете я. Представляется: сила „des Unheimischen” не только овладела человеком; он уже не может ей противостоять»1. Здесь надо дать философско-лингвистическое пояснение. Слова «unheimlich », «das Unheimliche» — привычные, повседневные в немецком языке, и означают они состояния страха, ужаса. Хайдеггер же по своему обыкновению преобразует эти слова, извлекает из них смысл, порождаемый наличием корня «heim» — того же, что и в слове «Heimat », родина; однако тут благодаря приставке-отрицанию «Un-» новое слово приобретает негативное значение. В толковании Хайдеггера образованное им слово «das Unheimische» объединяет два смысла: страх, ужас объемлет людей, но именно из-за духовной (иногда и буквальной) утраты под ногами родной почвы, родины как таковой. А вследствие этого утрачиваются силы, притом огромные — те, которые незримо, но мощно поддерживают человека на его родине. (Далее буду брать слова-понятия «das Heimische» и «das Unheimische» в оригинальном написании, и тут надеясь на то, что читатели будут вкладывать в них разъясненный Хайдеггером совокупный смысл.)
«Как мы можем противостоять напору des Unheimischen? — спрашивает Хайдеггер и отвечает: только так, что станем неустанно вновь пробуждать дарующую и целительную и охраняющую силу, исходящую от „das Heimische”, что мы вновь сделаем так, чтобы пробились источники силы des Heimischen, а мы для их потока (Fluß) и влияния (Ein/7uß) проложим верное русло» (Ibidem).
1 М. Heidegger. Anspache zum Heimatabend am 22.7.1961/700 Jahre Standt Meßkirch. 1961. S. 9 (курсив мой. — H. M.). Далее страницы по этому изданию указываются в моем тексте.
Все это остается возможным и действенным там, где силы «окружающей природы» объединяются с отголосками исторических традиций, где обычаи и с давних пор лелеемые нравы «определяют человеческое Dasein» (Ibidem). Подобные особые условия, верит Хайдеггер, должны наличествовать в поселениях вроде Мескирха. Люди, живущие там, призваны вновь осознать свое новое историческое предназначение, должны держать духовную дистанцию по отношению к суетной жизни больших городов и гигантских округов современного — безличного, нивелирующего, «безродинного» индустриализма. От последних малой родине не следует заимствовать образцы жизни и поведения, максимально сохраняя верность тому, что диктует «das Heimische ». И еще надо, наставляет поздний Хайдеггер, со всей ясностью осознать суть того, что есть и что несет с собой «das Unheimische»,— осознать его давящую, всепроникающую угрозу. Предваряя хайдеггеровское повествование насчет «das Unheimische», скажу: философу удалось описать скорее даже не черты своего времени, а универсальные приметы той эпохи, которая стала нашим настоящим.
Люди, разъясняет Хайдеггер, стали все чаще отдаляться от своей родины, большой и малой, утрачивать ее, не просто бездумно, но даже с радостью и особой страстью переселяясь в чужие места и нередко осваиваясь там комфортнее, чем на своей исконной родине. Это верное описание сегодняшнего времени, прозорливо, как бы наперед сделанное философом Мартином Хайдеггером. У него было необыкновенное чутье и прозрение — и не столько по отношению к социальным событиям, к поведению в сложнейших исторических ситуациях на своей родной земле (иначе не ввязался бы он в нацистское бедствие), сколько применительно к бытийным поворотам и соответствующим конкретным, фактичным умонастроениям людей. К таким именно, которые возникают как бы сами собой, но потом укореняются в бытии людей, в истории и одновременно — в их духовно-чувственном внутреннем мире.
Продолжим. Могут спросить: ну и что происходит в случаях, когда люди массово и охотно — навсегда или на время — покидают родину? Что случится, если человек утратит чувство большой Родины или родины малой, если для него будет существенной разве лишь быстрая смена нового на «самое новое» — в том числе в земном пространстве? Хайдеггер по понятным причинам не затрагивает «неудобных» вопросов, связанных с насильственной утратой родины. Ведь родина порою сама вытесняет, извергает преданных ей людей, в том числе несущих ей мировую славу (вспомним поколения россиян, выплюнутых с Родины революцией, репрессиями, или тысячи немецких граждан, обреченных национал- социализмом на бездомность, скитания, утрату большой или малой родины). И разве не приходилось изгнанным укрываться в настроения и мысли, которые когда-то выразила Марина Цветаева: «Мне все равно, в какой земле непонимаемой быть встречным»? А Ханна Арендт, одна из жертв нацизма, не хлебнула ли она полной чашей страдания утраты родины? Хайдеггер же остро ставит вопросы о «родинном» и «безро- динном» — как всегда не в конкретно-историческом, а в общебытийном ключе. Отвечает же он на них, переходя от проблем родной земли как «почвы» всей жизни на почву философии. Подобное безразличное
121
Часть I. Глава 5. Глубокие корни бытия и времени...
H.ß. Мотрошилово Шй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
122
к родине передвижение по пространству земного шара (а в перспективе — в околоземном пространстве) философ, с одной стороны, считает исторически неизбежным. С другой стороны, он призывает признать, насколько подобные тенденции меняют — и совсем не в лучшую сторону — характер жизни, земного бытования людей. Вот все это и призвана тщательно разобрать, осознать именно философия.
В «Бытии и времени» (мы об этом упоминали) Хайдеггер работал с важным для него и тоже оригинально изобретенным понятием «Weltlichkeit» (перевести лучше всего: «мировость», а не «мирность», как сделал В. Бибихин). В раннем сочинении Хайдеггер трактовал содержание и смысл этого понятия абстрактно-философски. После войны настала такая пора, когда уже нельзя было отвлечься от гула страшной истории, рассуждая о смысле «Weltlichkeit», т. е. о данности человеку окружающего мира. Вот и в разбираемом небольшом сочинении Хайдеггер пишет: «Повсюду и постоянно мы в многочисленных гештальтах усматриваем то, что сегодня определяет «мировость» (Weltlichkeit). Это — современная техника, которая ныне равным образом господствует на всей земле и даже над внеземными сферами мирового пространства» (Ibidem. S. 10). Здесь как будто бы отмечен вполне ясный, если не тривиальный факт. Но на деле возникает множество вопросов — в числе которых и проблемы «des Heimischen»— «des Unheimischen». Например, применительно к распространению современной техники во все регионы земли Хайдеггер ставит такой тревожный вопрос: в случаях (а ведь они — массовые для нынешнего этапа истории), когда народы, именуемые технически отсталыми, должны получать в качестве «подарка » современную технику, не разрушает ли подобное (то прямо насаждаемое, то более свободное) заимствование что-то собственное, корневое в жизни этих народов, не изгоняется ли «das Heimische», родное, и совершается опасное падение в «das Unheinischen»? Не кроется ли за как будто великодушной «помощью» надежды технически продвинутых держав учинить свое доминирование в технически «отставших» странах?
Мы видим, что вместе с острыми вопросами, которые для Хайдеггера плотно окружают тему «родинного» (das Heimische) и его утраты (das Unheimische), мы перемещаемся в наше время, в XXI век.
«Мескирх завтра? — возвращается Хайдеггер к своему исходному вопрошанию. — Все вплетено в сеть технического века. Вопрос, который возникает, касается не только этого города, не только нашей страны, Европы, но и человека этой земли... Возможно, он поселяется в сфере, где нет родины (Heimatlosigkeit). Быть может, из его Dasein исчезает отношение к родине, притяжение к ней. Возможно, посреди напора des Unheimischen пробивается новое отношение к das Heimische...» (Ibidem). Эти возможности Хайдеггер зарисовывает, но одновременно высказывает сомнение в полной победе des Unheimischen.
Философ и тут обращается к языку. Упоминает об известном во все времена экзистенциале бытия — тоске по родине (Heimweh). На первый взгляд кажется, говорит о своих наблюдениях философ, что тоска по родине в «сегодняшних» людях (Heutige) уже отмерла. Все же он призывает не доверять таким впечатлениям и кажимостям, сколь бы убедительными и массовыми они ни были: надо удержаться от убеждения,
будто «современный человек уже не знает, что такое родина и тоска по родине» (Ibidem). Это чувство живет и в «современном» человеке, но оно принимает иные, редкие формы, которые мы едва ли замечаем и опознаем.
Как ни парадоксально, тоска по родине в ее современном виде, выступает, согласно Хайдеггеру, не прямо и непосредственно, а в том, как для человека, отдаляющегося от родины, протекает время. И в том, сколь неодолимо его одолевает скука, питающая, как выразился еще Пушкин, охоту «к перемене мест». Но вместе с такой переменой человеческую жизнь новой эпохи еще плотнее окутывают скука, неприкаянность. И вот ответ Хайдеггера на вопрос о причинах таких настроений: «Можно предполагать: эта глубокая скука — в гештальте склонности расходовать свое время — есть скрытое, вытесненное и, однако, неустранимое тяготение к родине, а именно тоска по родине» (Ibidem. S. 13). И получается, согласно Хайдеггеру, что «во всем Unheimischen, хотя и скрыто, к нам приходит родина, которую мы ищем» (Ibidem. S. 14).
Как и во многих других случаях, Хайдеггер обращается к словам языка, вышедшим из употребления, — здесь к слову «Gottesacker» (составлено из двух слов — «Бог» и «акр земли», в переносном смысле это символический кусок земли, пусть и брошенный людьми, но облюбованный Богом). Философ следующим образом толкует смысл устаревшего слова: «...на этом акре вновь произрастает воспоминание о прошедшем. Так, на нем вырастают мысли о родительском доме и юности — а вместе с ними все силы и вся мощь, какие наделяют [нас] целительным, плодотворным и непреходящим, всем до сих пор значимым» (Ibidem). Что в свою очередь и является гарантией того противодействия напору des Unheimischen, об опасности которого часто, не только в разбираемой празднично-юбилейной речи говорил и писал Хайдеггер — и делал это красноречиво, весьма правдиво и исторически прозорливо. «Посреди 'des Unheimischen мы осуществляем возврат в das Heimische. Этот возврат к родине (Heimkehr) в силах — если мы заботливо, без спешки остаемся на пути к ней — так вот, этот возврат в силах вновь и вновь превозмогать все впадения в Unheimische» (Ibidem. S. 15).
В заключение своей речи Хайдеггер вспоминает о праздничном поводе: ведь он выступает на «Heimatabend», вечере празднования 700-ле- тия(!) как будто бы скромного родного города. В начале речи он напомнил: вечер, будь это вечер дня или вечер жизни, дает повод к осмыслению. В результате совершается романтическое и теоретически убедительное осмысление именно «возврата на родину», нового пробуждения всей гаммы чувств связи с нею, которые следует беречь, лелеять, специально воспитывать — и больше всего это нужно посреди стремительной смены людьми мест бытования и проживания...
И еще об одном, очень сильном факте следует задуматься в связи с этой и с другими идеями «родинного» и «безродинного», энергично и страстно обоснованными Хайдеггером. Ведь независимо от того, что кто-то покинул свою большую и малую родину, она продолжает существовать на земле. Какие-то люди — твои земляки — рождаются, живут там в каждый данный момент, возделывая землю, обустраивая свой край, радуясь и страдая, впитывая в свою жизнь, в свое Dasein судьбу
123
Часть I. Глава 5. (лубокие корни бытия и времени...
Н.в. Мотрошилово Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Врендт: бытие-еремя-любовь
124
родины, как бы проникаясь, сознательно или незаметно, «местными духами» — особенностями языка, нравов, обычаев и многим другим, что остается в человеке даже и тогда, когда он не только покидает родину (вынужденно или добровольно), но и как бы отрешается от нее. К слову, выдающиеся писатели России, изгнанные с родины в разные времена истории, многое поведали миру о тоске по родине, когда злые силы, воцарившиеся в их стране, отталкивали, изгоняли их, но не смогли перечеркнуть неизбывное «Heimweh». Вспомните щемящие строки такого изгнанника Иосифа Бродского: «На Васильевский остров я приду умирать...» Надо упомянуть и о тех российских писателях разных времен, которые, подобно И. Бунину, вспоминали малую родину, писали о корнях, о радостях и страданиях своих земляков. И не на одной земле России, но и всех других стран известны и любимы такие авторы, наиболее близкие корням народной жизни.
Хайдеггер был из тех людей, которые не только помнили о своих родных, в том числе местных корнях, но и гордились ими. Он часто навещал Мескирх — и тогда, когда был одним из безвестных уроженцев этого края, и когда стал одним из наиболее знаменитых, если не самым знаменитым в мире гражданином маленького городка. На кладбище Мес- кирха похоронен Хайдеггер и его жена Эльфрида (см. вклейку, фото 12).
В своей Биографии Хайдеггера я подробно осветила чувствительную и до сих пор животрепещущую тему — вопрос о дистанции, которая должна четко отделять плодотворный, социально и нравственно продуктивный патриотизм от воинствующего национализма, постоянно подразумевающего вражду к другим нациям, народам и народностям и всегда чреватого кровавыми бедствиями. Хайдеггер, к несчастью, не увидел, сколь существенна эта дистанция, и не соблюдал ее, хотя бы на время примкнув к национал-социалистическому движению. Тем не менее есть много правды и смысла в сказанном Хайдеггером до 1933 года и после войны о большой Родине и родине малой, о теплом и естественном патриотизме, преданности «родинным» корням и о значении «das Heimische» для человека, его укорененности на земле — и о необходимости противостоять напору, исходящему от «das Unheimische» (бездомности, неприкаянности в широком духовном и также в физически-пространственном смысле). В этом наследии, насколько оно мне известно, я не нахожу коробящих ум и сердце агрессивно-националистических оттенков.
Вот почему считаю мысли и идеи, ярко, страстно высказанные и глубоко обоснованные Хайдеггером, верными, ценными и непреходящими. Эти мысли многое раскрывают в самом Хайдеггере как личности и в его философии, ее поворотах. А также объясняют некоторые побудительные причины поворота (Kehre) от Dasein к Seyn, т. е. к центрированию поздней хайдеггеровской философии не в бытии-сознании, не в индивидуальном здесь-бытии-существовании, как это было в «Бытии и времени», а в том Бытии, которое шире, больше, неизмеримо древнее, значимее отдельного человека и «дано» ему, плотно охватывает его и открывает ему «свой свет» в силу и с момента его рождения на Земле. Притом рождения в каком-то особом месте на планете, которое хоть и становится для каких-то людей их малой родиной, но независимо от этих «фактов» тоже «бытийствует» исторически, меняясь, двигаясь от
прошлого и настоящего к будущему, что способны ухватывать и о чем в силах вопрошать лишь человеческие индивиды и их поколения.
Индивидуальное Dasein находит в этом природном и историческом бытийном мире особые, на всю жизнь незабываемые пути, тропы и вехи (Wegmarken), которые становятся своего рода дорогами судьбы. В родном Хайдеггеру Мескирхе таким конкретным и символическим трактом, пролегшим через всю жизнь философа, стал знаменитый «Feldweg» — путь вдоль поля (буквально — проселочная дорога), увековеченный в ряде малых произведений философа1 (см. вклейку, фото 13).
felduueg — дорого родины и судьбы
Книжечка Хайдеггера «Der Feldweg», маленькое произведение Хайдеггера, вышла в 1989 году изящным иллюстрированным изданием в издательстве «Vittorio Klosterman», что во Франкфурте-на-Майне (оно публикует Полное собрание сочинений философа и хайдеггероведче- ские сочинения)2. Книжечка ценна тем, что каждый отрывочек трогательного, искреннего лапидарного сочинения сопровождается (чернобелыми) фотографиями тех частей пути, о которых философ говорит именно в данном отрывке. При этом фотографии запечатлели окрестности Мескирха в том виде и порядке, в каких они представали взору Хайдеггера, когда он еще и еще раз проходил по Feldweg — что случалось повседневно, когда он жил в родном городке, и достаточно часто, когда он посещал Мескирх, нередко со своими гостями. Далее я воспроизведу главные впечатления Хайдеггера-мыслителя, в философии которого конкретный, «фактический» путь, ведущий из Мескирха вдоль поля к отдаленному лесу, стал одним из многозначных символов малой родины.
Но сначала — о чисто личном уже для меня моменте. Среди самых знаменательных событий моей жизни — посещение Мескирха и Тодтна- уберга в 1994 году. Это стало возможным благодаря приглашению Йор- га Хайдеггера, старшего сына Мартина Хайдеггера, погостить в доме его семьи во Фрайбурге3. В этом гостеприимном доме мне посчастливилось узнать много нового и о Мартине Хайдеггере, и о его баденском местопребывании. Особой удачей стало то, что Й. Хайдеггер повез меня
1 Небольшое обращение к читателям: когда будете читать нижеследующий раздел, вспомните, что (почти) у каждого из нас есть свой «Feldweg», путь в родных местах... Кстати, об одном особом социально-историческом обстоятельстве, касающемся России. В 1917 году (под обещание «земли крестьянам») у населения страны, проживающего в городах, отняли право иметь свой участок земли где-то в сельской местности. И когда в 50-х годах XX века власти милостиво «разрешили» нам иметь на земле пресловутые 6 соток и очень скромный собственный домик, это была настоящая социальная отдушина. Многие горожане воспользовались этой возможностью. И с тех пор они тоже знают, что такое Feldweg, могут понять то, что Хайдеггер повествует и — в конкретном, фактическом смысле — о дороге к лесу в родном Мескирхе и в символическом, типологическом аспекте, затрагивающем любого человека, вообще способного ходить по земле...
2 М. Heidegger, Der Feldweg. Fr. a/M., 1989 — цитируется далее по этому изданию.
3 Приглашение и знакомство опосредовали замечательный хайдеггеровед, один из издателей Полного собрания сочинений Хайдеггера В. фон Херрманн и его жена В. фон Херрманн, которым я — пользуясь случаем — выражаю свою глубокую благодарность.
Часть I. (лова 5. (лубокие корни бытия и времени...
Н-В. Мотрошилоеа Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
126
(сначала) в Мескирх — ив этом городе показал все самое важное, что было связано с детством, юностью его отца, с последующими приездами в Мескирх. Не буду вдаваться в то, какие чувства наполняли меня, когда довелось своими глазами увидеть родной дом семьи Хайдеггеров, взобраться на колокольню церкви Святого Мартина и разглядеть все описанные Мартином Хайдеггером семь главных колоколов (восьмым, кстати, был камертон, по которому настраивали сами колокола), когда представилась возможность повторить «Feldweg», столь значимый для Хайдеггера и его судьбы. Рассказывая сейчас о Мескирхе и позже о Тодтнауберге, позволю себе воспроизвести — кроме официальных снимков хайдеггеровского времени — собственные фотографии тех же мест.
Итак, «der Feldweg». Это распространенное немецкое слово, обозначающее проселочную дорогу, дорогу вдоль поля, в хайдеггероведе- нии сделалось нарицательным, ибо стало охватывать, символизировать совокупный смысл: здесь и символ родного края, дорогой сердцу природы, и проселок, идя по которому размышляют, беседуют, спорят — как это делали Хайдеггер и его гости в разные периоды жизни. И наконец, улица окраины Мескирха, ведущая к дороге; у нее было свое название, а теперь — в честь Хайдеггера и его знаменитого краткого сочинения, о котором пойдет речь, ее назвали «Am Feldweg», за что растроганный философ искренне-признательно поблагодарил своих земляков. (Вот почему Feldweg здесь — не просто «проселочная дорога», как подсказывает словарь, а все то, что только что описано. Потому в цитатах из Хайдеггера я тоже буду писать слово «der Feldweg» в оригинале.)
Если знаешь сочинение Хайдеггера, а потом волей счастливого случая вступаешь на знаменитую проселочную дорогу, то поначалу испытываешь легкое разочарование (его, признаюсь, испытала и я, в 1994 году попав на Feldweg (см. вклейку, фото 14)). Дорога эта (что видно из снимка хайдеггеровского времени и из моего фото 1994 года) была и остается обычным проселком, лишенным каких бы то ни было красот и внешних достопримечательностей. (Замечу, правда, что Feldweg в данном случае — типично немецкая сельская дорога, крепко и ладно утрамбованная, в отличие от российских дорог этого типа лишенная ухабов, колдобин и губительных обочин.) Но теперь сама она — достопримечательность, потому что читатели, почитатели и просто гости-путешественники знают Feldweg как «дорогу Хайдеггера».
Хайдеггер же, полагаю, воспел Feldweg, с одной стороны, как раз благодаря его обычности, сугубой типичности и тысячекратной повторяемости и в ландшафте его страны, и в неизмеримом множестве сельско-провинциальных ландшафтов разных стран. А с другой стороны, потому что он как бы представил себе всю важность и уникальность неисчислимых путей людей разных поколений по проселочным дорогам своей родины и остального мира.
Feldweg в Мескирхе уводил от окраины города к лесу. И Хайдеггер, как бы сопровождая своих читателей, приводил их сначала к грубо обструганной скамейке возле высокого раскидистого дуба — и тут переводил как бы конкретный разговор о «фактичности» своего родного Feldweg к философскому уровню, к рассуждению о путях, избира¬
емых мышлением, о разрешении им загадок мысли. Ибо путь, который тропинка пролагает через поле, через ниву, Хайдеггер с первых строк уподобляет... путям мышления. Этот путь вдоль поля, Feldweg «остается столь же близким шагу мыслящего, как близок он шагу крестьянина, который ранним утром направляется на работу в поле (буквально „zum Mähen” — на косьбу, жатву, молотьбу. — Я. М.)» (S. 13).
Двигаясь по Feldweg, Хайдеггер вспоминает те времена, когда его отец выбирал и обрабатывал древесину дуба для своего бочарного ремесла и когда он проводил редкие минуты отдыха в лесу, прислушиваясь к отдаленному бою башенных часов и к звуку колоколов церкви — а они, пишет Хайдеггер, «поддерживали свое собственное отношение к времени и временности (Zeitlichkeit)» (Ibidem).
Воспоминание философа восходит к тем ранним детским годам, когда из круговых пластин дуба мальчишки выпиливали свои кораблики, которые потом оснащали парусом и рулем и пускали плавать по ручью. И вдруг — трогательное воспоминание о матери, ибо «царство» игры ребятишек, пишет Хайдеггер, «было ограничено глазами и руками матери. Было так, как если бы ее невысказываемая забота охраняла все существенное» (Ibidem. S. 15). (Напомню: Хайдеггер очень любил свою мать, и сыновнее родственное единство с нею связывал с магнетическим притяжением малой родины. Доказательством глубокого духовного родства стало то, что в гроб матери Мартин велел положить только что появившийся экземпляр «Бытия и времени».)
Твердость и запах древесины дуба, продолжает Хайдеггер рассказ о Feldweg, говорили о многом: о длительном времени, когда дуб вырастает, и о том, что «в таком росте все и коренится. Ибо „расти” — это означало, что открывалась широта неба — и одновременно все коренилось в темноте земли и что все добротно-самородное только тогда таково, когда и если человек есть одновременно нечто двуединое: он готов к зову высшего неба и приподнят тем, что взят под охрану землей-носитель- ницей» (Ibidem. S. 15). Вплетаемый Хайдеггером личный мотив — воспоминание об отцовском деле и круге непосредственной материнской заботы — более чем уместен для описания примет дороги родины и дороги жизни...
Вот так — между простой «фактичностью» и философским романтизмом — Хайдеггер проводит через Feldweg своих воображаемых спутников. И еще: он напоминает людям, сколь прочны — несмотря на все «преобразующие» усилия человечества — природные данности и ритмы их бытия. Многое в родной природе постоянно для сменяющих друг друга поколений. Хайдеггер описывает дальние горизонты полей возле Мескирха и Feldweg. Погружаются ли Альпийские горы, возвышающиеся над лесом, в вечерние сумерки; или там, где Feldweg петляет над волнами холмов... или из той местности, где находится родина матери (Хайдеггера), доносится и проносится восточный ветер... или туман целыми днями висит над полями, всегда и повсюду Feldweg окутывает «призыв самости» как чего-то простого и подлинного: «Простое хранит загадку непреходящего и великого. Неопосредовано оно, простое, закрепляется у людей и требует долгого произрастания. В невзрачности всегда одного и того же (Selben) скрывается его благословенность. Ши-
127
Часть I. Глава 5. Глубокие корни Бытия и времени...
128
а
ю
&
&
СЕ
О
X
X
о
И
О
о»
>х
д
0 8
1
!
cd
X
рота всех выросших вещей, которые пребывают вокруг Feldweg, дарует мир. В непроговоренности его языка, как сказал старый мастер чтения и жизни Экхарт, Бог впервые есть Бог» (Ibidem. S. 17).
Но люди, увы, далеко не всегда могут понять, чтить, даже уловить подлинный смысл обращений «простого ». «Человек — если он не слышит призывов, исходящих от Feldweg, — тщетно стремится, выполняя свои планы, привести в порядок земной шар. Грозит опасность того, что сегодняшние люди (die Heutigen) остаются глухими к этим призывам... И так человек разрушается, сбивается с пути (становится weglos). Разрушенному человеку простое кажется однообразным. А однообразное порождает пресыщение. Раздраженные люди находят только однообразие. Простое ускользает. Его тихая сила побеждена. И вот так очень быстро уменьшается число тех, которые знают простое как ими самими обретенную собственность. Но немногие везде станут непреходящими. Они способны — благодаря мягкой силе des Feldweges — длиться дольше тех огромных сил атомной энергии, которые симулируют человеческий расчет и становятся оковами для подлинного деяния» (Ibidem. S. 21).
Хорошо помню, что сначала пораженная сугубой обычностью, простотой знаменитого Feldweg, я быстро вспомнила: ведь текст «Der Feldweg» — это гимн простоте как фундаменту ладного, соразмерного отдельному человеку бытия. И тогда многое встало на свои места. Тема эта предстала как мудро составленное и потому не устаревающее предостережение философа против такого устройства жизни, когда в жертву приносится простое, понятное, необходимое, коренное (родной край, обычаи, ладные ритмы и скорости жизни, нормальные устои бытия на земле, простая, но вечная нравственность, да и многое другое) и устраивается погоня за изощренным и извращенным, которое приобретает бесчисленные формы и становится не суммой «нормальных», потому что естественных стимулов, а полчищем симулякров, подделок... И ведь тогда одним из первых толчков к преобразованию сущности и бытия человека действительно становится — прав Хайдеггер — утрата простого Feldweg, утрата родного (das Heimische) и впадение в чуждое, неестественное для человека (das Unheimische).
Тодтнауберг (Todtnauberg) и «хижина» (Hütte) Хайдеггера
Название местечка Тодтнауберг, что затеряно в южном Шварцвальде, тоже стало широко известно благодаря Хайдеггеру. Раньше в нашей книге не раз говорилось о Тодтнауберге и «хижине» как той части родной земли, которая стала приютом для философа и его семьи, а для самого Хайдеггера и местом вдохновенного труда. Он часто живет и работает там; многие его письма отправлены из этого местечка. Есть описания Тодтнауберга, сделанные самим философом. Приведу одно из них: «На крутом склоне широкой горной долины южного Шварцвальда, на высоте 1150 метров приютилась небольшая лыжная хижина. В основании — 6 на 7 метров. Низкая крыша перекрывает три комнаты: кухню, спальню и кабинет. В узкой горловине долины видны на одной стороне склона разбросанные по нему и свободно раскинувшиеся крестьянские усадьбы с большой кровлей. Горный склон спу-
скается от альпийских лугов и пастбищ вплоть до леса с его старыми, устремившимися ввысь темными елями. И над всем этим простирается светлое летнее небо, в сияющем просторе которого широко кружат два ястреба.
Таков мир моего труда, который могут увидеть своими глазами склонные к созерцанию гости и отдыхающие»1.
Свидетельствую как один из гостей, «склонный к созерцанию», тем более в данном случае, когда речь идет об особых впечатлениях от ставшего знаменитым Тодтнауберга с его хайдеггеровской хижиной: простое, сдержанное описание, относящееся к кусочку горячо любимой философом и его семьей шварцвальдской земли, на котором примостилась действительно словно бы приросшая к горному склону более чем скромная «хижина», — оно полностью достоверно и сегодня. Ибо со времени ее возведения и до сего дня ни одного строения не появилось рядом. Темные ели окружающего леса — пожалуй, те же самые, либо сравнявшееся с ними по высоте их потомство. В долине на тех же, наверное, местах просматриваются крестьянские усадьбы.
Хижина не претерпела никаких изменений и перестроек. По предсмертной воле Хайдеггера, из нее не сделали «музея», доступного для любых посетителей. Нередко бродят вокруг и подходят к домику туристы, но хижину они видят почти всегда закрытой. Лишь члены семьи приглашают туда гостей, открывая хижину своими ключами. Так и мне Йорг Хайдеггер открыл, позволил осмотреть хижину, сделать несколько любительских снимков. Когда Йорг Хайдеггер отворил хижину и мы вошли внутрь, я своими глазами увидела «три комнаты», вернее, три крохотные комнатушки, в числе которых — та, которая поименована «кабинетом» (см. вклейку, фото 15). Но вмещает она всего лишь небольшой стол с лампой, стул, несколько полок. Порой можно прочесть, что за столом в «кабинете» Мартин Хайдеггер писал «Бытие и время». Но Йорг Хайдеггер поведал, что летом его отец работал (также и над легендарной книгой) внизу, в деревне, где снимал комнату. («В хижине шумели мы, дети», — заметил Йорг.) В деревню Мартин уходил рано утром, поднимаясь в домик к обеду или ужину.
Впечатления от посещения этого уголка Шварцвальда — особенно благодаря возможности осмотреть легендарную хижину — были, разумеется, очень сильными2 * * 5 (см. вклейку, фото 16 и 17). Они были зримо дополнены фильмами, которые любезно показали мне Й. и X. Хайдеггер. Вот хижина зимой (красивейший зимний снимок; см. вклейку, фото 18). Не надо забывать, что Хайдеггер назвал домик «лыжной» хижиной. И в самом деле, фильмы показывают зимний быт Хайдеггера и его семьи в Тодтнауберге. Вот Хайдеггер «по горнолыжному» технично спускается вниз с заснеженной горы. Вспомним, что лыжные прогулки играли важную роль не только в жизни Хайдеггера, но и в его
129
1 М. Heidegger. Denkerfahrungen. Fr. а/М., 1983. S. 9-10.
1 Здесь я публикую ряд дорогих моему сердцу фотографий, которые сделал
Йорг Хайдеггер и на которых запечатлено мое посещение хижины; здесь — вид на долину и одна сторона хижины, возле которой Йорг примостил красивый резной стул
из хижины, на коем я сижу (на нем наверняка сиживал сам Хайдеггер и сидели его гости). Ббльшая часть фотографий публикуется впервые.
5 694
Часть I. fiioea 5. (лубокие корни Бытия и времени...
130
s
0
1
1
m
x
«народном», «местном» воззрении: он считал, что лыжный спорт как бы сливает человека с малой шварцвальдской родиной, с ее неповторимой природой (см. вклейку, фото 23). А вот к хижине из долины пришли крестьяне — поздравить Хайдеггера с днем рождения и пообщаться с ним: таков был многолетний обычай. У стенки дома поставлен стол, на нем — скромное угощение. Кстати, у крестьян, пришедших снизу, были куда более просторные, богатые дома, чем хижина профессора Хайдеггера.
В кадрах фильма запечатлены сценки семейного быта в Тодтнау- берге, его ритм. Вставали рано, в 7 часов утра. На одном из кадров Мартин, еще сидя в одной из постелей, поставленных в крошечной спальне вплотную друг к другу, на ручной кофейной машине мелет зерна для утреннего кофе. А вот Эльфрида вынимает занозу из пальца мужа. Вечером — читают вслух (кадр: Эльфрида читает, Мартин слушает) или вместе слушают музыку (в старом немом фильме — это «Женитьба Фигаро», как сказали мне Хайдеггеры; Эльфрида отбивает такт ногой). Обитатели хижины одеты очень просто, привычно для тех мест. (На некоторых кадрах — Хайдеггер в необычной для стороннего глаза остроконечной шапке. Й. Хайдеггер пояснил: такие головные уборы носили шварцвальдские крестьяне.)
Основные впечатления — те же, что и при посещении Мескирха. Это захватывающая дух красота природы и необыкновенная для нашего времени простота, скромность шварцвальдского бытия семьи Хайдеггеров, опять-таки «корневая» близость не только к родной природе, но и к жизни, жителям окружающих мест. Здесь тоже часть малой родины с ее необыкновенной красотой: ведь Шварцвальд — сердце прекраснейшей Южной Германии, родного края Хайдеггера. Но и с ее (тогдашним) скромным, добротным повседневным бытием, «внутри» которого профессор чувствовал себя «вполне у себя дома». Если искать конкретную, фактически-зрительную иллюстрацию к ранее рассмотренному хайдеггеровскому понятию «dasHeimische»,то — наряду с Мескирхом, с Feldweg — весьма подойдет хижина в Тодтнауберге. Будучи неповторимым местом на земле, органически включенным в долгую жизнь Мартина Хайдеггера, Тодтнауберг — поскольку о нем часто говорит сам философ, потому что в нем очень многое пережито, — это яркий символ куда более общего смысла. А именно: вспоминая Тодтнауберг и знаменитую хижину, каждый может подразумевать нечто свое, личное, близкое, коренное, «родинное» и родное, без чего прожитая и еще проживаемая жизнь непредставима. В любом месте земли есть1 явные «следы» исторического Бытия — и сколь важно, если это Бытие
1 Вот и я пишу эти строки, сидя на веранде своего загородного дома, возле которого — «вздымающиеся ввысь» вековые темные ели, которые в течение сорока лет соучаствовали в моей жизни, в ее радостях и невозместимых утратах, в трудах и днях... Я хорошо чувствую и понимаю все сказанное Хайдеггером о Родине, о поддерживающей силе родной земли. Поскольку мой дом — в нескольких километрах от Сергиева Посада, всей душой принимаю философскую склонность Хайдеггера объединять в (позднем) понятии Беуп конкретное бытие и Бытие как таковое, подразумевающее также непостижимую длительность и прочность наших исторических корней. Ведь и дорогая мне часть российской земли была «от века» еще задолго до того, как в XIV веке на ней жил и творил историю Сергий Радонежский.
твоей родины, твоего края. Одна из самых главных троп мысли Хайдеггера, на мой взгляд, именно эта: такое Бытие никак нельзя предать забвению и тем более обречь на уничтожение...
Но вот здесь следует сказать о несходстве немецкого и российского исторического опыта во многом, что касается Родины — большой и малой. Непреходящая черта опыта немецкого: при том, что в истории Германии был всплеск двенадцатилетнего национал-социалистического варварства, принесшего неисчислимые бедствия всему миру и не в последнюю очередь самой немецкой Vaterland, отчизне, — после всего этого безумия немцы опомнились и снова учредили на своей родине порядок, более свойственный историческому бытию Германии. А именно: теперь возрожден и укреплен тот способ цивилизационного бытийствования, при котором, выражаясь слогом Хайдеггера, лелеют, пестуют подлинное (rechte) обустройство жилищ, жилого быта, в деревне — также и вспомогательных построек; следят за качеством дорог, за (почти) идеальным состоянием общих лесов и частных полей; не допускают свалок мусора и т. п. Поскольку в этих местечках на древней немецкой земле, как правило, сохраняются исторические достопримечательности, постольку их берегут и всем миром, и благодаря особым усилиям местных властей, постольку население не на (громких) словах, а на (реальном) деле доказывает, что гордится своей малой родиной, сохраняет ее дорогое людям своеобразие. Словом, немцы завидным образом следят за всем, что делает малые поселения и города достойным, красивым местом проживания, предметом исторической гордости.
На этом фоне хайдеггеровская теория, акцентирующая «das Heimiche», выглядит тем более убедительной, что и во время Хайдеггера, и сегодня не громкие слова1, а дела, простые, но постоянные, непременные, присоединяемые усилиями поколений, не меняют, а, пожалуй, укрепляют в Германии (а также в Австрии, Швейцарии, Голландии и т. д.) высокий общесоциальный и исторический статус провинции, мест малой родины, философски воспетых Хайдеггером2. В этих местах и местечках немецкой земли, кстати, действительно живет и процветает общинный дух — взаимоподдержка, действенный объединяющий людей интерес к делам своей малой родины, к правовому порядку в самой небольшой деревне и крохотном городке, контроль за муниципальными властями3 — и многое другое, что почти совсем исчезло в российской провинции. И не случайно именно последняя пре-
1 На такие слова падки националистические златоусты у нас на Руси, где провинциальные местечки и городки с богатейшей, длительной историей и благословенной, несмотря ни на что, природой сегодня леденят души своим антицивилизацион- ным, поистине варварским запустением.
1 Более подробный анализ сходных структур и феноменов дан В. Подорогой в ряде его замечательных работ под общим названием «метафизики ландшафта » и проиллюстрирован как раз высказываниями Хайдеггера о Тодтнауберге. (См. мое эссе к юбилею В. Подороги: Н.В. Мотрошилова. Отечественная философия 50-80-х годов XX века — Западная мысль. М., 2012. С. 292 и далее.)
3 Впрочем, и в сегодняшней Германии многое в устоях ее повседневной жизни, в завоеваниях послевоенного периода, увы, поставлено под угрозу. Но это особый вопрос.
131
5*
Часть I. (лава 5. Глубокие корни Бытия и времени...
н е. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бытие-время-любовь
132
жде всего и пострадала в последние десятилетия жизни России — от бесхозяйственности, губительных (псевдо)рыночных идей, от сращивания местной преступности с безответственной властью, от беспробудного пьянства отцов, а теперь и матерей семейств, от искоренения местной интеллигенции, от утраты ценностей, нравов, устоев; и еще из-за полного отказа от тех линий порядка, устроения, которые все же существовали при советской власти, тем более от разрушения тех провинциально-общинных устоев, кои веками существовали на Руси.
Представляется ясным, что в таком разрушении «родинного», в том числе провинциально-местного уклада и устроения, коренится неуспех как будто бы энергичных, дорогостоящих реформ последнего времени в нашей богатой — ресурсами, умами, идеями и замыслами — многострадальной стране.
Вернемся к повествованию о том, что случилось с нашими героями уже в 30-х годах XX века.
ГЛАВА 6
После расставания
Ханна Арендт: хождение по мукам
В конце 20-х годов Хайдеггер и Арендт пошли каждый по своей более или менее обычной жизненной дороге — как в более спокойные времена делают в подобных ситуациях многие люди, любившие и любящие друг друга, но вынужденные расстаться (см. вклейку, фото 19). А вот в 30-х годах, особенно вокруг 1933 года, их расходившиеся пути обрели существенно различную социально-политическую и экзистенциальную окраску. Что случилось с Хайдеггером, как он — хотя бы и временно, хотя бы только в университетских делах (см. вклейку, фото 20) — примкнул к национал-социалистическому движению, как он потом по крайней мере внутренне отдалился от гитлеризма, не будучи в силах проявить это в каких-либо явных, тем более решительных внешних поступках, — о том подробно рассказывается в работах, авторы которых придерживаются различных, иногда прямо противоположных подходов и оценок. О позициях «защитников» или «обвинителей» я также рассказала в своей перепечатанной в Приложении к данной книге биографии Хайдеггера («Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера»), в которой старалась строго придерживаться фактов, документальных свидетельств и к которой снова отсылаю читателей.
Как сложилась в 1933 году и после него жизненная судьба Ханны Арендт? Увы, на ее долю действительно выпало «хождение по мукам». И такой же была судьба сотен тысяч мужчин и женщин, особенно евреев, которые до того жили, учились, работали в Германии, считая ее своей родиной, а себя — принадлежащими к истории, культуре этой страны. Общей формулой их судьбы можно считать название одного из разделов книги А. Груненберг «Преследование и бегство».
Расскажем здесь только о главных вехах этого периода жизни Ханны Арендт, который мы, используя другой известный в нашей стране образ (говорящий к тому же о скорбной исторической параллельности структур жизни в различных тоталитарных странах), можем назвать «крутым маршрутом» — в том строгом смысле этого подчеркнутого (испорченного современным молодежным сленгом) слова, который издавна укоренен в русском языке и означает чрезвычайную трудность, драматизм пути, исполненного горя и страданий.
В феврале 1933 года Гюнтер Штерн, первый муж Ханны Арендт, был вынужден спасаться бегством, потому что преследование евреев в нацистской Германии стремительно становилось жутким, но повседневным фактом жизни, ее ужасом (Furcht). А вскоре Ханну Арендт в первый раз арестовали. Была арестована и ее мать Марта. Ханне вменяли в вину то, что она — по поручению «Сионистского объединения Германии» — исследовала конкретные проявления теперь уже нарастающего, как снежный ком, официально узаконенного антисемитизма. (Хочу напомнить, что слово «сионизм» и соответствующие прилагательные не имели в тогдашней Германии и подчас не имеют сегодня того негативно-
Н.в. Мотрошилова СЩИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
134
го смысла, который они приобрели в нашей стране, означая крайне агрессивные, националистические формы идеологии и подхода к решению еврейского вопроса.) Сама Ханна относилась к агрессивному еврейскому (как и всякому другому) национализму резко отрицательно. В начале 1933 года маховик национал-социалистического государственного антисемитизма только начал раскручиваться. Ханну скоро освободили из- под стражи. Один чиновник из криминальной полиции способствовал ее освобождению (о чем она рассказала в своих позднее опубликованных заметках1). Двадцатисемилетняя женщина поняла: надо срочно бежать из Германии.
Ее путь лежал через Прагу в Париж, где раньше поселился муж, Гюнтер Штерн (Андерс). Но вскоре супруги, совместная жизнь которых разладилась еще раньше, расстались и поселились в разных жилищах. Правда, дружеские отношения сохранились. Г. Штерн впоследствии помогал Ханне, в частности, способствовал ее приезду в США.
Поворот в бытии, мышлении, мире чувств преследуемых людей был в Германии того времени беспрецедентным. Рвались все корни и нити преемственности, соединявшие с прежней жизнью, ее укладом, устоями, традициями.
Уже и в первом потоке этой исторической турбулентности ее жертвы не могли не задумываться о причинах, формах и последствиях случившегося. Ханна Арендт, что выяснилось уже после войны, была, пожалуй, в авангарде мыслителей, не просто употребивших значительные усилия для глубокого теоретического осмысления всей той совокупности тенденций и событий, которая привела к грандиозному социальноисторическому потрясению, но и нашедших для объяснения наиболее адекватный теоретический жанр на границе социальной философии, философии политики и зарождающейся социологии. Но это произойдет позже. Погруженная в самую гущу трагических перемен, она уже обнаруживает способность объективно зафиксировать их приметы, взглянуть на происходящее критическим испытующим и нестандартным взором. Ханна достаточно необычно оценила трагическую перемену в способах бытия тогдашней Германии. Приведу обширную цитату из упомянутых более поздних заметок X. Арендт: «Я вышла из сферы чисто академической деятельности. И в этом отношении 1933 год произвел на меня сильнейшее впечатление... Часто думают: шок, пережитый немецкими евреями в 1933 году, объясняется тем, что Гитлер захватил власть. Что же касается меня и людей моего поколения, я могу сказать — [такое объяснение] является курьезным недоразумением. Конечно же, все сложилось очень плохо. Но происшедшее было политическим явлением. И оно не было чем-то чисто личным. Наци были нашими врагами — и чтобы знать это, мой бог, нам не надо было, уж простите, дожидаться захвата власти Гитлером!
По меньшей мере за четыре года до того каждому человеку, который не был слабоумным, все стало полностью очевидным. Мы знали также, что за происшедшим стоит значительная часть немецкого народа. В этом отношении 1933 год не мог нас шокировать, застать врасплох...
1 Н. Arendt. Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk/ Hg. von Ursula Ludz. München; Zürich, 1996. S. 49f.
Во-первых, здесь была всеобщая политическая, даже и личная судьба.
Во-вторых, Вы же знаете, что означало „Gleichschaltung”1. Оно подразумевало, что этому процессу (sich gleichschalten) поддавались друзья. Ведь личная проблема состояла не в том, что творили наши враги, а как раз в том, что делали наши друзья. И тогда, на волне этой унификации, которая была достаточно добровольной, во всяком случае не исполнялась под давлением террора, [вот что имело место]: вокруг того или иного человека как будто образовывалось пустое пространство. И я могу утверждать, что среди интеллектуалов такое унифицирующее подчинение стало, так сказать, правилом. А среди других [слоев] такого не было. И этого я никогда не забывала. Я покинула Германию с главным представлением: никогда больше! Я никогда не примкну к какой-либо интеллектуальной истории. Я никогда не буду иметь ничего общего с этим сообществом. Я, естественно, не разделяла того мнения, что немецкие евреи и немецко-еврейские интеллектуалы, если бы они были в иной ситуации, чем та, в которой они оказались, вели бы себя существенно иным образом...
Я была того мнения, что все связано с этой профессией, с интеллектуальностью» (Ibidem. S. 55f.).
К этому по-своему удивительному признанию Ханны Арендт нужно будет вернуться. Но и теперь стоит отметить, ибо это впрямую относится к стержневой теме моей книги: относительно нацистов и Гитлера изгнанным и преследуемым немецким гражданам, все равно, евреям или неевреям, многое было ясно еще до 1933 года. Здесь для них как бы и не возникло особых сюрпризов. Настоящим потрясением стало сотрудничество с нацистами, гитлеровцами бывших друзей, коллег. Во всяком случае для Ханны, ее близких и друзей неожиданными оказались смирение, фактический коллаборационизм многих немецких интеллектуалов. В том, что Хайдеггер стал одним из главных прототипов обобщения, сделанного Ханной Арендт уже в 1933 году и повторенного позже, не приходится сомневаться. При этом бежавшая с родины, но знавшая тогдашние условия Ханна очень точно констатировала: когда некоторые интеллектуалы, которые, подобно Хайдеггеру, явно, четко, в известной степени демонстративно встали на сторону фюрера и его приспешников, то они сделали это совсем не потому, что на них оказывалось политическое или иное давление. Террор в то время еще не был развязан. «Попутчики» все делали, как верно заметила Ханна, «достаточно добровольно», пока что не перед лицом смертельных угроз. Причинами были: какое-то единомыслие с нацистами либо расчет подняться выше по карьерной лестнице. (Так, в случае Хайдеггера сыграло свою роль желание стать ректором, чтобы осуществить давно лелеемую университетскую реформу и даже утвердиться в качестве «главного философа» Германии.)
Версия Хайдеггера и его жены о том, что стать ректором его уго- ворили-де коллеги, а что сам он к продвижению на ректорский пост не
135
1 «Gleichschaltung»— слово, которое после 1933 года получило широкое распространение в жизненном мире Германии; теперь оно означало духовное нивелирование, конформизм по отношению к господствующей политике и идеологии, подчинение ей. Философским прототипом — чего, увы, не опознал Хайдеггер — был его знаменитый экзистенциал «das Man».
Часть I. Отава 6. После расставаний
H.ß. Мотрошилова ШИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-вредля-любовь
136
имел прямого отношения, в свете известных фактов и документов не выдерживает критики.
Можно, правда, сильно сомневаться в обоснованности заключения X. Арендт о том, будто именно «интеллектуалы» оказались как бы в авангарде, опережая другие слои населения в поддержке «новых порядков», в самоидентификации с идеологией нацистов. Ясперс был более прав, когда уже после войны, во время «очистительных» процессов, говорил и писал, что лишь немногие известные немецкие профессора повели себя так, как Хайдеггер. Собственно, можно было назвать лишь пару действительно громких имен (кроме Хайдеггера еще и известное тогда имя юриста К. Шмидта).
Но у Ханны для излитых ею горечи и гнева, которые заполняли ее душу во время и после бегства из Германии, были на то свои, и весьма веские основания. Если даже поправить ее суждения в свете сказанного Ясперсом, а также имея в виду другие факты, то вряд ли можно отрицать: немецкие интеллектуалы, пусть их после нарастания нацистской волны не удивил сам по себе захват власти Гитлером, все же были столь разобщены, растеряны, деморализованы, что не только не оказали нацистскому режиму серьезного сопротивления, но как-то растворились в подвластной, подчиненной массе. И опять: придумавшие или критически описавшие что-то аналогичное «das Man» (Хайдеггер — среди первых из них) подчинились чисто нацистскому или пронацистскому идейному, идеологическому сегменту тогдашней диктатуры этого «Man» в своей стране, не поняли рокового характера подобного совпадения, остались слепыми, а потом и нераскаянными по отношению к свершившемуся индивидуальному и коллективному греху. Отсюда выстраданное умонастроение Ханны: она дала себе слово больше не сливаться с подобными интеллектуальными сообществами — «никогда больше!». О других выводах и извлекаемых уроках пока говорить подождем; всему свое время.
Ханна сначала отнюдь не спешила осмысливать и решать свою участь в терминах и рамках именно еврейского вопроса. Но чем дальше, тем больше обстоятельства толкали ее к этому. Она сама впоследствии искренне и ясно запечатлела характер и следствия такого внешнего принуждения: «Если на меня нападают как на еврейку, нужно защищать себя как еврейку. Не как немку или как гражданку мира или прибегая к ссылкам на права человека. Но что я совершенно конкретно могу сделать как еврейка? И вот тут пришло явное намерение: теперь я, в самом деле, хочу стать частью организации. В первый раз. Естественно, организовываться [надо было], примыкая к сионистам. Они ведь оказались единственными, кто был в готовности... Моя собственная проблема была политической. Чисто политической! Я хотела включиться в практическую работу — исключительно и только в еврейскую деятельность» (Ibidem. S. 57 ff.).
В 1933-1938 годах Ханна Арендт жила в Париже (см. вклейку, фото 21); там она работала во французском отделении организации, которая помогала евреям, стремившимся переселиться в Палестину. Вступив в международную «сионистскую (в вышеупомянутом смысле) организацию», Ханна участвовала в ряде ее мероприятий, например в Пражском конгрессе 1933 года. Но, как констатирует Антониа Груненберг, она скоро вступила в конфликт с еврейской политикой. (Что оказалось
прологом ее более поздних, притом весьма серьезных размежеваний с сионистскими организациями.)
Когда в 1936 году Гюнтер Штерн эмигрировал в США, то это привело к последующему (в 1937 году) официальному расторжению еще раньше фактически распавшегося брака с Ханной Арендт.
В 1936 году в Париже в жизни Ханны появился новый мужчина. Им стал Генрих Блюхер (Heinrich Blücher). Антониа Груненберг пишет: «Он, когда-то спартаковец из окружения коммунистов, не был евреем. Блюхер тоже бежал из Германии. В это время он уже перестал участвовать в коммунистическом движении и не принадлежал к объединениям находившихся в изгнании коммунистов. Будучи всесторонне одаренным человеком, он в двадцатых годах писал сатирические тексты и водил дружбу с известным поэтом-шансонье Робертом Гильбертом, с которым и Ханну Арендт впоследствии связала дружба, длившаяся всю жизнь. Блюхер получил диплом учителя, но учителем никогда не работал; он подвизался в качестве свободного журналиста и подрабатывал, участвуя в создании фильмов и в сочинении текстов для юмористов» (Ibidem. S. 211).
Эта встреча стала для Ханны Арендт подарком судьбы: она впервые встретила человека, ставшего для нее другом, любящим мужчиной, прочной опорой в дальнейших испытаниях. В 1940 году Ханна и Генрих официально поженились.
Действительно страшные испытания только начинались. Когда 3 сентября 1939 года Франция объявила войну нацистской Германии, то бежавшему от гитлеровцев немцу Генриху Блюхеру объявили, что он будет интернирован как «враждебный иностранец».
Вскоре, в силу соответствующего постановления вишистского правительства, Блюхер был отправлен в лагерь для интернированных. Ханну же вывезли в женский лагерь на юге Франции. Оттуда было совершено массовое бегство. Ханна с поддельными документами, к которым французские власти не придирались, присоединилась к беглецам. Она и Генрих условились воссоединиться в небольшом французском городке Монтобан. Но потеряли друг друга. И вдруг совершенно случайно встретились там на улице, когда передвигались в потоке беженцев! В январе 1941 года, перейдя Пиренеи, супруги проникли в Испанию и оттуда на поезде доехали до Лиссабона. Там они (благодаря хлопотам Г. Андерса) получили американскую визу.
О жизненном опыте первых лет Второй мировой войны и его влиянии на будущее теоретическое творчество Ханны Арендт правильно писала А. Груненберг: «В 1940 и 1941 годах Ханна переработала, вольно и невольно, те элементы опыта, которые потом еще долго будут разламывать ее жизнь. Разрыв традиций и крушение морали, разрушение политической сферы — эти главные элементы ее политической мысли возникли из восприятия и опыта тех лет. Их влияние можно видеть в многочисленных статьях, а прежде всего в первой и второй частях ее книги „Элементы и истоки тоталитарного господства”» (Ibidem. S. 214).
О въездной визе для Генриха и Ханны особо хлопотал, находясь в США, ее первый муж Гюнтер Штерн, к тому времени уже обосновавшийся в Лос-Анджелесе. Штерну и была послана первая после высадки на американской земле телеграмма: «Спасены. Живем по адресу 317
137
Часть I. (лава 6. После расставания
138
s>
о
£
cd
West 95 ». Через неделю до Америки из Марселя добралась и мать Ханны Марта.
Жизнь в Америке, и именно в Нью-Йорке, приспособление к американским условиям, обретение своего места в культуре чужой страны — все это было для Ханны, как и для многих ее соотечественников, совсем непростым, противоречивым процессом без сколько-нибудь гарантированного результата. И все-таки именно Ханна достойно и с честью выдержала новое жизненное испытание. В Америке она прошла свой путь, уже в середине которого сформировалась как один из крупнейших мыслителей XX в., притом такого оригинального типа, который означал глубокое, масштабное преобразование идейного багажа, полученного в Европе, скажем, в период обучения у Хайдеггера и Ясперса и во время последующих жизненных странствий.
Итак, каков же был этот жизненный путь Ханны Арендт в США, как она его одолела и что извлекла из него для своих весьма интенсивных философско-теоретических размышлений? На эти вопросы (опираясь на ряд уже упоминавшихся и цитировавшихся биографических источников) могу здесь ответить лишь очень кратко, суммарно.
Ханна Арендт: десятилетие в США
Почему здесь выделено лишь первое десятилетие из американской жизни Ханны Арендт? Ведь она, прибыв в Нью-Йорк в 1940 году, прожила в США до своей смерти в 1975 году, т. е. фактически половину своей жизни. Причин такого выбора несколько. Главная же состоит в том, что первое десятилетие оказалось и переломным, и решающим, тогда как в последние четверть века ее жизнь двигалась как бы по накатанной колее. К тому же для конкретных целей нашего повествования очень важно выяснить, что же произошло с Ханной к 1950 году, т. е. ко времени ее новых встреч с Мартином Хайдеггером. По чисто хронологическому счету после расставания прошло двадцать пять лет, что очень немало; к тому же опыт был необычайно конденсированным, а изменения — поистине кардинальными и судьбоносными.
Америка для европейских эмигрантов, оторванных от всех жизненных корней, была своего рода неведомой страной, terra incognita. И ведь речь шла не о стороннем процессе познания другой страны, а о необходимости вновь, в не самом молодом возрасте, найти там приют, работу и заработок, круг общения, свою среду, освоиться в ритме динамичного бытия, погрузиться в стихию неродного языка, да и вообще весьма специфической духовной культуры. Некоторые стороны американского бытия — как раз по контрасту с диктатурой, преследованиями, идеологическим давлением в гитлеровской Германии — вдохновляли эмигрантов. Ханс Йонас, уже упоминавшийся друг Ханны Арендт еще по Марбургу, оказавшийся в Америке позднее, в 1955 году, передавал общее впечатление вытесненных с родины немецких интеллектуалов, когда писал, что в США имеет место «действительная свобода мысли, теоретизирования, спекулятивного размышления, высказывания новых и обновления старых идей»1.
1 Н. Jonas. Erkenntnis und Verantwortung. Göttingen, 1991. S. 77.
Когда Ханна в 1946 году возобновит переписку с К. Ясперсом, она специально выделит и определит моменты, связанные с повседневным и повсеместным ощущением свободы в приютившей ее стране. «Об Америке, — пишет она в письме Ясперсу от 29.01.1946 года, — вообще можно было бы сказать многое. Здесь действительно есть нечто такое как свобода и сильное чувство у многих людей, что без свободы жить нельзя... Сюда принадлежит то, что тут люди в массе своей чувствуют и себя ответственными за общественную жизнь; чего-то подобного в жизни европейских стран я не знаю». Ханна приводит характерный пример из американской жизни. Когда случился Пирл-Харбор и у кого-то в США появились побуждения посадить американцев японского происхождения в концлагеря, то встрепенулась, воспротивилась вся страна. Ханна рассказывает о своем посещении знакомых в Новой Англии, о реакции простых людей, «мелких буржуа»: в своей жизни многие из них в глаза не видели японцев. Но они сразу и спонтанно, по зову сердца и совести, сообщает Ханна, начали писать своему конгрессмену, настаивая на «конституциональных правах всех американцев независимо от их национального происхождения»1. Сопоставление с европейскими странами — не в пользу последних — вполне понятно. Вряд ли Ханна не размышляла вот о чем: если бы европейцы, прежде всего немцы, так реагировали на ущемление прав евреев, которые ведь были «немецкими гражданами», не случился бы холокост...
В письме к Ясперсу Ханна не забывает рассказать о противоположных чертах американской жизни — скажем, о жесточайшей конкуренции, но одновременно упоминает о структурах политики и управления, направленных на смягчение крайней нищеты, на предоставление гражданам равных жизненных шансов. Но часто говорится об «основополагающей бездуховности страны» и о том, что в этом отношении дело хуже всего обстоит... в университетах! (Ibidem. S. 67). Да и относительно свободы делается весьма существенная оговорка: «Фундаментальное противоречие страны — политическая свобода при общественном рабстве». И пусть последнее господствует не абсолютно. Но в обществе, организованном и ориентированном по «расовому принципу», такое господство весьма опасно. Что касается антисемитизма, то в Америке он тоже распространен, констатирует Ханна Арендт. Однако права евреев защищены; они держатся сплоченно и в известной мере обособленно.
Вот так — заинтересованно, доброжелательно, но и критически — Ханна Арендт анализирует, оценивает жизнеустроение, порядки в стране, где пройдут тридцать пять лет ее жизни.
Важным обстоятельством для Ханны и ее семьи было то, что евреи в США не чувствовали себя изгоями. Более того, там существовала влиятельная еврейская община. И новые эмигранты-евреи получали, особенно на первых порах, приют и бытовую поддержку, что было жизненно важно. К тому же приехавшие быстро находили друг друга — а это для людей, потерявших друзей, среду, коллегиальное и всякое иное общение, стало одной из предпосылок выживания и духовного самосохранения. Что касается именно Ханны Арендт, то по ее характеру дружеское
139
Hannah Arendt / Karl Jaspers. Briefwechsel. S. 66.
Часть I. Глава 6. После расставания
Н.в. Мотрошилова 1рШ Мартин Хайдеггер и Ханна прендт: бытие-время-любовь
140
общение всегда было поистине центральной ценностью. А. Груненберг правильно отмечает эту особенность личности Ханны: «Она была гением в завязывании новых дружеских отношений. Она стучала в двери важных еврейских организаций и редакций журналов. Ханна посещала старых немецких друзей... Она получала дальнейшие рекомендации и завязывала новые контакты. Она снова занялась чтением, редактированием. И к тому же добывала деньги для семьи»1.
Постепенно сформировался круг людей, с которыми Ханна была объединена и относительно сходными взглядами, убеждениями, и работой в журнале «Partisan Review». Журнал еще в 1937 году был как бы вновь учрежден Дуайтом Макдональдом, его друзьями-сподвижника- ми Филиппом Рав (Rahv), Фредом Дюпе (Dupee), Вильямом Филлипсом (Phillips) и Джорджем Моррисом (Morris). После 1944 года центр публицистической работы этой сплоченной группы был перенесен в новый журнал; он назывался «Politics», и руководил им тот же Дуайт Макдональд. Прежний тематический набор из статей о культуре, искусстве и иногда о политике сменился, как констатируют историки, четкой политической направленностью нового журнала2. Круг соратников, друзей, единомышленников (согласных не во всех, разумеется, вопросах) определился и на последующие десятилетия. Ханна и ее муж Генрих Блюхер особенно тесно сотрудничали и дружили с Д. Макдональдом и его женой Глорией, с Р. Аоуеллом, Николя Шармонте, с активной, остроумной, своенравной Мери Маккарти, писательницей и публицисткой. (Впоследствии она стала хранителем наследия Ханны Арендт.)
Дружба крепко помогала изгнанникам преодолевать многие неурядицы. А. Груненберг хорошо описывает (Ibidem. S. 233) простые как будто бы, но для людей интеллектуальных занятий повседневные и существенные жизненные трудности. Ведь они, эти люди, побросали в Германии свои жилища вместе с годами собираемыми личными библиотеками. В Америке пришлось регулярно ходить в публичные библиотеки. Там эмигранты встречались, общались, обменивались новостями, идеями и немногими драгоценными книгами, попавшими в их распоряжение. Одним из друзей Ханны Арендт в первые годы американской эмиграции был Вальдемар Гуриан (Gurian), который происходил из петербургской еврейской семьи; по настоянию матери он обратился в католичество. Гуриан был талантливый критик, эссеист, публицист, прошедший школу Карла Шмидта. В отличие от близких друзей Ханны Арендт, он не только не поддерживал леволиберальные идеи, но и резко критиковал их с правоконсервативных, но, конечно, не правоэкстремистских позиций. Ибо он открыто выступал против национал-социализма, подвергался преследованиям и в 1934 году вынужден был эмигрировать из Германии сначала в Швейцарию, а с 1937 года — в США, где издавал журнал «Review of Politics». Вокруг него объединилась, как пишет А. Груненберг, «смешанная группа авторов». К ней принадлежали достаточно известные впоследствии ученые, публицисты — такие как Т. Парсонс, А. Гурвич, X. Кон (Kohn) и др. (Ibidem. S. 232). Так вот, общение и переписка с Гурианом тоже «состояла из сообщений о прочитанном, о том,
1 A. Grunenberg. Op. cit. S. 223.
2 Ibidem. S. 230.
что следует прочитать, о потерянном и вновь обретенном, о подлежащих рецензированию или отвергаемых книгах и статьях. И книги, статьи они непрерывно пересылали друг другу. Был постоянно растущий круг друзей и знакомых, тем самым приобщавшихся к [нужным] книгам и статьям...» (Ibidem. S. 233). Другие относящиеся к этой дружбе детали, пусть немаловажные, я вынуждена оставить в стороне.
Заслуживает упоминания еще одна дружба, оказавшая влияние на жизнь и судьбу Ханны Арендт в Америке. Это были особые отношения с австрийским писателем, эссеистом Германом Брохом (Broch). Знакомство произошло в 1946 году на одной из вечеринок. Брох тогда был в центре внимания публики: только что появился и сразу стал популярным его роман «Смерть Вергилия ». За этим талантливым писателем тянулась и слава «отчаянного поклонника всех красивых и интеллигентных женщин». Он сразу подпал под очарование все еще очень красивой, правда уже не молодой, но и совсем нестарой (сорокалетней) Ханны Арендт. (К тому же он сам был на 20 лет старше ее.) Не в меньшей мере пленил Броха оригинальный ум Ханны, поражавшей глубиной, зрелостью, необычностью суждений. Завязались особые отношения двух интеллектуалов, в которых окружающие распознавали «привкус эротики». Ханна пришла в восторг от упомянутого романа Броха. «Брох был польщен». То обстоятельство, что то были восприятия и оценки не просто красивой женщины, но и «оригинального мыслителя», повышало, в глазах Броха, их ценность. В дальнейшем переписка и общение увязывались с самыми существенными творческими планами этих, видимо, очень симпатизировавших друг другу мужчины и женщины. В целом же биографы совершенно правильно отмечают, сколь «многие импульсы, побуждения» проистекали для Ханны Арендт из американского общения со старыми и новыми друзьями. Это касалось тем, идей, которые «носились в воздухе», затрагивало защищаемые тезисы, отрабатываемые аргументы, разделяемые убеждения (Ibidem. S. 239).
Справедливо и важно упоминание биографов о том, что в этом кругу друзей, соратников, конечно же, обсуждалось и осуждалось хотя бы и временное, но несомненное национал-социалистическое грехопадение Хайдеггера. (Ханна и Брох в их переписке обращались к теме «Хайдеггер » и после войны, обмениваясь суждениями о первых хайдеггеровских публикациях того периода — работах «Учение Платона об истине» и «Письмо о гуманизме».)
Обобщая сказанное, можно обоснованно заключить: оплотом, опорой жизни, духовного развития Ханны Арендт в Америке был интереснейший, высокоинтеллектуальный, творчески сплоченный круг друзей. «Это была ее сеть [друзей]. На друзей этой сети она опиралась перед лицом многих фрустраций, которые ожидали ее в эти годы», — справедливо отмечает А. Груненберг (Ibidem. S. 241).
Правда, и тут не все было благополучно: со временем произошло резкое взаимное охлаждение отношений между Ханной и сионистскими организациями, с которыми она по приезде в Америку связывала свою деятельность и свои надежды. Я не буду здесь вдаваться в детали этой проблемы — и не потому, что не считаю ее важной, а потому, что не являюсь здесь специалистом. Скажу только о том, что (видимо) было главным.
141
Часть I. (лава 6. После расставания
142
о>
X
&
<Е
О
X
X
я
X
CL
О)
о>
>х
о
и
X
г
о.
о
i
I
S
со
X
Прежние друзья из еврейских эмигрантских организаций (например, К. Блуменфельд и Г. Шолем) в конце концов фактически отлучили Ханну Арендт от «сионистского движения» — из-за того, что в своих многих статьях, до поры до времени публиковавшихся в органах еврейской эмиграции, она все более нелицеприятно, неуступчиво критиковала идеи и принципы лидеров этого движения, упрекая их в сектантстве. В ответ Блуменфельд резко говорил и писал о «журналистской поверхностности и поспешности» публикаций Ханны Арендт, обвиняя ее в «равнодушии, бессердечии», т. е. приписывая ей черты характера, которые этой участливой, сердечной, помогавшей всем женщине были более чем несвойственны. Настоящая же причина состояла в усилившемся расхождении между идеологически, политически однородной платформой «движения» и самостоятельными, далекими от крайностей, от экстремизма подходами к решению еврейской проблемы со стороны Ханны Арендт. Блуменфельд в одном из писем признавался, что «никогда не верил» в «сионизм» X. Арендт1. Дело дошло даже до его утверждения, будто «существо» X. Арендт включало в себя «психопатическую сторону»!
Ханна глубоко переживала эти разломы и разрывы, но мнений своих о деятельности и идеологии крайне националистических еврейских организаций не изменила.
К числу вызовов и трудностей первых лет жизни Ханны Арендт в США принадлежала суровая необходимость всесторонне осваиваться в стихии английского языка. В отличие от своего мужа, которому английский давался трудно, весьма способная к иностранным языкам Ханна, по меткому выражению А. Груненберг, прямо-таки «впрыгнула» в стихию разговорного языка, в чем ей помогла организация, предоставлявшая беженцам возможность усовершенствовать язык, живя в обычных американских семьях. Ханна в штате Массачусетс попала в пуританскую семью со строгими житейскими правилами. «Однако она была воодушевлена республиканским самосознанием хозяев — и она к тому же вернулась с богатыми знаниями повседневного английского»2. С годами Ханне удалось освоить язык настолько, что она не только свободно, ярко и образно говорила, читала лекции, но и довольно хорошо писала по-английски.
Впрочем, дело ведь тут было куда более сложное, судьбинное, смысложизненное, так сказать, корневое. Предоставлялись — соответственно разным типам выживания в чужой стране — и несходные возможности освоения ее культуры, языка, повседневного бытования. О дилемме хорошо сказал выдающийся немецкий философ Эрнст Блох. Одни люди пытались как бы отрешиться от прежней культуры и родного языка, чтобы быстрее адаптироваться в американских условиях. Другие стремились, при всей необходимости адаптации, сохранить свои культурные корни. О представителях этой второй группы, к которой принадлежали X. Арендт и ее муж, Э. Блох писал, что они пытались сохранить некоторую дистанцию по отношению к культуре и языку Америки,
1 См.: A. Grunenberg. Op. cit. S. 252.
2 Ibidem. S. 220.
что с человеческой точки зрения было вполне естественно и понятно (А. СгипепЬеОр. с^. Б. 217). Погруженность Ханны в родную стихию европейской культуры была чрезвычайной. Один из ее доверенных друзей этого времени А. Кацин писал: «Маркс-Платон-Гегель-Хайдег- гер-Кант-Кафка-Ясперс! Монтескье! Ницше! Дунс Скот! Великие ключевые имена играли огромную роль в доме-укрытии Ханны на (улице) Морнингсайд Драйв... &1
С точки зрения бытовых условий жизнь семьи была очень трудной. Более чем скромное жилище, скудные заработки. Ко всему прочему Ханне постоянно приходилось смягчать напряженные отношения матери и мужа, которые обострялись из-за непривычки этих людей, раньше принадлежавших к достаточно состоятельному классу, жить на одной, очень тесной «жилплощади».
Но вот в чем было настоящее везение, так в том, что ее муж Г. Блюхер (см. вклейку, фото 22) и в Америке стал ей настоящей опорой. В одном из писем Ясперсу Ханна отмечала, что именно благодаря мужу она обрела способность «мыслить политически и видеть исторически». Это было сказано не для красного словца, не для того просто, чтобы «подать» супруга в лучшем свете. О плодотворном жизненном диалоге этих двух людей, о несомненной причастности Г. Блюхера, глубокого и мудрого человека, действительно обладавшего политическим, социальным чутьем, к последующему творчеству Ханны Арендт единодушно свидетельствовали друзья семьи. Любовь к Ханне, доверие к ней, постоянный такт позволяли Генриху правильно и тонко поступать в самых деликатных ситуациях. (Мы еще увидим это, когда впоследствии станем анализировать возобновившиеся отношения Арендт-Хайдеггера.)
О содержательной стороне теоретических и одновременно социально-политических исследований Ханны Арендт, которые только начались в первые послевоенные годы и привели к сколько-нибудь заметным, известным коллегам и читающей публике результатам лишь в 50-х годах, мы именно по этим причинам говорить подождем. Разберем их тогда, когда в нашем повествовании «исторически» придет их черед.
Существенной вехой на жизненном пути Ханны Арендт станут ее поездки в Европу, в частности в Германию, — после того, как нацизм потерпел сокрушительное поражение и стали известны масштабы беспрецедентных жертв и разрушений.
Цит. по: А. Grunenberg. Ор. сИ:. Б. 252.
Часть I. (лава 6. После расставания
Часть II
После Второй мировой войны: новые встречи и расставания
ГЛАВА 1
Возобновление переписки X. Арендт и К. Ясперса после войны
Ханна Арендт, сама прошедшая через круги ада, нашедшая в конце концов пристанище в США, все годы нацизма и Второй мировой войны беспокоилась о судьбе своих друзей, коллег, оставшихся в Германии. В ее душе глубокая тревога за их судьбу и саму их жизнь пребывала постоянно. Больше всего приходилось тревожиться о тех, кого нацистские власти преследовали, кто попал не только в общую, но и личную «пограничную ситуацию». Среди таких друзей Ханны, кому пришлось пройти через суровые испытания, был выдающийся немецкий философ Карл Ясперс, который в конце 20-х гг., как мы знаем, стал учителем, философским наставником, а потом и прекрасным старшим другом Ханны Арендт. До конца жизни К. Ясперса (до 1969 г.) длилась эта яркая, замечательная дружба, к которой были причастны супруги — жена Ясперса Гертруд, а потом и (второй) муж Ханны Генрих Блюхер. Друзья в Германии тоже имели все основания предполагать, что их прежние соотечественники, коллеги — вытесненные из страны, потерявшие родину, кров, работу, ставшие беженцами и нередко смотревшие в лицо смерти — прошли через тяжелейшие испытания. Итак, в годы подобных социальных турбулентностей и обрубленных корней хайдеггеровские модусы тревоги, заботы, покинутости, включая экзистенциал «жизни как бытия к смерти» больше чем когда-либо обернулись точными выражениями «бытия повседневности».
Судьба известных ученых, философов, деятелей культуры, которые по тем или иным причинам не смогли уехать из нацистской Германии — особая страница немецкой истории. К таким людям, как Эдмунд Гуссерль или Карл Ясперс, еще до войны завоевавшим мировую известность, нацисты отнюдь не всегда решались применить крайние, грубые репрессивные меры. Но на долю многих ученых, философов выпали преследования, запреты на преподавание и публикацию сочинений, а также иные посягательства на их честь и человеческое достоинство. Гуссерль был евреем, и к нему, к его семье применили все те позорные государственные «установления», которые вполне оправданно считать приметами «духовного холокоста». Гуссерль был патриотом Германии и немецкой культуры, он гордился тем, что смог внести в ее развитие немалый, признанный в мире вклад. Нацисты же запретили ему, как и другим жившим в Германии евреям, даже причислять свои духовные до¬
стижения к немецкой культуре. Гуссерль страдал от всего этого, как и от, казалось бы, «мелких», но весьма чувствительных оскорблений, например от запрета — ему, одному из самых славных профессоров Фрайбургского университета! — входить в университетские здания, пользоваться библиотекой. Тем более что «именной» запрет (о чем — позже) был подписан ректором Мартином Хайдеггером, прежде его любимым и постоянно опекаемым учеником.
Судьба немца по рождению Карла Ясперса в нацистские годы определялась тем, что его жена Гертруд, им горячо любимая, его вернейший друг и помощник, было еврейкой. За такие «неарийские» браки немцы, в соответствии с нацистской идеологией и государственной политикой, тоже подвергались преследованиям и наказаниям. Для Ясперса они вылились прежде всего в отстранение этого тоже прославленного во всем мире профессора Гейдельбергского университета от преподавания, в ограничения, а потом в прямые запреты на публикации его сочинений. Но было и самое чудовищное (как невольная иллюстрация к хайдеггеровскому экзистен- циалу Furcht): Ясперсы жили в постоянном ужасе и на исходе войны, в 1944 году, они со дня на день ожидали ареста Гертруд и ее водворения в концлагерь. Ясперс (напомним, всю жизнь преодолевавший, при самоотверженной помощи жены, тяжелейший недуг) на этот крайний случай, который никто не мог бы предотвратить, держал при себе смертельный яд. И потому его категория «пограничной ситуации» теперь уже была не только абстрактным, а личностно выстраданным философским понятием. К счастью для семьи Ясперса, события на фронтах в последние годы войны несколько отвлекли нацистов от эскалации внутренних репрессий.
Отыскивая после войны Ясперсов и возобновляя контакты с ними, Ханна Арендт еще не знала обо всех этих трагических подробностях. Но общая картина и главные тенденции ей, конечно, были хорошо известны, поскольку тут были общие беды, которые затрагивали сотни тысяч людей на ее бывшей родине.
Как только обнаружилась возможность возобновить контакты с друзьями в Германии, среди первых, кого Ханна постаралась найти и кому стала оказывать практическую помощь, была чета Ясперсов.
В переписке с ними (после письма Ясперса от сентября 1938 года, посланного Ханне из Люксембурга) был обусловленный войной семилетний перерыв. Контакты и переписка возобновились уже после поражения Германии. Письмо Ясперса Ханне Арендт из Гейдельберга направлено 28.10.1946 года — оно, в свою очередь, стало его ответом на пересланные через американского публициста Мелвина Ласки (Lasky) две посылки, в которых Ханна передавала какие-то нужные для жизни предметы (в Германии тогда не было медикаментов, продуктов), книги, а также оттиски своих статей. Книги были нужны образованным немцам не меньше, чем хлеб насущный. Ясперс подтверждает это, обращаясь к Ханне: «Книги, которые благодаря Вам лежат передо мной, глядят на меня многообещающе. Вы догадываетесь, как мы жаждем узнать, о чем мыслили за пределами Германии и что там произошло»1.
145
1 Hannah Arendt / Karl Jaspers. Briefwechsel. 1926-1969. Herausgegeben von Lotte Köhler und Hans Sanner. München; Zürich, 1987. S. 58. (Далее при цитировании: H. Arendt / К. Jaspers, с указанием страниц.)
Часть II. Глава 1. возобновление переписки X. Арендт и К. Ясперса после войны
146
<Е
О
Г
г
я
S
а
?
о
O'
>s
я
X
£
а
о
£
о
ш
о
3
0 а
1
ш
X
Предваряя дальнейшее повествование, хочу заметить, что считаю переписку К. Ясперса и X. Арендт одним из самых значительных интеллектуальных, философских, социально-политических документов XX века. Из этого богатейшего кладезя идей, заметок по актуальным социальным вопросам, свидетельств истории, личностных характеристик здесь могу процитировать и обсудить совсем немногое, в основном то, что более непосредственно относится к нашей главной теме — к судьбе, отношениям Хайдеггера и Ханны Арендт. Но интеллектуальная связка Ясперс-Арендт, конечно, ценна сама по себе. И еще, забегая вперед, сформулирую нечто общее, оценочное — чтобы после представить доказательства: переписка Ясперса и Арендт показывает, насколько содержательнее, симметричнее, мудрее, ровнее были замечательные отношения их прочной, красивой, многолетней дружбы, глубокого взаимопонимания, философско-теоретического взаимодействия, чем ее коммуникация с Хайдеггером. К тому же в отношениях с другом Ханна все же обрела и некоторую симметрию взаимного признания (Annerkennung) сделанного в науке, философии, культуре, чего так и не случилось в послевоенном общении с Хайдеггером. Итак, дружба X. Арендт с Ясперсом после войны все более наполняется так важными каждому человеку элементами взаимного интереса, взаимопонимания, взаимовлияния, взаимного признания. А в центре была равно свойственная обеим сторонам преданность философии, увлеченность творческими, новаторскими теоретическими поисками.
Вернемся к переписке Арендт-Ясперса. Тревожилась не только Ханна — о Ясперсе и его жене. Карл и Гертруд тоже выражают глубокую обеспокоенность: ведь сколько невзгод, в прямом смысле смертельных опасностей выпало на долю Ханны, в первые годы скитаний еще совсем молодой женщины! «Целые годы, — писал Ханне Ясперс, — мы озабоченно думали о Вашей судьбе, и у нас давно уже не осталось сильной надежды на то, что Вы выжили. И вот теперь не только Ваше новое появление, но живое духовное деяние из большого мира! Вы, как мне кажется, безошибочно сохраняли „субстанцию” — все равно, были ли Вы в Кёнигсберге, Гейдельберге или в Америке, или в Париже. Кто [действительно] является человеком, должен обладать такой способностью» (Ibidem). О сохраняющейся «субстанциональности» личности и деяний в жизни Ханны Арендт, постепенно выраставшей в значительного мыслителя, Ясперс, всегда чуткий к такому профессиональному и личностному качеству коллег, друзей, все сказал очень верно. Еще убедительнее это подтвердит и докажет будущее.
В ответ Ханна (в письме от 18 ноября 1945 года) сообщает об испытанном уже ею чувстве облегчения, причем о пронизывающем, щемящем, искреннем чувстве экзистенциального характера: «Дорогой, дорогой Ясперс — с тех пор как я узнала, что Вы оба уцелели, пройдя через все круги ада, мне снова стало чуть роднее в этом мире. Мне нет нужды говорить Вам, что все эти годы при мысли о Вас меня охватывало беспокойство — хотя я долго пребывала в успокаивающей иллюзии, что Вы живете в Цюрихе» (Ibidem. S. 58-59). Действительно, ходили слухи, будто Ясперсы переехали в более спокойный Цюрих, где Карл Ясперс якобы стал профессором университета. Эти слухи не подтвердились. Ясперсу предлага¬
ли место в университете Цюриха, но в силу ряда обстоятельств пришлось остаться в Гейдельберге, где нацистский режим свирепствовал так же, как и в остальной Германии. (Вот видите: даже о простых житейских вещах из этой страны в остальной мир не проникало никакой достоверной информации.)
Ханна тоже благодарит своего старшего друга за то, что он, пройдя через все испытания, не перестал быть, как и раньше, предельно честным и надежным человеком. И оговаривает, что таковыми остались лишь немногие. «Мы ведь в эти годы пережили такое, когда немногие в еще большей мере оказались [именно] немногими. И в эмиграции это не было существенно иначе, нежели внутри Германии» (Ibidem. S. 59).
Опять очень верно, весьма существенно: и при разгуле тоталитаризма, в том числе нацистского, сохраняются не затронутые им и в конечном счете ему неподвластные умы и души. Ясперс и его жена — не столько из-за особенностей их личной судьбы, например, из-за того, что нацистский режим не только не приближал к себе, а решительно отбрасывал, отторгал подобных людей, сколько из-за внутренней несовместимости их идей, ценностей и убеждений с этим режимом — должны были пройти через уже упомянутые суровые жизненные опасности и испытания. И они их выдержали, ничем позорным себя не запятнав.
Ханна проявляет понятный, искренний интерес к тому, что Ясперс теперь, после освобождения Германии, готов предложить читающей публике и своим слушателям. В частности, Ханна сообщает, что близкий ей журнал «Partisan Review» (как бы «переоткрытый» и активно работавший с 1937 года) с готовностью напечатал бы речь «Обновление университета», которую Ясперс произнес 15.08.1945 года при открытии занятий на медицинских подразделениях Гейдельбергского университета (надо вспомнить также о медицинской специализации Карла Ясперса). Ханна интересуется, когда выйдет ежегодник «Изменения» (Die Wandlungen), подготовку которого предприняли в конце 40-х годов. Ясперс принимал в работе ежегодника активное участие.
Вообще говоря, происходило то, что со стороны и в историческом post factum может показаться (например, сегодняшней молодежи) неожиданным, даже маловероятным, но что хорошо известно творческим людям старших поколений в разных странах, в том числе и в нашей, — людям, пережившим десятилетия тоталитарных преследований и утеснений. Таким людям, как оказалось, тоталитарная власть не смогла воспрепятствовать и в тяжелейших социально-идеологических условиях двигаться по траекториям новаторской, свободной мысли, научного исследования. Им не потребовалось прилагать особые усилия и даже не нужно было долго дожидаться, чтобы они смогли сполна использовать новые возможности расширившейся свободы мысли и дискуссий. Выяснилось, что и в годы нацистской диктатуры свободная мысль не исчезала. По крайней мере в умах она накапливалась и обогащалась, дожидаясь благоприятных условий для выхода к «общественности» (Öffentlichkeit). Это происходило в силу пока еще плохо осмысленных социально-исторических законов внутренней устойчивости, самосохранения свободной мысли и творческого труда. Что имело место в том числе и в философии, официальные социальные структуры и отдельные деятели которой
147
Чостъ II. (лова 1. возобновление переписки X. Врендт и К. Ясперса после войны
148
j>
8.
CE
0 z z
s
s
а
£
>s
Я
z
1
о
2
8.
i
CD
в Германии, этой стране, славной своими философскими традициями, явили миру лик деградации и позорного, убогого идеологического приспособленчества.
Вполне понятно, что в бывшем нацистском государстве, потерпевшем сокрушительное поражение, главные вопросы дальнейшей жизни, изменения и обновления всех, и прежде всего духовно-ценностных структур, теперь упирались в покаяние, то есть в осмысление «немецкой вины» и ответственности. Это была и вполне конкретная, и общеисторическая, в частности европейская, цивилизационная проблема, и тема бытия и бытийственности, имевшая самые широкие метафизические измерения. Что касается бытийных и широких культурно-исторических измерений, то в их осмысление нужно было бы включиться философу ранга Хайдеггера.
Гуссерль еще до победы нацизма и до Второй мировой войны сказал о Хайдеггере удивительные слова: «Если не случится, к несчастью, чего-нибудь иррационального и если не воспрепятствует судьба, он предназначен к тому, чтобы стать философом великого стиля, человеком, который способен стать проводником (Führer) через путаницу и слабости современности»1. Иррациональное, «к несчастью» — да и к какому несчастью! — случилось. Хайдеггер, однако, потом все же стал философом «великого стиля». Но «проводника» в социальном мире из него не получилось и не могло получиться. Из-за переплетения многих обстоятельств и, в частности, из-за того, что распространенное немецкое слово «Führer» жители Германии дружно закрепили лишь за одним лицом — Адольфом Гитлером. Страна запуталась, избрав, пусть на недол- гий срок, страшные исторические ухабы варварства и одичания вместо центрального тракта цивилизации2. Теперь требовалось поменять дорогу, решительно уйти от нацистских зигзагов истории. Как и всегда на подобных перепутьях, народу требовались свободные, честные умы и особые личности, способные стать новыми властителями дум.
М. Хайдеггер после войны был полностью не способен идти рука об руку с теми, кто взял на себя исключительно ответственный труд духовного руководства в деле самоосмысления, самоочищения, покаяния немецкого народа. В конечном счете эти задачи, как показал исторический опыт, были выполнены, причем коллективными усилиями — в особенности благодаря острой, нелицеприятной национальной самокритике, которую осуществили наиболее активные, ответственные историки, юристы, литераторы, политики, журналисты, обычные граждане Германии, — с живым участием новых молодых поколений. Сыграли немалую роль и некоторые философы. Особенно авторитетными стали разыскания Карла Ясперса, который как раз в послевоенные годы превратился в выдающегося социального философа. При этом он использовал разработанную им экзистенциалистскую философию, придал ей критическую
1 Цит. по: Н.В. Мотрошилова. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера //Н.В. Мотрошилова. Работы разных лет. М., 2005. С. 444.
2 О нацизме как прорыве варварства впоследствии напишет X. Арендт. Но не только она: выдающиеся русские мыслители — эмигранты из советской России, подвергавшиеся и нацистским преследованиям, писали о том же (например, Н. Бердяев и С. Франк).
направленность, преобразовал в социально-философское размышление высокого, достойного мыслительного стиля. В этой моей книге никак невозможно подробно освещать проблемы философии Ясперса как таковой, его социальной философии в частности и особенности. К счастью, проблемы эти хорошо разработаны, в том числе в нашей стране. Здесь мы ограничимся теми менее исследованными моментами, существенными и репрезентативными, которые рождались именно в коммуникации, сотрудничестве, словом, в личностном творческом взаимодействии Ясперса с Ханой Арендт.
Но сначала нам нужно вникнуть в вопрос о том, что Ханна Арендт, в 1945 году тридцатидевятилетняя женщина, со своей стороны могла предложить в этом счастливо наметившемся творческом взаимодействии с К. Ясперсом, выдающимся философом послевоенной Германии.
Идеи и исследования Ханны Прендт к середине 40-х годов
Здесь есть непростой исторически-ситуационный парадокс. С одной стороны, в формальном отношении к моменту возобновления переписки X. Арендт с Ясперсом почти не было ее философских, теоретических публикаций — за исключением еще до войны (в 1929 году в Берлине) напечатанной диссертации о понятии любви у Августина. Эту работу, о чем говорилось раньше, Ясперс хорошо знал, ибо был, по просьбе Хайдеггера, научным руководителем Ханны. Работа, собственно говоря, была не сильная, хотя, к чести Ясперса (что мы уже отмечали), он разглядел довольно основательную философскую подготовку совсем молодой женщины и никак не ставил крест на ее творческом будущем. Вполне ясно, почему у Ханны и к 1945 году, т. е. спустя семнадцать лет после защиты (по мирным временам это немалый срок), собралось так мало философско-теоретических публикаций. Такой ведь была тогдашняя судьба многих молодых людей, в том числе учеников Хайдеггера и Ясперса, по жизни которых, как катком, прошли злодеяния нацизма и бедствия Второй мировой войны.
Но в жизни и деятельности Ханны тем не менее уже были две очень важные особенности, обусловившие немалые все же результаты и еще больший творческий потенциал. Во-первых, в Америке Арендт стала заметной фигурой в социально-политической публицистике; в делах немецко-еврейской диаспоры в США она примыкала к одной из наиболее влиятельных групп вчерашних эмигрантов. Во-вторых, вскоре выяснилось, что как раз к концу войны она уже фактически провела целый ряд интересных, оригинальных исследований, которым суждено было увидеть свет именно в последующие, первые послевоенные годы. А среди них были вчерне подготовленные книги (не говоря о многочисленных статьях), которые сегодня единодушно признаны крупным вкладом Ханны Арендт в мировую мысль, прежде всего социально-философскую, социально-политическую. Эти книги: «The Origin of Totaliatarianism» («Истоки тоталитаризма»), немецкий вариант— под названием «Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft», 1951 («Элементы и первоистоки тотального господства») и «Vita active, или О деятельной жизни» («Vita active oder Vom tätigen Leben», 1958). Эти книги, через несколько лет
Часть II. Глава 1. возобновление переписки X. Арендт и К. Ясперса после войны
Н.6. Мотрошилово ДрИ Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
150
увидевшие свет, впоследствии стали своего рода классикой социальнофилософской мысли середины XX века. Они постоянно переиздавались и переиздаются, переводились и переводятся на многие языки мира. Но ведь в 1945 году их еще не было...
Поэтому в 1945 году будущее Ханны Арендт как одного из «классиков» социальной мысли могли прочувствовать лишь совсем немногие. Ясперс как раз и принадлежал к числу немногих выдающихся людей духа, веривших в талант Ханны Арендт (хотя, как мы увидим, даже и он лишь отчасти, далеко не полностью понимал суть, специфику ее дела и творческого вклада). Но во всяком случае ему уже открылось нечто существенное, относящееся к мыслительному миру Ханны, — прежде всего в силу его уже отмеченной трогательной чуткости, прозорливости, всегдашней неэгоистической восприимчивости по отношению к другим людям, т. е. благодаря качествам, которых, кстати, чуть ли не полностью был лишен Мартин Хайдеггер.
Кроме того, Ясперсу и потому было легче понять задумки, идеи, устремления Ханны, что она сразу же после восстановления их творческой коммуникации стала регулярно предоставлять в распоряжение старшего, всегда доброжелательного, внимательного, заинтересованного друга свои работы — опубликованные и публикующиеся статьи на злобу дня, более пространные философские опусы, предпубликации и отрывки из готовящихся больших сочинений. Словом, Ясперс основательнее, чем кто-либо другой (за исключением мужа Ханны Г. Блюхера, ставшего ее верным другом, соратником, повседневным собеседником, в том числе по глубоким теоретическим вопросам), был в курсе интеллектуального развития этой замечательной женщины. И Ясперс правильно счел продвижение Ханны Арендт в науке, публицистике, ее участие в становлении и оформлении послевоенного мирового социального, политического дискурса многообещающими, перспективными, значительными событиями.
Биографы-исследователи, к сожалению, не установили с точностью, какие именно свои статьи Ханна приложила к первым послевоенным письмам, адресованным чете Ясперсов. Она не знала также, какие именно ее работы американского периода попали в руки Ясперса. Как бы то ни было, какие-то из них он внимательно читает и принимает с полным одобрением. Уже во втором письме Ханна пишет: «Естественно, я была рада тому, что Вы согласны с моими статьями, хотя не знаю, какие из них Вы прочитали» (Ibidem. S. 59). Статьи, впрочем, читал не только сам Ясперс. Его жена Гертруд в своей краткой приписке тоже одобряет работы Ханны, правда, оговаривая, что ей не сразу удалось понять их содержание из-за недостаточно свободного владения английским языком. Гертруд также спешила сообщить особенно важные для нее житейские новости: ее муж, перенесший мучительно трудную зиму 1945 года, уже восстановился и пребывает в состоянии «замечательной активности» (Ibidem. S. 727).
А вот в последующих письмах четко отражается крепнущий процесс содержательного, плодотворного взаимного творческого ознакомления, обмена публикациями, идеями, оценками между двумя незаурядными умами. В частности, в письме от 18.11.1945 года Ханна не только выка¬
зывает интерес к речам и наброскам Ясперса, но и подключает его к обсуждению некоторых своих опубликованных работ. Так, она ссылается на свою статью в «Partisan Review» (опубликованную зимой 1945 года) с остро актуальной, живо интересовавшей Ясперса темой «Подходы к немецкой проблеме».
В ответных письмах Ясперс тепло, прочувствованно благодарит Ханну за ее верность дружбе, за тот «дух естественной, непредвзятой человечности», который бесконечно согревает душу. И в самом деле, верность этой женщины именно духу дружбы, стремление действенно, оперативно прийти на помощь и очень близким, и более далеким с благодарностью ощутили многие люди в разоренной, нищей, униженной Германии.
Что касается статей Ханны, то Ясперс осведомленно ссылается на целый ряд ее прочитанных им конкретных публикаций по остро актуальным политическим, социальным, а также по социально-философским вопросам — о расизме1, об империализме, о национализме, шовинизме и, как отмечалось, о немецкой вине.
Совсем нелишними оказываются и некоторые разъяснения Ханны — возможно, в оправдание недостатков статей. Она напоминает, что должна была писать их на чужом языке. Способности Ханны в овладении иностранными языками были незаурядными. В то время, о котором идет речь, она уже полностью погружена в повседневную стихию английского языка. Однако каждый понимает: человеку, ярко пишущему на родном языке, достигнуть такого же уровня в языке иностранном бывает весьма трудно, если вообще возможно. Это правило знает лишь совсем немногочисленные исключения. Ясперсу эта оговорка Ханны более чем понятна: он сам в одном из писем признается, что у него есть проблемы даже с быстрым чтением и пониманием англоязычных текстов, не говоря уже о задаче сочинять их сразу по-английски.
Ханна пишет и о других трудностях, объясняющих возможные слабости и погрешности опубликованных работ. Ханна напоминает: за 12 лет она не знала, что такое покой, потребный для углубленного обдумывания проблем. И еще: «С того времени, как я нахожусь в Америке, следовательно, с 1941 года, я стала своего рода свободным писателем, чем-то средним между историком и политическим публицистом. Последнее имеет значение главным образом применительно к политике по еврейскому вопросу; по проблематике Германии я начала писать лишь тогда, когда стало невозможно молчать из-за растущей ненависти и множившихся глупостей...» (Ibidem. S. 59). О «непредвзятости», объективности — этом замечательном профессиональном и личностном качестве Ханны Арендт — мы в дальнейшем поговорим особо. Оно стоит того.
151
***
Говоря об удивительной дружбе К. Ясперса и X. Арендт (рассмотреть все этапы и оттенки которой в этой книге невозможно), хотелось прочертить те объективно значимые исторические линии сотрудниче-
1 Н. Arendt. Race-Thinking before Racism// The Review of Politics. Jg. 6. H. 1. Jan- nar 1944. P. 36.
Часть II. (лова 1. Возобновление переписки X. Арендт и К. Ясперса после войны
Н-в. Мотрошилово ДИВ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
152
ства, взаимодействия, личностной коммуникации, которые оказали несомненное и глубоко содержательное влияние на жизнь, творчество, траектории развития и результаты интеллектуального вклада этих обоих выдающихся представителей духовной культуры XX века. Вместе с тем даже в этой истории — в принципе взаимных отношений дружбы, участия, признания и признательности, взаимовлияния — не было полной симметрии. На что справедливо обратили внимание издатели переписки Ясперса и Арендт — друг и ученица X. Арендт Лоте Кёллер (Köller) и Ханс Занер (Hans Saner), ученик К. Ясперса, несравненный знаток его жизни и произведений. (Вряд ли в мире были, есть и будут другие люди, которые бы столь досконально, точно, в таком объеме владели конкретным материалом, относящимся ко всем обсуждаемым здесь темам1.)
Л. Кёллер и X. Занер (в своем Предисловии к переписке X. Арендт и К. Ясперса) подробно перечислили действенные проявления почтения, дружбы и признательности X. Арендт в адрес учителя, друга, великого философа.
Эти приметы многочисленны и многообразны. Постоянной была забота Ханны о хлебе насущном для семьи Ясперсов: в разгромленной нищей Германии Карл и Гертруд каждый месяц получали посылки-пакеты (почему учитель пишет ученице, что его семья живет «как в мирное время»). Главное же, пожалуй, заключалось в том, что Ясперс благодаря Ханне Арендт преодолевает искусственную культурную изоляцию, выходит из забытья, устроенного нацистским режимом. Ученица неустанно пропагандирует — ив Америке, и в других странах — идеи и сочинения Ясперса. В то время это было тем более ценно и нужно, что в США даже философы по профессии плохо знали и очень небрежно, неполно преподавали континентальную философию. В случае Ясперса есть дополнительные трудности: его фундаментальные книги часто имеют поистине грандиозный объем, к чему в Америке в принципе не привыкли. Особым и постоянным предметом забот Ханны также становятся проблемы добротного, адекватного перевода сочинений Ясперса — весьма специфических по языку, более чем необычных по терминологии — на английский язык, который далеко не всегда справляется с передачей изощренного понятийного, категориального арсенала и философского, литературного стиля немецких оригиналов. Тем более проблематичным это становится в случае экзистенциалистских философско-лингвистических образцов.
Ханна Арендт по существу брала на себя совсем непростой труд продвижения в американские издательства (через организацию издательских договоров, подыскание переводчиков, оценку качества переводов и т. д.) сочинений учителя. Например, это была организация и редакция перевода в США огромного по объему сочинения Ясперса «Великие философы». Были и другие поданные Ханной Арендт знаки почтения, любви, уважения в адрес учителя и его сочинений. Ханна посвятила Карлу и Гертруд Ясперсам свои работы, изданные в Германии после войны, — например, книгу «О революции» (1963). Она неустанно
1 Мне повезло: я была лично знакома с X. Занером, участвовала в ряде яспер- соведческих работ, выполненных под его руководством; получала от него книги, статьи — за что в душе сохраняю постоянную благодарность.
разъясняла идеи Ясперса, говорила об историческом значении его творчества во множестве лекций, докладов, сделанных в Америке и Европе. В 1958 году Ясперсу присудили Премию мира Немецких книготорговых обществ. (Кстати, многие тогда вообще находили эту акцию неуместной по отношению к немцу, жившему в нацистской Германии.) Именно Ханне выпала честь произнести на торжественной церемонии по этому случаю приветственную речь (Laudatio). Есть множество других свидетельств проявленных ею дружеских чувств внимания, признательности, предупредительности, почтения, даже преклонения — словом, целой гаммы чувств, которые она не просто испытывала, но повседневно проявляла и подтверждала вплоть до смерти учителя и его жены (см.: Ibidem. S. 31-32).
Но есть ли в этих ярких отношениях настоящая взаимность — или, используя ранее употребленный термин, имеется ли в них полная симметрия? Вопрос непростой, и в его решении многое зависит от критериев, точек отсчета.
Л. Кёллер и X. Занер пришли к следующему выводу: на то, что Ханна захотела и смогла сделать для Ясперса, он ответил «относительно малым» (Ibidem. S. 32). Правда, письма Ясперса к Ханне, как мы уже видели и еще увидим, полны благодарности, признательности, внимания к ее личности, профессиональным делам, интереса к идеям и произведениям бывшей ученицы. К важнейшей книге Арендт «Происхождение тоталитаризма» (вернее, к немецкому варианту «Истоки тоталитарного господства») Ясперс написал интересное и благосклонное предисловие. Он даже, как сообщают цитируемые авторы, хотел написать особое, посвященное ей сочинение — воздвигнуть своего рода «литературный памятник» Ханне Арендт; Ясперс годами трудился над этим. Однако новые проекты всегда как-то отодвигали такую задачу на задний план. «Он знал, что в долгу перед нею. Но она никогда не воспринимала дело именно так. То, чем Ясперс был для нее, значило для Ханны больше, чем то, что он для нее делал » (Ibidem. S. 32).
Главное, как считают названные специалисты, состояло в следующем: «Ханна Арендт ни в ее произведениях, ни в ее этосе не была для Ясперса [крупным] масштабом». И, однако, учет того, чем она все же была для этого выдающегося философа, обрисовывает достаточно серьезное историческое, интеллектуальное явление в ряду духовно-философских, нравственных, социальных коммуникаций мыслителей XX века. Приведу в качестве своеобразного резюме к этому разделу некоторые рассуждения из Предисловия Л. Кёллер и X. Занера к Переписке (читатель должен учесть, что арабские цифры в скобках последующего текста означают номера, под которыми в ней печатаются отдельные письма). Ханна Арендт была для Ясперса «грандиозным счастливым случаем» (198), — из тех, что человеку редко выпадают в его жизни. Ясперсу было особенно важно то, что Ханна стала как бы связующим звеном между прошлым и настоящим. Впрочем, это было взаимно, ибо и для Ханны Ясперсы были живым напоминанием о ее молодости, яркость и ценность которой только оттенялись ужасами нацизма и военного времени.
Любопытно, что Ясперс отмечал в характере Ханны такие, казалось бы, частные и второстепенные, но личностно существенные черты, как
153
Часть II. (лова 1. возобновление переписки X. Арендт и К. Ясперса после войны
Н.б’. Мотрошилово Щй Мортон Хайдеггер и Ханна Врендт: бьгтое-время-любовь
154
некоторое «легкомыслие» (54) — на фоне полной серьезности (46); «метафизическая радостность» (109) — при таком проникновении в «ход вещей », который обычно кажется пессимистическим; ее любовь к миру и к жизни. Эта женщина, отмечает он, «полна отваги» — при всегда «опасной мягкости» (98), при непреходящей отчужденности (337). И над всем этим — всегда поражали ее «неизменная» красота, ее широко раскрытые огромные глаза, устремленные на главные «смысловые моменты» (107) жизни. Она как бы воплощала в себе, по Ясперсу, «дух уважения к человеку» (Ibidem. S. 33).
Все это полно искренности, человечности и, полагаю, имеет более существенное значение, чем принято думать, — причем и для человеческой жизни, особенно во времена жестоких испытаний, и для смыслосо- держания философии.
Но и после сказанного все же остается немалая трудность: ведь даже дружественно расположенный, благодарный, вовсе не эгоистичный Карл Ясперс, как видно, не сумел по достоинству оценить подлинный масштаб мысли Ханны Арендт. Может быть два варианта ответа, осмысления, оценки возникающих в этой связи вопросов. Первый ответ: Ясперс прав, и на фоне свершений в философии, его или Хайдеггера, сделанное X. Арендт не лежит в той же высокой плоскости смысла и значения. Второй вариант (которого я сама придерживаюсь): исследования этих трех мыслителей существенно различны по характеру, жанру, методам и идейным предпосылкам. И пусть у них есть точки соприкосновения, есть плодотворные взаимопересечения (особенно на линии послевоенной социально-политической философии Ясперса и главных разработок Ханны Арендт). Однако асимметрия полей и методов работы сложилась так, что как раз Арендт — чему есть множество подтверждений — профессионально владела философским материалом, достаточно глубоко понимала смысл, философское значение сделанного ее великими учителями. Тогда как оба они (и даже ближе подошедший к ее делу Ясперс — по крайней мере в некоторых работах послевоенного периода) не смогли на должном уровне распознать оригинальность, прорывной, новаторский характер лучших работ их ученицы — как сказано, к концу XX и началу XXI века признанных в их теоретической «классичности». Но если Ясперсу в социально-философском пограничье все же что-то открылось, то Хайдеггер, как и прежде, по существу остался глух, невосприимчив к масштабу идей и поисков бывшей ученицы.
Вот что, возможно, было самым существенным (и что я попытаюсь в дальнейшем раскрыть, доказать при — увы, по необходимости кратком — конкретном анализе ее работ): Ханна Арендт работала в новом для гуманитарной мысли поле духовных, идейных пересечений, где уже не только, а порой даже и не столько философия занимала место синтезирующего центра, хотя привлечение философии к данному синтезу по-прежнему составляло преимущество мыслителей, профессионально способных, причастных также и к философской работе. Ханна Арендт обладала таким преимуществом, и в немалой степени благодаря своим великим учителям, благодаря пройденной у них школе — притом, как ранее было показано, в период необычно плотного скопления вокруг
Хайдеггера и Ясперса будущих философских звезд первой и второй величины.
Какими бы необычными для кого-то ни были эти выводы, настаиваю на том, что великие учителя Ханны Арендт, К. Ясперс и М. Хайдеггер, не смогли и, впрочем, по-настоящему не захотели освоить это во многом новое для того времени поле комплексной гуманитарной мысли. Что немаловажно: это исследовательское поле было создано, возделано отнюдь не одной Ханной Арендт. В частности, там удачно сплелись традиции европейской мысли — более философичной, более отвлеченной — и мысли американской — более социологичной, в большей степени повернутой к проблемам политики.
Часть II. Глава 1. возобновление переписки X. Ярендт и К. Ясперса после войны
mflßfi 2
Ясперс-Хайдеггер: возобновление переписки
Раньше было сказано: в 1945 году, когда Ханна Арендт возобновила переписку и общение с Ясперсом, когда на новом историческом этапе продолжилась и окрепла замечательная дружба этих двух ярких мыслителей и когда Ханна еще никак не решалась протянуть руку примирения Хайдеггеру, — в это время и Ясперс тоже колебался, восстановить ли по крайней мере переписку с тем человеком, с которым до 1933 года его столь многое связывало.
Впрочем, и в 1933 году, незадолго до того и вскоре после того, как Хайдеггер принял злополучное ректорство, прежние друзья еще обменивались краткими письмами. А в марте 1933 года Хайдеггер в последний раз посетил Ясперсов (ведь это он обычно приезжал в Гейдельберг). В «Философской автобиографии» Ясперс писал: «В конце марта 1933 года Хайдеггер в последний раз нанес нам более продолжительный визит. Несмотря на мартовскую победу национал-социалистов на выборах, мы общались, как и прежде. Хайдеггер купил пластинку с григорианской музыкой, и мы вместе ее слушали. Он уехал раньше, чем планировалось. „Нужно включаться”, — сказал Хайдеггер, имея в виду быстрое развитие национал-социалистической реальности. Я удивился и не задал вопросов»* 1. В письме от 3 апреля 1933 года Хайдеггер, который уже вел борьбу за ректорский пост, хотя и туманно, но все же как бы предупреждал Ясперса: «Пусть многое так темно и непонятно, но я все больше чувствую, что мы врастаем в новую действительность и что старое [действительно] устарело. Все зависит от того, подготовим ли мы для философии правильное место ее включенности (Einsatzstelle) и поможем ли мы ей сказать свое слово»2. Ясперса все эти расплывчатые разговоры о «включенности» тогда озадачили — и он ничего не смог возразить Хайдеггеру.
Позже Ясперс больше не удивляется и не задает себе вопросов: ему вообще-то ясно, что Хайдеггер подразумевает именно национал-социалистическую «включенность», якобы необходимую для философии и философов. Но все же сама проблема эта, ее характер и последствия многим, включая Ясперса, пока не предстают во всей их опасности. И потому Хайдеггер и Ясперс продолжают даже в 1933 году обмениваться письмами — правда, редкими и краткими. Ясперс (в письме от 23.08.1933) благодарит Хайдеггера за присылку полного текста его ректорской речи, с определенным сочувствием обсуждая ее теоретические, философские пассажи и все еще говоря о своем «доверии к философствованию» Хайдеггера. Впоследствии Ясперс признавался, что он (впрочем, как и многие другие в Германии) через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти еще не полностью распознал смысл происходящих событий.
1 К. Jaspers. Philosophische Autobiographie. München, 1977. S. 100.
1 Martin Heidegger / Karl Jaspers. Briefwechsel, 1920-1963. Herausgegeben von Walter Biemel und Hans Saner. Fr. a/M.; München; Zürich, 1990. S. 152. Книга, в которой
помещена цитируемая здесь и далее переписка, подарена мне (с дарственной надписью) одним из ее издателей, замечательным ясперсоведом Хансом Занером.
Что касается речей и выступлений Хайдеггера, то Ясперс, конечно, не мог не заметить некоторых утверждений новоизбранного ректора, которые были «данью времени» (zeitgemäß, как осторожно выразился Ясперс). Однако более важным ему казалось хайдеггеровское стремление к кардинальному реформированию немецких университетов, на чем еще раньше сходились взгляды и надежды обоих выдающихся философов. Но потом приходит более точное осознание случившегося. Об этом позднее поведает сам Ясперс, который (о чем раньше упоминалось) постоянно делал некоторые «Заметки о Хайдеггере »(также опубликованы X. Занером). Ясперс признает: он ошибался, когда в 1933 году полагал, будто Хайдеггер «включался» в новую реальность с целью «защитить университеты». «...Еще и ректорскую речь, — записал Ясперс, — я пытался истолковывать в положительном смысле. Но одновременно я уже не доверял Хайдеггеру»1. Несмотря на растущее недоверие, Ясперс все же сообщает Хайдеггеру о том, что написал и представил родному университету свою объемистую рукопись, посвященную университетской реформе. Хайдеггер рукописью не заинтересовался и ее не затребовал. И понятно почему: он достаточно быстро понял, хотя никому в том не признался, что нацисты если и собираются «реформировать» университеты, то совсем не в том духе и смысле, в каком реформу предлагал и обосновывал Ясперс. Ясперс позднее исповедовался: хоть прежнее доверие было почти утрачено, он некоторое время все еще не переставал «воспринимать Хайдеггера всерьез». Этим можно объяснить тот факт, что переписка, пусть вялая, продолжалась. Хайдеггер в 1935 году, уже оставив ректорский пост, посылает Ясперсу письмо, в котором между прочим пишет о своем «почти полном одиночестве»2. И это верная констатация: сначала поддержав своим ректорством нацистов, а затем уйдя в сторону от активной деятельности, Хайдеггер не обрел друзей в правящем лагере и слое, но потерял доверие и уважение большинства бывших друзей и учеников, уже серьезно пострадавших от нацизма или попавших в опалу.
Во второй части письма Хайдеггер прилагает свой перевод из «Антигоны» Софокла.
Ясперс отвечает (14.05.1936) совсем лапидарным, в три строчки, письмом — вежливым, но холодным и отчужденным. Хайдеггер еще раз пытается навести мосты — в письме, посланном 16.05.1936 года, т. е. через два дня после ответа Ясперса. Хайдеггер упоминает о своей поездке в Рим и о сделанном там докладе, посвященном Гельдерлину.
Содержательно и теоретически важно, что Ясперс в 1936 году уже опубликовал книгу «Ницше. Введение в понимание его философствования» (К. Jaspers. Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens. Berlin; Leipzig, 1936), а Хайдеггер, в сущности, одновременно, в зимнем семестре 1936/37 года, прочитал курс лекций о работе Ницше «Воля к власти» (впоследствии напечатан в 43-м томе Собрания сочинений Хайдеггера). И в последующие годы (1937, 1939, 1940) тол-
1 K. Jaspers. Notizen zu Martin Heidegger. Herausgeben von Hans Saner. München; Zürich, 1989. S. 186.
2 Karl Jaspers I Martin Heidegger. Briefwechsel. S. 157.
Часть II. (лова 2. Ясперс-Хайдеггер: возобновление переписки
158
VO
к
OV
X
8.
с
о
X
X
я
X
S>
>х
X
I
о
о
а
О
О
со
кование философии Ницше — в центре исследовательского интереса Хайдеггера.
Если бы история Германии и остального мира развивалась нормально, параллельная работа над философией Ницше двух выдающихся мыслителей могла бы в принципе привести к их интереснейшему диалогу. Но в условиях нацизма, тогда активно готовившего мировую войну и обрушившего тоталитаристские преследования на собственное население, такому уже не суждено было случиться. Правда, Ясперс создает набросок ответа — вежливого и даже с признанием относительной общности теоретических интересов. «Ваше отношение к философии — совсем как мое! Ваша оценка ценностей — Ницше, Гельдерлин — сближает нас. Но мое молчание Вы поймете и одобрите». Письмо сохранилось в Архиве Ясперса, однако в свое время оно так и не было отослано Хайдеггеру.
В 1942 году Хайдеггер посылает Ясперсу свою новую работу «Учение Платона об истине». 12 октября 1942 года Ясперс набрасывает текст ответного письма. Но письмо тоже не отсылает. Здесь нет возможности подробно воспроизводить это историческое послание. Важно главное: философам высокого ранга по-прежнему есть о чем говорить и спорить. Прочитав работу о Платоне, Ясперс снова с присущей ему честной объективностью передает свое восхищение «чрезвычайным даром» Хайдеггера «чувствовать философское содержание там, где, как кажется, никто иной его не воспринимает». Тем не менее Ясперс формулирует серьезные критические замечания относительно метода историко-философской работы, высказывается насчет «исторической недостоверности» ряда утверждений Хайдеггера (Ibidem. S. 164-166). Словом, перед нами снова упущенная возможность плодотворного, по-своему захватывающего философского диалога. Но в 1942 году такой диалог более чем когда-либо несвоевременен — и из-за войны, и из-за сугубо различного положения в нацистской Германии обоих его потенциальных участников.
Если учесть, что два последних письма Ясперса так и не были отосланы, то приходится констатировать: переписка когда-то подружившихся философов прервалась на тринадцать лет; перерыв длился с 1936 по 1949 год. Правда, Ясперс уже через три года после войны, 01.03.1948 года, пишет Хайдеггеру очень важное и серьезное письмо, сохранившееся в его наследии. Но это письмо тоже остается неотосланным. «Когда в 1945 году, — сказано в наброске Ясперса, — была преодолена опасность национал-социалистической цензуры, я ждал от Вас письма, которое должно было бы объяснить мне нечто для меня необъяснимое. Когда Вы в 1933 году молчаливо прекратили всякие встречи со мной и в результате — наше общение, я надеялся на исходящее от Вас, только теперь возможное откровенное объяснение. Вместо этого произошло нечто другое»1. То «другое», что Ясперс имеет в виду, — запрос на его имя со стороны «очистительной комиссии» по делу Хайдеггера, работавшей в 1945 году во Фрайбурге. (С сутью проблемы можно ознакомиться в соответствующем разделе моей Биографии.) Ясперс пытается объяснить Хайдеггеру, что и почему было им написано в ответ на фрайбургский запрос. Главное и неоднозначное устремление Ясперса
1 Karl Jaspers / Martin Heidegger. Briefwechsel. S. 166 и ff.
так разъяснено им самим. С одной стороны, он хотел, чтобы было вынесено строгое суждение о том, что необратимо свершилось в 1933-м и от чего в 1945 году никак нельзя было отвлечься. Конечно, Ясперс имел в виду временное сотрудничество с нацистами и оставленные Хайдеггером в истории «коричневые следы». С другой стороны, «в опасном для Вас положении, — обращался Ясперс к бывшему другу, — моим намерением было сделать все возможное, чтобы помочь Вам продолжать Вашу работу». «Добрые воспоминания о мире, давно канувшем в прошлое, воспоминания, которые нас объединяли, для меня не исчезли. Между тем с 1933 года мы, не соприкасаясь, жили в разных мирах».
Ясперс — с присущей ему искренностью и добротой — пишет о том, сколь мучительным для него был этот «разрыв». Но и о том, что сопровождавшие его переживания несопоставимы с другими, действительно страшными, глубочайшими страданиями, социальными и личными, которые ему вместе с другими преследуемыми немцами довелось испытать после 1933 года.
Когда Ясперс впоследствии (30.10.1966) в своем архиве натолкнется на набросок обсуждаемого здесь неотправленного письма, он на отдельном листочке напишет существенный комментарий: «Почему я не отослал это письмо от 01.03.1948, теперь уж не знаю. Могу только предполагать: пронзила мысль о том, что Хайдеггер никогда публично не говорил о своем политическом поведении. А такая публичность была необходима, поскольку ведь Хайдеггер в 1933 году публично выступал с речами и письменными текстами. То, что после 1945 года он попросту хитрил, увиливал, было объективно и по-человечески невыносимо» (Ibidem. S. 269).
Но вот теперь, после возобновления контактов, Ясперс стремится помочь Хайдеггеру вернуться к философской работе. Он сам испытывает живой интерес к новым хайдеггеровским произведениям.
Тем временем Ясперс переезжает в Базель и начинает работать в Базельском университете. А уже из этого города он 06.02.1949 года отправляет письмо Хайдеггеру — первое из тех, которые после войны все же добрались до адресата. «Уже давно я хотел написать Вам. Сегодня, субботним утром, наконец был к тому импульс. И я пытаюсь сделать это» (Ibidem. S. 168). Итак, инициатива восстановления переписки и личных отношений в 1949 году исходит от Ясперса. Оно и понятно: опальный пока что и уже наказанный Хайдеггер не в том положении, чтобы со своей стороны предлагать прежним друзьям наладить общение после столь серьезного разрыва и отчуждения.
Мотивы, которые движут Ясперсом, человеком добросердечным, лишенным мстительности и других ressentiments, в письме хорошо разъяснены им самим. «Между нами было нечто нас соединявшее. Я не могу поверить, что все это бесследно исчезло. Время, кажется, созрело для того, чтобы я обратился к Вам в надежде, что Вы сделаете шаги навстречу — с желанием при случае обменяться парой слов» (Ibidem. S. 169). От других интересных деталей этого письма (в частности, от обсуждения Ясперсом степени пригодности экзистенциализма для осмысления реальных, прежде всего кризисных, событий истории) мы здесь вынуждены отвлечься.
159
Часть II. (лова 2. Ясперс-Хайдеггер: возобновление переписки
Н-В. Мотрошилоео Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бьгтие-время-любоеь
160
Письмо Хайдеггера от 22.06.1949 года не было, строго говоря, ответным, потому что предшествующее послание Ясперса, о котором только что шла речь, сначала не дошло до адресата. О том, что Ясперс его уже отправил, Хайдеггер узнал от третьих лиц. «Я бы безусловно и немедленно ответил на него», — пишет Хайдеггер и жалуется, что к нему вообще не приходят многие «важные послания» из-за границы. Но сам тот факт, что письмо было написано и отослано, Хайдеггер воспринимает с большой и вполне понятной радостью. Потом Ясперс попросил жену перепечатать копию своего отправленного, но не полученного письма, а 25 июня 1949 года второй раз послал его Хайдеггеру. 15 июля Ясперсу был послан ответ из Тодтнауберга, из хайдеггеровской хижины (трудности в пересылке почты с гор Шварцвальда должны объяснить Ясперсу, почему с ответом была задержка).
«Все эти годы я пребывал в уверенности, — писал Хайдеггер Ясперсу, — что отношение между узловыми пунктами нашей экзистенции нельзя разрушить. Но я не находил никакого пути к диалогу. И это стало для меня, даже и начиная с весны 1934 года, когда я перешел в оппозицию и внутренне отдалился от университетского управления, еще более трудным делом; ибо беспомощность возрастала» (Ibidem. S. 173). О переходе к «оппозиции » нацизму сказано, конечно, слишком сильно...
Хайдеггер сообщает Ясперсу о горе своей семьи: старшего сына Йорга пятый год держат в русском плену; младший сын Герман отпущен из плена, но с подорванным здоровьем. Хайдеггер надеется, что сердобольные Ясперсы разделят его горе. И верно: в ответном письме, посланном через 5 дней, Ясперс выражает Хайдеггеру и его жене искреннее сочувствие. Но добавляет, и вполне справедливо: «Все зло этой политики затронуло и Вас» (Ibidem. S. 175). О каком зле и о какой политике идет речь, можно было не уточнять...
Поставленный Ясперсом вопрос о необходимости — со стороны Хайдеггера — дать объяснения по поводу «необъяснимого», т. е. сотрудничества с наци, в этом письме, как и впоследствии, останется без содержательного и конкретного ответа. «Простое объяснение, — пишет Хайдеггер, — сразу заведет в бесконечность. Размежевание с немецким бедствием и его всемирно-историческими нововременными сплетениями будет длиться всю нашу оставшуюся жизнь». Все верно. Но тем самым Хайдеггер отводит разговор от своей личной вины, перенося его не меньше чем во «всемирно-историческую» плоскость и даже перемещая его к метафизическим, бытийным первоосновам. В историко-философском плане он возводит проблему к «платонизму».
Такой подход впоследствии станет для Хайдеггера типологическим, парадигмальным. Он перерастет в важнейшую для поздней хайдеггеровской философии метафизическо-онтологическую критику новоевропейского бытия, в особый вид предельно отвлеченного, если можно так выразиться, «метафизического историзма». Подобный тип мысли имел свои основания, свою значимость, но и существенные ограниченности. Особенно когда речь шла — как в случае самого Хайдеггера — о конкретной вине и реально-исторической ответственности вполне определенных лиц и общественных групп. О собственной его вине у Хайдеггера нет и речи. Ясперс, а еще больше Ханна Арендт, ясно видели эти ограни-
ченности хайдеггеровских объяснений и не могли с ними примириться. Что запечатлено уже и в переписке Ясперса и Хайдеггера 1949 года.
Ясперс в ответном письме в принципе готов поддержать всегда интересный для него диалог о платонизме. Однако его смущает чересчур общий характер хайдеггеровских историко-философских отсылок, уводящих от современности. Вообще-то он согласен с Хайдеггером в том, что философам надо преодолеть «плохую метафизику и освободить пространство, чтобы услышать чистый язык бытия». Однако «бытийные» толкования Хайдеггера, философски интересные, в данном случае кажутся ему слишком отвлеченными, неопределенными. «Что именно Вы называете открытостью (Offenbarkeit) бытия, мне до сих пор осталось недоступным», — сетует Ясперс.
Ясперс хочет объяснить Хайдеггеру глубинную причину своего переезда в Базель. Ясперс рассказывает, как его восьмидесятичетырехлетний отец в 1934 году воскликнул: «Мой сын, мы потеряли наш фатер- ланд!» «Жить и преподавать в Базеле в сложившихся обстоятельствах для меня, как и для моей жены, всего уютнее». Ведь там своего рода остров, где бытие — чудесный анахронизм; там как бы создалась некая «лучшая Германия», что-то исконно крестьянское... «Для старых людей здесь настоящее прибежище. А если бы я был молодым, то, без сомнения, устремился бы в Америку...» (Ibidem. S. 176). Но даже при таком раскладе решение переселиться в Базель, признается Ясперс, далось ему и жене очень нелегко.
Итак, возобновившаяся в 1949 году переписка была достаточно оживленной и весьма содержательной. В письме от 23.09.1949 года Ясперс поздравляет Хайдеггера с шестидесятилетием, добавляя свое размышление о том, что в таком возрасте в человеке может созреть подлинная «мудрость». Да и вообще, философствование не следует за биологической линией, продолжает Ясперс. Старый Платон, старые Микеланджело, Рембрандт, старый Гёте — это ли не примеры того, что «духовно человек не должен стариться» (Ibidem. S. 188). Поздравление Ясперса задерживается на почте. Получив его, Хайдеггер рад, тронут, благодарен.
Для двух творчески работающих философов центральным интересом их взаимодействия, конечно же, являются новые произведения друг друга. Предметом внимания Ясперса, в частности, становятся работы Хайдеггера «О гуманизме» (Über den Humanismus. Fr. а/М., 1949), «Платоновское учение об истине »(Platons Lehre von der Wahrheit. Bern, 1947), а также переиздания опубликованных ранее сочинений «Что такое метафизика?» (Was ist Metaphysik?), «О сущности истины» (Vom Wesen der Wahrheit). Хайдеггер, в свою очередь, читает и анализирует сочинение Ясперса «О происхождении и цели истории» (Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zürich u. München, 1949). Он отзывается и на другие яспер- совские сочинения.
Раньше упоминалось о том, что оба философа как раз в 30-40-х годах углубленно, причем независимо друг от друга, исследовали философию Ницше. Совершенно ясно, что достигнутые в этих исследованиях результаты и выводы, подходы, примененные методы представляли огромный взаимный интерес. Переписка и другие документы с несом- 66 694
Часть II. (лава 2. Ясперс-Хайдеггер: возобновление переписки
H.ß. Мотрошилово fjfflP Мартин Хайдеггер и Ханна Арвндт: бытие-время-любовь
162
ненностью свидетельствуют не менее чем об исторической значимости и плодотворности диалога двух мыслителей вокруг их работы над оригинальным, неповторимым «философствованием» Ницше. Диалог этот в целом благожелательный, интерес — пристальный, критический, в чем- то ревнивый, придирчивый.
Правда, Хайдеггер еще раньше, в нацистский период, начал разбирать и оценивать ницшеведческую герменевтику Ясперса. Уже в 1936-1937 годах Хайдеггер сформулировал свои возражения против ясперсовской интерпретации. Это было сделано Хайдеггером в его упоминавшихся лекциях на тему «Ницше: воля к власти как искусство » (впоследствии опубликованных в GA. II. Bd. 43). Входить в конкретику хай- деггеровских возражений здесь не представляется возможным. В целом (не очерчивая детали и не предоставляя доказательств) можно сказать, что критика Хайдеггера в адрес ясперсовских толкований Ницше — весьма основательных, подробных, доказательных, глубоких — была чрезвычайно резкой. В отрывке из лекций 1940 года «Ницше: европейский нигилизм» (впоследствии опубликованных в GA. IL Bd. 48. Р. 28) Хайдеггер, перечисляя «основные недостатки» книги К.Ясперса о Ницше, начинает с утверждения, будто эту книгу... вообще не следовало писать! Другие упреки: Ясперс релятивирует-де решающие прозрения Ницше, «которые не являются приватными мнениями, а необходимыми идеями западной метафизики», превращает их в некие шифры.
Но и Ясперс весьма критически относится к историко-философским работам Хайдеггера, в частности к его интерпретации Платона. В полученном экземпляре хайдеггеровской книги о Платоне он записывает: «Хайдеггер трактует Платона как человека, создавшего свои „учения” — точно так же, как это делает Целлер. Что является полностью неплатоновским умонастроением. Никакой диалектики — никакого движения в действительном понимании, — какие-то фантазмы (nihil) заступают место экзистенции-трансценденции, — Платон охарактеризован ложным образом. Несколько смешные тотальные утверждения»1. (Проблема соотнесения таких резких оценок с платоновскими оригиналами специальна, трудна — к тому же она выходит за рамки тем и замыслов этой моей работы.)
Да и вообще, Ясперс (в особенности в предназначенных только для себя вышеупомянутых «Notizen zu Martin Heidegger» с соответствующими беглыми, отрывочными характеристиками) оставил немало резких, нелицеприятных суждений о Хайдеггере — его личности, поведении, сути его философии. Он задался, в частности, весьма любопытным и деликатным для него вопросом о том, как соотносятся его и Хайдеггера способы, результаты философствования. Вот некоторые формулировки: «Примечательные совпадения между Хайдеггером [и] мною в деталях — если они не проистекают из наших разговоров и общих источников: вплоть до формулировок, до конкретного интереса к определенным чертам эпохи — не знак ли это общего „дела” (Sache)? Но [ведь] потом столь далекие и чуждые друг другу основополагающие способы поведения трудно сформулировать, не прибегая к систематике:
1 М. Heidegger ! К. Jaspers. Briefwechsel. S. 268.
Хайдеггер: [мыслит] тотализирующе, — гностически, — в столь широко простирающихся горизонтах, что они распадаются, — потеря отнесенности к конкретным современностям, к экзистенции, к это- су, — свободное парение в экзистенциально напряженном эстетическом пространстве — а у меня нечто противоположное всему этому»1. И еще важное размежевание — в коренном вопросе об оценке философской роли языка. У Хайдеггера «абсолютно высокая оценка языка... Следствие такого понимания: языкотворчество вместо проникновения в само дело. Смешение результатов такого прозрения и движения в язык — ар- тистика языка »2.
Но какими бы резкими ни были подходы, оценки, формулировки (в переписке, естественно, смягчаемые), все эти размышления, суждения чрезвычайно интересны для философов, в хорошем смысле этого слова провокативны и, без сомнения, перспективны.
Подводя предварительный итог этому небольшому разделу и снова возвращаясь к нашей главной теме, пометим то, что и Ясперс, и Ханна Арендт только к концу 40-х годов созревают для возобновления коммуникаций с Хайдеггером. Но при этом Ясперс раньше Ханны делает шаги навстречу бывшему другу, уже проходит через трудные начальные этапы «выяснения отношений», проявляет добрую волю, цивилизованность, мягкость характера, умение поставить во главу угла стержневые, принципиальные личностные ценности, главные потребности философии и подчинить им другие проблемы и задачи, пусть и такие важные, как фиксирование для истории вины и нераскаянности Хайдеггера. Решительность, определенность подхода Ясперса к «делу Хайдеггера», личностный рисунок поведения и даже детали начавшегося общения, хорошо известные Ханне Арендт, оказали немалое влияние на то, что и она в 1950 году предпринимает аналогичную попытку восстановить драматически прерванное общение с бывшим учителем, когда-то любимым человеком. При всем сходстве имевшихся здесь параметров когда- то пылавшая любовь к Хайдеггеру, несомненно, вносила свои глубинно значимые оттенки.
Прежде чем мы вместе с нашими героями непосредственно переместимся в 50-е годы XX века, этот миновавший период истории (для кого-то из нас, кстати, бывший временем и нашей жизни), специально разберем вопрос о том, как в непосредственно предшествовавшие послевоенные 40-е годы Карл Ясперс и Ханна Арендт осмысливали и обсуждали между собой «дело Хайдеггера».
6*
1 К. Jaspers. Notizen zu Martin Heidegger. S. 58.
2 Ibidem. S. 58-59.
Часть II. Глава 2. Ясперс-Хайдеггер: возобновление переписки
ГЛАВА 3
«Дело Хайдеггера» в зеркале переписки Арендт и Ясперса
Ясперсу и Арендт в их переписке никак невозможно было избежать проблемы, носящей название «дело Хайдеггера». Суть не только в том, что после столь длительного перерыва в общении интерес к случившемуся с другими друзьями (тем более с «доверенным другом», каким ему был, по словам Ясперса, Хайдеггер) более чем естествен. Случай Хайдеггера — из-за его хотя бы и временного «пакта» с нацизмом, из-за его ректорства 1933/34 года — совершенно особый. Ясперс и Арендт так или иначе разделяют оценки, чувства тех, кто не мог относиться к поступкам Хайдеггера снисходительно или нейтрально. Причин тому много — от кардинальных ценностей, философских подходов, нравственных убеждений до установок, чувств, переживаний, свойственных людям, которые в период нацизма были, в сравнении с Хайдеггером, по другую сторону баррикад. Возникшая к 1945 году жизненная проблема заключает в себе целый комплекс разнообразных аспектов. Попробуем в них разобраться.
Это поможет понять, почему Ханна Арендт в первые пять лет после войны не делает того, что она предприняла по отношению к чете Ясперсов сразу же, когда представилась возможность, — не возобновляет коммуникаций с учителем, другом, когда-то горячо любимым человеком. Пройдет пять лет, прежде чем она решится на этот шаг. Ибо духовная, нравственная рана еще очень свежа... Итак, о главных аспектах «дела Хайдеггера», как его видят и осмысливают ближайшие когда-то друзья Ясперс и Арендт.
В вопросе о вине и ответственности Хайдеггера у Ясперса и Арендт нет принципиальных разногласий. Четкая формула, выражающая суть дела и определяющая вину Хайдеггера с социально-политической, моральной, личностной точек зрения, дана Ясперсом в ответ на упомянутое раньше приглашение комиссии, весной 1945 года разбиравшей «дело Хайдеггера» во Фрайбургском университете. «Настоятельно необходимо, — писал Ясперс, — привлечь к ответственности тех, кто помогал национал-социализму упрочить власть. Хайдеггер принадлежал к немногим, профессорам, которые это делали... Он, и Боймлер, и Карл Шмидт были среди тех весьма отличающихся друг от друга профессоров, которые пытались в духовном отношении стать во главе национал-социалистического духовного движения. Тщетно. Они употребили действительные духовные усилия, но опорочили славу немецкой философии. Так шествует трагика зла»1.
На протяжении последующих десятилетий Ясперс и Арендт в их переписке не раз возвратятся к делу Хайдеггера — и будут делать это всякий раз, когда оно станет приобретать общественный резонанс. Так, существенно позднее — в марте 1966 г. (после того как в журнале «Шпигель» был напечатан реферат книги А. Швана «Политическая философия в мышлении Хайдеггера») опять разгорится дискуссия о Хайдег-
1 Цит. по: В. Martin. Martin Heidegger und das «Dritte Reich». Ein kompendium. Darmstadt, 1989. S. 151,152 (курсив мой. — H. Ai.).
repe, его вине и ответственности. В письме к Ханне Арендт от 9 марта 1966 года Ясперс снова поставит вопрос четко и остро: «Можно ли в философии Хайдеггера найти основание для его политических суждений и действий?» И добавит, что чьи бы то ни было требования «оставить Хайдеггера в покое » он находит «нежелательными ». Ибо значение его поведения для современной политики в ФРГ не кажется ему какой-то «мелочью»1.
Весьма важным для обоих друзей является и то, как в вопросе о своей вине ведет и будет вести себя сам Хайдеггер. Конечно, они никак не ожидают от философа ни слишком поспешного, ни сколько-нибудь унизительного для него покаяния. И готовы ждать, пока он созреет для ответственного, выстраданного шага. Но что шаг непременно должен воспоследовать, в том они не сомневаются. Эти мудрые, проницательные люди, настроенные на волну ответственности, высокого нравственного долга, в конечном счете ошиблись. Не в том, конечно, смысле, что Хайдеггер должен это сделать. А в том, что он действительно осуществит должное и от него ожидаемое. Хайдеггер жил и умер без покаяния. Он, правда, завещал после его смерти опубликовать интервью, которое он ранее дал журналу «Шпигель». Когда интервью появилось, многие затаили дыхание: не исполнил ли Хайдеггер то, что разные люди, в том числе его близкие друзья, ученики, считали его невыплаченным нравственным долгом? Но и после смерти Хайдеггера зазвучало то же, уже известное... Ни Карлу Ясперсу, умершему в 1969 году, ни Ханне Арендт, скончавшейся незадолго до Хайдеггера, не довелось прочитать посмертную публикацию интервью с Хайдеггером в «Шпигеле». Думаю, однако, что она не стала бы для них новостью: ведь они предчувствовали, что их друг Хайдеггер в таком существенном вопросе ни в коем случае не изменит самому себе...
В послевоенной переписке в отношении «дела Хайдеггера» у Ясперса и Арендт действительно нет разногласий. Подходы и оценки совпадают. Они — как выяснилось, тщетно — ожидают от Хайдеггера осознания, признания вины, какой-то формы покаяния.
В письме (01.09.1949 года) из Женевы, где теперь жили Ясперсы, Карл сообщает Ханне, что он уже обменивается письмами с Хайдеггером. Его письма Ясперс обещает показать Ханне, когда та появится в Женеве. И вот ясперсовская оценка того, как теперь, после войны, держит себя Хайдеггер. «Он весь в спекуляциях о бытии, он пишет Seyn2. Два с половиной десятилетия назад он печатал слово „Existenz”, и в принципе искажал суть дела. Теперь он печатает что-то еще более существенное, и это снова не оставляет меня равнодушным. Надеюсь, он еще раз поменяет позицию. Но я в том сомневаюсь. Можно ли, будучи нечистой душой — т. е. душой, которая не ощущает своей нечистоты и не предпринимает постоянных усилий, чтобы из нее выбраться, также и дальше безмысленно проживая в этой грязи, — можно ли при неискренности видеть самое чистое? Или он еще переживет какую-нибудь [свою] революцию? — Я больше чем сомневаюсь, но кто знает...» (Ibidem. S. 177).
Ханна Арендт (в письме от 29.09.1949 года) отвечает: «Вы тысячу раз правы в каждом предложении. То, что Вы называете „нечистотой”, я бы
1 См.: Н. Arendt I К. Jaspers. Briefwechsel. S. 665.
1 Это старинное написание слова «Sein», бытие.
Часть II. Глава 3. «Дело Хайдеггера» в зеркале переписки Арендт и Ясперса
166
O'
Z
CD
CL
Œ
Z
Я
s
a
g
CD
O'
>S
Я
z
I
O
O
ai
Э
8.
o
S
œ
x
назвала бесхарактерностью, но в том смысле, что он буквально не обладает никакой силой характера, также и специфически злой направленности. И так он живет, пребывая где-то в [собственной] глубине и будучи охваченным некой страстностью, которую [ему] не так-то легко забыть. Изменения ему непереносимы. И уже один тот факт, что он теперь все инсценирует так, как будто дело идет об интерпретации „Бытия и времени”, — этот факт говорит о том, что все оттуда снова выйдет искаженным. Я читала „Письмо” против гуманизма1 — все тоже спорно и во многих случаях двусмысленно, однако здесь первый сейчас случай, когда он снова достигает прежнего уровня. (Я тут читала [написанное Хайдеггером] о Гельдерлине и отвратительные, болтливые Лекции о Ницше.) Эта жизнь в Тодтнауберге, когда он предается брани в адрес цивилизации и пишет „Sein” через „у”, — на самом деле есть всего лишь пребывание в мышиной норе, куда он себя затащил, ибо справедливо полагает, что ему нужно видеть только тех людей, которые, как пилигримы, являются перед ним в полном восхищении...» Ханна раздраженно добавляет, что вокруг Хайдеггера, пусть и окруженного светлым сиянием голубого неба, складывается мрачная, пагубная для него атмосфера лжи. «Хайдеггер ведь поверил в то, что он, действуя в такой манере, смог бы откупиться от мира, вывернуться из всех неприятностей и заниматься одной лишь философией. Но тогда, что вполне естественно, вся эта запутанно-ребяческая нечестность перельется и в его философствование» (Ibidem. S. 178).
Как видим, подходы и оценки очень жесткие, нелицеприятные, лишенные социальной снисходительности. И они касаются не только объективных социально-исторических, политических, общенравственных аспектов. Ясперс и Арендт пытаются отыскать существенные причины грехопадения Хайдеггера в его личностных особенностях, в его характере — точнее, по определению Ханны, в его сугубой «бесхарактерности». Уж ей ли было не знать об этой черте личности своего учителя, когда-то горячо любимого ею и любившего ее мужчины... Насчет «характера» Хайдеггера суждение Ханны впоследствии сам Ясперс подкрепит — и примечательно, что... в письме к Хайдеггеру! В послании от 19.03.1950 года Ясперс напишет Хайдеггеру: «Уж Вы меня извините, если я скажу, что подчас думал: кажется, что применительно к национал-социалистическим явлениям Вы вели себя подобно ребенку, который мечтает и не знает, что он делает; и как слепо, пребывая в некоем забвении, он отдается во власть чего-то, какого-то дела, которое для него выглядит совсем иначе, чем оно бывает в реальности, а вскоре он растерянно стоит перед руинами и снова отдается потоку событий»2. Хайдеггер, кстати, ответит (в письме от 8 апреля 1950 года): «Вы с Вашим образом мечтающего ребенка полностью попали в точку»3. А дальше снова повторит свою — не соответствующую честной и полной картине происшедшего — версию о том, что он якобы согласился стать ректором под давлением коллег и во избежание худших кандидатур. Но ведь как бы
1 М. Heidegger. Über den Humanismus // M. Heidegger. Platons Lehre von der Wahrheit... Bern, 1947. S. 53-119. Статья Хайдеггера называется «О гуманизме». Но X. Арендт намеренно пишет: Письмо против гуманизма.
2 М. Heidegger ! К. Jaspers. Briefwechsel. S. 198.
3 Ibidem. S. 200.
извиняющая отсылка к «ребячеству» характера и поступков философа полностью теряет свою силу тогда, когда дело идет о характере философии и претензиях философа на роль «властителя дум»... Это лучше других поймет и осмыслит Ханна Арендт.
Ознакомившись со всеми такими оценками, можно было бы даже ожидать, что Карл и Ханна больше не протянут руки Хайдеггеру, не возобновят с ним дружеских, коллегиальных отношений. Но мы теперь знаем: Ясперс уже год обменивается письмами с бывшим другом; Ханна вскоре сделает то же, причем она даже начнет с личной встречи с Хайдеггером, что к тому же произойдет по ее инициативе. Чтобы понять, почему это — несмотря на все приведенные раньше крутые, полностью нелицеприятные оценки — все же случилось, надо учесть целый ряд более конкретных обстоятельств, на этот раз выражающих прежде всего понимание Ясперсом и Арендт места Хайдеггера в культуре Германии, в мировой философии. Но также относящихся к характеру самих Ясперса и Арендт.
Несколько ранее, в своем ответе «очистительной комиссии» по делу Хайдеггера Ясперс совершенно определенно сформулировал свое твердое пожелание относительно будущего, которое следует определить для Хайдеггера, — пожелание, которому в послевоенные годы в Германии и в остальном мире реально последовала философская общественность. «Хайдеггер, — так суммирует Ясперс свою оценку, — это значительный философский потенциал, и не с точки зрения содержания философского мировоззрения, а обладания спекулятивным инструментом. Он располагает философским органом, восприятия которого интересны, хотя Хайдеггер, по-моему мнению, некритичен и далек от науки в собственном смысле. Иногда он действует так, как если бы серьезность нигилизма соединялась в нем с мистагогией (Му$Га§о§1е) волшебника. Б потоке своего речения он временами помогает, и скрыто, и грандиозно, коснуться самого нерва философствования. И в этом качестве среди философов Германии, сколько я вижу, Хайдеггер, быть может, единственный. А потому приходится настоятельно желать и требовать, чтобы он смог работать и писать, реализуя свои возможности»1. Есть немало свидетельств того, что и Ханна Арендт вполне разделяла такую оценку — неоднозначную, но в целом поддерживающую представление о Хайдеггере как выдающемся, в чем-то и великом философе, которому, конечно, никак нельзя простить временного сотрудничества с наци, но которому нельзя перекрывать возможностей для работы в немецкой и мировой философии.
Подчас задают вопрос: а на что надеялся сам Хайдеггер, когда он, казалось, нерасчетливо, всю жизнь воздерживался не то что от покаяния, но даже от хотя бы сдержанного, лапидарного публичного признания своей вины? Именно на это Хайдеггер, видно, и надеялся: он был уверен, что величие таланта и громкое звучание имени когда-то заставят людей как бы редуцировать, «заключить в скобки» возможные мысли и рассуждения о его прошлой вине. И хотя совсем не все люди духа соглашались оставить за скобками происшедшее с Хайдеггером в 1933 году, хотя «дело Хайдеггера» история то и дело будоражит вновь и вновь2, в целом расчет Хайдеггера оправдался. Также и в том смысле, что отношения с
167
1 Цит. по: В. МаПЫ. Ор. ск. Б. 151.
1 См. по этому вопросу мою Биографию Хайдеггера.
Часть II. (лова 3. «Дело Хайдеггера» в зеркале переписки Арендт и Ясперса
H ß. Мотрошилово Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
168
Ясперсом и Арендт, дорогими друзьями довоенных лет, несмотря ни на что, возобновились; теперь только смерти было подвластно прервать их.
Из переписки Ясперса-Арендт отчетливо видно, сколь способствует этому результату их природная доброжелательность, скрупулезная объективность, неспособность предаваться мстительности, личным обидам, злобе. Что можно видеть на разных конкретных примерах.
В упомянутых дискуссиях 1966 года вокруг дела Хайдеггера и его политических ориентаций были затронуты личные для Ясперса, причем весьма чувствительные моменты. В одном из материалов высказывалось предположение, что Хайдеггер после 1933 года перестал посещать дом Ясперсов в Гейдельберге (где до этого он был принят тёпло и дружественно) из-за того, что Гертруд Ясперс была еврейкой. Первым, кто не согласился с такой версией и даже возмутился против нее, был сам Карл Ясперс.
«„Шпигель”, — пишет он Ханне в письме от 9 марта 1966 года, — приводит не только реферат (А. Швана. — Н. М.) по книге, но и [высказывает] отвратительные вещи. Утверждение, будто Хайдеггер не приходил к нам из-за того, что Гертруд — еврейка, является чистейшим вымыслом. „Шпигель” в такие моменты снова действует в своей старой дурной манере. В моей книге о ФРГ1 я весьма позитивно отнесся к журналу „Шпигель” и высказал уверенность, что смогу и в дальнейшем делать это; но такие вещи вызывают сильное раздражение»2. И добавляет: «Что Гертруд еврейка, само по себе это не было для него мотивом». Итак, Ясперс отводит столь жесткое, а в послевоенной Германии и политически, нравственно очень опасное обвинение.
Это тем более значительно и даже любопытно, что он тут же с гневом вспоминает житейский случай, касающийся последнего, перед долгим перерывом, посещения Хайдеггером их дома. «Но Хайдеггер во время посещения нас в мае 1933 года едва ли попрощался с Гертруд, что с его стороны было в высшей степени невежливо. Причина была в том, что она в своей обычной манере, прямо и открыто, высказала свое мнение, тогда как я проявил свое недоверие осторожно и лишь косвенно. Его столь нерыцарского поведения по отношению к Гертруд в этой ситуации я никогда не забывал, не прощал ему. Сама же Гертруд чудесным образом забыла, простила, возможно, потому, что в страшной общей ситуации она осталась совершенно равнодушной [именно к этому случаю]. То, что он после 1945 года сказал, будто не появлялся у нас из-за стыда, я считаю отговоркой» (Ibidem).
Итак, некоторые личностные «частности» и «мелочи» здесь все же имеют свое значение. Но не в плане непосредственного извлечения из них политического смысла. «Правда, приватно это имеет свой вес, по крайней мере для меня, и имеет свои последствия. Но такие упрощенные обороты речи, какие допускает „Шпигель”, не просто являются ложными. Я мог бы сказать: после 1945 года все было так же, как после 1933-го. Хайдеггер не планировал прервать общение с нами. Так уж сложилось» (Ibidem. S. 666).
1 «Куда движется ФРГ?» (Wohin treibt BRD?).
1 Н. ArendtI К. Jaspers. Briefwechsel. S. 665.
Ясперс высказывает и более общее суждение о том, что делал и сделал Хайдеггер «объективно». Он никогда не был, считает Ясперс, антисемитом. (Другие люди, особенно пострадавшие, это оспаривают.) И продолжает: в нацистское время Хайдеггер по отношению к евреям вел себя по- разному — то более или менее порядочно, то в нацистском духе.
Конкретный пример на эту тему, который обсуждают Ясперс и Ханна Арендт, касается Гуссерля: речь идет о бегло упомянутом ранее предписании за личной подписью ректора Хайдеггера — с запретом бывшему учителю посещать здания и библиотеку Фрайбургского университета. Ханна находит этот случай существенным и возмутительным. Ясперс и здесь предпочитает скрупулезно выяснять внеличностную суть дела. «И его (Хайдеггера. — Н. М.) поведение применительно к Гуссерлю было только послушанием по отношению нацистам. Это входит в круг исчезновения всякого правового сознания. А таковым он не обладал никогда, разве лишь случайно» (Ibidem). (Между прочим, ответы Хайдеггера 1966 года «Шпигелю» Ясперса раздосадовали, их уровень он нашел весьма низким.)
Итак, Ясперс был менее всего расположен переводить обиды на Хайдеггера в чисто личностную плоскость. Вспомним, он говорил о том, что в подобных случаях «шествует трагика зла»... Соглашаться ли с Ясперсом — вопрос непростой. Во всяком случае, собственный его опыт и опыт выживания немалого числа индивидов в условиях тоталитарных режимов показывает, что разные люди несходным образом соотносят свои судьбы с победным шествием «трагики зла», а особенно с самыми страшными, репрессивными маршрутами этого шествия.
Ханна Арендт в 1946 году еще не готова была продемонстрировать ту же сдержанность в суждениях о деле Хайдеггера, которую уже тогда проявлял Ясперс, когда он в как бы отрешенной, даже «адвокатской» манере разбирает, скажем, случай с Гуссерлем. Ханна же как бы ставит себя на место Гуссерля. Да это и нужно сделать, полагает она. Что из того, что мы можем сказать: таков-де был ход истории. Представим себе, как бы предлагает Ханна, что униженный и сильно переживавший все это Гуссерль, старый тогда человек, не допущенный в родной университет, тут же умер бы от горя. Ведь Хайдеггера в этом (гипотетическом, но в принципе возможном) случае можно было бы считать потенциальным убийцей.
Еще одна примечательная деталь, сообщаемая Ханной Ясперсу. «Позднее Сартр рассказывал мне, что Хайдеггер через 4 (или 6) недель после немецкого поражения написал профессору Сорбонны (имя я запамятовала), говоря о „недопонимании” (Mißverständnis) между Германией и Францией и протягивая руку для „взаимопонимания” (Verständigung). Естественно, ответа он не получил. А позднее он написал об этом Сартру. Различные интервью, которые он тогда давал, Вам, конечно, известны. Ничего, кроме безрассудных лживостей — и с патологическим, как мне кажется, уклоном. Но это старая история» (Ibidem. S. 84).
С годами, однако, позиция Ханны — человека доброго и отходчивого — по отношению к «делу Хайдеггера» и особенно по отношению к нему самому существенно смягчается. «Старая история» становится еще более устаревшей. Постепенно приближается пора их встречи, которая, мы это увидим, была по-своему неизбежной.
169
Часть II. Глава 3. «Дело Хайдеггера» в зеркале переписки Врендт и Ясперса
Часть III
Ханна Арендт и Мартин Хайдеггер: общение и переписка в 50-60-х годах XX века
ГЛАВА 1
50-е годы: возобновление коммуникации
Возобновление переписки и общения Ханны Арендт и Мартина Хайдеггера выпало на 1950 год. С того жизненного периода, когда разгорелся, а потом оборвался их захватывающий роман, и до того времени, когда снова наладилась их коммуникация, прошло больше двадцати лет. Даже для спокойного течения жизни то был бы значительный срок... Однако судьба распорядилась так, что на те же годы пришлись плотно и стремительно следовавшие друг за другом исторические катастрофы, настоящие социальные землетрясения. То были: национал-социализм в Германии, фашизация Италии, захват власти Гитлером, лагеря смерти, уничтожение миллионов людей, сталинская диктатура и ГУЛАГ в СССР, кровавая и разрушительная мировая война, послевоенный передел мира, формирование противостоящих друг другу военных блоков, начало «холодной войны».
Герои нашего повествования оказались в эпицентре турбулентных процессов и событий, но претерпевали и переживали их на противоположных сторонах социальных баррикад.
В предшествующих главах было показано, каким смертельно опасным, унизительным, поистине варварским преследованиям подверглась Ханна Арендт, лишившаяся родины, дома, работы, духовной среды. Выбравшись из лабиринтов отовсюду грозящей смерти, она должна была как бы сначала, в чужой стране дальше проходить самостоятельный творческий путь в науке. Она связала свою теоретическую и практическую деятельность с глубоким критическим анализом тоталитаризма, нацизма, тогда как Мартин Хайдеггер на некоторое время стал достаточно активным, а потом вынужденным попутчиком власти, воплощавшей национал-социалистическое зло.
«Трагика зла» и бедствий, как верно отметил Ясперс, не могла не затронуть и тех, кто — хотя бы и временно — встал на сторону нацизма. Своеобразной расплатой за нацистские прегрешения Хайдеггера стали бедствия для самых дорогих ему людей — любимых сыновей, которые воевали на фронте, а после войны, в годы своей молодости, оказались в русском плену. Мы хорошо знаем: после войны наказали и самого Хайдеггера, дав четкую принципиальную оценку его пусть недолгому, но несомненному присоединению к национал-социалистической универси¬
тетской политике. Я рассказала о главных аспектах «дела Хайдеггера» и споров вокруг него в своей (также печатаемой в этой книге) Биографии, к которой снова отсылаю читателей.
Там я, в частности, высказала свое мнение в споре (он не прекращается до сей поры) о том, было ли наказание, после войны определенное для Хайдеггера (пятилетний запрет на преподавание), чрезмерно строгим, как думали одни, или слишком мягким, как полагали другие.
Вслед за такими авторитетными людьми, как К. Ясперс и X. Арендт, считаю — если говорить совсем кратко, не приводя аргументов, имеющихся в Биографии, — что Хайдеггера наказали за дело; и наказание отнюдь не было чрезмерным. Существенно, во всяком случае, что Хайдеггеру не были перекрыты пути и возможности для возвращения в философию. Дальнейшее творчество этого выдающегося мыслителя, всемирное значение его философствования, причем не только раннего, но и позднего периодов, подтвердили оправданность такого подхода.
Хочу особо подчеркнуть значимость того, что друзья, философы- коллеги — в частности, Ясперс, и немалое число учеников, среди них и Ханна Арендт, — сыграли в этих процессах возвращения особую роль, проявив прозорливость, добросердечность, незлобивость, в конце концов протянув руку примирения Хайдеггеру. О том, как это сделал Ясперс, только что было рассказано.
Вряд ли можно сомневаться в том, что Хайдеггер ждал подобных шагов от Ханны Арендт. По разным причинам — личностным, экзистенциальным, социально-политическим — в то послевоенное время поддержка X. Арендт была для Хайдеггера, возможно, и более важной, чем примирение с Ясперсом. Внешние причины определялись тем, что Ханна, правда еще не приобретшая в интеллектуальном мире свою последующую мировую славу выдающегося теоретика, мыслителя, тем не менее уже обладала известностью и репутацией смелого, честного автора, публициста, защитника прав и достоинства человека. Немаловажно, что она, в 30-х годах преследуемая изгнанница, теперь приезжала в Германию из США, одной из держав-победительниц, имевшей к урегулированию немецкого вопроса самое прямое отношение. Притом Ханна располагала некоторыми официальными позициями и выполняла ряд поручений международных организаций.
В непростом деле Хайдеггера ее голос поддержки, на который он мог рассчитывать, прозвучал бы достаточно авторитетно. Расчет полностью оправдался. Но я полагаю, что в тогдашнем мире мыслей, переживаний, поисков Хайдеггера эта очень важная линия, восходящая к внешней ситуации, все же не была решающей. В дальнейшем повествовании намереваюсь показать и доказать (опираясь на многие документальные свидетельства), что основные личные мотивы и побуждения, определявшие суть и характер возобновившегося общения, духовной коммуникации этих двух выдающихся людей, больше всего скреплялись их все еще не умершей любовью, духовными личностными узами. А среди последних весьма существенную, если не центральную роль играла погруженность обоих в философию, в теоретическое мышление, и также коммуникация именно вокруг новаторской теоретической работы.
171
Часть III. Птоеа 1.50-е годы: возобновление коммуникации
H.ß. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
172
Первое доказательство гипотезы о прочности личностных уз, в том числе чувства любви, вижу в том, что говорили сами герои нашего повествования: Мартин и Ханна, встретившись, станут применять для оценки своих чувств друг к другу слова (глагол и прилагательное) «bleiben», «bleibende ». Они в данном случае помечают в отношениях людей именно прочное, «сохраняющееся», «непреходящее». Но обо всем по порядку.
Кок все это было?
В начале 1950 года Ханне Арендт предстояла поездка в Европу. Поводом стала ее временная деятельность в скромном, но официальном качестве исполнительного директора небольшой организации под названием «Еврейская культурная реконструкция» («Jewish Cultural Reconstruction»). Цель последней состояла в обнаружении, инвентаризации, передаче прежним владельцам, индивидуальным и институциональным, отнятых у них нацистами культурных ценностей, прежде всего книжных собраний. Для чего Ханне предстояло отправиться в Базель, относившийся к тогдашней американской оккупационной зоне. Оттуда она планировала поехать (общественным транспортом или в автомобиле американских военных властей) в Германию. Возможно, она колебалась, следует ли ей где-то по дороге встретиться с Хайдеггером. Этой встречи она желала — и опасалась ее, отдаляя решающий момент. И все- таки сочла необходимым проехать через Фрайбург, что как бы предопределяло встречу с Хайдеггером. Ханна, что называется в последнюю минуту, написала Мартину письмо с уведомлением о возможности увидеться лично. Сохранились письма Мартина от 7 и 8 февраля 1950 года, написанные им уже после состоявшегося 6 февраля свидания.
Первое, лапидарное письмо было реакцией на короткую личную встречу утром 7 февраля 1950 года — более чем через двадцать лет после расставания — в рецепции отеля во Фрайбурге. Хайдеггер как раз и пишет о том, что встреча, его сильно обрадовавшая, была проявлением «сохраняющегося», непреходящего (ein Bleibendes), случившегося «в более позднее время жизни»* 1. (В первом послании Хайдеггер на всякий случай обращается к Ханне на «Вы».) В письме также содержится приглашение Ханне нанести визит во фрайбургский дом Хайдеггеров — с припиской: «Моя жена, которая все знает, будет рада Вас приветствовать» (Ibidem). Впрочем, скоро выяснилось, что «узнавшая все» Эльфрида совсем не горела желанием принимать бывшую соперницу в своем доме. Запланированный Хайдеггером визит Ханны тогда не состоялся. Однако благодаря его упорству Эльфрида и Ханна потом все же встретились, причем первый раз в их жизни. Это была, как сообщают биографы, встреча «втроем» (zu dritt). «Хайдеггер хотел завербовать и Ханну, и Эльфриду на то, чтобы можно было установить между троими открытые и доверительные отношения»2, — констатирует А. Груненберг. Больше того, Мартин, тосковавший по отсутствовавшему кругу друзей, по философ¬
1 Hannah Arendt / Martin Heidegger. Briefe 1925 bis 1975 und andere Zeugnisse. Fr. a/M. Vittirio Klosterman, 1998 (3-е изд. 2002). S. 73. Далее при цитировании по этому изданию в тексте моей книги: Н. Arendt / М. Heidegger. Briefe — с указанием страниц.
1 А. Grunenberg. Op. cit. S. 307.
скому кругу, рассчитывал на вовлечение в возобновляющиеся контакты четы Ясперсов, зная, сколь близкими людьми они стали для Ханны.
О возрождении былых любовных отношений с Ханной Мартин тогда, скорее всего, не помышлял. По разным причинам, в том числе и потому, что время приглушило более молодые страсти, что Ханна теперь была замужем (и по слухам, наверняка долетавшим до Хайдеггера, ее брак был прочным и счастливым), что он сам по-прежнему сохранял узы своего брака (хотя и в возрасте совсем немолодом «по-молодому» не уклонялся от любовных историй с теми или иными своими поклонницами). К тому же первая и очень краткая встреча Мартина и Ханны сразу не могла выявить, сохранилось ли и что сохранилось от прежней любви.
Когда люди, любившие друг друга, встречаются после долгого перерыва, они, скорее всего, сначала переживают шок... При этом себя они не видят, во всяком случае, не видят столь же критически, как постаревшую «другую сторону». Правда, с возрастом критерии меняются; люди примериваются скорее к настоящему, а не к ушедшей молодости.
Хайдеггеру в момент встречи шел шестьдесят первый год. Изменился ли он внешне? Несомненно, и изменился существенно. Когда Ханна и Мартин впервые встретились в Марбурге, тридцатичетырехлетний Хайдеггер был достаточно молодым, страстным мужчиной; теперь, в 1950 году, он — уже пожилой, а по понятиям совсем молодых просто старый человек. Правда, какие-то внешние возрастные изменения даже пошли на пользу Хайдеггеру. В молодости он, всегда низкорослый, был довольно подтянутым. Он предпочитал одеваться, вспомним, в особую одежду, напоминающую фольклорное одеяние (Тгас^епкЫб) немецкого Шварцвальда. В 1950 году перед Ханной предстал более солидный, благообразный пожилой господин в обычном костюме, поседевший, но совсем не старый, благодаря спортивным занятиям вовсе не дряхлый, а подтянутый, с прежними живыми глазами и, пожалуй, более симпатичным лицом. Он все еще нравился противоположному полу, а для кого-то из молодых женщин — в сочетании с выдающимся умом, известностью, умением прочно завлекать женщин в сети любовных отношений — становился мужчиной поистине неотразимым. (Как раз незадолго до встречи с Ханной произошло очередное горькое «выяснение отношений» между Эльфридой и Мартином по поводу его романа или флирта с молодой особой.) Есть, кстати, одна черта немецкого, а также вообще европейского (и американского) быта, житейского опыта. Дело в том, что пожилые и даже старые мужчины (как, впрочем, и женщины) в этом мире в массе своей хорошо сохраняются внешне: они не дают себе обрюзгнуть, одряхлеть, они подтянуты, выглядят и живут спортивно, следят за собой, хорошо или очень хорошо одеваются. Этим обычаям люди «зрелого », как говорят в Европе, возраста следуют даже при скромном достатке и в более трудные времена.
Примерно таким — постаревшим, но неплохо сохранившимся — в 1950 году предстал перед Ханной Мартин Хайдеггер. А что сама Ханна? Как выглядела она?
Ханна, теперь уже не прежняя молодая ослепительная красавица, в момент этой встречи с Хайдеггером тем не менее была совсем не старой (ей было 44 года) и, по мнению многих знавших ее в то время, краси-
173
Часть III. Отава 1.50-е годы: возобновление коммуникации
Н.8. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Врендт: бьтте-время-любовь
174
вой женщиной, стройной, даже изящной, элегантной. Это подтверждают (во всяком случае на мой вкус) фотографии Ханны, сделанные в начале 50-х годов в Нью-Йорке. Но подтверждает также одно из писем Хайдеггера (от 12 апреля 1950 года), в котором, возвращаясь мыслями и памятью к их первой встрече в отеле, он отметит этот внешний момент: «Когда ты при первом свидании пошла, в своем прекраснейшем платье, навстречу мне, то для меня ты как бы перешагнула через прошедшие пятилетия». Мартин и здесь не преминул поиграть с символикой цвета, в данном случае коричневого, (почему-то) означавшего — в его понимании — способность «все преодолеть и быть ко всему готовыми». «В тот момент новой встречи знаком стало твое коричневое платье. Этот знак всегда будет для нас указующим»1.
Говорю сначала об этих внешних чертах, потому что они, если говорить честно, в любовных делах играют свою роль. Но главным было все- таки не это. А то, что Ханне и Мартину предстояло проверить на прочность человеческие, любовно-дружеские, экзистенциально-духовные узы, соединившие их еще в весеннюю пору любви. Выяснилось, что они, эти нити человеческой близости, сохранили для них свою прочность и теперь, когда к ним подбиралась осень жизни.
Любопытно, что раньше их обоих это сердцем поняла Эльфрида, всегда очень чуткая к оттенкам отношений мужа с другими женщинами. Сохранились отголоски ее бунта против наивного плана Хайдеггера сотворить некую «дружбу втроем». Мартин понимал, впрочем, что этот треугольник по правилам должен был бы стать четырехугольником, подключив еще и мужа Ханны Генриха Блюхера. Правда, отношение Блюхера к такому проекту, да и к самому Хайдеггеру, было скорее негативным. Но он, в отличие от Эльфриды, умел вести себя цивилизованно, с великодушным пониманием чувств горячо любимой жены. Что касается Ханны, то она, по своему добросердечию, готова была помочь Мартину создать новый формат будущих личностно-семейных коммуникаций.
Но Эльфрида сразу продемонстрировала, что она склонна и способна осложнить наметившееся сближение и сорвать благодушный план супруга. Судя по всему, при встрече с Ханной Эльфрида не смогла сдержать свои самые разные личные чувства и социальные предубеждения, которые в этом случае объединились, хотя, скорее всего, не во всем нашли одинаково явное выражение. Если Хайдеггер думал, что примирит жену с давней любовницей, теперь честно рассказав Эльфриде о своем романе и изобразив его делом давно прошедшим, то он сильно ошибся. Обманутая жена выместила на этой впервые встреченной женщине всю горечь от испытанных в прошлом измен и унижений. К тому же Эльфрида — что было особенно хорошо известно знакомым, родным людям и, конечно же, прежде всего самому Хайдеггеру — всю жизнь придерживалась не скрываемых ею антисемитских убеждений. Внезапно узнать, что муж столько лет скрывал от нее довольно длительный роман с еврейкой и что теперь он «навязывал» ей, преданной супруге, дружбу с этой «особой», — все это стало для Эльфриды глубокой раной и обидой. И как она ни старалась сдержать себя, хоть отчасти подчиняясь прави-
1 Н. Агеп&/ М. Heidegger. Впе£е. Э. 95.
лам гостеприимства и вежливости, Ханна безошибочно почувствовала все, что хотела выразить жена ее прежнего любовника.
Однако ведь это была именно Ханна Арендт — с присущими ей человечными устремлениями и жизненными принципами, с самокритичностью, совестью, со способностью понимания и сострадания. Она, разумеется, расстроилась, но не только не обиделась, а ощутила в себе «внезапное чувство солидарности» с Эльфридой, о чем и написала Хайдеггеру. Не забыла совестливая Ханна и о том, что во время романа сама участвовала в том, что с точки зрения Эльфриды представало как «горькая измена». В целом же из попыток примирения, сближения, построения дружеского трех- или четырехугольника ничего не вышло. В душе Ханны, о чем она поведала в письмах своему мужу Генриху Блюхеру, остался весьма неприятный осадок. Эльфриду она оценила как «завистливую, мстительную, злопамятную» женщину1. Возможно, в оценке характера госпожи Хайдеггер она была в чем-то права. Однако ведь в данном случае за Эльфриду очень нужно, справедливо заступиться: в ее жизненной ситуации, в постоянном, вполне понятном и весьма действенном стремлении защитить, сохранить семью она вряд ли могла избавиться от подобных чувств. И предельно ясно, почему Эльфрида только озлобилась — и против Ханны, и против всех прошлых и будущих участниц любовных историй своего мужа, против него самого. Мартину пришлось прибегнуть' к средству, давно испытанному в его отношениях с женой, — к устным и письменным уверениям в том, какими непреходящими ценностями для него всегда были и останутся брак и семья. И ведь это тоже было реальностью всей жизни супругов Хайдеггер! Хайдеггер писал жене, что смысл и значение любовно-семейных отношений принадлежат к чему-то поистине «невыразимому», что их опекает «бог Эрос» и т. д.2
Впрочем, натолкнувшись на сопротивление жены, Хайдеггер все же не сразу смирился и долго не отказывался от своего наивного плана. В письма к Ханне он станет постоянно вплетать прекраснодушную мелодию будущей «дружбы втроем», обманывая ее, а возможно, и самого себя надеждами на готовность жены подружиться с его бывшей любовницей.
Все эти семейные размолвки произошли прежде, чем Ханна и Мартин успели прояснить для самих себя свои новые чувства и отношения. Вряд ли были у них возможности, условия и даже устремления к возобновлению интимной связи. (Ведь Хайдеггер, несмотря на свою не исчезнувшую и нескрываемую «эротическую» настроенность, был уже очень немолод. Да и Ханна, по-своему любившая мужа и верная ему, к тому же в Германии обремененная практическими делами, вынужденными переездами, вряд ли помышляла об этом как о чем-то реальном.) Но оживленная, красивая переписка 1950 года свидетельствует: Мартин и Ханна убедились, что любовь, притихшая на более чем двадцать лет драматической разлуки, не исчезла из их душ, из их жизни. Вскоре оба,
175
1 A. Grunenberg. Op. cit. S. 310.
2 M. Heidegger. Mein liebes Seelchen! Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride 1915-1970. München: Random House, 2007. S. 264.
Часть III. i/ioeo 1.50-е годы: возобновление коммуникации
Н.в. Мотрошилово ЩР Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгтие-времй-любовь
176
пребывая на расстоянии друг от друга, в переписке уже не скупились на выражение, изъявление вновь вернувшейся к ним любви. Она в послевоенные годы осталась, как принято говорить, платонической. Но для них, поклонников, тонких знатоков и ценителей Платона, это могло значить очень многое, вполне реальное в духовно-экзистенциальном смысле, пусть и мало знакомое обычным людям. Мартин и Ханна снова, хоть и недолго, «по-платоновски» жили и делились друг с другом великой идеей Любви, воспламенялись Припоминаниями о прошлом, которым одновременно придавалось внеличностное, поистине метафизическое значение.
Появилось в их отношениях и нечто новое. Это новое требует внимания и разбора. Касается оно отношения к творчеству друг друга именно в «осеннюю» пору их теоретической работы. А такое отношение в любви Мартина и Ханны всегда играло и дальше будет играть весомую роль, опять-таки вряд ли понятную людям, далеким и от философии, и вообще от творческих дел и устремлений. В случае Ханны новое было переплетено со старым, прежним. Как и раньше, она не просто читала, а изучала, штудировала произведения своего бывшего учителя и любимого мужчины. И обязательно откликалась чуть ли не на каждое из них. Новое же состояло в том, что теперь она делала это не по-ученически, не подражательно, а с профессиональным пониманием, знанием дела, притом и с любовно-дружеским сочувствием. Кроме того — с постоянным желанием помочь самому времени и современникам в распутывании сложного дела Хайдеггера.
В частности, в 1950 году (несмотря на размолвки, и позже) Ханна станет принимать самое активное участие в восстановлении, даже расширении славы, известности, достойных Хайдеггера как одного из выдающихся мыслителей XX века. В Америке, где пока плохо знали учения только перед войной заявивших о себе корифеев экзистенциальной философии, она будет одним из авторитетных посредников между американской и европейской, главным образом немецкой, философской, социально-политической, социологической мыслью. При этом она никак не отступит от принципиальных, строгих оценок нацистского прошлого своего бывшего учителя. В то же время Ханна будет решительно пресекать конъюнктурные попытки некоторых известных людей (например, из круга Визегрунда-Адорно) вновь и вновь разжигать антихайдегге- ровские умонастроения.
И все-таки главное измерение проблемы теоретической коммуникации этих двух умов, если ее рассматривать «из угла» Ханны, я вижу в исследовании того, как «линия Хайдеггера» была вписана — ив позитивном влиянии его идей, и в смысле их критического преодоления — в рождение, формирование собственных концепций Ханны Арендт как выдающегося мыслителя XX века. Этой теме, размышления над которой имеются в ряде работ последнего времени, но которую считаю пока еще плохо осмысленной, будут посвящены специальные главы моего последующего повествования.
Рассматривая, пока в общей форме, эти отношения «из угла» Хайдеггера, тоже приходится в общей форме констатировать появление новых обстоятельств и аспектов. Если в весеннюю пору любви Мартин,
несмотря на уважение к уму, одаренности Ханны, мог относиться к ее интеллектуальному миру несколько снисходительно, по-учительски, то ведь теперь, в начале 50-х годов, перед ним предстала женщина, чьи талант и творческое новаторство находили в мире, включая Европу, все более широкое признание. И одобрительные отклики этой «новой» Ханны Арендт на его произведения, конечно, льстили Хайдеггеру куда больше, чем обожание студентки. Особенно дороги они были Хайдеггеру тогда, когда к нему, пока опальному, не вернулась мировая слава, когда за ним еще тянулся шлейф недоверия, вызванного его нацистскими прегрешениями. Но даже в годы послевоенного возобновления коммуникаций сохранилась — со стороны Хайдеггера — та асимметрия не в пользу Ханны, о которой мы говорили в первой части книги.
Главных причин было две. Первая связана со складом ума и особенностями характера Хайдеггера. Он всегда был сконцентрирован на самом себе; по характеру он был крайне эгоцентричен — ив куда большей степени, чем неизбежно эгоцентричен каждый человек. Тем более это умонастроение доминировало в его отношениях с женщинами: он охотно принимал именно их почтительное обожание и даже нуждался в нем. Скорее всего, и в 1950 году он продолжал думать так: раз уж судьба подарила ему любовь, восхищение молодой умной женщины, то зачем обнаруживать в ней и ее работе еще и талант неординарного масштаба, изучая ее произведения, вдумываясь в них. Пусть уж об этом говорят другие... Иное отношение было бы совсем не в стиле Хайдеггера.
Вторая причина не менее, если не более существенна. О ней уже шла и еще будет идти речь. В 1950-м Ханна вручила и Ясперсу, и Хайдеггеру свое первое крупное сочинение — «Происхождение тоталитаризма». Опознать в нем, как это достаточно быстро сделает философская, социологическая общественность, произведение, которое будет признано классикой XX века, мог кто угодно из тогдашних философских умов, но только не Хайдеггер. Прежде всего, то было произведение очень далекого от него социально-философского, социологического типа и жанра. К таковым исследованиям, даже к пониманию и оценке их, у создателя экзистенциалистской философии не было ни достаточной подготовки, ни интереса и склонности. Но куда более существенное препятствие состояло, полагаю, вот в чем: это произведение объективно было своего рода теоретическим судом над тоталитаризмом и над теми, кто в Германии способствовал «шествию» нацизма как социально-политического, исторического зла. Ханна, кстати, не снимала вины со своего поколения, с близкого ей слоя интеллектуалов, даже с самой себя. Однако если вина и была, то история, судьба отвели таким людям, как X. Арендт, скорее участь жертв. Иначе обстояло дело с Хайдеггером. Вот почему появление, получение Хайдеггером книги было одним из объяснений того, почему вспышка любовных надежд, иллюзий длилась недолго — всего один год...
А сейчас вернемся в начало 1950 года. Опираясь на различные биографические источники, и прежде всего на эпистолярное наследие, постараюсь подтвердить свою гипотезу о вспышке «осенней » любви Ханны Арендт и Мартина Хайдеггера именно в этом году. Тогда-то интенсивно возродилось и в чем-то интеллектуально, духовно обогатилось очень сильное чувство любви этих двух выдающихся мыслителей XX века.
Чостъ III. Глава 1.50-е годы: возобновление коммуникации
Н-В. Мотрошилова |И1 Мартин Хайдеггер и Ханна Врендт: бьгше-время-любовь
178
«Время как бы остановилось»: 1950 год
В письме от 8 февраля 1950 года Мартин уже обращается к Ханне по-прежнему — на «ты». И через первоначальную сдержанность ясно, настойчиво пробивается лиризм, романтизм неутраченных чувств. Уже говорилось, что Хайдеггер особо приветствует найденное, как он надеется, взаимопонимание между Эльфридой и Ханной, для него — желаемый залог светлой «дружбы троих*. Однако смысл и символика писем реально вращаются вокруг вновь «обретенного света» давней любви, прочной связи двух, и только двух, сердец и умов. Хайдеггер пишет: «Тихий утренний свет, возвратившись в мою комнату, остался и после твоего отъезда. Моя жена вызвала его. Ты помогла внести его. Твое «может быть» стало ответным возвратившимся лучом. В ясности этого утреннего света проступила, однако, вина за мое молчание. И она останется.
Но теперь утренний свет развеял ту темноту, которая скрывалась, простираясь над нашей прежней встречей и над ожиданием.
«Рассвет прекрасен». Это слово Ясперса, которое ты передала мне вчера вечером, постоянно было для меня движущей силой и тогда, когда в диалоге между моей женой и тобою все восходило от недоверия и движения на ощупь к согласию утомленных сердец»1.
Итак, Хайдеггер все еще пытается объяснить и сгладить явную не- дружественность и неприязнь, проявленные Эльфридой во встречах и разговорах с Ханной. И пытается создать новый формат отношений.
Конечно, все это было либо иллюзией, самообманом, либо намеренной ложью. Скорее, сплавилось то и другое — в духе и стиле: «я сам обманываться рад...». Но нельзя избавиться от впечатления, что Хайдеггер как бы обращал одно и то же письмо сразу к двум женщинам — и к Ханне, и к Эльфриде (если она «случайно» его прочтет). Перед женой он каялся — напомним: в письме к Ханне! — в том, что давняя любовь была для нее, Эльфриды, «тайной» и что своим молчанием он «нарушил ее доверие». (И опять самообман: попробовал бы он во время пылкого романа откровенничать о нем перед своей женой!) Хайдеггер к тому же выражал — в том же письме к Ханне! — совсем уж безумную надежду, что Эльфрида не может не одобрить «всего счастья и богатства» этого «судьбоносного подарка судьбы», его и Ханны удивительной, яркой любви! За чем же дело стало? Хайдеггер верит и призывает: надо, наконец, поговорить, все обсудить... «Обычно мы говорим слишком много, но до сих пор говорили слишком мало. Я должен был, исходя из доверия к моей жене, говорить с нею и с тобой. Тогда было бы не только сохранено доверие, но ясными стали бы сущностные качества моей жены, и это помогло бы нам» (Ibidem. S. 74). Теперь, уверен Хайдеггер, наступил судьбоносный момент: надо преодолеть это «тяжкое упущение» и привести отношения троих к согласию «подлинного знания» (Ibidem. S. 74). Что это — наивное прекраснодушие Хайдеггера или его уверенность в побеждающей силе собственных речений?!
И Хайдеггер не был бы самим собой, если бы не закончил письмо высокими, выспренними словами, кружевной вязью поистине метафизических рассуждений насчет «света» и «взгляда»: «Собственно, в нашем
Н. Arendt / М. Heidegger. Briefe. S. 73-74.
языке речет свет молнии: взгляд-взор. Ведь стремительной внезапности потребно — как в добре, так и в зле — длительное время, чтобы выстоять». Но потом в письме проступает нечто сугубо личное и, видимо, глубоко искреннее. «И о том я печалюсь, — здесь Мартин, несомненно, обращается только к Ханне, — что часы [встречи] были столь коротки. А потому надеюсь на твое возвращение, дорогая Ханна. Будет что-то самое прекрасное; ибо раннее и позднее в чистоте приведут в открытость (ins Offene). Я знаю, что ты, исходя из этой чистоты, радуешься еще радостнее и принадлежишь нам» (Ibidem. S. 75). Далее следуют приветы от Эльфриды и опять-таки наивно-прекраснодушное упоминание о том, что листы бумаги (с какими-то водяными знаками), на которых написано письмо Ханне, еще несколько лет назад были заготовлены Эльфри- дой1. (Даже в этой чисто бытовой детали Мартин видит какой-то знак, символ.)
Письмо Ханны от 09.02.1950 года — глубокое, искреннее, лишенное всех околичностей и уловок — наполнено еще более ясными свидетельствами сохранившейся любви и прочности духовных, душевных уз, когда- то связавших ее с Хайдеггером. Она пишет, вернее, печатает на машинке свое письмо (извиняясь, что ручка сломалась), сидя в передвижном вагончике, в котором живет, путешествуя по этой части Германии. «Этот вечер и это утро суть подтверждения всей жизни. И в принципе подтверждение, которого никак нельзя было ожидать. Когда кельнер назвал твое имя (а я, собственно, не ждала тебя, ибо письмо твое тогда еще не пришло), то время вдруг как бы остановилось. ...Но ты должен знать одно (ибо мы не много, совсем не чрезмерно общались друг с другом в открытости): если я и сделала это (а речь идет о стремительном бегстве Ханны из Марбурга. — Н. М.), то из гордости, т. е. из чистой, чистейшей сумасшедшей глупости. Не по каким-либо основаниям» (Ibidem. S. 75-76).
Следуют конкретные объяснения Ханны, относящиеся к обстоятельствам и оттенкам ее встречи с Эльфридой. И приводятся цитированные раньше слова о том, что ее, Ханну, внезапно охватило «чувство солидарности» с Эльфридой. Она, правда, не сказала о том жене Хайдеггера — тоже из гордости. А также — обращается она к Мартину — «из любви к тебе... Ведь из Марбурга я уехала исключительно потому, что не хотела тебе повредить» (Ibidem. S. 76).
Как же любовь женщины отличается подчас от любви мужчин (особенно таких, как Хайдеггер)! Заметьте: страсть Ханны принесла ей много страданий; ее гордости постоянно наносились удары. В молодую пору, в разгар романа Ханна еще позволяла себе в чем-то упрекать Мартина. Так, в письме от 10.01.1926 года Хайдеггер вспоминает, что Ханна накануне назвала его, в сердцах, видимо, но и всерьез, «морским пиратом». (Понятно, что она под этим подразумевала.) А он, по его собственным словам, «со смехом согласился, но одновременно в страхе и дрожи ощутил холод и шторм морского путешествия» (Ibidem. S. 55). Но вот теперь никаких упреков... Даже покаяние — с ее стороны: «чистой, чистейшей сумасшедшей глупостью» считает она, по прошествии двадцати лет, шаг отчаяния и гордости — свое поспешное бегство из Марбурга. Видно, что
179
Н. Arendt/ М. Heidegger. Briefe. S. 73, 74, 75.
Чость III. (ново 1.50-е годы: возобновление коммуникации
Н-8. Мотрошилово Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Врендт: бытие-еремя-любовь
180
этот упрек — но как упрек... себе самой — она вынесла, выстрадала за годы драматической разлуки!
В конце письма — сообщение из тех, что теперь станет важнейшим элементом в посланиях Ханны. А именно: весть о том, что она читает очередную работу Мартина. В данном случае речь идет о сборнике небольших хайдеггеровских произведений под названием «Holzwege». (Он объединял доработанные доклады, части сочинений 1935-1946 годов; том вышел из печати как раз в 1950 году.) Ханна сообщает, что книга лежит на столике возле ее кровати и что у нее будут «два спокойных дня » для прочтения.
Ханна пишет также и Эльфриде. В письмах жене Хайдеггера, скажу я, забегая вперед, Ханна попытается пройти по тому мосту взаимосбли- жения, за попытку наведения которого она искренне, «от всего сердца», поблагодарит Эльфриду (в письме от 10.02.1950 года.) Больше того, именно в письме жене своего бывшего любовника Ханна даже откровенничает: когда она спасалась бегством из Марбурга, то приняла твердое решение никогда больше не поддаваться любви. Затем решила «выйти замуж, все равно за кого, и без всякой любви» (Ibidem. S. 77). А теперь, вернувшись к главному сюжету — переписке двоих 1950 года, откликнемся на одну ее, и именно «хайдеггеровскую », особенность. Дело в том, что Хайдеггер, безмерно обрадовавшись новой встрече со своей давней любовью, буквально засыпал Ханну стихами. Он вспомнил те, которые посвящал любимой в весеннюю пору романа, и присоединил целый ворох новых стихотворных посланий, пробужденных «осенними» встречами.
глава 2
Стихи Хайдеггера, посвященные Ханне арендт
Должна признаться: для меня это столь же прекрасный, яркий, сколь и неимоверно трудный материал. Впрочем, противоречие здесь вполне объективное. Оно связано с трудностями передачи стихов на других языках. Есть люди, для которых немецкий язык совсем или почти родной и которым к тому же подвластно глубинное овладение немецкой поэзией, всегда, в сущности, философичной. Они способны непосредственно ухватить поэтику, символику сверхусложненной стихотворной речи Хайдеггера. Но для переводного стихотворного же отображения всего этого на русском языке требуется многое, чем я лично не располагаю. (И к тому же плохо представляю, кому в сегодняшнем российском культурном пространстве это под силу. Остается надеяться разве что на «племя младое, незнакомое »...) Самое большое, что могу здесь и сейчас сделать и что считаю принципиально необходимым для реализации замысла данной книги — через подстрочный прозаический перевод познакомить читателей лишь с отдельными мыслями, образами, символами стихов1, которые переступивший в седьмой десяток своей жизни выдающийся философ Хайдеггер как бы посылал вдогонку своей любви и посвящал замечательной женщине, после длительного и драматического перерыва снова появившейся в его жизни.
А эта женщина снова приняла стихи любимого человека как драгоценнейший дар. «Снова» сказано потому, что в весеннюю пору романа тоже были посвященные ей стихи Мартина. И вот теперь, в 1950 году — новый прорыв стихотворного творчества философа! И опять музой была Ханна Арендт. Почему она, не приходится гадать. Кроме вновь вспыхнувшего желания воскресить любовь поводом была уверенность поэтизирующего философа в том, что именно эта женщина лучше многих других сумеет распознать, раскрыть, в некоторых случаях дешифровать смысл и ценность его поэтических творений, окрашенных в философические тона. Уверенность, несомненно, оправдалась.
Надо учесть, что специалисты оценивают поэтический дар Хайдеггера достаточно высоко, справедливо напоминая и о внутренней поэтичности его философской прозы. О ней нередко говорят словами О. Боль- нова: трудно разобрать, поэтизирует ли Хайдеггер, мысля, или мыслит, поэтизируя (denkerisch dichtet oder dichterisch denkt).
Ханна Арендт, чувствовавшая себя «дома » в родной ей стихии немецкой поэзии и вообще стихии немецкого языка, тонко понимала все оттенки стихов и их причудливую философскую символику. К тому же это была женщина, воспринимавшая поэзию Хайдеггера не только тонким умом, но и любящим сердцем. Можно предполагать: самым важным для нее было то, что прекрасный букет стихов, в том числе, как мы увидим, маленький
1 Хочу сделать оговорку, относящуюся ко всему данному разделу: по соображениям объема (и другим, уже внешним причинам) могу воспроизводить, цитировать (в своем переводе) только отдельные фрагменты и стихотворений, и писем. (Ни одно из них не воспроизводится целиком.)
H-ß. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгтме-время-любовь
182
венок сонетов, был посвящен Хайдеггером именно ей и стал еще одним знаком, духовным памятником их любви. Это был лучший подарок того мужчины, философа, которого она, без сомнения, продолжала любить. Причем обновившаяся, теперь только платоническая любовь в каких-то отношениях не уступала «весенней » эротической страсти прежних лет.
Вот почему Ханна заботливо собрала, сброшюровала, снабдила датами посвященные ей стихи Хайдеггера, не только ранние, но и поздние — такими они и сохранились для истории в ее архиве1, причем также и в переписанных (возможно, самой Ханной) вариантах2.
В стихах, что для нас чрезвычайно важно, теснейшим образом объединены конкретные мотивы и тона, определяемые мелодией любви и ее светом, ее, как выяснилось, неожиданной длительностью, «непреходящим», протянувшимся через жизнь бытийствованием, — и всеобщие поистине метафизические всматривания, проникновения в суть бытия. А это — только пометим здесь коренную тему — тесно связано с «поворотом» (Kehre) мысли позднего Хайдеггера к философии и обновленному понятию бытия. Причудливая перекличка глубоко личного и метафизического измерений напоминает о таком же переплетении, имевшем место в период «Бытия и времени».
Совсем не случайно первое из венка в пять стихотворений, посланных и посвященных Ханне, — оно оставалось без заголовка и заняло всего две строки, — трепетно, именно личностно вводит профильную для Хайдеггера проблему бытия:
In Jähen, raren, blitzt uns Seyn.
Wir spähen, wahren — schwingen ein.
Внезапно, редко, нам [молнией] сверкает бытие.
Мы всматриваемся, храним [тайну] — и воспаряем [ввысь].
Сама Ханна Арендт несколько позже (в сентябре 1951 года) внесла в свой дневник запись, предлагающую одно из толкований этого хайдег- геровского двустишья. Она увязала его с цитатой из «Веселой науки» Ф. Ницше. Ханна пишет: «...истина, — сказано там, — является внезапно (jäh), подобно молнии. Здесь, собственно, имеется связующая нить между Ницше и Хайдеггером»3. Такое толкование, философски существенное, вряд ли может быть сочтено единственным, тем более исчерпывающим, хотя обнаружение текстологического созвучия идей, образов двух мыслителей вполне уместно. Еще важнее, полагаю, применение Хайдеггером профилирующего для его работ символа озарения, внезапного «сверкания» — к теме прозрения, усмотрения, обращенных к самому бытию. Никак не случайно и то, что слово «Seyn » и здесь написано Хайдеггером традиционно, по-старинному, через «у», а не через «i» (Sein). (Эту тогдашнюю хайдеггеровскую манеру X. Арендт и К. Ясперс обсуждали в их переписке.) Но внезапное и одномоментное, как мол-
1 Ранние стихи Хайдеггера, посвященные X. Арендт, хранятся в Библиотеке Конгресса США (Con. 79, Folder: «Miscallaneous: Poems and Stores, 1925-1942»). В полном виде подборку стихов см. в Приложении к Переписке Арендт и Хайдеггера: Н. Arendt ! М. Heidegger. Briefe. S. 366-381.
2 Поздние стихи см.: H. Arendt/ М. Heidegger. Briefe. S. 285-286, 287.
3 Цит. по: H. Arendt ! М. Heidegger. Briefe. S. 286.
ния, сверкание истины Хайдеггер теперь — и это ясно из исторического контекста его новой встречи с Ханной — относит как к бытию, так и к длящейся, вновь молнией сверкнувшей бытийности любви. Поэтому-то Ханна, справедливо названная «музой „Бытия и времени”» Хайдеггера, по существу остается причастной и к ряду хайдеггеровских произведений послевоенного периода (конкретные доказательства чего будут приведены позже).
Посылая Ханне подборку новых стихов, Мартин включил в нее раннее, в 20-х годах написанное, уже известное Ханне стихотворение глубокого смысла и значения — со знаменитым названием «Девушка из далека». Его, одно из самых ранних стихотворных посланий Мартина к любимой, мы по ряду причин рассмотрим в конце этого раздела. А сейчас хочу привести (в своем подстрочном прозаическом переводе) часть из одного раннего стихотворения, которое в истории любви Ханны и Мартина имело поистине судьбоносное символическое значение. Стихотворение было, несомненно, связано с марбургским расставанием. Оно так и называлось «Прощание» (Abschied)1.
Ты погружаешь нас в [ту] печаль, что у нас — никакого будущего И даришь надежду, сколь многое к нам еще поспешает Ты подаешь нам знак для радостей и болей Ты указываешь нам пути и открываешь сердца.
Ты, как никогда, смыкаешь наши руки Мы верим в верность и чувствуем поворот судьбы Мы не можем выразить, насколько мы едины Мы можем только плакать.
«Ты» в данном случае — обращение к прощанию, разлуке.
Удивительно, сколь верными, провидческими оказались и это стихотворение, и его образы, и воплощенные в нем надежды. Все, все оправдалось и сбылось: и надежды на будущие встречи, и «вера в верность», в невыразимое единство душ и сердец, и переплетение радостей и болей. Поворотный 1950 год прошлого века принес с собой и новый поворот в судьбе наших героев, и тот «поворот взгляда-взора» (№1ебегЬНск) в прошлое, который, по крайней мере в этом самом году, утвердил Ханну и Мартина в мысли о всей неслучайности, о непреходящем характере их ранней встречи и любви. Дальше попытаюсь подробнее показать: эти самой жизнью рожденные и ею подтвержденные экзистенциалы непреходящей силы любви, силы самой жизни оказались в интерпретации их обоих и в их жизни поистине метафизическими — в том смысле, что временное и временное, преходящее, социально и политически окрашенное, на какое-то время отступило на задний план. (Оно, однако, не исчезло и всего лишь на время ушло в тень, чтобы довольно быстро, уже через год, выйти из нее.) Ханна и Мартин в конце концов оказались достаточно мудрыми и духовно чуткими, чтобы ясно осознать все это и в известной мере, хотя бы на некоторое время, подчиниться силе непреходящего.
1 Есть еще одно посвященное Ханне стихотворение с тем же названием. Надо учесть, что в стихах Хайдеггера (почти) нет пунктуации. В подстрочном переводе я следую оригиналу, вводя знаки препинания только внутри строфы, если этого безусловно требует русский язык.
Часть III. (лава 2. Стихи Хайдеггера, посвященные Ханне Арендт
184
S
0
1
3
a
£
cd
x
И вот в 1950-м — на весь этот год — для Мартина и Ханны как бы восстанавливается прерванная нить судьбы и, в самом деле, как бы останавливается время. Что Хайдеггер и воплощает в ряде стихотворений. Возьмем первое из нового цикла; оно называется:
Пять пятилетий
X. (Ханне) — через море Не является ли эта форма, сохраненная в тайне стольких лет, тем обиталищем всех тишайших звезд,
которое вознаграждает [нас] золотой осенью?
(Одна деталь: «через море» написано потому, что Ханна в это время плывет пароходом из Европы в Америку.)
В письме, к которому прилагалось это стихотворение (оно послано из Фрайбурга 19.03.1950 года), Хайдеггер пространнее пишет о «подарке возвращения (Ш1сккеЬг) и нового входа (ЕткеЬг)»1 в прошедшие пять пятилетий — том подарке, который снова и снова поражает его. «В нем ты — через моря — снова близкая, снова [пребывающая] здесь, снова примысливаемая к самому любимому, ко всем вещам, которые и тебе принадлежат... Своеобразнейшая тайна, протянувшаяся через время, в том состоит, что оно, время, может так возвращаться и все преобразовывать. Все снова подарено нам. Мы тем самым никогда не приблизимся к концу: с благодарностью за то, что с нами случилось... Я знал, что теперь для нас начинается и новый рост, но и любовное усилие — все прорастить в открытое доверие»2.
Дополнительный и весьма примечательный факт: в заключениях к ряду стихотворений Хайдеггер соотносит немецкие слова, для его поэтическо-лингвистического замысла и всей его философии чрезвычайно важные, также и с их греческими прародителями-эквивалентами. Он и тут несомненно учитывает, что обращается к женщине, которая свободно владеет греческим языком и в те же годы удивительно плодотворно работает с античными источниками. Она, стало быть, способна проникнуть во все тонкости, во все философско-лингвистические изыски мыслей и прорвавшихся чувств любимого человека.
Да и вообще, не покидает сильное впечатление: духовно-эротическую жажду Хайдеггер наконец-то снова утоляет, припадая к живительному, очень важному для него источнику всепонимающей любви — любви к женщине и любви такой женщины, которой он сам страстно хотел писать такие стихи и которая, среди очень-очень немногих, способна была впитать их, прочувствовать и понять как любящим сердцем, так и глубоким, изощренным, тонко образованным умом. Подчеркну: «духовно-эротическое» имеется здесь в виду в древнегреческом смысле, вос-
1 Хайдеггер использует здесь игру слов с корнем «kehr». Надо учесть, что центральное для позднего Хайдеггера слово «Kehre» — поворот — происходит от того же корня.
2 Н. Arendt ! М. Heidegger. Briefe. S. 89.
ходящем к имени и символике бога Эроса (об этом смысле Хайдеггер часто напоминал в своих письмах и произведениях). Чувствуется, сколь истосковался Мартин по подобному яркому «духовно-эротическому» стилю отношений с женщинами. Снова встретив Ханну, Хайдеггер, как и она, опять поддался надежде, что само время способно останавливаться и даже возвращаться назад (а это, кстати, вносило свои оттенки в тоже профильное для всей его философии понимание времени).
В стихах 1950 года Хайдеггер никак не мог не отозваться на то, что Ханна за прошедшее, но не безвозвратно канувшее в прошлое время разлуки прошла, что называется, через круги ада. И он, обрисовывая мир ее чувств и переживаний, прибегает к таким негативным словам-экзис- тенциалам, как боль, страдание. Но также и к понятиям высокого экзистенциального и метафизического плана — событие, любовь, красота, взгляд-взор (Blick), доверие, тайна...
Самые трогательные, пожалуй, стихи Мартин отослал Ханне в письме от 4 мая 1950 года. Они имеют общий подзаголовок: «Из sonata sonans» (Aus der sonata sonans — из прозвучавшей сонаты).
Надо опять учесть, сколь органически все это связано с общим строем философии Хайдеггера: наряду со всепроникающими «зрительными» символами-экзистенциалами света, свечения, взгляда, всматривания, сверкания-озарения и т. д. у него всегда имеется еще, так сказать, стихия звучания и слышания, а также тема связи этих двух стихий. Яркий пример второго — как раз интересующий нас здесь нежный и тонкий цикл «Звучащая соната». Кстати, в другом письме (от 15.02.1950) Хайдеггер пишет, подтверждая существенную для него философскую связь цвета и звука: «Слышание освобождает. Что ты внимаешь голосу, растворяет все в добре и дарит сохранение вновь обретенному. Доброе требует добрых начал сердца; эта доброта видит, потому что она уже все пред-усмотрела на пути спасения человека в самой его сущности; непостижим смысл heoraken hora, сохраняющегося взгляда; удивительное чудо языка, который мыслит глубже, нежели мы сами; это французское re-garder (вновь видеть, усматривать и хранить. — Н. М.)» (Ibidem. S. 81).
Письмо от 4 мая является своего рода философским, а одновременно и глубоко личным введением к этому трепетному стихотворному циклу. «Ханна, — пишет Мартин, — я приветствую тебя из „неприятного отдаления в три тысячи миль” (в малых кавычках, вероятно, слова из письма Ханны. — Н. М.); если читать герменевтически, это обрыв в тоску. И однако я каждый день испытываю радость оттого, что все обстоит так, как есть». (Опускаю интимные подробности — вроде признания Мартина о том, как он любил играть с вьющимися волосами Ханны.) О взгляде Ханны он пишет: «Ты не знаешь, что это был тот самый взор, который блеснул мне, когда я стоял за кафедрой, — ах, ведь была, есть и останется вечность, простирающаяся из далекого в близкое. Все в эти четверть века должно было покоиться, подобно зерну в глубокой вспашке, покоиться в вызревании необусловленного; ибо все страдание и все многосторонне испытанное собралось в том самом твоем взоре, свет которого вновь озарил твое лицо и позволил женщине явиться.
185
Чостъ III. Глава 2.
H.ß: Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна прендт: бытие-времв-любовь
186
В образе греческой богини таинственное вот что: в девушке сокрыта женщина, в женщине — девушка. А наиболее своеобразное — само светящееся сокровенное. Оно проявилось как событие в дни Sonata sonans. Все раннее было свято сохранено в нем.
2 марта, когда ты снова вернулась, произошло „срединное”, центральное („die Mitte”); оно перевело то, что было, в сохраняющееся. Время собралось в четвертое измерение близкого, как если бы мы должны непосредственно выйти из вечности — и вновь вернуться в нее. Действительно ли это сбылось (sey), спрашиваешь ты. Ах, и через бытие (Seyn) довелось перешагнуть. Но ты, дорогая, кому я больше всего доверяю (Vertrauteste), ты должна знать: и „помыслено” (gedacht) и „нежно” (zart)1 — [это значит] ничего нельзя забывать — ведь едва ли можно измерить твою боль и забыть все мои грехи, которых уже не утаить; совсем напротив — они звучат из долгого звона мирового колокола наших сердец. В утреннем свете озвучено то, что в последующие дни вновь дано, чтобы время далекого, сейчас услышанного, пробилось к нам. Ты — Ханна — Ты
Твой Мартин» (Ibidem).
Не знаю, как кому, а мне отчетливо слышится мотив покаяния, признания своей вины — и не только личной, вины за страдания любимой женщины, но и за другие «грехи, которых уже не утаить»... Это тем более ценное покаяние, что у самолюбивого Хайдеггера оно — большая редкость.
Посылаются Ханне упомянутые стихи, написанные, как гласит подзаголовок к Sonata Sonans, «в едином порыве». Пересказывать все стихи из Sonata Sonans в подстрочном переводе едва ли имеет смысл. Ограничусь рассказом о главных образах, символах и идеях, в них воплощенных. А все это в хайдеггеровском наследии по-прежнему объединено в удивительный сплав лингвистического, поэтического, зрительно-образного и философско-метафизического измерений.
Среди излюбленных слов-понятий-образов-символов главные: звук (звучание); свет (свечение); взор-взгляд, обращенный в прошлое; язык и «речение» языка; мысль и мышление; красота и ее излучение, ее свечение; доверие, событие, тайна.
Для знатоков творчества Хайдеггера должно быть ясно: все перечисленное принадлежит к коренному экзистенциально (от слова «экзистенциал»)-понятийному и образно-символическому составу хайдеггеровской философии. И все это в рассматриваемом материале столь же несомненно и неотрывно переплетено с обращением к Любви и Любимой. А если из этого многоцветного и многоголосого единства выделить три центральные темы-категории, то ими станут «бытие-вре- мя-любовь», включенные в заглавие моей книги.
Продемонстрирую это удивительное единство конкретнее.
Вот что споэтизировано о звуке: «В уже зазвучавшем темный звук способен светло превращаться в самое раннее Ужё (Schon) и самое длинное После (Dann)...»
1 Эти слова — «gedacht» и «zart» — отсылают еще к одному стихотворению посланного Ханне цикла, о котором несколько позже.
В стихотворении о «возвратном взоре» (в посвящении помечено — «к 6 февраля 1950 года», т. е. это отсылка к дате первой новой встречи) сказано: «Если любовь возвышается в мысль, то перед ней, любовью, уже склоняется само бытие. Если мышленье светит самой любви, то преклонение, поэтизируя, придает свечение также и мышлению» (H. Arendt/ М. Heidegger. Briefe. S. 108).
О «прекрасном» сказано через глубоко личное обращение к Ханне: «В терпком запахе долгого страдания растет твоя красота, чтобы оба [элемента] — мягкость, дикарство — объединились в твоей высокой любви...» (S. 100).
О времени, памяти и тайне — снова же личностно: «Пять пятилетий длясь и длясь, время в блужданьях укрывало нас...» (Ibidem. S. 107).
«Только тебе» — это красноречивое посвящение к (упоминавшемуся) стихотворению «Помыслено и нежно». Только некоторые образы и слова из него:
«Помыслено» —
О, помоги мне отважиться Высказать это.
Послушай! «Помыслено» —
Теперь значит:
пробуждено
перемещено
во все бездны того гнева, стенания о жалобах твоей крови...
Помыслено: пробуждено...
спокойствие запрещено
счастье заперто (Ibidem. S. 101,102).
Письмо Хайдеггера от 12.04.1950 года, непосредственно следовавшее за тем, к которому прилагались рассмотренные стихи, снова наполнено признаниями, пусть написанными прозой, но по сути своей глубоко поэтическими.
Хайдеггер держит перед собой фото Ханны (какое именно, не установлено) и ее письмо. И поистине романтически вопрошает: «Что прекраснее — твое фото или твое письмо? Только ты сама и то, что ты их послала. В фотографии парит нечто, что начало светиться в последние дни твоего бытия здесь (Hiersein)... Дать название всему этому я не в состоянии. Но это было то любящее всякой любви, которое отбросило свой отсвет в моем кабинете, когда ты и Эльфрида обняли друг друга. И мы лишь постепенно осваиваемся с тем, что с нами случилось... Происшедшее чудо обретает свое место именно здесь. Твое фото — и то, какой ты на нем предстала, объединило все это» (Ibidem. S. 93).
В разделе нашей книги, посвященной «Бытию и времени», было показано: Хайдеггер умолчал в ней о великом экзистенциале Любви. Но вот пришло — и вернулось — ее Время, и этот экзистенциал сам «ворвался» в творческий и личностный мир выдающегося философа, в его поэтико-философскую или философско-поэтическую стихию. Потому вполне правомерно рассматривать (теперь доступные нам) доказатель-
Часть III. Глава 2. Стихи Хайдеггера, посвященные Ханне Арендт
188
S
I
a
о
2
CD
X
ства, объективации этого неразрывного единства Бытия, Времени, Любви как экзистенциальное дополнение к «Бытию и времени», а также к послевоенным сочинениям Хайдеггера.
Очень любопытно и важно: сразу же от всех романтических любовных излияний (и уже обсужденных нами прекраснодушных надежд на «дружбу втроем») Хайдеггер прямо переходит к теме «радикального зла» в социально-историческом смысле — несомненно, в ответ на рассуждения из полученного им ранее письма от Ханны. Позже мы еще вернемся к этому в высшей степени существенному пассажу из хайдег- геровского письма.
Весьма важно также, что именно в те месяцы 1950 года, когда интенсивно шла переписка, Ханна углубленно изучала Платона, особенно его работы «Политика» и «Законы», разумеется, в греческих оригиналах. В одном из писем (от 18.12.1950) Хайдеггер пишет: «Между тем и я, как и ты, на разных путях пребываю вблизи греков, хотя и в других областях, если их вообще можно отделять друг от друга» (Ibidem. S. 121). И философ сообщает, что плотно занимается Гераклитом, его 16-м фрагментом, и особенно углубляется в проблему непреходящего значения термина «алетейя». Хайдеггер даже полагает, что благодаря раскрытию этого понятия и исходя из него можно «приуготовить новое обитание для человека». «С годами я научаюсь понимать Гёте, которого ты, — обращается Мартин к Ханне, — процитировала в первый час нашей новой встречи». Итак, в его общении с Ханной уместно и ценно все — и воспоминание о греческих первоисточниках, и сообщения о работе над ними, и перекличка с творчеством великих и выдающихся поэтов. Из них в данном письме упоминается еще и Гёльдерлин: Хайдеггер обещает выслать Ханне второе издание своих «Разъяснений о поэзии Гёльдерлина» («Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung» — оно вышло в 1951 году). Хайдеггер надеялся на «утренний свет» прибытия, на обнадеживающее начало.
Вот теперь самое время вернуться к ранее упомянутому знаменитому стихотворению, которое называется «Das Mädchen aus der Fremde » — «Девушка из чужбины». Знаменито название не благодаря Хайдеггеру. Этими словами Фридрих Шиллер в 1796 году озаглавил свое красивое, романтичное стихотворение. Существующий его русский поэтический перевод, который в принципе было бы сподручно использовать, подчас далек от слов и образов оригинала, что обычно для перевода стихотворений, но в нашем случае является существенным недостатком. Ибо перекличка с подлинными, именно шиллеровскими словами и образами была существенной для Хайдеггера, который в 1925 году посвятил юной возлюбленной Ханне Арендт свое стихотворение, написанное, что нередко случается в поэзии, по мотивам шиллеровского оригинала. Кстати, даже имеющийся русский перевод заглавия — «Дгйа из чужбины» — в свете сказанного и в контексте нашего разговора нежелателен. Ведь Хайдеггеру было важно, чтобы перекличка слов «девушка» — «женщина» внутренне сохранялась. Он специально подчеркнул это, сказав, как мы видели раньше, о специфике греческого понимания богини: в девушке угадывается женщина, а в женщине воспоминается та, прежняя, девушка.
Потому далее я прозаически передам, притом максимально близко к тексту, шиллеровское стихотворение.
189
Девушка из чужбины В долине у бедных пастухов Каждую весну,
Едва лишь начинали свою песню жаворонки, Появлялась девушка, прекрасная и таинственная. Она не была рождена в той долине,
Никто не знал, откуда она приходила;
И стоило ей удалиться,
Как сразу же пропадал ее след.
Отрадной была ее близость,
И все сердца раскрывались.
Однако ведь достоинство, высота Отдаляют доверительность.
А. Груненберг правильно отмечала: «Тема близости и дистанции в любви все время всплывает в письмах Хайдеггера» (А. СгипепЬег%. Ор. ¿1. Б. 98).
Теперь — хайдеггеровский вариант той же животрепещущей для него темы.
Девушка из чужбины Незнакомка, чужая, которая себе самой чужда, она — гбры счастливого блаженства, море страдания, пустыня вожделения, ранний свет прибытия.
Чужая: родина одного того взора, с которого начинается мир.
Начало — это жертва.
Жертва — очаг верности, которая перенимает огоньки, все еще тлеющие в золе, и зажигает огонь: тление мягкости, призрак тишины.
Чуждая из чужбины, Ты — обиталище, где гнездится начало.
Совсем не случайно это стихотворное послание — пробужденное пламенной, но полной отчуждения, боли, жертвенности, надежд и безнадежности любовью 1925 года — ровно через четверть века опять послано Хайдеггером той же, но новой, знакомо-незнакомой, снова чуждой, по-прежнему притягательной Ханне Арендт. Это она неожиданно появилась из чужбины — и опять должна была отправиться далеко, за моря. Чуждость, неизведанность, хрупкость, призрачность заключались, как правильно замечает А. Груненберг, и в том, что при новой
Часть III. (лова 2. Стихи Хайдеггера, посвященные Ханне Арендт
190
о
б)
о
1
Э
о
S
со
±
встрече отчуждение, «недоверие залегает в самом основании, и его не так-то легко изгнать» (Ibidem. S. 313). Так что же победит: чудо, преемственность любви или чуждость и хрупкость?
Хайдеггеру могло показаться: занималась новая заря любви, доверия, общения, творческого взаимодействия с женщиной, которую он вряд ли мог забыть. Он надеялся, что она, как и он, готова совершить своего рода экзистенциальную редукцию, о которой на всеобщем философском языке учили Гуссерль и сам Хайдеггер. Надо было «заключить в скобки», «отмыслить», «подвесить» (suspendieren) все «второстепенное» во имя сохранения самого главного — любви и глубокого философского, поэтического взаимопонимания любящих сердец. Но надежде Хайдеггера, и снова на целые десятилетия, не суждено было сбыться. Ибо «отмыслить», «заключить в скобки» надо было очень и очень существенное. Как оказалось, естественным образом оно не «отмысливалось». И обнаружилось: любимая все-таки была «девушка из чужбины». Отчуждение опять побеждало любовь. Однако последующая история показала: несмотря на смену периодов и настроений, на охлаждения и сближения, итогами двух жизней все же окажутся — Любовь, так и не побежденная изменчивым временем и постоянно возрождаемая Временем как объективной бытий- ственностью, Любовь, мощная в своем собственном Бытии. Но «Время» в его исторической конкретности тоже проявляло свою власть.
Вот почему в 1951 году и в последующий период страстный, романтический тон переписки Арендт-Хайдеггера резко меняется. Правда, внешняя дружественность, заинтересованность, содержательная насыщенность общения на недолгое время сохраняются. Но романтические высказывания и стихи, в сущности, исчезают. По инерции Мартин еще посылает Ханне стихи, но в основном не свои. Это, например, стихотворение Рильке «Магия» («Magie») и «Ночное небо и звездопад» («Nachthimmel und Sternenfall») — стихи того же судьбоносного для Мартина и Ханны 1924 года. Своим же стихотворением (с посвящением — «Тебе») Хайдеггер сопровождает рисунок Матисса. Переписка, правда, некоторое время продолжается, но письма становятся спокойными, сдержанными, деловыми, почти бытовыми — похожими на переписку давних и не столь уж близких друзей-коллег.
Самый важный в данной связи объясняющий факт: как уже упоминалось, Ханна посылает Хайдеггеру свою книгу «Происхождение тоталитаризма» (The Origin of Totalitarianism), вышедшую в конце 1950 года. Тема, несомненно, была весьма больной как для Хайдеггера, так и для его жены. Его реакция выглядит скорее отпиской: «Мы благодарим тебя за твою книгу, которую я, из-за плохого знания английского языка, не могу прочесть». И поскольку известно, что Эльфрида-то английский специально изучала и достаточно хорошо знала, Мартин добавляет: «Эльфрида этим очень заинтересовалась; но время и дом слишком неспокойны». (Что касается обстановки в доме, имеется в виду вынужденный развод старшего сына Йорга с его первой женой, который Эльфрида и Мартин действительно сильно переживали.) Со своей же стороны Хайдеггер ожидает реакции Ханны на его книгу о Канте.
Это хотя бы косвенно проливает свет на внезапное охлаждение отношений, затянувшееся на несколько лет (по крайней мере до 1966 года).
За эти годы переписка не только превратилась в сухую, деловую — год за годом она становилась все более редкой: вместо целого потока писем (и стихов) в 1950 году — редкие письма 1951,1952, 1953 годов, а с 1954 по 1959 год — вообще перерыв в переписке; с 1960 по 1965 год — всего два письма, вежливых и отчужденных. Возникает вопрос: что же в так ярко возобновившихся отношениях Ханны и Мартина произошло к началу 1951 года?
Новое охлаждение отношений
Некоторые причины касались отношений Ханны и Мартина с их близкими и их окружением.
Первая и самая непосредственная из таких причин — очевидный крах прекраснодушных надежд Хайдеггера на «светлую дружбу втроем». Мы уже говорили: больше всего противилась этому «проекту» Эль- фрида с ее неподдельными, естественными чувствами жены и матери. Стали ли ей известны пламенные письма мужа другой, когда-то страстно любимой женщине — с поистине феерическим потоком признаний, романтических философских стихов, которые он на нее обрушил? Скорее всего, бдительная Эльфрида до чего-то дозналась. Отчасти поэтому, как можно предположить, уже в 1951 году письма Хайдеггера становятся такими, чтобы устоять перед цензорской проверкой со стороны жены — поистине «стерильными» в смысле выражения любви, восхищения, непреходящего значения встречи и общения с Ханной. И ведь Эльфрида как «причина» была самой повседневной, близкой, действенной, тогда как Ханна жила за океаном, лишь изредка появляясь в Европе. Ее личные встречи с Мартином сошли на нет.
Вторая причина состояла вот в чем: по ряду обстоятельств, требующих специального анализа (который здесь невозможен), сильно ухудшились отношения Хайдеггера и Ясперса. А ведь Хайдеггер еще раньше верно написал Ханне, что в связке «Хайдеггер и Ясперс» роль связующего «и» играет именно она.
Третья группа причин касалась внутренних, личных отношений Ханны и Хайдеггера. Мы раньше не раз упоминали о важнейшем факторе — асимметрии этих отношений, связанном с восприятием и пониманием Хайдеггером смысла, особенностей творчества его бывшей студентки, именно теперь представлявшей одно за другим свидетельства и доказательства силы, влияния, особого характера своих мыслительных достижений. Сама Ханна в одном из более поздних (от 01.11.1961) писем Ясперсу хорошо раскрыла психологическую, личностную подоплеку застарелого и даже теперь не исчезнувшего особого синдрома в отношениях учителя к его бывшей ученице: «Я знаю, для него невыносимо то, что мое имя стало публичным, что я пишу книги и т. д. На протяжении моей жизни я по отношению к нему как бы хитрила и вела себя так, будто я не существую и будто я, так сказать, не могу сосчитать до трех — также и в интерпретации его собственных дел. И его всегда приятно удивляло, если он обнаруживал, что я-таки умею считать до трех и иногда даже до четырех. И вот теперь эта хитрость мне слишком наскучила, и я как бы поставила его на место. В какой-то момент я пришла в бешенство, но теперь это прошло.
Часть III. Глава 2. Стихи Хайдеггера, посвященные Ханне Арендт
H.ß* Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
192
Я теперь скорее того мнения, что в чем-то я такое заслужила — именно за то, что хитрила, а потом перестала играть в эту игру»1.
Еще важнее было действие четвертой группы причин. Они касались конкретного содержания, характера выдающихся работ Ханны Арендт, появившихся к 1950 году. Главной в этом ряду была, конечно, упомянутая книга «Происхождение тоталитаризма ». Отклик четы Хайдеггеров на это важнейшее произведение и самой X. Арендт, и всей послевоенной социально-философской литературы был более чем примечателен. Полагаю, Мартин и Эльфрида в уклончивом по форме ответе («недостаточно знаю язык», «нет времени для чтения», «одолевают домашние заботы») просто лукавили. Думаю: и знания английского языка у Мартина было достаточно, и время для чтения, несмотря на все заботы, нашлось, и общий пафос работы Арендт был супругами уловлен. Главное в исследовании Ханны четой Хайдеггеров было воспринято и понято очень даже лично. Ибо книга-то была о тоталитаризме, его жертвах и пособниках, в том числе о попутчиках, которые содействовали тоталитаризму не самым ревностным образом, скорее по каким-то внешним причинам и в конечном счете тоже стали его жертвами. Книга, следовательно, была также и о Хайдеггере, и о его жене, подталкивавшей мужа к ректорству, т. е. к сотрудничеству с наци, и к тому же никогда не скрывавшей своих антисемитских настроений.
Применительно к Ханне вся гамма ее возобновившегося общения с Хайдеггером включала не только обсуждаемый аспект. Внимательный читатель, впрочем, уже мог заметить асимметрию в нашем повествовании. Ведь до сих пор я главным образом опиралась на письма, стихи Хайдеггера, хотя позволяла себе говорить о взаимном характере пробудившихся чувств и воспоминаний. Но ведь звучал, собственно, не дуэт, а пламенный хайдеггеровский любовный монолог, тогда как «партия » Ханны пробивалась непрямо, в качестве луча света, отраженного через письма Хайдеггера, или своего рода голоса за сценой. Тут заключалась и заключается объективная, так сказать источниковедческая трудность, о которой уже упоминалось по ходу нашего анализа. Ведь Ханна (заботливо собравшая, сохранившая для истории посланные ей письма, стихи Хайдеггера в полном или почти полном объеме) позволила выйти к свету исторической рампы лишь очень немногим из собственных посланий Мартину.
Может вообще возникнуть сомнение: а справедливо ли говорить, как это было сделано мною ранее, о вновь вспыхнувших в 1950 году взаимных чувствах? (Кстати, некоторые биографы пишут о «вспышке чувств» этого года иначе.) Раньше я уже пыталась ввести в разговор все те собственные высказывания Ханны, которые — наряду с отраженными в письмах Мартина моментами — все же давали право говорить: она тоже в известной степени поддалась и отдалась потоку вспыхнувших и нахлынувших чувств, непосредственных и сильных. Недаром же она, описывая первую встречу, призналась: время для нее как бы остановилось... Вполне объективен тот факт, что Ханна почти целый год принимала пламенные послания бывшего возлюбленного и, скорее всего, сочувственно, поощряюще на них отвечала. Во всяком случае, оба, как
1 Я. Arendt / К. Jaspers. Briefwechsel. S. 494.
сказано, до поры до времени не выдвигали на первый план и почти не обсуждали трудности, все более настоятельно препятствовавшие продолжению общения и переписки при том же накале чувств и в той же тональности. Однако все эти трудности объективно существовали и все более напоминали о себе.
Личные проблемы здесь были теснейшим образом объединены с социально-историческими основаниями. Сугубо личные вопросы упирались в существование извечного «любовного треугольника », который в 1950 году фактически был «четырехугольником», ибо включал также, как бегло упоминалось, любящего мужа Ханны, умного, прекрасного, дорогого ей человека Генриха Блюхера. Впрочем, «углов» в этом деле было существенно больше, что становится яснее, если учесть, как сложно, противоречиво все выглядело «из угла » самой Ханны Арендт.
Когда Ханна в 1950 году все-таки бросилась в поток опять вспыхнувшей любви к Мартину, то серьезных препятствий к тому было предостаточно. Они прежде всего проистекали из простой, в чем-то «вечной» логики любовных отношений. Ведь когда люди, в прошлом связанные узами любви, вдруг оборвавшимися, снова встречаются и понимают, что любовь не угасла, что в этих узах сохранилось что-то «непреходящее», то в каких-то случаях последнее может победить все темные оттенки разрыва-расставания, его боли и обиды. Но еще чаще бывает иначе. Сначала былые чувства могут как бы воскреснуть. Но потом приходит очередь других ощущений и чувств: осознается, что боли и обиды не забыты, что все же приходится «выяснять отношения». Тем более если, как в случае Арендт-Хайдеггера, эти отношения вписаны в мрачнейший интерьер самой истории, в ее проживание и переживание по разные стороны социальных противостояний. И также в контекст личностной же включенности героев истории не просто в разные, а в противоположные сообщества, институции, близкие круги общения.
Надо упомянуть о новой асимметрии жизненных позиций Мартина и Ханны. К 1950 году Хайдеггер, как известно, был глубоко одиноким человеком и мыслителем, почти выбитым из привычных кругов профессиональной и дружеской коммуникации и, что для него всегда было важно, кругов почитания, поклонения. Скоро, правда, положение станет меняться: откроются послевоенные возможности со-мыслия, сотрудничества, сложатся группы учеников, почитателей — и это поможет Хайдеггеру пережить крах его иллюзий, связанных с «новым явлением» Ханны. Что же касается ее, то ведь она к 50-м годам была уже довольно плотно окружена кругом друзей, соратников, сотрудников, учеников, а также тех, кто рано распознал и ощутил силу, влияние ее незаурядных мысли и таланта. Существенно, что в жизненный контекст Ханны были включены (пусть, как говорилось, непростым, противоречивым образом) еврейские круги — близкие друзья, некоторые организации, в том числе те, по поручению которых Ханна отправилась в Германию. Отсюда еще один момент асимметрии: если Хайдеггеру, кроме влияния его сугубо личных чувств, была удобна, даже выгодна некоторая степень публичности в его отношениях с Арендт, фигурой уважаемой и набиравшей еще большую популярность, то Ханне по ряду веских причин скорее приходилось в этом деле избегать огласки, тем более публичности. 77 694
Часть III. Глава 2. Стихи Хайдеггера, посвященные Ханне Арендт
194
ö
Я
0 X
X
1
о
CQ
X
Так сложился внешний «рисунок» новых отношений Арендт с Хайдеггером. Она не только не афишировала их, с полной откровенностью не говорила о своих реальных переживаниях с мужем, с близкими друзьями, но объективировала перед ними главным образом негативные, теневые оттенки развернувшихся событий. Причем эти оттенки, нюансы не приходилось выдумывать, измышлять — они реально, объективно существовали. Все в мире чувств, в поведении Ханны именно в 1950 году оказалось увязанным в сложнейший, противоречивый узел. В сплетении противоречий участникам или наблюдателям развернувшихся событий и в то время, и впоследствии оказалась явленной какая-то именно им специально открываемая сторона.
Об этой двойственности уже писали биографы, исследователи. Рю- дигер Сафранский справедливо обратил внимание на такое, например, противоречие. Ханна была, действительно, снова столь очарована, околдована Хайдеггером, что она усмотрела во встрече с ним «подтверждение всей жизни». Но, скажем, в письме к доверенной подруге Хильде Френкель Ханна описывала встречу с Мартином в совсем других словах и тонах. (Она писала, что в ее комнате Хайдеггер предстал «wie ein begossener Pudel», как нашкодивший пудель...)
В письмах мужу Ханна выписывает все горькие подробности контактов с Эльфридой Хайдеггер и краха планов дружбы втроем (вчетвером), потому что хорошо знает сугубо критическое отношение изгнанника с родины Генриха Блюхера к нацистскому попутчику Хайдеггеру. В письмах и разговорах с друзьями (среди них было немало евреев) Ханна, по верному замечанию А. Груненберг (А. Grunenberg. Op. cit. S. 315), прибегала к горькой иронии и сарказму, лишь частично приоткрывая завесу над всем, что ей пришлось пережить в Германии в 1950 году. Давнему другу Курту Блуменфельду она писала — именно в таком стиле: «Моя поездка в Европу тоже была, подобно тому как ты пишешь о себе, целым романом. А именно, я была во Фрайбурге. У меня были там служебные дела. И Хайдеггер появился в отеле.
При этом косвенно обогатилось мое понимание немецкого языка — благодаря очень красивым стихам. Каждый делает, что может»1. Видите: ни слова Ханны о том, что инициатива встречи с Хайдеггером исходила от нее, и о том, что время для нее остановилось... Все скрыто за иронией.
Подобным же образом события 1950 года в письмах Ханны повернуты к другу и учителю Карлу Ясперсу. «Свою встречу с Хайдеггером в обращениях к Ясперсу она описывает в таких словах [о Хайдеггере]: бесхарактерность, привычка врать, велеречивость, бесчестность, лживость» (А. Grunenberg. Op. cit. S. 315).
Полагаю, к полному исчезновению любовно-романтических тонов в переписке и общении Арендт-Хайдеггера как раз и причастно сложное переплетение названных причин, их все более сильное давление на Хайдеггера, но прежде всего на Ханну. (При этом два «угла » четырехугольника — супругу Эльфриду и мужа Генриха — надо принять в расчет в первую очередь.)
1 См.: Н. Arendt / К. Blumenfeld. Korrespondenz. Hamburg, 1995. S. 52.
Но и не менее важное: в 50-х годах и в Германии, и в Америке Ханне и Мартину, этим все-таки любящим друг друга людям, никак нельзя было надеяться на возможность «редукции» в отношении нацизма вообще, (временных) нацистских прегрешений Мартина Хайдеггера в частности и особенности. И даже в эйфорию переписки 1950 года вторглась затронутая Ханной и Мартином тема «радикального зла».
«Радикальное зло» — против любви
Напомню: в письме от 12 апреля 1950 года — полном красивых любовных излияний и плотно окруженном вдохновенными стихами — как бы «вдруг» и на время появляется тема «радикального зла». Она, несомненно, введена Ханной (вот где слышится ее «голос за сценой»...). Откликаясь на предшествующее, неизвестное нам письмо Ханны, в котором она, очевидно, упоминала о проблемах, кои нельзя обойти, Мартин уверяет, что он тоже не собирается уходить от них в сторону. И он, соотносясь, очевидно, с предшествующим письмом Ханны, задает вопрос: «В разъяснениях о власти я еще не увидел, что ты помечаешь словами „радикальное зло”». Здесь У. Лудц дает следующую полезную справку: «„Разъяснения” X. Арендт можно реконструировать из мыслей, которые содержатся в главе „Концентрационный лагерь” из книги „Элементы и происхождение тоталитарного господства” (в немецком варианте — „Происхождения тоталитаризма”. — H. М.), из ее записей в Дневнике от июля 1950 года под рубрикой „Радикальное зло”, а также из длинного пассажа в письме к Ясперсу от 04.03.1951 года»1.
Чтобы понять суть поднятого Ханной вопроса и оценить адекватность или неадекватность того, как именно в его обсуждение был готов включиться Хайдеггер, воспользуемся и мы пассажем из ее упомянутого письма Ясперсу. «Зло, — писала Ханна, — оказалось радикальнее, чем предсказывалось. Говоря внешним образом: современные преступления не были предусмотрены в Декалоге. Или: западная традиция страдала тем предрассудком, будто самое злое, что человек может причинить человеку, проистекает из греха своекорыстия; в то же время мы знаем, что самое злое или радикальное зло сейчас уже не имеет ничего общего с таким по-человечески понятным греховным мотивом. Я не знаю, в чем действительно состоит радикальное зло, но мне кажется, что оно связано со следующим феноменом: человек как, qua человек (не тогда, когда его используют как средство, что ведь оставляет его в неприкосновенности и только наносит урон его человеческому достоинству) становится чем-то излишним. Это происходит, поскольку исключается всякая непредсказуемость, которая на стороне человека соответствует спонтанности. А это снова же возникает, или, лучше, бывает связанным с всесилием (не просто жаждой власти) отдельного, определенного (des) человека. Стань определенный отдельный человек (der Mensch) человеком всесильным, тогда нельзя было бы увидеть, почему должны быть еще люди во множественном числе (die Menschen) — точно так же как в монотеизме только всесилие Бога делает его ОДНИМ (Богом)... И тут у меня есть подозрение, что философия не совсем невиновна в подоб-
Н. Arendt ! М. Heidegger. Briefe. S. 288.
7*
Часть IJI. i/iaeo 2. Стихи Хайдеггера, посвященные Ханне Арендт
196
о
z
z
Я
s
о.
e
о
о»
>s
я
э
I
ном сюрпризе. Естественно, не в том смысле, что Гитлер имеет какое-то отношение к Платону. (И не в последнюю очередь поэтому я потратила такие усилия на то, чтобы выявить элементы тоталитарного правления и освободить западную традицию от Платона до Ницше от подобных подозрений.) Но все же повинна, в том смысле, что эта западная философия никогда не обладала и не могла обладать чистым понятием политического — и потому, что по необходимости говорила об отдельном человеке {dem Menschen) и только пбходя обсуждала факт плюральное™»1.
Не исключено, что Ханна в своих «разъяснениях», адресованных Хайдеггеру, говорила о чем-то подобном. Но тогда отклик Хайдеггера в письме от 12.04.50 года вряд ли адекватен поднятому очень серьезному и (отчасти) специальному вопросу об отсутствии в западной философии (и не только от Платона до Ницше, но и от Платона до Хайдеггера и Ясперса включительно, т. е. очень высоких для Ханны авторитетов) ясного, хорошо разработанного понятийного арсенала и теории политического. Хайдеггер же в беглом ответе, во-первых, по обыкновению свел все дело к бытию, к воле к власти, помысленной как «воля к воле », к «абсолютному восстанию абсолютного эгоистического устремления (Eigensucht) в бытие »2.
Во-вторых, разговор, который Ханна, несомненно, хотела подвести к теме Гитлера и нацизма, Хайдеггер искусно переводит на другие рельсы — к феномену Сталина и сталинизма. «Одновременно, — пишет он, — угроза, созданная Советами, принуждает нас сейчас увидеть [ее] яснее, нежели ее теперь видит Запад. Ибо теперь эта угроза непосредственно обращена против нас. Сталину нужна война, которую, как ты полагаешь, сегодня объявить уже невозможно. Каждый день он выигрывает битву» (Ibidem. S. 94). Действительно ли Сталину тогда, т. е. к 1950 году, требовалась война и была ли она сколько-нибудь реальной в то время? Из письма Хайдеггера видно, что он уверовал и в то, и в другое, более того, настаивал на своих предположениях, ибо ему было выгодно переместить внимание от нацизма и гитлеризма к сталинизму. Судя по всему, X. Арендт — и вполне прозорливо, реалистично — отвечала на эти вопросы совершенно иначе, чем Хайдеггер. А он, едва вышедши к сколько-нибудь конкретным политическим реалиям действительно усилившегося к 1950 году сталинского тоталитаризма, снова удалялся в привычные метафизико-лингвистические рассуждения о мышлении {Denken), которое осмысливает и сомневается {bedenkt). Сомневается в том, в «какой мере лишь исторически представленная история не полностью определяет существенное человеческое бытие»; сомневается и в том, «действительно ли человек приготовляется к этому настоящему „бытию” (опять написано: „Seyn”)». Такому бытию, в коем «еврей и немец обретут ту именно, свою собственную истину, которой наш исторический расчет так и не достиг». «Если зло, которое произошло и происходит, есть [имеет место], тогда и отсюда бытие впервые возвышается для человеческого мышления и действия, превращаясь для них в тайну; и тогда — благодаря тому, что нечто есть, — таковое [имеющееся] не
1 Н. Arendt/ К. Jaspers. Briefwechsel. 1926-1969. S. 202-203
1 H. Arendt / M. Heidegger. Briefe. S. 94.
является только поэтому добром (das Gute) и тем, что требуется (das Rechte)1» (Ibidem).
Итак, хайдеггеровский «ответ» на глубинные и в то же время предметные тревоги Ханны о «радикализации» зла, о превращении человека как такового в нечто «излишнее», о тенденции придавать и передавать чрезвычайные права, полномочия какому-то одному определенному человеку (диктатору, фюреру) или конкретным кликам людей (а это тревоги, которые, увы, не сняты и сегодня), — ответ этот опять сбивается на бытийную риторику, на цветистую метафизическую вязь также и там, где очевидно нужны другие способы и формы философского, а скорее именно социально-политического мышления. Впрочем, сам Хайдеггер оправданно и откровенно признается: «В политическом я не являюсь ни сведущим, ни одаренным», обещая, что в будущем станет учиться «в мышлении не упускать ничего» (Ibidem. S. 95).
А потом опять возвращается к теме встречи, любви — к уже известному нам символу-образу красивого «коричневого платья» внезапно явившейся Ханны2.
Вопросы о «радикальном зле», о политическом на время были сняты даже из философского разговора. Но упомянутая присылка во Фрайбург, на адрес четы Хайдеггеров, книги Арендт о тоталитаризме стала переломным моментом, рубежом, ясно обнаружившим нередуцируе- мость и всю глубину социально-политических разногласий между двумя когда-то любившими, да и теперь, видимо, все еще любящими друг друга людьми. Чтобы понять, какая мыслительная, теоретическая реальность обращалась против силы любви, нам теперь нужно подробнее, основательнее вникнуть в предложенные Ханной Арендт идеи и концепции — и прежде всего в те, которые вызрели и увидели свет к 1950 году. При этом надо сделать существенную оговорку. В моей относительно небольшой книге, реализующей специфический замысел и посвященной особой теме, мыслительный, теоретический вклад Ханны Арендт может быть рассмотрен лишь достаточно обобщенно, без (вообще-то необходимого) вхождения во многие детали, без специального и сколько-нибудь полного анализа произведений, эволюции взглядов, исторических истоков мысли этой замечательно интересной, как сказано, даже «классической» фигуры. Но поскольку в мире, в том числе и в нашей стране, сегодня снова усиливается интерес к творчеству X. Арендт, продолжаются попытки его актуального анализа, переводятся ее произведения, постольку у читателей есть немало возможностей дополнить выстраиваемую далее картину, обращаясь к другим исследованиям. В нашем же дальнейшем повествовании о творчестве Ханны Арендт не будет упущена центральная для нас линия, связывающая ее идеи, находки, концепции с тем, что она почерпнула у своего учителя Мартина Хайдеггера, осуществив над почерпнутым, как бы заимствованным, глубокую и оригинальную критическую рефлексию.
197
1 В оригинале: «nicht schon das Gute und Rechte»; более интерпретативный перевод — «что только потому, что оно существует, есть, не является самим добром (das Gute) и самим правым, нужным».
2 Н. Arendt / М. Heidegger. Briefe. S. 95.
Часть III. (лава 2. Стихи Хайдеггера, посвященные Ханне Арендт
Часть IV
Мир идей и концепций Ханны Арендт: истоки, содержание, значение
Истоки
В становлении любого великого или выдающегося, оригинального мыслителя всегда можно, да и нужно искать духовные, идейные истоки и изначальные влияния. Исторический и в то же время неувядающий урок значимости всего этого еще в глубокой древности был преподан генетической идейной связью гениальных творцов философии и человеческой культуры Сократа-Платона-Аристотеля. То была поистине божественная удача для Платона — учиться у Сократа, для Аристотеля — учиться у Платона, а для каждого из них — обрести впоследствии великих учеников, степень верности которых своим гениальным учителям отчетливо выявлялась именно тогда, когда сами они становились поистине неповторимыми мыслителями.
Ханне Арендт тоже выпала, если рассматривать ее жизненное дело в ретроспективе, поистине судьбоносная удача: ее учителями последовательно были — и на всю жизнь остались — отцы-основатели немецкой экзистенциалистской философии, выдающиеся, если не великие, философы XX века Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс1.
Уже по этой чисто исторической причине можно было предположить хотя бы исходное влияние экзистенциалистских идей, понятий, категорий-экзистенциалов на формирование идей Ханны Арендт. Но увязка с экзистенциализмом, что я постараюсь подтвердить и раскрыть в дальнейшем анализе, оказалась более прочной, сильной и содержательно значимой, чем представляется при первых подходах к проблеме. Причем дело тут никак не сводилось просто к изначальному влиянию Хайдеггера на свою ученицу (и любимую, любящую женщину), каким бы действительным и основательным оно в данном случае ни было. Некоторые биографы (среди них — прежде всего Э. Эттингер) неверно изображали влюбленную студентку всего лишь покорной слушательницей профессора Хайдеггера. Ибо особенности собственной концепции впоследствии выдающегося мыслителя Ханны Арендт никак не сводились к подражательному, якобы, включению в ее мыслительные структуры хорошо знакомых, но достаточно чуждых ей экзистенциальных элементов. Я вижу специфику духовно-теоретического развития Ханны Арендт как социально-политического мыслителя в редкой, если не беспрецедентной
1 Не следует также забывать, что в число ее марбургских учителей входили и такие значительные философские современники, как Николай Гартманн и Рудольф * Бультманн, что вместе с нею учились, как уже отмечалось, такие мыслители, впоследствии ставшие выдающимися и знаменитыми, как Г.-Г. Гадамер, Ханс Йонас и другие. Но эту линию, требующую специального анализа, мы здесь оставим в стороне.
для данной области, фундаментальной проработке релевантных историко-философских, философско-метафизических проблем и оснований, в составе которых была (в том числе) и экзистенциалистская линия. Вернее, если вернуться к ее терминологии, линия «Ех1зТеп2рЫ1о5орЫе», что правильнее передать словами «философия экзистенции», или просто «экзистенц-философия». Ибо, как мы увидим дальше, последнюю Ханна Арендт понимает достаточно широко, восходя не только к учению Кьеркегора, автора важнейшего дохайдеггеровского варианта, но даже к Канту и Шеллингу. Термин «экзистенциализм» распространился, стал ходячим позднее и, как известно, вызывал возражения со стороны целого ряда философов, к которым его относили.
В историко-философском материале Ханна разбиралась просто замечательно: во многих областях истории философии она была, что называется, «у себя дома »; сказанное особенно относилось к таким фигурам, как Платон, Аристотель, Кант. Замечу специально: хотя в послевоенном бурном процессе возникновения, формирования новых, оригинальных, затребованных временем социально-философских, социологических теорий солидная, прежде всего европейская философская образованность (скажем, таких крупных фигур, как Толкотт Парсонс, Питирим Сорокин, Роберт Мертон и многие другие) вообще была характерной чертой и, кстати, одним из важных залогов теоретического успеха, — все же и на этом фоне Ханна Арендт выделялась. Чем же? Полагаю, тем, что она начала, а потом пролагала свой путь в социальной, политической мысли, осуществляя самостоятельную, оригинальную проработку ее философских предпосылок, оснований, особо внимательно относясь к изначальному осмыслению фундаментальных понятийных основ той или иной проблемно-теоретической области знаний об обществе. Исследователи, биографы так или иначе отмечают это. Правда, не в той же форме, не с такой же настойчивостью и детальностью, как делаю я в данной книге. Ибо в вопросе, которого мы сейчас касаемся, есть свои трудности. Скажем и о них: они относятся к общей оценке вклада Ханны Арендт в историю мысли XX века и ее, возможно, достаточно длительного влияния на духовную культуру будущего (пик которого, в чем я убеждена, еще не пройден).
Дело в том, что Ханне Арендт — из-за многих драматических обстоятельств жизни, из-за десятилетий, в сущности, потерянных для спокойной, неспешной и именно теоретической работы, — довелось написать и опубликовать не столь много сочинений. Судьба, в частности, отпустила ей сравнительно мало времени для объективирования, презентирова- ния этапов, подробностей интенсивной теоретической работы над имеющимся наследием, философским и историко-философским, которую она все же никак не могла не проделать на пути к самостоятельным концепциям, затребованным самой эпохой, и которую при других условиях она могла бы осуществлять детально, шаг за шагом. Суть, специфика также в том, что не только X. Арендт, но и ряд других крупных мыслителей XX века оказались перед беспрецедентно важным и срочным вызовом: надо было осмыслить причины, истоки, следствия социальных катастроф, обрушившихся на весь мир, в частности и особенности на Европу, и затронувших буквально все области жизнедеятельности челове-
199
Часть IV. Мир идей и концепций Ханны Арендт...
Н.в. Мотрошилово ИВ Мартин Хайдеггер и Ханна првндт: бытие-время-любовь
200
чества, — катастроф такого масштаба, как мировая война, уничтожение миллионов людей в концлагерях, в военных действиях. Ведь фактически это была беспрецедентная даже для всегда жестокой людской истории тенденция самоуничтожения человечества, никак не снятая и сегодня. На первый план выдвинулась и такая черта тогдашних событий: в ряде стран стремительно, в сравнении с присущими более ранней истории небыстрыми темпами, фактически между двумя мировыми войнами, сформировалась особая система власти, а также выработались структуры поведения, сознания, способы воздействия на них и манипуляции ими, которые обеспечили стремительное же и массовое подавление прав и свобод в этих странах, потом сформировали исходящую от них угрозу не только для ближайших соседей, но в потенции для всего человечества. Теперь эту систему диктаторской власти согласно именуют тоталитаризмом.
Но в третьем-пятом десятилетиях XX века, о которых у нас здесь идет речь, устойчивого и содержательно определенного понятия тоталитаризма, в сущности, еще не было. Его только предстояло обрести, наполнить определенным смыслом, ввести в теоретический дискурс и в употребление в более широком социально-политическом жизненном мире. И деятельность Ханны Арендт как публициста, с определенного времени быстро формирующегося социально-политического теоретика была среди важнейших факторов, определивших возникновение, распространение и конкретное влияние осмысленного, четкого понятия и содержательных концепций тоталитаризма в послевоенной мысли и социальной практике. Сегодня этот тезис не надо специально обосновывать и отстаивать, ибо особая роль Ханны Арендт и ее работы 1951 года «Истоки тоталитаризма» общепризнана.
Напомню: именно эту работу, поистине новаторскую, потом согласно признанную «классической»1, Ханна Арендт вскоре после ее выхода в свет в 1951 году послала также, если не прежде всего, своим бывшим учителям Хайдеггеру и Ясперсу. Реакция обоих была существенно различной. Ясперс и его жена отнеслись к книге Ханны вполне сочувственно, позитивно и заинтересованно, хотя оба оговорили, что им непросто читать «с листа» английский текст. Хайдеггер и его жена как раз эту оговорку сделали от-говоркой, чтобы не высказывать прямо и открыто своего не просто сдержанного, а резко негативного отношения, понятного для людей, которые в книге бывшей ученицы фактически стали безличными объектами строгого, нелицеприятного разбора. Это подводит нас к вопросу, который мы далее поставим первым и разберем специально: что почерпнула Ханна Арендт из изучения, прежде всего у Хайдеггера, экзистенц-философии и в чем ей, однако, надо было решительно отойти от этой философии, если не прямо противостоять ей?
1 «Классической работой по анализу феномена тоталитаризма является кни¬
га немецко-американской исследовательницы X. Арендт „Истоки тоталитаризма”» (А.А. Кара-Мурза. Тоталитаризм // Новая философская энциклопедия. Т. IV. М., 2001. С. 80-81. Курсив мой. — Н. М.).
ГЛАВА 1
Ханна Арендт об экзистенц-философии
Философский, социально-исторический расчет с этим учением Ханна Арендт осуществила в одной из своих ранних работ. Она вышла в свет в 1946 году и называлась «Что такое экзистенц-философия?» (Was ist Existenzphilosophie?). Любители объемных и подробных сочинений, в том числе на означенную тему, прочитав работу сейчас, после десятилетий экзистенциалистского философско-литературного бума, возможно, будут разочарованы... Ибо это краткая, в 47 страниц, брошюра, написанная простым языком, по существу лишенная ссылок и сносок. Что она может дать специалистам, прочитавшим за последние десятилетия десятки, если не сотни ученых исследований, тем более написавшим об экзистенциализме собственные сочинения?
Должна признаться, что мне при ответе на этот вопрос довелось «поставить эксперимент»... на самой себе. Прежде чем я — в связи с достаточно поздно пробудившимся конкретным исследовательским интересом к судьбе и наследию Ханны Арендт — внимательно изучила ее эссе об экзистенц-философии, мною был освоен большой массив специальной литературы и написан целый ряд работ об экзистенциализме, в частности, о Ясперсе, Хайдеггере, Сартре, Камю. Более конкретно свое отношение к краткому резюме Ханны Арендт на эти темы я выражу дальше. А сначала — общая оценка (разумеется, она сугубо личная и вполне может не совпадать с суждениями других авторов, писавших и пишущих о тех же сюжетах).
На меня арендтовские формулы и обобщения — и на фоне знания многих более поздних обобщающих сочинений — все же произвели глубокое впечатление, во-первых, благодаря адекватному материалу, продуманным и во многом точным оценкам, аргументам, выводам. Могу согласиться с Ясперсом, который в письме к Ханне дал такой краткий отзыв: «Вряд ли Вы знаете, как воодушевило меня Ваше рукопожатие — теперь в виде ясного, подлинного и серьезного сочинения о философии экзистенции»*. Такая оценка станет тем более значимой, если учесть, как рано эссе появилось: ведь тогда суждения об экзистенц-философии еще были исторически-предварительными, как бы забегавшими вперед по отношению к ее послевоенному развитию. А оно оказалось куда более богатым, продуктивным, чем в предвоенные годы, и в большей мере прояснявшим суть идей и концепций главных мыслителей, писателей, которые представляли это многомерное философско-литературное движение. Во-вторых (что в контексте моей книги еще существеннее), маленькая брошюра многое говорит о специфической теоретической, а одновременно глубоко личной проблеме — как, в чем Ханне Арендт в ее духовном развитии помогла экзистенц-философия, в частности и особенности развитая Хайдеггером. И почему перед Ханной в конечном счете — как раз в годы бедствий, изгнания, движения к самостоятельным идеям и концепциям — остро встал вопрос о необходимости фундаментальной критики «чистого экзистенциально-философского разума». 11 Н. Arendt I К. Jaspers. Briefwechsel. S. 79 (курсив мой. — Н. М.).
202
D
a
0
Ю
Q
?
oc
1 s- л
VO
&
§
a
<E
О
X
X
>5
a
£
о
cn
>s
0 X X
1
о
£
о
<n
О
Э
о
a
&
£
CD
Теперь нам надо учесть еще более конкретные исторические аспекты и предпосылки. Ибо брошюра была написана под непосредственным влиянием ряда особых исторических причин. Приехав в Америку, Ханна убедилась: философия экзистенции, которую теперь чаще называли экзистенциализмом или экзистенциалистской философией и которая в Европе еще не завершила своего актуального тогда цикла развития (но она еще до войны, во время и особенно вскоре после нее стала там как бы центром философских дискурсов и дискуссий) — так вот, эта философия, а вернее, уже довольно представительное и многоплановое философско-литературное движение, в американской культуре и философии еще оставалось чуждым, малоизвестным духовным феноменом. Ученица корифеев немецкой философии экзистенции, Ханна сочла себя призванной это положение по меньшей мере улучшить. Но в плане собственного развития Ханны считаю более существенным то обстоятельство, что ей требовалось приложить специальные усилия к содержательному теоретическому испытанию данного направления. А оно было родственно тому, которое экзистенциализму, ставшему в Европе символом веры, своего рода идеологией целых поколений, устраивала сама история.
В свете сказанного присмотримся к брошюре X. Арендт с простым и прямым названием «Что такое экзистенц-философия?». Автор сначала напоминает (учтем, в 1946 году) «по крайней мере о столетней истории» такой философии, возводя ее к взглядам Кьеркегора и Ницше1, а среди современников упоминая Шелера, Хайдеггера и Ясперса.
Сначала X. Арендт считает необходимым прояснить главное понятие этого направления (в немецком обозначении — Existenzphilosophie, т. е. «философия экзистенции», или экзистенц-философия) — понятие «экзистенции» (Existenz). «Имя „экзистенция” прежде всего означает не более, нежели бытие человека, независимое от всех психологически исследуемых качеств и способностей индивида. Постольку для философии экзистенции имеет значение то, что Хайдеггер однажды по праву заметил о „философии жизни”: название имеет приблизительно тот же смысл, что ботаника растений. Но только совсем не случайно, что слово „бытие” (Sein) заменяется словом „Existenz” — „экзистенция”» (Ibidem). Нам в России лучше всего воздержаться от привычного в подобных случаях стремления на русском языке переводить «Existenz» словом «существование», ибо нетрудно убедиться, что это смазало бы особый смысл акцентируемого термина. Ханна права, когда говорит: «В этой терминологической смене в действительности скрывается основополагающая проблема современной философии» (Ibidem).
Ханна Арендт, что видно во всей брошюре, обладала способностью к лапидарным и точным обобщениям, которую она вряд ли почерпнула у своего многословного, охотно погружающегося в многочисленные детали и сплетающего терминологические, философско-лингвистические узоры учителя Хайдеггера. Менее страницы печатного текста заняла та ее четкая и в принципе оправданная историко-философская констатация, которая одновременно фиксировала главную — в ее представлении — линию, на коей осуществлялось если не полное противопоставле- 11 Н. Arendt. Was ist Existenzphilosophie? Fr. a/M., 1990. S. 5 (далее при ссылках и цитировании страницы указываются в моем тексте по этому изданию).
ние, то коренное различение классической и современной философии. Эта линия, скажу, отчасти забегая вперед, определяется ею через отношение к действительно фундаментальному тезису философской классики о тождестве бытия и мышления. Понятно, тут нельзя было избежать фиксирования поистине фундаментальной историко-философской роли Гегеля. Об этом Ханна Арендт пишет так: «Философия Гегеля, которая в никогда уже не достижимой полноте философски эксплицировала и организовала в необыкновенно единую целостность феномены природы и истории — о коей, впрочем, никогда нельзя было сказать с полной уверенностью, была ли она для действительности домом-обиталищем или тюрьмой, — эта философия, в самом деле, стала „совой Минервы, вылетавшей только в сумерки”». Гегелевская система, продолжает Арендт, как бы «вменила» всей истории философской мысли начиная с Парменида так и не поставленную под сомнение идею: to gar auti esti nőéin te kai einaí, т. e. что мышление и бытие — одно и то же. «И все происшедшее после Гегеля было либо эпигонским повторением этого, либо бунтом философов против философии вообще, бунтом против утверждения тождества бытия и мышления или сомнением в нем» (Ibidem. S. 6).
К «эпигонам», в целом все же придерживавшимся, по мнению X. Арендт, тезиса о тождестве бытия и мышления, она отнесла Гуссерля с его феноменологией. С этим вряд ли можно согласиться. Но я вынуждена здесь отвлечься от деталей арендтовского, в целом весьма схематичного изображения гуссерлевской феноменологии, которую она — полагаю, уже интересно и небезосновательно — тем не менее рассматривает под углом зрения реконструированного, описанного и даже использованного Гуссерлем разрыва между мышлением и бытием вне мышления. Она также чутко распознает в учении Гуссерля следующую как теоретическую, так и практическую тенденцию: «Такое новое конституирование мира исходя из сознания было бы равносильно второму сотворению мира...», в ходе которого появился бы не предданный, сотворенный, а творческий, творящий человек. «В данной фундаментальной претензии феноменологии заключена своеобразнейшая и самая современная попытка нового обоснования гуманизма» (Ibidem. S. 8, 9). В этой связи Ханна вспоминает о знаменитом прощальном письме X. Хофмансталя к Шт. Георге, в котором Хофмансталь призывал обратиться скорее к «малым вещам», чем к «великим словам», ибо как раз в первых заключена тайна мира. (X. Арендт полагает, что лозунг Гуссерля «Назад к самим вещам!» созвучен хофмансталевскому призыву повернуться к «малым вещам».) «Если и можно еще чего-то достигнуть с помощью волшебства — в эпоху, которая заключает в себе уже ту хорошую сторону, что [в ее истории] терпят крах все волшебства, — то следует начать хотя бы с самого малого и по видимости самого скромного, с неброских „малых вещей” и неброских же паролей» (Ibidem. S. 9).
Не знаю, как кому, а мне в этих рассуждениях уже слышатся пока скрытые, тоже неброские, но все более решительные возражения в адрес (по крайней мере) хайдеггеровской экзистенц-философии, почти не заметившей своего поистине разрушительного внутреннего парадокса: справедливой констатации фундаментальной «утраты бытия», на одной стороне, и высокопарных слов и «паролей» относительно коренной
203
Часть IV. Глава 1. Ханна Арендт об экзистенц-философии
H B-1 Мотрошилова ШИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгтие-время-любовь
204
значимости бытия Dasein, на другой стороне. Эту уже наметившуюся критическую линию X. Арендт далее разовьет более четко и решительно. О гуссерлевском же анализе сознания и его внутренних (в ранних, к середине 40-х годов более известных работах Гуссерля, почти не сформулированных и впервые зазвучавших благодаря куда позднее прославившемуся «Кризису европейских наук...») выводах и претензиях Ханна Арендт справедливо замечает, что Хайдеггер и Шелер в молодости испытали их мощное влияние (а сам Гуссерль, тоже верно пишет она, так и не познакомился с действительно репрезентативным содержанием экзистенц-философии — S. 10). Ее замечания о неразработанных якобы проблемах истории и историзма у Гуссерля имеют ту ограниченность, что они основываются на объективно неполном знании огромного массива релевантных текстов из гуссерлевского архива, тогда неизвестных более широкому кругу философской публики, выносящей обобщающие суждения о феноменологии. Правда, публикации середины 30-х годов XX века с вариантами докладов Гуссерля, относящихся к теме кризиса, существовали, но они были известны разве что немногочисленным специалистам, причастным к работе над обширнейшим гуссерлевским наследием. Но чтобы в середине 40-х годов можно было получить информацию об этом, живя в Америке, — такое просто непредставимо. Да и в философских кругах Европы, в которую Ханна попадет к концу 40-х, в том числе в очень узком круге опального Хайдеггера, и даже во Фрайбурге, городе, где последние годы жил и был похоронен Гуссерль, — о судьбе и содержании его наследия было мало что известно. Напомню: в конце 30-х, после смерти родоначальника феноменологии, его обширнейший (и теперь еще далеко не исчерпанный) архив был тайно, благодаря подвигу Л. Ван Бреда, перемещен в Бельгию, в Лувен. Так что совсем не удивительна неосведомленность Ханны Арендт, касающаяся социально-исторических и других аспектов поздней гуссерлевской феноменологии. Удивляет скорее другое: как это ей, при подобной неосведомленности, удалось сделать запечатленный в краткой брошюре поистине провидческий вывод относительно обоснованной Гуссерлем теоретической возможности преобразования традиционного гуманизма. В принципе Ханна, и не располагая достаточным материалом, оказалась правой и в том, что Гуссерль видел выход из тупиков тогдашней кризисной «современности» в «классическом» по своей сути доказательстве — затемненной временем — творческой сущности человека и человечества.
И вот этому (названному «наивным») пониманию Гуссерля экзис- тенц-философия противопоставила, согласно X. Арендт, иной подход, а именно идею о том, что человек не может быть «творцом мира» и «самого себя» (Ibidem. S. 11).
Мне нравится маленький раздельчик брошюры (S. 12-21), в котором Ханна Арендт напоминает о более ранней традиции. «Слово „экзистенция”, — пишет она, — в современном смысле всплывает, сколько я знаю, у позднего Шеллинга». В доказательство приводится шеллинговское рассуждение о различии между «негативной» и «позитивной» философией и о том, что последняя «исходит из экзистенции... [которую] она впервые имеет в качестве чистого „Daß” (, что...)» (цит. по: Н. Arendt.
S. 12). Но в эти очень краткие и отрывочные рассуждения X. Арендт предпочитаю не вдаваться. На мой взгляд, куда более оригинальны размышления о Канте — особенно в свете того, что Кант для Ханны Арендт был центральной, всегда актуальной фигурой человеческой мысли, или, как она выразилась, своего рода «королем всей философии...» (Ibidem. S. 14). И Ханна соотносит даже и будущий экзистенциально-философский прорыв с самой сутью кантовского мыслительного проекта. Ибо Кант, считает X. Арендт, нанес самый сильный удар по идее единства, тождества бытия и мышления, тесно связанной с принципом «предустановленного объединения Essentia (сущности) и Existentia (экзистенции)». «Кантово указание на антиномическую структуру разума и его анализ синтетических суждений, в котором доказывалось, что мы в каждом положении суждений, в коем что-либо высказывается о реальности, исходим из понятия (essentia) данной вещи, — уже это отнимало у человека античную уверенность в его укрытости в бытии. Даже христианство не посягнуло на эту укрытость, но переинтерпретировало ее, переведя в „божественный священный план”. Но теперь уже не оставалось уверенности ни в смысле или бытии посюстороннего христианского мира, ни в вечно наличном бытии античного космоса, ни даже в традиционной дефиниции относительно истины как „aequatio intellctus et rei” (тождества интеллекта, т. е. мысли, и вещи)» (S. 14). Любопытно и краткое рассуждение о зависимости широкого процесса секуляризации (в Европе) от предпринятого Кантом «разрушения античного единства мыслимого и сущего» (S. 15). (В этом небольшом наброске, касавшемся оценки кантовского философского проекта, — начало того его глубокого продумывания, которое мы встретим в более позднее время творческого развития Ханны Арендт и которому в последующем нашем повествовании уделим специальное внимание.)
Однако при всей признанной у X. Арендт значимости кантовского или шеллинговского прорыва в сферу философской экзистенц-пробле- матики начало экзистенц-философии как современного явления она все- таки связывает с именем Кьеркегора. «Нет ни одного экзистенц-фило- софа, у которого не обнаруживалось бы влияния этого мыслителя », — справедливо отмечает X. Арендт. Ее более конкретные, хотя тоже очень беглые рассуждения о Кьеркегоре я вынуждена опустить, чтобы перейти непосредственно к главной для нас теме, т. е. к тому, что X. Арендт скажет о Хайдеггере.
Теоретический расчет с философией Хайдеггера
Посвященный Хайдеггеру тоже небольшой раздельчик брошюры имеет примечательное название: «Самость как бытие и ничто: Хайдеггер ». «Попытка Хайдеггера — несмотря на Канта и вопреки ему1 — снова учредить онтологию привела к далекоидущему преобразованию традиционной философской терминологии. Опираясь на такое основание, Хайдеггер предпринимает усилие, которое кажется более революционным, чем разработки Ясперса, — и эта терминологическая видимость
1 Эти ♦на ходу» брошенные (и подчеркнутые мною) слова X. Арендт о том, что Хайдеггер «учреждал» новую онтологию «вопреки Канту», как я считаю, глубоко верны. Они требуют особых пояснений, которые будут даны позже.
Часть IV. (лава 1. Ханна Арендт об экзистенц-философии
206
о
а
о
Э
0
1 £
* 0Q X
весьма повредила правильной оценке хайдеггеровской философии. Хайдеггер определенно заявляет, что хочет снова обосновать онтологию, и подразумевает под ней не что иное, как то, что в его намерения входит возрождение начинающегося с Канта разрушения античного понятия бытия. Нет никакого повода к тому, чтобы не воспринимать все это всерьез, даже если кому-то доведется установить, что исходя из такого восстания против философии и невозможно будет вновь восстановить онтологию в традиционном смысле этого слова» (S. 28).
В подстрочном замечании, отнесенном к этому пассажу, X. Арендт, учитывая всю неизбежность вопроса, который в Америке в 1946 году не мог не подниматься при упоминании уже и имени Хайдеггера, сама затрагивает его: а можно ли, в самом деле, воспринимать Хайдеггера всерьез? И сама делает признание: «Во всяком случае, Хайдеггер в своем политическом способе поведения сделал все, чтобы его не воспринимали всерьез» (S. 28). Краткое замечание X. Арендт по поводу этих трудностей и сомнений — притом в беглом подстрочном примечании — представляется мне легковесным и неубедительным, вряд ли достойным остроты ее ума и чувства ответственности: она ссылается на параллели из истории немецких романтиков и заявляет, будто Хайдеггера можно трактовать... «как последнего романтика» (S. 28-29).
А вот когда она переходит к философскому анализу того, удается ли Хайдеггеру преобразование онтологии, все становится более интересным именно с философской точки зрения и, так сказать, поистине коренным для понимания сути идейных реформ, если не впервые инициированных, то наиболее энергично проведенных как раз немецкими корифеями экзистенц-философии. X. Арендт поведет речь о судьбе онтологии — уже прямо в контексте современной ей философии, а косвенно — в широкой панораме многовековых усилий мировой философской мысли. (Отмечу, однако, только пунктиром: судьба онтологии в философии XX века — один из центральных ее вопросов, до сего дня остающийся животрепещущим. Его относительно новое звучание Арендт могла усвоить также от одного из своих марбургских учителей, Николая Гартманна.) И хотя проблема онтологии, как мы увидим дальше, повернулась к X. Арендт скорее не своей академической, внутрифилософской стороной, философские ее основания и перспективы тоже глубоко занимают бывшую ученицу Хайдеггера. И в обобщающих формулировках она как бы спрессовывает результаты многолетних раздумий, приведших к самой неизбежности глубокого разочарования в экзистенц-философии вообще, в ее хайдеггеровском варианте в частности и в особенности. «Онтология Хайдеггера, — пишет X. Арендт, — в действительности никогда не была этаблирована, ибо второй том „Бытия и времени” так никогда и не появился1. На вопрос о смысле бытия он дал предварительный и сам по себе невнятный ответ, согласно которому смысл бытия заключен во временности (Zeitlichkeit). Под этим подразумевалось, что анализ вот-бытия (Dasein), т. е. бытия человека, которое будет определено исходя из смерти, будет обоснован в том смысле, что смысл бытия — „Ничтойность (Nichtigkeit)”» (S. 29). Итак, суждения и
1 Книга «Время и бытие», толкуемая как такой второй том, появится позже — и тогда X. Арендт отзовется на нее в переписке с Хайдеггером.
оценки X. Арендт, касающиеся успеха широковещательной реформы (раннего) Хайдеггера, здесь достаточно суровы. Мало того, что за четверть века так и не появился второй том «Бытия и времени», а опубликованная впоследствии тоненькая брошюрка «Что такое метафизика?» никак не восполнила образовавшихся пробелов, — «в ней несмотря на все очевидные языковые трюки и софистику было в известной степени последовательно показано, что бытие в хайдеггеровском смысле есть ничто» (S. 29).
Жесткость приговора несколько смягчается тем, что X. Арендт разъясняет: «Специфическое очаровывающее воздействие, которое на современную философию оказала мысль о Ничто, не обязательно является признаком нигилизма» (S. 29). Смысл этих разъяснений тоже достаточно любопытен. Согласно X. Арендт, здесь косвенно обнаруживается крах немалого числа попыток высокомерно и высокопарно изобразить человека «богоподобным» и даже «в себе», в тенденции чуть ли не равным Богу. Хайдеггеру удалось обнаружить, что в человеческом мире множатся силы «Ничто» и, если можно так перевести, «обничтойнива- ния» («Nichten»).
X. Арендт так развертывает внутреннюю логику философии, сконцентрировавшуюся — в духе и стиле онтологии (раннего) Хайдеггера — на Ничто. «Ничто, так сказать, пытается уничтожить предданность бытия и, приводя дело к Ничто (nichtend), утвердить себя на его месте. Уж если бытие, которое не я создал, есть удел существа, которое не есть Я и которого я не знаю, то возможно, что Ничто и есть свободный домен человека. Поскольку я не способен быть миротворящим существом, то не может ли мое предназначение состоять в том, чтобы стать мирораз- рушающим существом? (Эти положения сегодня совершенно свободно и ясно развиты у Камю и Сартра.) А вот это, во всяком случае, и есть философская основа современного нигилизма, его происхождения из онтологии: в нем мстит самой себе гибридная попытка — желание втиснуть новые вопросы и содержания в старые онтологические рамки» (S. 30).
Независимо от истоков, выводов и судьбы хайдеггеровского проекта, X. Арендт тем не менее усматривает некоторые его преимущества уже и в резкой постановке только набросанных Кантом вопросов, разобраться в серьезности и новаторском характере которых никто пока не отважился. «На обломках предустановленной гармонии бытия и мышления, Essentia и Existentia, экзистирующего и улавливаемого разумом вопроса о „Что” (Was) экзистирующего, на этих обломках, утверждает Хайдеггер, надо найти существо, у которого сущность и экзистенция непосредственно идентичны, и таковым существом является человек. Его сущность, Essentia, и есть экзистенция» (S. 31). Следует цитата из Хайдеггера: «Субстанция человека — не дух... а экзистенция» (цит. по: Ibidem. S. 31).
X. Арендт не принимает уже тогда появившегося упрека в адрес онтологии Хайдеггера, будто она — через акцентирование Ничто и «обничтой- нивания» — принижает, дискредитирует человека. В действительности она — цитирую X. Арендт — «была попыткой сделать человека „господином бытия”. Хайдеггер называет все это „онтическо-онтологическим первенством Dasein” — формулировка, которая ни в чем не препятству-
207
Часть IV. frraea 1. Ханна Врвндт об экзистенц-философии
208
о
а
о
1
э
о
а
I-
о
£
CQ
±
ет пониманию, согласно которому человек поставлен на то место, кое в традиционной онтологии занимал Бог. Термином „Dasein” Хайдеггер обозначает бытие человека. Благодаря такому терминологическому установлению он приходит к необходимости употреблять понятие „человек”. Это отнюдь не терминологический произвол; цель состоит в том, чтобы растворить человека в ряду модусов бытия, что доказуемо феноменологически. Тем самым отпадают те характеристики человека, которые Кант предварительно очерчивал через понятия свободы, человеческого достоинства и разума — понятия, которые вытекали из спонтанности человека и потому не были феноменологически обнаруживаемыми. Ибо будучи спонтанными, они стали чем-то большим, чем просто функциями бытия — еще и потому, что и человек в них интендирует нечто большее, чем самого себя. За хайдеггеровским онтологическим постулатом скрывается функционализм, который похож на реализм Гоббса. Ибо человеку предназначено быть не более чем функцией бытия или функцией мира (или — у Гоббса — функцией общества). Хайдеггеровский функционализм, подобно гоббсовскому реализму, завершается, в конце концов, только тем, что набрасывается модель человека, в соответствии с которой человеку удобнее функционировать в среде предданного, ибо там он „освобождается” от всякой спонтанности. Этот реалистический функционализм, для которого человек выглядит только конгломератом модусов бытия, — выносит свой главный вердикт Ханна Арендт, — принципиально произволен, ибо никакая идея человека не направлена на выбор модусов бытия. Место человека заступает „самость”, поскольку „Dasein” (бытие человека) отличается тем, что „в его бытии речь идет о нем самом”. Это возвратное обращение „Dasein” на самого себя можно ухватить экзистенциально — вот и все, что еще осталось от власти человека и его свободы» (Ibidem. S. 32). Эту длинную цитату о Хайдеггере, как и ряд дополнительных моментов, которые X. Арендт вводит в принципиальный для нее разговор, разные авторы — можно сказать заранее — будут толковать несходно. Предвидима и такая реакция: все это-де абстрактные внутрифилософские, теоретические «разборки», и для реальной жизнедеятельности людей они представляют весьма малый интерес. В самом деле, не все ли равно, как философы определят суть человека, каким смыслом они станут наделять «заоблачное » понятие бытия? Все это существенно и занимательно разве для них самих...
Ценность и специфику энергично представленных Ханной Арендт в ее брошюре резюмирующих рассуждений о философии Хайдеггера (снова уточню: какой она выглядела к 1945 году) оправдано видеть в следующем: для становления арендтовского учения были принципиально важны линии, ведущие — или не ведущие — от якобы абстрактных споров об онтологии, о «модусах бытия», о «Dasein» как бытии человека к самым животрепещущим вопросам «бытийствования » человека, к осмыслению прошлого, настоящего и будущего человечества, в XX веке запутавшегося в самом страшном, самом масштабном историческом кризисе.
Именно перед таким вызовом, перед подобными вопросами, неотложно требовавшими ответов и разъяснений, X. Арендт четко обнажала неудовлетворительность и противоречивость экзистенц-философии, в
данном случае хайдеггеровской. С одной стороны, через онтологический поворот Хайдеггер изобразил человека Summum ens, «господином бытия», единственно способным вопрошать о бытии и как бы осуществлять над ним свое попечительство (как бы конкурируя с Богом) — на том основании, будто единственно в человеке Essenz и Existenz, сущность и экзистенция-существование, полностью тождественны. С другой же стороны, отмечает Ханна, «после того, как человек был открыт как существо, за которое долго принимали Бога, выяснилось, что таковое существо не в силах ничего сделать и что, следовательно, вообще нет „господина бытия”. Единственное, что остается, — анархические модусы бытия» (S. 33). У Ханны Арендт есть и дополнительные, причем существенные изображения слабости позиций и несостоятельности претензий Хайдеггера как мыслителя. Например, такое: «Бытие, о коем заботится „Dasein”, является „экзистенцией”, которой постоянно грозит смерть и которая в конце концов приговорена к смерти» (S. 33). Но если «экзистенция » находится под постоянной угрозой (bedrohten Existenz), то под силу ли ей выполнить все те поистине глобально-метафизические поручения, которые на нее взваливает философия Хайдеггера? Ответ отрицательный. Приговор жесткий. Можно не сомневаться, что горячие поклонники и последователи Хайдеггера, которых в разных странах много и сегодня, найдут что возразить его бывшей ученице Ханне Арендт, «вырвавшейся из плена» непосредственного воздействия его мыслей, его удивительного красноречия, ушедшей и от чар любви, — возразить и по существу, и на основе текстологической хайдеггероведческой конкретности. Но никак нельзя не признать, что жесткие вопросы были справедливыми, настоятельными, совсем не праздными. Их не менее строго ставила сама жизнь. Ставила и перед Германией, и перед всем миром уже в канун 30-х, в сами эти страшные годы, в горниле войны и в послевоенные 40-50-е годы, когда развернулось миро-пере-устройство. Они, что несомненно, не сняты вплоть до сегодняшнего дня — эти главные, поистине бытийные тревоги, беспокойства, страхи, многочисленные кризисные проблемы.
Перед философией, в особенности перед социально-философскими ее доменами и разветвлениями, действительно встали неотложные и, подчеркиваю еще раз, в том числе и сегодня актуальные проблемы. Они были разного уровня и рода. Некоторые требовали самого конкретного социально-исторического, социально-политического анализа и осмысления. Например, это был вызов, обращенный к Германии, к немецкому народу, — понять, что со страной и народом произошло, почему именно в Германии с ее духовными традициями, в стране блистательной культуры и глубочайшей, бессмертной философии, такую мощную победу одержало нацистское варварство1. Ханна Арендт, которую эти стороны «немецкого вопроса» горячо и кровно волновали, посвятила им целый ряд своих публицистических и теоретических произведений. В такой конкретно-исторической работе она никак не могла плодотворно ком- муницировать с Хайдеггером, выбравшим тактику уклонения от подоб-
209
1 Не могу здесь вдаваться в эту многоплановую тему, о которой уже писала в ряде своих работ и к которой — в публикуемом здесь Приложении — обращалась именно в связи с делом Хайдеггера.
Часть IV Глава 1. Ханна Арендт об экзистенц-философии
Н-В. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
210
ных обсуждений. И не только, кстати, из-за своей вины, так и не признанной публично, но и потому, что такие изыскания по жанру и смыслу были глубоко чужды его мыслительному опыту, специфике его интеллектуального дара. А вот с Ясперсом (о чем — позже) здесь оказались возможными коммуникация, взаимопонимание, перекличка идей, обмен сочинениями и обсуждение их.
Надо отдать должное послевоенным поколениям немецкого народа: они мужественно и ответственно встретили исторический вызов, осуществили покаяние и содержательный, юридически подкрепленный расчет с недавним (правда, относительно недолгим) прошлым, перевели вызовы времени в плоскость социально-политических демократических преобразований. Осуществилась также, пусть с трудностями и противоречиями, необходимая духовно-нравственная реформа — преобразования в мире идей, ценностей, чувств, устремлений индивидов и всего общества, в программатике институтов и социальных групп; стало формироваться влиятельное, по крайней мере в тенденции и перспективе, гражданское общество. На эти процессы оказывали влияние и те люди, которых нацистские власти выбросили из страны в вынужденную эмиграцию. Ханна Арендт была среди них. Ее практическое участие в процессах, происходивших в ФРГ, — особая и очень интересная проблема, которая в этой книге затрагивается, пусть лишь частично. И все же не в таких практических делах, несмотря на их немалое социальное и личностное значение, выразилась замечательная миссия, которую Ханне Арендт как бы вверила сама история. Она, эта функция, все-таки была интеллектуально-теоретической и включала две крупные и в принципе взаимосвязанные задачи. Об одной мы уже отчасти говорили и будем говорить дальше — это и был цикл проблем, соответственно ее разработок и произведений, объединенных разветвленной темой тоталитаризма.
Некоторые свидетельства и доказательства выполнения второй задачи можно разглядеть на примере обсуждаемой брошюры. Попытаемся кратко определить ее суть и смысл. Презентация для американской публики плохо ей знакомой европейской экзистенц-философии — момент скорее побочный, второстепенный. Главное: Ханна Арендт жестко предъявляет философской, социально-политической мысли строгую систему требований и особых задач, частично взявшись за их выполнение. Она имеет в виду обсуждение конкретных идей, концепций, материала, взятого из новейших философских учений, в свете анализа их (не всегда четко выявленных самими творцами) мировоззренческих, идейных, духовно-нравственных предпосылок и следствий. Требовалось раскрыть, какая социально-политическая программатика вытекала из них вполне объективно. И были ли они способны объяснять причины кризисов, провалов в истории человечества, тем более делать это своевременно, оперативно, не «по следам» уже свершившихся катастроф, а упреждая их.
Здесь своего рода программа-максимум, в полной мере вряд ли выполнимая, но необходимо задаваемая как цель, которую никогда нельзя терять из виду. Такой подход X. Арендт не просто избрала из многих других — она его выстрадала, вынесла из драматической истории соб-
ственной жизни, из осмысления горькой, смертной судьбы миллионов людей.
Итак, в 20-х годах она с энтузиазмом и любовью училась у набиравших мировую славу мэтров немецкой философии, прежде всего «философов экзистенции». Это была настоящая философия — в смысле ее связи с глубинными корнями мирового философского мышления, со славными, еще от античности идущими традициями. К тому же, что, возможно, особенно импонировало молодым, горячим сердцам и дерзким умам, философия эта, вернее, ее обожаемые молодежью создатели, претендовали не менее чем на «революционное» (то было весьма популярное тогда слово) преобразование многовековых традиций философской мысли и культуры. Погружение в философию было почти полным: ею жили, в нее молодые интеллектуалы убегали и спасались, сознательно или бессознательно отгораживаясь от обступавших Германию тогда — в бедное и турбулентное «веймарское время» — социальных проблем, переживаний и национальных обид. (Подобно этому талантливые люди разных поколений погружались в очистительные воды искусства, одновременно предпочитая «революционные» формы художественного творчества.) Временно подобный эскапизм приносил облегчение. Ведь он был и содержательно возможным. Подобно тому как все же существует возможность искусства для искусства, т. е. внутренняя ее, художественным творцам особенно близкая и вдохновляющая их стихия, — вполне возможна и «философия для философии». Ибо некоторыми относительно самостоятельными областями философского размышления и творчества заниматься увлекательно, самозабвенно погружаясь в них почти как в самодостаточные глубины духа и интеллекта. Можно без труда показать (в том числе на примере развития отечественной философии посреди буйства идеологии советского времени), что в особенно трудные социально-политические, предтоталитарные или четко тоталитарные времена значимость таких — конечно, совсем не закрытых, не уберегающих — духовных ниш возрастает.
Хайдеггер в этом отношении был, и как раз в 20-х годах, поистине уникальной, просто-таки виртуозной фигурой. С одной стороны, в нишу своей философии он дал проникнуть тревожному гулу, бедам и той эпохи, и всего человеческого существования, искусно переместив абстрактно-бытийное содержание прежней философии в эпицентры «Dasein», т. е. именно человеческого бытия. Конкретные приметы этого хорошо известны, и X. Арендт о них четко сказала: таковы были главные «эк- зистенциалы» тревожности — от страха, заботы, покинутости, неукры- тости и т. д. до глубинного философского «напоминания» о смертности человека, т. е. о неизбывности «бытия к смерти».
С другой стороны, Хайдеггер не требовал ни от себя, ни от своих учеников и единомышленников хотя бы мыслью выбираться в реальный мир, выходя из мрачноватой, но в чем-то и укромной ниши рассуждений о «Dasein», из увлекательного выписывания модусов бытия. Будь историческая ситуация относительно спокойной (как в ряде стран Европы во второй половине XIX века, в эпоху, не преминувшую заразить себя оптимистическим прогрессизмом), в нише изощренной, изысканно-декадентской, увлекательной хайдеггеровской философии молодым людям
211
Часть IV. Птово 1. Ханна Арендт об экзисгенц-философии
Н.В. Мотрошилово Шй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытме-время-любовь
212
свободно можно было спокойно состариться, а самым продвинутым из них — сделать положенную философско-академическую карьеру. И их философский «вождь» тоже старился бы спокойно и достойно. Однако случилось то, что случилось. Нацистская реальность уже и самого политически наивного, если не малограмотного в политике, профессора Хайдеггера вытащила из ниши, в которой он предпочитал «экзистировать » в укрытости прекрасного философствования, а вытащив, заставила вляпаться в неприглядные, так и не заслуживающие прощения, по мнению многих, дела и идеи.
Но особенно трагично, как мы уже видели, сложилась судьба тех, кто, как Ханна Арендт, из укромной ниши увлекательного философствования (для нее к тому же ставшей закрытой от глаз сценой в чем- то мучительного, но и захватывающего романа) попали в тиски не философско-абстрактного, а самого что ни на есть реального «бытия к смерти». 30-40-е годы обострили необходимость понимания, объяснения случившегося, раскаяния в том, что было упущено время для верного социального ориентирования людей в пространстве исторического развития. А главное, стало ясно: было проиграно дело предотвращения гибели многих миллионов людей, беспрецедентного варварского разрушения. Все это заставляло умных, совестливых, ответственных интеллектуалов задавать и самим себе, и учителям-наставникам, претендовавшим на роль властителей дум, труднейшие социально-политические, нравственные вопросы.
Эта противоречивость времен и судеб определила суть, характер отношения Ханны Арендт к экзистенц-философии вообще, к хайдегге- ровскому ее варианту в частности и в особенности. Опираясь не только на разобранное здесь эссе, но на сумму релевантных материалов из ее наследия, начну обобщенно и кратко отвечать на ранее поставленный вопрос: так чему она научилась у Хайдеггера, какие мотивы, стимулы, идеи она заимствовала, пусть и критически, из его философии?
• Прежде всего, из лекций, произведений, из хорошо знакомого ей личностного мира этого выдающегося философа ей передалось понимание высокого значения оживляемой, осовремениваемой философской, в частности, историко-философской культуры. Хайдеггер обладал несравненной способностью к подобному оживлению идей и самой сути философии прошлого. Что он — как было показано — делал и на лекциях, завораживающих слушателей, и в своих произведениях. При всех попытках оригинального реформаторского преобразования философии эта духовно-философская основа оставалась прочным, живым, продуктивным фундаментом его мысли. Выдающиеся ученики, скажем Гадамер, учились и хорошо научились у Хайдеггера такому искусству. И например, разбор темы «Хайдеггер и греки» (о чем далее) дает тому множество убедительных примеров. Что же касается социально-политической философии, в обновление которой с 40-х годов активно включалась Ханна Арендт, то здесь она, в немалой степени руководимая духом хайдеггеровской философии и вдохновленная личным общением с этим мыслителем, подала поистине беспрецедентный пример в высшей степени продуктивной, весьма оригинальной, неведомой и самому Хайдеггеру социально-философской, общесоциологической переработки
философского, в частности, древнегреческого культурного и теоретического наследия. (Дальше я кратко покажу это на примере ее поистине удивительной книги «Vita activa».)
• X. Арендт также научилась у Хайдеггера изощренной философской работе с важнейшими, стержневыми для ее тем словами и понятиями, что для обычного уровня социально-философских, социально-политических, тем более социологических областей было столь же необходимо, важно, сколь и необычно.
• Растревоженность философии Хайдеггера, которого по праву называли мыслителем «мрачного» (düsteren) времени, тоже оказала свое влияние на духовный мир и последующую работу Ханны Арендт. Эта философия, уже лишенная бодряческих тонов характерного для второй половины XIX века философского прогрессизма, тем самым по-своему передавала дух времени, была хотя бы смутным, но предощущением грядущих катастроф. Кроме того, Ханна, очень умная и духом, сердцем чуткая женщина, на своей судьбе ощутила укорененность именно тревожных хайдеггеровских экзистенциалов также и в повседневном, как бы «вечном» бытии человеческого существа, в мире его мыслей, чувств, переживаний. (Этот аспект я пыталась конкретно прояснить при анализе созвучий ее умонастроений с экзистенциалами «Бытия и времени», а также определенной переклички этого произведения с тем, что в 20-х годах и она, и Хайдеггер пережили во время их драматического романа.)
• X. Арендт хорошо поняла, что Хайдеггер не случайно, а по внутренней теоретической необходимости протянул прочные нити от всех таких экзистенциалов к теме бытия, прежде такой абстрактной, что выдвижение в центр категории «Dasein», т. е. бытия человека, также стало принципиальным и в тенденции позитивным моментом хайдеггеровской экзистенциальной реформы.
Однако была и другая сторона дела по сравнению с той, которую мы только что привлекли к рассмотрению, — неизбежность глубоко критического отношения X. Арендт к учению Хайдеггера, как оно выглядело к середине 40-х годов. Отмечу основные, с моей точки зрения, моменты.
• В самой по себе увлеченности Хайдеггера философией, культурой прошлого X. Арендт, разумеется, не видела ничего плохого. Более того, она сама навсегда увлеклась анализом «духа», Geist, прошлых времен, в том числе и в своих социально-философских работах. Но коль скоро Хайдеггер не считал себя только историком философии, а претендовал не меньше чем на коренную реформу, поистине революционное обновление мыслительного наследия человечества, положение существенно менялось. В этом случае можно, нужно было бы ожидать, что Хайдеггер прояснит, выявит суть принципиальных шагов в сторону от традиции, в новую мыслительную, духовную среду и атмосферу.
• Хотя Хайдеггер претендовал и на это, полагая, что подверг критике неудовлетворительность прежних онтологических подходов и создал совершенно новую онтологию — с «Dasein» в качестве понятийного центра. X. Арендт уже к 40-м годам с такой хайдеггеровской самооценкой, как мы теперь видим, совершенно определенно не согласилась, заявив, что бывший учитель хочет втиснуть новые теоретические претензии в устаревшие онтологические мыслительные рамки.
Часть IV. íhoea 1. Ханна Арендт об экэистенц-философии
Н в. Мотрошилово Шй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
214
• Зачаровывавшее учеников, в том числе ее саму, несравненное умение Хайдеггера сплетать философско-языковые узоры она никак не отбросила, не вычла из достоинств философского таланта учителя, но теперь отнеслась по крайней мере к результатам куда более строго. Опять-таки: если бы это была просто обычная, частного характера внутрифило- софская работа, к ней вряд ли стоило бы придираться. Но в свете тех же претензий Хайдеггера на глубинную — благодаря «новой» онтологии — философскую реформу X. Арендт сочла принципиальным его упущением сугубую непроясненность, туманность именно фундаментальных понятий бытийного (на языке Хайдеггера: онтически-онтологического) ряда. Полагаю, Хайдеггер позднее хотя бы косвенно признал обоснованность подобных упреков — признал уже тем, что снова задумал «поворот» (Kehre) в своем философском развитии и что последний серьезно затронул именно онтологическую составляющую его мысли. (Этому проблемному ракурсу будет посвящен последний раздел моей книги.)
• Но особенно ясно издержки способов, приемов, методов, самого стиля философской мысли (раннего) Хайдеггера для Ханны Арендт высветились тогда, когда она — с неизбежностью — стала искать теоретические, общемировоззренческие опоры для собственной мысли, с самого начала нацеленной на выходы в сферы социального, социально-политического действия, в особенности такого, которое могло бы противостоять мощному давлению всех реалий кризисного, мрачнейшего времени. В частности, в анализируемом эссе она показала, сколь запутанный, непроясненный, даже искаженный, непримиримо-противоречивый образ человека и человеческой сущности прямо или косвенно, но объективно сотворила философия Хайдеггера. Кем по своей сути оказался — в его изображении — человек? Такой вопрос задала Ханна. И ответила: попечитель бытия, единственный и неповторимый, чуть ли не «замещающий» самого Бога — и бессильное, по сути поверженное существо! Даже если Хайдеггер готов был бы честно признать именно такое противоречие фундаментальным для человеческой сущности, это следовало обосновать, прояснить, а не затемнять велеречивостью, которую Ханна теперь готова была приравнять к софистике. И не она одна: примерно те же принципиальные упреки в адрес философии Хайдеггера сформулировал в своих знаменитых «Notizen...» (мы уже говорили об этом) Карл Ясперс — не забудем, тоже один из корифеев экзистенц-фи- лософии. Ему, второму своему учителю (с которым через пару лет она возобновит дружественную, красивую личную коммуникацию), Ханна Арендт тоже посвятила (очень краткий) раздельчик своей брошюры.
X. Арендт об экзисгенц-философии К. Ясперса
Указанный маленький раздел называется «Индикаторы человеческой экзистенции: Ясперс». Не беда, что он мал — его хорошо дополняют другие материалы, в частности замечательная переписка Ясперса-Арендт.
Тон изложения и оценок — существенно иной, нежели в предшествующих рассуждениях о Хайдеггере.
Прежде всего, Ханна спешит восстановить справедливость относительно исторического приоритета Ясперса в создании и обосновании экзистенц-философии. «„Психология мировоззрения” 1919 года,
без сомнения, первая книга новой „школы”» (Ibidem. S. 40). Согласно X. Арендт, не вызывает никакого сомнения и новаторский характер отношения Ясперса к традиционной философии, его бунт против нее. «Ясперс осуществил свой разрыв с нею в „Психологии мировоззрений”, где он изобразил и релятивировал все традиционные философские системы как мифологизирующие построения, в которых человек, в поисках защиты, скрывается от подлинных вопросов своей экзистенции». Говоря о ключевом, рано и прозорливо найденном высокосодержательном яспер- совском понятии «пограничной ситуации», Арендт упоминает о попытке учителя опереться на Кьеркегора и Ницше. Главное же, говорится об обращении Ясперса к философии и философам, а именно об его совете не увлекаться лишь созданием «учений», а перед угрозой нарастающей пограничности «апеллировать» к человеку, к его внутренним жизненным силам, собирая воедино также и пока скрытые жизненно-экзистенциальные возможности самой философии (Ibidem).
По мнению Арендт, Ясперс удачно и перспективно находит эти новые возможности в понятии «коммуникации», анализе ее форм, в специфической опосредующей коммуникативной роли философии. (Оценка очень верная и весьма прозорливая, если учесть, сколько сильных теоретических тенденций в философии и социологии XX века впоследствии оформилось вокруг понятия и концепции коммуникации, коммуникативного разума и т. д.) На этом пути, что было очень важно для самостоятельных исследований X. Арендт, «философия существенным образом выходит из сферы [только] науки и ее специализаций» (S. 41), утрачивает высокомерный тон своей мнимой бытийной особливости (намек на Хайдеггера), встраивается в ряд «бытийно-равных» форм человеческой коммуникации. «Экзистенция для Ясперса — не форма бытия, а форма человеческой свободы, и именно такая форма, в которой „человек как возможность своей спонтанности обращается против своего бытия, взятого лишь в виде результата”. В центре философии — не человеческое бытие как таковое и как предданное в экзистенции. Ведь сам „человек и есть экзистенция, в виде возможности заложенная в «Dasein»”. При этом, согласно Ясперсу, слово „экзистенция” выражает то, что человек есть именно человек... лишь постольку, или: он лишь постольку способен реализовать свою экзистенцию, поскольку он движется в рамках этой его собственной свободы, опирающейся на спонтанность, и поскольку он „направлен на коммуникацию со свободой других людей”» (S. 41-42).
«Действительное», таким образом, не растворяется для Ясперса в помысленном и тем самым приобретает новое значение, переплетаясь со свободой. Своего рода парадокс, зарисованный Ясперсом, состоит, согласно характеристике X. Арендт, в следующем: лишь поскольку я не сам творю себя, я свободен; «если бы я сам создавал себя, то предпосылкой был бы я сам и тем самым я становился бы несвободным. В этой связи вопрос о смысле бытия как бы парит в воздухе, так что ответ на него гласит: „Бытие таково, что это Dasein [лишь] возможно”» (S. 42).
По Ясперсу, мы только тогда приближаемся к этому бытию (здесь Арендт продолжает обрисовывать путь его философии), когда, мысля, выходим из «иллюзорного мира всего лишь мыслимого, приближаемся к действительному». Такие движение и переход Ясперс называет «транс-
Часть IV. (лава 1. Ханна Арендт об экзистенц-философии
н е. Мотрошилово Шй /Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-времп-любовь
216
цендированием», напоминает X. Арендт. «Трансценденция» в себе есть шифр. А распознается он только в «Scheitern», что означает охваченность бедами, приближение к краху, падению, опасности, т. е. снова к чему-то подобному крайним, пограничным ситуациям.
X. Арендт добавляет: эти «Scheitern» у Ясперса не равнозначны тому, что Хайдеггер называет «Verfall» и понимает как отпадение, падение, пропадание в бездне ничто. «Это многосторонне описываемое Ясперсом, психологически объяснимое, но никогда не структурно необходимое (как у Хайдеггера) отпадение от собственно человеческого бытия. Внутри философии Ясперса всякая онтология, которая утверждает, если можно так выразиться, что бытие в собственном смысле есть (ist), означает соскальзывание с высоты абсолютизации отдельных бытийных категорий. Экзистенциальный смысл такого соскальзывания состоял бы в том, что подобная философия приносит такую свободу, которая имеется лишь в случае, если человек не знает, чем, собственно, является бытие » (S. 44).
Подобные пограничные ситуации и поведение человека в них свидетельствуют об ограниченностях экзистенции; они по-своему необходимы, потому что обнаруживают трудную принуду преодолеть все способы чисто мыслительного бегства от действительности и все же опереться на человеческую свободу. Ясперс, согласно X. Арендт, приблизился «ко всем фундаментальным вопросам сегодняшней философии, пусть и не ответив хотя бы на один из них результативно и окончательно. Он как бы предначертал современной философии пути, по которым она должна двигаться, если не хочет попасть в тупики позитивистского или нигилистического фанатизма» (S. 45).
В вопросе о том, что гарантом выхода из этих тупиков не могут стать несколько подновленные, но по сути своей традиционные пути онтологических поисков, X. Арендт полностью согласна с Ясперсом. Все «магические» слова вроде терминов «бытие», «субстанция» и т. п. и игра с ними тоже не принесет помощи философии и культуре. Ведь философия, ведущая такую игру, одновременно помнит о «разорванности бытия», о чувстве чуждости миру, об «утрате родины» — человеческого мира. Нет сомнения, обо всем этом можно и надо говорить, но следует и искать выходы, настаивает X. Арендт.
Ясперс предложил такой выход — в понятии «Umgreifendes», «всеобъемлющее», где проглядывает, считает она, ббльшее, чем человек и его ограниченный мир, его могущество и попечительство. Ибо в пограничных ситуациях человек познает, ощущает и все «ограниченности, которые непосредственно принадлежат к условиям его свободы и к основаниям его действия. Исходя из них он может „высветить” (erhellen) свою экзистенцию, уяснить, что он может и чего не может сделать, и тем самым может перейти от только „результирующего бытия” (Resultatsein) к „экзистенции” — а последняя у Ясперса есть еще одно обозначение для бытия человека» (S. 46-47).
Решающим для Ханны Арендт является то преимущество философии Ясперса, что «экзистенция», бытие отдельного человека, берется, пишет она, только в теснейшем единстве с «коммуникацией и знанием о других экзистенциях. Ближние понимаются не в качестве пусть и струк-
турно необходимого элемента экзистенции, но создающего помехи для бытия самости (как у Хайдеггера); напротив, лишь в совместности людей, действующих в [равно] данном им всем мире, экзистенция только и может развиваться. «В понятии коммуникации в основе заключено еще не полностью развитое, но в потенции новое понятие человечества как условия для экзистенции [отдельного] человека. Внутри „объемлющего” бытия люди во всяком случае движутся совместно друг с другом; и они не гонятся за фантомом самости (des Selbst), не живут в гибридной безумной надежде стать чуть ли не Бытием как таковым. Благодаря существующему для человека движению мыслящего трансцендирования и связанному с этим потрясению (Scheiterns) мышления достигается по крайней мере то, что человек как „господин своих мыслей” остается отнюдь не только всем тем, что он мыслит, — и это, вероятно, было бы основополагающим условием для новой дефиниции человеческого достоинства. И человек с самого начала определялся бы как существо, которое есть нечто большее, чем его самость, и которое хочет чего-то большего, чем быть самим собой. Тем самым экзистенц-философия вышла бы из периода [эгоистического] сосредоточения на самости (Selbstlichkeit) » (S. 47).
Так заканчивается ранняя брошюра X. Арендт об экзистенц-фи- лософии, главным образом немецкой. Она завершается, как мы теперь видим, различением и даже противопоставлением учений Хайдеггера и Ясперса. Первое, считает X. Арендт, запуталось в тупиках онтологии, не просто сосредоточенной на бытии человека, но и высокомерно-высокопарно предлагавшей возвести его в ранг мерила бытия как такового. Второе учение, предложенное Ясперсом, по крайней мере содержало в себе, по оценке X. Арендт, потенциальные возможности выхода к новым горизонтам также и философии бытия, к философии вообще — благодаря понятиям и категориям, позволяющим создать также существенно обновленную философию человека, которая была бы построена на более скромных и реалистических основаниях и стала бы соразмерной совсем не великим деяниям человека и человечества, и вместе с тем — при учете всей противоречивости человеческих деяний и возможностей — как бы предупреждала глубокие падения и отпадения от человеческого призвания. В послевоенных условиях, о чем мы уже говорили, был также и срочный, предъявленный и философии вызов — конкретно, но и с глубокими теоретическими основаниями уяснить причины и самую суть тоталитаристского, прежде всего нацистского, исторического «падения в бездну» варварства.
Во время написания и публикации разобранной брошюры надежда X. Арендт на преимущественные возможности, внутренние потенции философии Ясперса оставалась на уровне чисто теоретических предположений. Но они были столь мудрыми, обоснованными, провидческими, что очень скоро начали сбываться. Ясперс в целом успешно реализовал некоторые из этих возможностей. Подтверждениями стали его социально-философские, социально-политические, философско-исторические работы послевоенного периода. (Говорить о них здесь сколько-нибудь подробно не предоставляется возможным. Отрадно, что в ясперсовед- ческой литературе вплоть до сегодняшнего дня накопилась масса релевантных этой проблематике исследований.)
217
Часть IV (лава 1. Ханна Арендт об экзисгенц-философии
218
j>
о
о
ю
о
со
о
5
з
а
о
£
CG
±
Для темы нашей книги особо важен следующий исторический факт: Карл Ясперс и его бывшая ученица Ханна Арендт, перед войной и во время нее никак не общавшиеся и не знавшие о мыслительной работе друг друга, сразу после войны, еще до личной коммуникации, наработали сходные идеи, а потом плодотворно встретились на некоторых родственных теоретических путях. После уже описанного возобновления общения в 1945 году они оживленно, предметно, конкретно обменивались мыслями, идеями, произведениями, даже и сходные названия которых свидетельствовали об объективной философской, социальнофилософской перекличке идей (которую я, используя термин Р. Отто, называю «спонтанной параллельностью» и отрабатываю на целом ряде ярких историко-философских примеров из истории западной и отечественной философии. Здесь — дополнение к прежним наработкам).
К. Ясперс и X. Прендт: параллельные исследования 40-50-х годов X X века
Очень коротко о некоторых из этих параллелей. В 1945-1946 годах Ханна Арендт публикует работу «Организованная вина» («Organisierte Schuld »). Само название — красноречивое и оправданное. Вина нацистов, а в известной мере и вина части народа, с энтузиазмом поддержавшей Гитлера и его власть, не была участью «без вины виноватых». X. Арендт убедительно показала, что идеология и политика тоталитарной власти, поведение многих попутчиков планомерно и достаточно сознательно, вменяемо готовили, именно «организовывали» то, что впоследствии было определено, в том числе и на строго юридическом уровне, как система преступлений перед человечеством, приведшая к многомиллионным жертвам и невиданным разрушениям. Получив (сначала английский, а потом немецкий) текст рукописи, Ясперс пишет Ханне о полном одобрении и о том, что уже включил две цитаты из него в одно из своих выступлений от января 1946 года. (Потом Ясперс поспособствует опубликованию немецкого варианта в альманахе «Die Wandlung», «Изменение».) В 1946 году выйдет собственная работа Ясперса на ту же тему — «Вопрос о вине» (К. Jaspers. Die Schuldfrage. Heidelberg, 1946).
К. Ясперс сообщает Ханне о всех своих докладах, статьях, книгах, посвященных сходной проблематике, старается переслать их в Америку. Ханна отвечает тем же: она пересылает учителю, а теперь близкому старшему другу, все те материалы, публикации, в том числе и небольшие, промежуточные, которые восходят к названным животрепещущим конкретным темам «немецкой вины» и к общей проблематике тоталитарного господства.
В частности, Ясперс читает ранние, 1944 и 1945 годов, публикации X. Арендт о «немецкой вине », о расистской идеологии (Н. Arendt. Race — Thinking before Racism// The Review of Politics. Jg. 6. H. 1. Jannuar 1944. P. 36-73). И отзывается на них восторженно. «Я чувствовал себя так, — пишет он Ханне в письме от 10.12.1945 года, — как если бы вдохнул свежего воздуха; ведь я видел нескованность и справедливость и скрытую, почти нигде не проявляющуюся в языке любовь. И только так можно говорить о подобных вещах» (Н. Arendt/ К. Jaspers. Briefwechsel. S. 62-63).
Некоторые из чуть более поздних небольших работ Ханны Ясперс помогает печатать в Германии, в названном близком ему альманахе «Die Wandlung» («Изменение»)1. С другими, более объемными работами X. Арендт этого периода2 Ясперс также знакомится и, как правило, одобрительно отзывается о них.
Самое существенное: упомянутые работы — пропедевтика (или готовые части) опубликованной в 1951 году в Нью-Йорке выдающейся книги X. Арендт «The Origin of Totalitarianism». Что хорошо знает, горячо одобряет К. Ясперс. Так, прочитав опубликованную в июне 1951 года в журнале «Der Monat» (№ 33. Р. 241-258) главу из этой книги, озаглавленную «Тоталитарная пропаганда» (Totalitäre Propaganda), Ясперс отозвался (в письме Ханне от 06.08.1951 года) немедленно: «Главу из Вашей книги, опубликованную в „Monat”, я, естественно, прочел сразу же! Великолепно! Успех этой книги кажется мне само собой разумеющимся. Современность вкупе с отнюдь не само собой разумеющейся, но „старомодной” серьезностью. Когда я обо всем этом думаю, я счастлив»3. Прозорливое, как всегда у Ясперса, предсказание успеха книги дорогого стоит.
Итак, оправданно заключить: по крайней мере на процесс написания центральной работы Ханны Арендт должна была благотворно повлиять упомянутая содержательная коммуникация автора с замечательным учителем и другом Карлом Ясперсом. (В переписке Ясперс и Арендт ярко, документально запечатлены страницы истории этого блистательного духовного взаимодействия двух поистине центральных фигур послевоенного интеллектуального, теоретического и личностного ландшафта.)
После публикации книги Ханны Арендт о тоталитаризме ситуация также и в коммуникации с Ясперсом по существу меняется. В разбираемых ею сюжетах она уже никак не просто ученица прославленного мэтра; X. Арендт сама становится мастером, одним из создателей нового типа и жанра исследований. Что все более четко и ясно осознают и признают те читатели, которые вообще способны были быстро и объективно реагировать на теоретические новшества, одновременно приобретавшие большую, даже беспрецедентную социально-практическую, политическую значимость. Следующая большая публикация, «Vita activa», усилила и подкрепила позиции X. Арендт как выдающегося автора, по существу одного из классиков социальной мысли второй половины XX века. На невидимой шкале духовного, теоретического вклада — с учетом новаторской специфики ее работ, не полностью принадлежавших к сложившимся философским жанрам (о чем подробнее — в дальнейшем), — она объективно заняла место, по крайней мере сопоставимое с тем, которое в философии заняли ее прославленные учителя. Теперь мы и перейдем к (краткой, по необходимости) характеристике крупных произведений Ханны Арендт, не забывая о личном моменте, т. е. о том, оказались ли сами учителя в состоянии освоиться с фактом исторической значимости ее достижений, признанном самой историей.
219
1 Это, например, статья «Об империализме »(Н. Arendt. Über den Imperialismus).
2 Например: H. Arendt. Sechs Essays. Heidelberg, 1948; The Aftermath of Nazi Rule. Report from Germany// Commentary. Jg. 10. Oktober. 1950. P. 342-353; Eadem. Der imperialistische Charakter// Der Monat. 2 Jg. H. 24. September. 1950. P. 509-522.
3 H. Arendt IK. Jaspers. Briefwechsel. S. 208.
Часть IV. (лава 1. Ханна Арендт об экэистенц-философии
mfiBfi 2
Социально-политические произведения и идеи Ханны прендт
О главных социально-политических, социологических сочинениях и идеях Ханны прендт (краткий экскурс)
Далее я предложу читателям сбое резюме главных социально-политических по преимуществу, однако тесно связанных с социальной философией, социологией теоретических идей, концепций Ханны Арендт. Это именно резюме, ибо чего-то большего невозможно сделать в рамках (относительно) компактной книги, посвященной особой тематике. И далее предлагается именно мое резюме, потому что оно, во-первых, сообразовано с особыми, частными и ограниченными функциями такого анализа в рамках нашего целостного рассмотрения, а во-вторых, оно презентирует сложившееся у меня и уже в контексте событий, идей XXI века понимание того главного, что «наше время» может и должно почерпнуть из богатого идеями, мыслями, разработками, догадками наследия выдающегося мыслителя XX столетия Ханны Арендт.
Вот почему надо предупредить читателей, в какие цели и рамки целостного анализа данной книги вписано нижеследующее рассмотрение мира социально-политических идей и концепций Ханны Арендт.
Есть личное, одновременно и теоретическое обстоятельство, объясняющее мой интерес и особый подход к наследию Арендт (также и независимые от целей именно этой книги). (Об этом ранее уже упоминалось, и теперь я в очень краткой форме должна суммировать сказанное.) Так получилось, что общее (и, к сожалению, сначала поверхностное) знакомство лишь с некоторыми работами Ханны Арендт далеко опередило в моем профессиональном становлении более глубокое ознакомление с основным массивом ее произведений и тем более со специальными «арендтоведческими» сочинениями. (Теперь я вижу, что в ряде случаев это было досадным для моей работы упущением. Так, анализ античной цивилизации как основы для возникновения древнегреческой философии, развернутый в моей книге «Рождение и развитие философских идей» (1990, второе издание — 2011), можно было бы подкрепить и обогатить целым рядом красивых идей и находок из книги Арендт «Vita activa».) Вместе с тем теперь, когда эта работа в определенной мере была мною проделана и осталась отделенной от сегодняшнего дня более чем двумя десятилетиями, мне оказались особенно близки освоенные позже (релевантные по темам и подходам) линии исследований Ханны Арендт и примыкающих к ее работам современных арендтоведов.
В целом же преимущество наших дней (в конкретном случае освоения наследия X. Арендт) состоит в том, что сейчас, в уже состоявшемся мировом дискурсе, яснее и полнее обозначились подходы «pro» и «contra» в отношении идей и концепций Ханны Арендт. На этот дискурс я и попытаюсь опереться, обозначая особенности своей позиции.
• Я принадлежу — что, надеюсь, стало ясно из предшествующего повествования, — к числу тех, кто весьма высоко оценивает идейный, теоретический, ценностно-моральный, публицистический вклад Ханны Арендт в историю мысли XX века. И кто к тому же не ограничивает влияние ее идей только XX столетием. Впрочем, высокая оценка все же объединяет не только ее восторженных почитателей, но и суровых критиков как в прошедшем, так и в нашем веке. Мнение о том, что Ханна Арендт принадлежит к числу выдающихся мыслителей XX века, в литературе высказывается единодушно.
Дальнейшее рассмотрение ее идей, включая социально-политические концепции, определяется более сильной оценкой. Полагаю — и постараюсь подтвердить это в дальнейшем, что десятилетия, прошедшие после опубликования главных сочинений Ханны Арендт, хоть и заставляют уточнить, исправить, дополнить, а порой оспорить отдельные ее формулировки, но одновременно подтверждают новую актуальность, даже повышающуюся ценность ее принципиальных подходов, разработок, идей.
В данном резюме, в соответствии с общей философической тематикой данной книги, во-первых, будут особо акцентированы также и философские, историко-философские, философско-исторические элементы в той комплексной (выражаясь более современным языком) междисциплинарной целостности, какой является корпус сочинений этой выдающейся исследовательницы. Высочайшая философская культура выгодно отличает также и ее социологические, социально-политические работы от писаний тех авторов, которые не прошли столь же основательного философского, историко-философского обучения (и даже аррогантно объявляют, будто таковое сковывает-де их «самостоятельную творческую мысль»). Во-вторых, здесь, как и в предшествующей части книги, специально высвечивается переплетение нитей, сложнейшим образом и соединяющих ее творчество с теоретическим, а также личностным «миром Хайдеггера», и противопоставляющих ее подходы хайдеггеровским идейным предпосылкам, установкам, результатам.
• Конкретные замыслы данного раздела определяются еще одной суммой обстоятельств. А именно тем, сколь мало освоено к настоящему времени наследие Ханны Арендт именно в российском культурном, интеллектуальном пространстве. Дело не только в малочисленности добротных арендтоведческих специальных исследований, а также качественных переводов главных сочинений X. Арендт. О чем говорить, если даже имя этой выдающейся исследовательницы незнакомо у нас множеству, если не большинству вообще-то читающих подобную литературу людей (причем и тем, кто получил высшее образование и кто, скажем, хотя бы слышал о Хайдеггере и Ясперсе). Есть объективный запрос в российском культурном пространстве на компактное, популярное в хорошем смысле и достаточно ясное воспроизведение главных идей Ханны Арендт, особенно тех, которые выдержали испытание временем и могли бы плодотворно участвовать в постановке и осмыслении самых жгучих, неотложных проблем современности.
Социально-философские, философско-исторические, социально- политические идеи и концепции Ханны Арендт включают — причем в
Часть IV. Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
H.e. Мотрошилово H Мортон Хайдеггер и Ханна прендт: бьгтие-время-любовь
222
качестве фундаментальных построений — несколько исходных различений, противопоставлений, антиномий, которые более подробно вводятся, обосновываются в той или иной работе, но наподобие своего рода направляющих теоретико-методологических нитей протягиваются через все ее главные произведения. Удачное их резюме дает Хауке Брункхорст, известный западный исследователь. «В любой из главных работ X. Арендт, — пишет он, — пара-другая центральных дистинкций направляет всю аргументацию и обеспечивает концептуальную архитектуру для ее описаний соответствующих феноменов. В „Происхождении тоталитаризма” такую структурирующую роль играет различение между „народом” и „чернью, плебсом” (mob — англ., das Mob — нем. — Н. М.) — контраст, корни которого в свою очередь залегают в различении (проведенном Гегелем, и другими авторами) между „государством” и „гражданским обществом”. В „The Human Condition” ключевой является аристотелевская дистинкция между изготовлением, „фабрикацией” (fabrication/poisis) и „дейсмвовамием” (action/praxis), которая присоединяется к родственному различению между „домашним” действием, или экономической сферой (oikos), и сферой публичности, или политического действия (polis). В работе „О революции” центральным является контраст между политической свободой и социальной эмансипацией (или освобождением от нищеты и угнетения), в то время как в длинном эссе „О насилии” (On Violence) это различие между властью ассоциированных граждан и „насилием” „сильного [своей властью] одного человека”, деспота или революционного террориста. И наконец, в книгах „The Life of Mind” („Жизнь мысли”) и „Eichmann in Jerusalem” („Эйх- манн в Иерусалиме”) и в лекциях „Политическая философия Канта” центральной является дистинкция между „здравым (общим) смыслом” (sensus communis) и „приватным смыслом” (sensus privatus), воображением и дедуктивной мыслью, независимым суждением (или способностью мыслить не по правилам) и полным конформизмом по отношению к „банальным” индивидам»1. Это подытожение считаю удачным, тем более что оно включает перечисление основных работ Ханны Арендт, посвященных социально-политической и также социально-исторической, социально-философской проблематике.
С этими предуведомлениями приступаю к (очень краткому) анализу главных социальных, политических идей и произведений Ханны Арендт, продолжая располагать теоретический материал также вокруг истории жизни, личностных взаимодействий главных героев нашего повествования.
Понптие и концепций тоталитаризма у X. Врендт
Уже упоминалось о том, что в 1951 году читающая публика (не только в США, но и в странах Европы) получила в свое распоряжение книгу Ханны Арендт «Происхождение тоталитаризма». В первоначальном, английском варианте она называлась «The Origin of Totalitanam'jw» (co- кращ. — ОТ). В соответствии с законами английского языка писалось слово «тоталитариа«изм». Но потом в других языках, включая русский,
1 Н. Brunkborst. Equality and elitism in Arendt // Cambridge Companion Online. Cambridge University Press, 2006. P. 178-179.
оно стало звучать как «тоталитаризм», что в большей мере согласовывалось с немецким термином «der Totalitarismus». В немецком варианте книга, вышедшая в том же году, называлась «Элементы и истоки тотального господства» («Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft»)1 2.
Сначала — о самом термине. Его Ханне Арендт не пришлось придумывать. Слово-термин уже как бы носилось в воздухе культуры — и в жизненном мире, и в научной литературе, появляясь также в философско-теоретических работах. Однако именно X. Арендт была среди первых, если не самой первой, кто придал этому слову теоретико-ионя- тийный, терминологический смысл и кто соединил его, уже в качестве социально-политическо-философской категории, с разработанной, многослойной теорией тоталитаризма1.
Каковы же исторические истоки, главные идеи, исходные принципы, актуальные также и сегодня теоретические достижения концепции тоталитаризма Ханны Арендт?
• Размышления X. Арендт о конкретных исторических истоках тоталитаризма
Все пишущие об этой концепции сходятся на том, что главной исторической реальностью, заставившей X. Арендт и других авторов после Второй мировой войны разработать комплексный идейно-методологический инструментарий как бы под зонтиком понятия «тоталитаризм», стали: особая система власти, специфический образ жизни (с соответствующими идеологическими, идейно-ценностными элементами, формами поведения и сознания), которые в наиболее концентрированной форме сложились и проявили себя в сильнейшем негативном историческом действии в странах Европы в 30-х, 40-х и даже в 50-х годах XX века. Эпицентрами тоталитаризма, по почти единодушному суждению специалистов, стали Германия и СССР (хотя метастазы наблюдались в других странах). Мы уже видели, что Ханна Арендт была среди тех, на кого в германском эпицентре обрушились грубые, подчас смертельно опасные преследования тоталитарной системы. Об оскале тоталитаризма она знала, следовательно, не понаслышке. Здесь, считаю, был очень важный пункт. Одно дело, когда о тоталитаризме «академически» судят люди в нетоталитарных странах или в уже нетоталитарные времена, а другое дело, когда до его корней
1 Далее при цитировании используется принятое в литературе сокращение: ТН для немецкого текста — с указанием страниц или глав — по следующему изданию: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 9 Anfl. München, 2003.
2 Новаторская, «пионерская», как говорят на Западе, роль работы X. Арендт подтверждается хотя бы таким фактом: книги, содержащие в своих заголовках слово «тоталитаризм», довольно активно публиковались в первой, а особенно во второй половине 50-х годов XX века. Но почти все они появились не просто позже, но на несколько лет, позже ТН. Вместе с тем специалисты обращают внимание на работы, появившиеся ранее, чем книга X. Арендт о тоталитаризме, и анализировавшие родственные по сути феномены в несколько иной терминологии. Это, например, опубликованная уже в 1945 году и теперь широко известная книга К. Поппера «Открытое общество и его враги» или менее известная работа Э. Кассирера «Миф государства» («Der Mythus des Staates». Zürich; München, 1946). Еще до названных арендтовских работ появились важные сочинения, например книга Орвелла «1984 (год)», в форме литературной утопии «спроектировавшая» как бы стопроцентное тоталитарное общество.
Часть IV. (лава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
224
КО
&
X
<г
о
£
CD
хотят страстно, тревожно доискаться люди, так или иначе ставшие непосредственными жертвами тоталитаристских порядков. Если им удавалось выжить, то могли ли они забыть (и можем ли мы, их потомки, забыть) о всей тягостно-высокой мере пережитых ими поистине смертельных опасностей, лишений, страданий, духовных надрывов, разочарований? Оправданно утверждать (вместе с другими авторами): X. Арендт отчасти и потому сумела так глубоко проникнуть в истоки, смысл, главные стороны и аспекты, последствия тоталитаризма, что она все это перестрадала, перетерпела на собственном горьком жизненном опыте, зная о еще более тяжком, трагическом опыте миллионов людей, погибших в застенках, лагерях и на полях войны, развязанной тоталитарными системами. Тоталитаризм принес неисчислимые беды и ее народу (в данном случае имеются в виду не только евреи, но и немцы), а также другим пострадавшим странам и народам.
Поэтому один из первых неотложных общих вопросов, которые она поставила и на которые настойчиво искала ответы, касался прежде всего нацистского бедствия, обрушившегося на Германию уже в 20-х, но массированно и необратимо — в 30-40-х годах XX века.
И вот тут обнаружились вся глубина, необычность мысли и анализа Ханны Арендт.
К началу 50-х годов, т. е. ко времени выхода в свет ее книги, сложилось довольно устойчивое стремление свести истоки и главные причины тоталитаристской практики, когда речь шла о Германии, к правлению Гитлера и его пособников. А поскольку Гитлера уже не было, поскольку некоторых исполнителей наиболее бесчеловечных деяний уже осудили на Нюрнбергском процессе, а кого-то после казнили, поскольку хоть как-то наказали и некоторых непосредственно не причастных к массовым злодеяниям «попутчиков» (включая Хайдеггера), — постольку вопрос «Кто виноват?» вроде бы считался снятым с повестки дня. Ханна Арендт была среди исследователей, категорически несогласных с подобными решениями и подходами. Конечно, и она всегда исходила из необходимости четко зафиксировать, доказать вину, ответственность, злодеяния верховной нацистской власти, ее отдельных представителей. В частности, в 1963 году она написала специальную работу по следам процесса над Эйхманном — «Эйхманн в Иерусалиме». Но такое фиксирование она, во-первых, считала далеко недостаточным. Во-вторых, на примере эссе об Эйхманне (подробнее о котором — дальше) можно видеть, насколько нестандартно она подходила и к данному, и к сходным историческим случаям и сколько вражды, ненависти (скажем, ряда сионистских авторов и организаций) она навлекла на себя оригинальными оценками, акцентами, содержавшимися в ее case study об Эйхманне. Еще труднее было решать фундаментальные вопросы теории и практики, которые собирались в весьма трудные проблемные узлы.
Корень таких проблем и их особую трудность она видела в том, чтобы в единой системной связи осмыслить целый комплекс вопросов — о том, как и почему (в разных странах) в этот период истории сложилась и одержала свои внушительные победы уже в довоенное время, а потом развязала войну система власти, названная тоталитарной.
Притом в ответах на подобные глубинные вопросы, поставленные и другими авторами, Ханна пошла своим, оригинальным путем, предложив беспрецедентно масштабный, многомерный, комплексный анализ. Но прежде чем перейти к доказательству и раскрытию высказанных тезисов, вернемся к арендтовским осмыслениям немецкого опыта. В дополнение к тому, о чем уже шла речь раньше (например, о ее правдивом свидетельстве, согласно которому в Германии к 1933 году не действия Гитлера и гитлеровцев стали, и не только для нее лично, наибольшим шоком, а конформистское поведение как будто еще не фашизированных слоев населения), обращу внимание на следующие идеи и выводы X. Лрендт, которые одновременно имели вид конкретно-исторических свидетельств и теоретических рассуждений об отличительных признаках тоталитаризма.
• X. Арендт, в унисон с другими авторами и в согласии с очевидными фактами, только после войны ставшими известными во всем мире, высветила такие исторически новые, беспрецедентные феномены, как невиданная даже в самые жесткие и кровавые времена истории массовость — многомиллионных — жертв, к которым, разумеется, были причастны верхушка и непосредственное руководство власти, названной властью тоталитарной.
При этом X. Арендт, осуществляя исторические сопоставления, выразила несогласие с теми историками, теоретиками, которые сближали, даже отождествляли тоталитарную власть с различными видами тирании, сильной единоличной власти, имевшими место в предшествующей истории. Она настаивала, в частности, на том, что в прежние времена истории тирания была особой формой, одним из проявлений сильной власти, тогда как в рамках тоталитаризма подавление, насилие, уничтожение стали самой сутью, главной целью и основным деянием тоталитарных режимов. Еще одно весьма уместное рассуждение X. Арендт: если в прежние времена тираническая, диктаторская власть безжалостно обрушивала свои удары главным образом на тех, кого было (более или менее) оправданно считать ее врагами, то тоталитаризм — вопреки здравому смыслу, разуму, соображениям выгоды, пользы, эффективности и т. п. — преследовал население в целом, путая огромные массы невинных, даже лояльных людей с (немногими) действительными противниками своих режимов. Эту особенность аргументации X. Арендт точно, близко к текстам суммировала Дана Р. Вилла, известный современный исследователь арендтов- ского наследия: «...Когда X. Арендт подытоживала черты тоталитарных режимов (и их „центральных институтов”, концентрационных лагерей), она подчеркивала, в сколь малой степени стратегическая рациональность управляла в этих режимах использованием средств террора. Не враги режима (а они по сути уже устранялись в периоды, когда тоталитаристы только пробивались к власти), но целые специально отобранные слои населения (евреи, цыгане, гомосексуалисты, интеллектуалы, состоятельные крестьяне) уничтожались уже после утверждения власти тоталитарных режимов. Большие группы населения изгонялись с прежних мест их жизни, что делалось со ссылкой на предполагаемые законы природы и истории, которые сводили все историческое развитие к якобы фундаменталь- 88 694
Часть IV. (лава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
226
«9
O'
>s
a
z
i
о
3
a
о
£
ной „реальности” войны между расами и классами»1. Об идеологических «аргументах» национал-социалистической (или сталинистской) тоталитарной власти говорить пока подождем. Сейчас продолжим разговор о характерной для тоталитаризма и, по мнению X. Арендт, беспрецедентной для истории системе действий.
Нельзя было не заметить — именно в гитлеровской Германии — как раз систему мер, деяний, процедур, акций, которая вылилась в беспрецедентную политику расистского преследования и беспрецедентно массового уничтожения людей. Наиболее впечатляющим кровавым результатом явился холокост, т. е. преследование и целенаправленное уничтожение миллионов евреев, геноцид, т. е. стремление тотально уничтожить эту нацию. Неверно при этом забывать, что четко выраженная в «Mein Kampf» (раннем произведении Гитлера) идеология «оправдывала» также уничтожение или порабощение славянства и, став впоследствии программой действий, тоже привела к многомиллионным жертвам, к войне на территории государств, население которых по преимуществу или частично имело славянские корни. На всем этом, хорошо известном историческом материале вряд ли требуется специально останавливаться. И Ханне Арендт в начале 50-х годов уже не нужно было повторять, акцентировать общеизвестные факты или бороться за их справедливую оценку и осуждение. Но их еще нужно было теоретически осмысливать в их максимально возможной полноте и целостности.
И вот в таком преимущественном стремлении к глубинному слою теоретического осмысления проявилась тенденция, делающая теорию, разработанную X. Арендт, пригодной и тогда, когда появляются другие факты, пусть не такие масштабные и кровавые, но свидетельствующие о сходных кризисных процессах в развитии тех или иных обществ. Так, когда сегодня в России и других странах возникают кризисные процессы (вроде нищеты, коррупции), когда ищут их истоки и причины, то нередко удовлетворяются как конечными и исчерпывающими ссылками на произвол, неэффективность, коррумпированность властей. Между тем согласно духу и букве учения X. Арендт требуется ответить на следующий вопрос: а почему устанавливаются (в отдельных странах и во всем мире) именно такие формы, системы власти?
• К такой группе вопросов X. Арендт и обратилась в книге «Происхождение тоталитаризма», выстроив применительно к осмыслению тоталитарных режимов такую теорию, которая позволила понять истоки, причины и гитлеризма, и сталинизма, и других, например, возможных в будущем форм тоталитаризма. (А ведь никто не станет утверждать, что в будущем тоталитарные формы власти и жизни полностью исключены.)
Специально о книге X. Арендт «Элементы и истоки тоталитарного господства»
В кавычках в заголовке — название немецкого перевода английского варианта книги «Происхождение тоталитаризма», как я думаю, более точно передающее ее замысел, теоретическое содержание и значе¬
1 D.R. Villa. Introduction: the development of Arendt’s political thought // Cambridge Companion Online. Cambridge University Press, 2006. P. 2.
ние. Книга эта весьма объемистая — около 1000 страниц. Она делится на три больших раздела: I — Антисемитизм; II — Империализм; III — Тотальное господство.
Я вынуждена (почти) полностью отвлечься от I и II разделов этой книги и сосредоточиться только на III разделе, да и то лишь на отдельных его моментах, всего ближе стоящих к проблематике моей работы.
Прежде чем это осуществить, хочу сделать существенное предварительное замечание, касающееся имеющихся исследований темы и возможного восприятия моих дальнейших рассуждений. Замечание относится скорее не к профессиональным исследователям наследия X. Арендт и темы тоталитаризма, которым мои краткие обобщения вряд ли скажут что-либо принципиально новое, а к тем читателям, которые специальными профессиональными знаниями на эту тему не обладают. Но и им, полагаю, некоторые теоретические открытия Ханны Арендт относительно тоталитаризма — особенно при их суммировании — покажутся неплохо знакомыми мыслями и тезисами. Причина довольно проста: мало какие теоретические идеи так широко воспроизводились, так часто повторялись и использовались также и в массовом сознании, как те, что были впервые выработаны в рамках концепций, пояснявших сущность и специфику тоталитаризма, тоталитарной власти и других феноменов тоталитарных систем. О том, что именно идеи Ханны Арендт были у истоков и в центре таких концепций, а потому часто использовались и были признаны классическими, уже говорилось.
В книге же, о которой идет речь, они — в глубокой, систематической теоретической форме — выстраивались впервые и были тогда новыми, оригинальными. Они, конечно, соприкасались и перекликались с идеями ряда других авторов, предшественников и современников (вопрос, подробное рассмотрение которого мы вынуждены оставить в стороне). Но даже для таких выдающихся авторов, как Карл Ясперс, книга X. Арендт была большим новшеством. О широкой публике нечего и говорить.
В проблематике, охваченной (относительно) новым понятием «тоталитарного господства», X. Арендт выделяет ряд структурных элементов, без которых вряд ли можно было описать, тем более понять суть этого совокупного феномена, который, начиная с 20-30-х годов XX века, угнездился, и для многих неожиданно, в таком как бы «цивилизованном» центре тогдашнего человечества, каким была Европа.
Примечательной, бросавшейся в глаза его чертой стал террор, причем в особой форме. «Террор, — пишет в своей книге X. Арендт, — стал специфически тотальной формой правления правительства»1. Иными словами, это был не (уже знакомый истории или в наши дни опять вспыхнувший) террор, развязываемый отдельными лицами и экстремистскими группами, а используемый преимущественно правительственными структурами. Больше того, первые лица таких стран, государств — их «фюреры» — становились и главными источниками, распорядителями террора. Они опирались на целую когорту главных исполнителей террора и мощные экзекутивные структуры. Иными словами, террор над населением страны повседневно, практически, целенаправленно осу-
227
1 Н. Arendt. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. München, 2003. S. 727 (далее цитаты по этому изданию даются с указанием страниц после сокращения ТН).
8*
Часть IV. Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
Н-В.'Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытне-время-любовь
228
ществлялся и через сложную, для своих целей «отлаженную», «эффективную» систему институционализированных и иных звеньев слежки, власти, подавления.
• Невиданными даже для жестокой человеческой истории были масштабы террора власти, целостность подчинения ей, ее контроля за населением. Власть и жесткий, насильственный контроль стали именно тотальными, откуда и произошло название системы — «тоталитаризм». «Террор, — пишет X. Арендт, — становится специфической тотальной формой правления (или формой правительственной власти — Regierungsform. — Н. М.)» (TH. S. 727). Традиционное немецкое слово «Totalität», в прежние века имевшее нейтральный, часто абстрактный смысл и философское употребление (скажем, его часто использовал Гегель для абстрактного обозначения универсальной целостности), в теориях тоталитаризма приобрело сугубо негативное, даже устрашающее содержание. Оно соответствовало реальному свойству тоталитарных режимов — беспрецедентной для истории (как отмечено, даже для ее в чем-то сходных сыскных, надзирающих, карающих тенденций, появлявшихся в отдельные исторические периоды) универсальности, повседневности, всепроникающему, т. е. именно тотальному характеру как непосредственных акций террора, приведшего к уничтожению миллионов людей, так и всей системы подготовки, исполнения совокупных, взаимосвязанных террористических действий.
Здесь приходится отвлечься от всех деталей тщательнейшего анализа у X. Арендт институционально, официально «узаконенных» чудовищных структур террора, таких как концентрационные лагеря и предварительные сыскные, «судебные » и иные процедуры. Скажем только о существенных идеях. Вот главные свидетельства X. Арендт о немецких концлагерях. Сначала, когда лагеря были в ведении служб SA, их наводнили политические узники, которых держали в поистине нечеловеческих («зверских») условиях и подвергали грубому насилию. Потом «методы» лагерного насилия стали более изощренными. Слово Ханне Арендт: «Собственно чудовищное, что относится к лагерям, это как раз следующее: спонтанное озверение — после того как управление лагерями взяли на себя службы SS — отступило на задний план, а на передний вышло абсолютно холодное, абсолютно рассчитанное и систематическое разрушение человеческого тела — с целью разрушения человеческого достоинства...» (TH. S. 932). Свидетельства о концлагерях в СССР — не менее трагические.
Констатация беспрецедентных для истории тотальности, всеохват- ности, массовости жертв террора заставляла Ханну Арендт и других исследователей поставить вопрос не только о власти и ее структурах, готовивших и исполнявших акции террора, но и о том, какова была опора всей властно-правительственной системы. А она тоже не имела прецедентов в прежней истории.
Отсюда важнейший и ценнейший элемент теории тоталитаризма Ханны Арендт — пристальное внимание к той тоже невиданно массовой силе, которая поддержала тоталитаристские структуры власти и составила не менее прочное основание их хотя бы временного могущества, нежели привлекшие такое внимание тоталитарные «секретные службы»
надзора, сыска, контроля или карающие институции типа концлагерей, лагерей смерти.
Приходилось учитывать простой факт: для того чтобы провести в жизнь все процедуры и экзекуции, приведшие к страданиям и уничтожению миллионов людей, нужны были по меньшей мере сотни тысяч тех, кто выполнял свои функции надсмотрщиков, конвоиров, тех, кто лично, конкретно исполнял расстрельные приказы, кто судил и приговаривал к смерти. А также тех, от кого исходили тайные и открытые доносы, кто «выражал возмущение» от имени народа и т. д. Еще больше было тех, кто во имя сохранения жизни — своей и своих близких — предпочел молчание, конформизм. Эту тему в освещении X. Арендт разберем подробнее.
• «The Mob» как предпосылка и массовой опора тоталитарного господства
X. Арендт ставит вопрос в прямой и острой форме: почему эти названные выше «массы» в периоды взлета тоталитарных режимов не просто подчинялись им, но подчас были их фанатичными соучастниками? И каковы истоки, отличительные черты жизни, поведения, сознания этих слоев? В поисках ответа на подобные вопросы Ханна Арендт подробно проанализировала и объективное положение, и психологию массовых слоев тоталитарных обществ, опираясь, в частности, на свое «включенное наблюдение» над историей Германии 20-30-х годов XX века. Исследовательница Маргарет Канован справедливо отмечает: «Арендт придерживается того мнения, что большинство из завербованных в тоталитарные движения принадлежат к особой „массе”: это лишившиеся корней, дезориентированные люди, которые уже не имеют ясного чувства реальности или чувства собственного интереса, потому что мир, в коем они живут, разрушен бедствиями безработицы, инфляции, войны и революции. Но такие условия — лишь одна сторона более широкого опыта „неприкаянности”. Эти беспомощные, пассивные люди идеально подходят для того, чтобы стать массовыми участниками тоталитарных движений. Лидеры и активисты вербуются из групп людей, оказавшихся „лишними”, неприкаянными (superfluous), из тех, кого Арендт называет „чернью” („the mob”), — из преступного и придонного мира, созданного динамизмом экономического развития»1. Это суммирующее описание близко к арендтовским текстам. Термин «the mob» (существительное пишется одинаково и на английском, и на немецком — der Mob) по-русски можно передать по-разному, в том числе так знакомыми нам словами «дно», «на дне» (когда имеется в виду социальное дно). Вот что пишет X. Арендт: «Дно (der Mob) составляется из исех деклассированных людей. В нем представлены все классы общества. Это народ в карикатурном виде, и поэтому представителей дна легко спутать с народом. И если народ во время революций борется за руководство нацией, то дно в других восстаниях шествует вслед за сильным человеком, который может вести за собой (вести — fuhren; отсюда „фюрер”.—Я. М.)» (ТН. S. 247).
1 М. Canovan. Arendt's theory of totalitarianism: a reassessment// Cambridge companion. P. 31.
Часть IV. (лава 2.
230
•О
ca
v8
2
vo
&
о
a
о
Э
8.
о
. £
со
±
Хочу особо подчеркнуть: понятие «der Mob» (the mob) — важнейшее в словаре социально-политической философии X. Арендт — в высшей степени актуально сегодня, причем во всем мире, в том числе в России. В наших же условиях особо следует иметь в виду эти осевшие на дне жизни массы людей и очень опасаться грозного разрастания «социального дна» и придонного слоя. По разным оценкам, у нас оно насчитывает от 10-15 до 21 % населения, людей трудоспособного возраста, по разным причинам оказавшихся на дне: это крушение, распад, деклассирование, во многих случаях подразумевающие — ив городе, и в деревне — вряд ли излечимый алкоголизм1. X. Арендт в своих размышлениях о таких людях совершенно права, и ее выводы горько подтвердил опыт истории: при любом глубоко кризисном историческом повороте крайние экстремистские социально-политические движения обретают в подобной массе свою практически готовую опору. Между тем официальная политика, социальная практика, идейная программатика — в политических сферах разных стран — часто как бы игнорируют судьбы этих опустившихся, глубоко недовольных, ожесточившихся людей. Социально-экономические кризисы, особенно если они затягиваются, повторяются и усиливаются, могут привести — при появлении активных и популярных экстремистских лидеров — к грозным социальным взрывам.
Чрезвычайно важную роль в системе тоталитарного господства играла — и соответственно пользовалась особым вниманием власти, ее фюреров и приближенной политической элиты — тоталитарная идеология.
• X. Арендт о специфике тоталитарной идеологии
Исследователи, изучавшие рассмотрение этой проблематики в работах X. Арендт, обратили внимание на тщательность ее анализа, необычность и подчас парадоксальность выводов. Здесь возможно воспроизвести, разобрать лишь основные наблюдения, тезисы, доводы исследовательницы, чаще всего говоря о них уже на современном теоретическом языке.
X. Арендт подчеркнула: тоталитарные идеологии создавались, разрабатывались столь «обдуманно», целенаправленно — по отношению к целям тоталитарных сил и задачам их господства, что в результате, причем беспрецедентно «быстро» для обычного хода истории, возник целый новый идеологический мир. Это был мир фиктивный, именно ложно-идеологический, не без «ловкости» склеенный из многих элементов, идей, отчасти подхваченных, заимствованных из прежней идейной истории, но в еще большей мере жестко-преобразованных. К ним были также прибавлены относительно новые, в Германии именно национал- социалистические идеологические «инновации».
Формирование этого мира идей изначально предполагало некоторое использование тех или иных знаний. Но сразу надо сказать, что главным было тенденциозное перетолкование таких знаний, часто превращавшееся в прямое искажение, осуществляемое нагло, без каких бы то ни было оглядок на цивилизованные правила обращения с идеями
1 Подробнее об этом см.: Н.В. Мотрошияова. Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов. М.: Канон+, 2010. С. 192 и др.
и знаниями, скажем, с научными теориями. Какие знания были «задействованы» в нацистской идеологии (как и в других идеологических системах, «обслуживавших» тоталитаризм)? Приходится признать, что паразитирование на идеях и знаниях в тоталитарных идеологиях было достаточно широким1. Использовались знания о человеке, его биолого-антропологических особенностях, о развитии общества, о просчетах тех или иных социальных сил, о запросах и трудностях межвоенного социально-исторического развития мира вообще, Европы в частности, униженной, бедной Германии в особенности. По отношению к знаниям, идеям, рассеянным по различным отраслям науки и культуры, предлагалось, как сказано, такое их тенденциозное «извлечение » и толкование, которое было именно их перетолкованием, частенько — фальсификацией, не озабоченной критериями сколько-нибудь серьезной доказательности и, наоборот, задействовавшей, с одной стороны, наинаглейший произвол.
С другой же стороны, формирование и пропаганда тоталитарной идеологии сопровождались широковещательными претензиями на то, что наконец-то добыты «подлинные истины». X. Арендт кратко показывает это на примере идеологического «оснащения» самого оголтелого расизма: речь идет о «доказательствах» необходимого-де, якобы диктуемого самими «законами» природы тотального уничтожения «неполноценных» рас, народов, индивидов. «Практически это значит, — пишет X. Арендт о сути таких рассуждений, — что в связи со смертными приговорами, которые природа якобы вынесла „неполноценным расам” и „жизненнонеспособным” индивидам, а история „отмирающим расам” и „декадентским народам” здесь и сейчас, так вот, террор в связи со всем этим не дожидается, пока развернется более медленный процесс уничтожения благодаря самим природе и истории» (ТН. Б. 958 — в малых кавычках X. Арендт воспроизводит ходячие термины нацистской идеологической продукции).
Сколь бы маскировочными ни были подобные «фиговые листочки» тоталитарных идеологий, они выполняли свои функции — особенно в таких странах, как Германия или Россия, где естественные науки исторически пользовались немалым уважением. Эти страны подарили миру крупных ученых-естествоиспытателей. Поэтому фальшивой апелляции и к истинам науки, и к «велениям» самой природы даже и в составе таких идеологий принадлежала немалая роль. Идеологическая когорта всегда включала «специалистов», которых тоталитарная власть уполномочивала, с одной стороны, поставлять для идеологии такой «научный орнамент», а с другой — осуществлять слежку, подавление глухого или явного сопротивления со стороны действительной науки и подлинных ученых, судьба которых при тоталитарных режимах была поистине трагической. По этому кругу проблем во всем мире, включая Германию и Россию, существует обширная литература2.
231
1 См. по этому вопросу работы немецкого автора Слотердайка, и прежде всего его «Критику цинического разума».
1 О подавлении и ложном истолковании норм науки в нацистской Германии «по свежим следам», т. е. в 30-40-х годах, писал создатель социологии науки Р. Мертон
(см. по этому вопросу мои прежние и новые работы о ранней социологии науки).
Часть IV. Глава 2. Социально-политические произведений и идеи Ханны Арендт
232
о
I
о
ю
Э
1
со
±
И все-таки наиболее простой и в то же время точный вывод, касающийся соотношения тоталитарной идеологии и науки, состоит (в формулировке арендтоведа М. Шённхер-Манн) в следующем: «Хотя тоталитарные идеологии прокламируют истину, чтобы придать вес своим иллюзиям, но они не запрашивают истину, не спрашивают о ней. Они пользуются научными знаниями, пока последние соответствуют их задачам и целям. Всякое сомнение, которое столь же изначально принадлежит современной науке, как и понятию истины, устранено»1.
Что касается философии, ее истории и великих философских умов, то и здесь тоталитарные идеологии (и нацистская, и особенно сталинистская, в связи с особыми претензиями Сталина на роль духовного, в том числе философского «Вождя всех времен и народов») имели и пытались реализовать широковещательные претензии: они стремились сделать великих философов прошлого не просто «союзниками», но и «великими предтечами» тех порядков, которые постепенно становились тоталитаристскими, и тех идейных продуктов, которые идейно обслуживали именно тоталитаризм. В этой плоскости пригодился бы современный анализ таких действительно имевшихся феноменов, как попытки нацистских «философов» сделать «своими» Гегеля, Фихте, Ницше, а сталинистских идеологов — поставить на службу сталинизму немецкую классическую философию и классический марксизм. Но такой анализ в его полноте здесь невозможен. Что касается подходов X. Арендт, то имеет смысл (вслед за авторитетными арендтоведами) обратить внимание на три, по крайней мере, особенности ее рассуждений по этим сюжетам.
Во-первых, говоря об использовании в тоталитарных идеологиях тех или иных идейных продуктов, она отрицает существование в таких случаях прямой причинной связи между концепциями прошлого и их тоталитаристским «использованием ». Более того, как пишет X. Арендт, между «создателями блестящих и легких концепций и людьми жесточайших деяний, причастных к активному зверству, разверзается пропасть, через которую не способны перекинуть мост никакие интеллектуальные объяснения» (ОТ. Р. 183).
Во-вторых, X. Арендт формулирует и более общий тезис: «Беспрецедентным в тоталитаризме являются в первую очередь не его идеологические содержания, но само событие тоталитарной доминации»2. Иными словами, она никак не пренебрегает исследованием идеологии, антиценностей тоталитаризма, но одновременно выступает против выдвижения на первый план — при исследовании сути и истоков тоталитаристской системы — именно идейного «орнамента», тенденциозного и фальсифицированного, явно вторичного по сравнению с практической системой тоталитарного господства. При этом исследовательница обращает внимание на то, что в общей сумме самых разных социальных составляющих скорее не духовно-интеллектуальные факторы играли решающую роль в тоталитарной «мобилизации » и, соответственно, подавлении воли, свободы наиболее массовых слоев населения.
В-третьих (и здесь — оттенки позиций исследовательницы, вызвавшие возражения других авторов, писавших о тоталитаризме), X. Арендт
1 Н.-М. Scbönberr-Mann. Hannah Arendt. Macht. Moral. S. 70.
1 Цит. по: M. Canovan. Op. cit. P. 30.
не сваливала в один теоретический короб идеи и действия Гитлера и Сталина, национал-социалистическую и сталинистскую практику и идеологию, тем более судьбы соответственно Германии и России после ликвидации тоталитарных режимов. «И даже потом, после публикации ОТ, — отмечает М. Канован, — когда X. Арендт стала писать дополнительный том, нацеленный на отыскание корней сталинизма, когда утверждала, что марксистская теория (и даже целостность западной традиции политической философии) помогла сделать сталинизм возможным, она отрицала, что здесь есть какая-то прямая каузальная связь» (Ibidem). И еще одно уточнение X. Арендт сделала весьма решительно: она утверждала, что в СССР тоталитаризм существовал только при Сталине (ОТ. Р. ix, xviii-xxi). Ей было очень важно не причислять к тоталитаризму постсталинское время советской власти, скажем, время «оттепели», сколько бы противоречий и трудностей в преодолении тоталитаризма ни продемонстрировал этот период истории. Что, кстати, было характерно для всех ее социально-исторических анализов, так это поиски различий, особенностей в тех событиях и феноменах, применительно к которым другие теоретики не заботились о соответствующих различениях. (Пример — ее стремление различить немецкий национал- социализм и итальянский фашизм.)
Уроки орвндтовского анализа тоталитаризма и современная иаория
Наиболее прозорливые исследователи социально-политической мысли, включая теорию тоталитаризма X. Арендт, обратили особое внимание не столько на ее частноисторическое, сколько на общецивилизационное значение ее анализа. Кстати, этому помог следующий факт: как мы увидим далее, сама X. Арендт сочла необходимым прибегнуть либо к общецивилизационной терминологии, либо к тем, конечно, критически осмысленным характеристикам и описаниям, которые были предложены в таких апеллирующих к целым эпохам теориях, как марксизм, скажем, когда в его рамках вводились и разрабатывались концепции империализма. Хорошее описание объединения этих двух линий в произведениях X. Арендт (прежде всего в ОТ и примыкающих работах) дает та же М. Канован. Подчеркивая неразрывную связь арендтовской теории тоталитаризма с проблематикой кризисов, в том числе кризиса цивилизации как таковой, находящих проявление во множестве деструктивных процессов, тенденций, исторических обвалов, эта исследовательница арендтовского наследия справедливо отмечает: «С точки зрения X. Арендт, и предпосылки, и прецеденты этого (разрушения политических и социальных структур. — Н. М.) должны быть найдены в экономическом, военном и политическом прорыве, известном как „империализм”, который в конце XIX века свидетельствовал о завоевании Европой великих трактов мира по следам капиталистической экспансии и который, следовательно, разрушал европейские государства, их экономику и общество. Главное в истории, о которой X. Арендт поведала нам, есть рассказ о разрушенных структурах и о тех людях, которые лишились жизненных корней, что привело к массивной утрате человеческого мира цивилизации. Будучи далекими от того, чтобы стать
Чостъ IV. Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
H.ß. Мотрошилово ЯЙЕИЯ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
234
[действительно] цивилизованными человеческими существами, ...мы нуждаемся в обживании в человекотворном мире стабильных структур. Мы нуждаемся в них, чтобы они оградили нас с помощью законов, наделили нас правами, обеспечили нам такое положение в обществе, благодаря которому мы можем сформировать и высказать свои мнения, предоставили нам доступ к богатству общего (common) здравого смысла в нашей общей реальности»1. Это сжатое фиксирование идей X. Арендт близко к ее текстам.
Были и другие акценты концепции X. Арендт, которые связаны с этими трансисторическими, общецивилизационными и эпохальными (это моя терминология) тенденциями. И именно поэтому такие акценты оказались теоретически и практически перспективными (и были развиты в ее более поздних работах). Здесь, например, обсуждение растущей и — воспользуемся теперь современными терминами — в тенденции глобальной взаимосвязи людей, стран, континентов. Или исследование сути отношений к природе, к людям, ближним и дальним, с точки зрения того, отвечают ли они сути цивилизации или означают скатывание к современному варварству. «Одна из этих черт мысли X. Арендт, — верно обобщает М. Канован, — касается нашего отношения к природе и к человеческому миру цивилизации. Размышляя о жертвах, в лагерях смерти превращенных в человекоживотных, об изгнанных из государства людях, лишенных якобы „естественных” прав, об империалистических расширениях границ варварства на краю человеческого мира, Арендт приходит к заключению: „Природа человека” только тогда человеческая (human), когда позволяет человеку стать чем-то более высоким, чем чисто природное существо, т. е. стать человеком”2. »3.
В этой главе мы вынуждены были ограничиться лишь кратким резюме фундаментально важных, именно теоретических идей X. Арендт о тоталитаризме. Интерес представляет также то оригинальное конкретное исследование, которое она посвятила проблеме личного участия, личной ответственности видных «деятелей» гитлеровского режима, избрав в виде примера — в качестве своего рода «case study» — процесс одного из нацистских преступников Адольфа Эйхманна, состоявшийся в Израиле в 1961 году.
«Case study» Ханны Арендт об Эйхлланне
Хочу заранее предупредить читателей, что мне придется отвлечься от ряда вообще-то важных аспектов и эпизодов конкретной истории — например, от восприятия деталей книги Ханны Арендт «Эйхманн в Иерусалиме» (и ее предшествующих репортажей с судебного процесса) сионистскими организациями и кругами, от содержания тех жестких обвинений с их стороны, которые пришлось услышать и выдержать этой исследовательнице, в то время уже приобретшей широкую известность и в социальных дисциплинах, и в мире духовной культуры, и в политической публицистике. Отвлекаюсь от более подробного разбора имеющегося материала совсем не потому, что не считаю его существенным,
1 М. Canovan. Op. cit. Р. 31.
2 Н. Arendt. ОТ. P. 455.
3 М. Canovan. Op. cit. P. 34.
а главным образом из-за того, что в особых проблемах такого рода не являюсь специалистом. Но о некоторых центральных разногласиях упомянуть придется.
Сосредоточусь на вопросе о том, какие ценные оттенки, штрихи, нюансы эссе об Эйхманне вносит в ранее проанализированное осмысление проблематики тоталитаризма, вины и ответственности отдельных личностей, вообще индивидуально-личностных особенностей тех людей, говоря о которых X. Арендт оригинально дополняет и расширяет теоретическую картину истоков, предпосылок и форм тоталитаризма как социально-исторического явления.
• Процесс над fl. Зйхмоннолл, его исторический контекст и особенности
Может возникнуть вопрос: как и почему случилось, что Адольф Эйхманн, один из главных «организаторов холокоста», был привлечен к суду только в 1961 году, т. е. через четырнадцать лет после знаменитого Нюрнбергского процесса над главными нацистскими преступниками?1 Дело в том, что Эйхманну в 1945 году удалось бежать в Латинскую Америку: он скрывался в Аргентине и в 1960 году был обнаружен там спецслужбами существовавшего к тому времени государства Израиль, куда и был доставлен, представ не перед международным, как другие нацистские преступники в Нюрнберге, а перед израильским государственным трибуналом. Так случилось, что хорошо известный в мире американский еженедельник «New Yorker» послал на этот процесс именно Ханну Арендт (очевидно, была проявлена инициатива с ее стороны). Существовала договоренность о том, чтобы она — напомним, имевшая реноме прекрасного политического публициста — освещала для читателей ход и результаты процесса. «Отчеты» X. Арендт появились в названном журнале 16 и 23.02, а также 2, 9,16.03.1963 года. Собственно, жанр журнальных репортажей для откликов и размышлений X. Арендт оказался тесным. Ее публикации переросли в серьезное, острополемичное и моментально вызвавшее широкий резонанс конкретно-политическое, а в то же время теоретическое социальное исследование. В том же 1963 году оно вышло в свет в виде книги, уже и заголовком которой была полемически заявлена и заострена главная подтема, а также профилирующая идея работы — «Эйхманн в Иерусалиме. Отчет о банальности зла» («Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen»2). Я почти отвлекусь от тех деталей, аспектов работы X. Арендт, которые касались ее оценок самого хода, процедур процесса, речей обвинителя и защитника, роли государства Израиль и ряда других конкретных деталей подобного рода. (Характерно, что эти частно-исторические аспекты репортажей и книги X. Арендт привлекли особое внимание и вызвали гнев сионистских организаций и авторов. Напомню, в моей книге, соот¬
1 В 1947 году на Нюрнбергском процессе Эйхманн был «отсутствующим обвиняемым» (Angeklagter in Abwesenheit).
2 Цитироваться эта работа будет по изданию: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. 14 Auflage. München, 2005. Надо учесть, что слово «ein Bericht» многозначно, причем здесь разные оттенки значения пригодны: отчет, сообщение, корреспонденция и т. д. При цитировании используется сокращение — EJ.
Часть IV. (лава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
236
£
а
8
2
Э
8.
о
.£
ветственно мировой практике, в понятие сионизма не вкладывается тот негативно-оценочный смысл, который иногда имеют в виду в России; речь просто идет об организациях и авторах, которые занимаются еврейским вопросом в его разных практических и теоретических ипостасях.)
Остановлюсь в основном на тех рассуждениях и выводах, которые очерчены темой, обозначенной в заголовке книги. Это проблема — в арендтовской формулировке — «банальности злаь, которая, конечно же, анализируется на конкретно-историческом примере национал-социалистического зла1.
Первый из вопросов, на которые предварительно следует ответить: почему суд над Эйхманном побудил X. Арендт сконцентрироваться на теме «банальности зла»? А ведь она была более чем необычной"для многообразных дискурсов послевоенного времени, касались ли они «немецкой вины», осуждения преступников и морально-юридической категории «преступлений против человечества». Общая атмосфера и обсуждений и осуждений — что во многом совпадало также с идеями, тоном книг и статей X. Арендт — определялась оценками и глубокими переживаниями в свете огромного, неизгладимого впечатления, которое произвели масштаб, чудовищность, бесчеловечность преступных деяний наиболее активных национал-социалистических сил, справедливо оцененных как исторически беспрецедентные. И вот после на фоне всего этого — казалось бы совершенно неожиданные тезисы X. Арендт о «банальности зла»! Причем формулировка была применена Ханной Арендт к жизни и деяниям одного из самых кровавых преступников, тяжкая личная вина которого представлялась очевидной и с юридической точки зрения вполне доказуемой, в конечном счете и доказанной!
Надо с самого начала подчеркнуть: X. Арендт никак не отрицала ни вину Эйхманна, ни то, что он заслуживает самого сурового наказания, Арендт не подвергала сомнению легитимность именно израильского суда (Е^ Б. 56). Но у нее были серьезные замечания в связи с ходом процесса, со сложившейся вокруг него атмосферой. Ряд этих критических замечаний и возражений определялся основной установкой, которую она защищала мужественно, идя как бы против основного потока эмоций, мнений, суждений, оценок, особенно тех, которые — что вполне объяснимо — массово разделяло еврейское население, подвергшаяся холокосту, геноциду нация, и защищали многие, если не большинство, сионистских организаций. Все эти конкретно-исторические стороны и обстоятельства было невозможно забыть. Нельзя забыть и то, что Ханна Арендт сама была немецкой еврейкой, тоже прошедшей через многие испытания. В то же время в своих замечаниях и возражениях по поводу процесса над Эйхманном она ответственно и мужественно выдвинула на первый план то, что можно назвать незыблемыми общецивилизационными критериями справедливости. Прежде всего это были критерии правовые, юридические.
1 Хочу напомнить, что вопрос о зле, его шествии, об отличии «нового», именно национал-социалистического, тоталитарного зла обсуждался в переписке X. Арендт и с Хайдеггером, и с Ясперсом — и об этом, с привлечением материала переписки, в нашей книге шла речь при осмыслении того временного контекста, когда как раз и появлялись арендтовские работы о тоталитаризме.
Покажем это, рассмотрев основные линии критического анализа X. Арендт, обращенного к процессу над Эйхманном.
• Прежде всего она обсудила — и осудила — способы и методы ведения процесса со стороны главных задействованных на нем юридических лиц. При всем понимании глубоких эмоций, которые после войны владели многими людьми, разделялись целыми нациями, ставших объектами чудовищного насилия, X. Арендт сочла, что даже перед лицом таких преступников, как нацистские главари, на первый план именно в суде и судьями должны быть выдвинуты критерии правовой, юридической справедливости и общие правила цивилизованного юридического поведения, в том числе проведения судов и процессов. Даже и в случаях столь чудовищных преступлений справедливость, согласно X. Арендт, требует «чрезвычайной сдержанности и отказа от всяких взываний к общественности; справедливость еще разрешает печаль, но никогда не гнев. И она диктует, в конце концов, строжайшую воздержанность, когда появляются какие бы то ни было искушения с помощью камер и микрофонов устраивать игру у света рампы» (EJ. S. 73). Здесь X. Арендт имела в виду, в частности, поведение главного обвинителя на процессе Гидеона Хаузнера, не предотвратившего то, что средства массовой информации устроили вокруг суда над Эйхманном свои «медийные спектакли», в которых сам обвинитель активно участвовал.
• Что касается конкретных проблем обвинения в случае Эйхманна, то суду приходилось пробираться сквозь чащу противоречивых деталей и обстоятельств. Например, Эйхманн целые годы разрабатывал и реализовывал «проект» депортации евреев из Германии и их транспортировки в другие страны (скажем, в Белоруссию или Польшу). Это тоже было, без сомнения, массовым попранием прав человека. Однако образовалась своего рода юридическая лазейка для Эйхманна и его адвоката, ибо на территориях, куда евреев депортировали, были, конечно, устроены гетто, но (пока) не существовало газовых камер. И немецкий защитник Эйхманна некто доктор Сервациус (Servatius) пытался — если не для оправдания, то для «смягчения» вины своего подзащитного — говорить о том, что убийства в газовых камерах следует-де рассматривать как требуемые какими-то «медицинскими соображениями» (об этом X. Арендт тоже с возмущением писала в своей книге — EJ. S. 197).
Немаловажными были и другие исторические обстоятельства, частично разобранные на процессе и введенные в дискурс Ханной Арендт — например переход нацистов от депортаций, других преследований евреев к «политике» массовых убийств с «помощью» газовых камер, расстрелов и т. д. А здесь Эйхманн не столько играл активную роль (например, на так называемой «Конференции в Ваннзее», на которой был оформлен логичный для нацизма переход к «тактике» массового уничтожения евреев, он не присутствовал), сколько подчинялся «инициативам» других лиц. Но подчинялся, подчеркивала X. Арендт, беспрекословно и вполне сознательно. Так что и здесь вина его была несомненной. Конечно, на процессе привлекались к рассмотрению преступления не только против еврейского населения, но и против других народов. Ханна Арендт в своей книге расширяла анализ, вводила в кадр рассмотрения многие факты, ясно свидетельствующие о преступности нацистской власти, ее служб,
237
Чостъ IV. (лова 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
H.’ß. Мотрошилово ШШВ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
238
организаций, о поистине чудовищном, зверином оскале тоталитаризма. Иными словами, на более конкретном уровне она и здесь продолжала свое глубокое, многостороннее исследование тоталитаризма, начатое в ее классических книгах.
• Одним из самых чувствительных пунктов в ее анализе и подходе было требование, выдвинутое уже в ряде предшествующих работ — не забыть о том, что в социальных процессах, в Германии способствовавших приходу к власти Гитлера и его национал-социалистских приспешников, — и даже после 1933 года, даже в годы войны, и, что особенно страшно, даже в «практике» концентрационных лагерей — некоторые еврейские круги помогали гитлеровцам. Описывая и осмысливая процесс над Эйхманном, X. Арендт высказала мнение о том, что на процессе также следовало обсуждать и такую группу фактов. Это вызвало бурное негодование. «Особенно резкую критику X. Арендт навлекла на себя тем, что высказала упрек, согласно которому холокост был значительно утяжелен кооперацией евреев с нацистами, прежде всего в делах депортации. Были определены квоты — определены нацистами и кооперирующимися с ними евреями. И в гетто, в общинах и лагерях функционировали внутренние организации, которые работали вместе с чиновниками, осуществлявшими депортацию. Они составляли списки лиц, подпадавших под депортацию. В этом отношении показания Эйхманна представляли бы особый интерес. Но вопросы об этом не были ему заданы»1.
Настоящий же гнев критиков и противников (включая некоторых осудивших ее друзей) вызвала уже названная стержневая идея о «банальности зла», которую X. Арендт увидела воплощенной в фигуре А. Эйхманна. Не только тогда, по свежим следам процесса, но и спустя десятилетия эти характеристики X. Арендт различные авторы не смогли понять и простить. Приведу слова известного автора Гарри Смита, написанные им в 2000 году: «Арендт не захотела вглядеться в больную, садистскую природу этого преступника и со всей гордостью своего интеллекта как бы перешагнула через исторический опыт и ощущения своих современников. Когда через много лет перечитываешь страницу за страницей, то укрепляется впечатление, что ей было важно дать не отчет о процессе или понять противосмысленные последствия исторически уникального преступления, чтобы сообщить об этом образованному слою Америки. Нет, она использовала свой бесспорный литературный талант для того, чтобы связать историю холокоста с фигурой банализи- рованного Эйхманна ». И связать так, чтобы в Америке, не без злобности продолжает Г. Смит, поняли-де: она, X. Арендт, первая среди интеллектуалов, кто решается проложить дорогу «непостижимому», используя самостоятельное (суверенное) повествование2. И это еще довольно «мягкая» (посмертно-заочная) оценка из тех, какие были высказаны в адрес X. Арендт по поводу ее идеи «банальности зла ». Между тем идея- то была, полагаю, не просто верная, а и весьма глубокая, относящаяся далеко не только к Эйхманну и к его времени. Присмотримся конкретнее к самой арендовской теме «банальности зла».
1 H.-M. Schönherr-Mann. Op. cit. S. 86.
2 G. Smith. Einsicht aus falscher Distanz // Harry Smith (Hg.) Hannah Arendt Revised. Fr. a/M., 2000. S. 8.
• Может ли зло быть банальным?
Первый вопрос, который возникал и возникает в умах читателей, затрагивал уже закрепленное подзаголовком книги Арендт сочетание этих двух слов: а может ли зло быть «банальным», особенно в социально-исторических или индивидуальных случаях, когда оно выступает и по праву считается «чудовищным», беспрецедентным по масштабу жертв, жестокости, попрания множества норм, ценностей человечества — юридических, моральных, словом, цивилизационных принципов, устоев и ценностей? И когда речь идет о людях, причастных к таким страшным, поистине дьявольским формам и результатам действий, тем более не в качестве исполнителей-винтиков подчинявшихся приказам высшей власти, а отдававших такие приказы и надзиравших за их исполнением, — разве в подобных случаях достойно и пристойно говорить, как сделала X. Арендт, о «банальности» их мыслей, чувств, действий, а не о вот этой самой чудовищности? Ведь на эйхманновском процессе и вокруг него по этой группе вопросов установилось, в сущности, полное взаимосогласие судей, обвинителей, свидетелей, представителей общественности и прессы: подсудимый Адольф Эйхманн — монстр, садист, т. е. личность со многими отклонениями, настоящее исчадие ада... Но вот когда X. Арендт прибыла на процесс в Иерусалиме и непосредственно, близко увидела обвиняемого, вникла не только в ход процесса, но и в то, какого типа человек, преступник оказался на скамье подсудимых и привлек внимание всего мира, она поначалу испытала настоящий шок. Дело было не только в том, как выглядел и как держался этот подсудимый, хотя и чисто внешние черты нельзя было оставить без внимания, потому что и они имели свое значение для вывода о «банальности зла». Перед взором X. Арендт предстал человек, который вовсе не смотрелся как монстр, как дьявольское отродье. О своих непосредственных зрительных впечатлениях она всего откровеннее сообщала в письмах к близким. К. Ясперсу Ханна писала: «Эйхманн. Не аристократ, скорее призрак, у которого к тому же был насморк, и в своем застекленном ящике он как бы минута за минутой утрачивал самого себя (свою субстанциональность, ЗиЬзТапгюпаПгги — написала X. Арендт)»1. В письме к мужу Ханна сообщала, что Эйхманн как будто присутствовал на спиритическом сеансе; создавалось впечатление, что все его силы уходили на то, чтобы не потерять сознание. Правда, могло возникать подозрение, что подсудимый искусно разыгрывает спектакль, чтобы разрушить тот самый имидж монстра, чудовища, который закрепился за ним в общем сознании. И все же впечатление о «банальности», т. е. обычности личности, все больше подкреплялось в восприятии X. Арендт и другими обстоятельствами, касающимися особенностей его жизненного пути, его личности, которые выявились на процессе и требовали уточнить, исправить сложившийся образ преступника.
• Эйхманн не проявил и на процессе, и в своей жизни какой-то патологической и фанатичной ненависти к евреям. «Он не приписывал им все самое плохое и вовсе не склонялся — из идеологических причин — к убеждению, что евреи должны быть уничтожены. В юности у него были
239
Н. АгепЖ / К. ¡азрегз. Впе^уесЬве!. Б. 471.
Часть IV. Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
Н.В. Мотрошилово Мортон Хайдеггер и Ханна Арендт: бьггие-время-любовь
240
друзья-евреи, возможно, что во время пребывания в Вене одна из его возлюбленных была еврейкой. Несмотря на это, он организовал холокост, будучи в трезвом уме и вполне вменяемым. Тезис Арендт состоял в следующем: в условиях тоталитаризма преступление становится нормой, а моральное поведение — исключением. Эйхманн таким исключением не был»1.
• Особое внимание Ханны Арендт привлекли те черты Эйхманна, которые свидетельствовали, так сказать, об интеллектуальном уровне «ниже среднего»: говорил он неграмотно; X. Арендт подчеркнула «абсолютное отсутствие способности воображения ». Иными словами, ясно проявлялось отсутствие сколько-нибудь развитой и ответственной способности мысли и анализа. Позднее, в 1971 году она дала суммарную характеристику Эйхманна как типа преступника, имея в виду умственноинтеллектуальный дефицит его личности: «Какими бы чудовищными ни были преступления, сам преступник не был ни чудовищем, ни демоном, и единственной чертой, которую невозможно отрицать (они проявились как в его поведении на процессе, так и были раскрыты предварительным полицейским расследованием), было нечто полностью негативное: не глупость, а примечательная, полностью аутентичная неспособность мыслить. В роли видного военного преступника он выступал и раньше, при нацистском режиме»2.
• Обобщая все эти (и подобные) особенности личности А. Эйхманна, X. Арендт и обосновала свои идеи и суждения как о «банальности», т. е. повседневности, распространенности, обычности зла — примечательной, важной черте и массового типа личности при тоталитарных режимах (но как мы увидим, не только внутри их) и также величайшей, еще недооцененной опасности для человека, для истории, для общества. Она четко выразила эту свою идею в эпилоге книги об Эйхман- не: «В личности Эйхманна особое беспокойство вызывает как раз то, что он, как и многие, не был ни перверсивным, ни садистским типом, но ужасно и ужасающе нормальным. С точки зрения наших правовых институтов и масштаба наших моральных суждений эта нормальность страшнее, нежели все мерзости, вместе взятые. Ибо она подразумевала нечто достаточно полно подтвержденное высказываниями обвиняемых и их защитников: этот новый преступник, который действительно является hostis, generis humani (преступником против человечества), действует в условиях, почти полностью исключающих возможность осознания своих преступлений» (EJ. S. 425).
В гневных статьях, высказываниях, посыпавшихся после обнародования репортажей, а потом книги X. Арендт об Эйхманне, этот основной теоретический и одновременно практически важный лейтмотив ее анализа не был принят и, боюсь, немалым числом тогдашних авторов даже не был понят в его значимости и теоретической перспективности.
Об этом приходится сожалеть, потому что по мере повсеместного разрушения цивилизационных структур в XX веке и на начавшемся в XXI столетии новом витке кризиса цивилизации проблема все большей
1 Н.-М. Scbonherr-Mann. Hanna Arendt. S. 94.
2 Hannah Arendt. Цит. по: Н.-М. Schonherr-Mann. Op. cit. S. 97.
«банальности зла», остро поставленная Ханной Арендт, стала, к несчастью, одной из самых актуальных.
241
«Банальность зло»: новая актуальность проблемы
Суть современной проблемы и ее исторические истоки — в массовом проникновении, так сказать, в поры цивилизации последних веков антигуманных (в крайнем выражении — варварских) способов, форм, эффектов действия. На их фоне стремительно снижается порог восприятия и неприятия, чувствительности очень многих людей и социальных объединений к чудовищным деяниям и варварским методам жизнедей- ствия. Тут, конечно, заключена своя противоречивость: с одной стороны, в нашем веке нарушения прав человека фиксируются, отслеживаются, порой наказываются, а некоторые события становятся достоянием широкой, общемировой гласности. С другой стороны, попрание прав и свобод, ущемления достоинства людей, размах потенциальных угроз для их жизни и безопасности — все подобное превращается в факты бытия столь необратимо и массово, что зло принимает вид именно банальных, привычно-повседневных феноменов, превращается в нечто как бы «естественное» и непреодолимое. Так что люди в разных странах очень часто ностальгируют о «старых добрых временах», как бы забывая о старых, совсем недобрых страданиях, сломанных судьбах, не говоря уже о миллионных жертвах. Между тем противоречивое развитие цивилизации обладает и таким свойством: злодеяния прежних, особенно более близких по времени этапов истории, даже будучи осужденными и наказанными на разных уровнях (юридическом, морально-ценностном), увы, не целиком уходят в прошлое, а оставляют в настоящем времени свои осадки и остатки. В частности, в самых чудовищных нацистских или сталинистских деяниях (притом что отдельные лидеры были наказаны) личная вина очень многих людей, причастных к конкретному и глобальному злу, фактически растворилась в общей структуре «безответственности» (Verantwortungslosigkeit), сотворенной через создание мощного, безличного аппарата, послушно исполняющего и самые бесчеловечные распоряжения. А такие структуры делают зло (например, зло современной тотальной коррупции) столь же повседневным, «банальным», сколь и безответственным, безнаказанным и потому весьма прочным.
«Память истории» в данном случае имеет и тот страшный эффект, что даже осужденные самые чудовищные злодеяния не только не прививают человечеству иммунитет, способный повысить нетерпимость к злу, но парадоксальным образом становятся тоже злодейской «точкой отсчета » и сравнения. На этом фоне сотворение «банального» и, как кажется многим, не такого уж страшного зла представляется чем-то более или вообще извинительным... Иными словами, имеет место такая историческая кумуляция злодеяний, которая способствует как бы извиняющему сравнению, восприятию новых актов зла. За примерами недалеко ходить. После двух мировых войн, после тоталитаристских лагерей смерти чуть ли не завоеванием во имя мира и демократии (!) считаются массовые бомбардировки, применение современных вооружений для кровавого «наведения порядка » на больших территориях, в целых регионах земли, что тоже банально и привычно возводится к «воле народов», «подкрепляется» мандатами
Часть IV. Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
Н-В. Мотрошилова Щд Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
242
международных организаций. Льется кровь, разрушаются целые государства и территории... А на фоне всего этого, до боли знакомого, всяческое повседневное зло становится привычным, именно банальным и — в восприятии многих — как бы «меньшим из зол». Главное же, массовость, «нормальность» и весьма редкая выборочная наказуемость подобных актов способствуют формированию особых типов людей, переходящих грань между социальным поведением, так или иначе сообразованным с законом, и преступными деяниями, совершаемыми привычно, иногда бездумно, т. е. именно «банально» в смысле концепции Ханны Арендт. К результатам такого развития применимы слова, по другому поводу сказанные К. Ясперсом: «так шествует трагика зла...»
Можно сказать, что шествие трагики «банального зла» — сквернейшее знамение «нашего времени», т. е. второй половины XX и начала нашего века. Степени и формы его различаются от страны к стране, однако наличие и распространение его — несомненный общецивилизационный факт, свидетельствующий (согласно моей теории) о кризисности, надломах современной цивилизации, повсеместно порождающих мощные выбросы варварства. Продемонстрирую это на примере России.
К настоящему времени стали привычными, повседневными — банальными, в смысле Ханны Арендт, — такие феномены самого настоящего зла:
- множатся массовые жертвы из-за халатности, некомпетентности, контроля и т. д. в особо опасных сферах повседневной жизни (крушения самолетов и поездов, аварии автобусов и т. д.) и страшные техногенные катастрофы типа аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, истоки которых до «банальности» обычны (их склонны обозначать безличными словами «человеческий фактор»...);
- на дорогах мира (в нашей же стране это настоящее массовое бедствие) повседневными фактами — теперь привычными и редко наказуемыми — становятся массовые жертвы, виновниками которых могут стать заведомые преступники, но в удручающе повторяющихся «средних случаях» оказываются как будто обычные, иногда «приличные» на вид люди (опираясь на статистику, можно было бы создать типологию «банальных» злодеяний и «банальных» преступников).
В насквозь коррумпированных странах, какова, например, современная Россия, коррупционеры и их пособники — это, как правило, не традиционные злодеи с топором или пистолетом (и даже не недавние бандиты с соответствующими физиономиями и блатной речью), а внешне «благопристойные» люди, хорошо одетые, ухоженные, пользующиеся новейшей техникой, знающие иностранные языки, живущие в цивилизованных домах и т. д. И пусть для них (сегодня — более замаскированные, чем раньше) связи с криминалом — не исключение, а скорее правило, но все это опять-таки выглядит «благопристойно», ибо прикрыто хорошо отработанными приемами «соблюдения закона», над чем трудятся — тоже в стиле «банального зла» — целые армии соответствующих «специалистов»...
Надо ли продолжать этот столь «банальный» список системного социального зла, его звеньев, актов, форм? Вряд ли: все хорошо известно и подтверждено фактами.
Обобщая, можно сказать: «банальными», т. е., повторяю, привычными, повседневными, массовыми, обычными, «нормальными» и в подавляющем большинстве не наказываемыми, даже реально не осуждаемыми (конечно, при настоящей эпидемии гневных слов, обличений и т. п., обращаемых не к себе, а к безличным «другим») — становятся нарушения, попрания всех и всяческих нужных, разумных норм, цивилизационных регламентаций и веками вырабатываемых моральных императивов, предписаний. Достаточно ясно, что такие систематические и массовые явления, процессы в сознании и в реальном поведении являются истоками и формами страшного, чреватого многими последствиями шествия трагики именно «банального зла».
В свете ранее сказанного получается, что Ханна Арендт в своем анализе «банального зла», которому она ужаснулась, оказалась совершенно права. И не только по отношению к своей эпохе, когда чудовищные преступления (нацизма или сталинизма) подчас творились не столько садистами, сколько внешне «благопристойными», иногда совсем «обычными» людьми — любящими отцами и матерями семейств, людьми, ценившими искусство и музыку, и т. д. Последующие времена, как будто бы призванные снять, преодолеть, сделать невозможными преступления против человека, человечества, человечности, не только не добились этого (несмотря на осуждение тоталитаризма и наказание одиозных военных преступников, которых удалось обнаружить), но еще больше «банализировали» зло.
В этой совокупности поставленных Ханной Арендт чрезвычайно трудных вопросов, практических и этико-теоретических, есть много других важных аспектов.
Например, в высшей степени актуальна четко продемонстрированная ею связь между банализацией огромного, чудовищного, а также мелкого, бытового зла на одной стороне и на другой стороне (на примере Эйхманна) красноречиво раскрытого личностного свойства очень многих людей, включая лидеров соответствующих массовых движений. Это свойство, говоря обобщенно, состоит в «безмыслии» (Gedankenlosigkeit), отнюдь не тождественном глупости или тупости. Х.М. Шённхер-Манн правильно пишет, раскрывая идеи X. Арендт: «Как раз из такого банального безмыслия проистекает зло, а не из садистских наклонностей, не из сатанистских фантазий, не из дьявольской сущности...» (Н.-М. Schönherr-Mann. Op. cit. S. 97-98). К полю подобного наглого и «банального безмыслия» принадлежали, например, идеологи типа нациста X. Франка, который в 1942 году сформулировал — явно в противовес Канту — некий категорический императив «нового», т. е. нацистского мышления: «Поступай так, чтобы фюрер, который узнал бы об этом твоем действии, одобрил бы его!» (цит. по: Н.-М. Schönherr-Mann. Op. cit. S. 100). Но ведь «банально» и следующее: очень многие люди при нацизме и сталинизме сделали такой «императив» (противоречащий всем устоям и традициям этики, ценностных ориентаций, требованиям цивилизации) практическим, повседневным руководством к действию. Если учесть, сколько всяческого «безмыслия» разлито сегодня на всех уровнях жизни, в том числе на уровне «высшем», государственноуправленческом, становится страшно... Оглупление, самооглупление
243
Часть IV. Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
244
СЕ
0 X X
я
X
а
£
с»
а>
>х
Я
X
1
о
£
I
£
•со
людей (обусловленное и усиленное многими причинами) — один из главных источников разрастания «банального зла». «Знаю, но не мыслю, не анализирую, не принимаю в расчет» — схема и парадигма подобного действия. Примеров — миллионы (скажем, садятся за руль, зная что не умеют водить автомобиль, но не «мысля» о чем-то подобном...). Еще об одном необходимо сказать, потому что сделанные более полувека назад выводы X. Арендт остаются, к сожалению для современного человечества, болезненно-актуальными. Отдельные люди, притом даже этики по профессии, мало и плохо думают, мыслят. Или в случаях, если они обо всем этом глубоко тревожатся, в большинстве своем плохо подготовлены к осмыслению, тем более прогнозированию и регулированию глубинных, подспудных нравственно-этических трансформаций. В частности, и потому глубокие мысли X. Арендт о страшной опасности банальности зла не получили своевременного развития в специальной литературе. А между тем человечество оказалось плохо подготовлено к масштабным современным процессам «банализации» зла, превращения его в «нормальный» образ жизни, т. е. к тому, что так верно, по сути прогностически, описала, осмыслила X. Арендт много лет назад.
Экскурс: Россия, СССР в кадре анализа у Ханны Арендт «тоталитарного господства»
Этот тематический ракурс в горизонте арендтовской теории тоталитаризма изначально отмечен двойственностью, противоречивостью.
С одной стороны, опыт России — и общеисторический, и, конкретнее, сталинистско-тоталитаристского времени — имел к жизни и творчеству Ханны Арендт прямое отношение. Он восходил к семейным историческим корням, к положению немецких евреев в «пограничном» Кёнигсберге, к противоречивой ситуации первой половины XX века. В частности, тут важны те факторы и факты «непотревоженной изоляции», четкую склонность к которой X. Арендт могла усвоить как в маргинальной среде еврейского населения тогдашней Германии, в частности в родном городе Кёнигсберге с многими российскими корнями, так и в равно характерной для немецких и русских интеллектуалов начала XX века атмосфере «неполитического» (в смысле Т. Манна) сознания и поведения. Родство опыта обеих стран было в том, что жесткая и трагическая история предтоталитаристского и тоталитаристского времени резко, грубо, насильственно вырвала и российских, и немецких людей духа (ученых, творцов искусства) из в чем-то уютной изоляции и бросила их в пучину исторических турбулентностей, во многом определявшихся жесткой, именно тоталитарной политикой. И в этом смысле «наученная горьким опытом» Германии X. Арендт смогла опознать и описать сходные черты также и в российских исторических событиях.
С другой стороны, освоение, понимание все же только сходного, а отнюдь не идентичного, в иной стране протекавшего и притом весьма сложного исторического развития было немалой проблемой для X. Арендт, когда сама история объективно и неотложно поставила перед ней, автором книги о тоталитаризме, задачу непременно сравнить — и различить — два его типа, немецкий национал-социализм и российский сталинизм. Здесь должны были, не могли не сказаться и преимущества,
и издержки ее знакомства только извне, а не изнутри с российскими, в данном случае советскими условиями, формами, особенностями «тоталитарного господства». Вот почему среди вопросов, вставших перед читателями книги «Элементы и структуры тоталитарного господства» (нем. сокращение — ТН), один касался значения России в мыслительном горизонте X. Арендт, степени и глубины ее знакомства с российской историей, особенно совпадавшей с тем особым периодом истории СССР, когда сложилось тоталитарное господство сталинизма.
Глубже других эту противоречивую проблематику проанализировал немецкий автор Карл Шлёгель1. Его заслуга состоит прежде всего в том, что он описал некоторые исходные факты — например, подробно рассказал о литературе, которую освоила X. Арендт, чтобы в книге о тоталитаризме представить свои достаточно обоснованные выводы о родстве обеих главных форм тоталитаризма, а также о характере и специфике его советско-сталинистской разновидности. Речь шла о произведениях, имевшихся в ее личной библиотеке. (Зная о том, что X. Арендт активно пользовалась также публичными библиотеками, можно заключить, что число изученных ею вторичных источников было значительно большим.) К. Шлёгель разделил их на пять групп.
Среди первой группы — работ общего характера о «так называемом сталинизме», использованных X. Арендт, не было, по заключению X. Шлёгеля, ничего «из ряда вон выходящего» — в основном расхожая в то время литература. (Перечислять эти работы в нашем кратком повествовании лишено смысла, тем более что сегодня они представляют сугубо исторический интерес — «классических» исследований, сохранивших значение и сегодня, среди них, в сущности, не было.)
Интереснее и значимее оказалась собранная Ханной Арендт литература второй группы, посвященной дореволюционной России, — это, например, сочинения Н. Данилевского, А. Койре, Т. Массарика и других авторов.
К третьей группе К. Шлёгель отнес произведения видных российских философов и публицистов — Н. Бердяева, Г. Федотова, Н. Лос- ского и других авторов, вытесненных из России в эмиграцию, а также исследования об их судьбах и творчестве. Очень важно, что трагические судьбы свершались, что называется, на глазах X. Арендт и ее поколения. В ТН она с сочувствием цитирует одного из тогдашних авторов (ЕгепЬе^), который писал об общеевропейском значении идей и произведений российских мыслителей, как раз тогда получивших в Европе более широкий резонанс благодаря эмигрантам из России: «Мысли Киреевского, Хомякова, Леонтьева теперь впитаны Европой, и свою жизнь они обретают сегодня в Софии, Константинополе, Париже, Лондоне.
245
1 См.: Karl Schlägel. Archéologie totaler Herrschaft. Rußland im Horisont Hannah Arendts // Deutschland und die russische Revolution 1917-1924. Hrsg, von Gerd Koenln und Lew Kopelew. München: Fink, 1998. На эту прекрасную работу Карла Шлёгеля, известного западногерманского исследователя истории, духовной культуры России, буду опираться далее. (Мне посчастливилось познакомиться с К. Шлёгелем после перестройки и выступать совместно с ним на немецком телевидении в студии WDR — в программе, организованной замечательным немецким тележурналистом Ульрихом Бёмом в рамках его уникальной программы «Философия сегодня».)
Часть IV. Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
H.ß. Мотрошилово ВИИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
246
Русские, и именно ученики и последователи названных авторов, издают сочинения и журналы, широко распространившиеся по Европе; в них презентируются собственные их идеи, идеи их духовных отцов. Русский дух сегодня стал европейским» (цит. по: TH. S. 397). Это очень важное историческое свидетельство — и само по себе, и в контексте того, что такую группу фактов выделила, отразила X. Арендт в книге о тоталитаризме. К. Шлёгель относит всю эту и подобную литературу к четвертой группе. К пятой группе принадлежат «работы, посвященные так называемому „еврейскому вопросу” в России» (Ibidem. S. 794).
В целом опора Ханны Арендт на имевшуюся к тому времени специальную литературу о России представляется достаточно солидной, что позволило Карлу Шлёгелю сделать вывод: «...X. Арендт хорошо знала современных [тогда] классиков русской культуры и политической истории; по отношению к этому материалу у нее был собственный угол зрения» (К. Schlägel. Op. cit. S. 794). Сказанное иллюстрирует первую сторону отмеченного ранее противоречия, касающегося понимания и освещения у X. Арендт российско-советского варианта тоталитаристского режима, его истоков, особенностей.
В дополнение к сказанному о неплохом знакомстве автора концепции тоталитаризма с российским опытом небесполезно конкретнее сказать об истории ее семьи, а также о жизни самой X. Арендт в Кёнигсберге, городе, в котором она родилась и провела ранние годы жизни.
Что касается семьи и близкого круга кёнигсбергских друзей X. Арендт, то по большей части в этом круге были потомки евреев, переселившихся, иногда бежавших из России. Так, дед Ханны Якоб Котин (Cotin) был уроженцем Литвы (в первой половине XIX века — части России), а бабушка Фанни Сплеро тоже вела свое происхождение от российских евреев. «Бабушка, — пишет К. Шлёгель, — говорила по-немецки с сильным русским акцентом и охотно носила русскую одежду» (К. Schlägel. Op. cit. S. 799). И это тоже был немаловажный исторический опыт близкого молодой Ханне Арендт слоя: российские корни, бегство от погромов (это русское слово писалось «в оригинале», но только латинскими буквами, на разных европейских языках); потом относительно благоприятные условия ассимиляции евреев в Германии, а затем опять утрата «почвы» — родины, гражданства, дома, места жизни. Ханна вовсе не стремилась, как говорилось ранее, осмысливать свою жизнь и судьбу в терминах «еврейского вопроса». Но история, как мы видели, распорядилась иначе.
Попутно подтвердилась транснациональная природа антисемитских всплесков варварства внутри нового и новейшего тогда развития цивилизации.
И что нам в этой части нашего анализа особенно важно, стало ясно родство и сплетение исторических судеб разных стран, включая Германию и Россию, их «горького опыта». Это родство бросалось в глаза тем исследователям, родословная которых — как в случае X. Арендт — подтверждала, что рассуждения «по аналогии» исторического опыта могут быть достаточно плодотворны и надежны...
Теперь о другой стороне вопроса, а именно о том, что не российский опыт, все же знакомый X. Арендт в основном «из вторых рук», а
история и суть германского (национал-социалистского) тоталитаризма были поставлены во главу угла в ее исследовании. К. Шлёгель верно констатирует: «Нет специального рассмотрения русской советской истории, а только компаративистский взгляд... Имеются многочисленные важные указания на то, что X. Арендт [все же] занималась российской историей, — например, она говорит о слабостях классового образования в России, об идеологической борьбе как превращенной форме реальных конфликтов, о такой борьбе как форме компенсации личной неуверенности и отсутствия безопасности, о массовом терроре как отчетливом симптоме слабости режима, о скрытых антибюрократических настроениях масс, об империалистических свойствах советского режима» (К. Schlägel. Op. cit. S. 796). К. Шлёгель одновременно отмечает: X. Арендт имела только «приблизительные представления» о том, каким было «русское общество» интересующего ее времени (Ibidem). «Советская страна, в самом деле, виделась издалека и скорее выступала как модель, чем была взята в исторической конкретности» (Ibidem). К. Шлёгель справедливо добавляет, что сама X. Арендт чувствовала эти и другие слабости своего анализа российско-советского исторического опыта и пыталась дополнить его в других работах.
В исследовании К. Шлёгеля имеются общие выводы и квалификации российского (и, в частности, советского) пласта в арендтовских работах о тоталитаризме и революции; его выводы (в целом) представляются обоснованными. Поэтому далее будут воспроизведены главные из них, — с присоединением некоторых корректирующих замечаний.
1. «У Ханны Арендт, — в целом верно пишет К. Шлёгель, — нет проблемы „Европа [с одной стороны] — Россия [с другой]”, но есть лишь одна проблема современного общества в состоянии кризиса и катастрофического урегулирования [кризисных процессов], все равно — в России, Германии, Северной Америке. X. Арендт рассматривает — как нечто само собой разумеющееся — Россию, [в том числе] Советскую Россию как часть европейского мира, а так называемый сталинизм относит к проблемам Европы, находящейся в кризисе. И было бы немаловажной заслугой нового прочтения „Элементов и истоков тоталитарного господства” X. Арендт, если бы мы были возвращены на почву фактов, относящихся к современному массовому обществу Европы, а не к одной лишь проблеме отношений между Европой и Россией, не к особому „русскому духу” » (К. Schlägel. Op. cit. S. 804).
Этот весьма важный вывод, не только не потерявший своего значения, но актуализированный как раз в XXI веке, нуждается в комментариях. И в годы выхода, освоения книги X. Арендт читающей публикой, и в наше время сильны (в мире в целом и конкретно в нашей стране) идеи и умонастроения исторического и духовного изоляционизма, в соответствии с которым крупные исторические повороты считается необходимым объяснять ссылками только или по преимуществу на «особые пути» европейских стран, с одной стороны, и России, с другой стороны. Верно отмечено К. Шлёгелем, что X. Арендт — в противовес подобным подходам — в книге о тоталитаризме имела в виду те важнейшие черты общемирового исторического опыта, которые в странах, причисляемых к различным социальным системам, породили существенно родствен-
247
Часть IV. Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
Н.В. Мотрошилово Hl Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
248
ные формы структуры, процессы социальной жизни, государственного управления, институты, a также феномены повседневной жизни, обусловили сходство человеческих судеб, трагедий, страданий — словом, всего того, что и было названо историей «тоталитаризма». Тут есть свои тонкости. У «изоляционистов» европейского толка в их сознании и писаниях имеется такой крен: когда они говорят об успехах России, например о выходе в космос, то склонны объяснять это «европейским», общемировым характером науки, технического прогресса. А когда речь заходит о социальных, политических провалах (например, о сталинизме), то предпосылки и причины усматриваются в чем-то типично российском. Что касается российских изоляционистов, то дело как будто обстоит ровно наоборот: успехи науки, культуры России или СССР приписывались и приписываются до сих пор преимуществам «русского пути», «русского духа», а провалы всякого рода — «тлетворному влиянию Запада», «проискам США» и других вражеских сил... Но схема ведь сходная, пусть и с разными ценностными знаками.
X. Арендт подходит к делу существенно иначе. До сих пор первостепенно важно то, что эта выдающаяся исследовательница твердо считала Россию интегральной частью Европы, европейской страной. Она также представила массу доказательств в пользу того, что тоталитаризм к середине XX века либо весьма основательно, либо частично укоренился на (относительно) общих основаниях, структурах социальной жизни — причем именно в Европе, которая считалась древнейшим очагом мировой цивилизации и в основном была таковым. А это заставляет вывести инициированный X. Арендт анализ «элементов и истоков тоталитаризма» на почву исследования кризисов и тупиков мирового цивилизационного развития. Отсюда существенное дополнение к выдающейся работе Ханны Арендт (и к выводам К. Шлёгеля). Полагаю, что X. Арендт доказательно продемонстрировала: кризисное состояние мировой цивилизации на рубеже XIX и XX веков, а еще отчетливее между двумя мировыми войнами ознаменовалось, причем (почти) одновременно в странах с весьма различным историческим опытом, мощным выбросом варварства, что привело к антицивилизационной катастрофе — сначала к «тоталитарному господству», а потом и к чудовищной, беспрецедентной по масштабам жертв и разрушений мировой войне. X. Арендт, правда, говорит о варварстве нацизма и сталинизма (в чем ее выводы и понятия родственны, например, исследованиям русских мыслителей, которые именно в Европе переживали ужасы нацизма). Но цивилизационную терминологию она, к сожалению, применяет весьма редко (случаи применения будут отмечены при разборе «Vita activa »).
2. Второй тезис К. Шлёгеля в его цитированной работе высказан лишь бегло, как бы «на ходу». Однако для нашего анализа он первостепенно важен. Основательность знаний Ханны Арендт о России и прозорливость, политическую зрелость ее суждений и прогнозов можно проиллюстрировать, обратившись к следующему феномену, отмеченному Карлом Шлёгелем: «До самой своей смерти в 1975 году она внимательно следила за российским развитием; и она сделала то, что для политологов и политических философов тех лет вовсе не было чем-то само собой разумеющимся: она была восторженным читателем авторов
„оттепели”, прежде всего Дудинцева и Пастернака1, и она с самого начала уловила значение появления таких фигур, как Андрей Сахаров» (К. Scblôgel. Ор. cit. S. 801).
Сказанное здесь К. Шлёгелем представляется необходимым особо акцентировать по двум причинам.
Во-первых, здесь содержится основа для объяснения истоков того расхождения между суждениями М. Хайдеггера и X. Арендт, которое всплывало не один раз и касалось принципиального различения (в случае X. Арендт) сталинистского периода в истории советской России и того этапа второй половины 50-х и 60-х годов, который получил название «оттепели». В понимании Хайдеггера они сливались во что-то единое; он то и дело заговаривал с Ханной или писал ей, что Россия вот-вот нападет на Германию. Подобный разговор — о чем подробнее в VI части моей книги — Хайдеггер повел во время последней встречи с Ханной. Ханна пыталась (но безуспешно) разубедить Мартина. Она достаточно разбиралась в политике, чтобы быть уверенной: война СССР против Германии или других европейских государств была невозможна. Правда, и у опасений Хайдеггера тоже были свои основания. Ведь уже стряслись венгерские события и советские танки уже вторгались в Прагу. Тем не менее X. Арендт, социально-политический мыслитель, о событиях и тенденциях своей эпохи судила глубже и точнее, чем ее учитель.
Во-вторых, дело не только в расхождениях с Хайдеггером. Позиции и подходы X. Арендт существенно отличались от ориентаций тех людей, которые и в ее, и в наше время применительно к российским делам и событиям довольствуются скудной информацией, почерпнутой из каких-либо малонадежных, идеологических по характеру источников. Увы, немало идей и тезисов блуждает из одних книг, статей, программ TV в другие и становятся ходячими штампами и стереотипами. В таких случаях новые, действительно прорывные события и линии российского развития остаются либо неизвестными на Западе, либо оцениваются по таким сложившимся штампам и меркам. Шестидесятые годы XX века и знаменитые движения «шестидесятников», которые, действительно, привлекли особое внимание X. Арендт, вовсе не сливались в ее сознании с предшествующими, тем более сталинистскими временами. Им она — вполне оправданно и перспективно — придавала огромное преобразующее значение.
1 К. Шлёгель ссылается на оценку Ханной Арендт творчества Б. Пастернака (Hannab Arendt. Die ungarische revolution und der totalitäre Imperialismus. München, 1958. S. 34).
Часть IV. Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт
Часть V
Книга X. Арендт «Vita activa, или О деятельной жизни»
ГЛАВА 1
Тематика, проблемы, особый жанр и специфические измерения работы «Vito activo»
Если присмотреться к структуре книги Ханны Арендт, то сразу возникает противоречивое впечатление: это что-то очень знакомое и, однако, незнакомое...
Тем, кто в нашей стране учился философии и работал в ней в ту пору, когда она была заключена в идеологическую рамку марксизма, и кто в то же время взял на себя труд основательно изучить неиспорченное этой идеологией наследие Маркса, — этим людям родство некоторых тематических линий размышлений X. Арендт и Марксова теоретического анализа должно прямо-таки бросаться в глаза. Да X. Арендт и не собиралась скрывать, что для ее концепции отдельные идеи и исследовательские пути Маркса являются инспирирующими и инструктивными. Марксовы сочинения нередко сочувственно цитируются в «Vita activa». Примыкание к Марксу, напомню, в 50-х годах XX века было характерно не только для философии, существовавшей в СССР, в Китае, в социалистических странах, но и для многих известных тогда европейских и американских авторов книг по социальной проблематике. Эти авторы вовсе не всегда были именно марксистами. Далее мы убедимся, что как раз таким исследователем — воздававшим должное ряду центральных идей Маркса и в то же время не строившим свои оригинальные концепции исключительно на «марксистской платформе», высказавшим в адрес Марксова учения немало веских критических соображений — была и Ханна Арендт.
Тем не менее центральные тематические блоки (они же — главы труда «Vita activa»; далее сокращенно V.a.) часто пересекаются с профилирующими темами философии Маркса и марксизма. Это сходство тематики ясно уже из заголовков. Первая глава («Человеческая обусловленность») тематически посвящена объективным, независимым от отдельного человека, именно бытийным данностям, что опять-таки отсылает к Марксу, хотя X. Арендт фактически осуществляет уже здесь первое принципиальное размежевание с марксистским учением о социальном бытии как совокупности производственных отношений. Во второй главе это разделы «Человек, общественное или политическое
живое существо» (§ 4), «Возникновение общества» (§ 6), «Общественное и частное» (§ 9). Третья глава («Труд») — размышления о труде (в особом смысле); четвертая глава посвящена проблемам das Herstellen, «создания» (изготовления) вещей мира с помощью орудий труда, инструментов; там затрагиваются темы овеществления, рынка обмена. В пятой главе (das Handeln, переведено неадекватно: «Действие») развита аренд- товская теория человеческого взаимодействия именно в сферах бытия- вместе-с-другими. Шестая глава посвящена осмыслению тематики Vita activa в Новое время.
Поделюсь личным наблюдением: когда я в начале 90-х годов XX века (увы, очень поздно) изучила «Human conditions» Ханны Арендт, то подивилась тому, насколько арендтовская — касающаяся Маркса — рамка рецепции по крайней мере проблемно-тематически родственна той, которая сложилась начиная с 50-60-х годов XX века в неортодоксальной отечественной философии. Той философии, что у нас была представлена именами Э. Ильенкова, М. Мамардашвили, Ю. Давыдова, Н. Лапина, Г. Батищева, В. Библера, М. Туровского и других (молодых тогда) авторов. Они выделили из сложного, комплексного наследия Маркса примерно те же тематические блоки, что и Ханна Арендт (причем синхронно, в то же время и независимо от нее), сосредоточившись на проблемах труда, свободы, деятельности, т. е. активности человека, отчуждения, превращенных форм и т. д.1
Однако если тематика книги X. Арендт порою не только напоминала о марксизме, но и пересекалась с ним, то более конкретное исполнение анализа даже сходной тематики для более внимательного и осведомленного читателя оборачивалось новыми, оригинальными очертаниями, не совпадавшими с марксистскими устоями. И дело было не только в марксистских идеях и ориентациях. Для представителей других мыслительных направлений XX века, например экзистенциалистских, в работе Арендт тоже было много необычного. Итак, при сравнении с уже имевшимися к началу 60-х годов и наиболее популярными тогда типами философского исследования первое, что трудно было не заметить, касалось несомненного факта: X. Арендт смело перешагивает границы, закрепившиеся к тому времени в философии, вообще в дисциплинарной системе гуманитарного знания, а также в рамках отдельных, известных тогдашней публике философских направлений. В связи с «экзистенциалистской родословной» Ханны Арендт, ученицы Хайдеггера и Ясперса, вопрос о зависимости или отмежевании ее мысли от этих исторических истоков не мог не выдвигаться на передний план, причем как для нее самой, так и для ее читателей.
251
1 Хотя я не изучала этот вопрос специально, впечатление такое, что названные философы (старших поколений) в большинстве своем — по разным причинам — тогда не были знакомы с появлявшимися в тот же период первыми крупными произведениями X. Арендт. Что не удивительно, если учесть, с каким трудом жившим в СССР гуманитариям, в том числе философам, удавалось «доставать» новейшую тогда зарубежную литературу. Книги Арендт были, скорее, замечены в отечественной социологии, которая в 60-е годы начала трудный процесс отпочкования от философии. При этом социологи уделили наибольшее внимание арендтовскому исследованию тоталитаризма, тогда как весьма специфическая по жанру, междисциплинарная Vita activa в основном не привлекала их внимания.
Часть V. (лава 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
252
э
I
5
cd
Применительно к философскому домену речь шла прежде всего о преодолении взаимной обособленности абстрактных областей философского знания (например, метафизики, гносеологии, а в ней — учения о сознании и знании) и социальной философии. Правда, для такого взаимного сближения философы и социологи много сделали еще в 30-40-х, а затем именно в 50-60-х годах XX века — вспомним о возникновении и начавшемся интенсивном развитии социологии познания, социологии науки1. X. Арендт, скорее всего, знала об этих тенденциях, потому что они появились еще в довоенной литературе — в хорошо известных работах М. Шелера, К. Манхейма. Но в 50-е годы социология познания и науки, впоследствии высоко развитые и обособлявшиеся от философии области, сами находились в процессе становления. К тому же процесс сближения, синтезирования философского и социологического знания всегда шел непросто, сопровождаясь противоположными тенденциями специализации, взаимообособления, на одной стороне которых были абстрактно-философские, метафизические, а на другой стороне — социально-философские, политологические домены внутри философии. Надо учесть и процессы отделения философии от взаимообособленных дисциплин гуманитарного комплекса, скажем истории, искусствоведения, филологии и т. п. Лишь позже произошло их сближение.
Ханна Арендт, которой принадлежат особые заслуги во взаимообо- гащении философии и социологии, шла и здесь своими, неизведанными путями, суть и специфику которых поначалу было сложно определить даже ей самой. Со стороны же разобраться было еще труднее: многое казалось и ярким, примечательным, и непонятным по предмету, смыслу и интенциям ее исследований. Именно так оценил V.a. Ясперс в письме к Ханне от 1 декабря 1960 года. Он написал: «Это уникальное (einzigartige) явление. Все важные и конкретные разъяснения проистекают из какого-то другого измерения»2. Великий философ Карл Ясперс и тут проявил свое умение по крайней мере опознать новизну идей, концепций, прозрений. Его слова удивительно верны: ведь он понял, что в V.a., как и вообще в сходном типе исследовательской работы X. Арендт, надо искать, найти, расшифровать «другое», т. е. оригинальное, специфическое «измерение». Но каково оно, это измерение, Ясперс с ходу определить не смог, а скорее всего, — из-за своей постоянной занятости другой работой — не заинтересовался решением такой задачи. Во всяком случае, отлучать это произведение от философии он не спешил. Вопрос о том, насколько и в чем философична книга V.a., как соотносится именно с философией все наследие X. Арендт, по многим причинам чрезвычайно сложен. Первая из существенных причин является историко-ситуационной и одновременно личной. X. Арендт вышла из круга учеников и последователей Хайдеггера. А он и в ранние годы творчества, и после вой¬
1 Я занималась и занимаюсь этой проблематикой начиная с кандидатской диссертации по проблеме активности субъекта в феноменологии Э. Гуссерля и социологии познания (1963), включая исследования 70-80-х годов, а также сегодняшние частично опубликованные разработки. Позволю себе отослать читателя к этим работам, а также к новой книге, посвященной отечественной философии 50-80-х годов XX века (см.: Мотрошилова Н.В. Отечественная философия 50-80-х годов. М.: Академический Проект, 2012. С. 126-245).
1 Н. Arendt I К. Jaspers. Briefwechsel. S. 443.
ны считал «подлинным философствованием» то, что делал сам, отлучая от философии, онтологии чуть ни не всю традицию, упрекая в «забвении бытия » и великих философов прошлого, не говоря уже о своих современниках. Когда Ханна Арендт обратилась к проблемам социального бытия, политики и т. д., она тоже отнеслась именно к философским традициям и современным ей формам подобных исследований весьма строго. Так возникли оценки и определения, согласно которым X. Арендт-де ушла из философской области (так думал и об этом писал, желая ей вернуться в философию, Хайдеггер). Она не стала настаивать на более точных определениях характера своего исследовательского труда, его соотношения с философией, предпочитая, чтобы ее называли «теоретиком политики», и как бы предоставляя будущему более точные дисциплинарные классификации. Учитывая, что разные работы X. Арендт расположены по отношению к философии неодинаково близко, все же намереваюсь всем своим дальнейшим исследованием доказать большое философское значение работ X. Арендт и значительную близость их тематики, жанра, материала, методологии к философии, особенно к философии социальной. В первую очередь это будет сделано применительно к У.а.
Надо сказать, что прояснение специфики У.а. до сих пор еще не выполнено сколько-нибудь полно. Упомянутая книга Ж. Таминьо кажется мне интересным шагом на пути к цели, почему я буду на нее ссылаться; но она — только один из шагов... Видимо, из таких посильных шагов в наши дни только и может складываться работа над блестящей и сложной книгой X. Арендт. Свой «шаг» попытаюсь сделать в данном разделе.
Итак, возникает вопрос: в чем оправданно видеть конкретное определение «другого», т. е. необычного, измерения анализа, новаторски избранного Ханной Арендт? Причем, напомню, анализа, примененного ею к темам, которые к середине XX века никак не представлялись забытыми, покинутыми, а напротив, достаточно плотно охватывались философией, социологией, историей и другими дисциплинами и присутствовали в тематическом ассортименте многих наиболее популярных тогда течений, направлений, произведений.
Мы установили, что смелое пересечение границ, т. е. синтетический, междисциплинарный характер, — одна из особенностей исследования Ханны Арендт в У.а. и в примыкающих к книге работах. Но установили также, что в поле изысканий ряда гуманитарных дисциплин, включая разделы и подразделы философии и социологии, у нее были предшественники и союзники-современники. Иными словами, при фиксировании и осмыслении того несомненного факта, что X. Арендт свободно переходит границы используемого, синтезируемого ею исторического, экономического, философского, социологического, филологического материала, еще требуется ответить на непростые вопросы о том, как именно и во имя чего она все это делает.
Во Введении она отчасти облегчает ответы на них, высвечивая некоторые свои главные, исходные заботы, исследовательские мотивы и устремления.
Мелькают такие темы: впечатляющие следствия «научно-технического прогресса » — прежде всего беспрецедентный для истории выход человечества в космос; но одновременно, параллельно — «кризис осно-
253
Часть V. Глава 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
H-в. Мотрошилова ЯВИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
254
ваний наук» в XX веке, включая критику прямолинейной идеи прогресса через ссылки на кризисные процессы в развитии научного знания в середине столетия, в послевоенное время (после атомной бомбардировки Японии)1; превращение современного общества главным образом в трудовой, «работающий социум» и связанные с этим разочарования людей — и многое другое. Пока перечислены социально-исторические факторы, о которых говорили и дискутировали многие ученые в тогдашнем обществе — и не они одни. Люди в «жизненном мире» (термин Э. Гуссерля, получивший после войны необычное для философского понятия распространение как раз в широком пространстве обычной жизни) думали о том же. Поэтому-то Ханна поняла, что столь общий заход настоятельно нуждается с ее стороны в конкретизации. Во Введении же она написала: «„Что мы делаем, когда заняты активной деятельностью” — вот тема этой книги», расшифровывая главные проблемные узлы ее исследования — это «анализ труда (работы), создания (изготовления) и действия (поступка)» (с. 13). Четко оговорено такое содержательное ограничение: «...высшая и возможно чистейшая деятельность, известная человеку, деятельность мысли, выходит за рамки этих рассуждений» (там же). Уже здесь — первое тематическое отграничение от экзистенциализма и других философских направлений, которые по большей части изучали человеческую мысль в ее «чистоте», а к тому же и сами как исследователи оставались в пределах bios teoretikos, «теоретической жизни». X. Арендт в V.a. будет, конечно, говорить о «чистой», теоретической мысли, но одним из главных предметов книги ее не сделает. Ограничение принципиально важное, в том числе и для избранной нами темы. Однако дело здесь не такое простое, как можно подумать, если взять только что приведенную самодефиницию. Верно, что здесь обозначилось противостояние Хайдеггеру и вообще «чистой философии». Ведь философию Хайдеггера часто понимали именно так, как о ней пишет Ж. Таминьо: она есть возвеличение bios theoretikos, теоретической жизни. Ханна не хотела, разумеется, принижать теоретическую жизнь, но все же была против ее элитарно-снобистского возвеличения над другими сторонами и формами целостной жизни человека и человечества. Но в V.a. она одновременно стремилась предметно ответить на вопрос: когда именно в человеческой истории и в каких объективированных формах истории мысли родились, закрепились, были переданы современной истории подобные обособления и возвеличения. И какие социально-исторические процессы, реалии питали и упрочивали их. В принципе через всю книгу
1 См.: Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. М.; СПб.: Алетейя, 2000. С. 7, 10. Далее при цитировании по этому изданию страницы указываются прямо в тексте моей главы. Перевод произведения X. Арендт выполнил В.В. Бибихин. Цитаты даются в «подлиннике» этого перевода. Пока, отвлекаясь от содержания и терминологии перевода (об этом — далее), приходится сразу сказать об одной особенности его грамматической формы. Дело в том, что В.В. Бибихин, хорошо зная, конечно, русскую грамматику, сознательно пошел на значительное сокращение — в нарушение тогда «узаконенных » грамматикой норм — знаков препинания (мужайтесь, издательские редакторы!). Впоследствии, к концу XX века были легализированы некоторые, но лишь некоторые из таких «нарушений». Как бы то ни было, перевод Бибихина может цитироваться только в его авторской редакции.
проходит явное стремление автора У.а. все же объединить целостную «жизнь» («биос» — греч.) и «биос теоретикос». Тут одна из ее общих исследовательских целей. Не здесь ли коренился источник и выявлялся стержень критического размежевания Арендт с Хайдеггером? Подождем с выводами, но пункт этот пометим, чтобы в дальнейшем разобрать проблему более предметно.
Автор У.а. не забыла подчеркнуть, сколь важным, именно профилирующим является для нее историческое измерение анализа. Но сослалась при этом отнюдь не на существенность исторического измерения теоретического исследования как такового, а на более конкретную задачу, поставленную ею в У.а., — «...проследить до самых истоков ново- европейское отчуждение мира в его двояком аспекте: бегство от земли во Вселенную и бегство от мира в самосознание...» (там же).
Приведенные здесь уточнения, сделанные самой X. Арендт, существенно важны, но пока, боюсь, все же далеко не полностью раскрывают для читателей, даже для профессиональных философов (не знающих подробно ее работ), каковы интересующие нас здесь «другие», т. е. оригинальные, именно арендтовские измерения анализа в книге У.а. Требуется дальнейшая расшифровка означенных (и других) тематических моментов.
Историческое измерение \/.а. и греческие истоки
Теперь мы ближе подойдем не только к определению специфических ракурсов У.а., но и к специфической теме — к протягиванию нитей от воздействия на Ханну Арендт идей (и лекций) Хайдеггера и в то же время к продумыванию причин и истоков в это время, в 50-60-х годах, оформившегося ее остро критического диалога с Хайдеггером. Забегая вперед, можно сказать: это диалогическое явление внутренне противоречиво.
Одна сторона дела в том, что зависимость концепций Ханны Арендт от поистине судьбинного, неотрывного «вглядывания» Хайдеггера в греческую древность была весьма значительной. Без обращения к «грекам» (меньше — к римлянам) книга Ханны вообще не имела бы своего особого характера и смысла — как без такого же (более раннего) обращения не обрела бы своей неповторимости философия Хайдеггера. Но зависимость Арендт от того изображения «греческого мира», которое дал Хайдеггер, со временем превратилось в размежевание с его учением. В чем же состояло то и другое — примыкание и диалог? Говоря далее об этой теме только коротко, конспективно, не бросаясь в целое море отсылок, деталей, филологических изысков (богато представленных в мировом хайдеггероведении, включая некоторые неплохие отечественные работы), можно здесь для начала прочертить лишь главные линии.
Для того чтобы понять сходство и различия между типично хайдег- геровским анализом античной мысли и тем образом, какой она принимает в У.а., нужно сначала бросить общий взгляд на отношение к истории философии исследований обоих мыслителей, когда они особенно близки к истории философии. Близки к ней, но ей отнюдь не тождественны. Ибо их «история философии» довольно существенно отличается от той специальной работы, которая испокон веков ведется в рамках
Часть V. (лава 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
Н.в. Мотрошилово |Щ| Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
256
дисциплины, известной под этим именем. Она отличается и от историко-философских экскурсов тех философских учений, в коих они, эти ракурсы и экскурсы, были побочным и несамостоятельным элементом, строго подчиненным главным теоретическим замыслам. Таково, например, учение Канта. Правда, и Хайдеггер шел по такому же пути. История философии не была для него ни преимущественным, ни сколько-нибудь самостоятельным полем работы. Оправданно сказать, что он это поле не возделывал, подобно скрупулезным историкам философии, а совершал на него своеобразные «набеги» — всегда со своими целями и замыслами. И пусть солидных историко-философских (по тематике) разработок в наследии Хайдеггера накопилось весьма немало, через них всегда и везде проступает влияние хайдеггеровского «компаса», на котором направление всегда было определено заведомо, как бы априорно. Работы Ханны Арендт тем более не могут быть причислены к собственно историко-философскому домену, потому что повороты анализа в них всегда были в основном социально-философскими, социологическими или философско-теоретическими (это мои определения).
Но несмотря на все сказанное, даже в произведениях X. Арендт (не говоря уже о Хайдеггере) «вхождение» в историко-философский материал было частым, по сути постоянным, высокопрофессиональным, основанным на богатстве первоисточников, которые прочитывались, разумеется, в оригинале.
Здесь приходится принять во внимание общие рамки разбираемой проблемы, а не только отношение к ней наших героев.
Прибегая к образам, историю философии как объективный процесс существования и исторического развития философского познания и знания можно уподобить грандиозному зданию. Проходят целые тысячелетия, пока в истории человечества, говоря опять же образно, на фундаменте множества сплетающихся друг с другом, постоянно обновляющихся цивилизационных и культурных форм начинает возникать, а потом отстраиваться, перестраиваться здание философии, в котором друг над другом появляются все новые исторические «этажи». История философии как специальная и тоже исторически формирующаяся область философского знания (в более или менее развитом виде оформившаяся, что естественно, существенно позже, чем возникла и развилась сама философия) описывает, осмысляет, а тем самым, конечно, удерживает, сохраняет знания об этом здании, о том, как оно возникало и отстраивалось. Но чем дальше в историю, тем больше грандиозность самого здания, его, так сказать, идеальный характер побуждают и даже принуждают к тому, что историко-философская работа становится сугубо выборочной, частичной по отношению к «многоэтажности», «многонаселенности» здания. Это имеет место также и в случаях, когда философ, став также и историком философии, обращает свой взор на такой «этаж», как процесс развития философии целой исторической эпохи и целого региона — например, на историю античной философии.
Прежде чем разобрать, в каком виде, ракурсе, в каком истолковании Античность попала в кадр У.а., кратко обратимся к тому, чему во всех
этих вопросах X. Арендт могла научиться у Хайдеггера и чему она, однако, не могла не противостоять.
257
Хайдеггер: тип его антиковедческого анализа (но примере исследований Аристотеля)
Теме «Хайдеггер и греки» посвящено множество специальных, высокопрофессиональных исследований. Для суммарного ответа на вопрос: в чем специфика «антиковедения» Хайдеггера? — хочу предоставить слово одному из самых больших авторитетов в данной области, человеку, на исследования и воспоминания которого мы уже не раз опирались, а именно Г.-Г. Гадамеру.
Г.-Г. Гадамер справедливо напоминал, что в немецкой философии отнюдь не Хайдеггер «повернул взгляд к грекам». «Несомненно, уже со времени немецкого идеализма философия греков играла почетную роль в немецком мышлении, причем как в историческом, так и в проблемноисторическом отношениях. Гегель и Маркс, Тренделенбург и Целлер, Ницше и Дильтей, Коген и Наторп, Кассирер и Н. Гартманн — таков не- прерывающийся ряд подтверждений этого, который легко продолжить, особенно если принять во внимание также великих классических филологов Берлинской школы»1. И все же Гадамер высказывает свое твердое убеждение — в чем ему, выросшему не только в основателя, главу герменевтической школы XX века, но и в выдающегося знатока, исследователя и древнегреческой, и хайдеггеровской мысли, вполне можно поверить: «Но вместе с Хайдеггером пробилось нечто новое, новая близость и новое критическое опрашивание греческого начала, которое примыкало к его, Хайдеггера, первым самостоятельным шагам и постоянно сопровождало его вплоть до последних дней жизни» (Ibidem. S. 286). Запомним эти слова: «опрашивание греческого начала » — слова, несомненно пробужденные стилистикой Хайдеггера и определенно повлиявшие на антиковедение XX века, — чтобы потом к ним вернуться.
Весьма ценны личные воспоминания Гадамера, восходящие ко времени глубоко его потрясших Марбургских лекций Хайдеггера. Гадамер непосредственно сослался на лекции по логике 1925-1926 гг., опубликованные в 21-м томе Собрания сочинений Хайдеггера. Но при этом заметил: тот, кто слушал его в Марбурге, знает больше. Ибо Аристотель, например, столь «впечатался» в личностный и профессиональный мир Хайдеггера, что порой как бы исчезала «историческая дистанция». Однако скоро приходило и осознание, что не менее важной целью учителя был «противоположный» (в том числе и по отношению к грекам) его собственный проект (Gegenentwurf) метафизики, философии как таковой.
Существенны уточняемые Гадамером исторические детали, касающиеся бытовавшего тогда, причем именно в «дохайдеггеровском» Марбурге, образа Аристотеля. Хайдеггер, справедливо напоминал Гадамер, стремился приблизить аристотелевские идеи к миру слушателей 20-х годов XX века. Но он руководствовался и «критически-деструктивным намерением» противопоставишь также и Аристотелю свою интер-
1 H.-G. Gadamer. Hegel. Husserl. Heidegger. Tübingen, 1987. S. 285.
10 694
Часть V. (лава 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
258
I
s
cd
прешацию соответствующих проблем. В то же время Хайдеггеру было важно очистить учение и совокупный образ Аристотеля от схоластических наслоений. И не только от них, но и от прискорбно искаженного образа, «который был свойственен тогдашнему критицизму в адрес Аристотеля — так, Коген любил говорить: „Аристотель был аптекарем”...» (Ibidem. S. 199).
Гадамер вспоминал, что поворотной для него лично — как позднее оказалось, устремленному к «своим» грекам — была хайдеггеровская интерпретация шестой книги аристотелевской «Никомаховой этики», в частности, по теме «phronesis» (знание, познание, рассудительность), а затем и критический анализ диалогов Платона. В кратком эссе «Платон» (1976 год) Гадамер, предлагая свою суммарную интерпретацию философии любимого античного мыслителя, вместе с тем прекрасно показал, насколько тесно удивительный хайдеггеровский абрис греческой мысли (прежде всего платоновской и аристотелевской) был увязан с совершенно особой интерпретацией у Хайдеггера нововременной философской мысли1.
Теперь попытаемся конкретнее подобраться к (сжатому) определению того типа обработки историко-философского материала, который является, так сказать, фирменным стилем Хайдеггера. И сделаем это, обратившись к некоторым страницам антиковедческого пласта хай- деггеровского наследия. А в качестве «сподручного» примера возьмем те материалы из 33-го тома Полного собрания сочинений Хайдеггера2, которые примыкают к подзаголовку «Аристотель, Метафизика 0 1-3. О сущности и действительности силы». Речь непосредственно идет о текстах, возникших на основе лекций, прочитанных Хайдеггером во Фрайбурге в 1931 году. На их примере вполне возможно обрисовать стиль хайдеггеровского «антиковедения» вообще и «аристотелеведе- ния» в частности. (Преемственность по отношению к марбургским интерпретациям несомненна.)
Объявленные Хайдеггером лекции, как сообщает ответственный редактор тома (Н. Htini — S. 225 и ff.), носили название «Интерпретации из античной философии». Они были конкретно посвящены «Метафизике» Аристотеля. (Издатели опирались на соответствующую рукопись Хайдеггера, начатую им 28.IV и оконченную 30.VII.1931 года.)
Теперь — о главных типологических особенностях работы Хайдеггера, в данном случае над «Метафизикой Аристотеля», его «Интерпретаций», как он сам их называет.
1. Прежде всего, эта работа есть «философское рассмотрение» (philosophische Abhandlung — S. 3) конкретного текста — из IX книги «Метафизики» Аристотеля. Это пока что вполне типично для антико- ведческих историко-философских исследований. Осуществляется также и предварительный тематически-понятийный выбор: Хайдеггер избирает понятия 5uvapi£ (Dynamis — движение) и ¿v6gye (Energie — энергия). Подобные отграничения в анализе тоже достаточно характерны для историко-философской работы. При этом, конечно же, Хайдеггер
1 H.-G. Gadamer. Op. cit. S. 238 и ff.
2 М. Heidegger. Gesamtausgabe. II Abteilung: Vorlesungen 1923-1944. Bd. 33. Fr. a/M., 1981. Далее при анализе и цитировании страницы даются по этому изданию.
осуществляет сопоставление избранных понятий с другими категориями — такими как «логос», но в основном с теми, которые он именует «категориями сущего» (Kategorien des Seiendes — S. 7). Однако по видимости историко-философские подходы, в чем мы скоро убеждаемся, уступают место оригинальному следованию хайдеггеровскому интерпретативному компасу.
2. Ибо сравнение со многими другими, в большей мере «объективными» филолого-текстологическими изысканиями, посвященными философии Аристотеля (что могут подтвердить аристотелеведы в узком, специальном смысле этого слова), показывает: Хайдеггер сразу поворачивает внимание, свое и своих слушателей, затем и читателей, к искусно встраиваемому им в материал интерпретативному стержню, каковым являются, несомненно, категории и проблемы бытийного, онтологического ряда. И отнюдь не случайно «Вводная часть» носит название «Аристотелевские вопросы о множестве и единстве бытия» (S. 3-48). Здесь как бы закладывается интерпретативный фундамент, на который Хайдеггер станет опирать более конкретный анализ материала, связанного с аристотелевскими понятиями «движения» и «энергии» (в I—III разделах лекций Хайдеггера). Вывод Хайдеггера: «Вопрос o5nvapi^ иеутеХехеси (движении и энтелехии) — это вопрос о сущем как таковом, хотя и иначе направленном. Он движется, также и в качестве категориального вопроса, в общем домене вопрошания о сущем, каковое и является, в принципе, единственным вопросом, который руководит Аристотелем» (S. 9, курсив мой. — Н. М.). Этот вывод «о единственном» вопросе, якобы изначально и сущностно определявшем буквально все размышления Аристотеля в «Метафизике», — типично хайдеггеровский; он тесно увязан в единую мыслительную цепь с тем мощным, решительным онтологическим поворотом, который мы ранее рассмотрели на примере Марбургских лекций или «Бытия и времени» Хайдеггера. Несмотря на значительную роль в наследии Аристотеля, особенно в «Метафизике», тех понятий, категорий, мыслительных ходов, которые впоследствии, много позже, были отнесены к онтологии, такую тотальную онтологическую экспансию, какую предпринимает Хайдеггер, вполне возможно подвергнуть сомнению. Причем по разным — и по конкретным историко-философским, в том числе аристотелеведческим, и по теоретическим основаниям, относящимся к факту сугубо постепенного, протянувшегося через века складывания »/деонтологии и тем более онтологии в ее сколько-нибудь развитом, самостоятельном виде.
Тематика Аристотеля в этой цепи — специфическая и сугубо специальная. Но сейчас речь совсем не о том, адекватно ли такое предпринятое Хайдеггером сплошное «онтологизирование» самому аристотелевскому наследию (вернее сказать, в какой мере такая интерпретативная, герменевтическая тенденция поддерживается — или опровергается — другими аристотелеведами, ибо как бы написанной в небесах «историко-философской истины» не существует и существовать не может).
Для нашей темы важно, что — в отличие от Хайдеггера — немало аристотелеведов прошлого и настоящего не замахиваются на столь
259
ю*
Часть V. (лава 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
260
I
s
cd
мощное подчинение (многомерного исходного) текста, в данном случае «Метафизики», какому-либо действительно наличествующему в нем проблемно-категориальному пласту. По большей части, за очень редкими исключениями, историки античной философии, когда они пишут об этом (или другом) сочинении, об этом (или ином) философе, остаются на уровне самих текстов, обсуждая, толкуя оригинальный текст, а во многих случаях и проблемы его перевода на разные языки, соглашаясь или споря с другими антиковедами.
Подход Хайдеггера — одно из решительных исключений в том смысле, что его главное намерение состоит в целенаправленном и, можно сказать, жестком прилаживании более или менее пригодного историко-философского материала к собственной теории. Правда, в ходе такой, я бы сказала, «агрессивной» герменевтики он: 1) скрупулезно, подробно разбирает отдельные части текста (сначала приведенные в греческом оригинале); 2) сопоставляет «Метафизику» Аристотеля с другими его сочинениями; 3) делает краткие экскурсы в последующую историю философии (а в ней аристотелевские понятия «движения», «силы», «энергии», как известно, наследовались и перетолковывались — см. S. 94 und ff. о Декарте или Лейбнице); 4) через «Метафизику» проникает в предшествующую или современную Аристотелю античную философию (так, III раздел анализируемых лекций Хайдеггера посвящен размежеванию Аристотеля с мега рекой школой). (Что, в сущности, отсутствует в этой работе Хайдеггера, так это перекличка с исследованиями современных ему антиковедов, которых, как было показано ранее, он не очень-то жаловал. Они отвечали ему тем же.) Иными словами, и для истории философии «аристотелевед- ческие» лекции (потом — тексты) Хайдеггера представляют немалый интерес. Но у нас, что, верно, заметил читатель, термины «антико- ведение» (в частности, «платоноведение» или «аристотелеведение») в случае Хайдеггера взяты в кавычки. По той причине, что от «классического» историко-философского исследования они существенно отклоняются уже упомянутой целенаправленной и последовательной «агрессивной» онтологизирующей герменевтикой.
Разумеется, для большей полноты анализа надо подтвердить высказанные ранее суждения сопоставлением аристотелеведческих исследований Хайдеггера с его другими (многочисленными) обращениями к греческому философскому материалу. Здесь я, очень кратко, привлеку внимание лишь к одному из последующих «антиковедческих» по форме сочинений Хайдеггера — к выразительному небольшому тексту 1946 года «Der Spruch des Anaximanres» («Изречение Анаксимандра»). Это слова Анаксимандра (в переводе А. Лебедева): «...а из каких [начал] вещам рождение, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу противозаконное возмещение неправды [= ущерба] в назначенный срок времени»...1
Отвлекусь от хайдеггеровских подробностей — от перевода известного изречения на немецкий язык, от соответствующей полемики с
1 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. Издание подготовил А.В. Лебедев. М.: Наука, 1989. С. 127. Вполне возможны разногласия и споры по поводу приведенного русского перевода А. Лебедевым Анаксимандрова изречения.
Ф. Ницше и Г. Дильсом и его «Фрагментами досократиков», от ссылок на суждения Гегеля об Аристотеле и т. п. Здесь Хайдеггер ближе всего к типичному историко-философскому антиковедению, с которым, кстати, он полемизирует в связи с несколькими строчками из Анаксимандра. Но что в данном эссе и в других работах существенно отличает его «антиковедение» от соответствующего — хорошо этаблированного и в его, и в наше время — раздела истории философии, так это смелый общетеоретический выход к плодотворному осовремениванию вклада Античности в историю культуры, мысли, всей жизни человечества, к философскому увязыванию прошлого, настоящего и будущего. Гадамер совершенно прав: происходит энергичное, далеко идущее «опрашивание греческого начала ». Здесь характернейшая черта мысли Хайдеггера, взятой в ее целостности. В очерке об Анаксимандре он пишет: «Вся история (Historie, т. е. повествование, размышление об истории. — Н. М.) вычисляет грядущее из ее образов будущего, определенных благодаря прошлому... Древность, которая определила изречение Анаксимандра, принадлежит к наиболее раннему из раннего времени Запада (Abend- Landes, т. е. страны заката. — Н. М.)»1.
И вот главная линия рассматриваемого рассуждения Хайдеггера: услышав, узнав изречение Анаксимандра, мы вправе подумать, что с нами говорит давно прошедшая эпоха. Мы можем трактовать его «исторически», философски и психологически, пытаться переводить на разные языки и полемизировать по этому поводу, справедливо замечает Хайдеггер (Ibidem. S. 324). Но его больше всего интересует проблема иного «перевода с греческого» — такого, при котором, согласно Хайдеггеру, «греческое» надо толковать «изначально», т. е. совершенно особым образом. Это, разъясняет он, не есть нечто народно (völkisch) или национально своеобразное; это также не антропологический и культурно специфический феномен. А что же есть здесь «греческого» — в хайдеггеровском толковании? В ответ на столь важный, интригующий вопрос следует истинно хайдеггеровская вязь именно бытийных и иных понятий: бытие (das Sein), «сущее» (das Seiende), «свет бытия» (das Licht des Seins) и т. п.
Требуется, таким образом, еще один «перевод» — не с немецкого (в нашем случае — на русский). А «перевод» с того совершенно особого «языка», на который Хайдеггер предварительно уже «перевел» все «греческое» — общее и конкретное (в последнем случае — например, изречение Анаксимандра). Его, такой перевод, приходится делать всякому человеку, пусть и неравнодушному к философским тонкостям, интересующемуся Хайдеггером, но желающему понять суть проблемы независимо от специфически хайдеггеровского философского (здесь — «бытийственного») сленга.
«В том, что мы называем греческим, заключено, если мыслить эпохально, начало эпохи бытия » (S. 334), — пишет Хайдеггер. Как бы завлекательно это ни звучало, Хайдеггер не может не понимать, что нужны
261
1 М. Heidegger. Holzwege. Fr. а/М.: Vittorio Klostermann, 1950, 1980 (6-е изд.).
S. 323.
Часть V. Глава 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
H.ß. Мотрошилово ДыИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгтие-время-любовь
262
еще какие-то разъяснения. И он делает их. Но как? Хайдеггер «отсылает» от слишком общего понятия Бытия к кружевной игре со словами (однокоренными с «Sein», бытие и т. д.), к новым малопонятным словообразованиям и вопросам, и т. п.
В результате филигранная игра словами и понятиями1, как бы она ни была интересна филологам или историкам философии, оборачивается весьма характерными хайдеггеровскими рекомендациями.
Судьбу Запада (Abend-Landes, т. е. страны заката) он рекомендует, даже требует связывать... с правильным пониманием, «переводом», в широком смысле, греческого слова eov, что по-немецки значит «seiend», т. е. «бытийствуя»! Все это, конечно, философские иносказания и экстраполяции, преувеличения — и как всякие иносказания, требуют расшифровки. Дает ли их Хайдеггер? Сомневаюсь. Правда, о хаосе, об угрозах, нависших над самим бытием, Хайдеггер говорит немало верного, пророческого. В конечном счете сегодня не устарели, а наоборот, актуализировались его призывы — озаботиться «самим бытием», ибо над будущим нависла угроза полной гибели, «заката» человека и человечества (а может, угроза такого — впервые реального — тотального заката особенно актуальна для нашего времени или для самого ближайшего будущего). Вполне можно согласиться: Abend-Land, т. е. Европа, «страна заката», должна особо озаботиться именно бытием своим, иными словами, своей ролью в истории, возможностью самого своего дальнейшего исторического бытийствования-существования.
Но тогда тем более настоятельно возвышаются над частным содержанием вопросы, которые касаются и хайдеггеровского образа Античности, и его значения (по крайней мере) для XX и XXI веков. Предположим, что мы (вместе с Хайдеггером и многими другими авторами) примем вполне верную идею о фундаментальном значении греческой древности для последующей истории Запада и всего человечества. Допустим, мы зададимся «хайдеггеровским» вопросом: какие именно мыслительные принципы — в данном случае философские — пришли к нам от греческого раннего «восхода» и должны быть оживлены, актуализированы сегодня, когда, по его (и других мыслителей) совсем непраздному мироощущению, надвигается «закат Европы». Но оправдано ли «деконструирующее» стягивание Хайдеггером всей многообразной, многокрасочной ткани «греческого наследия» к чисто бытийственным философским узлам, тем более кардинально переинтерпретированным? Притом бытийным узлам, которые предстают не в греческой подлинности (сколь бы трудно ни было к ней пробиться сквозь толщу вековых философских и культурных наслоений), а в намеренной, целенаправленной, многошаговой онтологической деконструкции, предпринятой Хайдеггером? Отвечу на эти сложные профессиональные сомнения словами выдающегося отечественного мыслителя Алексея Чернякова: «Уже в „Бытии и времени” Хайдеггер говорит о задаче деструкции истории онтологии. Такая деструкция, очерчивая традицию в ее границах, приводит нас к ее истоку. Но, упи¬
1 Например, изречение (по-немецки: der Spruch) он искусно сплетает со словом «spricht», ренет, изрекает и т. д.
раясь в фундамент, достигая границ текстуальной памяти, мышление не может двигаться дальше в форме де(кон)струкции»1.
Произведение У.а. показывает: именно такими были важнейшие вопрошания и «опрашивания», которые Ханна Арендт предпринимала, когда обращалась к богато задействованному в ее книге античному материалу.
Образ Греции, ее наследий и ее бытийности в У.а.
Ханны Арендт
Тема эта в высшей степени трудная, многоаспектная, почему дать даже и общий ее абрис весьма трудно.
Приступая к такому анализу, с самого начала хочу подчеркнуть одно принципиальное различие между Хайдеггером и X. Арендт в их подходах к древнему мыслительному материалу. X. Арендт, это мы помним, слушала повернутые к греческой древности лекции Хайдеггера в Марбурге. После войны она читала близкие по темам сочинения бывшего учителя, написанные в годы войны и в послевоенное время. По содержанию, структуре, основным идеям и акцентам между этими отделенными во времени хайдеггеровскими изысканиями не было — в части истолкования Античности — принципиальных различий (это мое мнение).
И казалось бы, какие тут вообще могли быть различия, если древнейшие источники оставались неизменными (разве что требовалось учесть вновь «открытые» материалы)? У подобного вопроса и недоумения как будто бы есть веские основания: имеется в виду, что антиковедческие историко-философские исследования (подобно самим «объектам» их интереса — древним философам и их учениям) как бы возвышаются над любыми историческими изменениями и поворотами, почему, в частности, изыскания авторов-антиковедов разных веков не просто обсуждаются как бы со стороны, но нередко с одобрением принимаются современными профессионалами.
Не станем вдаваться в спор относительно специальных историко- философских тонкостей. Заметим лишь, что дело существенно меняется, если проблема ставится широко, по-хайдеггеровски: что мы, люди современной культуры, перенимаем, должны перенимать, даже не можем не перенимать от греческой древности? Такую актуализирующую — во многом хайдеггеровскую — постановку проблем (на почве истории философии, теории культуры, философии истории или иной теоретической дисциплины) Ханна Арендт, что неоднократно отмечалось во всем предшествующем изложении, в целом поддерживает, заимствует, развивает. Но при подобной исходной установке для X. Арендт вся оптика ее теоретического взгляда — уже повернутого к социальной философии, социологии, в частности, к концепции политики — решительно изменилась по сравнению с более ранними хайдеггеровскими образцами. Теперь, после чудовищной мировой войны, она уже никак не могла «разглядывать», «опрашивать» Античность и другие исторические вехи, этапы развития человечества с чисто теоретическим спокойствием — и
1 А.Г. Черняков. Хайдеггер и греки // Мартин Хайдеггер. СПб.: Изд-во РХГИ, 2004. С. 224.
Часть V. Глава 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
H.ß. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: быше-время-любовь
264
так, как если бы со времени вдохновенной учебы у Хайдеггера в Марбурге для нее, для всего мира ничего не изменилось. Ибо в жизни отдельных людей и целых поколений переломилось очень многое — говоря обобщенно и философски, изменилось именно бытие в совокупности его измерений, структур, перспектив. Так почему же хайдеггеровская философия, которая как будто чаще, настойчивее других «вопрошала» о бытии, твердила о судьбе Запада, Европы как «Abendland», т. е. «стране заката », — почему она не дала хотя бы поверившим в нее людям сколько-нибудь определенного понимания событий, не предложила надежных духовных и нравственных ориентиров? Не потому ли — по сути спросила себя и других Ханна Арендт в своих сочинениях (и на общие, и на конкретные темы), — что как раз ответственная философская концепция бытия, тем более социально-исторического бытия, Хайдеггером не была создана? Вставали — в данном случае применительно к хайдег- геровской экзистенц-философии — многие другие вопросы бытия, сознания, жизни человека и человечества. Надо ли доказывать, что в столь коренных вопросах и в необходимости их осмысливать оказались сконцентрированными судьбы не одной философии, но и всей человеческой культуры, а в известном смысле и темы бытийствования, т. е. жизни, сохранения всего человечества. Эти темы и проблемы стоят перед человечеством, его культурой и сегодня.
Мы уже видели, сколь остро, поистине эсхатологически они встали перед поколениями, ввергнутыми в пучину Второй мировой войны, а потом принужденными осмысливать ее причины и последствия. Философы или социальные мыслители, подобно Ханне Арендт вышедшие из недр философии, после войны не могли не осуществить критический расчет с теми идеями и концепциями, которые они изучали, усваивали, иногда восторженно принимали в своей молодости. Вот и работа «Vita activa», без сомнения, стала такого рода расчетом.
Далее мы более конкретно рассмотрим V.a. с точки зрения того, в чем Ханне Арендт пригодилось специфическое, как мы пытались показать, «антиковедение » Хайдеггера, почему и как она, почти не обращаясь явно к работам бывшего учителя, предложила свое толкование и свои ответы на поставленные уже им вопросы о том, чем человечество обязано грекам и каково оно, это наследуемое «греческое», «переводимое» на все «языки» последующей жизни человечества. Перед нами, таким образом, встает задача кратко охарактеризовать совокупный образ греческой древности в V.a.
Хочу предупредить: сначала речь пойдет лишь об одном ракурсе, пласте произведения X. Арендт. И о пласте, ракурсе чрезвычайно важном, однако почти что упущенном в многокрасочном, велеречивом повествовании Хайдеггера, посвященном греческой древности, ее мыслительному миру и философскому наследию.
Вернемся — для сравнения двух типов анализа Античности — к идеальному, «виртуальному», что ли, образу философии как величественного здания и к уподоблению греческой Античности «первым» в содержательном и историческом смысле «этажам» его. (От вопроса означении более древних или «одновременных» восточных философий мы здесь отвлечемся.) Еще до возникновения философии в (более
или менее) собственном смысле существовали и на протяжении веков оказывали свое воздействие цивилизационно-культурные предпосылки, вызовы, запросы, в сумме, целостности как раз и приведшие к возникновению, раннему развитию философии, в том числе в греческом регионе. Эти истоки, вне всякого сомнения, нуждаются в специальном, тщательном исследовании1. К сожалению, приходится констатировать: в общем составе поистине необозримого мирового антиковедения, увы, очень немного сколько-нибудь солидных работ, авторы которых рисковали «выйти вовне», перейти от имманентных историко-философских материалов к исследованию социально-цивилизационного фундамента древней философии. Подчеркну: именно Ханна Арендт, и как раз в V.a., собрала, представила, обсудила имевшиеся к концу 50-х годов XX века наиболее важные работы подобного типа. (Так что современным отечественным антиковедам, в массе своей мало интересующимся соответствующей литературой, было бы полезным, осмелюсь предположить, изучение книги V.a.)
Когда говорю об этом, хочу быть правильно понятой. Разумеется, сама по себе история Античности — это замечательно обширная, развитая область; такой же солидной, продвинутой и в наше время является конкретное философское антиковедение. Но вот глубокая теоретическая связь между двумя столь развитыми исследовательскими сферами часто остается чисто внешней: в лучшем случае встречаем вводные исторические замечания как беглую обрисовку фона...
И ведь так получается совсем не потому, что историки философии этого материала не знают — напротив, им-то он, как правило, хорошо известен (или мог бы быть известен). Но он куда как часто остается «не- прорисованным», неосмысленным, не только не соотнесенным с философией, а еще и отделенным от нее глухой стеной.
Хайдеггеровское «антиковедение» — яркий тому пример. В работах Хайдеггера (во всяком случае, известных мне) очень редки попытки, если выразиться парадоксально, «восхождения к фундаменту», т. е. конкретного содержательного движения от философских идей к их цивилизационно-культурному основанию или, наоборот, от него — к тем или иным (уже известным, «вдоль и поперек» обсужденным) философским идеям, концепциям, учениям. В этом факте, как в капле воды, отразилось и тогдашнее, и сегодняшнее состояние философского антиковедения.
Именно на линии противостояния подобным традициям родилась, по моему мнению, книга «Vita activa». К критическому диалогу с Хайдеггером как «антиковедом» Ханну Арендт парадоксальным образом побуждали те черты его философствования «с помощью греков», которые марбургские и иные студенты, ученики Хайдеггера в 20-х годах горячо поддерживали.
Снова напомню о них — уже в интересующем нас здесь ракурсе.
Осовременивание, оживление древнейших философских учений, так пленявшее слушателей в лекциях Хайдеггера, в основном выливалось
265
1 Результаты исследования возникновения и развития греческой философии, выполненные в этом ключе, я впервые опубликовала в книге «Рождение и развитие философских идей» (М., 1990; второе, дополненное издание. М., 2010).
Чостъ V. (лова 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
H.ß. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна прендт: бытие-время-любовь
266
в абстрактную вязь ранее рассмотренного хайдеггеровского «онтологизма», который чем дальше, тем меньше должен был удовлетворять даже верных учеников и последователей. Особенно тогда, когда вопрос «Чему мы можем и должны учиться у греков? » — перекликался — и ведь вполне в духе, стиле хайдеггеровской актуализации — с тревожными раздумьями, а потом и самыми настоящими страданиями из-за разломов, угроз вполне конкретной истории первой половины XX века. Хайдеггер вроде бы и на эти проблемы откликался, много говорил и писал о запутанных путях, лабиринтах, тупиках, намекая и на современную ему историю (вспомним о тревожных категориях «Бытия и времени»). Но все это до войны, а также после нее, к 50-м годам1 было выражено им так непрямо, косвенно, оставалось столь зашифрованным, что какого бы то ни было ориентирования, тем более практической помощи от его теорий и учений ждать не приходилось.
Полагаю, для X. Арендт в то страшное время учение Хайдеггера не могло служить и надежной теоретической опорой. Ее все более интересовали, привлекали к себе социальные, политические проблемы — и быть может, в особенности те, которые, несомненно, имели самые древние, греческие корни. И опять-таки: обучение у Хайдеггера в этом отношении не так-то много могло дать пытливому и растревоженному уму его ученицы.
Здесь опять требуется очень важное и тонкое уточнение. Было бы серьезной фактической ошибкой утверждать, будто Хайдеггер не интересовался темами полиса, полисной жизни, а соответственно — античной философией, в которой работы на эту тему, как известно, играли заметную роль. Хайдеггер обращался и к таким феноменам греческой жизни, а еще больше — к произведениям великих греков, их исследовавших. Но вот как он это делал — серьезный и специальный вопрос. Отвечать на него конкретно и полно — задача соответствующих хайдег- героведов, которая уже ими выполнялась и будет, несомненно, выполняться в будущем.
Здесь, не вдаваясь в детали, могу лишь в общей форме утверждать, что и при использовании такого специального материала Хайдеггер настойчиво проводит свою уже хорошо известную нам общую линию — он стягивает также и все оттенки древнегреческих «политий » в одну линию, которая опять-таки сводится к отстаиванию центрального, по его мнению, значения темы и категории бытия. Приведу красноречивую цитату из Хайдеггера (она относится к семинару о «Государстве» Платона, который Хайдеггер вел в 1942-1943 годах, т. е. в разгар Второй мировой войны): «Что такое polis? Это слово само по себе толкает нас к ответу, поскольку мы знаем, как достичь существенного усмотрения греческого опыта относительно Бытия и истины — того существенного усмотрения, которое высвечивает все. Polis — это polos, веретено, локализация вокруг которого специфическим образом притягивает все, что для греков предстает проистекающим изнутри их бытия. В качестве такой локализации веретено позволяет отдельным [случаям] бытия проявить¬
1 О более поздней философии Хайдеггера — после поворота (Kehre) — нужен особый разговор, и в дальнейшем к этой теме мы обратимся.
ся в их Бытии — в соответствии с тотальностью их вовлеченности...»1 Становилось ли ясно из этого и подобных текстов Хайдеггера, что такое «полис»? И каково содержание и значение именно «полисных» — иными словами, гражданских, коммуникационных (выражаясь современным языком) — структур как для греческой древности, так и для последующей истории человечества (учитывая, что к социальному бытию античной и последующей истории они имели самое прямое отношение)? Вряд ли. И не восходили ли чудовищные бедствия 30-40-х годов XX века к тому, в частности, факту, что гражданские, коммуникативные, демократические формы и структуры, опробованные уже греческими полисами и как бы переданные ими в преобразуемое в веках цивилизационное наследие человечества, оказались не улучшенными, преобразованными применительно к потребностям времени, а грубо, насильственно разрушенными в самом сердце Европы? А ведь постановка этого комплекса вопросов и ответ на них, скажем мы, забегая вперед, — один из центральных аспектов V.a.
Из витиеватых «речений» Хайдеггера мы узнаем только то, что полис имел для греков огромное значение. Но это ясно и известно без Хайдеггера. Подобных иносказательно-витиеватых ответов на прямые, исторически определенные вопросы у Хайдеггера большинство.
И опять-таки: при осмыслении подобных размежеваний хотелось бы избежать каких-либо передержек и упрощений. Например, неправильно было бы не понять, не поддержать существенную для Хайдеггера, продолженную у X. Арендт и в принципе великую идею о громадном, поистине центральном значении философии для греческого мира и его культуры — и стало быть, если выражать ее на другом языке, о социально-историческом смысле, а также и о политическом значении философской работы античных мыслителей.
В хайдеггеровском толковании греческого мира и его философии, а особенно их единства, были моменты, которые, несомненно, на всю жизнь покорили и впечатлили Ханну Арендт — и не ее одну. Но ей они просто-таки запали в душу. Ж. Таминье верно отметил, что уже с начала своих Марбургских лекций Хайдеггер брал греческую философию в той ее «кардинальной форме», а именно в форме метафизики, которая была не только и не столько «доктриной», а «скорее формой существования, и даже высшей его формой» (/. Tamineux. Op. cit. Р. 4). Таминье уместно привел в подтверждение этой своей мысли немало цитат из опубликованных в Собрании сочинений Хайдеггера текстов, в которых прямо говорится: Платон и другие мыслители греческой древности считали философию именно той формой существования, которая была направлена на утверждение самых высоких ценностей греческого мира и на борьбу с идейными течениями, эти ценности попиравшими или принижавшими (Ibidem). В частности, Таминье ссылается на хайдеггеровское акцентирование жизненной укорененности таких понятий, как aletheia, poiesis, praxis. Но ведь герменевтическая цель осмысления их у Хайдеггера — это уже мое добавление — состояла как бы в незаметном подталкивании читателей к мысли, будто великие Платон и Аристотель предопределили
267
1 М. Heidegger. GA. Bd. 54. S. 132-133 (курсив мой. — H. М.).
Часть V. (пава 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
268
£
Ю
К
O'
z
о
а
<Г
о
X
X
о
х
X
а
£
0
O'
>х
я
X
1
о
э
a
ей
движение всей последующей философии в сторону абстрактно понятого Dasein, т. е. именно в направлении, избранном самим Хайдеггером. В чем хайдеггеровскую реконструкцию, полагаю, вполне можно и даже нужно оспорить. Но это специальный историко-философский, философско-теоретический вопрос.
Как бы то ни было, трудно не согласиться вот с какой мыслью: «экзистенциальный» подход Хайдеггера к греческому наследию, т. е. прочерчивание близости философии к «существованию» (Existenz) людей, к экзистенциальным переживаниям и рефлексиям (по крайней мере) древних философов для Ханны Арендт и ее зрелых сочинений имел немалое стимулирующее значение. Но все это — лишь до определенной степени, которую никак нельзя преувеличивать. В тех работах Ханны, где она открыто полемизирует с Хайдеггером, выражается ее прямое несогласие с ним, причем по вопросам, для ее анализа стержневым, принципиальным. Так, в статье 1945 года, которая была опубликована в «The Partisan Review» (и была одним из шагов к V.a.), X. Арендт писала: «Мы находим, следовательно, застарелую враждебность философа по отношению к полису в хайдеггеровском анализе повседневной жизни, осуществленной в терминах „das Man” („они” или правила общественного мнения как противопоставленные „самости”), в рамках которого публичная сфера имеет своей функцией сокрытие реальности и предотвращение даже и проявления истины»1. Это размежевание с Хайдеггером и многими другими европейскими мыслителями для Арендт едва ли не центральное: недоверие к деятельности людей в «публичной сфере», в области политики — в самом деле, «застарелая» черта целого ряда подходов, произведений, концепций философии на всем протяжении ее развития. (А ведь от нее тянулись нити к реальному отчуждению в поведении прежде всего тех индивидов и слоев, которые были задействованы в науке и культуре, — об этом у нас ранее уже говорилось и конкретнее пойдет речь при разборе текстов V.a.)
По сути дела X. Арендт пересмотрела — и очень конкретно, подробно — тот идейный пласт хайдеггеровской концепции, который произвел огромное впечатление на философию, культуру тогдашней и более поздней эпох и который был запечатлен в формулировках, образах концепции «Man». Никак не отрицая той правды, что заключалась в хайдеггеровском символе-понятии «das Man», X. Арендт полагала: это не вся, а быть может, и не самая главная правда, которая должна быть сказана относительно сфер совместного бытия людей, в том числе и их взаимодействий на арене политики. Это исследовательница пыталась предметно доказать в V.a., избрав в качестве примеров также античные образцы.
А как именно требовалось исследовать эти сферы и рассказать о них? Здесь, как мы уже знаем из перечисления глав V.a., одна из центральных тем повествования Ханны Арендт.
Мы не заканчиваем начатого здесь разговора о двух разных истолкованиях судьбинного значения философско-культурного наследия Античности. Поскольку в книге V.a. такое истолкование не имеет отдельного, как бы самостоятельного значения, а вплетено (и обяза¬
1 Н. Arendt. The Concern with Politics... // Essays in Understanding. N.Y., 1994. P. 433.
тельно вплетено) в конкретную ткань проблемного анализа, постольку и мы не забудем об этих аспектах в дальнейшем исследовании книги V.a. Предваряя его, можно сказать: такого энергичного предметного поворота именно к «бытийствованию» античного (а также нововременного) мира — социально-историческому, культурному, смысложизненному, в широком смысле экзистенциальному, — какой есть в книге V.a., даже в проекте, в наброске нет в сочинениях Хайдеггера. Можно было бы сказать, что оба концептуальных единства (с их центрами — «Бытием и временем» и V.a.) в принципе объективно взаимодополнителъны. Но при этом приходится уточнить: причудливые онтологизирующие конструкции Хайдеггера не содержали в себе сколько-нибудь сознательные выходы и переходы к типам анализа социально-исторического бытия, подобные тем, которые выработала и предложила Ханна Арендт в своих послевоенных сочинениях, особенно в V.a. Более того, в фундамент хай- деггеровского философствования были положены тесно примыкающие к «грекам» основоположные толкования, которые объективно противились социально-бытийному осмыслению целых областей, форм человеческих действий и взаимодействий, суммарно охваченных у Ханны Арендт понятием-символом vita activa, т. е. «деятельной жизни». Ибо такой подход коренным образом расходился бы с фундаментальным для концепции Хайдеггера пониманием Dasein, главной бытийной ипостаси, как индивидуализированной «самости», по отношению к которой все внешне-мировое, социальное, коллективное, публичное есть не более чем сферы подавления, искажения, стандартизирования коренных бытийных потенций этого человеческого бытия-сознания. Иными словами, размежевание интенций X. Арендт с философскими устремлениями Хайдеггера было столь кардинальным, что оно, пожалуй, устраняло возможность теоретического взаимодействия авторов «Бытия и времени» и «Vita activa» — будь Хайдеггер способен хотя бы вникнуть в сочинение своей бывшей ученицы. Кажется, что он — в духе своей всегдашней теоретической гордыни и обособленности — не сделал даже этого. А вдруг сделал, но в том не признался? Ответ на этот вопрос, немаловажный для понимания всех поворотов (Kehre) в учениях позднего Хайдеггера, пока оставим открытым.
Перейдем к более конкретному (но по необходимости компактному, чем могла бы предполагать многостраничная книга) разбору главных понятий и теоретических линий арендтовской «Vita activa»1.
1 В дальнейшем буду использовать такие способы подачи материала, которые позволяют держаться максимально близко к обсуждаемому тексту (говорить о котором приходится сжато) и в то же время предоставляют мне возможность осуществить самостоятельную (отвечающую и сравнительному замыслу моей книги) интерпретацию, намеренно и целенаправленно актуализировать выводы, мыслительные ходы блестящего и оригинального анализа выдающегося автора Ханны Арендт.
При цитировании отдельных мест из книги У.а. используются большие кавычки, в случаях же, когда внутри них заключены отдельные слова и цитаты из других авторов, они взяты в малые кавычки.
Часть V. í/това 1. Тематика, проблемы, особый жанр...
ГЛАВА 2
«Человеческая обусловленность» как важнейшая сторона социально-исторического бытия
Проблема исходной терминологии V.a.
Уже и название английского варианта V.a. — «The Human Condition», «человеческое условие», или, как интерпретативно, но верно переводит В. Бибихин, «человеческая обусловленность» — заключает в себе (но сразу же требует особого прояснения) специфические исходные принципы рассматриваемых теоретических конструкций учения о бытии X. Арендт.
Их автор книги суммирует в I главе своего труда, прежде всего определяя хотя бы по объему содержание понятия vita activa, вынесенного в заголовок книги: «Выражение vita activa призвано охватить в нижеследующем три основных вида человеческой деятельности: труд (работу), создание (изготовление) и действия (поступки). Они основные потому, что каждая из них отвечает одному из основных условий, на каких человеческому роду дана жизнь на земле»1.
Здесь в наше последовательное рассмотрение V.a. приходится включить обширную вставку, без которой никак нельзя обойтись. Она касается соотнесения исходных понятий, категорий оригиналов (в основном немецкого, но также и английского) с их — по моему суждению — оптимальным толкованием. Дело, скажу сразу, чрезвычайно трудное. И не только из-за (вполне понятных) сложностей перевода, но также потому, что слова-термины, фундаментальные для всего текста, избраны самой X. Арендт и истолкованы ею весьма необычно и, пожалуй, неоптимально2.
Даже в случаях, когда в оригинале в качестве терминов употребляются более или менее известные слова, в них вкладываются особые совокупные смыслы, изначально требующие расшифровки.
Свою специфику вносит то, что книга V.a. имеется в двух — немецком и английском — вариантах (к тому и другому в одинаковой мере имела отношение X. Арендт) и что они оба учитывались В.В. Бибихиным, когда он делал свой перевод на русский язык (в целом, по моему мнению, более удачный, чем его же перевод «Бытия и времени », но тоже требующий критического анализа). При этом двуязычность текста предоставляла некоторые дополнительные возможности при подготовке перевода, но иногда могла сбивать с толку.
Снова обратимся — чтобы проиллюстрировать проблемы и трудности, а также с целью конкретной смысловой расшифровки понятия «vita activa» — к приведенной несколько ранее цитате. В ней русским словом «труд» (как работа) передано имеющееся в немецком оригинале
1 X. Арендт. Vita activa, или О деятельной жизни. М., 2000. С. 14. Здесь и далее цитируется русский перевод V.a., сделанный В.В. Бибихиным. Далее при цитировании: V.a. — с указанием страниц в моем тексте.
1 На эти трудности верно указал В.В. Бибихин в своем Послесловии переводчика
к V.a.
слово «das Arbeiten». Очень важно, что это не «die Arbeit» — первый и главный немецкий синоним «труда» (как работы). «Das Arbeiten», здесь употребляемое Ханной Арендт, это отглагольное существительное, произведенное от глагола «arbeiten» (трудиться, работать). Что вносит в его понимание у X. Арендт ряд содержательных смысловых оттенков и коннотаций. Их надо с самого начала (лучше еще до чтения перевода, а потом и для понимания текста) принять в расчет. Каковы же они? В случае «das Arbeiten» имеется в виду процесс труда, труд как деятельность, активность, работа. Английский эквивалент — «labor» — не содержит столь же очевидно, как немецкое «das Arbeiten» (т. е. благодаря артиклю и окончанию), непосредственного указания на процессуально-деятельностный акцент (немецкого) термина. Еще сложнее обстоит дело с двумя другими ключевыми понятиями V.a.
Русским словом «создание» переведено у Бибихина немецкое слово «das Herstellen» — отглагольное существительное, произведенное от глагола «herstellen», по значению существенно многозначного. И как раз различные оттенки значений, как мы увидим, вполне шли к делу, когда X. Арендт объединяла в особую сферу и выстраивала структуры этого (второго) типа деятельности. Глагол «hersteilen» имеет такие главные значения: 1) создавать, изготовлять, производить, составлять; 2) организовывать, придавать чему-либо целостный вид; 3) воссоздавать, реставрировать, восстанавливать; 4) излечивать (в переносном смысле — избавлять от ущербности). И опять очень важно для X. Арендт, что «das Herstellen» непосредственно имеет в виду прежде всего деятельно-процессуальные, активистские оттенки. Бибихин перевел «das Herstellen» словом «создание». Тут нет прямой ошибки. Однако такой перевод создает дополнительные трудности понимания смысла и без того сложного арендтовского термина. Слово «создание» не только не указывает — в отличие от «das Hersteller» — на процессуальность, но и смазывает эти оттенки. Если бы переводчик употребил слово «создавшие», для понимания содержания было бы несколько лучше. Ибо слово «создание» в русском языке — уже как существительное — имеет свои оттенки («она — прелестное создание»). Надо отчетливо понять, что трудности перевода здесь объективные и вряд ли преодолимые. И принять оптимальное лингвистическое решение в этом случае было столь же трудно, как и применительно к «Dasein» или к «das Man» в «Бытии и времени». Вот почему в дальнейшем конкретном разговоре о книге V.a. буду (как и в случае Dasein) пользоваться оригинальным немецким термином «das Herstellen», надеясь на то, что читатель уже станет учитывать, как бы держать в уме даваемые здесь и впоследствии разъяснения всех важнейших смысловых оттенков данного термина в книге X. Арендт.
Третья сфера в оригинале помечается немецким словом «das Handeln» — от глагола «handeln», тоже имеющего широкий, непосредственно важный и для X. Арендт набор значений: 1) действовать, поступать; 2) трактовать; 3) торговать; 4) вести переговоры, договариваться. Тут снова наталкиваемся на так и не преодоленные трудности перевода. В. Бибихин предложил перевод «das Handeln» словом «действие». Опять-таки прямой ошибки здесь нет, ибо имеется такое словарное русское значение немецкого понятия. Однако слово «действие» смазыва-
271
Часть V. Глава 2. «Человеческая обусловленность» как важнейшая сторона..
272
о
л
о
3
о
а
h
о
S
. ей X
ет специфику сфер, процессов и характера деятельности, которые под «зонтиком» термина «das Handeln» исследует X. Арендт. Тонкие оттенки специального значения, анализируемого в данном случае в книге V.a., пожалуй, совсем ускользнули бы, если бы в скобках не стояло уточняющее и центральное для всей разбираемой темы слово «поступок». Но и оно не устраняет трудностей складывающегося положения. Поэтому и при конкретном разборе темы «das Handeln» буду пользоваться этим немецким термином, опять-таки надеясь, что читатель будет держать в уме совокупность самых важных (разъясняемых здесь и далее) арендтовских оттенков смысла. Это особенно необходимо потому, что «das Handeln» (и поступок) — главная сфера (и структурная единица) того совершенно особого среза деятельности, который, видимо, более других интересовал X. Арендт в книге V.a., почему она посвятила соответствующим сюжетам наиболее обширную пятую главу. И тут имеются трудности толкования, вряд ли преодолимые.
Теперь об английских терминах. Если в первом случае — на месте немецкого «das Arbeiten» — употребляется (не вполне адекватно) английское «labor», то во втором случае X. Арендт поставила в соответствие немецкому «das Herstellen» английское «work», «труд», имеющее по сравнению с более конкретным «labor» более абстрактное, теоретическое, научное, что ли, употребление. В третьем случае — когда в немецком тексте используется «das Handeln» — в тексте английском применено слово «action». Оно имеет более общий, менее специальный характер, чем немецкое «das Handeln». А ведь последнее избрано X. Арендт с важным для нее расчетом — не слить особую сферу именно межчеловеческих отношений, область поступков с другими разновидностями действий и деятельностей (action в общем смысле).
Облегчение для понимания, правда, состоит в том, что в более подробном и тщательном анализе X. Арендт станет детально разбирать все дифференцирующие оттенки употребляемых ею понятий.
К проблеме содержательной специфики книги V.a.
После того как читателям были представлены проблемно-тематические блоки и основные термины книги X. Арендт V.a., продолжу свои предварительные разъяснения вопроса о том, что в целом отличает это действительно выдающееся, оригинальное сочинение от целого ряда публикаций, обращенных к сходной проблематике. Прежде всего, считаю, что X. Арендт задумала и написала V.a. с целью осмыслить непреходящие, хотя и постоянно изменяющиеся структуры человеческого бытия. Их всего вернее, как я полагаю, было бы назвать общецивилизационными бытийными формами и структурами (если бы подобная терминология была близка исследованиям того времени, включая арендтовские).
Усилия Арендт и в проблемном отношении были пробуждены как бы сходным общеонтологическим уклоном философии ее учителя Хайдеггера. Но пути, методы, выводы, весь стиль анализа бытия у автора V.a. — при родстве некоторых тем, используемых материалов исторического, историко-философского характера — все же были существенно иными, чем в причудливой аналитике Dasein бывшего учителя. К более конкрет¬
ным сторонам примыкания-размежевания Ханны Арендт по отношению к философии Хайдеггера (и сходным теоретическим конструкциям) мы будем обращаться по ходу всего дальнейшего повествования. А сейчас — о принципиальных, исходных моментах и предпосылках. Дело не только в сопоставлении V.a. с онтологическими устремлениями и идеями Хайдеггера (они в моей книге уже отчасти анализировались), но и с другими типами бытийных (онтологических) исследований, известных философии к середине XX века.
1. Суть вопроса состоит прежде всего в том, что исследование X. Арендт явно и целенаправленно имело со^иял&но-философский, фи- лософско-исторический характер — в отличие от стилистики «Бытия и времени », а также от многих других абстрактно-философских, примыкающих к теме бытия сочинений прошлого и современности. Даже от тех, в которых сама проблематика подчас уже заставляла мыслителей выходить в сферы социального бытия, учитывать феномены реальной истории человечества, словом, вводить в кадр анализа те или иные социально-исторические факты, измерения. Таких выходов в истории философии, в том числе в самых отвлеченных ее разделах (в метафизике, гносеологии), набралось совсем немало — и они, кстати, неплохо использованы в V.a. применительно к разбираемым там проблемам1. Но Ханну Арендт не удовлетворяло то, что упомянутые экскурсы в таких абстрактных учениях не подвигали их авторов к осуществлению специальных, именно социально-философских разработок, обращенных (в данном, особо интересующем ее развороте) к проблемам социального бытия. Дополнительная трудность, которую мы ранее в общей форме уже обозначали, состояла еще и в том, что сама X. Арендт возражала против того, чтобы ее именовали «философом», в частности, приписывали ее создание социальной философии или философии политики. В случае ее политических размышлений она просила считать их просто разновидностью «политической теории». Заранее скажу, что не согласна полностью с такими арендтовскими терминологическими само- дефинированиями. И впоследствии — когда в нашей книге на эту тему наберется больше материала и когда такие ее как бы антифилософские отграничения будут поставлены в обусловивший их исторический контекст — приведу свои доказательства в пользу не только возможности, но и целесообразности, оправданности используемых мною здесь и далее определений. А они все-таки позволяют поместить специфические, необычные размышления V.a. в общие рамки философии, ее проблем и исторических традиций.
Вернемся к нашим рассуждениям о линии противостояния Хайдеггеру, которая иллюстрирует специфику именно бытийных теоретических выкладок X. Арендт.
Ранее приведенный пример — хайдеггеровские экспликации проблем, объединенных символом «das Man», — вполне показателен для обсуждаемого аспекта. Вспомним, что сумму феноменов, в данном слу-
273
1 Однако в целом за мировой мыслью, в которой исследований, подобных У.а., буквально единицы, еще остается, по моему мнению, большой долг — написать историю философии, специально и конкретно учитывающую именно социально-исторические предпосылки, аспекты философской мысли.
Часть V. Глава 2. «Человеческая обусловленность» как важнейшая сторона...
Н.В. Мотрошипово ВеяИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
274
чае им очерчиваемых, Хайдеггер относит к сфере «Мибавет», «бытия- вместе-с-другими», т. е. как будто бы увязывает с темами социального взаимодействия людей в публичных сферах. Но он делает это, так и не переходя к сколько-нибудь основательному социально-философскому и социально-историческому анализу бытия, более того, лишая свои рассуждения реальных исторических опознавательных знаков и признаков. Как раз такой стилистике исследований и рассуждений решительно противостоит X. Арендт, изначально, уже в силу замысла, переводя свой анализ в книге У.а. на социальную, в том числе социально-философскую почву.
2. Другая особенность касается несомненного, даже акцентированного арендтовского историзма; в дальнейшем нашем повествовании она будет высвечена конкретнее и подробнее. В общей же форме ее можно описать, сопоставляя У.а. с другими произведениями, в которых исторический пласт не только присутствует, но является неотъемлемой стороной авторских конструкций. Такова, например, хайдеггеровская книга «Бытие и время», в которой «возврат к грекам», «опрашивание греческого начала» составляли, как было показано, неотъемлемую тему, вплетенную в хайдеггеровскую аналитику бытия. И по отношению к которой, что X. Арендт знала по личному опыту обучения у Хайдеггера, все предварительные курсы «антиковедческих» лекций, посвященные такому же «опрашиванию», были своего рода подведением фундамента, к коему история — во всяком случае в виде истории мысли — имела, казалось бы, самое прямое отношение. И все же X. Арендт, как представляется, искала в историческом опыте иные бытийные основания, предпосылки, указания, нежели те, что захватили внимание Хайдеггера. При этом в как будто бы знакомом, вдоль и поперек изученном философами платоновском или аристотелевском наследии — главном и для Хайдеггера — X. Арендт, следуя именно социально-философскому бытийному интересу, оригинально высветила, как мы увидим далее, те идеи, пласты, описания, которые до нее почти не заинтересовывали исследователей, включая Хайдеггера, и не акцентировались ими.
3. При установлении и раскрытии специфики социальных, исторических, социально-философских поворотов теории бытия X. Арендт нельзя будет пройти мимо сопоставления ее теории с уже принципиально и явно социально-философскими, философско-историческими концепциями и методами, которые у К. Маркса и ряда его талантливых последователей приобрели наиболее целостную, систематическую форму. Социально-философская бытийная концепция X. Арендт противостоит и Марксовым, ею достаточно высоко ценимым, весьма плотно присутствующим в У.а. теоретическим решениям и практико-политическим идеям, что тоже будет на отдельных примерах продемонстрировано в дальнейшем.
Размежевания с Марксом принципиально важны для понимания интересующей нас здесь специфики бытийных (онтологических) поворотов учения X. Арендт, развитого в У.а.
X. Арендт отвергла главные ходы и мотивы Марксовой концепции, основанной на резком разделении якобы первичного «общественного бытия» (совокупности производственных отношений) и якобы вторич¬
ного «общественного сознания». И не просто отвергла, а доказательно продемонстрировала, что факторы и формы идеального характера (общественное сознание в смысле Маркса) не в меньшей, а иногда в большей мере, чем материально-вещественные предпосылки, играют роль объективных бытийных форм и условий, от которых зависит развитие общества в целом, отдельных индивидов и их объединений. В результате похожая на Марксову арендтовская центральная идея бытийного характера человеческой активности приняла принципиально иной вид и теоретический состав, нежели концепция «активности субъекта», положенная в основу и гносеологии, и социальной философии марксизма. Это тоже будет конкретно раскрыто и доказано в дальнейшем рассмотрении.
Итак, относительно специфики концепции X. Арендт и соответственно книги V.a. можно — лишь предварительно1 — сформулировать следующий общий тезис. Это была попытка создать учение (и книгу) об основных деятельностных формах, структурах человеческого бытия как бытия социально-исторического — о тех формах, структурах, которые исторически постепенно формируются, а затем становятся постоянными, именно неотменимыми, хотя и исторически модифицирующимися, человечески-социальными факторами и условиями (The Human Condition), оказывающими мощное обусловливающее действие на развитие общества через их влияние на жизнь отдельных людей. Если в общем виде квалифицировать это учение как разновидность социально-исторической теории бытия (соответственно «социальной онтологии»), то нужно опять-таки учитывать всю специфику деятельностной проблематики и ее анализа у X. Арендт. А также специфику тех «отвлечений», абстрагирований, уходов от (в принципе возможных) направлений анализа, которые также лежат в основе оригинальных разработок этой исследовательницы. О таких абстрагированиях тоже надо сказать заранее, чтобы читатель точно знал, чего следует и, напротив, не следует ожидать от книги X. Арендт и искать в ней.
Кстати, сама X. Арендт эти свои отвлечения (уходы от многочисленных пластов проблематики и линий исследования) не обосновывает. И даже упоминания о них редки. Причины вполне понятны. Для философски, теоретически образованного читателя необходимость отграничивать и ограничивать предметы, области исследований — аксиома, не нуждающаяся в специальном доказательстве. Читатель, обо всем возможном поле работы не подозревающий, скорее всего примет выбор автора как должное. Так какие же срезы анализа оставлены в стороне в V.a., книге, которая и после этого осталась многомерной и многослойной? Скажем о двух главных отвлечениях.
Во-первых, были отставлены в сторону историко-генетические процессы (процессы весьма и весьма длительные), благодаря которым исследуемые Ханной Арендт виды деятельности не просто возникли, но и
275
1 Позднее, в особом разделе нашей книги, посвященном сопоставлению теории бытия Хайдеггера после поворота (50-70-е годы XX века) и бытийных разработок X. Арендт того же времени, предварительные характеристики бытийной концепции У.а. получат ряд важных уточнений и разъяснений, которые невозможно сделать сразу, на стадии начального презентирования этой теории.
Часть V. Глава 2. «Человеческая обусловленность» как важнейшая сторона..
H.ß. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-времп-любовь
276
приняли те формы, кои презентируются, исследуются в ее книге. Во всяком случае, предполагается, что ко временам древнегреческой истории они уже существовали и были достаточно развитыми. А главное, они (отнюдь не сразу, но) давным-давно приобрели значение именно «обуславливающих » бытийных данностей, хотя в какие-то времена сами чем-то обусловливались. Но от всего этого анализ отвлечен, абстрагирован. X. Арендт по существу предполагает (хотя специально не разъясняет этот момент), что существование, обусловливающее влияние и различающихся, и взаимосвязанных сфер «труда», das Herstellen, das Handeln — нечто заранее данное (в этом смысле априорное) по отношению к последующему «эмпирическому» (индивидуальному и коллективному) опыту. Правда, понятием «а priori» X. Арендт предпочитает здесь не пользоваться. Иными словами, X. Арендт, не вдаваясь в историко-генетические объяснения, изначально постулирует три анализируемые ею сферы в качестве социально-бытийных, исторических данностей.
Как теоретик, она была вправе поступить именно таким образом. Ее правота подобна (относительной) оправданности решения Канта — в рамках «Критики чистого разума» — сразу говорить об априорных, т. е. (с весьма отдаленного, непроясненного исторического времени) предшествующих всякому отдельному человеческому опыту и как бы «заданных» ему всеобщих, общечеловеческих формах сознания, совсем не вдаваясь в сложные и специальные вопросы об их происхождении и длительном становлении.
Во-вторых, X. Арендт по существу (и без особых пояснений) представила выделенные ею «три вида» как типы человеческой деятельности, «вокруг» которых возникли, оформились и зримо локализовались именно материально-бытийные области жизни, внутри коих сложились структурные формы, уже как бы объективно имплантирующиеся в любое действие человека, коль скоро ему доводится быть исполненным опять-таки в данных сферах. Этот момент требует более основательного прояснения, которое трудно дать кратко и чисто предварительно, причем по разным причинам, в том числе из-за специфики не вполне четко поясненной и используемой арендтовской терминологии. Мы уже отмечали, что как будто знакомые слова «труд» («работа»), «действие» (поступок) в книге V.a. наделены особым смыслом.
X. Арендт хорошо понимала это. Более того, она учитывала, что своим исследованием она как бы вступает на минное поле, усеянное теоретическими «снарядами» — идеями, понятиями-терминами, концепциями, — которые будут сильно препятствовать взаимопониманию между нею как автором V.a. и ее потенциальными, пусть и высокообразованными читателями, в сознании которых закрепились некоторые иные, подчас прямо противоположные пред-понимания, которые будут мешать восприятию новых смыслов старых понятий. Поэтому к прямому разъяснению трех выделенных ею форм и сфер активной бытийно- обусловливающей деятельности она перейдет лишь после того, как в специальной предваряющей главе попытается хотя бы отчасти «разминировать» — для себя и читателей — поле исследования.
глава з
Значение предварительного осмысления в V.o. публичного, частного, социального
Первая глава книги V.a. называется «Пространство публичного и сфера частного». X. Арендт сочла необходимым предпослать ее основным разделам своей книги, посвященным трем упомянутым главным ипостасям «vita activa», или «деятельной жизни». Почему? В чем конкретный смысл и назначение этой вступительной главы в целостном анализе произведения?
Исследование X. Арендт, как было — кратко и предварительно — сказано ранее, повернуто к социальному бытию, к социальным реалиям и проблемам. Одновременно предполагалось широко захватить и осмыслить пласты мыслей, идей (дотеоретических и теоретических) о таком именно бытии. А вот здесь сразу приходилось считаться с упомянутым «минным полем» сложившихся понятий, терминов, толкований. Речь идет о немалых трудностях, которые отчасти коренились в терминологических различиях, в понятиях, суждениях, идеях о рассматриваемых сферах и проблемах, именно различиях, относившихся к разным эпохам, но к влиянию «эпохи» не сводившихся. Ханна Арендт хорошо видела такие затруднения и решила с самого начала книги на них откликнуться. Весь (используемый и переосмысленный ею) материал из истории человечества явился тут под знаком характерного исходного противоречия.
Сначала скажем об одной его стороне.
1. X. Арендт, в чем к 50-м годам XX века уже проявилась ее социологическая квалификация (засвидетельствованная в небольших работах и особенно в сочинении о тоталитаризме), начинает — во II главе V.a. — с чисто фактических социально-исторических констатаций, которые и философия не только никогда не могла опровергнуть, но так или иначе принимала во внимание. «Vita activa, человеческая жизнь, насколько она погружается в деятельное бытие, движется в мире вещей и людей, от которого она никогда не уходит и который она ни в чем не транс- цендирует. Любая человеческая деятельность разыгрывается в окружении вещей и людей; тут она локализована, а иначе утратила бы всякий смысл» (V.a. С. 33). В соответствии с темой ее книги X. Арендт затем особо выделит и тщательно опишет такую сферу «активной жизни», vita activa, как область поступков, все же отличая ее от «деятельности труда», а человека и как anima laborans, обрабатывающего вещи природы, и как homo faber (т. е. человека как создателя, «изготовителя» новых вещей) — от человека как творца действия именно в качестве поступка.
Такое отделение, акцентирование различий не отменяет исходной общности этих типов. Ведь и труд как обработка предметов, а также изготовление (das Herstellen) новых вещей в конечном счете невозможны без других людей. X. Арендт подчеркивает: «...все виды человеческой деятельности обусловлены тем обстоятельством, что люди живут совместно...» (Там же). Для теоретической мысли XX века это уже один
H-ß. Мотрошилово ШЩп Мартин Хайдеггер и Ханна Брендт: бытие-время-любовь
278
из фактов, притом достаточно тривиальных. Мыслители продвигаются дальше, различая виды человеческой жизнедеятельности применительно к формам и типам «заключенной» в них социальности. При этом можно, рассуждает X. Арендт, представить себе человека, «в одиночестве» изготовляющего те или иные предметы. Но поступок даже в воображении невозможен без «другого» человека. Ибо поступок — а он есть, согласно Ханне Арендт, некоторая «единица» действия, кирпичик здания vita activa — по самому смыслу и определению совместен, т. е. непременно требует наличия, со-действия других индивидов и их соучастия в действии. Вот почему именно здесь, а не просто в сферах простого труда или деятельности изготовления (das Herstellen) всего отчетливее заключены, с ее точки зрения, сущностные отличия человека. «Только действие, поступок — исключительная привилегия человека; ни зверь, ни животное не могут действовать; и лишь действие не может в качестве деятельности вообще двинуться с места без постоянного присутствия мира современников» (Ibidem).
Заметим, что здесь, на уровне исходных определений, уже внутренне заключены — и будут далее развернуты — антитезы арендтовских подходов по отношению ко многим разновидностям концепций, для которых роль человека как обрабатывающего вещи природы или производящего, изготовляющего новые вещи (homo faber) была первоосновной, причем и теоретически, и практически (в политических, нравственных и иных аспектах). А также: изначально имеется и потом развернется противостояние многообразным тезисам, утверждениям, учениям, создатели которых, пусть и признавая факт неотделимости жизни любого человека от других людей, или не придавали ему сущностного значения, или изображали его свидетельством «искажения», «подавления» человеческой сущности как некой сугубо индивидуализированной «самости». Особой разновидностью подобного, больше негативного подхода к социальности человека в XX веке было учение Хайдеггера — во всяком случае, в том виде, в каком оно запечатлелось в «Бытии и времени», конкретнее — в проанализированном нами ранее разделе о «Mitdasein», т. е. о «здесь-бытии-вместе-с-другими», в рамках которого, согласно Хайдеггеру, человек всегда и везде оказывается «на посылках у других» (Б. и в. С. 126) или находится под постоянным давлением обезличивающей диктаторской силы Man.
Но разве философия уже со времени Платона, Аристотеля (к текстам которых Хайдеггер припадал больше, чем иные выдающиеся философы, его предшественники и современники) не определяла человека как «политическое животное» (Аристотель) или как «общественное» (социальное) по природе существо (Сенека, Фома Аквинский)? Здесь и коренилась та принципиальная трудность, из-за существования которой X. Арендт сочла необходимым написать предварительную главу. Она, эта трудность, была и внутритеоретической, даже терминологической, но (в силу разных причин) существенно определившей многовековое развитие всей культуры, а также и сознание людей «жизненного мира», т. е. тех, кто жил и действовал вне науки и теоретической деятельности, «bios theoreticos». Дело прежде всего состояло вот в чем. Люди в современном мире столь привыкли к словам и понятиям — «со¬
циальное», «общественное» (как существительным и прилагательным), что полагают, будто такие понятия существовали всегда и во всяком случае восходили к греческой древности. Между тем тщательный анализ исторического материала в книге V.a. свидетельствует: по группе разбираемых вопросов накопилось немало ошибок и недоразумений. Это и есть вторая сторона исходных рассуждений X. Арендт о совместности человеческих действий, о социальности.
2. X. Арендт решила предметно, содержательно, конкретно-исторически, именно исследовательски разобраться в целой группе таких как будто бы ясных вопросов. В процессе исследования, результаты которого спрессованы в упомянутой второй главе V.a., она пришла к целому ряду оригинальных наблюдений и выводов.
Ханна Арендт прежде всего обнаружила своего рода подмену, происшедшую в философской истории вопроса. Тут ее анализ движется на почве, которую в свете тонких и важных различений комплексной философско-социологической мысли XX века правомерно назвать социально-лингвистической. Уже у Сенеки, как показано в V.a., аристотелевское понятие С,caov лоАлтгкоу, политического животного, было неадекватно (по отношению к Аристотелю) воссоздано как «animal sociale» и превратилось в формулу: «homo est naturaliter politicus, id est, socialis», в которой решающим искажением именно греческой мысли стало, согласно X. Арендт, это «id est», «то есть» — «человек политический то есть общественный по природе».
X. Арендт показывает, почему и как здесь вкралась упомянутая неадекватность. Прежде всего это искажение лингвистическое, появившееся при переводе: «...слово „социальный” существует только в латинском и не имеет соответствия в греческом языке или греческой мысли». Но с этой такой привычной для истории мысли, без особой проверки принятой лингвистической подменой явилось и более позднее, негреческое понимание и определение человека, не как (только) политического, а как социального живого существа. Оно отнюдь не было неверным с содержательной точки зрения и вполне оправданно, перспективно привлекало внимание не только к политике, но и к другим сферам совместной, именно публичной жизнедеятельности людей. Ошибка заключалась «только» в том, что терминологически, категориально социальность как определяющее качество человеческой сущности неверно, по мнению X. Арендт, возводилась к древнегреческим, а именно платоновско-аристотелевским образцам. «Отличие от греческой мысли, — пишет X. Арендт, — тут в следующем: разумеется, Платон и Аристотель тоже знали, что человек не может жить вне человеческого общества, но как раз это считалось ими не специфической человеческой особенностью, а наоборот чем-то общим в жизни человека и животных... Естественная, совместная жизнь человеческого рода принималась за ограничение, наложенное надобностями его биологической жизнедеятельности, именно поскольку эти надобности для человеческой жизни явно те же, как и для других форм органической жизни» (V.a. С. 34).
Кстати, подобный подход, восходящий к «естествоиспытателю» Аристотелю, не остался лишь в греческой древности, а в разных формах воспроизводился на протяжении дальнейшей истории человеческой
279
Часть V. Глава 3. Значение предварительного осмысления в V.a..
Н.В. Мотрошилово №ыВ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
280
мысли. К нему были особенно склонны те умы, на которые, как некогда на Аристотеля, производили особое впечатление «естественно-коллективные» начала в жизни животных, без особых уточнений и различений именовавшиеся «социальными».
Главная в этом контексте корректирующая идея X. Арендт относительно греческой Античности состоит в следующем: «В согласии с греческой мыслью, — пишет она, — человеческую способность к политической организации надо не только отделять от природного общежития, в средоточии которого стоят домохозяйство (о11аа) и семья, но даже подчеркнуто противополагать ему. Становление полиса, всецело задающее тон греческому пониманию политики, имело следствием то, что всякий помимо своей частной жизни получал своего рода вторую, [а именно политическую] жизнь, рк>£ яоА,шко<;» (У.а. С. 34).
Второй существенный, уже общеконцептуальный, а не только социально-лингвистический аспект рассуждений X. Арендт более непосредственно касается ее последующего специального анализа в У.а. сфер древнегреческой политики и многоуровневых осмыслений этих сфер как самими греками, так и выдающимися мыслителями более поздних эпох. Исследовательница приводит подробные выкладки-доказательства, долженствующие не просто подтвердить известный факт разветвленности, развитости политической, именно полисной реальности в Древней Греции, но и восприятие ее в древнегреческой философии, шире — культуре греческой Античности как преимущественной, если не единственной тогда сферы наиболее свободного, самостоятельного, т. е. активного, а для греков — и более яркого, достойного, эстетически и этически высоко оцененного в его значении человеческого действия. Греки (согласно изображению X. Арендт) также считали, что, напротив, сферы «производства», изготовления вещей, да и вообще всего домашнего, (непосредственно внеполитического) действия, быта, «являя собой рабские черты», как формулировали в разных словах Платон и Аристотель, не достойны человека и его сущности. Это понимание, как показано у X. Арендт и подтверждено многими конкретными историческими изысканиями, действительно соответствовало концентрации именно в сферах «ойкоса» и непосредственного производственного труда либо полностью несвободных (рабских), либо зависимых (метеки, женщины, слуги) слоев греческого общества. Здесь-то и «обитали» те формы и начала бытия, где превалировали зависимо-принудительные, утилитарные элементы и формы жизни. (Правда, и тут скапливались противоречия — например, имело место воздействие и на эти самые несвободные сферы творческих, эстетических начал древнегреческой жизни, пробивались те влияния греческого свободолюбия, социальной динамики греческой жизни, которые в Греции позволяли рабам, метекам переходить в разряды свободных, полноправных граждан. Но об этом в компактном анализе X. Арендт почти что не упоминается.)
Главное тут для X. Арендт — утвердить центральную мысль о том, что сфера именно греческой публичности, иными словами, область политики как решения общеполисных дел и проблем, объективно была и воспринималась греками как та арена, на которой человек мог действовать и часто фактически действовал наиболее свободно, спонтанно,
творчески, активно — в сравнении с условиями, формами, возможностями внеполитических областей целостного социального бытия.
3. Здесь запечатлены те важнейшие особенности теоретической конструкции X. Арендт, которые — скажем, забегая вперед, — вызвали немало возражений ее критиков в разных дисциплинарных областях философии, социологии, истории и т. д. Такие черты правомерно определить как следствие увлеченности со стороны X. Арендт собственной противополагающей конструкцией, согласно которой в противовес на- сильственности, «диктатуре», царившей в сфере ойкоса, публичная полисная жизнь покоилась-де главным образом, если не исключительно, на ненасильственных, убеждающе-согласительных процедурах, формах древнегреческой политики.
«Быть политическим, жить в полисе, — пишет X. Арендт, — означало, что все дела улаживаются посредством слов, способных убедить, а не принуждением и насилием. Принуждать других силой, приказывать вместо того, чтобы убеждать, считалось у греков как бы дополитиче- ским способом межчеловеческого обхождения, привычным к жизни вне полиса, скажем, в обращении с домочадцами, в семейственности, где глава семьи осуществлял деспотическую власть, а также в варварских государствах» (У.а. С. 37). Именно с политической реальностью — совещательной, обсуждающей, убеждающей — X. Арендт соотносит другую аристотелевскую «дефиницию» человека: <;(роу Хоуоу ‘ехоу — живое существо, обладающее логосом. (Соответственно неграждане полиса и варвары определяются как существа ау и Алуоу, т. е. «без логоса » — в том смысле, что говорение, речь, которыми они, разумеется, не обделены, не имеют для них сколько-нибудь существенного, именно социального значения.)
Эти принципиальные для X. Арендт положения требуют обсуждения и проверки — например, в свете того сугубо критического отношения к политической сфере, которое ясно запечатлено в социально-политических по основному предмету диалогах великого Платона (например, в его рассуждениях о злоупотреблениях, безнравственности, многочисленных подавлениях свободы как раз в политических сферах реальных государств, полисов, «противоположных образцовому»).Такие же возражения вызвали арендтовские тезисы о том, что политические сферы в куда более значительной степени, чем другие области деятельности (например, чем домашнее хозяйство), впитали в себя преимущественно ненасильственные формы отношения к ближним.
4. Однако X. Арендт слишком хорошо знала материал древнегреческой философии, чтобы не предвидеть такого, например, общего возражения специалистов, знатоков: а как быть с сильнейшей, явной, запечатленной оппозицией философов — великих, известных всей Греции, а потом и образованному миру — по отношению к полису, полисной жизни в целом, но особенно к ее политическим делам и формам. Свой ответ на возможные вопросы и возражения она дала в той концепции, которая в разных ее частных оттенках презентируется на протяжении всего произведения. Это концепция, во-первых, концентрирующая специальное, чисто арендтовское отыскание истоков и сути противостояния греческих философов и политических сфер древнегреческого жизне-
281
Чостъ V. Глава 3. Значение предварительного осмыслений в \/.а..
Н.В. Мотрошилова Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгше-время-любовь
282
действия. (Забегая вперед, скажу: «травме», которую философы Афин и всей Греции пережили в связи с осуждением и казнью Сократа, придается решающее значение.) Во-вторых, X. Арендт считает сложившееся противостояние парадигмальным для всей последующей истории, т. е. трансисторическим.
В начале книги У.а. X. Арендт подготовит своего рода пред-форму- лу, целью которой станет не отрицание факта критического «восстания» философов, а снижение роли этого протестного пафоса, не колеблющего, с ее точки зрения, достоверности и значимости профилирующего противопоставления частной и публично-политической сфер — с несомненным якобы преимуществом последней. Вот эта пред-формула: «Как ни склонны были греческие философы восставать против политического, против жизни в полисе, для них все же оставалось само собой разумеющимся, что местопребывание свободы располагается исключительно в политической области, а необходимость — это дополитический феномен, характеризующий сферу частного хозяйства, и что принуждение и насилие оправданы лишь в этой сфере, поскольку они дают единственное средство возобладать над необходимостью — например, через господство над рабами — и достичь свободы».
5. Корни «протеста философов», направленного против полиса, были, как показывает X. Арендт именно в I главе, конкретно-историческими. Они залегали в типичном именно для древнегреческой истории соотношении — противостоянии публичного и частного (а ведь разъяснение этого противостояния и есть главная цель разбираемой главы). Говоря о «разделениях и различиях между публичным и частным», X. Арендт также стремится отличить (греческую) Античность как конкретно-исторический, пусть и многовековой способ жизни и форму ее осознания от того, к чему европейцы привыкли многими веками позже, в Новое время. Тогда возникла и закрепилась тенденция, получающая в У.а. следующее определение: «То, что мы именуем сегодня обществом, есть фамильный коллектив, который экономически понимает себя как гигантскую сверхсемью, а его политическая форма организации образует нацию» (У.а. С. 39).
Итак, в книге У.а. X. Арендт предпринимает весьма интересное рассмотрение «частной сферы и частной жизни», семьи и домашнего хозяйства — на примере истории Древней Греции. Тип анализа здесь — специфически арендтовский: при всей опоре Ханны Арендт на литературу вопроса (где она искусно выискивает материал, пригодный для принятых ею предпосылок и выводов) ее собственные изыскания при проработке темы довлеют над аутентичным античным материалом. Она собирает извлечения из греческих и римских текстов, богато дополняя их собственными оценками и рассуждениями, общая цель которых — доказать нижеследующий главный тезис: «Естественная совместная жизнь в домохозяйстве», согласно грекам (как их суждения толкует X. Арендт), имела свой исток «в необходимости», тогда как «пространство полиса» было — в их восприятии — «областью свободы» (У.а. С. 42). И потому считалось: «...удовлетворение жизненных нужд внутри домашнего хозяйства создает условия для свободы в полисе» (У.а. С. 42).
Эти и подобные им тезисы у Ханны Арендт — весьма сильные, категорические, фундаментальные — должны были бы, по моему и не только
моему мнению1, найти в ее текстах более веские доказательства. Нет, я далека от утверждения, будто X. Арендт не старалась привести такие нужные исторические доказательства (например, те, которые характеризовали объективные черты рабского труда и суждения о нем самих греков или принципиально несвободные отношения в домохозяйстве). Однако слишком резкое, контрастное противопоставление сфер частного и публичного в греческой Античности было очень нужно X. Арендт скорее для обоснования ее целостной теоретической конструкции. Оно предполагало «реабилитацию» политики и «политического бытия» как сфер свободы, как ненасильственного мира. И реабилитация сначала осуществлялась с помощью не вполне убедительной опоры на древнегреческие истоки. Но такое противопоставление беспокоит саму X. Арендт. Прежде всего потому, что она чувствует: если такое противопоставление еще было в греческой древности (что тоже остается не вполне доказанным), то последующая история его не унаследовала. В Новое время, признает X. Арендт, «кончается возможность уловить глубокое различие между новоевропейским и античным пониманием политического в форме контрастных пар. Самая большая трудность для любого сопоставления заключается в том, что Новое время собственно вообще не отделяет и не отличает общественное от политического. Что политика есть лишь функция общества, что действие, речь и мысль первично образуют надстройку социальных интересов, это ведь не открытие и не просто изобретение Маркса, это входит в аксиоматические предпосылки, некритично усвоенные Марксом из новоевропейской политической экономии» (Там же, курсив мой. — Н. М.).
В разбираемой главе X. Арендт затем стремительно переходит к характеристике пониманий социального (в сопоставлении с политическим) уже в Новое время. «Исчезновение пропасти» между сферами домохозяйства и политики (а через нее «люди классической древности» должны были, по ее мнению, «ежедневно перепрыгивать») «есть по существу новоевропейский феномен» (Там же). Специфические проблемы Средневековья как переходной эпохи между двумя формами исторического состояния, Античностью и Новым временем, X. Арендт тоже (кратко) обсуждает. Но все эти интересные интерпретативные подробности мы вынуждены опустить.
Сделав разобранную главу первой в книге У.а. и выявив там некоторые свои теоретические (и терминологические) предпочтения, X. Арендт в последующих трех главах тщательно, подробно исследует
1 См. подобную оценку у современных зарубежных авторов. Например, у X. Брункхорста: «С точки зрения Арендт, публичная сфера есть область подлинной свободы. Она утверждает, что для граждан греческого полиса свобода „располагается исключительно” в политической сфере (следует ссылка на Н.С. Р. 31. — Н. М.). Она также утверждает (ошибочно, с моей точки зрения), что подлинная, неиспорченная свобода не может существовать „в сфере домохозяйства... Это, как мне кажется, весьма односторонний взгляд, один из тех, который в высшей степени преувеличивает роль политической свободы в античном обществе”» (Н. ВгипкЬог$1. Ор. ск. Р. 185). В подтверждение своей мысли X. Брункхорст обоснованно ссылается на конкретные, из текстов почерпнутые рассуждения Платона и Аристотеля, которые отказываются признать политические сферы областями «настоящей» человеческой жизни.
283
Часть V. Глава 3. Значение предварительного осмысления в У.а.
Н.В. Мотрошилово ШИ Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
284
суть выделенных ею типов деятельности, вместе характеризующих vita activa, деятельную жизнь человека и человечества. И мы, вслед за Ханной Арендт, переходим к этому материалу, к его презентированию и параллельной интерпретации.
Читателю полезно предварительно учесть следующее. Предмет анализа (более точно и подробно выявляющийся лишь постепенно, скорее после изучения всей книги) — это исторически закрепившиеся единства’. а) главных областей, сфер каждого из видов деятельности; б) самих этих видов, типов деятельности, подробнейшим образом исследуемых в их специфике; в) главных, специфических для каждого из этих сфер, типов структурных единиц деятельности. Например, в случае «действия» (das Handeln), разбираемого в пятой главе, это: а) сферы публичности, где в прямом и специальном смысле люди осуществляют общение (Ю. Хабермас скажет: коммуникацию) друг с другом, где б) складываются типы именно социальной (например, политической) деятельности и взаимодействий индивида с другими людьми и где в) структурными единицами деятельности испокон веков становятся «поступки» людей по отношению друг к другу. Подобные же единства в их специфике разбираются применительно к сферам «труда » и той сфере, где царит das Herstellen.
Первой на этом пути оригинального арендтовского исследования социального бытия становится то измерение, та форма и та сфера деятельности, которую X. Арендт — вместе с другими теоретиками — называет «трудом» (но не забудем: «das Arbeiten»!).
ГЛАВА 4
X. Арендт о «труде» и «работе»
X. Арендт, о чем говорилось ранее, абстрагируется от всей полноты анализа историко-генетических аспектов интересующей ее проблематики. Например, применительно к труду она оставляет в стороне вопросы о том, когда и как возникает труд в качестве особой человеческой деятельности, когда он обретает те черты, которыми он уже оказался наделенным, скажем, в греческой древности. Тем самым по существу снимается с повестки дня исследования тема обусловленности самого труда, и акценты переносятся на обусловливающие стороны, потенции достаточно «зрелой», в историческом смысле, трудовой деятельности. И все-таки целиком отвлечься от проблемы обусловленности труда X. Арендт не может, да и не стремится к этому. Тонкий оттенок состоит в следующем: если цивилизационно-генетические, особенно конкретноисторические стороны проблемы у Ханны Арендт оставлены в стороне, то теоретически линии связи с обусловливающими факторами в ее книге все же протягиваются. Так, исходный пункт в ее анализе труда — это общая констатация зависимости и его возникновения, и его характера от чисто природных, а потому неустранимых предпосылок, данностей, необходимостей. Они относятся к самой человеческой жизни, опять-таки в прямом, «естественном» значении этого слова.
Во-первых, это изначальная зависимость человека, его труда, от внешних, природно-вещественных данностей и предпосылок (значит, обусловленность ими). Такие предпосылки становятся неотменимо необходимым материалом труда. Во-вторых, имеется в виду зависимость труда от потребностей человеческого тела, а в-третьих, от расходования энергии тела человека как природной данности и целостности. X. Арендт совершенно верно констатирует: «...Деятельность труда отвечает биологическому процессу человеческого тела, которое в своем спонтанном росте, обмене веществ и распаде питается природными вещами, извлеченными трудом, чтобы предоставить их в качестве жизненных необходимостей живому организму. Основное условие, которому подчинена деятельность труда, это сама жизнь » (с. 14).
Пометим этот важный для X. Арендт момент. Ибо общеприродные предпосылки, условия, взятые вместе, и суть, напоминает она, сама «жизнь » как природная данность, что должно учитываться теорией с самого начала, притом не только в случае труда. Для интерпретации труда решающее значение приобретает также и то, что «жизнь», появившаяся в кадре У.а., сразу взята автором в сплаве с социальными факторами и формами. Так, для обеспечения «естественных», жизнью тела продиктованных потребностей природные вещи уже должны быть, верно констатирует X. Арендт, «извлечены трудом». «Обусловленности», таким образом, сразу будут рассмотрены ею как природно-социальные. Но сама жизнь и ее необходимости как раз в случае труда приобретают особое, наибольшее по сравнению с другими видами деятельности, именно исходное значение.
H.ß. Мотрошилово Мортин Хайдеггер и Ханна прендт: бытие-время-любоеь
286
Итак, X. Арендт отправляется от этой простой и понятной, тоже объективной, неотменяемой — а потому именно «бытийной» — данности. Вследствие этого она в своей книге так или иначе станет принимать в расчет некоторые постулаты тех немалочисленных естественно-научных, философских, социологических учений, которые вскрывали и часто абсолютизировали чисто природную сторону бытийной обусловленности человеческого труда и, далее, обусловленности всего человеческого существования и жизнедействия именно со стороны труда.
Спецификация труда как особой темы V.a. движется у X. Арендт сначала через «забегание вперед» — через отличение труда, работы как «das Arbeiten», «labor» от «das Herstellen». О таком различении X. Арендт справедливо говорит, что оно «непривычно» и «очень скудно» представлено, если вообще представлено, во всей солидной литературе вопроса, древней, средневековой и даже нововременной. И в самом деле, здесь — одно из нововведений X. Арендт. Правда, она считает, что в пользу такого изначального различения можно предъявить много «реальных феноменов». Оттого оно, не привлекшее особого внимания теоретиков (возможно, за исключением Локка), тем не менее «на протяжении столетий с бесподобным упорством осаждалось в наших языках» (с. 104). Имеются в виду: в греческом языке — различение между словами rcoveïv (работать) и éryàÇeoSai (создавать); в латинском — между laborare и facere или fabricari, во французском — между travailler и ouvrer, в немецком — между arbeiten и werken (там же). В этом и других, подобных по тщательности и наблюдательности историко-лингвистических экскурсах, с одной стороны, проявляется хайдеггеровская внучка X. Арендт, а с другой стороны, возникают повороты ее внимания к тем сторонам дела, которые, как правило, не интересовали Хайдеггера.
Несмотря на мудрость языка, уже толкавшую к упомянутому различению, как показано в V.a., «классическая Античность» уделяла ему мало внимания (с. 105) — и X. Арендт поясняет, почему так случилось. Ее разъяснение — это выявление истоков и причин «презрения к труду» у античных авторов, которое первоначально касалось лишь деятельности, «непосредственно связанной с жизненными нуждами» (и на ранних стадиях развития полиса выполняемой рабами, бывшими пленными). Затем такое же презрение распространилось на любую деятельность за пределами собственно политической активности. Следуют конкретные, я бы сказала, дотошные ссылки на «Политику» Аристотеля (1258в35). А он «как низших, — отмечает X. Арендт, — характеризует тех, у кого „тело изнашивается всего больше”» (с. 106). Вскрывается, с типичной для всего текста V.a. отсылкой также и к новейшим для X. Арендт исследованиям, реальная социально-историческая подоплека такого презрения к «низшим». А исследования свидетельствуют: до 80 % людей, занятых в полисе «свободным трудом, ремеслом и торговлей», были либо чужеземцами, либо эмансипированными рабами, «стало быть гражданами не становились» (там же). (Не менее интересны замечания в ссылке на с. 107: «Что полис думал о профессиях и по каким критериям о них судил, всего увлекательнее вычитать из Аристотеля».) Так начинается беспрецедентный по полноте, тщательности, детальности анализ у X. Арендт принципиальных черт именно социального бытия
Античности. Он беспрецедентен потому, что философия (и раньше V.a., и — увы! — позже) была в очень малой степени склонна к такому конкретно-историческому исследованию. В работе же историков древности, подчас богатой детальными описаниями, редко когда присутствовал теоретический, концептуальный социально-философский, социологический анализ, какой у X. Арендт сопровождает и венчает все ее конкретно-исторические экскурсы и характеристики. (К сожалению, многие выразительные и важные подробности, свидетельствующие о несравненной, пожалуй, доскональности и оригинальности, проявленных Ханной Арендт в использовании — здесь античного — исторического, философского материала, приходится вычесть из нашего ограниченного в объеме повествования.)
Игнорирование также и философией классической Античности различия между работой и das Herstellen X. Арендт не считает чем-то удивительным. Она возводит упомянутое пренебрежение к тому, что внимание античных теоретиков было привлечено к другому различению, интересовавшему их в первую очередь. Это был (отчасти рассмотренный в I главе V.a.) процесс постепенного обособления друг от друга тех областей, в которых какие-то люди (рабы, ремесленники и т. п.) должны были трудиться «в сфере хозяйства, т. е. в сокрытости, приватности» — их отделения от областей «публичности» (где господа «свободно двигались по агоре»), «С появлением собственно философских политических теорий однако даже эти различения, вводившие еще какую-то дифференциацию между видами деятельности, были утрачены, ибо с точки зрения созерцания все деятельности вообще нивелировались до одной единственной. Тем самым и деятельность, до того высшая из всех, поступок, и вдохновляющая его забота об общих делах, деградировала до необходимости, которая со своей стороны задавала общий знаменатель и критерий для оценки любой деятельности, присущей vita activa» (с. 110). А вот тут проявляется еще одна отличительная черта всего исследования X. Арендт: при повышенном внимании к больше «объективным» социально-бытийным чертам и деталям, характеризующим Античность (впоследствии в таком же стиле будет охарактеризовано Новое время), она постоянно держит руку на пульсе сопредельных духовных и теоретических явлений. Такой подход определяется ее комплексным, целостным пониманием социального бытия одновременно как «объективного» и «субъективного» единства. При этом можно сказать, забегая вперед, что догма о «первичности» бытия и «вторичности» сознания, выросшая в качестве нароста на марксистском теоретическом организме, ею отвергнута изначально. Напротив, показано, как некоторые духовно-ценностные процессы формируют, порождают те или иные если не внесубъективные, то интерсубъективные особенности социального бытия.
От характеристик Античности — с точки зрения деятельности труда и отношения к нему — автор V.a. свободно переходит к последующим эпохам. Ее интересуют происходящие в данной области исторические изменения.
Происшедшая к Новому времени кардинальная перемена выразилась, согласно хорошо обоснованному суждению X. Арендт, в «ново-
287
Часть V. Глава 4. X. Арендт о «труде» и «работе:
288
00
X
европейском повышении статуса труда»1. Этот духовный, идейный феномен, в свою очередь оказавший влияние на сферы бытия, подробно проиллюстрирован у X. Арендт на примере учения о труде К. Маркса. «...Решающей для новоевропейского повышения статуса труда была именно его „производительность”, и задуманная Марксом святотатственная формулировка, что труд {а не Бог) сотворил человека и что труд (а не разум) придал ему отличие от всех прочих животных, лишь с шокирующей радикальностью проговаривает то, в отношении чего все Новое время было по сути единодушно» (там же). Для доказательства того, что Маркс твердо и последовательно утверждает мысль о «само- порождении человека через труд», X. Арендт ссылается на различные сочинения Маркса. В главе о труде, о чем X. Арендт уведомляет в самом ее начале, вообще нельзя было обойтись «без критического размежевания с Марксом» (с. 103), почему оно и проходит через весь анализ, в котором, кстати, автор V.a. никак не стремится включить свой голос в тогдашний хор, в коем слышались либо восхваления, либо огульные ниспровержения учения Маркса — «без критического прояснения средоточия его творчества» (там же).
§ 13 анализируемой главы возвращает нас к стрежневой теме «Труд и жизнь», в которой именно «das Arbeiten» (labor) осмысливается как сфера и одновременно как структура, отличная и от «Herstellen», и от «das Handeln». А это значит для X. Арендт, что надо основательнее раскрыть уже отмеченную ею специфическую черту труда как обусловленную «жизнью », а вместе с тем и бытийно-обуславливающую сферу, форму деятельности.
Внимание: дальше X. Арендт, говоря и размышляя о «труде» (das Arbeiten), все больше и больше отдаляется от тех смыслов, которые вкладывали и до сих пор вкладывают в это расхожее многослойное понятие и обычные люди, и немалое число теоретиков. Когда в обычной жизни произносят это слово, имеют в виду всякую занятость, связанную с затратой сил, времени, а также порождающую тот или иной (как-то материализованный) результат. Говорят о труде рабочих на промышленных предприятиях, крестьян — в поле, врачей — в больницах, учителей — в школах, служащих — в их бюро, конторах, водителей транспорта, обслуживающего персонала, а также о труде ученых и т. д. А Ханна Арендт, употребляя — еще раз подчеркиваем это — не слово-понятие «die Arbeit», a «das Arbeiten», имеет в виду лишь небольшую и особую часть из всех этих видов усилий, процессов и соответственно продуктов-результатов. Здесь, если хотите, особый «срез», под которым как бы знакомый нам «труд» взят, и поименован словом «das Arbeiten», в книге V.a. Соответственно имеются в виду только те отдельные, особо локализованные сферы, области, в которых «труд» выполняет как раз специальные цели и функции. Какие же?
«Das Arbeiten » в понимании X. Арендт (соответственно «работа » как форма прилагаемых усилий) определяется главной целью — извлечением из природы ее данностей, относительно небольшой их обработкой и доста-
1 Философская же кардинальность отразилась в том, что в труде увидели differentia specifica человека в отличие от животного. Первым автором, сделавшим это, согласно X. Арендт, не был Маркс, не былЪ Гегель, им был Юм (с. 111).
точно быстрым потреблением того, что получилось в результате. (О сферах: применительно к современности назвать области деятельности, где выполняется только труд в арендтовском понимании, практически невозможно. Всего ближе — обрабатывающая пищевая промышленность, скажем, сыроделание, мясокомбинаты, изготовление напитков и т. д., хотя и здесь вмешательство современных техники и технологии сильно усложняет картину.) Это и только это, повторяю, она считает возможным назвать «das Arbeiten» — и специально выделить для исследования.
Труд в так понимаемой его специфике имеет дело с теми «потребляемыми продуктами», которые — о чем X. Арендт говорит, ссылаясь на Локка, — «обладают наименьшей степенью постоянства», едва переживая процесс своего изготовления (с. 123). Их человек только обрабатывает и подготавливает для достаточно быстрого потребления. Жизнь человека здесь действительно и явно образует первое основание для труда. А значит, надо понять особенности человеческой жизни, поскольку она порождает, стимулирует, обусловливает труд-деятельность, которая уже со своей стороны обеспечивает именно коренные, исходные потребности самой жизни. Жизнь есть «процесс, повсеместно подтачивающий все постоянное, изнашивающий и стирающий его...»; природные вещи и в труде включены «в объемлющее круговращение самой природы...» (с. 124). Правда, уже на этом — «естественном» — уровне возникают тенденции, отличающие человека от остальной природы. Природа «...не знает ничего о рождении и смерти в человеческом смысле»; лишь в жизнедеятельности человека «рождаются и уходят в смерть индивиды — уникальные, незаменимые и неповторимые». В силу этого уже природные необходимости, проявляющиеся в рождении и смерти человека, предполагают «мир», а именно «нечто своей долговечностью и относительным постоянством допускающее самый факт прихода и расставания, нечто поэтому всегда уже бывшее и имеющее остаться после всякого частного исчезновения» (там же). Но поскольку, продолжает X. Арендт, появление и исчезновение человеческой жизни «суть бытие в мире», постольку и сама эта жизнь состоит из событий, кои в конечном счете слагаются в жизненную историю, которая может быть рассказана как некая «жизненная повесть» (с. 125). Об этой жизни, напоминает автор V.a., т. е. о ßio<; в отличие от ^соц, Аристотель и говорил, что она «естьяга£ц», «практика» (Политика 1254а7).
Тут берет свое начало арендтовское оригинальное, проходящее через различные ступени определение понятия, обозначаемого знакомым словом «мир», но имеющего — в контексте анализа V.a. — совершенно специфические смысл и значение. (Специфические также и по отношению к той экзистенциальной аналитике «мира», «мировости» мира, которую выстраивает Хайдеггер в «Бытии и времени».) Это существенный, и именно философский пункт. Если во многих случаях «мир» в философии понимается или только как природа вне человека, или как единство нетронутой человеком природы и созданного человеком, то X. Арендт резервирует это слово-понятие лишь для обозначения того «человеческого мир>а», который только и возникает благодаря труду, но конечно же, сотворяется человеческим трудом из материально-вещественных данностей природы. Цель такого выделения и обособления —
289
[ I 694
Часть V. (лова 4. X. Арендт о «труде» и «работе;
290
о
(fl
о
i
Э
а
о
£
<п
X
осмыслить неповторимую специфику именно этого «мира». Трудность, поначалу незаметная для читателя, заключается в том, что «мир», согласно разъяснениям X. Арендт, как будто начинает возникать благодаря труду, но в труде (в ее понимании) все же не складывается в его полноте и специфике. Впоследствии обнаруживается, что не homo laborans, а homo faber — его, «мира», подлинный творец. (Что этот аспект толкования X. Арендт ввела противоречиво и вообще-то запутала его, вряд ли заметила и выправила она сама.) И все же понятие «мира» ближе охарактеризовано в V.a. с точки зрения того, какой специфический смысл и какое особое значение он приобретает также и в свете и с точки зрения процесса труда (уже в его отличии от «das Herstellen») — прежде всего как проявления природного начала в человеке. Тогда труд выступает как «кругообразное движение телесных функций», в чем состоит, согласно X. Арендт, его, труда, «элементарнейший аспект» (с. 126). Этот и подобные моменты требуют специального внимания, если мы хотим учесть то, о чем уже отчасти шла речь: при осмыслении арендтовского понимания труда прежде всего следует отказаться от привычных для читателей ассоциаций, пробуждаемых словом-понятием «труд».
Имея это в виду, постараемся поточнее уловить те моменты, какие автор V.a. вкладывает в собственное понятие «труда». Сложность — в особом случае отношения к марксизму и связанным с ним ассоциациям — определяется характерным противоречием. С одной стороны, к некоторым характеристикам и определениям Маркса X. Арендт относится если не полностью одобрительно, то с пониманием их частичной оправданности. С другой стороны, она дает достаточно жесткие оценки теоретико-методологических слабостей и упущений марксистского подхода к труду. Вот хороший пример — цитирую X. Арендт: «Когда Маркс определяет труд как „процесс между человеком и природой, в котором человек своим собственным деянием упорядочивает и контролирует свой обмен веществ с природой”1, так что его продуктом становится „природное вещество, приспособленное путем изменения формы к человеческим потребностям”, то биологическо-физиологическая связанность этой деятельности столь же ясно видна, как и то, что труд и потребление суть лишь две различные формы или стадии в круговращении биологического жизненного процесса» (с. 127, курсив мой. — Н. М.). Пока повременим с суммарной арендтовской оценкой того, в чем прав и в чем заблуждается Маркс, настаивая на таких «биолого-физиологических» формулировках не только применительно к труду, но и к самой человеческой жизни и сущности человека («...люди, — говорит Маркс, — начинают отличаться от зверей, когда начинают производить себе средства для жизни»). Обратим внимание только на то, что именно здесь — на стадии констатации действительной зависимости человека и его труда от природы вне его и природных начал в нем самом — X. Арендт если не полностью поддерживает выкладки теории труда Маркса, то по крайней мере охотно пользуется его отдельными формулировками. Например, теми, в которых констатируется: «поддержание» жизни тела и — соот-
1 X. Арендт тут непосредственно цитирует «Капитал». Гл. 5. Разд. I (в цитатах из V.a. слова Маркса берутся в малые кавычки). Одновременно она подчеркивает, что подобные формулировки часты у Маркса, иногда «со словесными повторами».
291
ветственно — напряжение, расходование сил тела, как и деструктивное «поглощение» окружающей природы, выступают в качестве первой задачи, характеризующей именно труд как «работу».
Вторую задачу труда X. Арендт обрисовывает как необходимость «поддержания [окружающего] мира* (ибо ведь природа постоянно вторгается в созданный человеком «мир»), что «требует тягостной, монотонной организации каждодневно повторяющихся работ» (с. 129). В этой связи X. Арендт ссылается... на мифы и сказания — например, на тот миф об одном из подвигов Геракла, где символически идет речь о чистке авгиевых конюшен. И она иронически замечает, что «авгиевы конюшни» социального «мира» всегда чисты только в мифе... Этот момент в высшей степени актуален: мало когда в истории «мир» человека был так похож на чудовищно запущенные «авгиевы конюшни», как сегодня (еще и с добавлением новых материалов, которые природа не утилизует столь охотно, как отходы реальных конюшен...).
В специальном § 14 X. Арендт увязывает нововременное повышение статуса труда с пониманием его как источника собственности (это «теоретическое открытие Локка»), а потом — с толкованием, уже у А. Смита, как «источника богатства» (с. 130).
Во второй главе, как и на протяжении всей книги, X. Арендт уделяет, как сказано, особенно пристальное внимание критическому размежеванию с Марксом. Кратко обобщим основные линии этого противостояния.
Критическое размежевание с теорией труда К. Маркса
Первоначальные нововременные интенции толкования труда как «источника собственности и богатства», согласно X. Арендт, достигли «высшей точки» «в Марксовой „системе труда”, где он, труд, становится источником всякой производительности и выражением человечности человека». Она добавляет, что из предшествующих теоретиков труда «лишь Маркс действительно интересовался трудом как таковым» (там же). Констатируя все это, X. Арендт приходит к важнейшему для нее выводу — прежде всего теоретическому, но имевшему несомненные практические, притом и политические, и этико-гуманистические следствия. Суть вывода: фактически понимая труд как «природнейшую» из всех человеческих деятельностей, Маркс попал в плен глубоких противоречий, потому что связал с так понимаемым трудом самое сущность человека. Выход из противоречия был найден им... в непоследовательностях разного рода. Например, в том, что труду (вспомним, понятому скорее в биолого-физиологическом плане) приписал те черты, которые, полагает X. Арендт, на самом деле были присущи «das Herstellen». А общее противоречие — и по ее мнению, основной изъян теории Маркса — X. Арендт зафиксировала следующим образом: «Даже Маркс, действительно определивший человека как animal laborans, работающее живое существо, перед убийственной очевидностью феноменов вынужден был признать что производительность труда строго говоря начинается лишь с „опредмечивания”, а именно с „создания предметного мира” и что наоборот никакое вложение труда не может освободить живое существо от необходимости все равно начать трудиться снова» (с. 131-132).
11
Часть V. Глава 4. X. Арендт о «труде» и «работе;
292
&
0
о»
>s
£
X
1
О
S
э
а
о
£
00
X
Но все это, считает X. Арендт, лишь второстепенные вопросы в сравнении с «фундаментальным противоречием», характерным для III тома «Капитала» в столь же сильной степени, как и для юношеских произведений Маркса. «Марксово отношение к труду, т. е. к центральной теме его мысли и его работ, от начала до конца было всегда двусмысленно. Хотя труд (вроде бы) есть „вечная природная необходимость”, „независимое ни от каких социальных форм условие существования” и к тому же собственно человеческая и продуктивнейшая из всех деятельностей, тем не менее революция по Марксу имеет задачей не эмансипацию рабочего класса, а освобождение человечества от труда). Ибо „царство свободы начинается по сути дела впервые там, где прекращается труд, обусловленный нуждой и внешней целесообразностью”, оно начинается по ту сторону „царства необходимости”»1 (с. 134). X. Арендт замечает: подобные противоречия, «принципиальные и вопиющие», редко встречаются у второразрядных авторов, тогда как «в сочинениях крупных авторов», к коим она причисляет Маркса, они «вводят в самое средоточие их мысли». И вот общий вывод: «При всем своем размахе Марксово творчество завершается в конце концов невыносимой альтернативой между производительным рабством и непроизводительной свободой» (с. 135).
Так в чем же — в понимании X. Арендт — кардинально ошибся Маркс, этот крупнейший «теоретик труда»? Разве он неправ, когда увязывает труд с природной обусловленностью человеческих «естественных потребностей» и с суровой необходимостью удовлетворять их? Когда обрисовывает все тяготы труда? Или когда (утопически) считает, что сбудется вековечная мечта человечества об освобождении от всех тягот, даже от самого процесса такого труда? По существу предлагая свой критический ответ на эти и подобные вопросы, X. Арендт начинает с того, что опять-таки если не поддерживает целиком идеи Маркса, то в ряде важных пунктов показывает их частичную оправданность и, так сказать, высокую себестоимость. «Собственно сила труда, рабочая сила, подобно жизненной силе есть плодовитость... Маркс сумел открыть рабочую силу потому что не испугался последствий натурализма» (с. 139). Интерес Маркса именно к «процессам», к «общественным производительным силам» как «живым силам», считает X. Арендт, доказывает то, что он «рассматривает человека как родовую сущность». «С точки зрения жизни рода действительно возможно привести все деятельности к общему знаменателю труда и нивелировать их...» (там же).
Но ведь дело (с точки зрения X. Арендт) решительно менялось, когда такая «нивелированная» деятельность, с одной стороны, провозглашалась самой сущностью человека, а с другой стороны, подлежала чуть ли не отмене в обществе будущего!
Несомненно заключенное в изложении автора V.a. сближение концепции труда К. Маркса с естественно-научными, даже натуралистическими подходами подкрепляется целым рядом доводов и соображе¬
1 Здесь в цитате из X. Арендт в малые кавычки взяты приводимые ею знаменитые Марксовы высказывания из III тома «Капитала». X. Арендт напоминает: «В „Немецкой идеологии” Маркс уже требует чтобы „коммунистическая революция... устранила труд”, и это всего лишь несколькими страницами после заявления, что человек отличается от зверя лишь трудом» (там же).
ний (например, тем аргументом, что «Марксова теория труда в своем временном становлении совпала с теориями эволюции» — с. 149). Что касается рассуждения X. Арендт о том, что Маркс в одном из ответвлений своей концепции, а именно при рассмотрении рабочей силы, скорее идет по пути биологического уподобления сути труда природной «плодовитости» (сравниваемой с плодовитостью человеческого размножения), то следует признать: подобные оценки более чем необычны. Ведь считается, что именно Маркс, автор специфической теории социального бытия, был и противником любой натурализации в трактовке человеческой деятельности вообще, трудовой деятельности в частности и особенности. Тем не менее аргументы и доводы X. Арендт, апеллирующие к целому массиву выдержек, формул из очень хорошо ею изученных работ Маркса, совсем не лишены оснований. И обнаруженные ею противоречия Марксовой теории труда — не оговор, не навет.
Сердцевина и суть возражений X. Арендт и в адрес предшественников Маркса Локка или А. Смита, и направляемых против принципиальных устоев марксистской теории — не в том, что упомянутые теоретики опираются на «природные», «телесные», в этом смысле «элементарные» аспекты трудового процесса. Ибо последние, несомненно, существуют и подлежат фиксированию, изучению в любых теоретических выкладках относительно труда. X. Арендт, как мы видели, и сама не против того, чтобы использовать подобные аргументы, доводы, формулы и Локка, и Маркса. Однако сделать это нужно, считает она, лишь с существенными поправками.
1. Принципиальные ее возражения прежде всего направлены против осуществляемого теоретиками этого типа неоправданного теоретического стирания различий между трудом (в описанном смысле) и другими видами человеческой деятельности.
2. X. Арендт также решительно возражает против прославления, возвеличивания по сути «натуралистически» понимаемого труда как якобы «высшего» из всех видов деятельности, как сущностного отличия человека.
3. X. Арендт выступила против того, чтобы считать труд — а так получилось во многих теориях, концепциях, в произведениях литературы и искусства — своего рода моделью и мерилом, масштабом для анализа общества, для понимания и проектирования будущего. (К данному аспекту мы подробнее обратимся впоследствии, когда ближе познакомимся с арендтовским пониманием двух других видов деятельности.) И она — скажу теперь об этом на языке теории цивилизации — по существу не согласилась с тем, чтобы успокаивать людей мыслями о том, что вместе с разрешением кричащих проблем этой области деятельности цивилизация избавится от своих главных болезней и кризисов. Исторический результат, что очевидно сегодня, ровно противоположный: пусть и эмансипировав труд, насытив его новейшими техническими достижениями, современная цивилизация не только не сняла глубокое социальное напряжение прежних эпох и веков, но впервые в истории породила опасность самоуничтожения человечества.
4. На модели труда как «высшей» деятельности покоилась, как мы видели, идея о homo laborans, «человеке труда» как о ярчайшем, наи-
293
Часть V. Глава 4. X. Арендт о «труде» и «работе;
Н.В. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-врелля-любовь
294
лучшем символическом выражении самой человеческой сущности. Но человека, уверена X. Арендт, принципиально неправильно определять как homo laborans, тем более если труд понимается так, как это получилось у ряда авторов Нового времени, и особенно систематично — у Маркса. И здесь X. Арендт видит совсем не невинный теоретический ход, а источник многих историко-практических превращенных шагов, искажений, особенно явных на тех этапах развития человечества, когда подобные формулы стали для больших масс людей их идеологией и руководством к действию.
Сведёние человеческой сущности к труду (человек как homo laborans) вдруг как бы нашло свое подтверждение в тенденциях самой истории! Так совершается у X. Арендт переход к анализу «современных» тенденций — бытийных и теоретических.
«Современное общество» и труд
Как подробно показывает X. Арендт в последующих параграфах III главы (посвященных проблемам инструментов и орудий труда, разделению труда, обществу потребителей), «современное общество есть общество труда. Причем оно есть общество труда и потребления не благодаря эмансипации рабочего класса, а скорее благодаря освобождению самой трудовой деятельности, опередившему на несколько веков эмансипацию трудящихся. Для социального порядка, в котором мы живем, значимо не столько то, что впервые в истории трудящееся население допущено с равными правами в публичную сферу, сколько то, что внутри этой сферы всякая деятельность понимается как труд, а стало быть все что бы мы ни делали опускается до нижней ступени человеческой деятельности, до обеспечения жизненных потребностей и удовлетворительного уровня жизни» (с. 162). Возникает, говорит X. Арендт, господствующая в «современном обществе потребления»* 1 тенденция, в соответствии с которой любая деятельность понимается «как способ заработать на пропитание, чтобы „хватило на жизнь”». Причем таким образом человеческая деятельность понимается и в обыденном сознании, и «в привычных для нашего общества теориях труда» (там же). Более того, благодаря «освобождению труда » распространилась, показывает X. Арендт, трактовка труда не просто как деятельности, «равноценной» и «равноправной» с другими ее формами, но как достигшей «неоспоримого превосходства»2.
Оценивая лежащую в основе подобных пониманий «эмансипацию труда», происшедшую в Новое время, X. Арендт готова признать ее
1 Под определение «современного общества» как потребительского общества вполне подпадает не только XX, но и XXI век, а также, вероятно, и долгосрочное будущее развитие.
1 Исключительно интересна имеющаяся у X. Арендт классификация тех «со¬
временных» (имевшихся к концу 50-х годов XX века) теорий труда, авторы которых осуществляли «идеализацию труда » — начиная от концепций католических авторов, понимавших труд как средство для более возвышенной цели, или авторов, трактовавших его как структуру для «высшей структуры», понимавших его как «чистое удовольствие», до тех, кто видел в труде «почетное средство покорения природы», чему, как «высшей цели» (превратной, с современной точки зрения), придавалось особое значение.
«прогрессивной» в том смысле и в той мере, в каких уменьшается насилие во всех соответствующих процессах. Но если учесть другие факторы и критерии, уверенности в «прогрессе» много меньше. «За единственным исключением пытки никакая осуществляемая человеком власть не сравнима с чудовищной природной силой необходимости, с ее нудящей мощью» (с. 165). (Вот почему, замечает X. Арендт, в чутком к социальным реалиям греческом языке слово, означавшее пытку, «выводилось из слова, означавшего необходимость, а не от слова со значением насилия» — с. 166.)
Несогласие X. Арендт с современным «возвышением» труда — как якобы следствия его «эмансипации», улучшения его условий и увеличения вознаграждения за труд, «снижения насильственности » и т. д. — находит продолжение в следующем общем тезисе автора У.а.: «То, что однажды в нашей истории, а именно в последние века гибнущей Римской империи, уже происходило, смогло теперь повториться вновь. А именно, труд тогда уже начал превращаться в занятие свободных — но лишь „чтобы подчинить их принуждению кабалы”» (с. 167). В подтверждение своего вывода X. Арендт и ссылается на авторов Нового времени, включая Маркса, можно сказать, певца и апологета труда, в данном случае (как, впрочем, и во многих других) как бы непоследовательно признававшего, что «эмансипация труда в модерне вовсе не обязательно завершится эпохой всеобщей свободы...» (там же). Именно отсюда следовал известный и уже обсуждавшийся тезис Маркса об «освобождении»... от труда, равносильном освобождению от гнета «необходимости».
X. Арендт обсуждает вопрос о том, приведет ли даже и кардинальное усовершенствование автоматики и других средств облегчения труда, особенно красноречиво описанное в «утопиях» разного рода, — приведет ли это к принципиальному, сущностному преобразованию труда как особого, все же неотменимого вида человеческой деятельности. Ответ: «...даже такое осуществление „утопии” ничего не изменит в принципиальной напрасности жизненного процесса для мира » (с. 168). Более того, приняв во внимание совокупные противоречивые тенденции, мы придем, согласно X. Арендт, к такой, например, «обескураживающей констатации»: свободного времени (мера которого по идее должна возрастать вместе с «прогрессом» техники) у людей с течением истории будет все меньше... Наблюдение автора У.а. — книги, написанной полвека назад, вполне подтверждается опытом XXI столетия, в котором давление дефицита времени, особенно свободного, становится куда более заметным фактором, чем в прежние эпохи1.
Теперь, после того как мы презентировали главные пункты и выводы анализа в У.а. сферы труда (работы), ее обусловленностей, основ-
295
1 Весьма любопытна в данной связи ссылка X. Арендт на «новейшие (в ее время) оценки», согласно которым «в средневековую эпоху работа занимала не больше половины всех дней в году. Число официально праздничных дней доходило до 141». И вот поистине обескураживающий общий вывод историка (Е. ОоПёапв), которого цитирует автор У.а.: «Рабочие в первой половине девятнадцатого столетия жили при худших условиях чем беднейшие слои в предшествующие века» (с. 170). XX век тоже останется под подобным сильным подозрением, если принимать во внимание не только ситуацию труда в более благополучных странах, но и общемировое состояние трудовой деятельности.
Часть V. (лава 4. X. Арендт о «труде» и «работе:
Н.в. Мотрошилово WBB Мортон Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
296
ных структур и противоречий, нас не удивят заключительные выводы X. Арендт о глубокой антиномии, присущей современному обществу.
С одной стороны, «мы», т. е. человечество, «действительно уже начали жить в трудовом обществе» (с. 172), как его понимали и планировали усовершенствовать выдающиеся теоретики труда. Осуществилась «эмансипация» труда, гигантски возросла его производительность; массы людей освободились «от крайней нужды» и стали активными потребителями; публичная сфера тоже оказалась представленной и homo laborans, «трудящимся животным». И что же? Достигнуто ли удовлетворение этим обществом хотя бы со стороны такого человека, homo laborans? Обеспечило ли такое общество «счастье для большинства»? Достаточно непредвзято поразмыслить над подобными вопросами, чтобы понять всю обоснованность негативного на них ответа автора книги V.a. Тут X. Арендт справедливо ссылается (и XXI век еще более, чем ХХ-ый, подтверждает ее правоту) на множество проявлений «всеобщего недовольства», особенно резкого, когда его выражают люди разных стран и континентов, занятые как раз в сфере труда, т. е. как будто бы представители homo laborans в наиболее прямом смысле слова. «Они страдают, — верно и ярко констатирует X. Арендт, — просто-напросто от полностью нарушенного равновесия между трудом и потреблением, между деятельным бытием и покоем...» (с. 172). Привлекая внимание к «этому несчастному идеалу счастья трудящегося животного » (там же, курсив мой. — Н. М.), X. Арендт справедливо говорит об особой опасности так называемой «waste economy» («хозяйствования» в опоре на растрату сил, ресурсов, когда приобретают вещи и быстренько их выбрасывают). Такой способ хозяйствования, обоснованно предупреждает X. Арендт, не может не привести к «внезапной катастрофе» (с. 172,173).
X. Арендт не отрицает того, что описанная теоретиками труда (в частности, Марксом) природно-обусловленная сторона трудовой (и всякой иной) деятельности вполне реальна. Она необходима исходно, изначально, для каждого человеческого индивида, чем бы он ни занимался, и тем самым для человечества в целом. При этом она является непреходящей также для всей истории начиная с потонувших в глубокой древности этапов, когда человек стал выделяться из животного мира, — и сначала, действительно, благодаря труду, пусть он, в элементарных и первоначальных его формах, был особенно настоятельно обусловлен полуживотным существованием человека. При всей фундаментальной роли труда, обусловленной и природными, от существа жизни идущими факторами, и социальными формами, X. Арендт считает принципиальной задачей теории бытия проанализировать виды деятельности, хоть содержащие в себе некоторые природные, а потому «трудовые» необходимости и стороны, аспекты, но по своим сущностным характеристикам особые, специфические по сравнению с трудом в таком именно толковании.
Сделаем выводы.
Вся рассмотренная глава книги V.a. покоится на следующих теоретических предпосылках и идеях. Под «трудом» и в истории мысли, и в реальных политических процессах самой истории понималось, согласно X. Арендт, «измерение» деятельности, больше и настоятельнее всего обусловленное чисто природными и потому неотменимыми потребно¬
стями человеческих существ. Соответственно сложились связанные с таким пониманием «труда » «трудовые » теории — от теорий стоимости, теорий политики, общества и его будущего до концепций «трудовой сущности человека», понимания человека как «homo laborans». Иными словами, «физиологическая», натуралистическая по преимуществу трактовка труда, а потом его восхваление как модели всякой деятельности и критерия человеческой сущности, по мысли X. Арендт, определили не только господствующее понимание труда как такового, но повлияли и на многие другие ответвления, разделы социального (экономического, политического, культурологического и т. п.) знания, а также на практические сферы исторической жизнедеятельности человека. Но поскольку мыслители, создатели подобных теоретических моделей (от Дж. Локка, А. Смита до К. Маркса) занимались не только темами труда как природно обусловленного процесса, а многими другими социально-историческими реалиями (ведь Локк или Маркс также были исследователями духа, познания, культуры), то они неизбежно впадали в противоречия. (Из них наиболее впечатляющее и фатальное — прославление Марксом труда, проходящее через все разделы его теории, и вдруг — его неожиданная парадоксальная мысль об... устранении труда в обществе будущего, которое должно-де стать лишь обществом... свободного времени.)
Вполне возможно, что марксологи не согласятся с подобным описанием Марксовой трактовки труда и утверждением, что у Маркса человеческая сущность сводится к жизнедеятельности homo laborans. Но вовсе отмахнуться от критических теоретических наблюдений X. Арендт вряд ли правильно. Подобно этому представляет интерес ее рассмотрение «современного общества» с точки зрения реализации многих замыслов, требований авторов «трудовых» концепций. (Более подробно эту линию своих рассуждений она презентирует в последней, VI главе книги V.a., специально посвященной нововременным изменениям и сдвигам — как в реальном историческом развитии, так и в теоретических его осмыслениях.)
Ответ X. Арендт на предполагаемый ею факт долгого господства «трудовых» теорий и на их неизбежные противоречия содержится не только в выкладках рассмотренной главы. Размежевание продолжается и в последующих двух главах. Ибо автор V.a. считает, что «трудовики» не осуществили сколько-нибудь основательного теоретического (и практически-политического) отличения тех сторон и измерений труда, которые еще можно было (хотя бы отчасти) «натурализировать», от тех важнейших характеристик деятельности, суть которых никак нельзя было понять на природно-натуралистической основе — прежде всего потому, что животные как таковые и другие, кроме человека, «высшие животные» к таким видам деятельности принципиально неспособны.
Эти сферы и измерения как раз и помечаются терминами «das Herstellen» и «das Handeln». Им посвящены следующие две обширные главы книги «Vita activa».
297
Чость V. Ihoeo 4. X. Арендт о «труде» и «роботе;
rnfißfi 5
Сфера «das Herstellen»
Возникновение и пребывание «человеческого миро»
В IV главе V.a., характеризуя второй тип деятельности, X. Арендт сразу связывает ее с тем кардинально значимым обстоятельством, что именно благодаря «das Herstellen», а не труду возникает и потом длится, пребывает, становится совершенно особой реальностью «мир» как мир человеческий. Здесь появляются и укореняются важнейшие, с точки зрения X. Арендт, отличия «мира человека » от тех реалий, которые порождаются деятельностью труда (das Arbeiten), разумеется в ее аренд- товском понимании. Отличия сначала устанавливаются сжато, в целом: «Мастерство наших рук, а не труд нашего тела, homo faber, обрабатывающий данный материал в целях изготовления, а не animal laborans тесно сливающий с материалом своей работы, телесно поглощающий ее результат, создает прямо-таки несчетное количество вещей, совокупная сумма которых складывается в выстраиваемый человеком мир» (с. 175). Так X. Арендт начинает IV главу V.a.
При этом предметы такой деятельности, по словам автора V.a., не потребляются1 2, а употребляются, т. е. сохраняются после множества актов их единичного использования. «Долговечность мира» — так называется § 18 книги V.a. Если бы существовала и осуществлялась только та деятельность, которую X. Арендт именует трудом — а ее предметы сразу же или «очень быстро» потребляются, тем самым исчезая с лица земли (собственно, преобразуясь в другие вещественные формы), — то отдельный человек смог бы выжить, как выживают животные. И как выживали «люди» тогда, когда они (почти) не изготовляли такого рода долговечных предметов, но просто собирали, использовали — при минимальной обработке, а то и без нее — «дары природы». Но «смертнонепостоянное бытие человечества на земле, — пишет X. Арендт, — не смогло бы учредить себя; в них (т. е. в предметах, изготовляемых homo faber. — Н.М.) собственное человеческое отечество человека » (там же, курсив мой. — Н. М.у.
Таким образом, das Herstellen в понимании X. Арендт — именно такая деятельность, благодаря которой и с более поздним историческим
1 Правда, потом X. Арендт справедливо отметит, что всякое употребление «содержит элемент потребления», амортизации (с. 177). Но самого противопоставления того и другого, важного для отличения das Herstellen от труда, данный факт, по ее мнению, не отменяет.
2 В связи с этим хочу предупредить читателей: здесь и далее — по ходу презен- тирования, анализа, оценивания концепции социального бытия X. Арендт (пусть и разрабатываемой ею на основе иной терминологии) — я буду вводить в кадр исследования понятия, идеи своей теории бытия, 6 частности социального бытия. Ее частью являются бытийные разработки, предпринятые в рамках разрабатываемой мною в последние десятилетия концепции цивилизации и посвященные тому, что можно назвать «цивилизационной онтологией» (будут даваться отсылки к соответствующим текстам — книгам и статьям).
возникновением которой начинается1 и далее продолжается формирование, обновление, преобразование «мира», свойственного именно человеку и человечеству — и никакому другому (известному до сих пор) существу и роду. Что очень важно для центральной проблематики книги, das Herstellen кладет начало специфически человеческому бытию, бытийствованию в человечески-социальном, а не чисто животном, «природно-животном» смысле. Ибо ведь любое животное по-своему бытий- ствует, т. е. так или иначе создает и поддерживает особые для своего животного рода объективные формы продолжения своей жизни, которые усваивает (частично генетически наследует) и осваивает в индивидуальном опыте. Но человеческие формы бытия, в чем несомненно права X. Арендт, принципиально отличны от способов бытования животных. Отличия человеческого существования возникают и сохраняются также в труде и благодаря ему, но в наибольшей и в специфической для человека мере — благодаря «das Herstellen». Конечно, и предметы, порождаемые в лоне этого типа деятельности, — предметы специфически человеческого «мира» — обладают лишь относительной длительностью существования. И они, подобно всему материально-вещественному на земле, изнашиваются, а в конце концов погибают. (Вернее, они перестают быть именно теми, изготовленными предметами, разлагаясь и превращаясь в другие вещества природы.)
Тем не менее в «человеческом мире в целом» («мире» в его аренд- товском понимании) такие погибшие предметы заменяются, замещаются другими — подобно тому, как сменяют друг друга человеческие поколения. «Изнашиванию при употреблении подлежат долговечность и устойчивость » (с. 176). Так складываются важнейшие черты человеческого бытия — имеется «объективная предметность», созданная человеком и приобретающая не просто независимость от своих создателей, но и способность хоть на какое-то, а иногда на очень длительное время пережить их. И когда в наше время люди имеют возможность непосредственно или благодаря разным формам изображения увидеть «человекотворные» артефакты культуры (сохранившиеся буквально чудом посреди стихии природных, а еще больше «человекотворных» же разрушений), то перед ними, перед нами предстают исторические остатки, осколки бытий- ственно-предметных данностей и форм, которые бытовали, бытий- ствовали в стародавние времена и сохраняют в наше время особые, теперь уже культурно-исторические формы бытийствования. В вещном мире, правильно констатирует X. Арендт, появляется «человеческая тождественность, идентичность», которая как бы встречает своим относительным постоянством «ежедневно меняющегося человека » (там же).
Формируется новая вещественность, фактичность, и с этим человеку в мире противостоит уже не (только) «возвышенное равнодушие» природы, не тронутой рукой человека, а «объективность, предметность им же созданного мира» (там же). И это созданное людьми «наше», чело¬
299
1 Когда и как деятельность «das Herstellen» начинается в истории, не является предметом исследования в V.a. Уже говорилось, что подобные историко-генетические вопросы в книге X. Арендт как бы сняты с повестки дня теоретической работы. Вместе с тем историческая наука осветила генезис деятельности homo faber достаточно обстоятельно.
Часть V. 1/тава 5. Сфера «dos Herstellen
300
э
о
а
5
£
та'
веческое окружение даже обладает способностью защищать человека от природы1.
Здесь требуется важное уточнение. Абсурдно понимать теоретические раскладки X. Арендт, касающиеся «человеческого мираъ, этой важнейшей основы человеческого бытия, в том смысле, что его можно найти обособленно существующим — где-то еще, а не в окружающем нас мире, включающем природу, растительный и животный мир, обнимающем земную жизнь и ближайший, а в перспективе и отдаленный космос. Тем не менее с точки зрения систематической социальной, цивилизационной теории бытия (учения, которое еще требуется создать и у истоков которого — без применения именно такой терминологии — стоит теория X. Арендт) вполне верно выделять тот специфический «пласт», то особое «измерение», которое оправданно, вместе с X. Арендт, именовать именно «человеческим миром». И затем характеризовать, осмысливать ту и именно ту деятельность, которая ближайшим образом приводит к его созданию. Ведь выделение и по крайней мере описание, осмысление такого мира — скажем, названного «второй природой» по сравнению с «первой природой», пока и поскольку она не подверглась воздействию человека — произошло в различных философских учениях задолго до X. Арендт. А правомерность его теоретического — в известном смысле социально- бытийственного — отличения состоит в том, что человеческое в мире и мир как человеческий зримо, непосредственно, реально (в терминологии Хайдеггера — онтически) отличает себя самого даже при первом сравнении его с нетронутой природой. Это уяснялось столь же непосредственно, сразу, когда люди впервые обнаруживали те места на Земле, потом и в космосе, куда, как говорится, «до того» не ступала нога человека.
Для теории социально-исторического бытия исключительно важное значение имеют исследования, разыскания X. Арендт, здесь — применительно к спецификации вполне оправданно выделенного ею бытийного пласта, т. е. материально-вещественного, но (в отличие от нетронутой природы) одновременно природного — и уже и социальноисторического как по своему происхождению, так и по сущностному характеру — окружающего мира. При этом акцент, во-первых, на социально-исторические стороны и аспекты не менее, а более важен, чем простая констатация природно-вещественного состава создаваемых человеком предметов. Во-вторых, отсюда следует, что для социальнофилософской (цивилизационной) теории бытия непременно требуется возведение такого «мира» — как совокупного, постоянно исторически обновляющегося результата — к специфическому виду человеческой деятельности. Ровно это и делает в разбираемой главе У.а. X. Арендт,
1 В своей главе «Бытие» (в коллективном учебнике «Введение в философию», выдержавшем ряд изданий) я пыталась определить специфику бытийственности применительно к разным типам предметностей и деятельностей, в частности по отношению к миру материально-вещественных данностей, впервые создаваемых и изменяемых человеком («вторая природа» — в терминологии авторов Нового времени, подхваченной К. Марксом). Характеристики X. Арендт в главах У.а. помогают дополнить имеющиеся там формулировки. В данном контексте я не просто излагаю идеи X. Арендт в ее формулировках (они берутся в кавычки), но включаю в обсуждение темы свои определения, понятия, рассуждения.
когда подробно осмысливает деятельность «das Herstellen» и выделяет особый тип осуществляющего ее человека — homo faber. А вот такое выделение тоже в известном смысле условно, ибо от жизнедеятельности любого человека, даже занятого «изготовлением», «создаванием» (das Herstellen) тех или иных орудий, отделить именно данные черты непросто. Но для теоретических целей это можно и нужно сделать — опять- таки потому, что в истории такое отделение «онтически», т. е. объек- тивно-бытийственно, происходит. Ему и должно следовать социальное учение о бытии.
Итак, X. Арендт достаточно подробно анализирует черты и аспекты деятельности «das Herstellen», т. е. «изготовляющей деятельности homo faber’a». Это, например, «овеществление», которое начинается с того, что материал для «das Herstellen » люди сперва добывают, «вырывают » из природного окружения, тем самым вторгаясь в «природное хозяйство». «Всякое das Herstellen насильственно, и homo faber, творец мира, может исполнить свое дело лишь разрушая природу» (с. 179). Акцентируется и то обстоятельство, что «прообраз руководящий изготовлением, находится вне самого создателя» (с. 181), предшествуя процессу «создава- ния» (das Hertellen). Например, это «идея» стола, без которой создание стола человеком невозможно. А ведь подобная идея всегда бывает результатом сложения многих отдельных процессов «das Herstellen» — до тех пор, пока наиболее продвинутые, удачные идеи-парадигмы (все же вариативные и зависящие от многих местных, локальных цивилизационно-культурных обстоятельств) не начинают свое как бы самостоятельное победное шествие в истории человечества.
Среди самых удачных, по моей оценке, страниц книги V.a. — те, на которых разбирается эта совокупность особенностей деятельности как «das Herstellen», изготавливания, одновременно блестяще увязываемых с учением Платона о «вечных идеях». «Для места, занимаемого деятельностью создания в иерархии vita activa, важное значение имеет то, что представление, или модель, руководящая процессом изготовления, ему не только предшествует, но и после изготовления предмета не исчезает снова и таким образом удерживается в новой актуальности, делающей возможным дальнейшее изготовление идентичных предметов» (с. 182). (Надо учесть: оригинальный аналог появляющихся в переводе разных слов — «создание», «изготовление» — все это das Herstellen.)
Моменты, здесь специально выделяемые и точно, ясно осмысливаемые Ханной Арендт, — предшествование «модели», ее долговечность, объективирование и «заданность» другим актам деятельности — сами по себе уже являются объективно-бытийными (оптическими в смысле Хайдеггера) характеристиками, с которыми вынужден считаться любой человек, создающий такие образцы (модели, парадигмы), преобразующий их или ими пользующийся1. Притом слово «вынужден» означа-
301
1 X. Арендт уместно замечает, что Платон поистине «ошеломляюще » ввел слово (8ёа «в язык философских понятий, хотя оно было неупотребительным в повседневном языке Аттики». Она оспаривает, кстати, суждения о (преимущественно) геомет- рически-математическом происхождении греческого слова «идея» и ссылается на X книгу «Государства», где Платон больше и ближе всего опирается на опыт ремесленника, который «изготовляет ложа и стулья „соответственно их идее”» (с. 183).
Часть V. inoea 5. Сфера «das Herstellen:
302
•О
е»
Ю
о
л
о
а
Б
S
со
х
ет здесь и то, что «обычный» отдельный человек, человек жизненного мира, может делать все это без четкого осознания сторон, характеристик процесса и тем более без понимания тех «онтологических ъ аспектов, которые попадают, и то далеко не сразу, в поле зрения философов, теоретиков1.
Такие черты модели — ее размножимость, «свойство (относительно) постоянного пребывания» — X. Арендт убедительно относит к пер- воистокам теории «вечных идей» Платона. И еще к тому ее отличию, что Платон в данном учении одновременно «отталкивается» от двух греческих слов — i5ea, идея, и е(8о<;, т. е. образ и вид. X. Арендт делает совершенно обоснованный и чрезвычайно важный, в наше время уже привычный историко-философский вывод: платоновское учение «явно опирается на опыт das Herstellen, яоСцац», о чем свидетельствуют многочисленные примеры, взятые Платоном из мира ремесел и искусств (с. 182)2.
Осмысливая процессы «das Herstellen», X. Арендт вскрывает специфические отличия возможностей применения тех же характеристик к продуктам и процессам труда. В результате появляются такие сравнительные определения труда (das Arbeiten), с одной стороны, и «das Herstellen» — с другой: «Собственно отличительный признак создания („das Herstellen”. — Н. М.) в том, что оно имеет определенное начало и определенный, предсказуемый конец; и уже этим одним оно отличается от всех других человеческих деятельностей. Труд, втянутый в круговорот тела, не имеет ни начала ни конца. И поступок, хотя он имеет отчетливо опознаваемое начало, но, раз уж им однажды положено чему-то начало, тоже, хотя и другим способом, бесконечен...» (с. 184-185). При этом, продолжает X. Арендт, только homo faber действительно хозяин и господин, ведь он научился подчинять себе природу; но он также «господин самому себе, своему собственному действию и бездействию». Что же касается animal laborans, человека как «работающего животного», то он всегда и прочно подчинен «нуждам собственной жизни»; «человек поступающий» тоже оказывается в зависимости — на этот раз от своих собратьев-людей (с. 185).
Homo faber, далее, — при всем том, что он полагается на свои руки, «первейшее среди инструментов и орудий», — задумывает и изобретает для создавания (hersteilen) мира вещей множество инструментов. В труде homo laborans, конечно же, использует орудия «для облегчения бремени труда» и его механизации. Однако создаются они именно благодаря деятельности homo faber, и притом в особых сферах деятельности. «Орудия, устройства и инструменты настолько принадлежат миру, что целые исторические эпохи с их цивилизациями мы классифицируем по ним и с их помощью» (с. 185).
1 См. по этому вопросу: Н.В. Мотрошилова. Объективные и субъективные формы бытия цивилизации // Ее же. Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов. М.: Канон-1-, 2010. С. 141-142.
2 В российском платоноведении проблему связи теории идей Платона с трудом ремесленников (в Античности — творческим, художественным трудом «демиургов») прекрасно осветила в своих трудах Т.В. Васильева, выдающийся отечественный анти- ковед. В моем эссе о Платоне в книге «Рождение и развитие философских идей» тоже осуществлялся подобный анализ.
Отсылка Ханны Арендт к цивилизации и ее историческим разновидностям (цивилизациям) совершенно верна, но требует дополнений. Признаки цивилизации как таковой применительно к «das Herstellen» — во-первых, преемственный целостный процесс истории, взятый, так сказать, по исторической вертикали. Я имею в виду преемственное и, однако, предполагающее новаторские прорывы движение (и усовершенствование) технического мира от одной эпохи к другой. Во-вторых, здесь происходит взаимодействие, взаимовлияние миллиардов подобных процессов, взятых как бы по горизонтали — в движении идей, парадигм изготовления, продуктов от одного региона мира к другому. В результате имеет место совместное, совокупное общецивилизационное творение, создавание (das Herstellen) относительно однородных для целой эпохи, хотя и варьирующихся технико-инструментальных и иных средств. Так оформляется важнейшая область бытийного поля человеческой цивилизации, осмысливаемая в теории цивилизационного бытия. (Попытка подробного обоснования последней предпринята в моей книге «Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов». М., 2010.)
Итак, благодаря существованию типа homo faber и его особой деятельности (das Herstellen) создаются орудия и инструменты, которые потом поступают (также) в процесс труда, где они образуют особые объективации «мира ». «Для труда орудия и машины утрачивают свой инструментальный характер, и animal laborans движется среди них так же, как homo faber движется в мире готовых вещей, в мире своих целей» (с. 186).
Все эти тщательные и тонкие раскладки, уточнения автора V.a. расшифровывают: а) характер той деятельности и ее процессов, благодаря которым формируется и удерживается длительный трансисторический бытийный мир обусловливания для всех последующих человеческих актов жизнедеятельности; б) складывание своего рода иерархии бытийных данностей и пластов (например, переход предметов и структур орудийно-инструментального характера из сфер деятельности homo faber в сферы труда, т. е. в ореал деятельности homo laborans); в) изменения, которые обновляющиеся типы орудий и инструментов вносят и в процессы труда, и во всю человеческую деятельность. В данной связи X. Арендт подробно анализирует исторически-бытийные этапы эволюции техники от паровой машины — через электричество и электрификацию человеческого мира — к автоматизации, а потом и применению атомной энергии (см. с. 190 и далее, где X. Арендт кратко концентрированно презен- тирует свою философию техники). И здесь — скажем, забегая вперед — объективно складываются и пересечения, и противостояния концепции das Herstellen, изложенной в V.a. и в других послевоенных сочинениях X. Арендт, и тех набросков «философии техники», которые обновляются или впервые разрабатываются Хайдеггером после войны (подробнее об этом — в последней части нашей книги).
303
Деятельность Homo faber, темы средств-целей и утилитаризма
К числу наиболее интересных страниц книги V.a. принадлежат те части IV главы (§ 21-22), в которых X. Арендт соотносит (как будто бы абстрактно-философские) категории «цель» и «средства» именно со
Часть V. (лава 5. Сфера «das Herstellen:
H-ß. Мотрошилово Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгте-время-любовь
304
спецификой деятельности «das Herstellen», создавания-изготовления, и с весьма любопытной фигурой homo faber. «Инструментами и орудиями, потребными homo faber и изобретаемыми им для своей деятельности создания и изготовления (das Herstellen. — Н. М.), очерчивается та область, где исходно формируется опыт целесообразности и правильное соотношение между средствами и целями» (с. 197), — пишет X. Арендт. Если и можно оспаривать склонность X. Арендт только или преимущественно на этих примерах иллюстрировать соотносительность понятий цели-средства и человеческого практического опыта, то уместность самого возведения этих категорий к деятельности по созданию орудий и инструментов вряд ли вызывает какие-либо сомнения.
Тип осуществляемого Ханной Арендт анализа, охват сюжетов и тем здесь тоже весьма любопытны.
1. Прежде всего, она имеет в виду продолжение ранее рассмотренного нами прояснения «das Herstellen» как особого вида деятельности. И вот то обстоятельство, что в процессах «das Herstellen» всегда так или иначе задействованы процедуры достаточно четкого определения, соотнесения целей и средств, X. Арендт считает важным, если не центральным в данном случае моментом. Более того, как раз на примере этой деятельности она полагает возможным проверять некоторые утверждения, которые — если их выносят в более широкое поле человеческих деяний — могут вызывать сомнения или прямые возражения. Известно, сколько споров уже пробудила формула «цель определяет и оправдывает средства», какой циничной с моральной точки зрения она представлялась и представляется. А вот в рамках деятельности das Herstellen положение меняется. «Здесь поистине оказывается верно, — пишет X. Арендт, — что цель оправдывает средства; она делает для них и гораздо больше, создает и организует их» (с. 197).
2. И все же за рамками специфических процессов das Herstellen подобный чисто операциональный подход, уместный для homo faber, может разрастаться и действительно разрастается — если его абсолютизируют — в идеологию «покорения» природы и агрессивно-насильственного ее подчинения человеческим целям. «Целью оправдывается насилие, совершаемое над природой для добывания материалов, как тес оправдывает убийство дерева, а стол оправдывает распиловку теса. В видах конечного продукта проектируются орудия, изобретаются установки, и тот же самый конечный продукт организует процесс изготовления, обуславливает приглашение необходимых специалистов, определяет степень кооперирования, количество сотрудников и т. д. На всем протяжении процесса изготовления критерием для решения служит пригодность и полезность для желаемой цели и ни для чего прочего » (с. 197-198. Курсив мой. — Н. М.).
3. X. Арендт показывает, что относительная пригодность подобного инструментально-утилитарного подхода в случае деятельности homo faber исходно питает уже более широкое «утилитарное мировоззрение», в котором, с одной стороны, воплощается сугубо частная, специфическая (и относительно оправданная самим процессом das Herstellen) «идеология » homo faber, а с другой стороны, фактически осуществляется выход за пределы этой деятельности, да и вообще практически-
производительных процессов как таковых. «Теоретически эту апорию последовательного утилитаризма, являющуюся собственно мировоззрением homo faber’a, можно диагностировать как ту присущую ему способность понять различие между пользой и смыслом вещи, которой мы даем словесное выражение, различая между деланием чего-то в модусе „для-того-чтобы” и деланием „ради-того-чтобы”» (с. 198).
Бегло поставленный здесь Ханной Арендт вопрос о том, насколько реальный homo faber в том или ином обществе сознает, подходит ли ему в качестве собственного мировоззрения и в какой мере подходит утилитаризм с его (узкими или широкими) ориентациями, весьма сложен. Он вряд ли исследовался в его конкретике применительно к обществам прошлого. В самом деле, знал ли античный ремесленник о «своей» утилитарной идеологии целей-средств? Сомнительно. А вот философы, уже рассуждавшие о ремесленном труде, — скажем, Платон — делают все сознательно, в чем права X. Арендт. При этом Платон о деятельности «das Herstellen» (разумеется, не называя ее таким именем) уже рассуждает как о чем-то существенном, в том числе для своей теории идей. Он делает это в как будто бы чисто абстрактной, даже «внеземной» теории идей. Однако он имеет в виду, как бы «интендирует» das Herstellen в качестве форм деятельности ремесленников (демиургов), трактуя их как своего рода парадигмальные случаи «изготовления», «создавания» вещей благодаря «идее». И верно, что при осмыслении идеи как образца, парадигмы (модели) соотношение цели и средства так или иначе учитывается. Правда, в греческой мысли все это обозначается с помощью присущих античной эпохе понятий. Но и античные понятия, а также их расшифровки красноречивы. Так, если учесть платоновские, античные описания и осмысления характера деятельности тогдашних ремесленников, то не удивительным представляется такой факт: применяемое к этому слою греческое слово «демиург » тогда и впоследствии становится синонимом целостности творческих, созидающих, впервые изготовляющих (что-то) действий и процессов. Но о философах — после. Сейчас мы говорим о деятельности homo faber.
Дело тут, конечно, не только в античных или средневековых ремесленниках, которые для своих эпох как бы воплощали, символизировали деятельность «создавания», «изготовления». Всякая деятельность, поскольку она организована вокруг чисто инструментального соотношения целей и средств, мало ориентирована или (почти) совсем не ориентирована и на учет каких-либо других целей, и на то, что выходит за пределы частной «полезности», «надобности». «Homo faber, т. е. человек в той мере, в какой он создающее (herstellendes. — Н.М.) существо и не ведает никаких других категорий кроме цели-средства как непосредственного результата своей деятельности, неспособен понять смысл...» (с. 199).
На память приходит и один вполне современный тип деятельности, который мне раньше, в конце 80-х годов XX века, приходилось анализировать в контексте организации процессов работы по изготовлению наиновейших «продуктов» (например, космической техники). Важнейшая ее составная часть (как и в любой другой продвинутой области) — разработка сложнейшего «дерева целей», с привязыванием к нему соот-
305
Часть V. Глава 5. Сфера «dos Herstellen:
H.B. Мотрошилово ДвиИ Мартын Хайдеггер и Ханна Врендт: быше-времп-любовь
306
ветствующего «дерева средств». (Они, в свою очередь, ветвятся дальше, если встает задача определить, кто, где и как практически обеспечивает всю цепь действий. Интересно, что «ветвистость» обоих дерев тут чрезвычайная — она насчитывает сотни, если не тысячи взаимосвязанных, иерархически подчиненных друг другу звеньев целей-средств.) Когда «извне» ставится цель (а такие цели всегда задаются откуда-то «извне») — скажем, создать новейшее оружие огромной разрушительной силы или построить космический корабль, то «эффективная» по современным меркам реализация не подразумевает обсуждение самой цели, а только создание, отлаживание упомянутой утилитарной сетки чисто исполнительских схем целей-средств. По таким схемам до сих пор развивалась и деятельность homo faber, и многие другие виды деятельности. Это была и есть именно та вездесущая деятельностная парадигма развития всей человеческой цивилизации, которая приносила с собой многие неблагоприятные последствия, однако в целом была «пригодной», потому что до поры до времени не грозила человечеству, цивилизации массовыми жертвами, тем более уничтожением планеты Земля. В наше время положение резко меняется и взывает к тому, чтобы определение и обсуждение целей не приходило готовым откуда-то извне — по отношению к тем типам деятельности, в которых могут практически создаваться «продукты», грозящие всей человеческой цивилизации ее уничтожением (собственно, самоуничтожением, ибо угроза все же исходит от человека и его мира), и извне также по отношению к тем способам самоуправления, самоконтроля, которыми цивилизация, человечество способны защищать, страховать самих себя. Но это специальный вопрос, в который мы здесь вдаваться не можем.
4. X. Арендт обсуждает также и другие проблемы, уже выходящие далеко за рамки частной, особой деятельности (и, так сказать, рабочей идеологии) homo faber. Она имеет в виду, например, превращение «идеала полезности» в одну из важнейших ценностей общества (выработка такого идеала, как правило, оказывается функцией философов, социальных мыслителей или некоторых теоретиков этики). Автор V.a. считает: «Идеал самой пользы уже нельзя объяснить тем, что он „полезен”; спрошенный о своих собственных пользе и цели он должен будет отказать в ответе. В самом деле, внутри этих категорий не существует ответа на вопрос, который Лессинг некогда поставил философам-утилитари- стам своего времени: „А какая польза от пользы?” Апория утилитаризма заключается в том, что он безнадежно втянут в последовательность целей, протягивающуюся ad infinitum, так и не будучи в состоянии отыскать принцип, способный оправдать категорию цели-средства или саму по себе полезность. Внутри утилитаризма голое для-того-чтобы стало подлинным содержанием всякого ради-того-чтобы, и это просто другой способ сказать, что там, где польза утверждает себя в качестве смысла, рождается отсутствие смысла» (с. 199).
X. Арендт снова же интересно, оригинально и остроумно увязывает эту особенность утилитаризма как «мировоззрения», «идеологии» с апориями самой деятельности homo faber, а именно — с динамикой целей-средств внутри нее. Ведь подчиненность этой деятельности специфическому процессу выработки и соотнесения целей-средств приводит
к тому, например, что «цель, коль скоро она достигнута, перестает быть целью», — и тогда ее роль как своего рода организующей инстанции по отношению к различным изготавливаемым предметам прекращается. К тому же и бесконечность, лабильность процессов целеполагания питает упомянутое движение целей ad infinitum. Между тем созданный предмет, некогда бывший целью процессов «das Herstellen», превращается в «готовый фабрикат», становится просто еще одним предметом среди бесконечного поля, «мира» предметов.
Исследовательница связывает эти (и подобные) особенности процессов «das Herstellen» с рядом «трагедий», которые завязываются в истории общества. Суть дела обрисовывается следующим образом. Человек (как homo faber) все-таки склонен искать не только пользу, но и смысл в том, что он делает из предметов природы. На некоторое время он увлекается какими-то своими детищами. Пример — современное увлечение новейшими средствами связи, коммуникации, робототехники и т. д. — и (неоправдывающиеся) ожидания, согласно которым благодаря им существенно улучшится, наконец-то наполнится особым смыслом человеческая жизнь. Но этого не происходит. И «едва homo faber находит какое-то имманентное его собственной деятельности смысловое наполнение, как он сразу же начинает принижать вещный мир, цель своих замыслов и произведение своих рук...» (с. 200).
Крайнее выражение таких устремлений — это не только пренебрежение к «созданным вещам», но и принижение самой природы (в доказательство чего X. Арендт приводит цитату из третьего тома «Капитала» Маркса о земле, которая в какое-то время объявляется «не имеющей никакой ценности» — с. 201). Можно считать, что «принижение природы» — в форме пренебрежения некоторыми как бы исходящими от природы императивами и запретами, обращенными к человеку и его деятельности (пример: не стройте АЭС в сейсмо- и цунамиопасных местностях), — имеет место и в наше время, пусть сегодня все развертывается под барабанный бой псевдоэкологической фразеологии.
Превращение мировоззрения, идеологии homo faber — будь она последовательной, стопроцентной и способной заразить соответствующими умонастроениями, тезисами действительно великих мыслителей — стало бы, считает X. Арендт, большим бедствием для человеческой истории, для человеческого духа. Она рисует такую гипотетическую картину: «Дозволь человеку в применении и употреблении готового мира пользоваться теми же масштабами, какие неизбежно применяются при его возникновении, признай, иначе говоря, в homo faber’e не только создателя, но также и обитателя и господина мира, и он действительно все примет для своего употребления и все рассмотрит и обесценит как средство для очередных целей и как средство для самого себя. Тогда не будет уже ничего, что не предмет для употребления, не вещь, относящаяся к разряду хггщата (употребляемого), и — если воспользоваться примером Платона — ветер уже не будет как самостоятельная природная сила веять в человеческом мире, но станет восприниматься лишь в рамках человеческих потребностей как нечто освежающее, согревающее или охлаждающее, и для Платона это означает не что иное
307
Часть V. (лова 5. Сфера «dos Herstellen
308
з
8.
о
£
ori
как отказ человека осмыслить бытие ветра как природной наличности» (с. 204).
Реальна ли та возможность, что следствием такой экспансии ориентаций homo-faber станет превращение человека в «меру всех вещей»? X. Арендт считает, что ситуация в истории была по крайней мере противоречивой. Поскольку набор идей и ориентаций, в Новое время поименованный утилитаризмом, в разные эпохи находил своих адептов и даже ярых пропагандистов, можно говорить, что более или менее четко (пусть и в разных словах, формулах) обрисованные позиции homo faber все же обретали известную популярность. Однако одновременно X. Арендт предоставляет свои доказательства в пользу того, что (по крайней мере) влиятельные мыслители разных эпох активно возражали против напора идей, кои можно было бы отнести — с использованием более поздней терминологии — к разряду «антропоцентристского утилитаризма».
Ханна Арендт выражает свою мысль об этом тоже на более позднем терминологическом языке: «Что грекам это обесценивание мира и природы с присущим такому процессу антропоцентризмом — „нелепым” мнением, будто человек есть высшее существо, чьему бытию должно быть подчинено все прочее сущее (Аристотель) — было совершенно чуждо, настолько же очевидно, как и то, что они презирали примитивную вульгарность последовательного утилитаристского настроения» (с. 202).
Так ли? Ведь на память сразу приходит протагоровский тезис о человеке как «мере всех вещей», который часто толкуется как самое раннее вторжение в философию и культуру чего-то подобного антропоцентризму. Но как раз эту тему X. Арендт использует для доказательства своих только что рассмотренных тезисов.
Платон против Протагора. Обсуждение позиций Конто
На возможный вопрос о протагоровском тезисе у X. Арендт загодя заготовлен свой ответ. Она настаивает на том, что тезис Протагора изначально на самом деле звучал так (даем перевод на русский язык): «Человек есть мера всех употребляемых вещей (хггщата)». А более известная всем формула, где выпущено весьма существенное (выделенное нами курсивом) уточнение, возникла, по мнению X. Арендт, из-за небрежных «стандартных переводов» (с. 203). Но даже такая (как бы специфицированная для опыта homo faber) формула вовсе не была типичной для Античности. Ее, как показывает автор V.a., резко отвергает Платон. В «Законах» — так X. Арендт интерпретирует Платона, причем на более позднем языке, — «он отваживается на парадоксально звучащую противоположную формулировку: не человек — в силу своих желаний и умений способный применить и употребить все и потому кончающий использованием всего наличного мира как средства, — но „бог есть [подлинная] мера всех употребляемых вещей”» (с. 204).
При обсуждении темы утилитаристского «мировоззрения» homo faber и его предполагаемых философских обоснований X. Арендт, на мой взгляд, неоправданно включает в когорту его адептов скорее не признанных защитников утилитаризма (о которых, в сущности, не упо¬
минается), а таких известных его противников, как И. Кант. Автор V.a. придает этому своему необычному и в высшей степени спорному ходу мысли поистине парадоксальный вид, говоря, что идея Канта о необходимости относиться к человеку как «цели в себе» является-де «ярчайшим и великолепнейшим выражением»... «антропоцентристского утилитаризма» как идеологии homo faber! (с. 200).
Здесь не место подробно вдаваться в сложнейший и в высшей степени специальный, до сих пор дискуссионный вопрос об интерпретации категорий «цель-средство» в философии Канта (причем интерпретации, которая варьируется в зависимости от того, анализируется ли эта категориальная пара в теоретической или практической части кантовской философии). Вместе с тем нельзя не отметить, не соглашаясь с приведенной выше формулировкой X. Арендт, что в пользу противоположного суждения как раз об антиутилитаристском характере той части кантовского учения, которая трактует тему соотношения целей и средств в человеческой деятельности, можно привести немало доказательств, прежде всего суждений, формул самого Канта. Впрочем, его высказывания на эту тему хорошо известны — и вряд ли они были неведомы Ханне Арендт, превосходному знатоку и истолкователю работ ее любимого мыслителя Иммануила Канта. Это, например, поистине крылатое, потому что, видимо, уже миллионы раз воспроизведенное кантовское высказывание: «...человек и вообще всякое разумное существо существует как цель сама по себе, а не просто как средство для произвольного употребления со стороны той или другой воли; во всех своих действиях, направленных как на самого себя, так и на других разумных существ, он должен всегда рассматриваться одновременно и как цель»1.
Полагаю, что в формулировках, подобных той, в которой X. Арендт однозначно делает из Канта «антропоцентристского утилитариста», могут быть отражены (и абсолютизированы) некоторые оттенки, трудности и, возможно, противоречия, заключенные в кантовской позиции по обсуждаемым вопросам. Кратко скажу о них.
• Кант показывает, что подгонка друг к другу средств и целей, а иногда и особое, если не преимущественное значение практико-прагматических соображений приводит к двум, по крайней мере, видам императивов. Первый их вид он называет «техническими (относящимися к искусству)» — добавим, что речь идет об искусстве изготовления тех или иных предметов, а вторые — «прагматическими (относящимися к благосостоянию)». От них отличны, по Канту, императивы «моральные (относящиеся к свободному поведению вообще, т. е. к нравам)» (Ibidem. S. 416-417). Моральные императивы как раз и требуют исключить, согласно Канту, использование человека «просто как средства для произвольного употребления со стороны той или другой воли». Но если они и исключают это, то лишь идеально, «чисто», т. е. на уровне безоговорочно принимаемого принципа, категорически и повелева- юще, не допуская — конечно, лишь в теории — никаких исключений. Этим Кант вовсе не хочет сказать, что так происходит в реальной жиз-
309
1 И. Кант. Сочинения на немецком и русском языках / Отв. за изд. Н. Мотро- шилова и Б, Тушлинг. М., 1997. Т. 3. С. 427-428 (перевод А. Судакова скорректирован).
Часть V. Глава 5. Сфера «das Herstellerv
H-ß. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-еремо-любовь
310
ни, а утверждает лишь то, что речь идет о требованиях «категорического императива».
Что касается реальной жизни, то в ней фактически применяются, согласно Канту, — прежде всего по отношению к вещам, их изготовлению и использованию, — во-первых, «технические» регламентации, которые Кант называет «императивами умения». Здесь цели, по тем или иным причинам избранные, задают также и соответствующие средства — пусть вариативно, потому и гипотетически, в зависимости от набора тех средств, которые «здесь» и «там», в данный исторический момент «технически» возможны и доступны для действующего лица. В максимальной близости к кантовским определениям «императивов умения» стоят рассуждения Ханны Арендт о роли, характере целей-средств применительно к деятельности das Herstellen, к «миру» homo faber. Возникающие тут вопросы не кажутся Канту сколько-нибудь спорными или сложными. «Как возможен императив умения, это, конечно, не нуждается в особом разъяснении. Кто хочет цели, тот хочет (поскольку разум имеет решающее влияние на его действия) также и совершенно необходимого для нее средства, которое находится в его власти» (Ibidem. S. 416-417). Эта кантовская формула при очень уж сильном желании может быть истолкована как утилитаристская. Но ведь и сама Ханна Арендт исходит из того, что подобные «простые», как бы утилитарные решения о средствах, определяемых и организуемых избранными целями техникопрактического характера, «верно» выражают суть процессов изготовления, создавания (das Herstellen).
Второй вид практических императивов Кант относит к «Wohlfahrt», благосостоянию (лучше сказать — благополучию) и называет прагматическими (pragmatisch). Речь идет о применении разума, точнее, особой разумной способности, соответственно, об «императивах благоразумия» (в оригинале — Klugheit). Но уже здесь, согласно Канту, дело обстоит куда сложнее, чем в случае гипотетических технических императивов. Ибо речь ведь идет об обобщенных рекомендациях тех средств, которые [кем-то] считаются пригодными для реализации каких-либо (тоже обобщенно-типологических) жизненных целей применительно к тому или иному виду жизненного «благополучия» (к здоровью, счастью и т. п.). У Канта они подпадают под сложное для перевода понятие «Glücksehligkeit» (его переводят то как «счастье», то как «блаженство» — оба перевода, увы, неоптимальны). Кант верно говорит: это понятие неопределенно; человек никогда не может «в полном согласии с самим собой сказать, чего он собственно желает и хочет» (Ibidem). Сколь вариабельно, противоречиво все это, Кант иллюстрирует на примере желания какого-то человека стать богатым, овладеть многознани- ем или стать долгожителем.
И в самом деле, захочет ли человек чего-то подобного, зная о том, как сложно реализовать такие цели и сколько бед, невзгод, издержек сулит путь к таким целям? Определить же средства для хотя бы и выбранных целей (здоровье, богатство, образованность и т. д.) — дело бесконечно вариабельное, неоднозначное, неопределенное, т. е. в высшей степени гипотетическое. Кант стремится показать (и он совершенно прав), что и в поле деятельности, выбора второго вида многое совершается
«эмпирически», под влиянием многих случайных обстоятельств и факторов, в том числе под влиянием утилитарно-прагматических мотивов.
В случае же именно морального, т. е. категорического императива Кант постулирует единственную возможность его. При этом не только допускает, но ставит во главу угла его «чистое» формулирование, в «составе» которого — безоговорочное, невариативное, т. е. именно категорическое вменение относиться к человеку только как цели в себе, и никогда — как к средству. (Мы не можем здесь вдаваться в детали сложного пути к этому утверждению, который проходит Кант — причем несколько по-разному в разных этических сочинениях.) Применительно к моральным сферам, т. е. к области «das Handeln», человеческих поступков (Handlung — Handlungen в терминологии X. Арендт1), т. е. к сферам взаимодействий с людьми, в сфере поступков, Кант не допускает никакого утилитарного превращения человеческого существа в средство, что досконально разобрано в мировой кантоведческой литературе. Вот почему никак нельзя согласиться с упомянутой тенденцией у X. Арендт — стремления превратить Канта как бы в представителя «идеологии утилитаризма».
Правда, в той же литературе о Канте бытует мнение о неоднозначности тезисов Канта, касающихся отношения к человеку как цели в себе. (И на подобные рассуждения могла опираться X. Арендт.) Эти суждения разнообразны, но их более или менее сходная схема сводится к следующему.
Согласно выкладкам такого типа, Кант действительно строит категорический императив прежде всего как прокламирование должного, требуемого — ив этом контексте четко защищает тезис о человеке как цели в себе и о запрете использовать его как средство. Однако Кант, говорят эти кантоведы, слишком хорошо знает и постоянно теоретически констатирует, что реальная жизнь строится принципиально иначе, чем того «категорически» требует моральный императив. Применительно к теме цели-средств никуда не уйти — и Кант не может уйти — от того, что фактически имеет место повседневное, повсеместное, трансисторическое использование одного человека другим именно в качестве средства. Иными словами, из такой трактовки как бы напрашивается вывод: в значительной части своей морально-практической философии Кант вынужден фактически повторять тезисы утилитаризма (в понимании соотношения целей-средств). И тогда получается, что утилитаризм — одна из наихарактернейших черт и отвлеченной философской теории, а одновременно и верное, реалистическое отражение (в совокупности утилитаристских идей) реальной деятельности, действительных отношений между людьми. Существует мнение, согласно которому даже в наиболее явных по антиутилитарной направленности формулах Канта
311
1 Слово-термин «Handlung» буквально господствует и у Канта в «Основоположении к метафизике нравов» (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten) (кстати, мучает вопрос: когда же наконец даже философы перестанут воспроизводить неверный русский перевод названия этого сочинения?!). К сожалению, А. Судаков в своей во многих отношениях добротной и интересной редакции перевода этого произведения, опубликованной в нашем двуязычном издании, неверно, на мой взгляд, «ликвидировал» в переводе «Handlung» русский термин «поступок», везде, а не только в действительно нужных случаях, применив только слово «действие».
Часть V. (лова 5. Сфера «dos Herstellen
312
о
а)
Э
о
а
5
S
аз
х
двойственно запечатлелись обе линии: и стремление великого философа утвердить тезис о морально должном (человека как такового следует считать и к нему надо относиться как к цели в себе), и констатация насквозь «утилитарного», а подчас насильственно-прагматического отношения людей друг к другу как к средствам достижения целей (в том числе или, вернее, в большинстве случаев целей весьма сомнительного свойства, даже если судить о них с позиций рационально-утилитарных критериев).
И все же с учетом принятой Кантом во внимание несомненной противоречивости в соотношении непрагматической сущности «категорических» моральных императивов и утилитарных уклонов в мире реальной повседневной деятельности представляется неверным делать из Канта чуть ли не стопроцентного представителя утилитаристского воззрения, которое великий мыслитель опирает-де на однозначный антропоцентризм.
***
В заключение IV главы (например, в § 22 под заголовком «Рынок обмена») X. Арендт обсуждает другие философские, «идеологические», если можно так выразиться, рассуждения, определения, в которых так или иначе осмысливается специфика деятельности «das Herstellen» и самой фигуры homo faber’a.
Так, X. Арендт приводит слова Маркса (в 11-й главе «Капитала») о том, что дефиниция — у Бенджамина Франклина — «человека как изготовителя орудий» «так же характерна для „мира” янки, как аристотелевское определение „человек по природе гражданин города” — для „классической древности”» (с. 204). Автор V.a., кстати, демонстрирует, сколь непросто было связать такие категорические идеи с действительно многомерной социальной практикой и Античности, и Нового времени. Ведь обе эпохи «позаботились» о том, отмечает X. Арендт, чтобы «держать homo faber’a и его созидательную деятельность поодаль от публично-политического пространства». И Античности были «прекрасно известны виды человеческого общежития, обходившиеся без полиса и без res publica, публичного дела...» (с. 205). Это была, например, роль демиурга, «ремесленника в составе народа — в отличие от неграждан...» (там же).
Местом их общения, а главное, локусом, где происходило «выставление производства напоказ», была, как известно, рыночная площадь. По сути дела, считает X. Арендт, homo faber продемонстрировал свою способность «развернуть адекватную ему публичную сферу, хотя это не политическая сфера в собственном смысле слова» (с. 206. Курсив мой. — Я. М.).
К определениям человеческой сущности все это имеет прямое отношение. Так, в Новое время — в связи с невиданной в прежней истории интенсификацией, экспансией торговли и обмена, их проникновением на огромные территории — специфику человека определяли через присущее человеческому существу стремление «обменять и выторговать одну вещь на другую». (И наоборот: считали, что это свойство полностью отсутствует у животных. X. Арендт приводит соответствующую
выдержку и из А. Смита: «Никто никогда не видел, чтобы собака совершила справедливый и намеренный обмен одной кости на другую с другой собакой» — там же.)
В книге V.a. X. Арендт с двух сторон рассматривает ремесленный труд в условиях Античности и Средневековья, который тогда и был по существу сферой деятельности homo faber. С одной стороны, по многим причинам (вникать в них нет возможности) деятельность ремесленника, его das Herstellen, протекает в эти эпохи, да возможно и впоследствии, в изоляции от мира сограждан. Эта изоляция, спокойная жизнь наедине с «идеей, т. е. с внутренним образом изготовляемого предмета, есть непременное условие мастерства. Это мастерство — не господство, оно овладевает не людьми, а материалом, орудиями и предметами, оно принципиально неполитично» (с. 207). Конечно, и деятельность ремесленника предполагает общение с людьми, но последнее имеет «вполне вторичное значение», считает X. Арендт. Она имеет в виду переместить на особый теоретический уровень и скрупулезно разобрать суть «общения» людей, избирая для этого сферы, где оно есть и главная цель, и способ, и итог человеческой деятельности.
Часть V. (лава 5. Сфера «dos Herstellen»
глава 6
Повествование o «dos Handeln»
X. Арендт начинает главу о «das Handeln» с утверждения об основоположном именно для этого типа деятельности «факта человеческого плюрализма» (с. 228) и, соответственно, общения, взаимодействия людей. В истории человечества постепенно формируются и затем устойчиво существуют особые сферы, где по преимуществу и происходит такая деятельность. Это не значит, что в ранее проанализированных сферах «труда» (das Arbeiten) и «создавания» (das Herstellen)такие факты и предпосылки, как плюральность и взаимодействие людей, вообще не имеют значения. Акценты здесь иные. В данной главе главная цель X. Арендт — анализ неоднократно подчеркнутых ею и в предшествующих главах различений: непосредственные объекты и цели «труда» и «создавания» (das Herstellen) — не человеческое общение, не взаимодействие людей, а преобразуемые, потребляемые (в труде) и создаваемые, превращаемые в человеческий «мир» благодаря das Herstellen вещи (и процессы) природы. А вот в сфере «das Handeln» специфические для нее «объекты» и результаты воздействия — это как раз сами акты взаимодействия индивидов, опирающиеся на их непосредственно данную плюральность, совместность. Последнее существует при условии, что индивиды — «разные», уникальные личности, абсолютно отличные друг от друга, в то же время и «однородны», т. е. в принципе способны к взаимодействию и взаимопониманию (с. 228).
«Речь и действие суть деятельности, в которых выступает эта уникальность. Говоря и действуя, люди активно отличают себя друг от друга вместо того чтобы быть просто разными...» (с. 229). В частности поэтому описываемая сфера не просто однозначно принадлежит к «vita activa», но относится к ней, возможно, с наибольшим правом по сравнению с двумя другими рассмотренными ранее видами деятельности.
При этом суть дела, разъясняет X. Арендт, состоит отнюдь не в каком-либо решении людей проявить инициативу, а в активности, инициативности как внутренней данности: здесь, в этой сфере, «...человек не может совершенно обойтись без речи и поступка», что принципиально отличает «das Handeln» от других видов деятельности внутри vita activa. Так, способность работать, конечно, важное свойство человека. Но ведь не каждый отдельный человек обязан и будет работать (опять-таки имеется в виду «das Arbeiten» в арендтовском понимании). «И точно то же относится к das Herstellen...» — говорит X. Арендт, снова же имея в виду простой и понятный факт: можно жить в мире созданных людьми (как homo faber’aMH) вещей, наслаждаться ими, самому не «создав самой крошечной полезной вещи» (с. 229-230). Тому примеры — жизнь рабовладельца, эксплуататора и нахлебника, а ведь это фигуры для истории по-своему неизбывные. Но вот «жизнь без слова и поступка» (если, конечно, человек не болен, не лежит бессловесным пластом) — нечто столь уникально редкое, что мы считаем ее в буквальном смысле и не жизнью вовсе. При этом данность речи, поступка — всеобщая, непременная, как бы «априорно» пред-данная (хотя слова «априорное» сама X. Арендт
избегает). «Говоря и действуя, мы включаемся в мир людей, существовавший прежде чем мы в него родились, и это включение подобно второму рождению, когда мы подтверждаем голый факт нашей рожденности, словно берем ответственность за него» (с. 230). X. Арендт следующим образом определяет специфику такого включения в мир, взятого преимущественно с объективно-бытийной стороны (когда опять-таки имеется минимум личной инициативы), как не диктуемое, подобно труду, также и суровой необходимостью: действовать (handeln) и начинать новое — одно и то же (там же).
Тут X. Арендт уместно вспоминает Августина, показывая, сколь различны были для него «начало мира и начало человека» (он даже употреблял два различных слова: initium — для человека, для мира же — principium, взятое из латинского перевода Библии). Общий тезис, сообразованный с этим материалом, в книге V.a. звучит так: «С созданием человека принцип начала, оставшийся при сотворении мира как бы еще в руках Бога и тем самым вне мира, появился в самом мире и останется ему присущ пока существует человек; что в конечном счете означает лишь что человек есть тот Некто, с чьим сотворением совпадает сотворение свободы» (с. 231). Отсюда выводится ряд важных следствий, и они тоже имеют объективно- бытийное, обусловливающее значение для каждого отдельного человека, почему в теориях бытия никак не должны быть упущены.
Забегая вперед, отметим: идея спонтанности и уникальности каждой человеческой личности тесно переплетена в учении X. Арендт с постулированием свободы как коренящейся в этих изначальных, неуничтожимых возможностях человека. В историческом отношении, на что верно обращает внимание тот же X. Брункхорст, отмечая, что эти идеи имеют два главных источника: «греческий polis, римская res publica и идею Августина, христианства вообще о новом спонтанном начале (creatio ex nihilo)» (Я. Brunkhorst. Op. cit.).
Правда, здесь, как и во всем арендтовском сочинении, исторические источники используются так, что всегда побеждает их своеобразная, именно арендтовская интерпретация. Так, следствия, которые X. Арендт «выводит», скажем, из Августина, — сугубо «современные», они встраиваются в историю XX века, в контекст идей и запросов более поздней эпохи.
Эти следствия таковы. Имеется «событийная непредвидимость» человеческих начал, вплетающаяся в индивидуальное действие и опирающаяся на «бесконечную цепь невероятностей» (с. 232). Отсюда тоже вытекает бытийная же «неповторимость» жизни и сущности каждого рождающегося индивида. И (почти) метафизическая истина состоит, согласно X. Арендт, в том, что специфически человеческая плюраль- ность предполагает постоянное рождение существ «неповторимо своеобразных» и «от начала до конца находящихся в окружении себе равных» (там же).
315
Противостояние Хайдеггеру
В анализируемый контекст вплетено, полагаю, объективное противостояние Хайдеггеру. Тут — на уровне тщательного описания и осмысления бытийных предпосылок — содержится наиболее полный, развер-
Часть V. (пава 6. Повествование о «das Handeln:
316
J)
э
a
о
S
QD
X
нутый ответ передержкам как будто бы онтологичной, т. е. бытийной хайдеггеровской концепции «das Man» — с нагромождением структур, якобы способных полностью обезличивать, усреднять людей, безраздельно подавлять их индивидуальность.
Считаю противополагание Хайдеггеру тем более значимым, что оно фактически имеет место применительно к точно той же сфере, где у Хайдеггера располагается якобы безраздельное господство «das Man», — это, говоря на хайдеггеровском экзистенциальном языке, область Mit-dasein, т. е. бытия-вместе-с-другими. Кстати, термин «бытие- вместе-с-другими » (мы это еще увидим) X. Арендт постоянно употребляет в рассматриваемой главе, не указывая на первоавторство Хайдеггера — возможно, именно потому, что ее толкование сферы Mit-dasein принципиально отличается от хайдеггеровского. Но из этого анализа Ханны Арендт уже на начальной его стадии вытекает, что как раз на основании соцшАьно-бытийного рассмотрения этой области мы придем не к теме усреднения людей, а к философскому (даже метафизическому) обнаружению их неснимаемой, неуничтожимой уникальности. Со своей стороны считаю, что X. Арендт в данном противостоянии права и теоретически (метафизически), и практически. Правда, и у Хайдеггера есть своя, хотя только частичная, конкретно-историческая правота (и ее X. Арендт, не называя имени учителя, тоже признает — о чем позже). Главное различие состоит в таком ходе мысли X. Арендт: как бы те или иные исторические влияния и обстоятельства ни уподобляли индивидов друг другу, как бы ни стремились приводить их к средним величинам, метафизико-бытийная истина, вскрываемая X. Арендт в этой череде рассуждений, сильнее, «истиннее» вообще-то непраздных констатаций Хайдеггера, ибо различия и отличия людей друг от друга, согласно этой истине, неотменимы, непреодолимы и тем самым «абсолютны».
Ближе характеризуя речь и поступок как структуры действия (das Handeln), X. Арендт снова акцентирует активно показываемую индивидами «личную неповторимость своего существа», его уникального появления и «выступления » на сцене мира.
Согласно нарисованной у X. Арендт картине такого явления, появления, «выступления», каждый человек, даже если бы он хотел скрыть, что он именно есть, не мог бы достигнуть такого результата, ибо его «кто» и «что» «непроизвольно» и опять же неповторимо-уникально обнаруживается «во всем что мы говорим или делаем» (с. 234). Парадоксально, но от самого действующего индивида, замечает X. Арендт, его подлинное «кто» как раз может ускользать — он-то может впадать и нередко впадает относительно самого себя в те или иные иллюзии...
Кстати, в этом контексте в книге V.a. имеется одно из пары редчайших упоминаний о Хайдеггере, правда опускаемое в сноску и беглое, ибо разговор в ней переводится... на Платона. Цитирую: «Поскольку речь и раскрытие или, как говорит Хайдеггер, „выведение из потаенности” связаны между собой теснее чем поступок и раскрытие, Платон утверждает что язык — — имеет большее отношение к истине (в хайдеггеров¬
ском смысле „непотаенности”) чем действие — Ttra^i^ » (с. 233). Это упоминание чрезвычайно важно. Ведь прямая ссылка на хайдеггеровские понятия «потаенности» и «непотаенности», которые (мы это увидим в
последнем разделе) буквально господствуют в послевоенных работах, свидетельствует о хорошем знании Ханной Арендт опорных понятий новых произведений Хайдеггера.
Но в рассуждениях X. Арендт здесь все-таки доминирует иная — как сказано, объективная, без упоминания имени — перекличка с текстами Хайдеггера, которая мне лично представляется несомненной, потому что там имеются тем не менее почти что не маскируемые опознавательные знаки.
Разберем специально эти части текста. Сначала X. Арендт приводит доводы в пользу идеи о том, что поступок наделен способностью «раскрывать», «показывать» подлинное «кто» человека, поскольку этот и всякий человек действует именно в сфере слова, т. е. в стихии публичности. Речь у X. Арендт заходит о том, что именно там, где люди «говорят и действуют друг с другом, а не один вместо другого и не против друг друга», четко проявляется «проясняющее качество речи и поступка» (с. 235). Этому противопоставляются намеренно скрывающие типы действия, например, альтруизм, т. е. демонстрируемая доброта, или ясная, очевидная злобность преступления, — в их рамках действующие лица, наоборот, стремятся скрыть свои уникальные чувства, намерения, словом, свою подлинную индивидуальную суть. А вот в более чем обычных словах и поступках человек «непроизвольно и попутно» обнаруживает самого себя. «На этот риск, выступить как Некто в явленность среди других людей, может пойти только тот кто готов и впредь существовать в этой совместности, т. е. готов в бытии-друг-с-другом двигаться среди равных себе, давать объяснения о том, кто ты есть, отрекаясь от исходной чуждости того, кто явился в мир через рождение как новый пришелец» (с. 235).
Что же касается феноменов полного самопожертвования, как и «абсолютного эгоизма », то о них X. Арендт говорит необычно, парадоксально, причем проговаривает тут более общие тезисы принципиального характера. «С точки зрения бытия друг с другом дело идет в обоих случаях о феноменах покинутости, которые в известном смысле могут быть лишь маргинальными в сфере человеческих дел, если не хотеть ее разрушения, т. е. о предельных проявлениях политического, играющих важную историческую роль лишь в эпохи заката, упадка и политической коррупции (здесь лучше сказать: деградации. — Н. М.). В такие эпохи сфера дел человеческих омрачается; она утрачивает излучающую, славную яркость, присущую лишь публичности, конституирующуюся в совместном бытии людей и непременно необходимую, если хотеть полного развертывания поступка и слова... В этих сумерках, когда ни одна душа уже больше не знает кто ты есть, люди чувствуют себя чуждыми не только миру но и друг другу, и среди настроений чуждости и остав- ленности получают свой шанс образы чужаков среди людей, святых и преступников» (с. 235, курсив мой. — Н. М.).
В этих строках оправдано видеть четкое и концентрированное выражение линий противостояния учения X. Арендт концепциям Хайдеггера. Опознавательные знаки соотнесения с последними — феномены «покинутости», «оставленности», «чуждости друг другу», которые постоянно встречаются на страницах «Бытия и времени », а также дру-
317
Часть V. Глава 6. Повествование о «¿об Нолене!л
318
о
а
о
3
8.
о
S
CQ
гих хайдеггеровских произведений. X. Арендт не отрицает, что эти и подобные феномены надо со всем вниманием исследовать; она вряд ли недооценивает остроту и своевременность наблюдений Хайдеггера, его умение мобилизовать язык, ясно «проговаривающий» их тревожность. Однако главную претензию бывшего учителя на то, что им сказано главное именно о бытии как бытии-вместе-с-другими (это отчетливо видно не только в процитированном отрывке, но и в других пассажах V.a.), X. Арендт считает несостоятельной. И вот главные причины и линии фактического1 размежевания.
Во-первых, Хайдеггер, как получается в свете концепции X. Арендт, односторонне и тенденциозно обрисовывает сферу «Mitdasein», когда насыщает деятельность в ней преимущественно, если не исключительно, такими феноменами. На деле же (чему посвящена разбираемая глава, да и вся книга) сферы публичности, совместности, по ее мнению, в нормальных случаях заключают в себе — при всех противоречиях — большие возможности активности, личностной инициативы, словом, содержат «излучающую, славную яркость», которую X. Арендт считает «непременно необходимой » как раз для сфер Handeln, для области слов и поступков. Да, тут есть место и тем феноменам, которые выдвигает на первый план Хайдеггер, но они, и это во-вторых, для более или менее обычного хода истории являются, как прямо говорит X. Арендт, «лишь маргинальными». Получается, что автор «Бытия и времени» неправ, когда помещает их во ^«¿исторический сущностный центр и благодаря метафизической стилистике превращает в га£а«систорические, как бы от века и навсегда данные. В-третьих, в противовес хайдеггеровской стилистике с ее абстрактной бытийностью в книге V.a. феномены как бы всеобщих настроений покинутости и чуждости тесно увязаны с особыми историческими периодами и событиями, с эпохами «заката, упадка и политической деградации».
Об этих эпохах X. Арендт говорит в самой общей форме, но вполне узнаваемо. Ведь эпоху густого мрака человечество тогда только что пережило и, увы, вполне могло пережить в будущем. Во всяком случае, любая война, особенно масштабная, являет, согласно X. Арендт, пример исторического времени, когда «настоящее бытие друг с другом разрушено или на время ослаблено...» (с. 236). Тогда, кстати, речь, этот важнейший модус «бытия-вместе-с-другими», вырождается в «пустую болтовню», замечает X. Арендт. Но существует ли оно вообще, такое «настоящее бытие»? И что получается, когда X. Арендт обращается к выявлению таких сущностных свойств «das Handeln», которые, как она считает, неотъемлемы от этой деятельности? Не означает ли это, что она повествует здесь о некоем светлом идеале, тогда как Хайдеггер с его (по видимости) абстрактными тревожными модусами заботы, отчужден¬
1 «Фактического» — сказано именно потому, что имя Хайдеггера здесь, как и в других случаях, все-таки не было названо. И это не случайно, ибо к 60-м годам хайдег- геровский стиль анализа и рассуждения уже воспроизводился на многих страницах и во многих речениях его восторженными почитателями и последователями. Вполне ясно, что за прошедшие после этого десятилетия XX и XXI веков их число существенно возросло. Поэтому-то анонимная широта противостояния, которая не сводилась к чисто личным причинам (а они тоже были), сохраняет свой смысл и сегодня.
ностей, покинутостей и т. п. раскрывает суровую и неодолимую правду всей человеческой истории?
Вопросы, только что поставленные, относятся не только к небезынтересному, но оставленному в прошлом размежеванию великого философа Хайдеггера и выдающегося социального мыслителя X. Арендт. Они касаются каждого из нас, особенно тех, кто и сегодня мыслит, говорит, пишет о социально-исторических сюжетах, в том числе применительно к современной России, в стиле Хайдеггера (делая это сознательно или как бы подчиняясь ходячим стереотипам ученой или повседневной речи). Поясню в небольшом отступлении, что именно имею в виду.
В России нашего времени на смену оптимистически-бодряческому тону социальных писаний и речений советского времени, тогда особенно показательных и частых на официальном их уровне, пришли кри- тически-обличительные речи, что было бы куда лучше, когда бы в них, выражаясь слогом X. Арендт, не было столько «пустой болтовни». Ведь даже более добросовестные, в рамках научных дисциплин исполняемые исследования и анализы прониклись немалым количеством стандартно- клишированных слов, выражений, ходов мысли, плотно и густо насыщенных тревожными эмоциональными коэффициентами. В такие типичные клише, лингвистические, терминологические, эмоциональные, превратились, в частности, два важнейших концептуальных продукта прошлого — теория отчуждения и превращенных форм К. Маркса и концепция «das Man» М. Хайдеггера.
Во втором случае — в полном, кстати, соответствии с содержательной стилистикой «Бытия и времени» и других хайдеггеровских работ — умонастроения «брошенности», «покинутости», «отчужденности» описываются как наличествующие в истории, но также и как господствующие в современном обществе. Они как бы заведомо снабжаются мандатом всяческой всеобщности. Но — могут спросить — разве такие феномены, в самом деле, не господствуют, например, в современной России? Это чрезвычайно сложные, однако по большей части конкретно-исторические вопросы, которые требуют конкретных же, историче- ски-определенных изысканий и решений. Например, в части постулирования (что стало штампом и повседневных речей, и социально-философских писаний) чуть ли не всеобщих настроения отчуждения, тенденций стандартизации, обезличивания людей в современном обществе, описания политической реальности делаются почти что в терминах учения о «das Man». Все это вклинивается как бы само собой, но на деле требует по крайней мере доказательства и проверки. Скажем, понятие «отчуждения» в полном наборе его значений (у Маркса и у по сути поддержавшего его Хайдеггера имеется в виду отчуждение труда, отчуждение от человека его подлинно человеческой сущности и т. д.) — в случае оправданного приложения его к жизнедеятельности отдельных людей, общественных групп — все же предполагает достаточно активное и высокосознательное их отношение к тем сферам, реалиям, от которых они объективно и субъективно отчуждены. (Отчуждение как социально-исторический феномен совсем не тождественно, скажем, обособлению от социально-политической активности индивидов и целых слоев обществ,
319
Часть V. Глава 6. Повествование о «das Handeln:
Н.0. Мотрошилово Ши Моргни Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
320
которая складывается стихийно и вряд ли осмысливается этими индивидами.)
В свете этого любопытно, что с помощью «das Man» определяется иной, если не противоположный феномен: люди как бы сливаются с некоторым набором свойств, имеющихся у всех других и навязываемых безличной, анонимной диктатурой Man. Отсюда следует: если есть доля объективной содержательности в их понятиях и, соответственно, на стороне помечаемой ими общественной реальности (а они, несомненно, имеются — особенно в «сумеречные» эпохи), то феноменам отчуждения в социальном развитии, в поведении, сознании, идеологиях индивидов и общественных групп противостоят столь же реальные феномены присоединения, слияния, самоотождествления одних людей с другими. А есть еще одна весьма характерная черта жизнедеятельности людей, притом черта массовая, которая как бы располагается между крайними, антиномичными полюсами сколько-нибудь сознательного отчуждения и конформистского «уподобления», все же заключающими в себе хоть какую-то активность. Ведь очень многие люди живут, а иногда проживают всю свою жизнь, вообще не устанавливая своего сколько-нибудь внятного отношения к Mitdasein и даже не проявляя о том своей заботы, не ощущая никакой ущербности. Здесь уместно кратко заметить, чтобы потом вернуться к этому вопросу, что стихия бытия-вместе-с-другими, к которой здесь пристально присматривается X. Арендт, не является однозначной. Она противоречива, антиномична, наполнена, о чем автор V.a. скажет несколько дальше, немалым числом апорий. Что касается конкретных общественных, исторических состояний той или иной страны, например современной России, то ходячие фразы чуть ли не о всеобщем отчуждении, бездумно соединяемые с «хайдеггерообразными» тезисами о всеобщем же усредняющем, стандартизированном конформизме, по крайней мере требуют проверки. Переживает ли наша страна в XXI веке один из самых «темных», «мрачных» периодов своей истории, которые — согласно цитированному ранее описанию X. Арендт — придвигают к центру социально-исторической сцены феномены, в иные периоды остающиеся маргинальными? При том что весьма многие люди у нас в стране думают именно так, в контексте работ X. Арендт и подобные утверждения, возможно, подлежат корректировке. Ханне Арендт, лично пережившей кошмар нацистских преследований, свидетельнице нарастания и разрастания нацизма, современнице лагерей смерти, многомиллионных жертв страшной войны, — ей эта эпоха и послевоенный период (совсем не безоблачный и наполненный многими коллизиями) все же представлялись существенно различными историческими состояниями.
Теперь, после вставки об объективном размежевании с Хайдеггером в книге V.a., вернемся к разбору «das Handeln» как особого вида деятельности (где, кстати, скрытое размежевание с Хайдеггером, имеющее принципиальный характер, продолжается). Особенно интересен следующий момент: X. Арендт, хорошо понимая отпочкование, обособление das Handeln от материальных воплощений, продуктов деятельности в сферах труда и das Herstellen, стремится вскрыть и описать «идеальные » структуры той деятельности, где объективно складываются, а по-
том так или иначе осмысляются, имеются в виду формы и результаты, воплощающиеся разве что в поступках. А они «удерживаются » и могут быть наблюдаемы достаточно кратковременно, чтобы затем как бы улетучиться, будучи запечатленными только в памяти свидетелей или в каких-либо более «объективных» формах1.
С бытийными, т. е. «объективно обуславливающими» моментами, дело здесь обстоит весьма непросто.
Специфика бытийных «объективностей» в сфере das Handeln и поступков
«Сфера, в которой развертываются человеческие дела, заключена в некоторой системе соотнесения, образующейся повсюду, где совместно живут люди», причем «ткань межчеловеческой связи предшествует всякому отдельному поступку и слову, так что и раскрытие нового пришельца через речь, и новое начало, полагаемое действием, это как бы нити, продеваемые в ранее сотканный узор...» (с. 241).
Это весьма интересное, по-своему элегантное рассуждение, где для описания специфики постоянно осуществляющейся и «моментально» исчезающей, не поддающейся никакому посильному исчислению неизмеримой плюральности отдельных поступков X. Арендт использует образ «ткани», одновременно отговаривая читателей от буквальных «материализующих», тем более упрощенных материалистических толкований этого образа. С учетом оговорок подобного рода образ «ткани» так или иначе пригоден. Во-первых, «ткань межчеловеческой связи» бытий- но предпослана, пред-дана каждому последующему отдельному человеческому действию и всем им в их «сегодняшней» совокупности. Во- вторых, родившиеся (человеческие) пришельцы в мир, сознают ли они это или нет, всегда вплетают в эту невидимую им ткань свои, в высшей степени оригинальные, неповторимые нити, все же влияющие на вид, характер общего ее «узора ». Согласно всему смыслу образов X. Арендт, здесь, с одной стороны, сплетаются — и именно в бытийном смысле — моменты объективности, «бессознательности», обусловленности вклада каждого отдельного человека и, с другой стороны, неотменимой все же индивидуальности, оригинальности участия буквально каждого человека, который так или иначе причастен, очень часто без понимания этого, к общечеловеческому творчеству различных сфер «das Handeln». И снова непременной чертой концепции X. Арендт становится акцентирование апористического единства обусловливания и обуславливающей силы деятельности индивида, наиболее очевидного для автора V.a. как раз тогда, когда речь идет о специфике исследуемых теперь сфер, типов деятельности и их фундаментальной структуры, именуемых сферами «поступков».
Антиномичность, апористичность всего этого контекста тщательно выписывается у X. Арендт с точки зрения того, что «деятель практически никогда не может в чистоте осуществить цели, первоначально манившие его » (с. 241), так что свершившиеся «истории » жизней — отнюдь
1 Отвлечемся сейчас от того, что современная эпоха с ее различными «камерами наблюдения» в широком смысле этого слова вносит существенные нюансы в понимание поставленной проблемы, но вряд ли колеблет суть выводов X. Арендт.
12 694
Часть V. (лава 6. Повествование о «das Handeln:
322
э
I
s
cd
X
«не произведения определенного автора», да и вообще, человеческая история «как бы лишена своего автора» (с. 242). В связи с этим в V.a. описываются трудности и парадоксы философии истории, политической философии, причем на примере выдающихся мыслителей — Канта, Платона, Маркса.
Тут в книге затронута еще одна важнейшая тема — анализируется распространенное уподобление человеческих дел и забот кукольному театру (Платон. Законы 803 и 644) и рассуждения о том, кто же в нем, этом «театре», выполняет роль кукловодов. Попытки обдумать многие возникающие — применительно к «das Handeln» — вопросы и привели, считает X. Арендт, к постулированию некой «невидимой руки» в учении * А. Смита или к безличному классовому интересу у Маркса. «Уже Платон нуждался в кукловоде за спинами людей, за сценой видимых событий не чтобы „объяснить" тот или иной поступок, ...но чтобы найти того Некто, который мог бы ответственно расписаться за получающуюся из этого поступка историю» (с. 244). Ханне Арендт представляется, что в таких или подобных теоретических случаях — когда Кант, например, говорит о «безотрадной приблизительности», правящей в человеческой истории, а Гёте видит в истории «мешанину из заблуждения и насилия» — древние и нововременные авторы «явно» имеют в виду политическую историю, причем не действительную историю, а сочиненную. «Действительная история, в какую впутала нас жизнь и от какой нам не увернуться, пока мы остаемся в этой жизни, не указывает ни на видимого ни на невидимого автора, потому что она вообще не сочинена. Тот единственный Некто, кто ее развертывает, выступает и остается героем истории...» (с. 245). X. Арендт, таким образом, полагает, что всякое Кто, исполнявшее и исполнившее свою историю, выказывает себя «с той осязаемой и значимой полнотой», о коей в принципе мог бы быть составлен именно исторический рассказ, когда бы вообще изначально ставились такого рода задачи (там же). Для этого, кстати, «герой» совсем не обязательно должен обладать именно героическими свойствами. О чем X. Арендт говорит, ссылаясь на Гомера, для коего, с одной стороны, интерес представляют признаки исключительного превосходства отдельных людей. С другой стороны, эти признаки присущи, по утверждениям самого Гомера, каждому свободному человеку. (Другое дело, что позже греки были склонны воспринимать героев архаики скорее как полубогов, чем людей с их именно человеческими чертами — с. 246.)
В данном контексте X. Арендт развертывает (появляющееся и в других частях V.a.) уподобление сферы «das Handeln» драме, театру, которое она тоже в значительной мере черпает из почтенных античных источников.
Мир «dos Hondeln» кок драма, кок теотр
Уподобление это в истории мысли, культуры вполне стойкое, трансисторическое (вспомним шекспировское: «мир— театр...») и вовсе не произвольное, чтобы его, как поверхностное, несерьезное, можно было бы отбросить просто как хлесткое сравнение. «Театральная сцена, — пишет X. Арендт, — по сути дела подражает сцене мира, и драматическое искусство есть искусство „действующих лиц”. Однако стихия повторя¬
ющегося подражания дает о себе знать не только впервые в актере, она, как справедливо утверждал Аристотель1, развертывается уже в сочинении и записи пьесы... Развертывается при исполнении тут не столько ход действия, что можно было бы передать и в простом рассказе, сколько так-и-не-иначе-бытие действующих лиц, изображаемых актером непосредственно в собственнейшей их стихии» (с. 247). Это вполне верно: ведь в древних и старых драматических сочинениях, особенно если они классично поставлены и сыграны в хороших театрах, мы улавливаем не только «общечеловеческие» коллизии, но и достоверные фиксирования примет давно ушедших времен. И не только в них: из диалогов Платона, скажем, можно почерпнуть, вычитать — как раз благодаря их намеренной «театральности », иногда с близким истории описанием и мест действия, и действующих характеров, словом, их так-и-не-иначе-бытия, — сжатый рассказ о реальных тогдашних жизнедействиях.
В качестве примера, показывающего силу и стержневой характер интерпретативных приемов X. Арендт, один из самых примечательных — стойкое уподобление именно «политической сферы в смысле греков» (с. 262) театральной сцене, причем «длящейся» и специфической также и в том отношении, что на такой сцене «в известном смысле» есть только выход и нет ухода... И эта сфера, пишет X. Арендт, четко приближая разбираемую тематику к не упускаемому из вида диалогу с Хайдеггером, «возникает непосредственно из бытия-друг-с-другом, „общительного соучастия в словах и делах”». Эта характерная тенденция арендтовской интерпретации, впрочем, не была совсем уж большой новостью для антиковедов, нередко увязывавших публичную роль театра, драматического искусства греков и «театральность» политической сферы. Вместе с тем такое уподобление имело, пожалуй, наиболее существенное значение как раз для концепции X. Арендт, а потому осуществлялось настойчиво, со многими доказательными обращениями к оригинальному греческому материалу.
Некоторые исследователи, разбиравшие и оценивавшие творчество X. Арендт, и в частности книгу V.a., сочли столь настойчивую «театрализацию» жизни и политической сферы Древней Греции сильным преувеличением.
Так, современный исследователь}. Peter Euben, который вообще намеревается «спасти Ханну Арендт от ее эллинизма, а Грецию и Афины спасти от Арендт», видит один из «ошибочных» элементов арендтов- ского образа греческих реалий и идей в следующем: «Ее дискуссионные рассуждения о политике и действии заполнены языком и образами театра. Она говорит о постановленном спектакле и публике, о тех, кто играет роли, и о зрителях, которые видят всю пьесу, о пространстве появления как сцене...»2 Цитируемый автор считает: из-за чрезмерного уподобления греческого полиса театру (как и из-за других преувеличений) арендтовское изображение полисной жизни не более чем «миф»,
323
1 X. Арендт, всегда тщательно отбиравшая античные цитаты из оригиналов, в данном случае ссылается на аристотелевскую «Поэтику» (1448а28; 1448в25, 1449в24, 1450а15—18 и др.).
2 J.P. Euben. Arendt’s Hellinism // Cambridge Companion Onlinie. Cambridge University press, 2006. P. 152.
12*
Часть V. (пава 6. Повествование о «dos Hondeln
H.ß. Мотрошилово ПН Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт.- бытие-время-любовь
324
чем «выдумка» (Ibidem. Р. 162). И читать ее сочинения — все равно что читать Гомера или Фукидида (какой, однако же, сильный комплимент!). В целом же, заключает автор, «эллинизм» Ханны Арендт — не более чем «провокация», «эмоциональный романтизм»... (Ibidem. Р. 163), результатом которого стали мифы и фантазии. Хотя от проблемы скон- струированности арендтовского целостного образа греческой жизни с точки зрения полисной бытийности никак нельзя отмахнуться (причем именно антиковеды-историки наиболее компетентны в частично оправданной критике «увлечений», «преувеличений»), идея X. Арендт о «театральности» и греческой, и всякой политической жизни, полагаю, в целом верна. (К тому же, как бы в скобках, поставим вопрос: а есть ли образы, описания канувших в очень далекое прошлое исторических состояний, которые не являются своего рода конструкциями — уже с их увлечениями, преувеличениями?) И все же можно исходить из того, что о театральности сферы «das Handeln» X. Арендт повествует правильно, с хорошей мерой достоверности.
Можно было бы сказать: в своем повествовании и о древности, и о современности X. Арендт была бы права даже в том случае, если бы констатировала, что все человеческие публичные дела (а не только политика) как объективно, так и по субъективной воле действующих лиц «сегодня» проникаются театральностью, да и вообще демонстративно принимают игровой характер в куда более сильной степени, чем когда- либо в истории. Такие акценты подчеркнули (однако подчеркнули, а не впервые создали) изобретения XX и XXI веков — телевидение, Интернет, мобильная связь. Политика теперь заведомо, вполне сознательно строится как «театральное», «кинематографическое» действо. А политики, желающие заявить о себе, с самого начала продумывают (или им подсказывают их имиджмейкеры), какую именно роль лучше сыграть на политической сцене — внешне жесткого, но на деле ни для кого не опасного судьи и палача («всех расстрелять ») или роль как бы решительного, самостоятельного политического лидера, а на деле послушного проводника воли и решений вышестоящих хозяев и т. п. (Найдись сейчас отважный, талантливый сатирик, он мог бы написать пьесу с богато дифференцированными характерами, типами политиков, хорошо пристроившихся к политическому театру, а может, уже и к политическому цирку...)
Во что бы то ни стало красоваться перед камерами и на экранах — таково стремление очень многих современных политиков. Но если глубоко задуматься, придешь к выводу: примерно так (за вычетом камер и экранов) было всегда. О «театральной» жизни Древней Греции X. Арендт, опираясь на высокоавторитетных античных авторов, говорит вполне достоверно. Вспомним также и римскую политическую сцену, яркие исторические описания которой существуют во множестве вариантов. Политика не просто соседствовала (часто и территориально) с театром и другими зрелищами. X. Арендт совершенно права: и на политических, и на театрально-зрелищных сценах творилось одно социальное дело — исполнялась деятельность «das Handeln», т. е. социальное общение, са- мопроявление индивидов sui generis.
Можно было бы добавить, что и в другие области (в сферы жизнедеятельности homo laborans и homo faber) — вместе с их историческим
325
развертыванием и усложнением — вплетались, а потом и отпочковывались функции, задачи общения, публичности, обсуждения общих дел. В сегодняшних условиях это особенно очевидно. Во всех областях, а не только в политике, есть поле для обсуждений, совещаний о тех или иных совместных делах, необходимых решениях, дискуссий и согласований. И здесь один из специальных ответов на вопрос, поставленный М. Хайдеггером и по сути подхваченный Ханной Арендт: чем мы, люди современности, обязаны грекам? Мы обязаны им и римлянам, обязаны Античности «изобретением» публичной, совместной социальной жизни, ее форм, процедур и долговременных бытийных структур. А тут есть место для театральности, актерства, для задумывания и исполнения ролей. И тем более права X. Арендт применительно к политике и другим публичным «сценам». Как по-своему правы и те авторы, которые говорили о человеке как «homo ludens», «человеке играющем».
На этих примерах, кстати, становится вполне ясным, почему X. Арендт, требуя от мыслителей не пренебрегать исследованием политики, вовсе не считает ее воплощением высоких, должных целей, идей, поступков. Как и все в человеческом мире, политика — область сложной, противоречивой, антиномичной деятельности, а в отдельные периоды — концентрированная сфера и символ глубоких социальных заболеваний. Но именно поэтому философия и другие дисциплины духовно-мыслительного комплекса просто обязаны выработать способы наиболее глубокого теоретического проникновения в самое суть политики. Вот почему избираемые философами со времен Платона — впрочем, никогда последовательно не выдерживаемые — призывы и привычки «не ведать пути на площадь» она считает ошибочными. (Подробнее о причинах, истоках подобных призывов — позже.)
Кстати, содержательная оправданность уподоблений сфер социальной публичности (включая политику) и сцены, театра, многократно усиливается как раз в пятой главе. Ибо, согласно X. Арендт, сам «театр и есть поистине политическое искусство по преимуществу», а драма — «единственный ряд искусства, чей исключительный предмет есть человек в его отношении к миру людей» (с. 248, курсив мой. — Н. М.). Тезис X. Арендт о том, что театр — это «политическое искусство», тоже можно подтвердить целым рядом аргументов. Ведь объем именно «политического» материала, выносимого на театральную сцену — в прямом или замаскированном виде, — чрезвычайно велик в театральной жизни всех стран, народов, времен. Другое дело, что «прочитывать» и «слышать » все политические обертоны театральных действ лучше всего могут современники (или историки, погружающиеся в детали реального «театра» жизни). Но ведь есть еще такой исторический феномен, и его способны понять те, кто, скажем, жил в нашей стране в 50-80-е годы: отсутствие реального политического форума сделало лучшие театры страны его своеобразными заменителями. И именно потому, что и высокое театральное искусство — при стечении разных обстоятельств и предпосылок — может без насилия над собой сделаться искусством глубоко политическим. К сказанному верно было бы добавить, что именно область политических действ по самой своей бытийной сути и по конкретно-историческим воплощениям — причем начиная от глубокой древ-
Часть V. (лава 6. Повествование о «dos Handela
326
о
о
о
Э
i
CD
X
ности и до сегодняшнего дня — существенно «театральна ». Она всегда включала в себя ту необходимость прямо-таки сценической самопрезен- тации, которая в наиновейшей истории в связи с изобретением радио, телевидения приобрела гигантские масштабы и частично превратилась в своего рода отстойник политических процессов.
X. Арендт тоже подчеркнет эти вполне реальные бытийные моменты, когда более непосредственно перейдет к рассмотрению политического «сектора», органично входящего в сферу «das Handeln». Но это произойдет не прежде, чем она рассмотрит самые общие внутренние, неснимаемые апории сферы das Handeln.
Апории «действия» (das Handeln)
Рассмотрение апорий «действия» (das Handeln) и поступка у X. Арендт настолько подробное, тщательное, что обстоятельный рассказ об этом занял бы множество страниц. Поэтому здесь будут кратко рассмотрены лишь отдельные образцы ее анализа.
Действие как das Handeln (т. е. действие совместное, коммуникативное) подразделяется как бы на две части, или стадии: кто-то из индивидов его начинает, он как бы «предводительствует», а кто-то присоединяется, чтобы «продвинуть», «завершить» начатое. Соответственно в греческом языке есть, показывает X. Арендт, два глагола — äi^elv, начинать, инициировать, а тем самым повелевать, господствовать^) и ngarceiv, доводить до конца, исполнять (соответствия в латинском — agere и gerere). Эти мудрые языковые оттенки отражают различные функции, вплетенные в das Handeln, — функцию повелевания, которое становится «привилегией господина», а затем и его претензией на все, на монополию в том числе и тогда, «когда собственно действия уже нет...» (с. 249,250), и функцию претерпевания. Обе стороны постепенно превращаются в неотъемлемые черты той целостности, каковой является «das Handeln». Из этого, кстати, следует, что одной из бытийных (структурно-бытийных) предпосылок социального расслоения в обществе становится различие ролей, выполняемых индивидами в их совместных действиях.
Неизбывная и глубинная апория поступка состоит, в изображении X. Арендт, в следующем. При всех попытках (внутренних и внешних для индивида) как-то упорядочить стихию действий мы, люди — из-за «хрупкости установлений и законов» (с. 252), из-за необозримости последствий, пусть и пребывая в огромном жизненном напряжении, — постоянно «ввязаны в историю с неведомым исходом» (с. 253). И это делает сферу «das Handeln» существенно отличной от «das Herstellen», от процессов изготовления, «ход которых предначертан представлением или моделью...» (там же). Отсюда X. Арендт выводит фундаментальные следствия. «Не существует событий, однозначно указывающих на будущее, каким бы ярким светом они ни озаряли прошлое. Поэтому полный смысл конкретно происходившего известен не тем, кто был вовлечен в действие и прямо задет им, а тем, кто в конце всего обозревает историю и рассказывает все» (с. 254). Насчет «полного смысла», который якобы известен рассказчикам событий (протекшей) истории, вполне правомерно усомниться. Но тогда сила «непредвиденного», «неучитываемого»,
«неведомого» в ходе действий как бы множится, включая и последующую трудную постижимость исторически-происшедшего.
Еще одна сторона апорий поступка поясняется у X. Арендт при учете обращения к апории, вернее, «обращения с нею», в греческой древности. С одной стороны, (по ранее обсужденным законам das Handeln, действия и поступка) человек обнаруживает, раскрывает себя, а на «сцене» публичного действия даже «выставляет» себя, подчас театрально. Но он, с другой стороны, «никогда не в состоянии узнать или вычислить, кого он собственно в лице самого себя выводит на сцену» (с. 254-255). Он, пожалуй, мог бы об этом узнать... только после своей смерти, если бы таковое было возможно. В подтверждение того, что уже греки (а потом римляне) знали, как-то учитывали эту апорию, автор V.a. снова ссылается на тонкости чуткого к реалиям языка. Да еще на «Царя Эдипа» Софокла, где партия хора как бы наводит на мысль, формула которой у X. Арендт выражена так: «С нами собственно дело обстоит так, что мы знаем только о являющемся нам, и перспектива, в какой мы все видим, означает всегда искажение, отклонение». Греки же обозначают такое свойство «смертных» как «слепоту к собственному даймону» (с. 255).
Собственно апория поступка состоит в следующем. Имеется, проявляется как феномен самораскрытие личности в ее поступке (поступках). Но одновременно всегда демонстрируется слепота человека к его «даймонут. е. к собственным сути и предназначению. При этом, согласно X. Арендт, античные ценностно-теоретические ориентации, пытаясь сладить с такой апорией, остаются «сугубо индивидуалистичными». В том смысле, что античные авторы, так или иначе улавливающие эту апорию, особенно настаивают все же на «самораскрытии», из которого и выводится столь важный для греков агональный дух (с. 257). (Приходится опустить интереснейший и сложный пример — отношение греков и римлян к фигуре законодателя — с. 257—258.) Не забудем: все, о чем тут идет речь применительно к «das Handeln» и к греческой Античности, происходит на прекрасной, красиво декорированной, постоянно движущейся сцене полиса. В исторической реальности она, эта сцена, наверняка не была столь яркой и живописной. Одно ясно: она не была простой, обыденной и скучной...
Древнегреческий полис, его исторические функции и породигмольное значение
X. Арендт в своем анализе в У.а., посвященном деятельности полиса, выдвигает на передний план две задачи своего исследования этой целостности социальных структур. Надо заранее подчеркнуть: новое в У.а. состоит скорее не в том, о чем здесь будет повествовать ее автор, а в том, как она будет анализировать общеполисные дела.
О первой задаче', полис, считает X. Арендт, «упорядоченно представил» суть и характер деятельности, которая до того «могла осуществляться в необычных и редких ситуациях», при таких событиях, в которых (свободные, конечно) жители полиса могли «стяжать бессмертную славу». Что практически означало: «каждый мог отличиться и показать в слове и деле, кто он таков в своей неповторимой особности» (с. 260). Эти расставляемые Ханной Арендт акценты принципиально важны для
Часть V. (лава 6. Повествование о «das Handeln:
Н.6. Мотрошилово МЯВ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
328
ее концепции социального бытия и по своей теоретической направленности весьма оригинальны. Например, общим местом многих антико- ведческих описаний было подчеркивание того, что в Афинах — родине многих исторических начинаний, повлиявших на многовековую судьбу Запада (Abendland), — имело место, выражаясь словами X. Арендт, удивительное скопление «талантов и гениальных дарований» (там же). Но пожалуй, только X. Арендт так прочно связала этот факт, всегда впечатлявший и авторов-историков, и читателей, с тем, что, по ее мнению, полис как раз и оказался удивительным социальным, социально-политическим образованием, рассчитанным от начала и до конца «на такое собрание экстраординарностей, чтобы ими определялась плотность и динамика повседневной жизни» (с. 261).
Мы видим, кроме прочего, сколь настойчиво общая и уже известная нам, центральная идея бытийной концепции X. Арендт об изначальной неодолимости уникальных сил и способностей человеческого индивида соединяется у нее с объективно-бытийным утверждением, согласно которому греческий полис оказался, притом в заметной мере, «приспособлен» к этому обстоятельству. Многое действительно способствовало привлечению и использованию в разноплановой полисной жизни ярких индивидуальностей, талантов — и не только собственно политиков, законодателей, но также выдающихся писателей, скульпторов, не говоря уже о философах и их школах. Никак нельзя забыть, что по крайней мере свободные греки, законные граждане полиса, но также и рабы, метеки, из «не-граждан» мечтающие стать гражданами, стремились проявить себя и четко обозначить свою индивидуальность, свой вклад в общую жизнь, а значит, старались достаточно активно «выступить» на общей полисной сцене. Это можно сказать также о многих тогдашних занятиях и профессиях, к которым греки «высшего эшелона» относились, правда, снисходительно, но по-доброму. И если даже они считали такие занятия «низшими» по сравнению с самыми «высокими», однако не клеймили их как позорные. И людям таких занятий все же находилось какое-то место в полисной жизни, в подготовке, принятии и осуществлении совместных решений.
Как случилось, стало возможным такое объединение, и совсем без того, чтобы оно было запечатлено в виде какой-то сознательной, из поколения в поколение выполняемой программы, — вопрос особый. Ведь хотя заранее начертанной программы, конечно, не было, все же имели место достаточно глубокие и зрелые суждения греков-политиков, в частности «лидеров» Афин, о «смысле полиса», как его формулирует X. Арендт. Она ссылается, что вполне ожидаемо, на речи одного из виднейших, если не самого славного политика Античности — Перикла, в частности на его знаменитую «надгробную речь» (по Фукидиду 11.41). Смысл своего (очень близкого к тексту Фукидида, однако достаточно оригинального) изложения автор V.a. подтягивает к тому, что ей в данном контексте особенно важно: а именно — что полис нацелен на преодоление хрупкости, актуальной «мгновенности» тут же и угасающих человеческих поступков. Как и благодаря чему это удается? Ответ X. Арендт: полис становится своего рода «организованной памятью», когда былое «сохраняется непосредственно в своем не искаженном вре¬
менем образе в непосредственно длящейся актуальности» (с. 262). В прямом соответствии с этой хорошо уловленной греками второй целевой задачей полисная жизнь обеспечивала, согласно X. Арендт, «сплошную слышимость и видимость» (там же) касательно и непосредственных процессов, и результатов полисной жизни. «Эта публика в наблюдаемом пространстве, где каждый зритель одновременно и деятель, есть полис. Полис был призван помешать тому чтобы „выступления” смертных — разыгрывающиеся обычно перед „публикой”, ограниченной во времени и пространстве... — всякий раз снова исчезали из реальности этого мира» (с. 262, курсив мой. — H. М.).
В этом отрывке из V.a., весьма типичном для имеющегося там «осовременивающего воспоминания» (термин Э. Гуссерля) о греческой жизни, историческая правда состоит в том, что греки действительно придавали большое значение увековечению и прославлению памяти своих героев всеми доступными тогда средствами. Отсюда и превращение мифов, сказаний — начиная с архаических форм — во всегда и повсеместно известный, вновь и вновь оживляемый, социально и исторически значимый материал, через все имевшиеся тогда каналы «образования и воспитания» внедряемый в сознание сменявших друг друга древнегреческих поколений. Но есть тут у Ханны Арендт, с моей точки зрения, сильное преувеличение (например, в ее словах, в вышеприведенной цитате выделенных нами курсивом). Весьма сомнительно, что «каждый» зритель был и деятелем одновременно, что слышимость и видимость полисного участия была «сплошной». Такого не могло быть, потому что не может быть нигде и никогда. И даже при удивительной, для более поздних эпох непредставимой малочисленности населения самых славных, «центральных» полисов, подобных Афинам, и при том что число полноправных граждан, допущенных к публичной деятельности, было еще меньше (в силу чего для этих немногих возрастала настоятельность активного выполнения разнообразных обязанностей, т. е. осуществления vita activa), — при всем этом утверждения X. Арендт буквально о каждом «увиденном и услышанном » греке трудно не счесть увлеченным преувеличением.
Да, агональность, соревновательность полисной жизни была типичным греческим явлением, но в этом соревновании, как и во всяком другом, были победители и побежденные, а соответственно — увиденные, услышанные, увековеченные и незамеченные, забытые. И ведь последние составляли большинство. Слово «каждый» у X. Арендт наводит на мысль, что в рамках полиса и перед лицом его задач свободные греки считались равными. Однако история убедительно показывает: отдельные индивиды, выражаясь словами из знаменитой утопии Орвелла, всегда были «более равны, чем другие». Что касается «услышанности» и «увиденности», то ведь и известные древнегреческие источники запечатлевают имена, деяния сравнительно немногих людей, притом делают это весьма стратифицировано: об одних говорится очень подробно, имена и деяния других напрочь пропадают в пучине забвения. И дело совсем не в том, что они могли бы сохраняться в не дошедших до нас свидетельствах. Характер известных нам запечатлений не позволяет питать подобных иллюзий. К тому же греки куда чаще, с куда большим
329
Часть V. (лава 6. Повествование о «dos Handeln
330
о
о
о
i
э
о
а.
ь
о
S
со
X
энтузиазмом и с удивительной подробностью сочиняли мифы, сказания о вымышленных героях и измышленных деяниях таких персонажей, чем стремились (как это начали делать поздно появившиеся историки) повествовать о реальных исторических событиях и действующих лицах.
Отсюда следует: если функция «организованной памяти», в самом деле, исполнялась в деятельности полиса, то ее никак нельзя преувеличивать и абсолютизировать, заявляя, будто был замечен и был предельно активен буквально «каждый». Как представляется, дело обстояло существенно иначе, почему даже самые демократичные полисы с их интересным опытом первоначальной античной «гласности» одновременно задали последующей истории парадигмы своего рода социальной стратификации — имущественного, политико-ролевого, деятельностного и всякого иного расслоения.
X. Арендт, конечно, не могла пройти мимо всех подобных фактов и исторических свидетельств. Тем более что существенные изъяны полисной жизни настойчивее и ярче других вскрыли ее любимые мыслители Платон и Аристотель, да и другие философские умы греческой Античности. С них и начинается важнейшая для философии тенденция', большинство наиболее глубоких теоретических, философских осмыслений власти и политики, в частности из древнегреческих «Политий», носили ярко выраженный критический характер. Критике в форме иногда и страстных обличений подвергались те или иные конкретные формы государства и власти (иногда в зависимости от того, какую из них мыслитель считал предпочтительной). Критическую парадигму политической философии задал Платон, диалог «Государство» которого — обличение всех государств, «противоположных образцовому», т. е. всех уже существовавших в его время и в прошлом реальных государственных форм. По существу это была критика всех форм власти, власти как таковой — со стороны философии как таковой.
Феномен власти и сфера политики кок важнейшие стороны сферы «dos Handeln»
Власть X. Арендт рассматривает как специфический структурно важный феномен сфер публичности, во многом эти сферы скрепляющий и определяющий. К человеческой, т. е. социальной бытийности власть имеет прямое отношение. «Власть есть то, что зовет к существованию и вообще удерживает в бытии публичную сферу, потенциальное пространство явленности среди действующих и говорящих» (с. 265, курсив мой. — Н. М.). Языки опять-таки способны ярко, выразительно передать эти стороны власти: греческое Súvapii;, латинское potentia, вместе с их производными в современных языках, указывают, согласно X. Арендт, на власть как потенциальную мощь. Власть, не будучи чем-то непреходящим, неизменным, есть то, чем никто сам по себе не обладает изначально; «она возникает среди людей, когда они действуют вместе...» (там же).
Политический организм «сцеплен», когда у него есть потенциал власти, «и политические общности гибнут от ослабления власти и в конечном счете бессилия» (там же). Уже это показывает, сколь необычны главные линии, которые прочерчивает, и основные акценты, которые
расставляет X. Арендт, рассуждая о власти. В литературе разных эпох и различных стран были, конечно, восхваления сильной власти, но их как-то не принято поддерживать или оправдывать после того, как мир претерпел столько тоталитарного насилия, и после того, как либеральные тенденции в XX веке пробились к центру политического мышления. X. Арендт верно отмечает: «Ничто пожалуй не появлялось в нашей истории так редко и не длилось так кратко как подлинное доверие к власти... ничто наконец не укоренилось в новое время с такой всеобщностью как убеждение что „власть портит”» (с. 271). Правда, можно было бы добавить, что обычай хулить власть не прививается при очень сильной, тем более тоталитарной власти, тогда как всеобщие обличения существующей власти скорее знак не силы власти (сколько бы грозных публичных разносов она ни устраивала и какие бы «авторитарные» поползновения ни приписывались первым лицам власти), а ее внутреннего бессилия. (Что, по моему мнению, сейчас имеет место в современной России с ее внутренне разложившейся властью.)
Из рассуждений X. Арендт о власти следует целый ряд нетривиальных теоретических и практических выводов.
1. Власть по сути своей — не материальное явление, сколь бы ощутимыми, «материализованными» ни были способы и средства применения власти. «Единственная чисто материальная, непременная предпосылка создания власти есть сама совместность людей. Лишь в бытии-друг-с- другом, достаточно тесном, чтобы постоянно держать открытой возможность действия, способна возникнуть власть...» (с. 266). Группу людей удерживает вместе только (какая-то) власть.
2. Границы власти — не в ней самой, а в одновременном существовании других группировок власти. Иными словами, власть существует в атмосфере и благодаря плюральности индивидов и групп, стремящихся к власти (с. 267). Вот почему, кстати, «разделение властей», согласно X. Арендт, не ослабляет, а усиливает власть, создавая «живое соотношение взаимно контролирующих и компенсирующих друг друга властей...» (там же).
3. Насилие, внедряющееся во власть, в конечном счете разрушает саму власть и способствует ее утрате. При этом насилие и безвластие, как отмечает автор У.а., легко могут сочетаться, чем, по ее мнению, во все времена отличались некоторые формы тирании. Бывали в истории, отмечает X. Арендт, «благонамеренные, просвещенные деспоты и тираны», правление которых знаменовалось безвременьем и безвластием (с. 268). В целом же тирания «активно мешает возникновению власти, причем именно внутри политической области» (тамже). Главный ее признак — изоляция правителя от подданных и их друг от друга (что прекрасно показал, по ее мнению, Монтескье).
4. Автор У.а. дает весьма интересные и до сих пор актуальные характеристики охлократии, или власти толпы: «...одного взгляда на слишком уж нам знакомые, типические социальные феномены господства клики или организованного мошенничества в отношениях между политиками, где рука руку моет и нет ничего что нельзя было бы себя устроить, достаточно для понимания того как организованная власть многих в областях, где решает не власть а направленная сила и компетентность единиц,
331
Часть V. (лава 6. Повествование о «¿об Напс1е1п:
H-Q. Мотрошилова Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любоеь
332
способна с успехом выдвинуть на передний план людей ничего не умеющих и ничего не знающих» (с. 270). До боли и нам «слишком знакомая» картина, не правда ли? (Только не надо торопиться принимать за охлократию, т. е. власть толпы, такое общество, в котором за появлением и даже за бесчинствами рассерженных толп на самом деле может успешно прятаться власть, «кратос» других слоев и элементов общества, вообще не появляющихся на улице, среди собирающихся там толп.)
5. Превращения власти, ведущие к тирании, охлократии и другим ее извращенным, формам, как бы ни прокатывались они через всю человеческую историю, не выражают, согласно X. Арендт, существа власти. А ее суть — как политического явления в сфере бытия-вместе-с-други- ми, благодаря которой это явление, возникши когда-то в самой глубокой древности, закрепилось и продолжает существовать, — состоит в следующем: власть есть особая форма организации человеческого бытия на протяжении всей человеческой истории. Достаточно присмотреться к хаосу возможного безвластия, случавшегося в истории в отдельных государствах и группах стран, чтобы понять то, что инстинктивно чувствуют всегда особо страдающие от безвластия1 простые люди, никогда не вливавшиеся сколько-нибудь массово в анархистские движения. Достаточно и этого, чтобы, как считает X. Арендт, придать власти прочный и важный статус в ореале публичности, в сферах Мк-бавет, бытия- вместе-с-другими. Однако при этом главные возможности контроля за властью, ее цивилизования, окультуривания объективно выдвигаются на первый план. А такое цивилизование во всей истории, включая современность, продвигается весьма трудно, хотя отдельные формы именно демократического наблюдения за властью, если понадобится, то и ее обуздания, вплоть до «смены власти», уже опробованы и применены человечеством.
Политика кок одно ив сфер поступка и ее апории
Переходя, наконец, к анализу политики как включенной в сферы «das Handeln», X. Арендт снова обращается к античным первоистокам. «Античная оценка политики коренится в убеждении, что неповторимость человека как такового выступает в явленности и утверждает себя в поступке и речи; что, далее, этим деятельностям несмотря на их летучесть и материальную неуловимость свойственна потенциальная нетленность, ибо они сами собой запечатлеваются в признательной памяти людей» (с. 275). В доказательство сказанного автор V.a. непосредственно ссылается на то, например, что Аристотель (как бы вслед за Периклом) провозглашает: «Там, где естьагетт) (т. е. доблесть), ничто не может пропасть в забвении (Никомахова этика 1100b 12-17)» (там же). Утверждая это, X. Арендт могла бы опереться также на бесчисленное множество антиковедческих исследований, в которых показана выдающаяся роль социальной памяти именно о поступках во всех сферах древнегреческой и древнеримской жизни, хоть как-то связанных с публичностью, а особенно, конечно, в политике и культуре, т. е. на агоре.
1 В несколько иной связи X. Арендт цитирует справедливое замечание Ницше: «Ибо безвластие перед людьми, не безвластие перед природой производит самое отчаянное ожесточение против бытия» (Воля к власти. № 55).
В литературе также осмыслена глубинная насыщенность философии древних греков и римлян темами, проблемами логоса не просто как отвлеченного «языка», но как способа жизни, как стержневой опоры человеческого бытия. Об этом пишет и X. Арендт, формулируя такой общий тезис: «Оттого публичная сфера — то пространство мира, какое требуется людям чтобы просто вообще показать себя, — оказывается в более специфическом смысле „созданием человека” чем создание его рук или работа его тела » (с. 275-276). Иными словами, человек, поскольку он выступает в сферах «das Handeln», протягивает руку человеку как homo faber. В связи с чем X. Арендт подробно разбирает те хотя бы и «не-собственные» выходы, связи с феноменами явленности, публичности, какие есть и в сферах труда, и «das Herstellen». Цель ее, однако, состоит в том, чтобы продемонстрировать: пусть и обладая такими «измерениями», первые два типа деятельности не имеют ни своим «телосом», ни сколько-нибудь конкретной задачей раскрытие неповторимости личности через «поступки», речь или слова. Интересно, что целый параграф 30, посвященный рабочему движению, так или иначе выявляет зарисованный X. Арендт парадокс: трудовая деятельность, по ее мнению, имеет неполитическую и даже антиполитическую природу; а потому рабочее движение, проходя через ранние стадии противопоставления себя обществу (с. 289), сначала отчасти приобретает, а потом утрачивает свою специфическую политическую природу. Тогда рабочее движение становится, как в современном обществе, «одной из регулирующих это общество групп давления» (с. 290).
Итак, разбираемая с обращением именно к политике апория сферы поступка следующим образом очерчивается у X. Арендт. С одной стороны, политика — это, так сказать, самая «родная» почва для таких ранее рассмотренных особенностей «das Handeln», как самораскрытие личности, закрепление ее деяний, как искусное овладение стихией речи и именно «поступания». С другой стороны, на этой почве более чем возможны и постоянно «реализуются» как бы «вырожденные» типы са- мопроявления и речений человека. «Что деятельности поступка и речи большей частью выливаются в пустопорожнюю активность и политика, исключая экстренные случаи, непроизводительна и бесполезна, — этими „открытиями” мы обязаны не Новому времени с его начальным интересом к осязаемой производительности и уверенным прибылям и его поздней страсти к гладкому функционированию и к социальности в широчайшем смысле», — справедливо отмечает X. Арендт, делая (в сноске) полезное замечание, что подобную установку «все еще лучше» изучать у А. Смита (с. 291).
Разрешение, снятие этой и других апорий, что тоже достаточно точно показано у X. Арендт, нередко видели в том, что фундаментально задействованный в политической сфере фактор плюрализма какие-то люди всегда хотели «взять под контроль». Куда как часто считали, что «всего проще» прибегнуть к «мон-архии» (так у X. Арендт), к единовластию. В том числе в виде «единовластных» поползновений, утвержденных в особых видах демократии, несмотря на необычность, даже парадоксальность подобных сплавов. (В данной связи X. Арендт опять ссылается на Аристотеля — Политика 1292а 16 сл.) Сходные направ-
333
Часть V. (пава 6. Повествование о «dos Handeln:
H-ß. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бытие-время-любовь
334
ления в «регулировании» превратностей политической сферы, на что справедливо и тонко указывает X. Арендт, в истории были и остаются частыми, многочисленными. Они вели, да и сегодня ведут к «кардинальным» — неполитическим, даже антиполитическим — идеям, предложениям, ожиданиям. «Так велико искушение стабилизировать человеческие обстоятельства через введение неполитического порядка вещей, что преобладающее направление политической философии после Платона без труда можно описать как историю попыток и проектов, теоретически и практически сводящихся к отмене политики» (с. 294)1.
Так и простой индивид, человек on the corner of the street, получивший стойкое отвращение от ежедневного лицезрения объективно или целенаправленно обличающих изображений всемирного политического театра, скорее всего, думает: «А пропади они все (политики) пропадом...» И совсем немалое число склоняется к мысли, что лучше всего урезонить «разжиревших», распоясавшихся политиков и прекратить весь этот политический театр мог бы какой-то один очень жесткий властитель (какие уже существовали в истории), действительно свертывая политическую жизнь или превращая ее в простую декорацию. Не имея возможности здесь вдаваться в детали этого скрупулезного текстологического разбора, обратим внимание на общий вывод. Согласно X. Арендт, Платон, во-первых, (почти) не использовал анализ государства и политики для определения специфики «das Handeln», а скорее пытался приравнять такое действие, как и поступок, к тому, что X. Арендт обозначает словом «das Herstellen», а политического человека — к тому, что много позднее было названо «homo faber». Во-вторых, как думает X. Арендт, и у Платона, и у многих других авторов после него внимание сконцентрировалось на проблемах «легитимности власти и авторитета», так что «попытки понять и интерпретировать само действие» (das Handeln), если они вообще были, оказались весьма редкими.
Но ведь все началось, как мы уже упоминали, с того, что Ханна Арендт описывает как глубокую травму всей философии, которую сильнее других пережил Платон, — с казни Сократа. Ранее мы обещали осветить эту специфическую тему (и соответствующие конструкции X. Арендт).
Отношение X. Арендт к традициям философии политики: от Платона... к Сократу
В начале нашего повествования о У.а. учение X. Арендт было отнесено к сферам социальной философии, философии истории и философии политики. Но было также сказано, что X. Арендт активно возражала против того, чтобы ее называли «философом», в частности философом политики, и предпочитала применительно к своей области исследований обозначение «теория политики », соответственно к себе — «теоретик политики». Было обещано вернуться к этому парадоксу, когда накопится больше материала. И теперь момент настал... Присоединяюсь к авторам, обратившимся к парадоксу и не (вполне) согласившимся с арендтовской
1 Хорошую иллюстрацию к подобному ходу мысли X. Арендт дает, подробно разбирая (на с. 294-302) утопические идеи Платона и вообще особенности его понимания политики (из диалогов «Политик», «Государство», «Федр» и т. д.).
самоклассификацией. Они, опираясь на объективные факты, подчеркивали: анализ отношения между философией и политикой тем не менее был живым нервом многих произведений X. Арендт. «Мы видим, что она обращается к этим проблемам в „The Human Condition”, в сборнике эссе ранних 60-х годов „Between Past and Future”, в другом сборнике эссе конца 60-х „Men in Dark Times”. Эта тема трактуется в ее „Lectures on Kant’s Political Philosophy”, создававшихся в 70-х годах, в опубликованном после ее смерти произведении „The Life of the Mind”... Разумеется, мысль X. Арендт нельзя понять, не принимая во внимание одновременно ее глубокое недоверие и глубокую же, налагающую обязательства связь (commitment) с философией в контексте политической рефлексии. В результате сделанное в данной, постоянной области ее научных занятий не сложилось в систематически артикулированную теорию или в программные заявления. Вместо этого они отражают арендтовское оценивающее рассмотрение того, что для нее здесь осталось „жизненным напряжением” — и „загадкой”»1.
Соглашаясь с этим в целом верным рассуждением, добавлю некоторые моменты, касающиеся историко-ситуационной обусловленности действительно сильной «аллергии» X. Арендт в связи с тем фактом, что философия — во многих ее весьма мощных мыслительных продуктах и в лице крупнейших ее умов — не сумела предложить, по ее убеждению, глубокой и развитой философии политики. Более того, философы — с древности и до современности — нередко проявляли стойкую вражду к политике, вставали к ней в такую решительную оппозицию, которая привела к древнейшему, протянувшемуся через всю историю разрыву парадигмального значения. «Пропасть между философией и политикой, — говорила X. Арендт в своей лекции в Нотрдамском университете, — исторически открылась вместе с судом над Сократом и его осуждением, которые в истории политической мысли сыграли такую же роль, как и суд над Иисусом в истории религии»2. Аналогия очень сильная... Казнь Сократа, согласно X. Арендт, стала не только личной драмой для его учеников, включая Платона, но и незалеченной многовековой травмой для всей философии, сначала философии греческой. Травма эта, считает она, определила отношение философии греков к реальным полисам их родины. Что не в последнюю очередь подвигло Платона к концепции идеального государства и к центральной его идее о необходимости подчинить политику философии, ее истинам, а конкретнее — подчинить надзору «философов» как образцовых якобы правителей все главные дела «образцового» же полиса.
Как бы то ни было, нельзя не заметить, сколь подробно, основательно, заинтересованно — в том числе и критически — греческие мыслители, прежде всего те же Платон и Аристотель, занимались такими, бесспорно, философско-политическими сюжетами, как разветвленные учения о государстве, не случайно названные «политиями», как критика (Платон) или защита (Аристотель) демократии, как анализ законодательства, да и многими другими проблемами, изучение и осмысление
335
1 Fr. Dolan. Arendt on philosophy and politics // Cambridge Companion Online. Cambridge University Press, 2006. P. 261.
2 H. Arendt. Philosophy and Politics// Social Research 57(1990). P. 73.
Часть V. (лава 6. Повествование о «dós Hondeln:
H.ß. Мотрошилово №@И Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгте-время-любовь
336
которых по праву считается уже достаточно зрелым историческим фундаментом как раз философии политики. Точно так же и Ханна Арендт, как бы сама она ни классифицировала свои теоретические занятия сходной проблематикой, уделила пристальное внимание философско-политическим работам, подобным платоновскому «Государству» (особенно книгам V, VI, VII), а также сочинениям Аристотеля.
В рамках этих своих исследований она весьма оригинально и интересно осуществила движение «Назад к Сократу!». Присмотримся к ее мотивам и идеям. X. Арендт осуществила реконструкцию политического поведения Сократа, его отношений с афинским полисом, а также сконцентрировалась на сконструированной ею проблеме философско-политических расхождений Платона именно с Сократом, в платоновском наследии — полагала она — замаскированных всем чем только можно. Философия Сократа, пишет X. Арендт, «продвигает истину вперед, не разрушая doxa, или мнение, а напротив, раскрывая doxa в собственной истинности. Роль философа (разумеется, применительно к политике. — Н. М.) состоит не в том, чтобы изрекать философские истины общего характера, а в том, чтобы делать граждан (поскольку они включены в политическую жизнь. — Н. М.) более близкими к истине (truthful). Различие с Платоном здесь решающее: Сократ намеревается не столько учить граждан, сколько усовершенствовать тот набор их doxa, которые конституируют политическую жизнь, в коей они принимают участие» (Ibidem. Р. 81).
Симпатии X. Арендт как «теоретика политики» — на стороне Сократа, а не Платона. «Арендтовский Сократ, в отличие от Платона, — говорит об этой конструкции Ф. Долан, — не отворачивается от полиса. Он избегает политических дел, но не уходит и в приватную жизнь»1. Сократ (в арендтовском изображении) не согласен с Платоном в том, что философы должны-де «править» полисом. Ибо их дело — быть «оводами» для полиса, побуждая его граждан думать своим умом. Вот что в конечном счете получается из арендтовского образа Сократа: для него-де, «жизнь вместе с другими начинается с жизни, согласованной с самим собой. Учение Сократа имеет в виду: только тот, кто знает, как жить в ладу с собой, знает, как жить вместе с другими» (Н. Arendt. Op. cit. Р. 86—87)2.
«Проверка» кратко изложенных мыслей и образов X. Арендт, касающихся легендарных фигур греческой философии, — дело весьма проблематичное, особенно когда речь заходит о Сократе. Откуда современные люди, в том числе исследователи-антиковеды, черпают сведения о Сократе? В основном из того, что запечатлели в своих работах Платон и другие ученики легендарного мудреца. Если отвлечься от того, что подлинность самих этих работ — специальная непростая проблема, существует труднейший вопрос о мере достоверности или о чистой скон-
1 Fr. Dolan. Op. cit. P. 266.
2 Еще один важный штрих в этой арендтовской картине — утверждение, будто Аристотель в понимании политики не столько следует Платону, сколько возвращается к Сократу. Ссылаясь на «Никомахову этику», X. Арендт «утверждает, не вдаваясь в объяснения, что „главные части политической философии Аристотеля, особенно те, в которых он явно оппонирует Платону, суть возврат к Сократу”» (Fr. Dolan. Op. cit. P. 275).
337
струированности «сократического» пласта платоновских диалогов. Есть немалые основания считать кратко воспроизведенное арендтов- ское толкование, связанное с оппозицией «Сократ-Платон», интересной, но вряд ли верифицируемой конструкцией, которая в свою очередь покоится на фундаменте некоторых древних идейных констелляций, подробно говорить о которых здесь не представляется возможным.
А вот для X. Арендт и ее теории такая конструкция более чем необходима и удобна. Во-первых, она как бы закрепляет, снабжает мандатом древнейшей традиции то противостояние философии и политики, которое она (как бы не ведая сомнений и по сути пренебрегая хорошо ей известными фактами и образцами именно философии политики) протягивает через всю философскую историю вплоть до современности, чтобы ниспровергнуть ее в своей теории политики! И если любимый мыслитель Платон (как она его истолковала) не может быть ее союзником в борьбе против «философии политики», то ей представляется возможным по крайней мере опереться на традицию Сократа (и других столь же древних философов, которые, подобно софистам, резко критикуемым у платоновского Сократа, из его врагов — в более чем необычной трактовке X. Арендт — скорее становятся его союзниками).
В силу столь противоречивой ситуации, зафиксированной рядом исследователей, вряд ли следует считать ошибкой применение к учению X. Арендт о политике термина «философия политики» — хотя бы потому, что таковой она, в самом деле, занималась всю жизнь. Вместе с тем она стремилась справиться с явным противоречием, действительно присущим философии политики. А последняя всегда так или иначе балансировала на грани между критическим недоверием к политической сфере, причем недоверием вполне обоснованным, воздержанием от участия в политике — и «непоследовательным», однако постоянным вмешательством философов в политические дела (притом вторжением и теоретическим, и практическим). Весьма показателен пример Платона, который, повторим еще раз уже в новой связи, призывал философов «не ведать пути на площадь» (политики) и, однако, три раза, с риском для жизни и свободы, ездил перевоспитывать наследственных (сиракузских) тиранов.
В этой проблематике есть ряд других весьма тонких моментов. Недоверие X. Арендт к традициям философии политики, как они (с ее точки зрения) сложились, отнюдь не означает, что она с порога отвергает все то, что философы, особенно великие, писали о политике в своих произведениях, прямо имевших политические названия. Этим можно объяснить факт, на первый взгляд противоречивый: не желая встроить свои «политологические» изыскания именно в философию политики, она весьма подробно использует ее материал, а к знаменитым работам Платона или Аристотеля прибегает исключительно часто. Сама X. Арендт не усматривает тут никакого несоответствия. В том числе и потому, что видит, скажем, в «Государстве» Платона настоящий кладезь сведений и раздумий не только и даже не столько о политике в собственном смысле слова, сколько о самых разных сторонах социального бытия и античных полисов, и других общественных образований, о человеке и его жизни как таковых, о философии и философах. Оспаривать такой подход и не
Часть V. (лова 6. Повествование о «ске Налс!е1л
H B- Мотрошилово ШВ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
338
видеть его преимуществ было бы абсурдно. И даже образы казалось бы отвлеченной и далекой от жизни платоновской фантазии — в понимании X. Арендт — служат целям осмысления социального мира, включая политическое действие. В этом смысле показательно то, сколь часто, если не постоянно, платоновский образ пещеры, ее узников, «теней» реальности — вспомним, обрисованный именно в «Государстве» — поминается и используется в работах X. Арендт, и тоже в контекстах размышлений о политике. Здесь, кстати, тоже просматривается как влияние Хайдеггера на X. Арендт, так и ее противостояние идеям учителя. Ненадолго задержимся на этой теме.
Политическая важность философии Платона, справедливо отмечает Ф. Долан в уже цитированном произведении, может быть найдена, по предложению X. Арендт, в его образе пещеры (в VII книге «Государства»), Она непосредственно применяет толкование образа к поведению философа, который (в своей прикованности к философии) бывает отделен от действительного мира, однако когда-то вынужден возвращаться из царства философских теней в этот обширный мир. «Возврат философа, — пишет X. Арендт, — всегда опасен, потому что философ утратил common sens, здравый смысл, нужный для ориентации в мире, общем для всех, однако и потому, что он бросил якорь в своей мысли, противоречащей этому „common sense” мира »*. Это описание согласуется с тем, о чем пишет Платон («Государство». 518в), хотя он, заметим, говорит скорее не о философах .прямо и специально, а в общей форме повествует о тех индивидах, которые — долго пробыв прикованными в «пещере теней», а потом выбравшись к свету — пребывают в настоящей опасности, ибо привычный для них мир теней ближе их уму, чувствам, их сущности, чем мир света и прозрения.
Дело не только в текстологических тонкостях. Ибо X. Арендт ведет здесь свою главную теоретическую линию. Она права в том, что для философов (даже философов политики) выход из привычной для них «пещеры теней», т. е. отвлеченных мыслей, есть выход к «свету» далекой от них обыденной жизни. И тут философ, справедливо отмечает Ф. Долан, со своей стороны интерпретируя интерпретацию X. Арендт (Op. cit. Р. 270), делается столь же опасным для мира, сколь мир бывает опасен для него.
Противостояние свободы и необходимости кок общоя антиномия сферы «das Handeln»
В рассмотрении Ханной Арендт в 5-й главе сферы «Handeln» и поступков есть немало других ярких и интересных моментов. Например, в § 33, названном «Неотменимость содеянного и власть прощать», анализируются (с опорой на Библию и символически взятую фигуру Иисуса) проявляющиеся тут этические апории и феномены любви, прощения, уважения, снова отсылающие к общей для всей главы теме непременного «явления» внутренних качеств личности, как и их утраты. «Так что несомненно современная утрата уважения, соотв. убеждения, что уважения заслуживает только удивительное и ценное, есть явственный 11 Н. Arendt. Philosophy and Politics. P. 95.
знак возрастающей обезлички публичной и социальной жизни» (с. 322). Общую проблему X. Арендт видит в том, что толкования «спонтанности», личностной обусловленности или, напротив, их подавления тесно переплетены с более общей антиномией (на языке Канта) свободы и необходимости, от обсуждения которой не удается уйти и современной мысли.
Существенные и весьма сложные, противоречивые «мыслительные ходы» в этой проблематике «вполне принадлежат», согласно X. Арендт, «главной линии великой традиции европейской мысли ». Ибо «едва начав отдавать себе отчет в подобных вещах, мы поддаемся искушению не доверять свободе, заманивающей нас в капкан необходимости...» (с. 310). Такое искушение проявляется, в частности, в том, что под подозрение и упреки подпадает именно возможность «спонтанности поступка», а также в нападках на «миропорядок», заставляющий людей, в силу всех его необходимостей, «неуклонно» терять свободу (там же). Свободу начинают отождествлять с максимальным воздержанием от действия (как das Handeln).
Ошибочность такого именно движения мысли X. Арендт усматривает в незапланированном или намеренном отождествлении «суверенности» со свободой, против чего она решительно возражает. По ее мнению, «ни один человек не суверенен, ибо не человек, а люди населяют землю...» (с. 311). Но автор V.a. категорически не согласна с чисто негативными оценками обусловленности, зависимости индивида от человеческой бытийной плюральности. Ибо зависимость от других оборачивается также и поддержкой со стороны этих других, как бы компенсирующей всегда ограниченные силы отдельного индивида. Чистая «суверенность» — продукт воображения, тогда как человеческая свобода есть реальность даже и в контексте обусловленности и неотменяемого плюрализма людей в пределах любой общности.
X. Арендт не принимает таких рассуждений, в которых акцентируется идея о том, будто человек как «употребляющий свободу» всегда якобы увязает в несвободе. Именно в этом контексте X. Арендт делает принципиально важное (однако опять-таки «опускаемое» в сноску) замечание о природе «современного экзистенциализма». Формулировки последнего фактически движутся, полагает она, в «традиционной концептуальной сетке», хотя экзистенциалисты не принимают традиционных способов разрешения разбираемых апорий. Следствием, как пишет X. Арендт, оказывается то, что экзистенциализм сам «увязает в апориях, из которых потом пытается выпутаться...». Это и о Хайдеггере. Одна из типичных попыток — возврат к религиозным ценностям (это уже не о Хайдеггере, а о ветвях религиозного экзистенциализма). Апориям экзистенциализма (здесь, в V.a., специально не разбираемым) противопоставляется общий тезис в защиту внутренней способности человеческих поступков (и вообще деятельности как «das Handeln») «справиться с тянущимися за ней трудностями и недостатками» (с. 312).
Удивительно, но жизнеутверждающую, самокорректирующую силу поступка X. Арендт видит... в модусах, обозначаемых словами «прощать и обещать», как будто бы частных, маргинальных, малозначительных. Потому-то она на нескольких страницах (с. 313-320) тщательно, под-
339
Часть V. Отава 6. Повествование о «das Handeln:
340
S
о
Э
8.
о
S
* СИ
робно выписывает такие, например, свойства действий, Handeln, как способность действующего лица благодаря прощению «освобождаться от прошедшего, готового связать его навсегда» (с. 314). В политической же сфере она видит особые возможности применения «прощения», ан- тиномично противостоящего злопамятности и мстительности, столь характерным для политики. И формулируется тезис, нечто вроде рекомендуемого (частного по содержанию) категорического императива для общения, в том числе и в политической сфере: «Только тот, кому уже простили, может простить самому себе; только тот, обещание кому сдержали, может обещать что-то самому себе и сдержать обещание» (с. 315). Полагаю, внимание, нетрадиционно уделяемое X. Арендт таким по видимости не слишком важным феноменам, как прощение или обещание, вполне оправдывает себя. Если мы задумаемся над структурами социально-коммуникативного, публичного действия людей — а это и есть сфера das Handeln, — то должны будем признать: в общении друг с другом мы каждодневно прощаем другим и бываем прощены ими, даем обещания и получаем их, убеждаемся в том, выполнены они или не выполнены. Иными словами, X. Арендт и в данном случае демонстрирует удивительное умение обратить внимание на конкретные вполне жизненные структуры и под-структуры действия, которые издревле сложились как бы сами собой, стали бытийно-социально-объективными, т. е. непременно-обязательными.
Вместе с тем в описании феноменов прощения и обещания в книге V.a. прочитываются также личностные и даже чисто личные моменты. В последнем случае приходит на ум: книга написана тогда, когда сама X. Арендт уже прошла через фундаментальное по значению, судьбоносное прощение Хайдеггеру, тому человеку, которому очень трудно, а казалось, и невозможно было простить как раз его социально-политические прегрешения. То видение, что в этих частях V.a. запечатлелся и сугубо личный опыт автора, подкрепляется любопытным композиционным отличием книги: сразу после обсуждения структур прощения и обещания разбирается — правда, очень коротко — тема Любви. А в этом разборе чисто личные мотивы и переживания запечатлеваются не менее явно, чем безличные общефилософские соображения.
Любовь кок структура «dos Handeln»
Этому краткому арендтовскому экскурсу мы посвятим (тоже небольшой) рассказ потому, что и здесь объективно ведется диалог с Хайдеггером, с его книгой «Бытие и время », хотя идет он как бы «от противного». В работе Хайдеггера, как мы показали в соответствующей главе, царит «умолчание» о Любви. В V.a. Любовь — это тонко, объективно, но и с сугубо личным запалом обрисованная важнейшая всеобщая структура сфер действования (das Handeln) и поступка.
Прежде всего, в книге V.a. X. Арендт исходит из того, что Любви присуща «несравненная сила самораскрытия» (с. 321), т. е. что она обладает наисущественнейшей способностью описываемого вида деятельности, «das Handeln». Брошено, правда, уместное замечание, что это верно только «в крайне редких случаях, когда она действительно случается». (А в сноске иронически сказано, что суждение, будто «любовь
такая же частая вещь как увлечение», принадлежит поэтам, ибо таков выгодный им самообман — там же.) Не содержится ли здесь пусть косвенное, потопленное в общих словах, но все-таки признание того, что нечто подобное молодой яркой любви к Хайдеггеру ей уже не довелось пережить?
Сила выстраданных лично откровений X. Арендт о любви проявляется также в верных, а одновременно и горьких замечаниях о внутренней апории любви. С одной стороны, тут, как правило, проявляется «слепота» в отношении как действительных достоинств, достижений, так и недостатков, промахов «любимой личности». С другой же стороны, при слепоте в отношении частных свойств любимых людей в любви есть «несравненная зоркость» в отношении внутреннего, подлинного «кто » любимого или любимой. «В страсти, с какой любовь схватывает лишь кто другого человека, то срединное пространство мира, через которое мы и связаны с другими и одновременно от них отделены, словно расплавляется в огне. Любящих отделяет от человеческого мира их без- мирность, мир между любящими сгорел» (там же). Не так ли «сгорел мир» в разгар любви-страсти наших героев?
Вводится тема ребенка как «подлиннейшего порождения любви». (Ханна Арендт, лишенная возможности иметь ребенка от любимого человека, от их большой любви, пишет об этом вполне объективно, с теоретической честностью.) К такой черте, как «безмирность», она присоединяет аполитичность и даже антиполитичность любви, притом опираясь и на пережитое на своем опыте. Со знанием дела она добавляет, что любовь (в обычных, нормальных случаях) «возможно, самая мощная из всех антиполитических сил» (с. 322).
Завершая обширную пятую главу книги V.a., X. Арендт снова возвращается к модусам «прощения » и «обещания ». В частности, X. Арендт потому придает обещаниям такое значение как раз при рассмотрении «das Handeln», что в них заключены, по ее мнению, «единственные нравственные предписания», принятые действующей личностью не извне, а от себя и добровольно. «Они возникают скорее прямо из бытия людей друг с другом, настолько оно вообще отдано поступку и слову; эти предписания суть как бы контрольные органы, встроенные в способность начинать и запускать новые и по себе бесконечные процессы» (с. 326). Опять правильно, и правота автора V.a. больше всего высвечивается в те «окаянные дни», когда внешние социальные скрепы, обязательности и обязанности разрушаются, когда к понятию «совесть», как кажется, бесполезно прибегать. Тогда оказывается, что обещания, суждения, стыд и т. п. конкретных людей друг в отношении друг друга чуть ли не единственно способны поддерживать их социальную взаимность. В такие исторические времена эти как бы частные и личные свойства-способности для людей, просто не утративших честность и совестливость, становятся опознавательными знаками, паролями социального родства, обещаниями надежности, поддержки в любого рода коммуникациях.
Итак, на протяжении всей этой главы внимание автора концентрируется на доказательстве того, что das Handeln, деятельность в публичных сферах (включая политику) содержит в себе внутренне заключенную в самой этой деятельности и в поступке как ее структурной единице спо-
341
Часть V. (лава 6. Повествование о «dos Handeln:
342
<Е
О
£
£
Я
5
а
?
0
6
Я
£
1
О
Б
О
%
£
•со
собность так или иначе содействовать (при всех противоречиях, трудностях, неснимаемых апориях) самораскрытию уникальной личности, ее неповторимо новаторскому, всегда зарождающемуся уже с фактом рождения вплетению собственных нитей в невидимую, необозримую «ткань» бытия-вместе-с-другими. Что движение анализа к этой сфере и должно было увенчиваться такими структурами, одновременно и экзис- тенциалами, в том снова можно увидеть решающее слово заботливо выстроенного объективного, очень редко прямо указывающего на адресат диалога X. Арендт с М. Хайдеггером.
it it it
Мы на время заканчиваем наш анализ книги V.a.
Требует специального объяснения и оправдания тот факт, что объемная шестая глава «Vita activa и новое время» (с. 329-423) специально не входит в кадр нашего рассмотрения. Это происходит не потому, что я недооцениваю уровень ее содержательности и значимости. Все как раз наоборот: считаю текст X. Арендт одним из наиболее оригинальных, ярких и значимых в своем жанре, каковым является конспективное и в то же время основательное исследование философии (а вместе и самого «духа») Нового времени в тесной связи и взаимодействии с социальноисторическими поворотами и переворотами этой эпохи.
Но обо всем этом материале требуется совершенно особый разговор. Тем более что автор V.a., не забывая, конечно, о первых главах труда — о трех типах деятельности, обнимаемой общим понятием «vita activa», — все же возвращается к ним только спорадически. Ибо новая тематика требует и специальной работы, и высочайшего внимания.
Вот почему здесь и теперь приходится уйти от вхождения в исследование и интерпретацию последней — и повторяю, замечательной — главы книги Vita activa.
Сделаю еще ряд кратких дополняющих уточнений, касающихся творчества X. Арендт конца 50-х и начала 60-х годов, так или иначе примыкающего к книге V.a. Вослед книге V.a. X. Арендт послала свое ценное и интересное сочинение «Между прошлым и будущим. Шесть упражнений в политической мысли» («Between past und future. Six Exercises in Political Thought». The Viking press. N.Y., 1961). Его можно расценивать как дополнение к V.a., написанное как раз в жанре политической философии, ее истории и уделившее большое внимание философии истории, относительно которой в разобранной нами книге имеются лишь относительно редкие и небольшие экскурсы.
Итак, в арендтовской концепции политики как области «das Handeln» главенствующее значение имеют не только и не просто факторы совместности, но скорее языково-речевые аспекты, а также сопряженные с их использованием формы более или менее гласных переговоров, договоров, обещаний и т. д. При том что эти аспекты, формы в истории человечества действительно имеют место, постоянно действуют и играют немалую роль, целый ряд теоретиков, современников X. Арендт, выразили несогласие с ее преувеличенным вниманием к совещательнопереговорным и, наоборот, невниманием к другим не менее важным сторонам, аспектам политических процессов. Предоставим слово одному
из тех, кто рано заметил, весьма высоко оценил идеи X. Арендт, больше всего соотносясь как раз с книгой У.а., — Юргену Хабермасу.
343
Ю. Хабермас: поддержка и критика философско- политических идей V.a.
Ю. Хабермас в своей посвященной X. Арендт превосходной статье 1976 года, опубликованной в журнале «Merkur» (Heft 10. October 1976), среди серии материалов в память X. Арендт, сравнивает ее понимание политики с ролью того же понятия в учениях М. Вебера и Т. Парсонса, бесспорно выдающихся мыслителей XX века. Упоминая и других авторов, он тем самым предметно, содержательно вписывает исследования X. Арендт, включая прежде всего «The Human Condition», в ряд наиболее серьезных (к середине XX века) философско-политических теорий. «Главное философское сочинение X. Арендт (The Human Condition, 1958), — пишет Ю. Хабермас, — служит систематическому обновлению аристотелевского понимания практики. Автор не ограничивается экзегезой классических текстов, она набрасывает антропологию языкового действия, которая образует противовес по отношению к антропологии целевого действия А. Гелена (Der Mensch, 1940/1950). В то время как Гелен исследует функциональный круг инструментального действия в качестве важнейшего механизма воспроизводства [человеческого] рода, X. Арендт анализирует практически воспроизводимые формы интерсубъективности как основополагающую черту через культуру воспроизводимой жизни. Коммуникативное действие (Handeln) — это опосредующее звено (Medium), в котором формируется интерсубъективно разделенный жизненный мир»1.
Итак, Хабермас — в своих общих оценках и учения о политике, и более широких теоретических предпосылок социальной философии X. Арендт (ярко выраженных в V.a. и в других ее кратко привлекаемых к рассмотрению сочинений) — максимально сближает арендтовские теоретические линии со своей формировавшейся в то же время теорией коммуникативного, интерсубъективного действия. Для этого имелось немало оснований, хотя X. Арендт, разумеется, применяла иную терминологию, где не встретишь понятий «коммуникативность», «интерсубъективность», хотя они, по сути дела, хорошо подходят к описываемым ею реалиям и теоретическим образцам. Именно такое «по сути» имеет в виду Хабермас, когда выделяет действительно наличествующие в работах X. Арендт мыслительные ходы в сторону того, что вполне можно назвать «коммуникативностью», «интерсубъективностью».
Солидарность Ю. Хабермаса (и не его одного) с этими бесспорными акцентами учения X. Арендт проливает свет на то обстоятельство, на которое мы могли только бегло обратить внимание в нашей книге. Исследовательница эта (цитируя в V.a. многих современных авторов) шла в ногу и со многими непосредственно не упоминаемыми, не цитируемыми крупными социальными мыслителями второй половины XX века, которые на различных почвах, платформах, с использованием несходной
1 J. Habermas. Hannah Arendts Begriff der Macht // Merkur. XXX. Jahrgang. Heft 10. October 1976. S. 949.
Часть V. (лова 6. Повествование о «das Handeln:
Н.8. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьттие-время-любовь
344
терминологии бились над тем же, что и X. Арендт: они изучали, анализировали многоразличные стороны социального бытия и общественного, интерсубъективного взаимодействия (коммуникации). Эти линии анализа были расходящимися, но и взаимодополнительными. Как одобрительные оценки, так и критические замечания, сделанные из таких расходящихся исследовательских перспектив, имеют неоценимое значение для самой сути общего исследовательского дела.
С большим вниманием улавливая и потом акцентируя в учении X. Арендт о «das Handeln» наиболее сильные и оригинальные стороны, Ю. Хабермас сделал в его адрес ряд замечаний, которые вряд ли можно счесть необоснованными. Скажем об одном из них, возможно решающем для понимания размежеваний, возникших в европейской мысли в связи с оценками V.a. (как и в случае Хабермаса, высокими, а одновременно критическими). Речь идет об арендтовской концентрации теории «das Handeln», в частности, его проявлений в политической сфере, вокруг феноменов речевого, языкового, дискурсивно-совещательного свойства. Такую (преувеличенную) концентрацию Ю. Хабермас считает существенным недостатком учения X. Арендт и о «das Handeln» как таковом (в его терминологии — коммуникативном действии), и об особой сфере, а именно о политических процессах и действиях. Сей недостаток особенно четко проявляется, считает Хабермас, когда и если с помощью арендтовского понятийного инструментария и хода мысли пытаешься понять и прояснить современные коммуникативные, политические реалии. «Понятие политического, — писал Ю. Хабермас в 1976 году, — должно простираться на стратегическое соревнование вокруг политической власти и на применение власти в политической системе. Политика не может отождествляться, как то имеет место у X. Арендт, с практикой тех, кто совместно речет (redet), чтобы совместно действовать. Напротив, современная господствующая теория сужает это понятие, сводя его к феноменам конкуренции вокруг власти и ее локализаций, и тогда феномен формирования власти не принимается в расчет» (Ibidem. S. 958). Сколь бы интересными и основательными ни были отдельные наблюдения, рассуждения X. Арендт, в частности в V.a., Ю. Хабермас того мнения, что «...политическое господство должно функционировать да и функционирует иначе, чем это получается согласно утверждениям X. Арендт» (Ibidem. S. 959).
В частности, X. Арендт, по мнению Ю. Хабермаса, упускает из виду многие требующие специального объяснения аспекты, коллизии и противоречия, когда просто утверждает в V.a.: власть возникает там и тогда, где и когда люди «собираются и действуют сообща»; и «формирующая сила», скрепляющая сообщество этих собравшихся людей, состоит-де во взаимных обещаниях, в их общественном договоре (нем. вариант V.a., S. 240). Что это замечание Ю. Хабермаса вполне обоснованно, показывает хотя бы следующий факт: люди, объединяющиеся в группы и организации гражданского общества, могут вести себя именно так, как описывает X. Арендт (они «собираются и действуют сообща», прежде всего говорят, обсуждают общие дела, о чем-то договариваются, что-то обещают друг другу и т. д.). Но в общественных системах, которые активно противодействуют структурам гражданского общества, последним не
«отпущено» по сути никакой реальной власти. Противодействующие же социальные структуры (я именую их антигражданским обществом) могут, как в нынешней России, располагать самой сильной и реальной властью, в том числе и в политике, даже и не собираясь вместе, не заключая гласных договоров, не давая сколько-нибудь объективированных обещаний — напротив, насколько вообще возможно, избегая всего этого и пребывая «в тени»...
Впрочем, в том же номере «Merkur», где напечатана рассмотренная статья Хабермаса, опубликована работа Дольфа Штернбергера (Sternberger), в которой подчеркнуто особое значение арендтовского осовременивания (первой книги) «Политики» Аристотеля, благодаря коему это известное произведение и его понятия, освобожденные от «конвенций, смешений», предстали ярко, свежо, как «новые творения»1. А некоторое увлечение X. Арендт языково-речевыми сторонами коммуникации (сообразованные с аристотелевским объединением тезиса о человеке как «zoon politikon», политическом животном и как единственном существе, наделенном языком и мыслью, «логосом») считается более чем отвечающим реалиям XX века с их подчеркиванием возросшего значения совещательных процедур (Beratung), процессов обсуждений, столкновений разных, даже противоположных мнений (Debatte), соразмерных сути не только и не столько античной, сколько современной демократии. Но и этот автор находит у X. Арендт существенный недостаток. Он состоит, по его мнению, в том, что акцентируемая ею «совещательная» сторона, роль дебатов выдвинута на первый план в ущерб анализу, касающемуся принятия и исполнения социальных решений как непосредственно в политике, так и за ее пределами (Ibidem. S. 945). Кроме того, по мнению Д. Штернбергера, X. Арендт делает «das Handeln» чрезмерно светлой, одномерно-позитивной. Критик припоминает брошенную ею в дебатах реплику — «acting is fun» (Handeln macht Spaß): действие — как Handeln — доставляет удовольствие... Отчасти так оно и есть. Однако в полисе, в политике бывают не одни «светлые дни», о чем, конечно же, вряд ли стоило напоминать именно X. Арендт...
В этом интересном и до сих пор актуальном споре обе стороны, полагаю, по-своему правы. Правота X. Арендт, основанная на всех злоключениях, ее и ее современников, в том, что она акцентирует опасности худших, самых мрачных, именно тоталитарных режимов, которые грубо, насильственно, смертельными преследованиями попирали самые разные права (слова, собраний, совести, свободы передвижения и т. д.). Когда такие режимы сходят со сцены, люди, пострадавшие от них, могут со знанием дела сравнивать их с более «благоприятными» социальными порядками. В условиях диктатуры многие, многие люди мечтают о свободе и демократии. И поначалу, когда отпадают самые грубые формы насилия, после такого социально-политического удушья (как в послевоенной Германии или в России периода перестройки) глотком свежего политического воздуха кажется сама возможность без опасности прямых преследований и репрессий высказывать свое мнение, свободы
345
1 D. Stemberger. Die versunkene Stadt. Über Hannah Arendt Idee der Politik // Merkur. XXX. Jahrgang. Heft 10. October 1976. S. 936.
Часть V. (лава 6. Повествование о «dos Handeln:
346
ce
о
£
X
a
i
GÛ
X
вступать в различные общественные объединения, путешествовать по миру и т. д.
Однако правы и критики, причем их правота, пожалуй, более актуальна для современного мира, в котором определенные силы и слои, подвизающиеся в политике, достаточно быстро поняли: «свобода» слова может стать своего рода парадным фасадом, за которым скрывается (о чем убедительно говорит упомянутый Д. Штернбергер в конце своей статьи) монополизация этими силами сфер принятия и осуществления реальных судьбоносных для страны решений. То же можно сказать о других атрибутах демократии, которые — современность это ярко демонстрирует — могут быть полностью выхолощены и даже превращены в своего рода непристойный театр абсурда. Такова, скажем, сама по себе важная многопартийность — но в условиях, когда партиям важны внешние ритуалы, сама возможность красоваться на «сцене» политической жизни и (очень часто) соучаствовать в дружно проклинаемой коррупции. «Не одни только совещательные процедуры, дебаты, столкновение речей, обмен мнениями делают погоду в сфере „das Handeln” и „das Politische”... куда больше следует думать также о сфере решений, которые должны вытекать из всего сначала перечисленного. И нужно знать, каким образом достигаются решения, и где то место, в котором они могут быть — ответственно — приняты и проведены в жизнь»1, — это критическое возражение Д. Штернбергера в адрес арендтовской концепции политического сегодня, пожалуй, еще актуальнее для всего мира, чем в середине 70-х годов, когда оно было высказано.
Вместе с тем веские замечания коллег никак не отменяют, как говорилось, очень высокой оценки того, что Ханне Арендт удалось сделать — и в книге V.a., и в других произведениях. А среди таких оценок также и те, которые относятся к «оживлению», актуализации античного исторического и интеллектуального наследия. Предоставлю слово тому же Д. Штернбергеру, который писал: «Никто в наши дни не взялся столь решительно за идею античного полиса и не высветил ее столь ярко, как это сделала Ханна Арендт. Я говорю не об историческом и филологическом исследовании, но о тонкости интерпретации „Политики” Аристотеля, о новом точном оживлении греческого, точнее, аристотелевского понятия полиса, политики и гражданственности. Я называю это „философским” возобновлением, хотя знаю, что она сама... хотела провести резкую демаркационную линию между сферой созерцания и сферой действия (des Handelns), что выражение „политическая философия” стало для нее чем-то вроде деревянного железа и выступало как бессмыслица... В действительности аристотелевское понятие, освобожденное от всяких конвенциональностей, смешений, затуманиваний, явилось свежо, как новое творение. Аристотелевское, и ни в коем случае не платоновское»2.
Заметим, что здесь речь идет об особом искусстве «оживлять античность» — собственно, о том, чему Ханна, как было показано, научилась прежде всего у Хайдеггера. Можно сделать вывод: «опрашивание греческого начала», к которому призывал Хайдеггер, активно предприни¬
1 D. Stemberger. Op. cit. S. 945.
1 D. Stemberger. Die versunkene Stadt. Über Hannah Arendt Idee der Politik//
Merkur. Heft 10, 30. Jahrgang. October 1976. S. 935, 936 (курсив мой. — H. M.).
347
мала и она, причем применительно к политико-цивилизационному историческому опыту она не просто успешно конкурировала с Хайдеггером, но в сравнении с ним и с другими современниками (прав Д. Штернбер- гер) она действовала наиболее решительно и оригинально. Поэтому на поставленный учителем вопрос — чем мы, современные люди, обязаны грекам, она дала, полагаю, больше четких, вразумительных социально, политически, исторически значимых ответов, чем Хайдеггер.
Что касается концепции социального бытия, к которой X. Арендт оригинально подошла, осуществляя прежде всего исследование бытийного значения объективированных форм трех главных видов активной деятельности, vita activa, то такая теория еще ждет своего настоящего освоения, критического продолжения. Ибо (это мое мнение) новая социальная, цивилизационная онтология, основанная на непривычном для истории мысли принципе неотменимости трансценденталистских тезисов — и, следовательно, учета в социальной мысли следствий кардинальной философской реформы Канта, Гуссерля, Хайдеггера, — такая онтология пока не создана. Попытка ее создания у X. Арендт по существу не была подхвачена и не нашла, вплоть до сегодняшнего дня, сколько- нибудь основательного, систематического продолжения.
Часть V. (лова 6. Повествование о «dos Hondelrv
Часть VI
М. Хайдеггер и X. Арендт: «осень жизни», новые встречи и нерастраченные чувства
ГЛАВА 1
Переписка середины 50-х и 60-х годов
В переписке Мартина Хайдеггера и Ханны Арендт есть специальный раздел, который издательница и комментатор Урсула Аудц так и назвала — «Осень». Имеется в виду, конечно, осень жизни, в которую во второй половине 60-х годов XX века вступили наши герои. В письмах — множество личных, субъективных моментов, которые весьма существенны, и не только сами по себе, но и потому что ярко высвечивают приметы времени, историю духовного развития обоих мыслителей, а также других участников историко-философского процесса второй половины XX века. Вместе с тем в переписку — разумеется, в сжатой форме, которую только и предоставляет эпистолярный жанр, коему в то время не было никакой замены, — вплетено обсуждение множества аспектов, относящихся к совсем не мистическому «объективному духу», т. е. к духовным, мыслительным, теоретическим ценностям, установкам, размежеваниям внутри философии и, шире, культуры, которые характерны для значительных десятилетий XX века, совпавших с последними этапами и годами жизни наших героев.
Сначала — в общей форме — о некоторых временных и содержательных особенностях переписки осени.
Мы уже знаем о поистине взрывном общении 1950 года и последующем охлаждении отношений. По сравнению, с одной стороны, с 1950 годом, а с другой — с серединой 60-х и с 70-ми годами, переписку достаточно длительного промежуточного периода можно счесть вялой и даже затухающей.
И все же и в ней пара писем вызывает большой интерес в свете нашей идеи об особом характере, качестве и личных, и творческих отношений наших героев в послевоенный период. Тему эту, которая уже затрагивалась и раньше, в целом можно обозначить так: было мало людей, чьи отношения с М. Хайдеггером омрачились такими же драматическими личными переживаниями, прониклись столь же глубокими разочарованиями, как в случае Ханны Арендт; но лишь немногие умели в той же мере, как это делала она, налаживать взаимные личные отношения, придавая им творческую содержательность, достойную выдающихся мыслителей и ярких личностей. Правда — и это приходилось и приходится с при¬
скорбием фиксировать во многих случаях — Хайдеггер и после войны не сподобился с теми же вниманием и пониманием, какие уже проявили многие умы тогдашнего мира (мы видели это на примере рецепции книги V.a.), отнестись к появлявшимся в этот «осенний» период выдающимся работам его бывшей ученицы, которая как раз после войны стала исследовательницей с мировым именем.
Вернемся к переписке.
Уже обсуждавшийся коренной недостаток опубликованной «переписки» (т. е. в подавляющем большинстве только посланий Хайдеггера, без писем Ханны) весьма мешает тому, чтобы воспроизвести именно интересующий нас диалог двух умов, который несомненно имел место. Однако есть возможность дополнить хорошо объективировавшиеся в письмах рассуждения Хайдеггера теми отраженными «лучами», которые можно найти в его ответах на письма Ханны. Помогают также свидетельства из арендтовских текстов и материалов — помогают тому, чтобы сложить мозаику взаимоотношений, споров, а также учесть закадровые воздействия на отношения Ханны и Мартина других людей и внешних обстоятельств.
21.04.1952 года Хайдеггер пишет Ханне теплое письмо (с благодарностью за ее указания на опечатки во втором издании книги «Holzwege», экземпляр которой ей был отослан). А в следующем письме (от 05.06.1952) он — неожиданно — написал нечто довольно резкое: «Это хорошо, что ты теперь не пишешь и не появляешься проездом. Все это болезненно и трудно. И мы должны это вынести. Что-то в скором времени пройдет через Aogoq (логос). Мартин»1. Что же произошло между двумя близкими датами? Об этом читаем в примечаниях У. Лутц (Ibidem. S. 310). В мае 1952 года Ханна приехала во Фрайбург и около недели оставалась там. Она неоднократно виделась с Мартином и Эльфридой, по приглашению Мартина посетила его лекции. И вдруг — новый приступ ревности со стороны Эльфриды, о чем известно из сообщений Ханны ее мужу Г. Блюхеру. Что там конкретно случилось, в деталях неизвестно. Возможно, и X. Арендт, столкнувшись с агрессией Эльфриды, не осталась в долгу. Но «логос» все-таки победил... А может, победило не столь высокое, как «логос», более прагматическое обстоятельство: Мартин очень нуждался в разносторонней помощи Ханны, с готовностью ее принимал, и потому снова наладил дружескую переписку. Ибо в следующем, через полгода написанном письме (от 15.12.1952) Хайдеггер спокойно сообщает о своих новых публикациях и переизданиях сочинений («Бытие и время» вышло вновь и в неизменном виде), а также о том, что август и сентябрь он и Эльфрида провели в хижине. Погода для Шварцвальда этого времени года выдалась, пишет он, «на редкость неблагоприятная» (S. 137).
Сообщается о письме от Ясперса. «То, что ты, — обращается Мартин к Ханне, — в августе, как сама говоришь, была с Ясперсами в горах, принесло, несомненно, много прекрасного и доброго» (S. 137).
Но вот — внимание! — редкий сюжет: Хайдеггер пишет о своих социальных тревогах. «Между тем мир все время становится мрачнее. У нас
349
1 Н. Arendt ! М. Heidegger. Briefe. S. 136 (курсив Хайдеггера. — H. М.). Далее при цитировании указываются страницы по этому изданию.
Часть VI. 1лава 1. Переписка середины 50-х и 60-х годов
H ß. Мотрошилова Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
350
всеми овладела жажда спора. В роковом положении, когда сомкнулось большое кольцо, можно было ожидать противоположного [поведения]. „Европа” теперь — всего лишь имя, которое потом едва ли можно будет наполнить содержанием. Сущность истории становится все более загадочной. Пропасть между существеннейшими научными усилиями людей и непосредственной бездейственностью становится все более зловещей. Все указывает на то, что наше обычное представление плетется за обстоятельствами, за которыми оно больше не поспевает.
Итак, остается только воздержание, остранение (Resignation). И все же я, напротив, вижу во всем — несмотря на возрастающую внешнюю угрозу — приход новых, лучше сказать, древнейших тайных сил (Geheimnisse). Эти проблески лежат в основе моих докладов последних лет, и я надеюсь, мне удастся представить их в более проясненном единстве» (S. 137-138).
О чем могла думать и что могла отвечать Мартину X. Арендт, остается лишь догадываться. Мир становится «все мрачнее»? Оправданно ли говорить такое после чернейшего мрака нацизма и мировой войны, самой кровопролитной войны в истории человечества? Да, проблем в послевоенной Европе было хоть отбавляй. Но чем плохи «всеобщие споры» в демократизирующихся странах, включая Германию? Такие вопросы вполне могли приходить, да и сейчас приходят на ум при чтении хайдеггеровских социальных стенаний. Постоянно, не только при жизни Сталина, но и на протяжении пары десятков лет Хайдеггер заговаривал с Ханной — устно и в письмах — о «сомкнувшемся большом кольце» вокруг Европы, имея в виду, как нечто вполне реальное, готовящееся и вот-вот возможное (по его мнению) нападение СССР на страны Европы, в первую очередь на Германию. Ханна, чему есть немало свидетельств, столь же постоянно возражала Мартину в этом вопросе. Была права она, а не Хайдеггер, чье конкретное политическое чутье никогда не отличалось предсказующей силой. Да и то надо сказать: в его объяснениях случившегося в 30-х годах ссылка на постоянную опасность агрессивного коммунистического милитаризма всегда играла первостепенную роль (в чем он объективно солидаризировался с тезисами нацистской пропаганды). А после войны ему было особенно выгодно форсировать эту тему. Ханна же смотрела на проблему шире и точнее. Она оправданно полагала, что любой державный милитаризм, каковы бы ни были замыслы и намерения его экстремистских лидеров и идеологов, не имел реальных шансов развязать выгодную ему войну в послевоенной Европе (и должен был ограничиваться шагами «сдерживания», поддержания границ своего влияния). Уверенность же Хайдеггера в том, что пробуждаются некие «новые», но «древнейшие тайные [силы]» и что все-де раскроется именно в его накапливавшихся писаниях, — не есть ли это очередная самоуверенная, однако расплывчатая иллюзия философа, пусть и двигавшегося к своему теоретическому «повороту» (Kehre), но, как и прежде, наиболее слабому в сколько-нибудь конкретном понимании и предвидении социально-исторических сдвигов?
Отвечала ли Ханна на — наконец-то социальные — стенания и предсказания Хайдеггера? Трудно сказать. Но бросается в глаза, что после этого письма следующее — весьма краткое — Мартин написал Ханне
06.10.1953 года, т. е. без малого через год! Зато в нем снова появилось нечто существенно-личное, понятное лишь им обоим. Мартин спрашивал Ханну: «Помнишь ли ты еще, какое стихотворение из „Дивана” ты цитировала во время нашей первой новой встречи во Фрайбурге?» (S. 139). Тем самым Хайдеггер хотел памятью возвратить Ханну к тому романтическому свиданию 1950 года, когда она и Мартин увиделись в первый раз после многолетней разлуки — когда она процитировала из гетевского «West-östlichen Divan», и когда — это главное! — подумала, что «время остановилось...».
Как бы то ни было, в 1954 году переписка снова несколько оживляется. И пара писем Ханны этого года (в виде исключения) даже воспроизведена в переписке. Это, например, официальное обращение X. Арендт к «господину профессору М. Хайдеггеру» (помеченное 29.04.1954 года) в связи с тем, что профессор Робинсон из Канзасского университета предложил подготовить (первое тогда) английское издание «Бытия и времени». Ханне был прислан (пробный) экземпляр его перевода. Сам Робинсон, пишет она, понимает, что перевод «не готов к печати», и это заключено «в природе вещей»: английский перевод чрезвычайно сложной по мысли и языку книги Хайдеггера изначально труден, а Робинсон к тому же пошел по пути буквализма. Ханна убеждена, что по такому пути, тем более в данном особом случае, идти не следует. X. Арендт предпочла бы двуязычный текст (как это верно применительно к публикации переводов сложнейших и лингвистически изощренных философских произведений!). Предпочла бы еще и потому, что, как она пишет, «многие студенты и профессора философии хорошо знают немецкий». (Какой, кстати, контраст с сегодняшними условиями, когда такое знание что в Америке, что в России встретишь разве в исключительных случаях...)
Ханна сообщает Хайдеггеру: с одной стороны, интерес в США к его произведениям весьма велик («везде задают вопросы о Вашей философии»); с другой стороны, это легко может привести к недоразумениям — в случаях неудовлетворительных переводов (его) произведений и важнейшего из них, «Бытия и времени». Свою придирчивость по отношению к переводу Робинсона X. Арендт просит истолковывать правильно — как подбадривание, а не как запугивание (см. S. 143-144).
Перевод, о котором здесь идет речь, появился в печати в 1962 году (он был сделан с седьмого немецкого издания — переводчики J. Macquarrie и Ed. Robinson); к этому переводу обращаются и сегодня, хотя впоследствии появились и другие варианты.
Скорее всего, еще до только что проанализированного «официального» письма (которое можно было показать английскому переводчику) X. Арендт предварительно и дружески написала о проекте самому Хайдеггеру. Поэтому несколько раньше (в письме от 21.04.1954 года) Мартин обращался к Ханне с благодарностью за все ее тревоги и заботы, связанные с английскими переводами его произведений. И выражал уверенность: было бы чудесно и перспективно, когда бы в случае переводов присутствовал именно ее «контролирующий взгляд». Правда, Хайдеггер хорошо понимал и писал о том, что для Ханны при ее востребованности это будет непростой дополнительный груз обязанностей (S. 140).
351
Чостъ VI. I/iqbq 1. Переписка середины 50-х и 60-х годов
Н-В. Мотрошилово №5В Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгтие-еремя-любовь
352
Тут же — важное и вообще-то редкое признание: «Ты владеешь употребительными языками так же хорошо, как знаешь — это важно прежде всего — суть дела и пути мысли. А я здесь в куда большем затруднении и не могу судить [обо всем этом]» (S. 140). Хайдеггер сообщает, что почти каждый месяц из США приходят те или иные предложения о переводах. В Латинской Америке же переводят «все что ни попадя», не испрашивая разрешений...
Что касается Робинсона, пишет Хайдеггер, то он согласен: этот «симпатичный человек» как переводчик очевидно нуждается в помощи. И упоминает к случаю о досадной ошибке во французском переводе: «Sein zum Tode», бытие к смерти, было переведено как «être pour la mort», т. e. как бытие для смерти... (Речь идет о переводе Роже Мунье, появившемся в «Cahiers du Sud» — 40(37). 1953. № 319. P. 385-406, и № 320. P. 68-88.) Хайдеггер также сообщает Ханне адреса молодых американцев (это Джон Смит, Эдит Керн и Элизабет Вильямс), которые уже сделали-де перевод «Письма о гуманизме» и отрывков из «Holzwege». (Переводы названных добровольцев, кажется, так и не появились в печати.) Письмо заполнено другими подробностями, которые убедительно подтверждают: 1954 год — это своего рода переломная историческая веха, ибо интерес к философу Хайдеггеру, к его довоенным классическим и новым работам в мире значительно возрос. Итак, недавно еще опальный Хайдеггер теперь уверенно возвращался к свету исторической рампы.
Как бы спохватываясь, что обрушивает на Ханну сообщения только о своих делах, Мартин пишет ей: «Я бы очень хотел услышать, как идут твои дела и над чем ты работаешь» (S. 141). А потом опять быстренько переходит к «своим делам»... Не преминул Мартин написать и о том, как обрадовали Эльфриду сообщения об участии Ханны в деле английских переводов его произведений (в чем вряд ли можно сомневаться).
Исключительно интересно письмо X. Арендт от 8 мая 1954 года — если присоединить к нему набросанные X. Арендт, но неотправленные строчки (они хранятся в ее архиве). Письмо это — ответ на благодарственное послание Мартина, о котором она пишет: «Мартин — о твоем добром письме, которое меня так поразило (verblüfft). Теперь я по крайней мере знаю, чего ты хочешь. И ты, надеюсь, знаешь, что ты вряд ли мог бы доставить мне большую радость. А тем самым, если удастся, успокоится все то, что уже очень рано не было в порядке и что после, естественно, только значительно усложнялось. Я часто думала над тем, чтобы сделать для тебя что-то касательно английского языкового пространства; это было так естественно. Но я не хотела бы повергать тебя в размышления о том, не сказать ли [мне] „нет” и не поискать ли повод отказаться». («О, сколь же далек любой путь через близкое» — тут Ханна цитирует подтвердившиеся драматизмом их отношений строки из стихотворения, которое Мартин посвятил ей в апреле 1950 года.)
Тон письма Ханны приветливый и благодарный. Но за кадром остался неотправленный набросок (о нем сообщается в примечаниях У. Лутц — S. 314). В нем Ханна хотела бы продемонстрировать бывшему учителю, что и многому научившись у него, она вынуждена была это усвоенное кардинально переосмысливать. Ее слова подтверждают уже
353
не раз высказанные по конкретным поводам мои основные идеи и тезисы о принципиальном противостоянии Хайдеггеру и (скрытом) диалоге с ним в произведениях X. Арендт. О диалоге, который в открытую вести было невозможно — если учитывать все, что касается личности, позиций, взглядов, прошлого Хайдеггера. А сколь бы значимым и интересным для философии, культуры он мог бы стать... Но — не случилось. Усвоенное у Хайдеггера, пишет Ханна в так и не отправленном наброске, «должно было в конце концов привести меня к анализу современного общества, которое — в качестве общества труда — привносит в трудовой процесс также деятельность как „das Herstellen” и вследствие этого производит так называемые товары потребления уже не для потребления [Gebrauch], но для непосредственного поглощения (Konsumption). Политически это ведет к...» — тут набросок обрывается, и к большому сожалению: ведь здесь в сжатом виде намечалось одно из наиболее ранних обозначений концептуального замысла и идей книги «The Human Condition» (Vita activa — в немецком варианте), который обрел, отмечает У. Лутц, «свою законченную форму после лекций, прочитанных X. Арендт в Чикагском университете в апреле 1956 года» (S. 314).
Поскольку Мартин в предыдущем письме вежливо (пусть «на ходу» подробного повествования о своих делах) спросил, над чем сама Ханна работает, она кое-что (кратко) написала и о своих тогдашних исследованиях. Сообщила, и именно в отправленном письме, что занята тремя комплексами теоретических вопросов, тесно связанными друг с другом.
1. Ею осуществляется «анализ государственных форм» (начинает она с учения Монтескье) — в связи с намерением исследовать, как «понятие господства перетекает в политическую сферу (das Politische)». Ведь «в каждом „Gemeinwesen”, т. е. общественном организме, есть господа и те, над кем господствуют» — тут Ханна приводит немецкий перевод цитаты из Аристотеля («Политика», 1332 в). Исследуется также, с каким своеобразием понятие «политического» конструируется «в политическом пространстве».
2. «Исходя, возможно, из Маркса, с одной стороны, и Гоббса, с другой, [ею] предпринимается анализ тех принципиально различных видов деятельности, которые — рассмотренные с точки зрения vita contemplativa — обычно оказываются брошенными в один горшок [под названием] vita activa: итак, это труд (das Arbeiten) — das Herstellen — das Handeln, причем труд и das Handeln рассматриваются по модели Herstellen. А именно: труд интерпретируется как «продуктивный» и das Handeln [берется лишь] в связке со средствами — целями» (S. 145-146). Здесь — тоже весьма полезная авторская ремарка, касающаяся будущей книги «Vita activa» и вводящая ее центральные термины (что важно, в немецком варианте — а кому было понять эти тонкие терминологические, философско-лингвистические различения, как не Хайдеггеру...). И тут Ханна четко фиксирует: все упомянутое она не могла бы сделать (если, в самом деле, теперь уже может сделать это) «без того, чему в молодости научилась» у него, Хайдеггера.
3. «Отправляясь от сравнения с пещерой (и от твоей его интерпретации), — далее обращается она к Хайдеггеру, — я даю изображение традиционного отношения философии и политики, собственно пози-
13 694
Часть VI. (лава 1. Переписка середины 50-х и 60-х годов
Н.в. Мотрошилова Шй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
354
ции Платона и Аристотеля применительно к полису — как основы всех политических теорий. (Решающим мне кажется то, что Платон делает высшей идеей agathon (ayaBov) — а не Kalon (каЯоп), и думаю, из-за „политических причин”.)» (S. 146).
Ханна оговаривает, что «на бумаге» замыслы «полны высоких претензий», и добавляет: именно так все и задумано... Правда, она не намеревается входить в конкретику, ибо тогда можно потеряться «в бесконечном». Она стремится работать так же, как при написании книги о тоталитарном господстве; тогда сюжеты волновали ее постоянно, да и теперь она не избавилась от тех же тревог... Этой зимой, сообщает она, была возможность как бы экспериментально изложить свои идеи — в серии лекций в университетах Принстона и Нотр-Дама, как и в отдельных докладах (сообщает, между прочим, что Жак Маритен, который в то время преподавал в Принстоне, слушал ее курс и «остался удовлетворен»). Действительно, X. Арендт — в период времени с 8.10 по
12.11.1953 года — прочитала в Принстоне 6 лекций на тему «Карл Маркс и традиции западной политической мысли », потом, 3 и 4 марта 1954 года, в Университете Нотр-Дам лекции на тему «Философия и политика: проблема действия (action) и мысли после Французской революции». Были также доклады в Гарварде (возможно, о тоталитаризме, чему также был посвящен ряд публикаций того и последующего времени). «Мужество для всего этого, — так завершает она этот важнейший блок своего письма, — я черпаю, среди других факторов, из злого опыта последних лет в этой стране (США. — Н. М.) и из комически-безнадежного состояния политических наук» (S. 146). Позднее университеты стали присуждать ей почетные докторские степени (см. вклейку, фото 26).
Все эти сжатые разъяснения — именно в письме к Хайдеггеру — имеют центральное значение для нашей темы.
Они показывают, во-первых, что книга «Vita activa» вызревала постепенно, складываясь из смелых, с серьезными претензиями (anspruchsvolle) теоретических замыслов. Мы также знаем, что в широком полотне V.a. выношенные замыслы и идеи воплотились в жизнь.
Во-вторых, центральные идеи, достаточно рано и четко оформившиеся в уме X. Арендт, проходили своего рода обкатку в почтенных американских университетах и в целой серии предварительных публикаций.
В-третьих, критическая оценка состояния близких дисциплин (в частности и особенности тех, что именовались тогда «науками о политике» или «политической философией») настойчиво толкала ее к глубокому переосмыслению социально-политических сюжетов и даже к отказу именовать свои концепции политического «философией политики».
В-четвертых, несмотря на все это, сама Ханна никак не отделяла обоих (новаторских) замыслов и идей от философии, особенно от ее славной истории, чему в уже исполненном замысле, т. е. в опубликованной книге, мы находим массу подтверждений.
В-пятых, проанализированное письмо особенно ясно показывает, что (по крайней мере в 1954 году) X. Арендт полна желания — с присущей ей честностью и благодарностью — указать также на хайдеггеров- скую, в ряде случаев, родословную своих идей.
Размежевания и отходы от концепций учителя — тем более в письме к нему самому — она, естественно, склонна оставить как бы за кадром. И по этой же причине вообще не отсылает ему ранее разобранный набросок, четко свидетельствующий о том, что и усвоенное у Хайдеггера заставило ее в теории идти совершенно иными путями. Впоследствии, т. е. в опубликованной V.a., дело, как мы знаем, дошло до (почти полного) умолчания о Хайдеггере, что в 1954 году не входило в ее намерения.
Снова поразмышляем о причинах происшедшего, теперь принимая в расчет ход и характер переписки того времени, когда книга была в активном процессе создания.
Итак, Ханна сообщила Мартину, «над чем она работает». Возможно, она надеялась на понимание и даже на диалог. И что же? Каков был отклик? Да никакого не было отклика... Единственное письмо Хайдеггера конца 1954 года короткое — и опять говорящее исключительно о его делах.
Следующие два письма, имеющиеся в «Переписке», помечены 1959 и 1960 годами. Первое — от Мартина, второе — от Ханны, с уведомлением об отсылке ему (издательством) книги «The Human Condition». С краткой и выразительной припиской X. Арендт: «К этому я хочу присоединить мое слово тебе. Ты увидишь, что книга не содержит посвящения. Если бы между нами все шло правильно (я пишу „между”, т. е. не имею в виду ни тебя, ни себя), то я бы спросила тебя, могу ли я посвятить книгу тебе; она вырастала из первых фрайбургских лет и обязана тебе во всех отношениях, т. е. почти во всем1. Однако учитывая то, как обстоят дела, такое не кажется мне возможным; но каким-то образом я хотела по крайней мере сказать тебе о неприкрашенном положении дел. Всего лучшего!» (S. 149). Намек Ханны как будто понятен: она полагает, что отношения опять охлаждаются не из-за них самих, но из-за того, вернее, той, которая «между» [ними]. Что-то там опять случилось, в этом пространстве «между»...
Хайдеггер оставил это письмо Ханны от 28.10.1960 года без ответа и комментариев. В переписке — снова перерыв. Ханна, правда, поздравит Мартина с семидесятипятилетием, а он кратко ответит (13.04.1965 года) на поздравление. Но следующее его — опять теплое и дружественное письмо Ханне Арендт — будет отправлено уже в 1966 году, в честь ее 60-летнего юбилея.
Прежде чем перейти к характеристике следующего этапа переписки, общения наших героев, позволю себе высказать соображения в связи с упреком Ханны в адрес силы, стоящей «между»... Полагаю, она была неправа, когда перемещала вопрос о возможном посвящении книги V.a. своему учителю только в «пространство между» ними обоими. Ибо невозможность реализации ее как будто доброго, честного порыва благодарности в этом случае больше всего и содержательнее всего зависела от самого Хайдеггера, т. е. не от «пространства между», а главным об-
355
1 На эту формулировку самой Ханны, которая далеко не точно фиксирует всю противоречивость ее примыкания к философии Хайдеггера и отхода от нее, любят ссылаться авторы, которые подобно упоминавшейся Э. Эттингер изображают учение X. Арендт бледным подражанием философии Хайдеггера.
13*
Часть VI. Глава 1. Переписка середины 50-х и 60-х годов
356
ю
&
Z
8.
<Е
0 ст> >х
я
X
1
о
э
а
о
S
CÛ
X
разом от того «пространства», где были именно они оба как личности и как мыслители. Правда, наиболее правдоподобную резко негативную реакцию своей жены на посвящение, если бы оно состоялось, Мартин тоже учитывал.
В архиве X. Арендт сохранился набросок этого Посвящения Хайдеггеру. Оно гласит:
«Re Vita activa:
посвящение этой книги
Как должна бы я посвятить ее тебе,
тому, кому доверяю (Veríra«ten),
кому сохранила верность (Treue)
и не сохранила ее1 —
то и другое с любовью ».
Урсула Лудц комментирует: «Приходится исходить из того, что она не отослала это посвящение» (Н. Arendt/ М. Heidegger. Briefe. S. 319). Итак, Хайдеггер не знал о содержании Посвящения. Но он вполне мог предполагать, что захотела бы написать Ханна, если бы посвятила книгу именно ему. А если бы знал ее набросок, вообще пришел бы в ужас. Ибо публичного запечатления темы любви, «верности и неверности» в их отношениях (личных ли, теоретических ли) он никак не хотел, причем по самым разным причинам. Вполне благородное желание, чтобы не были задеты, и притом публично, чувства жены, было только одним из соображений. Существовала и целая сумма других — содержательных, именно теоретических оснований, исключавших, как я думаю, согласие Хайдеггера на упомянутое Посвящение.
Совсем не стремясь (из-за своего всегдашнего эгоцентризма) основательно вчитаться в книгу V.a. (к тому же сначала полученную в английском варианте, свободно читать который ему было трудно), Хайдеггер какое-то количество страниц все-таки осилил. Этого было достаточно, чтобы он понял: V.a. — никак не подражание ему, а самостоятельная, сложная работа совершенно чуждых ему теоретического жанра и направленности. Вот почему и впоследствии, когда отношения вновь стали налаживаться, он не приложил никакого труда, чтобы обдумать содержание, учесть истоки, линии блестящего, но очень далекого от него арендтовского произведения. Скорее всего, на всю его оставшуюся жизнь сохранилось это теоретическое отчуждение и недоверие, смешанное с раздражением. Свое отношение к V.a. он не объективировал публично. Но вряд ли мог желать, чтобы такая книга была посвящена именно ему.
Кроме того, Хайдеггер — пусть и не вникая (в отличие от Ясперса) в другие, к тому времени уже вышедшие сочинения X. Арендт, оценил их как серьезный и принципиальный уход от философии. (Об этом далее еще пойдет речь.) В чем, полагаю, Хайдеггер был отчасти прав, но в целом же — неправ. Непривычный жанр тут действительно был, но из множества социологических, политологических и иных работ послевоенного времени арендтовские сочинения, включая V.a., выделяются своей
1 Эти строчки перекликаются с одним из стихотворений Хайдеггера, посвященных X. Арендт.
особой, но яркой и несомненной философской оснащенностью и тесной связью с философским, в том числе историко-философским материалом. Однако тот непривычный тип связи оригинальных размышлений синтетического жанра и философии, который выработала и предложила гуманитарному знанию X. Арендт, был весьма далек от всех теоретических, духовных устремлений, от характера знаний и образованности Хайдеггера. При определенной широте взглядов, доброжелательности, объективности и при наличии ряда других качеств ума и характера мыслитель такого, как Хайдеггер, масштаба мог бы в принципе понять не только близкое, родное, но и далекое интеллектуальное, теоретическое содержание. Но вот этими-то качествами бывший учитель X. Арендт совсем не обладал. (Подробнее на эту тему я высказалась при анализе книги У.а.)
Далее, хотя Хайдеггер не мог не заметить (даже и при сугубо поверхностном чтении, вернее, пролистывании У.а.) многочисленных ссылок Ханны на дорогих его сердцу Платона, Аристотеля, Канта и других авторов, он исходил из своего давнего убеждения: «подлинное философствование», как и толкование гениев древности, — лишь то, что делает он сам и как он это делает. Ханна чему-то у него научилась, например, работе с языком (если он успел, сумел ту работу разглядеть). Но ведь она все осмысливает по-своему, а возможно, и в противовес ему, учителю. И это Хайдеггер почувствовал, притом почувствовал правильно.
Вот почему, полагаю, Хайдеггер сделал все возможное и невозможное, чтобы уклониться от посвящения ему книги У.а. Способом «уклонения» стало... очередное замораживание переписки. В чем-то такой выход из затруднительного положения был удобен и самой Ханне — при всех ее благодарных намерениях. И для нее признание перед всем миром в любви и «верности-неверности» Хайдеггеру, с которого к концу 50-х годов были далеко еще не сняты политические обвинения и подозрения, также заключало определенный риск, особенно если учесть ее круги общения. Надо не забыть о муже, Г. Блюхере, пусть ей беспредельно преданном: ведь такое, на весь мир, публичное признание в любви и верности-неверности другому мужчине вряд ли доставило бы мужу Ханны много радости. Поэтому то, как все в конечном счете получилось, объективно было к лучшему...
Часть VI. Глава 1. Переписка середины 50-х и 60-х годов
ГЛАВА 2
Поздняя осень жизни: переписка второй половины 60 — первой половины 70-х годов
Первый шаг к тому, чтобы прервавшаяся переписка возобновилась, делает Хайдеггер. Повод выбран вполне достойный: в письме от 6 октября 1966 года он поздравляет Ханну с 60-летним юбилеем, который, вместе с теплым письмом, стал поводом к новому оживлению общения и переписки.
Мартин пишет: «Дорогая Ханна! Я сердечно приветствую тебя в связи с шестидесятым днем рождения и желаю тебе в грядущую осень твоего здесь-бытия (Dasein) всего самого благоприятного для выполнения задач — и тех, которые ты перед собой поставила, и тех еще неизвестных, которые тебя ожидают.
Радостность мышления сама вновь и вновь устанавливает себя и сопровождается осмыслением того, что мысль в силах сделать в этом запутанном мире... Кажется, как много воды утекло с тех пор, когда была предпринята интерпретация Платонова «Софиста». И, однако, очень часто прошедшее является мне спрессованным в одно мгновение, за которым скрыто непреходящее» (Ibidem. S. 153). Хайдеггер в этом же письме сообщает Ханне о двух — впервые в жизни предпринятых! — путешествиях (своих и Эльфриды) в Грецию, о пребывании на острове Эгина.
К письму приложены: 1) замечательное стихотворение Гёльдерлина, которое так и называется «Осень» (Der Herbst); 2) две открытки; на одной запечатлен вид из «кабинета» Хайдеггера в хижине Тодтнауберга.
«Стихотворение осени» Гёльдерлина, любимого, глубоко исследованного Хайдеггером немецкого поэта, — очень красивое и весьма простое, похожее на многие стихи на разных языках, в которых воспевается особая красота осени, грустного, но яркого увядания природы. Его суть (в вольном переводе): блеск природы — высшее из явлений; день венчается многими радостями; ведь это год увенчивается великолепием, пышностью (Pracht) осени. День осени мягок; поля простираются широко, насколько хватает взора; веют ветры... И заключение: ожил весь смысл картины светлой, и подобно образу, парит вокруг золотое великолепие (Pracht). (Вспомните сходные тютчевские строки: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса».)
Хайдеггер в данном случае несомненно придает этим простым образам и картинам символический смысл: осень Dasein, здесь-бытия человека, подобно осени года, может светиться немного грустной, но золотой пышной красотой. Итоги, плоды жизни, объединяются, как и в природе, с высоким блеском (...Früchte sich mit hohen Glanz vereinen). В обычной своей манере извлечения из языка потаенных смыслов Хайдеггер добавляет, что «алетейя», этот его любимый и постоянно толкуемый термин греческой философии, «не просто слово, не предмет этимологизирования, а все еще правящая сила присутствия всех сущностей, и вещей.
И ее не может загораживать никакой постав» (в оригинале — игра слов: «Und kein Ge-stell kann nicht sie verstellen»). Подпись: «думающий о тебе Мартин». Послан также привет от Эльфриды (Ibidem. S. 153).
И Ханна смысл всего этого послания чутко, благодарно улавливает. 19 октября 1966 года написано ее ответное письмо, в котором она поведала, сколь тронута и как благодарна за символическое поздравление Мартину, этому великому мыслителю и (все еще) любимому мужчине. Ханна пишет: «Дорогой Мартин! Твое письмо осени (Hebstbrief) было огромной радостью, а именно радостью, самой большой из возможных. Оно сопровождает меня — вместе со стихотворением и видом из шварцвальдского кабинета на прекрасные живые источники — и долго будет со мною. (Кому-то весна разбивала и разбивает сердце, а кого-то осень снова возрождает.)
Там и здесь я слышу о тебе. Ты пишешь второй том „Бытия и времени”, под заголовком „Время и бытие”. И тогда мои пожелания простираются в треугольник [твоей жизни]: Фрайбург, Мескирх как гипотенуза, а над всем этим — Тодтнауберг. Сейчас — еще и Эгина, где и мы тоже бывали неоднократно1. И мои мысли тоже часто [возвращаются] к лекции о „Софисте”. Непреходящее, кажется мне, помещается там, где, как можно сказать, „начало и конец — одно и то же”.
Передавай мой привет Эльфриде. Генрих тоже шлет сердечный привет. Как всегда — Ханна» (Ibidem. S. 155).
Мне кажется, эти «письма осени» говорят сами за себя.
Они свидетельствуют о любви, так и не угасшей — несмотря ни на что и на «ничто»... Оба снова упоминают, как и в 1950 году, о «непреходящем», сохраняющемся (das Bleibende), о немеркнущих воспоминаниях. Когда, в самом деле, «начало и конец — одно и то же»... Есть еще одна примета переписки, которую особенно остро и чутко воспринимают люди, чья жизнь тоже вступила в пору «поздней осени». Мартин, который на 17 лет старше Ханны, просто, с полным пониманием и уверенностью говорит о красоте жизненной осени — если она, как в их случае, не отягощена сколько-нибудь тяжелыми болезнями, спутниками старости. А главное — если она сопровождается, опять-таки как в их случаях, зрелостью мысли, творческим подъемом, огромным вниманием читателей, студентов, коллег к их новым идеям, произведениям, лекциям, докладам и вообще-то заслуженным преклонением перед их умом, талантом, перед блеском их имен, известных образованному миру. Сердцу женщины, сохранившему давнюю любовь, особенно тепло и радостно, когда и если ей о великолепии осени жизни говорит мужчина, который был любящим свидетелем весеннего цветения ее тогдашней яркой красоты. Теперь он призывает Ханну радоваться этой наступившей осени жизни, по-своему прекрасной.
Все было красиво, достойно. Будущее показало, что слова о вдохновенности поздней осени жизни подтвердились, как своего рода предсказание, причем для них обоих. Они прожили (почти) по десять поздних «осенних лет», не просто в здравом уме и твердой памяти (что для старых людей уже немалая удача), но и придали своим блестящим умам новое, творческое обновление. В частности, Ханна, популярный ученый,
359
1 X. Арендт вместе с мужем Г. Блюхером посещала остров Эгина в 1963 году (Ibidem. S. 321).
Часть VI. Глава 2. Поздняя осень жизни...
Н .В. Мотрошилово ЯНВ Мартин Хайдеггер и Ханна Прендт: бытие-время-любовь
360
выступала и в mass media (ем. вклейку, фото 24). Для темы нашей книги важно подчеркнуть и добавить: осень жизни (несмотря на отдельные разногласия, ухабы, неизбежные на жизненной дороге) оказалась порой их если не полной, то более симметричной, чем когда-либо, творческой взаимности. (По содержанию эти тезисы будут раскрыты и доказаны в последнем разделе.) Если рассматривать письма и общение поздней осени с точки зрения интересов Хайдеггера и самого строя его личности, можно с уверенностью констатировать, что он многое выигрывал от сохраняющейся преданности («верности») Ханны. И главное здесь: как ни коротки письма, как ни обрывочна переписка, сбывается мечта Хайдеггера о снова открытой для него возможности обращаться к философскому уму, к исключительной интеллектуальности, высоте, богатству внутреннего мира Ханны, получать от нее лапидарные, но очень глубокие и меткие оценки своих идей, произведений, замыслов. И что никак не менее важно, все переплетено с ее и его самыми теплыми воспоминаниями об их раннем общении.
«Дорогой Мартин! — написано в письме Ханны от 24 сентября 1967 года. — „Тезис Канта о бытии” — великолепная работа. Когда я на обратном пути читала ее, в моем воспоминании она прекрасно дополнила услышанное на лекциях и обсужденное в беседах» (Ibidem. S. 159). Мартин в ответном письме поблагодарит Ханну. Мартину также была послана Ханной книга А. Кожева о Гегеле, тогда вошедшая в моду в философском мире. Через брата Фридриха Мартин узнает о присуждении Ханне премии Дармштадтской академии — премии литературной, за ее яркую по языку прозу. Хайдеггер комментирует: «Это соответствует твоему отношению и твоей любви к нашему языку. Я рад за тебя» (Ibidem. S. 161). В следующем письме (30.10.1967 года), отвечая на вопросы Ханны, Хайдеггер завязывает короткий, но весьма содержательный разговор о понравившемся Ханне тексте, посвященном Канту (Ibidem).
К философскому письму приложены два кратких стихотворных отрывка, как всегда исполненные глубокого лиризма и обоим понятных ассоциаций с чем-то сугубо личным, связывающим их сердца. Один отрывок — это первая строфа из стихотворения романтика Георга Тракля «В темноте». Его смысл — в прозаическом переложении:
Молчит душа [пред] голубой весной.
Под влажной ветвью вечера Погруженная в созерцание лиц любящих.
Второй отрывок — из другого стихотворения того же автора с заголовком «Вечерняя песня». Его смысл:
Весенние облака поднимаются через туманный город,
Благородные времена монахов молчат.
В ответном письме (от 27.11.1967 года) Ханна выражает Мартину благодарность «за примеры транзитивного использования молчания (это великолепно, и я думаю, что сразу все поняла...)» (S. 163). Ханна уловила: главные акценты специально посланных ей строф — именно красноречивое молчание: «душа молчит », но и говорит с тем, кто способен уловить язык молчания. А иногда молчание душ — вынужденное... Снова заходит речь о важных различиях в понимании обоими проблемы модальностей — возможности, действительности, необходимости,
которая в переписке возникла в связи с упомянутым хайдеггеровским текстом о Канте.
События и переписка, относящиеся к 1967 году, вообще исключительно интересны.
26 июля 1967 года Ханна Арендт приехала из Базеля во Фрайбург в Брейсгау, в университете которого прочла доклад, посвященный Вальтеру Беньямину (в 1968 году доклад был опубликован как в немецкой, так и в английской версиях). Весьма важно то, что доклад Ханны должен был состояться в родном Хайдеггеру Фрайбургском университете, где, однако, и в конце 60-х многие люди не могли забыть о его нацистских прегрешениях.
Собралась многочисленная публика. Как написано в Примечаниях Урсулы Лудц, «Хайдеггер был осведомлен о приготовлениях к докладу и лично появился в аудитории, что знатоками было воспринято с удивлением» (Ibidem. S. 322) — возможно потому, что об особых отношениях Хайдеггера и Арендт в ту пору мало кто был осведомлен. Весьма существенно, что эта их личная встреча была первой после очередного длительного перерыва. Появление Ханны Арендт было встречено долгими аплодисментами. На исходе 60-х годов в Германии и в других странах послевоенной Европы ее имя уже прочно ассоциировалось с первыми глубокими и оригинальными произведениями, с твердой, мужественной антитоталитарной, демократической позицией в политике. В тех случаях, когда слушатели разделяли такие позиции, доклады, выступления X. Арендт они принимали с энтузиазмом. Публику поразило то, что она достаточно необычно начала свое обращение к собравшимся: «Глубокоуважаемый Мартин Хайдеггер, дамы и господа!» (Ibidem). Так Ханна, вне всякого сомнения, публично выражала свое особое почтение Хайдеггеру как выдающемуся мыслителю. Она давала понять, что настало время подчеркнуть его заслуги как великого философа (не забывая, конечно, о темных страницах его прошлого). Это была поддержка, весьма нужная ему в непростые для него послевоенные годы. Что Хайдеггер, как мы потом увидим, вполне оценил.
Через день Ханна и Мартин встретились лично. Хайдеггер подарил ей экземпляр своей только что вышедшей работы «Происхождение произведения искусства» с дарственным посвящением.
10 августа того же года Хайдеггер послал Ханне письмо, в котором есть отзвуки происшедших в конце июля событий. «Когда ты начала свой доклад с обращения, — писал Хайдеггер, — я опасался моментальной недоброй реакции. Она тоже была, но, правда, тебя не коснулась. Вот уже целые годы я увещеваю молодых людей, чтобы они — если хотят преуспеть — воздерживались от сочувственного цитирования Хайдеггера. Но твой доклад воздействовал на присутствующих просто благодаря его уровню и структуре. Такое все больше исчезает из наших университетов, как исчезает и мужество проговаривать вещи такими, каковы они есть. Наш послеобеденный разговор о языке и диалектике мог длиться лишь очень недолго. Не сумеешь ли ты еще раз появиться 19 августа — или ты слишком нарасхват? Я пытался до обеда позвонить тебе в отель. Но ты уже уехала ». Хайдеггер добавляет, что мог бы на несколько часов приехать в Базель, чтобы вновь лично встретиться с Ханной. Судя по всему, встреча не состоялась.
361
Часть VI. Глава 2. Поздняя осень жизни...
H.ß. Мотрошилово ЩИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгтие-время-любоеь
362
В конце письма, кстати, есть еще одно любопытное для нас замечание. Известный (впоследствии) немецкий философ В. Гердт (кстати, после перестройки мне посчастливилось с ним неоднократно встречаться) издал появившуюся в 1967 году книгу «Советская философия». «Вчера я получил, — сообщает Хайдеггер Ханне, — оттиск с обзором современной „Советской философии” — удручающая вещь, если подумать о том, что это, без сомнения, одаренные люди. Что это так, я узнал здесь, когда был, еще перед Первой мировой войной, студентом» (Ibidem. S. 156). (Скорее всего, речь шла о «репрессированной» философии советского периода — и там, возможно, встречались знакомые Хайдеггеру имена.)
Итак, именно в конце 60-х годов «переписка осени» не просто стала более интенсивной; она снова же — с содержательной точки зрения — сконцентрировалась вокруг обмена книгами, другими публикациями, вокруг их оценок и хотя бы кратких, но весьма существенных философских обсуждений. Мы видим и еще увидим далее, что тематику, оттенки, ракурсы этих обсуждений опять-таки односторонне задает Хайдеггер. Его творчество, как и прежде, доминирует в кадре их послевоенного творческого взаимодействия. Так будет до конца их жизни. Причина проста: если Ханна — благодаря своему превосходному философскому образованию и, что бы там ни думал Хайдеггер, постоянно интенсивной философской работе — вполне могла последовать за бывшим учителем в области его новых разработок, то Хайдеггер никак не мог ответить ей теоретической взаимностью. Темы и направления дисциплинарносинтетических исследований X. Арендт, вместе с тем оснащенные сильными философскими предпосылками и акцентами, были по-прежнему чужды Хайдеггеру, который, как и раньше, свято верил в то, что он (а возможно, только он) занимается подлинным философствованием. Мы впоследствии специально обратимся (но по необходимости кратко) к проблематике «Kehre», «поворота» в поздней философии Хайдеггера, попытаемся раскрыть ее противоречия — в том числе и в свете того, что об этих «поворотах» думала X. Арендт, тогда уже ставшая, снова повторим это, выдающимся, оригинальным мыслителем.
Одновременно в переписке «осени» — как это ни выглядит странно, парадоксально после охлаждения 50-х годов, — существуют, даже усиливаются личные моменты. Общий же рисунок и конкретика эпистолярного общения в целом не меняются и в 60-70-х годах. Ханна, как и раньше, живо, предметно, содержательно интересуется новыми работами Хайдеггера и горячо одобряет их. Она не только держит под контролем английские переводы хайдеггеровских сочинений, но и прочитывает корректуры. Хайдеггер все принимает, словно так и должно быть. Отсутствие ответного интереса Хайдеггера к творчеству Ханны — тем более досадный факт, что в последние годы жизни она все более обращается именно к специальным философским исследованиям процессов мышления, воли, суждения, этим исконно философским темам. Все правильно понимая, она, в сущности, уже не предлагает ему вникать в ее творческую работу. Асимметрия, о которой раньше шла речь, опять имеет место. Но теперь она уже не может быть объяснена, как в молодости, неведением насчет того, есть ли у Ханны оригинальные идеи и каковы они. Как раз наоборот: Хайдеггер делает все как бы априорно и даже де¬
монстративно, давая понять, что творческую работу Ханны — многими знатоками, в том числе такими друзьями, как Ясперс, высоко оцененную — он не считает философски-релевантной или вообще не принимает всерьез. Тот факт, что к 70-м годам Ханна, как не раз упоминалось, уже является мыслителем мирового класса и мировой известности, он, скорее всего, как бы отмысливает или объясняет как-то по-своему, вряд ли «в пользу Ханны». Исключений в этом сложившемся рисунке поведения Хайдеггера почти не было.
Но вот что вызывает удивление, если не восхищение: Ханна все это знает, ощущает, вряд ли считает справедливым, однако своего поведения и отношения к Мартину не меняет. Она, видимо, лучше него поняла: жить осталось недолго, и оставшиеся годы должны быть отмечены печатью разума, благородства и памятью о лучшем, что блеснуло в их жизни, — об их любви.
Личных моментов в переписке много. Оба они уведомляют друг друга и о наиболее примечательных событиях в жизни своих семей, а теперь и о недомоганиях — и собственных, и своих супругов* 1. Ведь старость все же сказывается, хотя и Мартин, и Ханна для своих лет более или менее благополучны, относительно здоровы, творчески активны и — что самое главное для мыслителей — думают, пишут по-прежнему новаторски, глубоко и ярко. Сколько осталось прожить, они не знают. А осталось, как выяснилось потом, несколько лет «поздней осенней» жизни, по- своему насыщенных и впечатляющих. Но уходят из жизни лучшие друзья. В письме от 28.02.1969 года Ханна сообщает Хайдеггеру: она в Европе, приехала на похороны Ясперса — учителя и многолетнего друга.
Ханна Арендт — памяти К. Ясперса
Прервем ненадолго наше повествование о переписке и общении Хайдеггера-Арендт, чтобы рассказать о великолепном по силе и точности выступлении Ханны в Базеле при официальном прощании с умершим Карлом Ясперсом.
Карл Ясперс скончался 26.02.1969 года. Третьего марта были его приватные похороны, а потом состоялось открытое прощальное собрание в университете Базеля, где X. Арендт и выступила со своей впечатляющей речью.
В проникновенном «слове» X. Арендт есть ряд принципиально важных личностных и внеличностных идей и штрихов.
• Она прежде всего подчеркнула уникальность Ясперса как человека и мыслителя. «То, как говорил о«, больше не говорит, раньше не говорил и не будет говорить никто другой. Так мы измеряем, обдумываем то, что мы потеряли. Но ведь дело не в этом»2. А в чем же?
• Вот существенная формула X. Арендт, отвечающая на вопрос о самом главном, с ее точки зрения, в личностных, творческих свершени-
1 Например, в письме от 12.04.1968 года Хайдеггер, в первый раз в жизни (!) направившись на курорт, заболел гриппом (точно сообщается, какая именно была температура и что Хайдеггер, желая избежать «осложнений», возможных из-за его возраста, принимал пенициллин). Эльфрида, как всегда преданно за ним ухаживавшая, тоже подхватила инфекцию, и оба они проболели неделю. Все, к счастью, обошлось. «Теперь я снова свеж, и Эльфрида тоже», — сообщает Ханне Хайдеггер (S. 167).
1 Н. Arendt I К. Jaspers. Briefwechsel. 1926-1969. S. 719.
363
Часть VI. Глава 2. Поздняя осень жизни...
H.ß. Мотрошилово №|| Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
364
ях учителя, друга, великого мыслителя XX века Карла Ясперса: «Ясперс неповторимым образом в известном смысле в себе самом воплотил объединение свободы, разума и коммуникации, показав [это] на примере своей жизни (exemplifiziert), чтобы потом снова описать в рефлексии, так что мы потом должны были мыслить эту троицу — разум, свободу, коммуникацию — не обособленно друг от друга, а как триединство» (Ibidem).
Эти четкие и верные слова о неразрывности жизни, личности Ясперса и главных идей-ценностей его философского учения вряд ли нуждаются в комментариях. Добавим только: сказать что-то подобное о Хайдеггере было невозможно. Да и вообще, незапятнанное и примерное (exemplarisch) «воплощение» созданного, исповедуемого философского учения в собственной жизни мыслителя — большая редкость, так что Ясперс в этом отношении встраивается в совсем немногочисленный ряд, в который всегда имели обыкновение помещать прежде всего Канта (см. вклейку, фото 25).
• X. Арендт поднимает вопрос о значении Ясперса именно как философа. Ведь Ясперс, как известно, получил медицинское образование и практиковал как врач-психиатр. В послевоенный период он прославился и как политически ангажированный мыслитель. По оценке Ханны, выбор тут был непростой и, пожалуй, все выглядело бы еще сложнее, когда бы Ясперс всю сознательную жизнь не был... нездоров. О болезни, привязывавшей его к одному месту, к дому, как одной из причин все большей «прикованности» к философии, упоминал сам Ясперс. «Когда он так говорил, я вспоминала о том месте в „Государстве” Платона, где последний, с полуиронией, высказывал такое мнение: благоприятная почва для философии — это либо изгнание, либо какая-то болезнь, или жизнь [мыслителя] в маленькой стране, где не приходится выделяться в сфере „das Handeln” (т. е., вспомним, публичной деятельности. — Н. М.). Стал бы Платон философом, если бы в Афинах все сложилось для него благоприятнее? И со времени Платона было не так уж много философов, к которым от публичной деятельности и политики исходили сколько-нибудь серьезные искушения. А что же в случае Ясперса?» (Ibidem. S. 720).
• Прикованный к дому (даже к постели, к преданному уходу любимой жены) К. Ясперс не остался только специалистом в психиатрической области, но, в самом деле, стал высокопрофессиональным философом, одним из самых видных в XX веке. Это с одной стороны. А с другой стороны, по мере развития истории все больше, согласно X. Арендт, выяснялось: у Ясперса есть еще замечательный дар политического мышления и политической ангажированности, причем нисколько не меньший, чем дар философствования. Не будь он болен и не родись он в стране, в которой «разрушались», «руинировались» все политические таланты, Ясперса можно было бы, полагает X. Арендт, представить себе крупным политическим деятелем. Как бы то ни было, после 1945 года он все равно «стал совестью Германии», хотя жил в маленькой и более спокойной Швейцарии, представлявшей особый вид полиса XX века. Одновременно X. Арендт сочла важным подчеркнуть: «...это не был отказ от Германии. Он знал, что национальная и государственная принадлежности не
обязательно должны совпадать — ибо он был и, естественно, остался немцем; но он знал также, что государственная принадлежность — не пустая формальность» (S. 720).
Речь X. Арендт заканчивалась размышлением о том, что смерть такого человека, как Ясперс, означает для тех, кто «сейчас» остается жить или будет жить «потбм», — человека, от которого остаются и за которого говорят его сочинения, а также факты, свидетельства его жизнедеятельности. Конечно, это мы нуждаемся в произведениях, книгах великих и выдающихся умов, талантов философии и культуры (с определенного периода — еще и в фотографических, кинематографических документах и запечатлениях). Но мы же знаем, что книги — хотя мы, сегодняшние, их читаем и толкуем, по сути не нуждаются в нас. Еще сложнее с тем, что мир «сказанного слова и одноразового жеста », преходящий, сиюминутный, неуловимый, умирающий вместе с мертвыми, все же имеет — поскольку эти книги имели за собой «прожитую жизнь» — существенные особенности своего дальнейшего бытования. И потому тем, кто остается жить после смерти таких людей, как Ясперс, надо осваивать совсем особую культуру «обращения с умершим» (Umgang mit dem Toten). Особенно важны действия и мысли тех людей, которые такого ушедшего человека помнят, а потому должны начать новый разговор о нем. «Обращение с мертвыми — этому надо научиться, и с этого [пункта] мы теперь начинаем в совместности нашей скорби (нашего траура) » (Ibidem) — так X. Арендт окончила свою речь, которой суждено было стать ее последним публичным словом о Ясперсе, дорогом учителе, многолетнем друге, не только выдающемся мыслителе, но и о благороднейшем человеке, который ни единым неблаговидным поступком не запятнал свою долгую яркую жизнь.
Конец 60-х и 70-е годы: конун ухода...
Оказалось, что тема, затронутая в конце речи Ханны, теперь имела отношение не только к старшим близким, друзьям, но, увы, и к ней самой.
Вспомним: в «Бытии и времени» Хайдеггер напоминал, что к каждому человеку смерть может нагрянуть каждую минуту. Однако (достаточно молодой тогда) автор книги забыл добавить, что в преклонные годы жизнь вполне актуально, реально, естественно становится «бытием к смерти»... И все же судьба отвела и ему, и Ханне еще по пять (шесть) лет жизни, наполненных трудом, творчеством, общением, обменом письмами.
Скажем о личных моментах переписки Арендт-Хайдеггера в конце 60-х и 70-х годах XX века.
Похоронив Ясперса, почтив его память вдохновенной речью, Ханна, вероятно, подумала о преклонных годах Хайдеггера. И написала ему: «Я очень хотела бы с тобой повидаться. Есть ли такая возможность?» (Б. 169). Встречи время от времени происходят.
В переписке весны 1969 года есть послания Эльфриды, адресованные Ханне, и ее ответные письма. Разумеется, все, что исходит от Эльфриды (кроме неизменных передаваемых от нее — в самом ли деле передаваемых? — приветов в конце письма Мартина), имеет характер
Часть VI. (лова 2. Поздняя осень жизни...
366
в
0
1 £
со
сугубо деловых просьб. Чета Хайдеггеров намеревается оставить свой большой двухэтажный особняк и на той же земле построить для себя одноэтажный дом с выходом в сад. По расчетам, это должно стоить от 80 до 100 тысяч немецких марок, «которых, — пишет Эльфрида, — у нас, естественно, нет; есть только ценные объекты». За помощью она обращается, что также «естественно », к Ханне. «Мы ничего не понимаем в деньгах», — не без барского высокомерия пишет Эльфрида. Сообщает: имеется сделанный Хайдеггером рукописный экземпляр «Бытия и времени». Не может ли Ханна посоветовать, как за эту рукопись получить деньги (а лучше тому поспособствовать)? Добавлено в приписке, что есть аналогичная рукопись лекции Хайдеггера о Ницше (S. 170,171).
Через пять дней Ханной уже написан подробный ответ на письмо Эль- фриды. Ханна не сомневается: «объекты», т. е. собственноручные манускрипты Хайдеггера сами по себе очень ценны, более того, со временем они будут стоить существенно больше. И она предлагает передать рукописи какому-нибудь солидному «общественному институту», чтобы тот выставил их на аукцион. (Сразу же Ханна практично сообщает один пригодный адрес, кстати, в Марбурге.) Предлагает и «другие возможности», в том числе с собственным участием (например, обращение в Библиотеку Конгресса США) (S. 170-172). В конце концов из разных изученных — больше всего Ханной — возможностей выделился немецкий вариант с городом Марбахом, где потом учредился архив Хайдеггера.
Эльфрида (28.04.1969 года) благодарит Ханну за быстрый ответ. Вариант с Библиотекой Конгресса принимает и просит осведомиться, сколько там могли бы заплатить за собрание рукописей Хайдеггера. Поскольку Ханна писала о предполагаемой поездке в Европу — своей и мужа, Эльфрида предлагает, если все состоится, приехать к ним (S. 173).
Ханна всегда была весьма активной, даже неутомимой, когда речь шла о помощи друзьям, особенно Хайдеггеру. Она быстро (17.05.1969 года) отослала Эльфриде еще одно, теперь подробное письмо на тему рукописей, обсудив различные практические стороны предполагаемого предприятия. Она даже решилась (предположительно и неохотно) дать какие-то финансовые оценки, так настойчиво запрашиваемые Эльфридой. (Мы во все эти подробности здесь входить не будем.)
В кратком письме от 04.06.1969 года, подписанном Мартином и Эльфридой, они оба догадались поблагодарить Ханну за то, что она — при всей ее занятости и востребованности — достаточно быстро вошла во все детали дела, собрала нужную информацию и подробно написала о возможных действиях.
• восьмидесятилетие Хайдеггера
Важнейшим событием 1969 года стал восьмидесятилетний юбилей М. Хайдеггера. Ханна Арендт горячо и лично восприняла и этот рубеж в жизни учителя и друга, который она использовала как повод напомнить миру об историческом значении Хайдеггера, великого философа, а попутно снова расставить нужные, как ей казалось, акценты при этом неизбежном предварительном подведении итогов его жизненного и творческого пути (см. фото № 27).
Есть удивительный документ — сделанный Ханной Арендт набросок того, что немцы называют «Rundbrief», т. е. широко разосланного письма, посвященного юбилею Хайдеггера. В день юбилея этот текст был прочитан по баварскому радио, затем опубликован, с примечаниями, в журнале «Merkur» (Heft 10.1969), а после — также и в книге «Menschen in finsteren Zeit» («Люди в смутное время»).
Ханна послала свой текст Хайдеггеру с трогательным посвящением:
«Тебе
к 26 сентября 1969 года
через 45 лет
как и с давних пор Ханна» (S. 179).
Текст X. Арендт — принципиально важный для темы нашей книги документ. Цитаты из него уже приводились ранее. Он заслуживает быть переведенным от начала до конца (возможно, его где-то уже перевели и опубликовали в России; нынче уследить за этим невозможно). Приведу далее некоторые отрывки, с моей точки зрения наиболее существенные.
• О ранней славе Хайдеггера сказано: эта слава была «старше опубликования „Бытия и времени” в 1927 году» (S. 179). Ханна проводила верную и интересную мысль о том, что не столько книга сама по себе была причиной ее «необычного успеха»; «педагогический успех» (Lehrerfolg) Хайдеггера (свидетелем которого была и она) со своей стороны подогрел, усилил интерес к книге. Любопытны сравнения со славой Кафки, Брака и Пикассо, как и размышления Ханны о характере такой славы, когда влияние оказывает не столько написанное, сколько сказанное слово человека — размышления об ауре вокруг «имен», которые, что называется, «на слуху», о силе на первый взгляд слабых, малочисленных кругов, сообществ в человеческой культуре (включая студенческие сообщества, о коих в пору их существования знают только сами студенты), об особой дружбе внутри них и многом другом. Эти размышления X. Арендт интересны и значимы прежде всего в связи с историей и спецификой не только раннего, но и всего философствования Хайдеггера. Ведь его результаты, в самом деле, вылились в сравнительно немногочисленные им самим написанные и опубликованные сочинения. Если бы современники и потомки получили в свое распоряжение только их, то набралось бы от силы два- три (объемистых) тома. Между тем Полное собрание сочинений Хайдеггера (Gesamtausgabe...) — многотомное, и оно по преимуществу включает некогда сказанное этим выдающимся философом, т. е. (вторичные и обработанные) записи его лекций. Кстати, в истории философии разных стран такие (вторичные, но достоверные) источники давно заняли достаточно солидное место. В XX веке присоединилась еще и проблема электронных и кинематографических записей1.
Вернемся к тексту X. Арендт.
Описание университетской атмосферы начала 20-х годов и — на ее фоне — специфики «явления» Хайдеггера близко к тому, о чем подроб-
367
1 Подобные проблемы встают в случаях, когда по ряду причин от видных философов тех или иных стран остается творческое наследие, в основном не в виде опубликованных сочинений, а в форме записей ими сказанного (в нашей стране это, например, относится к феномену Мераба Мамардашвили, не случайно названному «грузинским Сократом»).
Часть VI. Глава 2. Позднее осень жизни...
H-ß. Мотрошилово Шй Мартин Хайдеггер и Ханна Орендт: бытие-время-любовь
368
но говорилось в первом разделе нашей книги, в том числе с цитатой из анализируемого сейчас текста. X. Арендт дает удачное описание ситуации того времени: «Университет, как правило, предлагал [студентам философии] или философские школы — неокантианцев, неогегельянцев, неоплатоников и т. п., — или старые школьные дисциплины философии, чистенько разделенные на теорию познания, эстетику, этику, логику и т. п. ...В борьбе с этим прежде уютным и по-своему также весьма солидным предприятием еще до Хайдеггера появлялись малочисленные восставшие (Rebellen)» (S. 181). (В этой связи речь заходит о Гуссерле с его лозунгом «Назад к самим вещам!» или о Карле Ясперсе, о его дружбе с Хайдеггером, в замыслах которого Ясперс почувствовал нечто «повстанческое», Rebellisches...)
Ханну Арендт, таким образом, прежде всего интересует таинство первоначального влияния «подземной хайдеггеровской философии» — еще до ее непосредственного вхождения в философский мир. Ханна приходит к выводу, что в ту раннюю пору (не забудем — пору ее юности) воздействовала не сколько-нибудь сложившаяся «философия Хайдеггера» (в том, была ли она вообще в ту пору, у нее нет уверенности), а «хайдеггеровское мышление, которое в столь решающей степени определило духовное лицо столетия». Хайдеггер, согласно X. Арендт, «мыслил не „о” чем-то (über etwas) — он мыслил что-то (etwas). В этой полностью несозерцательной деятельности он спускался в глубины, но не для того, чтобы в таком измерении — о котором можно сказать, что именно так и с подобной же точностью оно раньше вообще не было открыто — обнаружить последние и надежные основания, способствовать их выведению на свет дня. Речь идет о том, чтобы, пребывая в глубине, проложить пути и на них расставить вехи» («Wegmarken», напомним, — название сборника работ Хайдеггера. — Н. М.) (S. 182-183). И дальше Ханна искусно вплетает в повествование об оригинальном «деле мысли» Хайдеггера столь же красноречиво-метафорические, хотя, к сожалению, труднопереводимые названия его работ, а также краткие, выразительные цитаты из них.
Последующие арендтовские описания и оценки «глубинных измерений» мысли Хайдеггера, ее новаторства, «большой сети мыслительных нитей», коренных преобразований в грандиозном хозяйстве традиционной метафизики, осуществленных этим мыслителем, приходится оставить в стороне.
Однако было и нацистское прошлое выдающегося философа Хайдеггера. Умолчать о нем в публичном поздравительном выступлении, и именно в Германии, было невозможно, недопустимо. Поэтому Ханне пришлось высказаться и на этот счет.
Она сделала заход, так сказать, издалека, в том числе и в историческом ракурсе. Повела разговор о том, как философы — самим своим профессиональным делом и полем работы, миром абстракций, обособленные от мира — подчас все же вынуждены «выходить в обычный мир». Упоминается рассказанный Аристотелем миф о Фалесе, который заслужил насмешки простой фракийской девушки, когда оторвал взор от звезд и свалился в какую-то яму; рассказывается также о Платоне и трех его провалившихся попытках наставлять в политике сиракузских
тиранов. Нацистское грехопадение Хайдеггера в изображении Ханны как бы вписано в эту традицию. Приведу длинную цитату из ее текста. «Ведь все мы знаем, что и Хайдеггер однажды поддался искушению изменить свое местопребывание (Wohnsitz) и „включиться”, как говорили тогда, в мир человеческих дел. А что касается мира, то в нем Хайдеггеру было хуже, чем некогда Платону, потому что тиран и его жертвы находились не где-то за морем, а в собственной стране. Что касается самого Хайдеггера, дело обстоит, по-моему, все-таки иначе. Он был пока еще молод, чтобы извлечь уроки из шока от многих ударов, обрушившихся в его 35-летнем возрасте — после десяти коротких, сумбурных месяцев — на его местопребывание, чтобы пережитое укоренить и расположить, исходя из своего мышления. То единственное, что для него отсюда вытекало, было: открытие воли как воли к воле и вместе как воли к власти. О воле в Новое время и прежде всего в эпоху нововременного модерна было написано многое, но о ее сущности — в противовес Канту, в противовес Ницше — не слишком много думали.
Во всяком случае никто еще до Хайдеггера не увидел, как сильно эта сущность [воли] противостоит мышлению и сколь разрушительно на него действует. Мышлению принадлежит „Gelassenheit” (спокойствие, невозмутимость), и исходя из воли мыслящий человек должен, по видимости парадоксально, сказать: „Я волю не-воление” (das Nicht-Wollen), ибо лишь через посредство этого „сквозь” (nur „durch dieses hindurch”), лишь если мы в состоянии „отлучаться от воли”, мы можем „приобщаться к искомой сущности мышления, которое не есть воля”»1. И далее Ханна писала: «Но мы, кто хочет уважать мыслителей, даже если наше местопребывание — посреди мира, мы очевидно испытываем неприятные чувства и, возможно, гневаемся уже тогда, когда обнаруживаем, что Платон, как и Хайдеггер, включаясь в человеческие дела, находили себе прибежище у тиранов и фюреров. И это позволительно возводить не столько к соответствующим обстоятельствам времени, еще меньше к ранее сформировавшемуся характеру, сколько к тому, что французы называют „профессиональной деформацией”. Ибо склонность к тираническому началу можно теоретически обнаружить у великих мыслителей (Кант — великое же исключение)...» (S. 191, курсив мой. — Н. М.). По поводу этой «эскапады» (как выразилась в примечаниях Урсула Аудц) различные авторы-хайдеггероведы могли бы предложить свои суждения, подчас прямо противоположные. О позициях «обвинителей» и «адвокатов» я подробно рассказала в своей Биографии Хайдеггера, опубликованной к его 100-летнему юбилею, высказав и свою «серединную» точку зрения. Прошедшие годы не побудили меня ее изменить, так что отсылаю читателей к приведенным там аргументам, касающимся истоков и содержания хайдеггеровского временного пакта с нацистами, а в арендтовской терминологии — также и с «тираном» Адольфом Гитлером (см. Приложение к моей книге).
Не вдаваясь именно здесь в подробности объяснения Ханной истоков и механизмов «падения » ее бывшего учителя, в целом могу сказать, что считаю аргументы, повернутые к издержкам профессии мыслителей
369
1 Здесь в малых кавычках — слова Хайдеггера из его произведения «ОеЬввеп-
heit».
Часть VI. Глава 2. Поздняя осень жизни..
H.ß. Мотрошилово Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
370
и к «прегрешениям» великих — от Платона до Хайдеггера, хотя и небезосновательными, но и далеко недостаточными. Видно, что Ханна, которая никак не могла обойти столь больную проблему, все же поворачивала ее так, что Хайдеггер если не был оправдан в этом своем «падении», то и здесь скорее оказался встроенным в когорту великих мыслителей, подчас в самом деле обнаруживавших характерную для философов близорукость в социально-политических вопросах...
В целом же Ханна воспользовалась юбилеем Хайдеггера, чтобы — под занавес жизни — лично воздать ему должное как педагогу и мыслителю, действительно оказавшему на своих современников, включая ее саму, огромное влияние. И при этом ее размежевания с его впечатляющим образом мысли, с мыслительными результатами, о которых подробно шла речь раньше, в этом юбилейном тексте также остались в глубокой тени.
В письме от 27.11.1969 года Хайдеггер поблагодарил Ханну за все ее юбилейные выступления, в том числе за упомянутый текст, произнесенный по радио и напечатанный в журнале «Merkur». Общая оценка юбилейного текста Ханны неплохая, правда краткая. Главное в сказанном: «Ты больше всех других, — пишет Хайдеггер, — затронула внутренние движения моего мышления и моей педагогической деятельности. Со времени лекций о „Софисте” они остались неизменными» (S. 193). (Об «эскападе» Хайдеггер умолчал, но вряд ли забыл о ней.) Самой лучшей благодарностью Ханне Мартин правильно счел отсылку ей текстов своих приуроченных к юбилею выступлений и новых публикаций прежних работ — «Die Sache des Denkens» («Дело мышления»), «Die Kunst und der Raum» («Искусство и пространство»). Мартин хорошо знает, что Ханна, как и всегда, будет читать и перечитывать, обдумывать его тексты. И верно: в письме от 12.03.1970 года Ханна сообщает Мартину, сколь погружена она в изучение сборника «Die Sache des Denkens», особенно текста «Ende der Philosophie и die Aufgabe des Denkens» («Конец философии и задача мышления»). Все выражено в ее письме в кратких, но безусловно позитивных, если не восторженных словах об этих работах.
Ханна сообщает также о своих лекциях и семинарах в Чикаго, об «удивительно хорошем, толковом сообществе» слушателей — но, конечно, без всякой надежды, что эта работа и ее темы хоть как-то заинтересуют Хайдеггера.
Интересна переписка наших героев 1971-го, а потом и 1972 годов.
Пишут они друг другу о разном. И о повседневных житейских делах, например: заботами Эльфриды выстраивается дом в саду (к собиранию денег на который, вспомним, ею была привлечена не слишком любимая X. Арендт). Потом Ханна отправит телеграмму с наилучшими пожеланиями — «в новом доме и в новом году» (S. 220).
Более всего запечатлены, как раньше, как и позже, усилия Ханны помочь Мартину в деловых вопросах (например, в письме от 13.07.1971 года — о переговорах с издательством Piper по поводу гонораров). Позже (например, 25.07.1971 года) Хайдеггер вовлекает Ханну в улаживание этой своей проблемы, как и целого ряда других забот, связанных с новыми публикациями переводов его (старых) сочинений за рубежом. И от Ханны, как всегда, никаких отказов — нет и малейших
признаков раздражения, как будто у нее (выдающегося автора, широко востребованного лектора и немолодой уже женщины) вовсе нет своих забот... И все же Мартин тоже подает Ханне глубоко личные знаки внимания и памяти. Так, к письму от 04.08.1971 года приложено стихотворение Хайдеггера «Сезанн». Ханна быстро отвечает (19.08.1971), пишет о своей радости и спрашивает, включено ли это стихотворение в его стихотворный цикл «Gedachtes» («Помысленное»)1. И добавляет: «Оно принадлежит к самым красивым [стихам]» (S. 219). В начале 1972 года Хайдеггер снова прилагает к письму свое стихотворение с красноречивым названием «Dank» («Благодарность»).
Все опять-таки переплетено с постоянным живым и содержательным интересом бывшей ученицы, а теперь выдающегося мыслителя Ханны Арендт, к идеям и слову Хайдеггера. Она пишет (30.07.1971) Мартину: «Гвой дела сопровождают меня, они стали своего рода постоянным окружением, средой. Я снова как раз прочитала весь том о Гёльдерлине, и с особым вниманием то, что ты говоришь там о мышлении и deinon [6eivöv] — стр. 60,102,113,129. Сейчас снова читаю „Zur Sache des Denkens”, потому что перед набором должна опять просмотреть перевод Йонаса» (Briefe. S. 211, курсив мой. — Н. М.). Внимание, мягкое согласие, почтение — главные черты и эмоции ее писем. О любви почти не говорится. Да оно и понятно: Эльфрида всегда читает переписку.
Подчас Ханна тоже мягко, но настойчиво возражает Хайдеггеру, если и когда речь идет о принципиальных для нее моментах. Пример — небольшая полемика вокруг задуманного ею и другими лицами посвященного Ясперсу коллективного тома под (условным) названием «Reflexionsband». Кстати, название Хайдеггер не одобрил, а Ханна написала — «не понимаю, почему...» (S. 215). Первое содержательное возражение Хайдеггера, как явствует из переписки, касается (возможного ли?) участия в томе Ю. Хабермаса с его, как выразился Хайдеггер в письме от 15.07.1971 года, ранней и «незрелой полемикой» в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» от 25.07.1953 года, затем перепечатанной в Хабермасовой книге «Philosophisch-politische Profile» (Fr. а/М., 1971)2. Такое включение, пишет Хайдеггер, «заставляет меня повременить с моим согласием...» (S. 213). В только что цитированном ответном письме Ханна пишет — на тему участия Хабермаса как автора: «Я не знаю о его полемике, направленной против тебя, но он по крайней мере репрезентирует среду... Если ты того мнения, что хочешь опубликовать [авторов] равных тебе... то ты ведь знаешь, что равных тебе нет» (S. 215).
Более решительно и содержательно ведет она разговор об отложенном «согласии» (Einwilligung) Хайдеггера на публикацию в томе его
371
1 В опубликованном при жизни Хайдеггера стихотворном цикле «Gedachtes» (позже перепечатанном в GA. Bd. 13) стихотворение «Сезанн» содержится, но в несколько ином варианте, чем посланное Ханне (см.: H. Arendt / М. Heidegger. Briefe. S. 345).
2 К слову, этот ранний хабермасовский «расчет с Хайдеггером», выразивший мысли и оценки, которые были принципиальными для молодого тогда поколения антинацистски настроенных немцев, отнюдь не был «незрелой полемикой». В зрелом творчестве Ю. Хабермаса, выдающегося философа Германии послевоенного периода, эти мысли и оценки сохранились. Поэтому Ханна снова была права: для немецкой «среды» реакция Хабермаса была вполне репрезентативной.
Часть VI. Глава 2. Поздняя осень жизни.
H.ß. Мотрошилово Шй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытне-время-любовь
372
собственного материала. Из контекста письма можно сделать вывод, что предложение (возможно, сделанное именно Ханной) касалось опубликования ранних вариантов рецензии Хайдеггера на «Психологию мировоззрений» Ясперса. Наверное, Мартин (по каким-то причинам) не был склонен этого делать. Ханна привела свои аргументы, которые говорят о многом, а в частности об истории, ей больше других известной, — о значении этих аспектов переклички идей Хайдеггера и Ясперса (о них кратко шла речь в I разделе нашей книги). Ханна написала Хайдеггеру: «Против этого с содержательной стороны я могла бы только сказать: вовсе не было случайным то обстоятельство, что именно [его] „Психология мировоззрений” побудила тебя откровенно (хотя и не выступая публично) высказаться о вещах, другой повод говорить о которых перед тогдашней академической общественностью (Öffentlichkeit) едва ли отыскался бы. Во всяком случае, манускрипт существовал, что заложило основу многолетней дружбы с Ясперсом. И отвлекаясь от всего чисто личного, а также от дальнейшего протекания этой дружбы, нельзя не признать: все это принадлежит к истории философии в Германии нашего столетия. В это.м смысле, как хотела бы считать я, твоя работа тоже принадлежна этому тому, пунктом отсчета которого необходимым образом является Ясперс.
Надеюсь, за это ты на меня не разозлишься. Я намеренно затянула на пару дней с письмом, потому что не хотела создать впечатление, что пытаюсь оказать на тебя давление. От этого я далека. Ты [сам] должен принять такое решение, которое считаешь правильным» (S. 216).
Весной 1970 года Хайдеггер приболел — это был, как считают, микроинсульт, от которого он быстро оправился. Обеспокоенная Ханна обменивается письмами с братом Фрицем Хайдеггером и с Эльфридой, информирующих ее о состоянии здоровья Мартина. Потом, уже в июле, последовали встречи двух семей. Мартин, беседовавший с мужем Ханны о Ницше, одобрительно высказался об остроте и оригинальности ума Генриха Блюхера. А уже в ноябре 1970 года Ханну постигает огромное горе: ее муж Генрих Блюхер, верный, любящий, чуткий, умный человек, неожиданно умирает от инфаркта. «Трогательно, — пишет А. Грунен- берг, — как Мартин пытается ее утешить. Он старается переключить ее на [дело] мышления, а мышление — на нее».
Хайдеггер в приложении к письму-соболезнованию (от 09.11.1970) — посылает свое стихотворение — с заголовком «Время »(Zeit). От Ханны в ответном письме выражена благодарность за «участие, за Zeit-Gedicht». Она вспоминает написанные «многие, многие годы назад строчки о смерти как „горе бытия в игре мира...”» (Briefwechsel. S. 205). Еще: «...я не могу писать, может, смогу говорить, но писать не могу...». А потом — горестное признание: «Этот крошечный микро-мир, в котором всегда можно спастись от мира и который распадается, когда уходит один. Я иду и я совершенно спокойна, я думаю: это уход (weg)» (S. 206). Хайдеггер в своем ответе от 26.03.1971 года пытается отвлечь внимание Ханны от ее горя, обсуждая разные теоретические и практические сюжеты, но начинает он письмо с того, что «перетолковывает», как верно отмечает А. Груненберг, последнюю фазу Ханны: «Когда я в твоем последнем письме читал последнюю фразу... то понял последнее слово (у X. Арендт
„weg”, прочь — с маленькой буквы. — Н. М.) как Weg (путь)» (Ibidem. S. 208). Что было сделано не просто умно с лингвистической точки зрения (красивая, тонкая игра слов: weg-Weg). Его утешение оказалось и провидческим, ибо Ханне Арендт, не сломавшейся и после столь горькой утраты, предстояли еще пять последних и плодотворных лет творческой жизнедеятельности.
• Последние годы и дни
Ханна в эти годы постоянно беспокоилась о Мартине, ибо он, как мы помним, был на 17 лет старше ее. Думаю, она опасалась его близкой кончины и хотела — пока сама жива — сделать как можно больше, в частности для осуществления добротных англоязычных переводов хай- деггеровских сочинений.
Ей хотелось, конечно, снова поехать в Европу, чтобы повидать Мартина. Тем более что в последние годы жизни она активно выполняла пожелание Хайдеггера — держаться «ближе к философии». Ханна задумала и начала осуществлять глубинное исследование трех главных человеческих «недеятельных деятельностей», как она их называет: это мышление-воление-суждение как процессы. Она предполагала написать обо всем этом во втором томе «Vita activa» (письмо от 20.03.1971 года — Ibidem. S. 208). Планы Ханны Хайдеггер в целом поддержал (письмо от 26.03.1971 года), хотя оправданно заметил: сделать такое «столь же важно, сколь и трудно» (Ibidem. S. 209). Уместно вспоминает он о своей работе «Письмо о гуманизме» и о разговорах на сходные темы в «Gelassenheit», самокритично прибавляя: «Но все это осталось неудовлетворительным» (Ibidem). Поскольку Ханна спрашивала его согласия — в случае успеха — на то, чтобы предполагаемая вторая книга V.a. была посвящена ему, Мартин отвечает: «Ты знаешь, что твоему посвящению я буду рад» (Ibidem).
Ханна предполагала, что в 1971 году выберется в Европу. Но попасть во Фрайбург и повидать Хайдеггера ей удалось только летом 1975 года. Об этом последнем посещении она подробно написала своему другу Глену Грею (G. Gray): «Я видела Хайдеггера, и не было никаких неприятных инцидентов до нашей встречи и никаких несчастных с ним случаев. И однако же дело обстояло довольно печально... Хайдеггер был очень усталым, но это, правда, не адекватное слово; он был отдален, недоступен как никогда раньше, был как бы потухшим (erlöschen — по-немецки сказано и в письме, написанном по-английски. — H. М.). Верно, как Вы уже установили, что Эльфрида была по отношению к нему мила, как никогда прежде; мы обе, Эльфрида и я, какое-то время беседовали; она, казалось, была действительно обеспокоена и не проявляла враждебности. Она оставила нас, Мартина и меня, наедине, без постоянного со всех сторон подглядывания... Он сказал о двух вещах, в некоторой мере важных: он все еще работает над своими „65 страницами” — думаю, что я Вам об этом сообщала. Эти страницы должны содержать квинтэссенцию его философии, но я весьма сомневаюсь, что он сделает что-то большее, чем повторит сказанное им раньше и, возможно, сказанное много лучше. И второе его высказывание: через 10 лет русские придут сюда. Русский посол уже был в Марбахе...» (Тем самым сообщается об интересе
Часть VI. (лава 2. Поздняя осень жизни...
374
о
о.
er
о
X
X
$
5
а
£
0 ел >х
6 х
1 к
о
л
о
Э
о
о.
5
S
00
X
советских властей к наследию и архиву Хайдеггера — если это соответствовало действительности, то факт интересен.) «Я пыталась, — продолжала Ханна, — оспорить этот тезис [о приходе русских], но он снова впал в свою странную апатию, просто не реагировал. В физическом отношении, как я нашла, он не слишком изменился, и дело выглядит так, полагает врач, что он совершенно здоров. Но изменения по сравнению с предыдущим годом огромны во всем — включая его движения. Он также очень плохо слышит; никогда нет уверенности, понял ли он [сказанное ему] или все пропустил. Я до сих пор в состоянии депрессии»1.
Ханна уехала с ощущением, что конец жизни Хайдеггера близок. В целом она оказалась права, но с существенным уточнением: первой умерла она, и умерла внезапно в Нью-Йорке, 04.12.1975 года.
Удивительно: посетив Хайдеггера и найдя его личность «во всем изменившейся», Ханна без каких-то очевидных недомоганий ушла из жизни через пару месяцев после своего последнего посещения Хайдеггера во Фрайбурге... Как говорилось, Мартин пережил Ханну всего на каких-то полгода и, очевидно, был тогда в состоянии полупомрачения. «Он уснул навечно 26 мая 1976 года» (А. СгипепЬе^. Ор. ск. Б. 407). Эль- фрида пережила их обоих на пятнадцать-шестнадцать лет и скончалась 21.05.1992 года в очень глубокой старости.
Можно сделать вывод: всю жизнь Мартина Хайдеггера и Ханны Арендт после их судьбоносной встречи в Марбурге — жизнь поистине драматическую — звучала, то затухая, то возобновляясь, симфония их трудной и все же неувядающей, яркой взаимной Любви. А финалом стали тонкие аккорды поздней жизненной осени каждого из них, отзвучавшие почти синхронно. Для тех, кто способен услышать музыку их Любви, переплетенной с многоголосным диалогом творчества и глубокой мысли, она звучит сейчас, прозвучит и в будущем.
1 Arendt an Glenn Gray. Brief ven 16.08.1975 // Archiv des HAZ. Cont. Nr 10.5. IJht. no: A. Grunenberg. Op. cit. S. 448.
Часть VII
Поздние этапы творчество М. Хайдеггера и X. Арендт в свете проблемы бытия
ГЛЯВП 1
Мартин Хайдеггер: пути перетолкования Канта и проблема бытия
М. Хайдеггер «Кант и проблема метафизики»:
примыкая к «Бытию и времени»
В написанном в Тодтнауберге в 1929 году Предисловии к первому изданию брошюры «Кант и проблема метафизики», которую М. Хайдеггер, кстати, посвятил памяти Макса Шелера, сообщается, что «основное содержание» интерпретации Канта, предлагаемое в брошюре, выросло из хайдеггеровских лекций 1927/28 года, а также докладов осени 1928 года в Риге и в Давосе в 1929 году. Хайдеггер говорит и о том, что данное истолкование тесно примыкает к книге «Бытие и время», к ее историко-философской части, в которой при опубликовании «было опущено» (вероятно, по соображениям объема и во имя целостности собственного проблемного изложения) истолкование «Критики чистого разума » Канта. И он просит воспринимать брошюру как дополнение к своему важнейшему сочинению.
Работа, в самом деле, может и должна служить таким дополнением. Во всяком случае, многое в хайдеггеровском способе истолкования — и перетолкования, «деконструкции» — классического философского наследия становится яснее, если и когда мы вникаем в то, какие проблемы Хайдеггер выдвигает на первый план в процессе нового прочтения фило- софии Канта вообще, «Критики чистого разума» в частности и исследования темы бытия в особенности.
А вот когда Хайдеггер в 1950 году писал Предисловие ко второму изданию брошюры, то он признал: «Беспрестанно указывают на насильс- твенность моего толкования. Упреки в насильственности могут быть неплохо подтверждены на материале этой книги»1. Итак, Хайдеггер честно согласился, что упреки могли найти подтверждение в его текстах. Что
1 М. Хайдеггер. Кант и проблема метафизики. М., 1997. С. И. (В дальнейшем ссылки на это издание даются с указанием страниц в тексте моей книги.)
376
(Г
о
X
х
Я
X
а
£
о
о»
>х
0 и
х
1
О
£
о
а
о
Э
а
о
£
GQ
X
касается авторов, по свежим следам публикации высказавших подобные серьезные замечания, то среди них был, например, тонкий кантовед, неокантианец Э. Кассирер — их он объективировал во время и по следам своего знаменитого диалога с Хайдеггером в Давосе. Хайдеггер отвечал Кассиреру, во многом не соглашаясь с доводами оппонента, но отметив: его возражения — а они тоже резюмировались в обвинениях в том, что интерпретация Хайдеггера «насильственна и чрезмерна» (gewaltsam und übersteigend), — опасны «именно тем, что они частично правильны»1. Хайдеггер, правда, сразу же подчеркивает, что писал не обычную историко-философскую, тем более не историко-филологическую работу, а осуществлял «мыслящий диалог» с философией Канта. Но и в этом случае не отрицает наличия «ошибок и упущений », имевшихся в его раннем «диалоге» с Кантом; однако добавляет, что «ошибки и упущения» нельзя было устранить в более позднем издании простой «починкой» первоначального текста. Пометим это признание — оно нам еще пригодится.
В данной главе не предполагается осуществлять подробный текстологический анализ брошюры о Канте и других посвященных Канту «малых» произведений Хайдеггера. Размышления о них будут очень краткими и жестко прилаженными к специфическим проблемным целям, которые здесь поставлены, — раскрыть движение «кантоведче- ской» мысли Хайдеггера в сторону более поздних, уже послевоенных трактовок стержневой темы бытия. Но в рамках решения этой общей задачи приходится принять в расчет те отправные пункты, которые были заданы в «Бытии и времени» и в примыкавших к этой выдающейся книге «дополнениях».
Сначала — мои общие оценки книжечки «Кант и проблема метафизики»2. Она в высшей степени интересна и плодотворна для чтения и изучения, но скорее в тех случаях, когда читатели хорошо, «из первых рук» знают работы Канта, много над ними думали и когда они уже приобрели самостоятельные о них суждения — в том числе и о проблемах, на которых Хайдеггер особо концентрируется. Что же до этих проблем — метафизики, онтологии, бытия, которые Хайдеггер ставит в центр своего анализа, то они, далеко не исчерпывая проблемное содержание непосредственно разбираемой в брошюре кантовской «Критики чистого разума», несомненно, занимают в ней свое место. Выясняя — на примере отдельных частей текста, — каково именно это место, Хайдеггер, с одной стороны, работает чрезвычайно тщательно: он анализирует важнейшие пласты кантовского текста, подчас замечая тончайшие оттенки, упускаемые другими интерпретаторами. Вот почему с той поры кантоведы так или иначе учитывали ремарки Хайдеггера. С другой стороны, Хайдеггер не упускает, в сущности, ни одной возможности, имеющейся в «Критике» (и в ряде произведений докритического периода), использовать для своих интерпретативных целей и тем самым по-ново¬
1 См. Приложение О. Никифорова к переводу брошюры Хайдеггера: М. Хайдеггер. Цит. произв. С. у-у^
1 Подчеркнутое слово «мои» говорит лишь о том, что оценки эти в целом будут
отличаться и от хайдеггеровских самооценок, и от оценочных подходов ряда хайдег- героведов, на которые я буду в ряде случаев ссылаться с согласием и солидарностью.
му повернуть как будто бы хорошо известные классические формулы гениальной работы Канта. При этом в Предисловии к изданию 1950 года Хайдеггер признал, о чем уже шла речь, сколь много упреков в «насилии» над «аутентичными» идеями Канта ему пришлось прочитать или выслушать. (Я со своей стороны далее выскажу некоторые подобные же упреки.) Ибо не учение Канта о метафизике и бытии — в его действительно немаловажном значении для кантовских конструкций — предстает перед нами, а собственные хайдеггеровские выкладки относительно бытия, онтологии, метафизики, как бы подкрепленные авторитетом великого Канта и живым, ярким диалогом с ним. Для нас особенно существенно, что Хайдеггер (по крайней мере к 1950 году) признал «ошибки и упущения», которые — полагал он — следовало преодолеть в процессе нового поворота (Kehre) и оформления очередного самобытного подхода к тем же проблемам в наследии великого Канта.
Теперь перейдем к более конкретному, по необходимости краткому разбору текста «Кант и проблемы метафизики». Отметим здесь ряд линий анализа, которые важны и сами по себе, и в свете избранного в нашей книге угла зрения.
Хайдеггер, что вполне понятно и оправданно, ибо так поступает и Кант в своей первой «Критике», начинает с разбора «традиционного понятия метафизики», т. е. восходящего к Аристотелю. При этом даются определения метафизики, почерпнутые из «Метафизики» («Metaphisica ») А. Баумгартена, одного из популярных учебных текстов XVIII века (Кант использовал его в своих лекциях), что тоже было более чем ожидаемо применительно к кантовскому времени. И почерпнутое Баумгартеном у его учителя Хр. Вольфа внутреннее деление метафизики — как совокупной дисциплины, включающей тоже «дисциплинарные» отделы онтологии, космологии, психологии и естественной теологии, — образует типичный для XVIII века отправной пункт рассуждений, который в известной мере определяет и ход анализа метафизики в «Критике чистого разума».
Вместе с тем М. Хайдеггер — с его знанием античной философии — не мог не обратить внимание на то, с какими перипетиями историко-философского характера было связано не собственно аристотелевское, а более позднее (скорее библиографо-систематизирующее, чем философское) поименование «Первой философии» Аристотеля «мета-физикой», т. е. — просто — книгой, стоящей на книжных полках «после физики». Хайдеггер признает, что выражение цета та (puoucä поначалу имело «чисто техническое значение» (Там же. С. 4).
Однако проблема состояла в том, что в последующие века многие философы, включая Канта, уже приходили к иному мнению: «чисто техническое обозначение» оказалось не просто удобным, удачным, но и содержательно значимым. Хайдеггер по ходу изложения ссылается на историко-философскую литературу своего времени, по поводу которой он выносит позитивную оценку: «Отношение Канта к традиционной метафизике за последнее время было исследовано глубоко и широко» (Там же. С. 3). Ссылки даются на книги и статьи X. Хаймсоэта, М. Вундта, на Р. Кронера, о котором, вспомним, он несправедливо-пренебрежительно отозвался в переписке 20-х годов с К. Ясперсом. Но Хайдеггер думает —
377
Часть VII. (лава 1. Мартин Хайдеггер: пути перетолкования Конто и проблема бытия
Н-6. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: быгие-время-любовь
378
и полагаю, он здесь совершенно прав, — что бездумно-положительное отношение к не-аристотелевскому все же термину «метафизика» породило немало проблем в последующей философии. «...Мета тк фжпк§ — это обозначение принципиального философского затруднения» (Там же. С. 4).
Затруднение же Хайдеггер усматривает в следующей объективной двойственности, заключенной в первой философии Аристотеля и вытекающей из его, а не более поздних формулировок: «первая философия» одновременно оказывалась и познанием «...сущего как сущего (о\ ц 6\)» и познанием «предпочтительного региона сущего (пцкотатоу уеуо<;), из которого определяется сущее в целом (кабоХоу)» (Там же). Об этом раздвоении говорится: оно «не появляется впервые у Аристотеля: проблема бытия является ключевой от самых начал античной философии» (Там же. С. 5). И хотя эта формула Хайдеггера как будто вполне правильна и соответствует содержанию ряда тенденций античной философии, в которой разговор о бытии достаточно определенно начинают (по крайней мере) элеаты, здесь, по моему мнению, Хайдеггер продолжает свою специфическую онтологическую экспансию, спроецированную на всю историю философии. (Об этом уже говорилось ранее, при разборе Марбургских лекций и «Бытия и времени».) В том числе она включала модернизирующую проекцию Хайдеггера на древнюю философию, хотя последняя, по моему мнению, не была онто логической, а в лучшем случае пред-онтологической. Ибо то были обрывочные, потом более систематизированные, но все же не образовывавшие самостоятельную философскую дисциплину (-логию) размышления о бытии. Продолженные, существенно дополненные, перетолкованные размышления о бытии привели к формированию такой самостоятельной, рядом с другими дисциплинами стоящей части разветвленной метафизики много веков позже, только в Новое время, что, как известно, получило отчетливое закрепление в философско-метафизической систематике Хр. Вольфа. К последней же, заметим, у Канта были серьезные критические замечания, как раз и касавшиеся замысла онтологии. Но об этом — несколько позже.
Нам представится возможность проследить отличия, так сказать, онтологизирующей эскалации, которую Хайдеггер, уже осуществивший ее, как показано ранее, в «Бытии и времени», теперь дополняет квази- кантоведческой герменевтикой.
Вместе с тем Хайдеггер совершенно прав, когда подчеркивает: даже тогда, когда «метафизика» (читай: первая философия) у Платона и Аристотеля (понятное дело, и не догадывавшихся о таком обозначении) предстала как «принципиальное познание сущего как такового и в целом », то эти два античных мыслителя поставили центральные проблемы (бытия, сущего) в их «проблемности и открытости» (Там же), т. е. незавершенности. Это как будто бы должны были учитывать последователи Платона и Аристотеля в последующие века. Но не случилось — как и почему, недовольный всем этим развитием Хайдеггер здесь подробно не объясняет, бегло упомянув о двух типах рассуждения: (средневековом) христианском истолковании мира из веры и о развитии «школьного понятия метафизики» в Новое время. Затем он снова возвращается к Канту.
Отвлекусь от предоставления доказательств факта, который для грамотных философов, не говоря уже о кантоведах, вполне очевиден: изначальную значимость для всех его последующих рассуждений относительно исторических и современных ему судеб метафизики Кант ясно демонстрирует в знаменитом Предисловии к первому изданию «Критики чистого разума». Нет нужды воспроизводить здесь рассуждения Канта о плачевном — в его время — положении традиционной метафизики, превратившейся в «аренду бесконечных споров» догматиков и скептиков, как и более конкретные выкладки жестко критического кантовского анализа. Важнее для нас в данном контексте то, как толкует эти кантовские рассуждения Хайдеггер.
А его толкование, пусть оно и включает некоторые подлинные цитаты из Канта, очевидно подчинено хайдеггеровскому тематическому, проблемному плану-проекту, но отнюдь не смыслу (тем более не «букве») кантовского текста. Иными словами, здесь и начинается «насилие» Хайдеггера над кантовским текстом, о котором читатели, знатоки Канта говорили то снисходительно, то в жестком обличительном тоне.
О чем Кант в действительности рассуждал в упомянутом Предисловии, где речь шла о судьбах метафизики? Конкретнее: в чем Кант видел необходимый ответ философии на очевидный кризис «школьной метафизики»? Говоря коротко, не вдаваясь в доказательства, которые любой читатель может добыть сам, обратившись к сжатому, но весьма емкому, яркому, значительному Предисловию], можно утверждать: Кант видел выход в основательной, подробной критике «способности разума в отношении всех познаний», независимых от опыта, т. е. в критическом анализе чистого разума (кратко поясняя, в чем конкретно он усматривает возможность решения этой задачи). Заметим: он ни разу — в системе таких лапидарно проясняемых теоретических задач — не упоминает о понятии онтологии как цели, задаче (в перспективе) выстраиваемого дисциплинарного единства философских знаний.
Для этого у Канта были очень веские основания, которые он (частично) расшифрует в других разделах «Критики чистого разума» — и о чем мы специально поведем речь позже.
А как все это — воздержание Канта от обоснования «онтологического проекта» уже в системе целей, ставимых перед философией, — толкует Хайдеггер? Он совершенно явно не только не принимает в расчет кантовское, так сказать, «онтологическое еросЬё », т. е. заключение онтологии в скобки, впоследствии обосновываемое Кантом более подробно, но и неадекватно перетолковывает, использует в своих целях те теоретические предпосылки, которые привели великого мыслителя к критике онтологии.
Основные конкретные, «малые» вехи на пути к такому перетолкованию были обозначены Хайдеггером вполне явно и четко. «Таким образом, приступая к обоснованию метафизики, Кант непосредственно вступает в диалог с Аристотелем и Платоном. Онтология только теперь становится проблемой» (Там же. С. 7). С этим можно согласиться, но лишь в принципе, не настаивая на жесткости этого «только» (ибо и в до- 1379
1 См. по этому вопросу превосходное Послесловие Б. Тушлинга к двуязычному немецко-русскому изданию «Критики чистого разума» (т. 2, ч. 2).
Часть VII. (лава 1. Мартин Хайдеггер: пути перетолкования Канга и проблема бытия
Н.В. Мотрошилова ЮН Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: быше-время-любовь
380
кантовской философии после Вольфа могут быть найдены критические размежевания вокруг понятия «онтология»). Однако главные возражения вызывает следующий тезис Хайдеггера, основоположный для всей его концепции на этапе «Бытия и времени»: «Обоснование метафизики в целом означает раскрытие внутренней возможности онтологии. Это истинный, ибо метафизический (связанный с метафизикой как единственной темой), смысл „коперниканского поворота” Канта, который постоянно получает превратные истолкования» (Там же. С. 7). И далее, как бы в подтверждение, следует знаменитая цитата из Канта о том, что предметы должны сообразовываться с нашим познанием.
Итак, теперь ясно обозначается действительная цель кантоведче- ской герменевтики Хайдеггера, соединяющаяся с более общей хайдег- геровской трактовкой всей истории философии от Античности до тех дней XX века, когда рождалось «Бытие и время»: мыслитель задумал «доказать», что буквально все важнейшие вехи исторического процесса развития философии (и важнейшая среди них, установленная именно Кантом) свидетельствовали в пользу господства онтологии, признаваемого открыто, четко или обозначаемого лишь смутно. Предполагалось также, что онтологическая тенденция все же пробивала себе дорогу и тогда, когда термин «онтология» вообще не был употребительным, что, как известно, протянулось вплоть до Нового времени. И тогда — а это случай Канта, — когда (уже после Вольфа) велась прямая борьба против онтологии и ее господствовавших приемов.
Хайдеггер явно перетолковывает Канта, когда повествует не о том, что действительно, реально говорит Кант, а о том, что он якобы «хочет сказать». И тогда кёнигсбергский мыслитель классического стиля заговаривает (вернее, заговаривается) на собственном языке Хайдеггера, скажем, уже с прочерчиванием различия «онтического» и «онтологического»... Хайдеггер заключает: «Таким образом, стало ясно: обоснование традиционной метафизики начинается вопросом о внутренней возможности онтологии как таковой» (Там же. С. 8). Как бы чувствуя, что «ясно» не стало и что получается как-то не по-кантовски, Хайдеггер вынужден задать вопрос, возвращающий к тексту Канта: «Почему же это обоснование становится „критикой чистого разума”?» (Там же). А в самом деле, почему? Заранее скажу: хайдеггеровские ответы на него и по форме, и по содержанию становятся таким «обращением к Канту», тип которого ясен из следующего изречения Хайдеггера: «Кант проясняет возможности онтологии в вопросе: „Как возможны синтетические суждения a priori?”» (Там же). Смысл же черным по белому зафиксированных замыслов Канта вел к ровно противоположному результату, вплоть до совета снять «гордое имя онтологии».
Все последующие выкладки Хайдеггера изначально подверстываются к обрисованному типу толкования, а вернее, перетолкования. О чем бы ни говорил Кант, когда он ни сном ни духом не помышлял — по крайней мере, непосредственно — об онтологии, Хайдеггер обязательно примысливает к постулируемому им якобы имевшемуся у Канта онтологическому замыслу и контексту. Это делается очень «просто »ив духе агрессивной герменевтики. Например, надо рассмотреть — без чего нет анализа «Критики чистого разума» — проблемы созерцания, чистого
(априорного) синтеза, пространства и времени и т. д. Хайдеггер не обходит все эти вопросы. Но он изначально выстраивает все в якобы прямо полагаемом у Канта онтологическом ракурсе. Возникают чисто хайдег- геровские заголовки рассуждения, напомним, якобы об идеях и текстах Канта — «Проект внутренней возможности онтологии »(с. 23), или «Онтологический синтез» (с. 34); выводы делаются на чисто онтологическом (хайдеггеровском) языке. Обильные цитаты из Канта долженствуют создать впечатление об «аутентичности» рассуждения применительно к самим кантовским текстам.
Констатируя все это, хочу подчеркнуть: отдельные идеи, высказывания, толкования Хайдеггера, касающиеся «Критики чистого разума», интересны, глубоки, остры и могут быть с пользой освоены и собственно кантоведами, и философами, занятыми другими проблемами, тем более что весьма нередко Хайдеггер фактически забывает о своих насильственных онтологических схемах и как бы отдается делу интерпретации захватывающих идей Канта максимально «близко к тексту» и к другим (по сравнению с онтологией) проблемно-дисциплинарным контекстам. (Пример: красивая интерпретация кантовских понятий образа и схемы.) Возможно, правда, что онтологические повороты и решения (в духе более поздней, в том числе хайдеггеровской философии) каким-то непрямым образом могут вытекать из формул Канта. Но прямо приписывать этому мыслителю онтологические замыслы, как это явочным порядком делает Хайдеггер, полагаю, неправомерно. И ссылки на «мыслящий диалог» вряд ли помогут делу. Особенно в случае, когда — оставаясь верными текстам Канта — мы должны, нам приходится, при добросовестном подходе, принимать в расчет несомненную борьбу, кёнигсбергского мыслителя против онтологии, во всяком случае против ее «классических» форм, подходов и методов.
Хайдеггер (как бы) не проходит мимо этой кантовской борьбы. В заключительных ремарках второго раздела брошюры он пишет: «Однако Кант желает заменить „гордое имя онтологии именем трансцендентальной философии”, имеющим дело с сущностным раскрытием трансцен- денции» (Там же. С. 71). Имеются в виду высказывания Канта в «Критике чистого разума» (А247, ВЗОЗ). И на первый взгляд подобный подход Канта Хайдеггер даже поддерживает, лишь уточняя его: Кант поступает «по праву, коль скоро название „онтология” понимается в смысле традиционной метафизики» (Там же). Но и при этом недолгом согласии Хайдеггер все же приписывает Канту стремление восстановить в правах онтологию, когда и если она смирит гордыню, умерит притязания и выступит в совершенно новом облике (читай: станет чем-то вроде предварения хайдеггеровской онтологии — ссылки даются на А845 и В8731).
Кант и тема онтологии
Не имея возможности вдаваться во все тонкости возникающих здесь проблем, кратко обозначу здесь свою позицию по вопросу «Кант и тема онтологии».
1 Нахождение цитат по этим индексам для русскоязычных читателей возможно благодаря нашему двуязычному изданию «Критики чистого разума» Канта — т. 2 (1-я и 2-я части).
Часть VII. 1лава 1. Мартин Хайдеггер: идти перетолкований Канта и проблема бытия
382
о
IO
о
£
00
X
Атаки Канта на (традиционную) онтологию имеют принципиальный характер и совершенно невычитаемы из его интерпретации «школьной метафизики». При этом позиции великого философа по отношению к будущему метафизики и к перспективам онтологии как части метафизики существенно различаются. О метафизике можно кратко сказать так: несмотря на ее кризисное состояние к середине XVIII века, Кант считает возможным и даже необходимым реформировать ее — на основах критики чистого теоретического и практического разума. В этом убеждают многие конкретные тексты Канта — например, Предисловие ко второму изданию «Критики чистого разума», где, во-первых, черным по белому изложен проект такого критического преобразования метафизики, благодаря которому она «вступит... на верный путь науки», «сможет овладеть всеми отраслями относящихся к ней познаний», передаваемых потомству как капитал «основной»и «завершенной»науки.
Во-вторых же, в «Критике чистого разума» проект не только намечен, но так или иначе реализован: ведь наряду с двумя главными вопросами произведения (как возможна чистая математика? — ответ на него дается в учении о чувственности; как возможно чистое естествознание? — с ответом в учении о рассудке) Кант обосновывает (не столь же очевидное) право в учении о разуме ставить и разрешать вопрос: как возможна (чистая) метафизика как наука?
Но в составе этого общего вопроса Кант не проявляет никакого оптимизма также и в отношении традиционной онтологии и возможных в будущем ее реформ. Думаю, вопрос типа: как возможна новая (чистая, фундаментальная, какая угодно) онтология? — Кант вряд ли поставил бы и даже не счел бы его правомерным, если, конечно, судить по «Критике чистого разума», по двум другим «Критикам», по иным (известным мне) сочинениям. В этом убеждает тот раздел «Критики», в котором Кант сначала развенчивает «онтологическое доказательство бытия Бога», как он его называет, а затем разбирает важнейшую тему — каковы суждения о бытии как «существовании». Весьма интересно, что как раз в контексте этого рассуждения на месте как будто бы привычного в русском переводе слова «существование» у Канта стоит термин Dasein! (Хайдеггер, кстати, не акцентировал этот терминологический момент — возможно потому, что слово Dasein, в кантовское время термин-новичок, не носило у Канта терминологического смысла, хоть в чем-то сходного с первоосновным у раннего Хайдеггера Dasein.)
Вникнем специально в проблему онтологии применительно к Канту, напомнив читателю, что смысл онтологической реформы раннего Хайдеггера мы (кратко) разбирали ранее в главе, посвященной «Бытию и времени».
• Почему Конт отвергал «гордое имя онтологии»?
Ответив на вопрошание, мы по крайней мере подойдем и к ответу на другой вопрос: почему в коренной попытке раннего Хайдеггера сделать центром, средоточием философии — обновленную, поставленную на первый план — онтологию концепция Канта, относящаяся и к традиционной онтологии, и к толкованию темы бытия, никак не могла служить опорой, если бы ее брали «с подлинным верно»?
Прежде всего отмечу, что в своем ответе на эти вопросы я в общем и целом солидарна с трактовками некоторых видных философов современности, которых считаю (и это не только мое мнение) «классиками» кантоведения второй половины XX и XXI веков. Это марбургский профессор Буркхард Тушлинг и профессор философии из Трира Норберт Хинске. Предоставлю им слово.
Б. Тушлинг пишет: «Поскольку... рассудок, независимо от всякого опыта, всегда может давать нам познание только о предметах возможного опыта, выводимая из одних лишь понятий наука об ens и esse, о сущем и бытии, т. е. онтология, оказывается невозможной. Ее место занимает „более скромная” — однако же в своих результатах, т. е. в коперни- канском повороте к трансцендентальной апперцепции, к самосознанию и к Я как основанию и истоку всякой объективности, чрезвычайно претенциозная — аналитика чистого рассудка»1. Это толкование непосредственно относится к той части «Критики чистого разума» Канта (ВЗОЗ, А246), где Кант как раз и предлагает заменить «гордое имя онтологии» «скомным именем простой аналитики чистого рассудка».
Б. Тушлинг продолжает: «Онтология — впервые явным образом возведенная Христианом Вольфом в статус особой науки и основы метафизики — разрушается у Канта отнюдь не безвозмездно, но заменяется... „трансцендентальной аналитикоъС' понятий и основоположений чистого рассудка, самосознания и Я как трансцендентальной основы всякого бытия-не бытия в себе, но бытия, которое есть предмет для нас или которому должно быть возможно стать предметом для нас, и лишь поскольку оно является таким предметом: бытие преобразуется в esse связки суждения (В 141f.), бытие предмета становится бытием-предме- том-сознания (zum Gegenstand-eines-Bewußtseins-Sein), а именно — бытием в определенности его основными формами акта суждения [количества, качества и отношения суждения], которые, в свою очередь, суть лишь различные формы приведения многообразного, [охватываемого] созерцанием к единству апперцепции, самосознания, к единству Я»2.
В этой точной историко-философской констатации имеет смысл присмотреться к формулировке о коренном кантовском преобразовании: бытие, согласно Канту, его трансценденталистским установкам, не остается неким «бытием» в смысле традиционной философии — бытием вне и независимо от сознания, ибо таковое, после реформы Канта, невозможно. Оно действительно становится «zum Gegenstand-eines Bewußseins-Sein», как сформулировал Тушлинг (а А. Судаков перевел: бытием-предметом-сознания).
Такая центральная идея о бытии, аутентично-кантовская, как будто и стала путеводной нитью ранней хайдеггеровской реформы темы бытия! Это было, с одной стороны, продолжение у Хайдеггера трансцен- денталистской реформы Канта и Гуссерля. Вот тут, кстати, особенно любопытно упомянутое ранее употребление Кантом не только понятия «Sein» (применительно к бытию как таковому), но и понятия Dasein, тог-
383
1 Б. Тушлинг. Послесловие немецких эдиторов// И. Кант. Сочинения на немецком и русском языках / Отв. за изд. Н. Мотрошилова (Москва) и Б. Тушлинг (Марбург). М.: Наука, 2006. Т. II. Ч. 2. С. 561.
2 Там же. С. 565.
Часть VII. (лова 1. Мартин Хайдеггер: пути перетолкований Канта и проблема бытия
H-В. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Врендт: бытие-время-любовь
384
дашнего терминологического новичка. Итак, у Хайдеггера кантовский (или гуссерлевский) трансцендентализм был подхвачен и продолжен — возможно, и более последовательно, когда Хайдеггер четко поставил на первый план как раз человеческое Dasein. Но одновременно он — только упомянув о кантовском бунте против онтологии — по сути не принял его сколько-нибудь всерьез и отмахнулся от самим Кантом выведенных следствий и требований, касающихся статуса и сути онтологии, во всяком случае таких ее (традиционных к тому времени) составных частей, как онтологическое доказательство бытия Бога, размышлений о «суждениях существования» и т. д.
Замечательный современный немецкий кантовед Н. Хинске показал, что и у самого Канта позиция, зафиксированная, наконец, в «Критике чистого разума» (хотя восходящая к диссертации 1770 года), выражена не без противоречий, отражающих незавершенность (к 1781 году) пути великого философа. Красноречиво название статьи Н. Хинске — «Онтология или аналитика рассудка? Долгое расставание Канта с онтологией»1. Воспроизведу основные идеи и тезисы этой статьи.
Прежде всего Н. Хинске (главный редактор знаменитого в мире, но у нас почти неизвестного Kant-Index, по разным произведениям Канта фиксирующего частоту употребления тех или иных терминов, понятий в кантовских произведениях) сообщает: слово «онтология» как существительное употребляется в тексте «Критики чистого разума», произведении в 928 страниц, всего три раза — два раза в немецкой, один раз в латинской форме, а прилагательное «онтологический» (и то благодаря сугубо критическому разбору онтологического и космологического доказательств бытия Бога, где терминология в основном докантовская) — 19 раз. Если к тому же учесть, что существительное «онтология» один раз применяется как раз в уже известном нам контексте — в призыве Канта отказаться от «гордого имени онтология» (В874), то становится ясно: онтология как понятие в «Критике чистого разума » — чрезвычайно редкий и враждебный, критикуемый гость, что, согласитесь, достаточно показательно. А в брошюре Хайдеггера от понятий «онтология» и «онтологический», что называется, рябит в глазах — в том числе и в обзоре разделов, где Кант вообще ни единым словом, ни единым намеком не упоминает об онтологии!
Задаваясь вопросом о том, почему таким живучим — и не только у Хайдеггера — оказался «онтологический» (думаю, вернее сказать: «онтологизирующий») подход к интерпретации «Критики чистого разума», Н. Хинске справедливо указывает на противоречие, все же сохранившееся в этом произведении Канта — при том, что две стороны противоречия имеют, так сказать, неодинаковую силу. Одна сторона, более сильная: через все произведение последовательно проведен принцип трансцендентализма, следствием чего является теоретическая тенденция не только «отмены» старой онтологии, но и явное противостояние ее (возможной в будущем) реформе. Согласно этому кантовскому толкованию, не только «гордое имя онтологии» подлежит замене (трансцендентальной аналитикой рассудка), но и отношение к материалу он-
1 Будет опубликована в: Историко-философский ежегодник’2011. М., 2012.
тологии, например к ее категориям, существенно меняется. А именно: категории (прежней) онтологии могут быть схвачены, обновлены только в их (вторичном) отношении к логике.
Более того, возникает своего рода общеметодологическое, общефилософское правило, кое, согласно Канту, надо закрепить для борьбы с «распространенным предрассудком», согласно которому «явления принимались за вещи сами по себе» (В768, А740). Этот предрассудок можно назвать «тенденцией прямой и сильной онтологизации», посягающей на то, что не имеет чисто бытийного статуса, например, стороной или признаком бытия «самих вещей» провозглашается то, что относится к научным или иным познавательным конструкциям. Другая сторона, более «слабая» — в изображении Н. Хинске (которое и я нахожу достоверным) выглядит следующим образом. Кант — уже к концу «Критики чистого разума» — вдруг, пишет Хинске, «как будто бы ничего не произошло» (т. е. как если бы не было никаких его выпадов против онтологии, ее «гордого имени»), создает формулу, согласно которой в «метафизику в узком смысле» все-таки включается «онтология» (здесь — в латинском написании), иными словами, онтология как будто бы восстанавливается в правах (В873, А845).
Считая это непоследовательностью Канта и пытаясь объяснить ее причины, Н. Хинске напоминает о трудном пути Канта к «Критике чистого разума» и о том, что произведение, долгое время (десять лет) вызревавшее, было тем не менее оформлено поспешно и частично оказалось составленным из ранее возникших заготовок, фрагментов (дается ссылка на «patchwork theory» Файхингера, Адикеса, Кемпа Смита и других). Время, потраченное на изменения во втором издании «Критики», как будто было немалым. Но ведь Кант в самом деле так и не успел переработать для второго издания значительную часть этого произведения (так что после S. 404 и до конца, до S. 884 текста, второе издание осталось идентичным первому). Иными словами, переработанное совместилось с тем, что осталось неизмененным, причем по обстоятельствам внешним (дефицит времени) по сравнению с четким и частично реализованным планом — создать обновленный, скорректированный вариант — больше половины текста осталось без изменений. (А результирующие формулировки, где онтология как бы восстанавливалась в правах, появлялись в конце «Критики».)
Н. Хинске поднимает немаловажный вопрос о том, что можно и нужно сделать интерпретаторам перед лицом этого текстологического противоречия. Он — с полным на то основанием — считает «распространенный предрассудок», о котором говорил Кант, в не меньшей мере характерным для нашего времени, чем для эпохи Канта. Ведь и сегодня «нет никакого лекарства» против господствующего во многих, если не во всех науках убеждения, будто научные знания, понятия того или иного времени — точное, «истинное» выражение бытия вещей, как они есть сами по себе. (И сказанное касается не только трактовки знаний науки.) Тот тезис Канта, что понятия всегда служат лишь экспозиции явлений (В303, 246), с трудом укладывается у людей в голове, рассуждает Хинске. Ведь он противоречит утвердительному, решительному характеру (научных и иных) суждений. (В пример Н. Хинске приводит новейшие теории эволюции,
385
14 694
Часть VII. f/тава 1. Мартин Хайдеггер: пути перетолкования Канта и проблема бытия
386
СЕ
0 X X
я
S
а
я
я
X
1
о
2
о
<а
о
§
э
о
а
Б
2
со
X
нейропсихологию как пример таких предрассудков и предубеждений: их создатели исходят из того, что их суждения и убеждения — наиболее точное воспроизведение сути самой осмысливаемой ими «реальности».)
Вот почему трудно рассчитывать на понимание антионтологической атаки Канта, тем более перед лицом рассмотренной противоречивости в изложении автором «Критики чистого разума» своего подхода.
Отсюда вывод Н. Хинске: противодействовать «онтологической интерпретации» Канта надо. Однако следует смириться с тем, что она остается «легитимной областью кантоведения».
В завершение этого небольшого раздела хочу снова подчеркнуть (не углубляясь, однако, в детали): отношение к метафизике, к ее реформе у самого Канта было явно иным, чем к онтологии, (традиционной) части метафизики. И реформа метафизики, в толковании Канта, — в отличие от неоправданное™ реформы онтологии — столь же необходима, сколь и возможна. Доказательства этого есть не только в формулах «Критики чистого разума », но и в других сочинениях. Более того, в части более поздних сочинений термин «метафизика » намеренно и четко вынесен Кантом в их названия: «Основоположение к метафизике нравов», «Метафизика нравов»* 1.
«Тезис Конто о бытии» — слово позднего Хайдеггера
Теперь перенесемся мыслью в послевоенный период, когда «философ бытия» Хайдеггер пришел к «повороту» (Kehre) в своем творческом развитии. Статья Хайдеггера под названием «Тезис Канта о бытии» была написана к 60-летию философа Эрика Вольфа и помещена в книге «Экзистенция и порядок» (Existenz und Ordnung. Fr. a/M.: Klosterman, 1962. S. 217-245); впоследствии он включил статью в сборник «Wegmarken» (1967).
Рассмотрим основные идеи этой статьи, имея в виду ответить на вопрос о том, что осталось в силе и что нового появилось в кантоведческой интерпретации Хайдеггера с 1929 года, т. е. более чем через тридцать лет после брошюры «Кант и проблема метафизики»?
Остались в силе:
• Выдвижение на первый план темы бытия — и не только в чисто историко-философском ракурсе, но и в том смысле, что переосмысление бытийного пласта, по Хайдеггеру, помогает ухватить нечто важное, если не центральное в философии прошлого, в философии как таковой. Главное же для Хайдеггера в том, что от века и до «сего дня» бытийное размышление «неизменно и повсюду касается нас, людей, но чего мы собственно даже не замечаем»2. И вот мы все это, продолжает Хайдеггер, называем словом «бытие» (в оригинале — Sein), также имея в виду именно бытие, когда произносим слова «есть», «было» и «будет». Нам
1 Здесь нет возможности конкретно вникать в вопросы о том, 1) почему Кант был упорен в отстаивании термина «метафизика» — применительно к единству учения о праве и учения о добродетели; 2) как уже в XX веке сложилась в философии антиномия (позитивистских) атак на метафизику и стойкой защиты даже самого термина, не говоря о содержании его со стороны целого ряда (антипозитивистских) учений и течений.
1 М. Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
С. 361. Далее при цитировании страницы по этому изданию даются в моем тексте.
387
никуда не уйти, констатирует Хайдеггер (и он вполне прав) от того, что все «достигающее нас» и все, чего мы хотим достичь, «проходит через высказанное или невысказанное „есть”» (Там же).
В самом деле, если нас «достигают» любые состояния (радости, болезни и т. п.), то они так или иначе «есть». А если мы стремимся чего- то достичь (скажем, высокого положения или хорошего образования), то хотим, чтобы это желаемое превратилось в «есть», бытийствующее, наличное. Верно и то, что «есть» «известно нам во всех своих явных и скрытых разновидностях» (Там же) — независимо от того, артикулируем ли мы и сколь точно понимаем это «известное».
• Вместе с тем остаются в силе более ранние хайдеггеровские сетования на то, что при произнесении или слышании слова «бытие» (а оно тесно связано с «есть») оно часто остается настолько пустым, что обычным людям, нефилософам, «невозможно ничего помыслить» (Там же). (Кстати, небезынтересным был бы непредвзятый опыт-опрос на эту тему, в результате которого, скорее всего, обнаружилось бы, что и такие люди все-таки как-то и что-то «мыслят», когда слышат это «ученое» слово.)
• Но и философы, которые, казалось, должны были бы в этом случае что-то знать или мыслить, куда как часто занимаются «болтовней о бытии», почему и делают «бытие» предметом насмешек (Там же. С. 362). И это наблюдение обоснованно, в том числе применительно к разговорам о Хайдеггере и его философии: тьма людей в современном мире подражают Хайдеггеру, как бы следуют его жаргону, но на проверку тоже занимаются «болтовней о бытии»...
Все сказанное для Хайдеггера означает: сохраняется задача «...снова и снова ставить на вид бытие как достойное осмысления...». Задача сразу конкретизируется: «прислушаемся к Канту». Почему именно к Канту? Есть двуединая причина, говорит Хайдеггер: Кант осуществляет «прояснение бытия» «в верности традиции, т. е. одновременно в размежевании с нею» (Там же). Заметьте это хайдеггеровское «то есть»: нет верности без размежевания, размежевания без верности...
Пока в подходе Хайдеггера к Канту не проглядывает ничего нового в сравнении с этапом «Бытия и времени». Не вносит большой новизны и то, что Хайдеггер начинает свой анализ с цитирования и разбора «тезиса Канта о бытии» (В626, А598): «Ясно, что бытие (Sein) не есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи. Оно есть только позиционирование (Position) вещи или некоторых определений само по себе» (цит. по двуязычному изданию «Критики чистого разума». М., 2006. Т. 2. Ч. 1. С. 770, 771).
Но вот в толкование данного тезиса, казалось бы широко известного и многократного им обсужденного1, Хайдеггер вносит новые моменты, в том числе и по сравнению с более ранними его толкованиями. Присмотримся к ним.
1 Более ранняя интерпретация — см.: М. Хайдеггер. Основные проблемы феноменологии (Gesamtausgabe. II. Abteilung: Vorlesungen, 1923-1944. Bd. 24. Fr. a/M., 1975),— в прекрасном переводе А.Г. Чернякова (СПб., 2001). См. многочисленные обращения к Канту в этом сочинении.
14*
Часть VII. Глава 1. Мартин Хайдеггер: пути перетолкования Канта и проблема бытия
388
S
0
1 £
cd
X
• Истолкование тезиса Канта о бытии
Первое, что счел необходимым подчеркнуть Хайдеггер: тезис Канта кому-то может показаться «отвлеченным, ущербным и бледным» (М. Хайдеггер. Цит. произв. С. 362). Добавлено нечто актуальное — именно для послевоенной Европы с возросшим влиянием Маркса и марксизма, а именно — ссылка на знаменитые Марксовы «Тезисы о Фейербахе» (поминается 11-й тезис насчет необходимости не только и не столько объяснения мира, чем до сих пор занимались философы, сколько изменения его).
И вот вердикт Хайдеггера в связи со всеми подобными обвинениями, а одновременно и предпосылка его дальнейшего исследования: «Отвлеченностью и ущербностью тезис Канта отпугивает только в том случае, если мы не позаботимся продумать, что Кант говорит для его разъяснения и как он говорит» (Там же).
Считаю принципиальным и исходным такой, казалось бы, проходной момент: Хайдеггер сразу же дает понять читателю, что он, истолкователь, вроде бы и должен «прилаживать» свое толкование к «манере Канта», но он же, примыкая к «современной (тогда) мысли», обязан «отважишься на размежевание с тезисом Канта, т. е. спросить, на чем основан тезис Канта о бытии, в каком смысле он допускает обоснование, каким путем возможно его прояснение» (Там же. С. 363). Таково, согласимся, право и даже обязанность каждого интерпретатора философской классики. Но ведь нас ожидает тот же — в принципе неадекватный, перетолковывающе-деконструирующий подход к текстам Канта, который Хайдеггер ясно артикулировал в различных ранних публикациях, лекциях, набросках и который мы только что проанализировали на примере брошюры «Кант и проблема метафизики». Значит, в самом властно-интерпретационном отношении Хайдеггера к текстам великого Канта (как и других великих или выдающихся философов) не произошло принципиальных изменений. И мы снова должны быть готовы как к интересным, глубоким, порою ярким, блестящим частным анализам кантовских текстов, так и к «отклонениям» от них и даже к «неадекватности» той или иной интерпретации в целом (а в данном случае — вполне определенного, процитированного «тезиса о бытии»).
Первая сторона дела проявляется в тщательности осмысления у Хайдеггера этой краткой формулы Канта (правда, в оправданной привязке ко всему тексту и контексту «Критики чистого разума»). Хайдеггер обращает внимание читателей на то, что в тезисе Канта на деле есть два высказывания — отрицательное, «отказывающее бытию в характере реального предиката», и утвердительное — о позиционировании (Position) или, как переводит В. Бибихин — вслед за прежним русским переводом «Критики чистого разума»1, — полагании вещи.
Хайдеггер признает, что это объяснение вряд ли действительно раскроет проблему, пока мы не вникнем в то, в каком именно месте и контексте «Критики чистого разума» Кант вводит анализируемый тезис.
1 Думаю, этот перевод неточен, ибо русское слово «полагание» имеет в немецких философских текстах устоявшийся аналог — Setzung. Правда, не в самой формуле, а несколько позже (В627) употребляется глагол «setzt» (от setzen), т. е. как момент процесса позиционирования имеется в виду полагание.
Это совершенно верно, ибо и последовательность презентации идей, и конкретный контекст рассуждения всегда, в частности в данном случае, исключительно важны для произведений Канта, включая первую «Критику». Но если само замечание Хайдеггера о структуре, контексте справедливо, то собственное его заведомое определение «места» тезиса о бытии может и, считаю, должно быть оспорено. Ибо формулировка на эту тему соответствует скорее не кантовскому, а хайдеггеровскому ходу мысли: «Лишь бегло напомним о бесспорном обстоятельстве: западноевропейская мысль ведома вопросом: „Что есть сущее?” В такой форме она спрашивает о бытии» (Там же. С. 363). Не станем здесь вникать в этот частный и очень сложный вопрос и в оценки справедливости хайдеггеровского обобщения1. Хайдеггер, кстати, не раз вернется к теме «бытия» и «сущего» в последующем рассмотрении, пытаясь подкрепить аргументами свое обобщение, отнюдь не самоочевидное. Теперь нам всего важнее, как сюда, в эту постулируемую им общефилософскую тенденцию, Хайдеггер вписывает Канта. Казалось бы, все очень просто. «Кант, — пишет Хайдеггер, — и именно через „Критику чистого разума”, совершает в истории этой мысли решающий поворот». Но дальше для Хайдеггера (блестящего знатока подлинных текстов) начинаются сложности. «Исходя из этого мы ожидаем, что ведущую мысль своего главного труда Кант начнет развивать с разбора бытия и выдвижения своего тезиса. Дело обстоит иначе. Вместо этого мы встречаем названный тезис лишь в последней части „Критики чистого разума”, а именно лишь в последнем разделе, озаглавленном „О невозможности онтологического доказательства бытия Бога”» (Там же. Курсив мой. — H. М.). (В цитате из Канта в прежнем переводе слов «vom Dasein des Gottes» русское слово «существование» заменено мною на «бытие». Еще раз обращаю внимание читателей на употребление Кантом именно термина «Dasein» там, где имеется в виду, так сказать, бытие-наличие.)
Это очень важное, принципиальное место в интерпретации и во всем отношении Хайдеггера к «бытийному» аспекту проблематики. Согласно интерпретативной схеме Хайдеггера, темы бытия вообще (Sein), соотношения бытия как «наличного» бытия (Dasein) и «сущего» (das Seiende) и т. д. должны быть во всякой философии начальными, исходными — и с них поэтому вроде бы должна стартовать всякая философия, отвечающая своему призванию: стать фундаментальной онтологией. Но он честно признает, что у Канта в его главном произведении «дело обстоит иначе». Верная, честная констатация. Однако ведь такая последовательность сложилась в тексте «Критики» совсем не случайно, ибо у Канта для «оттеснения» проблемы бытия и «тезиса о бытии» в самый конец главного произведения были веские причины и основания. И это не мог не признать Хайдеггер. Поэтому в дальнейшем повествовании он — и весьма плодотворно, с привлечением других текстов Канта — (на время) отклонился от своей интерпретативной схемы, глубоко и тонко объяс-
1 По ряду релевантных вопросов см. книгу выдающегося российского исследователя А.Г. Чернякова «Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля, Хайдеггера». СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. § 4. Бытие и сущее. С. 92-104.
389
Часть VII. (лава 1. Мартин Хайдеггер: пути перетолкования Конто и проблема бытия
Н-В. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна прендт: бытие-еремя-любовь
390
нив, какой смысл заключен в отрицательной части кантовского постулата: «„Бытие” — явно, очевидно не реальный предикат».
Высказывание Канта, рассуждает Хайдеггер, сначала поражает, ибо сложилось такое понимание: «Бытие — это ведь значит реальность. Как же тогда бытие нельзя считать реальным предикатом?» (Там же. С. 364- 365). В ответе Хайдеггера на вопрос-затруднение полезна отсылка к «исконному значению» слова «реальный» — а именно восходящему к «той или иной res, к предмету, к предметному содержанию вещи... Реальность означает для Канта не действительность, а вещность» (Там же. С. 365). Очень важное уточнение, его и сегодня полезно принять в расчет тем, кто рассуждает о бытии.
Ибо для немалого числа тех, кто говорит или пишет о «бытии », об «онтологии», философский термин «бытие» как бы «овеществляется», становится широким обозначением действительного именно как материально-вещественного.
Тогда категории философии — плод длительного исторического вычленения, обогащения оттенками — как бы онтологизируются, выдаются за саму обобщенно рассматриваемую «реальность», «действительность» и т. д. Подобные тенденции в толковании категории «бытия» тянутся от древности до современности. Против них и выступил Кант — и в первой «Критике», и в других произведениях. И тему бытия он затронул, но не прежде чем тщательно развил и обосновал, на фундаменте трансцендентализма, именно первоосновные части своей философии (в виде трансцендентальных аналитики и диалектики). Замеченное Хайдеггером, однако решительно его не удовлетворявшее кантовское сдвигание «тезиса о бытии» в конец произведения — с опорой на отмеченное принципиальное для Канта построение «Критики» — само имело значение, коренное и «аутентичное» для кантовских текстов.
Пока у Хайдеггера дело шло о внутреннем, частном толковании проблем, непосредственно относящихся к «тезису о бытии», ему удалось открыть, пометить, эксплицировать немало тонких моментов. Например, он хорошо разъяснил, что означает это «просто Position» (неадекватно переведенное как «полагание»). Примером стало высказывание о камне: «Этот камень есть». Что оно значит? Такое «есть» в нем — не реальный (читай: вещный) предикат, похожий на какие-то вещные оттенки и характеристики (тяжелый, твердый, прочный и т. д.). «Оно ничего не говорит о том, что есть камень как таковой; оно говорит, однако, что все относящееся к камню существует, есть» (Там же. С. 365). И далее: «„Бытие” и „есть” со всеми значениями и разновидностями относятся к особенной области. Они не есть ничто из вещного, т. е. для Канта: ничто из предметного» (Там же). Констатации верные. До определенного предела Хайдеггер идет «вместе с Кантом». Но вот обозначен и пункт размежевания — и он принципиально важен, более того, становится все более существенным как раз по мере развития Хайдеггера в послевоенный период. Потом он приобретет более ясное выражение и приведет к «Kehre», крутому повороту именно в толковании бытийных сюжетов.
Говоря кратко, суть дела состоит в следующем. Ранний Хайдеггер, при всем его самостоятельно-критическом отношении к философии И. Канта и своего учителя Э. Гуссерля, так или иначе опирался на их
обоснование трансцендентализма как на отправную точку также и собственного философствования. После войны — сначала скрыто и исподволь, потом все более эксплицитно — начинается критика транс- ценденталистских тезисов и особенно постулирования их изначального значения (несмотря на ряд противоречий, несомненного и твердого и у Канта, и у Гуссерля) для всей философии.
Обращаясь в анализируемой статье к эволюции взглядов Канта, Хайдеггер устанавливает ряд интересных и перспективных, с его точки зрения, подвижек кантовской философии. Например, он считает, что в развитии Канта от докритической к критической философии постепенно осуществился такой вот поворот: «С тех пор он (Кант. — Н. М.) заметил, что отношение бытия и его видов только к „способностям нашего рассудка” не обеспечивает достаточного горизонта, исходя из которого бытие и его виды поддавались бы объяснению...» (Там же. С. 368). А это в свою очередь привело к новому объяснению роли чувственности и синтеза рассудка с чувственностью — при том что значение рассудка Кант никак не умалял. Хайдеггер отлично понимает, что Кант стремился последовательно проводить такую линию во всей своей трансцендентальной философии (и сам ссылается на характерные примеры этого — с. 370, 371). Но Хайдеггер довольно быстро теряет терпение, потому что Кант так и не придает онтологии (обсуждаемой, напомним, в самом конце «Критики») того места, которое, по Хайдеггеру, должно отвести.
И тогда Хайдеггер снова переходит в наступление. Он спрашивает: а что «стоит за» кантовской позицией? Вот ответ Хайдеггера: «Названием „трансцендентальная философия” Кант означает преобразившуюся после критики чистого разума онтологию, которая осмысливает бытие сущего как предметность предмета опыта. Ее почва в логике. Но это не формальная логика, а логика, определяемая исходным синтетическим единством трансцендентальной апперцепции. На такой логике и основана онтология» (Там же. С. 371. Курсив мой. — Н. М.).
Схема интерпретации нам известна: онтология — все же не по-кан- товски — выдвинута Хайдеггером на первый план и становится некой в-себе-целью, которая и у Канта-де «стоит за» всей трансцендентальной философией, в том числе за трансцендентальной логикой, долженствующей образовать «почву» для онтологии. Итак, пока — ничего нового в существенных линиях истолкования. А частные подробности анализа по-прежнему полезны и интересны. Это относится, например, к толкованию (Там же. С. 374-375) темы, которую задает Кант именно в разбираемом тезисе, говоря: бытие (в частности, связка суждения «есть ») не вносит реальных предикатов, а является «просто позиционированием (Position) вещи» или некоторых определений. В других связях Кант употребляет здесь глагол «setzen», В627 (отсюда немецкое «Setzung» — полагание, и не в смысле: «я полагаю, что...», а в смысле того, что вещь «положена», т. е. она как бы «устанавливается»; если о ней что-то утверждается, то это тезис: «камень — и любой другой предмет есть»), И все это объединяется с обсуждением у Канта проблематики модальности — возможности, действительности, необходимости.
К самому концу статьи Хайдеггер ведет о бытии не совсем уж новый для себя, но существенно обновленный по стилю разговор о бытии. Его
391
Часть Vil. íñaeo 1. Мартин Хайдеггер: пути перетолкования Канта и проблема бытия
392
8.
СЕ
О
а
?
с»
СП
>s
Я
Z
1
а
2
э
8.
о
2
m
х
суть, соответственно, поворот (Kehre) — в том, что трансценденталист- ский (субъективистский) «словарь» и соответствующий способ мышления все больше уступают место иному стилю, в соответствии с которым акценты делаются на (как бы) «объективных» моментах неких «непотаен- ностей », присущих бытию, его непреодолимой открытости, собственного «свечения» — пусть не помимо сознания, все же улавливающего свечение (Lichtung) и звучание бытия, вернее, непотаенного в бытии, но все же изначально, именно бытийно заданного сознанию. Пролагая путь новому пониманию, Хайдеггер задает читателю вопрос, который чем дальше, тем больше перестает быть риторическим и получает утвердительный ответ: «А что если мы примем бытие в смысле исходной греческой мысли как высветляюще-держащееся присутствие вещей, не только и не в первую очередь как установленность в устанавливании рассудком? Может ли горизонтом для этого исходного облика бытия служить представляющее мышление? Явно нет...» (Там же. С. 380. Курсив мой. — Н. М.).
И дальше — череда сходных вопросов и рассуждений. Как быть с опорой темы бытия в философии на логику (например, у Канта)? Хайдеггер сомневается в такой необходимости: «Не становится ли тогда совершенно проблематичной „логика” как органон и как горизонт истолкования бытия? Мысль, пробивающаяся в этом направлении, не нападает на логику, — уверяет Хайдеггер, — но тратит себя на достаточное определение логоса, т. е. того сказа, в котором дается слово бытию как единственно достойному осмысления» (Там же).
Итак, «слово» дается теперь не рассудку, не опыту, не Канту или другому мыслителю — его надо, наставляет Хайдеггер, вверить «самому бытию», ибо оно «способно», не прибегая к опосредующему преобразованию через рассудок, теорию рассудка, «говорить само», от себя, о себе, т. е. вести «чистый » и прямой бытийный разговор-сказ. Впрочем, вопрос о том, когда Хайдеггер впервые сделал «поворот» к такому стилю мысли и к подобным способам философского самовыражения, отнюдь не прост. Г.-Г. Гадамер — с его прозорливым вглядыванием в философию и творческий путь учителя — уверен, что приметы «поворота» можно обнаружить уже в брошюре «Кант и проблема метафизики». У Гадамера были и другие, лишь ему известные свидетельства. Он писал: «Конечно, из книги о Канте еще не было видно, куда вел его этот путь. Еще до 1940 года в замечаниях на полях того экземпляра своей книги о Канте, которую он прислал мне на замену моей, незадолго до того утерянной, он сам себя подверг критике: „полное возвращение к старым ошибкам трансцендентальной постановки вопроса”»1. Гадамер того мнения, что в довоенный период Хайдеггер, пусть и ощущая беспокойство по поводу своего принятия трансценденталистских оснований философии (больше всего вслед за Кантом и Гуссерлем), все же не решался покинуть эти основания. Между прочим, Гадамер акцентирует вот какой момент: «Бытие и время» «путем удивительного, грандиозного упрощения сплавило воедино понимание бытия в метафизике — т. е. в философии греков — с понятием научной объективности, которое лежит в основании методического самопонимания позитивных наук» (Там же. С. 151).
1 Х.-Г. Гадамер. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. Минск, 2007. С. 150.
Еще один оттенок в толковании Гадамером различий между вариантами хайдеггеровской философии до и в ходе, после поворота заслуживает быть отмеченным и обдуманным. Речь идет о том, что до поворота, т. е. в 30-е и ранние 40-е годы, мысль Хайдеггера чаще всего была (более) академической, философской, тогда как в «Письме о гуманизме» (1946), маркировавшем, по Гадамеру, то, что сам Хайдеггер именовал словом «Kehre», т. е. «поворот», обнаруживается иная главенствующая тенденция. «Всем сразу стало видно, что здесь сделан шаг за пределы институциональной науки и самопонимания философии в качестве философии научной» (Там же). Правда, нельзя не напомнить, что обращение Хайдеггера, скажем, к причудливому сплаву философии и поэзии у Гёльдерлина было достаточно ранним. Но, согласно Гадамеру, на новом этапе «...не потребовалось бы даже дополнения гёльдерлиновским вокабуляром и не понадобились странные, насильственные отражения, благодаря которым Хайдеггер смог узнать себя в поздних произведениях Гёльдерлина — возобновление вопроса о бытии, которое „Бытие и время”, поставив перед собой в качестве цели, с последовательностью приведенного в действие взрывного механизма взорвало и рамки науки, и рамки метафизики» (с. 151).
Гадамер, полагаю, дважды прав. Во-первых, «поворот» осуществился благодаря решительному перемещению Хайдеггера больше на почву литературно-художественных, правда близких к философствованию, сегментов культуры (хотя и философия не «ушла» из-под ног). Во-вторых, «взрывной механизм», приведший к новому толкованию бытия Хайдеггером, более полно проявлял свое действие по мере развертывания, дальнейшего продумывания положений его ранней философии. Из новаторского перемещения Dasein в сам фундамент философии и из разработки «фундаментальной онтологии », как и из нового осмысления метафизики (поначалу противоречиво «прилаженной » к кантовскому и гуссерлевско- му трансцендентализму), Хайдеггер — с течением времени все более настойчиво и подробно — выводил неортодоксальные следствия.
Что касается возросшего интереса к искусству, то Гадамер вполне прав в своей констатации: «Конечно, в центре внимания хайдеггеровско- го мышления теперь были новые темы: художественное творение, вещь, язык — для решения всех этих задач мышления традиция метафизики явно не могла предложить соответствующий аппарат» (Там же. С. 152). Этот тезис Гадамера наглядно подтверждают уже и названия написанных после войны произведений Хайдеггера, которые чаще всего возникали как подготовленные для публикации тексты ранее прочитанных докладов: «Вещь» (1950, опубликовано в 1954 г.), «Из диалога о языке» (1953-1954), «Слово» (1957), «Путь к языку» (1959), «Искусство и пространство» (в кн.: М. Heidegger. Die Kunst und der Raum. Sankt Galien, 1969) и др.
Но есть еще одна — важнейшая, если не центральная составляющая послевоенного хайдеггеровского «поворота», вычитать которую ни из метафизики, ни из какого-либо классического философствования — если оно оставалось на почве «чистого мышления» — было вряд ли возможно. Это был «побороть к философии техники.
393
Часть VII. Глава 1. Мартин Хайдеггер: пути перетолкования Конта и проблема бытия
ГЛАВА 2
Хайдеггер истолковывает «сущность техники»
«вопрос о технике»
Так было названо выступление Хайдеггера от 18.11.1953 года в Мюнхенском техническом училище; оно состоялось в рамках серии чтений, которая была устроена Баварской академией изящных искусств под общим заголовком «Искусство в техническую эпоху» (текст был опубликован в 1954 году).
Это краткое сочинение; в нем находят продолжение те более ранние хайдеггеровские подходы к философии техники, которые уже имели место в произведении «Beiträge zur Philosophie», 1936-1938 годы (Gesamtausgabe. Bd. 65. Hrsg. F.-W. von Herrmann. Fr. a/M., 1989). «Beiträge » («Философские очерки») считаются второй важнейшей книгой Хайдеггера (к сожалению, в нашей стране это сочинение плохо известно). Современный философ Фр.-В. фон Херрманн, один из издателей Полного собрания сочинений (Gesamtausgabe) Хайдеггера и замечательный исследователь его творчества, называет «Beiträge» «попыткой бытийно-исторической (seinsgeschichtlichen) разработки вопроса о бытии (Seinsfrage)»1.
Термин важный, и нам еще нужно будет вникнуть в его смысл.
Но сначала коротко об историческом контексте — о начале 50-х годов в мире и особенно в Германии — и о том специфическом положении в послевоенной философии и культуре, в котором оказался Хайдеггер, наказанный за временное сотрудничество с нацистской властью. К началу 50-х годов XX века (о чем подробнее — в моей Биографии Хайдеггера в Приложении к этой книге) Хайдеггер еще был теневой, опальной фигурой, но он уже начал выходить к свету исторической рампы. Интерес к его мысли и слову был очень большим и пристальным. Переходный период первой половины 50-х ознаменовался целым рядом выступлений Хайдеггера, привлекших живой интерес публики. Сначала на них собирались, что называется, частным образом — в клубах, санаториях, на других маргинальных площадках. Царила особая, приподнятая атмосфера, в которой распознавался привкус «запретного плода»: Хайдеггера официально пока не возвратили из тени. Вот как Р. Сафранский описал события осени 1949 года в Бремене. Хайдеггера пригласили от имени «Бременского клуба», где заправлял восторженный почитатель Хайдеггера Г.В. Петцет (Petzet), бывший его студент, ставший заметным историком культуры. Существенно, что отец Петцета был крупным буржуа, потому что к возрождению славы Хайдеггера в послевоенный период были причастны «дамы и господа из высшего общества». В Бремене это были купцы, капитаны, хозяева верфей, словом, люди весьма состоятельные. «Первый цикл докладов, — пишет Сафранский, — проводился под общим заголовком „Вглядывание в то, что есть” (Einblick in das
1 Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Technik und Kunst im seinsgeschichlichen Fragehorizont/Kunst und Technik. Hrsg, von W. Biemel und Fr.-W. Herrmann. Fr. a/M., Vittorio Klostermann, 1989. S. 25.
was ist); отдельные доклады назывались „Вещь”, „Постав”, „Опасность”, „Поворот” (Das Ding, Das Gestell, Die Gefahr, Die Kehre). Он состоялся 1 и 2 декабря 1949 года в Каминном зале Нового Ратхауза. Собралась почтенная публика, мероприятие открыл бургомистр. Хайдеггер начал так: „Здесь раньше я сделал доклад, в котором тогда высказал такие вещи, которые только теперь, медленно начали пониматься и становиться действенными. Я тогда на что-то отважился — и сегодня я хочу снова на что-то [новое] отважиться”. И ганзейские почтенные граждане (Großbürger), которые пригласили Хайдеггера, чувствовали себя исполненными гордости от того, что и они на что-то „отважились”»1. Не менее любопытными были другие внеакадемические приглашения — например, от санатория (Bühlerhöhe) в горах северного Шварцвальда (одной из тех закрытых, затерянных в горных местностях лечебниц, какие имел в виду Томас Манн в книге «Волшебная гора»). Очевидцы свидетельствовали: прибыло множество гостей; слушатели были воодушевлены тем, что и как говорил Хайдеггер (Ibidem. S. 451, 452).
С начала 50-х годов настала очередь приглашений от «академических» институций, например, от упомянутой Баварской академии изящных искусств, где в 1953 году Хайдеггер инициировал разговор по проблемам той области, которая оказалась в высшей степени затребованной и актуальной, — философии техники. Но еще раньше, в 1950 году, когда планировался доклад «Вещь» (Das Ding)2, сама идея первого приглашения Хайдеггера, о чем рассказывает Р. Сафранский (Ibidem. S. 453), встретила сопротивление тех представителей общественности, которые называли Хайдеггера «прислужником (Steigbügelhalter) нацистского режима»; состоялись дебаты в баварском ландтаге. Выступление чуть не отменили — уже в то время, когда, как пишет Сафранский, студенты из Вены, Франкфурта и Гамбурга собирались в путь, чтобы в Мюнхене внимать Хайдеггеру. Несмотря на противодействия, доклад все же состоялся. Зал Академии желающие послушать опального философа, что называется, брали штурмом.
В 1953 же году антихайдеггеровские страсти почти улеглись. А тема доклада о технике Хайдеггера была в высшей степени актуальной. «В этот вечер собрался весь духовный Мюнхен пятидесятых годов. Присутствовали Г. Каросса, Фр.Г. Юнгер, В. Гайзенберг, Э. Юнгер, X. Орте- га-и-Гассет. Это был, вероятно, самый большой публичный успех Хайдеггера в послевоенной Германии» (Ibidem. S. 454).
В 50-х годах в Европе, но особенно в Германии вопрос о технике стал центральной темой дебатов и широкой общественности, и философов, и специалистов, причастных к созданию новейших тогда технических средств, прежде всего страшного оружия, в конце войны, вспомним, примененного американцами в Японии. «Созывались многочисленные конференции евангелической академии, — набрасывает картину общественного сознания и дискуссий тех лет Р. Сафранский, — тема вспыхивала в воскресных речах политиков, она дискутировалась в журналах. В движении под лозунгом „Борьба с атомной смертью” это находило свое непосредственное выражение» (Ibidem). Р. Сафранский рассказы-
395
1 R. Safranski. Op. cit. S. 449-450.
2 О содержании доклада см. мою прилагаемую Биографию Хайдеггера.
Часть VII. Глава 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники»
H.ß. Мотрошилово ШШв Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: быгие-времп-любовь
396
вает о книгах, которые в то время обрели особую популярность. Среди них была, между прочим, работа Гюнтера Андерса (напомню: первого мужа Арендт) о Кафке — «Кафка, pro и contra», где Кафка был изображен борцом против технического мира. «В 1953 году вышло немецкое издание книги Олдоса Хаксли „Бравый новый мир”, бестселлера 50-х годов. Роман давал исполненное ужаса видение нового мира...» (Ibidem. S. 454-455). Р. Сафранский напоминает еще об одной популярной тогда книге — сочинении Альфреда Вебера «Третий или четвертый человек». «Оно привлекло огромное влияние, потому что давало полную ужаса картину технической цивилизации человекороботов, начертанную на языке солидной социологии и философии культуры» (Ibidem. S. 455). Популярность приобрела книга Фр.Г. Юнгера (Jünger), брата известного в 30-х годах писателя Эрнста Юнгера, автора сочинения «Рабочий» как главной фигуре мира будущего. По существу полемизируя с идеями своего брата, Фр.Г. Юнгер настаивал на том, что «техника уже не является средством, инструментом, которые служат современному человеку во имя его целей. Ибо техника способствовала внутреннему преобразованию человека, который теперь оказался детерминированным со стороны техники... Вйдение, слышание, говорение, поведение и способы реакций, опыт освоения пространства и времени в решающей степени изменились — их изменили автомобили, фильмы, радио» (Ibidem. S. 456). Критикам техники, названным Сафранским «Кассандрами современного мира», возражали те, кто настаивал: не в технике, а в самом человеке и в созданной им общественной реальности надо искать источник страхов, тревог, опасностей, как уже пережитых человечеством и особенно сгустившихся в 30-40-х годах, так и в высшей степени возможных в будущем. Заговорили, и справедливо, о «демонизации», «фетишизации» техники. В качестве наиболее популярного «антикритика» Р. Сафранский называет Макса Бензе. Он акцентировал хорошо известный факт: именно мы, т. е. люди, человечество, породили технический мир; он — древнейший продукт «нашей интеллигенции» (как интеллекта). «Но сегодня мы не в состоянии овладеть этим миром теоретически, духовно, интеллектуально. Отсутствует теория, его объясняющая, и вместе с тем отсутствует ясность относительно технического этоса, т. е. возможность выносить бытийно оправданные суждения внутри этого мира... Возможно, мы усовершенствуем сам этот мир, но мы не в состоянии усовершенствовать (perfektionieren) человека этого мира» (цит. по: R. Safranski. Op. cit. S. 457).
Этот суровый приговор был вместе с тем совершенно справедливым — еще и в том отношении, что четко объективировал исторически и социальную потребность в глубокой (притом «бытийно оправданной» — seinsgerechte) «теории техники».
Нет сомнения в том, что М. Хайдеггер, изнутри зная социальную и духовную ситуацию времени, твердо решил ответить на эту насущную потребность. Хочу напомнить (чтобы потом обратиться к вопросу специально), что и X. Арендт, рассказывая о духовных импульсах к написанию «Vita activa», сослалась на развернувшиеся сразу же после войны дебаты о технике вообще, об атомной бомбе и ее опасностях в особенности. И что Карл Ясперс был в них вовлечен; что В. Гайзенберг, не слу¬
чайно оказавшийся среди публики во время хайдеггеровского доклада, был из числа физиков-атомщиков, сразу после атомной бомбардировки японских городов (покаянно) включившихся в обсуждение проблем техники с точки зрения ее влияния на судьбы человечества.
Итак, зададимся вопросами: какое значение в формировании новых путей философствования Хайдеггера, в его повороте (Kehre) имело его новое, послевоенное обращение к технике, к философии техники? И какие темы, тематические блоки оказались в центре внимания мюнхенского доклада Хайдеггера и других его послевоенных речений о технике?
Очень удачный, на мой взгляд, — точный и в то же время сжатый — ответ на первый вопрос дает Г.-Г. Гадамер: «Теперь... радикальное осмысление предельных оснований современной эпохи, превращение технического наброска мира в определяющую все и вся судьбу человечества, образовывало единый и единственный фундамент опыта, на котором основывалась хайдеггеровская ориентация вопроса о бытии. Столь часто упоминаемое забвение бытия — характеристика, которую Хайдеггер сперва давал лишь метафизике, — теперь стало судьбой целой эпохи»* 1.
А теперь перейдем — для ответа на вторую группу вопросов — к анализу ряда текстов Хайдеггера о технике.
В одном, по крайней мере, отношении Хайдеггер ответил на (выраженную М. Бензе) потребность времени — он возвратился к самим истокам размышлений о технике, т. е. к греческим истокам. Нельзя было забывать о том, что teché, откуда и пошло слово «техника» (звучащее, если отвлечься от чисто грамматических нюансов, сходно на разных языках), имело древнегреческое происхождение. В рассуждение Хайдеггера о технике, пробужденное актуальнейшими (тогда и сейчас) проблемами, тесно вплетается древнегреческий материал, в особенности идеи Платона, Аристотеля. И органически вплетается греческий язык — и с изначальности его слов и терминов, и в их свободном толковании Хайдеггером. А это соответствует всегда имевшейся в хайдег- геровском философствовании, но в позднем творчестве поистине путеводной идее: «Все пути мысли более или менее ощутимым образом ведут через язык»2.
Хайдеггер сразу обозначает и другой господствующий срез своего анализа техники: «Мы ставим вопрос о технике и хотели бы тем самым подготовить возможность свободного отношения к ней. Свободным оно будет, если откроет наше Dasein для сущности техники. Встав вровень с этой сущностью, мы сумеем охватить техническое в его границах» (Там же. — В переводе Бибихина мы заменяем, как и раньше, при обсуждении «Бытия и времени», слово «присутствие» на оригинальный термин Dasein. — Н. М.). Иными словами, разговор о технике изначально встраивается в онтологию Dasein, т. е. в рамки концепции бытия, однако взятой в ее послевоенных вариантах.
«Техника не то же, что сущность техники». «Сущностью вещи, согласно философскому учению, называется то, что она есть» (Там же).
397
1 Х.-Г. Гадамер. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. Минск: Пропилеи, 2007. С. 153.
1 М. Хайдеггер. Время и бытие. М., 1993. С. 221. Далее при цитировании статьи
«Вопрос о технике» страницы указываются в тексте моей книги.
Часть Vil. í/iqbq 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники
398
л
a
o
Ю
8
0
1
I
S
£Q
X
В ответах на этот вопрос уже обозначились «примелькавшиеся представления о технике», в которых она предстает как средство и человеческая деятельность — их Хайдеггер называет «инструментальным и антропологическим определением техники» (Там же). Казалось бы, эти определения верны. Хайдеггер говорит даже о «страшной правильности инструментального определения техники», тем более применительно к новейшей (в XX веке) технике. Ибо при всех бросающихся в глаза изменениях по сравнению с техникой прошлого электростанции, реактивные самолеты — тоже средства для достижения целей. Итак, «инструментальный подход» к технике кажется правильным. Но хотя «правильность» эта — «страшная» (в чем именно — о том разговор впереди), все намерения людей вращаются вокруг стремления овладеть техникой как подвластным средством.
Хайдеггер сразу же обрушивает на читателя вопрос-сомнение: «Ну а если допустить, что техника вовсе не просто средство, как тогда будет обстоять дело с желанием овладеть ею? Впрочем, мы же сами сказали, что инструментальное определение техники верно. Конечно. Верное всегда констатирует в наблюдаемой вещи что-то соответствующее делу. Но такая констатация вовсе еще не обязательно раскрывает вещь в ее существе. Только там, где происходит такое раскрытие, происходит событие истины» (Там же).
Каким же должно стать «событие истины» применительно к сущности техники? Поиски ответа на этот вопрос, точнее, группу вопросов и составляет содержание анализируемого текста Хайдеггера. Особую, и заметную, часть рассуждения как раз и образует хайдеггеровское припадание к греческим истокам. Как и другие подобные «осовременивающие воспоминания» Хайдеггера о Платоне, Аристотеле и иных греческих мыслителях, обращения к их текстам у Хайдеггера — в связи с темой teché — блестящие, тонкие, интересные.
Кратко суммирую проблемные переплетения с великими идеями и текстами греческой древности.
Это известное учение Аристотеля о четырех причинах — causa materialis, causa formalis, causa finalis, causa efficiens. Проблемный повод толковать именно его четко обозначен Хайдеггером: «Где преследуются цели, применяются средства, где господствует инструментальное, там правит причинность» (Там же). Но отсылки к теме причинности Хайдеггер если не полностью дезавуирует, то ставит под некоторое сомнение обескураживающим и вовсе не праздным вопросом: «А что если существо причинности тоже окутано мраком?» (Там же). И потом: почему причин именно четыре, а не больше?
Хайдеггер — по его обычаю — высказывает эти и иные сомнения, чтобы переименовать, а тем самым перевести на другие рельсы рассуждение о причинности применительно к технике. «Четыре причины — четыре связанных между собою вида виновности» (Там же. С. 223). Понятие «виновности» Хайдеггер призывает не толковать в каком-либо морально-правовом смысле. Имеется в виду только следующее: «Четыре вида вины позволяют вещи явиться. Благодаря им вещь оказывается daseiend, наличной» («присутствующей», согласно верному в данном случае переводу В. Бибихина. — H. М.) (Там же. С. 224).
В свете общей темы нашего исследования полезно вспомнить о разделе «Das Herstellen» книги X. Арендт «Vita activa», где речь идет именно о продуцировании, создании «техники» в широком смысле этого слова и где, кстати, тоже богато задействовано обращение к древнегреческому материалу. Поскольку идеи Vita activa разрабатывались Ханной Арендт во многом самостоятельно, хотя и не без влияния раннего Хайдеггера, а также попадавших в ее поле зрения первых послевоенных публикаций Хайдеггера (что даже и в 50-х годах, при тогда еще слабых научнофилософских контактах Нового и Старого света было делом довольно трудным), предпочтительно говорить, в случаях идейного сходства, о «спонтанной параллельности» (термин Р. Отто), а не о прямом влиянии разбираемых здесь сочинений Хайдеггера на его бывшую ученицу.
При этом характерно, что и М. Хайдеггер, и X. Арендт обращаются к тем же, в сущности, мыслителям древности — и пусть не с идентичными, но со сходными целями.
В своей статье (раньше — в докладе) Хайдеггер обратился к диалогу «Пир» Платона (205 в), чтобы показать: великий греческий мыслитель стремится продумать «во всей широте», что есть произведение. Последнее предстает в греческом смысле. «Произведение — не только ремесленное изготовление, не только художественно-поэтическое выведение к явленности и изображенности» (Там же. С. 224). Главное здесь для Хайдеггера: «произведение» (и в смысле итога, и в смысле процесса создания, произведения) — переход прежде потаенного в непотаенное. Это могло состояться, учит Хайдеггер, благодаря внутреннему бытийному свойству мира, которое Хайдеггер расшифровывает «по-гречески»: «У греков для этого есть слово äXf|0eia. Римляне переводят его через veritas» (Там же. С. 224).
Хайдеггер предвидит вопросы-недоумения слушателей и(или) читателей. И сам бесстрашно формулирует их: «Куда мы забрели? Мы спрашиваем о технике, а дошли теперь до äXfjöeia, открытости потаенного. Какое отношение имеет существо техники к раскрытию потаенного? Ответ — прямое» (Там же. С. 225).
Хайдеггер, как всегда успешно, работает с греческими словами, здесь — со словом техуц, напоминая: с ранних веков и до эпохи Платона это слово стоит рядом с другим — £7ti<m|pT|, эпистема. Иначе говоря, аспект деятельности, изготовления продуцирования (у X. Арендт — das Herstellen) тесно связан с умением, основанным на знаниях, эписте- ме. (Следуют ссылки на «Никомахову этику» Аристотеля, кн. VI, гл. 3 и 4, где — согласно словарю Хайдеггера — выведение из потаенности есть вид «истинствования», äXr|0eueiv.) Хайдеггер решительно отводит подозрение в том, что подобные рассуждения — с опорой на Платона и Аристотеля — еще могут, дескать, иметь значение для ремесленной техники, но нерелевантны машинной технике (тем более новейшей информационной технике, сказал бы наш современник).
Вот к этому блоку анализа может быть с пользой для дела отнесена часть исследования X. Арендт, которая проясняет уже не только процесс создавания, das Herstellen, а его связь с эпистемической в высшем смысле слова, с сугубо философской теорией идей Платона (о чем более
399
Часть VII. Глава 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники
400
2
о
э
о
о.
I-
о
S
ао
X
подробно говорилось в соответствующем разделе, посвященном V.a., конкретнее — теме das Herstellen).
Исключительно интересно и очень подробно мысль о том, что «создающее (herstellende) изготовление» с приходом Нового времени должно было «занять первое место среди человеческих способностей» (с. 386), Ханна Аренд развивает в последней главе «Vita activa» — например, в § 42 с характерным названием «Переворот внутри vita activa и победа homo faber’a». Тут X. Арендт снова возвращается к темам, ею ранее уже освещаемым, — к философским сочинениям Платона и Аристотеля. Например, она напоминает, что Аристотель, обращаясь в «Метафизике» (Метафизика 1025b и далее, 1064а 17 и далее) к различным формам познания, «без всякого смущения» выражает мнение, согласно которому Sidvoia и етисттццц ярактисц, «практически планирующее мышление» (как это понимает X. Арендт), относится к низшим формам познания, тогда как еяштгщг| ткнг|Т1КГ|, т. е. знание, сопутствующее das Herstellen, стоит значительно выше (см. с. 394). И вот характерный вывод X. Арендт: «Уже Платон сделал вывод в пользу homo faber’a, когда начал заимствовать примеры и иллюстрации из сферы das Herstellen...» (с. 397).
Новое время, как его в этом контексте понимает и описывает X. Арендт, закрепило эти философские «предчувствия», полностью оттеснив и homo Iaborans, и человека поступающего, поместив на первое место «образец» действий homo faber’a. «Среди выдающихся черт Нового времени от его начальных стадий вплоть до времени, в котором мы живем, повсюду можно проследить типичные образцы поведения homo faber’a: тенденцию трактовать все преднайденное и преддан- ное как средство; большое доверие к орудиям и высокая оценка производительности в смысле производства искусственных предметов; абсолютизация категории цели-средства и убеждение что принцип полезности способен разрешить все проблемы и объяснить все человеческие мотивы; суверенная распорядительность, для которой всякая данность сразу становится материалом и вся природа воспринимается как громадное полотно, из которого мы можем выкраивать что хотим, чтобы снова перекроить все по нашему желанию...» (с. 398-399). Это замечательная по меткости и целостности зарисовка тех мотивов, побуждений, тенденций, идей и идеологем, которые по отдельности то достаточно открыто, то закамуфлировано проговариваются, составляя вместе крайнее технократическое сознание, у которого есть и носители, и идеологи-выразители. Можно — к чести М. Хайдеггера и X. Арендт — сказать, что в их время оно еще не имело такого широкого влияния и не обрело столь многочисленных форм проявления, реализации в реальной практике, в нашу эпоху приведшей к «технократизации» в том числе и нетехнических областей деятельности.
Полагаю, оба типа анализа — у Хайдеггера и у X. Арендт — могут хорошо дополнять друг друга, ибо и в том, и в другом случае констатация чисто деятельностного аспекта (у Хайдеггера про-из-ведения, у Арендт — процесса «das Herstellen», создавания, изготовления) перетекает в изучение познавательно-раскрывающих сторон совокупного процесса (в бытийном смысле выведения из потаенности — со ссылкой
на бесконечно-дорогое Хайдеггеру понятие «алетейя»). Вернемся к хайдеггеровскому анализу.
Представленное движение мысли помогает Хайдеггеру в анализе техники перейти к важному и чувствительному пункту — к доказательству того, что сказанное им (с опорой на гениев Античности) о techn6 с полным правом может быть отнесено и к «современной технике». «Что такое современная техника? Она тоже раскрытие потаенного» (Там же. С. 226). «Извлечение, переработка, накопление, преобразование — виды выведения из потаенности» (Там же. С. 227).
Рассуждения Хайдеггера о переходе от потаенности к непотаенно- сти претендуют на роль раскрытия нового бытийного фундамента, на основе которого можно и нужно толковать другие философские проблемы, одновременно и древние, и сугубо современные, к каковым принадлежит и вопрос о технике. Но если верно говорить, что обновленное учение о бытии Хайдеггера позволяет по-новому взглянуть, скажем, на технику, то верно и обратное: состав, характер, значение такого рода современных проблем толкали Хайдеггера к повороту в общей теории бытия. Если до определенного момента еще можно было фундировать философию теорией бытия, в духе традиций трансцендентализма сконцентрированной на Dasein, бытие-сознание (индивидуального) человека, то перемены, происшедшие в мире, не могли не привлечь внимание глубоко мыслящих философов к тому в мире и его бытии, что, с одной стороны, имеется в мире природы и в человеческой истории «потаенно» и имеется всегда, а с другой стороны, постоянно и, значит, в социально-историческом движении «раскрывается» человеку и становится «непотаенным». Греческое слово «алетейя», имевшее немалое значение для того греческого мира, в котором оно зазвучало в речах философов и «светилось» в их написанных или передаваемых изустно учениях, наполнилось — по крайней мере у Хайдеггера — новым смыслом1.
Хайдеггер подробно расписывает подтему такой «потаенности» природы, которая как бы «готова» приоткрыться человеку — и не потому, что обладает неким мистическим свойством, а в силу бытийной «предрасположенности» к какому-либо определенному использованию вещей и сил природы, независимо от того, где, когда, как эти возможности «откроются» человеку. Люди долгое время не имели понятия ни об электричестве, ни о том, что электрическую энергию они смогут получать, построив, скажем, гидроэлектростанции. Но затем наступила такая техническая эпоха, когда «раскрытие потаенного» превратилось в производство, «ставящее перед природой неслыханное требование быть источником энергии, которую можно было бы добывать и запасать как таковую» (Там же. С. 226). «Производство» вещей и ранее, разумеется, имело место, но только в новые времена оно с самого начала становится ориентированным на воспроизводство. Констатируя все это, Хайдеггер порою отмечает, что система современного технического использования природы приводит к «чудовищным», как он пишет, результатам. «На
401
1 См. замечательное лингвистическое разъяснение А.Г. Чернякова применительно к этому греческому слову (с соответствующими указаниями об эквивалентных по значению словах русского языка): А.Г. Черняков. Хайдеггер и греки// М. Хайдеггер. Сб. статей / Сост. Д.Ю. Дорофеев. СПб.: РХГИ, 2004. С. 221, 228-229.
Часть VII. Глава 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники»
402
л
а
о
ю
Q
О
о
О
3
о
о.
о
S
ad
X
Рейне поставлена электростанция... Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроен старый деревянный мост, веками связывавший один берег с другим. Скорее река встроена в гидроэлектростанцию» (Там же. С. 226, 227). Но вообще-то подобных критических сетований и соответствующих «кассандровых» предсказаний у Хайдеггера (здесь) немного. Он предпочитает рассуждать пусть выспренно, но без лишних эмоций, излагая лишь «суть дела ».
Для него куда важнее философски раскрыть истоки той тенденции человеческих (здесь — технических, производящих) действий, благодаря которым, скажем, бывает «поставлена» (gestellt) (в двух смыслах — «поставлена на Рейне » или какой-либо другой реке и «поставлена », предоставлена в распоряжение человека) какая-то новая система средств. Возникают следующие вопросы: «Кто осуществляет все это поставляющее производство, через которое так называемая действительность выходит из потаенности для состояния в наличии? Очевидно, человек. До какой степени он своими силами способен на такое раскрытие потаенного? Человек может, конечно, тем или иным способом представлять, описывать и производить те или иные вещи. Но непотаенностью, в которой показывает себя или ускользает действительное, человек не распоряжается. То, что со времен Платона действительное обнаруживает себя в свете идей, не Платоном устроено. Мыслитель лишь отвечал тому, что было к нему обращено как вызов» (Там же. С. 228. Курсив мой. — Н. М.). Это замечание, пусть оно без (нужных) уточнений и дифференциаций отнесено ко всему многовековому развитию, начиная с древности, в принципе справедливо.
Верно, что при создании технических средств люди, приоткрывая завесу над прежде «потаенным», все же не знают многих его внутренних свойств и тенденций, однако уже вводят, «поставляют» такие средства в мир человеческой истории. Правда, следовало бы уточнить, с каких «исторических моментов» (охватывающих и способных охватить целые века) такое неведение людей — вместе с их желанием быстро сделать что-то техническое, воспроизвести, распространить по миру — может привести к поистине роковым результатам, теперь результатам глобальным, затрагивающим все человечество. А таковые тем не менее неизбежны — например, необратимые изменения климата к XXI веку из-за эксплуатации технических устройств, сотворенных в XX веке. В таком контексте весьма важно было говорить об атомной энергии. Но Хайдеггер здесь не задается специально этим вопросом. Тем не менее в ходе истории как раз проблемы атомной техники чудовищно обострились, что произошло, скажем, в конце XX века из-за катастрофы в Чернобыле или — совсем недавно — в Фукушиме.
Хайдеггер же в данном контексте1 инициирует лишь тот абстрактный (в отношении конкретики социально-исторического процесса развития техники) философский разговор, который почти не содержит обращения к тем или иным реалиям истории, в частности и особенности XX века. А половина его, напомним, к тому времени уже прошла. На пути абстрактно-философского поиска Хайдеггер искал и нашел
1 В других публикациях и интервью Хайдеггер, пусть кратко, порою обращался к конкретным темам и особым чертам.
собственное понятие, которым можно было суммарно обозначить узел проблем, выходящих в его анализе на поверхность и требующих разработки. Это был сложный для понимания, новый для философии хайдег- геровский термин. В оригинале употреблялось слово Gestell.
«По-став» (Ge-stell) как сущность техники
Есть нечто объединяющее, рассуждает Хайдеггер, в таких названиях, которые соответствуют неким реальным состояниям и охватываются словами, начинающимися с приставки «Ge-» (по-русски — «по-», например, побережье). Это начальное разъяснение Хайдеггером предлагаемого понятия. «Назовем теперь тот захватывающий вызов, который сосредотачивает человека на поставлении всего, что выходит из потаен- ности, в качестве стоящего-в-наличии, — по-ставом» (Там же. С. 229). Надо также принять в расчет обычную филигранную игру Хайдеггера с языком, здесь — со словами от корней «stell-» — «stellen». Фр. фон Херрманн поясняет: «Здесь частица „Ge-” именует объединяющее, а частица „-stell” имеет в виду как „поставление” [чего-то] человеку, так и поставление (das Stellen) [самим] человеком, в его подлежащей осуществлению набрасывающе-раскрывающей экзистенции»1.
Вообще-то обращение Хайдеггера — при прояснении коренных философских вопросов — к многозначности некоторых слов обыденного языка (в его случае — немецкого, а также греческого или латинского) всегда интересно и по-своему полезно. В случае глагола «stellen» он использует некоторые особо важные ему в том или ином контексте оттенки смысловых значений. Обратимся и мы к (подробному) толковому словарю немецкого языка. Глагол «stellen» имеет такие основные значения: 1) ставить что-либо (например, стул к окну); (далее с приставками): приставить (лестницу), подставить что-либо под что-то; 2) устанавливать, включать, регулировать; 3) ставить (кого-либо на какое- либо место)', 4) предоставлять, выделять (предоставлять автомобиль, людей для работы, предоставлять что-то в распоряжение кого-то); 5) ставить, выдвигать (требование, предложение и т. п.); ставить вопрос; 6) ставить — в смысле подвергать проверке, испытанию что-либо; ставить под вопрос, подвергать сомнению и т. д.; 7) задержать, схватить (преступника)2. (Интересен этот глагол и в форме sich stellen — становиться, установиться, явиться, относиться к чему-либо.)
Нетрудно заметить, что из перечисленных словарных значений Хайдеггера — в случае образования и объяснения Ge-stell, в его толковании — «поставляющего и постава», по существу задействовано все многозначие коренного слова «stellen». Но все значения так сгруппированы, чтобы в центр выдвинуть «проблемно-собирающее », а не вещное толкование. Ведь «Ge-stell» — не обозначение какой-либо вещи или материального состояния, а объединение сразу нескольких, искусственно собранных именно Хайдеггером теоретических смыслов. И прежде всего, как пишет он сам, это «вызов», некоторая совокупная необходимость, сущность определенных действий человека и человечества. На первый план выдвинута возможность выразить вот какой оттенок: что-
1 Fr.-W. von Herrmann. Op. cit. S. 33.
2 Большой немецко-русский словарь. M.: Русский язык медиа, 2007. С. 897-898.
Часть VII. (лава 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники»
Н.В. Мотрошилово «Ш Мартин Хайдеггер и Ханна Врендт: бытие-время-любовь
404
либо «поставлять», «предоставлять» в распоряжение, почему русский перевод Gestell словом «по-став» можно считать удачным (по крайней мере по передаваемому смыслу). Однако самому Хайдеггеру увязывание с чистыми, так сказать, языково-грамматическими возможностями совершенно недостаточно, почему он дает дополнительные пояснения к своему более чем необычному терминологическому выбору.
В анализируемой статье он напоминает: в обыденном языке «Gestell» означает ткацкий станок, мельничные жернова. Это «жесткие, тяжелые» слова. И таким же покажется его, Хайдеггера, «употребление слова „постав”, не говоря уже о произволе такого переиначивания слов зрелого языка» (М. Хайдеггер. Вопрос о технике. С. 229. Курсив мой. — Н. М.). Итак, признано: слово «зрелого языка» (здесь — Gestell) «переиначивается»; более того: «зайти дальше со странностями» переиначивания вряд ли возможно. «Но только эти странности — старый обычай мысли» (Там же). Следует ссылка — и вполне уместная — на подхваченные Платоном слова «эйдос» и «идея» в их сначала обыденном употреблении для последующего конструирующе-антивещного обозначения мира идей. (Вспомним, X. Арендт тоже свидетельствовала: «i6ea » до Платона было малоупотребительным, скорее обыденным словом.) Так обстоит дело и с «поставом»: новое употребление как будто бы известного слова необычно, «может вызвать недоразумения», признает Хайдеггер.
Последующая история философии показала: необычный термин, несмотря на все трудности понимания его, прижился — правда, скорее при обсуждении и осмыслении философии Хайдеггера, т. е. в контексте хайдеггероведения. А ведь Хайдеггер вверяет новому термину специфические и существенные объясняющие функции. Какие же?
• По мысли Хайдеггера, термин «Ge-stell» помогает(-де) раскрыть сущность современной техники. «Существо современной техники таится в поставе. Последний повинуется миссии раскрытия потаенности» (Там же. С. 232). Во всяком случае, обращение к «поставу», полагает философ, дает много больше для понимания, чем «часто слышимые речи», скажем, о технике как судьбе современной эпохи и т. п. Это обещание нам предстоит проверить.
В дальнейшем хайдеггеровском толковании обнаруживается, что разъяснение «постава» требует апелляции к истории и историческому. «Существо техники покоится в поставе. Его власть отвечает судьбе исторического бытия. Последняя всегда посылает человека на тот или иной путь раскрытия потаенности...» (Там же. Курсив мой. — Н. М.). Расшифровка у Хайдеггера этого «исторического» тоже потребует обдумывания и критической проверки.
• В «миссии раскрытия потаенности» всегда заключен, утверждает Хайдеггер, немалый риск. Ибо сама по себе «миссия раскрытия тайны» «есть не какая-то, а главная опасность. Но когда эта миссия правит в образе по-става, она — крайняя опасность» (Там же. С. 233). При этом избежать риска, опасности, связанных с тем, что в бытии человека «правит постав», как считает Хайдеггер, нет никакой возможности. К тому же: «Где правит постав, на всякое раскрытие потаенного ложится печать управления, организации и обеспечения всего состоящего в наличии»
(Там же). (Верно. Но жаль, что эта линия не проясняется у Хайдеггера сколько-нибудь конкретно.)
• Отсюда — общие формулы философии техники Хайдеггера, а одновременно и ответ на распространенные (и в его, и в наше время) противоположные крайности в толковании положения техники в современном (в широком смысле слова) мире: «Постав встает на пути свечения и правления истины. Миссия, посылающая на исторический путь поставления действительности, есть поэтому высший риск. Опасна не техника сама по себе. Нет никакого демонизма техники; но есть тайна ее существа. Существо техники как миссия раскрытия потаенности — это риск... Угроза человечеству идет даже не от возможного губительного действия машин и технических аппаратов. Подлинная угроза уже подступила к человеку в самом его существе» (Там же. С. 234).
• Итак, «с господством постава приходит крайняя опасность.
Но где опасность, там вырастает И спасительное» (Там же).
Последние — стихотворные — слова принадлежат Гёльдерлину (из его гимна «Патмос» — 1802 г.). (Контекст у Гёльдерлина иной, чем у Хайдеггера, — он касается понимания Бога.)
После тонких частных разъяснений Хайдеггер приходит к выводу: ответ на вопрос о «спасительном» в случае техники должен состоять в выяснении смысла слов «существо техники» (Там же). И опять следуют типично хайдеггеровские, т. е. мало кому — кроме Хайдеггера — приходящие в голову разъяснения относительно «сущности», или «чтойности» (Quidditas), на этот раз применительно к технике. В отличие, скажем, от сущности, при-сущей всем видам деревьев — «одной и той же древесно- сти», — под существом техники, тем более применительно к «современной » технике (в примеры которой взяты паровая турбина, радиопередатчик, циклотрон), нельзя понимать некую «родовую общность ».
Если мы (вместе с Хайдеггером) сказали, что существо техники, включая современную, — это «постав», то нужно снова и снова подчеркнуть: в данном случае Gestell не означает какой-либо прибор, какое-либо конкретное устройство, не обозначает и «обобщенное понятие подобных устройств». «Во всяком случае, хотя постав как миссия раскрытия потаенности есть существо техники, он никоим образом не сущность в смысле родовой общности, не essentia» (Там же. С. 235). (Попутно Хайдеггер обращает внимание на «поразительное обстоятельство»: это техника заставляет нас задуматься над тем, что и понятие «сущности» вдруг предстает перед нами в «каком-то другом смысле». — Там же.)
Приводятся любопытные ссылки на поэтов (в данном случае это И.П. Хебель), выводящие на свет старые, сегодня забытые слова и реалии, связанные с понятием «сущность» (нем. Wesen', так, Хебель упоминает о старинном слове «Uzerei», некогда обозначавшем ратушу как средоточие жизни немецкого поселения1). Все это имеет значение для
405
1 В. Бибихин в своих примечаниях к тексту Хайдеггера уместно вспоминает о чем-то сходном в русском языке и его праистории: «...слово „суть” (с его формами „есмь”, „есть”) связывается через гипотетическое праславянское *sotsb с латинским sonticus „лежащий в основании”, готским sunja „истина”, древнеиндийским sant, sat „подлинный, правдивый, истинный, сущий”...» (М. Хайдеггер. Время и бытие. С. 422).
Часть VII. (лава 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники»
Н.В. Мотрошилова Щй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
406
Хайдеггера в контексте его изощренных рассуждений о том обновленном смысле понятия «сущности», которое оказывается пригодным в случае прояснения именно «постава» как сущности техники. «Уже когда мы говорим о том, что такое вещь „в сущности”, мы имеем в виду не общеродовое понятие, а то, чем вещь держится, в чем ее сила, что в ней обнаруживается в конечном счете и чем она жива, т. е. ее существо» (Там же. С. 235. Курсив мой. — Н. М.). Вот почему №еБеге1 у Хебеля — хорошая подсказка для Хайдеггера.
«В качестве сущности техники, — другими словами выражает движение своей мысли Хайдеггер, — по-став есть нечто пребывающее » (Там же. С. 236). Для расшифровки снова используются подсказки поэтов. Так, Гёте (в работе «Избирательное сродство») вместо слов «продолжало существовать» употребляет, согласно Хайдеггеру, «таинственно звучащее» словосочетание «продолжать осуществляться». Хайдеггер превращает эту мысль в формулу: «Изначально и ранее всего пребывающее — это осуществляющее» (Там же).
Применить столь абстрактную формулу к технике непросто, что хорошо понимает сам Хайдеггер. Уже вопрос о «пребывающем» как «осуществляющем» в случае техники, признает он, «кажется явным промахом» (Там же). И верно: пусть какая-то техника всегда существует, но она исторически изменчива. Правда, проходят целые века некой технической стабильности, но по их прошествии техника новой эпохи разительно отличается от техники прошлого. Есть ли выход, в случае если, подобно Хайдеггеру, задуматься над «пребывающим», сущностно непреходящим применительно к технике? Хайдеггер уверен, что есть: «...Существо техники таит в себе — чего мы всего меньше ожидаем — возможные ростки спасительного» (Там же). Но «распознать ростки спасительного и признательно сберечь их» все же очень трудно, особенно если мы будем «просто оцепенело глазеть на техническое» (Там же). Надо, учит Хайдеггер, «усилием разглядеть существо техники». А это — для начала — значит, что следует прекратить «представлять себе технику как инструмент и орудие». В этом случае, выразительно повествует Хайдеггер, «нас пронесет мимо существа техники» (Там же). А если «техника» — не инструменты и орудия, тогда что она есть?
• Дальнейший шаг мысли, который должен предотвратить печальный (и для философии, и для практики) исход — что нас «пронесет мимо » искомой сущности, — состоит, по Хайдеггеру, в следующем: «Существо техники двусмысленно в высоком значении слова» (Там же. С. 237). Полагаю, что в таком контексте (чисто негативное) русское слово «двусмысленность» способно сбить с толку. Вернее говорить о наличии двух смыслов, внутренне заключенных, по Хайдеггеру, в существе техники. С одной стороны и «во-первых, постав втягивает в гонку поставляющего производства, которое совершенно заслоняет событие выхода из пота- енности и тем самым подвергает риску самые корни нашего отношения к существу истины» (Там же). Но есть, во-вторых, противоположная и, по Хайдеггеру, «спасительная» сторона, во всяком случае содержащая в себе хотя бы «ростки спасительного». Ее Хайдеггер описывает весьма витиевато. Но в принципе речь идет вот о чем: по-став «в свою очередь осуществляется путем [особого] осуществления», при котором роль че¬
ловека в этом процессе сохраняется, причем в весьма важной и ответственной функции — «в качестве требующегося для хранения существа истины» (Там же).
Хайдеггер не скрывает, что, согласно его пониманию, борьба двух начал совсем не «обречена на успех». Постоянная угроза, исходящая от «поставляющего производства», не может быть (заведомо) преодолена благодаря человеческим усилиям «самим по себе». Но что остается «в силах человеческой мысли », так это продумать, как сделать спасительное соразмерным с громадными угрозами и опасностями (Там же).
К концу статьи (доклада) появляется нечто способное, по Хайдеггеру, «показать свет спасительного» среди означенных опасностей. Можно понять, как напряглись слушатели доклада (и напрягаются многочисленные читатели), услышав от Хайдеггера это обещание «спасительного». Ведь дело идет о совсем нешуточном: уже тогда, после атомных бомбардировок, нельзя было не осознать смертельной опасности применения наиболее «продвинутых» технических средств. Сегодня опасности и опасения возведены в степень — и обернулись они глубокими глобальными, бытийно-цивилизационными кризисами.
В чем же спасительное состоит? Хайдеггер, как это бывало в аналогичных случаях (раньше и позже), в 1953 году позвал заинтригованных слушателей, а потом и читателей не вперед, а назад. Да, он позвал... снова вернуться мыслью к грекам. Коротко — о ходе его мысли в случае техники.
«Когда-то не только техника, — говорил и писал Хайдеггер, — носила название „техне”. Когда-то словом „техне” называлось и то раскрытие потаенного, которое выводит истину к сиянию явленности. Когда- то про-из-ведение истины в красоту тоже называлось „техне”. Словом „техне” назывался и „пойесис” изящных искусств» (Там же). Хайдеггер потому перемещается мыслью от техники к искусству, что имеет в виду «искусства», которые «коренились не в художественной сфере» и произведения которых не были «объектом художественного наслаждения».
Как бы понимая, что и «возврат к древнему» невозможен, и ориентирование насквозь «технического мира» на художественную сферу утопично, Хайдеггер сам формулирует проблему достаточно остро: «Дано ли искусству осуществить эту высшую возможность своего существа среди крайней опасности, никто не в силах знать. Но мы вправе ужасаться. Чему? Возможности другого: того, что повсюду утвердится неистовая техническая гонка, пока однажды, пронизав собой все техническое, существо техники (читай: по-став. — Н. М.) не укоренится на месте события истины» (Там же. С. 238).
Можно представить себе, как были разочарованы напрягшиеся слушатели, которым все это было сообщено в виде расшифровки сказа о «ростках спасительного». Утвердить на месте утопий «технического рая» утопию всепобеждающего искусства («красота спасет мир»)? Вряд ли тогда, в начале 50-х годов XX века, кто-либо мог поверить в такие перспективы. А обоснование «права ужасаться»? Ничего нового, тем более спасительного, тут не было. Ведь уже тогда такое право было довольно широко реализовано человечеством. Применительно к нашему времени можно утверждать, что такое «право» использовали сполна
407
Часть VII. (лава 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники»
408
8
э
о
а
ь
о
S
00
многочисленные авторы, еще полнее и куда подробнее расписавшие как состоявшиеся, так и вполне правдоподобные в будущем «ужасы» техники. К тому же «ужас ужасов» — в виде атомной бомбардировки — снова напомним, уже состоялся...
Теперь, опираясь на проделанный анализ и привлекая к (краткому) рассмотрению другие послевоенные сочинения Хайдеггера о технике, попытаюсь дать оценку как философии техники этого выдающегося мыслителя, так и ее роли в «поворотах» хайдеггеровской концепции бытия.
Философия техники Хайдеггера: pro и contra
Зададимся вопросами: в чем оригинальность содержания, стиля, характера послевоенных размышлений Хайдеггера о сущности техники? Что нового они вносят в его концепцию бытия? Какое место эти его размышления занимают в череде теперь уже бесчисленных философских, социально-философских учений, посвященных проблемам техники — ее сущности, значения для человека, роли в современном обществе и обществе будущего? И особый вопрос нашей книги: в чем сходства и различия мыслительных путей М. Хайдеггера и X. Арендт в их обращениях к вопросам о сути и путях развития техники? На эту совокупность сложнейших вопрошаний здесь можно дать лишь краткие ответы.
• Специфика хайдеггеровского теоретизирования о технике и ее сущности
Хайдеггер, как мы видели, не спешит присоединять свой голос к хору тех авторов, которые к его времени разделились на противоположные партии защитников или, наоборот, хулителей технических деяний человечества, ибо и те и другие, по его мнению, демонизируют технику. Правда, и он не против, он даже — за то, чтобы люди «ужаснулись» всему достойному такой реакции, отчетливо понимая, что «технические ужасы» будущего могут превзойти даже самые мрачные предчувствия и предсказания. В то же время в развитии техники он усматривает, как мы видели, и «спасительные» начала. Главное же соображение, почему Хайдеггер — по существу — призывает отказаться от застревания на споре «прогрессистов» (еще в XIX веке составлявших большинство) и «антипрогрессистов» (видимо, составивших большинство в XX и особенно в XXI веке), заключается в следующем: диалог, по его мнению, должен быть переведен с чисто ценностных на содержательно-сущностные рельсы. Что же, к этому призыву можно присоединиться.
Перевод размышления на другие рельсы для Хайдеггера начинается с двух мыслительных шагов. Первый шаг прост, и он давно сделан многими интерпретаторами: надо понять и принять почти что очевидный тезис о том, что нет некой «вины» на самой бессловесной технике, что технику создает и несет за нее ответственность человек. Вернее было бы сказать: создает технику человечество в исторически, социально определенном взаимодействии индивидов, поколений, народов. Мы увидим, что Хайдеггер, пусть и поворачивая, в объяснении техники, к истории, не делает в размышлениях о технике такого «поворота» к социальноисторическому анализу. Но об этом — несколько позже.
Сейчас же — о втором шаге, на котором Хайдеггер последовательно и упорно настаивает. Надо «разыскивать» сущность техники, к чему склонна и способна только философия. Уточняющий вопрос о том, как это должна сделать философия, Хайдеггер решает совершенно оригинально. Приметы его подхода уже проступили в нашем предшествующем текстологическом анализе. Какова же специфика предлагаемой Хайдеггером сущностной философии техники? Кратко подытожим эти специфические черты.
• Для проникновения в «суть» техники Хайдеггер решительно требует «поворота» к истории. Как отмечалось, сам по себе этот шаг вполне верен и настоятельно необходим. Но о какой именно истории идет речь у Хайдеггера? Это отнюдь не история техники, которая описывала и осмысляла бы в их конкретно-историческом обличье этапы движения человечества от одной «технической» эры к другой. Такие конкретноисторические разыскания были достаточно профессионально проделаны исторп' лми и другими авторами в XX веке, существуют они и в наше время. Но Хайдеггер имеет в виду не их — ив его сочинениях о технике, кажется, нет особых ссылок на такие изыскания. Когда говорится о «современной технике», то кроме простого упоминания об автомобилях, о циклотроне, самолетах и т. п. тоже не дается отсылок к исследованиям, которые бы показали, когда и как совершается «поворот» к новейшей тогда технике и в чем состоят ее отличия, скажем, от технических средств предшествующей эпохи.
• Что касается противостояния ревностных защитников и, наоборот, горячих противников техники, то конкретных и содержательных ссылок на их суждения, идеи, концепции у Хайдеггера искать тщетно. А ведь в XX веке, особенно в 40-50-х годах XX века, в изобилии появились технократические концепции — в виде возвеличения «революции управляющих» (Дж. Бернхейм), особых надежд на «компетентность и эффективность» управления техникой (L. Armand, J. Barets; книга последнего носила примечательное название — «La fin des politiques», «Конец политик»)1 и т. д. (Мы уже видели, что этой «болезнью» — пренебрежением к специальной литературе, релевантной избранной теме, — не страдала X. Арендт.)
Тогда к какой же истории призывает повернуться Хайдеггер при осмыслении сущности современной техники?
«Поворот» к истории, который требует и частично осуществляет Хайдеггер, состоит прежде всего в «возвратно-историческом» взгляде на философские представления о технике, восходящие к греческой Античности, и прежде всего представшие в работах Платона и Аристотеля. Конкретнее же Хайдеггер привлекает внимание, например, к диалогу Платона «Пир», благодаря которому он поясняет особый оттенок производящего действия, касающийся «греческого понятия причинности» и запечатлевающегося в слове «повод». Уместно цитируется (Там же. С. 124) та часть «Пира» (205в), где Платон говорит: «Всякий по-вод для перехода и выхода чего бы то ни было из несуществования к присутствию есть 7ioT|mç, про-из-ведение». Что касается Аристотеля, то (как мы видели)
409
1 См,: Л. Седов. Технократия // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5.
С. 230.
Часть VII. (лава 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники»
H.ß. Мотрошилова MB Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
410
поминается и разбирается закрепившееся на столетия достаточно высоко оцениваемое аристотелевское учение о четырех причинах, к которому, кстати, у Хайдеггера есть критические замечания (Там же. С. 222, 223). В центре же анализа находится понятие «techne», от которого, как известно, ведет свое происхождение «интернациональное» (т. е. существующее на многих языках) слово-понятие «техника». Для Хайдеггера такое историко-философское возвращение обретает смысл более широкий и глубокий, нежели желание проявить историко-философскую эрудицию.
Во-первых, решается общая задача «поворота» к сущностному историческому осмыслению техники как таковой, независимо от ее конкрет- wo-исторических модификаций, сколь бы впечатляющими они ни были. И постановка этой сущностной задачи вполне правомерна.
Во-вторых, упорное стремление Хайдеггера возвратить также и проблемы современного развития техники к истории Античности резюмируется в его понимании перспективы и цели, которые ясно обозначились к концу доклада-текста «Вопрос о технике». Они состояли в уже отмеченном ранее истолковании характерного для размышлений греческой Античности объединения в понятии techne и той специальной деятельности, которая способствовала созданию чисто «технических» средств (т. е. орудий и инструментов), и той, которая вела к творению произведений искусства. Для такого синтеза технического и художественного начал история древности, и не только греческой, давала немалые, притом реальные основания: создание древних «инструментов» было делом и уделом сословия ремесленников, что долгие века не отделялось от искусства. Поэтому античные авторы и осмысляли такой труд, вполне творческий по своему характеру, под крылом понятия «techne». И пусть впоследствии в истории оба типа, обе области «создавания», про-из-ведения как процесса (das Herstellen) имели тенденцию разделяться так, что уже редко соотносились, тем более совмещались друг с другом в единых сферах и процессах, — Хайдеггер усмотрел «спасительное» как раз в подобном, как ему казалось, необходимом и возможном объединении когда-то в будущем. Я уже выразила свое отношение к подобной идее как утопической, по крайней мере для ближайших веков истории. Данная идея совмещалась с хайдеггеровским требованием-надеждой, чтобы человек в конце концов «овладел» техникой вместо подвластности ей. Такой подход специали- сты-хайдеггероведы назвали ынтропократиейъ, т. е. переходом «власти» над техникой человеку. И тогда возник вопрос, который метко сформулировал один из хайдеггероведов, Бранко Босняк в уже цитированной книге «Искусство и техника» (1989): «Не является ли сказанное последней утопией? Может быть. Но ведь остается сила за антропократией в качестве программы на будущее. В соответствии с нею развитие техники должно иметь человеческое „притяжение”, а не господствовать, в качестве отчужденной силы, над людьми»1. Понимать утопию как «программу на будущее» — это весьма спорный ход. Но, пожалуй, другого смысла, чем некое пожелание (притом вряд ли осуществимое), рассмотренный мыслительный шаг Хайдеггера в себе не содержит.
1 B. Bosnjak. Teche als Erfahrung der menschliche Existenz // Kunst and Technik. Fr. a/M.: Vittorio Klostermann, 1989. S. 108.
Обобщая ранее сказанное, можно (предварительно) так определить стиль, характер, специфику размышлений о технике в составе философии Хайдеггера. Конечно, это были философские, причем не описательные, а сущностно-философские размышления. Их специфика — сугубая абстрактность, намеренный уход от какой-либо социально-исторической конкретности. И на таком пути оказалось возможным — разумеется, для столь выдающегося мыслителя, как Хайдеггер, — напасть на след действительно существенных особенностей и технических «продуктов» (техники в материально-вещном смысле), и главное, той деятельности, которая приводит к их созданию. И как следствие — приводит к отчуждению человека от созданного им технического мира, а также к стойкому, путь и превратному впечатлению, что это, дескать, «сама техника» господствует над человеком.
Полагаю, Хайдеггер поистине гениален в раскрытии тех реальных особенностей техники, которые он обозначает словами «поставлен- ность» и «по-став» (Ое^еИ). Прав он и в том, что как раз эти специфические черты как бы усугубляются по мере развития техники, приводя к крайним опасностям, главная из которых: техника, создание человеческого интеллекта и «человеческих рук» (во все более опосредованном техникой смысле последних двух слов), как бы превращается в мнимо самостоятельную силу, стоящую над человеком и как бы господствующую над ним. Но как раз в таких ярких хайдеггеровских суждениях, констатациях, выводах проявляются слабости и ограниченности абстрактно-философской концепции Хайдеггера. Такого рода философские теории еще относительно пригодны, пока речь идет о философских же размышлениях, учениях и понятиях. Вот почему всегда интересными и уместными являются хайдеггеровские «осовременивающие воспоминания» (термин Гуссерля) о текстах, понятиях античной философии, больше всего — Платона и Аристотеля. Особенно тогда, когда речь заходит о «технике как таковой» — а говорить, мыслить об этом вполне правомерно. Но прямое приложение многих античных идей о 1есЬпё к современной технике «отказывает» как раз тогда, когда требуется определить ее сущность, ее специфику.
Вот тут абстрактность, пренебрежение социально-историческими, социально-философскими возможностями анализа, невнимание также и к конкретной истории техники, оборачиваются и существенными теоретическими изъянами, и программными слабостями, например уже разобранным утопизмом.
Что же касается эволюции собственной философии Хайдеггера, то в ней размышления о технике шли рука об руку с «поворотом» в рамках общебытийной концепции. Охарактеризуем далее эту связь, в высшей степени существенную для понимания эволюции учения Хайдеггера о бытии.
411
Часть VII. (лава 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники:
ГЛАВА 3
«Поворот» (Kehre) и поздняя концепция бытия М. Хайдеггера
Для освещения этого вопроса очень полезно вникнуть в содержание работы Хайдеггера, которая так и называется «Поворот». Она выросла из доклада, сделанного Хайдеггером в декабре 1949 года в Бремене, впервые опубликована была существенно позже (М. Heidegger. Die Kehre; М. Heidegger. Die Technik und die Kehre. Pfullingen: Neske, 1962. S. 37-47). Это довольно короткий, но важный и содержательный текст.
Хайдеггер отправляется от своих, нам уже известных разъяснений и размышлений, как раз и связанных с понятием по-става, Ge-stell, в частности, акцентирующих опасности, «беды и лишения», которые «повсеместно, ежечасно, безмерно теснят человека»1. Здесь, в разбираемом тексте, Хайдеггер прибегает к самым, пожалуй, тревожным формулировкам, согласно которым «эффективность постава» маскирует высокую степень опасности, а именно то, что «человеческое существо падает теперь прямо в руки существу техники» (Там же). Причину Хайдеггер видит в том, что человек превратно понимает «существо истории». С таким теоретическим посылом вполне можно было бы согласиться, если бы не существенное «но»: сам Хайдеггер на протяжении целых страниц речет об истории (претендуя на истинность, плодотворность подобных речений) нечто абстрактное, в конечном счете неисторическое или даже банальное. Например: «Все исторически-событийное тяготеет к урочному часу, долженствующее вывести его к иному простору и зову, но не такому, в котором оно просто исчезнет и потонет без следа» (Там же). Если отвлечься от красивой витиеватой формы, то возникает вопрос: не сказано ли нечто банальное — в истории все происходит «в свое время» и содержит в себе новые вызовы...
Применительно к теме бытия (а она часто освещалась у раннего Хайдеггера в абстракции от исторического среза) обращение к истории, несомненно, могло быть и должно было бы стать нужным и полезным. Такое приближение к теме истории даже отвечало бы логике развития теории бытия Хайдеггера. В самом деле, если положить в основу философии бытия, как это сделал ранний Хайдеггер, Da-sein, т. е. бытие- сознание индивидуального человека, если обратиться к структуре Mit- dasein, т. е. бытия вместе с другими, если ввести в этой связи понятие das Man, — то неизбежной станет логическая, проблемная востребованность обращения к истории, к социально-историческому бытийному срезу. А если поместить в центр бытийных раздумий проблему техники, как это сделал поздний Хайдеггер, то внутренняя теоретическая необходимость перехода к социально-историческим реалиям только возрастает. Прибавим к этому: само время (со всеми модусами — «овремене- нием» прежде всего), помещенное в центр хайдеггеровской абстрактной философии — теперь уже в виде недавно пережитых социально-исторических потрясений и сгустившихся проблем, — требовало конкрет¬
1 М. Хайдеггер. Время и бытие. С. 253.
ного, т. е. исторического «овременения» прежде «чистых» бытийных конструкций. Разберемся, отвечает ли внутренним потребностям самой теории Хайдеггера его обращение к проблеме истории в работах послевоенного периода.
Хайдеггер не говорит ничего нового, когда утверждает относительно бытия: «...бытие требует человека, чтобы осуществиться самим собою среди сущего и сохраниться в качестве бытия» (Там же. С. 254). Констатация верна — хотя бы в таком смысле: сколько бы философы через категорию бытия ни апеллировали к бытийности в широком значении, т. е. до- и независимо от сознания, уловить, объективировать бытие и бытийность также и в этом аспекте под силу единственному из (известных сейчас) существ, а именно человеку. Что справедливо отсылает к особенностям его бытия, запечатленным и обобщенным Хайдеггером в категории Dasein. И все на эту тему в поздних работах — пока — образует продолжение размышлений о Dasein, т. е. человеческом бытии-сознании как первооснове всех вопрошаний о бытии. Но также и о технике: людям, рассуждает далее Хайдеггер, надо вынести существо техники, как индивид «выносит боль».
А чтобы «вынести существо техники, требуется, конечно, человек». Это было бы тавтологией, если бы не дальнейшие разъяснения Хайдеггера о том, что требуется особый человек: он затребован в своей сути, «отвечающей» такому вынесению (Там же). Что означает, согласно Хайдеггеру: человек, каким он стал начиная с Нового времени, «должен сперва, опомнившись, снова ощутить широту своего сущностного пространства» (Там же).
Пока это высокопарные, витиеватые выражения, и они вряд ли были способны вызвать энтузиазм и у конкретных, простых людей, хотя бы и задумавшихся над вопросом о том, что делать с техникой, вышедшей или выходящей из-под контроля, и у тех искушенных мыслителей, что напряженно мыслят или готовы мыслить о теме бытия в со-отнесении с проблемой техники. Предположим, что последние поверили бы Хайдеггеру: сперва надо «ощутить существо бытия как вызов нашей мысли», как призванность «проторить хотя бы тропку для опыта бытия» и вознамерились бы прокладывать ее «через бывшее бездорожье» (Там же). Тогда напрашивался другой вопрос: что надо для всего это сделать? Сначала — разрешить для себя вопрос (одновременно это призыв) Хайдеггера: «как начать думать?» (курсив Хайдеггера). Вообще-то призыв актуален всегда и применительно ко всем социальным проблемам. Особенно сегодня, в эпоху, когда невиданно сложная, «думающая» техника достается, «поставляется» людям и сообществам, почти полностью разучившимся мыслить, думать (особенно думать перед тем, как что-то серьезное сделать) и к тому же теряющим «волю к мысли ». В этом случае даже абстрактный, как бы безадресный вопрос-призыв Хайдеггера весьма своевременен. Немаловажен и диагноз, который Хайдеггер выносит псевдо-думаньям, в частности тем футурологическим расчетам и писаниям, кои «оперируют аппаратом исчисления симптомов, перечень которых можно удлинять до бесконечности и варьировать каждый раз заново» (Там же. С. 158). Невысока и оценка (философских) гневно-об- личающих сочинений о современном обществе как ступени небывало-
413
Часть VII. Глава 3. «Поворот» (Kehre) и поздняя концепция бытия М. Хайдеггера
Н.В. Мотрошилова ДНИ Мартин Хайдеггер и Ханна Врендт: быгие-время-любовь
414
го кризиса и падения: «Все попытки морфологически, психологически применить к настоящей действительности образы декаданса и крушения, рока и катастрофы, заката представляют собой лишь технические манипуляции» (Там же). Отчасти, но только отчасти обоснованно мнение, высказанное В. Бибихиным в Примечаниях к этой работе Хайдеггера: «имеются в виду, возможно, О. Шпенглер, X. Ортега-и-Гассет, А. Тойнби, К. Ясперс» (Там же. С. 425). Но в таком разъяснении (пусть и вероятностном) смущает то, что выдающиеся работы названных авторов вряд ли было оправданным — вместе с Хайдеггером — заклеймить как «технические манипуляции». Полагаю, при обращении к действительным темам и проблемам «современного общества» и его техники названные В. Бибихиным авторы (все равно, их или не их имел в виду в своем обобщении-обвинении М. Хайдеггер) все же освещали проблемы техники, и они затрагивали их много глубже, существенней, чем Хайдеггер.
Причина была (отчасти) в том, что, скажем, у Шпенглера к рассмотрению привлекался богатый и реальный исторический материал, анализировались эпохи и типы исторического бытия — даже если шпенглеровские типологии, обобщения подчас подвергались другими мыслителями серьезной критике. Хосе Ортега-и-Гассет привлек внимание к действительной исторической черте по крайней мере истории Нового времени, — к «восстанию масс», а К. Ясперс в своей диагностике «духовной ситуации эпохи» философски высветил реально важные ее особенности. Еще одно полемическое изречение Хайдеггера, которое приводит В. Бибихин, несправедливо принижает работы названных авторов, безапелляционно числя их лишь по ведомству «философской публицистики»: «Люди впадают в болезненную страсть... изображения следствий и производных в виде причин. Приобретая бездумную сноровку в таком способе видеть вещи... люди привыкли указывать на господство техники или на восстание масс как на причины исторического состояния века и без устали анатомируют, исходя из таких критериев, духовную ситуацию эпохи. Но всякий самый эрудированный и самый остроумный анализ человека и его положения в мире остается чисто механическим и производит только видимость осмысления, пока упускает возможность задуматься о местоположении человека» (Там же. С. 425). Тезис о том, будто философы, названные публицистами, не вникают-де в проблему «местоположения человека», необъективен и несправедлив (во всяком случае, применительно к Ортеге-и-Гассету и особенно к Ясперсу). А ведь в приведенном выше изречении намеки Хайдеггера на Ортегу-и-Гассета или Ясперса вполне прозрачны (что видно из нашего подчеркивания курсивом: здесь Хайдеггер воспроизводит, без кавычек, названия их работ). Если даже отвести, как несправедливые, упреки Хайдеггера в адрес (все же не неназванных) выдающихся философов, нельзя не признать, что поверхностная философская и нефилософская «публицистика» составляла заметный объем тогдашних дебатов о технике (впрочем, так обстоит дело и сегодня) и что ее-то Хайдеггер описывает вполне метко.
Ладно, «философской публицистикой» (читай: и достаточно серьезной философской литературой) Хайдеггер недоволен. А что он предлагает взамен?
Замещением и возмещением, «подлинными» ответами на вызовы, опасности времени в этом и других текстах Хайдеггера становятся фразы, витиеватые, непрозрачные, высокопарные, где многократно повторяется слово «бытие». Вот пример: «Только когда человек как пастух бытия ходит за истиной бытия, он может желать и ждать прихода события бытия, не опускаясь до пустой любознательности» (Там же. С. 255). Сказано красиво. Желательно, конечно, чтобы люди, изменяя окружающий мир — в особенности с помощью все более «продвинутой» техники, — выполняли бы роль заботливых, добрых, умных «пастухов бытия», а не завоевателей-кочевников, разрушающих не ими возделанные «поля бытия». Но как заставить, побудить людей, не задумывающихся о бытии, стать такими «пастухами бытия», ходоками «за истиной бытия»? И что значит: «ждать прихода события бытия»? Случались ли «события бытия» в истории или их еще надо дожидаться? Тогда доколе? Сам Хайдеггер, кстати, множит подобные трудные вопросы, так и остающиеся без ответа. Он вопрошает: «Где же таится опасность? Каково место ее расположения?» (Там же). Ответ обескураживает — прославленный философ не дает абсолютно никаких реальных ориентиров: «Поскольку опасность есть само бытие, она нигде и везде. У нее нет местоположения как чего-то другого помимо нее самой. Она сама есть не-в-местимое местоположение всего присутствующего. Опасность есть эпоха бытия, пребывающего в виде постава» (Там же). Или: «В существе опасности, где она выступает как опасность, таится поворот к хранению истины, таится само это хранение, таится спасительность бытия» (Там же)1.
Все сказанное Хайдеггером (это мое, и не только мое, мнение) по меньшей мере туманно, не дает ни понимания проблем техники, ни даже подходов к сколько-нибудь проясненному ее пониманию; тем более здесь не набрасывается даже очертания тех путей практического овладения техникой, которые хотя бы смягчали опасности, вполне реально угрожающие человечеству вместе с «восхождением» на новые высоты технического развития.
«Событием поворота в самом бытии», «событием озарения» Хайдеггер не менее туманно именует «прозрение в то, что есть». Оно должно означать, что «истина бытия выступает перед бес-призорным бытием... Прозрение в то, что есть, — название констелляции в существе бытия. Эта констелляция есть то измерение, в котором пребывает бытие как опасность» (Там же. С. 257). Рядом и далее — такие же изречения...
Применительно к теме поворота позднего Хайдеггера в понимании бытия полезно следующее хайдеггеровское разъяснение: «Сначала и почти до последнего момента могло казаться, что „прозрение в то, что есть” означает лишь взор, который мы, люди, бросаем вовне, в то, что есть. За то, что есть, обычно принимают сущее... Теперь, однако, все повернулось. Прозрением называется не наше усмотрение, которым мы
415
1 В. Бибихин дает пояснение: «Именно научно-технический навык подчеркнутого отворачивания от бытия хранит залог поворота к нему» (Там же. С. 424). Но позволительно спросить: если это «подчеркнутое отворачивание» — залог поворота к нему, то где, когда, благодаря чему он приведет-таки, если вообще приведет, к самому повороту?
Часть Vil. IhoBQ 3. «Поворот» (Kehre) и поздняя концепция бьггия М. Хайдеггера
416
&
>s
Я
X
i.
о
s
э
8.
о
S
00
выхватываем что-то из сущего; прозрение как озарение есть событие поворота в сущностной констелляции самого бытия, и именно в эпоху постава» (Там же. С. 257. Курсив мой. — Н. М.).
Итак, не Da-sein теперь фактически первенствует, a Seyn, «само бытие», которое обладает-де способностью «свечения», «озарения» — на стадии неких внутренних, сущностных «констелляций самого» бытия. В этом и состоит главное, пожалуй, в «повороте» (Kehre) в поздней хай- деггеровской мысли: «теперь, однако, все повернулось...».
«Поворот» (Kehre) с точки зрения целостности ранней и поздней концепций бытия Хайдеггера
Исследователи философии Хайдеггера уделили теме, обозначенной в заголовке, немалое внимание. Их можно разделить на две большие группы.
Защитники первой позиции исходят из того, что — самим Хайдеггером акцентированный — «поворот» (Kehre) в развитии его мысли от раннего к позднему периоду существовал и что он всего более затрагивал понимание бытия. О второй концепции, согласно которой die Kehre совершается вдруг, носит внезапный, совсем уж неподготовленный характер, распространяться не стану, ибо — как мне кажется — ее уже победил подход, согласно которому поворот, более ясно обозначившийся в послевоенный период, в зародыше, в потенции содержался и в первоначальных — классических — наметках специфически-хайдегге- ровской теории бытия, пусть и центрированных вокруг Dasein, но так или иначе выводящих к чему-то в бытии, что «действует» само и как бы изначально. Одним из самых компетентных, ярких выразителей такой позиции, исходивших из идеи преемственности этапов хайдеггеровского пути, был Г.-Г. Гадамер. При этом Гадамер, мы увидим, не намеревался отрицать, что сдвиги, имевшие характер явных «поворотов», изменений первоначальной позиции, в развитии Хайдеггера были, и их даже было несколько. Отсылаю читателя к замечательному очерку Г.-Г. Гадамера «Путь к повороту» (1979).
Истоки будущего поворота, заключенные и долженствующие быть замеченными уже в классических довоенных работах, включая «Бытие и время», Г.-Г. Гадамер усматривает в следующих явных или до времени скрытых теоретических тенденциях.
Большое значение придается все более явному и напряженному осознанию внутренней противоречивости тех теоретических шагов, которые связаны, с одной стороны, с примыканием Хайдеггера к кантовскому и гуссерлевскому трансцендентализму, а с другой стороны, с изначальным же стремлением философа придать трансцендентализму новые истолкования и импульсы для дальнейшей разработки. Движение «назад к грекам» сыграло заметную роль — как выяснилось, в конечном счете оно состояло, по Гадамеру, именно в постепенном подрыве оснований нововременного трансцендентализма. «Между тем Хайдеггер благодаря гениальной интерпретации метафизики и этики Аристотеля приобрел оружие, позволившее ему вскрыть те онтологические предрассудки, которые были задействованы в его собственной философии, философии Гуссерля и неокантианства в целом, и которые сыграли оп-
ределяющую роль для понятия сознания, и уж тем более — для фундаментальной установки, связанной с понятием трансцендентальной субъективности»1. Далее Гадамер весьма интересно анализирует вопрос о том, сколь упорно и во многом плодотворно поздний Гуссерль (с его «феноменологической добросовестностью» — слова Гадамера) бился над тем, чтобы «сокрушить догматизм традиционного понятия сознания» (Там же) — в частности, благодаря разработке темы конституции alter ego (в концепции интерсубъективности) и включению особого историзма (в «Кризисе» и других работах 20-30-х годов). В эти детали, пусть они существенны и релевантны разбираемой проблематике, мы здесь вдаваться не можем.
Считаю в целом оправданным и такой ход в гадамеровской интерпретации: независимо от того, сколь известными Хайдеггеру были этапы и формы кратко охарактеризованной гуссерлевской, связанной с особым историзмом самокритики, Хайдеггер многие пункты уже своей ранней, «классической» программы развивал в упорном противодействии трансценденталистскому подходу Гуссерля даже и тогда, когда появились гуссерлевские «поправки» в виде теорий жизненного мира, интерсубъективности, построенной на модусах «трансцендентального вчувствования»(Там же. С. 145, 146). Между прочим, Гадамер полагает, что более поздняя концепция Гуссерля в данном случае тоже имеет «полемический характер» и пробуждена (заочным, скрытым) диалогом с Хайдеггером.
Самое, пожалуй, важное в данной связи: Гадамер выявляет в довоенном творчестве Хайдеггера моменты его «неуверенности», правда, еще не выдвигаемые на первый план.
Пример — следующий фрагмент из Хайдеггера, цитируемый Гада- мером: «Уже фундаментальный акт конституции онтологии, т. е. философии, опредмечивание бытия, т. е. набрасывание бытия на горизонт бытия, вселяет неуверенность...» (Bd. 24. GA. S. 459). Гадамер констатирует: «Здесь слышится вся та проблематика опредмечивания бытия, которая привела Хайдеггера к „повороту”» (Х.-Г. Гадамер. Цит. произв. С. 147) — и делает вывод: те положения, которые в «Бытии и времени» звучат, скорее, как риторические вопросы, уже содержат в «себе не только сомнения, но и малые повороты», существенные для последующего «большого поворота». Гадамер цитирует, скажем, «Бытие и время» (нем. издание, S. 233): под вопрос ставится даже то, «...не должна ли исходная онтологическая интерпретация Dasein провалиться...».
В гадамеровской интерпретации учитываются также собственноручные замечания Хайдеггера на полях того экземпляра «Бытия и времени», который (мы уже о том вспоминали) автор дал Гадамеру, своему бывшему ученику, взамен им утерянного. «Тут поучительно, — пишет Гадамер, — выражение „местопребывание понятности бытия”. Очевидно, тем самым Хайдеггер хотел дополнить прежний подход к Dasein, для которого речь шла о его бытии, новым осмыслением „Da-”, в коем бытие себя высветляет. Уже в слове „Stätte” (местопребывание) слышится, что
417
1 Х.-Г. Гадамер. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества / Пер. А.В. Лаврухина. Минск: Пропилеи, 2007. С. 142. Далее при цитировании страницы по этому изданию указываются в моем тексте.
15 694
Часть VII. (лова 3. «Поворот» (Kehre) и поздняя концепция бытия М. Хайдеггера
H ß. Мотрошилово Ijatl Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
418
в первую очередь это сцена, на которой разворачивается событие, а не место (Ort) активной деятельности Dasein» (Х.-Г. Гадамер. Цит. произв. С. 148).
И все же, несмотря на наличие истоков, так сказать, предвестий поворота, «Kehre» в более определенном смысле этого хайдеггеровского (теперь — хайдеггероведческого) понятия все же происходит лишь после войны. Гадамер так передает его суть: «Теперь осмысление предельных оснований современной эпохи, превращение технического наброска мира в определяющую все и вся судьбу человечества, образовывало единый и единственный фундамент опыта, на котором основывалась хайдеггеровская ориентация вопроса о бытии. Столь часто упоминаемое забвение бытия — характеристика, которую Хайдеггер сперва давал лишь метафизике, — теперь стало судьбой целой эпохи... По сути, хайдеггеровское осмысление техники и поворота было не мышлением о технике или о повороте, но пребыванием в самом бытии, которое следует своей собственной, настоятельной потребности мыслить » (Там же. С. 153. Курсив мой. — Н. М.).
Гадамер вполне верно отмечает, что из таких подвижек, больше всего основанных на игре с языком (с беспрестанным «нарушением языковых привычек»), делающих тексты позднего Хайдеггера, из-за его «заикающегося языка», в конечном счете «непереводимыми»1, — из всего этого следует совершенно особое место языка в бытийных конструкциях позднего Хайдеггера (о чем мы говорили ранее).
А значит, отсюда вытекает великолепное, иначе не скажешь, сплавление его философии с поэзией, которое к послевоенному периоду опиралось и на тончайшие исследования творчества таких философических поэтов, как Гёльдерлин или Рильке, и на наиконкретнейшие анализы не только философии, но и несравненного языка Ницше. «Мышление идет по тем бороздам, которое оно прокладывает в языке» — таков ориентирующий тезис Хайдеггера. Его философическое языковое искусство, в самом деле, неподражаемо — не в том, конечно, смысле, что последователи не берутся, не решаются ему подражать. А в том, что они, решаясь на это, неизменно терпят неудачу. Ибо талант Хайдеггера здесь уникален. «Поэтому, — верно отмечает Гадамер, — все чуть не ритуальные подражания стилю позднего Хайдеггера, особенно в том виде, как они часто встречаются у его почитателей, не укладываются ни в какие рамки» (Там же. С. 155).
Характерно, что Гадамер, высоко отзываясь о неподражаемом языковом, но применяемом в философских целях таланте Хайдеггера, в конце концов задается содержательным и судьбинным — для философии — вопросом: а можно ли, в длительной и прочной перспективе, строить на подобном «искусстве» одиночек философию как таковую? И приходит к заключению: «Конечно, все эти образы, метафоры, сравнения — средства речи, которые напрашиваются в качестве опор, когда следуют в определенном направлении мысли, а вовсе не то, чего можно
1 В пример Гадамер приводит неподражаемую игру Хайдеггера со словами «gering» — свилось, «geringen» — свиваться, свиток (das Geringe) и т. д., о которой он остроумно замечает: «Это непереводимо даже на немецкий» (Там же. С. 155,156).
или должно придерживаться на протяжении долгого времени» (Там же. С. 157).
Справедливость подобной оценки, к которой трудно не присоединиться, подтверждается тем материалом, который сподручно использовать (и, в частности, тем, на который опираются Гадамер и другие авторы) для презентирования шагов и результатов поворота (Kehre) именно в теории бытия. О чем главном мы узнали, читая малые работы позднего Хайдеггера и останавливаясь на изменениях в толковании бытия в этих его послевоенных произведениях?
Сам по себе узел проблем, беспокоивших Хайдеггера еще до войны, но привлекший к себе его особое внимание в послевоенное время, был вполне достоин раздумий великих или выдающихся философских умов. Даже если они, обратившись к древней, коренной проблеме бытия, все же положили в основу (трансценденталистские) тезисы, утвердив в качестве отправной точки бытие реального, наличествующего в то или иное время, в том или ином месте человека (а ведь в том и состоит смысл Dasein, тут-и-вот-бытия), то все равно оставался вопрос о том, могут ли соотноситься и как именно соотносятся трансценденталист- ски постулируемое бытие человека (Dasein) и те необъятные по своим «местоположениям», не только вне отдельного человека, но и вне человечества существующие сферы бытия, издревле охватываемые в (немецкой) философии понятием «Sein». И если трансцендентализм опирался на ту (специфическую) истину, что все нам известное явилось не иначе, чем через наше сознание и познание (пусть некоторые объекты знания, например далекие космические тела, находятся бесконечно далеко от «нас», людей), — то к этому критическое продумывание основ трансцендентализма добавляло важнейшие коррективы. Выражаясь уже известным нам хайдеггеровским языком, «раскрытию» прежде потаенного, во-первых, всегда поставлены границы, а, во-вторых, в таком раскрытом всегда содержится потенциально больше, чем «мы» (люди этого времени и будущих времен) способны уловить и освоить. В-треть- их же, что для поздних раскладок Хайдеггера, возможно, и есть самое главное, к «свету», «свечению» непотаенного, извлекаемого из прежде потаенного, более всего причастно не (прежде первоосновное) Dasein, а само бытие как таковое. Оно не случайно обозначается поздним Хайдеггером через традиционное написание немецкого слова, означающего «бытие» — когда писалось не Sein, а Seyn. Если и был содержательный, перспективный смысл, который заключен в торжественно обставленном «повороте» (Kehre) Хайдеггера к самому бытию (к Seyn, к метафорам «света бытия», его «свечению», речениям о языке как «доме бытия», ко всяческим «просветам», «ist-Sagen», «есть-сказываниям»1, а позднее также и «слышаниям», но как слышаниям, скажем, «разговора языка с самим собой », das Sprechen der Spache2) и т. д., — то он состоял в новом понимании: не Dasein как человеческое бытие-сознание позволяет все
419
1 Термины эти появились уже в довоенное время (см. по этому вопросу лекции 1929-1930-х годов: М. Heidegger. Die Grundbegriffe der Methaphysik. Welt, Endlichkeit. Einsamkeit// M. Heidegger. Gesamtausgabe. Bd. 29, 30. Fr. a/M., 1989. S. 518.
1 M. Heidegger. Unterwegs zur Sprache // M. Heidegger. Gesamtausgabe. Bd. 12.
Fr. a/M., 1985. S. 243.
15*
Чость VII. (лова 3. «Поворот» (Kehre) и поздняя концепция бытия М. Хайдеггера
420
о
ш
о
8.
i
00
X
подобное понять и вывести из него, а само Sein, целостное бытие мира, «говорит» с человеком и через человека и о самом себе, бытии, и о человеке.
Трудность в том, что поздний Хайдеггер, уже призывавший «увидеть» и «услышать» — конечно, духовным «взором» и «слухом» — эти речения, свечения, звучания и т. д. бытия, как иногда считают, не отказался (во всяком случае, прямо недвусмысленно, что называется, не написал об этом черным по белому) от идеи о первоосновности Dasein, от возвеличения базирующейся на нем «фундаментальной онтологии».
Выскажу по этому поводу свои оценки. Полагаю (и постараюсь доказать далее), что Хайдеггер совершил и тут явный поворот, хотя без громких, четких разъяснений, скорее явочным порядком. Продемонстрирую это на примере ряда послевоенных текстов. Обращусь к статье «Zur Seinsfrage» («К вопросу о бытии», которая, напомню, появилась впервые в юбилейном сборнике 1958 года к 60-летию известного немецкого мыслителя Эрнста Юнгера, автора нашумевшей еще до войны книги «Рабочий»). В статье есть немало интересных смысловых пластов, которые имеют конкретно-историческую, ситуационную обусловленность. Говорить о них подробно здесь и сейчас не представляется возможным. Хочу подчеркнуть другое: в работе, имеющей название «К вопросу о бытии», естественно, господствует понятие «бытие», но только как Sein. По моему впечатлению, из разговора о бытии полностью исчезло прежде основоположное, вездесущее Dasein. Подобное видим в уже рассмотренной ранее работе «Тезис Канта о бытии» («Kants These über das Sein»). Сначала термина Dasein вообще нет в тексте. Затем слово «Dasein» начинает встречаться — но не в хайдеггеровском смысле и употреблении, а потому, что слово-понятие «Dasein» встречается у самого Канта (главным образом как синоним Existenz, существования). (Об этом у нас, как разъяснялось ранее, знают мало, потому что в основном читают «Канта» по переводам, а не по оригиналу.) Например, в словосочетании «онтологическое доказательство бытия Бога» Кант употребляет именно слово «Dasein».
Итак, в анализируемой статье Хайдеггер употребляет слово «Dasein» только в цитатах из Канта или при их конкретном анализе. Нет и следа возврата к «Dasein» в смысле раннего Хайдеггера. Представляется, эти факты говорят сами за себя и наглядно маркируют обсуждаемый «поворот».
Теперь зададимся вопросом: происходят ли изменения — в связи с «Kehre» — ив части обращения (или не-обращения) Хайдеггера к прежде центральному понятию «онтология» (скажем, в виде «фундаментальной онтологии »)?
Это понятие (говоря коротко, без развертывания подробных доказательств) иногда употребляется, но, пожалуй, без тех чрезвычайно сильных акцентов, которые характерны для «Бытия и времени» и (разобранных нами ранее) примыкающих работ довоенного периода. Возьмем в качестве примера и коротко разберем текст Хайдеггера 1949 года «Введение к работе „Что такое метафизика”», т. е. значительно позже первого опубликования самой работы написанное Введение*. 11 Цитироваться текст будет (в переводе В. Бибихина) по книге «Бытие и время ». Сверять и корректировать перевод — что, как увидит читатель, в нашем контексте
В этом тексте Хайдеггера выделим, в рассматриваемом здесь контексте, несколько моментов (для развиваемой мною концепции особенно важных).
• Новое в понимании Хайдеггером бытия уже (понемногу) выказывает себя именно в повороте к бытию как Sein. «Повсюду, когда метафизика представляет сущее (das Seinende), бытие уже высветилось (hat sich Sein gelichtet). Бытие в некоей непотаенности (AXrjSeia) пришло (Sein ist in einer Unverborgenheit... gekommen)»1 1. Итак, уже в 1949 году Sein (бытие) в текстах Хайдеггера вышло на передний план. Вместе с ним — и термин «алетейя», непотаенность (с его немецким эквивалентом «Unverborgenheit»), и слова «свечение», «высвечивание» бытия, что характерно для позднего Хайдеггера и что терминологически маркирует как раз обсуждаемый поворот. Другие приметы (достаточно рано, еще в конце 40-х обозначившегося) поворота тоже есть, но подробно развертывать здесь именно этот аспект я не буду.
Разбираемое Предисловие к (раньше написанному и нами уже проанализированному) тексту о метафизике тут интересует нас в контексте хайдеггеровских разъяснений, касающихся «Бытия и времени» и примыкающих к этой книге ранних (довоенных) работ. Рассуждая о необходимости движения к обновленному учению о бытии (Sein), сам Хайдеггер говорит о том, что «Бытие и время» открывало особую «тропу мысли» на пути, позволяющем продумать вопрос о «бытии в его истине» (в оригинале: die Frage nach Wahrheit des Seins — S. 367). Итак, что теперь получилось? В «Бытии и времени», по Хайдеггеру, решалась подготовительная задача — «чтобы в одном слове схватить и отношение бытия (des Seins) к сущности человека, и сущностное отношение человека к открытости („Da”) бытия (des Seins) как такового, было выбрано применительно к сущностной сфере, в которой человек стойт как человек — слово „Dasein”» (М. Heidegger. Wegmarken. S. 368. Перевод мой. — H. М.). Хайдеггер дает еще и такое пояснение: старая метафизика употребляет это имя (Dasein) для обозначения existentia (Ibidem. S. 369). Что, как мы ранее показали, верно и в отношении кантовского употребления Dasein. Кстати, не без влияния этого обстоятельства сам Хайдеггер в «Бытии и времени» (S. 42) давал определение, согласно которому «сущность Dasein заключена в его экзистенции». В разбираемом сейчас тексте следуют подробные терминологические разъяснения насчет экзистенции — S. 31-32, 369-370).
Отвлекаясь от других интересных деталей, касающихся нового определения Хайдеггером роли «Бытия и времени» в развитии его философии, задержимся лишь на вопросе о том, как теперь, в ходе «поворота», определяется отношение к сути и роли «онтологии».
«Метафизика, — пишет Хайдеггер, — спрашивает, что есть сущее как сущее (das Seiende als Seiende)... Более позднее (титульное) обозначение (Titel) „Онтология” характеризует сущность ее (метафизики. — H. М.), правда, при условии, что мы понимаем ее в собственном содер-
421
принципиально важно — буду по книге: М. Heidegger. Wegmarken. Fr. а/М.: Vittorio Klostermann, 1978 (1-е изд. 1967).
1 М. Хайдеггер. Время и бытие. С. 27. Перевод сопровожден мною терминами и словами оригинала.
Часть VII. (лова 3. «Поворот» (Kehre) и поздняя концепция бьггия М. Хайдеггера
422
s>
(Q
0 VO
Q
?
1
<s>
a
<a
I
®
VO
&
5
a
CE
>s
O
ffl
O
§
3
O
a
t-
o
S
CD
X
жании, а не в школьно-зауженном понимании» (Op. cit. S. 373. Перевод мой. — H. М. ). Далее следуют очень полезные разъяснения еще античного содержания метафизики — и слава богу, Хайдеггер «вспоминает», что специально маркирующее часть метафизики (с понятиями öv, сущее, oùoia des öv) слово «онтология» появилось — как титульное обозначение — (многими веками) позже этих и других древнегреческих понятий.
Далее приведу длинную, в высшей степени важную цитату, выражающую новое суждение Хайдеггера об акцентировании — ив «Бытии и времени», и в тексте «Кант и проблема метафизики», и в ряде других довоенных работ, — центральной роли онтологии: «...Подход, принятый в „Бытии и времени”, называется „фундаментальной онтологией”. Но такое обозначение оказывается, как всякое обозначение в данном случае, сомнительным. Осмысленное из метафизики, оно, правда, высказывает что-то верное; как раз поэтому, однако, оно вводит в заблуждение: ибо дело идет о том, чтобы добиться перехода от метафизики к истине бытия (des Seins). Пока эта мысль сама характеризует себя в качестве фундаментальной онтологии, она, принимая такое (титульное) обозначение, себе самой стоит поперек пути и затемняет его. А именно, название „фундаментальная онтология” близко к тому мнению, что мышление, которое пытается мыслить истину бытия (die Wahrheit des Seins), а не — подобно всякой онтологии — истину сущего (die Wahrheit des Seindes), все еще остается, и как фундаментальная онтология, видом онтологии. А ведь мысль об истине бытия — как возврате в основание метафизики — уже тогда покинула сферу всякой онтологии, когда сделала свои первые шаги. Напротив, всякая философия, которая движется в [рамках] непосредственного или опосредованного представлива- ния (Vorstellen) „трансценденции”, необходимо остается онтологией в сущностном смысле этого слова, вне зависимости от того, занимается ли она прояснением основоположений онтологии или опровергает онтологию...» (Ibidem. S. 375. Перевод и курсив мой. — H. М.).
Заключение: какие выводы можно сделать ив эволюции учения Хайдеггера о бытии?
Как мы видели, в замысле и реальном процессе «поворота» (Kehre) Хайдеггер пришел к существенному пересмотру ранее горячо, страстно защищаемых идей, заявленных в очень успешном — с точки зрения его оценок и влияния — бытийном проекте «Бытия и времени ». Если к тому же учесть характер Хайдеггера как личности и как мыслителя (болезненное самолюбие, сосредоточенность на самом себе, амбициозность, сознание своей высокой миссии и многое другое), особенности его жизненного пути (например, упорную нераскаянность по поводу временного союза с нацистской властью), — то поздний поворот, пересмотр через пару десятилетий самого существа ранней концепции правомерно счесть большой победой мыслителя Хайдеггера над прежними идеями и убеждениями. Правда, и здесь он, что называется, не бил себя в грудь, не каялся и не раскаивался, а весьма дотошно и строго, хотя по-новому, «опрашивал» «философскую суть дела». Тем не менее теоретическая себестоимость реальной самокритической рефлексии выдающегося философа была весьма высокой. Мало того что это было поучительно —
423
как говорят немцы, «exemplarisch», т. е. в качестве отдельного, однако в высоком смысле показательного примера. Особенно важным для философии, возможно, стало то, что Хайдеггер оригинально и содержательно прошел по тем теоретическим путям, на которые указывали его крупные мыслительные проекты.
Проект первый, развернутый и исполнявшийся в «Бытии и времени», в примыкающих к этой поистине эпохальной книге предвоенного периода произведениях (с учетом также многочисленных лекционных курсов, отраженных в различных томах Полного собрания сочинений), был показателен (коротко говоря) тем, что можно было бы назвать «ои- тологизациеш всей истории философии, начиная с первых размышлений античной эпохи о то öv, сущем, об onola des öv. И эта была к тому же особая онтологизация. Дело состояло не только в том, что Хайдеггер решительно обозначил и объединил словом «онтология » все подобные рассуждения в истории мысли, хотя прекрасно знал, что это «титульное обозначение» (Titel) появилось только в Новое время. И даже не в том, что он настойчиво, если не назойливо и безапелляционно — через перетолкование кантовских текстов — применил подобную же «онто- логизацию» к антионтологической, по сути, философии Канта. Главное: всю философию, и до и после него, Хайдеггер стремился подчинить собственной «онтологизирующей» схеме, которая вырастала из агрессивной пропаганды «фундаментальной онтологии», в свою очередь построенной на «фундаменте» особого «бытия», а именно человеческого бытия-сознания, Dasein. (Кстати, те читатели, которые из философии Хайдеггера хоть как-то освоили «Sein und Zeit», и ничего больше, имеют о последней искаженное представление.)
А затем он — в результате глубоких, содержательных философских, в том числе историко-философских изысканий — пришел к необходимости создать второй, во многом противоположный первому, теоретический проект. В нем решительные, коренные (с моей точки зрения) изменения затронули именно понимание бытия. Не заявляя о том громко и отчетливо, он фактически отверг методологию и практику «сплошной онтологизации» классического историко-философского материала, а также радикальные претензии онтологического трансцендентализма. Об этом повороте обычно рассуждают главным образом применительно к философскому пути великого мыслителя Хайдеггера. Между тем опыт Хайдеггера показателен и инструктивен, если и когда мы размышляем уже не о его философии, но обращаемся к закрепившимся привычкам, шаблонам философии XX и XXI веков.
Ибо в наше время «онтологизация» — увы, не сопровождающаяся столь глубокими, как у Хайдеггера, «вопрошаниями» о бытии, «опрашиваниями » самого бытия — стала одним из наиболее распространенных приемов в современной «массовой» философии. И то, что в наши дни именуется «онтологией», даже приобрело своеобразную «институционализацию»: кафедры, отделы «онтологии» и соответствующие учебные курсы растут, словно грибы после дождя... И тем самым перед нами — не просто вопрос о судьбе хайдеггеровского раннего проекта. Проблема и беда в том, что сходные идеи, интерпретации, подходы в XX и XXI веках в высшей степени распространены в философии, в частности в ис-
Часть VII. (лова 3. «Поворот» (Kehre) и поздняя концепция бытия М. Хайдеггера
424
Я
X
I
О
0 §
1
I
I
00
X
тории философии. Случившееся имеет такой примерно вид. Философы (и не только они) — вне зависимости от того, сколь они осведомлены в истории возникновения и применения термина «онтология», — считают возможным говорить (как это сознательно, целенаправленно делал ранний и от чего отказался поздний Хайдеггер) об онтологических (соответственно — о гносеологических даже аксиологических и т. п.) идеях и применительно к (европейской) античной философии, и к философским идеям других, скажем, восточных регионов, пренебрегая тем, что в последнем случае не только в древности, но и в Новое время, вплоть до современности, там не пользовались подобной терминологией.
Возникает вопрос:
Что делать с устоявшейся привычкой терминологической модернизации истории философии?
С самого начала следует заметить, что такая терминологическая привычка распространена сегодня в философии разных стран, включая Россию. И она действительно «устоялась» — в том смысле, что практикуется без особых доказательств и объяснений, как нечто само собой разумеющееся и оправданное1. Скажем, историю античной философии или философии Востока целый ряд авторов, в том числе профессионалов в своей области, рассматривают «под зонтиком» модернизирующих дисциплинарных обозначений (онтология, гносеология, аксиология, философская антропология и т. д.), причем делают это легко, привычно, т. е. некритично заимствуя соответствующие шаблоны у других философов. Если и когда перед ними все-таки встает задача ответить на упреки в терминологической модернизации, то аргументы бывают примерно такими. Говорят: в истории человеческой культуры, включая философию, весьма часто обозначали более поздними словами и терминами те процессы, продукты человеческой деятельности, а также мысли, идеи философии, которые возникли в глубокой древности или задолго до появления относительно «новых» терминов. Так, само слово «цивилизация» появилось поздно, распространение получило еще позже, тогда как то, что им обозначают, — весьма давнее состояние человеческого исторического бытия. Теперь, говоря о последнем, считается вполне правомерным употреблять поздний термин.
И все же в случае терминологической модернизации давних философских учений, о которой идет речь, дело обстоит существенно иначе. У цивилизации как истории объективных процессов, с седых времен древности берущих свое начало, не было своего «авторского» слова и голоса. Что же касается Платона или Аристотеля, то эти и другие мыслители достаточно ясно и твердо, причем на своем языке, предложили собственную авторскую «титульную» терминологию, так что заменять ее более поздними терминами означает произвол, насилие над материалом, врученным более поздним поколениям самой историей мысли. Сколь бы обоснованным ни было право любого мыслителя тол¬
1 С течением времени такая агрессивная модернизация забирается все глубже в историю и захватывает все более древние и не обязательно философские тексты. (Например, приходилось встречать такие формулировки: «онтологические аспекты Библии»...)
ковать, интерпретироватъ источники, полагается проводить четкую грань между источниками, подлинниками философской мысли прошлого, между исходными задачами их объективного историко-философского презентирования — и их интерпретациями, в частности, попытками подать их под существенно более поздними рубриками, «титулами», классификациями. И прямо, непосредственно переносить модернизирующие обозначения на те времена, когда именно данного разделения, членения, взаимообособления философских дисциплин еще не было (а какое-то разделение, какая-то классификация областей знания вообще, философского знания в частности, все же существовали), — все это является, по моему мнению, существенным модернизирующим искажением реальных процессов и результатов человеческой мысли, которые объективно протекали в прошлом.
Не признать, что при этой модернизации совершается насилие над адекватным историческим материалом, невозможно1.
Однако и признав это, «онтологизаторы» не видят в том ни большого, ни малого вреда. Между тем вред есть, и он как раз немалый. Ибо, скажем, в том факте, что размышления о бытии существовали в философии с глубокой древности, а термин «онтология» был найден и введен в употребление много веков спустя, сконцентрировано много специфических особенностей упомянутых размышлений именно античных авторов в сравнении с теми этапами развития философии Нового времени, когда термин «онтология» возник, получил распространение и подвергался оценкам, обсуждениям (как показывает пример Канта, далеко не всегда одобрительным). Понятие «онтология» как термин, напомним, появляется на той достаточно поздней стадии развития европейской философии, когда рядом с нею в составе все более четко дифференцирующихся философских теоретических знаний выделяются другие \-]логии (по Хр. Вольфу, «рациональные» космология, психология, теология). (Кстати, гносеологии в Вольфовой классификации не было; фигурировала логика, в которую включалось учение о познании; термин «гносеология» — более позднего происхождения.) А ведь тот или иной облик совокупного знания определенной эпохи, включая знание философское, его дифференцированность и уже выделенные единицы — вполне реальное обстоятельство исторического характера, которым никак нельзя пренебрегать и которое непозволительно искажать какими угодно модернизирующими приемами. Ибо, например, размышления о бытии в Античности отнюдь не случайно были не-онтологическими (в лучшем случае праонтологическими, хотя и этот более «осторожный» термин содержит в себе нежелательный телеологический привкус, когда движение в сторону будущего неоправданно становится как бы предопределенным некой заведомо «известной» нам целью).
425
1 При условии, конечно, что люди, назвавшие, скажем, «онтологией» рассуждения о бытии Платона, Аристотеля, других древних мыслителей, пребывают в здравом уме и не страдают повреждениями памяти. Правда, в иных случаях копирование подобных штампов — приходилось в этом убеждаться — соседствует с историко-философской неграмотностью, с неведением насчет того, где и когда в истории философии впервые появился, затем получив распространение, тот или иной термин. Случалось встречать «философов», удивлявшихся тому, что и у античных философов, и у тех, что жили до XVIII века н. э., терминов «онтология» или «гносеология» и в помине не было...
Часть VII. Глава 3. «Поворот» (Kehre) и поздняя концепция бытия М. Хайдеггера
Н.В. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-времп-любовь
426
Задача истории философии (независимо от того, становится ли она профессией, специализацией философа или осваивается им наряду с его главным философским занятием) — осваивать и презентировать тот или иной исторический период развития философской мысли, притом в определенном регионе Земли, в подлинных, адекватных терминах отдельных мыслителей и философских школ (разумеется, на языке оригиналов). На этой стадии разъяснения — и это я считаю условием 'sine qua non грамотной историко-философской работы — непозволительно прибегать к изначальным терминологическим модернизациям. Например, должно стать запретным «оснащение» историко-философских работ, посвященных истории античной мысли, заголовками вроде «Гносеология Гераклита», «Онтология Платона» или «Онтологические идеи философов древней Индии» и т. д. Но и применительно к временам, когда подобные титульные термины уже введены и употребляются, необходимо иметь в виду, точно фиксировать, принимает или отвергает их философ, о котором идет речь. Скажем, хайдеггеровский опус «Кант и проблемы метафизики» неоправданно онто логизирует «Критику чистого разума» — невзирая на то (отмечаемое и Хайдеггером) обстоятельство, что Кант призывает отвергнуть «гордое имя онтологии»!
А вот после объективного презентирования, близкого к текстам интересующих нас философов и их произведений, в интерпретативной части анализа возможно и даже желательно прочертить линии к более поздним использованиям, к перетолкованиям подлинных идей избранных для анализа текстов — с обязательным и четким упоминанием, что более поздних терминов у ранних авторов не было, да и не могло быть1.
1 Дискуссии вокруг этой темы и разъяснения моей позиции см. в книге «История философии: вызовы XXI века» (в печати).
ГЛАВА 4
И снова о специфике концепции бытия Ханны Арендт
По отношению к конкретному анализу произведений X. Арендт, проделанному ранее, в котором на первый план тоже выдвигались подходы и конструкции ее теории бытия, последующее рассмотрение будет дополнением и обобщением главных линий этой теории и возможных тенденций будущего развития идей выдающейся исследовательницы. Вместе с тем в дальнейшем (в соответствии с общей тематической направленностью нашей книги) будет продолжено сопоставление позднего, послевоенного творчества Мартина Хайдеггера, поскольку оно сконцентрировано вокруг переосмысления темы бытия, вокруг поворота, «Kehre», осуществленного в этот период мыслителем, — и (тогда еще остававшихся непроясненными непростых) усилий философа, социально-политического теоретика Ханны Арендт. Последние хотя и не предпринимались ею как бы «по следам» и согласно указующим разъяснениям бывшего учителя, однако так или иначе соотносились с его идеями, имели в виду его сходные по темам работы и концепции.
Такое «имение в виду» идей друг друга не обязательно было со стороны Ханны Арендт и тем более Хайдеггера прямыми, ясно запечатленными откликами на сочинения (также и лекции, доклады) Другого, в данном случае носившего имя хорошо знакомого, да и теперь, после войны, любимого — несмотря ни на что — человека. В этом отношении согласование Ханной Арендт своих рассуждений и идей с тем, о чем после войны писал и размышлял второй учитель и близкий друг, Карл Ясперс, было непосредственно важной и кристально ясно выраженной необходимостью ее творческой жизни. Тем не менее и в случае соотнесения ею своих идей и устремлений, некоторых вех своего мыслительного движения с теперь уже изменившимся миром Хайдеггера — этот постоянный, как оказывается, диалог с ним — содержит свои необходимости, которые вполне возможно вычертить.
Теперь — конкретнее об этих необходимостях, проявляющихся если не в отчетливых, видных для каждого, то в объективно наличных формах переклички, диалога. Суммирую их, обобщая и то, что подробнее раскрыто ранее.
• Имеет место бесспорная тематико-проблемная перекличка идей и концепций двух мыслителей. Например, Хайдеггер и в раннем творчестве, и после войны фокусирует пристальное внимание на осмыслении — а на деле переосмыслении — философии Канта. Соответственно Ханна Арендт, и раньше спорадически возвращавшаяся к «своему» Канту, предпринимает специальные систематические усилия вникнуть в кантовскую философию — правда, под особым, интересным для ее исследований углом зрения: она читает лекции (позднее они публикуются в виде текстов) о политической философии Канта. Если вспомнить, что X. Арендт отказывает даже и великим мыслителям прошлого
428
a
о
ю
Q
с
а
X
0
о.
<c
X
я
s
О.
en
>s
0
x
X
1
O
O
8
§
3
O
e-
O
S
CD
X
в желании и способности создать именно политическую философию — при увязывании философии и учения о политике, то ее исходный тезис о наличии такой философии у Канта должен был выглядеть не просто неочевидным применительно к известным кантовским текстам (что она сама, кстати, добросовестно признала), но и противоречащим собственным более ранним утверждениям. Тем не менее ею был предпринят специальный поиск политической философии у Канта, смахивающий на своего рода историко-философский детектив.
• Продолжающиеся после войны бытийные размышления обоих — Хайдеггера и Арендт — как и прежде, были тесно переплетены с переосмыслением наследия греков, немецкой классики, мыслительного опыта Нового времени и новейшей тогда эпохи. Акценты исследований у каждого из них были различными, литература, на которой каждый преимущественно основывался, принадлежала подчас к несходным дисциплинарным областям. Но философские поиски Хайдеггера и X. Арендт объективно были не только не взаимоисключающими, но по меньшей мере параллельными. А отдельные проблемные разыскания соразмерны по темам и уровню тонкости, талантливости, оригинальности. Объективно они пересекаются и дополняют друг друга. (Эти тезисы попытаюсь подробно раскрыть и обосновать далее, опираясь на сказанное ранее. Дело здесь непростое. В немногочисленной литературе, на которую уже делались ссылки, начат, но только начат сложный сравнительный анализ. В большинстве же сочинений о двух выдающихся мыслителях XX века в него почти не углубляются...) Между тем примеров взаимопереклички и взаимодополнительности немало. Скажем, обоих внутренним, личностным образом занимала ставшая тогда особенно актуальной тема техники. Далее, Хайдеггер, всегда и в тот период, снова и снова ставил вопрос: «Was heisst Denken?» — «Что зовется мышлением?» (Таково обозначение курса лекций, прочитанного Хайдеггером в 1951-1952 годах во Фрайбургском университете.) X. Арендт посвящает последние годы жизни написанию солидного трехтомника, глубоко философского по своему характеру; первый том его называется «Vom Leben des Geistes. Das Denken» — «О жизни духа. Мышление». Вместе с другими блоками — по проблемам воли и суждения (третий том, посвященный проблеме суждения, остался неоконченным) — это означало углубление в коренные проблемы именно философии. Ханна как бы приняла упрек-пожелание Хайдеггера: ведь он просил ее, чтобы она, вспомним, больше занималась собственно философскими проблемами... «В своих мыслях, развитых там, — оправданно пишет Р. Саф- ранский, — она нигде еще не была так близка к Хайдеггеру»1.
Сказанное — это и обозначение тех основных теоретических маршрутов, по которым мы далее в нашем повествовании отправимся, и тех (кратких) остановок, которые будут сделаны. Ранее были рассмотрены главные усилия Хайдеггера, направленные, как мы показали, на осовременивающую «деконструкцию» философии великого Канта. Теперь посмотрим, под каким углом зрения и как Ханна Арендт актуализировала идеи Канта.
1 R. Safranski. Ein Meiser aus Deutschland. S. 490.
Была ли у Канта политическая философия? Сложный ответ X. Арендт
429
С этим вопрошанием X. Арендт, задумавшая прочитать лекции о политической философии Канта, должна была разобраться в первую очередь. Она честно признала, сколь трудно дать тот позитивный ответ, без которого все ее разыскание теряло смысл. Отсюда — специфическое определение Ханной Арендт задачи ее лекционного курса, в котором, надеюсь, от читателя не ускользнет парадоксальность, спорность затеянного ею предприятия: «Если я права в том, что у Канта существует политическая философия и что, в отличие от других философов, он никогда так и не написал ее, то кажется вполне очевидным, что мы должны найти ее во всей системе, если мы вообще ее можем найти, а не только в тех немногих трактатах, которые обычно под этим названием издаются. Если бы его основные труды, с одной стороны, вообще не содержали бы никаких политических импликаций и если бы, с другой стороны, периферийные тексты, обсуждавшие политические вопросы, содержали бы лишь периферийные, с его собственно философским творчеством не связанные мысли, то наша постановка вопроса была бы бессмысленной и, в лучшем случае, выражением антикварного интереса. Было бы прегрешением против самого кантовского духа заниматься этим...»1
Ответ на поставленный общий и исходный вопрос не случайно представляется Ханне Арендт весьма трудным. Ибо, во-первых, Кант, весьма изобретательный в создании многочисленных «титульных» категорий и в употреблении их в названиях собственных сочинений и их разделов, как будто нигде не обронил термин «политическая философия». При этом подобный термин вообще был не в духе кантовского времени. Во- вторых, когда X. Арендт все-таки решилась утверждать, что она нашла у Канта политическую философию — и не в отдельных высказываниях, а «во всей его системе», то преимущественным местом ее локализации она объявила... «Критику способности суждения»! Права ли она в этом, и в какой степени права, — предстоит разобраться.
Но сначала — вот о чем: я лично была удивлена тем, как X. Арендт обошлась с «Метафизикой нравов», в особенности с ее первой частью — «Кес1и81еЬге», «Учением о праве». Казалось бы, если искать у Канта более или менее развернутую политическую философию, к этой поздней книге кёнигсбергского мыслителя следует обратиться в первую очередь. Собственно, X. Арендт все же упомянула о ней во второй лекции. Она заметила, что Кант лишь после 1790 года (т. е. уже после выхода в свет «Критики способности суждения») «написал в собственном смысле политические работы. ...С этого момента его интерес был более направлен не только на конкретное, историю или человеческую общительность. В центре находилось теперь скорее то, что мы сегодня назвали бы государственным или конституционным правом, т. е. способ, каким должна быть организована и составлена политическая система, понятие „рес-
1 X. Арендт. О политической философии Канта: Курс лекций // Кантовский сборник. 2010. 3(33). С. 117 (курсив мой. — Н. М.). Перевод А.Н. Саликова. Далее при цитировании лекций X. Арендт страницы по этому изданию даются в тексте моей главы.
Часть VII. (лава 4. И снова о специфике концепции бытия Ханны прендт
H-В. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
430
публиканского”, т. е. сообразного с конституцией, правления, вопрос о международных отношениях и т. д.... Именно вопросом о том, как сделать народ государством и как основать федеративное государство, — и всеми правовыми проблемами, которые с этим связаны, — постоянно занимался Кант в последние годы своей жизни» (Там же. С. 131. Курсив мой. — Н. М.).
X. Арендт, в целом верно описывая эти особенности исследований и работ Канта последних лет его творческой жизни, напоминает также о таких работах, как знаменитый трактат «К вечному миру». Что все эти темы и проблемы были «новым увлечением» старого Канта, во многом обусловленным чередой фундаментальных, поистине поворотных социальных событий, прежде всего Французской революцией, тоже отчасти верно. «Если не принимать во внимание этого нового увлечения, — продолжает X. Арендт, — то показалось бы невероятным, что Кант мог начать „Метафизику нравов” с „Учения о праве”. Также показалось бы невероятным, что он в конце жизни мог сказать (во втором разделе „Спора факультетов”, последний раздел которого дает ясные доказательства его духовного упадка): „Очень заманчиво мыслить такие конституции (Es ist so süss sich Statsverfassungen auszudenken)”... „сладкая мечта, чье исполнение” не только мыслимо, но ’’есть долг [разумеется] не граждан, а главы государства”» (Там же. С. 132).
Нужно разобраться, почему не первой книге «Метафизике нравов» («Учение о праве»), а «Критике способности суждения» отводится роль краеугольного камня «найденной» Ханной у Канта «философии политики».
Это в значительной степени связано с оценками у Ханны Арендт той проблематики, вокруг которой вращается анализ «Учения о праве», причем речь идет об оценках, сообразованных не с кантовским, а арендтов- ским временем. И сопряжено с определениями в духе и стиле профессора Мартина Хайдеггера. В эпоху и Канта, и Гегеля-Фихте все развороты «философии права», в частности кантовского «учения о праве», вполне определенно вписывались в рамки философии как целостной системы дисциплин. Причем включались они в качестве весьма почтенной части, по существу отвечавшей за анализ важнейших разделов и проблем философии, которую Гегель, скажем, именовал учением об объективном духе, а мы имеем право считать важнейшими блоками его социальной, в частности, политической философии. (Вспомним, у Гегеля сфера объективного духа есть исследования форм, структур социальной, в том числе политической жизни — семьи, государства, гражданского общества, социальных делений и расслоений и т. п.)
Положение изменилось в XX веке — однако не везде, не во всех течениях, социальных движениях. А главным образом в тех, которые развивались под властным влиянием Мартина Хайдеггера. Это он к середине XX века ввел ту новую моду, суть которой — ригористические отлучения от философии в собственном и высоком смысле слова любых отвлечений в сторону специализированного гуманитарного знания. Вот и книга Канта, содержащая «учение о праве», во-первых, представляется Ханне Арендт скорее специальным рассмотрением «государственноправовых», «конституционно-правовых» вопросов, нежели разбором тем и проблем с точки зрения, в свете философии политики. А это зна¬
чит, во-вторых, что X. Арендт заранее заготовила для себя и читателей основоположное суждение о том, какой должна быть политическая философия, или философия политики. Смысл ее суждения лучше всего уясняется из того, что же «философско-политического» она находит в совершенно особом — эстетическом с привычной точки зрения — произведении, каким является третья кантовская «Критика». Здесь она руководствуется сразу несколькими соображениями.
1. Ханну Арендт привлекает то, что при опоре на «Критику способности суждения» — если удастся представить ее и как вклад в политическую философию — открывается возможность укоренить политическую философию именно во всей системе (зрелого) Канта. Ибо давно известно (из изречений самого Канта и доказано поколениями интерпретаторов), что третья «Критика» тесно связана с двумя первыми. X. Арендт, кроме того, находит веские доводы в пользу того, что третья «Критика» (разумеется, вместе с двумя первыми) должна, по замыслу Канта, ответить на ряд вопросов и затруднений философии докритического периода. Одним словом, при опоре именно на «Критику способности суждения» X. Арендт находит возможность протянуть непрерывную теоретическую линию — или философско-политическую тенденцию — через все творчество Канта, от докритического периода до последних (авторизированных Кантом) произведений конца XVIII века. Вот тогда X. Арендт может (кажется) сказать себе и другим, что она нашла у Канта политическую философию\
2. На «Критику способности суждения» еще потому падает политико-философский выбор Ханны Арендт, что ее (изначально принятое) критериальное основание принадлежности к данной проблемно-дисциплинарной сфере связано со следующими определениями-ограничениями (взятыми здесь кратко, суммарно в изложении самой X. Арендт): «...темы „Критики способности суждения”: конкретный предмет, независимо от того, является ли он фактом природы или событием истории; способность суждения как способность человеческого духа иметь дело с конкретным предметом; общительность людей как условие осуществления этой способности, т. е. понимание того, что люди зависимы от своих ближних не только потому, что они обладают телами и физическими потребностями, но именно по причине их духовных способностей — все эти темы, имеющие исключительное значение для понимания политического, занимали Канта задолго до того, как он в конце концов по окончании своего критического дела (das kritische Geschäft) обратился к ним в старости» (Там же. С. 130. Курсив мой. — Н. М.).
Все сказанное Ханной Арендт означает, что она фактически ценит «Критику способности суждения» не как самим Кантом намеченную, тем более систематически разработанную политическую философию (чего не было и в помине, вынуждена признать она), а как разработку основоположных общефилософских проблем, без которых у политической философии (кто бы и когда бы ни захотел ее разработать) не будет солидного теоретического фундамента. Несмотря на сомнительную искусственность такого подхода в целом, в нем есть своя частная правда.
В самом деле, акцентируемые именно Ханной Арендт темы, сюжеты, размышления Канта в третьей «Критике» более или менее релевант-
431
Часть VII. fhaeo 4. И снова о специфике концепции бытия Ханны Арендт
432
O'
X
&
er
о
X
X
о
X
s
a
?
0 O' >s
Я
X
1
о
O
a
о
3
о
a
I-
o
S
Gû
±
ны — хотя (это NB!) лишь через череду опосредующих выкладок — политической философии. Наиболее близкой и у Канта, и в интерпретации X. Арендт считаю известную кантовскую тему «необщительной общительности». Вот как X. Арендт ввела ее во время второй лекции: «...Для Канта в конце его жизни остались нерешенными два вопроса. Первый из них можно обобщить или, если быть точнее, обозначить при помощи понятия „общительности” людей. Имеется в виду тот факт, что никто не может жить один, что люди зависят друг от друга не только в своих потребностях и заботах, но также и относительно своей высшей способности — человеческого духа, — который вне человеческого общества не может реализовать себя. „Хорошее общество” для мыслящих не лишнее»* 1. «Это представление, — продолжает X. Арендт, — является ключом к первой части „Критики способности суждения”»2. Напомню, сколь часто и основательно темы общесоциальных связей, отношений, процессов и процедур общения — в качестве объективированных и в то же время опосредованных сознанием форм бытия — разбираются в книге «Vita activa». Теперь мы видим, что в процессах подобных разработок и рассуждений X. Арендт могла «иметь в виду» и все подобные повороты в философии Канта. Но вернемся к ее лекциям о Канте.
Размышляя о кантовской философии, X. Арендт совершенно права, во-первых, в том, что Кант постоянно, в том числе в последние годы, обращался к теме неизбежной для людей, хотя и противоречивой — «необщительной» — общительности. А во-вторых, если и когда кто-то вознамерился бы создать систематическую политическую философию, можно было бы с пользой обратиться к этим кантовским разработкам. И при этом целесообразно было бы учесть пояснения X. Арендт, обратив внимание на то, что она совершенно справедливо (но вопреки выпячиванию третьей «Критики») опирается не только, даже не столько на «Критику способности суждения», но и на другие (например, «малые») сочинения Канта. Но все же отчетливо видно: X. Арендт не находит, да и не ищет ни в одном из кантовских текстов о «необщительной общительности» выходов и переходов к политической философии. (Как в той детской игре с присказками «горячо», «холодно» все время хочется сказать: «холодно», «очень холодно» — применительно к характеру аренд- товских поисков политической философии Канта.)
Второй из кантовских вопросов, на котором в своих лекциях акцентирует внимание X. Арендт, еще дальше отстоит даже от некой возможной, а не только от имеющейся-де у Канта в «Критике способности суждения» политической философии. Речь идет о действительно затрагиваемой в «Критиках», включая третью, проблеме жизни на Земле, ее внутренней целесообразности. Не вдаваясь в конкретное освещение этого материала Ханной Арендт (тут тоже есть с чем поспорить), отметим лишь следующие моменты.
3. X. Арендт ищет в тексте третьей «Критики» те теоретические опосредования, которые могли бы служить звеньями, связующими цент¬
1 Здесь своего рода цитата: I. Kant. Reflexion zur Anthropologie. Nr. 763 // Kants gesammelte Schriften. Bd. 15. S. 333.
1 X. Арендт. Лекции по политической философии Канта // Кантовский сбор¬
ник. Калининград. 2(30). 2009. С. 126.
ральные идеи Канта со специальным объяснением политической сферы. Она выделяет именно в тексте третьей «Критики» два основных звена, уместность ссылок на которые нам предстоит оценить. «Первым является то, что Кант ни в одной из частей не говорит о человеке как о наделенном разумом и познающем существе. Слово „истина” не встречается нигде, кроме одного-единственного раза, да и то в весьма специфическом контексте. В первой части речь идет о людях во множественном числе, о том, каковы они в действительности и как существуют в обществе; вторая часть высказывается о человеческом роде» (Там же. С. 129. Курсив мой. — Н. М.). Это утверждение нуждается в тщательной проверке. Осуществив ее1, я пришла к следующим выводам.
Что касается очень редкого употребления Кантом в третьей «Критике» понятия «истины» (die Wahrheit), то это интересное наблюдение X. Арендт подтверждается (см. Предметный указатель — на двух языках — к IV тому двуязычного издания). Другие ее «сильные» утверждения (например, о том, что рассуждения о человеке как наделенном разумом, познающем существе якобы элиминированы из текста третьей «Критики») трудно не счесть преувеличениями, связанными, возможно, с недостаточно тщательной текстологической работой. Примеров из текста, противоречащих утверждению X. Арендт, можно привести немало. Вот один из них, имеющий, по моему мнению, принципиальное значение. В Предисловии, тонко поясняя суть способности суждения, Кант замечает: эстетические суждения, правда, «ничем не содействуют познанию вещей (zum Erkenntis der Dinge)», но они «все же принадлежат только к способности познания... так как эта способность имеет свои принципы а priori в понятиях разума»2.
Это не отменяет немалого значения указаний X. Арендт на те расшифровываемые Кантом именно в третьей «Критике» свойства, способности, стороны человеческой деятельности, которые связаны с общением людей, их социальной — выражаясь на более позднем языке — природой. Вне всякого сомнения, переход Канта (в третьей «Критике» и других сочинениях) от абстрактных рассуждений о человеке к фиксированию и осмыслению несомненного факта неустранимой, исходной социальности человека и его бытия весьма и весьма важен — и не только для грамотного современного, опирающегося на подлинные, оригинальные тексты кантоведения, но и для продолжающегося философского познания человека, его сущности, а опосредованно и для политической философии.
4. Второй момент, специально акцентированный Ханной Арендт в ее лекциях, касается Хайдеггера. Она, как показано ранее, не столь часто устраивала в своих работах явную перекличку с текстами учителя, давая оценки его идей и их эволюции. В анализируемой лекции X. Арендт это сделала. Она соотнесла непосредственно интересовавший ее в этой
433
1 Текстологической основой для проверки было удобно использовать наше двуязычное немецко-русское издание Сочинений Канта. См.: И. Кант. Сочинения на немецком и русском языках. Т. IV. М., 2001. Отв. за изд. Н. Мотрошилова и Т. Длугач (Москва), Б. Тушлинг и У. Фогель (Марбург).
1 Указ. соч. С. 169 немецкого издания Прусской Академии; с. 73, 75 двуязычного
издания. См. также Предметный указатель на слова «Разум», «Познание».
Часть VII. Глава 4. И снова о специфике концепции бытие Ханны Арендт
434
о
а
о
1
э
о
а.
I-
о
2
со
±
части лекции знаменитый кантовский итоговый (по отношению к трем «Критикам») вопрос: «Что такое человек?» — с другим вопросом, «который задавали Лейбниц, Шеллинг, Хайдеггер: почему существует нечто, а не ничто?» (Там же. С. 128). Отвлекаться сейчас на эту особую тему не буду. Отмечу лишь релевантную всему контексту моей книги формулировку X. Арендт, которая, к сожалению, к концу теряет ясность. Но она свидетельствует, сколь подробно, основательно Ханна представляла себе суть и детали послевоенных поворотов в философии бытия бывшего учителя. Вот цитата-подтверждение: «Когда Хайдеггер, в поздний период своей философии, снова и снова пытается установить определенного рода связь человека и бытия, в которой оба друг друга обуславливают и предполагают — бытие, которое взывает о человеке; человек, который становится хранителем и «пастырем» бытия; бытие, которое нуждается в человеке для своей собственной явленности; человек, который не только нуждается в бытии, для того чтобы вообще существовать, но который охвачен своим собственным бытием, так как никакая другая целостность, никакая другая живущая вещь не существует1 и т. д., то он это делает для того, чтобы избежать этого рода взаимной деградации, как она в подобных почему-вопросах2 содержится, а не парадоксальности всех мыслей о ничто» (Там же). Пока пометим это выразительное замечание, связанное с осмыслением теории бытия Хайдеггера на новом этапе ее развития — в ходе и после знаменитого Kehre, чтобы в конце экскурса, посвященного Канту, к нему вернуться.
выводы
Резюмируя арендтовский анализ того содержания, которое у Ханны Арендт поименовано «политической философией» Канта, представляется возможным сделать ряд выводов.
• X. Арендт стремится и очень старается доказать, что «политическую философию» у Канта и можно, и нужно «найти», «обнаружить». Удалась ли ей ее настойчивая попытка? Полагаю, что не удалась. И не потому, что таковой философии у Канта вообще нет, хотя бы в зародыше, а также не потому, что помещенная в центр исследовательского интереса «Критика способности суждения» вообще непригодна для поисковых целей X. Арендт. Это замечательное произведение Канта, традиционно трактуемое по преимуществу как кантовский эстетический текст или как теоретический мост между двумя предшествующими «Критиками», на самом деле включает в себя множество других тем, проблем, размышлений, в том числе и могущих образовать фундамент для его, Канта, и последующих разработок философско-политического характера. Но вот в чем они пригодны именно для таких целей — непростой вопрос. Мне кажется, в воспроизведенных раньше конкретных обобщениях X. Арендт на эту тему сказано много верного, хотя с исходной маркировкой лекций — это-де и есть «политическая философия» Канта — согласиться невозможно. Ибо то, что реально выделила и могла выделить X. Арендт под титульной маркировкой «политической философии», от¬
1 Здесь X. Арендт ссылается на «Письмо о гуманизме» Хайдеггера.
2 Суть «почему-вопросов» X. Арендт разъясняет в тексте несколько выше (там
же).
носится к другой, особой теоретической сфере: она принадлежит к общефилософским постулатам относительно социально-исторического характера бытия человека как представителя (пока) уникального рода живых существ. Понятно, что это еще не сама «политическая философия», а в лучшем случае те (пока отдаленные от нее) философско-теоретические предпосылки, без которых развернутая, систематическая философия политики не будет философски обоснованной. Но одни такие предпосылки (даже при условии, что они не останутся разрозненными прозрениями, как у Канта, а будут приведены в продуманную и специально разработанную систему) еще не составят политическую философию. Ибо перед теоретиком, философом, который бы замыслил такую систематическую теорию, простиралось бы поистине необозримое поле конкретных проблем, сюжетов и т. п., характеризующих сферы, структуры, формы, особенности именно политической жизни. Никак нельзя забывать, что это поле в мыслительной истории человечества издавна возделывалось, так что история политической мысли — до Канта и после него, до X. Арендт и после нее — была достаточно развитой областью в том числе и историко-философской культуры. И как раз X. Арендт — в различных сочинениях — несравненно подробнее и интереснее, оригинальнее, чем многие другие ее современники, как бы завоевывала это проблемное поле истории философии, истории политических идей, для социальной философии (в чем мы могли убедиться при анализе У.а.).
• Знаменательно, что Кант в последние годы своей творческой жизни тоже — в чем права X. Арендт — припал к этим истокам и традициям. Тут темы и разработки «Учения о праве», первой книги «Метафизики нравов», снова привлекают наше внимание. Хотя ранее были пояснены причины, объясняющие предпочтения X. Арендт и ее выбора в пользу «Критики способности суждения», хочу более детально оспорить сам этот выбор применительно к философии Канта.
Моя гипотеза состоит в следующем. Возможно, X. Арендт была недостаточно хорошо осведомлена относительно совершенно особого места «Метафизики нравов» во всем корпусе сочинений Канта. Быть может, сыграло свою роль и то, что к 50-м годам XX века кантоведческая мысль недостаточно ясно и доказательно раскрыла значение тех обусловленных временем подвижек мыслей, идей позднего Канта в сторону политической, философско-политической проблематики и систематики, которые прозорливая X. Арендт вообще-то заметила и отметила, однако не осознала в их именно философской ценности.
Если иметь в виду современные кантоведческие разработки, то в поисках (похожих на усилия X. Арендт) стержневой для всего исторического пути Канта линии, сплетенной как раз с идеей человека как родового, «общительного », в широком смысле существа, нужно было бы скорее сконцентрироваться именно на «Метафизике нравов». Но при жизни X. Арендт эта работа казалась лишь плодом «новых увлечений» старого Канта. Современные кантоведческие исследования продемонстрировали, что это не так. Немецкий философ Герд Ирлитц в своем прекрасном компендиуме, посвященном Канту, озаглавил раздел о «Метафизике нравов» точно и красноречиво: «Ранний проект, поздно завершенный». Имеется в виду, что в письме к Гердеру (09.05.1767) Кант сообщил, что
435
Часть VII. Глава 4. И снова о специфике концепции бытия Ханны Арендт
436
Б
s
CD
X
работает над «метафизикой нравов». Для нашей темы существенно, что и на этой ранней стадии, и после (к 1770 году — как показывает письмо к Ламберту от 02.09.1770 года) наряду с темами морали, «нравов» (Sitten) Канта не покидала руководящая, стимулирующая мысль — при кардинальной реформе метафизики рассматривать всю проблематику этого рода не с точки зрения «рационального порядка расходящихся сфер мотивации личности, но как отношение индивидуальной рациональности действия, поступка к достоинству человечества, которое следует чтить в лице собственной и каждой другой личности»* 1.
Важна и фундаментально обоснованная современным кантоведени- ем общая оценка «Метафизики нравов», что в особенности относится к первому ее тому: эта работа Канта «в им самим опубликованном сочинении дает аутентичные формулирования выраженных в круге его столь значительных поздних работ государственно-правовых, политических, религиозно-философских, исторических взглядов Канта» (Ibidem.
S. 450).
И все-таки оправданно считать позитивным моментом то, что X. Арендт не прошла мимо этой работы и примыкающих к ней материалов, хотя, к сожалению, не осознала их центрального значения именно для ее поисков.
Надо снова обратить внимание на главный пункт: современная философия — после хайдеггеровских (и отчасти арендтовских) цезур — иначе относится к философскому смыслу конкретных разработок по государственно-правовым и иным правовым вопросам. Поэтому не суждения «ригориста» Хайдеггера, пренебрегавшего изысканиями специальных дисциплин по проблемам политики и права, и даже не акценты Ханны Арендт с ее более терпимым отношением к политико-правовым исследованиям они считают парадигмальными для новой, современной философии. Мыслители второй половины XX и XXI века (такие как Ю. Хабермас, Р. Дворкин и др.) придают огромное значение тому, чтобы именно философы держали руку на пульсе дискуссий по проблемам права и политики, которые X. Арендт, не говоря уже о Хайдеггере, сочла бы нефилософскими. А вот Кант с его выраженными в поздних работах политическими, юридическими идеями становится одним из «собеседников» в живом поле сугубо современного философского дискурса. Примером может служить опора на идеи Канта и полемика с ними в острополитическом, но, как оказалось, философско-политическом вопросе — о судьбах Европейского союза в XXI столетии2.
• В свете ранее сказанного вернемся к оценкам со стороны X. Арендт послевоенных изменений в теории бытия Хайдеггера. Они лапидарны и вместе с тем в высшей степени релевантны разбираемым темам.
Ханна Арендт вполне верно поняла всю необходимость того поворота мысли бывшего учителя от Dasein к Sein, от бытия-сознания человека к бытию как таковому, — поворота, благодаря которому обусловленность человека и бытия в широком, универсально-космическом смысле этого слова (оттесненная было на задний план подчеркнутым трансцен¬
1 G. Irrlitz. Kant-Handbuch. Leben und Werk. St.-Weimar, 2002.
1 См. по этому вопросу: H.B. Мотрошилова. Цивилизация и варварство в эпоху
глобальных кризисов. М., 2010. С. 320-324.
дентализмом ранней «фундаментальной онтологии») стала важнейшим акцентом позднего хайдеггеровского творчества. (Как было показано, и в осмыслении Хайдеггером философии Канта несколько изменились акценты.) Однако, полагала X. Арендт, сказав «а», надо было решительно сказать и «б». Ведь применительно к Канту, одному из главных мыслителей прошлого, Хайдеггер до войны настолько завел своих читателей и почитателей в дебри споров о метафизике и онтологии, что приходилось напоминать: как раз для теории бытия, если ее разрабатывать на современном уровне, Кант исключительно много сделал там, где абстрактные споры о метафизике уже не велись и где анализировалось как раз взаимодействие людей в той или иной социально-практической области. Поэтому, как я считаю, даже и проблематичные поиски Ханной Арендт у Канта «политической философии» содержали в себе (в основном скрыто) антитезу по отношению к устойчиво сохраняющейся у бывшего учителя сугубой метафизической отвлеченности, характерной также и для поздней концепции Seyn, бытия.
Дело было прежде всего в том, чтобы философия бытия, если она — что было совершенно оправданно, — указала на неустранимость опосредующей роли человеческого бытия, как сделал ранний Хайдеггер, в конце концов должна была стать социально-исторической философией (и желательно системного характера, охватывающей также и домены политики с точки зрения ее именно бытийных предпосылок). Но этого — в свете идей, разработок, устремлений X. Арендт как социального мыслителя — было совершенно недостаточно. Даже если бы подобная философия была задумана, спроектирована, реализация проекта в систематическом виде потребовала бы усилий и времени, далеко превышающих время жизни и возможности отдельного мыслителя. X. Арендт, в пределах подобных задач, ограничилась, полагаю, некоторой суммой вопросов и срезов исследования, чрезвычайно важных для будущей теории бытия, но отнюдь не исчерпывающих ее полном формате. Какие это вопросы и срезы, пояснялось в ходе анализа книги «Vita activa». Теперь мы вернемся к ним.
Часть VII. Глава 4. И снова о специфике концепции бытия Ханны Арендт
ГЛАВА 5
Расшифровка у X. Арендт
сфер бытия-вллесте-с-другилли
(в сопоставлении с учением Хойдеггеро)
Есть существенное различие между тем, как и к чему «поворачивает » Хайдеггер в своих послевоенных рассуждениях о бытии, и способами, всем стилем бытийного анализа Ханны Арендт. Трудно зафиксировать это различие в двух-трех формулировках. Его можно охарактеризовать описательно и последовательно, слагая целостную картину из ряда особенно показательных фрагментов ее произведений. И не упуская из виду некоторые «встречи» двух блестящих умов, пересечения теоретических путей обоих мыслителей, обращений к сходному историческому (прежде всего античному) материалу, тонкой работы с языком — во имя извлечения из него глубинных смыслов. После того как перед нами предстала панорама бытийных размышлений и поворотов позднего Хайдеггера, снова вернемся к уточнению тонких оттенков мыслей и образов Ханны Арендт, оформлявшихся, не забудем, в то же историческое время, причем в ее случае — при постоянном содержательном внимании к новым сочинениям бывшего учителя и уверенности в несравненной силе его философского таланта.
При разборе сочинения X. Арендт об экзистенциализме и ее книги «Vita activa» уже было показано, что первейшей предпосылкой ее размышлений о бытии является их четкое перенесение на социальноисторическую почву. Но ведь и Хайдеггер — мы это отмечали — то и дело заговаривает об истории и историческом измерении в своих новых раскладках о бытии. В рассуждениях Хайдеггера о технике поворот к историческому реализуется, вспомним, в разборе античного феномена techné и соответствующих текстов великих греческих философов — с целью выявить «сущность техники» как таковой.
В работах X. Арендт можно встретить тот же пласт — проблемный и исторический. Мы его проанализируем на примере отдельных текстов, взятых из «Vita activa». Это позволит установить конкретные особенности анализа Ханны Арендт, существенно отличающие ее учение о бытии от хайдеггеровского. Тексты, к которым мы обратимся, относятся к главе V «Vita activa», которая называется «Das Handeln» (и неадекватно переведена словом «Действие»).
Напомню о контексте. X. Арендт затрагивает тему уникальности любого человеческого существа — и сразу обнаруживает все трудности сохранения и проявления своего «кто-ты-есть» для каждой человеческой личности. Сам язык пасует перед задачей презентации личностного начала, уникальности «этого кто» и «зависает в что», как выражается X. Арендт; он скорее обрисовывает «характерные типы». «...И собственно личное прячется за этими типами так решительно, что невольно начинаешь считать все характеры масками, которые мы надеваем чтобы уменьшить риск последнего прояснения 6 бытии друг с другом — словно подключая какой-то защитный слой для притупления обескуражи¬
вающей однозначности бытия вот-этим-и-никем-другим» (Vita activa. С. 237. Курсив мой. — H. М.). Сам стиль письма и категории (подобные подчеркнутым курсивом) здесь напоминают о раннем Хайдеггере. Но дальнейший анализ текста X. Арендт показывает, что сходные слова и символы тем не менее ложатся на иную, чем у Хайдеггера, почву анализа. Правда, Хайдеггер в послевоенный период поменял исходную почву: это уже (как мы ранее показали) не «фундаментальная онтология», не аналитика Dasein, а обращения к Seyn (Sein), бытию как таковому, «самому бытию», которое Хайдеггер не хочет полностью и прямо срисовывать, скажем, с формул античной философии, но все же снова и снова описывает, припадая к античным образцам, прежде всего к философии Платона и Аристотеля.
А в каком направлении движется анализ у Ханны Арендт? Она решительно вплетает обнаруженные ею, на вид хайдеггерообразные структуры — подобные «бытию-вот-этим-и-никем-другим» — в то, что сама именует «тканью общечеловеческой связи» (с. 237). Казалось бы, в тексте, который мы анализируем, речь идет лишь о «зависании языка», о его «провале».
На самом деле, X. Арендт анализирует такие существенные, именно общебытийные — через всю историю проходящие — особенности человеческих жизнедействий, взаимодействий и показывает: они «решительно сказываются на всей области дел человеческих, где мы ведь все-таки движемся прежде всего как поступающие и говорящие создания» (Там же. С. 238). X. Арендт толкует о «нерешаемых апориях», «тянущихся за совместным бытием людей одновременно затрудняя и своеобразно обогащая их общение между собой» (Там же). Таким образом, автор V.a. обрисовывает — в качестве апории совместного бытия людей, притом апории нерешаемой, — сосуществование, противостояние неснимаемой уникальности единичного, личного «кто» и «провала лица» в совместном, исторически развертывающемся бытии людей. «Многозначная и не поддающаяся именованию неопределенность, с какой кажет себя „кто”, обуславливает неопределенность не только всякой политикиt но и всех дел, совершаемых непосредственно в бытии людей друг с другом вне опосредующей, стабилизирующей и объективирующей среды вещного мира» (Там же. Курсив мой. — H. М.). Полагаю, эта бытийная черта, относящаяся и к бытию отдельных индивидов, и к их совместной, именно социальной деятельности, выявлена Ханной Арендт верно и четко. И то, что подобные апории «решительно сказываются на всей области дел человеческих», тоже несомненно. Даже в современную эпоху, когда созданы многообразные технические средства, способные документально, зрительно зафиксировать «лицо» каждого человека, его деяния, его непосредственное участие в тех или иных событиях и ответственность за них, — итак, даже сегодня действует упомянутая апория, ведущая к неустранимой неопределенности действия личности и всех последствий его. Она издавна — как общебытийная, общеисторическая — включена в самое существо совместного бытия людей. Почему X. Арендт считает возможным сослаться на слова, приписываемые Сократу и выражавшие его горечь по поводу всегда скрывающегося собственного «даймона» личности.
439
Часть VII. (лова 5. Расшифровка у X. Арендт сфер бытия-вллесге-с-другилли...
Н-в. Мотрошилоео ЮсиИ Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытне-времп-любовь
440
Автор «Vita activa» бьется над тем, чтобы доказать и продемонстрировать те стороны объективности межчеловеческих связей и отношений, которые не являются вещественными и потому часто остаются «физически неуловимыми». Метафора «ткани межчеловеческих связей», ею применяемая, призвана «отдать должное» такой неуловимости (с. 240). Понимание характера данной апории — сосуществования неуловимости и все же привязанности к «объективно-предметному миру вещей» — становится непростой задачей. X. Арендт предупреждает против «коренной ошибки всех попыток материалистического понимания политической сферы» (совершаемой через понятия базиса и надстройки). Но при этом X. Арендт обнаруживает истоки материализма в понимании политики... уже у Платона и Аристотеля, которые полагали, что «политические сообщества, т. е. стало быть полис... создаются материальными потребностями людей» (Там же. С. 240).
Итак, X. Арендт не просто берет как нечто данное и далее не исследуемое (как это делает ранний Хайдеггер) сферу Mit-dasein, бытия-вмес- те-с-другими, но обнаруживает в ней специфический, как раз бытийный обуславливающий слой, который каждый отдельный человек, рождающийся в этот мир, непременно застает «в наличии», в его «da-» (здесь, вот, тут-существовании). «Сфера, в которой развертываются человеческие дела, заключена в некоей системе соотнесения, образующейся повсюду, где совместно живут люди. Поскольку люди брошены в мир не наугад, но людьми же и рождены в уже существующий человеческий мир, ткань межчеловеческой связи предшествует всякому отдельному поступку и слову..л (Там же. С. 241. Курсив мой. — H. М.). Здесь я вижу скрытую полемику с абстрактностью хайдеггеровского экзистенциала «Geworfenheit» (брошенность), из которого можно было вычитать разве что неизбывную трагичность и неопределенность жизнедействия индивида: он брошен-де «наугад», в «никуда», в «ничто...». А ведь на деле бытийный контекст «брошенности» (в известном смысле родившийся человек в самом деле «брошен » в мир) сложен, противоречив и требует специального анализа. Его и предпринимает здесь X. Арендт.
Вернемся к разбираемой ею бытийной апории, которая поможет нам понять суть ее подхода к техническому действию, к сфере techné, к которому, припомним, обращает свои теоретические взоры Хайдеггер, пытаясь объяснить сущность всякой, но также и новейшей техники и с помощью широкого, восходящего к Античности понимания techné обрисовать возможность смягчения угроз и опасностей, сопряженных с уже вырвавшейся из-под власти человека современной техникой. В толковании X. Арендт, тоже не упускающей из вида древнегреческие идеи, проблема техники, включая современную, скорее всего упирается в кратко очерченные нами неснимаемые бытийные, трансисторические апории человеческой деятельности, равно проявившиеся и в «изготовлении», сфере das Herstellen, домене, где подвизается homo faber, и в «действии», das Handeln. В связи со второй бытийной структурой возникают также и сферы совместной публичной активности, главная из которых — политика.
X. Арендт исходит из того, что люди давным-давно и небезосновательно прониклись недоверием к сферам «поступка и речи», а главным образом к политике. Она обращает внимание на то, что не Новому време¬
ни с его интересом к «осязаемой производительности » (с. 291) человечество обязано такими критическими «открытиями». «Присущие поступку апории, необозримость последствий, необратимость хода однажды начатых процессов и невозможность возложить ответственность за возникшее на какого-либо отдельного так элементарны по своей природе, что очень рано привлекли к себе внимание» (с. 291). На долгое время и у немалого числа людей, размышлявших над подобными трудностями, рассуждения потекли по двум мыслительным руслам. Что касается первой, т. е. чисто политической сферы, то возникли такие идеи и соответствующие практики: раз плюрализм действий огромного числа людей множит все эти необозримости и неопределенности, надо «взять плюрализм под контроль (с помощью какой-либо формы единовластия, диктатуры)», что для X. Арендт равносильно попытке «вообще отменить публичность» (с. 292).
Другая тенденция была именно и чисто мыслительной, и она-то интересует нас здесь в первую очередь. X. Арендт вполне доказательно обнаруживает ее уже в античной мысли, больше всего избирая в качестве иллюстрации тексты Платона. А состоит она в том, что — так думает X. Арендт — Платон предпринимает особые усилия «поставить изготовление (das Herstellen) на место действия (das Handeln), чтобы придать области дел человеческих присущие das Herstellen долговечность и порядок...» (с. 299). В связи с этим у X. Арендт подробно разбираются контексты, в которых в платоновское творчество вплетаются метафоры света. К ним же, как мы видели, спасительно прибегает Хайдеггер в своей обновленной теории бытия, не особенно вникая в то, зачем это древнегреческий мыслитель пользуется такими, например, словами, какскЭауёбтатоу, «всего ярче сияет», или Oavotarov, «явленнейшее». А вот X. Арендт, тщательно анализируя тексты диалогов «Государство», «Парменид», «Тимей», «Федр», показывает, что Платон по большей части относится к идеям как моделям, образцам, масштабам, «по чему практически-политическое поведение должно направлять себя так же, как ремесленное изготовление ориентируется на образец подлежащего изготовлению предмета и на принятые правила и нормы его изготовления» (с. 299). Другой ее довод относится уже к Аристотелю, который в одном из своих ранних произведений сравнивает «совершеннейший закон», наиболее приближающийся к идее, с «отвесом, мерой и компасом... [которые] среди всех инструментов занимают выдающееся положение» (с. 300).
Иными словами, для двух великих философов (которые не только не идеализировали положение, статус, дело и т. д. греческих ремесленников, но и подчас предлагали лишить их прав гражданства) сам характер деятельности das Herstellen (конечно же, осуществляемой на основе идей как моделей, парадигм) явился своего рода образцом всякого компетентного, выверенного действия; в том числе он должен стать примером для выполнения политических задач. И другой образ: в «Государстве (420)», пишет X. Арендт, «царь философов» «изготовляет полис так же, как скульптор статую» (с. 301). Ханна Арендт высказывает свое мнение: «концептуальная схема» Платона «преимущественно пригодна для политических утопий» (с. 302)1.
441
1 Но ведь с подобным же пониманием всех человеческих дел и на протяжении истории, и в наши дни выступали и выступают люди, понятия не имеющие ни о
Часть VII. Глава 5. Расшифровка у X. Арендт сфер бьгтия-вместе-с-дру тми...
H.ß. Мотрошилово ДиШ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьггие-вреллп-любовь
442
Между тем постепенное, в Новое время свершившееся превращение технического действия и его результатов в своего рода эталоны эффективности, точности, успеха, прогресса (имеющее, как блистательно показала X. Арендт, древнейшие мыслительные предпосылки) означало, что инструментальная, так сказать, деятельность людей, мало размышлявших над кем-то другим определяемыми или вообще не определяемыми целями, как бы объединилась с такими же бытийными свойствами различных сфер das Handeln (политики, управления и т. д.). Значит, существенные и вряд ли преодолимые (ибо бытийные) ограниченности обоих типов действия и взаимодействия как бы интерферировали, усиливали коренные недостатки друг друга. К этому присоединились и другие, более конкретные, но тоже бытийные социальные обстоятельства, на которые также обращает свое тревожное внимание X. Арендт.
Например, она справедливо подчеркивает, что начиная с Нового времени к «развязыванию спонтанных процессов», этой черте действия-поступка (Handlung), присоединилось нечто (относительно) новое. А именно: если до сих пор человек вел себя по отношению к природе «как изготовляющее и познающее существо», то теперь, «буквально внедряясь в природу» со всей универсально возросшей активностью и бесцеремонностью, люди весьма часто действуют по схеме, которую X. Арендт иллюстрирует откровенно циничными словами физика Вернера фон Брауна, «вполне серьезно» заявившего, что «фундаментальное исследование состоит в том, чтобы делать и не знать, что ты делаешь» (с. 306). Это важно и в контексте непременно основанной на науке современной технической деятельности, которая всегда была глуха или равнодушна к существенным внешним целям, но теперь оказалась способной к колоссальным разрушениям природы, уже явленным миру и потенциальным, накопленным в смертоносных продуктах этой деятельности. «Ибо люди всегда способны разрушить то, что сами сделали, — справедливо отмечает X. Арендт, — и их разрушительная мощь даже достигла сегодня такой точки, когда они могут разрушить то, чего сами не делали — Землю и жизнь на ней; но люди очевидным образом не способны снова повернуть назад процессы, развязанные их действием в мире, или хотя бы добиться надежного контроля над ними» (с. 309). Подобный мотив, и даже выраженный в сходных словах, сильно звучит и у позднего Хайдеггера.
Поразмыслим над этим и подобными жесткими выводами X. Арендт, которые не только не опровергнуты временем, прошедшим после написания книги V.a., но скорее подтверждены и усилены в их сугубой тревожности. А теперь они взывают к осуществлению неотложного и коренного бытийного поворота. Расхождения X. Арендт с Хайдеггером, поскольку оба рассуждают о технике, не в настроенности, не в тревоге, которой не скрывал и этот выдающийся философ, хотя он попытался
Платоне с Аристотелем, ни о X. Арендт. Сегодня это, скажем, чиновники, которые хотят решать политические проблемы, вопросы воспитания, обучения, научного или художественного творчества с помощью приложения тех или иных готовых шаблонов, количественных измерений, тестов; о социально-экономических проблемах хотят судить лишь с опорой на статистические данные и с помощью управленческих директив...
набросить иллюзорную завесу в виде (изложенной нами) утопической идеи «нового technö» как спасительного-де единства творчества, das Herstellen и искусства. Существенные различия между двумя мыслителями в том, что бытийный анализ Хайдеггера (сменивший теоретические ориентиры с трансценденталистско-онтологических на «объективные», общебытийные «свечения» и данности) так и не проник к тем проблемам социально-исторического действия, в силу обострения которых перед людьми столь остро встала необходимость понять, а если возможно, смягчить угрозы и опасности вполне реального уничтожения человечеством самого себя, планеты Земля и ближайшего космоса.
Анализ X. Арендт глубок, ее предостережения обоснованны. Сила этого анализа, тщательно проведенного и в книге «Vita activa », и в других произведениях, в том, что исследовательница без иллюзий, с теоретической безжалостностью вскрыла те существенные черты человеческой цивилизации, ее бытийные структуры и объективные особенности человеческой деятельности. Они — если говорить сжато — запечатлелись в объективной, неотменяемой и (почти) некомпенсируемой неспособности и каждого отдельного индивида, и их объединений, даже и выдающихся умов человечества принимать в расчет последствия всего необозримо плюрального массива человеческих действий и в исторические «моменты» их совершения, и тем более тогда, когда очень нужно прогнозирующе-планирующее вглядывание в будущие эпохи. В такие эпохи, когда вступающие в человеческий мир новые поколения действуют в изменившихся обстоятельствах, значительно повышается степень непредсказуемости всей неисчислимой суммы накапливающихся эффектов, последствий, среди которых когда-то так или иначе выступают на первый план самые долговременные и роковые.
Страшный пример последствий — мертвый Чернобыль (1986) — был в 2011 году мрачно оттенен ядерной катастрофой Фукушимы. На таких примерах становится очевидной еще одна черта человеческого бытия на современной стадии его исторического развития. Дело не только в трудности предвидения последствий тех или иных дел и действий людей, скажем, в научно-технической сфере, о чем убедительно повествует X. Арендт. Дело еще и в том, что предостерегающими предвидениями отдельных, наиболее прозорливых и обеспокоенных людей — ученых, инженеров, писателей-фантастов и т. д., человечество, как правило, пренебрегает. Так, и в событиях, предшествовавших катастрофам Чернобыля или Фукушимы, были задействованы люди, в том числе специалисты, профессионалы, предупреждавшие, предостерегавшие, на основании точных знаний загодя создававшие ужасающие «сценарии», которые совпадали с тем, что произошло позже. Но устройство всех человеческих дел с их сложившимися жесткими бытийными структурами таково, что не долговременные расчеты и предвидения, а соображения чьей-то вполне определенной сиюминутной выгоды оказываются решающими при определении «сегодняшних» целей и выбора планов, реальных стратегий действия. Пример того же рода — дискуссии вокруг возможностей и перспектив применения современных открытий генетики, генетической инженерии, клонирования и т. д.
443
~0
*
о
ю
и
3)
■О
с»
I
ю
■О
СП
Часть VII. f/юво 5.
444
э
8.
5
s
CD
Переходя теперь — вслед за X. Арендт — на уровень размышлений о социально-историческом бытии как таковом, т. е. собственно о бытийной стороне человеческой цивилизации, можно следующим образом охарактеризовать решающее структурно-системное противоречие цивилизации, которое проходит через все ее развитие, но становится особенно разительным и чреватым поистине разрушительными последствиями по мере накопления новейших научно-технических, т. е. тоже бытийных, продуктов и средств человеческой деятельности. Суть деятельности людей на протяжении истории всей до сих пор развивавшейся и развивающейся цивилизации и во всех без исключения локусах ее существования, включая сегодняшние регионы жизнедеятельности человечества, состоит в противоречии между беспрецедентной активностью человека и человечества, накоплением знаний, умений, все более впечатляющих новых научно-технических результатов (например, полетов в космос), широтой и глубиной влияния на окружающий мир и на самого человека — и незнанием или сознательным неучетом долговременных эффектов, последствий всех неисчислимых воздействий на природу и человека. Этот коренной порок всей человеческой цивилизации стал особенно явным и нетерпимым «сегодня», т. е. в XX и XXI веках, когда упомянутое бытийное противоречие, с одной стороны, стало более «явным», даже нетерпимым, но когда, с другой стороны, парадоксальным образом возросли кризисные социальные тенденции хаоса, индивидуального и общесоциального «эгоизма», безответственности, когда отпали многие традиции его далеко не полного сдерживания.
Одна из примет нашего времени в сферах das Handeln, в частности, политики в разных странах — наполнение ее корыстными людьми, и не умеющими и не желающими реализовать жесткое требование времени, а именно необходимости думать, прежде чем что-то масштабное делать, «думать вперед», т. е. учитывать, просчитывать реальные последствия всего, что делается и будет делаться в той или иной стране, во всем мире.
Как рисуются в свете этого перспективы дальнейшего социальноисторического развития? При всем том, что теория социального бытия X. Арендт (систематически развернутая в V.a.) не внушает ни легких надежд, ни иллюзий и рисует достаточно жесткую философско-историческую картину, собственный жизненный опыт этой выдающейся исследовательницы свидетельствовал: человечеству следует научиться хотя бы тому, чтобы предотвращать эксцессы, катастрофы, подобные тем, которые тогда, к 50-м годам XX века только что были пережиты человечеством — мировые войны, тотальные диктатуры, уничтожения и страдания миллионов людей.
Научилось ли этому человечество? И да, и нет. Да — потому что третьей мировой войны (в полном масштабе), слава богу, не было. Нет — потому что войны, локальные и региональные, не прекращаются, а развязанный во всем мире террор на «идейной» (религиозной) почве стал невиданно масштабным и страшным явлением. Всплески, рецидивы варварства в XXI веке хоть и несравнимы с чудовищными прорывами нацистского варварства посреди как будто цивилизован-
ного мира XX века, но они снова делают актуальными формулировки Ханны Арендт насчет «хрупкости человеческих дел» — тех дел, которые хотя бы в чем-то могли согласовываться с началами разума, свободы, гуманизма.
Противоречия между такими началами, которые все-таки неотделимы от человеческого цивилизационного бытия и его истории, и пока неисправимым отставанием цивилизации от новейших вызовов истории — таков главный акцент теории бытия X. Арендт, делающий ее, вместе с многочисленными деталями и поворотами анализа, одной из самых актуальных бытийных концепций прошлого.
Еще одно достоинство глубоких размышлений X. Арендт о бытии состоит в следующем. В противовес (особенно акцентированному Марксом и марксизмом) разделению, противопоставлению материально-вещественных данностей, процессов, результатов, превращаемых в якобы первичные элементы «общественного бытия», и идеальных, духовных процессов, продуктов, трактуемых как сугубо вторичное «общественное сознание», исследовательница вскрыла и исследовала несомненный факт формирования и обусловливающе-объективного, т. е. именно бытийного значения совершенно особых, не-вещных форм, структур, констелляций. Например, того трансисторического свойства любого социального действия, о котором подробно говорилось ранее. Как оно передается, транслируется от человека к человеку, от поколения к поколению, от страны к стране, образуя на протяжении тысячелетия неотменимое бытийное свойство социального действия всей до сих пор существовавшей и существующей человеческой цивилизации, вопрос весьма сложный. Кратко можно сказать, что ни в одну эпоху, ни в одной стране, ни в одной технической школе мира при обучении homo faber’oe тому или иному ремеслу или технической профессии в вузах не учили и не учат принимать в расчет долговременные эффекты и последствия воздействия на человека и человечество создаваемых в данное время технических средств — сегодня сколь угодно сложных и опасных. И так обстоят дела в любой сфере человеческой деятельности — ив простом труде, и в сложнейших системах управления, и в политической сфере. Новый вызов для социальной философии, для всей философской науки, для культуры в целом— создать систему бытийно-цивилизационной рефлексии, способной учесть и предотвратить хотя бы наиболее опасные следствия современной человеческой деятельности, угрожающие самому существованию природно-социального бытия рода Homo Sapiens.
445
Часть VII. Глава 5. Расшифровка у X. Арендт сфер бытмя-вместе-с-другмми...
ГЛАВА 6
Время и историчность кок проблемы философии Хайдеггера
Читателя может удивить то, что «время» (die Zeit) — категория, у Хайдеггера породненная с «бытием» (Sein) в его главном произведении и даже раньше его создания, рассматривается в моей книге не в едином блоке с хайдеггеровским меняющимся толкованием «бытия», а как бы под занавес всего нашего повествования. Для этого тем не менее есть ряд содержательных причин.
По моему глубокому убеждению, Хайдеггер, стремясь осмыслить категории Бытия и Времени в единстве, которое было обусловлено самой логикой проблемы, потерял немало духовно-творческих сил на том этапе работы, когда в первом разделе осуществил более чем необычную «экспозицию вопроса о смысле бытия». (О ней, этой экспозиции, речь шла не только в главах о «Бытии и времени», но и на протяжении всей нашей книги — также в ее разделах, посвященных поздней философии Хайдеггера и ее знаменательным «поворотам».) И когда в «Бытии и времени» пришел черед второго раздела, названного «Dasein und Zeitlichkeit»1 (не только Dasein, но и Zeitlichkeit сохраним в оригинальном написании), то новаторская, творческая энергия первой части как бы спала, и дело для Хайдеггера во многом ограничилось — применительно к проблеме времени — использованием одномерной схемы, «нанизанной» на то, что было ранее сказано о бытии. Какой была эта схема? Что произошло вследствие ее применения с размышлениями о времени, которые с давних пор присутствовали в философии и имелись в хайдег- геровском толковании, тоже испытавшем немалые изменения? И какими предстали мысли об истории и историчности, которые были не столь древними и не столь давними, как философские концепции времени, но по крайней мере в предшествовавшие XX веку полтора столетия стали составной частью философии? Как все это соотносилось с турбулентным временем, с сугубо противоречивой «историчностью» эпохи двух мировых войн и разрушительных революций? Удерживая в памяти эти кардинальные вопросы, обратимся — как и прежде в нашей книге — к анализу ряда конкретных текстов Хайдеггера.
«бытие и время», более непосредственно повернутое к проблемам времени и историчности
В § 45 II раздела «Бытия и времени» под заголовком «Dasein und Zeitlichkeit» Хайдеггер, подводя итог размышлениям и выкладкам I раздела с его общей и конкретной «экспозицией вопроса о смысле бытия» (при акцентировании всей необходимости и значимости теоретических изысканий по проблеме бытия — в свете фундирования учения о бытии в экзистенциалах Dasein и т. п.), вдруг приводит читателей к обескуражи¬
1 Суть термина «Dasein» пояснена ранее в главе о «Бытии и времени», разъяснения о «Zeitlichkeit» последуют далее.
вающим выводам. А именно: проделанная в I разделе «онтологическая интерпретация», заявляет он, недостаточна, ибо она «не может претендовать на изначальность (Urspiinglichkeit)» (S. и Z., S. 233; в переводе Би- бихина — «на исходность» — с. 233). Прежде всего это верно, считает Хайдеггер, по отношению к Dasein: в изначальном наброске теории бытия, где оно было взято за основу, не было введено «Dasein как целое», и такую задачу еще следует решить (Ibidem). То, что упущение следует преодолеть, объяснено Хайдеггером просто и, в конце концов, верно: все, о чем ранее в «Бытии и времени » шла речь — о самом Dasein, о заботе, страхе и т. д. — «должно требовать» разъяснения проблемы времени. Что на хайдеггеровском языке означает использование не столько вековечной категории «Zeit», время, но скорее упомянутого, уже хайдег- геровского термина «Zeitlichkeit»1. Почему? Философ сразу устанавливает: «Изначальная онтологическая основа экзистенциальности Dasein есть однако (его) временной характер (Zeitlichkeit)» (Ibidem. S. 234).
Все это, будучи совсем непраздным, только постулировано, а не доказано. Для Хайдеггера все дело в том, что при переходе философии к проблеме бытия, тем более перемещенного на почву бытия-сознания, Dasein, «должно требовать» подключения темы времени, темы исторического времени. Само требование (пусть это будет сделано после экспозиции бытия, уже в конце книги) вряд ли могло и может вызвать возражения читателей, и тогдашних, и нынешних. Но необходимо было определить, как именно временные, тем более исторические координаты будут подключены к уже описанному и теоретически расчлененному бытию, а точнее — к Dasein, выдвинутому на первый план. После изучения Первой главы «Возможное бытие целостности Dasein и бытие к смерти (das Sein zum Tode)» (перевод В. Бибихина скорректирован) можно внести некоторую ясность в вопрос о том, как именно будет строиться вся вторая часть.
Обрисуем общую схему интерпретации, которая применена Хайдеггером в этой и во всех других главах второго раздела.
По сути дела сжато повторяются идеи основных глав и характеристики их экзистенциалов, которые содержались в первом разделе и были (кратко) нами рассмотрены в главе о «Бытии и времени». Это видно уже из структуры II раздела. Его первая, обширная глава вторит анализу темы смерти, вторая и третья главы обращаются к ранее введенным темам «решимости» (Entschlossenheit), совести, вины, заботы. И только четвертая-пятая-шестая главы более непосредственно подводят к заявленной проблеме временного характера и историчности. При чтении второго раздела «Бытия и времени» не покидает впечатление, что экзис- тенциалы, уже введенные Хайдеггером в кадр анализа, предпринятого в первой части, как бы не «отпускали» его от себя, что он именно при-ду-
1 В. Бибихин переводит «Zeitlichkeit» как «временность ». Считаю перевод неудачным из-за неизбежных в русском языке ассоциаций с прилагательным «временный», т. е. когда говорится о чем-то существующем «на время», более или менее ограниченное. Между тем у Хайдеггера при употреблении слова «Zeitlichkeit» речь идет о постоянном свойстве и Dasein (напомним: человеческого бытия-сознания), и Sein, бытия как такового, т. е. о том, что терминологически правильнее передать словами «временной характер», хотя и этот перевод не идеален. Поэтому, как и в случае Dasein, предпочитаю сохранить термин в оригинальном написании.
447
э
Т>
0
01
Часть VII. (лава 6.
448
э
а
о
£
аз
±
мывал к ранее сказанному новые и новые характеристики. Но не счел необходимым разрушить ценную компактность прежнего текста и, понимая неизбежность повторов, все-таки решился еще раз пройти по ранее проторенным мыслительным путям. Правда, он внес дополнения в виде «временных» (или общеисторических) измерений — это прошлое, настоящее и будущее. Что окажется в принципе уместным и обогатит теорию Dasein раннего Хайдеггера еще одним «полем» бытийного размышления, — а каким именно, нам и предстоит выяснить. Для чего придется еще раз возвратиться — но исключительно из-за упомянутой структуры «Бытия и времени» — к уже обсуждавшемуся весьма сложному вопросу о специфике ранней концепции бытия Хайдеггера, разумеется, теперь с особым вниманием как раз к вопросу о своеобразии его обращения к теме времени и «историчности».
Хайдеггер, кстати, порядком запутал интерпретаторов и читателей, пытающихся прояснить историко-философский вопрос о том, насколько он близок к некоторым из предшествующих концепций бытия и времени или, напротив, насколько он далек от других подходов. Иногда он позиционирует себя как продолжателя и хранителя античных и средневековых традиций, а иногда — как их ниспровергатель. То же самое относится к Хайдеггеру как толкователю теорий времени Канта, Гегеля, Гуссерля. Однако верх неизменно берет претензия Хайдеггера на то, что и в проблемах времени он — не чей-то послушный ученик и преданный продолжатель: он не занимается описанием наследия мыслителей, сколь угодно великих и им самим признанных в качестве таковых, а стремится утвердить новые основы и разработать многие конкретные темы, «упущенные из виду» прежней философией бытия и времени. Прав был Г.-Г. Гадамер, в своем эссе «Платон» (1976), созданном после того, как жизненный и творческий путь его бывшего учителя Хайдеггера был уже закончен, написавший: «...если Хайдеггер свое дело понимал как подготовку к тому, чтобы заново поставить вопрос о бытии, то это означало, что традиционная метафизика, — начиная с ее истоков, т. е. с Аристотеля, — больше уже вообще не осознавала проблематичности смысла бытия. Самопониманию метафизики брошен вызов»1. И хотя Гадамер не преминул заметить, что Хайдеггер, подобно Ницше, «уделял особое внимание ранним началам греческого мышления» (Тамже), хотя хайдеггеровские «антиковедческие» размышления — мы это показали ранее — всегда интересны, именно их «бытийная» составляющая требует сугубого внимания и испытания на подлинность и достоверность интерпретации. Хайдеггер и сам признавался в своих историко-философских переиначиваниях, но делал это далеко не всегда. Однако и здесь Г.-Г. Гадамер снова прав, когда по поводу одной из конкретных хайдег- геровских интерпретаций Аристотеля он замечает: великий греческий философ «предстает перед нами чуть ли не в качестве предшественника хайдеггеровских идей» (Там же. С. 96). К сегодняшнему времени исследования специалистов-хайдеггероведов, досконально изучивших проблему «Хайдеггер как историк философии», можно свести к такому общему знаменателю: от его работ, все равно, идет ли речь о Плато-
1 Х.-Г. Гадамер. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. Минск: Пропилеи, 2007. С. 94.
не, Аристотеле, Канте, Гегеле, Гуссерле, нельзя ждать ни достоверного описания, ни верного фиксирования фактов, ни объективной оценки их идей. Это не значит, что толкования тех или иных текстов лишены интереса — и тем более это касается устремлений философа к новым идеям и концепциям. Хайдеггер — историк философии совершенно иного, самостоятельно-интерпретирующего, заведомо «переиначивающего» стиля. И если это учитывать и не питать излишних надежд на «близость к текстам» (хотя цитировать тексты и толковать формулы, изречения великих философов прошлого Хайдеггер не просто любил, но извлекал из них неожиданные смыслы), — то его неизменно осовременивающие изыскания могут многое дать читателю.
Применительно к темам бытия и времени полезны уточняющие разъяснения относительно проблемно-методологических особенностей «классических » концепций бытия, каковыми бытийные концепции были в древние, Средние века, частично оставались в Новое время и иногда пребывают в условиях современности. Этот тип размышлений о бытии характеризуется, если говорить кратко, во-первых, крайней абстрактностью, стремлением выявить черты «бытия как такового» и предположением, что можно подвести под всеобщее понятие «бытия» все, что в мире есть, было и будет — независимо от различий видов и форм бытия. В известном смысле многие учения о бытии от древности до современности руководствовались и руководствуются именно такой целью. (Что такие теоретические раскладки по-своему необходимы, я пыталась показать в своих упомянутых ранее работах о бытии.) В подобные бытийные объяснения обязаны были укладываться все отдельные виды бытийности, существования — вещи природы и изделия, созданные человеком, природные «миры» и «миры» человеческие, социальные, сами человеческие индивиды и все так или иначе индивидуализированные сущие. После появления оформленных религий, прежде всего христианских, появились и такие темы и оттенки рассуждений: Бог как творец, хранитель и преобразователь всего сущего — бывшего, настоящего и будущего, — также и особым образом бытийствующий. Это породило специальный, именно апеллирующий к бытию способ доказательства существования Бога, названный Кантом «онтологическим» доказательством. Рассуждения о конечности, «тварности» человека и бесконечности, т. е. вечности Бога и т. д. заняли видное место в теориях времени. При этом размышления о бытии (только после Хр. Вольфа получившие в философии устойчивое дисциплинарное название «онтологии») многие века мыслились в такой абстрактности и осуществлялись если не в полной отвлеченности от человека, то на основе предположения его частного значения по сравнению с более обширным миром «бытия как такового», охватывающего беспредельный мир в его необозримой истории, многократно превышающей время возникновения и развития, т. е. бытия-существования человека.
Поэтому какая-либо заведомая и намеренная антропологизация бытия мира считалась все-таки непозволительным приемом — а внутри запретной антропологизации многие века полагали недопустимым приписывать обширному, всеохватывающему «миру бытия» конкретные чисто человеческие свойства. Что касается эмоций, аффектов, то они,
449
16 694
Часть VII. (лова 6. Время и историчность кок проблемы философии Хайдеггера
450
о
ю
Э
а
о
£
аз
х
конечно, так или иначе анализировались, но — уже начиная с «классификатора » Аристотеля — разбирались в отделенных от бытия рубриках и дисциплинах философии.
Конечно, и в учениях о бытии испокон веков спрашивали о человеке — но исключительно в плоскости понятия «есть», полностью аналогичного тому, как «есть», бытийствует камень или и вообще любая вещь. «Чтобы вопрос, почему человек есть, — отмечает А.Г. Черняков, исследуя философию бытия Аристотеля, — был возможен как вопрос... сам факт бытия должен быть для нас достоверен. „Бытие должно быть уже дано, оно должно быть налицо (1041 в 4 f.)” (цит. «Метафизика » Аристотеля. — Н. М.)»* 1. Подобная схема абстрактно-всеобщего вопрошания о бытии по существу прошла через всю историю философии — до тех пор, пока не возникли пред-трансценденталистские, в основном религиозно ориентированные (Августин) и четко-трансценденталистские (Кант) ее образцы, о которых нужен особый разговор. И все же есть специфические свойства концепций бытия (лишь в Новое время, повторим снова, названных онтологическими) дохайдеггеровской философии: они были, как правило, абстрактно-всеобщими, отделенными от других («антропологических», «психологических») разделов философии или от наук о человеке. Вот эту сложившуюся практику смело и дерзко поломал Хайдеггер. Он решительно и намеренно осуществил то, что по разным причинам считалось запретным: «антропологизировал» онтологию, поставив в центр «фундаментальной», основоположной онтологии Dasein, т. е. человеческое бытие-сознание, и «психогизировав» все бытийное объяснение, сделав его «экзистенциалами» понятия, структуры, прежде отнесенные к доменам психологии. А последняя к XX веку, напомним, превратилась в достаточно развитую науку, которая, правда, довольно поздно стала отпочковываться от философии; прежде она была частью и разделом философских дисциплин. И Хайдеггер сделал подобные повороты не случайно, не по недосмотру, а намеренно и решительно, опираясь на продуманные основания (причем пошел на это, сохраняя в памяти сравнительно недавние разгромные атаки на «психологизм»).
Нечто сходное произошло в его философии и с проблемой времени. И она со стародавних времен анализировалась в философии и науках о природе, тоже будучи в значительной своей части абстрактно-всеобщим философским разделом. Философия обрела особый взгляд на проблему времени — начиная с Аристотеля, когда он, следуя Платону, связал время с движением, но уже вопреки Платону поместил рассмотрение временных аспектов бытия внутрь физики, т. е. части философии, ближайшим образом отнесенной к тогдашним (и будущим) дисциплинам о природе. А потому, верно отмечает П.П. Гайденко, «на первом плане у него (Аристотеля. — Н. М.) оказывается проблема измерения времени с помощью числа»2, т. е. то, что скорее относится к настоящей физике, к философии физики и математики.
Некоторая «психологизация» темы времени имеет место раньше, с чем разбирались отечественные и зарубежные интерпретаторы, — у
1 А.Г. Черняков. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля, Хайдеггера. СПб., 2001. С. 97.
1 П.П. Гайденко. Время. Длительность. Вечность. М., 2006. С. 35.
Августина, когда он (правда, по следам Аристотеля) обращался к теме «души», уже неизбежной для религиозной, а именно христианской философии, протяженности души (distentio animi) и имеющихся здесь трудных апорий1. В связи с тем, что Августин при анализе времени обращается — в отличие от «космологически» ориентированных мыслителей — не только к неопределенно понятой «душе», но к таким способностям индивида, как память, к таким эмоциям, как ожидание, внимание, П.П. Гайденко считает оправданным говорить о «психологической трактовке времени» у Августина. Она оговаривает, правда, что ряд исследователей не разделяет эту характеристику, предпочитая говорить о «теологической» трактовке, по определению неразлучной с понятием души. Полагаю, в такой — теологической классификации определений (не только времени, но и самого бытия) у Августина заключена большая правда. И эту правомерность, кстати, признает и П.П. Гайденко, справедливо отмечая: «...психологические концепции времени в собственном смысле формируются уже в новоевропейской философии и носят в основном секулярный характер» (Там же). К этому надо бы добавить, что и в Новое время, даже к началу XX века, редкие психологические подходы к проблеме времени отделены, как правило, от философских теорий. (А после «разгрома» психологизма это отделение некоторое время считается нормой.)
Даже в феноменологии Гуссерля, который решительно перевел исследование времени в плоскость изучения феноменов сознания, исследование опиралось, с одной стороны, на преодоление крайнего психологизма, а с другой стороны, на последовательное уточнение тех сторон феноменологии, которые были связаны с похожим на психологию, но иным обращением к сознанию, его актам, процессам, структурам. (Но это особая, сложная тема, которая здесь разбираться не будет.)
И вот применительно к философии прошлого и настоящего Хайдеггер снова же осуществляет свое решительное преобразование. Оно состоит в следующем: после того, как бытие уже было центрировано вокруг Dasein, а онтология помещена на платформу фундаментальной онтологии, ко всему этому материалу были прибавлены измерения Zeitlichkeit, историчности. Проследим, как именно это делал Хайдеггер и к каким теоретическим и практическим результатам он привел концепцию бытия.
Временной характер (Zeitlichkeit) как дополнительное измерение анализа Dasein
Тут все делается просто и совсем не насильственно. Что было уже найдено в первом разделе «Бытия и времени»? Таким вопросом задается сам Хайдеггер. И отвечает: как уже найденным мы располагаем тем «ос- новоустройством тематического сущего, бытием-в-мире», которое «обнажилось как забота» (S. 231). Но вправе ли мы, сказав то, что сказали в I части (§ 9, § 6, § 21, § 43 «Бытия и времени»), считать добытые характе-
1 По вопросу об апориях времени, обсуждаемых у Августина (и у замечательного философа нашего времени П. Рикёра), см.: Н.В. Мотрошилова. Поль Рикёр об апориях временного опыта / Поль Рикёр — философ диалога. М.: ИФ РАН, 2008. С. 93-102.
16*
Часть VII. f/iaea 6. Время и историчность кок проблемы философии Хайдеггера
H.ß. Мотрошилово Юр Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
452
ристики «изначальными» и целостными определениями Dasein и Seiend, сущего? Нет, не вправе, самокритично признает Хайдеггер. И добавляет: искомая целостность Dasein дается как раз благодаря учету его временного характера (Zeitlichkeit). В соответствии с таким ходом мысли перед нами снова проходят чередой прежние экзистенциалы, но к ним непременно добавляются временные характеристики.
Скажем, темы заботы или смерти без всякого насилия над ними приобретают в изложении Хайдеггера новые для «Бытия и времени» оттенки, вполне релевантные их экзистенциальному осмыслению. На витиеватом, особом хайдеггеровском языке констатируется нечто реальное, если не сказать банальное. «Достижение целостности Dasein в смерти есть одновременно утрата Da (тут, вот...). Переход к уже-не-здесь-бы- тию (Nichtmehrdasein) устраняет Dasein как раз из возможности (снова) проделать опыт такого перехода и постичь его как испытанный» (S. 237). Что тут зафиксировано? То элементарное, что умерший уже не «здесь» (da), что он переходит к другому бытийному состоянию; ему уже не грозит новый «опыт умирания». Сказанное повторяется в других словах, что позволяет Хайдеггеру подробнее сказать об «умирании» (в частности, об умирании других людей, с чем мы при жизни часто сталкиваемся), заявить о том, кстати, тоже тривиальном факте, что «никто не может избавить другого от его умирания» (S. 240). Следуют аналогичные повторы. (Важный момент здесь — ссылки на те прояснения феномена смерти, которые имелись в достаточно свежих тогда произведениях Г. Зиммеля, В. Дильтея и других авторов философии жизни — S. 249.) Но в целом повторения сказанного сопровождаются добавлениями к нему в том же ключе. Конечно, упоминания о факторе времени тут небесполезны. Но пока они звучат глухо, скорее на заднике сцены повествования-повтора.
Примерно то же, с некоторыми вариациями, можно сказать о последующих параграфах первых глав второй части «Бытия и времени».
Только где-то к концу 3-й главы II части работы Хайдеггер начинает специально и более подробно прояснять проблему времени. Точнее, он берет ее не в собственном философском смысле, тесно повязанном с историей философии, а освещает особый аспект ее, очерченный и отграниченный термином «Zeitlichkeit». «Zeitlichkeit» и разговор о нем — не само время и его анализ, а исследования особого свойства других феноменов, экзистенциалов, расшифровывающих Dasein. Не забудем, что Dasein некоторые авторы переводят как «вот-бытие»: в этом «вот» (Da-) зафиксировано единство наличия где-то и существования «когда-то», «вот» — тогда (именно), т. е. уже включен временной и временный момент.
«Zeitlichkeit и повседневность» — специфический аспект учений Хайдеггера
Это и название 4-й главы, где обещанное, но сильно задержанное возвратами и повторами обращение к теме времени наконец-то происходит.
Несколько раньше Хайдеггер, правда, как бы пытался подобраться к анализу проблемы через упоминания об ожидании чего-то в будущем (например, в феноменах страха). Феномен «Befindlichkeit» (расположенности), казалось, тоже склонял к учету временного измерения. Различные «переживания», принадлежные Befindlichkeit, текучи, они приходят
и уходят. Но это, признает сам Хайдеггер, «тривиальная констатация, и притом онтико-психологическая» (S. 340). А дело ведь идет, вспоминает философ, о доказательстве того, что настроения (Stimmungen) «означают» экзистенциально: ведь «о«и не возможны иначе, чем на основе Zeitlichkeit» (S. 341).
Не так уж много нетривиального прибавляют разыскания насчет Geworfenheit, падения. Правда, сказано, что в нем, как и всяком переживании, есть своя «актуальность». Аналогично говорится о других экзистенциальных модусах, ранее охарактеризованных.
Если искать рациональный философский смысл в отдельных витиеватых, узорчатых речениях Хайдеггера о времени, то кажется правомерным прийти к следующим выводам.
Поиски временных определенностей, аспектов Dasein не лишены значения и как будто бы даются Хайдеггеру без большого труда. Помогает «повседневность», на которую ссылается и сам философ: ведь если оставаться в пределах простого повседневного опыта относительно экзистен- циалов, подобных «брошенности-в-мир», заботы, страха, смерти и т. д., уже здравый смысл подскажет, что в каждом таком феномене (и в его философских осмыслениях) заключены измерения прошлого (прошедшести, как говорит Хайдеггер) или настоящего, актуального переживания и будущего. Ибо человеческое Dasein всегда как-то проектирует себя. Когда мы заботимся (о чем-то или вообще озабочены), страшимся чего-то, ужасаемся чему-то, то у всех «настроенностей» такого рода всегда есть свой цикл, когда они возникают, длятся или охватывают человека в момент «теперь» (jetzt), а потом исчезают, сменяясь другими настроенностями. Впрочем, Хайдеггер прав, когда замечает, что подобные характеристики тривиальны. (И таких тривиальностей немало как раз в разделах о времени.) А что действительно нового и глубокого о времени можно узнать во второй части «Бытия и времени»? Мое мнение (которое не поколеблено интересными раскладками А.Г. Чернякова и П.П. Гайденко, относящимися к текстам Хайдеггера о времени): не столь уж много.
А.Г. Черняков подробно рассказывает, например, о такой небезынтересной черте хайдеггеровской концепции времени, как общее определение горизонтно-проективного характера Zeitigung (бегло ссылаясь на «Бытие и время», S. 360 и подробнее — на более поздний текст «Основные проблемы феноменологии»). Но сам же совершенно справедливо замечает, что все это выведено как следствие из общефеноменологических, т. е. гуссерлевских предпосылок1. (Можно было бы добавить, что у Гуссерля тема горизонтности, в том числе временной, развита куда более подробно и интересно.)
Именно Гуссерль (и как раз в «Лекциях о внутреннем сознании времени», изданных Хайдеггером) предупреждал: «Естественно, мы все знаем, что такое время; оно — нечто общеизвестное. Но стоит нам сделать попытку дать отчет о сознании времени, установить правильное отношение между объективным временем и субъективным сознанием времени, стоит только обратиться к пониманию того, как временная объективность, следовательно, индивидуальная объективность вообще может
453
"В
z
-е-
1
Я
о
-е-
S
1 А.Г. Черняков. Цит. произв. С. 378.
Часть VII. (лава 6.
Мартин Хайдеггер и Ханна прендт: бытие-время-любовь
454
конституироваться в субъективном сознании времени, ...мы сразу вовлекаемся в наихарактернейшие трудности, противоречия, путаницу»1. Скорее всего, при прочтении «Бытия и времени» Гуссерль имел все основания быть недовольным именно разделом о времени. Думается, предостережение Гуссерля не остановило Хайдеггера и не помогло ему: трудности, с которыми он столкнулся во второй части «Бытия и времени», в целом остались непреодоленными.
Но все же присоединение Zeitlichkeit к таким феноменам-экзистен- циалам, как «падение», «брошенность», «речь», по-своему оправдано и интересно. Так, говоря о «Zeitlichkeit» речи, Хайдеггер правильно констатирует: «речь сажа по себе имеет временной характер...» (S. 349). Но кроме напоминания о временных характеристиках видов глагола, т. е. снова о чем-то довольно хорошо известном и по-своему тривиальном, кроме парадоксальной формулы о том, что «будущее (настоящее) — не позже уже бывшего и это последнее не раньше настоящего» (Ibidem), вычитанной у других авторов, — ничего особенно нового. Нет, «время» не поддавалось Хайдеггеру, и разделы о «временности» (Zeitlichkeit), как сказано, выглядят (это мое мнение) более бледным повторением, небольшим дополнением к ранее сказанному о бытии — не забудем, не о Sein, а о Dasein.
Может быть, больше повезет тогда, когда Хайдеггер перейдет (в 5-й главе) к теме «Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit», т. е. когда он увяжет временной характер (Dasein) с историчностью? Присмотримся к последним главам «Бытия и времени».
аз
±
«Историчность» кок сторона временных измерений бытия
Замахнулся Хайдеггер на нечто весьма серьезное. Например, согласно заголовку § 72 он вознамерился дать свою, «экзистенциально-онтологическую экспозицию проблемы истории». Выступить с такой претензией в 1927 году значило многое: ведь к 20-м годам XX века проблема историчности живо и полемично обсуждалась в европейской философии (в частности, в неокантианстве и философии жизни). Были более ранние, чем «Бытие и время», отклики Хайдеггера на эти проблемы и дискуссии2.
Но везде мы обнаруживаем ту же схему: повторение пройденного — с присоединением измерения «Zeitlichkeit» и последующим напоминанием уже об историчности. В Dasein, пишет Хайдеггер, уже заключено отнесение к рождению и смерти (надо полагать, отдельного человека, наделенного сознанием, хотя мы знаем: отдельный человек как особое сущее не есть идентично Dasein). Но это «отнесение» имеет, по Хайдеггеру, сложный характер. Его надо искать-де через прояснение вопроса о «событии». А оно приводит Хайдеггера к ряду фундаментальных выводов.
• Когда философы-современники прибегали к научно-теоретическим способам трактовки проблемы истории, то им (упоминаются Г. Зиммель и Г. Риккерт) оказался «доступен», по Хайдеггеру, лишь объект определенной отрасли науки. А «первофеномен истории... тем самым необратимо отодвигался в сторону» (S. 375).
1 Е. Husserl. Husserliana. Bd. X. S. 3-4.
2 См. об этом краткий анализ И. Михайлова в его не раз цитированной книге «Ранний Хайдеггер» (§ 80-81).
• Поиски такого «первофеномена» приводили Хайдеггера к утверждению, что «первично-историчное — это Dasein», а «внутри- мировое встречное» (innerweltliche Begegende) — только вторичное в историческом смысле (S. 381). Отсюда следовало, по Хайдеггеру, что «вульгарное» понятие «мировой истории» выводилось из вторичноисторического. Ошибочность такого обычного (расхожего) понимания истории Хайдеггер возводит к тому, что «исторический характер еще сохранившихся древностей» бывает отнесен к «прошедшести» (как переводит В. Бибихин «Vergangenheit des Daseins»), миру коего они прилежали. Но с точки зрения хайдеггеровской аналитики Dasein, последнее ни в коей мере не может быть «прошедшим», а только «непреходящим» (S. 380): ведь оно не может быть «наличным» (da-), не экзистируя. С этими постулатами коренным образом меняется взгляд на мировую историю: считается, что ее непозволительно рассматривать, как это делается во многих философско-исторических изображениях, как творение какой-то внешней инстанции (все равно, природной ли божественной или, скажем, как создание некоего мирового духа). История должна быть «первофеноменально» истолкована, утверждает ранний Хайдеггер — а значит, только через Dasein, которое, напомним, не является бытием-сознанием каких-то отдельных индивидов, а тождественна особой философской конструкции с совокупно объединенными чертами. Dasein же, по Хайдеггеру, «всегда фактично имеет свою историю и может иметь ее, потому что бытие (das Sein) этого сущего конституируется историчностью» (S. 382). Если справедливо признать, что без рассмотрения индивидуально-человеческого бытия-сознания, с которого срисовано Dasein, невозможно понять историю как таковую, т. е. если и признать, что реальные человеческие индивиды с их особой, «фактической» историей творят историю в совокупном, общеисторическом смысле, — то в толкованиях истории остается множество сложных, объективноисторических, внеиндивидуальных проблем, непроясненность которых и толкала философов истории к оперированию «внечеловеческими» понятиями и символами вроде всемогущего Бога или всесильного всемирно-исторического духа. Вспомним: на сходном пути X. Арендт ввела обширную тему «the human condition», человеческой обусловленности.
Хайдеггер же снова сводит как затруднения, так и решения к тому же возврату к сказанному, т. е. к повторению — в других словах — прежней бытийно-онтологической схемы, прибавляя к ней некоторые структуры, позволяющие хоть как-то привязать объяснение к совершенно особому, т. е. историческому контексту.
Так, иногда (например, в § 72) он вспоминает о такой структуре истории, как смена и преемственность поколений (со ссылкой на произведение В. Дильтея1 «Об изучении истории наук о человеке, обществе и государстве», 1875), но эти отдельные выходы к истории теряются в
1 Теориям В. Дильтея и графа Йорка фон Вартенбурга посвящен интересный § 77 «Бытия и времени». Этот экскурс предваряет краткий анализ, где речь ближе идет об истории, ее понимании, концепциях истории. Все как будто звучит многообещающе, но уклонение в анализ «Historie», т. е. в историографию, рассмотрение Geschichtlichkeit, сразу же и обрывается. А скоро нас опять ждет удаление в привычную для Хайдеггера абстрактную стихию речений о времени Dasein.
455
го
1
9
-0-
S
ÿ
s<
lO
с»
Б
Часть VII. 1лава 6.
H-ß. Мотрошилово Шй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
456
знакомых рассуждениях о смерти, о das Man. И разве только прояснение общевременных структур таких под-экзистенциалов, как «теперь» (jetzt), «перед» (zuvor), «после» (dann), «тогда» (damals), «всегда» (jederzeit) (§ 79), содержит немало любопытных, в том числе историко- философских моментов; но они имеют весьма отдаленное, опосредованное отношение к проблемам истории и историчности.
К концу «Бытия и времени», именно в разделе о времени и историчности, Хайдеггер вспоминает о Гегеле как великом предшественнике, идеям которого он всю последующую жизнь уделял немалое внимание. Здесь разбираются гегелевские «Энциклопедия философских наук» и «Наука логики», из которых Хайдеггер тоже извлекает пояснение к темам «теперь», «здесь», как и к проблеме времени и духа. Но все делается лишь для того, чтобы заключить: «Не „дух” впадает во время, но: фактичная экзистенция „выпадает” как падающая из сходной, собственной временности» (с. 436). А следовательно, отпадение Хайдеггера от объективно-идеалистической философии истории зафиксировано и «обосновано».
Теперь снова зададимся вопросом: к какому итогу приводит хайдег- геровская концепция Zeitlichkeit и историчности, представленная в «Бытии и времени»? Из того, что было ранее сказано, следует: если Хайдеггеру удалось создать оригинальное учение о бытии, то размышления о времени и историчности оказались его повтором, который в целом, если отвлечься от отдельных деталей, не был адекватен ни смыслу и характеру, ни огромной социально-практической значимости затронутых тем и вопросов. Последнее особенно существенно; в этой книге было показано, как конденсировалось историческое время и к каким драматическим поворотам придвигалась тогда мировая, в частности и особенности европейская история. И в том, что новаторская в целом ряде аспектов философия Хайдеггера пробуксовывала как раз в случаях понимания истории и исторической судьбы, можно видеть один из аспектов объяснения того, как сложилась личная судьба этого популярного перед войной философа, «властителя дум» студенческой молодежи, и чем обернулась тогдашняя судьба для самой этой молодежи.
Но говоря обо всем этом в утвердительной форме, надо сделать важную оговорку. Во всех оценках философии Хайдеггера должен быть постоянный коэффициент, о котором упоминал ученик и друг Хайдеггера Жан Бюфре. Он говорил о себе: долгое время он питал надежду, что что-то понимал в философии Хайдеггера, но потом утвердился в мысли: еще предстоит многое понять, глубже осмыслить проблемы и решения учителя, которые лежали в основе его концепций, но по разным причинам остались непонятыми. А ведь это верно по отношению ко всякой сложной философии, тем более такой, где к содержанию приходится пробираться сквозь чащу сверхусложненных языка и терминологии, едва ли передаваемых сколько-нибудь адекватно на родном языке.
Применительно к теме нашей книги ранняя неудача (как представляется) Хайдеггера в осмыслении истории и историчности, а в свете избрания Dasein центром учения о бытии — и досадный отказ Хайдеггера от перемещения в плоскость социально-исторической теории бытия объясняет, почему X. Арендт оказалась, как подробно показано ранее,
склонной — ив конечном счете способной — к такому перемещению, предложив в своих книгах убедительные концептуальные подходы и решения, позволяющие глубоко осмыслить те трагические повороты истории, которые настигли наших героев в 30-40-х годах и которые, увы, не исключены и в будущем.
Часть VII. Глава 6. Время и историчность как проблемы философии Хайдеггера
Эпилог
В заключение всего повествования приведу пространную цитату из работы того человека, которому у нас уже не раз предоставлялось слово, когда речь шла о разных этапах жизни X. Арендт и о ее творчестве. Это высказывание соученика Ханны студенческих лет, потом постоянного верного и доверенного друга Ханса Йонаса — к тому же одного из лучших этиков прошедшего столетия.
Итак, слово X. Йонасу: «Ханна Арендт была одной из великих женщин XX века. Я думаю, что подразумеваемым ею смыслам отвечают мои слова о „женщине”, а не о „мыслителе” (как части целого) или „личности” (тут бегство во что-то бесполое). Она сделала решительный выбор — быть тем, что предопределили случай или судьба, а именно дочерью высокообразованных немецко-еврейских родителей, наследницей длительных, восходивших к грекам духовных и эстетических традиций, наблюдательницей и хроникером их современной утраты; пассажиркой корабля, каким был XX век, свидетельницей и жертвой его насильственных крушений, подругой многих его пассажиров и участников его плавания; магнетически прекрасной женщиной с безошибочным чувством распознавания в дружбе с мужчинами и женщинами, обладавшими свойством истинной породы, — и еще ее целостное утверждение всех таких данностей в качестве condition humaine, человеческих условий, нераздельно принадлежит этому образу, который ясно проглядывает за историей сей единственной в своем роде жизни. Она на самом деле была чрезвычайно „женственная”, притом не была „феминисткой” („я не откажусь от моих привилегий”, — однажды сказала она). Ей доставляло радость, когда ей дарили цветы, сопровождали ее в обществе, когда кавалеры уделяли ей внимание. И все же в целом она считала мужчин более слабым полом: они [полагала она] дальше женщин отстоят от интуитивного постижения смысла действительности, более падки на понятийный обман, более склонны впадать в иллюзии, менее готовы уловить многозначность смысла и увидеть вмешательство теней в человеческие уравнения — и следовательно, фактически они больше [женщин] нуждаются в защите. И в ее случае большая, без сомнения, женская чувствительность вела и к большей силе; и никогда не было никаких жалоб на то, что люди таковы, каковы они есть. Когда я порою выражал опасения по поводу ее быстрых, часто разящих суждений о той или иной личности, о каких-либо поступке, ситуации и просил такие суждения доказывать, то она обменивалась с моей женой взглядами, выражавшими их взаимопонимание, взглядами, в которых смешивались нетерпение и сострадание, а возможно, и нежность. И потом говорила: „Ах, Ханс!” Не так давно (не было ли это при нашей последней встрече?) я при подобных обстоятельствах почувствовал себя вынужденным спросить: „Ханна, скажи, пожалуйста, не держишь ли ты меня за дурака?” — „Да нет, — отвечала она, и глаза ее были почти испуганными, — я держу тебя просто за мужчину”»1.
1 Н. Jonas. Erkennen, Denken. Zu Hannah Arendts philosophisches Werk // Merkur. XXX. Jahrgang. Oktober. 1976. S. 921-922. Вслед за процитированными словами в статье X. Йонаса идет компактное освещение идей, концепций X. Арендт — это наилучшая из тех кратких обобщающих работ о ней, какие мне попадались.
Неплохое обобщение особенностей исторического бытия X. Арендт соединено здесь с откровенностью в описании черт характера и поведения этой, в самом деле, «великой женщины XX века». И с откровенностью, вызывающей сложные, щемящие чувства, — такой, на которую мало кто решается.
Тут становится ясно: Ханна Арендт — женщина замечательной (особенно в молодости) красоты, женственная до мозга костей, в пору великой любви, стрясшейся с нею в юности, робкая и как бы слабая, и этой любовью, протянувшейся через всю ее жизнь, и всем течением общей и личной жизненной истории была принуждена к тому, чтобы стать исключительно сильным человеком. Как ни парадоксально, но ранняя взаимная, яркая любовь, сначала истощившая все силы Ханны, в конечном счете способствовала пробуждению и укреплению наиболее ярких, впечатляющих потенций ее ума и характера, включая поистине мощный интеллект и редчайшую одаренность. Любовь к Хайдеггеру, ее долгое незримое воздействие, а также, видимо, и постоянное желание Ханны изменить именно его изначально необъективное скептическое восприятие ее творческих возможностей — все это, полагаю, толкало Ханну к негласному, скрытому соревнованию с бывшим учителем и любимым мужчиной, было своего рода внутренним импетусом ее неустанного и весьма успешного труда на ниве теоретического исследования.
Свидетельство X. Йонаса говорит и о противоположной сумме ее личностных, притом именно женских мироощущений. Через всю жизнь пронеся отзвуки своей яркой, молодой взаимной любви, после войны на недолгое время поддавшись иллюзии, будто любовь эта способна ожить, возродиться, Ханна прониклась стойким убеждением, будто именно мужчин (а не женщин, как обычно думают) следует считать (более) слабым полом, нуждающимся в опеке, защите, снисхождении... Трудно, зная все перипетии жизни X. Арендт, избавиться от впечатления, что изначально и весьма существенно на такой именно вывод всего основательнее повлияло поведение ее самого любимого мужчины... Здесь и была заключена, притом скрыто для окружающего мира (в некоторой известности для самых доверенных друзей), апория личностного пути Ханны Арендт: напряженное противоречие между силой, интенсивностью, все же счастьем, длительной энергией рано испытанной разделенной любви — и несомненно горестным убеждением в том, что женщина, прошедшая через испытание любовью, должна больше всего, если не исключительно рассчитывать на себя, на свою внутреннюю жизненную силу. (Появление в ее жизни Г. Блюхера внесло свои нюансы, но не о них сейчас речь.) Да и любимый мужчина, на что женщины как бы инстинктивно рассчитывают, не стал и не мог стать для нее сколько-нибудь надежной опорой. Рано сделав такой вывод (что очевидно из приведенного свидетельства верного и честного друга Ханса Йонаса), Ханна Арендт — применительно к себе, а возможно, не только к себе — оказалась полностью права. Все очертания и смыслы ее жизни подтверждают эту правоту.
Бытие и Время на протяжении жизненной истории X. Арендт и ее современников выдались исключительно жесткими и трагическими. Больше того, с «той стороны» исходили беспокойства, испытания, все-
459
Эпилог
H.ß. Мотрошилово Мортмн Хайдеггер и Ханна Арендт-. бьгтие-времп-любовь
460
му миру явленные грехопадения. Впору было дрогнуть, сломаться, утратить остатки жизненной энергии. С Ханной Арендт этого не случилось.
Она прошла «по крутому маршруту» своей жизни, не став ни пассивно «заброшенной» в мир, ни одинокой или «покинутой». X. Арендт также не поддалась как будто бы универсальной диктатуре «das Man». И не только не поддалась, а несмотря на жесткий и горький опыт жизни и в немалой степени наблюдая как раз за ним зорким взглядом проницательного и дотошного исследователя, сумела сделать вывод, имеющий значение общеметафизической и социально-философской истины: уничтожить уникальность, неповторимость деятельности любой личности не под силу никаким обезличивающим тенденциям и структурам, сколь бы впечатляющим ни казалось воздействие «das Man» в том или ином обществе, на том или ином этапе истории.
Испытания и утраты не ожесточили эту женщину, не сделали ее равнодушной или усталой. Многие люди, в том числе малознакомые, прибегали к ее поддержке. Друзья неизменно подпитывались от нее действенной жизненной энергией.
В подзаголовок книги вынесены ключевые слова (они же — коренные понятия философии) — бытие, время, любовь. Их теоретическое единство — также и смысложизненное. И если каким-то людям удается такое единство обрести и к тому же оставить заметный след в культуре, в памяти людей своего и последующего времени, значит, и жизнь, прожитая ими, достойна особого повествования.
Приложение
Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера1
Пролог и... эпилог
«Дело Хайдеггера» в юбилейном ( 1989) году
В 1989 г. философская общественность мира отмечала 100-летие со дня рождения Мартина Хайдеггера. Его единодушно причисляют к когорте выдающихся мыслителей, а некоторые даже считают «философом номер один» нашего столетия. Юбилей стал в высшей степени противоречивым событием.
С одной стороны, он подтвердил возросшую популярность хайдег- геровской философии во всем мире. Юбилейные конференции проводились во многих философских центрах стран Запада и Востока. Прошла, и, по-моему, с немалым успехом, такая конференция и в Москве.
С другой стороны, именно к юбилейному году достигли своего пика обострившиеся в 80-х гг. дискуссии по «делу Хайдеггера», связанные, конечно же, с его нацистской ангажированностью.
Так получилось, что юбилей М. Хайдеггера проходил в обстановке накалившихся страстей (которые, кстати, не охладились и не утихли и в послеюбилейные годы). Охарактеризовать эти дискуссии надо, чтобы понять, к какому эпилогу, но тоже незавершенному, пришло сегодня «дело Хайдеггера». Я выделила бы три главные позиции, три подхода к этой проблеме, которые выкристаллизовались в последние годы и особенно ярко проявились в современных публикациях и спорах. (Внутри каждой из позиций тоже есть существенные различия в оттенках.)
Первая позиция, исторические истоки которой можно проследить в идейно-нравственных приговорах Хайдеггеру, вынесенных еще в 30-х гг., во время Второй мировой войны и особенно сразу после нее, оказалась значительно укрепленной благодаря нашумевшей резко ан- тихайдеггеровской книге живущего во Франции чилийского философа Виктора Фариаса «Хайдеггер и нацизм». Она была переведена с испанского на французский ( «Heidegger et la Nazisme ». P., 1987), a потом и на другие европейские языки. В книге были помещены и обсуждены новые, я бы сказала, в основном компрометирующие материалы, связанные с нацистским прошлым М. Хайдеггера. Литература послевоенного времени, посвященная этой теме, вообще заметно пополнилась в самые
1 Эта работа, которую я называю краткой биографией Хайдеггера, впервые опубликована мною в 1989 г., в 100-летний юбилей М. Хайдеггера. Она воспроизведена здесь без изменений.
462
о
CD
О
3
а
о
£
<п
X
последние годы XX в. И если книга Фариаса подверглась критике (в ряде случаев достаточно справедливой), то в целом позиция обвинителей получила подкрепление благодаря новым исследованиям и документам (пример — документальные исследования X. Отта, Р. Мартена, на которые я в дальнейшем буду ссылаться). Так история именно к юбилейному году преподнесла совсем не юбилейный подарок: что бы там ни говорили апологеты не желавшего покаяться в нацистском грехопадении Хайдеггера, а прошлое не прощает и великим людям пусть даже временные фашистские, то бишь националистические и тоталитаристские, опьянения.
Итак, первый — «обвинительный» — подход основывается, во-первых, на идее о непростительности грехопадения Хайдеггера, во-вторых же, на утверждении о том, что заигрывания с нацизмом не были случайными, а коренились в системе хайдеггеровских философских убеждений, внутренне породненных с фашистской идеологией «почвы» и «крови». Оттенки этой позиции связаны с неодинаковым ответом на вопрос: остается ли, за вычетом нацистского греха и профашистских идей, еще что-то в текстах М. Хайдеггера, что позволяет считать его великим мыслителем. Одни авторы склонны давать на вопрос, по существу, отрицательный ответ, объявляя также и ранние идеи, произведения философа зараженными националистической чумой и даже причисляя их к идейным источникам фашизма. Другие авторы выделяют хайдеггеровские работы (особенно «Sein und Zeit»), которые, по их мнению, носят на себе печать философского гения и потому уже неотделимы от магистрального развития мировой философии.
Вторую — «адвокатскую» — позицию занимают исследователи, которые — тут тоже выявляется разнообразие оттенков — либо прилагают усилия для частичной или полной социально-политической реабилитации Хайдеггера; либо считают его грех незначительным, во всяком случае никак не повлиявшим на грандиозность хайдеггеровского вклада в мировую философию; либо объявляют сам вопрос о политической ангажированности мыслителя неинтересным или нерелевантным внутренней логике философского мышления.
Третий подход (я бы назвала его подходом «присяжных заседателей») — это попытка объективно разобраться в хайдеггеровском «деле», раз уж, к прискорбию, возникло оно само и сложились те крайности первых двух позиций, о каких бы их оттенках ни шла речь. Поскольку я придерживаюсь именно третьего подхода, то и изложу его, так сказать, от себя. Не вникать в «неинтересный» для кого-то спор о политической вовлеченности Хайдеггера, да и всякого другого влиятельного философа, особенно если они оказались ангажированными тоталитаристским государством и национал-социалистской идеологией, — это роскошь, которую сегодня никак нельзя себе позволить. Тем более в наших двух государствах — германском и советском, тоталитаризм и идеология которых стали первопричинами стольких кровавых бедствий. И поэтому я, откровенно говоря, не могу не только принять, но и понять снобистские замечания типа: мне любая политика неинтересна; я лучше займусь расшифровкой захватывающе интересных текстов Хайдеггера. Но, простите, что же и сегодня вовлекает нас в «неинтересный» спор, если не трагедия жизни и упрямая нераскаянность самого Хайдеггера? Хайдеггер
добровольно, с определенным энтузиазмом ринулся в мутный поток национал-социалистического движения. А ведь другие классики немецкой философии XX в., тоже столкнувшиеся с кошмаром гитлеризма, например К. Ясперс или Г.-Г. Гадамер, не дали повода для подобных споров.
По моему мнению, совпадающему с суждениями многих авторитетных современных философов — и, кстати, тонких исследователей Хайдеггера, — каждый хайдеггеровед именно из-за страшной истории тоталитаристских многомиллионных человеческих жертвоприношений обязан занять определенную позицию в споре, самом, быть может, принципиальном из социальных, политических и идейно-нравственных размежеваний XX в. Он должен, далее, при анализе хайдеггеровских произведений и текстов — многие из них, действительно, захватывающе интересны для философов — чувствовать и регистрировать малейшие поползновения, тем более явные уклоны в философию «фюрерства», в националистическое почвенничество и расизм любого оттенка. Но неверно было бы, мне кажется, не почувствовать и не осмыслить различие между умонастроениями Хайдеггера конца 20 — начала 30-х гг., которые в 33-м и бросили его в тот фашистский омут, и между его позицией конца 30-40-х гг. (когда все же пришло, не могло не прийти, отрезвление от похмелья).
Философская биография, далее предлагаемая читателю, должна волей-неволей включать в себя реконструкцию «дела Хайдеггера». Это будет своего рода политико-философский детектив, где уместно «расследование», ибо историей уже устроен свой «суд». Вникнуть в их проблемы нужно, мне думается, не только для того, чтобы нам стали яснее жизненный путь и философия Хайдеггера. Есть здесь и более широкий социокультурный и нравственный интерес. В частности, исторический параллелизм и общность судеб двух государств, Германии и СССР (и, видимо, не только их), бросается в глаза. Поэтому я и буду формулировать вопросы, возникающие в связи с «делом Хайдеггера», и как более общие смысложизненные, нравственные проблемы, глубоко задуматься над которыми очень важно и нам с вами, причем именно сегодня.
Важнейший вопрос «дела Хайдеггера»: что и как привело его к нацизму? Это и более общий вопрос: если становится возможным союз талантливого, даже гениального человека с тоталитарной властью и человеконенавистнической, расистской идеологией, то как и почему такой союз — все равно, на короткое или долгое время — складывается и существует?
Но рассмотрение сегодняшнего «дела Хайдеггера » — эпилога, который я намеренно вынесла в пролог, — мне никак не хочется превращать в самоцельное повествование. Оно будет вплетено в общую реконструкцию жизненной драмы — драмы идей и личностного мира Хайдеггера. И здесь я снова исхожу из того, что в нашей литературе, насколько мне известно, пока нет биографических исследований, опирающихся на новейшие материалы и изыскания мирового хайдеггероведения. Я и предлагаю читателю такой биографический очерк — в форме философской драмы, где попытаюсь проследить генезис величия, историю грехопадения и, если удастся, пружины характера и особенности личности Мартина Хайдеггера.
463
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
464
s>
(XI
0 ю Q
?
Œ
1
QQ
I
CD
X
Я
s
CL
Ë
CD
O»
>s
Я
X
?
CL
g.
3
о
Э
о
e-
o
S
cd
X
fiKT ПЕРВЫЙ
От теологии к философии
Мартин Хайдеггер родился 26 сентября 1889 г. в Мескирхе, небольшом провинциальном городке Верхней Швабии, расположенном в долине между Дунаем и озером Констанц. Достопримечательностями этого спокойного красивого городка, больше напоминавшего деревню, были замок и католическая церковь Святого Мартина, законченная в 1526 г., построенная в позднеготическом стиле, а в XVIII в., как выражаются немцы, «бароккизированная». Теперь, конечно, Мескирх более известен как место рождения Мартина Хайдеггера.
Тем обстоятельствам, что М. Хайдеггер родился и воспитывался в небогатой трудовой семье и в католической общине в основном протестантской Германии, суждено было сыграть немалую роль в его становлении. Представьте себе жизнь Мартина в семье скромного ремесленника. Отец его, Фридрих Хайдеггер, занимается бочарным ремеслом. Мать, Иоганна Кемпф, происходит из крестьянской семьи, которая после освобождения от крепостного права владела в деревне недалеко от Мескирха небольшим участком земли с примыкающим к нему лесом. Мартин проводит там немало времени. «...Вот как пишет брат философа, Фриц Хайдеггер, „единственный брат”, в одном своем драгоценном письме, живописуя добрую атмосферу родительского дома: „В материальном отношении наши родители не были ни богатыми, ни бедными; они обладали достатком мелких бюргеров; не довлели ни нищета, ни роскошь; слово времени — „экономить” было написано крупными буквами: живые деньги, редкие, как настоящие жемчужины, для многих людей были „сердцем всех вещей”»1. Духовные интересы семьи были сконцентрированы на католичестве, на церкви Святого Мартина, в которой Фридрих Хайдеггер за соответствующую плату выполнял обязанности причетника.
Доходы семьи, достаточные для скромной и экономной жизни родителей и троих детей2, не позволяют, однако, дать сыновьям хорошее образование. Но помогает добрая традиция Германии: церковные институты обычно поддерживают одаренных мальчиков из таких семей и обеспечивают им доступ в престижные учебные заведения. Четырнадцатилетнего М. Хайдеггера, в 1903 г. окончившего в Мескирхе так называемую реальную школу, юношу талантливого, склонного к высоким порывам духа, но и усиленно занимающегося спортом, на средства церкви Мескирха посылают в город Констанц в католическую гумани-
1 Н. Ott. Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. Frankfurt; N.Y., 1988. S. 50. В реконструкции жизненного пути М. Хайдеггера я опиралась на целый ряд (частично цитируемых далее) современных исследований. Из них я особо выделяю книгу Хуго Отта, на которую только что ссылалась, ибо в ней наряду с ранее опубликованными материалами приводится много новых документов.
2 Представляются интересными исторические изыскания X. Отта относительно экономического положения и политических склонностей ремесленного люда этой части Германии. Они показывают, какую суровую борьбу за существование должны были вести семьи, подобные хайдеггеровской, и как тяжело давалась им конкуренция с поднимающейся крупной индустрией (Я. Ott. Op. cit. S. 50-51).
тарную гимназию-интернат. Благотворная роль (подобная той, которую в судьбе Канта или Фихте сыграли протестантские пасторы) принадлежит католическому пастору Мескирха Камилло Брандхуберу, рано заметившему и пестовавшему талант Мартина. В Констанце на его воспитание оказывает большое влияние католический теолог, впоследствии архиепископ, доктор Конрад Грёбер. Конечно, пастыри и теологи не бескорыстно предоставляют талантливым юношам покровительство: они рассчитывают на пополнение своих рядов. И расчеты порой оправдываются. Однако им приходится считаться и с тем, что прежние питомцы, получив бесплатное для них и довольно основательное образование в протестантских или католических учебных заведениях, могут вступить на нерелигиозную стезю, а порой и стать противниками церкви. Последнее позднее случилось с Хайдеггером, составив первый акт его жизненной драмы. Впрочем, это было типично для Германии. Ведь и первые акты жизненной драмы Фихте, Гегеля, Шеллинга тоже можно было назвать «от теологии к философии».
Католические учителя и наставники, люди широко образованные, помогают тому, чтобы юноша Хайдеггер занимался философией. От К. Грёбера Хайдеггер получает для изучения диссертацию Фр. Брен- тано «О многообразии значений сущего согласно Аристотелю» (1862). Эта работа становится начальным толчком для более глубокого и вдохновенного изучения древнегреческой философии, проблемы сущего. Она пробуждает в Хайдеггере эту первую и затем уже постоянную интеллектуальную любовь. В письме к еще одному католическому воспитателю в Констанце, Маттиасу Лангу (письме от 30 мая 1928 г., посланном из Марбурга), Хайдеггер напишет: «Я с охотой и благодарностью думаю о начале моего обучения в Констанце и все отчетливее чувствую, сколь сильно все мои усилия переплетены с родной почвой... От этих времен к „Бытию и времени”, как представляется, ведет все расширяющийся единый путь... Возможно, философия наиболее настоятельным и устойчивым образом показывает, сколь связан человек со своими изначальными корнями. Философствовать, в конце концов, и значит не что иное, как быть изначальным (Anfänger)...» Письмо заканчивается словами: «Ваш бывший воспитанник Мартин Хайдеггер»1. В благодарственном письме к католическому учителю выражена главная для Хайдеггера правда — об «изначальности», верности «корням», «родной почве», под которыми разумелось и католическое духовное становление. Но отнюдь не вся правда. Ибо ведь история связи Хайдеггера именно с католическими корнями к концу 20-х гг. уже будет куда более сложной и противоречивой.
А в начале века она выглядит простой и ясной. После окончания гимназии первой ступени в Констанце — обучение (с 1906) во Фрайбурге, тоже в высокопрестижных католических гимназиях следующих ступеней; предоставление отцами-иезуитами прекрасной стипендии, которая позволяет, получив гимназическое образование, учиться во Фрайбургском университете, на теологическом факультете которого в 1909 г. и начинается студенческая жизнь Хайдеггера.
465
1 Н. Ott. Op. cit. S. 55-56.
Приложение. Дромо жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
H-В. Мотрошилова ЩИ Мартин Хайдеггер и Ханна прендт: бьгтие-еремя-любоеь
466
Своим теологическим учителям Хайдеггер обязан глубоким освоением католической мыслительной традиции, прежде всего работ Фомы Аквинского и Суареса. О более конкретной философской направленности своих раздумий — прежде всего под влиянием теолога Карла Брага (Carl Braig) — сам Хайдеггер впоследствии напишет, что речь шла «о значении Гегеля и Шеллинга для спекулятивной теологии — в отличие от систематического учения схоластики. Так напряженное отношение между онтологией и спекулятивной теологией — эта структурная черта метафизики — вошла в непосредственный круг моего поиска»1.
Ко времени окончания университета (1915) в духовном развитии Хайдеггера оформляется нечто вроде разрыва с католическим влиянием. Он, несомненно, достается «бывшему воспитаннику» католических учебных заведений очень нелегко. Хайдеггер останется благодарным и признательным своим воспитателям, но поблагодарит их своеобразно: «Без этого изначального теологического воспитания я бы никогда не вступил на путь мышления»2. А ведь «путь мышления» в понимании Хайдеггера все более подразумевает отход от теологии.
Правда, инициировано постепенное размежевание не Хайдеггером, а его католическими благодетелями. Хотя путь расхождения студента- теолога с католичеством и его традицией неплохо документирован, в том числе и ранними публикациями Хайдеггера, предметом углубленного анализа он стал только в биографиях последнего времени. Вкратце путь этот выглядит следующим образом.
Если судить по публикациям студента Хайдеггера в ультраконсервативном католическом еженедельнике «Allgemeine Rundschau» (а это краткие заметки или стихи, посвященные церковным событиям того времени3), в 1910/11 г. он — лишенный сомнений и даже восторженный ученик католических теологов. О том же говорят и его работы, помещенные в солидном журнале немецких католических академических союзов «Der Akademiker». Это в основном хвалебные рецензии на произведения почтенных официальных теологов, например немца Ф.В. Фёрстера или датчанина И. Йоргенсена, писателя-эссеиста, сторонника дарвинизма, «обратившегося» в правоверного католика. В сопоставлении с последующим развитием Хайдеггера чрезвычайно интересно вот что: он горячо поддерживает упомянутых теологов в их борьбе с «превращенной», «лживой», «декадентской» философией индивидуализма. Приведу отрывок из журнальной публикации Хайдеггера (март 1910 г.): «В наши дни много говорят о „личности”. И философы находят новые ценностные понятия. Наряду с критическими, моральными, эстетическими они оперируют, по крайней мере в литературе, также и „ценностями личности”. Личность художника выходит на первый план. Много приходится слышать об интересных людях. Денди О. Уайльд, гениальный пьяница П. Верлен, великий бродяга М. Горький, сверхчеловек Ницше — таковы интереснейшие люди. И если кто-то из них в снисшедший час благодати осознаёт великую ложь своей цыганской жизни, разбивает алтарь ложных богов и становится христианином, то его называют „пошлым”, „от¬
1 Я. Ott. Op. cit. S. 60.
1 М. Heidegger. Unterwegs zur Sprache. Pfullingen, 1959. S. 96.
3 Помещены в 13-м томе Собрания сочинений Хайдеггера.
вратительным”. И. Йоргенсен сделал этот шаг. И не тяга к сенсациям повела его к обращению — нет, то была глубокая, горькая серьезность»1. Как видите, Хайдеггер вкладывает всю душу в гневное обличение «ложной философии» субъективности. Столь же страстно защищает он устремление к philosophia perennis, первой философии, назначение которой — давать «завершенные ответы на конечные вопросы о бытии»2. И тут небесполезно вспомнить о более поздней атаке Хайдеггера как раз на замкнутую, мыслящую себя завершенной философию бытия. Итак, тесно связанный с теологами студент Хайдеггер в 1910/11 г., по-видимому, искренне ставит свое яркое перо на службу католической догматике и ее авторитетам.
Но одновременно талантливый студент погружается в изучение философской литературы, и работает Хайдеггер столь усиленно, столь самозабвенно, что ему (из-за вызванных нервным переутомлением неблагоприятных, астматического характера, изменений сердечной деятельности) в зимнем семестре 1910/11 г. приходится прервать учебу сначала для лечения, а потом домашнего отдыха. Ухудшившееся здоровье стипендиата Хайдеггера беспокоит тех церковников, которые решают вопрос о его финансовой поддержке. Ибо хорошее физическое состояние оговорено одним из условий получения престижной стипендии, да и понятно почему: отцы-иезуиты полагают необходимым обеспечивать деньгами церкви здорового, сильного человека. Зная это, Мартин, юноша хрупкого сложения, истязает себя спортивными упражнениями, пока на всю жизнь не зарабатывает сердечный недуг. (Впрочем, он не помешал Хайдеггеру прожить достаточно долгую жизнь и «помогал» ему избавляться от военной службы.) Еще существеннее — неуверенность благодетелей в том, что Хайдеггер действительно станет «католическим пастырем», как того требовало положение о стипендии. Во всяком случае, после болезни в финансовой поддержке церкви Хайдеггеру отказано, хотя он внешне ничем не провинился перед попечителями и желания прервать обучение на теологическом факультете никак не проявлял. Положение сложилось, о чем свидетельствуют письма того времени, чрезвычайно серьезное3.
Хайдеггер проходит через первый в своей жизни экзистенциальный кризис, который он вполне обоснованно увязывает с происхождением из «мелкой среды»4. Потом он неоднократно будет возвращаться, на что справедливо указал X. Отт, к теме «маленького человека», посягнувшего на разгадку «тайны великих». Например, в работах, посвященных поэзии Гёльдерлина. Горечь пережитой беспомощности, унижения останется в Хайдеггере на всю жизнь. Останется и в великом философе неизжитым комплекс неполноценности «маленького», униженного и оскорбленного человека. И в немалой степени повлияет, как я полагаю, на грехопадение 1933 г. Маленький человек — так видит ситуацию и зрелый философ Хайдеггер — всегда знает, что «великий, большой человек стоит над ним».
467
1 Н. Ott. Ор. cit. S. 64.
2 Ibid.S.65.
3 Ibid. S. 68-69.
4 Ibid. S. 70.
Приложение. Дролдо жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
468
о
о
о
Э
8.
о
£
со
X
Для описания этой ситуации Хайдеггер изобретает, по своему обыкновению, труднопереводимое слово-экзистенциал Über-sich-haben-kön- nen-des Grössen, смысл которого: возможность иметь более великого человека над собой. Он усматривает тут «тайну» великих, больших людей. А о «маленьком человеке » будет написано щемяще-откровенно: его тайна — и не тайна вовсе, а «трюк и угрюмая хитрость — все, что неравно ему, сделать маленьким и презренным, уравнять с собою»1. Категория «Man» рождалась, таким образом, и из глубин собственного мироощущения будущего автора «Бытия и времени».
Горькое чувство зависимости осядет в Хайдеггере не только чувствами «заботы» и «покинутости», которые он потом возведет в ранг онтологических категорий, но и злобой против вчерашних благодетелей и их идей. Но пока злоба глубоко затаена. Никаких резкостей Хайдеггер себе не позволяет. Негоже плевать в колодец, из которого столько уже испито и из которого еще, быть может, пригодится воды напиться. Будущее покажет, что расчет верен. Правда, от ортодоксальной теологии католики Хайдеггера все же отвратили. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не откажи католики Хайдеггеру в стипендии, как знать, не стал бы он талантливым религиозным догматиком?
Но и после отказа в стипендии назревший разрыв с католиками все же не происходит. В 1911/12 г. Хайдеггер, правда, обязан сдать экзамены, чтобы подтвердить свое право учиться в университете — теперь уже не теологии, а математическим и естественным наукам. Он должен добиваться университетской, т. е. государственной, стипендии (ибо семья содержать его никак не может) и с 1912 г. получает ее. Покровителем Хайдеггера, однако, опять становится теолог — на этот раз профессор Йозеф Зауер, тогда преподаватель истории искусств и связанной с историей христианства археологией (именно ему будет суждено в 1933 г. передать бывшему студенту ректорский пост). Маленький, но сдвиг: из рук теологов-догматиков Хайдеггер на время переходит под попечительство теолога — конкретного специалиста. И другое важно — занявшись математикой, логикой, химией, физикой (в частности, теорией относительности), Хайдеггер постигает новые для себя области знания. Его сразу захватывает проблема времени. Он слушает и лекции философов — в частности Генриха Риккерта. И хотя собственные хайдеггеровские работы, например публикации 1912 г. в «Literarische Rundschau», еще строятся на католической основе, внимательные читатели уже видят наметившийся перевес философии над теологией.
Среди них — соученик по теологическому факультету и друг Э. Лас- ловски, который заклинает Хайдеггера прекратить публикации в философских и литературных журналах: «Ты ведь должен начать как католик. А это, черт возьми, действительно запутанный вопрос»2. Конкретный же совет друга состоит в том, чтобы Хайдеггер, подготавливая первую «докторскую» (габилитационную) работу по философии, в то же время продолжал или завязывал знакомства с влиятельными фрайбургскими теологами-догматиками. Действительно, время окончания университета
1 М. Heidegger. Gesamtausgabe. Frankfurt а/М., 1980. Bd. 39. S. 135 ff.
2 H. Ott. Op. cit. S. 76.
близится, так что следует подумать о подыскании места для работы или дальнейшего обучения и габилитации. Неуверенный в своем будущем, Хайдеггер следует совету друга. Вся надежда на поддержку Э. Кребса, приват-доцента догматики (именно так, своим именем, называют тогда ученых хранителей религиозных догм) на теологическом факультете Фрайбургского университета, и профессора философского факультета Г. Финке, который, однако, занимается исследованием католического наследия и считается крупнейшим в Германии специалистом в своей области.
Опять отодвигаются в сторону пробудившиеся историко-философские и философско-логические интересы Хайдеггера. Ему хочется писать работу о логической сущности понятия числа, но нужда снова толкает его в объятия благодетельных католиков, в обмен на финансовую поддержку требующих идейного послушания. Восхищенные недюжинным талантом Хайдеггера, наставники всячески изыскивают для него финансовые возможности продолжения образования. Поддержка приходит в виде стипендии, в начале века учрежденной братом и сестрой Шельцер. Деньги по тем временам очень хорошие (1000 марок в год), но и условие строгое — «разрабатывать учение святого Фомы Аквинского и оставаться в пределах теологии»1. Хайдеггеру не только приходится принять условие; вынужденный получать на стипендию подтверждение от фонда Шельцер, он каждый год — по обыкновению, вдохновенно — уверяет благодетелей, что «научная работа его жизни нацелена на распространение завещанного схоластикой мыслительного богатства — во имя духовной борьбы будущего за христианско-католические жизненные идеалы»2. Стипендию он получает в 1913—1915 гг.
В 1915 г. Хайдеггер зачислен приват-доцентом на философский факультет. Уже год как идет Первая мировая война. Вызванный в 1915 г. для прохождения военной службы, Хайдеггер подвергнут основательному медицинскому освидетельствованию и в конце концов отпущен из-за неврастении и болезни сердца. Правда, «военные» обязанности на него все-таки возложены: приходится заниматься цензурованием писем. Дело крайне неприятное, но об отказе не может быть и речи. Однако фронт далеко, война обходит стороной.
Хайдеггер целиком погружен в свои заботы и проблемы. Он готовит габилитационную работу, а главное, ищет собственный путь в философии. Внешне, правда, пока держится учеником преподавате- лей-покровителей. А каждый из них тянет талантливого подопечного, ставшего другом, в свою сторону. Хайдеггер, особенно в официальных документах, всем им воздает должное. И умеет ухватить самое для него важное и интересное в произведениях, лекциях бывших учителей, теперь коллег по Фрайбургскому университету — надо признать, славному блестящими или высокопрофессиональными педагогами, чаще всего внимательными к талантливым студентам. Под их руководством, но уже и следуя собственным устремлениям, молодой преподаватель осваивает мощные пласты философского наследия и современной ему философии.
469
1 Н. Ои. Ор. сН. Б. 80.
2 1ыа.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
Н-В. Мотрошилова Ий Мартин Хайдеггер и Ханна Нрендт: бытие-времо-любовь
470
В автобиографии, написанной в 1915 г. в связи с предстоящей габили- тацией, Хайдеггер рассказывает: «Изучение Фихте и Гегеля, усиленное обращение к „Границам естественно-научного образования понятий» Риккерта и исследованиям Дильтея, не в последнюю очередь лекции и семинарские занятия господина тайного советника Финке имели своим следствием то, что во мне разрушилась вызванная любовью к математике нелюбовь к истории. Я понял, что философия не должна односторонне ориентироваться только на математику, естествознание либо историю, но что последняя — в виде истории философии — несравненно более плодотворна. Возрастающий интерес к истории облегчил мне углубление знания философии Средневековья, которое признается необходимым для фундаментального построения схоластики. А занятия средневековой мыслью для меня состояли прежде всего и скорее всего не в реконструкции исторических отношений, касающихся отдельных мыслителей, а в истолковывающем понимании теоретического содержания их философии с помощью средств современной философии. Так и возникло мое исследование, посвященное учению о категориях и значении у Дунса Скота, — оно демонстрирует созревший во мне план широкого изображения средневековой логики и психологии в свете современной феноменологии при одновременном рассмотрении исторического места отдельных средневековых мыслителей»1.
М. Хайдеггер тут искусно сглаживает и превращает в прямую линию хорошо продуманного «плана» обучения, духовного становления равнодействующую противоречивых влияний, которые ему довелось испытать в первой половине второго десятилетия XX в. Ведь учение о категориях Дунса Скота, как отмечает X. Отт, Хайдеггер берет темой для габили- тационной работы, то бишь для диссертации, «под давлением» теолога - медиевиста Финка; развивает же тему уже под растущим влиянием новой звезды на фрайбургском философском небосклоне, Эдмунда Гуссерля.
Только что появившийся во Фрайбургском университете профессор Эдмунд Гуссерль теперь для Хайдеггера на первом плане. Уже тогда признанные классическими гуссерлевские «Логические исследования» (1900-1901), появившиеся в 1913 г. «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» способствуют тому, что создателя нового философского направления окружают восторженные ученики и поклонники. Фрайбургские студенты распевают шутливую песенку, начинающуюся словами: «О, как же наша философия цветет — с поры, как феноменологией слывет...»
Приват-доцент Хайдеггер объявляет на семестр 1915/16 г. и с успехом читает лекционный курс на тему «Основные линии античной и схоластической философии». С теологами пока не порывает, потому что метит на вакантную профессорскую должность именно по христианской философии. Теологи, однако, снова подводят его — на этот раз в лице упомянутого специалиста по догматике Кребса: последний посылает наверх, в министерство в Карлсруэ, свои рекомендации, но среди рекомендованных — кандидатуры со стороны и нет «фрайбуржца», нет друга Мартина Хайдеггера.
1 Н. Ои. Ор. ск. Б. 86-87.
От «измены» Кребса Хайдеггер приходит в возмущение, которым делится с преданным Ласловски, по-прежнему проявляющим горячее участие в судьбе талантливого друга. Обеспокоенность понятна — дело для неоплачиваемого приват-доцента идет теперь об ординарной должности с хорошим окладом. Хайдеггер опять в положении просителя. Он делает попытку заинтересовать Гуссерля габилитационной работой и заручиться его поддержкой при решении о вакансии. Профессор вежлив, готов помочь коллеге, но заметного участия в деле не принимает. В университете, нашпигованном католиками, он не собирается вмешиваться в их свары.
Гнев Хайдеггера теперь переносится на Гуссерля. Теологу Финке, которому адресовано горькое, видимо, хайдеггеровское письмо, приходится защищать Гуссерля и утешать «фрустрированного приват-доцента, что он, дескать, еще молодой человек с будущим»1. Нельзя же желать сразу всего! Взгляните на других кандидатов — они двадцатью годами старше! Подумайте о них. Аргументация, хорошо знакомая талантливым людям, молодость которых странным образом становится аргументом не в их пользу, а только в утешение... Но Хайдеггер уже не может слушать и Финке — ему чудится заговор против него всех фрайбургских клерикалов. X. Отт верно констатирует: «...более поздние высказывания Хайдеггера антиклерикального характера — а они бесчисленны — можно вывести из этого раннего опыта. К ним принадлежит письмо, которое в феврале 1934 г. ректор Хайдеггер послал рейхсфюреру немецкого студенческого союза... где изрекал: „Эту официальную победу католицизма как раз здесь (во Фрайбурге. — Н. М.) ни в коем случае нельзя терпеть. Ведь это в ущерб всей работе... Я многие годы и до мелочей знаю местные отношения и силы... Католическую тактику люди все еще не знают. И однажды за это придет тяжелое возмездие”»2.
Заметьте: Хайдеггер домогается профессорского места по христианской проблематике — и его не смущает «католическая тактика» ходатайствующих за него людей. Но стоит только им склониться на сторону другого кандидата, как обиженный приват-доцент мечет против клерикалов громы и молнии. Эти черты характера, особенности личности — непринципиальность, конформизм, когда выгодно, и гневное возмущение против того же самого, но по сугубо личным причинам — скажутся не однажды и будут иметь, по моему убеждению, прямое отношение к грядущим грехопадениям Хайдеггера.
Рана, нанесенная в 1911-м, в 1916-м превратилась в травму. То был первый «поворот» (Kehre) в жизни Хайдеггера, хотя разрыв с католицизмом сначала произошел, как полагает X. Отт, не в силу мыслительных оснований, а просто из-за жизненных перипетий. И все же надо, полагаю, задуматься вот над чем: внимательно наблюдавший за развитием Хайдеггера «догматик» Кребс, наверное, не случайно отвел его кандидатуру, когда речь зашла о преподавании католической мысли. Не почувствовал ли он, что в уме и душе Хайдеггера действительно назревает идейный поворот, который молодой мыслитель имеет все основания
471
1 Я. Ott. Op. eit. S. 94.
2 Ibid. S. 95.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
Н-В. Мотрошилова ИыИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
472
скрывать от своих клерикальных покровителей, возможно, не вполне признаваясь в «греховных» поползновениях и самому себе?
Происходит еще одно событие в жизни Хайдеггера, усиливающее отчуждение от католичества: он вступает в брак с Эльфридой Петри, изучающей экономику во Фрайбурге. Жена Хайдеггера — дочь высокопоставленного прусского офицера; она евангелическо-лютеранского вероисповедания. Влияние жены, сразу уверовавшей в гениальность и высокое предназначение мужа, ставшей ему опорой, другом, секретарем, будет возрастать, а с ним неизбежно расти и отчуждение от католичества. Пока же Хайдеггер убеждает обеспокоенных родителей, друзей (Ласловски в тягостных предчувствиях отсылает паническое письмо), покровителей, что жена-де намеревается перейти в католичество.
Но даже и теперь Хайдеггер продолжает поддерживать отношения с теологами. В 1916/17 г. он читает курс лекций, видимо, по основным проблемам логики; формально он предназначен для студентов-теологов. Последним, однако, курс кажется сложным, перенасыщенным какими- то новыми и непонятными терминами. Зато многие студенты светских факультетов составляют все более восторженную аудиторию. А тем временем возникает вопрос об освободившемся месте экстраординарного профессора в Марбургском университете. Пауль Наторп, заинтересовавшийся кандидатурой Хайдеггера, вступает в переписку с Гуссерлем, ибо пока не знает возможностей молодого философа. К тому же если в клерикальном Фрайбурге Хайдеггера отклоняли из-за того, что он «недостаточно католик», то в протестантском Марбурге опасались, что он «слишком католик».
Поступает отзыв Гуссерля — в целом благоприятный («многообещающий историк средневековой философии», все делает «серьезно и основательно»; книга о Дунсе Скоте обнаруживает «высокую одаренность»), но снабженный и оговорками: знания молодого ученого пока еще поверхностны; настоящего опыта преподавания он не имеет; повя- занность с католиками — сильная. И еще поразительная деталь: Гуссерль замечает, что мало знает и редко встречает Хайдеггера, ибо тот сильно занят по «военной линии», т. е. на цензорской службе. «Нет, этой осенью 1917 г., — делает вывод X. Отт, — Гуссерль еще не ангажирован в пользу коллеги Хайдеггера»1.
Между тем молодой философ все больше увлекается феноменологией — и тем настойчивей ищет личных контактов с ее основателем. Постепенно и Гуссерля заинтересовывает Хайдеггер. Но встречи как-то не случается, ибо в начале 1918 г. Хайдеггера призывают в военные казармы. Здоровье там, разумеется, снова оказывается подорванным; во всяком случае, дальше обучения метеорологии военная служба у «бравого солдата» не продвигается. (Вспомним об этом, когда речь пойдет о прославлении в 1933 г. воинской повинности новоиспеченным фрайбургским ректором и партайгеноссе Мартином Хайдеггером.) Более чем скромные военные «заслуги» не мешают Хайдеггеру в 1918 г. рассылать солдатские письма-приветы. В феврале такой привет приходит и Гуссерлю, что тонко рассчитано: как пишет X. Отт, Гуссерль «с его любо-
1 Н. Ои. Ор. ск. Б. 98.
вью к фатерланду (vaterländisch gesinnte) ответил с отеческой добротой (väterlich-gütig)»1. Завязалась переписка. Теперь Гуссерль в восторге от ума и сердца молодого коллеги. Хайдеггер доволен: дело сделано важное. Он даже не знает, насколько прав. Почти на целое десятилетие поддержка, дружба, идеи Гуссерля становятся Хайдеггеру жизненной опорой и стимулом к стремительному, блестящему философскому развитию. Начинается новый акт жизни Хайдеггера, и его, пожалуй, можно было бы считать просто взлетом к вершинам оригинального философствования, когда бы рядом с теми вершинами уже не стали скапливаться тучи, предвещающие будущее падение.
АКТ ВТОРОЙ
К вершинам философского новаторства
К началу 20-х гг. Хайдеггер четко, можно сказать, документально оформляет свой разрыв с католицизмом. Для того чтобы это наконец сделать, теперь существует сразу несколько веских, сплетенных друг с другом жизненных и теоретических оснований.
В соответствии с прошением, поданным Гуссерлем в министерское управление Карлсруэ, Хайдеггер становится его ассистентом по философскому семинару №1, цель которого — ввести в проблемы феноменологии. Гуссерль, правда, претендует на организационное новшество: он просит официально учредить хорошо оплачиваемую должность ассистента. Настойчивые обращения знаменитого философа к косным министерским чиновникам в 1919 г. не дают именно этого результата. Но оплату Хайдеггеру в виде исключения он «выбивает». Это не только добрый, но и мудрый шаг: лекции, которые ассистент читает в начале 20-х гг., дают блестящее разъяснение основ феноменологии. Они же ясно свидетельствуют, что Хайдеггер только отчасти толкует феноменологию по-гуссерлевски; он начинает мыслить оригинально и самостоятельно. (Гуссерлю, судя по всему, разбираться в тонкостях некогда. Он на взлете творчества и всегда завален работой: читает разнообразные курсы лекций, в том числе по истории философии; делает стенографические наброски для многих теперь известных произведений и исследований; Эдит Штайн, его преданная помощница, феноменолог католического направления, записи расшифровывает, печатает; Гуссерль их снова правит — так и формируется огромное, богатое гуссерлевское наследие.)
Покровительство Гуссерля связано прежде всего с высокой оценкой философского таланта Хайдеггера, чему есть много свидетельств. Но в немалой степени оно обусловлено сочувственным наблюдением за тем, как Хайдеггер из адепта католичества постепенно превращается в его противника. Сам Гуссерль — протестантского вероисповедания, однако любой конфессиональной одержимости предпочитает свободу мысли, условие совершенно необходимое для философии. Хайдеггер, теперь погрузившийся в занятия феноменологией, историей философии, впер-
1 Я. Ott. Op. cit. S. 104.
473
Приложение. Дромо жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
Н-В. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьггие-ерелля-любобь
474
вые не стесненный духовным давлением католических друзей-настав- ников, и сам остро чувствует это. Однако он, несомненно, учитывает и скорее отрицательное отношение к католичеству нового покровителя, тем более что Гуссерль и далее предпринимает все возможное для упрочения материального положения и академической карьеры своего последователя.
Решающее же значение в отказе Хайдеггера от католичества принадлежит семейной атмосфере. Его жена, которая, вспомним, сначала обнадеживала мужа, его родственников и друзей своим возможным переходом в католичество, теперь умно использует все трещины в религиозных убеждениях мужа и в его отношениях с католиками. Она расчетливо ведет дело к тому, чтобы Хайдеггер — и вследствие глубокого внутреннего идейного «поворота» — порвал с католической церковью. Ее программа-максимум, скорее всего, заключалась в приведении мужа под сень лютеранства, и это, как мы потом увидим, тоже отчасти удалось. В письме, адресованном уже упоминавшемуся Кребсу, духовнику мужа, госпожа Хайдеггер со скрытым торжеством писала: «У моего мужа больше нет прежней религиозной веры; и я ее тоже не обрела... Мы много читали вместе, говорили, размышляли, молились, и в результате оба теперь думаем по-протестантски, т. е. без прочной догматической повязанности, веруя в личного Бога, молясь ему как духу Христа и не склоняясь ни к протестантской, ни к католической ортодоксии»1. Разрыв приходится ускорять из-за того, что чета Хайдеггеров ожидает ребенка. Крестить его по католическому обряду не будут, и бывшего духовника Кребса о том извещают заранее.
Хайдеггер тоже отсылает Кребсу письмо. «Теоретико-познавательные исследования, относящиеся главным образом к теории исторического познания, — пишет он, — сделали для меня проблематичной и неприемлемой систему католицизма, хотя и не христианство и метафизику, которые теперь имеют для меня совершенно новый смысл»2. И другой важный пункт. Хайдеггер в последний раз как бы исповедуется Кребсу: быть философом — чрезвычайно трудно. Ведь нужно отдаться внутреннему зову самой истинности, принести ей жертвы, пойти на отрешенность и борьбу, которые чужды «научному ремесленнику»3.
Кребс встревожен. Он понимает, какой резонанс может иметь отречение от католичества столь популярного во Фрайбурге философа. Пытается бороться за «заблудшую» душу. Кребс полагает, что в цитадели университетского католичества сила на его стороне. Но дело-то вот еще в чем. В начале 20-х гг. Гуссерль, постоянно ощущающий, что неузаконенное место ассистента непрочно и недостойно Хайдеггера, снова ведет в пользу ученика борьбу за должность «ординариуса», профессора Марбургского университета. Вспомним, университета по преимуществу протестантского. Гуссерль опять ходатайствует через своего друга, знаменитого марбургского неокантианца Пауля Наторпа, который и освобождает, уходя на пенсию, профессорское место. Выигрывает, однако, более сильный конкурент — экстраординарный профессор в Марбур-
1 Н. Оя. Ор. ск. Б. 108.
2 Шс1.Б.106.
3 1Ыс1. Б. 106-107.
ге Николай Гартманн. Его имя в то время куда более известно, чем имя Хайдеггера. Но когда место Наторпа занимает Гартманн, то освобождается должность экстраординарного профессора. Хайдеггер готов занять ее. И хотя быть экстраординарным профессором в Марбурге тоже почетно, все же остается след обиды.
И снова оказываются важными настойчивые рекомендации Гуссерля. Ибо и теперь у Хайдеггера сильнейший конкурент: неогегельянец Рихард Кронер. У него «преимущество» возраста — более старый, значит, более опытный, как считают в немецких университетах. Главное, у Кро- нера много солидных публикаций, тогда как единичные опубликованные работы Хайдеггера знакомы очень немногим коллегам. Гуссерль ссылается на предоставленную ему хайдеггеровскую рукопись об Аристотеле. В Марбург же (а заодно и в Гёттинген, где тоже открывается профессорская вакансия — когда-то место самого Гуссерля) отсылается 50 страниц текста, в котором Хайдеггер набрасывает что-то вроде введения к будущей работе. Оно производит на Наторпа сильное впечатление, и он сообщает Гуссерлю: «...тут совершенно необычные оригинальность, глубина и сила...»1. Рукопись прочтена и Николаем Гартманном — с огромным интересом. (Кстати, рукопись долго считалась утерянной; но недавно она была найдена и опубликована.)
Теперь Хайдеггера выдвигают на первое место среди претендентов. Но, думается, не только блестящая рукопись тому причиной. Еще в первых своих рекомендациях Гуссерль подчеркивал, что Хайдеггер, «некогда католик», в Марбурге в качестве главной темы готов заняться... Лютером! Для протестантского университета конфессиональное «обращение» претендента выглядит, как ни странно, преимуществом по сравнению с вполне спокойной судьбой не пережившего подобного «поворота» Р. Кронера. В начале 1922 г. старания Гуссерля достигают желанной цели: тридцатитрехлетний Хайдеггер становится экстраординарным профессором Марбургского университета.
Хайдеггер, только после третьей попытки став профессором в прославленном Марбурге, не испытывает, кажется, большой радости. Конечно, материальное положение упрочено. Но сам городок, его воздух, «скудная библиотека» — все раздражает Хайдеггера. Он куда охотнее поселился бы в Гейдельберге, в который его теперь привлекает начавшаяся дружба с профессором Карлом Ясперсом. Не в том ли, однако, главная причина уныния, что пришлось затратить столько унизительных усилий, что в душе болью живет память об «обращении»? И тревожит мысль, что основаниями были не только внутренние потребности философствования. Однако именно одухотворенный философский поиск спасает Хайдеггера. Спасает и хижина в Тодтнауберге, недалеко от родных мест, — горный воздух, работа по дереву и, главное, вдохновенное создание книги «Бытие и время», которой суждено было стать одним из классических произведений XX в.
Лекции Хайдеггера в университете пользуются большой популярностью у студентов. Но с коллегами — за исключением известного протестантского теолога Р. Бультманна — нет близости, взаимопонимания.
475
1 Я. Ои. Ор. си. Б. 122.
Приложение. Дромо жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
476
Q
ç;
s
o>
>s
0
и
X
1
O
S
i
CQ
X
В том же 1925 г., когда уже близится к окончанию «Бытие и время», снова поднимается вопрос о должности ординарного профессора для Хайдеггера.
И снова — «конкурентная борьба»... Она длится вплоть до 1927 г., когда полученная наконец должность профессора не так и нужна Хайдеггеру, потому что Фрайбургский университет призывает его к себе: освободилось место Гуссерля, который в 68 лет уходит в отставку. В Хайдеггере укрепляется скрытая, изливаемая только в письмах злость против университетских бонз и порядков, и потом она еще не раз вырвется наружу. Места в Марбурге и Фрайбурге опять получены главным образом благодаря Гуссерлю. Верный учитель в своем рекомендательном письме в Марбург напишет поразительные слова: «В моих глазах Хайдеггер, без всякого сомнения, является одним из самых достойных среди претендентов. Если не случится, к несчастью, чего-нибудь иррационального и если не воспрепятствует судьба, он предназначен к тому, чтобы стать философом великого стиля, человеком, который способен стать проводником (Führer) через путаницу и слабости современности»1. Предвидение Гуссерля оправдалось, но совершенно своеобразно: Хайдеггер стал философом «великого стиля», однако «несчастье иррационального» с ним тоже стряслось... Роль «проводника» («фюрера») Хайдеггер также возьмет на себя, хотя он же заблудится в «путанице и слабостях» современного бытия.
Впрочем, Гуссерлю предстоит уже довольно скоро — быстрее других — испытать разочарование в Хайдеггере. Пока он считает Хайдеггера своим главным учеником и последователем. Г.-Г. Гадамер в 1924 г. слышал от Гуссерля такие слова: «Феноменология — это я и Хайдеггер »2. Но вот в 1927 г. опубликовано «Бытие и время». Книга вышла с посвящением Гуссерлю — с чувствами «величайшего уважения и дружбы». Да ведь Гуссерль сам рекомендовал ее для опубликования в своем «Ежегоднике феноменологических исследований»! Внимательно изучил «Бытие и время» он, видно, позже, после опубликования. Однако учитель, ожидавший эту книгу, требовавший от ученика великого мыслительного прорыва и предсказывавший его, не опознает в «Бытии и времени» такого прорыва. Наступает охлаждение.
Чего же ожидал Гуссерль от Хайдеггера? Чего он не смог увидеть и что все-таки прозорливо разглядел в «Бытии и времени»? Время, когда ученики-друзья выходят к рубежу великого, вообще становится серьезным испытанием для учителей, пусть тоже великих. Гуссерль был готов дать своему талантливому ученику самый большой аванс. Но вот пришел долгожданный как будто бы час выплаты аванса — и Хайдеггер предъявил книгу не просто незаурядную, а выдающуюся, пролагающую новый путь. Этот путь начинался и от феноменологической, прежде всего гуссерлевской, дороги, но был оригинально, неповторимо хайдегге- ровским. Такой великой «неверности» ученика великий учитель не смог вынести.
«Бытие и время» — это центральная, самая яркая звезда, вокруг которой теперь уже, после опубликования целого ряда ранее неизвестных
1 Я. Ott. Op. cit. S. 125.
2 Fr. Fedier. Heidegger: anatomie d’un scandale. P., 1988. P. 14.
сочинений, можно расположить другие работы. В частности, это тексты марбургских лекций (например, недавно опубликованные в 24-м томе Собрания сочинений Хайдеггера лекции под названием «Основные проблемы феноменологии»). Или работа «Что такое метафизика?» (текст открытой лекции, прочитанной в июле 1929 г. при вступлении в профессорскую должность в родном Фрайбургском университете), а также сочинение «О сущности основания», опубликованное в том же году в юбилейном сборнике в честь 70-летия со дня рождения Гуссерля. Рядом с «Бытием и временем» они как вехи, и недаром же Хайдеггер в 1967 г. некоторые из них опубликовал в своем сборнике «Wegmarken», что и значит: «вехи», «указатели пути». «Великий прорыв», осуществленный уже ранним Хайдеггером в истории философской мысли, конечно, очень трудно охарактеризовать на нескольких страницах, но я попытаюсь это сделать.
Хайдеггер, основательно освоивший традиции западноевропейской метафизики — первой философии, в частности традиции онтологии, предъявляет им неожиданный и строгий счет. Неожиданный потому, что многим философам в 20-е гг. позиции метафизики и онтологии кажутся не только прочными, но и успешно реформированными. Разве католические философы в XIX в. не основательно потрудились над реконструкцией аристотелевской и томистской метафизики? Разве неогегельянцы и неокантианцы в XIX-XX вв. не проделали вслед за Кантом и Гегелем путь от критики метафизики и онтологии к их специфическому реформированию и возрождению? И разве начавший с «логицизма» Гуссерль не создал в 20-х гг. широкий проект феноменологии как онтологии? Оценка Хайдеггера: вопрос о бытии «сегодня предан забвению, хотя наше время приписывает себе прогресс в новом утверждении „метафизики”»1.
Все реформаторские попытки Хайдеггер выносит за те же скобки, что и классическую метафизику — онтологию. Ибо «бытие» во всех этих случаях мыслится как предельно широкая и отчужденная от индивида категория, «бытие вообще» — вопреки, казалось бы, зафиксированному трансценденталистской традицией, но так и не понятому факту: только через человеческое бытие (бытие-сознание) бытие как таковое может стать помысленным, может стать проблемой. А бытию-сознанию (для его обозначения Хайдеггер использует и существенно перетолковывает давний онтологический термин «Dasein»), по существу, не было и нет места во всей традиционной и современной онтологии. Помещение Dasein в центр онтологии (с удивительно интересным истолкованием того, что значит это немецкое «Da», или «тут», «здесь», если оно присоединяется к слову «Sein», бытие) не единственное новшество. Необычен и метод хайдеггеровского онтологического философствования. Если традиционно черты бытия предполагалось усматривать вовне, причем неким безличным, почти божественным оком, то теперь, у Хайдеггера, в качестве поля исследования представало внутреннее индивидуальное сознание, собственное сознание исследователя, а в качестве инструмента — феноменологическое «усмотрение сущности» (Wesensschau), т. е.
477
1 М. Heidegger. Sein und Zeit. Tübingen, 1963. S. 2.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
Н-6. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
478
«видение умом» математических, логических, философских истин. Гуссерль не мог не почувствовать, что Хайдеггер, который действительно берет на вооружение его феноменологию, превращает ее не в главную цель и поле исследовательской работы, а во вспомогательное средство для других целей.
Еще одно различие, которое Гуссерлю также должно представляться важным. Гуссерль, сторонник кантовского трансцендентализма, тоже предлагал в качестве исходного плацдарма нового исследовательского штурма индивидуальное сознание. Но благодаря феноменологической редукции он рекомендовал отсечь в нем все индивидуально-психологическое», конкретно-историческое, социальное, чтобы пробиться ко всеобщим его структурам, скрупулезным исследованием которых, в том числе и структур онтологических, занимается феноменология. Работы тут непочатый край. И вот, вместо того чтобы взвалить на себя часть ее, Хайдеггер, как оказывается, поворачивает назад. Он претендует на феноменологическое якобы всматривание в пласты, долженствующие быть исключенными благодаря редукции существования во имя сущности — в «экзистенциалы» бытия, подобные историчности, заботе, заброшенности, покинутости, усредненности, смерти. Психологизм и релятивизм, которые могли считаться похороненными благодаря усилиям Гуссерля и неокантианцев, неожиданно возрождались — ив работе самого дорогого, самого талантливого ученика!
Гуссерль, уделивший немалое внимание работе с языком, с удивлением обнаруживает, сколь неожиданным и для него неприемлемым образом обернулось хайдеггеровское пристрастие к языковым тонкостям. Из всегда контролируемого объекта и средства логико-феноменологической работы язык вдруг превратился если не в самостоятельный субъект, то в некоего мистически-чудесного, как бы самоявляющегося, говорящего «от имени бытия» медиума... Для всегда приверженного «строгой научности», разуму Гуссерля все это свидетельствовало об уклоне в иррационализм, скептицизм, антиинтеллектуализм, мистику. Позднее, в книге «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», Гуссерль прямо назовет такого рода пробивавшиеся еще до 1933 г. умонастроения предтечей великого кризиса западноевропейского духа. Признаюсь, в первый раз я прочла «Бытие и время» скорее «глазами Гуссерля». И хотя такое чтение по-своему полезно, все-таки в нем заключена опасность не увидеть глубины и плодотворности лучшего, по оценке немалого числа философов, произведения Хайдеггера.
А ведь это замечательная книга, книга философа XX в., притом ее возникновение именно в 20-х гг. тоже по-своему отпечатывается в стилистике и содержании произведения. Наш бурный век и кризисное третье десятилетие — через их особую «историчность» — позволяют Хайдеггеру разглядеть не первые и не последние угрозы, нависшие над человеческим бытием и через него над бытием вообще, внутренние напряжения, заключенные в самой структуре бытия и чреватые «разломами ». Внутренний трагизм «вопрошания о бытии» всегда был свойствен литературе и искусству. В конце XIX — начале XX в. он проявляется с новой и особой силой. Хайдеггера с самой юности захватывают Ницше, Достоевский, Рильке, Тракль. Потом его кумиром станет еще и Гёльдерлин.
Философия и раньше знала, конечно, блестящие онтологические исследования, Хайдеггеру они хорошо известны. Он многому научился у классических и современных ему авторов. Но создатель «Бытия и времени» выступает как решительный онтологический нигилист. Это представляется ему необходимым, чтобы кардинально отличить от всего уже имеющегося задуманную им философию бытия. Гуссерль, изучающий «Бытие и время», не понимает, что не только к нему лично, феноменологией предоставившему главную стартовую площадку для новой онтологии, обращен «неблагодарный» хайдеггеровский нигилизм. В огонь критики прежде всего летят именно самые существенные образцы, ибо расчет с ними и есть наиболее интересное для Хайдеггера. Тому, кто относится к делу объективно, должно стать ясно: впервые в истории философии широко и систематически развертывается трагическая философия бытия. Эта онтология впервые позволяет связывать на первый взгляд абстрактные парадоксы, противоречия бытия с трагедиями человеческой истории вообще, истории XX в. в частности, пограничных его ситуаций в особенности. А также и с отдельными трагическими судьбами. Потому «Бытие и время» так много говорит мыслящему, охваченному тревогой человеку нашего столетия в его пронизанном отчуждением бытии и в какой-то мере повествует о нем самом. В том числе и о самом Хайдеггере. Никогда столь абстрактное, категориальное философское сочинение не было в такой мере, как «Бытие и время», духовной биографией, а вместе и исповедью автора и его поколения.
Однако, когда человеческие осмысление и самоосмысление, к которым непременно побуждает и пробуждает сама хайдеггеровская трагическая философия бытия, в этой же философии ищут опоры и выхода, цели и смысла, положение становится нелегким. Тут уж читателю приходится добираться до корней, искать собственных выходов и интерпретаций, что хорошо поймут, скажем, французские экзистенциалисты, в 30-е гг. «вышедшие» из Гуссерля и Хайдеггера, но побужденные по- своему, и уже в огне Второй мировой войны, «дописывать» главы экзистенциальной философии.
А что же сам Хайдеггер? Ведь ему Гуссерль предрекал роль «проводника» («фюрера») в «путанице» (Verworrenheit) современного бытия. В одном Гуссерль не ошибался: «путаница» нашла в Хайдеггере своего скрупулезнейшего исследователя — и всякие «заброшенности», «покинутости» предстали как живые. Но ведь проводником он мог стать лишь в случае, если бы знал, куда вести. Между тем «трагическая онтология», по существу, не только не бралась за задачу выхода из лабиринтов, но жестко изображала «лабиринтность» и «заброшенность» «судьбой бытия». Судить Хайдеггера именно за это по меньшей мере несправедливо. Кто же из честных мыслителей XX в. не признал внутреннего трагизма человеческого бытия, который к концу столетия не только не был снят, но и усугублен? И кто из них не остановился перед громадной трудностью — найти и предложить выход? Ну а претендовавшие на роль «проводников», «фюреров», нередко приводили человечество к пропасти. Да и падение Хайдеггера началось как раз тогда, когда он — во многом вопреки «Бытию и времени» — сначала стал заигрывать с идеей «фюрер-
479
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
Н.6. Мотрошилова ЩИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-ервмя-любовь
480
ства», а потом и поверил в одного такого «фюрера», уже пробовавшего силы за кулисами политики, в немецких пивных.
А поскольку в Германии в пивных проводили немало времени и политики, и рабочие, и бауэры, и студенты, и интеллектуалы, то настроения завсегдатаев пивных в значительной мере отражали настроенность народа. Как бы люди немецкой улицы и пивной ни были далеки от философии, но их чувства на рубеже третьего и четвертого десятилетий лучше всего схватывали категории хайдеггеровской трагической онтологии — «забота», «покинутость» и «усредненность» (Man). В радикально-обвинительных заключениях «по делу Хайдеггера» это — и, по-моему, неверно — ставится ему в сугубую вину. Совпадение, напротив, говорит об исторической релевантности, укорененности в реальной жизни его онтологии, в чем никак нельзя упрекать — за что, напротив, можно высоко ценить — любую философию человека и человеческого бытия. И такая трагическая онтология «совпадет» еще не с одной драматической ситуацией в истории. Вина Хайдеггера в другом. На дрожжах заброшенности, покинутости, страха, в свою очередь коренившихся в глубоком мировом и национальном кризисе, поднималось месиво «коричневых» идей. Интеллигенции следовало чутко уловить страшную направленность процесса и всеми имеющимися в ее распоряжении средствами сопротивляться ему. Многие так и сделали. Хайдеггеру же ударил в голову хмель «пивного» национализма и чисто немецкого «фюрерства». Исподволь начинался самый мрачный акт его жизненной драмы.
АКТ ТРЕТИЙ
Coeo Минервы в ночи ноционол-социоливмо
Грехопадению 1933 г. в жизни Хайдеггера предшествовало искушение поднимающейся идеологией и все шире распространявшимися умонастроениями национал-социализма. Тут биография философа сходна с биографиями сотен тысяч его соотечественников-современников. В таком совпадении апологеты ищут оправдание: дескать, не один Хайдеггер, а целый народ впал в грех национал-социализма. В самом деле, известные по кинохроникам многотысячные шествия, взметнувшиеся в фашистском приветствии руки, горящие восторгом лица и глаза, обожествление недоучки фюрера убедительно демонстрируют массовость нацистского опьянения.
В нашей стране примерно в то же время возникали аналогичные структуры массового сознания и действия — возникали на сходной политической почве тоталитаризма и, увы, благодаря некоторым похожим идеологическим процессам. Что такое массовое опьянение и как им можно воспользоваться для непризнания индивидуальной, личной вины, нам тоже известно. И все же именно сегодня мы отчетливо понимаем — «дело Хайдеггера » одно из тому убедительных свидетельств, — что вина многих не списывает персональную вину, ответственность отдельных личностей, особенно тех, кому даны ум, знания, талант. Но, конечно, «дело» каждого должно читаться в контексте времени, жизни народа, развития всего мира.
Происхождение, становление национал-социализма как идеологии, политики, системы власти — тема чрезвычайно сложная и широкая, рассматривать которую в ее полноте здесь, конечно, невозможно. Ограничусь лишь теми ее аспектами, которые впрямую связаны с судьбой Хайдеггера. Но это будет также попытка ответить на поставленный в «Прологе» вопрос об идейных, нравственных истоках и ингредиентах именно национал-социалистской (не в узком смысле слова) ангажированности высокоталантливых людей духа.
Когда же начинают становиться более явными до того скрытые признаки подвижки идей, принципов Хайдеггера в сторону, в которую, увы, уже двинулись люди, коим через несколько лет будет суждено выстроиться в колонны властвующих штурмовиков и в восторженные, по- немецки организованные толпы народных шествий? Пожалуй, именно после возвращения философа во Франкфурт. Возвращается он почти триумфально. За должность, освобожденную Гуссерлем, не надо бороться: в глазах философской общественности, которой Гуссерль не спешит поведать об уже обуревавших его сомнениях, Хайдеггер, автор быстро набиравшей известность книги «Бытие и время», — естественный наследник «трона» увенчанного лаврами основателя феноменологии. 24 июля 1929 г. Хайдеггер читает свою «тронную» профессорскую речь — лекцию на тему «Что такое метафизика?». И не очень знакомых с его взглядами людей поражает тем, что метафизика (в хайдеггеров- ском изображении) оказывается сконцентрированной скорее не вокруг обращенного к миру философского вопроса «что?», вопроса о бытии и сущем, а вокруг тревожного «вопрошания о „ничто”». «Что» есть только путь к «ничто». «Единственно потому, — изрекает Хайдеггер, — что ничто открывается как лежащее в основе Dasein, над нами простирается полная чуждость сущего. И только если чуждость сущего нас преследует, оно пробуждается и обращает удивление на самого себя. Только на основе удивления — то есть откровения ничто — возникает вопрос „почему?”. А лишь из-за того, что это „почему?” как таковое возможно, мы можем определенным образом задаваться вопросом об основаниях и заниматься обоснованием. Вследствие же того, что мы можем спрашивать и обосновывать, нашему существованию дается в руки судьба исследователя.
Вопрос о ничто ставит самих нас — спрашивающих — под вопрос. Он является вопросом метафизическим. Человеческое может вести себя (verhalten) по отношению к сущему, только если оно своим поведением вовлечено (hineinhält) в ничто»1. Все эти рассуждения о сущем и ничто как будто знакомы слушателям — и, однако, незнакомы им. К. Ясперс, в своих рабочих заметках уделяющий все большее внимание Хайдеггеру, впоследствии, уже в начале 30-х, тщательно разберет лекцию «Что такое метафизика?» и сделает заключение: «Все это Гегель, но без Гегеля. Единство смысла des Nichtens (буквально можно перевести неудобным словом „обничтойнивание”. — H. М.) сугубо неясно. Даже произвольно. У Гегеля оно заключено в элементе понятия абсолютного духа, взятого на веру шифра... У Хайдеггера это — как случайное и как
1 М. Heidegger. Wegmarken. Frankfurt а/М., 1978. S. 120.
481
17'/;
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
482
а
CQ
X
противоположное экзистенциальному. Чередование объективирующего (гегелевского) и апеллирующего (экзистенциально-философского) способов мышления»1. Очень точная характеристика. Так действительно и работает Хайдеггер: он берет что-либо «объективирующее» из философской традиции (все равно, у Гегеля или Гуссерля) и использует его в «апеллирующем» философствовании. Ясперс отмечает вместе с тем проникновенные поиски специфики философствования, «истинно филигранную работу» над словом. Однако и тут есть веское замечание- предостережение. «Эта форма сначала именно в качестве формы есть необходимая цель всякого высказывающегося философствования. Но она не должна становиться последним масштабом и может превращаться в иллюзорное»2. Снова совершенно точно.
То, что в 1929 г. Хайдеггер «апеллирует» именно к ничто, обвинители тоже подчас ставят ему в вину. Вряд ли вина состоит в этом. Скорее она заключена в другом: чутко ухватив признаки приближающегося «обничтойнивания», он должен был разобраться в собственном предчувствии. А социальные приметы «обвала в ничто» на рубеже третьего и четвертого десятилетий множатся. Весь мир погрязает в экономическом кризисе. Но в то время, когда другие страны ищут и в конце концов находят выход в новых социально-экономических курсах, в развитии демократии, особое переплетение негативных исторических тенденций толкает Германию в ином направлении. Нарастающая экономическая депрессия накладывается на все еще не преодоленные хозяйственные последствия Первой мировой войны.
В стране недовольны все и все борются против всех. Ограничения Версальского договора, как путы, сковывают растущую немецкую крупную индустрию, и промышленники Германии задыхаются от бессильной злобы по поводу зарубежных конкурентов и «их демократий». А пока суть да дело, сами вступают в конкурентную борьбу с мелкими хозяйчиками, для тех заведомо неравную.
Мелкие производители и торговцы, разоряющиеся крестьяне и ремесленники — главные посетители пивных — тоже охвачены паникой и ненавистью. Они ненавидят промышленных тузов и земельных собственников; им ненавистны «высокомерные» аристократы, «шибко грамотные» и высокооплачиваемые интеллигенты. Они не любят «красных», грозящих отнять у частника последнее, и «черных», католических клерикалов, добившихся в протестантской стране слишком большого влияния. На страну с традиционно благополучным уровнем жизни средних слоев и высоким трудовым этосом наплывает, вызывая массовую панику, волна экономической стихии и неуверенности в завтрашнем дне.
Есть, однако, ряд настроений, которые постепенно начинают объединять многих. Это, прежде всего, ощущение национальной униженности. Если те поколения немцев, через жизнь которых опустошением прошла Первая мировая война, хоть как-то связывали бедствия со своей виной — ведь Германия больше других стран была ответственна за развязывание войны, то новые поколения, непосредственно не пережившие войны, но столкнувшиеся с ее последствиями, теперь накапливают злобу
1 К. Jaspers. Notizen zu Martin Heidegger. München; Zürich, 1989. S. 41-42.
2 Ibid. S. 42.
против победителей. Виновников ищут вовне, в «злых кознях» других стран, якобы постоянно плетущих заговор против Германии. А если и обращают взор внутрь собственной страны, к ее истории, то затем, чтобы и там отыскать «заговорщиков» — представителей других наций. На национальной гордости, как и на национальной униженности, — этих вполне реальных чувствах, высоких и болезненных, прочных и хрупких, — начинают искусно играть рвущиеся к власти политические группировки весьма пестрого состава. Наспех, но не без ловкости оформляют они и свою идеологическую «доктрину».
Идеологию национал-социализма у нас имели обыкновение превращать в карикатуру. И тогда становилось не ясно, как же идеи нацизма сумели ослепить очень многих в Германии. Надо принять в расчет, что к 1933 г. идеология фашистов, во-первых, еще не выступает на немецкой сцене борьбы идей и принципов с открытым забралом, а во-вторых, она пытается вести свою игру вокруг действительно больных проблем пребывающего в кризисе общественного организма.
В игре с мелким хозяином, «маленьким» человеком, разыгрывается антиаристократическая карта; ему также обещают отдать то, что награбили у него «большие люди» — промышленные и государственные воротилы; его заодно настраивают и против «западных демократий», тоже, дескать, обобравших рядовых немецких бюргеров и всегда готовых к новой бойне против немецкого народа. Рабочим, в Германии того времени весьма одушевленным социалистической идеей, также обещан полный передел собственности и имущества. Идеи социализма и революции, что у нас чаще всего отрицалось, эксплуатируются не на шутку. Правда, они берутся не в марксистском (для нацистов — «еврейском») варианте. Однако призывы к экспроприации экспроприаторов, к «новым» равенству и социальной справедливости, к кардинальному изменению отношений собственности в ранней национал-социалистской идеологии играют немалую роль. Но еще шире, пожалуй, используется идеологическая популистская риторика. Апелляциям к народному духу, к неисчерпаемости народных сил, к «народным» силам и корням, к страданиям и долготерпению народа, которые должны быть вознаграждены, — им несть числа. И ведь звучат они, да порой и произносятся, вполне искренне. Гнев против реальных народных бедствий поднимается до высокого пафоса. Демагогическая, во многих случаях, его подоплека большинству народа неясна.
Немцам, которые естественно чувствительны, даже сентиментальны, если речь идет о родных корнях, о «пути вдоль поля», о зове предков, о древних мифах, для начала преподносится романтизированная идеология «почвы и крови». Неискушенный в подтекстах простой человек, наделенный естественной национальной гордостью, мог и не заметить, как следующим шагом его уже заводили в дебри националистического почвенничества, требовавшего бороться за «чистую», «арийскую» кровь против всех тех, кому судьба такой крови не послала. Не успели завсегдатаи пивных сообразить, как их чувство национальной гордости и переживание национальной униженности (этого печального следствия национализма и милитаризма прежних поколений) уже направлялись в
483
17 ’/2 694
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: быте-времо-любовь
484
со
X
никогда не просыхающие русла националистической спеси, реваншизма, расизма — с явными антисемитским и антиславянским уклонами.
В создавшихся условиях вражды всех против всех призыв к переделу имущества и фрустрированный национализм, замешенный на расизме, образуют достаточно опасную идеологическую взрывчатую смесь. Недостает еще одного элемента, чтобы она стала поистине гремучей, чтобы подбодрила готовые к кровопролитию, но еще разрозненные толпы в организованные отряды, под победный марш «Германия, Германия превыше всего» ведущие страну и нацию к неминуемой катастрофе. Этот элемент тоже наготове: на политическом языке Германии его называют идеей «фюрера» (на нашем он зовется культом личности). Бывший ефрейтор, назвавший себя Адольфом Гитлером, становится главным претендентом на роль фюрера нации. А что же люди духа — учителя, юристы, писатели, музыканты, художники, ученые, педагоги и студенты университетов Германии? Кому-то из них надо отдать должное — они не только не поддались расползающейся инфекции коричневой чумы, но уже до 1933 г. били в набат, предупреждая свой народ и весь мир о ее опасности. Нельзя не сказать и об университетских педагогах, в частности о философах. К. Ясперс, который в 1945 г. отмечал, что с нацизмом активно сотрудничали лишь очень немногие известные университетские профессора, говорил правду. Что касается, в частности, философии и социологии, то можно десятками перечислять имена тех, кому в 1945 г. не нужно было «очищать себя» перед политическим и нравственным судом, потому что они либо эмигрировали в демократические страны, протестуя против нацизма и спасаясь от него, либо, вынужденные остаться в Германии, не запятнали себя сотрудничеством с нацизмом, а то и вступили с ним в чреватую смертью борьбу. Сова Минервы и в ночи нацизма все-таки устремлялась в свой полет, что после 1933 г. становится особенно опасным: ведь целый государственно-партийный аппарат осуществляет идеологическую слежку и берет на заметку тех, кто предается «беспартийному» философствованию.
Хайдеггер оказывается среди сравнительно немногих людей духа с известным именем, которые сотрудничают с нацизмом. Вместе с тем Хайдеггер — выдающийся профессиональный философ, и он не может не почувствовать, сколь трудно Сове Минервы искать мудрость и истину в ночи национал-социализма. В 1933 г. Хайдеггеру еще могло показаться, что то и другое — профессиональное философствование и нацистский идеологизм — уживаются друг с другом. Грубость, дикость национал-социалистского режима стали ясны, как только он набрал силу. Ангажированность обернулась трагедией, а потом и непоправимой виной.
Но как грехопадение вообще стало возможным? Адвокаты Хайдеггера упирают как раз на то, что национал-социалисты в 1933 г. еще не раскрывают все свои политические и идеологические карты. Обвинители возражают: Хайдеггер к 1933 г. достаточно хорошо знаком с центральными идеями итальянских и немецких фашистов, активно их поддерживает. Правы, как ни парадоксально, обе группы. Хайдеггер, с одной стороны, именно потому и присоединяется к «движению», что находит среди его идейных устремлений нечто созвучное собственным умонастроениям. С другой стороны, его формулировки тех же, казалось
бы, идей порой существенно отличаются от нацистских. И ссылки на недостаточную осведомленность — а их делают К. Ясперс и Г.-Г. Гадамер, вспоминая и о собственном опыте, — имеют смысл. Погруженный в свои мысли и занятия, Хайдеггер не располагает временем, да и не имеет особого желания вчитываться в «Майн кампф» Гитлера или писания фашиствующих «теоретиков». Скорее всего, более близкие люди доносят до него нацистские идеи, умело приспосабливая их к заботам и устремлениям фрайбургского профессора. К Хайдеггеру нацистское одушевление проникает прежде всего через студентов.
Националистически настроенное студенчество не однажды играло в истории Германии роковую роль. В начале 30-х гг. среди студенческих объединений на первый план выдвигаются национал-социалистские группы. Фашисты не без политической прозорливости придают решающее значение работе среди молодежи. Студенчество Германии — в союзе с некоторой частью профессуры — давно уже перешло грань между патриотизмом, сильно выраженным «народно-национальным» уклоном и национализмом реваншистской окраски. Национал-социализм подогревает эти настроения, умело направляя их в антидемократическое русло. Нацистские студенческие союзы обещают обновление и величие Германии. Не народно-национальный самоанализ и покаяние, всегда трудные и болезненные, а снова поиски врага в других расах, народах, культурах — главный лозунг нацистов. «Партийной» студенческой молодежи предлагаются дисциплина, товарищество, военно-патриотическое воспитание, власть в университетах. Хайдеггер, которого всегда любили студенты, знает и учитывает их настроения (теперь и его собственный сын становится студентом). Профессора увлекает волна студенческого «национального одушевления» и постепенно завлекают в свои сети гитлеровские организации Фрайбургского университета. Сомневаться в том не приходится — документов и свидетельств достаточно, и сегодняшние обвинители с полным основанием их используют. Защитники же Хайдеггера, и тоже не без оснований, обращают внимание на тот факт, что реформа университетов, на которой сошлись, хотя и не слились намерения философа и цели его нацистских — временных! — союзников, была делом принципиально важным и назревшим. Действительно, Хайдеггера, на пути к вершинам знания и духа познавшего горечь зависимости (но, как подмечают злые языки, всегда добивавшегося материальной поддержки и покровительства), не на шутку беспокоит судьба высшего образования в Германии. Его технизацию и прагмати- зацию он верно вписывает в общее противоречивое развитие науки и техники в XX в., тем самым глубоко и именно философски осмысляя проблемы познания и образования.
Критика науки и техники, которой все более увлекается Хайдеггер, не есть нечто временное и случайное. Это тема на всю жизнь. Оправданность обращения к ней подтвердит последующая история, которая побудит и Хайдеггера исследовать проблему более основательно, проникая к глубинным, древнейшим структурам человеческой технической деятельности. Но тогда, в начале 30-х гг., критика науки и техники Хайдеггером, его оправданный гнев против окостеневших университетских форм, против профессоров-«бонз» (сколько он от них натерпелся
485
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
Н-В. Мотрошилова ВыИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-врелля-любовь
486
унижений!) очень даже на руку антиинтеллектуализму, в значительной степени благодаря которому Гитлеру и его сподручным, невеждам и недоучкам, удается оттеснить от власти пусть и не справляющихся с кризисной ситуацией, но достаточно профессиональных и демократически ориентированных политиков Веймарской республики.
Хайдеггер выступает за глубокую — в его понимании, поистине революционную — реформу немецких университетов. У него вполне оправданные претензии к сложившимся порядкам и достаточно интересные реформаторские замыслы. В университетах, в чем Хайдеггер прав, много гелертерства, бесполезной «учености», псевдоэлитарности. Сложившиеся структуры мешают молодым талантам из народа пробиться в науку. Науки разрозненны, образование фрагментарно. Давление религии и веры чрезвычайно велико. В начале 30-х гг. потребность в преобразовании высшей школы ощущают в Германии многие — и профессора, и студенты. Карл Ясперс в 1933 г. делает свои наброски по этим проблемам (они были опубликованы лишь недавно, в 1989 г.), в определенной степени солидаризируясь с критико-реформаторскими устремлениями Хайдеггера. Но в подходах этих двух выдающихся философов есть существенные различия. Ясперсу и в голову не приходит связывать осуществление реформ с национал-социалистской ангажированностью высшей школы. Хайдеггер же начинает делать свои ставки на гитлеровскую партию и ее адептов в немецкой университетской структуре.
18 марта 1933 г., приехав в Гейдельберг, Хайдеггер в очередной раз встречается с К. Ясперсом. О чем потом писал сам Ясперс в «Философской автобиографии». Как свидетельствует издатель сочинений и материалов к биографии К. Ясперса, его бывший ученик X. Занер, о политике не было разговора. «Слушали григорианскую церковную музыку, говорили о философии и о судьбе университета»1. Казалось, ничто не предвещает разрыва. Но Гитлер уже почти два месяца (с конца января) занимает пост рейхсканцлера, на который его, увы, своей волей — в результате почти единодушной поддержки на референдуме — посадил немецкий народ. Ясперс вряд ли подозревает, что некоторые замечания, оброненные Хайдеггером во время визита, а также написанные в скоро посланном письме, — вроде: «Нужно включаться...»; «Мы врастаем в новую действительность» и все зависит от того, «заготовим ли мы для философии действительно ангажированную позицию (Ет$а1281е11е) и поможем ей высказаться...» — уже намекают на хайдеггеровскую готовность «включиться»...
Потом Хайдеггер еще раз приедет к Ясперсу— в июне. Теперь он уже «торжественно возведенный на свой пост ректор, партайгеноссе и активный участник фашизации немецкого университета»2. Ясперс — подобно, увы, немалому числу европейских интеллектуалов того времени — пока не принимает фашистских игр всерьез. Да и вообще, влюбленный и погруженный в философию Ясперс «мало что знает о национал- социализме и еще некоторое время считает происходящее в Германии плохой опереттой... А оперетта тем временем непонятным образом пре¬
1 H. Saner. Vorwort// K. Jaspers. Notizen zu Martin Heidegger. S. 13.
2 Ibid.
вращается в печальную игру»1. Не думает ли и Хайдеггер, что он, раз- другой сыграв в нацистской «оперетте», потом начнет играть какую-то свою роль? Может быть. Но во-первых, Хайдеггер с самого начала играет вполне всерьез. Во-вторых же, если он и питает иллюзии (а склонностью Хайдеггера к иллюзиям вполне почтенные люди, например Гада- мер, объясняют фашистский ангажемент), то ему вскоре предстоит убедиться, что за пошло-опереточной формой первоначальных нацистских игр скрывается и скоро обнажится жесткая, кровавая тоталитаристская сущность новой власти.
Прежде чем Хайдеггер 27 мая 1933 г. произнесет — под аккомпанемент нацистских приветствий, песнопений, кликов «Зиг хайль» — свою печально знаменитую ректорскую речь, он поведет достаточно расчетливую и, несомненно, политическую борьбу за пост ректора. В 1945 г., представ перед расследующей его дело комиссией, Хайдеггер изобразит все так, будто коллеги побуждали его стать ректором Фрайбургского университета и что он согласился, чтобы избежать других, действительно неблагоприятных вариантов. Документы, которые к настоящему времени имеются, позволяют, однако, воссоздать иную картину.
Весной 1933 г. во Фрайбурге предвидится смена власти ректора, избираемого сроком на один год. Прежний ректор — знакомый нам Й. Зауер — должен передать свой пост В. фон Моллендорфу, профессору анатомии, избранному на ректорскую должность еще до прихода нацистов к власти. Но теперь национал-социалисты Фрайбурга не могут допустить, чтобы Моллендорф, «ярко выраженный демократ», как пишет в своем доносе в нацистское министерство профессор В. Али (член гитлеровской партии с 1931 г.), занял столь важное место. Для фашистов, которые гордились тем, что они — «выходцы из народа», фон Моллендорф был неприемлем и как потомственный дворянин. А вот названа и нужная партии кандидатура: «Господин коллега Хайдеггер не член партии, и он считает, что в данный момент ему из практических соображений не следует им становиться, чтобы могли свободнее действовать те коллеги, позиция которых еще не ясна или даже враждебна. Он, однако, обещает объявить о своем вступлении в партию, когда это по другим основаниям будет признано целесообразным»2. Программа оттеснения демократа Моллендорфа разрабатывается — несомненно, с участием Хайдеггера — на разных уровнях. Хайдеггер обращается за поддержкой в другие университеты, например к тогда уже известным своими нацистскими взглядами А. Боймлеру и Э. Крику, и некоторое время с беспокойством ждет их ответа.
Преподаватели-нацисты ходят к ректору Зауеру, агитируя против Моллендорфа в пользу Хайдеггера. Зауер сначала не соглашается: Моллендорф, по его мнению, больше Хайдеггера способен к организационной работе. Но скоро сдается. (А потом, уже после выборов, становится при своем бывшем студенте Хайдеггере проректором.) Тем временем нацистская партия через свою газету настраивает студентов и профессоров против «ярко выраженного демократа»: «Мы не можем себе
487
1 H. Saner. Vorwort. S. 14.
1 IJmt. no: B. Martin. Martin Heidegger und das «Dritte Reich» Ein Kompendium.
Darmstadt, 1989. S. 165.
Приложение. Дродло жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
Н.6. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгтие-времп-любовь
488
представить, как может возникнуть сфера доверия между господином профессором фон Моллендорфом и студенчеством, которое ориентировано преимущественно националистически»1.
Статья появляется 18 апреля, а 21 апреля должны состояться выборы. Путь Хайдеггеру расчищен еще и тем, что первыми декретами гитлеровского правительства «неарийские» профессора уволены в отставку. И это тоже важно: претендент хорошо знал об антисемитской, расистской направленности «культурной» политики национал-социализма, ибо она стала воплощаться в позорные дела. Из 39 членов фрайбургского университетского сената 13 уже уволены по расистским соображениям. Некоторые коллеги (например, знакомый нам теолог Э. Кребс) пытаются отстоять право уволенных профессоров и доцентов, членов сената, участвовать в выборах. Другие молчат, ибо порядком напуганы. Они понимают, чем грозит сопротивление кандидатуре, дружно поддерживаемой нацистскими профессорами и студентами. Для третьих главное, что претендент — выдающийся философ и что он не член нацистской партии. 21 апреля 1933 г. Хайдеггер дружно избран ректором университета Франкфурта. Отличная организация дела дает свои результаты.
Через десять дней вновь избранный ректор должен выполнить важнейший пункт предвыборного соглашения с фашистами. 1 мая 1933 г., во вновь учрежденный Праздник труда, Мартин Хайдеггер торжественно вступает в члены национал-социалистской рабочей партии — партии Адольфа Гитлера. Получив поздравление от профессора Ферле из Министерства культуры в Карлсруэ, Хайдеггер отвечает: «Я сердечно благодарю Вас за поздравление по случаю моего вступления в партию. Мы должны теперь все направить на то, чтобы завоевать мир образованных и ученых людей для нового национально-политического духа. Этот боевой путь не будет легким. Зиг хайль. Мартин Хайдеггер»2. Письмо помечено 9 мая 1933 г.
Ровно через 12 лет «боевой путь» бесславно закончится. Но пока Хайдеггер полон боевых же планов. 27 мая университет собирается, чтобы выслушать «тронную» речь новоиспеченного ректора и партай- геноссе. Хайдеггер совсем не случайно в 1945 г. настаивал, чтобы комиссия по его делу внимательно ознакомилась с ректорской речью. Как ни парадоксально, но из всех документов хайдеггеровского ректорства 1933/34 г. она в наименьшей мере включает в себя прямые формулировки выгодного нацистам толка. Потому, видно, окружной совет нацистской партии поначалу и отклонил сделанное Хайдеггером предложение опубликовать ректорскую речь в партийной печати. Защитники Хайдеггера, разумеется, ссылаются, и не без определенных оснований, на этот факт. Однако и обвинители, анализируя речь в контексте событий, настроений 1933 г., справедливо указывают на то, сколь необычно это выступление для академического по сути события. Речь называется «Самоутверждение немецких университетов». Но она обрушивается именно на университетские свободы и права, причем в манере демагогической. «Дать закон самим себе — это и есть высшая свобода. Многопрославляемая „академическая свобода” будет изгнана из немецкого университета; ибо
1 Н. О//. Ор. си. Б. 140.
2 1Ы<1. Б. 165.
эта свобода неподлинная, чтобы не сказать уничтожающая. Она означала преимущественно беспечность, произвольность намерений и склонностей, освобождение себя от обязанностей (Ungebundenheit) в деле и досуге. Понятие свободы немецкого студента теперь вновь возвращено в его истине. Из него разворачиваются будущее обязательство (Bindung) и служение немецкого студенчества»1. И дальше обосновывается тройственное Bindung-Dienst, что значит сразу и повинность, и служение, и обязательство.
Каковы же эти три службы, повинности? Первое, что, по Хайдеггеру, обязывает к служению, — народное сообщество. И потому первая «повинность» — трудовая (Arbeitsdienst): надо включиться в усилия «всех сословий и членов» народного сообщества. Вторая повинность, которая сначала красиво описывается как «честь и мастерство нации перед лицом других народов», оказывается вдруг обыкновенной Wehrdienst — воинской повинностью. Третья обязанность-повинность студенчества — вносить духовный вклад в судьбу немецкого народа благодаря знанию, Wissensdienst. Вот, собственно, и все — если попытаться извлечь конкретное содержание из цветистой, по-хайдеггеровски причудливой вязи популистской риторики. Защитники Хайдеггера полагают, что ректорскую речь, которая повествует о вполне реальных обязанностях гражданина перед народом, вообще неправомерно использовать в целях обвинения. И все же соотнесенность ее именно с потребностями национал-социалистской власти — реальный исторический факт.
Правый экстремизм нацизма, в условиях Веймарской республики игравшего с идеями непослушания, бунта против государства, после прихода гитлеровцев к власти обязательно должен был смениться идеологией, которая брала на вооружение именно принцип «повинности ». Власть должна была поставить себе на «службу» труд и знания, а также, лелея милитаристские замыслы, призвать к строго и вдохновенно исполняемой воинской повинности. Пусть речь нового фрайбургского ректора внешне отличалась от фашистских документов, но объективно она тоже была «служением» — и не народу, о котором, можно поверить, и было искреннее попечение философа Хайдеггера, а коричневой власти.
Допустим, однако, что ректорская речь допускает иное истолкование. Но и за вычетом ее в период ректорства Хайдеггер оставляет несмываемые коричневые следы. Документов этого рода немало. Возьмем обращение Хайдеггера «К немецким студентам» от 3 ноября 1933 г. «Национал-социалистская революция приносит полное преобразование нашего немецкого бытия», — провозглашает ректор. Призвав студентов к «мужественному принесению жертв во имя спасения сущности и возвышения внутренних сил нашего народа в его государстве» (теперь-то мы знаем, чем эта страшная идеология «жертвенности» обернулась), Хайдеггер изрекает: «Сам фюрер, и единственно он, есть сегодняшняя и будущая немецкая действительность и ее закон...»2 Подписано: «Хайль Гитлер! Мартин Хайдеггер, ректор».
В конце ноября 1933 г. ректор Хайдеггер читает доклад «Университет в национал-социалистском государстве», в котором есть немало
489
1 В. Martin. Op. cit. S. 168.
2 Ibid. S. 177.
Приложение. Дромо жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
H.ß. Мотрошилова Щр Мортин Хайдеггер и Ханна Врендт: бытие-время-любовь
490
тезисов, способных порадовать нацистское руководство: «Каким видится университет в новом государстве? Новый студент — это больше не академический гражданин. Он проходит через трудовую повинность, состоит в ЭА или БЭ1, занимается военно-спортивной работой. Учеба теперь называется службой через знания. А скоро все это сольется в радостное единство»2.
Не остается Хайдеггер в стороне и от политических событий, происходящих в стране. За день до выборов 1933 г. в рейхстаг ректор публикует статью-обращение в студенческой газете. Вот его слова: «12 ноября немецкий народ как целое выбирает сбое будущее. А оно замкнуто на фюрера»3. В обращении к деканам вверенного ему университета Хайдеггер полностью поддерживает деятельность Министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха. Ректор выступает и с призывом, обращенным к ученым, образованным людям всего мира (13 декабря 1933 г.). «Все науки, — торжественно провозглашает Хайдеггер, — неразрывно связаны с формой духовности того народа, благодаря которому они вырастают. Отсюда предпосылкой успешной научной работы является неограниченная духовная возможность развития и свобода народа в культуре. Только благодаря взаимодействию отдельных народов в их заботе о науке, которая связана с определенным народом, возникает наука, объединяющая народы. Неограниченное духовное развитие и свобода народа в культуре могут процветать только на основе равных прав, равного достоинства, равной политической свободы, следовательно, в атмосфере действительно всеобщего мира »4.
Подобные формулы — как же, равные права народов и всеобщий мир! — говорят, казалось бы, в пользу Хайдеггера. Ведь Хайдеггер разглагольствует о «равных правах» — но это происходит после захвата гитлеровцами власти, когда уже начались позорные преследования ученых, педагогов по национальному признаку, а значит, когда именно в науке и образовании осуществляется попрание равных прав, «равного достоинства » людей других наций! Мыслящий, преданный науке человек самими обстоятельствами принужден определять свою позицию в столь принципиальном политическом и нравственном вопросе. Выбор Хайдеггера, четкий и недвусмысленный, запечатлевается в тех заключительных словах обращения, которые следуют за высокопарной популистской риторикой: «...немецкая наука обращает к образованным людям всего мира свой призыв отнестись к борьбе объединенного Адольфом Гитлером немецкого народа за свободу, честь, право и мир с таким же пониманием, какого они ожидают в отношении собственного народа»5.
Заняв ректорскую должность, Хайдеггер должен предпринимать — или не предпринимать — некоторые шаги, которых нацистская партия ожидает от него как партайгеноссе, получившего ее поддержку. На первый план не случайно выдвигается так называемый еврейский вопрос,
1 SA (Sturm-Abteilung) — отряды штурмовиков, SS (Schutz-Staffel) — отряды (команды) защиты, до 1934 г. — подразделения штурмовых отрядов.
2 В. Martin. Op. cit. S. 178.
3 Ibid.S. 198.
4 Ibid.S. 185.
5 Ibid.
ибо именно здесь идеологией и политикой нацизма разыгрываются первые сцены, которые становятся прологом страшной трагедии — расистского геноцида. Какую же роль в этом прологе играет новоиспеченный фрайбургский ректор?
В 1945 г., оправдываясь перед комиссией, Хайдеггер попытается создать впечатление, что он использовал преимущества своего ректорства, чтобы отвести от евреев нацистские преследования. Действительно, в 1933 г. складывается противоречивая и поистине драматическая ситуация. Среди учителей, коллег, студентов Хайдеггера, в том числе принадлежащих к кругу его близких друзей, есть евреи. Хайдеггер, завязывая сотрудничество с нацистами, не может не знать, что их идеология густо замешена на расизме и антисемитизме. «Центральным жизненным законом и решающей движущей силой истории» в ней провозглашается «борьба народов и рас друг против друга» — с утверждением, что происходит, дескать, «естественный отбор лучших народов и рас»1.
В «Майн кампф» Гитлер еще в 1925 г. проводит различие между расами, сохраняющими, творчески развивающими и, напротив, «уничтожающими» культуру. К 1933 г. нацисты уже широко развертывают расистскую пропаганду, в рамках которой широко используются такие, с позволения сказать, понятия, как «раса господ» — она же «воинственная раса», как «раса паразитов» и «раса кули», то бишь рабов-прислуж- ников2. Например, народы, населяющие нашу страну, — от прибалтийских наций до народов азиатских республик — изначально зачисляются в разряд «кули». Объявляется, что эти народы наделены такими биологически укорененными свойствами, как «отсутствие потребностей, покорность, выносливость»; и раз они не ведут «открытой борьбы за упрочение своего положения», то раса господ, наделенная «отвагой и самосознанием своей расистской силы»3, предназначена якобы властвовать над ними. Первый и главный удар, согласно стратегии нацистского расизма, следует нанести по «паразитическим расам», из которых самой опасной объявляется еврейская нация — потому, оказывается, что она «интеллигентна», «сверххитра», умеет хранить единство. Впоследствии — в преддверии Второй мировой войны — гитлеровцы, «отработав» приемы расистской идеологии и политики на преследовании евреев, полностью перенесут те же приемы на славянство, поставив его где- то посредине между расами «рабов» и «паразитов».
Что же касается немецкого народа, то он, разумеется, провозглашен главным среди «ариев», «расы господ и воителей», самой «чистой расой», «пранародом» (УогуоНс). Смешение этой расы с другими Гитлер в «Майн кампф» объявляет «грехом против крови и расы». Напротив, «самое святое право человека» и «самый святой человеческий долг» состоят, по Гитлеру, в заботе о «чистоте крови». И вот на подобной расистской идеологической основе строится «генетический» проект сохранения «чистой расы», который потом, после захвата власти, на-
491
1 K. Salamun. Die Weltanschauung des Nationalsozialismus aus ideologiekritischer Sicht// Die Universität und 1938. Wien; Köln, 1989. S. 41.
1 Das dritte Reich. Bausteine zur neuen Staat und Volk. Leipzig, 1933//Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt a/M., 1957. S. 32 ff.
3 Ibid.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
н.в. Мотрошилово Мартин Хайдеггер и Ханна прендт: бытие-время-любовь
492
цисты начинают претворять в жизнь. Принимаются (в 1933 и 1935 гг.) расистские законы, один из которых носит название «Закон сохранения немецкой крови и немецкой чести».
Известно ли все это Хайдеггеру? Разумеется, известно. И каково его отношение к расизму? Есть свидетельства неприятия Хайдеггером биологически обосновываемой расистской идеологии. Защитники Хайдеггера обращают внимание на то, что он, усиленно расставляя национально-патриотические акценты, всячески избегает употреблять слова и выражения в духе расистской риторики. И более того, активно использует возможность заявить о «равных правах» всех народов, о надеждах на «всеобщий мир», что диссонирует с милитаристскими обертонами официальной гитлеровской идеологии. С этим можно согласиться.
Однако есть и другой, в данной связи, пожалуй, главный факт: горячая хайдеггеровская пропаганда в пользу Гитлера — провозглашение его «судьбой» немецкого народа, его «великим объединителем» — объективно означала, не могла не означать, и фактическую поддержку расистских идей, антисемитизма фюрера. Во всяком случае, если ректор Хайдеггер поначалу и задумал уклониться от действий, диктуемых национализмом и антисемитизмом официальной гитлеровской политики, то ему предстоит убедиться, сколь непросто реализовать такой замысел.
Расистская политика и идеология, а в немалой степени и уже принятые или готовящиеся расистские законы подхлестывают фашистских молодчиков из студенческих и преподавательских союзов. Хайдеггер, разумеется, не поощряет ни их антисемитские собрания, ни тем более начавшиеся хулиганские выходки, которые становятся «репетицией» будущих погромов и репрессий. Он старается держаться в стороне. Но в тех условиях даже это фактически означает поощрение. Пример — хулиганские действия нацистов против еврейского студенческого союза Neo Friburgia.
Хайдеггер в 1945 г. сообщит комиссии: занимаясь этим делом, он пресек дальнейшее насилие, в частности готовящийся разгром католических корпораций Rignaria и Heroynia. Возможно. Однако в деле Neo Friburgia ректор Хайдеггер постановляет дождаться решений нацистского министерства, которое, разумеется, попустительствует фашиствующим студентам.
Не менее драматично и противоречиво складываются отношения ректора с коллегами-евреями. Для них настали поистине страшные времена. Сравнительно недавно, еще в конце 20-х гг., представители разных наций вместе работали на славу и пользу немецкой культуры. Конечно, они спорили, расходясь во взглядах и подходах, испытывали друг к другу симпатии или антипатии. Национальные оттенки разногласий, если они и существовали, никогда не делали погоды, что нормально и естественно для цивилизованной страны. Однако в том-то и дело, что Германия под руководством нацистов стремительно двигалась к пропасти варварства. Для евреев по национальности, с готовностью и энтузиазмом служивших немецкой культуре, родившихся в Германии и считавших ее своим отечеством, 1933 год был потрясением. 4 мая этого года (значит, через несколько дней после избрания Хайдеггера ректором) Эдмунд Гуссерль пишет одному из друзей: «В моем преклонном возрасте мне пришлось испытать то, что я никогда не счел бы возможным: это возникновение духовного
гетто, в которое и я должен быть заключен вместе с моими действительно достойными внимания, действительно высокосознательными детьми (и со всем их потомством). В соответствии с отныне и навсегда установленным государственным законом мы больше не имеем права называть себя немцами; полученные нами духовные результаты больше не должны причисляться к истории немецкого духа. Мы обязаны жить дальше только с клеймом „еврейского” — а оно, согласно всем официальным объявлениям государственной воли, должно стать знаком презрения»1.
В письме есть и упоминания о Хайдеггере. Гуссерль считает происшедшее с бывшим учеником, ассистентом и другом одним из самых печальных событий: ведь он испытывал такое доверие не только к таланту, но и к характеру Хайдеггера. Упомянуто о «театральном» вступлении Хайдеггера в нацистскую партию. После принятия ректорства отношения Хайдеггера с Гуссерлем окончательно расстроены. Гуссерль в этом письме высказывает суждение, что главной причиной является «все более ясно выраженный антисемитизм, также и обращенный против группы евреев — его восторженных учеников и преподавателей факультета »2.
Вопрос об отношении к Гуссерлю и другим коллегам и друзьям еврейской национальности не случайно всплывет в 1945 г. И речь пойдет уже не только и не столько об идеологии, сколько о стимулированных нацизмом и антисемитизмом преследованиях людей, значит, о действиях, которые по меркам послевоенного времени станут юридически наказуемыми. В этом вопросе Хайдеггер будет тверд. Разногласия с Гуссерлем, приведшие к разрыву, имели, по утверждению Хайдеггера, лишь идейно-философскую подоплеку. Разрыв отношений с другими друзьями и коллегами — тоже идейного или чисто личного свойства. Некоторых из этих друзей и коллег, например Гуссерля, в 1945-м уже не будет в живых. Другие коллеги частично подтвердят показания Хайдеггера: ректор не вступался за них, что в те времена и на его посту вряд ли было возможно; но он и ничего не предпринимал против них. Третьи будут возражать. Хайдеггер, подчеркнут они, воспрепятствовал защите диссертаций своих учеников-евреев (например, Зайдемана, Бергсона и госпожи Вайс) или бросил их на произвол судьбы. Есть и факты, свидетельствующие о том, что Хайдеггер способствовал изгнанию евреев из университета (случай Э. Френкеля). Хайдеггер же объяснит все исключительно деловыми соображениями. Он сошлется на то, что студенты и коллеги еврейской национальности и в 1933 г. посещали его лекции и семинары. Профессор К. Берингер поддержит версию Хайдеггера своим сообщением: нацист профессор И. Штейн в 1933/34 г. неоднократно жаловался, что Хайдеггер — плохой ректор, ибо он помогает евреям и полуевреям3. Из-за этой разноголосицы суждений вопрос об антисемитизме Хайдеггера в 1945 г. останется открытым.
Во второй половине 80-х гг. спор разгорится вновь. В. Фариас, привлекая к рассмотрению документы и материалы, настаивает на том, что союз с нацистами был обусловлен также и антисемитизмом Хайдеггера, который он имел основания маскировать, потому что пробивал свой
493
1 Цит. по: В. МагИп. Ор. си. Б. 148-149.
2 1Ыс1. Б. 149.
3 1Ыс1. Б. 197.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
494
л
со
&
Q
?
I
со
I
о
ю
к
O'
X
8.
<г
о
X
х
£
X
о.
0 о> >х
Я
X
1
о
о
о
О
э
&
5
s
со
путь в философию благодаря, скажем, горячей поддержке Гуссерля и в немалой степени благодаря энтузиазму молодых студентов и преподавателей, среди которых были евреи, а также немцы и люди других национальностей, которые считали антисемитизм безнравственной болезнью.
Ряд авторов возражает Фариасу, выискивая слабые места его аргументации. Например, французский философ Ф. Федье, автор яркой и страстной книги «Анатомия скандала», разбирает обвинение Фариаса, построенное на письме Хайдеггера от 16 декабря 1933 г. относительно его бывшего ученика Э. Баумгартена (письмо послано в связи с запросом национал-социалистской организации профессоров Гёттингенского университета). Аргумент В. Фариаса и других авторов: Хайдеггер в этом письме отказывается поддержать габилитацию бывшего ученика (чья работа о Дьюи написана под его, Хайдеггера, руководством!) по следующим основаниям: Баумгартен, пишет (прямо-таки доносит) Хайдеггер, близок к кругу либералов-демократов типа Макса Вебера; он поддерживает связи «с евреем Френкелем». Ф. Федье возражает: «В этом тексте — единственная антисемитская формулировка из всех, которые вышли из-под пера Хайдеггера»1.
Федье оказался, однако, не прав: та формулировка не единственная; есть и другая, обнаруженная совсем недавно. Странным образом она связана с именем того же Э. Баумгартена и относится к 1929 г. Но тут Хайдеггер, наоборот, горячо ходатайствует о выделении стипендии для этого своего ученика. 2 октября 1929 г. он пишет неофициальное письмо В. Швёреру, руководителю «Общества помощи немецкой науке», в дополнение к официальной рекомендации. «К моему ходатайству, — убеждает Хайдеггер человека, о чьих взглядах, близких к его собственным, он, вероятно, осведомлен, — я хотел бы добавить нечто личное и просить Вас обратить особое внимание на эту мою просьбу.
В моей рекомендации я не мог непосредственно обозначить то, что здесь я могу сформулировать яснее. Дело ведь идет о необходимости как можно скорее осознать тот факт, что мы поставлены перед следующей альтернативой: или мы вольем новые силы и подлинных педагогов, порожденных самой почвой, в нашу немецкую (подчеркнуто Хайдеггером. — Н.М.) интеллектуальную жизнь, или будем способствовать растущему ее оевреиванию (Verjudung) в широком и узком смысле. Мы обретем путь лишь в случае, если без придирок и ссор сумеем помочь расцвести этим свежим силам»2. (В подлинности письма нет никаких сомнений — оно написано собственной рукой Хайдеггера: обнаружено письмо Ульрихом Зигом в главном архиве Карлсруэ и опубликовано в конце 1989 г.)
Снова перед нами весьма дурная сторона характера Хайдеггера. В 1929 г. Э. Баумгартен был для него чуть ли не олицетворением «свежих», «почвенных» сил немецкого духа. Но стоило бывшему ученику в 1933 г. обнаружить симпатии к «либеральному демократизму», не порвать дружбы с евреем, как он же стал непригоден для немецкого университета.
А нравственное лицо профессора Хайдеггера? «Оевреивание» (Verjudung) — выводит его рука как раз в то же время, когда он общается с Гуссерлем и вовсю пользуется его покровительством. Когда пе¬
1 Fr. Fedier. Heidegger: anatomie d’un scandale. S. 105.
1 Liberation. Jeudi, 8. Février 1990. Nouvelle serie. № 2710.
реписывается с Ясперсом, чья жена — еврейка. Когда общается с теми самыми «восторженными» учениками и коллегами, о которых потом напишет Гуссерль. В официальной рекомендации 1929 г. такое передать бумаге, конечно, непристойно, и Хайдеггер хорошо понимает это.
Но грядут времена, когда нравственно непристойное приобретет в Германии силу государственного закона. Грядет 1933-й. Между хайдегге- ровским письмом 1929 г. и 1933 годом существует связь, задуматься над которой очень нужно тем, кто в нашей стране и сегодня не прочь поиграть в антисемитские игры, кто, зная о том или не зная, говорит свинцово-расистским языком «Майн кампф» или позволяет себе «шалости» в манере профессора Хайдеггера. Никому, даже талантливейшим людям, через такое не удается проходить, не оставив следов. Не горят не только рукописи — сохраняются и документы. Разоблачение все же приходит.
«Майн кампф» Гитлера и другие национал-социалистские документы — самые крайние, воинствующие, зоологические, можно сказать, проявления антисемитизма. Это — предвестие массовой коричневой чумы. Почему же интеллигенты Германии — а здесь ведь их прямое дело — не раскрывают своей нации глаза на расистскую природу и крайне опасные последствия националистических спеси и ненависти? Причина в том, что интеллектуалы, образованные люди Германии в столь принципиальном вопросе отнюдь не едины. Некоторые из них с беспокойством и недобрыми предчувствиями наблюдают за разрастанием национализма и антисемитизма. Другие, видно, считают национализм, смешанный с антисемитизмом, не слишком большой опасностью. А третьи — среди них, как видим, Хайдеггер — и сами изнутри поражены этими гнилостными для духа и нравственности микробами... Фашизм, национал-социализм становится не только проявлением, но в каком-то смысле и следствием болезней, еще раньше захвативших разум, рассудок, здравый смысл, чувства довольно заметной части немецкого общества. Наиболее, пожалуй, опасными национализм и антисемитизм становятся тогда, когда через них братаются политические маньяки, демагоги типа Гитлера, агрессивно-злобные завсегдатаи пивных и интеллектуалы типа Хайдеггера. Это случается, как мы видим, уже во второй половине 20-х гг., а к 1933 г. получает свое государственное закрепление.
1933—1934 годы проясняют многое из того, что прежде могло казаться неясным. Если Хайдеггер и питает надежды на какую-то самостоятельность в проведении университетской реформы, на свое формирующее философское влияние, то очень скоро надеждам суждено испариться. Гитлеровцы сами хотят править бал, в том числе в сфере идеологии, к Юв которой они причисляют и философию.
У главных идеологов национал-социализма типа Геббельса или Розенберга давно есть прочные связи с людьми, которым теперь предназначаются посты «ведущих» юристов или философов Третьего рейха. Среди юристов выдвигается Карл Шмитт, имя которого хорошо известно в Германии. Упоминавшиеся ранее профессора философии А. Бой- млер и Э. Крик, еще до 1933 г. связавшие свою судьбу с нацистской партией, после ее прихода к власти, естественно, становятся главными официальными философами. Они помогли Хайдеггеру утвердиться в качестве ректора, но теперь с тревогой следят за его карьерой, ибо
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
496
л
Ф
о
ю
2
с
ю
С7>
X
8.
<Е
О
X
X
а
о*
>s
Я
X
I
о
S
ё
со
X
понимают, что с мыслителем такого масштаба им трудно соперничать. И потому они делают все, чтобы помешать звезде Хайдеггера взойти на небосклоне официальной нацистской идеологии. Когда в Министерстве культуры и образования рейха в Берлине вентилируется проект такого же министерства Пруссии — учредить Академию немецких доцентов и во главе ее поставить Хайдеггера, то завистники бросаются в бой. «Самое позднее весной 1934 г. в партии формируется антихайдеггеровская группа во главе с прежним коллегой Хайдеггера по Марбургу Эрихом Йеншем и даже Эрнстом Криком; опираясь на Альфреда Розенберга, они предусмотрительно блокируют возможную руководящую позицию Хайдеггера в Пруссии или в рейхе, потому что они не хотят допустить, чтобы он стал „философом национал-социализма”...»1 — пишет фрайбургский историк X. Отт, которому удалось получить доступ к архивам Прусского министерства культуры, искусства и народного образования и обнаружить там соответствующие доносы бывших коллег на Хайдеггера. Особо старается психолог Э. Йенш: Хайдеггер им заклеймен и как философ-декадент, и как пособник евреев, и как ректор, проявивший на службе национал-социализма недостаточное рвение, и как покровитель «религиозных клик» (имеется в виду группа философов, объединившаяся вокруг П. Тиллиха2).
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Борьба нацистов за власть в философии помогает Хайдеггеру, который уже тяготится зависимостью от национал-социалистской политики, уйти в сторону. Это спасает мыслителя и сберегает его для философии.
Правда, Хайдеггер остается в нацистской партии, до 1945-го продолжая платить членские взносы — факт этот особенно акцентирован Фариасом и другими обвинителями; защитники Хайдеггера его оспаривают. Я лично не считаю именно эту проблему первостепенно важной. Во всяком случае, она есть не более чем следствие ректорства. Выплата взносов вряд ли автоматически означает продолжающуюся приверженность Хайдеггера идеям и политике национал-социализма. Влезть на нацистского тигра — стать членом партии Гитлера — было куда проще, чем слезть с него — выйти из партии. В те времена это скорее всего равнозначно расставанию с жизнью, на что Хайдеггер, человек не самого смелого десятка, не решается. Однако от сколько-нибудь активной идейной поддержки режима он уходит. Нацистские идеологи приглашают Хайдеггера, мыслителя с мировым именем, в пропагандистскую поездку за границу. Министерство утверждает его кандидатуру. Но философ, судя по всему, старается поездки избежать. Во всяком случае, в 1934 г. он срывает — «по болезни» — путешествие в Италию. Однако в начале 1936 г. туда все же отправляется.
В Риме, где порядки в отношении евреев были не такие жесткие, как в Германии, Хайдеггер встречается со своим бывшим учеником и другом К. Лёвитом, который в 1933 г. вынужден был покинуть родину из-за «неарийского» происхождения. Лёвит и оставил воспоминания о встрече, причем написал их в 1940 г., по довольно свежим следам. Хайдеггер держится довольно сухо (еще отчужденнее ведет себя его жена). Но с быв-
1 Я. Ott. Ор. cit. S. 241.
2 Ibid. S. 242-246.
шим учеником все же беседует. Лёвит в беседе настаивает: принадлежность к партии Гитлера укоренена в его, Хайдеггера, философии. «Хайдеггер, — рассказывает К. Лёвит, — без всякого колебания согласился со мной и разъяснил, что понятие „историчности” и было основой его политической ангажированности. Он не допускал никакого сомнения в своей вере в Гитлера. Хайдеггер был, как никогда, убежден, что национал-социализм — это предначертанный Германии путь и нужно только достаточно долго по нему следовать»1. 8 апреля 1936 г. Хайдеггер читает в Риме доклад на тему «Европа и немецкая философия», текст которого до сих пор не опубликован. К. Лёвит вместе с другими «неарийцами» на доклад не допущен.
То, что Хайдеггер говорил Лёвиту о своей поддержке Гитлера и национал-социализма, вряд ли можно подвергнуть сомнению. Но неверно, как я думаю, не принимать в расчет простое обстоятельство: даже если Хайдеггер теперь думает иначе, чем прежде, он никак не может, не рискуя жизнью, своей и членов семьи, кому бы то ни было поведать о своих взглядах и сомнениях. Тем более приехав за границу. Лёвит негодует: да как же Хайдеггер позволил себе перед ним, изгнанным нацистами, появиться с фашистским значком на лацкане пиджака! Но каждый, кому пришлось испытать превратности тоталитаристских режимов, знает, какое значение в них придается таким, казалось бы, «мелочам», как символика, ставшие обязательными приветствия и т. д. Для члена нацистской партии не надеть значок или не крикнуть при встрече, не написать в конце документа «Зиг Хайль!» — почти то же, что заявить о выходе из этой партии. Нет, не решается Хайдеггер спрыгнуть с тигра...
Но объективно различия между жизнью Хайдеггера в период ректорства и после него — довольно принципиальные. Время ректорства — национал-социалистская суета, коричневые следы. И почти никакой философской работы. А вот после, с 1935 по 1945 г., философствование возобновляется и продолжается. Нет ничего удивительного в том, что главное внимание Хайдеггера привлечено к истории философской мысли, к истории культуры. Сова Минервы, вылетавшая в свой полет и в ночи нацизма, именно в истории мировой культуры обретала и самые надежные пристанища. Но вот пришел 1945 год. Для народов Европы это был год победы над фашизмом. Для Хайдеггера — год первой расплаты за временное сотрудничество с ним.
АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ
Вино и нераскаянность Хайдеггера
Фрайбург, 25 апреля 1945 г. Остается две недели до конца Второй мировой войны. И люди чувствуют: война, принесшая столько бедствий и крови, на исходе; агонизируя, доживает последние дни нацистский режим. Французские оккупационные войска размещаются в старинном университетском городе. А в университете идут жаркие дебаты. Фрайбургские профессора (в основном те, что работали при нацизме) делают
1 K. Lowith. Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Stuttgart, 1986. S. 57.
18 694
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
н.в. Мотрошилова Юй Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьггие-время-любовь
498
вообще-то вполне понятный и, учитывая военное присутствие демократической страны, политически точный шаг: они избирают ректора, проректора, деканов, сенат, т. е. торжественно восстанавливают университетское самоуправление, попранное национал-социалистской властью после 1934 г.
Шаг этот практически «мудр» еще и потому, что позволяет фрайбургской профессуре если не прямо противостоять попыткам оккупационных властей привлечь к ответу сотрудничавших с нацизмом преподавателей университета (прямое и решительное сопротивление в создавшихся условиях, конечно, невозможно), то хотя бы самортизировать, усложнить расследование. Того требует интерес почти каждого из них. По строгому счету истории по крайней мере к нравственному ответу можно было бы привлечь многих, если не всех тогдашних фрайбургских воспитателей юношества — вместе, впрочем, с заправилами агрессивных фашистских студенческих союзов, которым во Фрайбурге удалось увлечь за собой подавляющую массу студентов. Поскольку вопрос о расплате, ответственности, покаянии — один из самых коренных в истории стран и народов, переживших годы, тем более десятилетия тоталитаристской диктатуры, присмотримся к делу внимательнее.
Что же происходит весной 1945 г. в Германии? Наказания нацистов и их пособников, в том числе в сфере духа, требуют народы мира, боровшиеся против фашизма и понесшие неисчислимые жертвы. Немцы — особенно те, кто не запятнал себя пособничеством режиму, особенно молодое послевоенное поколение — ожидают от своего народа того же: саморефлексии, самокритики, покаяния. И оказывается, что таких немцев немало, что голос их звучит все слышнее и увереннее. Я совершенно убеждена, что в трудных, противоречивых, но в конце концов оказавшихся успешными процессах демократизации ФРГ духовно-нравственным самокритике, самоочищению, покаянию, через которое прошли лучшие головы и сердца нации, принадлежит огромная позитивная роль.
Однако сразу после поражения фашистов положение складывается непростое. Во-первых, в распоряжении оккупационных властей — во Фрайбурге это были, как сказано, французы — поначалу нет ни механизмов, ни оснований, ни критериев расследования, которые имели бы юридическую силу. Это немедленно используют заинтересованные лица, прежде всего те, на счету которых нет прямых, «материально» доказуемых нацистских преступлений. Прощавшие нацистам, а то и идеологически освящавшие беспрецедентное попрание прав и свобод личности, они станут достаточно уверенно бороться за свои конечно же святые человеческие права.
Во-вторых, что характерно для любого посттоталитаристского времени, не вполне ясно, кого же и как следует наказывать. Всех или большинство привлечь к ответственности, юридической ли, нравственной ли, практически невозможно. И довольно скоро те послушные гитлеровской власти фрайбургские педагоги, которые служили ей тихо, не предпринимая каких-либо заметных публичных действий, поняли, что могут спать спокойно. Сотрудничество больших масс людей с тоталитаристским режимом — главная опора последнего — всегда остается, и в Германии останется, практически неподсудным и ненаказуемым.
Но вскоре оккупационные власти вместе с немецкими патриотами все-таки найдут демократические формы и формулы процессов политического «очищения ». К ответу привлекут прежде всего тех, кто особо запятнал себя сотрудничеством с нацизмом, кто оставил следы в виде практических действий, речей, публикаций, документов. Во Фрайбургском университете, конечно, никак нельзя будет пройти мимо ректорства Мартина Хайдеггера. Скоро его делом займется специальная комиссия.
А тем временем специфическая ситуация оккупации вносит в судьбу Хайдеггера дополнительные детали. Французские оккупационные власти, размещающиеся в порядком разрушенном Фрайбурге, испытывают нужду в жилых помещениях. Встает вопрос о конфискации жилья тех, кто сотрудничал с наци. Дом Хайдеггера, а также его превосходная огромная библиотека под угрозой. Сам философ проводит трудное время в горах. Госпожа Хайдеггер, оставшаяся при доме и имуществе, пишет прошения властям, пытаясь доказать, что ее муж, принявший ректорство исключительно по желанию коллег, потом подвергался преследованиям фашистов. Эти аргументы вряд ли убеждают тех, к кому они обращены. Наконец, письмо посылает сам Хайдеггер, гневно протестуя против конфискации имущества и особенно библиотеки. Его письмо дышит неподдельным возмущением: «Понятия не имею, на каком правовом основании я подвергаюсь таким неслыханным преследованиям. Я категорически возражаю против подобной дискриминации в отношении меня как личности и в отношении моей работы»1. («Неслыханные преследования» — это после Освенцима!) Одновременно философ излагает ту версию своего поведения при нацизме, которую повторит и разовьет уже перед комиссией.
Энергичные протесты четы Хайдеггер приводят к тому, что дом их не конфискован. Однако в него (на некоторое время) подселяют еще одну семью. Библиотеку тоже не оставляют в покое, заимствуя из нее кое-что для фонда университетов, например Марбургского университета. Такое происходит не с одним Хайдеггером.
Фрайбургские профессора, ректор университета пишут французам петицию за петицией, протестуя против «попрания демократических прав», — и такое, подчеркивают они, происходит в тот момент, когда требуется создавать правовое государство! Они настаивают на том, что «для установления политической вины» должна быть создана «правовая инстанция». Этого более всего требуют, кстати, те профессора, чьи имена не запятнаны сотрудничеством с нацистами. Французам вполне понятна апелляция к правам человека и требование разработать приемлемый для университета механизм «установления политической вины». Демократические принципы и убеждения заставляют их всегда и при всех обстоятельствах относиться с уважением к борьбе за человеческие права и свободы; с особым сочувствием и пониманием относятся они к тем, кто двенадцать лет вынужден был терпеть тотальное бесправие фашистской диктатуры. Французские власти делают уступку и в том, что сами непосредственно не проводят расследования — например, «дела Хайдеггера». Это поручается специальной комиссии, в которую входят
1 Н.Ои. Ор. сЦ. Б. 296.
499
18*
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
500
аз
х
профессора, только что освобожденные из нацистских тюрем, куда они некогда попали за «политические преступления», т. е. за какие-то формы протеста против гитлеризма. Комиссию возглавляет К. фон Дитце, в нее первоначально входят Г. Риттер, А. Лампе; позднее добавлены Ф. Ёлкерс и А. Аллгайер.
Эти люди, пострадавшие от нацизма, менее всего склонны сводить счеты со всемирно известным философом. Однако они не намерены и затушевывать его вину. К тому же их собственный опыт наглядно опровергает один из главных тезисов, который в то время имел широкое хождение в Германии: нельзя, дескать, привлекать к ответственности отдельных людей, когда равно виноваты все. Нет, виноваты не все, и ответственность виноватых отнюдь не равна. Основываясь на этом, комиссия по делу бывшего фрайбургского ректора приступает к работе. Хайдеггеру предложен для ответа ряд важных вопросов. Философ ощущает себя чуть ли не жертвой политической «инквизиции». Но на вопросы отвечать вынужден. Ответы и суть хайдеггеровской версии нам отчасти уже известны из предшествующего рассмотрения.
Члены комиссии внимательно анализируют, проверяют каждый оправдательный довод Хайдеггера. И даже в случае, когда то или иное утверждение не удается ни подтвердить, ни опровергнуть, сомнение идет скорее на пользу Хайдеггеру. Комиссия, по существу, соглашается с той предложенной философом версией, что после 1934 г. его отношения с нацистами фактически прервались. Находит ее поддержку и тезис Хайдеггера о том, что во время ректорства он не только не преследовал евреев, а, чем мог, помогал им. И все же по главному вопросу — о вине Хайдеггера — комиссия высказалась достаточно четко: «Несмотря на более позднее отчуждение, нет никакого сомнения в том, что Хайдеггер в судьбоносном 1933 г. сознательно поставил на службу национал-социалистской революции великий блеск своего имени и свое специфическое ораторское искусство — и тем самым способствовал оправданию этой революции в глазах немецкой образованной публики...»1 Но и признав вину Хайдеггера несомненной, комиссия не смогла предложить однозначного решения.
Члены комиссии убеждены: полностью потерять для культуры столь знаменитого и значительного философа нельзя. Но и «немыслимо», как они пишут, после столь определенных актов политического сотрудничества с нацистами оставить «внешнее положение» Хайдеггера в университете неизменным. Лучшим решением представляется отставка или пенсия, однако с предоставлением всемирно известному философу возможности вести преподавательскую деятельность хотя бы «в ограниченных масштабах »2. Победу, однако, одержит более последовательный вариант: отстранение Хайдеггера от преподавательской деятельности во Фрайбурге будет сопровождено (временным) запретом преподавать где бы то ни было в Германии.
Самому Хайдеггеру и некоторым его почитателям решение комиссии представится очень жестким, а расследование (как напишет Хайдеггер в одном из писем 1945 г.) — «инквизиторским». Но если принять в
1 Н.Ои. Ор. си. Б. 306.
2 1Ы(1.5. 307.
расчет тогдашнюю ситуацию в мире и в самой Германии, нельзя не подивиться мягкости принятых мер.
Решающую роль в том, что философ Хайдеггер не предстает перед более строгим судом, играет вот какое обстоятельство: за него винятся и за него заступаются его выдающиеся современники, которые благодаря своему честному имени, духовно-нравственному благородству пользуются доверием в тогдашнем непрочном, смятенном мире. Например, один из ранее упоминавшихся членов комиссии, профессор теологии и ботаники Ф. Ёлкерс, обращает письмо-запрос к К. Ясперсу — и делает это, между прочим, по просьбе самого Хайдеггера. Ответ К. Ясперса и его предложения очень характерны, и они тем более важны, что фактически положены комиссией в основу уже известного нам решения.
По отношению к человеку, некогда бывшему «доверенным другом», пишет Ясперс, он предпочитал и предпочитает молчание. Но поскольку Ёлкерс действует и по поручению комиссии, и по просьбе Хайдеггера, Ясперс считает себя вынужденным высказаться. Попытавшись объяснить причину нацистского грехопадения Хайдеггера (он «не видел ясно все реальные силы и дела фюреров национал-социализма»),Ясперс признает вину философа несомненной, наказуемой, хотя и трагической: «Настоятельно необходимо привлечь к ответственности тех, кто помогал национал-социализму упрочить власть. Хайдеггер принадлежит к немногим профессорам, которые это делали»1. «Он, и Боймлер, и Карл Шмитт, — продолжает Ясперс, — были среди тех весьма отличающихся друг от друга профессоров, которые пытались в духовном отношении стать во главе национал-социалистского движения. Тщетно. Они употребили действительные духовные усилия, но опорочили славу немецкой философии. Так шествует трагика зла...»2
Высказавшись за отстранение Хайдеггера от активного преподавания, Ясперс вместе с тем находит для оценки философского таланта Хайдеггера удивительные слова: «Хайдеггер — это значительный потенциал, и не с точки зрения содержания философского мировоззрения, а обладания спекулятивным инструментом. Он располагает философским органом, восприятия которого интересны, хотя Хайдеггер, по моему мнению, некритичен и далек от науки в собственном смысле. Иногда он действует так, как если бы серьезность нигилизма соединялась в нем с мистагогией (Му81а§о§1е) волшебника. В потоке своего речения он временами помогает, и скрыто и грандиозно, коснуться самого нерва философствования. И в этом качестве среди философов Германии, сколько я вижу, Хайдеггер, быть может, единственный. А потому приходится настоятельно желать и требовать, чтобы он смог работать и писать, реализуя свои возможности»3.
В то время многие, от кого зависела судьба Хайдеггера, действуют подобно Ясперсу: они признают несомненным и наказуемым нацистское грехопадение философа, но «настоятельно желают и требуют», чтобы высокоталантливому мыслителю был дан шанс и далее работать в немецкой и мировой культуре. Мощная поддержка приходит оттуда, отку-
1 В. МагИп. Ор. си. Б. 151.
2 1Ыа.Б.152.
2 1Ыа.Б. 151.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
Н-в. Мотрошилова №й Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: быше-время-любовь
502
да ее Хайдеггеру совсем, казалось, не следовало бы ожидать, — от католиков! В 30-40-х гг. Хайдеггер неоднократно нападал на католическую церковь, на «слишком томистских» философов, хорошо зная, на что обрекает их в условиях постоянных репрессий нацизма против католиков. Но теперь, в 1945-м, он (не в первый раз) не гнушается воспользоваться покровительством своих прежних католических пастырей. Помните имя из давнего, еще школьного и студенческого прошлого Хайдеггера — архиепископ Грёбер. Невзирая на все, что было в прошлом, Грёбер, чей нравственный и гражданский авторитет в послевоенной Германии очень высок, становится ходатаем по делам бывшего воспитанника, блудного сына. Хайдеггер его помощь, разумеется, охотно примет, что не помешает ему впоследствии снова обвинить католиков в «негативном влиянии» на его свободу! За Хайдеггера горячо ходатайствуют и коллеги по философскому факультету Фрайбургского университета. Их главный аргумент: речь идет о великом философе и к нему, к его прошлому надо подходить с особыми мерками.
И вот еще один парадокс, который играет свою роль в достаточно мягком решении французских оккупационных властей по «делу Хайдеггера ». Философ — в немалой степени благодаря экзистенциализму Сартра, Камю, Симоны де Бовуар, ставшему идейным знаменем для значительного числа интеллектуалов, участников французского движения Сопротивления, — во время Второй мировой войны и сразу после нее стал широко известен в антифашистских, либеральных кругах Франции. Комиссия еще корпела над разбором нацистских прегрешений Хайдеггера, а из Франции философу шли приглашения прислать для переводов книги и статьи. Может быть, французские антифашисты не знали о нацистских грехах Хайдеггера? Как не знать — знали, конечно. Но они уже по-своему «прочитали », адаптировали немецкий экзистенциализм и искренне верили, убежденные собственным опытом, что существует внутренняя связь экзистенциализма с гуманизмом, а стало быть, с антифашизмом. «Падение» Хайдеггера они расценивали как временный политический грех. Хайдеггер использовал и эту поддержку, особенно ценную именно во французской оккупационной зоне. Он писал комиссии и властям, что во Франции его философские работы определяют и стимулируют мышление и прежде всего поведение молодежи в области духа.
Хайдеггер был столь подбодрен своей популярностью во Франции, что решился просить новые власти о возможности ознакомления немецкой публики с его работами — они, дескать, будут говорить сами за себя. Но вот тут Хайдеггер совершил новую ошибку, — она была простым следствием того главного проступка, который с 1945 г. и до сих пор ставят ему в укор и критики и почитатели. Стремясь подчеркнуть, выдвинуть на первый план то, что может смягчить его вину, Хайдеггер ни в малейшей мере и ни в одном публичном документе не признает самой этой вины. Вряд ли кто-то из здравомыслящих людей ожидает и требует, чтобы Хайдеггер прилюдно бил себя в грудь, посыпал голову пеплом и т. д. Как бы предостерегая против унизительного принуждения людей к массовым покаянным обрядам, Сартр еще в 1944 г. вскрывает их отвратительность и бессмысленность в пьесе «Мухи ».
Однако пусть немногих и добровольно сказанных слов покаяния от всемирно известного философа, писавшего о гуманизме, ожидают — прежде всего те, кто хотел бы сохранить Хайдеггера для будущего мировой культуры. Ожидания оказываются тщетными, и не только в году 1945-м. Герберт Маркузе еще и в 1947 г. будет ожидать, что Хайдеггер наконец открыто признает свою вину. В письме, отправленном Хайдеггеру 28 августа 1947 г. (и написанном в большой степени под влиянием круга молодых радикально настроенных франкфуртцев), Маркузе напишет: «Вы сказали мне, что с 1934 г. совершенно порвали с режимом наци и что гестапо следило за Вами. Я не стану сомневаться в Ваших словах. Но остается фактом: в 1933-1934 гг. Вы столь сильно идентифицировали себя с режимом, что и сегодня в глазах многих остаетесь его безусловной духовной опорой. Доказательство — Ваши собственные речи, сочинения и действия того времени... Многие из нас, — продолжает Маркузе, — долго ждали от Вас слова, того слова, которое бы четко и однозначно освободило Вас от этой идентификации, слова, которое выражает Ваше действительное отношение к тому, что произошло. Вы такого слова не сказали — по крайней мере оно ни разу не вышло за пределы частной сферы»1.
Хайдеггер напишет Маркузе письмо, в котором фактически отклонит новое приглашение к покаянию. В 1953 г. тогдашний франкфуртский студент Юрген Хабермас, прочитав вновь вышедшую лекцию Хайдеггера 1935 г. «Введение в метафизику», опубликованную снова, без комментариев и без всякого покаяния автора, в письме в газету адресует Хайдеггеру вопросы, ответы на которые должны были бы прояснить отношение к нацизму и, что было особенно важно Ю. Хабермасу, к «планомерному уничтожению миллионов людей, сегодня известному всем нам...»2. Завяжется спор, но в него вступит скорее не сам Хайдеггер, а его поклонник Левальтер, — спор о тексте «Введения в метафизику»3. А главный вопрос — об отношении к нацизму и его многомиллионным жертвам — снова останется без ответа.
Покаяния Хайдеггера требовали радикальные критики; его же ожидали и восторженные почитатели. Французский автор Ф. Лаку-Лабар, рассказывающий о том, как поэт Пауль Целан, влюбленный в философию Хайдеггера, тщетно пытался убедить своего кумира в необходимости покаяния, заключает: «Неисправимая ошибка Хайдеггера состояла даже не в его изречениях 1933-1934 гг. (их еще можно хоть как-нибудь понять; впрочем, не для того, чтобы оправдать), а в его молчании по поводу жертв. Прежде всего, следовало как-то высказаться. Я имел глупость хоть на минуту подумать, что достаточно было попросить прощения. Ибо происшедшее совершенно не может быть прощено. И вот это ему и нужно было сказать»4.
503
1 В. Martin. Op. cit. S. 155, 156.
1 Цит. по: Ю. Хабермас. Хайдеггер: творчество и мировоззрение// Историко- философский ежегодник. М., 1989. С. 344.
3 Там же. С. 344-345.
4 О. Pöggeler. «Praktische Philosophie» als Antwort an Heidegger // B. Martin. Op. cit. S. 75.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
504
э
&
о
S
со
X
По некоторым свидетельствам, Хайдеггера в 1945-м все же мучило чувство вины. Слово бывшему ученику Хайдеггера О. Пёггелеру, в осведомленности и совершенной честности которого нет никакого сомнения: «Сам Хайдеггер в беседах говорил: то, что он совершил в 1933-м, hj может быть прощено; тогда он полностью заблуждался. Все и должно быть изображено так, как оно происходило (для этого Хайдеггер и планировал со своей стороны также представить документацию), и он был убежден, что такой путь, хоть он во многих отношениях и мучителен, в конечном счете есть лучший выход. Другой вопрос состоял в том, не следует ли облегчить понимание происшедшего, которое так и остается тягостной виной»1.
Документы «со своей стороны» Хайдеггер действительно представлял — ив 1945 г., и позже. Там было многое, что в самом деле способно «облегчить понимание происшедшего». Но никогда и нигде не было признания Хайдеггером своей «тягостной вины». Почему? Есть разные ответы на этот вопрос.
Согласно Ю. Хабермасу, «апологетическое поведение Хайдеггера после войны, ретуширование и манипулирование, отказ публично отмежеваться от режима, сторонником которого он себя в свое время публично провозгласил» — все это объясняется тем, что философу было присуще «скроенное по собственной мерке миссионерское сознание, с которым было бы несовместимо признание своих ошибок и тем более вины»2. Иными словами, упорная нераскаянность если и объясняется особенностями личности этого мыслителя, то такими, которые, в свою очередь, глубоко укоренены в самой сути его философии.
Последний акт жизненной драмы и драмы идей М. Хайдеггера, к которому мы теперь переходим, позволит и нам снова обратиться к поставленным временем жестким вопросам о вине, ответственности и нераскаянности крупнейшего философа XX столетия.
АКТ ПЯТЫЙ, И последний
Мрак «мировой ночи» и истина бытия
После войны Мартин Хайдеггер переживает несколько тяжелых для него лет. Он лишен возможности преподавать, а это означает не только отсутствие прочного положения и материального достатка. Главное, нет постоянной аудитории слушателей, студентов и коллег-препода- вателей, восторженное внимание которых всегда было для Хайдеггера источником высшего вдохновения. В сущности, нет возможности публиковать книги, участвовать в форумах философов, вступать в дискуссии. Вокруг — полоса отчуждения и недоверия. Опорой, как всегда, остается семья. И конечно, «общение » с теми и с тем, от кого и от чего не могут оторвать философа ничьи решения, — с великими мыслителями прошлого, с великими произведениями, идеями и образами человеческой культуры.
1 О. Pöggeler. «Praktische Philosophie» als Antwort an Heidegger // B. Martin. Op. cit. S. 67.
1 Ю. Хабермас. Цит. произв. С. 346.
Чтобы представить себе, как мыслит Хайдеггер, где находит он духовное убежище, достаточно вчитаться в его работы второй половины — впрочем, и первой половины! — 40-х гг. Убежищем, конечно, становится история философии, история культуры. Хайдеггер как историк философии — особая тема. Как и во всем, что касается Хайдеггера, тут нас подстерегают парадоксы и загадки.
Работает ли он над философией Гегеля (в 1942-1943 гг. написан текст «Гегелевское понятие опыта»1 — один из примеров того, что Сова Минервы вылетала в свой полет в ночи нацизма) или Анаксимандра (опус «Изречение Анаксимандра» написан в 1946-м), Хайдеггера прежде всего привлекают конкретные тексты. У Гегеля это Предисловие к «Феноменологии духа », каждый абзац которого подвергается подробному герменевтическому исследованию. У Анаксимандра — один, собственно, фрагмент, почему Хайдеггер с его необычайным лингвистическим чутьем использует слово «Spruch », разные значения которого — «изречение», «сентенция», «притча», «текст» — в данном случае вполне уместны. Применительно к Анаксимандру обсуждаются также переводы и толкования Теофраста, Симпликия, Гегеля, Ницше, Дильса, т. е. имеются в виду изречения — притчи, тексты вторичного, третичного и т. д. культурных слоев.
Может показаться, что читателю предлагаются вполне конкретные исторические философско-филологические изыскания. И не в таком ли обезболивающем погружении в чистые воды культуры прошлого Хайдеггер мыслит найти отстранение от превратностей, страданий настоящего? Такое погружение-обезболивание, конечно, происходит. Но в том-то и парадокс, что Хайдеггер не умеет, да и не хочет уйти от настоящего! Недаром он посвятил столько усилий исследованию времени и вслед за Гуссерлем обнаружил неустранимо-центральное значение структуры настоящего времени и даже настоящего момента (Jetzt) — как и данного места (Da) — для любого воспоминания о прошлом и мышления о будущем. И кроме того, как пишет Хайдеггер, «высказывание никогда не будет говорить с нами, пока мы объясняем его только исторически и филологически. Высказывание редким образом выражает себя только тогда, когда мы отставляем в сторону наши собственные высказывания обыденного представления, когда мы начинаем мучиться сомнениями относительно того, в чем состоят хаос, сумятица (die Wirrnis) сегодняшней мировой судьбы»2. Сформулировано вполне точно. «Сумятица мировой судьбы», в которую вплетен хаос судьбы личной, — вот та созданная самой историей трагическая площадка духа, которая позволяет осмыслить напряженность, неизбежную при связывании мышления с бытием.
Не просто, не только и не столько «изречения» Анаксимандра или Гегеля, их переводчиков и интерпретаторов волнуют Хайдеггера. Он стремится ответить на вопрос, который можно считать центральным для его творчества, особенно в послевоенный период: как и почему «изречение» (Spruch) становится способом Диалога (Zwie-sprache) с тем, о чем «говорит» «изречение» или, точнее, что само говорит через изречение
505
1 М. Heidegger. Holzwege. Frankfurt а/М., 1980. S. Ill ff.
1 Ibid. S. 367.
Приложение. Дромо жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
Н.е. Мотрошилоеа Шй Мартин Хайдеггер и Ханна прендт: бытие-еремя-любовь
506
(Gesprochene). «Ведь мышление есть поэтизирование, хотя не только создание стихов в смысле поэзии или песнопения. Мышление бытия есть первоначальный способ поэтического речения. В нем прежде всего язык и приходит к проговариванию (kommt... die Sprache zur Sprache), T. e. выступает в своей сущности. Мышление говорит, а задает диктант, диктует истина бытия. Мышление изначально и означает dictare — диктовать. Мышление есть то первопоэтизирование (Urdichtung), которое предшествует всякой поэзии, но также предшествует поэтическому в искусстве...»1
Итак, мышление бытия — тема, которой продолжает болеть Хайдеггер. И это напряженное интеллектуальное переживание-постижение становится самым главным обезболивающим средством, которое позволяет — через схватывание судьбы мышления, через напряженное переживание — связывать прошлое и настоящее. «Философия, — речет Хайдеггер, — возникает не из мифа. Она возникает из мышления в мышлении. Но мышление есть мышление бытия. Мышление не возникает. Оно есть, поскольку есть бытие. Падение же мышления в науку и веру есть злая судьба бытия »2.
Существование смертного человека в «сумятице, хаосе» бытия, попытка мыслителя, не закрывая глаз, смело взглянуть на угрозу уничтожения бытия — вот что глубоко волнует Хайдеггера. Вряд ли он забывает о хаосе, сумятице фашизма. Но в ней теперь, возможно, усматривается лишь частный эпизод той утраты оснований (Abgrund), той угрозы, которая нависла над бытием в целом. «Теории природы, учения об истории не освобождают от этого хаоса (Wirrnis), — свидетельствует Хайдеггер. — Они сами ввергают все в сумятицу (Verwirren) непознанного, ибо питаются из хаоса, который пролегает поверх различия сущего и бытия.
И есть ли вообще спасение? Оно есть тогда и только тогда, когда есть опасность. Опасность есть, если само бытие приходит к последнему (пределу) и снова возвращается забвение, которое проистекает из самого же бытия.
Но если бытие по самой своей сущности нуждается в сущности человека? Если сущность человека в мышлении прикасается к истине бытия?
Тогда мышление должно поэтизировать (dichten) о загадке бытия. И помысленное на ранней стадии приводит нас в непосредственную близость к тому, что должно быть помыслено»3. Время показало, что тревоги Хайдеггера о хаосе, угрозе бытию, о поисках спасения, о недостаточности традиционного философского и научного теоретизирования оказались вполне обоснованными и по-своему пророческими. Но вот спасает ли от хаоса «первопоэтическое» погружение в мышление бытия — вопрос особый, и мы к нему еще вернемся.
К концу 40 — началу 50-х гг. круг отчуждения постепенно разрывается. Некоторые бывшие коллеги и друзья, так и не дождавшиеся раскаяния от Хайдеггера, но полагающие, что он достаточно наказан отлучением от университета, один за другим восстанавливают контакты
1 М. Heidegger. Holzwege. S. 324.
2 Ibid. S. 348.
3 Ibid. S. 368.
с философом. С Хайдеггером, чья философская слава в годы забвения не уменьшается, а растет, начинают общаться новые поколения философов, поэтов, художников. К сентябрю 1949 г., к 60-летию философа, незлопамятная общественность вполне созревает для того, чтобы возвратить Хайдеггера к свету культурно-исторической рампы. Инициатива первоначально исходит от таких почтенных мыслителей, как Г.-Г. Гада- мер, который, несмотря на немалые трудности, организовывает публикацию книги, посвященной юбилею Хайдеггера. Далее следуют другие попытки перешагнуть через мрачную тень прошлого.
Философский факультет Фрайбургского университета снова и снова ставит перед университетским сенатом вопрос о возвращении Хайдеггера в alma mater. Положение деликатное: ведь существует решение сената от 1945 г., налагающее запрет на педагогическую деятельность профессора. К тому же членам сената, в основном представителям естественно-научного знания, не совсем ясен вопрос о значении Хайдеггера как мыслителя. (А во имя философа среднего ранга переступать через запрет — в стране, где еще кровоточат нанесенные войной раны и где радикальные демократы имеют немалую силу, — более чем рискованно.) Вопрос адресован факультету, который дает на него совершенно недвусмысленный ответ. «Располагает ли Хайдеггер в философском диалоге столь существенным голосом, который позволяет поставить его рядом с Гегелем, Кьеркегором, Ницше, Дильтеем, Гуссерлем и другими выдающимися людьми?.. Факультет отвечает на сам вопрос утвердительно и, относясь с полнейшим уважением ко всем сомнениям, не хотел бы навсегда отделить себя от Мартина Хайдеггера»1. И когда препятствия преодолены, когда Хайдеггер начинает выступать перед публикой, перед студентами — сначала в клубах (1949-1950 гг., клуб в Бремене — доклады «Кто есть Заратустра?», «Закон основания»), потом во Фрайбургском университете (начиная с зимнего семестра 1950/51 г.) и в Баварской академии изящных искусств (1950 г. — «Вещь», 1953 г. — «Об искусстве в технический век»), то его ожидает настоящий триумф. Аудитории переполнены.
Многие в то время задают себе вопрос о причинах необычайной популярности Хайдеггера, особенно его живого слова. Этот вопрос существует и сегодня. Конечно, тут играет свою роль эффект «запретного плода». Всякому, кто раньше знал и слышал Хайдеггера, интересно выяснить, что произошло с ним, с его мыслью за пять лет вынужденной изоляции. Молодые знают о Хайдеггере не так уж много: они читают, как правило с восторгом, «Бытие и время»; они наслышаны о необыкновенном искусстве бывшего фрайбургского профессора читать лекции и вести семинары. К тому же в сферу духа, культуры вступает молодежь следующих поколений, воспринимающая нацизм не столь остро, как поколение предшествующее.
Ее настроение четко передал Герман Люббе, цюрихский профессор, один из наиболее известных философов современной Европы, а в 50-х гг. ученик Хайдеггера (цитирую по стенограмме дискуссии, которая состоялась на телевидении ФРГ 23 и 25 сентября 1989 г.). «Мое по-
507
1 Я. Ott. Ор. cit. S. 337.
Приложение. Дромо жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
H.ß. Мотрошилова ff SB Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
508
коление, — откровенно рассказал Г. Люббе, — совершенно не интересовалось нацизмом Хайдеггера, о котором мы, разумеется, знали. И когда мы вскоре после войны отправлялись во Фрайбург, чтобы слушать Хайдеггера, то выдающийся философ при всей отделяющей его от нас дистанции становился нам доступным — хоть мы опять-таки знали о его нацизме. Мы знали, что в качестве ректора он произносил пламенные речи о трудовой повинности в пользу рейха. Мы также знали, что он при встречах ведущих профессоров появлялся в нацистской униформе. Но это нас не интересовало, ибо существовало ведь простое объяснение. Двенадцать миллионов немцев были членами немецкой национал-социалистской рабочей партии. Многие были также ангажированными членами партии, и с самого начала нельзя было предположить, что среди профессоров, у которых мы хотели учиться, не найдется ангажированных наци... И если мы, скажем, хотели учиться у Хайдеггера, то не могли же бросаться к нему с критическим вопросом типа: „Господин профессор, как вы могли?.,” Ибо тогда лекции прекратились бы. А ведь нас влекла другая нужда: включаться в его блестящие интерпретации — скажем, аристотелевской физики, и мы делали это»1.
Мне кажется, объяснение Г. Люббе психологически точно, и нам- то, в нашей стране, оно, быть может, особенно понятно. Двенадцать миллионов членов партии, сотни тысяч активных пособников наци! А сколько бывших штурмовиков, надсмотрщиков, конвоиров, членов зондеркоманд, псевдосудей, чиновников разных рангов, хозяйчиков, нажившихся на грабеже народов! Студентам, действительно, приходится учиться у профессоров, которые были «ангажированы» нацизмом когда меньше, а когда и больше Хайдеггера. Хайдеггер-то по крайней мере понес наказание за год своего ректорства. С голов многих других, что называется, и волос не упал!
Но, конечно, главную роль в растущей популярности Хайдеггера — и тогда, в 50-х, и сегодня — играли и играют специфические свойства его в высшей степени оригинального, яркого, талантливого философствования. Время отрезвления от нацистского безумия помогло Хайдеггеру придвинуться ближе к самому «нерву философствования», используя тот «орган восприятия», о великолепной наделенности которым так справедливо писал Карл Ясперс.
Теперь я попытаюсь (отдавая себе отчет в том, что вторгаюсь в неисчерпаемую тему) кратко сформулировать свое понимание специфики хайдеггеровского философствования, как оно зародилось в недрах «Бытия и времени» и, пройдя через переплавку бытийного «поворота» (Kehre) послевоенного времени, выразилось в более поздних произведениях многотомного хайдеггеровского наследия. Одновременно я постараюсь не упустить из виду вопрос о том, было ли нацистское грехопадение мыслителя связано с его философствованием, а если было, то где пролегали линии связи — в самом центре или на периферии философского опыта Хайдеггера2.
1 Цит. по печатному материалу: Philosophie heute. Martin Heidegger zum 100. Geburtstag. Westdeutscher Rundfunk, Fernsehen. «Redaktion Philosophie». S. 6-7.
1 В этом моем резюме (которое заведомо обречено быть неполным и субъективным) я, естественно, опираюсь на то в хайдеггероведении, отечественном и современ-
Чтобы определить специфику хайдеггеровского философствования, мне представляется весьма важным не просто указать — что стало общим местом в литературе о Хайдеггере — на все же сохранившиеся в 40- 50-х гг. (впрочем, найденные уже в 1923 г. и отчетливо запечатленные в «Бытии и времени») онтологические акценты. Верно и хорошо известно, что Хайдеггер ищет возможности преобразовать традиционную метафизику, выдвинув на первый план и существенно реформировав онтологию, учение о бытии. Но какое бытие и какая онтология имеются в виду? При всем обилии ответов на эти вопросы в литературе о Хайдеггере я не могу, к сожалению, считать их достаточно проясненными. Чтобы еще раз вникнуть в них, возьмем текст ранее упоминавшегося доклада, который Хайдеггер в середине 1950 г. прочел в Мюнхене, в Баварской академии изящных искусств. Название доклада — «Вещь». Тревоги переживаемого периода обозначаются в нем крупными и ясными мазками. Невиданное уплотнение времени и информации благодаря новой технике с ее высокими скоростями и возможностью как будто бы сделать далекое близким — примета эпохи. Другая примета времени — атомная бомба. И вот вопрос: «Что такое близость, если она нам не дается, несмотря на свертывание длиннейших расстояний до кратчайших дистанций?»1 Это для Хайдеггера, как я полагаю, вопрос всех вопросов, причем его надо понимать и в прямом, и в переносном смысле.
В переносном смысле дело идет о философски далеком или близком. «Близко к нам то, что мы называем вещами. Только что такое вещь? До сих пор человек о вещи как вещи задумывался не более чем о близости»2. Здесь — упрек всей предшествующей философии, в особенности той, которая имела обыкновение прямо говорить о вещах или в неком совершенно особом смысле звала «Назад к самим вещам» (zu den Sachen selbst). Такой лозунг, в частности, любил повторять Гуссерль, имея в виду возврат философии к «вещам», как они даны и могут быть зафиксированы философией через «сущностное» описание феноменов сознания. Рассказывают, что Хайдеггер, однажды услышав этот лозунг от Гуссерля, воскликнул: «Профессор, я ловлю вас на слове!» Тут, я думаю, не случайно, для красного словца оброненное замечание, а поистине ключевая фраза.
Хайдеггер действительно хотел поймать на слове любого философа, который заговаривал о «самих вещах», и перевести разговор в наиболее прямой из возможных смыслов такого «слова». Хайдеггерианство я и понимаю как попытку философствования, которое позволяет подойти на самое близкое — из вообще возможных для философии — интеллектуальных расстояний к вещам, к их бытию. Это была попытка максимально «отмыслить» все, что о вещах говорила и говорит научная или философская, словом, теоретизирующая традиция. Вместе с тем не от- мысливалось само мышление. Оно-то и выводилось на очную ставку с вещами.
509
ном, что ближе всего к моим собственным оценкам и догадкам. Из-за краткости резюме я не могу, к сожалению, сослаться ни на авторов, чьи идеи служили и мне опорой, ни на тех, с кем ведется полемика.
1 М. Хайдеггер. Вещь// Историко-философский ежегодник. М., 1989. С. 269.
1 Там же. С. 270.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
Н.В. Мотрошилова Щй Мортин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-еремя-любовь
510
Гуссерлевская феноменологическая редукция в чем-то все же пригодилась Хайдеггеру. Он, как и Гуссерль, тоже хотел сделать мышление, сознание максимально «чистым», свободным от любых возможных социокультурных, философских и прочих наслоений. Но, без сомнения, гуссерлевский диалог феноменолога с чистым сознанием был ученейшим монологом, где «сущностное усмотрение » вещи было лишь одним из множества сюжетов. Феноменолог представал как экспериментатор, которому в принципе должен быть подконтролен любой мыслительный эксперимент и каждый его шаг. Мир философствующего субъекта — в данном случае феноменолога — оказывался главным и исходным, и уж на его основе, «из него» возникали, рождались другие миры, которые в силу этого не могли не быть конструкциями сознания. Онтология, формы бытия составляли один из видов таких конструкций. Хайдеггеру не подходил ни этот вид субъективизма и трансцендентализма, ни более ранние, скажем декартовско-юмовско-кантовские, разновидности, хотя он обладал потрясающей способностью историка философии, никогда не теряющего свою линию, представить концепции прошлого как живые, современные. Видимо, особого искусства «оживляющего» толкования философии прошлого Хайдеггер достигал на своих лекциях и семинарах, о чем восторженно свидетельствуют многие его поистине выдающиеся ученики.
Хайдеггеровское философствование о вещи, опираясь на феноменологические приемы, пробивается к иному измерению. Каковы же эти приемы и каково новое, сугубо хайдеггеровское измерение?
Из феноменологии Хайдеггер берет ее важнейшее открытие — умение заставить «говорить» наше сознание, наделенное удивительными потенциями, которые до сих пор мало использовались философами. Но вот те мотивы, к которым в «говорящем», «самораскрывающемся» философствующем сознании и в сознании вообще прислушиваются Гуссерль и Хайдеггер, существенно различны. Гуссерля интересуют всеобщие структуры сознания сами по себе, Хайдеггера же — такая связь сознания с миром, через которую «говорит» сам мир.
Чтобы раскрыть это, вернемся к проблеме вещи. В «Гуссерлиане», собрании сочинений Гуссерля, есть специальный том (Bd. XVI), который назван «Вещь и пространство. Лекции 1907 г.». Это скрупулезное, тончайшее исследование проблемы вещи в ее единственно возможных для феноменологии измерениях — речь идет о данности вещи через сознание, главным образом о восприятии вещи. Ноэматический (предметный) аспект — это вещь, существующая в пространстве; ноэтиче- ский (связанный с актом сознания) аспект — восприятие, в частности и в особенности зрительное восприятие1. Оба аспекта — ноэматический и ноэтический — берутся и порознь, и на их «пересечении», благодаря чему и разрастается поистине удивительное богатство структурно-аналитических открытий и находок, которое Гуссерль именовал интенцио- нальным анализом сознания.
Хайдеггера же мучают иные вопросы: «Что вещественно в вещи? Что такое вещь в себе? Мы доберемся до вещи в себе, только когда наша мысль
1 Е. Husserl. Ding und Raum. Vorlesungen 1907 // Husserliana. Bd. XVI. Den Haag, 1973.
достигнет сперва наконец просто вещи как вещи»1. Вещь в себе, которая со времен Канта была лишь своего рода прекрасной незнакомкой — предельной философской конструкцией, таинственным, непостижимым источником всяких «данностей», исходного материала сознания, — вот эту незнакомку Хайдеггер и хочет сделать одним из главных действующих лиц философии. Он дерзает, следовательно, совершить то, что считалось немыслимым для всякого философа, который так или иначе принимал исходный тезис трансцендентализма: дать «явиться» самой вещи. На что же опирается Хайдеггер в этой своей дерзновенной попытке? Да на то, что и тело, и сознание, и само существование человека «встроены» в мир, и мир не просто бесконечно обширнее, но и неизмеримо могущественнее своего малого создания — человека. Человек — часть мира, его сколок, его смертная гомеомерия, через которую мир являет себя несколько иными способами, но не менее успешно и настоятельно, чем через землю, горы, поля... «Бытие» для Хайдеггера и есть исходное единство человека и мира. Здесь, правда, еще нет ничего необычного по сравнению с предшествующей онтологией. И она пыталась «замкнуть» все сущее на предельно широкую, всеобъединяющую категорию бытия. Но вот крайняя абстрактность традиционной онтологии, ее погруженность в труднейшие профессиональные споры о бытийных категориях (вспомним «Науку логики» Гегеля!) принципиально не удовлетворили Хайдеггера. Для него философствование о бытии, как и его часть — размышление о вещи, должно начинаться не с искусственной, вычурной стартовой площадки, созданной к данному моменту философией, которая в свою очередь существует в причудливом мире культуры.
Философствование о бытии должно, по Хайдеггеру, вполне обдуманно «покинуть» этот мир культуры (конечно, не в буквальном смысле, что невозможно, но в мысли) и переместиться на самую почву, где располагается и всякий обычный человек и где устанавливается «самая близкая близость» человеческого существа к вещам мира, к миру как таковому. Правда, и тут существует угроза запутаться в «сетях», расставленных культурой, а потому также нужны особые приемы возврата «к самим вещам».
В пределе Хайдеггер, по моему мнению, стремится создать способ философствования, максимально освобожденный... от философии как уже сложившейся формы человеческой культуры. Вот почему так привлекают его «радикальные нигилисты» типа Ницше, пытавшиеся освободиться от философии весьма парадоксальным образом — все время «проходя» через нее и постоянно стремясь покинуть ее. Хайдеггер — личность и мыслитель сходного типа. И противоречия, драматичность его философствования похожи на те, которые могут встретиться в драмах Ницше или Кьеркегора. Отчаянный бунт против философии (от которой получено, в сущности, все: мыслительные ходы, методы и приемы, категории) — вот самый глубинный, как я думаю, источник драмы идей Хайдеггера, в какой-то мере объясняющей и драму его жизни.
Подобно современному человеку, который вырывается из индустриальных городов и поселков к нетронутой, чистой и светлой природе,
1 М. Хайдеггер. Вещь. С. 270.
511
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
Н-в. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
512
наслаждаясь общением с нею, но потом снова возвращается к своему обычному существованию, — подобно этому Хайдеггер пытался вырваться из густонаселенного мира философствования XX в. к некоторым первоистокам, так сказать, «первопозициям», лишь благодаря которым, как он считал, бытие в себе и для себя способно открыть, явить себя человеку. Из XX в., нагруженного и перегруженного наукой, техникой, технизированным искусством, мыслитель отчаянно хотел «прорваться» в «подлинную» греческую древность — и потому, скажем, все большей помехой ему представлялось христианство, «замутившее» прозрачный источник античного мышления, которое скорее было «записью» присутствия человека в мире, чем миропознанием.
Но даже и Античность была заподозрена Хайдеггером в сокрытии истоков. И вот так, удаляясь в некие «нетронутые» поля «изначального философствования» и снова возвращаясь в «города» многовековой культуры — постоянно совершая этот «путь вверх и вниз», Хайдеггер напряженно искал как можно менее опосредованного техникой, наукой, философией, политикой диалога человека и бытия. Не была ли сама такая попытка заведомо обречена на неудачу? Пожалуй, в полной мере замысел не удался и не мог удаться. Хайдеггер хотел стряхнуть с себя ярмо самых разных своих профессиональных философских привязанностей — аристотелизма, томизма, кантианства, гегельянства, гуссерли- анства. Но, то и дело порывая с ними, вновь и вновь возвращался к ним подобно блудному сыну. (Зная характер и рисунок жизни Хайдеггера, мы теперь можем заметить определенную синхронность структур его общения с людьми и способов «общения» с идеями.) Отсюда и напряженность этих приходов и уходов, драматических «прощаний навсегда» и новых возвращений, удивительной верности себе и неизбывности «поворота» (Kehre), точнее, поворотов.
Вот и в упомянутом докладе «Вещь » Хайдеггер, разбирая проблему вещи на примере чаши, предлагает всякому, кто захочет включиться в процесс возврата к самим вещам, задуматься над тем, что же такое «ча- шечность чаши». Но едва вы подумали о том, что вопрос восходит к Платону, Хайдеггер говорит вам: «...Платон, представлявший присутствие присутствующего, исходя из идеи, так же мало думал о существе вещи, как Аристотель и все последующие мыслители»1. Вместе с платонизмом и (хорошо известным, горячо любимым) аристотелизмом отринуто, таким образом, всякое философствование «исходя из идеи », как, впрочем, и «исходя» из всяких других философских принципов (материи и т. д.).
Из чего же надо, по Хайдеггеру, исходить? Да ни из чего философского. Просто мы с вами должны последовать приглашению Хайдеггера помыслить о вещественности вещи, здесь — о чашечности чаши, по возможности забыв обо всем, что известно нам из философии. Чаша и каждый из нас, мыслящих, — единственно нужные «элементы» процесса. Ну и, конечно, сам «неназойливо» направляющий наше рассуждение мыслитель Хайдеггер. Впрочем, если поучиться у Хайдеггера, то, пожалуй, впоследствии можно двигаться по предложенному им пути самостоятельно. Что очень важно, для продвижения по нему не обязательно быть
1 М. Хайдеггер. Вещь. С. 271.
философом и уж точно не надо быть приверженцем каких-либо идей, школ, направлений. Надо отдать должное Хайдеггеру — философствование такого «изначального» типа увлекательно; оно пробуждает естественное желание человека размышлять о мире, вещах, человеке, к которому люди самых разных стран, судеб, занятий весьма склонны.
Рассказ Хайдеггера о чаше — особый. Он философский — и не философский, если иметь в виду устоявшиеся привычки философствования. Нас приглашают «посмотреть умом» на простое, понятное, близкое. Ведь чаша — емкость, нечто вмещающая. Чаша стоит на чем-то и состоит из чего-либо (металла, глины, стекла). В чаше есть стенки и дно и т. д. Как истолковать эти и другие простые особенности чаши? Конечно, о ней, как и о всякой другой вещи, можно говорить языком науки или специальных технических областей. Но, по Хайдеггеру, наука делает чашу и вообще вещественность чем-то ничтожным. «Вещественность вещи остается потаенной, забытой. Существо вещи никогда не дает о себе знать, т. е. не берет слова»1.
Подобным образом забывает о вещах и мире философия, если она прочно ориентирована на науку. Иное дело — искусство. Оно может ярко представить нам именно чашечность, вещественность чаши. Но и в искусстве внимание Хайдеггера особо привлекает способность художника не затемнить вещественность вещей, а дать им возможность «взять слово» — как «берут слово» крестьянские башмаки на известной картине Ван Гога: они повествуют о крестьянине, крестьянском труде выразительнее, точнее, глубже, «сущностней», чем тысячи ученых слов. Впрочем, через слова, если дать им особым образом «высказаться», также способны «говорить» сами вещи.
Чаша не только и не просто сосуд; ее подносят людям. Опять ведь о чаше сказано что-то чрезвычайно ясное, очевидное. Но тут чаша, «говоря» о себе, «говорит» об общении людей. «Подносимое в чаше — питье для смертных. Оно утоляет жажду. Оно веселит их досуг. Оно взбадривает их общительность»2. А поскольку чаша может быть и жертвенной, то оказывается, что она знаменует «присутствие» земли и неба, божеств и смертных. Далее следует превосходный хайдеггеровский анализ происхождения, значения слов res, Ding, thing, обозначающих «вещь» в латинском, немецком и английском языках, и анализ их эволюции, соответствующий превращению «вещи» в простой предмет представления. То, что ранее было осязаемой, такой знакомой и такой близкой вещью в ее вещественности, постепенно превращалось в «прекрасную незнакомку», непостижимую вещь саму по себе.
Возможен ли обратный процесс — движение «в вещь», в «мировость мира » от разрушительного трансцендентализма, который отделяет нас от мира и который, согласно интереснейшей и глубокой интерпретации Хайдеггера, есть не только явление философии, но само существо тех распространившихся способов жизни, мироощущения и миропознания, которые соответствуют стремительному расширению власти науки и техники? Хайдеггер полагает, что возможен. Более того, он настоятельно необходим.
513
1 М. Хайдеггер. Вещь. С. 272.
2 Там же. С. 274.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
H.ß. Мотрошилова fffiM Мортин Хайдеггер и Ханна Врендт: бытие-времп-любовь
514
По существу, тут предлагается новая «идеология мира» и жизни человека в мире. Вещизму научно-технического потребительства противопоставляется простое, устойчивое, скромное, «ладное» общение с природой, вещами, исконной вещественности которых отдается пальма первенства. Пропагандируя эту идеологию, Хайдеггер прибегает к поистине прекрасному поэтическо-философскому языку {и спасибо В.В. Би- бихину, что он, скромно упомянув «о непереводимо тонущем в немецком языке»1 тексте, сумел сохранить напряженность и красоту оригинала): «Что станет вещью, сбудется из окружения зеркальной игры мира. Только тогда — вероятно, внезапно — мир явится как мир, воссияет круг, из которого выпростается в ладность своей односложной простоты легкое окружение земли и неба, божеств и смертных. Соразмерное этому окружению, само веществование ладно, и всякая присутствующая вещь легка, неприметно льнет к своему существу. Ладна вещь: чаша и стол, мост и плуг. Но тоже вещи, своим образом — ель и пруд, ключ и холм. Вещи, каждый раз по-своему веществующие, — цапли и лось, конь и бык. Вещи, каждый раз своим образом веществующие, — зеркало и пряжка, книга и картина, корона и крест. И легки и ладны вещи даже своим обозримым числом, в сравнении с бесчисленностью повсюду равнодушных предметов; в сравнении с безмерностью масс человека как живого существа. Сперва человек как смертный достигнет, обитая, мира как мира. Только то, что облегчено миром, станет однажды вещью»2. Вот так завершается хайдеггеровское философствование-поэтизирование в докладе «Вещь». Прекрасно, торжественно, обнадеживающе, возвышающе — но также утопично и опасно. Поясню, что я имею в виду.
Идеология любви и возврата к «ладным вещам» — от ели, пруда, холма, коня, чистых земли и неба до простых, нужных, как крестьянские башмаки, стола, стула, зеркала, пряжки — чрезвычайно притягательна в наш век, заполонивший пространство земли множеством «вещей» не очень-то нужных, уродливых, а подчас и смертельно опасных для самого существования природы и человека. Она тесно связана с хай- деггеровской философией техники, заключающей в себе и критические инвективы, и новые императивы. В технический век река, как выражается Хайдеггер, «встроена в электростанцию», а надо, чтобы созданное человеком «пристраивалось» к реке, не насилуя ее3. Пропаганда такого отношения к миру, бесспорно, нужна и по-своему плодотворна, что подтвердил экологический кризис. Но может ли она серьезно, кардинально изменить ситуацию? Пока сомнительно. Умница Хайдеггер и сам верно предостерегает: «Шаг назад из одного мышления в другое, конечно, не простая смена установки»4. В чем же тогда выход? «Воссияние» некоторого «света» — выход слишком ненадежный, все равно, имеется в виду некое божественное или иное «светлое пришествие»: пока ни надежды на Бога, ни апелляции к «окончательному познанию» хода истории или законов природы не спасали человеческое общество от его кризисов. А вот если у человека и человечества есть только одна надежда — они
1 М. Хайдеггер. Вещь. С. 268.
2 Там же. С. 281.
3 М. Heidegger. Vorträge und Anfsätze. Pfullingen, 1959. S. 24.
4 M. Хайдеггер. Вещь. С. 280.
сами, то центр тяжести философствования все-таки опять перемещается от вещей, вещественности в мир человека, его действий и его сущности.
Онтологическая, «мировая» нацеленность философии Хайдеггера, ее повернутость к «самим вещам» ни в коей мере не отменяет того факта, что это и антропоориентированная, и, возможно, антропоцент- рированная философия, что убедительно доказывает ряд авторов1. Я бы только добавила, что речь идет о философе, который искренне и упорно стремится, но так и не может преодолеть философский антропоцентризм. Стремясь выйти из «дома» антропоцентризма, из замкнутого пространства трансцендентализма в безбрежный мир вещей, отношений, живых, в том числе человеческих, существ, философ, как и любой человек, неотделим от того, что окружает его, ибо окружающее он уже несет в самом себе. Будучи философом, тем более философом знающим, профессиональным, он неотделим от своей нивы, от культуры, так же как крестьянин, который трудится, неотделим от земли, неба, своего труда и, добавим, от всех тех нитей, которые к нему, к земле, к труду тянутся от общества, значит, опять-таки от человеческих истории, цивилизации, культуры. Поэтому, строго говоря, нет и не может быть взыскуемого Хайдеггером у культуры непосредственного единения человека и вещи, сознания и бытия. Крестьянские башмаки, которые отдельно от всего, вещно и просто символизируют крестьянское бытие как таковое, возможны только на холсте, отграниченном рамой от остального мира. А так ведь в башмаки обуты ноги какого-то человека, чья жизнь, не переставая быть крестьянской, существенно варьируется в зависимости от того, например, трудится ли он на своей собственной или ничьей земле, и в зависимости от множества других обстоятельств.
У разных авторов ясно показано, сколь прочно полюса философии вещности и бытия М. Хайдеггера замкнуты на клеммы простого патриархального, близкого к природе, прежде всего крестьянского, быта с его относительно прочными, как бы внеисторическими реалиями. Вместе с тем обнаружено и то, что Хайдеггер, как превосходно пишет В. Подорога, «находит сущностный опыт бытия реально существующим в крестьянских хуторах родного ему Шварцвальда. Так проекция в прадревнее, в досократический космос возвращается, минуя лабиринты и препятствия исторического времени, в настоящее, у-топия переходит в топию»2. Это определение подтверждается свидетельствами и оценками тех, кто знал Хайдеггера. Слово писателю Э. Юнгеру: «Отечеством Хайдеггера была Германия с ее языком. Его родиной был лес. Там он был у себя дома — на его тропинках и просеках. Его братом было дерево. Когда Хайдеггер учреждал свой язык, углубляясь в работу по отысканию корней, то он сделал нечто большее, чем принято, выражаясь словами Ницше, „между нами, филологами”. Экзегеза Хайдеггера больше чем филологическая и больше чем этимологическая: он схватывает слово там, где оно еще свежо, где в полной своей
515
1 См.: В.А. Подорога. «Фундаментальная антропология» М. Хайдеггера// Буржуазная философская антропология XX века. М., 1986. С. 34-49.
2 Там же. С. 46.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
Н.В. Мотрошилова ЩЕш Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
516
зародышевой силе оно еще погружено в молчание, и проращивает его из лесного гумуса»1.
У каждого народа есть таланты, более всего питаемые именно корнями и первоисточниками народной, национальной культуры, особо чувствительные к вообще-то чистым и глубоким голосам отечественной земли, таланты, умеющие несравненно работать с родным языком. Хайдеггер — один из таких талантов Германии, настоящее явление в немецкой культуре, да и в европейском духе. Однако именно пример Хайдеггера свидетельствует о неминуемых, подчас трагических опасностях, которые подстерегают идеологов «почвы, земли и крови».
Хайдеггер не мог не заметить, что ноги немцев, обутые сначала в крестьянские или городские башмаки, а потом и в форменные ботинки штурмовых отрядов, стали вышагивать по родной земле под бравурные звуки нацистских маршей. Не мог он и не слышать, как «голос крови», вообще-то способный объединять, сближать людей с общими национальными корнями, стал захлебываться в истошных враждебных воплях о происках, заговорах, неполноценности других народов. «Голос крови» возвещал о жажде кровопролитий. В такие дни, месяцы, годы, десятилетия, когда большие массы народа, нации захватывает ненависть, жажда мести «чужим» и «своим», когда уже начинает литься человеческая кровь и пахнет очень большой кровью, — тогда люди духа проходят через труднейшее испытание на подлинную верность своему народу, своей нации, на верность ценностям культуры и гуманизма.
Как ни парадоксально, но в исторические мгновения массовых смятений, опьянений духа и тем более после отрезвлений легче отличить подлинно великого, гениального человека и истинного патриота. Какими бы глубинными причинами ни пробуждался к жизни взрыв народных, национальных чувств (пусть это будут высокие основания: борьба за свободу, независимость народа, стремление вырваться из кризиса, переоценить прожитое, возродить славу и блеск национальной культуры), великие люди нации, как бы по определению, не могут быть среди тех, кто поддакивает охваченной ненавистью толпе, и тем более среди тех, кто создает такую толпу и взвинчивает ее худшие инстинкты. Истинно великие люди духа — это те, которые чутко улавливают грань между подъемом высших чувств народа, национальной гордостью и агрессивной националистической спесью, отсутствием самокритики. Между честным стремлением понять истоки кризиса, причины неудач, ошибок именно своего народа — и попытками свалить все его беды на другие народы и нации. Между состоянием пусть непростого, конфликтного гражданского мира, мира между нациями и народами — и массовым кровопролитием. Человек великого духа никогда не переходит такую грань и страстно призывает к тому же свой народ и другие народы.
Величие духа индивидов и наций основательнее и горше всего проверяется тогда, когда кровь еще не пролилась, но воинственные кличи, предвещающие кровопролитие, уже слышны. Истинный патриотизм состоит, стало быть, в том, чтобы предостерегать и всеми силами бороться против опасных состояний своих наций, народа, против воинственных
1 Цит. по: В. ШагНп. Ор. ск. 8.153-154.
«фюреров», против черно-, коричневорубашечников, которые обычно плодятся на глубоких кризисах и народной боли. И потому можно понять резоны тех людей, которые согласны признать Хайдеггера талантливейшим философом, одним из оригинальнейших классиков философии XX в., но отказываются именовать его великим мыслителем. Ибо в понятие величия духа сегодня еще настоятельнее, чем прежде, включается социально-нравственное измерение, верность принципам подлинного, а не показного, словесного гуманизма.
Но разве Хайдеггер не был гуманистом? Ведь среди лучших его произведений — «Письмо о гуманизме», работа, созданная в 1946 г. на основе текста письма, посланного Хайдеггером французскому философу Жану Бофре в связи с публикацией брошюры Ж.П. Сартра «Экзистенциализм — есть гуманизм». В этом, во многих своих моментах блестящем произведении Хайдеггер резко критикует европейский гуманизм, почвой которого была разросшаяся и дифференцированная на всяческие «измы» метафизика. Но поскольку для метафизики так и осталась «потаенной», непродуманной, погруженной в забвение истина бытия, то прежние философы, включая самых великих, ничего не смогли, по Хайдеггеру, предложить ни для понимания, ни тем более для предотвращения «сущностной бездомности человека», которая стала его судьбой. Вот почему, по убеждению Хайдеггера, слово «гуманизм» потеряло свой смысл. Так, значит, приходится направить «мысль против ценностей»? — задает вопрос Хайдеггер. Да, именно здесь, я полагаю, размышление о гуманизме подводит Хайдеггера и всякого его верного последователя к весьма опасной грани. После кровавой войны Хайдеггер уже не может относиться с небрежностью к возможным обвалам «в ничто». Теперь он и в «Письме о гуманизме», и в других работах рассыпает оговорки типа: «Мыслить против ценностей — не значит поэтому выступать с барабанным боем за никчемность и ничтожество сущего, смысл здесь другой: сопротивляясь субъективации сущего до голого объекта, открыть для мысли просвет бытийной истины»* 1. Но где он, этот «просвет»? В первые годы после прихода нацистов к власти, когда Хайдеггер, заигрывая с идеями «почвы», «земли», «крови», поддался националистическим толкованиям, «просвет бытия» еще виделся ему в немецких лесах, в «чистой» культуре и языке немцев. А после войны Хайдеггер спешит сделать уточнение, что, дескать, и в годы фашизма — например, в работе о Гёльдерлине «Возвращение домой» (1943) — понятие «родина» «продумывается» в сущностном, бытийно-историческом смысле2. Ну что ж, здесь хотя бы косвенно содержится признание ошибочности национализма.
Но Хайдеггер всегда был более силен в критике, чем в самокритике. Об опасностях, подстерегающих научно-техническую цивилизацию Запада, Хайдеггер повествует, как всегда, верно и ярко, с поистине пророческой критической силой, обнажая глубинные источники техницизма, сциентизма и их последствия, состоящие в отставании «от сущностного хода наступающей мировой судьбы». Допустим, что кто-то согласился
517
1 М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме// Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 344.
1 См. там же. С. 334, 335.
Приложение. Драма жизни, идей и грехопадений Мартино Хайдеггера
Н.В: Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьггме-время-любовь
518
с Хайдеггером и направил свою «мысль против ценностей», т. е., собственно, против ценностей традиционного гуманизма, европейского или американского демократизма, недостатки и противоречия которых (особенно если речь идет о реально-историческом «жизненном стиле»1) обнаружить сравнительно несложно. Положим, кем-то принята и другая хайдеггеровская критическая инвектива, согласно которой европейский «субъективизм» разоблачил себя, причем и в его индивидуалистической и в коллективистской версиях. Но что дальше? В чем выход? Да и есть ли он? Есть ли в хайдеггеровской, по преимуществу «отрицающей» версии нового гуманизма нечто позитивное, в чем современный человек может найти опору?
Пожалуй, некоторые установки, которые вызревали раньше, но были особенно четко провозглашены Хайдеггером уже в послевоенные годы, время не только сохранило, но и сделало более актуальными. Это прежде всего всеобщая идейно-нравственная максима, утверждающая не господское положение человека в окружающем мире, а главное, его ответственность перед лицом бытия. «Человек, — пишет Хайдеггер, — не господин сущего. Человек пастух бытия... Он приобретает необходимую бедность пастуха, чье достоинство покоится на том, что он самим бытием призван для сбережения его истины... Человек в своей бытийноисторической сути есть сущее, чье бытие, будучи экзистенцией, состоит в обитании вблизи бытия. Человек — сосед бытия »2. Философско-экологическая, назовем ее так, максима хайдеггеровской онтологии мыслится как одно из оснований нового гуманизма, о котором Хайдеггер говорит: «Это гуманизм, мыслящий человечность человека из близости к бытию. Но это вместе и гуманизм, в котором во главу угла поставлен не человек, а историческое существо человека с его истоком в истине бытия »3. Я лично считаю философскую тему бытия весьма актуальной — в том числе и в хайдеггеровском ее развороте: в человеке наших дней надо пробудить возвышающее его над буднями и бытом сознание ответственности за бытие как целое, сознание заботливого стража бытия, а не жестокого господина, пытающегося «покорить», «поработить» Землю и космический мир. Однако подобные призывы «нового гуманизма» недостаточны. Их непроясненность становится существенным недостатком, едва мы вступаем в сферу реальной человеческой жизни, общения людей, в сферу борьбы самых различных сил и тенденций общественной жизни.
Хайдеггер энергично расчищает дорогу своему новому гуманизму и прежде всего призывает нас, его читателей, с пониманием отнестись к критике распространенных ценностей гуманизма. «Поскольку что-то говорится против „гуманизма”, люди пугаются защиты антигуманного и прославления варварской жестокости... Поскольку что-то говорится против „логики”, люди считают, что выдвинуто требование отречься от строгости мысли, вместо которой воцаряется произвол инстинктов и страстей, а тем самым истиной провозглашается „иррационализм”... Поскольку что-то говорится против „ценностей”, люди приходят в ужас от этой философии, которая дерзает пренебречь высшими благами
1 М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме. С. 337.
2 Там же. С. 338.
3 Там же.
человечества»1. Итак, Хайдеггер призывает не «приходить в ужас»... Но вовсе «не пугаться», не «приходить в ужас» — хотела бы я возразить Хайдеггеру и его восторженным последователям — пока не пришло время. Человечество в XX в. жило и в XXI столетии продолжает жить в обществах, где так много «варварской жестокости», все равно, прикрывается ли она словами о гуманизме или выступает в цинично-антигуманной форме. Где «произвол инстинктов и страстей» так нередко приводит к кровавым столкновениям, ненависти и раздорам... Где люди так непривычны к строгости мысли и так падки на откровенное мракобесие. Где так много «дерзких» людей, повседневно пренебрегающих «высшими благами человечества»... Где «фюреры» народов и «проповедники» так часто заводят целые народы в чащобы тоталитаризма и человеконенавистничества...
И потому духовные пастыри, радетели бытия и нового гуманизма должны быть максимально осторожными, ответственными, когда встают под знамена каких-либо уже существующих идейных движений или когда сами становятся основателями, родоначальниками новых «поворотов». Парадокс в том и состоит, что прочные ориентиры на пути духовно-нравственного новаторства могут дать непрерывно обновляемые гуманистические общечеловеческие ценности свободы, разумности, демократизма, ответственности, нравственной высоты — ценности, за выработку, сохранение чистоты, преобразование которых на протяжении веков боролась гуманистическая мысль человечества. Хайдеггер, по существу, не умеет, да и не хочет работать в рамках этого парадокса. «Будущая мысль, — так завершает он „Письмо о гуманизме”, — уже не философия, потому что она мыслит ближе к истокам, чем метафизика... Будущая мысль вместе с тем не сможет уже, как требовал Гегель, отбросить название „любви к мудрости” и стать самой мудростью в образе абсолютного знания. Мысль нисходит к нищете своего предваряющего существа. Мысль собирает язык в простое оказывание. Язык есть язык бытия так же, как облака — облака в небе. Мысль прокладывает своим сказом неприметные борозды в языке. Они еще более неприметны, чем борозды, которые крестьянин медленным шагом проводит по полю»2.
Итак, не традиционный гуманизм, не богатство мыслей и философии, а «нищета» чего-то предваряющего мысль, не язык культуры, а «сказывание» с его «неприметными бороздами» в почве какого-то иного языка. Обернуться такой «поворот» может новыми образами мысли, культуры — или новым безмыслием. Совсем не праздно то сомнение, которое выразил К. Ясперс в одной из своих заметок к текстам Хайдеггера: «Если путь ведет не к разуму, коммуникации, свободе в сообществе — то не ведет ли он к противоположному: к изоляции, исключительности, к претензии на фюрерство, к разрушительному — а значит, и к варварству?»3 Для Ясперса вопрос-сомнение тем более тревожен, что, по его мнению, философия Хайдеггера «лишена бога и мира»4, лишена
519
1 М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме. С. 341.
1 Там же. С. 356.
3 К. Jaspers. Notizen zu Martin Heidegger. S. 107.
4 Ibid. S. 37, 60.
Приложение. Дрома жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера
Н.в. Мотрошилова Мартин Хайдеггер и Ханна Врендт: бытие-время-любовь
520
«любви, веры, фантазии»1. Хайдеггер, замечает Ясперс, «не знает, что такое свобода»2. Признавая, что философия Хайдеггера обладает «магической привлекательной силой»3, Ясперс находит тем более опасными некоторые специфические ее черты. «Хайдеггер мыслит полемически, но не в форме дискуссии, он заклинает, а не обосновывает — изрекает, а не осуществляет операции мысли»4. Одно из ясперсовских замечаний кажется мне потрясающим по искренности и важности. «...Может быть, — размышляет Ясперс, — сделанное (das Werk) Хайдеггером значительнее, чем сделанное мною, но мне кажется, что я был настойчивее в защите истины...»5
Спор философов выходит, таким образом, за рамки специальных теоретических вопросов. Он касается жизни и призвания, сущности человека и природы гуманизма. Спор не закончен, он продолжается.
1 К. Jaspers. Notizen zu Martin Heidegger. S. 38.
: Ibid.S.81.
3 Ibid. S. 60.
4 Ibid.S.81.
5 Ibid. S. 90.
1. НПЧПЛО (ЮНОСТЬ)
Фото 1. М. Хайдеггер — профессор Марбургского университета (1924 год)
Фото 2. Ханна Аренды — студентка Марбургского университета
Hannah Arendt 1906 - 1975
Bedeutend« Gesellschafts- und Politik- winentchef tierin, mußte eis Jüdin 1933 eus Deutschland emigrieren. Bekannt wurde sie als Professorin für politische Philosophie in Chicago und New York sowie durch ihre Publikationen, vor allem zum Thema Tote-
litarismus.
Lebte in diesem Haus von 1924 bis 192S während ihres Philosophiestudiums an der Philipps-Universität.
Фото 3. Мансарда, 6 которой жила Ханна Арендт во время обучения в Марбургском университете
Фото 4. Ханна Аренды и Гюнтер Штерн (Андерс), ее первый муж (приблизительно 1929 год)
Фото 5. Карл Ясперс (1929 год)
Фото 6. Мартин и Эль фрида (1916 год)
Фото 7. М. Хайдеггер с трехмесячным сыном Йоргом (1919 год)
Фото 8. Эльфрида Хайдеггер с сыновьями Йоргом и Германом ( ноябрь 1920 года)
Фото 9. Семья Хайдеггер: Эльфрида и Мартин с детьми Йоргом и Г ерманом (лето 1924 года)
2. МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
Фото 10. г. Мескирх. Дом семьи Хайдеггер, где родился Мартин
Фото 11. г. Мескирх. Городская церковь Святого Мартина (построена в 1773 году)
Фото 12. г. Мескирх. Надгробье Мартина и Элъфриды Хайдеггер
Фото 13. Мескирх, Feldweg Внизу вывески написано: «Согласно работе Мартина Хайдеггера „Der Feldweg” »
Фото 14. Окрестности Мескирха, Feldweg (автор книги на проселке — фото Йорга Хайдеггера)
Фото 15. Тодтнауберг Хижина (Hütte). Кабинет
Фото 16. Тодтнауберг
Хижина Хайдеггера.
Автор книги около хижины (1994 год) (фото Йорга Хайдеггера)
Фото 18. Тодтнауберг Хижина Хайдеггера зимой
Д-'-Сч
з. после расставания
Фото 19. Ханна Арендт (приблизительно 1930 год)
Фото 20. Мартин Хайдеггер, ректор Фрайбургского университета (1933 год)
Фото 21. Ханна Арендт (в Париже, до начала войны)
Фото 22. Ханна Арендт и ее второй муж Генрих Блюхер (предположительно 1950 год)
Фото 23. Семья Хайдеггер в Тодтнауберге на лыжной прогулке (1952 год)
4. ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Фото 24. Интервью Ханны Арендт программе ZDF (1964 год)
Фото 25. Карл Ясперс (Базель, 1965 год)
Фото 26. Ханна Арендт (60 е годы)
Фото 27. Мартин Хайдеггер в 1967 году — за два года до восьмидесятилетия (фото Ханны Арендт)
Содержание
Пролог 5
Часть i. мартин Хайдеггер и ханна аренда марбург,
СУДЬБОНОСНАА ВСТРЕЧА И ПРОЩАНИЕ 7
Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге 7
Хайдеггер в марбургское время: характер, внешность, поведение 10
Какими были лекции и другие занятия профессора Хайдеггера? 13
Марбургская университетская философия в 1923-1928 годах: штрихи
к общей панораме; Н. Гартманн и Р. Бультманн 20
Хайдеггер и Ясперс: коммуникации в марбургский период 25
Глава 2. Ханна Арендт в 1924-1926 годах
(Марбургский университет). Встреча с Хайдеггером 37
Текст Ханны Арендт «Тени» и его толкования 50
• Интерпретация 54
Глава 3. Мартин и Эльфрида. Конец романа Мартина и Ханны... .62
Последние страницы романа Мартина Хайдеггера и Ханны Арендт 71
X. Арендт в Гейдельберге 73
Глава 4. «Бытие и время» Хайдеггера и событие Любви 77
Сочинение Хайдеггера как философская книга о Бытии 78
«Dasein»: суть хайдеггеровского понятия и трудности его толкования 80
«Бытие самости» 85
Бытие-вместе-с-другими (Mitdasein) 87
• Царство «das Man» 88
Бытийные раскладки «Бытия и времени» сквозь призму личностных
отношений М. Хайдеггера и X. Арендт 90
феномены страха и ужаса (Angst и Furcht) в «Бытии и времени» 92
Забота, озабоченность: текст «Бытия и времени»
и контекст реальной жизни 95
Экзистенциалы «Angst» и «Furcht»(основные моменты) 96
Снова об экзистенциалах «Angst» и «Furcht» в «Бытии и времени» 99
Н-в. Мотрошилова ®ВН Мортмн Хайдеггер и Ханна Арендт: бьгтие-врелля-любовь
522
«Бытие-к-смерти» — важнейший экзистенциал «Бытия и времени» 101
Умолчание о Любви 107
Вокруг «Бытия и времени»: реакция К. Ясперса 110
Глава 5. Глубокие корни Бытия и Времени: Мескирх и Тодтнауберг в судьбе Хайдеггера 115
Мескирх 115
• Дом и церковь Святого Мартина 116
Малая родина и хайдеггеровские понятия «das Heimische»
и «dasUnheimische» 120
Feldweg — дорога родины и судьбы 125
Тодтнауберг (Todtnauberg) и «хижина» (Hütte) Хайдеггера 128
Глава 6. После расставания 133
Ханна Арендт: хождение по мукам 133
Ханна Арендт: десятилетие в США 138
Часть и. после второй мировой войны:
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ 144
Глава 1. Возобновление переписки X. Арендт и К. Ясперса после войны 144
Идеи и исследования Ханны Арендт к середине 40-х годов 149
Глава 2. Ясперс-Хайдеггер: возобновление переписки 156
Глава 3. «Дело Хайдеггера» в зеркале переписки Арендт и Ясперса 164
Часть ш. ханна арендт и мартин хайдеггер:
ОБЩЕНИЕ И ПЕРЕПИСКА в 50-60-х ГОДАХ X X ВЕКА 170
Глава 1.50-е годы: возобновление коммуникации 170
Как все это было? 172
«Время как бы остановилось»: 1950 год 178
Глава 2. Стихи Хайдеггера, посвященные Ханне Арендт 181
Новое охлаждение отношений 191
«Радикальное зло» — против любви 195
Часть iv. мир идей и концепций ханны арендт
ИСТОКИ, СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ 198
Истоки 198
523
Глава 1. Ханна Арендт об экзистенц-философии 201
Теоретический расчет с философией Хайдеггера 205
X. Арендт об экзистенц-философии К. Ясперса 214
К. Ясперс и X. Арендт: параллельные исследования 40-50-х годов XX века ...218
Глава 2. Социально-политические произведения и идеи Ханны Арендт 220
О главных социально-политических, социологических сочинениях
и идеях Ханны Арендт (краткий экскурс) 220
Понятие и концепция тоталитаризма у X. Арендт 222
• Размышления X. Арендт о конкретных исторических истоках
тоталитаризма 223
Специально о книге X. Арендт «Элементы и истоки тоталитарного господства» 226
• «The Mob» как предпосылка и массовая опора тоталитарного
господства 229
• X. Арендт о специфике тоталитарной идеологии 230
Уроки арендтовского анализа тоталитаризма и современная история 233
«Case study» Ханны Арендт об Эйхманне 234
• Процесс над А. Эйхманном, его исторический контекст
и особенности 235
• Может ли зло быть банальным? 239
«Банальность зла»: новая актуальность проблемы 241
Экскурс: Россия, СССР в кадре анализа у Ханны Арендт
«тоталитарного господства» 244
Часть v. книга х. арендт «vita activa,
ИЛИ О ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 250
Глава 1. Тематика, проблемы, особый жанр и специфические измерения работы «Vito activo» 250
Историческое измерение V.a. и греческие истоки 255
Хайдеггер: тип его антиковедческого анализа
(на примере исследований Аристотеля) 257
Образ Греции, ее наследия и ее бытийности в V.a. Ханны Арендт 263
Глава 2. «Человеческая обусловленность» как
важнейшая сторона социально-исторического бытия 270
Проблема исходной терминологии V.a 270
К проблеме содержательной специфики книги V.a 272
Содержание
524
D
О
8.
Б
s
ad
X
Глава 3. Значение предварительного осмысления в V.a. публичного, частного, социального 277
Глава 4. X. Арендт о «труде» и «работе» 285
Критическое размежевание с теорией труда К. Маркса 291
«Современное общество» и труд 294
Глава 5. Сфера «das Herstellen» 298
Возникновение и пребывание «человеческого мира» 298
Деятельность Homo faber, темы средств-целей и утилитаризма 303
Платон против Протагора. Обсуждение позиций Канта 308
Глава 6. Повествование о «das Handeln» 314
Противостояние Хайдеггеру 315
Специфика бытийных «объективностей» в сфере das Handeln
и поступков 321
Мир «das Handeln» как драма, как театр 322
Апории «действия» (das Handeln) 326
Древнегреческий полис, его исторические функции
и парадигмальное значение 327
Феномен власти и сфера политики как важнейшие стороны сферы
«das Handeln» 330
Политика как одна из сфер поступка и ее апории 332
Отношение X. Арендт к традициям философии политики:
от Платона... к Сократу 334
Противостояние свободы и необходимости как общая антиномия сферы
«das Handeln» 338
Любовь как структура «das Handeln» 340
Ю. Хабермас: поддержка и критика философско-политических идей V.a 343
Часть vi. м. Хайдеггер и х. арендт: «осень жизни»,
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И НЕРАСТРАЧЕННЫЕ ЧУВСТВА 348
Глава 1. Переписка середины 50-х и 60-х годов 348
Глава 2. Поздняя осень жизни: переписка второй
половины 60 — первой половины 70-х годов 358
Ханна Арендт — памяти К. Ясперса 363
Конец 60-х и 70-е годы: канун ухода 365
• Восьмидесятилетие Хайдеггера 366
• Последние годы и дни 373
525
Часть vil поздние этапы творчества м. хайдеггера
И X. АРЕНДТ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ 375
Глава 1. Мартин Хайдеггер: пути перетолкования
Канта и проблема бытия 375
М. Хайдеггер «Кант и проблема метафизики»: примыкая
к «Бытию и времени» 375
Кант и тема онтологии 381
* Почему Кант отвергал «гордое имя онтологии»? 382
«Тезис Канта о бытии» — слово позднего Хайдеггера 386
* Истолкование тезиса Канта о бытии 388
Глава 2. Хайдеггер истолковывает «сущность техники» 394
«Вопрос о технике» 394
«По-став» (Ge-stell) как сущность техники 403
Философия техники Хайдеггера: pro и contra 408
* Специфика хайдеггеровского теоретизирования
о технике и ее сущности 408
Глава 3. «Поворот» (Kehre) и поздняя концепция бытия М. Хайдеггера 412
«Поворот» (Kehre) с точки зрения целостности ранней и поздней
концепций бытия Хайдеггера 416
Заключение: какие выводы можно сделать из эволюции учения
Хайдеггера о бытии? 422
Что делать с устоявшейся привычкой терминологической модернизации истории философии? 424
Глава 4. И снова о специфике концепции
бытия Ханны Арендт 427
Была ли у Канта политическая философия? Сложный ответ X. Арендт 429
Выводы 434
Глава 5. Расшифровка у X. Арендт сфер бытия-вместе-с-другими (в сопоставлении с учением Хайдеггера) 438
Глава 6. время и историчность как проблемы философии Хайдеггера 446
«Бытие и время», более непосредственно повернутое к проблемам времени и историчности 446
Содержание
Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь
526
Временной характер (Zeitlichkeit) как дополнительное измерение
анализа Dasein 451
«Zeitlichkeit и повседневность» — специфический аспект учения
Хайдеггера 452
«Историчность» как сторона временных измерений бытия 454
Эпилог 458
Приложение, драма жизни, идей и грехопадений
МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА 461
Пролог И... ЭПИЛОГ
«Дело Хайдеггера» е юбилейном (1989) году 461
Акт первый. От теологии к философии 464
Акт второй. К вершинам философского новаторство 473
Акт третий. Сова Минервы в ночи ноционол-социолизмо 480
Акт четвертый. Вино и нераскаянность Хайдеггера 497
Акт пятый, и последний. Мрак «мировой ночи» и истина бытия 504
Научное издание
Мотрошилова Нелли Васильевна
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР И ХАННА АРЕНДТ:
БЫТИЕ-ВРЕМЯ-ЛЮБОВЬ
Компьютерная верстка
Т.В. Исакова
Корректор
Т.Ю. Коновалова
ООО «Академический Проект»
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012.
Орган по сертификации РОСС RU.0001.11AE51 ООО «ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ»
ООО «Гаудеамус»
115162, Москва, ул. Шухова, д. 21
По вопросам приобретения книги просим обращаться в ООО «Трикста»:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3 Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088 E-mail: info@aprogect.ru Интернет-магазин: www.aprogect.ru
Подписано в печать 20.12.12.
Формат 60^90/16. Бумага писчая.
Печать офсетная. Уел. печ. л. 35,0. Тираж 2000 экз. Заказ № 694.
Отпечатано в ОАО «Областная типография «Печатный двор». 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27.
ISBN 978-5-98426-123-4
9 785984 261234 >
КНИГА — ПОЧТОЙ
Издательско-книготорговая фирма «ТРИКСТА»
предлагает заказать и получить по почте книги следующей тематики:
► психология
► философия
► история
► социология
► культурология
► учебная и справочная литература по гуманитарным дисциплинам для вузов, лицеев и колледжей
Прислав маркированный конверт с обратным адресом, Вы получите каталог, информационные материалы и условия рассылки.
Наш адрес:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3,
ООО «Трикста», служба «Книга— почтой».
Заказать книги можно также по тел.: (495) 305-37-02, факсу: 305-60-88
или по электронной почте: e-mail: info@aprogect.ru
Просим Вас быть внимательными и указывать полный почтовый адрес и телефон/факс для связи.
С каждым выполненным заказом Вы будете получать информацию о новых поступлениях книг.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!